Лев Николаевич Толстой Полное собрание сочинений. Том 23 Произведения 1879 – 1884
Государственное издательство
художественной литературы
Москва – 1957
Электронное издание осуществлено компаниями ABBYY и WEXLER в рамках краудсорсингового проекта «Весь Толстой в один клик»
Организаторы проекта:
Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY
Подготовлено на основе электронной копии 23-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой
Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого доступно на портале
Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам report@tolstoy.ru
Предисловие к электронному изданию
Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.
Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая
Перепечатка разрешается безвозмездно.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1879–1884
ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ H. Н. ГУСЕВА
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ТРАКТАТЫ Л. Н. ТОЛСТОГО
Значение, которое Толстой придавал религиозной мотивировке этических понятий, представило учение Толстого в ложном свете. Толстой сам подал повод к тому, чтобы его учение было понято и обсуждалось прежде всего как учение религиозное. Не удивительно поэтому, что в буржуазном обществе последней четверти XIX и начала XX века за Толстым установилась репутация крупного религиозного деятеля, чуть ли не религиозного реформатора. В этой характеристике сходятся враги Толстого с его последователями и почитателями. И ортодоксальные реакционные церковники, осудившие учение Толстого, и прямые сторонники этого учения – толстовцы – согласны в мнении, будто толстовское учение есть учение преимущественно религиозное.
И действительно, в учении Толстого есть и понятие о боге, и признание за религией значения важнейшего вопроса жизни, и даже некоторые, правда слабые, следы мистического элемента. Отчасти через христианскую веру, в которой Толстой был воспитан в детстве и которая вновь стала этапом его идейно-морального развития в 70—80-х годах, отчасти вследствие некоторых особенностей своего художественного мышления Толстой был склонен представлять отношение человека к миру в целом, или ко вселенной, как отношение «работника» к пославшему его в жизнь «хозяину» или как отношение «сына» к «отцу».
Однако все подобные представления имели для Толстого не буквальный религиозный смысл и понимались им не как мистические догматы, но скорее были образами или метафорами, посредством которых Толстой пытался выражать для себя воззрение на жизнь, не поддающееся точному оформлению в отвлеченных понятиях.
Суть этого воззрения была этическая и социальная, а не мистическая, несмотря на явный налет мистики в субъективном выражении этого воззрения. Еще более далеко оно было от представлений о боге, свойственных догматическим религиям, в том числе и христианской.
То, что обычно в буржуазной литературе о Толстом называют «религиозным кризисом» Толстого или поворотом к религии, происшедшим во второй половине 70-х годов, в действительности мало похоже на религиозное «обращение».
Философские искания Толстого в 70-х годах были сосредоточены не на вопросе религиозном в прямом смысле слова. Искания эти были продолжением тех этических и социальных исследований, которые занимали ум Толстого и составляли предмет своеобразного художественно-философского экспериментирования в его ранних повестях, рассказах и в больших романах зрелого периода.
Религиозная форма, какую приняли те же искания Толстого в 70-х годах, была выражением слабости и непоследовательности мысли Толстого, была субъективной мечтой, в которую Толстой, не сумев справиться с ясно сознававшимися им противоречиями русской жизни, облек объективное содержание и объективную суть этих противоречий.
Идеалистическая реакция, усилившаяся после поражения первой русской революции, стремилась представить религиозные искания Толстого как осуществление «синтеза», не удавшегося предшествующим философам – Конту, Фейербаху. Согласно этой точке зрения, выраженной В. Базаровым, «Толстой впервые объективировал, т. е. создал не только для себя, но и для других, ту чисто человеческую религию, о которой Конт, Фейербах и другие представители современной культуры могли только субъективно мечтать»1.
Реакционность и безусловную ложность этого понимания религии Толстого вскрыл Ленин. В статье «Герои «оговорочки» Ленин показал, что взгляд Базарова и многих примыкающих к Базарову публицистов на религию Толстого и на ее значение в идейной истории русского общества основан на обращении действительного отношения. «Более полувека тому назад, – писал Ленин, – Фейербах, не умея «найти синтеза» в своем миросозерцании, представлявшем во многих отношениях «последнее слово» немецкой классической философии, запутался в тех «субъективных мечтах», отрицательное значение которых давно уже было оценено действительно передовыми «представителями современной культуры». Объявить теперь, – продолжал Ленин, – что Толстой «впервые объективировал» эти «субъективные мечтания», значит уходить в лагерь поворачивающих вспять, значит льстить обывательщине, значит подпевать веховщине»2.
Особенно нелепым извращением действительной сути религии и мировоззрения Толстого Ленин считал утверждение Базарова, будто «идеализация патриархально-крестьянского быта, тяготение к натуральному хозяйству и многие другие утопические черты толстовства, которые в настоящее время выпячиваются на первый план и кажутся самым существенным, в действительности являются как раз субъективными элементами, не связанные необходимой связью с основой толстовской «религии»3.
«Итак, – иронизировал по поводу этого утверждения Базарова Ленин, – «субъективные мечты» Фейербаха Толстой «объективировал», а то, что Толстой отразил и в своих гениальных художественных произведениях и в своем полном противоречий учении отмеченные Базаровым экономические особенности России прошлого века, это «как раз субъективные элементы» в его учении. Вот что называется, – говорит Ленин, – попасть пальцем в небо»4.
Напротив, ленинский анализ вскрывает и в «религии» Толстого то же противоречие между отраженными в мысли Толстого особенностями развития пореформенной России и субъективной неспособностью Толстого найти действительное разрешение, или «синтез» этих противоречий. Неспособность эта и вылилась в субъективных религиозных мечтаниях Толстого.
«Именно синтеза, – писал Ленин, – ни в философских основах своего миросозерцания, ни в своем общественно-политическом учении Толстой не сумел, вернее: не мог найти»5. «Не из единого, не из чистого и не из металла отлита фигура Толстого»6.
И действительно, анализ открывает в «религии» Толстого то самое противоречие, которым, как показал Ленин, характеризуются все основные стороны мировоззрения Толстого.
С редкой даже для большого человека проницательностью Толстой срывает с официальной религии покров благовестия, несущего якобы учение любви и сострадания к страждущему человечеству. В иерархии церковных учреждений и чинов Толстой обнажил систему сил, активно служащих обществу и государству имущих, поработивших трудовое большинство. Толстой показал, что служению этому подчинено в церковной религии крепостнической и капиталистической России все содержание ее догм и все их истолкования, весь культ, все общественно-политическое поведение ее служителей.
Но вместе с тем, обличая церковь и церковную идеологию, Толстой далек от отрицания религии в самом ее существе. На место отвергнутой церковной веры он стремится поставить утонченную форму религии. Толстой отбрасывает религиозную догматику, но верит в бога как в «хозяина», пославшего человека в жизнь в качестве «работника» и сообщившего ему учение нравственности. Толстой отрицает софистику, с помощью которой церковь освящала и оправдывала социальное угнетение и формы государственности, поддерживавшие это угнетение. Но вместе с тем Толстой сам развивает проповедь непротивления злу насилием, не замечая, что объективным результатом этой проповеди – если бы она увлекла трудящуюся часть общества – могло быть только торжество и упрочение неравенства и насилия угнетателей над угнетаемыми.
Толстовское понятие религии прежде всего отрицательно: это – критика духовного состояния современного Толстому русского общества, то есть капиталистического общества пореформенного и предреволюционного периода. Толстовская «религия» по своему существу должна быть поставлена рядом с такими явлениями, как толстовская критика разделения труда, критика науки, критика искусства и т. д. Толстой не столько пытается раскрыть или обосновать положительное понятие о боге, как это делают настоящие мистики, сколько осуждает и обличает тот строй духовной жизни современного ему зарубежного и русского общества, при котором члены этого общества утрачивают всякое сознание разумного смысла жизни. Религия Толстого есть не столько вера (хотя в ней, конечно, есть элемент религиозной веры), сколько протест. Это – протест против безыдейности, беспринципности капиталистического общества, против утраты господствующей частью этого общества представления о высоких духовных задачах, способных руководить жизнью и действием.
В атеизме, в безверии, в религиозном равнодушии и безразличии современного общества Толстой осуждает – как это ни странно может показаться – не столько отсутствие веры в бога или отрицание существования бога, сколько признание существующего порядка, примирение со всем существующим так, как оно существует. Сам Толстой выразил эту мысль с полной ясностью. «Религия людей, не признающих религии, – писал Толстой, – есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, т. е., короче, религия повиновения существующей власти».
Но именно потому, что толстовская религия есть больше критика, чем догма или мистическое настроение, Толстой на первый план в понятии веры выдвигает не собственно религиозное ее содержание, а способность веры быть силой жизни. «И я понял, – писал Толстой, – что вера… не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера, – вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил… Без веры нельзя жить».
В центре толстовского понятия веры стояло противоречие между конечным существованием личности и бесконечным существованием мира. Толстой искал такого решения противоречия, при котором смысл конечного и преходящего существования личности не уничтожался бы, не превращался в бессмыслицу неизбежно предстоящим уничтожением личности, ее погашением в бесконечности мирового целого.
Это противоречие не было для Толстого лишь отвлеченным противоречием личного и всеобщего, конечного и бесконечного. Толстой сознавал это противоречие как жизненное противоречие, захватывающее наиболее глубокое ядро его личного существования. Это противоречие конечного и бесконечного открылось ему в мыслях о смерти, охвативших его в 70-х годах в ужасе перед «нирваной», в сознании бессмысленной жизни, неумолимо обреченной на уничтожение.
В «Исповеди» Толстой очень точно сформулировал основную цель своих религиозных исканий. «Нужно и дорого, – писал он здесь, – разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос такой, при котором возможна жизнь».
Итак, толстовская «вера» – только синоним силы жизни, осмысленного существования, условие сознающей свое назначение деятельности.
Однако это стремление вернуть жизни утерянное сознание ее оправданности и осмысленности связывается у Толстого с понятием не этики и не социальной философии, к которой оно должно было бы принадлежать, а с понятием религии. Стремление крепить корень жизни Толстой черпает не в силах самой жизни, а в религиозной традиции.
Здесь в мышлении Толстого – явное противоречие. Значительность этого противоречия особенно оттеняется тем, что понятие религиозной веры, как это было ясно самому Толстому, не выдерживает критики разума. «Все эти понятия, – писал Толстой, – при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума».
И все же Толстой, несмотря на явное и им самим признанное противоречие с началами разума, считает необходимым принять и отстаивать религиозное мировоззрение. И в этом вопросе Толстой сознательно становится на точку зрения патриархального крестьянина с его наивной и некритической верой. Безыдейности господствующих классов капиталистического общества, отсутствию у них сознания смысла жизни и своего назначения Толстой противопоставляет не те понятия о целях жизни и борьбы, которые в его время уже были выработаны великими мыслителями и вождями рабочего класса, но те понятия о духовном смысле жизни, которые казались ему совпадающими и которые в значительной мере действительно совпадали с точкой зрения многомиллионного крестьянства.
Толстому кажется, что именно в вере крестьянский народ находит разрешение основного мучившего Толстого противоречия, противоречия конечного и бесконечного, личного и общего. Именно вера – так думал Толстой – дает народу ту силу жизни и то сознание смысла жизни, которые утрачены господствующими классами современного общества. «Понятие бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла – суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого…» По Толстому, религия, и только она одна, содержит в себе разрешение противоречия конечного с бесконечным. Напротив, безрелигиозное сознание образованных людей современного общества будто бы уничтожает – так думает Толстой – возможность этого разрешения: «И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, – разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем, – это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем с тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа».
Но хотя Толстой пришел к убеждению, что смысл и сила жизни могут быть почерпнуты только в народной вере, это убеждение немедленно вступило в нем в противоречие с другим убеждением, которое запрещает считать истинным все несовместимое с началами знания и разума.
Противоречие это осложнилось еще и тем, что народная, крестьянская вера, как это знал Толстой, была не единственной формой религиозного отношения к жизни. На роль учения, разрешающего будто бы все философские противоречия и трудные вопросы, претендовала церковная богословская вера. Больше того. Церковная – богословская – форма религии рассматривала себя как учительницу, наставницу и руководительницу народа в делах веры. Поэтому Толстой признал необходимым изучить и исследовать содержание и обоснование церковного богословского вероучения.
Но по мере того как Толстой углублялся в это исследование, ему все очевиднее становилось, что догматы, к которым церковное вероучение сводило содержание христианской религии, не только не могли быть «силой жизни», выводящей личность из тупика одолевающих ее противоречий, но что поверить в эти догматы можно только ценой отказа от элементарнейших и неотменяемых условий и законов логики, знания, разума.
Вместе с тем обнаружилось, что система догматов церковного богословского вероучения не только противоречит логике, знанию, разуму. Выяснилось, что система догматического богословия вся построена на стремлении во что бы то ни стало оправдать сложившиеся в церкви за долгое время ее существования понятия о религии. Понятия же эти поддерживают существующий, основанный на насилии и угнетении, общественный порядок и прежде всего оправдывают то место и ту роль, какие в этом порядке принадлежат самой церкви.
Свои критические исследования Толстой осуществил в «Критике догматического богословия». Предшествующей «Критике» работой была «Исповедь» – философско-религиозная автобиография Толстого. К «Исповеди» и к «Критике догматического богословия» примыкают сочинения «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий», «В чем моя вера?», «Царство божие внутри вас». В этих последних работах Толстой излагает собственные взгляды на религию, сложившиеся в нем в результате критики официального учения православной церкви. Однако и в этих трактатах, которые должны были изложить позитивные взгляды Толстого, на первое место выдвигается не положительное, но полемическое их содержание. И в религиозных сочинениях Толстой выступает прежде всего как критик, полемист и антагонист признанного богословского вероучения.
Иначе не могло и быть. Учение Толстого не могло не стать критикой догматического богословия. Ведь «религия» Толстого была прежде всего протестом (правда, противоречивым, непоследовательным) против безыдейности господствующей части капиталистического общества, против отсутствия у людей, принадлежащих к этой части общества, какого бы то ни было твердого этического мировоззрения, способного стать руководством в практической жизни. Призыв Толстого к восстановлению религиозности был прежде всего своеобразной формой протеста против этической беспринципности господствующих классов капиталистического общества, хотя к одному лишь этому протесту он, разумеется, не сводится, будучи одновременно и выражением слабости, непоследовательности толстовской мысли, архаичности ее устремлений.
В толстовской критике христианского и прежде всего православного христианского богословия все основание критики покоится не на ученом историческом исследовании, не на критическом сопоставлении православного богословия и его толкований с богословием и с толкованиями других христианских церквей. Основу толстовской критики составляет понятие о сущности религии и христианства, выработанное Толстым. Понимает же под религией и под христианством Толстой прежде всего не философское и даже не религиозное учение о мире и о боге, а нравственное (этическое) учение о том, что придает смысл человеческой жизни. Иными словами под религией Толстой понимает учение о пути жизни, о нравственных началах, которыми должен руководиться в своем отношении к жизни и к людям человек, ищущий в жизни нравственного смысла.
Поэтому толстовское понимание «откровения» не только резко отличается от церковного, но во многом ему прямо противоположно. Церковное толкование понимает под «откровением» таинственное, мистическое сообщение богом людям не постижимых для разума положений веры о природе бога, об отношении бога к миру и к человеку и т. д.
Толстой не отрицает формально мистического характера религиозной веры. Он сам называет «откровением» – «то, что открывается перед разумом, дошедшим до последних своих пределов, – созерцание божественной, т. е. выше разума стоящей, истины». Однако для Толстого в религии самое важное – не ее мистическое и сверхразумное содержание. Для Толстого в религии существенен только предлагаемый ею ответ на вопрос о нравственном смысле жизни, а также на вопрос о нравственных условиях осуществления этого смысла в человеческой жизни. Тем самым содержание религиозных учений Толстой сводит главным образом к учению практической этики. Одновременно с этим Толстой настаивает на том, что предлагаемое христианством этическое учение может привести к оправданию жизни, к утверждению ее смысла только при условии, если основы религиозного учения и содержание нравственных предписаний не будут противоречить разуму.
Таким образом метафизическое содержание религии Толстой сводит к ее этическому содержанию, а ее мистический элемент стремится подчинить элементу рационалистическому. Поэтому, сформулировав приведенное выше определение «откровения», Толстой дополняет его другим, не только отличным от первого, но, несомненно, ему противоречащим. «Откровением, – поясняет Толстой, – я называю то, что дает ответ на тот не разрешимый разумом вопрос, который привел меня к отчаянию и самоубийству, – какой смысл имеет моя жизнь? Ответ этот, – утверждает Толстой, – должен быть понятен и не противоречить законам разума, как противоречит, например, утверждение о том, что бесконечное число – чёт или нечет. Ответ… должен быть не только понятен и не произволен, а неизбежен для разума, как неизбежно признание бесконечности для того, кто умеет считать. Ответ должен отвечать на мой вопрос: какой смысл имеет моя жизнь? Если он не отвечает на этот вопрос, то он мне не нужен». Зная, что православная церковь приписывает себе обладание высшими основами, в том числе и этическими, Толстой необходимо должен был искать в догматическом богословии обоснования практической этики.
Но он не нашел там этого обоснования. Более того, он вскоре убедился, что церковное понимание христианской религии не только не обосновывает никаких этических требований и не содержит никакого протеста против безнравственного характера всего уклада жизни капиталистического общества, но что церковное вероучение все направлено на оправдание существующего – основанного на угнетении крестьян и рабочих – общественного порядка.
По мысли Толстого, христианство, как и всякое религиозное учение, заключает в себе две стороны: 1) учение о жизни людей – о том, как надо жить каждому отдельно и всем вместе – этическое и 2) объяснение, почему людям надо жить именно так, а не иначе – метафизическое учение». Человек должен жить так, а не иначе потому, что таково его назначение, или назначение человека таково, а потому человек должен жить именно таким образом. Эти две стороны – «этическая» и, по терминологии Толстого, «метафизическая» – находятся, по Толстому, во всех религиях мира. Такова религия браминов, Конфуция, Будды, Моисея, такова же и христианская религия: «Она учит жизни, как жить, и дает объяснение, почему именно надо так жить».
По Толстому, все религии, развив двойственное – «этически-метафизическое» – содержание своих учений, подверглись со временем перерождению. По свойственной им слабости люди отступали от «этического» учения религии, и тогда из их среды являлись лица, которые брались оправдать это отступление. Лица эти разъясняли «метафизическую» сторону религиозного учения так, чтобы этические требования становились необязательными и чтобы они заменялись внешним богопочитанием – обрядами.
Это, по Толстому, общее всем религиям изменение первоначального – этического – содержания религиозного учения ни в одной из них не выразилось так резко, как в христианстве. В христианстве, как его понимает Толстой, «метафизика» и «этика», во-первых, «до такой степени неразрывно связаны и определяются одна другою, что отделить одну от другой нельзя, не лишив всё учение его смысла». Во-вторых, христианство, как его понимает Толстой, уже само по себе есть отрицание «не только обрядных постановлений иудаизма, но и всякого внешнего богопочитания».
Но именно поэтому происшедший и в христианстве и общий для христианства с другими религиями разрыв между «метафизикой» и «этикой» должен был – так полагал Толстой – «совершенно извратить учение и лишить его всякого смысла». Так оно, по Толстому, и случилось. Разрыв между «этическим» учением о жизни и «метафизическим» объяснением жизни «начался с проповеди Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии Матфея и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо-каббалистическую теорию». Окончательно же осуществился этот разрыв во времена императора Константина, когда начались вселенские соборы и когда центр тяжести христианства переместился «на одну метафизическую сторону».
В результате этого смещения центра тяжести христианство в большей степени, чем какая-либо другая из крупных исторических религий, утратило составляющее некогда его центральную часть этическое учение.
Толстой доказывает эту мысль, сопоставляя христианство с другими религиями. Все религии за исключением церковно-христианской, «требуют от исповедующих их, кроме обрядов, исполнения еще известных хороших поступков и воздержания от дурных». Так, иудаизм требует обрезания, соблюдения субботы, милостыни, юбилейного года и еще многого другого. Магометанство требует обрезания, ежедневной пятикратной молитвы, десятины бедным, поклонения гробу пророка и много другого. И так обстоит дело со всеми религиями. «Хороши ли, дурны ли эти требования, но это требование поступков».
Напротив, церковное христианство не предъявляет никаких этических требований. «Нет ничего, – утверждает Толстой, – что бы обязательно должен был делать христианин и от чего он должен был бы обязательно воздерживаться, если не считать постов и молитв, самою церковью признаваемых необязательными». Со времен Константина христианская церковь «не требовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было». Христианин, следующий церковной вере, «ничего не обязан делать и ни от чего не обязан воздерживаться для того, чтобы спастись, но над ним церковью совершается всё, что для него нужно:…его и окрестят, и помажут, и причастят, и особоруют, и исповедуют даже глухою исповедью, и помолятся за него – и он спасен».
Вместо того чтобы руководить людьми в их жизненных действиях, церковь «перетолковала метафизическое учение Христа так, что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям жить так, как они жили». «Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, она пошла за ним. Мир делал всё, что хотел, предоставляя церкви, как она умеет поспевать за ним в своих объяснениях смысла жизни». Мир устанавливал свою во всем противную этическому учению христианства жизнь, а церковь «придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним».
В результате церковь признала и даже освятила все, что было в языческом мире. «Она признала и освятила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала, отречения от зла; потом при крещении младенцев перестала требовать даже и этого».
Но именно потому, что учение церкви сложилось как оправдание исторически определенного общественно-политического порядка, со временем, с изменением форм общественной жизни, церковное учение начало отставать. Придуманное для оправдания древней формы рабства, оно уже не годилось для общества, отменившего эту древнюю форму и сменившего ее на другую.
С другой стороны, несмотря на все свои старания скрыть от верующих истинное – этическое – учение Христа, вопреки запрещению переводов библии на национальные языки, пришло время, когда истинное учение Христа – через сектантов и вольнодумцев – стало проникать в народ. Так как народ не мог жить без этического учения и так как церковь извратила и даже старалась скрыть этическое учение христианства, то учение о жизни «эмансипировалось от церкви и установилось независимо от нее».
Так, «сами люди помимо церкви уничтожали рабство, оправдываемое церковью, религиозные казни, уничтожили освященную церковью власть императоров, пап и теперь начали стоящее на очереди уничтожение собственности и государства…»
В настоящее время «всё, что точно живет, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, всё живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живет своей жизнью независимо от церкви». Так, государственная власть основывается «на предании, на науке, на народном избрании, на грубой силе, на чем хотите, но только не на церкви». Войны и отношения государств устанавливаются «на принципе народности, равновесия, на чем хотите, только не на церковных началах». Государственные учреждения открыто игнорируют церковь: «Мысль о том, чтобы церковь могла быть основой суда, собственности, в наше время только смешна». Наука не только находится в согласии с учением церкви, но «нечаянно, невольно в своем развитии всегда враждебна церкви». Даже искусство, некогда служившее церкви, «теперь всё ушло из нее».
Жизнь не только вся «эмансипировалась» от церкви. Жизнь – так утверждал Толстой – «не имеет другого отношения к церкви, кроме презрения, пока церковь не вмешивается в дела жизни, и ничего, кроме ненависти, как только церковь пытается напомнить ей свои прежние права».
Этим, однако, не ограничивается, по Толстому, извращение религии, имеющееся в церковном учении. Церковь не только извратила и забросила этическое учение христианства. Так как «этическое» учение каждой религии неразрывно связано, как думает Толстой, с учением «метафизическим», то порча первого неминуемо вызвала порчу и второго, породила в церкви стремление – превратить религию в оправдание существующего порядка и прежде всего – в оправдание существующего зла. В результате и «метафизическая» часть христианства оказалась совершенно извращенной.
Мысль эту Толстой доказывает в «Критике догматического богословия» – одном из самых страстных своих произведений. Книга эта дышит гневом, негодованием, чувством оскорбленной, обманутой и страдающей человечности. Шаг за шагом, параграф за параграфом Толстой излагает догматическое вероучение христианской церкви. Одновременно он рассказывает о своих попытках понять это вероучение, найти в нем разумный смысл и обоснование нравственного поведения. Но во множестве мест терпение иссякает, оскорбленное достоинство мыслителя и нравственного существа заставляют Толстого повысить голос, и тогда с его уст слетают исполненные страдания и ярости слова.
В догматическом богословии Толстого оскорбляет все: и содержание учения, и практическая цель, к которой все оно клонится, и приемы изложения и убеждения.
В приемах изложения Толстой всюду находит «неясность выражений, противоречия, облеченные словами, ничего не разъясняющими, понижение предмета, сведение его в самую низменную область, пренебрежение к требованиям разума и одно и то же постоянное стремление связать внешним, словесным путем самые разнообразные суждения о боге, начиная от Авраама до отцов церкви, и на этом одном предании основать все свои доказательства».
Изложение богословия Толстой находит не только не истинным по существу его содержания, но в значительной части случаев попросту лишенным всякого логического смысла. «Очевидно, – пишет Толстой, – слова уже тут совершенно оторвались от мысли, с которой были связаны, и не вызывают уже никакой мысли». Так, Толстой «долго делал страшные усилия, чтобы понять, что разумеется, например, под различными духовными естествами, под различением свойств, под умом и волей бога». И все же он не мог добиться понимания и убедился, наконец, что автору догматического богословия «нужно только связать внешним образом все тексты, а что разумной связи между его словами нет и для него самого».
Таким, лишенным всякого смысла, непонятным в своем существе представляется Толстому основной «метафизический», как его называет Толстой, догмат богословия – догмат божественного триединства.
Какое бы значение ни придавало богословие догмату божественного триединства, догмат этот, по Толстому, лишен всякого смысла: с тем, что бог – вместе один и три «никакого понятия не может быть связано». «И потому, – продолжает Толстой, – какой бы авторитет ни утверждал этого, не только все живые и мертвые патриархи Александрийские и Антиохийские, но если бы с неба неперестающий глас взывал бы ко мне: Я – один и три, я бы остался в том же положении не неверия (тут верить не во что), а недоумения, что значат эти слова и на каком языке, по каким законам могут они получить какой-нибудь смысл». «Невозможно, – восклицает Толстой, – верить тому, чтобы бог, благой отец мой (по учению церкви), зная, что спасение или погибель моя зависит от постигновения его, самое существенное познание о себе выразил бы так, что ум мой, данный им же, не может понять его выражения».
Но Толстой отвергает догмат триединства не только потому, что догмат этот противен человеческому разуму и не имеет основания ни в писании, ни в предании, откуда пытается его вывести при помощи явных натяжек и передержек богословие. Толстой отвергает этот догмат еще и потому, что догмат триединства – в том содержании, какое вкладывается в него церковью, – ни для кого и ни для чего не нужен и что «нравственного правила из него вывести невозможно никакого».
Решающая в глазах Толстого черта догматов – их практическая неприложимость, невозможность вывести из них какие бы то ни было нравственные правила – есть, как думает Толстой, черта не только основного «метафизического» догмата церкви – учения о триединстве. Та же черта отличает, по Толстому, и все прочие догматы церковной веры. При этом чем дальше отстоит догмат от возможности практического – нравственного – его применения, тем больше значение, какое приписывает ему церковь. «Догматы: нисхождения духа, естества Христова, таинства причащения, – чем дальше они были от возможности какого-нибудь нравственного приложения, тем более они волновали церкви».
Толстой не ограничился одной лишь теоретической, логической и практической критикой догматов церковного богословия. Для Толстого первостепенное значение имел также вопрос о том, какой практический повод «заставил церковь исповедовать этот бессмысленный догмат и так старательно подбирать вымышленные доказательства его».
Исследование этого вопроса приводит Толстого к заключению, что церковное понимание догматов имеет два основания. Первое из них состоит попросту в грубости и примитивности свойственного церковным писателям понимания текстов писания, которыми обосновываются догматы. «Выписки из писания, – разъяснил Толстой, – показывают, что утверждение этих бессмыслиц происходит не произвольно, но вытекает… из ложного, большей частью просто грубого понимания слов писания».
Второе, по Толстому, основание церковного понимания догматов состоит в утверждаемой церковью непогрешимости собственных учений. В свою очередь собственную непогрешимость церковь выводит из непогрешимости церковной иерархии, понятием которой в богословии незаметно подменяется понятие церкви.
В конечном счете все учение церкви, как его преподает богословие, «всё основано на том, чтобы, установив понятие церкви как единой истинной хранительницы божеской истины, подменить под это понятие – понятие одной известной, определенной иерархии».
Но этого мало. В системе догматов и учений богословия Толстой обнаруживает, кроме грубости понимания текстов писания и кроме гордости и самомнения иерархии, отождествившей себя с церковью, а свои учения – с самой истиной, еще и прямую практическую цель – стремление внушать верующим такие представления и верования, которые связаны с корыстными – материальными – интересами, иерархии. Так, например, чрезвычайно важное для всей системы богословия учение о благодати «есть, с одной стороны, неизбежное следствие ложной посылки, что Христос искуплением изменил мир, а с другой стороны, оно же и есть основа тех жреческих обрядов, которые нужны для верующих, чтобы отводить им глаза, а для иерархии – чтобы пользоваться выгодами жреческого звания».
Это учение о благодати, цель которого – отвести глаза верующих от неисполнения обещаний искупления и приобретения доходов духовенству, «носит в себе тот ужасный зачаток безнравственности, который извратил нравственно поколения, исповедующие это учение». Обманное учение церкви о том, что человек всегда порочен и бессилен и что все его личные стремления к добру бесполезны до тех пор, пока он не усвоит благодати, – учение это «под корень подсекает всё, что есть лучшего в природе человека».
Введение безнравственного учения о благодати с логической неизбежностью повлекло за собой введение целого ряда еще более безнравственных и грубых учений. За признанием благодати последовало учение, сводящее веру к доверию ко всему, о чем учит иерархия, и к послушанию, за учением о вере как о послушании – учение о механическом действии таинств: крещения, миропомазания, причащения и т. д. В свою очередь необходимость побуждать людей к исполнению отправляемых иерархами таинств привело к учению о мздовоздаянии, то есть о загробном наказании богом тех, кто при жизни не исполнял таинств. Дойдя до такого результата, учение это выразилось «в ужасающем безобразии»: согласно этому учению, из того, что бог для спасения людей отдал своего сына на казнь, «выходит то, что если поп с причастием опоздает, когда я буду умирать, я пойду если не прямо в ад, то все-таки мне будет худо, много хуже, чем тому, кто награбил много денег и нанял попа и попов так, чтобы они всегда при нем были».
Итогом исследования Толстого, посвященного догматическому богословию, стало полное отрицание церкви как установления и такое же полное отрицание ее учений. «Как же я могу, – спрашивает Толстой, – верить этой церкви и верить ей тогда, когда на глубочайшие вопросы человека о своей душе она отвечает жалкими обманами, нелепостями и еще утверждает, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководиться не чем иным, как только ее указанием». «Цвет панталон я могу выбрать, жену могу выбрать по своему вкусу, но остальное, то самое, в чем я чувствую себя человеком, во всем этом я должен спроситься у них – у этих праздных, обманывающих и невежественных людей».
С огромной силой негодования бичует Толстой лицемерие церкви, полное расхождение ее современных учений с первоначальным нравственным учением христианства. Отступив от духа христианства, церковь, —доказывает Толстой, – извратила христианское учение до того, что дошла до отрицания его всей своей жизнью: «Вместо уничижения – величие, вместо бедности – роскошь, вместо неосуждения – осуждение жесточайшее всех, вместо прощения обид – ненависть, войны, вместо терпения зла – казни».
Этим лицемерием прикрывается главный и непростительный в глазах Толстого грех церкви – ее участие в общественном порядке, основанном на угнетении и ограблении трудящихся. В конечном счете слово «церковь» есть «название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими».
В восьмидесятых годах прошлого века, когда Толстой писал свои богословские сочинения, развитая им критика догматического богословия сыграла несомненно положительную роль. Сила этой критики состояла не в новизне доводов, которыми Толстой доказывал несостоятельность церковного догматического вероучения. Задолго до Толстого догматы эти были подвергнуты рационалистической критике деистами, рационалистами, вольнодумцами, сектантами всяких мастей. Толстой только применил эти доводы, уже использованные против католичества и против протестантизма, к православию.
Оригинальной, неповторимой, самобытной критику Толстого делает зоркость, с какой Толстой разглядел связь, существующую между учениями церкви и социальным строем капиталистического общества. «Крестьянский» взгляд Толстого и в церкви разгадал одну из сил, разоряющих и порабощающих крестьянство, узаконивающих и освящающих бедствия надвигавшегося на крестьянина нового и непонятного для него врага – капитализма.
Истолкование религии как учения практической этики ярко выразилось также в большой работе Толстого «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий», опубликованной издательством «Посредник» в 1907 (I том) и в 1908 году (II и III томы).
Идея соединения в одно повествование всего содержания четырех Евангелий не нова. Попытки такого соединения были сделаны до Толстого Арнольдом де Вансом, Рейсом, Фарраром, Гречулевичем. Толстому эти работы были известны. Однако выполненное Толстым соединение четырех Евангелий существенно отличается от работ названных ученых своей задачей и руководящей точкой зрения. Предшественники Толстого подходили к своей задаче как к задаче историко-филологической. Толстого эта задача совершенно не интересует. Его соединение и перевод Евангелий не есть ни труд богослова, ни труд ученого историка, ни даже труд филолога-переводчика. Работа Толстого есть попытка очищения текста четырех Евангелий от всего, что самому Толстому представляется несовместимым с его собственным понятием о религии и, в частности, о христианской религии. Это – интерпретация канонических Евангелий в духе морального учения Толстого. Отвлеченно-рационалистический характер религиозного и морального учения Толстого сделал для него неприемлемыми все тексты Евангелий, в которых или выражены философские – онтологические, космологические – понятия евангелистов (например, мистическое учение о божественном «слове» в Евангелии Иоанна), или отражена вера в чудесные, сверхъестественные явления, или, наконец, сказались результаты позднейшей церковной переработки древних текстов Евангелий – в целях оправдания и обоснования официальной догматики церковного христианства, сложившейся к началу четвертого века нашей эры. Поэтому Толстой или просто исключает из текста своего перевода все, что ему представляется фантастическим, ложным и грубым в моральном отношении, подложным и внесенным в первоначальный текст церковными богословами, или перетолковывает соответствующие места в духе собственного учения. Это перетолкование часто выражается в полной свободе при передаче греческого текста. Часто перевод этот просто есть замена имеющегося в тексте понятия понятием, какого никак не мог иметь в виду автор текста и которое приписывается ему Толстым.
Поэтому с точки зрения строгой филологии перевод четырех Евангелий, выполненный Толстым, не следует рассматривать как перевод в буквальном смысле этого слова. Сам Толстой отнюдь не претендовал на рассмотрение своей работы в качестве ученого перевода и сам заранее признал, что в его труде могут быть обнаружены значительные – с точки зрения филологической критики – ошибки. Цель Толстого была совсем другая. Толстой хотел самый текст канонических Евангелий сделать опорой для своих религиозно-моральных воззрений. И в переводе и – еще яснее – в комментариях к переводу, сделанных самим Толстым, цель эта выступает совершенно прозрачно. В переводе и в комментариях Толстого отразились все черты религиозного мировоззрения Толстого. Основное для Толстого противоречие между разоблачением социальной функции религии в эксплуататорском обществе и признанием «очищенной», «утонченной» религии, сведенной к моральному учению непротивления и нравственного личного самосовершенствования, и здесь остается во всей силе. Так же как и другие религиозные трактаты Толстого, «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий» – страстная полемическая книга. Несмотря на всю неподготовленность Толстого к ученой филологической критике канонических текстов Евангелий и их признанных церковью переводов, Толстой в ряде случаев с большой проницательностью вскрывает смысл и цели церковной интерпретации евангельских текстов. Он обнажает связь между этой интерпретацией и служением церкви государству, основанному на насилии имущего меньшинства над трудящимся большинством. В этом разоблачении – сила работы Толстого над Евангелиями. Сквозь крайнюю наивность и рассудочность толстовской экзегезы, сквозь произвол филологических выкладок Толстого до читателя доходит чувство страстного гнева великого мыслителя против лжи и лицемерия церкви, перенесшей в евангельские тексты понятия и догмы, возникшие в церковных кругах и отражающие социально-политические черты церковной идеологии. Именно эти черты делают работу Толстого по переводу и соединению Евангелий работой, интересной для современного читателя. Книга эта восполняет характеристику мировоззрения Толстого. Она – показатель удивительной страстности, упорства и трудолюбия, способности беззаветного увлечения, с каким Толстой отдавался своей критике духовного обмана, господствовавшего в современном ему обществе. Но одновременно книга эта показатель и противоречивости, слабости Толстого, порабощенности мысли Толстого тем самым расслабляющим ядом, против которого он так сильно и мужественно боролся.
Наиболее разительным доказательством того, что для Толстого религия сводится по сути к этике, является сделанный самим Толстым перевод некоторых текстов четвертого Евангелия – Евангелия Иоанна. Евангелие это всегда рассматривалось богословами и историками философии как наиболее философское из четырех канонических Евангелий, как такое, в котором сообщаются основы христианского учения о божественном бытии, о природе бога и т. д. В связи с этим «слово» («логос»), о котором идет речь в четвертом Евангелии, связывалось с философскими умозрениями Филона иудейского, с «логосом» стоиков и даже с «логосом» Гераклита. Во всех этих богословских и историко-философских толкованиях «логос» четвертого Евангелия имеет ясно выраженное онтологическое значение (значение характеристики божественного бытия), а также связанное с ним космологическое значение (то есть значение термина, говорящего об отношении бога и сына бога к миру).
Совершенно иначе понимает смысл евангельского учения о «слове» или о «логосе» Толстой. Его совершенно не интересует вопрос об онтологическом и космологическом смысле евангельского «логоса». По Толстому «логос» Иоанна – только нравственное понимание (или «разумение») жизни. Больше того, по утверждению Толстого, известные слова из первого стиха первой главы Евангелия Иоанна – ϰαί ό λόγος ην πρὸς τὸν ϑεόν («и слово было у бога») должны быть переведены так: «И разумение стало супротив бога», или: «разумение заменило бога». Другими словами, Толстой не. только отрицает в понятии «логоса» какой бы то ни было онтологический смысл, не только сводит смысл этого понятия к понятию о нравственном понимании («разумении») жизни. Толстой вместе с тем утверждает, что нравственное «разумение» жизни есть то, что заменило в жизни и в сознании людей понятие о самом боге. Религия Толстого по сути – религия без бога, или религия, в которой, по мысли Толстого, бог, как бог, становится только синонимом нравственного понимания жизни.
Но вместе с тем свое собственное понимание нравственного смысла жизни – свое отвлеченное и вне историческое учение о любви к людям, о непротивлении злу насилием, об отказе от выполнения законов государства и т. д. Толстой хочет вывести из основных учений, изложенных в ранней христианской литературе – из канонических Евангелий в первую очередь.
Однако в памятниках этой литературы, в том числе в Евангелиях, нравственные учения связаны с целым рядом других – мистических, мифологических, онтологических, космологических понятий и наслоений. Поэтому утверждать, как это делает Толстой, будто, кроме указанного самим Толстым нравственного смысла жизни, Евангелие в сущности не содержит никаких других философских понятий и учений, можно или игнорируя всё мифологическое и философское, но не специфически моральное содержание ранних памятников христианской литературы, или даже произвольно толкуя в этих памятниках в узко моральном смысле то, что заключает в себе и другой смысл, не сводимый начисто к моральному.
В своем переводе и толковании Евангелий Толстой делает и то и другое. Он опускает в своем переводе ряд мест – мифов, сцен, изречений и т. д., – не связанных с нравственным евангельским учением (как его понимает сам Толстой), и перетолковывает в духе своего собственного нравственного учения те места, которые имеют в виду отнюдь не только моральное учение.
Особенно решительно опускает Толстой в содержании Евангелий все рассказы, сцены и положения, которые противоречат реалистическому пониманию явлений и событий природы и человеческой жизни.
Поэтому толстовский перевод и соединение в одно связное и цельное повествование четырех Евангелий отличается, во-первых, сильно выраженной моральной тенденцией. Толстой выделяет, подчеркивает, усиливает в своем переводе этическую направленность Евангелий.
Во-вторых, толстовский перевод Евангелий отличается резко выраженной рационалистической тенденцией: Толстой стремится – либо путем механического отсечения ряда текстов, либо путем рационалистического перетолкования – устранить, где это ему представляется возможным, противоречие между повествованием Евангелий и (общечеловеческим) рассудочным пониманием явлений.
При этом Толстому приходится вступать в споры с имеющимися в богословской литературе переводами и пониманием ряда евангельских текстов. В спорах этих и в критике богословских толкований евангельских текстов обнаруживается чрезвычайно важная черта взглядов Толстого на церковное вероучение. Слабый и мало подготовленный в вопросах филологической критики и толкования евангельских текстов, Толстой поразительно чуток и проницателен по отношению к социальной тенденции, которой постоянно руководилась и руководится церковь в своих толкованиях Евангелия.
В своих суждениях о Толстом Ленин всегда отмечал силу, убежденность и искренность толстовской критики церкви, а также проницательность анализа Толстого, уловившего в учениях церкви связь их с оправданием основ и установлений капиталистического общества. Отмечая как достоинство и силу Толстого «замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши»7, Ленин тут же отмечал, что протест этот был направлен Толстым прежде всего против церкви. Во взглядах Толстого на церковь Ленин ценил «самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок»8. В ряде мест Ленин подчеркивал, что для Толстого характерен «горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейско-казённой церкви…»9 В этом протесте, как и в других проявлениях толстовской критики, Ленин также видит выражение настроений «примитивной крестьянской демократии, в которой века… церковного иезуитизма, обмана и мошенничества накопили горы злобы и ненависти»10.
В этом отношении Ленин особенно выделял последние произведения Толстого. Именно в них Толстой, как показал Ленин, «обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные (курсив мой. – В. А.), общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь»11. По словам Ленина, Толстой «с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество…»12 В числе этих учреждений, лживость и лицемерие которых изобличал Толстой, Ленин на первом месте называет церковь.
Толстовская критика церкви и церковного богословия стала предметом внимания широких кругов русского общества. Искренность, граничащая с отчаянием, страстность этой критики, горячее сочувствие миллионам людей, порабощенных церковным обманом, негодование против обманывающих – все эти качества полемических книг Толстого, направленных против церкви, вызвали всеобщее сочувствие к Толстому. Волна этого сочувствия поднялась особенно высоко, когда православный синод опубликовал во всеобщее сведение акт об отлучении Толстого от православной церкви. Значительной частью русских людей акт этот был воспринят как действие, позорящее не Толстого, а тех церковников, которые, не имея сил защищаться от могучих укоров и обвинений писателя, вместо ответа по существу, решили «наказать» его своим отлучением. В день опубликования постановления синода Толстой стал, в сознании культурных людей всего мира, в один ряд с такими борцами и деятелями независимой мысли, каким был Спиноза, какими были французские просветители. Вспоминая впоследствии об отлучении Толстого, Ленин писал: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему (то есть синоду. – В. А.) в час народной расправы с чиновниками в рясах, с жандармами во Христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки»13.
Но как ни искренна была толстовская критика и как ни сильно было ее действие, критика эта таила в себе глубокое противоречие и прямо реакционное содержание. Толстой критикует церковную форму веры, но для того, чтобы укрепить, очистить самый принцип веры. Он отвергает церковное учение о боге, но лишь для того, чтобы на это место поставить нравственно очищенное, духовно утонченное новое понятие о боге. Он осуждает поддержку, какую церковь оказывает капиталистическому угнетению, но не для действительной борьбы с капиталистическим порядком, а для проповеди непротивления злу насилием.
Так, Толстой отрицает развиваемые богословием «доказательства» существования бога, ссылается при этом на критику Канта, но не для того, чтобы отвергнуть в принципе всякое доказательство бытия бога, а для того, чтобы, отвергнув богословские доказательства как нелепые, выдвинуть, точнее чтобы сохранить, другие – мистические, которые кажутся ему истинными.
Упрекая богословов за нарушение основных законов логики и разума, Толстой, сам того не замечая, отрекается от логики в собственном доказательстве бытия бога и души: «Бога и душу я знаю так же, как я знаю бесконечность, не путем определения, но совершенно другим путем. Определения разрушают во мне это знание». По Толстому, к несомненности знания бога человек приводится вопросом: «откуда я?» «Я родился от своей матери, а та от бабушки, от прабабушки, а самая последняя от кого. И я неизбежно прихожу к богу. Ноги – не я, руки – не я, голова – не я, чувства – не я, даже мысли – не я: что же я? Я—я, я – моя душа».
Толстой гневно и горячо протестует против участия церкви в капиталистическом насилии. Но в то же время в той же «Критике догматического богословия» Толстой доказывает, будто христианское учение, освобожденное от церковных софизмов, истинно и будто истина его – в заповеди, запрещающей всякую борьбу с насилием при помощи насилия.
«Все учение Иисуса только в том, что простыми словами повторяет народ: спаси свою душу, но только свою, потому что она всё. Страдай, терпи зло, не суди – все только говорят одно. При всяком же прикосновении к делам мира Иисус учит нас примером полного равнодушия, если не презрения, как надо относиться к мирским делам… Всё, что не твоя душа, всё это не твое дело. Ищите царства небесного и правды его в своей душе, и всё будет хорошо».
Во всех этих чертах толстовской критики церковного учения мы узнаем не только крестьянский протест и накопившуюся столетиями ненависть к угнетающему порядку, но вместе с тем и указанную Лениным другую черту – бессилие патриархального крестьянства, наивность, юродство в выборе средств для борьбы против зла. По слову Ленина, Толстой отражает настроение крестьянских масс «так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», бессильные проклятья по адресу капитализма и «власти денег»14.
Отвергнув церковную религию, Толстой с тем большей убежденностью отстаивает «вечное» содержание «истинной» религии. И в своей критике церковной религии и в своем обосновании «очищенной» от церковного обмана и лицемерия «истинной» религии Толстой, как показал Ленин, неспособен стать на «конкретно-историческую точку зрения». «Он рассуждает, – писал по этому поводу Ленин, – отвлеченно, он допускает только точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии…»15
В критике церковной религии неспособность Толстого стать на конкретно-историческую точку зрения привела к тому, что Толстой оценивает значение церковного христианства только с точки зрения настоящего и потому не видит несомненной относительной прогрессивности церковного христианства в те времена далекого прошлого, когда церковное христианство оказалось хранителем и даже в известной мере насадителем просвещения среди языческих народов.
Пропаганда религии, «очищенной» от прямой и явной капиталистической апологетики, отсутствие конкретно-исторической точки зрения имело результатом то, что Толстой не заметил, как, подменяя церковную религию «очищенной» нравственной религией, он на деле, вместо грубого, открытого, но в своей откровенности менее опасного оправдания существующего порядка, предлагал по сути также примирение с этим порядком, но примирение неявное, утонченное и потому несравненно более опасное. Развивая точку зрения «вечных» истин религии, Толстой, говоря словами Ленина, не сознавал «того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого («переворотившегося») строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов»16.
Среди многочисленных, раскрытых Лениным противоречий мышления Толстого противоречие между толстовской критикой церковной религии и толстовской проповедью «очищенной» религии – одно из самых характерных для Толстого и одно из самых значительных. «Борьба с казенной церковью,– писал Ленин об этом противоречии Толстого,– совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс»17.
В оценке толстовской религии Ленин прилагает тот же критерий, который был указан им Алексею Максимовичу Горькому при оценке так называемого богоискательства и богостроительства – течений, распространившихся не только в кругах буржуазной интеллигенции после поражения первой русской революции, но частично проникших даже в среду российской социал-демократии.
Ленин разъяснил Горькому, что чем демократичнее массы, к которым обращаются с проповедью очищенной, сведенной к морали религии, тем вреднее и опаснее действие подобной проповеди.
И дело здесь, как показал Ленин, не в личных нравственных чертах или качествах тех, кто субъективно нуждается в «очищенной» религии и эту религию проповедует. Религию Толстого, так же как и религию богоискателей и богостроителей, Ленин рассматривает и оценивает не как факт личного психологического и морального развития Толстого и богоискателей.
Именно с этой – не с личной, а с общественной – точки зрения Ленин бичевал не самого Толстого, как личность, а «толстовство» – как выражение общественной слабости, расхлябанности и бессилия известной части русской интеллигенции. В «толстовстве» Толстого и шедших за ним интеллигентов Ленин видел одно из обнаружений столь характерного для Толстого противоречия его личности и деятельности, отражавшего противоречивый характер всего пореформенного развития России.
В. Ф. Асмус.
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с воспроизведением некоторых особенностей правописания Толстого.
При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого, соблюдаются следующие правила. Слова, не написанные явно по рассеянности, печатаются в прямых скобках.
Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.
Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.
Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.
Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.
После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]
На месте неразобранных слов ставится: [1 неразобр.] или [2 неразобр.] и т. д., где цифры обозначают количество неразобранных слов.
Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что признает редактор важным в том или другом отношении.
Не зачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.
Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-накрест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте и ставятся в ломаных < > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске и одного или нескольких зачеркнутых слов.
Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.
В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации.
Воспроизводятся все абзацы. Отсутствующие абзацы вводятся без оговорок редактора.
Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок.
Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых скобках.
Пометы: *, ** в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте при номерах вариантов означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Толстого.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1879–1884
Л. Н. ТОЛСТОЙ. 1881 г.
Фото Дьяковченко
ИСПОВЕДЬ
(Вступление к ненапечатанному сочинению)
I
Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства и во всё время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.
Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко.
Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володинька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что бога нет и что всё, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное.
Помню еще, что, когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственною его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слитком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.
Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением.
По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частию встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими.
В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.
Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа.
Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты еще всё делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, чтоб он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово это было указанием на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их.
Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди – самые коренные неверующие, потому что если вера для них – средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж наверно не вера.) Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное здание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого.
Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в бога или, скорее, я не отрицал бога, но какого бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.
Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, – я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю – составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И всё это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других.
II
Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни – и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: «rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut»;18 еще другого счастия она желала мне, – того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.
Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство… Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.
Так я жил десять лет.
В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.
Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.
Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.
Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учители, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы – настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между нами людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Всё это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.
Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.
Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, – от чина художника, поэта, учителя, – я не отрекся. Я наивно воображал, что я – поэт, художник, и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.
Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.
Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно, – возникает именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.
Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать – как можно скорее, как можно больше, что всё это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно, – мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекрикивая друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.
Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы всё еще больше и больше учили, учили и учили и никак не успевали всему научить, и всё сердились, что нас мало слушают.
Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевным рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того, чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы – очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: всё, что существует, то разумно. Всё же, что существует, всё развивается. Развивается же всё посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы – самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, – стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми.
Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, – называл всех сумасшедшими, кроме себя.
III
Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования вообще, которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени; Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, – говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «куда держаться», – если он, не отвечая на вопрос, скажет: «нас несет куда-то».
Тогда я не замечал этого. Только изредка – не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания.
Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс. «Всё развивается, и я развиваюсь; а зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет». Так бы я тогда должен был формулировать свою веру.
Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят.
В сущности же я вертелся всё около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтоб учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтоб исполнить свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других.
И мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в пятьдесят лет, если б у меня не было еще одной стороны жизни, не изведанной еще мною и обещавшей мне спасение: это была семейная жизнь.
В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое виляние в журнале, состоявшее всё в одном и том же – в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, – бросил всё и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью.
Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше.
Так прошло еще пятнадцать лет.
Несмотря на то, что я считал писательство пустяками в продолжение этих пятнадцати лет, я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей.
Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше.
Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить попрежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и всё в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?
Сначала мне казалось, что это так – бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это всё известно и что если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, – что теперь только мне некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая всё на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно.
«Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть.
Тоже случилось и со мной. Я понял, что это – не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются всё те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..»
И я ничего и ничего не мог ответить.
IV
Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.
Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.
Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видать, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти – полного уничтожения.
Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком лёгким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и, между тем, чего-то еще надеялся от нее.
И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми – десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий.
И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни.
Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.
Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30—40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, – как я дурак-дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему смешно…»
Но есть ли, или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Всё это так давно всем известно. Не нынче-завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить – вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто – жестоко и глупо.
Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он всё держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь – день и ночь – подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно – неизбежного дракона и мышей, – и не могу отвратить от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.
Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно – истина. Остальное всё – ложь.
Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, – уже не сладки мне.
«Семья»… – говорил я себе; – но семья – жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины, – всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина – смерть.
«Искусство, поэзия?..» Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это – дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит всё – и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидал, что и это – обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других? Пока я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, – отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я почувствовал необходимость самому жить, – зеркальце это стало мне или ненужно, излишне и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни – потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, – игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору.
Но и этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это – мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться.
Вот это было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня – знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог отогнать его и не мог терпеливо ожидать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что всё равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь, и всё кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.
V
«Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? – несколько раз говорил я себе. – Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям». И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, – искал, как ищет погибающий человек спасенья, – и ничего не нашел.
Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние – бессмыслица жизни, – есть единственное несомненное знание, доступное человеку.
Я искал везде и, благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что, по связям своим с миром ученым, мне были доступны сами ученые всех разнообразных отраслей знания, не отказывавшиеся открывать мне все свои знания не только в книгах, но и в беседах, – я узнал всё то, что на вопрос жизни отвечает знание.
Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, вглядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. Долго я робел перед знанием, и мне казалось, что несоответственность ответов моим вопросам происходит не по вине знания, а от моего невежества; но дело было для меня не шуточное, не забава, а дело всей моей жизни, и я волей-неволей был приведен к убеждению, что вопросы мои – одни законные вопросы, служащие основой всякого знания, и что виноват не я с моими вопросами, а наука, если она имеет притязательность отвечать на эти вопросы.
Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?»
Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»
На этот-то, один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса: один – отрицательный, другой – положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни.
Один ряд знаний как бы и не признает вопроса, но зато ясно и точно отвечает на свои независимо поставленные вопросы: это – ряд знаний опытных, и на крайней точке их стоит математика; другой ряд знаний признает вопрос, но не отвечает на него: это – ряд знаний умозрительных, и на крайней их точке – метафизика.
С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом и математические и естественные науки привлекли меня, и пока я не поставил себе ясно своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельно разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, которые дает знание.
То, в области опытной, я говорил себе: «Всё развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты – часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом, и самого себя». Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было то самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивалась, я рос и развивался, и, чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение и вопросов моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился – я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают, – и я увидал, что этот закон не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору жизни. Я строже отнесся к определению этого закона; и мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в бесконечном пространстве и времени всё развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется, – это значит ничего не сказать. Всё это – слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни переда, ни зада, ни лучше, ни хуже.
Главное же то, что вопрос мой личный: что я такое с моими желаниями? – оставался уже совсем без ответа. И я понял, что знания эти очень интересны, очень привлекательны, но что точны и ясны эти знания обратно пропорционально их приложимости к вопросам жизни: чем менее они приложимы к вопросам жизни, тем они точнее и яснее, чем более они пытаются давать решения на вопросы жизни, тем более они становятся неясными и непривлекательными. Если обратишься к той отрасли этих знаний, которые пытаются давать решения на вопросы жизни, – к физиологии, психологии, биологии, социологии, – то тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую неясность, ничем не оправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрестанные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою. Если обратишься к отрасли знаний, не занимающихся разрешением вопросов жизни, но отвечающих на свои научные, специальные вопросы, то восхищаешься силой человеческого ума, но знаешь вперед, что ответов на вопросы жизни нет. Эти знания прямо игнорируют вопрос жизни. Они говорят: «На то, что ты такое и зачем ты живешь, мы не имеем; ответов и этим не занимаемся; а вот если тебе нужно знать законы света, химических соединений, законы развития организмов, если тебе нужно знать законы тел, их форм и отношение чисел и величин, если тебе нужно знать законы своего ума, то на всё это у нас есть ясные, точные и несомненные ответы».
Вообще отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так: Вопрос: Зачем я живу? – Ответ: В бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь.
То, в области умозрительной, я говорил себе: «Всё человечество живет и развивается на основании духовных начал, идеалов, руководящих его. Эти идеалы выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы эти все становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я – часть человечества, и потому призвание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества». И я во время слабоумия своего удовлетворялся этим; но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни, вся эта теория мгновенно рушилась. Не говоря о той недобросовестной неточности, при которой знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части человечества, за общие выводы, не говоря о взаимной противоречивости разных сторонников этого воззрения о том, в чем состоят идеалы человечества, – странность, чтобы не сказать – глупость, этого воззрения состоит в том, что для того, чтоб ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку: «что я такое» или: «зачем я живу», или: «что мне делать», – человек должен прежде разрешить вопрос: «что такое жизнь всего неизвестного ему человечества, из которой ему известна одна крошечная часть в один крошечный период времени». Для того чтобы понять, что он такое, человек должен прежде понять, что такое всё это таинственное человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих себя.
Должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти, и я старался придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти, как на закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом. И я понял, что как в науках опытных есть настоящие науки и полунауки, пытающиеся давать ответы на не подлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых распространенных знаний, старающихся отвечать на не подлежащие вопросы. Полунауки этой области – науки юридические, социальные, исторические – пытаются разрешать вопросы человека тем, что они мнимо, каждая по-своему разрешают вопрос жизни всего человечества.
Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не может удовлетвориться ответом: изучи в бесконечном пространстве бесконечные по времени и сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать и малой части которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в полунауках опытных, и эти полунауки тем более исполнены неясностей, неточностей, глупостей и противоречий, чем далее они уклоняются от своих задач. Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и полу чается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений, как явления социальные, исторические, и получается чепуха.
Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И наоборот, умозрительная наука – тогда только наука и являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы, – метафизика, или умозрительная философия. Наука эта ясно ставит вопрос: что такое я и весь мир? и зачем я и зачем весь мир? И с тех пор как она есть, она отвечает всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущность есть и что я есть та же сущность; но зачем она, он не знает, и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю: Зачем быть этой сущности? Что выйдет из того, что она есть и будет?.. И философия не только не отвечает, а сама только это и спрашивает. И если она – истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос: «что такое я и весь мир?» – «всё и ничто»; а на вопрос: «зачем существует мир и зачем существую я?» – «не знаю».
Так что, как я ни верти теми умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ, – и не потому, что, как в области ясной, опытной, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет, и вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме.
VI
В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек.
Вышел на поляну, влез на дерево и увидал ясно беспредельные пространства, но увидал, что дома там нет и не может быть; пошел в чащу, во мрак, и увидал мрак, и тоже нет и нет дома.
Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в которых я погружался тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, наконец, в том, что выхода нет и не может быть.
Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса. Как ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как ни заманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на вопрос.
Ну, я знаю, – говорил я себе, – всё то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знания была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот который я сам дал себе: Какой смысл моей жизни? – Никакого. – Или: Что выйдет из моей жизни? – Ничего. – Или: Зачем существует всё то, что существует, и зачем я существую? – Затем, что существует.
Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал: о химическом составе звезд, о движении солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира; но ответ в этой области знаний на мой вопрос: в чем смысл моей жизни? – был один: ты – то, что ты называешь твоей жизнью, ты – временное, случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоею жизнью. Сцепление это продержится некоторое время; потом взаимодействие этих частиц прекратится – и прекратится то, что ты называешь жизнью, прекратятся и все твои вопросы. Ты – случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прение это комочек называет своею жизнью. Комочек расскочится – и кончится прение и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний и ничего другого не может сказать, если она только строго следует своим основам.
При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл.
Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться ответами.
Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же: мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этот непостижимого «всего». Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять так же неправильно вводятся понятия развития, совершенствования с тою только разницей, что там – развитие всего, а здесь – жизни людей. Неправильность одна и та же: развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает.
Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией, служащей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и назвать их новыми именами, – там, где философ не упускает из вида существенный вопрос, ответ, всегда один и тот же, – ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой.
«Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни, – говорит Сократ, готовясь к смерти. – К чему мы, любящие истину, стремимся в жизни? – К тому, чтоб освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам?»
«Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему».
«Познавши внутреннюю сущность мира как волю, – говорит Шопенгауэр, – и во всех явлениях, от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознанием деятельности человека, признавши только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели и отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которое состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления с своими общими формами, пространством и временем, а наконец и последняя основная его форма – субъект и объект. Нет воли, нет представленя, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа есть ведь только эта самая воля к существованию (Wille zum Leben), составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так страшимся ничтожества, или, что то же, так хотим жить – означает только, что мы сами не что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто; но и, наоборот, для тех, в которых воля обратилась и отреклась от себя, для них этот наш столь реальный мир, со всеми его солнцами и млечными путями, есть ничто».
«Суета сует,– говорит Соломон, —суета сует – всё суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род преходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклезиаст, был царем над израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию всё, что делается под небом: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтоб они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё суета и томление духа… Говорил я в сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания – умножает скорбь.
«Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя веселием и наслаждусь добром; но и это – суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселии: что оно делает? Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое и, между тем как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни своей жизни. Я предпринял большие дела: построил себе домы, насадил себе виноградники. Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял, сердцу моему никакого веселия. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот всё – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И оглянулся я, чтобы взглянуть на мудрость, и безумие, и глупость. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце своем: и меня постигнет та же участь, как и глупого, – к чему же я сделался очень мудрым? И сказал, я в сердце моем, что и это – суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни всё будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым! И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо всё – суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего…
«Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем».
Так говорит Соломон или тот, кто писал эти слова.
А вот что говорит индийская мудрость:
Сакиа-Муни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и выспрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное, безобразное состояние? И когда он узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтоб обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гулянье. Но в этот раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека, с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И когда он узнает, что это – болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоения и, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять; но в третий раз он видит еще новое зрелище; он видит, что несут что-то. – «Что это?» Мертвый человек. – «Что значит мертвый?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем сделался этот человек. – Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. – «Что же будет с ним дальше?» спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. – «Зачем?» – Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви. – «И это удел всех людей? И со мною то же будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви?» – Да. – «Назад! Я не еду гулять, и никогда не поеду больше».
И Сакиа-Муни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь – величайшее зло, и все силы души употребил на то, чтоб освободиться от нее и освободить других. И освободить так, чтоб и после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтоб уничтожить жизнь совсем, в корне. Это говорит вся индийская мудрость.
Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает на вопрос жизни.
«Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его», говорит Сократ.
«Жизнь есть то, чего не должно бы быть, – зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни», говорит Шопенгауэр.
«Всё в мире – и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе – всё суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо», говорит Соломон.
«Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя – надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни», говорит Будда.
И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали и чувствовали миллионы миллионов людей, подобных им. И думаю и чувствую и я.
Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но только усилило его. Одно знание не отвечало на вопросы жизни, другое же знание ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и указывая, что то, к чему я пришел, не есть плод моего заблуждения, болезненного состояния ума, – напротив, оно подтвердило мне то, что я думал верно и сошелся с выводами сильнейших умов человечества.
Обманывать себя нечего. Всё – суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее.
VII
Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей – таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.
И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.
Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.
Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда – большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди – еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут капли меду. Но они лижут эти капли меда только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и – конец их лизанью. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.
Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попалось много. Соломон выражает этот выход так:
«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему бог под солнцем.
«Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое… Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем… Всё, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты поидешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».
Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жен есть 1000 людей без жен, и на каждый дворец есть 1000 людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде – неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче-завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, когда он раз увидал их.
Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ними сыграна, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезды на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится всё больше и больше. И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.
Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно – поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему?.. Я находился в этом разряде.
Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов я не видал еще иного. Один выход: не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло и что лучше не жить. Я не мог не знать этого и, когда раз узнал, не мог закрыть на это глаза. Другой выход – пользоваться жизнью такою, какая есть, не думая о будущем. И этого не мог сделать. Я, как Сакиа-Муни, не мог ехать на охоту, когда знал, что есть старость, страдания, смерть. Воображение у меня было слишком живо. Кроме того, я не мог радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход: поняв, что жизнь есть зло и глупость, прекратить, убить себя. Я понял это, но почему-то всё еще не убивал себя. Четвертый выход – жить в положении Соломона, Шопенгауэра – знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении.
Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей мудрых, приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения.
Оно было такое: Я, мой разум – признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума (а его нет, и ничто доказать его не может), то разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или, с другой стороны: если бы не было жизни, не было бы и моего разума, – стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть всё. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно.
Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно, – говорил я себе. – Но я жил, живу еще, и жило и живет всё человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить? Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?
Рассуждение о суете жизни не так хитро, и его делают давно и все самые простые люди, а жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни?
Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что всё на свете – органическое и неорганическое – всё необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо. А эти дураки – огромные массы простых людей – ничего не знают насчет того, как всё органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что жизнь их очень разумно устроена!
И мне приходило в голову: а что как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит. Когда оно не знает чего-нибудь, оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит так, что есть человечество целое, которое жило и живет, как будто понимая смысл своей жизни, ибо, не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся эта жизнь бессмыслица, и не могу жить.
Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя – и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, убей себя. А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно, так уйди.
Ведь в самом деле, что же такое, мы, убежденные в необходимости самоубийства и не решающиеся совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся с своею глупостью, как дурак с писаной торбой?
Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни. Всё же человечество, делающее жизнь, миллионы – не сомневаются в смысле жизни.
В самом деле, с тех давних, давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Всё, что есть во мне и около меня, всё это – плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, всё это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они – бессмыслица! «Тут что-то не так, – говорил я себе. – Где-нибудь я ошибся». Но в чем была ошибка, я никак не мог найти.
VIII
Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или менее связно, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что, как ни логически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал; я чувствовал только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, т. е. чтоб я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть всё человечество, что жизни человечества я еще не знаю.
Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавших вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и прекращавших жизнь и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей, к которому я принадлежал, составляет всё человечество, а что те миллиарды живших и живых, это – так, какие-то скоты – не люди.
Как ни странно, ни неимоверно-непонятно кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружавшую меня со всех сторон жизнь человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, Соломонов и Шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума мне так казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно и истинно, что другого ничего быть не может, так несомненно казалось, что все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей глубины вопроса, что я искал смысла своей жизни и ни разу не подумал: «да какой же смысл придают и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на свете?»
Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на деле, нам – самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидать, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать – это повеситься, я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидал совершенно другое. Я увидал, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их непонимающими вопроса я не могу, потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их слагается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном, ложном знании.
Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, всё человечество – признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это бог 1 и 3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и всё то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума.
Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере – ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл.
IX
Выходило противоречие, из которого было только два выхода: или то, что я называл разумным, не было так разумно, как я думал; или то, что мне казалось неразумно, не было так неразумно, как я думал. И я стал проверять ход рассуждений моего разумного знания.
Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидал ошибку. Ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот: зачем мне жить, т. е. что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я изучал жизнь.
Решения всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя требование объяснения конечного бесконечным и наоборот.
Я спрашивал: какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? – А отвечал я на вопрос: какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: никакого.
В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, а потому у меня и выходило, что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти.
Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тожество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: а = а, или х = х, или 0 = 0. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, – только тожества.
И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит всё вновь на законах разума и опыта, – и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил, – ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ – ответ Шопенгауэра: жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но, разобрав дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго выраженный, как он выражен и у браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тожество: 0 = 0, жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным.
Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что, как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою, они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? ответ: по закону божию. Что выйдет настоящего из моей жизни? – Вечные мучения или вечное блаженство. – Какой смысл, не уничтожаемый смертью? – Соединение с бесконечным богом, рай.
Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, вследствие того, возможность жить.
Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на всё человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся: я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера.
Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидал одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.
Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, – смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит – в одной вере можно найти смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера, – вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понимает призрачности конечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить.
И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнивалось бы бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было не нужно, пока я верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума всё прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, такое объяснение, которое дало бы смысл жизни; но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что 0 = 0, и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти.
Что я делал, когда я искал ответа в знаниях опытных?– Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал всё то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но ничего из того, что мне нужно.
Что я делал, когда я искал ответа в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос: зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя.
Что такое я? – часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса – вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти?
Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди есть, понято, что для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор как люди есть, отысканы отношения конечного к бесконечному и выражены.
Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.
Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти.
Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, – разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем,– это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем с тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа.
Понятия бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла – суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу всё сам один сделать по-новому и по-своему.
Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если жизнь глупа, – а я так люблю всё разумное, – то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет 0 = 0, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.
X
Я понимал это, но от этого мне было не легче.
Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня.
Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни.
Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, – я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей.
Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и потерю моей надежды найти в их вере объяснение, смысла жизни.
Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей, – не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это по тому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.
Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видал такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но никогда между так называемыми верующими нашего круга.
И я понял, что вера этих людей – не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы всё человечество могло жить, для того чтоб оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни.
И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимоверующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем ненужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, – они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей, проходила в тяжелом труде, и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противуположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью в том, что всё это должно быть и не может быть иначе, что всё это – добро. В противуположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противуположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть неспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа. И таких людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, – многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я вгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно противуположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.
И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства – всё это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысла в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его.
XI
И вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались бессмысленными, когда их исповедывали люди, жившие противно этим верованиям, и как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я видел, что люди живут ими, – я понял, почему я тогда откинул эти верования и почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла. Я понял, что я заблудился и как я заблудился. Я заблудился не столько оттого, что неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил дурно. Я понял, что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло, – был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще: я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ: зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь – жизнь потворства похоти – была бессмысленна и зла, и потому ответ: «жизнь зла и бессмысленна» – относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – разум для того, чтобы понять ее. Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как 2 × 2 = 4, но я не признавал ее, потому что, признав 2 × 2 = 4, я бы должен был признать то, что я нехорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем 2 × 2 = 4. Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне всё ясно стало.
Что, если бы палач, проводящий жизнь в пытках и отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, засевший на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее, – что, если б они спросили себя: что такое жизнь? Очевидно, они не могли, бы получить на вопрос: что такое жизнь,– другого ответа, как тот, что жизнь есть величайшее зло; и ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, но для него только. Что, как я такой же сумасшедший? Что, как мы все, богатые, ученые люди, такие же сумасшедшие?
И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж наверное был такой сумасшедший. И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, – ему надо добывать ее не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою тридцатилетнюю сознательную жизнь? – Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ: ни зачем. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, тридцать лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и была бессмыслица и зло.
Жизнь мира совершается по чьей-то воле, – кто-то этою жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее – делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее – чего хотят от всех нас и от всего мира.
Если голого, голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то очевидно, что прежде, чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам; тогда его выведут из крытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего и, переходя от низшего дела к высшему, всё дальше и дальше понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина.
Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю, люди простые, рабочие, неученые, те, которых мы считаем скотами; а мы вот, мудрецы, есть едим всё хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо того, чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем: «Зачем это двигать палкой? Ведь это глупо». Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, а мы умны, только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться.
XII
Сознание ошибки разумного знания помогло мне освободиться от соблазна праздного умствования. Убеждение в том, что знание истины можно найти только жизнью, побудило меня усомниться в правильности моей жизни; но спасло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидать жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понял, что если я хочу понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его.
В это же время со мною случилось следующее. Во всё продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, – во всё это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием бога.
Я говорю, что это искание бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, – оно было даже прямо противоположно им, – но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь.
Несмотря на то, что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя), я все-таки искал бога, надеялся на то, что я найду его, и обращался по старой привычке с мольбой к тому, чего я искал и не находил. То я проверял в уме доводы Канта и Шопенгауэра о невозможности доказательства бытия божия, то я начинал опровергать их. Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. И эта причина всего есть то, что называют богом; и я останавливался на этой мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я сознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни. Но я спрашивал себя: «Что же такое эта причина, эта сила? Как мне думать о ней, как мне относиться к тому, что я называю богом?» И только знакомые мне ответы приходили мне в голову: «Он – творец, промыслитель». Ответы эти не удовлетворяли меня, и я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни. Я приходил в ужас и начинал молиться тому, которого я искал, о том, чтоб он помог мне. И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет бога, я говорил: «Господи, помилуй, спаси меня! Господи, научи меня, бог мой!» Но никто не миловал меня, и я чувствовал, что жизнь моя останавливается.
Но опять и опять с разных других сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? – Опять бог.
«Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования бога я переходил к отыскиванию отношения к нему, и опять мне представлялся тот бог, наш творец, в трех лицах, приславший сына – искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и опять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И, что было хуже всего, я чувствовал, что и этого я не могу сделать.
Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения – то радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни.
Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал всё об одном, как я постоянно думал всё об одном и том же эти последние три года. Я опять искал бога.
«Хорошо, нет никакого бога, – говорил я себе, – нет такого, который бы был не мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь; нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное».
«Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? – спросил я себя. – Понятие-то это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Всё вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие бога – не бог, – сказал я себе. – Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять всё стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя.
Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о боге, и я живу; стоит забыть, не верить в него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? – вскрикнул во мне голос.– Так вот он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь.
«Живи, отыскивая бога, и тогда не будет жизни без бога». И сильнее чем когда-нибудь всё осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня.
И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая, – та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего всё человечество, т. е. я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда всё это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить.
Со мной случилось как будто вот что: Я не помню, когда меня посадили в лодку, оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал, как умел, веслами и плыл; но чем дальше я выплывал на середину, тем быстрее становилось течение, относившее меня прочь от цели, и тем чаще и чаще мне встречались пловцы, такие же, как я, уносимые течением. Были одинокие пловцы, продолжавшие грести; были пловцы, побросавшие весла; были большие лодки огромные корабли, полные народом; одни бились с течением, другие отдавались ему. И чем дальше я плыл, тем больше, глядя на направление вниз, по потоку всех плывущих, я забывал данное мне направление. На самой середине потока, в тесноте лодок и кораблей, несущихся вниз, я уже совсем потерял направление и бросил весла. Со всех сторон с весельем и ликованием вокруг меня неслись на парусах и на веслах пловцы вниз по течению, уверяя меня и друг друга, что и не может быть другого направления. И я поверил им и поплыл с ними. И меня далеко отнесло, так далеко, что я услыхал шум порогов, в которых я должен был разбиться, и увидал лодки, разбившиеся в них. И я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось. Я видел перед собой одну погибель, к которой я бежал и которой боялся, нигде не видел спасения и не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, которые, не переставая, упорно перебивали течение, вспомнил о береге, о веслах и направлении и стал выгребаться назад вверх по течению и к берегу.
Берег – это был бог, направление – это было предание, весла – это была данная мне свобода выгрестись к берегу – соединиться с богом. Итак, сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить.
XIII
Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле бога. И бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, переданного и передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе, и выражающимся в легендах, пословицах, рассказах. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано у нашего не раскольничьего народа, среди которого я жил, много такого, что отталкивала меня и представлялось необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. Отделить одно от другого народ не может, не мог и я. Как ни странно мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял всё, ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой не противился ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, теперь не возбуждало во мне противления.
Отношение мое к вере теперь и тогда было совершенно различное. Прежде сама жизнь казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением каких-то совершенно ненужных мне неразумных и не связанных с жизнью положений. Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения, и, убедившись, что они не имеют его, откинул их. Теперь же, напротив, я твердо знал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не только не представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, что только эти положения веры дают смысл жизни. Прежде я смотрел на них как на совершенно ненужную тарабарскую грамоту, теперь же, если я не понимал их, то знал, что в них смысл, и говорил себе, что надо учиться понимать их.
Я делал следующее рассуждение. Я говорил себе: знание веры вытекает, как и всё человечество с его разумом, из таинственного начала. Это начало есть бог, начало и тела человеческого, и его разума. Как преемственно от бога дошло до меня мое тело, так дошли до меня мой разум и мое постигновение жизни, и потому все те ступени развития этого постигновения жизни не могут быть ложны. Всё то, во что истинно верят люди, должно быть истина; она может быть различно выражаема, но ложью она не может быть, и потому если она мне представляется ложью, то это значит только то, что я не понимаю ее. Кроме того, я говорил себе: сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Естественно, что для того, чтобы вера могла отвечать на вопрос умирающего в роскоши царя, замученного работой старика-раба, несмышленого ребенка, мудрого старца, полоумной старухи, молодой счастливой женщины, мятущегося страстями юноши, всех людей при самых разнообразных условиях жизни и образования, – естественно, если есть один ответ, отвечающий на вечный один вопрос жизни: «зачем я живу, что выйдет из моей жизни?» – то ответ этот, хотя единый по существу своему, должен быть бесконечно разнообразен в своих проявлениях; и чем единее, чем истиннее, глубже этот ответ, тем, естественно, страннее и уродливее он должен являться в своих попытках выражения, сообразно образованию и положению каждого. Но рассуждения эти, оправдывающие для меня странность обрядовой стороны веры, были все-таки недостаточны для того, чтобы я сам, в том единственном для меня деле жизни, в вере, позволил бы себе делать поступки, в которых бы я сомневался. Я желал всеми силами души быть в состоянии слиться с народом, исполняя обрядовую сторону его веры; но я не мог этого сделать. Я чувствовал, что я лгал бы перед собой, насмеялся бы над тем, что для меня свято, если бы я делал это. Но тут мне на помощь явились новые, наши русские богословские сочинения.
По объяснению этих богословов основной догмат веры есть непогрешимая церковь. Из признания этого догмата вытекает, как необходимое последствие, истинность всего исповедуемого церковью. Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. Я говорил себе, что божеская истина не может быть доступна одному человеку, она открывается только всей совокупности людей, соединенных любовью. Для того чтобы постигнуть истину, надо не разделяться; а для того чтобы не разделяться, надо любить и примиряться с тем, с чем несогласен. Истина откроется любви, и потому, если ты не подчиняешься обрядам церкви, ты нарушаешь любовь; а нарушая любовь, ты лишаешься возможности познать истину. Я не видал тогда софизма, находящегося в этом рассуждении. Я не видал тогда того, что единение в любви может дать величайшую любовь, но никак не богословскую истину, выраженную определенными словами в Никейском символе, не видал и того, что любовь никак не может сделать известное выражение истины обязательным для единения. Я не видал тогда ошибки этого рассуждения и благодаря ему получил возможность принять и исполнять все обряды православной церкви, не понимая большую часть их. Я старался тогда всеми силами души избегать всяких рассуждений, противоречий и пытался объяснить, сколько возможно разумно, те положения церковные, с которыми я сталкивался.
Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело всё человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа. Кроме того, самые действия эти не имели в себе ничего, дурного (дурным я считал потворство похотям). Вставая рано к церковной службе, я знал, что делал хорошо уже только потому, что для смирения своей гордости ума, для сближения с моими предками и современниками, для того, чтобы, во имя искания смысла жизни, я жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говении, при ежедневном чтении молитв с поклонами, то же при соблюдении всех постов. Как ни ничтожны были эти жертвы, это были жертвы во имя хорошего. Я говел, постился, соблюдал временные молитвы дома и в церкви. В слушании служб церковных я вникал в каждое слово и придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были: «возлюбим друг друга да единомыслием…» Дальнейшие слова: «исповедуем отца и сына и святого духа» – я пропускал, потому что не мог понять их.
XIV
Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если ектения всё яснее и яснее становилась для меня в главных своих словах, если я объяснял себе кое-как слова: «пресвятую владычицу нашу богородицу и всех святых помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу богу предадим», – если я объяснял частое повторение молитв о царе и его родных тем, что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то молитвы о покорении под нози врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг есть зло, – молитвы эти и другие, как херувимская и всё таинство проскомидии или «взбранной воеводе» и т. п., почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к богу, теряя совершенно всякую возможность веры.
То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение к богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме Рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесенье, Пятидесятница, Богоявленье, Покров и т. д. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокоивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видать того, что соблазняет меня.
Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, считаемых самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне соблазнительными, и я был поставляем в дилемму—или лгать, или отбросить.
Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила – всё это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.
Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я и не подумал этого, мне только было невыразимо больно. Я уже не был в том положении, в каком я был в молодости, думая, что всё в жизни ясно; я пришел ведь к вере потому, что помимо веры я ничего, наверное ничего, не нашел, кроме погибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился. И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз.
Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и всё еще верил, что в том вероучении, которому я следовал, была истина, и со мною происходило то, что теперь мне ясно, но тогда казалось странным.
Слушал я разговор безграмотного мужика странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я всё больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четьи-Минеи и Прологов; это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о монахе, нашедшем золото, о Петре мытаре; там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви.
Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.
XV
Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде.
Так я жил года три, и первое время, когда я, как оглашенный, только понемногу приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я говорил себе: «я виноват, я дурен». Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которым я учился, чем более они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения и, тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою.
Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов церковью – противное самым основам той веры, которою я жил, – окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были, во-первых, отношение церкви православной к другим церквам – к католичеству и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? – То учение, которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола, и что мы одни в обладании единой возможной истины. И я увидал, что всех, не исповедующих одинаково с ними веру, православные считают еретиками, точь-в-точь так же, как католики и другие считают православие еретичеством; я увидал, что ко всем, не исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие, – православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно быть, во-первых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, во-вторых, потому, что человек, любящий детей и братьев своих, не может не относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру ложную. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести.
Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и видавшим то презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту, и протестант к обоим, и такое же отношение старообрядца, пашковца, шекера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. Говоришь себе: да не может же быть, чтобы это было так просто, и все-таки люди не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет той единой истины, какою должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть какое-нибудь объяснение, – я и думал, что есть, и отыскивал это объяснение, и читал всё, что мог, по этому предмету, и советовался со всеми, с кем мог. И не получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что всё, что они могут, это молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один только из них разъяснил мне всё, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не спрашивал.
Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере (а подлежит этому обращению всё наше молодое поколение), этот вопрос представляется первым: почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии? Его учат в гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, католик так же точно утверждают единую истинность своей веры. Исторические доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. Нельзя ли, – говорил я, – выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуия и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали: вы верите в Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь с католиками нельзя ли сказать: вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к filioque19 и папе делайте, как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном? Собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной власти – блюсти во всей чистоте грекороссийскую православную веру, переданную ей от предков.
И я всё понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие дела, они и исполняют их по-человечески. Сколько бы ни говорили они о своем сожалении о заблудших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола всевышнего, – для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Если два исповедания считают себя в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут проповедывать свое учение. А если ложное учение проповедуется неопытным сынам церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может не сжечь книги, не удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем ложной, по мнению православия, веры сектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняет сынов церкви? Что же с ним делать, как не отрубить ему голову или не запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре, т. е. по времени прилагали высшую меру наказания; в наше время прилагают тоже высшую меру – запирают в одиночное заключение. И я обратил внимание на то, что делается во имя вероисповедания, и ужаснулся, и уже почти совсем отрекся от православия. Второе отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням.
В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквах молились об успехе нашего оружия, и учители веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на всё то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся.
XVI
И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не всё истина. Прежде я бы сказал, что всё вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И всё то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви, – я всё-таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине.
Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь, и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь, и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании и писании.
И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого писания и предания, – исследованию, которого я так боялся до сих пор.
И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, но деваться некуда. На этом вероучении зиждется, или по крайней мере неразрывно связано с ним, то единое знание смысла жизни, которое открылось мне. Как ни кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, это – одна надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того, чтобы понять его, даже и не то, что понять, как я понимаю положение науки. Я этого не ищу и не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно-необъяснимому; я хочу, чтобы всё то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить.
Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано.
–
Это было написано мною три года тому назад.
Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидал сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе всё то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно всё то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон: Вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени – на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. – Тут только я спрашиваю себя то, чего прежде мне и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело, и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.
Я не могу даже разобрать – вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновенье, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что я вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» и я гляжу всё дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню всё, что было, и вспоминаю, как это всё случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу всё так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Всё это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДОГМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
Я был приведен к исследованию учения о вере православной церкви неизбежно. В единении с православной церковью я нашел спасенье от отчаяния. Я был твердо убежден, что в учении этом единая истина, но многие и многие проявления этого учения, противные тем основным понятиям, которые я имел о боге и о его законе, заставили меня обратиться к изучению самого учения.
Я не предполагал еще, чтобы учение было ложное; я боялся предполагать это, ибо одна ложь в этом учении разрушала всё учение. И тогда я терял ту главную точку опоры, которую я имел в церкви как носительнице истины, как источнике знания того смысла жизни, которого я искал в вере. И я стал изучать книги, излагающие православное вероучение. Во всех этих сочинениях, несмотря на различие некоторых подробностей и некоторое различие в последовательности, учение одно и то же – одна и та же связь между частями, одна и та же основа.
Я прочел и изучил эти книги, и вот то чувство, которое я вынес из этого изучения. Если бы я не был приведен жизнью к неизбежному признанию необходимости веры, если бы я не видел, что вера эта служит основой жизни всех людей, если бы в моем сердце это расшатанное жизнью чувство не укрепилось вновь, если бы основой моей веры было только доверие, если бы во мне была только та самая вера, о которой говорится в богословии («научены верить»), я бы, прочтя эти книги, не только стал бы безбожником, но сделался бы злейшим врагом всякой веры, потому что я нашел в этом учении не только бессмысленность, но сознательную ложь людей, избравших веру средством для достижения каких-то своих целей.
Чтение этих книг стоило мне огромного труда, не столько по тому усилию, которое я делал, чтобы понять связь между выражениями, ту, которую видели в них пишущие эти книги, сколько по той внутренней борьбе, которую я должен был постоянно вести с собой, чтобы, читая эти книги, воздерживаться от негодования.
Я прочел все наши катехизисы – Филарета, Платона и др., прочел послание восточных патриархов, потом православное исповедание Петра Могилы, прочел изложение православной веры Иоанна Дамаскина и, наконец, свод всего этого – Введение в богословие Макария, потом самое Догматическое богословие того же Макария. Я долго колебался о том, какую из этих книг признать за основную, содержащую всё учение и, следовательно, какую из них анализировать. Hо, прочтя по нескольку раз их все, я, наконец, убедился, что они все содержат одно и то же и что разница только в полноте изложения. Позднейшие полнее ранних. Содержание же и последовательность совершенно одна и та же. Все эти книги суть только амплификации символа веры. Самая позднейшая и полнейшая и пользующаяся наибольшим распространением из этих изложений есть Богословие Макария, и потому я для разбора избрал его. Исследуя это сочинение, я исследую и символ веры и все катехизисы, и Дамаскина, ибо Догматическое богословие включает в себя всё это.
Очень долго я бился над этой книгой, отыскивая тот тон, в котором следует разбирать ее. Серьезный, научный тон, тот самый, которым написаны эти книги, особенно новейшие, как Богословие Макария, при разборе этих книг был невозможен. Нельзя было разбирать эту книгу так, как разбираются научные изложения. В каждом научном изложении есть внутренняя связь частей, в этом же сочинении такой связи нет, и потому необходимо следить за ней механически – глава за главою. Но мало того, что нет связи в самых частях изложения, очень редко удается схватить ту внешнюю связь, которою в представлении пишущего связывается одна мысль с другою. Только что хочешь ухватиться за мысль, чтобы обсудить ее, как она тотчас выскальзывала именно потому, что она выражена была умышленно неясно; и невольно возвращаешься к анализу самого выражения мысли. Рассматривая же выражение мысли, находишь, что выражения умышленно неточны и запутаны. Слова все не имеют того смысла, который они имеют обыкновенно в языке, а какой-то особенный, но такой, определение которого не дано. Определение или разъяснение мысли всегда если и бывает, то бывает в обратном смысле: для определения или разъяснения слова мало понятного употреблялось слово или слова, совершенно непонятные. Я долго не позволял себе отрицать того, чего я не понимаю, и всеми силами души и ума старался понять это учение так, как понимали его те, которые говорили, что верили в него, и требовали, чтобы все так же верили. И это было тем труднее для меня, чем подробнее и мнимо научнее излагалось учение.
С чтением символа веры по-славянски, в том дословном переводе с неясного греческого текста, я мог еще кое-как соединять свои понятия о вере, но при чтении Послания восточных патриархов, уже более подробно выражающих те же догматы, я уже не мог соединять своих понятий веры и почти не мог понимать того, что разумелось под словами, которые я читал. С чтением катехизиса это несогласие и непонимание мое еще увеличились. При чтении Богословия сначала Дамаскина, а потом Макария непонимание и несогласие эти дошли до высшей степени; но зато тут я начал понимать ту внешнюю связь, которой соединялись эти слова, и тот ход мысли, который руководил теми, кто установили эти положения, и ту причину, по которой мне невозможно согласиться с ними. Я долго трудился над этим и, наконец, достиг того, что выучил богословие, как хороший семинарист, и могу, следуя ходу мысли, руководившей составителей, объяснить основу всего, связь между собой отдельных догматов и значение в этой связи каждого догмата и, главное, могу объяснить, для чего избрана именно такая, а не иная связь, кажущаяся столь странною.
И, достигнув этого, я понял и весь смысл учения и ужаснулся. Я понял, что всё это вероучение есть искусственный (посредством самых внешних неточных признаков) свод выражений верований самых различных людей, несообразных между собой и взаимно друг другу противоречащих. Я понял, что соединение это никому не может быть нужно, никто никогда не мог верить и не верил во всё это вероучение, и что потому для невозможного соединения этих различных вероучений в одно и проповедывания их как истину должна быть какая-нибудь внешняя цель. Я понял и эту цель. Я понял и отчего это учение там, где оно преподается, – в семинариях – производит наверно безбожников, понял и то странное чувство, которое я испытывал, читая эту книгу.
Я читывал так называемые кощунственные сочинения Вольтера, Юма, но никогда я не испытывал того несомненного убеждения в полном безверии человека, как то, которое я испытывал относительно составителей катехизисов и богословии. Читая в этих сочинениях приводимые из апостолов и так называемых отцов церкви те самые выражения, из которых слагается богословие, видишь, что это – выражения людей верующих, слышишь голос сердца, несмотря на неловкость, грубость, часто ложность выражения; когда же читаешь слова Дамаскина, Филарета или Макария, то ясно видишь, что составителю дела нет до сердечного смысла приводимого им выражения, он не пытается даже понимать его; ему нужно только случайно попавшееся слово для того, чтобы прицепить этим словом мысль апостола к выражению Моисея или нового отца церкви. Ему нужно только составить свод такой, при котором бы казалось, что всё, что только написано во всех так называемых священных книгах и у всех отцов церкви, написано только затем, чтобы оправдать символ веры.
И я понял, наконец, что всё это вероучение, то, в котором мне казалось тогда, что выражается вера народа, что всё это не только ложь, но сложившийся веками обман людей неверующих, имеющий определенную и низменную цель.
Излагаю это вероучение по символу веры, Посланию восточных патриархов, катехизису Филарета, преимущественно же по Догматическому богословию Макария, книге, признанной православною нашею церковью за самую лучшую.
ГЛАВА I
«Догматическое богословие. Часть I. Введение». Введение состоит из изложения 1) цели, 2) предмета, 3) происхождения православных христианских догматов, 4) деления догматов, 5) характера плана и метода и 6) очерка истории науки догматического богословия.
Хотя введение это и не говорит о самом предмете, его нельзя пропустить, так как оно определяет вперед то, что будет излагаться во всей книге и как будет излагаться. Вот первые параграфы:
§ 1. Православно-догматическое богословие, понимаемое в смысле науки, должно изложить христианские догматы в систематическом порядке с возможною полнотою, ясностью и основательностью и притом не иначе, как по духу православной церкви.
§ 2. Под именем христианских догматов разумеются откровенные истины, преподаваемые людям церковью, как непререкаемые и неизменные правила спасительной веры (стр. 7).
Далее изложено, что откровенными истинами называются истины, находящиеся в предании и писании. Предание и писание признаются истинными потому, что церковь признает их таковыми. Церковь же признается истинной потому, что она признает эти самые предание и писание.
§ 3. Из представленного понятия о христианских догматах открывается, что они все имеют происхождение божественное. Следовательно, ни умножать, ни сокращать их в числе, ни изменять и превращать каким бы то образом ни было, никто не имеет права; сколько их открыто богом в начале, столько и должно оставаться на все времена, пока будет существовать христианство (стр. 13).
«Открыто в самом начале». Что такое значит: открыто в самом начале – не сказано. В начале мира или начале христианства? И в том и другом случае, когда было это начало? Сказано, что догматы не появились один за другим, но явились все вместе в начале, но когда было это начало – не сказано ни здесь, ни во всей книге. Далее (стр. 13, 14):
Но, пребывая неизменными в самом откровении как по числу, так и по существу своему, догматы веры тем не менее должны раскрываться и раскрываются в церкви по отношению к верующим.
С тех самых пор, как люди начали усвоять cебе догматы, преподанные в откровении, и низводить их в круг своих понятии, эти священные истины неизбежно стали разнообразиться в понятиях разных неделимых (так бывает со всякой истиной, когда она становится достоянием людей) – неизбежно должны были явиться и явились разные мнения, разные недоумения насчет догматов, разные даже искажения догматов или ереси, намеренные и ненамеренные. Чтобы предохранить верующих от всего этого, чтобы показать им, чему именно и как они должны веровать на основании откровения, церковь с самого начала предлагала им, по преданию от самих св. апостолов, краткие образцы веры или символы.
Догматы неизменны по числу и существу и открыты с начала, и, вместе с тем, они должны раскрываться. Это непонятно. И еще более непонятно то, что прежде говорилось просто «в начале», и мы подразумевали это начало, как и разумеет богословие в Ветхом Завете, началом всего; теперь же начало относится к началу христианства. Кроме того, из этих слов выходит тот самый смысл, который сначала отрицал писатель. Там говорилось, что с начала всё открыто, а тут говорится, что догматы раскрываются в церкви, и под конец говорится, что церковь с самого начала (чего-то) не предложила, а предлагала, по преданию от апостолов, краткие образцы веры, или символы, т. е. является противоречие внутреннее. Очевидно, под словом «догмат» разумеются два взаимно исключающие понятия. Догмат, по определению богословия, есть истина, преподаваемая церковью. Догматы, по этому определению, могут раскрываться, как и говорит писатель, т. е. появляться, видоизменяться, усложняться, как оно было и есть в действительности. Но писатель, очевидно определив догмат неточно, сказав, вместо преподавания того, что считается истиной – преподавание истины, и даже сказав просто: догмат есть истина веры, дал догмату еще другое значение, исключающее первое, и был невольно вовлечен в противоречие. Но противоречие это нужно писателю. Ему нужно понимать под догматом истину саму в себе, абсолютную истину, и истину, выраженную известными словами, – нужно затем, чтобы, преподавая то, что церковь считает истиною, можно бы было утверждать, что то, что она преподает, есть эта самая абсолютная истина. Это ложное рассуждение важно не только потому, что оно неизбежно приводит к противоречию и исключает всякую возможность разумного изложения, но оно важно еще и потому, что оно невольно возбуждает сомнение к последующему изложению. Ведь догмат, по определению церкви, есть откровенная богом истина, преподаваемая церковью для спасительной веры. Я – человек божий. Бог, открывая истину, открывал ее и мне. Я ищу спасительной веры. И то, что я говорю про себя, говорили и говорят миллиарды людей. Так преподайте мне эти богом откровенные истины (открытые для меня так же, как и для вас). Как же я не поверю в эти истины, не приму их? Я только этого и ищу. И они божеские. Так и преподайте мне их. Нечего бояться, чтобы я отверг их. А церковь как будто боится, чтобы я не отверг то, что нужно для моего спасения, и хочет вперед заставить меня признать, что все эти догматы, которые мне будут преподаны, суть истины. Да в том, что истина то, что открыл бог людям, ищущим его, не может быть сомненья. Давайте мне эти истины. А тут, вместо этих истин, делается умышленно неправильное рассуждение, клонящееся к тому, чтобы вперед уверить меня, что всё, что мне скажут, всё будет истина. Рассуждение это, вместо того чтобы покорить меня истине, производит на меня обратное действие. Мне очевидно, что рассуждение неправильно, и очевидно, что меня хотят уловить вперед в доверие тому, что мне скажут. Но почем я знаю, что то, что мне преподадут как истину, не будет ложь? Я знаю, что и в догматическом богословии, и в катехизисе, и у восточных патриархов, и даже в символе веры в числе догматов есть догмат о святой, непогрешимой, руководимой св. духом церкви, которая есть хранительница догматов. Если догматы не могут излагаться сами собой, а только опираясь на догмат церкви, то надо и начинать с догмата церкви. Если всё на нем основано, то так надо и сказать и с него и начинать, а не ставить с 1-го параграфа, так, как здесь, догмат церкви основой всего, упоминая о нем только между прочим, как о чем-то известном, и не так, как в катехизисе Филарета в III главе, где говорится, что божие откровение сохраняется в церкви посредством предания, а предание хранится церковью. Церковь же составляют все, соединенные верою в предание, и они-то, соединенные преданием, хранят предание. Предание всегда хранится теми, которые верят в это предание. Это всегда так. Но справедливо ли оно, не ложь ли? И то старание, с которым, не сказав ничего о самых догматах, хотят уловить вперед мое согласие на всякий догмат, заставляет меня быть настороже.
Я не говорю того, что я не верю в святость и непогрешимость церкви. Я даже в то время, как начал это исследование, вполне верил в нее, в одну ее (казалось мне, что верил). Но надо знать, что разуметь под церковью, и во всяком случае, если основывать всё учение на догмате церкви, то и начинать с него, как это делал Хомяков. Но если не начинать с догмата церкви, а с догмата бога, как это есть в символе веры, в Послании восточных патриархов, в катехизисе и во всех догматических богословиях, то надо излагать самые существенные догматы – откровенные от бога людям истины. Я – человек; бог и меня имел в виду. Я ищу спасения, как же я не приму того единого, чего ищу всеми силами души. Я не могу не принять их, наверно приму их. Если единение мое с церковью закрепит их – тем лучше. Скажите мне истины так, как вы знаете их, скажите хоть так, как они сказаны в том символе веры, который мы все учили наизусть; если вы боитесь, что, по затемненности и слабости моего ума, по испорченности моего сердца, я не пойму их, помогите мне (вы знаете эти истины божии, вы, церковь, учите нас), помогите моему слабому уму; но не забывайте, что что бы вы ни говорили, вы будете говорить все-таки разуму. Вы будете говорить истины божии, выраженные словами, а слова надо понимать опять-таки только умом. Разъясните эти истины моему уму, покажите мне тщету моих возражений, размягчите мое зачерствелое сердце неотразимым сочувствием и стремлением к добру и истине, которые я найду в вас, а не ловите меня словами, умышленным обманом, нарушающим святыню предмета, о котором вы говорите. Меня трогает молитва трех пустынников, про которых говорит народная легенда. Они молились к богу: «трое вас, трое нас, помилуй нас». Я знаю, что их понятие бога неверно, но меня тянет к ним, хочется подражать им, как хочется смеяться, глядя на смеющихся, и зевать – на зевающих, потому что я чувствую всем сердцем, что они ищут бога и не видят ложности своего выражения. Но софизмы, умышленный обман, чтобы поймать в свою ловушку неосторожных и нетвердых разумом людей, отталкивают меня.
В самом деле, предстоит изложение истин, открытых о боге, о человеке, о спасении. Люди знают это, и, вместо того чтобы излагать то, что они знают, они делают ряд ложных рассуждений, посредством которых хотят убедить, что всё, что они будут говорить о боге, о человеке, о спасении, всё будет выражено так, что уже нельзя иначе выразить и нельзя не верить всему тому, что они мне скажут. Может быть, вы изложите мне богооткровенную истину, но приемы, с которыми вы приступаете к изложению ее, это те самые, с которыми приступают к изложению заведомой лжи.
Но посмотрим же самые истины, в чем состоят они и как выражаются.
ГЛАВА II
В символе веры, в Послании восточных патриархов, в катехизисе Филарета, у Дамаскина и в Догматическом богословии первый догмат есть догмат о боге. Заглавие общее первой части: «О боге в самом себе и общем отношении его к миру и человеку» (θεολογία ἁπλῆ, простое богословие). Это заглавие первой части. Вторая же часть будет «О боге спасителе и особенном отношении его к человеческому роду» (Θεολογία οἰϰονομικὴ – богословие домостроительства).
Если я знаю что-нибудь о боге, если имел какое-нибудь понятие, то одни эти два заглавия двух частей разрушают всё мое знание бога. Я не могу соединить своего понятия о боге с понятием о боге, для которого есть два различные отношения к человеку: одно – общее и другое – особенное. Понятие особенное, приложенное к богу, разрушает мое понятие о боге. Если бог – тот бог, которого я разумел и разумею, то он не может иметь никакого особенного отношения к человеку. Но, может быть, я не так понимаю слова, или понятия мои неверны. Читаю дальше о боге.
«Отдел первый. О боге в самом себе». Итак, я жду выражения той, богом откровенной людям для спасения их, истины о боге, которая известна церкви. Но прежде изложения этой откровенной истины я встречаю § 9, говорящий о степени нашего познания о боге по учению церкви. Параграф этот, так же как и введение, не говорит о самом предмете, но так же готовит меня к тому, как понимать то, что будет изложено:
Всё учение свое о боге в символе веры православная церковь начинает словом: верую… и первый догмат, какой она хочет внушить нам, состоит в следующем: «Бог непостижим для человеческого разума: люди могут познавать его лишь отчасти, – столько, сколько он сам благоволил открыть себя для их веры и благочестия». Истина непререкаемая (стр. 66).
Для тех, которые не привыкли к этому роду изложения, я должен разъяснить (так как я сам долго не понимал этого), что под непререкаемой истиной должно разуметь не то, что бог непостижим, а то, что он не постижим, но постижим отчасти. Истина непререкаемая в том, что бог непостижим и вместе постижим, но отчасти. В этом истина. Эта истина, говорится дальше (стр. 66 и 67),
ясно изложена в св. писании и подробно раскрыта в писаниях св. отцов и учителей церкви, на основании даже здравого разума.
Свящ. книги проповедуют, с одной стороны: а) что бог «во свете живет неприступнем, его же никтоже видел есть от человек ниже видети может» (1 Тим. 6, 16); б) что не только для людей, но и для всех существ сотворенных, неведомо существо его, «неиспытани судове его и неисследовани путие его» (Римл. 11, 33—34; снес. Иоан. 1, 18; 1 Иоан. 4, 12; Сирах. 18, 3—4) и в) что бога вполне знает только один бог: «кто бо весть от человек, яже в человеце, точию дух человека, живущий в нем, такожде и божия никтоже весть, точию дух божий» (1 Кор. 2, 11), и «никтоже знает сына, токмо отец, ни отца кто знает, токмо сын» (Мф. 11, 27). Но, с другой стороны, священные книги возвещают нам, что невидимый и непостижимый сам благоволил явить себя людям.
Вот эти тексты:
а) В творении: «невидимая бо его от создания мира творенми помышляема видима суть и присносущная сила его и божество» (Римл. 1, 20; снес. Пс. 18, 2—5; Прем. 13, 1—5), а еще более – б) в сверхъестественном откровении, когда «многочастне и многообразне древле глаголал отцем во пророцех, в последок же дний возглаголал нам в сыне» (Евр. 1, 1—2; снес. Прем. 9, 16—19), и когда сей единородный сын божий, явившись на земле «во плоти» (1 Тим. 3, 16), «дал нам свет и разум, да познаем бога истинного» (1 Иоан. 5, 20) и потом проповедал свое учение чрез апостолов, ниспославши на них «духа истины», который «вся испытует и глубины божия» (Иоан. 14, 16—18; 1 Кор. 2, 10). Наконец, священные книги утверждают, что хотя таким образом сын божий, «сый в лоне отчи, и исповедал» нам бога, «его же никтоже виде нигдеже» (Иоан. 1, 18) (стр. 68).
Прошу читателя обратить внимание на неточность этого текста.
Но и ныне мы видим невидимого только якоже зерцалом в гадании, и ныне мы разумеем непостижимого только «отчасти» (1 Кор. 13, 12) (стр. 68).
Прошу читателя обратить внимание на неточность и этого текста.
И ныне мы верою ходим, а не видением (2 Кор. 5, 7) (стр. 67).
Все тексты эти приведены для того, чтобы доказать то, что бог непостижим, но постижим отчасти. Происходит опять умышленное смешение понятий. Писатель умышленно смешивает два понятия: постижимость существования бога и постижимость самого бога. Если мы говорим о начале всего, о боге, то очевидно, что мы признаем, постигаем его существование. Но если мы говорим о самом существе бога, то очевидно, что мы не можем постигнуть его. Если нам ничто в мире непостижимо вполне, то очевидно, что бог, начало всех начал, уже никак не может быть постигнут нами. Зачем же доказывать это? и доказывать так странно, приводя неточные слова Иоанна, которыми сказано, что бога никто нигде не видел, и неточные слова Павла, относящиеся совсем к другому, в доказательство постижимости бога отчасти. Странная тема эта и странные доказательства вытекают из того, что слово «постижимость» употребляется здесь и далее в двояком смысле: в смысле настоящем – постижимости, и в смысле знания, принятого на веру. Если бы писатель понимал постижимость как постижимость, он бы не доказывал, что мы постигаем бога отчасти, но он прямо признал бы, что мы постигнуть его не можем; но он под словом «постижимость» подразумевает здесь знание, принятое на веру, умышленно смешивая это понятие с понятием признания существования бога, и поэтому у него выходит, что мы можем постигнуть бога отчасти. Когда он приводит текст о том, что мы постигаем бога из его творений, он разумеет признание существования бога, но когда он приводит текст, что «бог глаголал отцам во пророках» и потом «в сыне», он разумеет знание, принятое на веру, как это и будет видно впоследствии. По этому же самому и текст Павла о том, что «мы ходим верою», приводится как доказательство постижимости, под которой разумеется знание, принятое на веру. Под постижимостью писатель то разумеет более или менее твердую уверенность в существовании бога, то большее или меньшее количество сведений о боге, хотя бы и вовсе непонятных, принятых на веру. Из дальнейшего это будет ясно. Далее говорится:
Св. отцы и учители церкви подробно раскрывали эту истину, особенно по случаю возникавших касательно ее еретических мнений (стр. 68).
Еретические мнения состоят, по мнению писателя, в том, что бог постижим вполне и вовсе непостижим. Истина же, по мнению писателя, в том, что бог непостижим и вместе с тем постижим отчасти. Хотя слово «отчасти» (έϰ μέρους) употреблено вовсе не к тому, о чем говорит писатель, и не имеет даже авторитета внешнего; хотя даже и слово это в том смысле, в котором оно употребляется здесь, никогда не употреблялось в свящ. писании, писатель настаивает на том, что бог постижим отчасти, подразумевая под этим: известен отчасти – как может быть вполне или отчасти известно что-нибудь постижимое.
Излагаются два мнения будто бы крайние еретиков: одних, которые говорили, что бог вполне постижим, и других, которые говорили, что бог вполне непостижим, и опровергается и то и другое мнение и излагаются доказательства в пользу непостижимости и постижимости. В сущности же ясно, что ни то, ни другое мнение, ни о полной непостижимости бога, ни о полной постижимости, не было и не могло быть выражено.
Во всех этих мнимых доводах за и против выражается одно то, что бог уже самым тем, что он называется, что о нем думается и о нем говорится, этим самым он признается существующим. Но вместе с тем, так как понятие бога не может быть иное, как понятие начала всего того, что познает разум, то очевидно, что бог, как начало всего, не может быть постижим для разума. Только идя по пути разумного мышления, на крайнем пределе разума можно найти бога, но, дойдя до этого понятия, разум уже перестает постигать. И это самое выражается во всех местах, приводимых как будто за и против постижимости бога из св. писания и св. отцов.
Из глубоких, искренних речей апостолов и отцов церкви, доказывающих непостижимость божию, выводится самым внешним образом словесная задача богословия – доказать, что бога нельзя постигать всего, но можно только отчасти. Но мало того, что рассуждение умышленно извращено, в этих страницах я в первый раз встретил прямое искажение не только смысла, но и слов священного писания. Настоящий текст Иоанна 1, 18:. «Бога никтоже виде нигдеже; единородный сын, сый в лоне отчи, той исповеда», передан своими словами. Из знаменитой 13-й главы первого послания Коринфянам, трактующей только о любви, взят один стих и в искаженном виде выписан в подтверждение своего тезиса.
Далее идут выписки из св. отцов (стр. 69). «Божество необходимо будет ограничено, если оно постигается мыслью: ибо и понятие есть вид ограничения», – говорит один из тех, которых богословие причисляет к защитникам непостижимости. «Непостижимым называю не то, что бог существует, но то, что он такое… Не обращай нашей искренности в повод к безбожию», – говорит Григорий Богослов, которого богословие причисляет к защитникам постижимости (стр. 73). Ириней говорит: «Мы не постигаем совершенно существ и предметов ограниченных, которые всегда перед нашими глазами, не постигаем своей души и соединения души с телом, как же нам понять бога?»
Из этого всего писатель заключает, что бога мы можем постигать «отчасти», подразумевая под словом «постигать» – принимать о нем сведения на веру, и приступает к изложению догматов, которые будут откровением о том, как постигать бога отчасти.
Как введение, так и этот 9-й параграф ничего еще не излагают о предмете, но готовят к изложению последующего. Цель этого параграфа, очевидно, состоит в том, чтобы приготовить читателя к тому, чтобы он, отрекшись от своего понятия бога как бога, как непостижимого по сущности начала всего, не смел бы отрицать те сведения о боге, которые будут ему переданы как истины, основанные на предании.
Заключается этот параграф выпиской из Иоанна Дамаскина, выражающей мысль всего:
Божество неизреченно и непостижимо. Ибо «никтоже знает отца, токмо сын, ни сына, токмо отец» (Мф. 11, 27). Так же и дух святый ведает божие, подобно как дух человеческий знает то, что в человеке (1 Кор. 2, 11). Кроме же первого и блаженного существа, никто никогда не познал бога, разве кому открыл сам бог, – никто, не только из человеков, но даже из премирных сил, из херувимов и серафимов. Впрочем, бог не оставил нас в совершенном о нем неведении. Ибо ведение о бытии божием сам бог насадил в природе каждого. И сама тварь, ее хранение и управление возвещают о величии (Прем. 13, 5) божества. Сверх того, сначала чрез закон и пророков, потом чрез единородного сына своего господа и бога и спаса нашего Иисуса Христа, бог сообщил нам познание о себе, поколику вместить можем (стр. 73).
В этом заключении, выражающем мысль всего, резко бросается в глаза внутреннее противоречие. В первой части сказано, что бога никто не может постигнуть, никто не знает путей его, целей его, и тут же во второй части заключения сказано: «Впрочем, бог не оставил нас в неведении, а через пророков, сына, апостолов» дал нам о себе не только понятие, «но и познание о себе, поколику вместить можем». Да ведь мы сказали, что не постигаем бога, а тут вдруг утверждается, что мы знаем даже его цели, – знаем, что он не хотел оставить нас в неведении, знаем средства, которые он употребил для достижения своей цели, знаем именно тех настоящих пророков и настоящего сына и настоящих апостолов, которых он послал, чтобы научить нас. Оказывается, что после того, как мы признали его непостижимость, мы вдруг узнали самые подробности его целей, его средств. Мы судим о нем, как о хозяине, который захотел известить о чем-нибудь своих рабочих. Одно из двух: или он непостижим – и тогда мы не можем знать его целей и действий, или он уже совсем постижим, если мы знаем его пророков и знаем, что пророки эти не ложные, а настоящие.
Так оно и выходит:
Посему всё, преданное нам законом, пророками, апостолами и евангелистами, мы принимаем, признаем и почитаем и более ничего не доискиваемся. Итак, бог, яко всеведущий и промышляющий о пользе каждого, открыл всё, что знать нам полезно, и умолчал о том, чего не можем вместить. Удовольствуемся сим и будем сего держаться, не прелагая вечных пределов и не преступая божественного предания (Притч. 22, 28) (стр. 73 и 74).
Но если так, то невольно спрашиваешь себя: почему эти пророки и апостолы были истинные, а не другие, те, которые считаются ложными? Выходит, что бог непостижим, познать его никто не может, но он передал познание о самом себе людям, но людям не всем, а пророкам и апостолам, и познание это хранится в свящ. предании, и ему одному мы должны верить, потому что оно одно истинное, оно – святая церковь, т. е. верующие в предание, соблюдающие предание.
При введении было то же самое. После длинных рассуждений о том, что есть догмат, дело всё свелось к тому, что догмат есть истина, потому что он преподается церковью, а церковь есть люди, соединенные верой в эти догматы. Здесь то же самое. Бога можно познать отчасти, немножко. Как это можно познать его немножко – знает одна церковь, и всё, что она скажет, всё это будет святая истина.
В вопросе о догмате было двойное определение догмата как абсолютной истины и как преподавания, и потому было противоречие в том, что то догмат был одна неизменная, раскрытая с самого начала истина, то догмат был преподавание церкви, постепенно развивавшееся. Здесь, в вопросе о постижимости, тоже слову «постижимость» приписывается двойное значение: значение постижимости и познаний, принятых на веру. Ни Иоанн Дамаскин, ни Филарет, ни Макарий не могут не видеть, что для большей постижимости должна быть большая ясность, а утверждение о том, что то, что мне говорится, говорится через людей, называемых церковью пророками, никак не может прибавить постижимости для разума, и что постигать отчасти можно только то, что постижимо, и потому они подставляют под понятие постижимости понятие познания и потом говорят, что познание это передано пророками, и вопрос о постижимости уже совершенно устраняется. Так что, если познания, переданные чрез пророков, делают бога более непостижимым, чем он был для меня прежде, познания эти все-таки истинны. Но кроме этого двойного определения здесь является еще противоречие между выражениями самого церковного предания. Приводятся тексты: одни – отрицающие постижимость божию, другие признающие ее. Надо или откинуть первое или второе, или согласить их. Богословие не делает ни того, ни другого, ни третьего, а прямо высказывает, что всё, что будет дальше о свойствах, делении бога по сущности и лицам, есть истина, потому что тому учит непогрешимая церковь, т. е. предание.
Так что, как и в первом случае, при рассматривании введения, все рассуждения оказались не нужны, и всё свелось к тому, что то, что будет излагаться, истина, потому что тому учит церковь, так и теперь все рассуждения не нужны, потому что основой всего – учение непогрешимой церкви.
Но, кроме этого повторившегося приема, здесь в первый раз появляется самое учение церкви – свод этого учения, и в нем оказывается отсутствие единства, оно противоречит себе.
В введении основой всего полагалась церковь, т. е. предание людей, которые соединены преданием, но там я еще не знал, как выражается это предание. Здесь уже является само предание, т. е. выписки из свящ. писания. И выписки эти противоречат друг другу и ничем, кроме слов, не связаны между собою.
Как я и сказал сначала, я верил в то, что церковь – носительница истины, но, пройдя эти 74 страницы введения и изложения того, как церковь учит о догматах и о непостижимости божией, я, к сожалению, убедился, что изложение предмета неточно и что в изложение это вводятся нечаянно или умышленно неправильные рассуждения. Неправильно рассуждение 1) о том, что догмат есть и истина абсолютная и вместе с тем преподавание того, что считается церковью за истину, и 2) неправильно рассуждение о том, что извещение через пророков, апостолов и Иисуса Христа о том, что есть бог, есть то же, что постигновение бога.
В обоих рассуждениях есть не только неясность, но есть недобросовестность. Какой бы предмет я ни излагал, как бы я ни был убежден в несомненности знания мною полной истины, излагая предмет, я не могу поступить иначе, как сказать: «я буду излагать вот то-то, и это я считаю истиной, и вот почему», а не сказать вперед, что всё, что я скажу, это несомненная истина. И какой бы предмет я ни излагал, я не могу поступить иначе, как сказать: «предмет, который я будут излагать, не вполне постижим. Всё изложение мое будет состоять в том, чтобы сделать его более постижимым. И бòльшая постижимость предмета будет признак истинности моего изложения». Если же я скажу: «предмет, который я буду излагать, постижим только отчасти, и постигновение его дано мне известным преданием, и всё, что говорит это предание, даже если оно делает предмет еще более непостижимым, и только одно то, что говорит это предание, то одно истина», то очевидно, что никто не поверит мне. Но, может быть, прием этого введения был неправилен, но изложение открытых истин будет все-таки правильно. Будем же внимать этому откровению.
ГЛАВА III
§ 10. Сущность всего того, что бог благоволил открыть нам о самом себе, без отношения его к другим существам, православная церковь выражает кратко в следующих словах символа Афанасиева: «Вера кафолическая сия есть: да единого бога в троице и троицу в единице почитаем, ниже сливающе ипостаси, ниже существо разделяюще» (стр. 74).
Основная истина, которую бог через пророков и апостолов благоволил открыть о себе церкви и которую церковь открывает нам, есть та, что бог один и три, три и один. Выражение этой истины таково, что не то что я не могу понять ее, но несомненно понимаю, что этого понять нельзя. Человек понимает умом. В уме человека нет более точных законов, как те, которые относятся к числам. И вот первое, что бог благоволил открыть о себе людям, он выражает в числах: Я = 3, и 3 = 1, и 1 = 3.
Да не может же быть, чтобы бог так отвечал людям, тем людям, которых он сотворил, которым он дал только разум, чтобы понимать его, не может же быть, чтоб он так отвечал. Порядочный человек, говоря с другим, не будет употреблять иностранных, непонятных собеседнику слов. Где тот, такой слабый умом человек, который на вопрос ребенка не умел бы ему ответить так, чтобы ребенок понял его? Как же бог, открывая себя мне, будет говорить так, чтобы я не понял его? Ведь я, не имея веры, дал же себе объяснение жизни, и всякий неверующий имеет такое объяснение. Как ни плохо бы было такое объяснение, всякое объяснение есть хоть какое-нибудь объяснение. А это не объяснение, а только соединение слов, не дающих никакого понятия.
Я искал смысла моей жизни в разумном знании и нашел то, что жизнь не имеет смысла. Потом мне показалось, что вера дает этот смысл, и я обратился к хранительнице веры – к церкви. И вот с первого своего положения церковь утверждает, что смысла этого нет никакого в самом понятии бога.
Но, может быть, мне только кажется, что это бессмысленно, потому что я не понимаю всего значения этого. Ведь это не выдумка одного; это то, во что верили и верят миллиарды. Один и троичен? Что это значит?
Читаю дальше.
«Глава I. О боге, едином в существе»:
нужно, во-первых, показать, что бог—един по существу, и, во-вторых, раскрыть понятие о самом существе божием» (стр. 74).
Следует учение о единстве божием, и на четырнадцати страницах в параграфах 12—15 (Учение церкви и краткая история догмата о единстве божием; доказательства о единстве божием из св. писания и доказательства из разума; нравственное приложение догмата) излагаются доказательства и разъяснения единства бога.
Бог для меня и для всякого верующего есть прежде всего начало всех начал, причина всех причин, есть существо вне времени и пространства, есть крайний предел разума. Как я ни выражу это понятие, оно не то, что одно, а к понятию этому я не могу приложить понятия числа, вытекающего из времени и пространства, и потому так же мало могу сказать, что богов 17, как и то, что бог – 1. Бог – начало всего. Бог – бог. Вот как я (и я знаю, что не я один) прежде понимал бога. Теперь же мне доказывается, что бог именно один. Мое недоумение перед выражением того, что бог один и три, не только не разъясняется, но понятие мое бога почти теряется, когда я читаю эти четырнадцать страниц, доказывающих единство божие.
С первых же слов, вместо разъяснения того ужасного, разрушившего мое понятие о боге положения о его единичности и троичности, меня вводят в область спора с учениями языческими и христианскими, отрицавшими единство божие.
Говорится:
Противниками христианского учения о единстве божием а) прежде всего, естественно, явились язычники или многобожники, которых надлежало обращать к христианству; б) потом со второго века – христианские еретики, известные под общим именем гностиков, из которых одни, под влиянием восточной философии и феософии, хотя признавали единого верховного бога, но вместе допускали и многих богов низших, или эонов, истекших из него и создавших существующий мир, а другие, увлекаясь тою же философиею, силившеюся, между прочим, решить вопрос о происхождении зла в мире, признавали два враждебные между собою совечные начала, начало доброе и начало злое, как главных виновников всего доброго и злого в мире; в) еще несколько после, с конца третьего и особенно с половины четвертого – новые христианские еретики – манихеи, также допускавшие и с тою же мыслию двух богов, доброго и злого, из которых первому подчиняли вечное царство света, а последнему – вечное царство тьмы; г) с конца шестого века – небольшая секта трибожников, которые, не понимая христианского учения о трех лицах во едином божестве, признавали трех, совершенно отдельных богов, как отдельны, например, три какие-либо лица или неделимые человеческого рода, хотя у всех их одно естество, и как отдельны вообще неделимые каждого рода и класса существ; д) наконец, с седьмого века и до двенадцатого павликиане, – которых многие считали отраслью манихейскою и которые действительно, подобно манихеям, признавали двух богов: доброго и злого (стр. 76 и 77).
Ведь мне сказано, что бог 1 и 3, и мне сказано это как божья откровенная истина. Я не могу понять этого и ищу разъяснения. Так зачем же мне говорить о том, как неправильно верили язычники, принимая двух и трех богов. Ведь для меня ясно, что они не имели того понятия, которое я имею о боге. Так зачем же мне говорить про них? Мне надо разъяснить догмат. И зачем же говорить про этих язычников и христиан дву– и трибожников? Я не трибожник и не двубожник. Опровержение этих дву– и трибожников не разъяснит мне моего вопроса; а именно на этом-то возражении еретикам зиждется всё изложение догмата о единстве божием. И не случайно. Как и прежде было в вопросе о постижимости и непостижимости божией, изложение учения церкви об этом связывалось и даже основывалось на опровержении ложных учений, так и здесь учение не излагается прямо на основании преданий, разума, взаимной связи, а только на основании противоречии других учении, называемых ересями. В учении о троице, о божестве сына, о естестве сына, везде один и тот же прием: не говорится – потому и тому-то так-то учит церковь, а всегда говорится: одни учили, что бог постижим, другие – что бог непостижим совсем, и то и другое – неправда, а правда вот то-то. В учении о сыне не говорится, что сын есть то-то и то-то, а говорится: одни учили, что он совсем бог, другие, что он совсем человек, а мы потому учим, что он то и то. В учении о церкви и благодати, о творении, об искуплении, везде один и тот же прием. Никогда учение не вытекает само из себя, а всегда из спора, при котором доказывается, что ни то, ни другое мнение несправедливо, а справедливо и то, и другое вместе.
Здесь, при изложении догмата об единстве божием, этот прием особенно поразителен, потому что невозможность много– или, скорее, число-божия для нас и всех людей, верующих в бога, так несомненна, что раскрытие догмата об этом, тогда как сказано, что бог – троичен, действует прямо обратно той цели, которую имеет в виду писатель. Та низменная область спора с многобожниками, на которую спускается писатель, и те ложные приемы, которые он при этом употребляет, уничтожают почти то понятие бога, которое имеет всякий верующий в него.
Писатель говорит, что бог не один, как мог бы называться всякий бог языческий, взятый отдельно в сонме прочих богов,
но един в том смысле, что нет другого бога, ни равного ему, ни высшего, ни низшего; а он один только есть бог единственный (стр. 76).
И далее приводятся слова какого-то отца церкви:
Когда мы говорим, что восточные церкви веруют во единого бога отца, вседержителя, и во единого господа, то надобно разуметь здесь, что он именуется единым не по числу, но всецело (unum non numero dici, sed universitate). Так, если кто говорит об одном человеке или одном коне, в этом случае один полагается по числу; ибо может быть и другой человек, и третий, равно как и конь. Но где говорится об одном так, что другой или третий не может уже быть прибавлен, там имя одного берется не по числу, а всецело. Если, например, говорим: одно солнце – тут слово «одно» употребляется в таком смысле, что не может быть прибавлено ни другое, ни третье. Тем более бог, когда называется единым, то разумеется единым не по числу, но всецело, единым именно в том смысле, что нет другого бога (стр. 77, прим. 187).
Как ни трогательны эти слова отца церкви темным стремлением к поднятию своего понятия на высший уровень, все-таки очевидно, что как писатель, так и этот отец церкви борются только с многобожием и хотят только единственного бога, но не понимают того, что слова «единый, единственный» суть слова, выражающие число, и потому не могут быть приложены к богу, в которого мы веруем. И то, что он говорит, что бог «един или единственный не по числу», есть то же самое, что сказать: лист зелен или зеленоват не по цвету. – Очевидно, что здесь понятие бога – только как одного солнца, никак не исключающего возможности другого солнца. Так что всё это место только приводит к убеждению, что тому, кто хочет следить за дальнейшими рассуждениями, надо отказаться от понятия бога – начала всего, и принизить это понятие до полуязыческого представления об одном, единственном боге, каким он понимается в книгах Ветхого Завета. В главе доказательств из Ветхого Завета приводятся тексты о единстве божием, тексты, низводящие понятие бога уже к единому, исключительному богу иудеев, и излагается спор уже не с еретиками, но с наукой современной. Мнение современной науки, что бог иудеев понимался ими не так, как понимается теперь бог верующими что они даже не знали бога единственного, называется дерзкой и явной клеветой.
После этого явная и дерзкая клевета – утверждать, будто в Ветхом Завете есть следы учения и о многобожии и будто бог иудеев, по их свящ. книгам, был только один из богов, бог народный, подобно богам других тогдашних народов. Для подтверждения первой мысли указывают на места св. писания, где богу дается название елогим (Elohim, боги – от елоаг, бог), во множественном числе, и где он представляется говорящим: «сотворим человека по образу нашему и по подобию» (Быт. 1, 1 и 26); «сотворим ему (Адаму) помощника по нему» (– 3, 22) и под. Но – а) когда тот же самый Моисей, в книгах которого находятся эти места, так часто и так раздельно проповедует единобожие, главнейший член всего синайского законодательства; когда он всех богов языческих называет прямо суетными и идолами и всячески старается предохранить от последования им иудеев (Лев. 17, 7; Втор. 32, 21 и др.), то, без всякого сомнения, в означенных местах он не мог вопреки самому себе прикровенно выражать учение о многобожии, – и потому нельзя не согласиться с св. отцами церкви, что здесь хотя точно бог представляется во множественном числе, но внушается мысль о множественности не богов, а божеских лиц в одном и том же боге, т. е. делается намек на таинство пресв. троицы (стр. 79 и 80).
Тут невольно поражает не то умышленное закрывание глаз против очевидного, а недобросовестность и непостижимая смелость, с которой отрицается то, что очевидно для каждого читающего писание, то, что сотни лет выработано и разъяснено всеми мыслящими людьми, занимавшимися этими предметами. – Приводить места из Библии, из которых очевидно, что евреи признавали своего бога только одним из других богов, было бы бесполезно. Всё Пятикнижие переполнено этими местами (Книга Иисуса Навина 24, 2; Бытия XXXI, 19, 30; Псалом LXXXV, 8; самая первая заповедь Моисея). Удивляешься, для кого пишутся эти рассуждения. Но удивительнее всего то, что всё это говорится тем, которые ищут разъяснения богооткровенных истин о боге. Для того, чтобы мне открыть истину о боге, хранимую святою церковью, мне сказали непонятные слова: бог один и три, – и вместо разъяснения их начали мне доказывать то, что я знаю, не могу не знать – я и всякий верующий: то, что богу нет числа; и чтобы доказать это, свели меня в область самых низменных, диких понятий о боге, и чтобы дополнить чашу, привели мне в доказательство единства божия из Ветхого Завета то, что очевидно доказывает мне противное. И чтобы подтвердить эти кощунственные речи о боге, мне привели то, что множественность выражения есть намек на св. троицу. Т. е. что боги, как на Олимпе, сидели и говорили: «давай сотворим».
Хочется бросить всё и избавиться от этого мучительного кощунственного чтения, от неудержимого негодования; но дело слишком важно. Это – то учение церкви, которому верит народ и которое дает ему смысл жизни. Надо идти дальше.
Далее идут подтверждения единства божия из Нового Завета.
Опять доказывается то, что нельзя и не нужно доказывать, и опять при этих доказательствах принижение понятия бога и опять недобросовестные приемы.
В доказательство единства божия приводится следующее:
Сам спаситель на вопрос некоего законника: «какая есть первая всех заповедей», отвечал: «яко первейши всех заповедей: слыши израилю: господь бог ваш, господь един есть» (Марк. 12, 28—29) (стр. 81).
Писатель не видит, что это есть только повторение ветхозаветного слова и что сказано: бог ваш есть бог единый.
Но удивительнее всего следующее:
В других случаях он выражал эту истину не менее ясно или даже яснее, когда, например, некоему человеку, назвавшему его учителем благим, заметил: «никто же благ, токмо един бог» (Марк. 10, 17—18) (стр. 81).
Писатель не видит, что здесь слово «един» даже не имеет и численного значения. Ведь тут «един» не значит даже единый бог, но значит: только бог.
И это всё, чтобы доказать то, что включено в понятие бог, в чем никто, сказавший: бог, не может сомневаться. Зачем это кощунство?
Невольно думается, что это всё только для того, чтобы умышленно принизить понятие бога. Другой нельзя придумать цели. Но этого мало писателю: он считает нужным еще приводить доказательства единства (т. е. то, чего не может быть при мысли о боге) из разума. Следуют доказательства из разума:
Доказательства единства божия, какие употребляли св. отцы и учители церкви, на основании здравого разума, суть почти те же самые, какие и ныне обыкновенно употребляются для той же цели. Одни из них заимствуются из свидетельства истории и души человеческой (анфропологические), другие – из рассматривания мира (космологические), третьи – из самого понятия о боге (онтологические) (стр. 82).
Во-первых, это несправедливо, потому что никогда такие доводы не приводились для доказательства единства божия. Они приводятся и приводились для доказательства бытия божия, и там они имеют место, – и разобраны у Канта. А во-вторых, Кантом же и доказано, что ни одно из них не убедительно для разума.
Вот эти доказательства, как они представлены в богословии:
1) То, что все народы сохраняли понятие о едином боге.
Это несправедливо: сам писатель только что опровергал многобожников.
2) На согласии языческих писателей.
Это тоже не может быть доказательством, так как не относится до всех языческих писателей.
3) На врожденной нам идее о боге именно едином.
Это опять несправедливо, так как слова Тертуллиана, которые приводятся в подтверждение этого положения, сказаны о врожденности идеи о боге, а не о врожденности идеи об единстве божием.
Прислушайтесь, говорил Тертуллиан к язычникам, к свидетельству самой души вашей, которая, несмотря на темницу тела, на предрассудки и дурное воспитание, на свирепство страстей, на рабство ложным богам, когда возбудится как бы от пьянства или от глубокого сна, когда почувствует, так сказать, искру здоровья, невольно призывает имя единого истинного бога и вопиет: великий боже! благий боже! что бог даст! Таким образом, имя его находится в устах всех людей. Душа признает его за судию следующими словами: бог видит, надеюсь на бога, бог воздаст мне. О, свидетельство души по природе христианской (naturaliter christianae)! И, произнося эти слова, она обращает взоры свои не к капитолии, но к небу, ведая, что там чертог живого бога, что оттуда и от него сама она происходит (стр. 84).
Этим исчерпываются доказательства антропологические.
Вот доказательства космологические:
1) Мир один, и потому бог один.
Но почему мир один – неизвестно.
2) В жизни мира – порядок.
Если бы существовали многие правители мира, многие боги, естественно различные между собою, тогда не могло бы быть такого стройного течения и согласия в природе; напротив, всё пришло бы в беспорядок и обратилось в хаос; тогда каждый бог управлял бы своею частью, или и всем миром, по своей воле, по своим соображениям, и происходили бы непрестанные столкновения и борьба.
3) Для создания мира и управления им совершенно достаточно одного бога – всемогущего и всеведущего: на что же все прочие боги? Они, очевидно, излишни (стр. 84 и 85).
Это доказательства космологические. Что это? Шутка злая? Насмешка? Нет, это богословие, раскрытие богооткровенных истин.
Но это еще не всё. Вот доказательства онтологические:
1) По единодушному согласию всех людей, бог есть такое существо, выше и совершеннее которого нет и быть не может. Но высочайшее и совершеннейшее из всех существ возможно только одно: ибо, если бы существовали и другие, равные ему, в таком случае оно перестало бы уже быть высочайшим и совершеннейшим из всех, т. е. перестало бы быть богом (стр. 85).
2) Бог, как существо совершеннейшее, и есть вместе существо беспредельное и всё собою наполняющее. Теперь, если бы было много богов каким образом сохранилась бы их беспредельность? Где существовал бы один, там, конечно, не мог бы существовать другой, ни третий, ни четвертый, ни все прочие (стр. 86).
Это второе доказательство есть очень плохой софизм, основанный на том, что богу приписывается пространство, чего нельзя делать, так как сказано, что бог есть существо беспредельное. И потому софизм этот ничего не доказывает, а только заставляет сомневаться в строгости и точности мысли св. отцов, именно Иоанна Дамаскина.
Первое же доказательство тем, что совершеннейшее и высочайшее существо может быть только одно, есть единственное правильное рассуждение о свойстве того, что мы называем бог, но никак не есть доказательство единства божия. Это есть только выражение того основного понятия о боге, которое по самому существу своему исключает всякую возможность соединения этого понятия с понятием числа. И потому, если бог есть то, что выше и совершеннее всего, то все прежние доводы из Ветхого завета и другие о том, что бог есть только один, только нарушают это понятие.
Но опять, как в рассуждении о постижимости и непостижимости, и здесь писателю, очевидно, нужна не ясность мысли, но нужна механическая связь с преданием церкви; в ущерб мысли во что бы то ни было удерживается эта связь.
После этих доказательств идут еще специальные доказательства единства божия против еретиков двубожников, не имеющие никакой связи с предметом. И после всего этого считается, что первый догмат о единстве божием раскрыт, и излагается учение о нравственном приложении этого первого догмата.
Мысль писателя та, что каждый догмат нужен для спасительной веры. Вот один догмат – единства божия – открыт, и потому нужно показать, как этот догмат содействует спасению людей.
Вот как:
Три важные урока мы можем извлечь для себя из догмата о единстве божием.
Урок первый – касательно отношения нашего к богу. «Верую во единого бога», – произносит каждый христианин, начиная слова символа, – во единого, а не во многих, или двух, или трех, как веровали язычники и некоторые еретики; итак, ему единому мы должны и служить, как богу (Втор. 6, 13, Матф. 4, 10); его единого любить от всего сердца нашего и от всея души нашея (Втор. 6, 4 и 5); на него единого возлагать все наши надежды (Пс. 117, 8 и 9; 1 Петр. 1, 21), и с тем вместе должны блюстися от всякого вида многобожия и идолопоклонства (Исх. 20, 3—5). Язычники, веруя в одного верховного бога, в то же время признавали и многих богов низших и в число этих богов часто включали духов бесплотных, добрых или злых (гениев и демонов) и умерших людей, чем-либо прославившихся в жизни; и мы чтим ангелов добрых, чтим и людей святых, прославившихся при жизни верою и благочестием; но не забудем, что мы должны чтить их, по учению православной церкви, не как низших богов, а как слуг и угодников божиих, как ходатаев наших пред богом и споспешников нашему спасению, – чтить так, чтобы вся слава относилась преимущественно к нему же единому, яко дивному во святых своих (Пс. 67, 36; Матф. 10, 40). Язычники делали изваяния своих богов, ставили их кумиры и истуканы, и, по крайнему ослеплению, эти изваяния и кумиры признавали за самих богов, воздавая им божеское поклонение: да не впадет кто-либо и из христиан в подобное же идолопоклонство. И мы употребляем и почитаем изображения бога истинного и святых его и преклоняемся пред ними; но употребляем и почитаем только как изображения для нас священные и глубоко поучительные, а отнюдь не боготворим их и, кланяясь св. иконам, поклоняемся не дереву и краскам, а самому богу и угодникам его, которые на иконах изображены: таково должно быть истинное поклонение св. иконам, и оно нимало не будет походить на идолопоклонство (стр. 89 и 90).
Т. е. мы по всему предшествующему рассуждению получаем урок тот, что мы должны делать то же самое, что идолопоклонники, но должны притом помнить некоторое диалектическое различие, изложенное тут.
Известно, наконец, что язычники олицетворили все человеческие страсти и в этом виде их обоготворили; мы уже не олицетворяем страстей, чтобы их боготворить, мы знаем их цену, но, к прискорбию, часто и христиане служат своим страстям, как богам, хотя и сами того не замечают. Один до того предан чревоугодию и вообще чувственным удовольствиям, что для него, по выражению апостола, бог есть чрево (Фил. 3, 19); другой с такою ревностию заботится о приобретении себе сокровищ, с такою любовию блюдет их, что лихоимание его поистине нельзя не назвать идолослужением (Кол. 3, 5); третий столько занят своими достоинствами и преимуществами, истинными и мнимыми, и так высоко ставит их, что как бы делает из них для себя кумир, которому поклоняется сам и требует поклонения от других (Дан. гл. 3). Словом, всякая страсть и привязанность к чему бы то ни было, даже важному и благородному, если только мы предаемся ей сильно, до забвения бога и в противность воле его, становится для нас новым богом или идолом, которому мы служим, и христианин твердо должен помнить, что подобное идолослужение никогда не может быть совместно с служением единому богу истинному, по слову спасителя: никтоже может двема господиноми работати…; не можете богу работати и мамоне (Матф. 6, 24) (стр. 90).
Что такое? Откуда это взялось? Что тут ни наговорено! Чем это связано с единством божиим? Как это вытекает? Нет и нет никакого ответа.
Урок второй – касательно отношений нашего к ближним. Веря во единого бога, от которого все мы получили бытие, которым все живем и движемся и есмы (Деян. 17, 28) и который один составляет главную цель для всех нас, мы естественно возбуждаемся к единению и между собою (стр. 90).
И еще тексты, и еще менее связи с предыдущим. Если есть связь, то только словесная вроде игры слов: бог един – мы должны стремиться к единению.
Наконец, третий урок – касательно отношения нашего к самим себе. Веруя в бога, единого по существу, будем заботиться, чтобы и в собственном существе восстановить первобытное единство, нарушенное в нас грехом. Ныне мы чувствуем раздвоение своего существа, разъединение наших сил, способностей, стремлений, соуслаждаемся закону божию по внутреннему человеку, и вместе видим ин закон во удех своих противовоюющ закону ума нашего и пленяющ нас законом греховным, сущим во удех наших (Рим. 7, 22—23), так что в каждом из нас ныне не один, а два человека – внутренний и внешний, духовный и плотский. Будем же заботиться о том, чтобы отложити нам по первому житию ветхого человека, тлеющего в похотех прелестных, и облещися в нового человека, созданного по богу в правде и в преподобии истины (Ефес. 4, 22—24), и чтобы таким образом нам вновь явиться так же едиными в существе своем, какими вышли мы из рук творца (стр. 91).
И так далее. Без малейшей связи с догматом о единстве бога, но с игрою слов на слово «единство» идет рассуждение о нравственном приложении догмата. Разрешения же вопроса о единстве и троичности нет никакого.
Приступаю к 2-й главе.
ГЛАВА IV
«Глава II. О существе божием».
О существе божием? Было сказано, что бог непостижим по существу. Потом сказано, что он – троица. Я ищу разъяснений того, что значит: он – троица. Мне не отвечают на вопрос и задают новую загадку: бог, непостижимый по существу, будет раскрыт мне по существу.
Вопрос о том, что такое бог в существе (oύσία, φύτις, essentia, substantia, natura) своем, еще с первых веков христианства сделался предметом особенного внимания учителей церкви, с одной стороны, как вопрос и сам по себе весьма важный и близкий к уму и сердцу каждого человека, а еще более потому, что вопросом этим много занимались тогда еретики, естественно вызывавшие против себя защитников православия (стр. 92).
Опять, чтобы раскрыть мне истину, меня вводят в спор, излагают мнение одних, других, и те, и другие ложны, и вот:
Чуждаясь всех подобных тонкостей, православная церковь всегда держалась и держится лишь того, что сам бог благоволил сообщить ей о себе в своем откровении, и вовсе не имея в виду определить существо божие, которое признает она непостижимым, а следовательно, в строгом смысле, и неопределимым, но желая только преподать своим чадам возможно близкое, точное и общедоступное понятие о боге, она говорит о нем следующее: «Бог есть дух вечный, всеблагий, всеведущий, всеправедный, всемогущий, вездесущий, неизменяемый, вседовольный, всеблаженный». Здесь указывает она нам, во-первых, на непостижимое существо божие (иначе, природу, естество), сколько оно может быть понятно ныне для нашего смысла, и, во-вторых, на существенные свойства, которыми отличается это существо, или, точнее, отличается сам бог от всех прочих существ (стр. 95 и 96).
Существо, природа, естество божие указываются нам, указываются и свойства, которыми отличается бог от прочих существ.
Да о чем мы говорим? О каком-нибудь ограниченном существе или о боге? Как бог может отличаться от других? Как мы можем различать в нем естество, природу и свойства? Да ведь он непостижим, он выше, совершеннее всего. Всё меньше и меньше я понимаю смысл того, что хотят мне сказать, и всё яснее и яснее мне становится, что для чего-то нужно неизбежно, пренебрегая здравым смыслом, законами логики, речи, совести, нужно для каких-то потаенных целей сделать то, что делалось до сих пор: низвести мое и всякого верующего представление о боге на какое-то низменное, полуязыческое представление.
Что же говорится об этой природе и свойствах того, что тут называется богом?
§ 17. Понятие о существе божием: бог есть дух. Слово «дух», действительно, понятнее всего обозначает для нас непостижимое существо или естество божие. Мы знаем только двоякого рода естества: вещественные, сложные, не имеющие сознания и разумности, и невещественные, простые, духовные, более или менее одаренные сознанием и разумностью. Допустить, чтобы бог имел в себе естество первого рода, никак не можем, видя во всех делах его, как творения, так и промышления, следы высочайшего разума. Предположить, напротив, в боге естество последнего рода вынуждаемся необходимо постоянным созерцанием этих следов (стр. 94).
В подтверждение этих непонятных, превратных, запутанных слов приводятся в выноске слова Иоанна Дамаскина, почти столь же непонятные и превратные:
«Узнав то, что приписывается богу, и от сего восходя к сущности божией, мы постигаем не самую сущность, но только то, что относится к сущности (τὰ περὶ τὴνν οὐσίαν) – подобно как, зная, что душа бестелесна, бесколичественна и безвидна, мы еще не постигаем ее сущности; не постигаем также сущности тела, если знаем, что оно бело или черно; но познаем только то, что относится к его сущности. Истинное же слово учит, что божество просто и имеет одно действие – ἐνεργείαν, простое, благое, действующее всяческая во всем» (Точн. излож. прав. веры, кн. I, гл. 10, стр. 34) (стр. 94, прим. 223).
Как ни мучительно трудно анализировать такие выражения, в которых что ни слово, то ошибка или ложь, что ни соединение подлежащего с сказуемым, то или тавтология или противоречие, что ни соединение предложения с другим, то или ошибка, или умышленный обман, но это необходимо сделать.
Сказано: «Дух обозначает естество».
Дух означает только противоположное естеству. Дух прежде всего есть слово, употребляемое как противоположение всякому веществу, всему видимому, слышимому, ощущаемому, познаваемому чувствами. Естество, природа, существо есть только различение познаваемых чувственных вещей. По природе, по существу, по естеству различаются камни, деревья, звери, люди. Дух же есть то, что не имеет естества, природы. Что же могут значить слова: «дух обозначает естество»? Далее: «Мы знаем только двоякого рода естества: сложные – вещественные, и простые – духовные». Мы не знаем и не можем знать никаких простых духовных естеств, потому что «духовное естество» есть одно противоречие, множественное же число при слове: «простое естество духовное» – другое внутреннее противоречие, потому что то, что просто, того не может быть два или много. Только при том, что не просто, получается различие и множественность.
Прибавление к слову «естества» слов: «простые, духовные, одаренные более или менее сознанием и разумностью» вносит еще новое внутреннее противоречие, неожиданно присоединяя к «простому» – понятия сознания и разумности, по степени которых разделяется это что-то, называемое духовными естествами простыми.
Слова: «допустить, чтобы бог имел в себе естество первого рода», выражаясь последовательно, означают: «допустить, что единый бог есть естества сложные и вещественные» есть величайшая бессмыслица, есть допущение того, что бог единый есть множество разнообразных веществ, о чем нельзя говорить. Слова: «предположить в боге естество последнего рода вынуждаемся созерцанием дел его творения и промышления, в которых видим следы высочайшего разума», означают совсем не то, что бог есть дух, но что бог есть высочайший разум. Так что, разобрав эти слова, оказывается, что вместо того, чтобы сказать, что бог есть дух, сказано, что бог есть высочайший разум. И в подтверждение этих слов приведены слова Иоанна Дамаскина, который говорит еще третье, что божество – просто.
И что удивительно, это то, что понятие бога как духа, в смысле только противоположения всему вещественному, несомненно для меня и для всякого верующего и ясно уже установлено первыми главами о непостижимости божией, и доказывать этого не нужно. Но для чего-то ведется это доказательство, произносятся кощунственные слова о исследовании существа божия, и кончаются эти доказательства тем, что, вместо духа, доказывается, что бог есть разум, или что божество просто и имеет одно действие. Для чего же это доказывается?
А для того, чтобы под рукой во время доказательства ввести понятие не духа одного простого, а духовных естеств, более или менее одаренных сознанием и разумностью (это люди, демоны, ангелы, которые понадобятся после), и, главное, для той связи с словом «дух», которая потом будет играть большую роль в изложении учения. Сейчас и видно зачем:
И если, точно, само откровение изображает нам бога как существо духовное, – в таком случае наше предположение должно уже перейти на степень несомненной истины. А откровение, точно, учит нас, что бог есть чистейший дух, не соединенный ни с каким телом, и что, следовательно, природа его – совершенно невещественная, непричастная ни малейшей сложности, простая (стр. 95 и 96).
Из слов: «чистейший дух, не соединенный ни с каким телом», тотчас видно, что слово «дух» не понимается уже так, как оно понимается во всех языках, как оно понимается в евангельской беседе с Никодимом: «дух дышит, где хочет», т. е. как полное противуположение всему вещественному и потому постижимому, но как что-то такое, которое может быть определено, различено от другого.
Затем приводятся доказательства из свящ. писания, что бог – дух, но, как всегда, тексты только доказывают противное.
а) «Аще утаится кто в сокровенных, и аз не узрю ли его; рече господь: егда небо и землю не аз наполняю; рече господь» (Иер. 23, 24; Пс. 138. 7—12)… ; «снабдите души своя зело, яко не видесте всякого подобия в день, в оньже глагола господь к вам в горе Хориве из среды огня: не беззаконнуйте и не сотворите себе самим подобия ваянна, всякого образа подобия мужеска пола или женска» (Втор. 4, 15—16)…; г) «у отца светов несть пременения или преложения стень» (Иак. 1, 17); д) всякое тело, как сложное из частей, разрушимо и тленно, – бог есть «нетленный царь веков» (1 Тим. 1, 17) (стр. 96 и 97).
Разве не ясно, что бог, который узрит везде, который говорил именно из среды огня на горе Хориве, у которого нет «преложения стень», т. е. образа, который есть нетленный, – не есть дух. Очевидно, что нужно, чтобы про бога можно было говорить, как про определенное существо вроде человека, но нужно тоже иметь возможность и говорить про бога, как про дух вполне простой, непостижимый.
Всё одна и та же уловка во всех главах этой книги: два разные понятия умышленно соединенные в одно для того, чтобы в случае надобности заменить одно другим и, пользуясь этим, механически подобрать все тексты писания и так запутать их, чтобы можно было сливать несогласимое.
Вслед за этим идет изложение учения церкви и, как всегда, не изложение догмата, не разъяснение, не толкование, но спор. Спор ведется с антропоморфистами и пантеистами. Доказывается, что неправда, «что бог облечен плотью» и во всем похож на человека. Если в писании говорится о его теле, то под глазами бога надо понимать его знание, под ушами – внимание, под ртом бога – обнаружение его воли, под пищей и питьем – наше согласие с волей божией; под обонянием – принятие наших мыслей, под лицом – обнаружение его в делах; под руками – деятельную его силу, под десницею – его помощь в правых делах, под осязанием – его точное познание самого малого, под ногами и хождением – пришествие на помощь, под клятвою – непреложность его совета, под гневом и яростью – отвращение к злу, под забвением, сном, дремотой – медленность в отмщении врагам (стр. 98). Эти объяснения и опровержения антропоморфистов, не говоря о произвольности, непонятности объяснений (как, например, почему под пищей и питьем надо понимать наше согласие с волей божьей?), объяснения эти всё ниже и ниже спускаются в область мелочной, часто просто глупой диалектики, и дальше и дальше становится надежда на разъяснение богооткровенных истин.
После этого в отделе втором (стр. 100) еще приводятся доводы отцов церкви о том, что бог – существо бестелесное и невещественное. И продолжается то же. Приводятся не ложные, но странные суждения отцов церкви, указывающие на то, что отцы церкви были далеки от того понятия о божестве, которое теперь присуще всякому верующему. Они очень старательно доказывают, например, то, что бог ничем не ограничен, или не подвержен страданиям, или не подлежит разрушению. Как бы ни были достойны труды этих отцов в свое время в борьбе с язычниками, на нас утверждение того, что бог не подвержен страданиям, действует невольно так же, как бы подействовали утверждения о том, что бог не нуждается в одежде или пище, и невольно заставляет чувствовать, что для человека, доказывающего неразрушимость бога, понятие божества не ясно и не твердо. Для нас это ничего не разъясняет и только оскорбляет наше чувство. Но, очевидно, для составителя это нужно и нужно именно то, что оскорбляет наше чувство, именно принижение понятия бога.
В отделе третьем составитель приводит в виде доказательства даже ту брань, которую отцы церкви говорили в защиту своего мнения:
При сем особенно замечательно для нас то, что древние пастыри, обличая заблуждение анфропоморфитов, – называли его ересью безрассудною, ересью глупейшею, и самих анфропоморфитов, упорно державшихся своего мнения, постоянно причисляли к еретикам (стр. 100, 101).
И как последний довод церкви приводится:
Посему-то в «чине православия», которое совершает православная церковь в первую неделю великого поста, мы слышим между прочим и следующие слова ее: «глаголющим бога не быти дух, но плоть, – анафема» (стр. 101).
И этим кончается то, что мы знаем о существе бога, именно то, что он – дух. Какой же вывод из всего этого? То, что бог не вещество, а дух. Это вытекает из понятия бога, и я и все верующие не могут думать иначе. И это отчасти подтверждается этим параграфом; но кроме этого утверждается и то, что дух этот есть что-то особенное, отдельное, отчасти постигаемое. И в этом словесном слиянии этих противоречий всё содержание 17-го параграфа.
Что такова цель – ясно вытекает из следующего.
§ 18. Понятие о существенных свойствах божиих, их число и разделение. Существенными свойствами в боге (τὰ οὐσιώδη ἰδιώματα, proprietates essentiales или одним словом, – ἄξιώματα, νοήματα, ἐπιτηδεύματα, attributa perfectiones) называются такие, которые принадлежат самому божественному существу и отличают его от всех прочих существ, и, след., это суть свойства, равно приличные всем лицам пресвятые троицы, составляющим едино по существу, – отчего и называются еще свойствами божиими общими (ἰδιώματα χοινά), в отличие от особенных или личных свойств (τὰ προσωπιχὰ ἰδιώματα, proprietates personales), которые принадлежат каждому лицу божества порознь и различают их между собою (стр. 102).
Оказывается, что у бога, духа простого, есть свойства, отличающие его от всех прочих существ. Мало того, кроме общих свойств есть свойства, отличающие этого же бога в лицах, хотя ничего еще не сказано, что такое троица и что такое лицо.
Определить число существенных или общих свойств божиих невозможно. И церковь, хотя сообщая нам здравое понятие о боге, именует некоторые из них («бог есть дух вечный, всеблагий, всеведущий, всеправедный, всемогущий, вездесущий, неизменяемый, вседовольный, всеблаженный»), но вместе замечает, что общие свойства божии бесчисленны: ибо всё, что только говорится в откровении о боге, едином по существу, всё это составляет, в некотором смысле, и свойства божественного существа. А потому и мы, последуя примеру церкви, ограничимся рассмотрением только некоторых из них – главнейших, которые наиболее характеризуют существо божие, объемлют собою или объясняют и другие, менее заметные, свойства и о которых яснее говорится в божественном откровении (стр. 102).
Свойства божии бесчисленны, а потому мы будем говорить о некоторых. Но если бесчисленны, то «некоторые» суть бесконечно малая часть, и потому не нужно, нельзя говорить о них. Но не так рассуждает богословие. Не только о «некоторых», но о «главнейших». Как же при бесчисленном может быть главнейшее? Все равно бесконечно малы. «Мы будем говорить о таких, которые наиболее характеризуют божество».
Как характеризуют? У бога характер, т. е. особенность одного бога от другого? Нет, ясно: мы говорим о чем-то, но не о боге. Но пойдем дальше.
Чтобы иметь о существенных свойствах божиих понятия раздельные и излагать учение о них в некоторой системе, еще издревле богословы старались разделять их на классы, и таких делений, особенно в период средневековый и новейший, придумано весьма много, которые все, хотя не в одинаковой степени, имеют свои достоинства и недостатки. Причина последних, главная, очень понятна: свойства существа божия, как и самое существо, вполне для нас непостижимы. Посему, не усиливаясь напрасно найти какое-либо совершеннейшее разделение их, изберем то, которое представляется нам наиболее правильным и простейшим (стр. 102 и 103).
«Свойства существа божия, как и самое существо, вполне для нас непостижимы». Ну так что ж? не будем кощунствовать, не будем говорить о непостижимом? Нет. «Посему изберем деление, которое покажется нам более правильным».
Бог по существу своему есть дух; а в каждом духе, кроме собственно духовной природы (субстанции), мы в частности различаем две главные силы или способности: ум и волю (стр. 103).
Как в духе простом деление ума и воли? Да где же это сказано? Только вообще говорилось о духе, но о том, что он имеет ум и волю, ничего не было сказано. Ум и воля – это слова, которыми мы, люди, и то некоторые, различаем в себе две деятельности. Но почему это есть у бога?
Применительно к этому существенные свойства божии можно разделить на три класса: I) на свойства существа божия вообще, т. е. такие, которые принадлежат равно и самой природе (субстанции) божией – духовной, и обеим силам ее: уму и воле, и отличают бога, как духа вообще, от всех прочих существ; II) на свойства ума божия, т. е. такие, которые принадлежат только одному уму божию, и, наконец, – III) на свойства воли божией, т. е. принадлежащие только одной божией воле (стр. 103).
Не бросить ли? Ведь это бред сумасшедшего. Но нет, я сказал себе, что прослежу строго, точно всё изложение богословия. Далее идет 60 страниц о свойствах бога. Вот содержание этих 60 страниц:
§ 19. Свойства существа божия вообще. Бог, как дух, отличается от всех прочих существ вообще тем, что они все ограничены и по бытию и по силам и, след., более или менее несовершенны, а он есть дух неограниченный или беспредельный во всех отношениях, иначе – всесовершенный (стр. 103 и 104).
«Бог отличается от всех прочих существ вообще». Очевидно, нужно это ложное представление о боге, отличающемся от других существ, потому что и прежде, и после много раз, и тут же сказано то, что бог беспределен, и потому нельзя сказать, чтобы беспредельное могло отличаться от чего-нибудь.
Потом бог отличается от других существ в частности: 1) беспредельностью или всесовершенством (почему беспредельность равна всесовершенству, остается необъяснимым как тут, так и впоследствии), 2) самобытностью, 3) независимостью.
Какая разница подразумевается между самобытностью и независимостью, остается также необъяснимым. Самобытность определяется так:
Самобытным бог называется потому, что не обязан бытием своим какому-либо другому существу, а имеет и бытие, и всё, что ни имеет, от самого себя (стр. 107 и 108).
Независимость же (стр. 110) определяется так:
Под именем независимости в боге разумеется такое свойство, по которому он и в существе, и в силах, и в действиях своих определяется только сам собою, а не чем-либо сторонним, и есть самодовольный (αὐταρκής, ἀνενδεής), самовластный (αὐτεξούκος), самодержавный (αὐτοκρατής). Это свойство божие вытекает уже из предыдущего. Если бог есть существо самобытное и всё, что ни имеет, имеет только от себя: то, значит, он ни от кого и не зависит, по крайней мере по бытию своему и силам.
Так что в первом свойстве беспредельности к нему прибавлено почему-то понятие всесовершенство (слово неупотребительное, дурно составленное), имеющее, однако, по своему производству совсем другой смысл, чем беспредельность. А слова: самобытность и независимость, которые выражают, по определению самого писателя, одно и то же понятие, разделены.
4) Неизмеримость, которая есть только синоним беспредельности, вдруг соединена в одно с вездеприсутствием, не имеющим с этим понятием ничего общего.
Затем 5) вечность и 6) неизменяемость опять разделены, хотя составляют только одно понятие, ибо неизменяемость происходит только во времени, а время есть только последствие изменяемости.
7) Всемогущество, которое определяется понятием неограниченной силы, тогда как о силе до сих пор не было и после не будет никакой речи.
Но это еще далеко не всё. Надо помнить, что после раскрытия существа бога самого в себе (§ 17, стр. 95) нам раскрываются существенные свойства бога (§ 18, стр. 102). И из существенных свойств бога раскрыты теперь существенные свойства бога вообще (§ 19, стр. 103). Предстоит же нам еще раскрытие свойств сначала ума божия (§ 20, стр. 122), а потом свойства воли божией (§ 21, стр. 129).
Ум божий можно рассматривать с двух сторон: со стороны теоретической и со стороны практической, т. е. в самом себе и в отношении к действиям божиим. В первом случае мы получаем понятие об одном свойстве этого ума: всеведении; в последнем – о другом: высочайшей премудрости (стр. 122).
В самом себе бог ведает всё. Что̀ же он еще знает, когда он имеет премудрость? На стр. 127 сказано: премудрость
состоит в совершеннейшем знании наилучших целей и наилучших средств и вместе – в совершеннейшем уменьи прилагать последние к первым.
«Знание наилучших целей и средств». Но как же может иметь цели существо беспредельное, вседовольное? И какое понятие средств можно приложить к всемогущему существу? Но мало этого:
Предметы божественного ведения св. писание обозначает с подробностью. Оно свидетельствует и вообще, что бог знает всё и, в частности, что он знает самого себя и всё вне себя: всё возможное и действительное, всё прошедшее, настоящее и будущее (стр. 122).
И потом по отделам, выписками из св. писания доказывается, что бог знает а) всё, б) знает себя, в) знает всё возможное, г) знает всё существующее, д) знает прошедшее, е) знает настоящее, ж) знает будущее.
Да ведь бог вне времени, по богословию – выше времени. Какое же для него прошедшее и будущее? Я не преувеличиваю, не выражаюсь нарочно странным способом; напротив, я употребляю все усилия, чтобы смягчить дикость выражений. Пусть прочтут страницы 123, 124, 125. Да что я говорю: где хотите, там раскройте эти два тома и читайте: всё то же и то же, и что дальше, то свободнее от всяких законов сочетания мыслей и слов.
Волю божию можно рассматривать с двух сторон: саму в себе и в отношении к тварям. В первом случае она представляется нам: а) по естеству своему высочайше свободною, а б) по свободной деятельности – всесвятою. В последнем – является:
а) прежде всего всеблагою: так как благость есть первая и главнейшая причина всех действий божиих по отношению ко всем тварям, разумным и неразумным;
б) потом в частности, по отношению к одним тварям разумным – истинною и верною: поколику открывает себя им в качестве нравственного закона для их воли и в качестве обетований или нравственных побуждений к исполнению этого закона;
в) наконец – правосудною: поколику следит за нравственными действиями этих существ и воздает им по заслугам. Таким образом, главные свойства воли божией, или, точнее, главные свойства божии по воле суть:
1) высочайшая свобода, 2) совершеннейшая святость, 3) бесконечная благость, 4) совершеннейшая истинность и верность и 5) бесконечное правосудие (стр. 129 и 130).
Стало быть, бог беспредельный, неограниченный – свободен, и это доказывается текстами. И как всегда тексты именно показывают, что те, кто писали и говорили эти слова, не понимали бога, только подходили к постигновению его и говорили о каком-то языческом сильном боге, а не о боге, в которого мы веруем.
«Аз сотворих землю и человека, и скоты, яже на лицы земли, крепостию моею великою, и мышцею моею высокою, и дам ю, емуже будет угодно пред очима моима» (Иер. 27, 5). «Помилую, егоже аще помилую и ущедрю, егоже аще ущедрю» (Рим. 9, 15; снес. Исх. 33, 19). «И по воле своей творит в силе небесней и в селении земнем: и несть иже воспротивится руце его, и речет ему: что сотворил еси» (Дан. 4, 32; снес. Иов. 23, 13). «Владеет вышний царством человеческим, и ему же восхощет, даст е» (Дан. 4, 14, 22, 29). «Якоже устремление воды, тако сердце царево в руце божией: аможе аще восхощет обратити, тамо уклонит е» (Притч. 21, 1) (стр. 130 и 131).
«Совершеннейшая святость» подразумевает то:
что он совершенно чист от всякого греха, даже не может согрешать, и во всех своих действиях совершенно верен нравственному закону, а потому ненавидит зло и любит одно только добро и во всех своих тварях (стр. 132).
Святость в том, что бог не грешит, да еще – «ненавидит зло». И опять подтверждения этого кощунства из св. писания:
Бесконечная благость. Благость в боге есть такое свойство, по которому он всегда готов сообщать и действительно сообщает своим тварям столько благ, сколько каждая из них может принять по своей природе и состоянию (стр. 135).
И вот как подтверждается эта благость: благость есть «главная причина творения и промышления»:
От века бог существовал один и блаженствовал, не имея ни в ком и ни в чем нужды; но единственно по бесконечной благости он восхотел соделать и другие существа участниками своего блаженства, и даровал им бытие, украсил их самыми разнообразными совершенствами и не престает ущедрять их всеми благами, потребными для бытия и блаженства (стр. 138).
От века, т. е. бесчисленное количество лет, бог блаженствовал один и с своей премудростью не догадался прежде сотворить мир. Так что благость, понимаемая так, что к понятию бога нельзя приложить понятие зла, и это понятие изуродовано, сведено на самое низкое, кощунственное представление.
Совершеннейшая истинность и верность. Мы исповедуем бога истинным и верным (ὰλητινός, πιστός, ѵегах, fidelis), потому что он всё, что ни открывает тварям, всегда открывает неложно и достоверно, и, в частности, какие ни изрекает им обетования и угрозы, всегда исполняет сказанное или непременно исполнит (стр. 139).
Кому верным? И понятие угрозы и наказания, понятие зла, присоединенное к богу! И тексты, подтверждающие, что богу невозможно солгать!
Бесконечное правосудие. Под именем правосудия или правды (δικαιοσύνη, justitia) здесь разумеется в боге такое свойство, по которому он воздает всем нравственным существам, каждому по заслугам, и именно: добрых награждает, а злых наказывает (стр. 140).
Бог всеблагой за грех людей, совершенный во временной жизни, мстит вечными мучениями. И это подтверждается текстами:
И нечестивые услышат тяжкий приговор нелицеприятного судии: «идите от мене проклятии во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его» (Матф. 25, 41). Кроме того, св. писание – б) свидетельствует, что «клятва господня в домех нечестивых» (Притч. 3, 33; снес. 15, 25), и «воздаст им господь беззаконие их, и по лукавствию их погубит я господь бог» (Пс. 92, 23); в) называет бога огнем поядающим: «бог наш огнь поядаяй есть» (Евр. 12, 23; Втор. 4, 24), и г) человекообразно приписывает ему гнев и мщение; «открывается гнев божий с небесе на всякое нечестие и неправду человека, содержащих истину в неправде» (Рим. 1, 18; снес. Исх. 32, 10; Числ. 41, 10; Пс. 2, 5, 12; 87, 17; Иез. 7, 14); «мне отмщение: аз воздам, глаголет господь» (Рим. 12, 19; Евр. 10, 30; Втор. 32, 35); «бог отмщений господь, бог отмщений не обинулся есть» (Ис. 93, 1) (стр. 142).
Это очевидное противоречие не остановило бы писателя, как не останавливали прежние противоречия в каждом отделе свойств божиих, но в этом случае он останавливается, очевидно, потому, что противоречие это было замечено уже давно прежде, и были возражения, и св. отцы, на основании которых пишется вся книга, писали об этом. Вот что писали св. отцы:
Истинный бог непременно должен быть вместе и благ, и правосуден: что благость его – благость праведная, и правда его – правда благая; что он остается правосудным даже тогда, когда прощает нам грехи и милует нас; остается и благим, когда наказывает нас за грехи: ибо наказывает, как отец, не из гнева или мщения, а для исправления нас, для нашей нравственной пользы; и, следовательно, самые казни ею суть более свидетельства его отеческой благости к нам и любви, нежели правды (стр. 142 и 143).
Спрашивается, каким образом разрешить противоречие между благостью и правосудием? Как благой бог за грехи может казнить вечным огнем? Или он не правосуден, или он не благ. Кажется, вопрос ясен и законен.
И писатель делает вид, что отвечает на него, приводя авторитеты Иринея, Тертуллиана, Климента Александрийского, Златоуста, Гилария, Августина. Авторитетов много. Что же они сказали? Они сказали: «Вы спрашиваете: если есть вечное мучение за временный грех, то может ли бог быть благ и правосуден? Мы отвечаем: бог должен быть и правосуден и благ. Благость его – благость праведная. И правда его – правда благая». Да я об этом и спрашиваю: как это так? как правосудный и благой бог казнит вечными муками за временный грех? А вы говорите, что он наказывает, как отец, для нашей нравственной пользы и что казни его суть свидетельства благости и любви. Какие же тут исправления и любовь, чтобы вечно кипеть в огне за временный грех.
Но писателю кажется, что всё объяснено, и он спокойно заканчивает главу:
Совершеннейшее правосудие в боге должен признать и здравый разум. Всякая несправедливость к другим может происходить в нас только от двух причин: от незнания или заблуждения нашего рассудка и от превратности воли. Но в боге обе эти причины не могут иметь места: бог есть существо всеведущее и святейшее; он знает все самые сокровенные поступки нравственных существ и в состоянии достойно оценить их; он любит всякое добро по самой своей природе и ненавидит всякое зло также по самой своей природе. Прибавим, что бог есть вместе и существо всемогущее, которое, следовательно, имеет все средства воздавать другим по их заслугам (стр. 143 и 144).
Я выписал это только для того, чтобы видно было, что я ничего не упускаю. Это всё, чем разрешается противоречие.
Раскрытие существа божия в самом себе и его существенных свойств кончено.
Что же тут было? Началось с того, что бог непостижим, но прибавлено, что вместе с тем постижим отчасти. Это знание отчасти и раскрыто так. Бог один, а не два и три, т. е. к понятию бога приложено несвойственное ему, по первому определению, понятие числа. Потом раскрыто, что в постижимом отчасти боге мы знаем, однако, различие между его сущностью и свойствами. Определение сущности бога состояло в том, что он есть дух, т. е. существо невещественное, простое, несложное, исключающее поэтому всякое подразделение. Но вслед за этим было раскрыто, что мы знаем свойства этого простого существа и можем подразделять их. Количество этих свойств сказано, что бесчисленно, но нам раскрыто из этого бесчисленного количества свойств простого существа, духа, 14 свойств.
После этого нам неожиданно было раскрыто, что простое это существо, дух, отличается от других существ и, кроме того, имеет ум и волю (о том, что надо разуметь под словами «ум и воля простого существа, духа», ничего не сказано), и на основании того, что несложное существо слагается из ума и воли, 14 свойств разделены на 3 отдела: а) свойства существенные вообще. Свойства существенные существа божия вообще (я ничего не изменяю и не прибавляю) подразделились еще на аа) свойства существенные существа божия вообще, отличающие его вообще (sic!) от других существ, и на бб) свойства существенные существа божия вообще, отличающие его, в частности, от других существ, и получилось: ааа) беспредельность и почему-то неожиданно пришитое к беспредельности с знаком равенства всесовершенство, и ббб) самобытность, и ввв) независимость, ггг) неизмеримость и вездеприсутствие (опять неожиданно пришилось), ддд) вечность, еее) неизменность, жжж) всемогущество; 2) свойства ума божия: а) всеведение и б) премудрость, и 3) свойства воли божией: а) свобода, б) святость, в) благость, г) верность и д) правосудие.
Приемы изложения те же, как и в предшествующих частях: неясность выражений, противоречия, облеченные словами, ничего не разъясняющими, принижение предмета, сведение его в самую низменную область, пренебрежение к требованиям разума и то же одно постоянное стремление связать внешним, словесным путем самые разнообразные суждения о боге, начиная от Авраама до отцов церкви, и на этом одном предании основать все свои доказательства. Но в этом отделе, уже так явно уклонившемся от здравого смысла (с самых тех первых положений, которые были высказаны о боге, – тогда, когда начинаются определения свойств божиих), в этом отделе есть новая черта: сопоставление слов, очевидно, ничего уже не означающих для самого писателя. Очевидно, слова уже тут совершенно оторвались от мысли, с которой были связаны, и не вызывают уже никакой мысли. Я долго делал страшные усилия, чтобы понять, что разумеется, например, под духовными естествами, под различением свойств, под умом и волей бога, и не мог понять и убедился, что писателю нужно только связать внешним образом все тексты, а что разумной связи между его словами нет и для него самого.
§ 22. Отношение существенных свойств бога к его существу и между собою. Параграф этот говорит о том самом, что представляется невольно каждому, когда ему будут перечислять свойства непостижимого бога. Всякий верующий в бога не может не чувствовать кощунственности этих подразделений. И тут как раз высказывается то самое словами отцов церкви, что чувствует всякий верующий, именно то, что бог не постижим для разума и что все те признаки, слова, эпитеты, которые мы прилагаем к богу, не имеют никакого ясного значения, всё сливается в одно; что понятие бога, как начала всего, не постижимого разуму, просто, нераздельно, и разделять бога по его существу и свойствам значит разрушать понятие бога.
«Существо и существенные свойства божии не различаются и не разделяются между собою на самом деле, напротив, составляют в боге едино»… «Божество просто и несложно, говорит св. Иоанн Дамаскин; а что составлено из многого и различного, то сложно. Итак, если несозданность, безначальность, бестелесность, бессмертие, вечность, благость, зиждительную силу и подобное мы назовем существенными разностями в боге (οὐσιωδεῑς διαφορὰς επὶ Θεοῦ), то божество, как составленное из столь многих свойств, будет не просто, но сложно: а это утверждать есть крайнее нечестие» (стр. 145).
Приводятся и другие выписки св. отцов, подтверждающие ту же мысль. Так что удивляешься, к чему же были все эти прежние подразделения и определения. Но этим ясным, несомненным доказательствам, отзывающимся в сердце каждого верующего в бога, полной истиной, этим доказательствам предшествует точно такое же неожиданное рассуждение, какое было, о постижимости и непостижимости божией, какие предшествуют раскрытию каждого догмата. В догмате о боге сказано и доказано, что бог непостижим, и затем мнимо доказано, что он постижим. Для разрешения этого противоречия придумано учение о постижимости отчасти. Здесь сказано, что существо и существенные свойства божии не различаются и не разделяются, и сейчас на стр. 147 сказано:
«Существо и существенные свойства божии, не различаясь и не разделяясь между собою на самом деле, различаются, однакож, в умопредставлениях наших, и притом не без основания в самом боге,20 так что понятие об одном каком-либо его свойстве не есть вместе понятие и об его сущности или понятие о всяком другом свойстве».
И это положение необходимо, по мнению писателя, вытекает из свящ. писания, и приводятся слова Василия Великого о том, что
наши различения божиих свойств не суть только чисто подлежательные (субъективные), – нет, основание для них есть в самом боге, в его различных проявлениях, действиях, отношениях к нам, каковы: творение и промысл, хотя сам по себе бог совершенно единичен, прост, несложен (стр. 149).
И что же, вы думаете, что нечаянно сопоставлено такое явное противоречие св. отцов, думаете, что оно как-нибудь разрешено? Нисколько. Этого-то и нужно писателю, в этом вся мысль этого параграфа 22-го. Он так начинается:
Вопросом этим много занимались в церкви издревле, а особенно в средние века как на Западе, так и на Востоке, и при решении его нередко впадали в крайности. Первая крайность допускает, будто между существом и существенными свойствами божиими, равно как между самими свойствами, есть различие действительное (τῷ πράγματι, realis), так что свойства составляют в боге нечто отдельное и от существа и одно от другого; другая крайность, напротив, утверждает, что существо и все существенные свойства божии совершенно тождественны между собою, что они не различаются не только на самом деле, но даже в умопредставлениях наших (ἐπινοίᾳ, νοήσει, cogitatione), и все разные имена, приписываемые богу, например: самобытность, мудрость, благость, правосудие, означают в боге совершенно одно и то же. Держась строго учения, какое преподает нам о существе и существенных свойствах божиих православная церковь на основании божественного откровения, мы должны сказать, что обе эти крайности равно далеки от истины, что нельзя допустить ни – а) того, будто существо и существенные свойства божии различаются и разделяются между собою на самом деле, ни – б) того, будто они не имеют уже между собою никакого различия, даже в умопредставлениях наших (стр. 144 и 145).
Православная церковь учит, что оба положения одинаково далеки от истины. Так какое же близко к истине? Ничего не сказано. Выставлены два противоречивые мнения, и ничего не сказано для их разрешения. Я внимательно искал во всех пяти страницах. Ни слова о том, как же надо понимать. Ничего нет. Заключение параграфа говорит:
Замечательны также в настоящем случае слова блаженного Августина: «иное быть богом, иное – отцем. Хотя отчество и сущность (в боге) едино суть, но нельзя сказать, будто отец по отчеству есть бог, по отчеству премудр. Такова была всегда твердая (fixa) мысль у наших отцев, и они отвергали аномеев, как заблудивших далеко от предела веры, за то, что эти еретики уничтожали всякое различие между существом и свойствами божиими» (стр. 150).
Конец главы. Но правы ли аномеи, и замечательны ли слова блаженного Августина – это всё равно. Как же надо понимать? Ведь слова Иоанна Дамаскина справедливы, сам писатель говорит, что справедливы. Как согласить их с противоположными словами Августина, которые тоже справедливы? Писатель не считает даже нужным отвечать на это и заканчивает главу.
В предшествующем параграфе о существе и четырнадцати свойствах божиих меня поразила черта совершенной отрешенности от всякой мысли и очевидная игра одними словами противоречивыми или синонимами в совершенном мраке; но здесь еще новая черта необыкновенного и оскорбляющего не только разум, но и чувство пренебрежения ко мне и всей пастве, внимающей поучениям церкви.
В этом параграфе прямо выставляется противоречие и говорится: «это – бело, и это – черно», и нельзя говорить, что это белое, и нельзя говорить, что это черное. Церковь учит нас признавать и то и другое, т. е. что черное есть белое, а белое есть черное. Так что здесь уже выражается требование не только того, чтобы верить тому, что говорит церковь, но повторять языком то, что она говорит.
Вслед за этим § 23: Нравственное приложение догмата. Нравственное приложение первого догмата единства божия поразило меня только своей непоследовательностью. Те нравственные правила, которые преподавались на основании единства бога, очевидно, не выводились из него, а просто пришивались к словам: един бог – мы должны быть в единении и т. п. Но, встретив второе приложение и просмотрев во всем сочинении все неизбежно прилагаемые к каждому догмату нравственные правила и вспомнив то, что сказано в введении, что догматы веры и законы нравственности (стр. 36) нераздельно открыты богом людям и находятся в неразрывной связи, я понял, что эти приложения не случайны, а очень важны, как показывающие значение догматов для спасительной жизни, и я обратил на него больше внимания. Вот приложение догмата о существе и свойствах бога:
1) Бог, по существу своему, есть дух, а по главному свойству существа, обнимающему собою все прочие, дух беспредельный, т. е. совершеннейший, высочайший, всеславный. Отсюда —
а) Прежде всего научаемся чтить бога и любить: ибо кого же и чтить, кого и любить, если не совершеннейшего…
б) Научаемся вместе, что наша любовь к богу и наше богопочтение должны быть: аа) искреннейшие, духовные… бб) высочайшие и полнейшие… в) глубочайше-благоговейные… в) Научаемся прославлять бога сердцем и усты, мыслями и всею своею жизнию…
г) Научаемся, наконец, стремиться к богу, как нашему высочайшему благу, и в нем одном искать для себя полного успокоения…
2) Размышляя, в частности, о каждом порознь из свойств существа божия, отличающих бога от его созданий, можно извлекать для себя новые уроки. И —
а) Если один бог самобытен, т. е. ничем никому не одолжен, тогда как все другие существа, следовательно и мы, одолжены ему всем: то мы должны: аа) постоянно смиряться перед ним…
б) Если он один независим и вседоволен, а потому «благих наших не требует» (Пс. 15, 2), напротив сам «дает всем живот, дыхание и вся» (Деян. 17, 25), то мы должны – аа) питать в себе чувство совершеннейшей зависимости от него и всецелой ему покорности, и бб) принося ему какие-либо дары или жертвы, отнюдь не думать, будто бы тем одолжаем вседовольного, когда всё, что ни имеем, есть его собственность.
в) Уверенность, что мы всегда находимся пред лицем самого бога вездесущего, где бы ни находились, – аа) естественно располагает нас вести себя пред ним со всею осмотрительностию и благоговением; бб) может удерживать нас от грехов… вв) может ободрять и утешать нас во всех опасностях… гг) может возбуждать нас к призыванию, славословию и благодарению господа на всяком месте…
г) Памятуя, что един бог вечен, тогда как всё прочее, окружающее нас на земле, временно и скоропроходяще, научаемся – аа) не прилепляться душею своею к благам гиблющим… бб) «не надеяться на князи и на сыны человеческие»…
д) Мысль о совершенной неизменяемости божией – аа) еще более может побуждать нас к этому исключительному упованию на бога… бб) может вместе возбуждать нас к подражанию неизменяемости божией, в нравственном смысле, т. е. к возможной твердости и постоянству во всех благочестивых стремлениях нашего духа и в неуклонном шествовании по пути добродетели и спасения.
е) Живая вера в бога всемогущего научает нас – аа) просить его помощи и благословения во всех наших предприятиях… бб) не опасаться ничего и не упадать духом среди самых великих опасностей, если только творим угодное ему и тем привлекаем на себя его благоволение… но – вв) страшиться и трепетать его самого, если творим ему неугодное…
3) Обратим ли внимание свое на свойства ума божия, найдем и здесь для себя немало назидательного.
а) Бог всеведущ, какое утешение и ободрение для праведника!… Людей… обмануть можно, но бога никогда.
б) Бог бесконечно премудр : итак – аа) да не смущаются наш ум и сердце, если в жизни ли общественной, или в природе мы увидим какие-либо явления, повидимому, угрожающие всеобщею гибелью и разрушением… бб) не станем малодушествовать или роптать на бога, если нам самим придется быть в тесных обстоятельствах… вв) научимся, по мере сил своих, подражать его высочайшей премудрости…
4) Наконец, каждое из свойств воли божией или только представляет нам образ для подражания, или вместе внушает и некоторые другие нравственные наставления.
а) Бог называется высочайше-свободным потому, что он сам избирает всегда одно только добро, и избирает без всякого стороннего принуждения или побуждения: вот в чем должна состоять и наша истинная свобода! В возможности и свободно приобретенном навыке творить одно добро потому только, что оно добро, а не в произволе творить добро или зло, как обыкновенно думают, и тем менее в произволе творить одно зло…
б) Бог высочайше свят, и нам заповедал: «да освятитеся и будете святи, яко свят есмь аз, господь бог ваш» (Лев. 11, 44)…
в) Бог бесконечно благ ко всем своим тварям и, в частности, к нам: это – аа) научает нас благодарить его за все его благодеяния и за отеческую любовь воздавать сыновнею любовию: «возлюбим его, яко той первее возлюбил есть нас» (1 Иоан. 4, 19).
Ни толка, ни смысла, ни даже какой-нибудь связи, кроме той, что французы называют à propos.21 И в самом деле, из того, что бог един, и неизмерим, и дух, и троичен, какое может быть нравственное приложение? Так что замечательно не то, что изложение этих приложений догмата несвязно и дурно написано, а то, что придумано к догмату, не могущему иметь никакого приложения, какое бы то ни было приложение. И невольно приходит в голову: зачем же мне знать эти непонятные, исполненные противоречий догматы, когда из знания их ни для кого ровно ничего вытекать не может?
ГЛАВА V
«Глава II. О боге, троичном в лицах» (стр. 156). Не приступая еще к раскрытию самого догмата, я невольно останавливаюсь перед словом: «в лицах», «лице божие». Я прочел и изучил изложение догмата о существе божием; там не было определения слова «лица» или «ипостаси», которое было употреблено при определении троицы. (Только в том месте, где оспаривались антропоморфисты, сказано, что под лицами нужно разуметь «проявление и обнаружение бога в делах». Но, очевидно, это не относится к троице.) Но, может быть, определение этого слова, столь необходимое для постигновения троицы, выяснится из самого изложения?
Читаю дальше.
Вот вступление:
Истины о боге, едином по существу, и его существенных свойствах, доселе нами изложенные, не объемлют собою всего христианского учения о боге. Признавая только, что бог есть един, мы не вправе называться христианами: единого бога признают и иудеи, не признавшие Христа-спасителя за мессию и отвергающие христианство, исповедуют и магометане, допускали и допускают многие древние и новые еретики в недрах самого христианства. Полное христианское учение о боге, которое необходимо содержать сердцем и исповедывать устами, чтобы достойно носить имя христианина, состоит в том, что бог и един и троичен, един по существу, троичен в лицах (стр. 156).
Что это значит? Все перечисленные в отделе о существе бога свойства бога, как беспредельность, неизмеримость и другие, исключают понятие лица. То, что бог есть дух, еще более несогласимо с лицом. Что же значит «в лицах»? Ответа нет, и изложение идет далее:
Это, учение составляет самый коренной догмат собственно христианский, на нем непосредственно основываются и, следовательно, с отвержением его неизбежно отвергаются догматы о нашем искупителе господе Иисусе, о нашем освятителе – всесвятом духе и затем, более или менее, все до одного догматы, какие только относятся к домостроительству нашего спасения. И исповедуя, что бог один по существу и троичен в лицах (стр. 156).
По существу бог един и бог – дух, сказано в предшествующем. Помимо существа, сказано, что он имеет 14 свойств. Все свойства исключают понятие лица. Что же такое «в лицах»? Стало быть, есть третье еще деленье бога. То было 1) по существу и 2) по свойствам. Теперь прибавляется еще третье деление: по лицам. На чем основано это деление? Ответа нет, и изложение продолжается.
Исповедуя так, мы отличаемся не от язычников только и некоторых еретиков, допускавших многих или двух богов, но и от иудеев, и от магометан, и от всех еретиков, признававших и признающих только единого бога (стр. 156).
Да что мне за дело, от кого я отличаюсь? Чем менее я отличаюсь от других людей, тем мне лучше. Что такое лица? Ответа нет, и изложение продолжается.
Но, будучи важнейшим из всех христианских догматов, догмат о пресв. троице есть вместе и непостижимейший (стр. 157).
От этого-то я и жажду хоть не разъяснения, а такого выражения, которое бы было постижимо. Если он вполне непостижим, то его нет.
Немало уже непостижимого видели мы, когда излагали учение о боге едином по существу и его существенных свойствах, особенно о его самобытности, вечности, вездеприсутствии (стр. 157).
Тут не было ничего непостижимого. Всё это были с разных сторон выражения первого понятия о существовании бога, такого понятия, которое свойственно всякому верующему в бога человеку. Выражения эти были большей частью неправильно употреблены, но непостижимого в них не было ничего.
Немало непостижимого увидим и впоследствии, при раскрытии догматов о воплощении и лице нашего спасителя, об его крестной смерти, о приснодевстве богоматери, и действиях в нас благодати и подобное. Но таинство таинств христианских есть, бесспорно, догмат о пресв. троице, как в одном боге три лица, как и отец есть бог, и сын есть бог, и св. дух есть бог, однакож не три бога, но един бог, – это совершенно превышает всякое наше разумение (стр. 157).
Вот это-то самое я и спрашиваю, что такое значит?
Отец церкви говорит:
«Какой образ рассуждения, какая сила и могущество рассудка, какая живость ума и проницательность соображения покажут нам… как существует троица?» И в другом месте: «впрочем, что такое она есть, это неизреченно, этого не может изъяснить даже язык ангельский, а тем более человеческий» (стр. 157, прим. 393).
Троица есть бог. Что есть бог и как он существует, превышает мое разумение. Но если существо бога превышает мое разумение, то я и не могу ничего знать о существе божием. Если же мы знаем, что он есть троица, то надо сказать, что мы разумеем под этим знанием. Что значат эти слова в отношении к богу? Но до сих пор нет объяснения этих слов, и изложение идет далее.
И вот отчего ни о какой догмат столько не претыкались еретики, покушавшиеся объяснить истины веры собственным разумом, как о таинство пресв. троицы. А потому, если где, то преимущественно здесь необходимо нам строго держаться положительного учения церкви, охранявшей и защищавшей этот догмат от всех еретических мнений и изложившей его, для руководства православным, со всею возможною точностью (стр. 157 и 158).
Этого-то изложения я и ищу, т. е. такого, при котором бы я мог понять, что значит: бог один и три. Ибо, если я, не понимая, скажу, что я верю, и всякий, кто скажет, что он верит, что бог один и три, тот солжет, потому что нельзя верить в то, чего не понимаешь. Языком повторить можно, но верить нельзя в слова, которые не то что не имеют смысла, а прямо нарушают здравый смысл. И вот православная церковь с точностью излагает это учение.
«Един бог отец слова живого, премудрости и силы самосущей, и образа вечного: совершенный родитель совершенного, отец сына единородного. Един господь, единый от единого, бог от бога, образ и выражение божества, слово действенное, мудрость, содержащая состав всего, и сила, зиждущая всё творение; истинный сын истинного отца, невидимый невидимого, нетленный нетленного, бессмертный бессмертного, вечный вечного. И един дух святый, от бога исходящий, посредством сына явившийся, то есть людям: жизнь, в которой причина живущих; святый источник; святыня, подающая освящение. Им является бог отец, который над всем и во всем, и бог сын, который через всё. Троица совершенная, славою и вечностью, и царством нераздельная и неразлучная. Почему нет в троице ни сотворенного, ни служебного, ни привходящего, чего бы прежде не было и что вошло бы после. Ни отец никогда не был без сына, ни сын без духа; но троица непреложна, неизменна и всегда одна и та же». «Вера кафолическая сия есть: да единого бога в троице, и троицу во единице почитаем, ниже сливающе ипостаси, ниже существо разделяюще. Ина бо есть ипостась отча, ина сыновня, ина святого духа. Но отчее, и сыновнее, и святого духа, едино есть божество, равна слава, соприсносущно величество. Яков отец, таков и сын, таков и святый дух. Тако: бог отец, бог сын, бог и дух святый: обаче не три бози, но един бог… Отец ни от кого есть сотворен, ни создан, ниже рожден. Сын от отца самого есть не сотворен, ни создан, но рожден. Дух святый от отца не сотворен, не создан, ниже рожден, но исходящ… И в сей троице ничтоже первое или последнее, ничтоже более или менее; но целы три ипостаси, соприсносущны суть себе и равны» (стр. 158 и 159).
Вот изложение со всею возможною точностью. Читаю дальше:
Всматриваясь внимательнее в это учение православной церкви о пресв. троице, не можем не заметить, что оно слагается из трех положений: одного общего и двух частных, непосредственно вытекающих из общего и раскрывающих его собою.
Общее положение: в боге, едином по существу, три лица или ипостаси: отец, сын и св. дух. Положения частные: первое: как едино по существу, три лица в боге равны между собою и единосущны: и отец есть бог, и сын есть бог, и св. дух есть бог, но не три бога, а один бог. Второе: как, однакож, три лица, они различны между собою по личным свойствам: отец не рожден ни от кого, сын рожден от отца, дух святый исходит от отца (стр. 159).
Я ничего не пропускал, ожидая разъяснения. И что же? Писатель не только не считает нужным разъяснить, что такое тут сказано, но он, всмотревшись внимательно, нашел и тут подразделения и идет дальше.
Не получив никакого не то что определения лиц троицы, но определения слова «лица», тогда как так напрасно подробно говорено было о существе и свойствах бога, я невольно начинаю подозревать, что и писатель, и церковь не имеют определения этого слова и потому говорят, сами не зная, что они говорят. И подозрение мое тотчас же подтверждается следующим параграфом (§ 25).
Как всегда, после изложения непонятного догмата, следует изложение того спора, из которого это изложение возникло. И тут говорится:
Что бог, единый по существу, троичен в лицах, это всегда и неизменно исповедывала св. церковь с самого начала, как свидетельствуют ее символы и другие неопровержимые доказательства (стр. 160).
Какое это начало, остается неизвестным, но по здравому смыслу, по историческим данным, даже по изложению тут же, в этом параграфе и в 28 параграфе различных мнений противных, видно, что такого начала не было, а что догмат этот понемногу образовывался. Далее следует тотчас же подтверждение и того, что догмат этот образовался не с какого-то неопределенного «самого начала», а с очень определенного исторического периода церковной истории.
Но образ выражения сей истины в первые века был неодинаков даже у православных учителей веры. Одни употребляли слова: οὐϐία, φύϐις, substantia, natura для означения существа или сущности в боге; другие, впрочем весьма немногие и весьма редко, употребляли эти слова для означения божеских лиц. Равным образом некоторые словами: ὐπόστασις, ὕπαρξις или τρόπος ὑπὰρξεως означали лица в боге; другие, напротив, означали этими словами существо божие, а для означения лиц употребляли слова πρόσωπον, persona. Разность употребления слова ипостась повела было даже к немаловажным спорам на Востоке, особенно в Антиохии, и породила на некоторое время несогласие между восточными и западными церквами, из которых первые учили, что в боге надобно исповедывать три ипостаси, опасаясь упрека в савелианизме, а последние утверждали, что в боге одна ипостась, опасаясь упрека в арианизме. Для разрешения недоумений созван был в Александрии (362 г.) собор, на котором, вместе с св. Афанасием Великим, присутствовали епископы из Италии, Аравии, Египта и Ливии. На соборе выслушаны были представители той и другой стороны, и оказалось, что обе стороны веровали совершенно одинаково, различаясь только в словах, что православны и те, которые говорили: «в боге едино существо и три ипостаси», и те, которые говорили: «в боге одна ипостась и три лица», – так как первые употребляли слово ипостась. вместо πρόσωπον, persona, лице, a последние – вместо οὐσία, substantia, существо (стр. 160 и 161).
Далее говорится, что если сначала различно, т. е. скорее безразлично, употребляли слова: οὐσία и ὐπόστασις, «то в VI, VII и последующих столетиях оно является уже совершенно общепринятым», т. е. употребление ипостасис по отношению к трем, a οὐσία – к одному. Так что, если бы я имел малейшую надежду получить разъяснение того, что надо разуметь под словом «лицо», то самое, на основании чего делится 1 на 3, то, прочтя это изложение употребления слов отцами, я уже совершенно понял, что такого определения (неизбежно необходимого для понимания троицы) нет и не было; и отцы говорили слова, не приписывая им никакого значения, и оттого употребляли их безразлично то в одном, то в противоположном смысле и сошлись, наконец, не на понятиях, но на словах. Это самое и подтверждается следующим:
Но тогда как православные учители веры разнились только в словах, исповедуя неизменно единого бога в троице и троицу в единице (стр. 162).
То есть уже без всякого объяснения: единица равна троице, троица равна единице. Тогда как св. отцы так исповедывали:
еретики извращали самую мысль догмата, одни отрицая троичность лиц в боге, другие допуская трех богов (стр. 162).
Опять одни говорят – черное, другие говорят – белое. Оба неправы, а мы говорим – черное, и мы говорим – белое. А почему это так? А потому, что так сказала церковь, т. е. предание тех людей, которые верят в это самое предание. Вот понятия «еретиков», отрицавших троичность:
а) Еще при жизни апостолов – Симон Волхв: он учил, что отец, сын и св. дух суть только проявления и образы одного и того же лица и что единый бог, в качестве отца, открыл себя самарянам, в качестве сына во Христе – иудеям, в качестве духа святого – язычникам; б) во втором веке – Праксей: утверждал, что один и тот же бог, как сокровенный в самом себе, есть отец, а как явившийся в деле творения и потом в деле искупления, есть сын, Христос; в) в третьем веке – Ноеций, признававший также отца и сына за одно лицо, за одного бога, который вочеловечился и потерпел страдания и смерть; Савелий – учивший, что отец, сын и св. дух суть только три имени, или три действия (ἐνεργειαι) одного и того же лица, бога, воплотившегося и вкусившего за нас смерть, и Павел самосатский, по словам которого сын и св. дух находятся в боге, как ум и сила в человеке; г) в четвертом веке – Маркелл Анкирский и ученик его Фотин: они проповедывали вслед за Савелием, что отец, сын и св. дух суть только имена одного и того же лица в боге и вслед за Павлом самосатским, что сын, или слово, есть ум божий, а св. дух – божия сила (стр. 162 и 163).
Вот понятия других еретиков:
Общая мысль всех их была та, что хотя божеские лица: отец, сын и св. дух – одного существа, но не едино по существу, имеют одну природу, но имеют ее каждый отдельно, как, например, три лица человеческого рода, и потому суть три бога, а не один бог (стр. 163).
Не решая вопроса о том, истинно или ложно было учение еретиков, я не могу не сказать, что понимаю то, что они говорили. И точно так же, не входя в рассуждение о том, справедливо ли, что бог один и три, я не могу не сказать, что я не понимаю, что это значит, несмотря на то, что догмат этот излагается во всей полноте, как говорит писатель. Во всей полноте догмат этот излагается так:
«Да единого бога в троице и троицу во единице почитаем, ниже сливающе ипостаси, ниже существо разделяюще». «Ниже сливающе ипостаси»: т. е. признавая отца, сына и св. духа не за три только имени, или образа, или проявления одного и того же бога, как представляли еретики, не за три также свойства его или силы, или действия, но за три самостоятельные лица божества, поколику каждое из них – и отец, и сын, и св. дух, обладая божеским умом и прочими божескими свойствами, имеет свое особенное личное свойство: «ина бо есть ипостась отча, ина сыновня, ина святого духа». Ниже существо разделяюще: т. е. представляя, что отец, сын и св. дух суть едино по естеству, существуют нераздельно один в другом и, различаясь между собою только по личным свойствам, имеют тождество ума, воли всех прочих божеских свойств, – а совсем не так, как существуют три неделимые какого-либо класса существ между тварями, имеющие одну природу. «Между тварями, скажем словами св. Иоанна Дамаскина, общая природа неделимых усматривается только разумом: потому что неделимые не существуют одно в другом, но каждое особо и отдельно, т. е. само по себе, и каждое имеет много такого, чем от другого отличается. Они отделяются по месту и времени, различны по расположениям воли, по крепости, по внешнему виду или образу, по навыкам, по темпераменту, по достоинству, по роду жизни и по прочим отличительным свойствам, а более всего по тому, что существуют не одно в другом, но отдельно. Посему-то говорится: два, три человека и многи. Но в святой, пресущественной, всепревосходящей, непостижимой троице видим иное. Здесь общность и единство усматриваются на самом деле, по совечности лиц, по тождеству сущности, действования и воли, по согласию определений, по тождеству – не говорю – по подобию, но по тождеству (ταυτότητα) власти, могущества и благости и по единому устремлению движения… Каждая из ипостасей имеет единство с другою не меньше, как и сама с собою: т. е. отец, сын и дух святой во всех отношениях, кроме нерожденности, рождения и исхождения, суть одно, разделяются только в умопредставлении (ἐπίνοια). Ибо единого знаем бога, а только в свойствах отчества, сыновства и исхождения представляем различие… В неограниченном божестве нельзя допустить, как в нас, ни местного расстояния, потому что ипостаси существуют одна в другой, но так, что не слиты, а соединены по слову господа: «Аз во отце и отец во мне (Иоан. 14, 11); ни различия воли, определений, действования, силы или чего другого, что в нас производит действительное и совершенное разделение. Посему отца, сына и духа святого признаем не тремя богами, но единым богом во св. троице». В том-то и заключается вся непостижимость таинства пресв. троицы, что три самостоятельные лица божества суть едино по существу и совершенно нераздельны, а если бы они существовали отдельно друг от друга, как три неделимые между тварями: тут не было бы для нас ничего непостижимого. «Божество единица и троица есть: о преславного обращения! Соединяемая естеством, делится лицы свойственно: несекома бо сечется, едино сущи троится: сия отец есть, сын и дух живый, соблюдающая все» (стр. 164 и 165).
Конец главы.
Так вот оно, всё это учение, вся эта богооткровенная истина, открытая мне во всей полноте для моего спасения. «Божество единица и троица есть. О преславного обращения!» И изложение, и разъяснение кончено и другого не будет. И это мне устами своей церкви говорит мой отец бог, мне, своему сыну, всеми силами души ищущему истины и спасения. На мои мольбы и слезы отчаяния он отвечает мне: «несекома бо сечется, едино сущи троится: сия отец есть, сын и дух живый, соблюдающая все». И на требования моего, данного для постигновения бога, разума другого ответа не будет. Сказать, что я понял это, я не могу, и не может никто, и потому не могу сказать, что верю. Языком я могу сказать: я верю, что «едино сущи троится. О преславного обращения!» Но если я скажу это, я буду лжец и безбожник, и этого самого требует от меня церковь, т. е. те люди, которые утверждают, что они верят в это. Но это неправда: они не верят, и никто никогда не верил в это. Поразительное явление: у нас в России христианство уже 1000 лет скоро. Тысячу лет пастыри учат паству основам веры. Основа веры есть догмат троицы. Спросите у мужиков, у баб, что такое троица – из десяти едва ли ответит один. И нельзя сказать, чтобы это происходило от невежества. А спросите, в чем учение Христа, всякий ответит. А догмат троицы не сложен и не длинен. Отчего же никто не знает его? Оттого, что нельзя знать того, что не имеет смысла.
Далее следуют доказательства того, что эти истины, т. е. то, что бог – троица, открыты людям богом. Доказательства делятся на доказательства из Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете, который составляет учение евреев, тех евреев, которые считают троицу величайшим кощунством, в этом Ветхом Завете отыскиваются доказательства того, что бог открывал людям про свою троичность. Вот эти доказательства из Ветхого Завета: 1) что бог сказал: «сотворим», а не «сотворю»: это значит, что он разговаривал втроем с сыном и духом (стр. 165, 166). Что он сказал: «Адам – един от нас». Под словом «нас» разумелось трое: отец, сын и дух. Сказано: «смесим язык», а не «смешу»; значит, что бог втроем хотел смесить язык. 2) Что к Аврааму пришли три ангела, – это отец, сын и дух приходили в гости к Аврааму (стр. 169). Что в Книге числ велено три раза повторять слово «господь». Что в Псалтыре сказано: «вся сила их» (стр. 170). «Их» – доказательство троицы. Третье доказательство троицы то, что Исаия сказал три раза: свят, свят, свят. Четвертое доказательство – это все места Ветхого Завета, где сказаны слова: сын и дух (Пс. 109, 1; Пс. 2, 7; Ис. 48, 16; Ис. 11, 23; Ис. 61, 1; Пс. 32, 6). «Господь мой рече ко мне: сын мой еси ты! аз днесь родих тя»; «господь, господь посла мя и дух его, и почиет на нем дух божий» и т. п. (стр. 172).
И вот все доказательства из Ветхого Завета. Я не пропустил ни одного. Писатель видит сам, что доказательства плохи и что таких доказательств можно найти столько же или больше в какой угодно книге, и потому считает нужным дать объяснения.
Далее говорится:
А почему не вполне ясные, почему угодно было богу открыть в Ветхом Завете таинство пресв. троицы только в некоторой степени, – это скрывается в планах его бесконечной премудрости. Богомудрые учители полагали тому преимущественно две причины: а) одну в свойстве вообще человеческой природы, ограниченной и поврежденной, которую надлежало возводить к познанию высочайших тайн откровения только постепенно, по мере раскрытия и укрепления ее сил и приемлемости: «небезопасно было, – рассуждает св. Григорий Богослов, – прежде нежели исповедано божество отца, ясно проповедывать сына, и, прежде нежели призван сын (выражусь несколько смело), отягчать нас проповедию о духе святом и подвергать опасности утратить последние силы, как бывает с людьми, которые обременены пищею, принятою не в меру, или слабое еще зрение устремляют на солнечный свет: надлежало же, чтоб троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, как говорит Давид, восхождениями (Пс. 83, 6), поступлениями от славы в славу и преуспеяниями»; б) другую – в свойстве и слабостях еврейского народа, которому и сообщаемо было ветхозаветное откровение: «Бог, по своей бесконечной премудрости, – говорит блаженный Феодорит, – не благоволил сообщить иудеям ясного познания о св. троице, чтобы они не нашли в этом для себя повода к поклонению многим богам, – они, которые так были склонны к нечестию египетскому, – и вот почему, после пленения Вавилонского, когда иудеи почувствовали явное отвращение от многобожия, в их священных и даже не священных книгах встречается гораздо более и яснейших мест, нежели прежде, в которых говорится о божеских лицах». Заметим, наконец, что, перебирая места Ветхого Завета, представляющие намеки на таинство пресв. троицы, мы имели в виду преимущественно показать, что учение о сем таинстве отнюдь не ново в Новом Завете, как говорят позднейшие иудеи, что и ветхозаветные праведники веровали в того же самого триипостасного бога – отца и сына и св. духа, в которого веруем и мы… Но главные основания этого важнейшего из догматов христианских, без всякого сомнения, содержатся в книгах Нового Завета (стр. 173 и 174).
И вот доказательства из Нового Завета. Первое доказательство находится богословием в беседе Христа с учениками. «Веруйте в меня, яко аз во отце, и отец во мне». «И еже аще что просите от отца во имя мое, то сотворю: да прославится отец в сыне» (Иоан. 14, 11, 13). Из того, что Иисус Христос называет себя сыном отца бога точно так же, как он учил всех людей считать себя сынами бога, выводится то, что Иисус Христос есть второе лицо бога. Говорится:
Здесь, очевидно, различаются первые два лица св. троицы: отец и сын (стр. 175).
Второе доказательство берется из того места, где Иисус Христос говорит ученикам: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», «И я умолю отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек», «духа истины, которого мир не может принять» (Иоан. 14 гл., 15, 16, 17). (Последние слова не выписаны.)
Из этого выводится, что:
Здесь различаются уже все три лица пресв. троицы, и именно как лица: сын, который говорит о себе: «аз умолю»; отец: «умолю отца»; дух святый, который называется «иным утешителем» (стр. 175).
То, что параклет, т. е. утешитель, которого обещает Христос своим ученикам после своей смерти, назван им один раз в этой беседе духом святым, это признается доказательством того, что Христос в этой беседе открывал таинство святой троицы; тот же смысл, который имеет это слово во всей беседе, то, что в этой же беседе этот же самый утешитель называется Христом духом истины, тем самым, чем Христос называет свое учение, на это не обращено никакого внимания. «Иду и опять приду к вам» (Иоан. 14, 28); «и я в вас и вы во мне» (14, 20). «Не оставлю вас сиротами, а приду к вам» (Иоан. 14, 18). «И кто любит меня, тот слово мое исполняет; возлюбит его отец мой, и мы придем к нему и в нем поселимся» (14, 23). «И дух истины от моего возьмет и вам возвестит» (Иоан. 16, 14).
Эти места беседы, объясняющие весь ее смысл, не приводятся, но слово «святый», приложенное эпитетом к духу, считается доказательством того, что здесь Христос говорил о третьем лице троицы.
в) Далее (стр. 176) слова:
«Егда же приидет утешитель, его же аз послю вам от отца, дух истины, иже от отца исходит, той свидетельствует о мне» (Иоан. 15, 26). —
Эти слова, которые совершенно ясно и просто говорят то, что «когда меня не будет в живых, а вы будете проникнуты духом истины, той истины, которой я научил вас от бога, тогда вы уверитесь в истине моего учения», эти слова принимаются новым доказательством того, что —
Здесь, кроме того, что, как и в предыдущих текстах, ясно различаются все три лица св. троицы: отец, сын и св. дух, показывается вместе единосущие св. духа со отцем: «дух истины, иже от отца исходит» (стр. 176).
г) Слова: «Сего ради рех, яко дух истины от моего приимет и возвестит вам» (Иоан. 16, 14), – слова, которые ясно говорят, что дух истины есть дух учения, преподанного Иисусом Христом, эти слова служат доказательством того, что —
здесь выражается едино сущие св. духа с сыном (стр. 176).
д) Слова: «От бога изыдох», «изыдох от отца» (Иоан. 16, 27 и 28), которые ничего иного не могут значить, как сыновнее отношение к богу всякого человека, то самое, что проповедовал Иисус Христос, принимаются доказательством того, что —
здесь с новою силою выражается мысль о единосущии сына с отцем(стр.176).
Второе доказательство из Нового Завета – это заключительные слова Ев. Матфея: «Шедше убо научите вся языцы, крестяще их во имя отца и сына и святого духа» (28, 19), которые сказал Иисус Христос, после воскресения явившись ученикам.
Не говоря о значении и особенном характере вообще всей части Евангелий по воскресении, о чем будет говорено после, слова эти служат только доказательством того, как и понимает это церковь, что при вступлении в христианство необходимо было признавать отца, сына и святого духа, как основы учения. Но из этого никак не следует того, что бог состоял из трех лиц, и потому требование употребления слов: отец, сын и дух никак не может иметь ничего общего с доказательствами существования бога в трех лицах.
Богословие само признает, что обычная формула крещения никак не может считаться доказательством троичности бога, и потому на стр. 177 и 178 объясняет, почему надо понимать под этими словами бога в трех лицах. Объяснения следующие:
Иисус Христос
неоднократно выражал апостолам, что под именем отца он разумеет собственно бога отца, под именем сына разумеет самого себя, которого, действительно, и апостолы исповедали уже сыном божиим, исшедшим от бога (Матф. 16, 16; Иоан. 16, 30); наконец под именем духа разумеет «иного утешителя», которого он уже обетовал ниспослать им от отца вместо себя (Иоан. 14, 16; 15, 26) (стр. 177).
Что под отцом Христос разумел бога, в этом не требуется доказательств, ибо это признается всеми, но что под сыном он разумел себя и под духом новое лицо троицы, на это нет и не может быть доказательств. Приводятся в доказательство того, что он второе лицо, Мф. 16, 16, где Петр говорит Христу то самое, что Христос всегда говорит про всех людей, т. е, что они сыны бога; и Иоан. 16, 30, в котором ученики говорят ему то самое, чему он учит всех людей. Для доказательства же отдельности третьего лица повторяются опять стихи Иоанна 14, 16; 15, 26, которые означают совсем другое.
Иисус Христос под именем духа истины разумеет утешителя, или под именем утешителя разумеет дух истины, но не может разуметь никакое третье лицо. Доказательство самое ясное того, что в Евангелиях нет доказательств, есть то, что, кроме этих мест, ничего не доказывающих, нельзя подыскать ничего другого. Но богословие, не стесняясь этим, считает свой тезис доказанным и говорит:
Следовательно, и в настоящем случае, так как спаситель не счел нужным присовокупить нового объяснения означенных слов, он сам разумел, и апостолы могли разуметь под именем отца и сына и св. духа не кого-либо другого, как три божеские лица (стр. 177).
Третье, последнее и главнейшее доказательство из Нового Завета – это слова Иоанна в первом послании, 5, 7: «Трие суть, свидетельствующий на небеси: Отец, слово и св. дух и сии три едино суть». В богословии говорится:
В этом месте еще яснее, нежели в предыдущем, выражаются и троичность лиц в боге и единство существа. Троичность лиц: ибо отец, слова и св. дух называются тремя свидетелями: следовательно, они различны между собою, следовательно, слово и дух, поставляемые свидетелями наравне со отцем, не суть только два свойства его, или силы, или действия, а суть такие же лица, как и отец. Единство существа: ибо если бы слово и св. дух имели не одну и ту же божескую природу и существо со отцем, а имели природу низшую, тварную, в таком случае между ними и отцем было бы бесконечное расстояние, и никак уже нельзя было бы сказать: «и сии три едино суть» (стр. .179).
Но, к сожалению, хотя это место, как ни слабо, но все-таки могло бы служить хоть каким-нибудь – не доказательством, но поводом к утверждению, что бог – один и три, но, к сожалению, не все согласны с богословами. Говорится:
Несправедливо хотят ослабить силу этого места, утверждая, будто здесь три свидетеля небесные, отец, слово и св. дух, представляются чем-то единым не по отношению к их существу, а только по отношению к их единогласному свидетельству, точно так, как и три свидетеля земные, упоминаемые в следующем стихе: «трие суть свидетельствующий на земли, дух и вода и кровь: и трие во едино суть (—8), составляют едино, без сомнения, не по существу, а только по отношению к свидетельству. Должно заметить, что – а) сам св. апостол ясно различает единство свидетелей небесных и единство свидетелей земных: о последних, которые, действительно, различны между собою или раздельны по существу, он выражается только : «и трие во едино суть» (καὶ οἱ τρεῖς ἐς τὸ ἕν εἱσιν), т. е. во едино по отношению к свидетельству; но о первых говорит: «и сии три едино суть» (καὶ οὔτοι οἱ τρεῖς τὸ εν εἱσιν), а не во едино: следовательно, едино суть гораздо более, нежели свидетели земные, едино не по отношению только к свидетельству, а и по существу. Это тем достовернее, что —
б) сам же св. апостол в следующем стихе называет свидетельство свидетелей небесных, без всякого различия, свидетельством божиим: «аще свидетельство человеческое приемлем, свидетельство божие более есть»; следовательно, предполагает, что три свидетеля небесные «суть едино», именно по божеству, или суть три божеские лица. Тем достовернее, что —
в) тот же св. апостол еще прежде, в Евангелии своем, уже упоминает о каждом из трех небесных свидетелей – отце, сыне, или слове, и св. духе и упоминает как о трех лицах божеских, единосущных между собою, излагая слова спасителя: «аще аз свидетельствую о себе, истинно есть свидетельство мое: яко вем, откуда приидох и камо иду. Аз есмь свидетельствуяй о мне самом, и свидетельствует о мне пославый мя отец» (Иоан. 8, 14, 18; снес. – 5, 32, 37); и «егда приидет утешитель, его же аз послю вам от отца, дух истины, иже от отца исходит, той свидетельствует о мне» (—15, 26). «Он мя прославит, яко от моего приимет, и возвестит вам. Вся, елика имать отец, моя суть; сего ради рех, яко от моего приимет и возвестит вам» (—16, 14, 15) (стр. 179 и 180).
Еще более несчастливо, что это самое единственное место, хотя слабо, но хоть сколько-нибудь подтверждающее слова о трех богах и одном, это самое место, оказывается, по свидетельству богословия, спорным, по единогласному же свидетельству всей ученой критики – подложным:
Несправедливо также стараются заподозрить подлинность рассматриваемого нами места, указывая на то, что его нет в некоторых греческих списках Нового Завета и в некоторых переводах, особенно восточных, и на то, что его не употребляли древние отцы церкви, каковы: св. Григорий Богослов, Амвросий, Иларий, ни соборы – Никейский, Сардийский и другие, бывшие против ариан, хотя стих этот мог служить важным оружием против еретиков и хотя некоторые отцы пользовались для сего 6 и 8 стихами той же главы, гораздо менее сильными и решительными. Все эти доказательства предполагаемой неподлинности рассматриваемого стиха вовсе недостаточны для своей цели и притом опровергаются доказательствами положительными (стр. 180).
Вот все доказательства из св. писания Ветхого и Нового Завета. Единственное место из всего писания, представляющее подобие того утверждения о том, что бог 1 и 3, это место спорное, и действительность его подтверждается полемикой составителя богословия. Но есть еще доказательства: свящ. предание.
§ 28. Подтверждение той же истины из св. предания. Как ни ясны и многочисленны места св. писания, особенно Нового Завета, содержащие в себе учение о троичности лиц и боге едином, но нам необходимо здесь обратиться и к свящ. преданию, сохраняющемуся в церкви с самого ее начала. Необходимо потому, что все эти места писания подвергались и подвергаются различным перетолкованиям и спорам, которые не иначе могут быть окончательно решены, по крайней мере для верующих, как: только голосом апостольского предания и древней церкви. Необходимо и для того, чтобы защитить самую церковь от несправедливого упрека вольнодумцев, будто она начала преподавать такое учение о трех ипостасях в боге только с четвертого века или с первого вселенского собора, а прежде это учение или вовсе было в ней неизвестно, или преподавалось совсем иначе. Нить предания, следовательно, достаточно провести только до четвертого века или до первого вселенского собора и показать, учила ли и как учила о пресв. троице древняя христианская церковь в три первые века (стр. 191 и 192).
Так что мало того, что из богословия мы узнали, что доказательств троицы нет никаких в писании, кроме полемики составителя богословия, мы узнали и то, что нельзя утверждать и того, чтобы церковь всегда держалась этого предания, что единственной основой для этого утверждения нам остается полемическое искусство составителя богословия.
Я прочел все доказательства 28-го параграфа, на пятнадцати страницах доказывающие то, что церковь всегда исповедывала троицу, но доказательства эти не убедили меня, не потому, что я читал доказательства противного, более точные и убедительные, а потому, что мое чувство возмущается, и я не могу верить тому, что бог, открыв мне себя в таком бессмысленном, диком выражении: я – один и три; я – отец, я – сын, я – дух, не дал бы мне ни в своем писании, ни в своем предании, ни в моей душе средств понять, что это значит, а приговорил бы меня к тому, чтобы для решения вопроса о нем, о боге и о спасении моем, у меня не было другого средства, как поверить аргументам православного богословия против рационалистов и повторять без понимания того, что я говорю, слова, которые мне продиктует православное богословие.
Я уже готов был сделать последнее свое заключение обо всем догмате, когда, вслед за параграфом о предании, мне открылся § 29: «Отношение догмата о троичности лиц во едином боге к здравому разуму».
Позволим и мы себе сказать несколько слов об его отношении к здравому разуму, чтобы, с одной стороны, опровергнуть ложные мнения касательно этого предмета, а с другой – указать и уяснить для себя мнение истинное…
а) Христианство учит, что бог един и вместе троичен не в одном и том же отношении, но в различных, что он един именно по существу, а троичен в лицах, и иное понятие дает нам о существе божием, а иное о божеских лицах, так что эти понятия нисколько не исключают друг друга: где же здесь противоречие? (стр. 204).
Христианство дает нам иное понятие о существе божием, иное о божеских лицах. Но ведь этого я и искал – именно этого, какого-нибудь «иного» понятия о лицах и о существе. И этого-то нигде нет. И не только нет, но и не может быть, так как слова οὐσία и ипостасис то значат различное, то значат то же самое и употребляются безразлично.
Если бы христианство учило, что бог и един по существу, и троичен по существу, или что в нем и три лица, и одно лицо, или еще – что лицо и существо в боге тождественны, тогда точно было бы противоречие. Но, повторяем, христианство учит не так, и тот, кто не смешивает намеренно христианских понятий о существе и о лицах в боге, тот никогда не вздумает искать внутреннего противоречия в учении о пресв. троице (стр. 204).
Не смешивает намеренно. Да я все силы напрягал, чтобы найти в учении какое-либо различие этих понятий о существе и лицах, и не нашел. И писатель знает, что его нет.
б) Чтобы назвать какую-либо мысль противоречащею здравому разуму и самой себе, надобно предварительно совершенно уразуметь эту мысль, постигнуть значение ее подлежащего и сказуемого и видеть их несовместимость. Но по отношению к таинству пресв. троицы никто этим похвалиться не может: мы знаем только, что такое природа или существо и что такое лицо между тварями, но не постигаем вполне ни существа, ни лиц в боге, который бесконечно превосходит все свои создания. Следовательно, мы и не в состоянии судить, совместимы ли, или несовместимы понятия о боге едином по существу и о боге троичном в лицах; не вправе утверждать, будто мысль, что бог, единый по существу, троичен в лицах, заключает в себе внутреннее противоречие. Разумно ли судить, о том, чего не постигаем? (стр. 204).
В отделе а) говорилось, что иное понятие о существе, иное о лицах, что этому христианство учит. Но учения этого нигде нет. Но, положим, мы, не читая предшествовавшего, не изучив всю книгу, не убедившись, что такого различия нет, мы поверим этому. Что же, – в этом отделе б) говорится, что мы не можем, не имеем права назвать мысль «противоречащею здравому смыслу, не постигнув значения ее подлежащего и сказуемого». Подлежащее 1, сказуемое – 3. Это можно постигнуть. Если же подлежащее – 1 бог и сказуемое – 3 бога, то по законам разума противоречие то же самое. Если же, когда введено понятие бог, то 1 может быть равно 3, то, прежде чем будет неразумно судить о том, чего не постигаем, будет неразумно говорить то, чего не постигаем. А с этого – то и начинается. И эти, по признанию богословия, неразумные слова говорит высший разум и высшая благость в ответ на отчаянные мольбы своих детей, ищущих истины.
в) Напротив, здравый разум не может не признать этой мысли вполне истинною и чуждою всякого противоречия. Он не постигает ее внутреннего значения; но, на основании внешних свидетельств, достоверно знает, что эта мысль сообщена самим богом в христианском откровении; а бог – есть бог истины (стр. 205).
То, что говорится, не может быть понято, но это так на основании внешних достоверных свидетельств. Так что можно, не понимая, повторять слова, которые говорит богословие. Но в этом случае, как мы видели, и этих внешних, не только достоверных, но никаких свидетельств нет: нигде в свящ. писании не сказано, чтобы Иисус был бог, второе лицо, чтобы дух был бог, третье лицо. То, что Моисей написал, что бог говорил про себя «сотворим», нельзя назвать достоверным свидетельством. И то, что в беседе Иисуса Христа у Иоанна сказано один раз слово святой дух, когда говорилось об истине, не есть достоверное свидетельство. То, что при обращении в христианство говорили слова: во имя отца и сына и св. духа, тоже не свидетельство. Подложный стих из Послания Иоанна уже не только не свидетельство в пользу троичности, но явное свидетельство того, что доказательств нет и не было и что хотевшие доказать это сами чувствовали это. Из внешних свидетельств остается только полемика писателя с отвергающими стих Послания Иоанна и с рационалистами о том, что церковь не принимала до IV века догмата троицы.
Но, положим, я так малоумен и малограмотен, что я поверил полемике писателя и согласился с тем, что догмат троицы признается единою, святою, соборною и апостольскою непогрешимою церковью, и хочу верить в него. И то я не могу верить, потому что не могу ничего подразумевать под тем, что мне говорится о триедином боге. Я и никто другой не может признать этого догмата только уже потому, что слова, как они были выражены сначала, так и остались после длинных речей, мнимых разъяснений и доказательств словами, не могущими иметь никакого смысла для человека с неповрежденным умом. На основании церковного, священного предания можно утверждать всё, что хотите, и если предание не поколеблено, то нельзя не признать истинным того, что передается; но… надо утверждать что-нибудь, а тут ничего не утверждается, это – слова без внутренней связи. Положим, утверждалось бы, что бог живет на Олимпе, что он золотой, что бога нет, что богов 14, что бог имеет детей или сына. Всё это странные, дикие утверждения, но с каждым из них связывается понятие; с тем же, что бог 1 и 3, никакого понятия не может быть связано. И потому, какой бы авторитет ни утверждал этого, не только все живые и мертвые патриархи александрийские и антиохийские, но если бы с неба неперестающий голос взывал бы ко мне: Я – один и три, я бы остался в том же положении не неверия – тут верить не во что, – а недоумения. Что значат эти слова? На каком языке, по каким законам могут они получить какой-нибудь смысл?
Для меня же, человека, воспитанного в духе веры христианской, удержавшего, после всех заблуждений своей жизни, смутное сознание того, что в ней истина; мне, ошибками жизни и увлечениями ума дошедшему до отрицания жизни и ужаснейшего отчаяния; мне, нашедшему спасение в присоединении к тому духу веры, которую я чувствовал единственной движущей человечество божественной силой; мне, отыскивающему наивысшее доступное мне выражение этой веры, мне, верующему прежде всего в бога – отца моего, того, по воле которого я существую, страдаю и мучительно ищу его откровения; мне допустить, что эти бессмысленные, кощунственные слова суть единственный ответ, который я могу получить от моего отца на мою мольбу о том, как понять и любить его, мне этого невозможно.
Невозможно верить тому, чтобы бог, благой отец мой (по учению церкви), зная, что спасение или погибель моя зависят от постигновения его, самое существенное познание о себе выразил бы так, что ум мой, данный им же, не может понять его выражения, и (по учению церкви) скрыл бы всю эту нужнейшую для людей истину под намеками множественного числа глаголов и во всяком случае под двояким неясным толкованием слов: дух и сын в прощальной беседе Иисуса у Иоанна и в приписанном стихе в послании, и чтобы познание мое бога и спасение мое и миллиардов людей зависело от большей или меньшей ловкости словесного спора Ренанов и Макариев. Чьи лучше аргументы, тому я поверю. Нет! Если бы так, то бог дал бы мне такой разум, при котором три равно одному было бы понятно, тогда как оно невозможно теперь; и такое сердце, для которого было бы радостно сознание трех богов, тогда как оно возмутительно теперь; или по крайней мере передал бы мне это определенно и просто, а не в спорных и двусмысленных словах. И не мог бог велеть мне верить. Ведь я не верю-то именно потому, что я люблю, чту и боюсь бога. Я боюсь поверить лжи, окружающей нас, и потерять бога. Это невозможно и не только невозможно, но ясно, что это совсем не то, что я ошибся, думая найти у церкви ответ и разрешение на мои сомнения. Я думал идти к богу, а залез в какое-то смрадное болото, вызывающее во мне только те самые чувства, которых я боюсь более всего: отвращения, злобы и негодования.
Бог, тот непостижимый, но существующий, тот, по воле которого я живу! Ты же вложил в меня это стремление познать себя и меня. Я заблуждался, я не там искал истины, где надо было. Я знал, что я заблуждался. Я потворствовал своим дурным страстям и знал, что они дурны, но я никогда не забывал тебя; я чувствовал тебя всегда и в минуты заблуждений моих. Я чуть было не погиб, потеряв тебя. Но ты подал мне руку, я схватился за нее, и жизнь осветилась для меня. Ты спас меня, и я ищу теперь одного: приблизиться к тебе, понять тебя, насколько это возможно мне. Помоги мне, научи меня. Я знаю, что я добр, что я люблю, хочу любить всех, хочу любить правду. Ты, бог любви и правды, приблизь меня еще к себе, открой мне всё, что я могу понять о себе и о тебе.
И бог благой, бог истины отвечает мне устами церкви: «божество единица и троица есть. О преславного обращения!»
Да идите и вы к отцу своему, диаволу. Вы, взявшие ключи царствия небесного, и сами не входящие в него, и другим затворяющие его. Не про бога вы говорите, а про что-то другое.
Таково учение о троице, коренном христианском догмате, изложенное на 50 страницах. На этом догмате основываются и с отвержением его отвергаются догматы об искупителе, освятителе, и все до одного догмата, относящиеся к домостроительству нашего спасения. И я отвергаю этот догмат. Не могу не отвергать, потому что признанием этого догмата я отверг бы сознание своей разумной, души и сознание бога. Но, отвергнув догмат, противный человеческому разуму и не имеющий никаких оснований ни в писании, ни в предании, для меня остается все-таки необъяснимым повод, который заставил церковь исповедывать этот бессмысленный догмат и так старательно подбирать вымышленные доказательства его. И это тем более удивительно для меня, что этот страшный, кощунственный догмат так, как он изложен здесь, очевидно, ни для кого и ни, для чего не может быть нужен, что нравственного правила из него вывести невозможно никакого, как это и видно из «Нравственного приложения догмата» (§ 50) – набора бессмысленных слов, ничем между собою не связанных.
Вот приложение догмата:
1) Все лица, пресв. троицы, кроме общих свойств, принадлежащих им по естеству, имеют еще свойства особые, которыми отличаются друг от друга, так что отец есть именно отец и занимает первое место в порядке божеских лиц, сын есть сын и занимает второе место, дух святый есть дух святый и занимает третье место, хотя по божеству они все совершенно равны между собою. И каждому из нас творец даровал, кроме свойств, общих всем нам по человеческой природе, еще свойства особые, отличающие нас друг от друга, даровал особые способности, особые таланты, которыми определяется наше особое призвание и место в кругу наших ближних. Узнать в себе эти способности и таланты и употребить их во благо свое и ближних и во славу божию, чтобы таким образом оправдать свое призвание, есть непререкаемый долг каждого человека.
2) Различаясь друг от друга по личным свойствам, все лица пресв. троицы находятся, однакож, в постоянном взаимном общении между собою: отец пребывает в сыне и св. духе; сын во отце и св. духе; дух святый во отце и сыне (Иоан. 14, 10). Подобно тому и мы, при всем различии своем по личным свойствам, должны соблюдать возможное для нас взаимное общение и нравственное единение между собою, связуясь единством естества и союзом братской любви.
3) В частности, отцы между нами да научатся памятовать, чье великое имя они носят, равно как и сыны или все рожденные от отцев… и, памятуя, заботиться о том, чтобы святить носимые ими имена отца и сына чрез точное исполнение возлагаемых этими именами обязанностей.
4) Памятуя, наконец, к каким гибельным последствиям повели западных христиан самовольные мудрования о личном свойстве бога духа святого, научимся как можно строже держаться в догматах веры учения слова божия и православной церкви (стр. 348 и 349).
Так что остается непонятным, для чего утверждается этот догмат. Но мало того, что он бессмыслен, не основывается ни на писании, ни на предании и ничего из него не выходит; в действительности, по моим непосредственным наблюдениям верующих и по моему личному воспоминанию о том, когда я был верующим, выходит, что я ни сам никогда не верил в троицу, ни никогда не видал ни одного человека, верующего в догмат троицы. В народе я не встречал понятия о троице. Из ста человек из народа, мужчин и женщин, не более как три сумеют назвать лица троицы и не более как тридцать скажут, что есть троица, но не сумеют назвать лиц и включат в нее Николая Чудотворца и богородицу. Остальные и не знают про троицу. Христос признается богочеловеком, как бы старшим из святых. Св. дух совершенно неизвестен, а бог остается богом непостижимым, всемогущим, началом всего. И святому духу никто никогда не молится, никогда никто не призывает его. В более образованной среде точно так же я не встречал веры в святого духа. Много я встречал верующих особенно горячо в Христа, но никогда не слыхал упоминания о святом духе иначе, как ради богословского рассуждения. Сам я точно так же: во все те года, когда я был православно-верующим, никогда мне в голову не приходила даже мысль о святом духе. Веру и определения троицы находил я только в школах. Так что выходит, что догмат троицы неразумен, ни на чем не основан, ни к чему не нужен, и никто в него не верит, а церковь исповедует его. Для того чтобы понять, для чего церковь делает это, нужно исследовать дальнейшее изложение церкви.
И я приступаю к этому.
ГЛАВА VI
Выставлять в дальнейшем исследовании все ошибки, противоречия, бессмыслицы, лжи было бы бесполезным трудом, так как исследование двух первых глав о важнейших догматах уже показало читателю приемы мысли и выражения писателя. Я буду излагать теперь вкратце все догматы, в общей связи между собою, указывая на страницы и на главные основы, приводимые в подтверждение догматов.
Делаю я это для того, чтобы из общей связи всего учения выяснить тот смысл, который мог не выясниться из отдельных мест.
Повторю то, что было с начала, для того, чтобы в последовательности идти далее.
Есть бог. Он – един, § 13. Он дух, § 17. Он имеет бесчисленное количество свойств; но свойства, открытые нам церковью, следующие, § 19: свойства его вообще: беспредельность, самобытность, независимость, неизменность, вездеприсутствие, вечность, всемогущество. Свойства его ума, § 20: всеведение и премудрость. Свойства его воли, § 21: благость, свобода, святость, верность, правосудие.
Бог, кроме того, имеет три лица, § 24. Он один и три лица. Лица самостоятельны и нераздельны (доказательства из св. писания, §§ 26, 27 и 28). Все три лица равны между собою. Хотя и думали некоторые, что один важнее другого, это неправда: они все равны. Отец – бог, § 32; сын – бог и единосущен отцу, § 33. Приводятся споры, доказывающие противное, и доказательства из св. писания, доказывающие противное, и рассуждения о послушливости одного бога другому. То же и о божестве духа, § 35. Отец, сын и дух имеют личные свойства, § 38. Много споров приводится о личных свойствах и, наконец, излагается, что личное свойство отца (§ 39) состоит в том, что он не рожден, а рождает сына и производит св. духа:
а) Совершенно духовным образом, и, следовательно, без всякого страдания, без всякого чувственного отделения (стр. 263).
Свойство личное сына то, что он —
§ 40. 1) рождается из существа или естества отча, а не от инуды, не из ничего.
2) Сын рождается из самого существа отца, но не так, чтобы от существа отца что-либо при этом отделилось, или чтобы и отец чего-либо лишался, или сын имел какой-либо недостаток.
3) Рождение сына божия есть рождение вечное и, следовательно, никогда не начиналось, никогда и не оканчивалось.
4) Сын родился от отца, но не отделился от него, или, что то же, родился неразлучно… имеет свою ипостась, отличную от ипостаси отчей (стр. 265, 266, 267).
О личном свойстве духа, § 41.
Спор на 50 страницах о том, от кого исходит святой дух: от отца и сына или от одного отца. Спор решается разбором доказательств внешних. Доказательства следующие, § 49:
Кто же, положа руку на сердце, решится утверждать, что мы, веруя в исхождение св. духа от отца, уклонились от истины? Кто осмелится по совести укорять нас в заблуждении или ереси, когда укорять нас в заблуждении или ереси значит укорять в том же всех св. отцов и учителей церкви, значит укорять в том же вселенские соборы, не только поместные, и вообще всю древнюю церковь, значит даже укорять в заблуждении или ереси самое слово божие? Кто, повторяем, осмелится на такое богохульство? (стр. 347).
Затем следует нравственное приложение догмата троицы, выписанное прежде. Так и думаешь, что самое простое, ясное приложение всех предшествующих споров одно: что не надо говорить глупостей; главное, не надо учить тому, чего никто понимать не может, и, еще главнее, из-за этого не нарушать главной основы веры – любви и неосуждения к ближнему.
Далее «Отдел II. О боге в общем отношении его к миру и человеку. Глава I. О боге как творце». Бог сотворил мир. Вот как церковь учит об этом: § 52.
Без всякого сомнения бог есть творец всех видимых и невидимых тварей. Прежде всего он произвел мыслию своею все небесные силы, как отличных песнопевцев славы своей, и создал оный умный мир, который, по данной ему благодати, знает бога и всегда во всем предан воле его. После того сотворен богом из ничего сей видимый и вещественный мир. Напоследок бог сотворил человека, который составлен из невещественной разумной души и вещественного тела, дабы из одного сим образом составленного человека видно уже было, что он же есть творец и обоих миров, и невещественного, и вещественного (стр. 351).
За этим, как всегда, идет спор:
Одни… признавали, что мир вечен; другие допускали истечение его из бога, третьи учили, что мир образовался сам собою по случаю, из вечного хаоса, или атомов, четвертые, что его образовал бог из совечной себе материи, и никто не мог возвыситься до понятия о произведении мира из ничего всемогущею силою божиею (стр. 352, § 53).
Все эти мнения опровергаются. § 55: «Бог сотворил мир из ничего» (стр. 357). § 56: «Бог сотворил мир не от вечности, а во времени, или вместе со временем» (стр. 360).
Читая дальше и дальше эту книгу, больше и больше удивляешься. Точно задача и цель книги в том, чтобы не дать никакого места разумному пониманию, – не пониманию тайн божиих, а просто пониманию того, что говорят. Представляю себе человека, который признает, что бог сотворил мир. Ну, чего еще? Он не хочет допытываться, как и что. Нет, от него требуют, чтобы он признал, что мир сотворен не из чего-нибудь, а из ничего, не от вечности, а во времени (стр. 360). Об этом идет спор, и доказывается, что мир сотворен во времени или, точнее, со временем. «Предведение или предопределение были в боге прежде бытия» (стр. 360). Говорится: «некогда мир не существовал» (стр. 361), т. е. говорится, когда говорится о предведении божием, что, когда не было времени, бог знал будущее время. И когда говорится: «некогда мир не существовал и время не существовало», говорится, что было время (ибо «некогда» значит – было время), когда не было времени. И когда говорится: «бог сотворил время», говорится (так как глагол употреблен в прошедшем времени), что было время, когда бог сотворил время.
§ 57. Мир сотворен всеми тремя лицами. Это доказывается свящ. писанием и выражается так:
«Отец сотворил мир чрез сына в духе святом», или: «всё от отца чрез сына в духе святом», впрочем, не в том смысле, будто сын и св. дух исполняли какое-то орудное и рабское служение при творении, но в том, что они зиждительно совершили отчую волю» (стр. 364).
§ 58. «Образ творения». Сотворен же свет 1) разумом, 2) хотением и 3) словом.
«Бог сотворил мир по вечным идеям своим о нем, совершенно свободно единым мановением воли. В идеях от века предначертан был план мироздания, свободная воля определила осуществить этот план; мановение воли действительно осуществило» (стр. 365).
Особенно хорошо тут слово «идеи».
§ 59. «Побуждение к творению и его цель». Сотворил же бог мир вот зачем:
«Должно верить, что бог… будучи благ и преблаг, хотя сам в себе пресовершен и преславен, сотворил из ничего мир на тот конец, дабы и другие существа, прославляя его, участвовали в его благости» (стр. 370).
Цель бога – слава. Доказательства свящ. писания. Затем —
§ 60. «Совершенство творения и откуда зло в мире». Спрашивается: откуда зло? И отвечается, что зла нет. И доказательство тому следующее:
Бог есть существо высочайше-премудрое и всемогущее, следовательно, он и не мог создать мир несовершенным, не мог создать в нем ни одной вещи, которая была бы недостаточна для своей цели и не служила к совершенству целого. Бог есть существо святейшее и всеблагое, следовательно, он не мог быть виновником зла ни нравственного, ни физического. И если бы он создал мир несовершенный, то или потому, что не в силах был создать более совершенного, или потому, что – не хотел Но оба эти предположения равно несообразны с истинным понятием о существе высочайшем (стр. 375).
Зла нет, потому что бог благ. А то, что ты страдаешь от зла духовного и телесного, это не зло, потому что бог благ. Так зачем же было и спрашивать, откуда зло, когда его нет?
Затем § 61. «Нравственное приложение догмата», состоящее в том, что надо славить бога и т. п. (стр. 376).
§ 62. «О мире духовном».
«Ангелы суть духи бесплотные, одаренные умом, волею и могуществом… Они сотворены прежде мира видимого и человеков…; разделяются на девять ликов… и сами злые ангелы сотворены от бога добрыми, но сделались злыми по собственной воле» (стр. 376).
И тотчас, как всегда, идет спор с теми, которые не так говорили про ангелов и демонов. Затем доказательства свящ. писания, что есть ангелы, и много, и разных чинов.
§ 65. По природе своей, ангелы суть духи бесплотные, совершеннейшие души человеческой, но ограниченные (стр. 388).
Они сотворены по образу и подобию божию, имеют ум и волю. Доказательства свящ. писания.
§ 66. «Число ангелов и степени. Небесная иерархия». Числом ангелов тьмы тем, т. е. очень много. И разные классы есть сил небесных (стр. 395). Идет спор с Оригеном о чинах ангелов, и доказывается, что их 9 классов (стр. 397):
«Ангелы разделяются на девять ликов, а сии девять – на три чина. В первом чине находятся те, кои ближе к богу, как то: престолы, херувимы и серафимы. Во втором чине: власти, господства и силы. В третьем: ангелы, архангелы, начала».
Кроме этих чинов, есть много и других еще.
§ 67. «Разные названия злых духов и достоверность их бытия». Кроме ангелов, есть дьявол и его ангелы.
Что этот диавол и ангелы его принимаются в свящ. писании как существа личные и действительные, а не как существа воображаемые, видно – 1. Из книг ветхозаветных… 2. Еще более – из книг новозаветных (стр. 400).
Идут доказательства.
§ 68. «Злые духи сотворены от бога добрыми, но сами соделались злыми» (стр. 404). Как доброе могло сделаться злым – не объяснено, но из писаний много доказательств.
Сделались злыми дьяволы, одни отцы церкви говорят, незадолго до сотворения мира, а другие говорили, что дьяволы оставались довольно долго в состоянии благодати (стр. 404, 405). Сделались злыми дьяволы не все сразу:
Сперва пал один – главный, а потом увлек за собою и всех прочих. Этот главный был до падения своего, по мнению некоторых, самым верным и совершеннейшим из всех сотворенных духов, преимуществовавшим пред всеми воинствами ангельскими; а по мнению других, принадлежал по крайней мере к числу духов первоверховных (ταξιάρχων), водительству которых подчинены низшие ангельские порядки, и именно к числу тех, между которыми распределил господь управление частями мира. Прочие же, которых увлек падший денница вслед за собою, – это были ангелы, подчиненные ему, находившиеся в его власти, которые потому-то и могли увлечься – примером его, или убеждениями, или обманом (стр. 405).
Каким грехом пали дьяволы? Одни говорят: смешением с дщерями человеческими, другие – завистью, третьи – гордостью.
В чем же именно состояла гордость падшего духа, бывшая первым грехом его, – думали не одинаково. Некоторые на основании слов Исаии, 14, 13, 14, полагали ее в том, что диавол возмнил быть равным богу по своему естеству и восседать с ним на одном и том же престоле, или даже возмечтал быть выше бога, отчего и соделался «противник, превозносяйся паче всякого глаголемого бога или чтилища» (2 Сол. 2, 4). А другие – в том, что падший денница не восхотел поклониться сыну божию, позавидовал его преимуществам, или, узревши по откровению, что некогда сей сын божий постраждет, усумнился в его божестве и не хотел признать его богом (стр. 408).
Как глубоко пали дьяволы и давал ли им бог время для покаяния – и об этом решено (стр. 409), что до сотворения мира еще могли покаяться дьяволы, а после уже не могли.
§ 69. «Природа злых духов, их число и степени». Природа дьяволов такая же, как ангелов, число их очень велико, и предполагается, что у них есть тоже чины.
Из этого всего делается нравственное приложение догмата (§ 70, стр. 414). Приложение догмата здесь еще более неожиданное, чем в прежних: но в первый раз приложение это имеет ясную цель:
Ангелы божии все равны между собою по природе, но различествуют по силам и совершенствам, и вследствие того есть между ними низшие и высшие: есть подчиненные и начальствующие; есть неизменная, установленная самим богом, иерархия. Так точно должно быть и между нами: при всем единстве своей природы, и мы различаемся друг от друга, по воле создателя, разными способностями и преимуществами, и между нами естественно должны быть низшие и высшие, подчиненные и начальствующие и в наших обществах сам бог устрояет порядок и иерархию, возводит на престолы помазанников своих (Притч. 8, 15), дает все низшие власти (Рим. 13, 1) и назначает каждому человеку свое служение и место (стр. 414).
В первый раз определенное правило пришивается к догмату.
§ 71. Недолго после сотворения ангелов и дьяволов бог сотворил мир вещественный вот как:
«В начале бог сотворил из ничего небо и землю. Земля была необразована и пуста. Потом бог постепенно произвел: в первый день мира – свет; во второй день – твердь, или видимое небо; в третий – вместилище вод на земле, сушу и растения; в четвертый – солнце, луну и звезды; в пятый – рыб и птиц; в шестый – животных четвероногих, живущих на суше» (стр. 414, 415).
§ 72. «Моисеево сказание о происхождении мира вещественного есть история». Доказывается, что происходила история, когда не было времени (стр. 417).
§ 73. «Смысл Моисеева сказания о шестидневном творении». Доказывается, что все слова Моисея надо понимать в их буквальном смысле (стр. 418).
§ 74. «Решение возражений, делаемых против Моисеева сказания». В опровержение ложного мнения рационалистов о том, что не могло быть дня и ночи, когда не было солнца, говорится следующее:
Ныне, действительно, без солнца день быть не может, а тогда мог. Для этого требовались только два условия: а) чтобы земля обращалась вокруг собственной оси, и б) чтобы светоносная материя, уже тогда существовавшая, приведена была в сотрясательное движение. Но нельзя отвергать ни того, что земля начала вращаться вокруг собственной оси еще с первого дня творения; ни того, что творец мог в три первые дня приводить непосредственною своею силою светоносную материю в сотрясательное движение, как теперь, начиная с четвертого дня, приводят ее в движение светила небесные, получившие к тому способность от бога (стр. 422).
Надо повторять слово в слово и скорее допустить, что бог приводил своею непосредственною силой светоносную материю в движение, – как будто задача его не состояла в том, чтобы сотворить мир, а в том, чтобы образ творения сошелся с Библиею, – чем допустить какое-нибудь отступление от слов Моисея, могущее согласить его сказание с нашими представлениями и знаниями. Всю историю шестидневного творения надо понимать слово в слово. Так велит церковь. Это – догмат.
§ 75. «Нравственное приложение догмата». Приложение то, что надо в воскресенье ходить к обедне и святить седьмой день (стр. 426).
§ 76. После всего бог сотворил человека – соединение мира вещественного с миром духовным, почему человек и называется «малый мир» (стр. 426).
Бог во святой троице рек: «сотворим человека по образу нашему и по подобию» (Быт. 1, 26). И сотворил бог тело первого человека Адама из земли, вдунул в лице его дыхание жизни; ввел Адама в рай; дал ему в пищу, кроме прочих райских плодов, плоды древа жизни; наконец, взял у Адама во время сна ребро, из него создал первую жену Еву (стр. 426).
§ 77. «Сущность и смысл Моисеева сказания о происхождении первых людей, Адама и Евы» (стр. 427).
Это повествование Моисеево надобно понимать в смысле истории, а не в качестве вымысла или мифа: потому что в историческом смысле понимали его —
Моисей и св. отцы.
С другой стороны сказано (стр. 429):
должно понимать в смысле истории, но не всё в смысле буквальном.
Вопрос о том, что значит: понимать в историческом, а не буквальном смысле, остается без ответа.
§78. «Происхождение Адама и Евы и всего рода человеческого». По принятому порядку представляется спор об этом предмете. Спор вот с кем:
Эта истина имеет двоякого рода врагов: во-первых, тех, которые утверждают, будто и прежде Адама существовали на земле люди (преадамиты) и, следовательно, Адам не есть праотец человеческого рода: во-вторых, тех, которые допускают, что вместе с Адамом было несколько родоначальников человеческого рода (коадамитов) и, следовательно, люди происходят не от одного корня (стр. 430).
Как и по многим другим местам книги, видно, что дело не в опровержении; так как опровержения никакого и не бывает, а дело в том, чтобы высказать догмат. А догмат есть только произведение спора. Поэтому нужно выставить то, против чего спорили, только для того, чтобы сказать, в чем учение церкви. Тут, разумеется, победоносно опровергаются доводы первых на основании свящ. писания, и доводы вторых из физиологии, лингвистики, географии – на основании этих же самых наук, перетолкованных для своих целей.
Эти доказательства единства человеческого рода замечательны только тем, что здесь как бы на наших глазах происходит образование того, что называется догматом и что в сущности есть не что иное, как известные выражения одного частного мнения в каком-либо споре. Одни доказывают, что люди не могли иметь одного родоначальника, другие доказывают, что могли. И те, и другие не могут привести ничего убедительного в свою защиту. И спор этот не интересен и не имеет ничего общего с вопросом веры, с вопросом о том, какой смысл моей жизни. Но одни из спорщиков спорят не для решения вопроса научного, а для того, что известное решение нужно им: оно подтверждает их предание. Богословие приводит для доказательства того, что бог мог считать дни, когда не было солнца, то, что он «сотрясал материю», и для доказательства того, что все люди произошли от одного человека, то, что:
Все языки и все наречия человеческие относятся к трем главным классам: индоевропейскому, семитическому и малайскому, и восходят к одному корню, который одни находят в языке еврейском, а другие не определяют (стр. 436).
Богословие говорит, что умеет, по этому случаю. И эти невежественные слова в мире науки проходят бесследно; но представим себе, что составитель богословия – что весьма вероятно – окажется отцом церкви. Через 300 лет слова его будут служить подтверждением догмата. А еще через 500 лет бог, сотрясающий материю, может сделаться и догматом. Только такое соображение дает объяснение тем странным, диким изречениям, которые теперь принимаются за догматы.
§ 79. «Происхождение каждого человека и, в частности, происхождение души». Все люди произошли от Адама,
Однакож, тем не менее, бог есть творец и каждого человека. Разность только в том, что Адама и Еву он создал непосредственно, а всех потомков их творит посредственно – силою своего благословения, которое он даровал нашим праотцам вдруг по сотворению их, сказав: «раститеся и множитеся и наполните землю» (стр. 437).
Следуют тексты свящ. писания и затем подробное определение церковью, когда именно творится душа человека:
«Св. церковь, веруя божественному писанию, учит, что душа творится вместе с телом, но не так, чтобы с самым семенем, из которого образуется тело, и она получила бытие, но что, по воле творца, она тотчас же является в теле по его образовании» (стр. 439).
Когда происходит это образование тела, не сказано. В виде разъяснения сказано далее:
«В то время, когда тело образуется уже и соделается способным к принятию оной» (стр. 441).
Если это не разъясняет дела, то зато объяснено, откуда, из чего творится богом душа. И тут опять спор. Одни говорили, что душа происходит сама собою из души родителей, другие – из ничего, прямо из семени. Все неправы.
Бог творит человеческие души, как и тела, силою того самого благословения – «раститься и множиться», которое он даровал нашим праотцам еще вначале, – творит не из ничего, а от душ родителей. Ибо, по учению церкви, хотя души человеческие получают бытие чрез творение, но так, что на них переходит от родителей зараза прародительского греха, а этого не могло бы быть, если бы бог творил их из ничего (стр. 440).
§ 80. «Состав человека». Человек состоит из двух частей: души и тела, а не из трех. Как и обыкновенно, за этим идет спор и подтверждения свящ. писания. Спор идет с теми, которые говорят, что человек состоит из трех частей: тела, души и духа. Это – неправда, только из тела и души (стр. 442—448).
§ 81. «Свойства человеческой души» – вот какие: она 1) самостоятельна, различна от тела, 2) невещественна и проста (дух), 3) свободна и 4) бессмертна. Следуют доказательства свящ. писания (стр. 449—453).
Бога и душу я знаю так же, как я знаю бесконечность, не путем определения, но совершенно другим путем. Определения же разрушают во мне это знание. Так же, как я несомненно знаю, что есть бесконечность числа, я несомненно знаю, что есть бог и что моя душа есть. Но это знание несомненно для меня только потому, что я неизбежно приведен к нему. К несомненности знания бесконечного числа я приведен сложением; к несомненности знания бога я приведен вопросом: откуда я? к знанию своей души я приведен вопросом: что такое я? И я несомненно знаю и бесконечность числа, и бога, и мою душу, когда я приведен к знанию их этим путем самых простых вопросов. К двум приложу один, и еще один, один, и еще, и еще, или разломаю палочку на двое, и еще на двое, и еще, и еще, и я не могу не познать бесконечность. Я родился от своей матери, а та от бабушки, от прабабушки, а самая последняя от кого? И я неизбежно прихожу к богу. Ногти – не я, руки – не я, голова – не я, чувства – не я, даже мысли – не я. Что же я? Я = я.. Я – моя душа. Но когда мне говорят про то, что бесконечное число – первое или не первое, четное или нечетное, я уже ничего не понимаю и даже отказываюсь от моего понятия бесконечности. Точно то же я испытываю, когда мне говорят про бога, его существо, свойства, лица. Я уже не понимаю бога, не верю в него. То же самое, когда мне говорят про мою душу, ее свойства. Я уже ничего не понимаю и не верю в эту душу. И с какой бы стороны я ни пришел к богу, будет то же самое. Начало моей мысли, моего разума – бог; начало моей любви – он же; начало вещественного – он же. Но когда мне скажут: бог имеет 14 свойств, ум и волю, лица, или бог добр и справедлив, или бог сотворил мир в 6 дней, я уже не верю в бога. То же и с понятием души. Обращусь я к своему стремлению к истине, я знаю, что это стремление к истине есть невещественная основа меня – моя душа; обращусь ли на чувство своей любви к добру, я знаю, что это моя душа любит. Но как только мне рассказывают, как эта душа из души моих родителей богом вложена в меня, когда я был в утробе матери, и мое тело было способно принять ее, так я не верю в душу и спрашиваю, как спрашивают материалисты: покажите же мне то, про что вы говорите. Где оно?
ГЛАВА VII
§ 82. «Образ и подобие божие в человеке». Про образ и подобие бога, чистейшего духа, по учению церкви говорится то, что было и прежде сказано, что этот чистейший дух имеет ум и волю, и потому образ и подобие божие значит ум и воля. Но ум и воля, как мы видели, были приписаны богу совершенно произвольно. Во всей книге нет ни малейшего намека на то, почему бы мы могли предполагать в боге ум и волю. Так что выходит, что в отделе о боге введено разделение чистого духа на ум и волю не потому, что были на это какие-нибудь поводы в самом понятии о боге, а только потому, что человек, понимая себя как ум и волю, это самое деление произвольно отнес и к богу. Теперь же, в отделе о человеке, объясняя слова: «он сотворен по образу и подобию божию», говорится, что так как свойства божии делятся на ум и волю, то слово «образ» значит ум, «подобие» значит воля. Да ведь понятия ума и воли отнесены к богу только потому, что мы понятия эти находим в человеке. Не подумайте, что я где-нибудь пропустил определение ума и воли божией. Его так и нет. Оно введено как что-то известное в определении свойств бога, а теперь из него уже выводятся свойства человека. В этом параграфе излагается следующее:
Быть по образу божию свойственно нам по первому нашему сотворению; но сделаться по подобию божию зависит от нашей воли. И это зависящее от нашей воли существует в нас только в возможности; приобретается же нами на самом деле посредством нашей деятельности. Если бы господь, намереваясь сотворить нас, не сказал предварительно: «сотворим и по подобию» и если бы не даровал нам возможность быть по подобию, то мы собственною силою не могли бы быть по подобию божию. Теперь же мы в сотворении получили возможность быть подобными богу. Но, дав нам эту возможность, бог нам самим предоставил быть деятелями нашего подобия с богом, чтобы удостоить нас приятной награды за деятельность, чтобы мы не были подобны изображениям бездушным, делаемым живописцами (стр. 456).
§ 83. «Назначение человека» – следующее:
1. По отношению к богу это назначение человека состоит в том, чтобы он неизменно пребывал верным тому высокому завету, или союзу с богом (религии), к которому призвал его всеблагий при самом сотворении, напечатлевши в нем свой образ (стр. 457).
2. По отношению человека к самому себе назначение его то, чтобы он, как созданный по образу божию с нравственными силами, старался постоянно развивать и усовершать эти силы чрез упражнение их в добрых делах и, таким образом, более и более уподоблялся своему первообразу… Впрочем, эта цель человека существенно неразлична от первой, напротив, заключается в ней и служит необходимым условием к достижению ее (стр. 459).
Стало быть, это то же самое.
И третье назначение человека, чтобы твари земные приносили ему пользу:
Наконец назначение человека, по отношению ко всей окружающей его природе, ясно определяется в словах самого триипостасного создателя: «сотворим человека по образу нашему и по подобию; и да обладает рыбами морскими, и птицами небесными, и зверьми, скотами, и всею землею, и всеми гады пресмыкающимися по земли» (Быт. 1, 26) (стр. 462).
Третье, очевидно, не назначение, а удобство, но здесь оно включено в назначения.
Назначение, оказывается, одно – оставаться верным союзу с богом.
§ 84. «Способность первозданного человека к своему назначению, или совершенство».
Предназначая человека к столь высокой цели, господь бог сотворил его вполне способным к достижению этой цели, т. е. совершенным (стр. 463).
§ 85. «Особенное содействие божие первозданному человеку к достижению его предназначения». Для достижения этой высокой цели, сохранения союза с богом, бог еще счел нужным содействовать человеку.
Первое содействие это состояло в том, что —
1. Бог сам насадил в жилище человеку «рай во Эдеме на востоцех, и введе тамо человека, егоже созда» (Быт. 2, 8). «Это был, по словам св. Иоанна Дамаскина, как бы царский дом, где, обитая, человек проводил бы жизнь счастливую и блаженную… это было вместилище всех радостей и удовольствий: ибо «Эдем» означает наслаждение… В нем было совершенное благорастворение. Он окружаем был светлым воздухом, самым тонким и чистым; украшен вечно цветущими растениями, исполнен благовония и света и превосходил всякое представление чувственной красоты и доброты. Это была истинно божественная страна, жилище, достойное созданного по образу божию» (стр. 465).
При этом доказывается, что надо понимать рай прямо, как сад, как он описан; можно только предполагать, что Адам, кроме тела, наслаждался и душой.
Другое содействие Адаму было то, что бог ходил к нему в рай в гости (стр. 466, 467).
Третье содействие состояло в том, что бог дал Адаму свою благодать. Что такое благодать, не объяснено здесь (стр. 468-469).
Четвертое содействие было то, что бог посадил в раю дерево жизни. И тут объясняется неожиданно, что это самое дерево жизни и была благодать. То, что Адам не умирал, происходило от древа жизни (стр. 471).
Пятое содействие было то, что —
для упражнения и развития сил телесных бог заповедал Адаму «делати и хранити рай» (Быт. 2, 15); для упражнения и развития сил умственных и дара слова сам «приведе ко Адаму всех животных видети, что наречет я» (Быт. 2, 19); для упражнения и укрепления в добре сил нравственных преподал Адаму известную заповедь – не вкушать от древа познания добра и зла (стр. 471).
Кто думает, что тут прибавлено, выпущено что-нибудь существенное, как-нибудь переделано, тот пусть прочтет самую книгу. Я стараюсь выписывать самые существенные и понятные места.
Богословие представляет дело падения Адама самым удивительным образом и настаивает на том, что иначе понимать его нельзя и не следует. По церковному учению, бог сотворил человека для известного назначения, сотворил его вполне способным к исполнению своего назначения – сказано: сотворил его совершенным. И, кроме того, оказывал ему пять различных содействий для достижения своей цели. Заповедь о невкушении плода была тоже содействие.
§ 86. «Заповедь, данная богом первому человеку, ее необходимость и значение». О заповеди невкушения с древа познания добра и зла говорится: 1) что заповедь эта была проста, очень нужна, 2) что в заповеди этой заключался весь закон и 3) что заповедь была легкая и ограждена страшной угрозой. И человек, несмотря на всё это, пал и не достиг своего назначения. Казалось бы, необходимо как-нибудь разъяснить это противоречие, и ожидаешь невольно какого-нибудь толкования всего этого удивительного события. Но, напротив, богословие заграждает путь ко всякому толкованию и старательно удерживает противоречие во всей его грубости. Доказывается, что понимать значение второй главы Бытия о рае и деревьях, посаженных в нем, в каком-нибудь иносказательном смысле нельзя и не следует, а надо понимать, как понимал это Феодорит:
а) «Божественное писание сказало, утверждает блаженный Феодорит, что и древо жизни, и древо познания добра и зла выросли из земли; следовательно, они по природе своей сходны с прочими растениями. Как древо крестное есть обыкновенное дерево, но оно же, по причине спасения, получаемого чрез веру в распятого на нем, называется спасительным; так и эти древа суть (обыкновенные) растения, выросшие из земли; но, по божественному определению, одно из них названо древом жизни, а другое, – так как послужило орудием к познанию греха, – древом познания добра и зла. Последнее предложено было Адаму, как случай к подвигу, а древо жизни, как некоторая награда за сохранение заповеди».
б) Это древо названо древом познания добра и зла не потому, будто бы имело силу сообщить нашим прародителям познание о добре и зле, которого прежде они не имели, а потому, что чрез вкушение от запрещенного древа они опытно имели познать и познали всё различие между добром и злом, – «между добром, – замечает блаженный Августин, – от которого ниспали, и злом, в которое впали».
в) «…Древо доброе, – говорит от лица божия к Адаму блаженный Августин, понимавший уже запрещенное древо в смысле чувственном, – но не касайся его. Почему? Потому что я господь, а ты раб: вот вся причина. Если сочтешь малою: значит ты не хочешь быть рабом. А что полезнее для тебя, как быть под властию господа? Как же будешь ты под властию господа, если не будешь под его заповедью?» (стр. 475 и 476).
Церковь понимает так и так велит понимать. То, что древо названо древом познания добра и зла; то, что змий говорит жене: ты узнаешь доброе и злое; то, что сам бог говорит (Быт. 3, 22), что, съев плода древа, «Адам стал, как один из нас, зная добро и зло», – это всё мы должны забыть, мы должны о глубокомысленном сказании книги Бытия думать самым неточным и глупым образом, и всё для того, чтобы не то, чтобы объяснилось что-нибудь в этом сказании, а чтобы уже в нем не осталось никакого смысла, кроме самого очевидного и грубого противоречия: что бог всё делал для достижения одной цели, а вышло совсем другое.
§ 87. «Блаженство первозданного человека». По учению церкви, первый человек жил в саду и был блажен. Рассказывается так: Адам и Ева жили в саду и блаженствовали:
И нет сомнения, что это блаженство первых людей не только не уменьшалось бы со временем, но более и более увеличивалось бы по мере их дальнейшего усовершенствования, если бы они устояли в той заповеди, какую дал им господь вначале. К несчастию как самих прародителей наших, так и всего их потомства, они нарушили эту заповедь и тем разрушили свое блаженство (стр. 477).
§ 88. «Образ и причины падения наших прародителей». Но пришел змий (змий есть дьявол, это доказывается св. писанием), и Адам соблазнился и пал и потерял блаженство (стр. 479).
§ 89. «Важность греха наших прародителей». Грех этот важен потому а) что это непослушание; б) что заповедь легка; в) что бог их облагодетельствовал и только требовал послушания; г) что у них была благодать, и им стоило только захотеть; д) что в этом одном грехе было много других грехов и е) что последствия этого греха очень велики для Адама и всего потомства (стр. 483—486).
§ 90. «Следствия падения наших прародителей» были в душе: «1) расторжение союза с богом, потеря благодати и духовная смерть». Всё это доказывается свящ. писанием, но не сказано, что такое расторжение союза с богом, что такое благодать, что такое смерть духовная. В особенности бы желательно знать, что значит смерть духовная, отличаемая от смерти телесной, тогда как сказано выше, что душа бессмертна. Второе следствие падения – помрачение разума, третье – преклонность ко злу более, нежели к добру. Но какая же разница была между Адамом до и после падения в отношении преклонности ко злу – не сказано. До падения тоже была преклонность более к злу, чем к добру, если Адам, как это рассказывается в § 89, сделал зло, когда всё влекло его к добру. Четвертое – искажение образа божия. Искажение – это значит:
«Если монета, имеющая в себе образ царев, бывает испорчена, то и золото теряет цену и образ ничего не пользует, то же испытал и Адам» (стр. 488).
Для тела следствия были: 1) болезни, 2) смерть телесная. Для положения Адама: 1) изгнание из рая; 2) потеря власти над животными; 3) проклятие земли, т. е. то, что человеку стало необходимо трудиться для своего пропитания (стр. 490—492).
Мы все привыкли к этой истории, вкратце заученной нами в детстве, и все привыкли не думать о ней, не разбирать ее или соединять с нею какое-то неясное, мистическое представление, и потому подробное повторение этой истории с подтверждением ее грубого смысла и мнимые доказательства ее справедливости, как они излагаются в богословии, невольно поражают, как что-то новое и неожиданно грубое. Представление бога, и сада, и плодов заставляет усомниться в справедливости всего; а для того, кто допустит справедливость, представляется невольно простой детский вопрос: зачем бог сделал всё так, чтобы сотворенный им человек погиб, и погибло всё его потомство. И всякий, кто задумается над этим противоречием, очевидно захочет прочесть самое то место свящ. писания, на котором оно основывается. И тот, кто сделает это, будет ужасно удивлен той поразительной бесцеремонностью, с которой церковные толкователи обращаются с текстами. Стоит внимательно прочесть первые главы Бытия и церковное изложение падения человека, чтобы убедиться, что рассказываются Библией и богословием совершенно две разные истории.
По церковному толкованию выходит, что Адаму разрешено было питание древом жизни и что первая чета была бессмертна; но по Библии этого не только не сказано, но сказано прямо обратное в 22 стихе третьей главы, где сказано: «как бы теперь Адам не простер руку и не съел от древа жизни и не стал бы жить вечно». По церковному толкованию змий есть дьявол, по Библии же ничего этого не сказано и не могло быть сказано, так как о дьяволе не дается никакого понятия в книге Бытия, а сказано, что змей был умнейший из зверей. По церковному толкованию выходит, что вкушение от древа познания добра и зла было бедствие для людей; по Библии выходит, что это было благо для людей. Так что вся история грехопадения Адама есть выдумка богословов, и ничего подобного не сказано в Библии. Из рассказа Библии никак не вытекает того, чтобы люди ели от древа жизни и были бессмертны, а сказано обратное в 22 стихе, и не сказано того, чтобы человека соблазнил злой дьявол; напротив, сказано, что научил его этому умнейший из животных. Так что эти две главные основы всего рассказа о грехопадении, именно: бессмертие Адама в раю и дьявол, прямо в противность текста выдуманы богословием.
Один связный смысл всей этой истории по книге Бытия, прямо противоположный церковному рассказу, будет такой: бог сделал человека, но хотел оставить его таким же, как животные – не знающим отличия доброго от злого, и потому запретил ему есть плоды древа познания добра и зла. При этом, чтобы напугать человека, бог обманул его, сказав, что он умрет, как скоро съест. Но человек с помощью мудрости (змия) обличил обман бога, и познал добро и зло, и не умер. Но бог испугался этого и выгнал человека и загородил от него доступ к древу жизни, к которому, по этому самому страху бога, чтобы человек не вкусил этого плода, можно и должно предполагать по смыслу истории, что человек найдет доступ так же, как он нашел к познанию добра и зла. Хороша ли, дурна ли эта история, но такова она написана в Библии. Бог, по отношению к человеку в этой истории, есть тот же бог, как и Зевс по отношению к Прометею. Прометей похищает огонь, Адам – познание добра и зла. Бог этих первых глав есть не бог христианский, не бог даже пророков и Моисея, бог, любящий людей, но это – бог, ревнующий свою власть к людям, бог, боящийся людей.
И вот эту-то историю про этого бога богословию понадобилось свести с догматом искупления, и потому бог ревнивый и злой сведен в одно с богом-отцом, которому учил Христос. Только это соображение дает какой-нибудь ключ к этой главе.
Если не знать, зачем нужно всё это, то невозможно понять, для чего перетолковать, извратить (прямо отступая от текста) самую простую, наивную историю и сделать из нее набор противоречий и бессмыслиц. Но положим, что история эта справедлива, как ее рассказывает богословие. Что же выходит из нее?
ГЛАВА VIII
§ 91. «Переход греха прародителей на весь род человеческий: замечания предварительные» (стр. 492). От падения Адама произошел первородный грех. Изложению догмата первородного греха предшествуют два разные мнения: одни – рационалисты – считают первородный грех вздором, а полагают, что болезни, скорби и смерть суть свойства человеческой природы и что человек родится невинным (стр. 495).
Другое учение – реформатов, которые впадают в крайность противоположную, слишком преувеличивая следствия в нас первородного греха: по этому учению, прародительский грех совершенно уничтожил в человеке свободу, образ божий и все духовные силы, так что самая природа человека соделалась грехом, всё, чего ни желает, что ни делает человек, есть грех, самые добродетели его суть грехи, и он решительно не способен ни к чему доброму. Первое из указанных ложных мнений православная церковь отвергает своим учением о действительности в нас первородного греха со всеми его последствиями (т. е. первородного греха, понимаемого в смысле обширном); последнее отвергает своим учением об этих следствиях (стр. 494).
Как всегда, излагается в виде какого-то еретического учения то, что не может быть понимаемым иначе ни одним безумным человеком. То, что все люди по природе своей подвержены болезням и смерти и что младенцы невинны, это представляется в виде лжеучения, да еще крайнего. Другая крайность – это учение реформатов. Церковь учит середине, – будто бы эта середина – та, что под первородным грехом надо разуметь:
«преступление закона божия, данного в раю прародителю Адаму. Сей прародительский грех перешел от Адама во всё человеческое естество, поелику все мы тогда находились в Адаме, и таким образом чрез одного Адама грех распространился на всех нас. Посему мы и зачинаемся, и рождаемся с сим грехом» (стр. 492).
Под следствием же первородного греха церковь разумеет те самые следствия, какие произвел грех прародителей непосредственно в них и которые переходят от них и на нас, каковы: помрачение разума, низвращение воли и удобопреклонность ее ко злу, болезни телесные, смерть и прочие…
Это различение первородного греха и его последствий надобно твердо помнить, особенно в некоторых случаях, чтобы правильно понимать учение православной церкви (стр. 493).
§ 92. «Действительность первородного греха, его всеобщность и способ распространения».
Прародительский грех, учит православная церковь, со своими следствиями распространился от Адама и Евы на всех их потомков путем естественного их рождения, и, следовательно, несомненно существует (стр. 494).
Всё это доказано свящ. писанием, например, так:
«Кто бо чист будет от скверны: никтоже, аще и един день жития его на земли» (Иов. 14, 4, 5)
«Аминь, аминь глаголю тебе: аще кто не родится водою и духом, не может внити в царствие божие. Рожденное от плоти, плоть есть, и рожденное от духа, дух есть» (Иоан. 3, 5, 6) (стр. 497).
Подтверждается и преданием так:
«Ибо по сему правилу веры и младенцы, никаких грехов сами собою содевати еще не могущие, крещаются истинно во отпущении грехов, да чрез пакирождение очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения» (стр. 499).
«Наконец, в действительности первородного греха, переходящего на всех нас от прародителей, можем убеждаться и при свете здравого разума на основании несомненного опыта» (стр. 501).
Убеждает нас в этом то, что —
а) В нас существует постоянно борьба между духом и плотию, разумом и страстями, стремлениями к добру и влечениями ко злу; б) в этой борьбе почти всегда победа остается на стороне последних…; г) отвыкнуть от какого-либо порока, победить в себе какую-либо страсть, иногда самую незначительную, для нас крайне трудно; а чтобы изменить добродетели, которую приобрели мы многими подвигами, для этого часто достаточно какого-нибудь маловажного искушения (стр. 502).
Так что
Все объяснения, какие придумывали для сего люди, неосновательны или даже неразумны: единственное объяснение, вполне удовлетворительное, то, какое предлагает откровение своим учением о наследственном, прародительском грехе (стр. 502).
И следует разбор этих мнимых объяснений, которые придумывали люди. На вопрос о прародительском грехе, об источнике зла в мире и тех объяснениях, которые дает церковь, необходимо остановиться. В числе догматов церкви, как и было в тех частях, которые разобраны, и как и будет в последующих, встречаются догматы о самых основных вопросах человечества: о боге, о начале мира, человека, начале зла рядом с никому не нужными, никакого значения не имеющими положениями, как, например, догмат об ангелах и дьяволах и т. п., и потому, пропуская ненужные, необходимо останавливаться на важных. Догмат о прародительском грехе, т. е. о начале зла, касается основного вопроса. И потому нужно внимательно разобрать то, что говорит о нем церковь.
По учению церкви, та борьба, которую чувствует человек в себе между злом и добром, и удобопреклонность к злу, которую, как решенное дело, утверждает церковь, объясняется падением Адама и, должно прибавить, падением дьявола, ибо дьявол был подстрекателем преступления и, сотворенный добрым, должен был пасть еще прежде. Но для того чтобы падение Адама объясняло нашу склонность к злу, необходимо объяснить самое падение Адама и дьявола, соблазнившего его. Если бы в истории падения дьявола и Адама было бы какое-нибудь разъяснение того основного противоречия сознания добра и преклонности к злу, как говорит церковь, то признание того, что это сознаваемое во мне противоречие есть наследство Адама, было бы для меня разъяснение. А то мне говорят, что такую же точно свободу, какую я чувствую в себе, имел Адам и, имея эту свободу, пал, и оттого я имею эту свободу. Так что же мне разъясняет история Адама? Мы все в этой борьбе сами чувствуем и знаем внутренним опытом то самое, что нам рассказывают, будто произошло с дьяволом и потом с Адамом. С нами происходит точь-в-точь то же самое каждый день и каждую минуту, что должно было происходить в душе дьявола и Адама. Если бы при рассказе о свободе дьявола и Адама и о том, как они, творения благого, созданные для блаженства и славы, пали, было бы сколько-нибудь разъяснено, как они могли сделаться злыми, сотворенные добрыми, то я понимал бы, что моя преклонность к злу есть последствие их особенного отношения к добру и злу; но мне рассказывают, что в них происходило то же, что происходит во мне, только с той разницею, что в них это происходило бессмысленнее, чем во мне: у меня пропасть соблазнов, которых у них не было, и у меня нет тех особенных содействий божиих, которые были у них. Так что их история не только не объясняет, но затемняет дело. Уж если разбирать этот вопрос свободы и объяснять его, то не лучше ли разбирать его и объяснять в себе, а не в каких-то фантастических существах – дьяволе и Адаме, которых я и представить себе не могу.
После мнимых опровержений тех, которые будто говорят, что зло – от ограниченности природы, от плоти, от дурного воспитания, писатель говорит:
Самое удовлетворительное для разума решение всех этих вопросов, самое справедливое объяснение зла, существующего в роде человеческом, предлагает божественное откровение, когда говорит, что первый человек действительно создан был добрым и невинным, но что он согрешил пред богом и таким образом повредил всю свою природу, а вслед за тем и все люди, происходящие от него, естественно уже рождаются с прародительским грехом, с поврежденною природой и с удобопреклонностью ко злу (стр. 506).
Ошибок в этом рассуждении много, и последствий ошибок этих много. Ошибка первая то, что если первый человек, тот человек, который был в таких необычайно выгодных условиях для невинности, повредил свою природу и повредил ее только потому, что он был свободен, то мне уже нечего объяснять, почему я повреждаю свою природу. Даже этого вопроса быть не может. Потомок я или не потомок его, я такой же человек, и такая же во мне свобода, такие же искушения. Что же объяснять? Говорить о том, что моя наклонность к злу происходит от наследства Адама, значит только сваливать с больной головы на здоровую и судить о том, что мне известно внутренним опытом, по каким-то по крайней мере странным преданиям.
Другая ошибка та, что утверждать, что наклонность к греху происходит от Адама, это значит переносить вопрос из области веры в область рассуждения. Тут выходит странное qui pro quo.22 Церковь, открывающая нам истины веры, отступается от основ веры – именно этого сознания таинственной, непостижимой борьбы, происходящей в душе каждого человека. И вместо того, чтобы откровением истин божиих дать средства для успешной борьбы добра против зла в душе каждого человека, церковь становится, на почву рассуждений и истории. Они покидают почву веры и рассказывают историю о рае, Адаме и яблоке и твердо и упорно стоят на голословном предании, даже ничего не объясняющем, ничего не дающем тем, которые ищут знания веры.
Естественный вывод из этого перенесения вопроса из главной основы всякой веры – стремления к познанию добра и зла, лежащего в душе каждого человека, в фантастическую область фантастической истории прежде всего лишает всё вероучение той единственной основы, на которую оно может твердо стать.
Вопросы веры всегда были и будут только о том, что такое моя жизнь с тою вечной борьбой между злом и добром, которую испытывает каждый человек? Как мне вести эту борьбу? Как мне жить? Учение же церкви на место этого вопроса, как мне жить, подставляет вопрос о том, отчего я дурен. И отвечает на этот вопрос тем, что ты дурен потому, что таким ты стал от греха Адама, что ты весь в грехе, родишься в грехе, и всегда живешь в грехе, и не можешь жить без скверны и греха (стр. 507).
§ 93. «Следствия прародительского греха». Излагается с доказательствами свящ. писания то, что во всех людях прародительский грех, все исполнены скверны, разум всех помрачен, во всех воля более преклонна к злу и образ божий помрачен.
Хорошо ли бы работники работали, если бы им было известно, что они все дурные работники, если бы им внушали, что они никак не могут работать вполне хорошо, что такова их природа, и что для того, чтобы сделать работу, есть другие средства, кроме их работы?
А это самое делает церковь. Вы все исполнены греха. Никто из вас не чист. Младенец исполнен греха. Ваши стремления к злу не от вашей воли, а по наследству. Спастись своими силами человек не может. Есть одно средство: молитва, таинства и благодать.
Может ли быть изобретено другое более безнравственное учение?
За этим следует нравственное приложение догмата.
Нравственное приложение из догмата этого возможно только одно: искать спасения вне своего стремления к добру. Но писатель, как и всегда, не чувствуя себя связанным логическим ходом мысли, подбирает в параграфе нравственного приложения всё, что ему приходит в голову и имеет какую-нибудь словесную, внешнюю связь с предшествующим.
§ 94. «Нравственное приложение догмата» (стр. 512). Приложений этого догмата десять:
1) благодарить бога за то, что он погубил нас;
2) жена чтоб покорялась мужу;
3) любить ближнего, так как есть родство по Адаму; 4) любить бога за то, что он творит нас во чреве матери;
5) хвалить бога за то, что у нас душа и тело;
6) заботиться больше о душе;
7) соблюдать в себе образ божий;
8) угождать богу —
Да будет же всегда пред очами нашими эта высокая цель, к которой мы обязаны стремиться, и да озаряет она для нас, как звезда путеводная, весь призрачный путь жизни (стр. 512).
9) Не нарушать волю бога, потому что «страшно впасть в руки бога живого правосудного» (стр. 512).
10) Все мы зачинаемся и рождаемся в беззаконии, немощными по душе и по телу и виновными пред богом. Да послужит это для нас живым, неумолкающим уроком к смирению и сознанию собственных слабостей и недостатков и вместе да научит…
(Думаешь, что будет сказано: стараться быть лучшим; нет) —
…да научит нас просить себе благодатной помощи у господа бога и с благодарностью пользоваться средствами ко спасению, дарованными нам в христианстве (стр. 512).
ГЛАВА IX
Нравственным приложением догмата самовольного падения кончается глава «о боге в самом себе», и следующая, вторая глава богословия говорит «о боге в его общем отношении к человеку и миру». Общее это отношение к миру называется промыслом бога.
Смысл всей этой главы невозможно понять, если не иметь в виду те споры, которые должно было вызвать странное учение о грехопадении, и не иметь в виду последующее за ним учение о благодати и таинствах. В этой главе богословие пытается устранить то противоречие, в которое оно поставило себя историей Адама и искуплением: благой бог для блага людей сотворил их, а люди злы и несчастны.
«Глава II. О боге, как промыслителе». Об Адаме сказано, что бог оказывал ему содействие, руководя его ко благу, но Адам, одаренный свободой, не захотел этого блага и оттого стал несчастен. После падения и после искупления бог точно так же не перестает содействовать благу всех тварей; но твари, по дарованной им свободе, не хотят этого блага и делают зло, и бог наказывает их за это.
Зачем бог сотворил таких людей, которые делают зло и оттого несчастны? Почему, если уже бог содействует благу тварей, он содействует так слабо, что люди делаются несчастными? Почему это положение человека, приводящее его к несчастью, после искупления, долженствовавшего избавить от этого человека, осталось то же, и люди, несмотря на содействие промысла бога, опять делают зло и погибают? На все эти простые вопросы нет ответов. Единственный ответ это – слово «попускает». Бог попускает зло. Но зачем он попускает зло, когда он благ и всемогущ? На это богословие не отвечает, а старательно приготавливает в этой главе путь к учению о благодати, о молитве и – странно сказать – о покорности светским властям.
Вот изложение этого догмата.
«Член I. О промысле божием вообще».
§ 96. Под именем промысла божия издревле разумели то попечение, которое бог имеет о всех существах мира, или, как обстоятельнее мысль эта выражена в пространном христианском катехизисе: «Промысл божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости божией, которым бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее, чрез удаление от добра, зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям (о чл. I, стр. 36, М. 1840).
Таким образом, в общем понятии о промысле божием различаются три частные его действия: сохранение тварей, содействие или вспомоществование им и управление ими.
Сохранение тварей – это такое действие божие, которым всемогущий содержит в бытии как весь мир, так и все частные существа, в нем находящиеся с их силами, законами и деятельностью.
Содействие, или вспомоществование тварям – такое действие божие, которым всеблагий, предоставляя им пользоваться собственными силами и законами, вместе с тем оказывает им и свою помощь в подкрепление во время их деятельности. Это особенно ощутительно по отношению к тварям разумно-свободным, которые постоянно нуждаются в благодати божией для преуспеяния в жизни духовной. Впрочем, по отношению к нравственным существам, действительное содействие божие бывает только тогда, когда они свободно избирают и творят добро; во всех же тех случаях, когда они, по своей воле, избирают и творят зло, бывает одно только попущение божие, а отнюдь не содействие, потому что бог творить зло не может, а лишить свободы нравственные существа, которую сам же даровал им, не хочет.
Наконец, управление тварями есть такое действие божие, которым бесконечно-премудрый направляет их, со всею их жизнью и деятельностью, к предназначенным им целям, исправляя и обращая по возможности самые худые их дела к добрым последствиям.
Из этого видно, что все означенные действия промысла божия различны между собою. Сохранение обнимает и бытие тварей, и их силы, и деятельность; содействие относится собственно к силам: управление – к силам и действиям тварей. Сохраняет бог все существа мира; содействует одним добрым, а злым только попущает их злую деятельность, управляет также всеми. И ни одно из этих действий не заключается в другом: можно сохранять какое-либо существо, не содействуя ему и не управляя им: можно содействовать существу, не сохраняя его и не управляя им, можно управлять существом, не сохраняя его и не содействуя ему. Но, с другой стороны, надобно заметить, что все три действия промысла божия различаются и разделяются только нами, по различному обнаружению его в ограниченных и разнообразных существах мира и вследствие ограниченности нашего разума, а сами в себе они нераздельны и составляют одно беспредельное действие божие: потому что бог, как «всё вместе и каждое в частности видит одним разом», так всё и совершает одним простым, несложным действием. Он нераздельно и хранит все свои создания, и содействует им, и управляет ими.
Промысл божий обыкновенно разделяется на два вида: на промысл общий и промысл частный. Общий промысл – тот, который объемлет весь мир вообще, также роды и виды существ; частный – тот, который простирается на самые частные существа мира и на каждое из неделимых, как бы они малыми ни казались. И православная церковь, веруя, что бог «от малого до великого знает всё в точности и о всяком творении в особенности промышляет» (Прав. испов., ч. 1, отв. на вопр. 29), очевидно, допускает оба эти вида промысла.
Изложенными понятиями о промысле божием совершенно исключаются – а) лжеучение гностиков, манихеев и других еретиков, которые, подчиняя всё судьбе или признавая мир произведением злого начала, или признавая для мира излишним попечение божие о нем, вовсе отвергали промысл божий со всеми его действиями; б) лжеучение пелагиан, которые отвергали собственно содействие божий тварям неразумным и разумным, считая это несообразным с их совершенством и свободою, равно как, – в) противоположное лжеучение разных сектантов, которые, веруя в безусловное предопределение божие (praedestinationismus), до того преувеличивают содействие божие разумным тварям, что почти уничтожают их свободу и бога считают истинным виновником всех их действий, добрых и злых; г) наконец, лжеучение некоторых умствователей, древних и новых, которые допускают только общий промысл и отвергают частный, признавая его недостойным бога (стр. 515—517).
За этим следуют доказательства из свящ. писания и отцов.
§ 97. «Действительность промысла божия» (стр. 518).
§ 98. «Действительность каждого из действий промысла божия» (стр. 522). Действительность эта доказывается текстами из книги Иова, книги премудрости Соломона, Псалмов и других. Тексты эти ничего иного не доказывают, как то, что все люди, признававшие бога, признавали его всемогущество.
§ 99. «Действительность обоих видов промысла божия» (стр. 526). Кроме общего промысла обо всем, описывается еще промысл частный о каждом существе особенно.
§ 100. «Участие всех лиц св. троицы в деле промысла» (стр. 529). Все лица св. троицы участвуют в промысле. Доказано свящ. писанием. И затем в конце объясняется:
Объяснить, почему в деле промысла участвуют все три лица божества, верующему нетрудно. Это потому, что промышление о мире есть действие всеведения, вездеприсутствия, премудрости, всемогущества и благости божией – таких свойств, которые равно принадлежат всем лицам пресвятой троицы (стр. 531).
За этим следует мнимое разрешение того вопроса, который естественно является при утверждении о существовании промысла благого бога: откуда зло нравственное и физическое?
§ 101. «Отношение промысла божия к свободе нравственных существ и злу, существующему в мире».
1. Промысл божий не нарушает свободы нравственных существ. В этом удостоверяет нас как слово божие, так собственное сознание и разум, которые равно говорят и то, что все мы постоянно состоим под промыслом божиим (см. §§ 81, 93), и то, что все мы свободны в своих нравственных действиях (§§ 97—99). А каким образом промысл божий, при всех своих распоряжениях в нравственном мире, не нарушает свободы духовных существ, этого хотя вполне объяснить мы не можем, но в некоторой степени можем приближать к нашему разумению (стр. 531).
Вот каким образом бог при всех своих распоряжениях не нарушает свободы:
а) Бог есть существо неизменяемое, всеведущее, премудрое. Как неизменяемый, он, благоволивши однажды даровать разумным тварям своим свободу, не может изменить своего определения и стеснять ее или совершенно уничтожить. Как всеведущий, он наперед знает все желания, намерения и действия свободных существ. А как бесконечно-премудрый всегда найдет средства распоряжаться этими действиями так…
Ждешь: «что действие промысла его не нарушается». Ничуть не бывало:
чтобы свобода действующих оставалась неприкосновенна (стр. 532).
В книге, трактующей о боге и вере в него, вдруг самые пошлые уловки обмана. Бог неизменяем, и потому он не может изменить своего определения о свободе человека. Но, во-первых, неизменяемость значит совсем не то. Неизменяемость значит, что он всегда пребывает сам один и тот же. И если в определениях свойств божиих прибавляется то, что неизменяемость бога значит то, что он не изменяет своих определений, то это неправильное определение, очевидно, сделано только для того, чтобы на него после опереться. Но допустим даже невозможное, – потому что мы знаем из богословия о изменении богом своих определений, – что неизменяемость бога значит неизменяемость его определений; доказательства все-таки нет, и остается жалкая мошенническая подтасовка. В числе свойств бога, по богословию, есть еще всемогущество, совершенная свобода и бесконечная благость. Попущение богом нравственного зла, происходящего из свободы человека, и наказание за него противоречат его благости; необходимость же, в которую поставлен бог, устроить так, чтобы свобода действующих была неприкосновенна, противоречит его свободе и всемогуществу.
Богословы сами завязали себе узел, который нельзя распутать. Всемогущий, благой бог, творец и промыслитель о человеке, и несчастный, злой и свободный человек, каким признают его богословы, – два понятия, исключающие друг друга. Далее:
б) Промысл божий о тварях выражается в том, что он хранит их, содействует или попускает им и управляет ими. Когда бог хранит нравственные существа, хранит их бытие и силы, тогда, без сомнения, он не стесняет их свободы: это ясно само собою. Когда содействует им в добре, также не стесняет свободы, потому что действующими, т. е. избирающими и совершающими какой-либо поступок, остаются они, а бог только содействует или вспомоществует им. Когда он попускает им совершать какое-либо зло, еще менее стесняет свободу и только предоставляет ей самой действовать, без его помощи, по своему произволу. Наконец, управляя нравственными существами, промысл божий собственно направляет их к той цели, для которой они сотворены; но правильное употребление их свободы в том и состоит, чтобы они стремились к последней цели своего бытия (стр. 532).
Что такое? Да ведь сказано, что он их попускает на зло; так как же «направляет к цели», для которой они сотворены, тогда как цель эта, как сказано прежде, их благо.
Следовательно и управление божие нимало не стесняет нравственной свободы, а только вспомоществует ей в ее стремлении к цели.
в) Нам известно по опыту, что и мы очень нередко своими словами, движениями и другими различными способами можем располагать своих ближних к тем или другим действиям, можем управлять ими, не стесняя, одинаков, их свободы: не тем ли более бесконечно-премудрый и всемогущий в состоянии найти средства управлять нравственными существами так, чтобы от этого нимало не страдала их свобода?.. (стр. 532).
(Несколько точек в книге.) Вся эта глава поразительна тем, что она без всякой, казалось бы, видимой надобности вновь поднимает вопрос грехопадения Адама, перенося его теперь из области истории в область действительности. Казалось бы, что вопрос о том, откуда взялось зло и нравственное, и физическое, разрешен богословием догматом грехопадения. Адаму была предоставлена свобода, а он впал в грех, и оттого и всё его потомство впало в грех. Казалось бы, всё кончено, и вопросу о свободе уже нет места. И вдруг оказывается, что и после падения человека он остается всё в том же самом положении, в каком был Адам, т. е. способным делать доброе или злое; и после искупления всё в том же положении – и опять человек, творение благого, промышляющего непрестанно о нем бога, может быть зол и несчастен. Как это было при Адаме, так точно это остается и по отношению всех людей по падении и искуплении их. Очевидно, это противоречие благого бога и злого, и несчастного, и свободного Адама и человека нужно богословию. И действительно, оно нужно. Необходимость этого противоречия уяснится в учении о благодати.
За этим следует § 102. «Нравственное приложение догмата». Нравственное приложение состоит в том, чтобы 1) славословить бога, 2) возлагать на него надежду, 3) молиться, 4) соображаться с промыслом бога и 5) как бог – благодетельствовать другим. Этим собственно кончается учение о промысле божием. Следующий член есть только оправдание различных самых грубых суеверий, которые присоединяются к этому учению (стр. 535).
Вот что выводит богословие из промысла божия.
«О промысле божием по отношению к миру духовному» (стр. 536).
§ 103. «Связь с предыдущим» (стр. 536).
§ 104. «Бог содействует ангелам добрым» (стр. 537). Доказано свящ. писанием. Ангелы служат богу вседовольному, всесовершенному.
§ 105. «Бог управляет ангелами добрыми, а) служение их богу» (стр. 542).
§ 106. «б) Служение ангелов людям: аа) вообще».
О служении ангелов людям православная церковь учит так: «они даются для хранения городов, царств, областей, монастырей, церквей и людей как духовных, так и мирских» (стр. 547).
§ 107. «бб) Ангелы-хранители человеческих обществ». Есть ангелы царств, народов, церквей (стр. 548).
§ 108. «вв) Ангелы-хранители частных лиц» (стр. 553).
§ 109. «Бог только попускает деятельность ангелов злых» (стр. 561). Дьяволам бог позволяет только действовать.
§ 110. «Бог ограничил и ограничивает деятельность злых духов, направляя ее притом к добрым последствиям» (стр. 567). В этой главе рассказано и подтверждено писанием, какие бывают дьяволы, как от них обороняться крестом и молитвой, и как и на что полезны дьяволы: они смиряют нас и т. д.
§ 111. «Нравственное приложение догмата» (стр. 573) – об ангелах и дьяволах и распоряжениях о них божиих то, что надо почитать ангелов и бояться дьявола:
А если и падем в борьбе, если и согрешим, да не устрашимся зла, не предадимся отчаянию: мы «ходатая имамы ко отцу, Иисуса Христа праведника» (1 Иоанн. 2, 1). Призовем только его, с искренним раскаянием в своем падении и с искреннею верою, и он восставит нас, и снова облечет во вся оружия, чтобы мы могли противиться нашему исконному врагу (стр. 575).
§§ 112, 11З, 114 внушают то, с подтверждением свящ. писания, что бог управляет миром вещественным и что от этого (§ 115) нравственное приложение догмата: просить у бога дождя, хорошей погоды, исцеления и не очень рисковать своим здоровьем (стр. 581).
§ 116. «Особенное попечение бога о человеках» (стр. 582).
§ 117. «Бог промышляет о царствах и народах» (стр. 583).
Сущность этого параграфа, подтвержденного свящ. писанием, следующая:
«Здравие их (царей) рождает наше спокойствие, ибо бог установил власти для блага общего. И не было ли бы несправедливым, если бы они носили оружие и ратоборствовали, чтобы мы жили в спокойствии, а мы даже не возносили бы молитв за тех, которые подвергаются опасностям и ратоборствуют? Итак, дело это (молитва за царей) не есть угодничество, но совершается по закону справедливости». И в другом месте: «Уничтожь судилища, и уничтожишь всякий порядок в нашей жизни; удали с корабля кормчего, и потопишь судно; отними вождя у войска, и предашь воинов в плен неприятелям. Так, если отнимешь у городов начальников, мы будем вести себя безумнее бессловесных зверей, – станем друг друга угрызать и снедать (Гал. 5, 15), богатый – бедного, сильнейший – слабого, дерзкий – кроткого. Но теперь, по милости божией, ничего такого нет. Живущие благочестиво, конечно, не имеют нужды в мерах исправления со стороны начальников: «праведнику закон не лежит», сказано (1 Тим. 1, 9). Но люди порочные, если бы не были удерживаемы страхом от начальников, наполнили бы города бесчисленными бедствиями. Зная это, и Павел сказал: «несть во власть аще не от бога: сущие же власти от бога учинены суть» (Рим. 13. 1). Что связи из бревен в домах, то и начальники в городах. Если те уничтожишь, стены, распавшись, сами собою обрушатся одна на другую: так, если отнять у вселенной начальников и страх, внушаемый ими, и дома, и города, и народы с великою наглостью нападут друг на друга, потому что тогда некому будет их удерживать и останавливать и страхом наказания заставлять быть спокойными» (стр. 585 и 586).
§ 118. «Бог промышляет о частных лицах». Доказано писанием (стр. 586).
§ 119. «Бог промышляет преимущественно о праведниках; решение недоумения» (стр. 588). Недоумение в том, отчего праведники несчастны? Разрешается тем, что они получат награду за гробом.
§ 120. «Способы промышления божия о человеке и переход к следующей части» (стр. 596). Способы промышления божия двоякие: естественные и сверхъестественные.
§ 121. «Нравственное приложение догмата» (стр. 597). Кроме того, чтобы угождать богу, благодарить, смиряться, главное приложение:
Управляя царствами земными, всевышний сам поставляет над ними царей, сообщает избранным своим чрез таинственное помазание силу и власть, венчает их честью и славою для блага народов. Отсюда – обязанность каждого сына отечества: а) благоговеть пред своим монархом, как пред помазанником божиим (Пс. 104, 15; снес. Исх. 22, 28); б) любить его, как общего отца, данного всевышним для великой семьи народной и отягченного заботою о счастии всех и каждого, в) повиноваться ему, как облеченному властью свыше и как царствующему и руководимому в своих царственных распоряжениях самим богом (Притч. 8, 15; 21, 1); г) молиться за царя, да подаст ему господь для счастия его подданных, здравие и спасение, во всем благое поспешное, на враги же победу и одоление, и да сотворит ему многая лета (1 Тим. 2, 1).
Чрез царей, как помазанников своих, бог посылает народам и все низшие власти. Отсюда долг каждого гражданина: а) повиноваться «всякому начальству господа ради» (1 Петр. 2, 13), «ибо сопротивляйся власти, божию повелению сопротивляется» (Рим. 13, 2); б) «воздавать всем должная: ему же убо урок, урок; и ему же дань, дань; и ему же страх, страх; и ему же честь, честь» (—7); и в) молиться «за всех, иже во власти суть: да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте» (стр. 597 и 598).
Этим кончается первая часть богословия. Этим нравственным приложением догмата кончается богословие простое.
ГЛАВА X
«Часть II. О боге спасителе и особенном отношении его к человеческому роду (Θεολογία οἱκονομικἠ)».
Так начинается вторая часть.
§ 122. «Связь с предыдущим, важность предмета, учение о нем церкви и разделение учения».
Доселе мы находились, так сказать, во святилище православно-догматического богословия; теперь вступаем в самое святое святых (стр. 7).
Эта вторая часть, вводящая в святое святых, действительно резко отличается от первой. В первой высказываются положения, вопросы о которых лежат и всегда лежали в душе каждого человека: о начале всего – боге, о начале мира вещественного, мира духовного, о человеке, о душе его, о борьбе между добром и злом. В этой же второй части уже ничего нет такого. Все раскрываемые тут догматы не отвечают ни на какой вопрос веры, а суть ни с чем человеческим не связанные произвольные положения, основывающиеся только на известном, самом грубом толковании разных слов писания, и потому их нельзя рассматривать и обсуживать на основании связи их с разумом. Связи нет никакой. Их – эти догматы – можно рассматривать только по отношению к правильности толкования слов писания. Догматы, излагаемые здесь, суть догматы: 1) искупления, 2) воплощения, 3) способа искупления, 4) церкви, 5) благодати, 6) таинств, 7) мздовоздаяния частного и 8) всеобщего суда и конца мира.
Все эти догматы, кроме мздовоздаяния, суть ответы на вопросы, которых человек, ищущий пути жизни, не задавал и не может задавать. Эти догматы получают значение только оттого, что церковь утверждает, что надо верить в них и что кто не верит, тот погибнет. Всё это положения, ничем не связанные с вопросами веры и независимые от них. Все они зиждутся только на требовании послушания церкви.
§ 123. «Состав отдела 1-го о боге спасителе».
Центральный догмат этой части есть догмат искупления. На догмате этом зиждется всё учение этой части. Догмат состоит в том, что вследствие мнимого падения Адама его потомки впали в смерть настоящую и духовную, разум их был затемнен, и они потеряли образ божий. Для спасения людей от этого мнимого падения предлагается необходимость искупления – платы богу за грех Адама. Эта плата, по учению церкви, совершается посредством вочеловечения бога, сошествия его на землю, его страданий и смерти. Христос бог сходит на землю и своей смертью спасает людей от греха и смерти. Но так как спасение это только воображаемое, так как в действительности люди после искупления остаются точно такими же, каков был Адам, каковы они были после Адама, каковы они были при Христе, во время Христа и после Христа, каковы были и суть люди всегда, так как в действительности всё такой же грех, та же удобопреклонность к злу, те же муки рождения, та же необходимость труда для пропитания себя, та же смерть, свойственные людям, то и всё это учение второй части не есть уже учение о вере, а чистое баснословие. Вследствие этого учение этой второй части имеет особенный характер. В этой второй части резко проявляются те начальные отступления от здравого смысла, которые сделаны были в изложении догматов первой части о боге, о человеке, о зле. Очевидно, учение первой части зиждется на вере во вторую, и вторая не вытекает из первой, как это хочет представить богословие, а наоборот, вера в баснословие второй части служит основой всех отступлений от здравого смысла в первой части.
Вот это учение:
§ 124. «Необходимость божественной помощи для восстановления человека при возможности к тому со стороны человека».
Три великие зла совершил Адам: 1) оскорбил бога грехом, 2) заразил грехом всё свое существо, 3) погубил свою природу и испортил природу внешнюю.
Следовательно, чтобы спасти человека от всех этих зол, чтобы воссоединить его с богом и сделать снова блаженным, надлежало: а) удовлетворить за грешника бесконечной правде божией, оскорбленной его грехопадением, – не потому, чтобы бог искал мщения, но потому, что никакое свойство божие не может быть лишено свойственного ему действия: без выполнения этого условия человек навсегда остался бы пред правосудием божиим «чадом гнева» (Еф. 2, 3), «чадом проклятия» (Гал. 3, 10), и примирение, воссоединение бога с человеком не могло бы даже начаться…
Кто же мог выполнить все означенные условия? Никто, кроме единого бога (стр. 11).
§ 125. «Средство, избранное богом для восстановления или искупления человека, и значение этого средства».
Бог нашел для восстановления человека такое средство, в котором «милость и истина его сретостеся, правда и мир облобызастася» (Пс. 84, 11), в котором появились совершенства его в высшей степени и в полном согласии. Средство это состоит в следующем:
Второе лицо пресвятой троицы, единородный сын божий добровольно восхотел сделаться человеком, принять на себя все грехи человеческие, претерпеть за них всё, что определила праведная воля божия, и таким образом удовлетворить за нас вечной правде, изгладить наши грехи, уничтожить самые последствия их в нас и в природе внешней, т. е. воссоздать мир (стр. 15).
Следуют подтверждения свящ. писания и св. отцов.
§ 126. «Участие всех лиц пресвятой троицы в деле искупления, и почему воплотился для сего именно сын?»
Впрочем, хотя для искупления нашего избрано было, как наилучшее средство, воплощение сына божия, но в этом великом деле принимали участие и отец, и святой дух (стр. 19).
Доказывается свящ. писанием.
§ 127. «Побуждение к делу искупления и цель пришествия на землю сына божия».
Причина, по которой бог искупил нас, есть его любовь. Цель его – наше спасение.
Доказывается писанием.
§ 128. «Вечное предопределение искупления, и потому не скоро пришел на землю искупитель».
Искупление было предопределено от века. Бог, несмотря на свою благость, предвидел падение человека и все его страдания. Не тотчас же бог искупил нас потому, что 1) чтобы люди почувствовали свое падение и желали искупления.
2) Надлежало, чтобы зараза греха, глубоко проникшая природу человеческую, мало-помалу вышла вся наружу (стр. 28).
Для этого нужно было миллиардам людей впасть в грех и нечестие.
3) Надлежало предварить людей о пришествии на землю такого чрезвычайного посланника божия, каков искупитель (стр. 28).
В продолжение 5500 лет надо было прообразованиями приготовлять к этому человечество.
4) Надо было человечеству очищаться святыми мужами Ветхого Завета (стр. 29).
§ 129. «Приготовление богом рода человеческого к принятию искупителя и вера в него во все времена».
Приготовления рода человеческого были: 1) пророчества, например, как семя жены сотрет главу змия, и т. п.
Со времени этого «первоевангелия» о мессии, возвещенного еще в раю, и установления жертв, указывавших на его страдания и смерть, спасительная вера в господа Иисуса уже непрерывно существовала в человеческом роде. По этой вере Адам нарек имя жене своей: «жизнь» (Быт. 3, 20), хотя и слышал приговор судии: «земля еси и в землю отъидеши» (—19); по этой вере Ева нарекла своего первенца Каина: «стяжах человека богом» (Быт. 4, 1); по этой, без сомнения, вере ипостасная премудрость божия, как свидетельствует премудрый и как исповедует св. церковь, «первозданного отца миру единого созданного сохрани, и изведи его от греха его» (Прем. 10, 1): ибо «несть иного имени под небесам, данного в человецех, о нем же подобает спастися нам» (Деян. 4, 12), кроме имени Иисус-Христова (стр. 30 и 31).
2) Кроме пророчеств, необходимы были прообразования:
Прообразования. Здесь бесконечная благость, нисходя к немощи человека, облекала высокие свои обетования и пророчества о мессии в чувственные образы, чтобы тем сильнее напечатлеть их в памяти народа и всегда представлять их как бы пред его глазами. К числу таких прообразований относились:
а) Некоторые происшествия и обстоятельства из жизни частных лиц, например: приношение Исаака в жертву, указывавшее на крестную смерть и воскресение мессии (Иоан. 8, 56); Священство Мелхиседека, прообразовавшее вечное священство Христово (Евр. 5; 6, 7); могущество и величие царствования Давидова и Соломонова, прообразовавшее могущество и славу царства Христова (2 Цар. 7, 13, 14; Иер. 33, 14—18); пребывание пророка Ионы во чреве китове три дня и три нощи, знаменовавшее трехдневное пребывание мессии в сердце земли (Мат. 12, 40).
б) Происшествия и обстоятельства из жизни всего народа иудейского, особенно во дни Моисея (1 Кор. 10, 11; Рим. 10, 4), каковы: восшествие израильтян из Египта, агнец пасхальный, бывший образом мессии во многих отношениях (Исх. 12, 46; снес. Иоан. 19, 36; 1 Кор. 5, 7), переход чрез Чермное море, манна, вода из камня, медный змий, прообразовавший мессию, распятого на кресте и спасающего верующих в него от вечной смерти (Иоан. 3, 14).
в) Весь закон обрядовый, данный богом чрез Моисея, и прообразовавший своими многочисленными жертвоприношениями, очищениями, окроплениями, празднествами, священством события новозаветные; «сень бо имый закон грядущих благ», свидетельствует св. апостол, «а не самый образ вещей» (Евр. 10, 1; снес. Кол. 2, 17). К числу наиболее поучительных установлений этого закона относились: а) обрезание всех детей мужского пола, знаменовавшее внутреннее обрезание и оправдание верою в грядущего мессию, имевшего родиться без мужа (Рим. 2, 28, 29; 4, 11), и б) вхождение первосвященника в святое святых однажды в год для кропления кровью на чистилище: это священнодействие служило прообразом единой очистительной жертвы за грехи мира, которую имел принести мессия, а вместе и вознесение его на небо (Евр. 9, 12, 24) (стр. 33 и 34).
И еще:
3) Закон не только обрядовый, но и нравственный, и гражданский. Апостол называет вообще закон «пестуном во Христе» (Гал. 3, 24). И действительно, закон обрядовый вел ко Христу, как уже замечено, тем, что прообразовал события новозаветные и своими жертвами указывал иудеям на жертву Христову (Евр. 10, 1). Закон нравственный – тем, что своими высокими и подробными предписаниями, которых иудеи вследствие первородного греха не в состоянии были исполнить, ясно обнаружил пред ними их греховность: «законом бо познание греха» (Рим. 3, 20), приводил их в сознание своего бессилия и возбуждал в них сильнейшее желание искупителя, – что с такою силою исповедовал св. Павел, евреин от еврей, соделавшийся христианином: «Вемы, яко закон духовен есть, аз же плотян есть, продан под грех… Не еже бо хощу доброе, сие творю, но еже ненавижу злое, сие содеваю. Аще ли еже не хощу, сие творю, хвалю закон, яко добр. Ныне же не к тому, аз сие содеваю, но живой во мне грех… Окаянен аз человек: кто мя избавит от тела смерти сея? – Благодарю бога моего Иисус Христом господем нашим» (Рим. 7, 14, 17, 24, 25). Наконец закон гражданский вел ко Христу тем, что, угрожая за нарушение почти каждой нравственной заповеди смертью (Исх. 21, 15; 23—25; 31, 14; 22, 16—17; Втор. 13, 5—10; 15, 16; 17, 2—5; 19, 16—21; 21, 18—21; 27, 16 и др.), и таким образом держа иудеев постоянно в страхе «под игом работы» (Гал. 5, 1), заставляя их еще пламеннее желать, чтобы скорее пришел на землю избавитель, и «закон духа жизни о Христе Иисусе освободил их от закона греховного и смерти» (Рим. 8, 2) (стр. 34 и 35).
§ 130. «Нравственное приложение догмата» то, что 1) научимся смирению, 2) возлюбим бога и друг друга и 3) будем благоговеть перед премудростью божиею.
Догмат искупления будет изложен в подробности далее, и там будут рассмотрены те доказательства, на которых основывает его церковь, теперь же скажу вообще о том значении, которое может иметь этот догмат для людей мыслящих. Опровергать этот догмат бесполезно. Догмат этот отрицает сам себя, так как он не утверждает что-нибудь о таинственном и непостижимом для нас, как утверждалось о свойствах, лицах бога, но он утверждает что-то о нас самих, людях, о том, что более всего известно нам, и утверждает, очевидно, противное действительности. Можно было опровергать доводами здравого смысла доказательства того, что бог дух имеет 14 свойств и т. п., так как свойства бога нам неизвестны, но нет нужды опровергать законами здравого смысла доказательств того, что вочеловечением и смертью Иисуса Христа род человеческий искуплен, т. е. избавлен от преклонности к греху, затенённости ума, мук родов, смерти телесной и духовной и от неплодородности земли. В этом случае не нужно даже показывать, что нет ничего того, что этим утверждается, – это все и так знают. Мы все знаем очень хорошо, что этого ничего нет, что люди злы, умирают, не знают истины, женщины мучаются при родах, и мужчины в поте лица добывают хлеб. Доказывать несправедливость этого учения было бы то же самое, что доказывать, что неправ тот, кто утверждает, что у меня четыре ноги. Утверждения человека о том, что у меня четыре ноги, только могут заставить меня искать тот повод, который побудил человека утверждать то, что заведомо несправедливо. То же самое и по отношению догмата искупления. То, что после мнимого искупления Иисусом Христом никакой перемены в состоянии людей не произошло, всем очевидно. Какой же повод имеет церковь утверждать противное? Вот вопрос, который невольно представляется.
Догмат построен на прародительском грехе. Но самый догмат о прародительском грехе, как мы видели, есть перенесение вопроса о добре и зле из области, доступной внутреннему опыту каждого человека, в область баснословия.
Самая таинственная основа жизни человека – внутренняя борьба между добром и злом, сознание его свободы и зависимости от бога – исключается учением об искуплении из сознания человека и переносится в баснословную историю. Говорится: 7200 лет тому назад был сотворен богом свободный Адам, т. е. человек, и человек этот пал по своей свободе, и за то бог казнил его и казнил его потомство. Казнь состояла в том, что казненные были поставлены в то самое положение по отношению к выбору между добром и злом, в котором находился человек до казни. Так что всё это учение, ничего не объясняя по существенному вопросу о свободе человека, только наклепывает на бога несвойственную его благости и правосудию несправедливость: казнить потомков за грех чужой. Если бы учение о падении что-нибудь объясняло, то понятен бы был разумный повод, который побудил перенести вопрос из внутреннего сознания в область басни; но объяснения нет никакого по вопросу о свободе человека, и поэтому повод к этому вымыслу должен быть другой. Повод к этому мы находим только теперь в догмате искупления. Церковь утверждает, что Христос искупил людей от зла и смерти. Если он искупил их от зла и смерти, то является вопрос: откуда взялось зло и смерть людей? И вот изобретается догмат грехопадения. Христос бог спас людей от зла и смерти. Люди суть творения того же благого бога. Как могли прийти зло и смерть к людям? На этот вопрос отвечает миф грехопадения. Адам, злоупотребив своей свободой, сделал зло и пал, и пало его потомство и лишилось бессмертия, знания бога и жизни без труда. Пришел Христос и возвратил человечеству всё, что оно потеряло. Человечество стало не болеющим, не трудящимся, не делающим злого и не умирающим. В этом воображаемом состоянии искупления человечество уже освобождено от греха, страданий, труда и смерти, если только оно верит в искупление. И этому-то учит церковь, и в этом состоит повод вымысла искупления и основанного на нем грехопадения.
Невольно, по случаю этого догмата искупления и предшествующего догмата о промысле бога представляются общие обоим и всему тому, что изложено в первой части богословия, соображения.
Искупил ли меня бог, или не искупил и как искупил? промышляет ли бог о мире и обо мне, или не промышляет и как он промышляет? троица ли он и какие его свойства? Какое мне до этого дело? Мне ясно, что я не пойму целей, и средств, и мыслей, и существа бога. Если он – троица, если он промышляет, если он искупил нас, тем лучше для меня, И промышление, и искупление – это его дело. А у меня есть мое дело. Вот это-то мне нужно знать и в этом не ошибиться. Не подумать, что он промышляет обо мне, где бы мне надо самому промышлять, не подумать, что он искупил, где мне надо самому искупить. Если бы я видел даже, что всё, что мне говорит богословие, разумно, ясно и доказано, я бы и тогда не интересовался этим. Бог делает свое дело, которое я, очевидно, никогда понять не буду в силах, а мне надо делать свое. Мне особенно важны и дороги указания моего дела, в богословии же я постоянно вижу, как дело это мое всё уменьшается и уменьшается и в догмате искупления даже сводится на ничто.
ГЛАВА XI
«Глава II. О господе нашем Иисусе Христе в особенности». В этой главе излагается учение о втором лице троицы.
§ 131. «Связь с предыдущим и состав учения».
Еще от вечности и, следовательно, прежде, нежели мы получили бытие и пали, всеведущий и всеблагий уже определил спасти нас чрез своего единородного сына. Потом, как только совершилось падение наших праотцов, он начал приготовлять род человеческий к принятию спасителя всеми средствами, естественными и сверхъестественными. Наконец, когда исполнилось предопределенное время, «егда прииде кончина лета, посла бог сына своего (единородного), рождаема от жены, бываема под законом да подзаконные искупит (Гал. 4, 4, 5), явился господь наш Иисус Христос и действительно совершил наше спасение (стр. 40 и 41).
«Член I. О лице господа Иисуса Христа, или о таинстве воплощения». § 132. «Важность и непостижимость догмата, краткая история его, учение о нем церкви и состав учения» (стр. 41).
Искупление совершил бог, второе лицо, человек Иисус Христос. Человек Иисус Христос есть и человек, и бог. Что такое значит: человек-бог? По всему, что до сих пор изложено, понятия человека и бога не только совершенно различные, но почти противоположные: бог есть независимость, человек есть зависимость; бог – творец, человек – творение; бог – добро, человек – зло. Как понять соединение этих двух понятий, на которых основано дело? Следует разъяснение, но разъяснение, как всегда, выражается в форме спора с теми, которые считают Христа не богом, с теми, которые считают полубогом, и с теми, которые считают его всем богом, всей троицей, потом с теми, которые считали тело Христа только видимостью, с теми, которые не признавали человеческой души в Иисусе Христе, с теми, которые говорили, что Иисус Христос родился просто, как все, потом с теми, которые разделяли человека и бога в Христе, с теми, которые сливали бога с человеком в Христе, с теми, которые разделяли бога и человека, но говорили, что в нем одна воля, и с теми, которые утверждали,
будто Иисус Христос по человеческому своему естеству есть сын богу отцу не собственный, а благодатный, усыновленный (adoptives), очевидно, предполагая разделение во И. Христе двух естеств на два лица (стр. 46).
Посреди всех этих многочисленных ересей касательно лица господа Иисуса, православная церковь от дней апостольских постоянно защищала и раскрывала одно и то же учение, которое с особенною силою выразила на четвертом вселенском соборе в следующих словах: «Последующе божественным отцем, все единогласно поучаем исповедовали единого и тогожде сына, господа нашего Иисуса Христа, совершенна в божестве и совершенна в человечестве; истинно бога и истинно человека, тогожде из души и тела, единосущна отцу по божеству, и единосущна тогожде нам по человечеству; по всему нам подобна, кроме греха; рожденна прежде век от отца по божеству, в последние же дни тогожде, ради нас и ради нашего спасения, от Марии девы богородицы, по человечеству; единого и тогожде Христа сына господа, единородного во двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого (никако же различию двух естеств потребляемому соединением, паче же сохраняемому свойству коегождо естества, во едино лице и во едину ипостась совокупляемого); не на два лица рассекаемого или разделяемого, но единого и тогожде сына, и единородного бога-слова, господа Иисуса Христа, якоже древле пророцы о нем, и якоже сам господь Иисус Христос научи нас, и якоже предаде нам символ отец наших».
Отсюда видно, что всё учение православной церкви о лице господа Иисуса состоит из двух главных положений: I) из того, что во Христе Иисусе два естества – божеское и человеческое и II) из того, что эти два естества в нем составляют едину ипостась (стр. 46 и 47).
Нельзя не остановиться на этом. Слова этого определения суть ряд внутренних противоречий. Понятие естества, присоединенное к богу, исключает понятие бога, так как дух неограниченный не может иметь естества. «Два естества составляют едину ипостась» тоже не может иметь никакого смысла, так как слово «ипостась» не имеет значения в языке и не получило никакого определения. Смысла разумного в догмате нет. Но догмат этот, как и все другие, утверждается на церкви. Церковь свята и непогрешима, и с тех пор, как она существует, с самого начала она утверждала этот догмат. Он выражен в свящ. предании и писании. Так говорит богословие. Посмотрим, так ли это.
Хотя я и решил бегло проходить всю эту вторую часть, на этом месте доказательств, что Христос – бог, я чувствую, что необходимо остановиться, ибо это место, хотя и вставленное в середине как бы раскрытия дальнейших истин, сначала изложенных, это место есть в сущности основа догмата о троице, который выставлен сначала; и если есть догмат о троице, то он вытекает только из признания Христа богом, потом уже присоединено к нему третье лицо св. духа.
Начало утверждения о том, что бог не один, а имеет лица, происходит от обоготворения Христа.
Вот что говорит § 133: «Господь Иисус Христос имеет естество божеское и есть именно сын божий». Параграф этот имеет предметом доказать, что Иисус Христос имеет естество божеское, но не в том смысле, как каждый человек, сотворенный богом, но особенно от других людей, что он есть второе лицо бога. Точно такое же значение придается и словам: сын божий. Доказывается, что Иисус Христос не есть сын божий, как все люди, а особенный сын божий, единственный, второе лицо троицы. Вот эти доказательства. В Ветхом Завете:
1) В псалме 2-м… «Господь рече ко мне: сын мой еси ты, аз днесь родих тя» (ст. 7), т. е. родил или рождаю вечно. В псалме 109-м… сам бог говорит к нему: «из чрева», т. е. из существа моего, «прежде денницы», т. е. прежде всякого времени, «родих тя» (ст. 3). Пророк Михей, предсказывая, что мессия имеет произойти из Вифлеема, присовокупил, что он имеет и другое происхождение – вечное: «исходи его из начала от дней века» (Мих. 5, 2).
2) Слова псалма 44-го: «престол твой, боже, в век века: жезл правости, жезл царствия твоего; возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие; сего ради помаза тя, боже, бог твой елеем радости паче причастник твоих» (ст. 8)… «Се аз посылаю ангела моего, и призрит на путь пред лицем моим: и внезапу приидет в церковь свою господь, егоже вы ищете, и ангел завета, егоже вы хощете: се грядет, глаголет господь вседержитель» (Мал. 3, 1)… «Се дние грядут, глаголет господь, и восставлю Давиду восток праведный, и царствовати будет царь, и премудр будет и сотворит суд и правду на земли. Во днех его спасется Иуда, и израиль пребудет в надежди, и сие имя ему, имже нарекут его, господь (иегова) праведен наш» (Иер. 23, 5, 6; снес. 33, 15, 16) (стр. 47 и 48).
Ни одно из этих мест не относится к Иисусу Христу. Псалмопевец говорит о себе, а не о Христе. Если бы надо было разуметь под словами: «я», «меня» – Христа, он так бы и сказал.
«Исходи его от начала дней века» значит, что чьи-то «исходи», т. е. чье-то происхождение, от начала. Происхождение всякого человека от начала века. И нет ничего общего даже с божественностью Христа. Слова 44 псалма относятся только к богу, а не к Христу. Пророчество Малахии относится ко всякому пророку. Слова Иеремии относятся к какому-то царю, но ни те, ни другие не имеют отношения к Христу.
Вот всё, что называется удостоверениями божественности Христа из Ветхого Завета. Следуют удостоверения из Нового Завета. Вот место беседы с Никодимом, приводимое в доказательство божественности Иисуса Христа:
«Никтоже взыде на небо, токмо сшедый с небесе сын человеческий, сый на небеси… Тако бо возлюби бог мир, яко и сына своего единородного дал есть, да всяк веруяй в онь, не погибнет, но имать живот вечный… Веруяй в онь, не будет осужден, а не веруяй, уже осужден есть, яко не верова во имя единородного сына божия» (Иоан. 3, 13, 16, 18). Здесь —
а) в первых словах спаситель ясно приписывает себе вездеприсутствие, такое свойство, которое никому из сотворенных существ принадлежать не может: б) затем называет себя сыном божиим единородным (μονογενής) без сомнения, в смысле собственном, т. е. рожденным от существа божия, имеющим божеское существо: ибо этому сыну принадлежит вездеприсутствие – божеское свойство; в) наконец, свидетельствует, что без веры в него, как именно единородного сына божия, который вездеприсущ, невозможно для людей спасение (стр. 48 и 49).
На вопрос Никодима о том, как может человек родиться снова, чтобы войти в царство божие, Иисус говорит, что никто не может войти на небо и прийти к богу, как только тот, кто уже знает бога, кто уже восходил на небо. Как ни понимать эти слова, нельзя их перетолковывать так, что Иисус говорит о себе, когда он очевидно говорит о всех людях и прямо называет то, о чем он говорит – о сыне человеческом. Не говоря о том, что по смыслу всего разговора с Никодимом, начинающегося с того, что Иисус говорит, что никто не увидит царства божия, если не родится свыше, очевидно, что, говоря о сыне человеческом, Иисус относит его не к себе, а ко всем людям; не говоря об этом очевидном смысле, всё, что говорится, говорится то о сыне человеческом, то о сыне единородном, или, вернее, однородном, а не сказано, чтобы этот сын был исключительно Христос. Главное же, не могут эти слова иметь того значения, какое дает им церковь, потому, что слова «сын человеческий» имеют определенное значение сына человеческого, т. е. людей, и название «сына божия» есть то самое, которым Иисус учил людей называть самих себя, и потому, если бы Христос хотел даже сказать, что он находится в исключительном положении к богу, то он должен бы был выбрать другое выражение, чтобы выразить это особенное свое значение. Я не могу себе позволить думать, чтобы Иисус не умел или не хотел выразить столь важный догмат. Если же он себя называл сыном божиим и людей называл сынами божиими, то он именно это и хотел сказать. Так что текст этот доказывает именно противоположное тому, что хочет доказать писатель.
Я не буду приводить здесь свидетельств из Евангелий, прямо отрицающих божество Христа, приведу их в своем месте, но рассмотрю те, которые приведены здесь, как будто подтверждающие божество Христа.
Другое место есть притча о виноградарях:
тогда господин решился послать к ним самого сына своего: «еще убо единого сына име возлюбленного своего, посла и того к ним последи, глаголя, яко усрамятся сына моего. Они же тяжателе реша к себе, яко сей есть наследник: приидите убием его, и наше будет наследствие. И емше его, убиша, и извергоша его вон из винограда» (6—8) (стр. 49).
В притче этой виноградари значат – иудеи, по толкованию церкви, плоды значат – добрые дела, хозяин значит – бог, почему же только сын значит – сын? По духу притчи и сын должен иметь и имеет переносное значение. Вся притча доказывает только то, что под сыном нужно разуметь что-то, но наверное уже не сына.
«Отец мой доселе делает, и аз делаю» (—17). Этот ответ, в котором господь Иисус усвояет себе равенство с богом отцом по праву и по власти» (стр. 49).
Иисус всем велел молиться богу отцу, называть, считать бога отцом; и потому место это только может доказывать обратное, именно то, что Иисус считал себя таким же человеком, как и других людей, и свое отношение к богу определял точно так же, как отношение всех других людей к богу. Слова же: «я делаю, что отец мой делает», очевидно, значат то самое, что значат слова: «будьте совершенны, как отец ваш». Тут он относит эти слова к другим. А когда говорит: «я делаю, что отец мой делает», он относит эти слова к себе, но как к человеку, а никак не как к богу.
И «сего ради паче искаху его убити, яко не токмо разоряше субботу, но и отца своего (ἴδιον) глаголаше бога, равенся творя богу» (Иоан. 5, 18) (стр. 49).
Слова эти, как и кто бы ни читал их, не имеют другого смысла, как тот, что писатель Иоанн Богослов, желая выяснить истинное значение сыновности богу Христа, представляет образец ложного понимания слов Христа. Слова эти означают только то, что иудеи впадали насчет Иисуса, упрекая его, в то самое заблуждение, в которое впадает теперь церковь, восхваляя его. Другого значения эти слова не могут иметь.
«Аминь, аминь, глаголю вам, не может сын творити о себе ничесоже, аще не еже видит отца творяща: яже бо он творит, сия и сын такожде творит» (Иоан. 5, 19) (стр. 50).
Слова эти сказаны в ответ на упреки о том, что он и ученики его нарушают субботу. Он говорит, что бог не перестает творить или промышлять, почему же человеку переставать.
«Яко же бо отец воскрешает мертвые и живит, тако и сын ихже хощет, живит. Отец бо не судит никомуже, но суд весь даде сынови: да вси чтут сына, якоже чтут отца. А иже не чтит сына, не чтит отца, пославшего его» (Иоан. 5, 24, 22, 23) (стр. 50).
То же самое говорится по случаю исцеления в субботу; говорится, что человек может лечить в субботу и сам может решать, что нужно делать человеку, живущему по-божьему, старающемуся быть совершенным, как отец, что человека – сына бога – надо чтить, как и бога.
«Якоже бо отец имать живот в себе, тако даде и сынови живот имети в себе» (Иоан. 5, 26) (стр. 50).
Значит только то, чему постоянно учит Иисус: что жизнь истинная есть знание истинного бога и что каждый эту жизнь имеет в себе.
Все эти места, не говоря об их значении, имеют один неотрицаемый смысл, именно тот, что Иисус Христос признает себя совершенно таким же сыном божиим или человеческим, как и всех других людей, и не только не равняет себя богу, как клеветали на него иудеи, но постоянно противополагает себя богу.
Слова «сын мой возлюбленный» (Мф. 3, 17), даже если они сказаны с неба, говорят только, что Христос – сын бога, как все люди, но любимый богом.
«Испытайте писаний, яко вы мните в них имети живот вечный, и та суть свидетельствующая о мне» (Иоан. 5, 39) (стр. 50).
Писания говорят о нем – о пророке, о его учении, но нет и намека на его божество.
Другой подобный случай представился вскоре. Когда спаситель пришел однажды в иерусалимский храм, и иудеи, обступив его, настоятельно спрашивали: «доколе души наша вземлеши? еще ты еси Христос, рцы нам не обинуяся» (Иоан. 10, 24), тогда он, отвечая им, между прочим, сказал: «Аз и отец едино есма» (—29) (стр. 50).
Это ложь сознательная. Он, не «отвечая между прочим, сказал»: «аз и отец едино есма», а сказал эти слова вот к чему: «Тут иудеи обступили его и говорили ему: долго ли тебе держать нас в недоумении? если ты Христос, скажи нам прямо» (Иоан. 10, 24). Он сказал не между прочим, а сказано: «Иисус отвечал им: я сказал вам, и не верите, дела, которые я творю во имя отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите; ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век; и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец – одно» (Иоан. 10, 25—30).
Он ясно сказал, что овцы его, т. е. слушающие его, не могут быть у него отняты, потому что он ведет их по воле бога. И то, чему он учит, есть то, в чем воля божия. Только это означают слова: «Я и отец – одно».
И в подтверждение того, что слова эти ничего другого не значат, в предостережение от того, чтобы не дали этим словам ложный смысл, евангелист тотчас присовокупляет ложное, грубое понимание иудеев, показывая тем, как не надо понимать.
Это место, явно отрицающее божественность Христа, богословие передает так: «Эти слова до того раздражили вопрошавших, что они «взяша камение, да побиют его», присовокупляя: «о добре деле камение не мещем на тя, но о хуле, яко ты человек сый твориши себе бога» (Иоан. 10, 31, 33). Про это место в богословии сказано:
Однакож и в настоящий раз спаситель не только не заметил иудеям, что он вовсе не называет себя богом, как они думают, напротив, стал еще доказывать эту мысль, наименовав себя прямо сыном божиим (стр. 50).
Как же ему было еще именовать себя, чтобы показать им, что он не считает себя богом, а сыном бога, тем самым, чем он учил быть всех людей? Вот всё это место:
«Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: много добрых дел показал я вам от отца моего; за которое из них хотите побить меня камнями? Иудеи сказали ему в ответ: не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя богом. Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы боги?» (Псал. 81, 6). Если он назвал богами тех, в которых было слово божие, и не может нарушиться писание, – тому ли, которого отец освятил и послал в мир, вы говорите: «богохульствуешь», потому что я сказал: «Я сын божий»? Если я не творю дел отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что отец во мне и я в нем» (Иоан. 10, 31—38).
Как же еще яснее сказать, что он не бог, а что боги – все те, в которых слово божие, и что он называет себя, как и всех людей, сыном божиим. Но богословие считает это доказательством признания Иисусом Христом того, что он – бог, равный богу, и оно продолжает:
Третий, подобный же, но еще более разительный случай был пред кончиною спасителя. Его, связанного, привели на судилище к Пилату. Здесь, по выслушании многих лжесвидетелей на Иисуса, архиерей, наконец, встал и торжественно вопросил его: «заклинаю тя богом живым, да речеши нам, аще ты еси Христос сын божий» (Матф. 26, 63; снес. Марк. 14, 61), и Иисус, нимало не колеблясь, отвечал: «Аз есмь, и узрите сына человеческого, одесную седяща силы и грядуща со облаки небесными» (Марк. 14, 62). «Тогда архиерей растерза ризы своя, глаголя, яко хулу глагола: что еще требуем свидетелей? се ныне слышасте хулу его. Что вам мнится? Они же отвещавше, реша: повинен есть смерти» (Матф. 26, 65, 66). И приведши потом Иисуса к Пилату, иудеи сказали ему: «мы закон имамы, и по закону нашему должен есть умрети, яко себе сына божия сотвори» (Иоан. 19, 7). Таким образом, истину своего божества спаситель не поколебался подтвердить самою своею смертию (стр. 51).
Христа на суде спрашивают опять, признает ли он себя – не богом (об этом и речи и вопроса нет), а сыном бога, и Христос отвечает: «Я есмь». И вслед за тем говорит о значении сына человеческого, по его выражению, «седящего одесную силы на облаках». Всё время иудеи обвиняют Христа, призывающего всех к признанию своей сыновности богу, в том, что он кощунствует, делая себя равным богу. Христос всё время отвечает, что однороден, близок богу, сын богу не он, Иисус, а сын человеческий, и это самое повторяет на суде и его казнят за это. И это считается доказательством того, что он признавал себя богом!
И, считая божество Христа доказанным им самим, далее богословие видит подтверждение этого в том, что Христос приписывает себе, как сыну человеческому, однородному богу, свойства божества. В доказательство этого приводятся следующие стихи: Иоанна III, 13; Мф. XVIII, 20; XXVIII, 20; Иоанна XVII, 5, 27, 28; Мф. XI, 27; Иоанна X, 15.
Все эти стихи, по богословию, означают то, что Христос приписывает себе божеские свойства: вездеприсутствия, самобытности, вечности, всемогущества и всеведения. Все эти стихи говорят только об однородности сына человеческого с богом и ни в каком случае не доказывают особенное божество Христа, как это объясняет богословие. На этом основании так же справедливо можно бы было приписывать божество и ученикам Христа, которым он говорил с разных сторон всё одну и ту же мысль, что они в нем и он в них так же, как отец в нем.
Этим кончаются доказательства божества Христа, выраженные им самим. За этим следуют доказательства из слов апостолов.
Как учил о себе Христос-спаситель, так же потом учили о нем и ученики его, по вдохновению от духа святого. Например:
1) Св. евангелист Матфей, изображая чудесное зачатие спасителя, относит к нему пророчество Исаии: «се дева во чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, еже есть сказаемо: с нами бог» (1, 23; Ис. 7, 14) (стр. 51).
Я выписываю всё, что сказано об этом в богословии, не пропуская ни одной строки. Это считается первым доказательством из слов апостолов. Читаешь и удивляешься. Неужели кто-нибудь может эти слова объяснить доказательством того, что Христос – бог? Еммануил есть имя, означающее «с нами бог». Место это выписано евангелистом из пророка, чтобы показать то, что Иисус был мессия. Какая связь этих слов с божеством Христа, решительно непонятно.
Второе доказательство:
2) Св. евангелист Марк начинает свое Евангелие словами: «зачало евангелия Иисуса Христа, сына божия» (1, 1), и потом, повествуя о крещении спасителя, говорит: «и абие восходя от воды, виде разводящася небеса, и духа, яко голубя, сходяща нань; и глас бысть с небесе: ты еси сын мой возлюбленный, о немже благоволих» (—10, 11) (стр. 52).
Слова Евангелия: «сына божия», «ты еси сын мой возлюбленный, о немже благоволих», означают только то, что сын возлюбленный бога никак уже не может быть сам бог.
Третье доказательство:
3) Св. евангелист Лука приводит пророчественные слова ангела к Захарии о имевшем родиться сыне его Иоанне, предтече спасителя: «и многих от сынов израилевых обратит ко господу богу их: и той предъидет пред ним духом и силою Илииною» (1, 16, 17) (стр. 52).
Слова пророчества ангела к Захарии говорят о боге, а не о Христе. Четвертое доказательство:
4) Св. Иоанн Богослов начинает свое Евангелие словами: «в начале бе слово, и слово бе к богу, и бог бе слово. Сей бе искони к богу. Вся тем быша, и без него ничтоже бысть, еже бысть» (Иоан. 1, 1—3). Т. е. прямо называет слово богом, представляет его существующим от начала или от вечности, отличным от отца и сотворившим всё существующее. Далее пишет: «и слово плоть бысть, и вселися в ны, и видехом славу его, славу яко единородного от отца, исполнь благодати и истины… яко закон Моисеом дан бысть; благодать же и истина Иисус Христом бысть» (—14, 17). Т. е. свидетельствует, что это слово есть именно единородный сын бога отца, что оно восплотилось и есть не кто другой, как И. Христос (стр. 52).
Того, что слово есть не кто другой, как Иисус Христос, сотворивший всё, не только ни из чего не видно, но для того, кто прочтет всю главу, ясно, что слово, логос, имеет общее метафизическое значение, совершенно независимое от Христа. Как бы ни понимать эту главу, очевидно, что смысл ее не в том, что Христос – бог. Для того чтобы сказать это, не нужно было говорить ни о «слове», ни о свете, ни о рождении людей. Доказательство, выводимое церковью из этой главы о божестве Христа, зиждется на произвольном соединении одного предложения 1 стиха, где сказано: «В начале было слово, и слово было у бога, и слово было бог», и что «оно было в начале у бога», с 14 стихом, где сказано, что «слово стало плотью», и потом с 17 стихом, где сказано, что благодать дана Иисусом Христом. Первое предложение из первого стиха не стоит отдельно, а есть связующее предложение между первым и последним. Вслед за этим говорится о свете, освещающем всякого человека, приходящего в мир, о рождении людей, о власти или возможности всех делаться чадами божиими и не об одном Христе, рожденном от бога, но о многих, рожденных от бога. Всё такие мысли, которые не только не подтверждают положения о том, что «слово» есть Христос, но прямо указывают на то, что «слово», или «логос», есть начало истинной жизни всех людей.
Потом говорится о том, что «слово» стало плотью, и по последующим стихам должно предполагать, что говорится об явлении Иисуса Христа. Но тут же, в 17 стихе, не говорится, чтобы «слово» это был сам Иисус Христос, но говорится, каким образом выразилось это «слово» для людей; оно выразилось в благодати и истине. И, казалось бы, исключая всякую возможность признания Христа богом, тотчас же и говорится далее: «Бога никтоже виде нигдеже». Так что слова: «видехом славу его» никак уже нельзя относить к Христу богу, а между тем это-то самое место и считается лучшим доказательством божества Христа.
«Еще далее», говорит богословие:
«Бога никтоже виде нигдеже: единородный сын, сый в лоне отчи, той исповеда» (—18). Т. е. показывает, что Иисус Христос есть единородный сын в смысле собственном, как существующий в самом лоне отца (стр. 52).
Если однородный отцу – сын исповедал того бога, которого никто никогда не может видеть, то очевидно, что сын этот не есть бог. Богословие же делает обратное заключение.
А оканчивая свое евангелие, делает замечание, что и целию его писания было – доказать божество Иисуса Христа: «сия же писана быша, да веруете, яко Иисус есть Христос сын божий, и да верующе, живот имате во имя его» (—20, 31) (стр. 52).
Это уже прямо несправедливо: замечание Иоанна не имеет целью доказать божество Иисуса Христа, а говорит только о сыновности Христа богу.
«Тот же апостол, – говорится далее,
в начале первого послания своего называет Христа спасителя «словом животным» (1 Иоан. 1, 1) и «животом вечным, иже бе у отца и явися нам» (—2), а в заключение послания говорит: «вемы яко сын божий прииде, и дал есть нам свет и разум, да познаем бога истинного: и да будем во истиннем сыне его Иисусе Христе. Сей есть истинный бог и живот вечный» (—5, 20), именуя здесь «истинным» сыном божиим и «истинным» богом, того, кого прежде назвал «животом вечным» (стр. 52).
Это рассуждение уже прямо недобросовестно. Слова: «сей есть истинный бог», очевидно, не могут относиться к Христу, а относятся к богу.
Вот все доказательства из Евангелий.
«Наконец в Апокалипсисе, – говорит богословие, —
неоднократно приводит слова являвшегося ему спасителя: «Аз есмь альфа и омега, начало и конец, первый и последний» (1, 10, 12, 17, 18; 2, 8; 22, 12, 13) и выражается, что Христос есть «князь царей земных» (1, 5) «царь царем и господь господем» (19, 16) (стр. 52 и 53).
Как каждый может видеть, даже в этих местах Апокалипсиса – книги, не имеющей никакого значения для объяснения учения Христа, – нет даже указаний на божество Христа. «Царь царей и господин господам» не есть бог.
Далее идут доказательства из апостолов.
5) Св. Иуда апостол, изображая еретиков, говорит: «привнидоша неции человецы, древле предуставленнии на сие осуждение, нечестивии, бога нашего благодать прелагающии в скверну, и единого владыки бога и господа нашего Иисуса Христа отметающиися» (ст. 4) (стр. 53).
В послании Иуды, в самых старых списках читается так: «отвергающие единого владыку и господина (δεσπότην καὶ κύριον) Иисуса Христа». В позднейших и в нашем читается: «отвергающие единого владыку бога и господа нашего Иисуса Христа». В первом чтении не может быть вопроса о божестве Христа; при втором чтении, казалось бы, еще меньше может быть речи о божестве Христа, так как тут же бог назван, как и всегда называется, единым, и после него назван Иисус Христос, как пророк или праведник. Но такое отсутствие доказательств считается доказательством. Таковы же доказательства из посланий Павла. Вот они:
6) Св. апостол Павел называет спасителя в своих посланиях: «богом, явившимся во плоти» (1 Тим. 3, 16), «господом славы» (1 Кор. 2, 8), «богом великим» (Тит. 2, 11―13), «богом благословенным» (Рим. 9, 4, 5), сыном божиим «собственным» (ἴδιον) (Рим. 8, 32), «иже, во образе божии сый, не восхищением непщева быти равен богу» (Фил. 2,6); усвояет ему божеские свойства: вечность (Евр. 13, 8), неизменяемость (—1, 10—12), всемогущество (Евр. 1, 3; Фил. 3, 21), и говорит: «тем создана быша всяческая, яже на небеси и яже на земли, видимая и невидимая, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти: всяческая теми о нем создашася (Кол. 1, 16, 17); той есть, прежде всех, и всяческая в нем состоятся» (Кол. 1, 17; снес. Евр. 1, 3) (стр. 53).
В посланиях этих в трех местах: Рим. 9, 4, 5; Титу 2, 11, 13 и Тим. 3, 16, Христос назван богом. Справляюсь с текстами и вижу, что все три указания о признании Павлом божества Христа основаны на приписках слов к старым спискам и на неправильности переводов и знаков препинания. Место Тимофея читается различным образом. В самых древних списках вовсе не стоит слово бог, а вместо него местоимение относительное, то мужеского, то среднего рода. Во всяком же случае весь стих относится к Христу, а не к богу, и замена в позднейших списках местоимения словом бог никак не может служить доказательством божества Христа.
Следующее – Титу 2, 11—13. Место это следующее: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого бога и спасителя нашего Иисуса Христа». Союз «и» принимается богословием за двоеточие, за равенство, и вместо того, чтобы понимать, как понимается много подобных мест, что речь идет о славе бога и о славе Иисуса Христа, слова эти принимаются за доказательство божества Христа.
Наконец последнее место есть: Римл. 9, 4, 5. Место это читается так, что Христос называется благословенным богом только потому, что пропускается знак препинания, долженствующий стоять после слов: «Христос по плоти». Весь стих такой: «Их (евреев) и отцы, и от них Христос по плоти». Тут должна стоять точка. И далее идет обычная хвала богу: «Сущий над всеми бог благословен (а не благословенный) во веки веков. Аминь». Эта умышленная ошибка чтения считается доказательством божества Христа.
Вот все доказательства.
Очевидно, это не доказательства, а подыскивание слов, могущих служить подтверждением положения, не имеющего никаких оснований в Евангелиях и посланиях. Для всякого, изучавшего свящ. писание в подлиннике, знакомого с критикой писания и историей церкви, очевидно, что в первый век христианства, в то время, когда писались послания и Евангелия, еще не было и помину о догмате божества Христа. Лучшим опровержением доказательств церкви о божественности Христа служат эти тщетные попытки найти что-нибудь похожее на доказательство. Всё, что могло быть похоже на указание, всякая темная фраза, всякое сближение с словом, всякая описка, всякая возможность ложного чтения берется как доказательство; и доказательства нет и не может быть, потому что этой мысли даже о божестве Христа не было ни у него, ни у учеников его. Особенно это видно из чтения в подлиннике Деяний Апостольских. Тут описывается учение апостолов, тут вспоминается много раз о Христе и не только ни разу не говорится о том, что он – бог, но не приписывается ему никакого особенного перед всяким святым значения; он называется не иначе, как праведником, пророком, посланным от бога и даже не υἱὸς τοῦ Θεοῦ,23 как он называется у Павла и Иоанна, а παῖς τοῦ Θεοῦ, что имеет значение скорее мальчик, слуга, а не сын, и которое никак не может быть соединено с теперешним учением церкви о Христе-боге.
Для того же, чтобы иметь ясные и очевидные доказательства того, что никогда главный распространитель учения Христа, Павел, и не думал о божестве Христа, необходимо прочесть те места его посланий, которые прямо определяют отношение Христа к богу.
1 Кор. 8, 6: «Но у нас один бог отец, из которого всё и мы для него, и один господь Иисус Христос, которым всё, и мы им».
Еф. 4, 6: «Один бог и отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас».
Еф. 1, 17: «Чтобы бог господа нашего Иисуса Христа» и т. д.
1 Кор. 11, 3: «Христу глава – бог».
И проще и несомненнее всего это выражено:
1 Тим. 2, 5: «.Ибо един бог, един и посредник между богом и человеком – человек Христос Иисус».
В самом деле, является человек, который учит людей о том отношении, которое должно быть между человеком и богом, и проповедует это учение всем людям. Отношение свое и всех людей к богу он выражает отношением сына к отцу. Чтобы не могло быть никакого недоразумения, он называет себя и людей вообще сыном человеческим и говорит, что сын человеческий есть сын божий. Объясняя отношение человека к богу, он говорит, что как сын должен подражать отцу, иметь с ним одни цели (в притче о пастыре), так и человек должен стремиться быть подобным богу, делать то же, что и бог делает. И он говорит про себя, что он – сын бога.
И в самом деле, что же мог иного сказать Христос, если он учил людей их сыновности богу? Ему нельзя не сказать про себя, что он сын бога, так как этому самому он учит всех людей; и нельзя никак сказать того, о чем не было ни малейшего понятия ни у евреев, ни у него: что он есть бог и второе лицо троицы; поэтому он никогда не отрицает сыновности богу и никогда не приписывает ей никакого особенного значения. Ему говорят: «если ты простой человек, как все, ешь и пьешь с мытарями, то тебе нечему учить нас. Если же ты сын божий, мессия, то тогда покажи нам свою власть и чудеса или иди на казнь». Он отрицал и то, и другое. Он говорил: «я не такой же, как все, я исполняю волю отца моего – бога и учу этому людей. Но я не сын бога особенный, а я сын бога только тем, что исполняю его волю, вот чему и учу всех людей». Вот то, с чем он боролся всю свою жизнь, это самое навязали ему и хотят доказать, что он говорил то, от чего он отрекался, и что, если бы он сказал это, уничтожило бы весь смысл его учения.
По учению же церкви выходит, что бог сошел на землю только затем, чтобы спасти людей. Спасение их в том, чтобы верить, что он – бог. Так что же ему стоило прямо сказать: я – бог. Хоть не прямо сказать, а по крайней мере не иносказательно, не так, чтобы можно было без всякого дурного желания понять это иначе. Но хоть бы и иносказательно, но так, чтобы можно было объяснить его слова так, что он – бог. Но хоть бы и не совсем точно, но так, чтобы его слова не противоречили тому, что он – бог. А то он сказал так, что нельзя понимать иначе, как так, что он прямо утверждал, что он – не бог. Но хоть бы своим ближайшим ученикам открыл эту тайну так, чтобы они передали ее людям; но и все ученики его учили только о том, что он – праведник, посредник между людьми и богом, а не бог. И вдруг оказывается, что для нашего спасенья, происшедшего от него, надо его слова понимать совершенно не так, как он говорил, как говорили его ученики, не надо верить своему здравому смыслу, а надо верить церкви, которая, основываясь на уловках перетолкования некоторых стихов, утверждает противоположное тому, что он говорил о себе и что говорили о нем его ученики.
Я остановился на этом месте не для того, чтобы доказывать, что Христос – не бог. Доказывать это бесполезно. Кто верит в бога, для того Христос не может быть бог. В изложении догмата троицы и всей дальнейшей неизбежной путаницы это было слишком очевидно; но я остановился на этом месте, как на таком, в котором лежит источник предшествующих безобразий и бессмыслиц. Мне очевидно, что по смерти Христа глубоко проникнутые его учением ученики, говоря и пиша о нем, о том человеке, который учил о том, что все – сыны божии и должны слиться с богом в жизни, и который в своей жизни до смерти исполнил это подчинение себя воле божией и слияние с ним, мне понятно, что ученики называли его божественным, сыном бога, возлюбленным по высоте его учения и по жизни, вполне исполнившей его учение, и понятно, как грубые люди, слушая учение апостолов, не понимали его, понимали одни слова и на словах этих, грубо понятых, строили свое учение и, с свойственным грубости упорством, стояли за свое понимание, отрицая всякое другое именно потому, что не в силах были понять его, и как потом эти грубые люди насилием на первом и втором соборах закрепили это ужасное заблуждение.
Как и в догмате о прародительском грехе я могу допустить, понимание тех людей, которые не могут видеть в повести о падении человека ничего иного, как то, что был Адам, и он не выполнил приказанья бога – не есть запрещенного плода (это понимание не неверно: оно только грубо), – точно так же я могу допустить понимание людей, которые говорят, что Иисус был бог. Это понимание не неверно: оно только грубо и неполно. Понимание того, что человек пал, потому что не повиновался богу, верно тем, что оно выражает мысль о том, что зависимость, слабость, смерть человека – всё это следствие его плотских страстей. Точно так же верно и то, что Христос был бог, тем, что действительно, как и сказал Иоанн, он явил нам бога.
Но как только люди начинают утверждать, что это единая истина и что столько-то именно лет тому назад в таком-то именно месте жил Адам, сотворенный богом, и бог насадил ему сад и т. д., и что в этом всё значение этого их утверждения, или, что Иисус, второе лицо бога, вочеловечился в деве Марии от духа святого, как только начинают утверждать, что самая та форма, в которой они выражают эту мысль, есть единая истина, так я уже не могу допускать того, что они говорят, ибо их разъяснения и утверждения уничтожают самое значение той мысли, которую они высказывают, исключают возможность всякого единения веры и явно обличают их в том, что источник их упорства в утверждении есть грубость и непонимание. И это самое делала и продолжает делать церковь во имя своей святости и непогрешимости.
За этим следует § 134: «Господь Иисус имеет естество человеческое и есть именно сын девы Марии» (стр. 56).
§ 135. «Господь Иисус родился по человечеству сверхъестественным образом, и пресв. матерь его есть приснодева» – доказывает то, что Христос родился по-человечески от девы Марии, и что Мария, родив его, осталась девою. Приводятся доказательства того, чего нельзя понять, и объяснения отцов церкви:
И не только так учили, но нередко старались раскрывать, что такой чудесный способ рождения мессии и возможен, и весьма приличен: в доказательство или объяснение возможности указывали на всемогущество божие и на некоторые другие подобного рода чудесные случаи, например на купину, которая горела, но не сгорала, на то, что спаситель, по воскресении своем, мог войти к ученикам своим сквозь заключенные двери (стр. 71).
§ 136. «Господь Иисус есть человек безгрешный».
«II. О единстве ипостаси во Иисусе Христе».
В § 137 «Действительность соединения во Христе двух естеств во единую ипостась» раскрывается следующее:
Веруем, что сын божий… воспринял на себя в собственной ипостаси плоть человеческую, зачатую в утробе девы Марии от святого духа, и вочеловечился» (Послание восточных патриархов о прав. вере, чл. 7) и что, следовательно, человечество его не имеет в нем особой личности, не составляет особенной ипостаси, а воспринято его божеством в единство его божеской ипостаси. Или скажем словами св. Иоанна Дамаскина: «Ипостась бога слова воплотилась, восприняв от девы начаток нашего состава – плоть, одушевленную словесною и разумною душею: так что сама стала ипостасию плоти… Одна и та же ипостась слова, сделавшись ипостасию двух естеств, не допускает ни одному из них быть безъипостасным, равно не позволяет им быть и разноипостасными между собою; и не бывает ипостасию то одного естества, то другого, но всегда пребывает ипостасию обоих естеств нераздельно и неразлучно… Плоть бога слова не получила самостоятельной ипостаси и не стала ипостасию разною от ипостаси бога слова, но, в ней получив ипостась, стала, лучше сказать, принятою в ипостась бога слова, нежели самостоятельной ипостасию» (стр. 80).
Передавать своими словами этого уже нельзя. Тут уже идет бред сумасшедших. Троица в одном лице распадается на два. И эти два опять одно.
Св. писание представляет самые твердые основания сей истины. Оно учит: 1) что во Христе Иисусе, при двух естествах, божеском и человеческом, едина ипостась, единое лицо, и – 2) что эта ипостась есть именно ипостась слова, или сына божия, которая, восприяв на себя и соединив в себе естество человеческое с божеским, пребывает нераздельно единою ипостасию того и другого естества (стр. 80).
Всё это подтверждается свящ. писанием, отцами церкви, постановлениями соборов. В конце призывается и здравый разум:
И здравый разум, на основании богословских начал, не может не заметить, что ересь Несториева, разделявшая Иисуса Христа на два лица, совершенно нисповергает таинство воплощения и таинство искупления. Если божество и человечество во Христе не соединены во едину ипостась, а составляют два отдельных лица; если сын божий соединялся со Христом-человеком только нравственно, а не физически, и обитал в нем, как прежде в Моисее и пророках, то воплощения вовсе и не было, и нельзя сказать: «слово плоть бысть», или: «посла бог сына своего, рождаемого от жены». Ибо выходит, что сын божий не рождался от жены, не воспринимал на себя плоти человеческой, а только совне стал присущим человеку-Христу, родившемуся от жены. С другой стороны, если за нас пострадал и умер на кресте не сын божий своею плотию, воспринятою им в единство своей ипостаси, но пострадал и умер простой человек Христос, имевший только нравственное общение с сыном божиим, то не могло совершиться и наше искупление, потому что человек, как бы он свят ни был, по самой своей ограниченности, не в состоянии принести достаточное удовлетворение бесконечной правде божией за грехи всего человеческого рода. А подрывая таинство воплощения и таинство искупления, ересь Несториева подрывала тем самым и всё здание христианской веры (стр. 87).
Так что оказывается, что то, чего понять и выразить даже нельзя, о чем нельзя иначе думать, как надо заучить и повторять эти слова, это-то самое есть то, на чем зиждется всё здание христианской веры.
По случаю раскрытия этого догмата невольно приходит в голову соображение, что чем безобразнее, бессмысленнее догмат, как догмат троицы, искупления, благодати, вочеловечения, тем оказывается он важнее по мнению церкви и тем больше о нем есть и было споров. Оттого ли было много споров, что догмат безобразен, или оттого он вышел так безобразен, что он вырос из спора и злобы? Я думаю, что и то, и другое. Безобразный по сущности догмат вызывает споры, а спор обезображивает еще более догмат. Замечательно и то, что, чем догмат считается важнее церковью, тем больше за него было споров, злобы, казней, тем менее он имеет значения и возможности какого-нибудь нравственного приложения. Догматы: исхождения духа, естества Христа, таинство причащения, чем дальше они были от возможности какого-нибудь нравственного приложения, тем более они волновали церкви.
За этим следует:
§ 138. «Образ ипостасного соединения во Христе двух естеств».
Церковь учит нас, что два естества в нашем спасителе соединились:
I) с одной стороны – неслитно (ἀσυγχύτως) и неизменно, или непреложно (ἀτρέπτως), вопреки лжеучению монофизитов, сливавших во Христе два естества в одно или допускавших в нем преложение божества в плоть;
II) а с другой стороны – нераздельно (ἀδιαιρέτως) и неразлучно (ἀχορίστως), вопреки заблуждению несториан, разделявших во Христе естества, и других еретиков, отвергавших, чтобы они соединены были постоянно и непрерывно (см. Догм. Собора халкидон.) (стр. 87).
Это доказывается, кроме писания —
из соображений здравого разума. На основании своих естественных начал он никак не может допустить: а) ни того, чтобы божеское и человеческое естества слились или смешались во Христе и составили новое, третье естество, потерявши свои свойства: потому что божество неизменяемо и слияние или смешение двух совершенно простых существ, души человеческой и божества, невозможно, а тем более – физически невозможно слияние грубой плоти человеческой с простейшим божеством; б) ни того, чтобы или божеское естество превратилось в человеческое, или человеческое – в божеское: первое противно неизменяемости и беспредельности божией, последнее – ограниченности человеческой. А на основании начал откровенного или христианского богословия разум должен сказать, что только при неслиянном и непреложном соединении двух естеств во Иисусе Христе, только при совершенной их целости, могло совершиться великое дело нашего искупления: ибо пострадать за нас на кресте спаситель мог только своим человечеством, а сообщить бесконечную цену его страданиям могло только его божество. Следовательно, признавать во Христе слитие или превращение двух естеств в одно значит ниспровергать таинство нашего искупления (стр. 90).
Кроме того:
Два естества соединились во Христе «нераздельно и неразлучно» «Нераздельно» в том смысле, что хотя они пребывают во Христе совершенно целыми и различными, со всеми своими свойствами, но не существуют отдельно, не составляют двух особых лиц, соединенных только нравственно, как учил Несторий, а соединены во едину ипостась богочеловека: эта истина нами уже раскрыта. «Неразлучно»—в том смысле, что, соединившись во едину ипостась спасителя с минуты зачатия его во утробе пресв. девы, естества сии никогда уже не разлучались и не разлучатся: соединение их есть «непрерывное» (стр. 91).
Так что:
«Если кто говорит, читаем у св. Григория Богослова, что теперь отложена им (спасителем) плоть, и божество пребывает обнаженным от тела, а не признает, что с восприятым человечеством и теперь пребывает он, и придет: то да не зрит таковый славы его пришествия! Ибо где теперь тело, если не с воспринявшим оное? Оно не в солнце, как пустословят манихеи, положено, чтобы прославиться бесславием; оно не разлилось и не разложилось в воздухе, как естество голоса, и излияние запаха, и полет не останавливающейся молнии. Иначе, как объяснить то, что он был осязаем по воскресении (Иоан. 20, 27) и некогда явится тем, которые его прободали (стр. 93).
§ 139. «Следствия ипостасного соединения двух естеств во Иисусе Христе: а) по отношению к нему самому».
Из ипостасного соединения двух естеств во Иисусе Христе вытекают следствия: а) по отношению к нему самому, б) по отношению к пресвятой деве – матери его и в) по отношению к пресв. троице.
Следствия первого рода суть:
I. Общение во Иисусе Христе свойств обоих его естеств. Оно состоит в том, что в лице Иисуса Христа каждое его естество передает свойства свои другому, и именно – свойственное ему по человечеству усвояется ему как богу, а свойственное по божеству усвояется ему как человеку…
II. Обожение человеческого естества во Иисусе Христе. Обожение не в том смысле, будто человечество во Христе превратилось в божество, потеряло свою ограниченность и получило, вместо свойств человеческих, свойства божеские; а в том, что, быв воспринято сыном божиим в единство его ипостаси, оно приобщилось божеству его, стало едино с богом словом, и чрез это приобщение божеству возвысилось в своих совершенствах до самой высшей, возможной для человечества, степени, не переставая, однакож, быть человечеством.
III. Иисусу Христу, как единому лицу, как богочеловеку, подобает единое нераздельное божеское поклонение и по божеству и по человечеству…
IV. Во И. Христе – две воли и два действования (стр. 93—101).
Следуют длинные споры о двух волях и двух действованиях, опровержения и доказательства из писания и из здравого разума. Вообще болезненность умственная в этой главе усиливается до такой степени, что мучительно читать, если читать с желанием понять мысль пишущего.
Затем по подразделению, сделанному с начала этой главы, где сказано, что следствия ипостасного соединения в Иисусе Христе двоякие по отношению: а) к нему, б) к деве Марии.
§ 140. «б) По отношению к пресв. деве, матери господа Иисуса» (стр. 107) разбираются следствия ипостасного соединения по отношению к деве Марии. Содержание – полемика с македонианами и несторианами. Подразделение о следствиях по отношению к Христу и деве Марии только затем сделано, чтобы оспорить Нестория, называвшего деву Марию христородицею.
§ 141. «в) По отношению к пресв. троице» (стр. 112). Доказывается, что, несмотря на вочеловечение, троица осталась троицею. Понимать надо так:
«Не вношу четвертого лица в троицу, да не будет: но исповедую единое лице бога-слова и плоти его. Троица пребыла троицею и по воплощении слова… Плоть бога-слова не получила самостоятельной ипостаси и не стала ипостасию, разною от ипостаси бога-слова; но, в ней получив ипостась, стала, лучше сказать, принятою в ипостась бога-слова, нежели самостоятельною ипостасию. Потому она и не остается безъипостасною и не вводит в троицу иной ипостаси» (стр. 115).
§ 142. «Нравственное приложение догмата о таинстве воплощения».
Догматы все эти дают следующие уроки:
1) Все эти кощунственные споры, по мнению писателя, «утверждают в нас веру».
2) Вера напоминает надежду.
3) Воспламеняет в нас любовь к богу.
4) Учит нас прославлять не только бога, но «прославлять всеми силами своего существа пресвятую, преблагословенную, славную владычицу нашу богородицу и присно деву Марию».
5) «Уважать в себе достоинство человека», потому что Христос был бог и человек.
6) «Наконец, представляет нам в воплотившемся сыне божием совершеннейший образец для подражания, соответственно его собственным словам: «образ дах вам, да якоже аз сотворих вам, и вы творите» (Иоан. 13, 15) (стр. 116).
ГЛАВА XII
Следующее место, как оно называется в богословии, «член ΙΙ-ой», особенно важно, несмотря на то, что оно в середине изложения называется только членом вторым из главы второй, второй части: «о боге спасителе в особенном отношении его к роду человеческому». (Вообще всё деление богословия на части, отделы, главы, члены, параграфы, на 1, 2, 3…, на а, б и т. д. до такой степени сложно и произвольно и ни на чем не основано, что запомнить все эти деления нет никакой возможности и надо постоянно справляться или выучить всё наизусть.)
Место это особенно важно потому, что здесь, в этом месте, ключ всех противоречий. Тут заключено коренное внутреннее противоречие, из которого вытекла вся путаница остальных частей. Здесь, в этом месте, сделана подстановка своего церковного учения, вместо учения Христа, и сделана так, чтобы нельзя было сразу разобрать эту подстановку, а чтобы казалось, что к учению Христа, ясному и очевидному для всех, только присоединены некоторые откровенные церковью истины, не только не нарушающие учения Христа, но только еще более возвеличивающие Христа и его учение.
Противоречие, которое здесь незаметно вносится в учение, и которое потом будет предметом разъяснения в отделе о благодати, состоит в том, что Христос бог, сойдя на землю к людям, совсем падшим, спас их своею смертью и вместе с тем дал им закон, следуя которому, они могут спастись. Противоречие состоит в том, что если люди погибли и бог сжалился над ними и послал своего сына (он же и бог) на землю, чтобы умереть за людей и вывести их из того положения, в котором они были до этого искупления, то положение это должно измениться. Но вместе с тем утверждается, что бог при этом дал еще закон людям (закон веры и дел), не следуя которому, люди погибают точно так же, как они погибали до искупления. Так что выходит то, что если следование закону есть условие спасения, то спасение людей смертью Христа излишне или вовсе не нужно. Если же спасение смертью Христа действительно, то следование закону бесполезно, и сам закон излишен. Необходимо избрать одно из двух. И церковное учение в действительности избирает последнее, т. е. признает действительность искупления; но, признавая это, оно не смеет сделать последнего необходимого вывода, что закон излишен, – не смеет потому, что закон этот дорог и важен для всякого человека – и потому только на словах признает этот закон (и то очень неопределенно), всё же рассуждение ведет так, чтобы доказать действительность искупления и потому ненужность закона. Закон Христа в этом изложении есть что-то совершенно излишнее, не вытекающее из сущности дела, не связанного ничем с ходом рассуждения и потому само собой отпадающее. Это видно по способу выражения даже, например, заглавия: «О совершении господом нашего спасения или о таинстве искупления», и по разделению главы, в которой учение нравственное занимает только одну маленькую половину трех видов спасения, и по самому количеству страниц, посвященных этому предмету.
«Член II. О совершении господом Иисусом Христом нашего спасения, или о таинстве искупления» (стр. 117).
§ 143. «Каким образом господь Иисус совершил наше спасение?» Спасение наше Христос совершил, как Христос. Христос значит помазанник. Помазанниками были пророки, первосвященники и цари. Из этого богословие делает тот вывод, что Христос был пророк, первосвященник и царь. И на этом основании спасение Христом, служение его людям разделяется на три отдела – на пророческое, первосвященническое и царское. Почему делается такое, по меньшей мере странное, деление: почему Христос называется таким несвойственным ему именем царя, которое не только бог Христос, но и всякий нравственный человек не захочет принять, на это нет никакого другого ответа, как то, что так написано в прежних катехизисах.
Сначала идет: «О пророческом служении Иисуса Христа».
§ 144. «Понятие о пророческом служении Иисуса Христа и истина сего служения» (стр. 118). То, что Христос был пророк, доказывается свящ. писанием.
§ 145. «Как совершил господь Иисус свое пророческое служение и сущность его проповеди» (стр. 121). Пророческое служение, по богословию, состоит из двух частей: закона веры и деятельности. Для спасения людей Христос дал закон веры и деятельности. Закон веры состоит в вере в бога творца, в троицу, в падение Адама, в вочеловечение и в искупление. Закон деятельности – в самоотвержении и в том, чтобы любить бога и ближнего.
Следующий § 146: о том, что «Иисус Христос преподал закон новый, совершеннейший, взамен закона Моисеева» (стр. 125). В этом параграфе излагается отличие закона Христа от закона Моисея, опять преимущественно по отношению веры. По отношению же деятельности сказано только на полустраничке о том, что требования закона евангельского выше закона Моисеева, но ничего не сказано о том, в какой мере исполнение этих требований обязательно для спасения, и какие они собственно. По соображению же с требованиями, заявляемыми тут, и с исполнением их в действительности, очевидно, что закон евангельской деятельности не признается обязательным для спасения. Сказано, что законом Христа требуется: перенесение, прощение обид, любовь к врагам, самоотвержение, смирение, целомудрие, не только телесное, но и духовное. Очевидно, что если таковы требования закона деятельности Христа для спасения, то не только не будет спасен род человеческий, но не был и не будет спасен один из миллиона. Очевидно, что это сказано только для того, чтобы не умолчать о нравственном учении Христа, но что учение не имеет места и не нужно богословию.
§ 147. «Иисус Христос преподал закон для всех людей и на все времена» (стр. 130). Всё это доказывается текстами из писаний, т. е. не указаниями на то, что другого закона быть не может, а словами из писания, которые утверждают, что это закон – для всех и на все времена, подразумевая под законом только закон веры.
§ 148. «Иисус Христос преподал закон единый спасительный и, следовательно, необходимый для достижения жизни вечной» (стр. 132). В этом параграфе доказывается то, что закон этот дает жизнь вечную, тоже не разъяснением смысла закона нравственного, а тем, что это утверждается в писании и св. отцами, и опять подразумевается только закон веры. И этим кончается учение о пророческом служении Иисуса Христа.
Далее идет то, что самое существенное для церкви: «II. О первосвященническом служении Иисуса Христа», т. е. об искуплении (стр. 133).
§ 149. «Связь с предыдущим, понятие о первосвященническом служении Иисуса Христа, истина сего служения и превосходство». Тут сказано, что:
Как пророк, Христос-спаситель только возвестил нам о спасении, но еще не совершил самого спасения: просветил наш разум светом истинного боговедения, засвидетельствовал о себе, что он есть истинный мессия, пришедший на землю «взыскати и спасти погибших» (Матф. 18, 11); объяснил и то, каким образом он спасет нас, каким образом мы можем усвоять себе его заслуги, и указал нам прямой путь к животу вечному. Но самым делом он спас нас от греха и от всех следствий греха, самым делом заслужил для нас живот вечный чрез служение свое первосвященническое (стр. 133 и 134).
Здесь прямо высказано то, в чем самая сущность учения о спасении. Пророческое служение, в которое включены требования закона деятельности, было только «возвещение», спасение же было в жертве, в его смерти. Христос, кроме того, что дал нам спасительный закон веры и деятельности, спас нас «самым делом».
Это служение нашего спасителя состояло в том, что он… принес самого себя в умилостивительную жертву за грехи мира и таким образом примирил нас с богом, избавил нас от греха и его следствий, приобрел нам вечные блага (стр. 134).
Спасение происходит от того расчета между божеством, который совершился независимо от нас. Почему выходит то, что Христос – первосвященник, тогда как первосвященник приносит жертвы, а Христос сам жертва, излагается дальше:
Истину первосвященнического служения нашего спасителя – а) провозгласил еще в Ветхом Завете сам бог устами пророка Давида, говоря к мессии: «ты, иерей, во век, по чину Мелхиседекову» (Пс. 109, 4); б) засвидетельствовал Христос-спаситель, относя к себе этот пророчественный псалом, в котором назвал он «вечным иереем по чину Мелхиседекову» (Матф. 22, 44; Марк. 12, 36; Лук. 20, 42), в) наконец, с подробностию раскрыл св. апостол Павел в послании к евреям. Здесь он —
1) Ясно и многократно называет Иисуса Христа первосвященником, святителем, архиереем. Например: «Христос не себе прослави быти первосвященника, но глаголавый к нему: сын мой еси ты, аз днесь родих тя: якоже и инде глаголет: ты еси священник во век, по чину Мелхиседекову» (Евр. 5, 5, 6); «разумейте посланника и святителя исповедания нашего Иисуса Христа» (3, 1); «имуще убо архиерея велика прошедшего небеса, Иисуса сына божия, да держимся исповедания» (4, 14, 16).
2) Объясняет, почему он назван первосвященником «по чину Мелхиседекову». Это – а) потому, что Мелхиседек был не только священник бога высшего, но вместе и царь салимский, – царь правды и мира, и таким необыкновенным сочетанием двух высоких служений прообразовал Христа, необыкновенного первосвященника-царя (Евр. 7, 2); б) потому, что Мелхиседек (так как в св. писании не упоминается ни о роде его, ни о начале и конце жизни, ни о предшественнике и преемнике) представлял собою образ Христа, сына божия, который пребывает священник выну (—3); в) наконец потому, что, прияв десятину от самого Авраама и благословив его, Мелхиседек священник, в лице Авраама, благословил и всех, находившихся в чреслех его, сынов левииных, священников ветхозаветных, и от всех их приял десятину, а как без всякого прекословия, меньшее от большего благословляется, то и предъизобразил собою священство Христово, превосходнейшее священства левитского ветхозаветного (—4—10) (стр. 134 и 135).
Понятно? В этой части замечательно уже не только совершенное равнодушие писателя к тому, имеют ли какой-нибудь смысл слова, но прямо как будто желание собрать такие слова, которые не могут иметь никакого смысла. Если можно придать какой-нибудь смысл этой главе, то он тот, что Христос принес себя в жертву богу за людей, и что тот, кто писал послание для выражения мысли о том, что Христос – искупитель за грехи, неловко выбрал неясное сравнение с Мелхиседеком, и церковь, принимая все послания Павла и приписываемые ему за писания св. духа, привязалась к слову «первосвященник», ничего не объясняющему и только путающему. Мысль та, что Христос принес себя в жертву за людей.
Для разъяснения приводятся слова Григория Богослова, Епифания и др.
Св. Григорий Богослов: «Он был жертва, но и архиерей; жрец, но и бог; принес в дар богу кровь, но очистил весь мир; вознесен на крест, но ко кресту пригвоздил грех»; «он – Мелхиседек (Евр. 7, 3), как рожденный без матери по естеству высшему нашего, и без отца – по естеству нашему, как не имеющий родословия по горнему рождению, ибо сказано: род его кто исповесть? (Ис. 53, 8); как царь Салима, то есть мира, как царь правды, как приемлющий десятину от патриархов, которые мужественно подвизались против лукавых сил». Св. Епифаний: «Он называется архиереем, – потому что в теле своем принес самого себя в жертву отцу за род человеческий, сам священник, сам и жертва. Он принес себя, священнодействуя за весь мир»; и в другом месте: «Он принес в жертву самого себя, чтобы чрез принесение совершеннейшей и живой жертвы за весь мир упразднить жертвоприношение ветхозаветное, сам жертва, сам жертвоприношение, сам жертвенник, сам бог, сам человек, сам царь, сам первосвященник, сам овца, сам агнец, соделавшийся всем ради нас». Подобным же образом рассуждали и другие учители церкви (стр. 136).
§ 150. «Как совершил господь Иисус свое первосвященническое служение?… Состояние его истощания».
Первосвященническое служение состояло в том, что 1) люди пали гордостью и непослушанием; он был смиренен и послушен; и 2) так как люди сделались достойными гнева божия, то Христос принял на себя весь гнев божий (страдал и умер), «сделался клятвой». Выразить то, что разумеется под этим, невозможно. Надо читать весь параграф, как он написан.
Как первосвященник, он, действительно, заклал себя на древе крестном в умилостивительную жертву богу за грехи мира и искупил нас своею честною кровию (1 Петр. 1, 19), так что его воплощение и вся земная жизнь служили только приготовлением и как бы постепенным восхождением его к этому великому жертвоприношению. А потому-то и в слове божием, и в учении церкви (Правосл. испов., ч. 1, отв. на вопр. 47) представляется —
§ 151. «В особенности смерть Иисуса Христа, как искупительная за нас жертва» (стр. 140).
Смерть его есть главная искупительная жертва за нас. Богу жертвует бог. Искупает долг у благого бога – бог. Смерть и страдания бога? Всё это внутренние противоречия. Противоречия в каждом предложении, и эти-то предложения противоречиво соединяются между собою. Опять говорю, что я говорил при догмате троицы. Я не то что не верю, но я не знаю, чему верить. Я могу верить или не верить тому, что завтра явится на небе город или вырастет трава до солнца, но не могу верить, или не верить тому, что завтра будет нынче, или что три будет один и все-таки три. Или что один бог разделился на два и все-таки один, или что благой бог казнит самого себя и искупляет пред самим собой. Я просто вижу, что тот, кто говорит, не умеет или не имеет, что сказать мне. Связи разумной нет, единственная внешняя связь – это сноски с писанием. Они только дают хоть какое-нибудь объяснение не того, что говорится, а того, почему такие ужасные бессмыслицы могут говориться.
Как во многих предшествовавших местах, выписки из писания показывают, что утверждение этих бессмыслиц происходит не произвольно, но вытекает, как при истории древа познания добра и зла, из ложного, большей частью просто грубого понимания слов писания. Здесь, например, в подтверждение того, что смерть Христа бога искупила род человеческий, приводятся следующие места из Евангелия. Из беседы с Никодимом:
«Тако подобает вознестися сыну человеческому, да всяк, веруяй в онь, не погибнет, но имать живот вечный» (Иоан. 3, 14, 16) (стр. 140).
Сказано: «вознестися (ὑψωϑῆναι) сыну человеческому». Каким образом это может значить искупление богом рода человеческого? Тот, кто прочтет всю беседу с Никодимом, ясно поймет, что ничего подобного это не могло значить. Это значит то, что значат самые слова: сыну человеческому (разумея под сыном человеческим себя самого, как человека, или вообще человека), сыну человеческому следует быть возвышену так же, как змий медный Моисея. Каким путем мысли можно придти к тому, чтобы видеть в этом крестную смерть или, еще удивительнее, искупление?
Следующее место, приводимое в доказательство, есть Иоанна 1, 29, где Иоанн говорит:
«Се агнец божий, вземляй грехи мира» (стр. 141).
Место это по-гречески так:
ἴδε ό ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ό αἴρων τὴν ἁμαρτἰαν τοῦ κόσμου.
Перевести этого места нельзя иначе, как: агнец, отнимающий, снимающий грехи мира. И это место переводится – «берущий», да еще в новых переводах прибавляется: «на себя». И этот подлог приводится в доказательство.
«Сын человеческий не прииде, да послужат ему, но послужити и дати душу свою избавление за многих» (Матф. 20, 28) (стр. 141).
Как может этот стих значить что-нибудь другое, как то, что человек, он сам или вообще человек должен отдавать свою жизнь за людей, за братьев.
«Пастырь добрый душу свою полагает за овцы» (Иоан. 10, 11) – «аз есмь пастырь добрый» (—14), и «душу мою полагаю за овцы» (—15) (стр. 141).
Пастух жертвует собой за стадо, так и я. Как вытекает из того искупление?
Когда у него требуют знамения, подобного манне, он говорит:
«Аз есмь хлеб животный, иже сшедый с небесе: аще кто снесть от хлеба сего, жив будет во веки; и хлеб, егоже аз дам, плоть моя есть, юже аз дам за живот мира» (Иоан. 6, 51) (стр. 141).
Продолжая сравнение, он говорит, что он есть единый хлеб, которым должен питаться человек. И этот хлеб, т. е. его пример и учение, он подтвердит, отдав свою плоть за жизнь мира. Как из этого вытекает искупление?
«Сие есть тело мое, еже за вы ломимое» (Лук. 22, 19), и, преподавая потом чашу, изрек: «сия есть кровь моя нового завета, яже за многие изливаема во оставление грехов» (Матф. 26, 28) (стр. 141).
Прощаясь с учениками с чашей вина и хлебом в руках, он говорит им, что последний раз ужинает с ними и скоро умрет. – Вспоминайте же меня за вином и хлебом. При вине вспоминайте кровь мою, которая прольется для того, чтобы вы жили без греха; при хлебе – о теле, которое отдаю за вас. Где тут искупление? Умрет, прольет кровь, пострадает за народ – есть самое простое, обычное выражение. Крестьяне всегда говорят про мучеников и подвижников: «они за нас молятся, трудятся и страдают». И выражение это ничего иного не значит, как то, что праведники оправдывают перед богом неправедных и порочных людей. Мало этого: из Евангелия Иоанна в доказательство приводится следующее рассуждение писателя Евангелия на слова Каиафы:
«Сего же о себе не рече: но архиерей сый лету тому, прорече, яко хотяше Иисус умрети за люди; и не токмо за люди, но да и чада божия рассточенная соберет во едино» (Иоан. 51, 52) (стр. 142).
Видно, уже нет в Евангелии никаких указаний, не только что доказательств искупления, когда такие слова приводятся в доказательство. Каиафа предсказывает искупление и вслед за тем казнит Христа.
Вот всё, что из Евангелия приведено в доказательство искупления Иисусом Христом рода человеческого.
За этим следуют доказательства из Апокалипсиса и из посланий апостолов, т. е. из тех книг, которые собрала и исправила церковь тогда, когда уже она исповедывала догмат искупления. Но даже и в этих книгах, в посланиях апостолов, не видно еще утверждения догмата, а попадаются только изредка неясные выражения, которыми переполнены все послания, такие, которые можно грубо перетолковать в смысле догмата, как это и сделали последующие так называемые отцы церкви и то не первых веков. Стоит прочесть историю церкви, чтобы убедиться, что первые христиане не имели об этом догмате ни малейшего понятия.
Так, например:
Апостол Петр заповедует христианам: «со страхом жития вашего время жительствуйте, ведяще, яко неистленным сребром или златом избавистеся от суетного вашего жития, отцы преданного, но честною кровию яко агнца непорочна и пречиста Христа» (1 Петр. 1, 17—19) (стр. 142).
Петр говорит, что исправиться можно только верою в учение, запечатленное его смертью, невинного, как агнца. И это принимается за утверждение догмата искупления.
«Зане и Христос пострада по нас, нам оставль образ да последуем стопам его… иже грехи наша сам вознесе на теле своем на древо, да, от грех избывше, правдою поживем: его же язвою исцелесте» (1 Петр. 2, 21, 24). «Зане и Христос единою о гресех наших пострада, праведник за неправедники, да приведет ны богови» (3, 18) (стр. 142).
Жестокая смерть Христа должна заставить нас исцелить себя от грехов и прийти к богу. Сказано сжато, метафорически, как народ говорит, что мученики за нас трудились. И это считается доказательством.
Павел:
«Предах бо вам исперва, еще и приях, яко Христос умре грех наших ради, по писанием» (1 Кор. 15, 3); «Христос возлюбил есть нас, и предаде себе за ны приношение и жертву богу в воню благоухания» (Еф. 5, 2).
Любовь к нам Христа привела его к позорной смерти. Это тоже считается утверждением догмата.
«Иже предан бысть за прегрешения наша, и воста за оправдание наше» (Рим. 4, 25) (стр. 142).
Говорится о воскресении, как о чуде, и сказано о том, что предан вследствие грехов наших.
«Егоже предположи бог очищение верою и крови его, в явление правды своея, за отпущение прежде бывших грехов» (Рим. 3, 25) (стр. 142).
Опять запутанная фраза, как все изречения Павла, означающие тоже, что смерть праведника избавила людей от их прежних ошибок. И всё это считается доказательством. Главным же доказательством считаются толкования позднейших отцов церкви, т. е. тех самых людей, которые выдумали догмат искупления.
а) Св. Варнава: «будем веровать, что сын божий не мог пострадать как только за нас…; за наши грехи восхотел он принесть в жертву сосуд духа»; б) св. Климент римский: «будем взирать на господа Иисуса Христа, которого кровь дана за нас…; будем взирать внимательно на кровь Христа и рассуждать, как многоценна кровь его пред богом, когда, быв пролита для нашего спасения, всему миру приобрела благодать покаяния»; в) Игнатий Богоносец: «Христос умер за вас, чтобы, веруя в смерть его, вы спаслись от смерти»; г) св. Поликарп: «он претерпел за грехи наши самую смерть…; всё претерпел за нас, чтобы нам жить в нем» (стр. 143).
Или еще другое:
«Если кто из наших, не по любви к спорам, но по желанию узнать истину, спросит: «почему господь претерпел не другую какую-либо смерть, а крестную?» Тот пусть ведает, что сия именно, а не иная какая-либо смерть могла быть спасительною для нас и ее-то претерпел господь для нашего спасения. Ибо если он пришел для того, чтобы самому на себе понесть бывшую на нас клятву, то каким бы иным образом соделался он клятвою, если бы не понес смерти, бывшей под клятвою? А такая смерть и есть крестная: ибо написано: «проклят всяк, висяй на древе» (Гал. 3, 13). Во-вторых, если смерть господа есть искупление всех, если ею разрушается средостение преграды и совершается призвание языков (Еф. 2, 14), то каким бы образом он призвал нас к отцу, если бы не распялся на кресте? Ибо только на кресте можно умереть с распростертыми руками. Итак, вот почему надлежало господу претерпеть крестную смерть, и на кресте распростерть свои руки, чтобы одною рукою привлечь к себе древний народ, другою – язычников и таким образом обоих их соединить в себе самом. Об этом и сам он предсказал, когда хотел показать, какою смертию имел искупить всех: «аще вознесен буду, вся привлеку к себе» (Иоан. 12, 32). И еще: враг рода нашего – диавол, ниспадши с неба блуждает здесь по воздушной области, владычествует над подобными ему по непокорности демонами и посредством их то обольщает призраками тех, которые вдаются в обман его, то старается всячески сделать какое-либо препятствие тем, которые устремляются гopé, так говорит нам апостол Павел, называя его «князем власти воздушные, действующим ныне в сынех противления» (Еф. 2, 2). Посему господь пришел для того, чтобы низложить диавола, очистить от него воздух и открыть нам свободный путь к небесам, как сказал апостол, «чрез завесу», т. е. «плоть свою» (Евр. 10, 21); а сие сделать он мог не иначе, как токмо чрез смерть. Но чрез какую же другую смерть, как не чрез такую, которая бы совершилась на воздухе, т. е. на кресте? Ибо только распинаемый на кресте умирает на воздухе. Итак, не без причины господь претерпел крестную смерть: быв вознесен на крест, он очистил воздух от козней диавола (стр. 144 и 145).
Искупление есть, как говорит церковь, основной догмат, на котором зиждется всё учение. Где же он выражен? В Евангелиях, т. е. в словах самого Иисуса Христа, пришедшего спасти людей, и в словах евангелистов, записавших слова Христа, об этом догмате нет и помина. Церковь утверждает, что догмат этот выражен Христом в словах: «надо вознести сына человеческого», в подложных словах: «агнец, берущий на себя грех мира», в словах: «сын человеческий пришел служить», еще в словах: «я пастух хороший, жизни не жалею за своих овец», еще в словах, когда он, ломая хлеб, сказал: «это тело мое, за вас ломимое», и в том, что сказал Каиафа. Это очевидная неправда, но по учению церкви, всё это выражено яснее в посланиях, т. е. толкованиях на слова Христа, и еще яснее в толкованиях отцов. Но искупление есть основной догмат нашего спасения. Как же этот основной догмат нашего спасения Христос, пришедший спасти нас, не сказал яснее, а предоставил всё это толкованиям Павла, неизвестного автора послания к евреям, Епифания и других?. Если этот догмат не только так важен, что от веры в него зависит всё наше спасение, но если он просто нужен людям, и Христос сошел на землю из любви к людям, то он должен был сказать его хоть один раз ясно и просто. А то он и не намекнул на него.
И всё, что я могу узнать об этой великой, нужной для моего спасения истине, я должен черпать из писаний о Христе разных лиц и из толкований каких-то отцов, которые, очевидно, не понимали сами, что они говорили.
Вот что говорится далее, вот во что я должен верить, и вот что хотел сказать всем людям, но не сказал Христос:
§ 152. «Подробнейшее изображение в слове божием нашего искупления смертию Иисуса Христа» (стр. 145).
1) Христос очистил нас; 2) искупил нас; 3) примирил нас с богом; 4) освободил нас от рабства греху: 5) установил новый завет с богом; 6) усыновил нас богу; 7) дал нам средства быть святыми; 8) приобрел нам жизнь вечную. Оказывается, что 8 выгод нам дал Христос своей жертвой, но выгоды эти – все воображаемые, и никто их никогда не видал и не увидит. Вроде того фокусника, который мотал бесконечные волоса богородицы, никому не видимые. Мы все после Христа стали чистые, святые, не рабы грехов, вечные и т. д. Так уверяют отцы, и я должен верить в этом случае не тому, что они мне говорят о невидимом, но обо мне самом, несмотря на то, что я отлично знаю, что это всё неправда. И как всегда, то, чего нет и быть не может, разъясняется весьма просто. О законе нравственном Христа – на одной страничке, так, между делом, а об естествах, об исхождении духа и теперь об искуплении конца нет речам, – о том, чего не было и не может быть.
Кажется, всё уже сказано. Но нет. Теперь идет речь о —
§ 153. «Раскрытии самого способа нашего искупления смертию Иисуса Христа».
Вся тайна нашего искупления смертию Иисуса Христа состоит в том, что он, взамен нас, уплатил своею кровию долг и вполне удовлетворил правде божией за наши грехи, которого мы сами уплатить были не в состоянии; иначе – взамен нас исполнил и потерпел всё, что только требовалось для отпущения наших грехов. Возможность вообще такого заменения одного лица другим пред судом правды божией, такой уплаты нравственного долга одним лицом вместо другого или других необходимо должна быть признана здравым смыслом: а) когда на эту замену есть воля божия и согласие самого верховного законодателя и судии; б) когда лицо, принявшее на себя уплатить долг вместо других неоплатных должников, само не состоит пред богом в таком же долгу; в) когда оно добровольно решается исполнять все требования долга, какие только предложит судия, и г) когда, наконец, действительно принесет такую плату, которая бы вполне удовлетворила за долг. Все эти условия, которые мы заимствовали с примера нашего спасителя и только обобщили, совершенно выполнены в его великом подвиге ради нас. И —
1) Господь Иисус потерпел за нас страдания и смерть по воле и с соизволения своего отца, нашего верховного судии. Для того он, сын божий, и приходил на землю, чтобы «творить не свою волю, но волю пославшего его отца» (Иоан. 6, 38); тем только и занимался в продолжение всей своей -земной жизни, чтобы «исполнить волю отца» (Иоан. 4, 34) (стр. 148—149).
Я выписываю это как образец той невольно кощунственной формы речи, которая усваивается писателем, когда предмет его речи кощунственный. Что это за долг и за уплата, что за суд такой? Что за выражение: бог только тем и занимался!
Итак, 1) Христос пострадал по послушанию отцу; 2) он был безгрешен; 3) он добровольно понес страдания; 4) плата за долг Христом превышает долг, и остается излишек – сдача. Всё это я не выдумываю. Разобрано даже, кому поступает уплата долга:
Св. Григорий… рассуждает так: «Кому и для чего пролита сия излиянная за нас – кровь великая и преславная бога и архиерея и жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждение. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю: кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому: то как сие оскорбительно! Разбойник получает цену искупления, получает не только от бога, но самого бога, за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить нас! А если отцу: то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение, вместо словесной жертвы, дав овна? Или из сего видно, что приемлет отец, не потому что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было освятиться человечеством бога, чтобы он сам избавил нас, преодолев мучителя силою, и возвел нас к себе чрез сына посредствующего и всё устрояющего в честь отца, которому оказывается он во всем покорствующим (слово на пасху, в Тв. св. отц., IV, 175—177) (стр. 154—155, вын. 373).
Далее.
§ 154. «Обширность искупительных действий смерти Христовой» (стр. 155).
Жертва Христа не только искупила грех, но остался излишек. Излишек этот 1) для всех; 2) простирается на все грехи; а) искупает первородный грех, б) всякий грех, в) от всех прежних грехов, г) от всех грехов будущих.
Эту истину единодушно проповедовали и учители церкви, например:
а) св. Иоанн Златоуст: «что дарованные (Иисусом Христом) блага многочисленнее истребленных зол, и истреблен не один первородный грех, но и все прочие грехи; это сказал апостол словами: «дар же от многих прегрешений в оправдание» (Рим. 5, 16), и далее: «благодатию истреблен не один первородный грех, но и все прочие грехи: даже не только истреблены грехи, но и дарована нам праведность; и Христос не только исправил всё то, что повреждено Адамом, но всё сие восстановил в большей мере и в высшей степени»; б) Иларий: «он (Христос) искупил всех людей от всех их беззаконий» (стр. 158).
Иисус Христос ходатайствует о нас вот как:
Так и «ходатая имамы» Иисуса (1 Иоанн. 2, 1) не в том смысле, что он унижается пред отцом и рабски припадает: да будет далека от нас такая подлинно рабская и недостойная духа мысль! Несвойственно и отцу сего требовать, и сыну терпеть сие, да и несправедливо думать так о боге».
Бл. Феофилакт болгарский: «некоторые под изречением: «ходатайствовать о нас» понимали то, что Иисус Христос имеет на себе тело (а не отложил его, как пустословят манихеи): это самое и есть ходатайство и предстательство его пред отцом. Ибо, взирая на сие, отец воспоминает о той любви к человекам, ради которой сын его принял тело, и склоняется к милосердию и милости» (стр. 159).
4) «На весь мир» простирается искупление. Мир ангелов прежде был отделен, а теперь люди с ним соединяются. Природа была проклята, земля не рожала. Теперь уже этого проклятия нет. Так что искупление простирается на всё, только не на дьяволов, потому что дьяволы очень ожесточились. Некоторые христиане полагали, что и дьяволы искуплены:
Мнение древних гностиков, маркионитов и оригенистов, распростиравших действия искупления на самих ангелов падших, опровергали учители церкви и торжественно осудила вся церковь на пятом вселенском соборе (стр. 161).
Всё это подтверждено свящ. писанием и составляет часть догмата. § 155. «Следствие крестных заслуг Иисуса Христа по отношению к нему самому: состояние его прославления» (стр. 161).
Христос в награду за то, что он сошел в мир, прославлен.
§ 156. «Отношение первосвященнического служения Иисуса Христа к его служению пророческому».
Хотя главнейшею целию первосвященнического служения Иисуса Христа, т. е. всего его истощания и в особенности крестной смерти, было совершить наше искупление, но, вместе с тем, он прошел всё это истощание и для других целей (стр. 163).
Главная цель есть искупление, но кроме того были вот какие цели: 1) показать пример своей жизнью для нас; 2) разуверить евреев в пришествии мессии во славе; 3) чтобы упразднить закон Моисеев; 4) наконец он умер, чтобы явно засвидетельствовать истину, что он – бог; т. е. то самое, что он постоянно отрицал.
За этим следует глава о царском служении Христа.
Вся эта глава удивительна тем, что она не имеет никакого основания в священном каноническом писании, а вся основана на апокрифическом сказании, не имеет никакого человеческого смысла и, что важнее всего, представляется для всякого свежего человека совершенно излишней. Только изучая подробно богословие, можно догадаться, зачем она нужна. Цель этой главы одна: разрешить противоречие о том, что все люди погибли до Христа, а вместе с тем мы почитаем ветхозаветных святых. Как с ними быть? И вот берется апокрифическое сказание о сошествии Христа во ад, и вопрос решается, и является царское служение Христа.
«III. О царском служении Иисуса Христа». § 157. «Связь с предыдущим, понятие о царском служении Иисуса Христа и истина сего служения».
Истина царского служения нашего спасителя весьма ясно засвидетельствована в слове божием.
1) Он родился царем и облеченным властию. «Отроча родися нам», взывает пророк Исаия, «сын и дадеся нам, егоже начальство бысть на раме его: и нарицается имя его велика совета ангел, чуден, советник, бог крепкий, властелин, князь мира, отец будущего века… И велие начальство его, и мира его несть предела на престоле Давидове, и на царстве его, исправити е, и заступити его в суде и правде, от ныне и до века» (Ис. 9, 6, 7; снес. Лук. 1, 32, 33; Матф. 2, 2).
2) Он был царем и имел царскую власть во дни своего уничижения. Ибо сам усвоил себе тогда имя царя, как видно из обвинения, взведенного на него иудеями (Матф. 27, 11, 37; Марк. 15, 1, 31), и как, действительно, он подтвердил то пред Пилатом (Иоанн. 18, 37). Усвоял себе и власть царя, как показывают слова молитвы его ко отцу: «Отче, прииде час: прослави сына твоего, да и сын твой прославит тя. Якоже дал еси ему власть всякие плоти, да всяко, еже дал еси ему, даст им живот вечный» (Иоан. 17, 1, 2). Самим делом показал себя царем, когда входил во Иерусалим, соответственно древнему пророчеству: «радуйся зело, дщи сионя, проповедуй дщи иерусалимля: се царь твой грядет тебе праведен и спасаяй, той кроток, и всед на подъяремника и жребца юна» (Зах. 9, 9; снес. Иоан: 12, 15; Матф. 21, 5), и когда принимал торжественные приветствия от народа: «осанна сыну Давидову, благословен грядый во имя господне, царь израилев» (Матф. 21, 9; Иоан. 12, 13).
3) Наконец, во всей славе и могуществе он явился царем в состоянии своего прославления, когда уже сказал ученикам: «дадеся ми всяка власть на небеси и на земли» (Матф. 28, 18), и когда бог, действительно, посадил его «одесную себе на небесных, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имене, именуемого не точию в веце сем, но и во грядущем: и вся покори под нозе его» (Еф. 1, 21, 22) (стр. 165—166).
Вот доказательства того царского чина, который церковь приписывает ему, тому, который говорил: что велико перед людьми, то мерзость перед богом.
§ 158. «В каких действиях выразилось царское служение Иисуса Христа?» Оно выразилось в его чудесах. Перечисляются все: и Кана Галилейская, и Лазарь, и изгнание бесов.
Таким образом, и во дни истощания нашего спасителя, когда он совершал преимущественно свое служение пророческое и служение первосвященническое, чудеса его показывали уже, что он есть вместе и царь вселенной, победитель ада и смерти (стр. 169).
§ 159. «Нисшествие Иисуса Христа во ад и победа над адом». Еще царское действие – сошествие Христа во ад и победа над ним.
1. Учение о том, что господь Иисус действительно сходил во ад душею своею и божеством в то время, как тело его находилось во гробе, и сходил именно с целию проповедать там о спасении —
1) Есть учение апостольское (стр. 170).
Следуют доказательства. Но не все согласны о том, что делал Христос в аду. Одни говорят, что он всех извел, другие – что только праведников.
Св. Епифаний: «Божество Христа вместе с душою его сходило во ад, чтобы извести во спасение тех, которые прежде скончались, именно святых патриархов».
Св. Кассиан: «Проникши во ад, Христос сиянием своей славы рассеял непроницаемый мрак тартара, разрушил медные врата, сокрушил железные вереи, и святых пленников, содержавшихся в непроницаемом мраке адском, из плена возвел с собою на небеса».
Св. Григорий Великий: «Гнев божий, по отношению к душам праведников, прошел с пришествием нашего искупителя: ибо их освободил из темниц ада ходатай бога и человеков, когда сам нисходил туда, и возвел к радостям райским».
Должно присовокупить, что если некоторые из древних иногда выражали мысль, будто Христос извел из ада не одних ветхозаветных праведников, а многих других или даже всех пленников адовых, то выражали ее только в виде гадания, предположения, мнения частного (стр. 174).
За этим следует воскресение и вознесение Христа.
§ 160. «.Воскресение Иисуса Христа и победа над смертию».
Как ад разрушил Христос собственно своим нисшествием во ад, хотя и прежде являл свою царственную власть над силами ада: так и смерть победил… своим воскресением от смерти (стр. 175).
§ 161. «Вознесение Иисуса Христа на небеса и отверзтие для всех верующих в него царства небесного».
До пришествия на землю сына божия небо было как бы заключено для земнородных, и хотя «в дому отца» небесного «обители многи суть» (Иоан. 14, 2, 3), в них, однакож, не обреталось места для грешных потомков Адама: самые праведники ветхозаветные по смерти сходили душами своими во ад (Быт. 37, 35). Но после того, как явился во плоти господь наш и примирил бога с человеками, небо с землею; после того, как своим нисшествием во ад освободил оттуда ветхозаветных праведников, и воскресши из мертвых, «начаток умершим бысть», – он, наконец, торжественно вознесся на небеса с воспринятым им естеством человеческим, и таким образом, отверз для всех людей свободный вход в царство небесное (стр. 177).
Доказательство этого и выражение символа, которое надо понимать в точном смысле: восшедшего на небеса (в теле) и сидящего (в теле) направо от отца.
§ 162. «Окончится ли царское служение Иисуса Христа?» (стр. 178). Царство Христа кончится тогда, когда будет суд, все воскреснут, тогда Христос передаст царство отцу, говорят одни, —
но евангелист Лука (1, 34) и Соломон (Прем. 3, 4—8) разумели первоначальную власть, в которой, имея непрерывное от века и до века участие, сын никогда не получал царства от отца и никогда не будет передавать его отцу (стр. 179).
Так что является объяснение царского достоинства Христа. Слова о царстве небесном дают церкви мысль о царском достоинстве Христа. Царское достоинство считается церковью чем-то очень хорошим, и она придает его Христу, тому, который блажил нищих, им проповедывал и сам говорил, что последние будут первыми.
§ 163. «Нравственное приложение догмата о таинстве искупления» (стр. 179). Приложение догмата, казалось бы, одно: Христос сверх расчета заслужил. Заслуги эти спасли нас от всех грехов настоящих, прошедших и будущих, так надо твердо верить в это, и спасен. Так и говорят церкви реформатские, и так и живут большинство членов православной церкви. Но для приличия в числе уроков сказано и то, чтобы следовать учению Христа: 1) надо верить и так жить; 2) ходить в обновлении жизни; 3) дорожить законом; 4) благодарить за жертву; 5) креститься рукою; 6) свято жить; 7) не бояться страданий; 8) молиться ему; 9) не бояться дьявола; 10) надеяться, что мы воскреснем; 11) надеяться на царство небесное.
Является Христос, приносит с собою радостную весть блаженства для людей. Учение его – смирение, покорность воле божией, любовь. Христа мучают и казнят. До смерти он продолжает быть верен своему учению. Его смерть утверждает его учение. Учение его усвоивается его учениками, они проповедуют его и говорят, что он равный богу по своим добродетелям и что он смертью своей доказал истинность учения. Учение же его спасительно для людей. Толпа пристает к новому учению. Ей говорят, что это божественный человек, и он смертью своей дал нам спасительный закон. Толпа из всего учения более всего понимает то, что он божественный, стало быть – бог, и что смерть его дала нам спасенье. Грубое понимание делается достоянием толпы, уродуется, и всё учение отступает назад, а на первое место становится божество и спасительность смерти. Всё дело, чтобы верить в этого нового бога и в то, что он спас нас. Надо верить и молиться. Это противоречит самому учению, но есть люди – учители, которые берутся примирить и разъяснить. И учители примиряют, разъясняют. Оказывается, что он богочеловек, что он второе лицо троицы, что был на нас грех и проклятие – он искупил, и всё учение сводится к вере в это искупление, а само учение остается ни при чем и заменяется верою. Верить надо в Христа-бога и в искупление, и в этом одном спасение. Об учении же Христа, так как его нельзя откинуть, только упоминается; говорится, что, между прочим, Христос учил самоотвержению и любви и что не мешает и даже хорошо следовать его учению. Но как следовать, почему следовать – об этом не говорится, так как в сущности оно не нужно для спасения, и спасение достигается помимо его – первосвященническим и царским служением Христа, т. е. самым фактом искупления.
Опять то же, как при прародительском грехе и обоготворении Христа. Учение об искуплении – очевидно, грубо, словесно понятая истинная мысль – возводится в учение, и запрещается понимать не так, не в тех самых словах, как понимает церковь. Я могу, с некоторым усилием, вспоминая свое детство и некоторых слабоумных людей, представить себе, что такое узкое понимание значения Христа может быть одно доступно. Но за что же мне не позволять думать, как я думаю: что Христос спас нас тем, что открыл закон, дающий спасение следующему ему, и искупил нас тем, что крестной смертью запечатлел истинность своего учения. Ведь мое включает церковное и не только ничего не разрушает, но выставляет первым, важнейшим делом усилие, то, которым берется теперь царство небесное, по словам Христа; и не то, что отвергает, а только менее приписывает важности тем рассуждениям о целях и средствах бога, о которых я ничего не могу знать и тем меньше их понимаю, чем больше мне о них толкуют. Не лучше ли мне верить только в то, что бог наверно сделал для меня лучшее, и мне надо сделать тоже всё то лучшее, которое я могу? Если я так буду делать, не рассуждая о том, в чем было и какое искупление, то ведь, каково бы оно ни было, оно не уйдет от меня. А что, как я, понадеясь на искупление Христа, пренебрегу тем, что я должен делать для своего искупления?
ГЛАВА XIII
«Отдел II. О боге спасителе в его особенном отношении к человеческому роду» (стр. 182).
Так озаглавлен этот отдел. Отдел этот весь, за исключением последней главы о мздовоздаянии, занят изложением учения о церкви и ее таинствах.
«Глава I. О боге, как освятителе». § 165. «Понятие об освящении, участии всех лиц пресв. троицы в деле освящения и исчисление средств или условий к освящению» (стр. 183).
В этом параграфе, после учения и доказательств о том, что все три лица принимают участие в нашем освящении (отец – источник, сын – виновник, дух святой – совершитель освящения), говорится:
Для того, чтобы мы могли усвоить себе заслуги нашего спасителя и действительно освятились, он – 1) основал на земле благодатное царство свое, церковь, как живое орудие, чрез которое совершает наше освящение;
2) сообщает нам в церкви и чрез церковь благодать духа святого, как силу, освящающую нас, и 3) учредил в церкви таинства, как средства, чрез которые сообщается нам благодать св. духа (стр. 187).
Христос основал церковь для нашего освящения. С понятием церкви мы встретились в самом начале богословия. В самом начале было сказано, что догмат – это постановление церкви, и впоследствии во всем изложении догматов справедливость их определялась тем, что так учит о них церковь. Но до сих пор не было определения церкви, что именно нужно понимать под этим словом. По всему, что я знал до сих пор, по всему тому, что было изложено до сих пор, я предполагал, что церковь есть собрание верующих, учрежденное таким образом, что оно может выражать и определять свои постановления. И вот теперь начинается учение о церкви тем, что церковь есть орудие освящения людей. Сказано, что церковь есть благодатное царство Христово, что оно сообщает нам благодать духа святого и что в ней таинства; но ничего не сказано о той церкви, на которой основывались до сих пор все изложенные догматы. Напротив того, церкви дается здесь совершенно иное значение, чем то, которое я приписывал ей, как основе всего учения о вере.
Далее в § 166 – «Разные смыслы слова: церковь; смысл, в каком будет излагаться здесь учение о ней, и точки зрения на предмет» (стр. 188) – излагаются различные смыслы слова церковь. Все три смысла, приписываемые слову церковь, – такие, при которых невозможно представление той церкви определения которой я ищу, той церкви, которая установила догматы. Первый смысл слова церковь есть, по богословию:
общество всех разумно-свободных существ, т. е. и ангелов и людей, верующих во Христа-спасителя и соединенных в нем, как единой главе своей (стр. 188).
Такое определение церкви не только не уясняет понятия церкви, устанавливающей догматы, но еще и вперед придает предстоящему определению церкви такие признаки, при которых еще труднее понять, каким образом такая церковь могла и может устанавливать догматы.
Дальнейшие разъяснения этого первого смысла не разъясняют его. Сказано только, что бог «в смотрение исполнения времен, положил возглавити всяческая о Христе, яже на небесех и яже на земли в нем: посадив его одесную себе на небесных, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имене именуемого, не точию в веце сем, но и во грядущем. И вся покори под нозе его: и того даде главу выше всех церкви, яже есть тело его, исполнение исполняющего всяческая во всех» (Еф. 1, 10, 20—23; см. также Евр. 12, 22, 23; Кол. 1, 18—20) (стр. 188—189).
Это, по богословию, один смысл слова церковь.
Вот второй смысл:
По второму, менее обширному и более употребительному, смыслу, церковь Христова объемлет собою собственно людей, исповедывавших и исповедующих веру Христову, всех до единого, когда бы они ни жили и где бы ныне ни находились, еще ли на земле живых, или уже в стране умерших (стр. 189).
И по этому другому смыслу церковь не может быть тем, чем я предполагал ее, и не может устанавливать догматы, ибо собрание всех людей живых и когда-либо живших не может выражать догматы. После доказательств того, что церковь состоит из живых и мертвых, и разбора, кто из умерших принадлежит и кто не принадлежит к этой церкви (стр. 191), и после деления церкви на воинствующую и торжествующую дается и третий смысл слова церковь:
Наконец, в смысле еще более тесном, но самом общеупотребительном и обыкновенном, церковь Христова означает собственно одну лишь церковь новозаветную и воинствующую или благодатное царство Христово. «Веруем, как и научены верить, – говорят первосвятители Востока в своем послании о православной вере, – в так именуемую, и в самой вещи таковую, то есть едину, святую, вселенскую, апостольскую церковь, которая объемлет всех и повсюду, кто бы они ни были, верующих во Христа, которые, ныне находясь в земном странствовании, не водворились еще в отечестве небесном» (чл. 10). В сем-то смысле будем принимать церковь и мы, при настоящем изложении учения об ней (стр. 192).
По этому смыслу под словом церковь разумеются все живущие и верующие во Христа. Смысл этот понятен вообще; но церковь и в этом смысле не отвечает той деятельности церкви – освящения людей, составляющей, по богословию, цель церкви, и еще менее той деятельности – установления догматов, о которой говорилось во всех предшествующих главах. Служить орудием освящения такая церковь не может, ибо если под церковью понимать всех верующих во Христа, то все верующие будут освящать всех верующих. Для того, чтобы церковь могла освящать верующих, она необходимо должна быть особенным учреждением среди всех верующих.
Устанавливать какие-либо догматы еще менее может такая церковь, ибо если бы все верующие христиане веровали бы одинаково, то и не было бы догматов и учения церкви в опровержение еретических учений. То, что есть верующие во Христа еретически и что они опровергаются и им выставляются истинные догматы, показывает, что церковь необходимо должна быть понимаема не как все верующие во Христа, а как известное учреждение, обнимающее не только не всех христиан, но и особенное учреждение среди христиан не еретиков.
Если существуют догматы, выраженные определенными, неизменными словами, то слова эти должны были быть выражены и выработаны собранием лиц, согласившимся принять такое, а не иное выражение. Если есть статья закона, то необходимо есть законодатели или законодательное собрание. И хотя я и могу выразиться так, что статья закона есть истинное выражение воли всего народа, я для того, чтобы объяснить это утверждение, должен показать, что законодательное собрание, давшее закон, есть истинный выразитель воли народа, и для этого определить законодательное собрание, как учреждение.
Точно так же и богословие, изложив столько догматов, признавая их едиными истинными и утверждая их истинность тем, что они признаются таковыми церковью, должно сказать, что есть сама церковь, установившая эти догматы. Но богословие не делает этого. Оно, напротив, дает церкви смысл – и соединения ангелов, и людей, и живых и умерших, и соединения всех верующих во Христа, из которого не может выйти ни освящения, ни постановления догматов. Богословие в этом случае поступает так, как бы поступил человек, отыскивающий права наследства, если бы он, вместо того чтобы прежде всего заявить те основания, на которых он отыскивает свое право, говорил бы о законности вообще и прав наследства, доказывал бы ложность притязаний всех других и даже объяснил бы свои распоряжения о спорном имуществе, но ни слова бы не говорил о том, на чем основываются его права. Это самое делает богословие во всем этом отделе учения о церкви. Говорится об учреждении Христом церкви, о ложных учениях, не согласных с церковью, о деятельности церкви; о том же, что собственно разумеется под истинною церковью, ничего не сказано, и определение
церкви такое, которое отвечает ее деятельности – освящения людей и установления догматов, дается уже под конец и то не в виде определения, а в виде описания и подразделения.
Итак, не дав еще определения церкви такого, которое бы отвечало ее деятельности, богословие говорит:
Чтобы это изложение было, по возможности, раздельнее, рассмотрим церковь: 1) со стороны более внешней, и именно со стороны ее происхождения, пространства и цели; 2) со стороны более внутренней (более: так как внешней и внутренней стороны церкви совершенно разделить нельзя), и скажем о составе и внутреннем устройстве церкви; 3) наконец, как следствие из всего предыдущего, представим точное понятие о самом существе церкви и ее существенных свойствах (стр. 192).
§ 167 говорит об «основании церкви господом Иисусом Христом». Доказывается, что церковь, по определению богословия, – люди, верующие во Христа, – основана Иисусом Христом.
В параграфе этом доказывается, что Иисус Христос «желал, чтобы люди, приняв новую веру, содержали ее не в отдельности друг от друга, а составили бы для сего определенное религиозное общество».
1) Желание основать из последователей своих единое общество спаситель выражал неоднократно, например: а) после того, как апостол Петр от лица всех апостолов, исповедал его сыном божиим: «на сем камени» (т. е. исповедании), сказал тогда господь наш, «созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей» (Матф. 16, 18); б) в притче о добром пастыре – словами: «Аз есмь пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя… и иным овцы имам, яже не суть от двора сего, и тыя ми подобает привести, и глас мой услышат, и будет едино стадо и един пастырь» (Иоан. 10, 14, 16);
в) в молитве к отцу небесному: «да вси едино будут, якоже ты, отче, во мне, и аз в тебе; да и тии в нас едино будут» (Иоан. 17. 21). С мыслию об основании своего благодатного царства на земле он начал первую свою проповедь людям, как повествует евангелист Матфей: «оттоле начат Иисус проповедати и глаголати: покайтеся, приближися бо царство небесное» (Матф. 4, 17). С тою же точно проповедию посылал господь по Иудее и учеников своих: «идите», сказал он им, «ко овцам погибшим дому израилева, ходяще же проповедуйте, глаголюще, яко приближися царствие небесное» (Матф. 10, 6—8). И как часто вообще он беседовал к людям об этом царствии божием и в притчах и не в притчах (Матф. 13, 24, 44—47; 22, 2; 25, 1; Лук. 9, 11; 10, 11; 17, 21; 21, 31 и др.) (стр. 193 и 194).
Всё это до сих пор говорит только о том, что Христос желал распространения своего учения – учения о царстве божием. И до сих пор ничто не противоречит тому смыслу, который богословие придает церкви. Все верующие во Христа, естественно, должны были соединиться верою в Христа. Но вслед за тем богословие говорит:
2) Но чего желал Христос, то и совершилось. Он сам положил начало и основание для церкви своей, когда избрал себе первых двенадцать учеников, которые, веруя в него, находясь под его властию, составляли единое общество под единою главою (Иоан. 17, 13) и образовали первую его церковь; когда, с другой стороны, сам установил всё, что нужно для образования из последователей его определенного общества. Именно: а) учредил чин учителей, которые бы распространили его веру между народами (Еф. 4, 11, 12); б) установил таинство крещения для принятия в это общество всех тех, которые уверуют в него (Матф. 28, 19; Иоан. 3, 3; 4, 1; Марк. 16, 15); в) таинство евхаристии для теснейшего соединения членов общества между собою и с ним, как главою (Матф. 26, 26—28; Марк. 14, 22—24; Лук. 22, 19, 20; 1 Кор. 12, 23—26); г) таинство покаяния для примирения и нового соединения с ним и церковию тех членов, кои нарушают его законы и уставы (Матф. 18, 15—18), равно как и все прочии таинства (Матф. 18, 18; 28, 19; 19, 4—6; Марк. 6, 13 и др.) Посему-то, еще во дни общественного служения своего, господь говорил о церкви своей, как уже существовавшей (Матф. 18, 17) (стр. 194).
Здесь со слов: «определенное общество» начинается уже явное отклонение от данного смысла церкви и вносится понятие церкви совсем иное, чем соединение всех верующих. Здесь явно говорится о церкви учительной, о которой еще ничего не было сказано. Говорится, что Христос поставил учителей для распространения его веры между народами, несмотря на то, что это понятие учительства не входит в определение церкви, как соединения верующих. Еще менее входят в это определение таинства. Как то, так и другое определяет церковь избранных среди верующих. Но положим, что богословие не держится строго своего определения, но оно излагает учение о той исключительной церкви, которая имеет власть учить и преподавать таинства. Посмотрим, на чем основывается это.
Говорится, что Христос основал сам церковь с учителями, таинствами крещения, евхаристии и покаяния, и приводятся цифры текстов, но тексты не выписываются. Вот эти тексты:
Иоанна XVII, 13. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Это приводится в доказательство того, что Христос установил единое общество – церковь. Очевидно, что текст этот не имеет ничего общего с установлением церкви.
Еф. IV, 11—12. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на деле служения, для созидания тела Христова». Эти слова Павла приписываются Христу.
Остальные тексты уже приводились, но поразителен текст, доказывающий, что Христос учредил покаяние:
Матф. XXVIII, 18. «И, приблизившись, Иисус сказал им: «дана мне всякая власть на небе и на земле». На этом тексте богословие основывает учреждение Христом таинств, не принимая в соображение того, что тут сказано только то, что (по неправильному толкованию богословия, которое будет рассмотрено после) Христос передает свою власть апостолам, но не сказано, в чем должна состоять эта власть. А потому на этих словах могут с таким же правом основываться всевозможные ложные учения. Но и подобрав все эти мнимо подтверждающие тексты, богословие в конце само оговаривается и признает, что при Христе церкви с таинствами и учителями еще не существовало. В этих рассуждениях богословие уже подготавливает читателя к тому замещению понятия церкви – соединения всех верующих – понятием церкви учительной и священнодействующей. Но в следующем рассуждении уже прямо говорится о церкви не в том смысле, в котором она понималась, как о всех верующих, а о церкви исключительной, отделенной своим устройством и правами от всех остальных верующих.
3) «Облеченные силою свыше» (Лук. 24, 46), св. апостолы, вследствие божественного посольства, «исшедше проповедаша всюду, господу споспешствующу и слово утверждающу последующими знаменми» (Марк. 16, 20). И – а) из верующих в разных местах старались составлять общества, которые именовали церквами (1 Кор. 1, 2; 16, 19); б) заповедывали этим верующим иметь собрания для слушания слова божия и возношения совокупных молитв (Деян. 2, 42, 46; 20, 7); в) увещевали их «блюсти единение духа в союзе мира», – представляя им, что они все образуют «единое тело» господа Иисуса, коего суть только разные члены, имеют «единого господа, едину веру, едино крещение» (Еф. 4, 3, 4; 1 Кор. 12, 27), и «вси от единого хлеба причащаются» (1 Кор. 10, 17), т. е. имеют всё и для внутреннего, и для внешнего единства; г) наконец, повелевали им не оставлять своего собрания, под опасением отлучения от церкви и вечной погибели (Евр. 10, 24, 25). Таким образом по воле и при содействии спасителя, который сам непосредственно положил основание для церкви своей, она насаждена потом во всех концах вселенной (стр. 195).
Говорится, что церковь была не одна, а многие, отдельные. Говорится, что все они были одно тело Христа, но что вместе с тем уже была такая одна церковь, от которой отлучались кем-то те, которые оставляли собрания. Какая была эта, отлучавшая от себя церковь, не сказано.
Так что, очевидно, богословие трактует уже не о той церкви, которую оно определяло, а о какой-то другой, определение которой умышленно не дается.
(О том, как неправильно пользуется богословие текстами Евангелий для подтверждения своих тезисов о церкви, будет сказано в своем месте.)
В следующем параграфе становится очевидно, что речь идет не о церкви, как соединении из всех верующих во Христа, а о совсем другой церкви.
§ 168. «Пространство церкви Христовой: кто принадлежит и кто не принадлежит к ней» (стр. 195). Доказывается, что к этой, еще не определенной, церкви принадлежат все православно-верующие. Но кто решает вопрос православия и неправославия, не сказано. Между прочим подробно определяется, кто эти неправославно-верующие. Об этом идет речь на десяти страницах, и рассуждения эти о еретиках и раскольниках, исключаемых из той православной церкви, которая еще не определена, замечательны:
Чтобы правильнее судить о раскрытых нами положениях касательно еретиков и раскольников, надобно знать, что ересь и что раскол и какие здесь разумеются еретики. О ереси и расколе дают нам следующие понятия древние учители церкви:
а) Св. Василий Великий: «Иное нарекли древние ересию, иное расколом, а иное самочинным сборищем; еретиками назвали они совершенно отторгшихся и в самой вере отчуждившихся; раскольниками – разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание; а самочинными сборищами – собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и ненаученным народом».
б) Блаж. Иероним: «Между ересию и расколом, по моему мнению, то различие, что ересь состоит в низвращении догмата, а раскол также отлучает от церкви по причине несогласия с епископом (propter episcopalem dissensionem). Следовательно, эти две вещи по происхождению могут казаться различными в известных отношениях; но в основании нет раскола, который бы не имел чего-либо общего с какою-либо ересию по восстанию против церкви» (стр. 203).
Еще замечательнее следующие слова:
Когда же говорим, что еретики и раскольники не принадлежат к церкви, разумеем не тех из них, которые держатся ереси или раскола втайне, стараясь казаться принадлежащими к церкви и наружно исполняя ее уставы; или – увлекаются еретическими и раскольническими заблуждениями по невежеству и без всякой злонамеренности и упорства; ибо очевидно, что они ни сами видимо не отлучили еще себя от общества верующих, ни отлучены властию церкви, хотя, быть может, и отлучены уже сокровенным от нас и от них судом божиим: таковых людей всего лучше предоставлять суду того, который ведает самые помышления человеческие и испытует сердца и утробы. Но разумеем еретиков и раскольников явных, которые уже отделились от церкви или отлучены ею, и, следовательно, еретиков и раскольников намеренных, упорных и потому в высочайшей степени виновных. Против них-то собственно направлены были изречения св. отцов и учителей церкви, приведенные нами выше (стр. 204).
Т. е.: лги перед богом, тогда мы тебя не отлучим, а ищи истины и посмей не согласиться с нами, мы проклянем тебя. Церковь, по смыслу, принимаемому богословием, состоит из всех верующих во Христа, и эта церковь отделяет еретиков и отлучает их.
§ 169. «Цель Христовой церкви и данные ею для цели средства». Цель церкви – освящение людей грешников. Средства же для этого церкви:
а) сохранять драгоценный залог спасительного учения веры (1 Тим. 6, 20; 2 Тим. 1, 12—14) и распространять это учение посреди народов; б) сохранять и употреблять во благо людей божественнные таинства и вообще священнодействия; в) сохранять богоучрежденное в ней управление и пользоваться им сообразно с намерением господа (стр. 207).
Церковь понимается, как все верующие во Христа, и говорится о том, что эта церковь должна священнодействовать и управлять. Очевидно, что священнодействовать все верующие над собой и управлять сами собою не могут и что потому богословие под словом церковь разумеет что-то еще другое и это-то другое и ставит на место первого определения церкви.
Далее говорится:
§ 170. «Необходимость принадлежать к церкви Христовой для достижения спасения» (стр. 207).
Вне церкви – спасения нет. И доказывается необходимость принадлежности к церкви. Доказывается это тем, что:
1) Вера во Иисуса Христа, примирившего нас с богом: «несть бо иного имене под небесем данного в человецех, о немже подобает спастиси нам» (Деян. 4, 12); и еще прежде сказал сам спаситель: «веруяй в сына, имать живот вечный; а иже не верует в сына, не узрит живота, но гнев божий пребывает на нем» (Иоан. 3, 36). Но истинное учение Христово и о Христе сохраняется и проповедуется только в церкви его и церковию, без чего не может быть и истинной веры (Рим. 10, 17) (стр. 207 и 208).
Так что вера в Христа уже становится не только определением церкви, но оказывается, что вместо веры в Христа подставляется вера в церковь.
2) Участие в св. таинствах, чрез которые подаются нам «вся божественные силы, яже к животу и благочестию» (2 Петр. 1, 3) (стр. 208).
3) Последнее – добрая жизнь.
Доказательства этому:
1) Вне церкви нет ни слышания, ни разумения слова божия; нет истинного богопочтения; не обретается Христос, не сообщается дух святой. Смерть спасителя не доставляет спасения; нет трапезы тела Христова; нет плодотворной молитвы, не может быть ни спасительных дел, ни истинного мученичества, ни высокой девственности и чистоты, ни душеполезного поста, ни благословения божия.
2) А в церкви, напротив, благоволение и благодать божия; в церкви обитает триединый бог, в церкви познание истины, познание бога и Христа, преизобилие благ духовных; в церкви истинные, спасительные догматы, истинная от апостолов происходящая вера, истинная любовь и прямой путь к вечной жизни (стр. 210 и 211).
О церкви уже сказано всё, что нужно было сказать богословию. Сказано, что она основана Христом, определено, кто принадлежит и кто не принадлежит к ней, сказано о цели ее и средствах, сказано, что необходимо принадлежать к ней, чтобы достигнуть спасения, но сама церковь еще не определена. Сказано только, что смысл ее – это верующие во Христа, только с тем прибавлением, что церковь составляют верующие во Христа именно так, как учит церковь верить в Христа. Т. е., короче сказать, смысл церкви теперь видоизменился так: церковь составляют все верующие в церковь. Но что есть эта сама церковь, освящающая людей и устанавливающая догматы, до сих пор еще не определено. Только во втором отделе в § 171 эта таинственная церковь, наконец, получает не то что определение, а такое описание, из которого, наконец, можно вывести ее определение, соответствующее ее деятельности: освящения и установления догматов.
§ 171. Определив объем церкви своей, указав ей цель и дав необходимые средства для цели, господь Иисус дал ей вместе определенное устройство, которым вполне обеспечивается и облегчается достижение этой цели. Устройство церкви состоит в том, что – а) она разделяется, по. составу своему, на две существенные части: паству и богоучрежденную иерархию, поставленные в известном отношении между собою; б) иерархия подразделяется на свои три существенные, отличные одна от другой и связанные между собою, степени; в) паства и иерархия подчинены верховному судилищу соборов – и г) наконец всё стройное тело церкви, образующееся из столь разных и премудро расположенных между собою членов, имеет единую главу в самом господе Иисусе Христе, оживляющем ее пресв. духом своим (стр. 211 и 212)
Только теперь дается, наконец, определение того, что такое та церковь, о которой говорилось всё время, та самая, которая должна освящать людей, и та, которая изрекла все догматы, изложенные до сих пор. Я не оспариваю еще того, что это учреждение церкви, установившее все догматы, едино, и свято, и имеет во главе Христа, и что вне ее спастись нельзя, но я желал бы, чтобы прежде было сказано подлежащее, а потом сказуемое, чтобы прежде было сказано, про что именно говорится, что оно свято и едино и имеет во главе Христа, а потом уже о том, что оно свято и т. д. В изложении же богословия был принят обратный порядок. Всё время говорилось о единстве, святости, непогрешимости церкви, излагалось ее учение, и только теперь сказано, что она такое. Теперь только из параграфа 171 уясняется то, что̀ есть та церковь, которая освящает людей таинствами и которая среди ложных догматов устанавливает истинные. Сказано, что церковь делится на иерархию и паству. Иерархия освящает и учит. Паства освящаема и управляема и поучаема иерархией. Она должна повиноваться, и потому освящает, управляет, устанавливает догматы одна иерархия. И потому одна иерархия отвечает тому определению церкви, из которого вытекает ее деятельность – освящения и установления догматов, и потому свята и непогрешима иерархия. Церковь – это есть иерархия. Только иерархия отвечает вполне тому, о чем говорилось всё время под именем церкви.
В параграфе 172 сказано, что пастыри должны учить, руководить паству, священнодействовать для нее, управлять ею, а паства должна повиноваться.
Григорий Богослов говорит:
«Как в теле иное начальствует и как бы председательствует, а иное состоит под начальством и управлением, так и в церквах… Бог постановил, чтобы одни, для кого сие полезнее, словом и делом направляемые к своему долгу, оставались пасомыми и подначальными; а другие, стоящие выше прочих по добродетели и близости к богу, были пастырями и учителями к совершению церкви, и имели к другим такое же отношение, какое душа к телу и ум к душе, дабы то и другое, недостаточное и избыточествующее, будучи подобно телесным членам, соединено и сопряжено в один состав, совокуплено и связано союзом духа, представляло одно тело, совершенное и истинно достойное самого Христа – нашей главы». Посему-то общества христиан, самовольно выходивших из повиновения епископу и пресвитерам и без них совершавших свои богослужения, древние учители считали недостойными имени церкви и называли – «еретическими, скопищами отщепенцев, злонамеренных, зловредных» и т. п. (стр. 218).
Церковь, та церковь, на которой зиждется всё учение, есть иерархия.
Богословие излагало прежде учение о единой церкви, благодатном царстве, теле Христовом, о церкви живых и умерших и ангелов, потом о всех верующих во Христа, потом понемножку оно к этому первому определению присоединило другое понятие, а потом уже, наконец, незаметно подставило вместо этой церкви иерархию. Богословие очень хорошо знает это – знает то, что, по его понятию, церковь есть только иерархия, и иногда высказывает это, как это высказано в «Введении к догматическому богословию», как это высказано у восточных патриархов, как это всегда высказывается католичеством, но богословию вместе с тем нужно подтвердить и то свое определение, что церковь есть собрание всех верующих, и потому богословие не любит прямо говорить того, что церковь есть иерархия. Богословие знает, что сущность дела есть непогрешимость и святость иерархии, и потому ему нужно прежде всего доказать, что иерархия установлена Христом и что богословие есть изложение догматов, утвержденных этой самой иерархией. Только доказать, что преемственная иерархия учреждена Христом, – и иерархия, и мы, наследники этой иерархии, и тогда, как ни понимать церковь, сущность церкви, хранительницы истины, будет в иерархии. И вот поэтому богословие все силы употребляет на то, чтобы доказать невозможное – то, что Христос установил иерархию, и еще преемственную, и что иерархия такая-то, то есть наша, есть законная наследница, а иерархия такая-то, не наша, незаконная.
Вот как доказывает это богословие:
§ 172. «Паства и богоучрежденная иерархия с их взаимным отношением».
I. Нетрудно показать, вопреки мнению некоторых неправомыслящих,24 что разделение членов церкви на два упомянутые класса ведет
свое начало от самого спасителя. Неоспоримо, что сам господь учредил в церкви своей особое сословие людей, составляющее собою иерархию, и что этих-то собственно людей, и только их одних, он уполномочил распоряжать теми средствами, какие даровал он церкви для ее цели: т. е. уполномочил быть в ней учителями, священнослужителями и духовными управителями, а отнюдь не предоставил сего безразлично всем верующим, повелевши им, напротив, только повиноваться пастырям (Правосл. испов., ч. 1, отв. на вопр. 109; Посл. восточных патриархов о прав. вере, чл. 10; Простр. хр. катех. о чл. IX) (стр. 212).
В приводимой выноске сказано, что одна, большая часть христиан – протестанты – не признают иерархии. Это обстоятельство очень важное, так как всё учение о церкви свелось к учению об иерархии. Оказывается, что не хуже нас и не глупее есть христиане, которые прямо отрицают по писанию то, что мы утверждаем, т. е. иерархию.
Вот как богословие доказывает учреждение иерархии богом. Я привожу следующие места из богословия, доказывающие установление Христом иерархии, все без пропуска, не для того, чтобы опровергать их – тот, кто прочтет их, увидит, как это бесполезно, – но для того, чтобы представить все доводы церкви в пользу иерархии.
1. Читая св. Евангелие, содержащее в себе историю жизни и действий нашего спасителя, мы видим:
а) Что он сам непосредственно и из всех своих учеников избрал именно двенадцать, которых назвал своими апостолами. «Егда бысть день», повествует св. Лука, «призва (Иисус) ученики своя: и избра от них дванадесяте, ихже и апостолы нарече» (Лук. 6, 13). и потому говорил к ним: «Не вы мене избрасте, но аз избрах вас» (Иоан. 15, 16) (стр. 212—213).
Больше ничего нет во всем отделе а).
Христос избрал 12 апостолов. Апостол значит посланец по-гречески. Евангелие написано по-гречески, и потому сказано, что Христос избрал 12 посланцев. Если бы он послал 17, он сказал бы, что посылает 17 посланцев. Богословие приводит это в доказательство учреждения иерархии самим Христом. К этому прибавляются слова: «не вы меня избрали, но я вас избрал». Слова эти сказаны в главе прощальной беседы, где Христос говорит о своей любви к ученикам, и, очевидно, не имеют ничего общего ни с теми местами, в связи с которыми приводятся, ни, еще менее, с установлением иерархии.
Этим кончается доказательство а).
Второе доказательство:
б) Что им-то одним он дал заповедь и власть учить все народы, совершать для них св. таинства и управлять верующих ко спасению (Матф. 28, 19; Лук. 22, 19; Матф. 18, 18) (стр. 213).
Стихи эти не выписаны. Вот они:
Мф. XXVIII, 19: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя отца и сына и святого духа».
Лк. XXII, 19: «И, взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается; сие творите в мое воспоминание».
Мф. XVIII, 18: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».
Богословие выписывает только цифры стихов, но не самые стихи, зная, что стихи эти не подтверждают того, что Христос дал кому-то власть учить народы. О власти ничего нет. И о таинствах тоже ничего нет. Сказано о крещении, но не сказано, чтобы крещение было таинство; также не сказано, чтобы преломление хлеба было таинство и чтобы эти действия были предоставлены иерархии. Вот всё второе доказательство.
Нельзя не заметить того странного явления в богословском изложении, что из Евангелий выбираются постоянно одни и те же, самые неясные тексты, которые приводятся в доказательство всех возможных тезисов. Таковы тексты: Мф. 28, 19, Лк. 22, 19, Ин. 20, 23 и еще некоторые. Тексты эти повторены сотни раз. На них основывается и троица, и божество Христа, и искупление, и таинства, и иерархия.
Третье доказательство:
в) Что он преподал эту власть св. апостолам точно так же, как сам приял от отца: «дадеся ми всяка власть…; шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя отца, и сына, и святого духа» (Матф. 28, 18—19); «якоже посла мя отец, и аз посылаю вы, и сие рек, дуну, и глагола им: приимите дух свят, имже отпустите грехи, отпустятся им, и имже держите, держатся» (Иоан. 20, 21, 22, 23) (стр. 213).
Для того, чтобы утвердить данную будто бы кому-то власть, в этом месте подменены тексты. Текст выписан так: «дадеся ми всяка власть…; шедше» и т. д. Текст настоящий: «дадеся ми всяка власть на небеси и на земли. (Точка.) Шедше убо научите вся языки». При точке нельзя говорить, что он дал власть, а при многоточии и исключении слов «на небеси», которые не могут относиться к ученикам, можно объяснять, что он свою власть передает ученикам. Текст Иоанна не говорит ничего о иерархии и власти, а говорит только о том, что Христос передал святой дух ученикам и велит им учить людей, т. е. избавлять их от греха, как правильно переводится это место. Но если бы даже и переводить: «прощать грехи», то и из прощения грехов никак не вытекает иерархия.
Четвертое доказательство:
г) Что к этим двенадцати он сам же непосредственно присовокупил еще семьдесят определенных учеников, которых послал на то же великое дело (Лук. 10, 1 и след.) (стр. 213).
То, что Христос послал сначала двенадцать посланцев, а потом семьдесят человек, которым, как странникам, без запаса платья, без денег, велел обходить города и села, – это считается доказательством того, что иерархия ведет свое начало преемственно от Христа.
Вот все доказательства о том, что Христос сам установил иерархию. Приведено всё, что можно было. По мнению богословия, приведенные места с их подделками подтверждают установление иерархии. Иных доказательств не нашлось. За этим следуют доказательства того, что эта власть потом передана от апостолов отцам церкви, а потом следующей за ними иерархии. Вот как доказывается эта передача:
д) Что, передавая своим дванадесяти ученикам свое небесное посольство, он желал, дабы от них непосредственно перешло оно и на их преемников, а от сих последних, переходя из рода в род, сохранялось в мире до самого скончания мира. Ибо он, сказав апостолам: «шедше в мир весь проповедите Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15), непосредственно присовокупил: «и се аз с вами есмь во вся дни до скончания века» (Матф. 28, 20). Следовательно, в лице апостолов он послал на то же дело и обнадежил своим присутствием всех их будущих преемников, и в точном смысле сам дал церкви не только «апостолы, пророки и благовестники, но и пастыри и учители» (Еф. 4, 11) (стр. 213).
Здесь опять для мнимого доказательства подменены тексты. Ниоткуда не следует, чтобы после слов: «проповедуйте Евангелие всей твари» – было сказано, да еще «непосредственно»: «и се аз с вами во вся дни до скончания века». Даже никак нельзя говорить о том, что следует одно за другим, так как одно сказано у одного евангелиста – Марка, а другое у другого – Матфея. У Марка сказано: «идите по всему миру, проповедуйте Евангелие», что не имеет значения никакой передачи; а слова: «и се аз с вами до скончания века, аминь» суть заключительные слова всего Евангелия Матфея и потому никак не могут значить того, что он хотел передать им власть. Но если бы даже это и значило то, что хочет богословие, то ниоткуда не вытекает то, что он обнадежил своим присутствием всех их будущих преемников. Этого ни из чего вывести нельзя.
В этом заключается первое доказательство. Вот второе доказательство преемственности:
е) Наконец, что, облекши таким образом своих св. апостолов божественной властию, он, с другой стороны, весьма ясно и с страшными угрозами обязал всех людей и будущих христиан принимать от апостолов учение и таинства и повиноваться их гласу: «слушаяй вас, мене слушает; и отметаяйся вас, мене отметается: отметаяйся же мене, отметается пославшего мя» (Лук. 10, 16). «Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится, спасен будет; а иже не имет веры, осужден будет» (Марк. 16, 15, 16; снес. Матф. 10, 14; 18, 15—19) (стр. 213).
Я не пропускаю ни одного слова. Это выдается за доказательство не только основания иерархии, но и преемственности ее, и говорится:
Вот потому-то, даже когда господь вознесся на небеса, только по его указанию, «причтен бысть к единонадесяти апостолам», на место отпадшего Иуды «Матфий» (Деян. 1, 26); и только, по гласу самого духа святого, отделены Варнава и Савл «на дело, на неже призвал» их искупитель наш (Деян. 13, 2; снес. 9,15) (стр. 213 и 214).
Это последнее доказательство, смысла которого я никак не мог разобрать, заключает первую часть доводов о том, почему должно считать иерархию основанной Христом.
За этим следуют доказательства из Деяний и Посланий. Казалось бы, тут легче бы было найти тексты, подтверждающие богооснованность иерархии, но и тут то же самое. Оказывается, что из всех текстов, выписываемых и не выписываемых, нигде ни слова не говорится о тех правах (точно в земском собрании), о которых с первых слов заявляет богословие.
2. Еще яснее открывается такое намерение господа из действий апостолов, водившихся духом его. Действия этих двух родов и равно относятся к подтверждению рассматриваемой нами истины.
Действия первого рода следующие:
а) Св. апостолы сами постоянно удерживали за собою то право и проходили те обязанности, которые собственно им завещал господь (Деян. 5, 42; 6, 1—5; 1 Кор. 4, 1; 5, 4, 5; 9, 16), несмотря ни на какие препятствия со стороны врагов, силившихся отнять у них это божественное право (Деян. 4, 19; 5, 28, 29) (стр. 214).
Замечательны эти ссылки на апостолов и в особенности на Деяния. Писатель их не выписывает, потому что знает, что из них если что выходит, то противное тому, что он хочет доказать. Всякое то место, где ученики Христа проповедуют его учение, приводится в доказательство установления иерархии, например Деян. 4, 19, Петр и Иоанн сказали: «судите, справедливо ли перед богом слушать вас более, нежели бога». Другие ссылки такие же. Так идет далее на двух страницах, из которых ясно видно то, что известно всякому, читавшему хоть краткую семинарскую историю церкви, а именно, что ни прав, ни власти никакой никто в первые века христианства никогда себе не приписывал. Назначались старшие (пресвитеры, епископы, смотрители), и те, и другие значили одно и то же и были человеческим учреждением, разнообразившимся смотря по людям и месту. Всё это ясно из приводимых же богословием текстов.
За этим следует третья часть доказательств, в которой уже прямо говорится, что власть эта дана иерархии самим Христом. Здесь, но здесь только являются доказательства того, что те люди, которые приписывали себе власть, утверждали совершенно произвольно, что власть эта перешла им от бога, т. е. то самое, что утверждает теперь наша и всякая другая иерархия. Здесь говорится:
б) …что пастыри, составлявшие это особое сословие, всегда производили свою власть от самого Иисуса Христа, называли себя преемниками апостолов, представителями в церкви самого спасителя. Вот, например – слова св. Климента римского: «Получив совершенное предведение, апостолы поставили вышеупомянутых (т. е. епископов и диаконов) и вместе преподали правило, чтобы, когда одни почиют, их служение восприняли на себя другие, испытанные мужи». Св. Игнатия Богоносца: «Епископы поставлены во всех концах земли, по воле Иисуса Христа». Св. Иринея: «Мы можем наименовать тех, которых апостолы поставили церквам епископами и преемников их даже до нас, кои ничему такому не учили и ничего такого не знали, что вымышляют еретики. Ибо если апостолы знали сокровенные тайны, которые открывали только совершенным, а не и всем другим, то тем более они сообщали эти тайны лицам, которым поручали самые церкви: поелику апостолы хотели, чтобы те, которых они оставляли своими преемниками, передавая им собственное служение учительства, были весьма совершенны и неукоризненны во всех отношениях». Св. Киприана: «Мы преемники апостолов, правящие церковь божию тою же властию». Св. Амвросия: «Епископ представляет собою лицо Христа и есть наместник господа». Блаженного Иеронима: «У нас место апостолов занимают епископы» (стр. 216).
И, заручившись этими доказательствами, т. е. голословными утверждениями тех людей, которые присвоивают себе божественную власть, что власть эта им передана от бога, богословие уже прямо дает то определение церкви, часть которого (именно слова Григория Богослова) я выписал прежде.
Говорится:
После этого уже очевидно, какое должно быть взаимное отношение составных частей церкви Христовой. Пастыри обязаны учить своих пасомых (1 Тим. 6, 20; Тит. 2, 1, 13); совершать для них священнодействия (1 Кор. 2, 12, 16; 1 Тим. 2, 1—2); духовно управлять словесным стадом (Деян. 20, 28; 1 Петр. 5, 1—2). Пасомые обязаны слушаться учения своих пастырей (Лук. 10, 16; 1 Сол. 5, 12—13); пользоваться их священнодействиями (Марк. 16, 15—16) и повиноваться их духовной власти (Евр. 13, 17).
Далее говорится (§ 173), что степеней церковной иерархии три: епископская, пресвитерская и диаконская; но нужно заметить, что их и не больше. Изречения отцов церкви подтверждают это:
Климента александрийского: «Существующие в церкви степени епископов, пресвитеров и диаконов, по моему мнению, суть подобия ангельского чина». Евсевия кесарийского: «Три чина: первый чин предстоятелей, второй – пресвитеров, а третий – диаконов» (стр. 224 и 225).
§ 174. Подробно описывается отношение разных чинов духовных лиц между собою.
Диакону не дано права совершать св. таинства и вообще священнодействия. Следовательно, и здесь служение его, по выражению Дионисия Ареопагита, есть только вспомогательное, а не совершительное самым делом. Диаконы суть только служители тайн Христовых, слуги епископства и вообще только способники и сослужители пресвитерам.
Епископ, наконец, есть «главный правитель» в своей частной церкви (Деян. 20, 28; снес. Посл. вост. патриархов о пр. вере, чл. 10). Прежде всего он имеет власть над подчиненною ему иерархией и клиром. Все священно– и церковнослужители обязаны повиноваться его постановлениям и без его разрешения ничего в церкви не совершать, подлежат его надзору и суду (1 Тим. 5, 19), вследствие которого он может подвергать их разным наказаниям. Кроме клира, духовной власти епископа подлежит и вся вверенная ему паства. Он обязан наблюдать за исполнением в его епархии божественных законов и церковных заповедей. Он же «особенно и преимущественно имеет власть вязать и решать» (Посл. вост. патриар. о пр. вере, чл. 10), по правилам св. апостолов, св. соборов и по единодушному свидетельству древних учителей церкви. Посему-то с такою силою мужи апостольские и внушали всем верующим повиноваться епископу. Пресвитеры также имеют власть решать и вязать и вообще пасти порученное им стадо божие (1 Петр. 5, 1, 2); но эту власть они получают уже от своего архипастыря чрез таинственное рукоположение (Посл. вост. патриарх. о прав. вере, чл. 10). А некоторые избранные допускаются по воле епископа, и вообще нести с ним бремя церковного управления; даже образуют при нем с сею целию постоянный собор. Но, по древнему выражению, они служат при этом только «вместо очей у епископа» и сами по себе, без его согласия, ничего не могут делать.
Диаконы же не приняли от господа права вязать и решать и, следовательно, сами по себе не имеют никакой духовной власти над верующими. Но диаконы могут быть «оком и ухом епископов и пресвитеров», равно как «руками предстоятелей», с их согласия, для совершения дел церковных. После всего сказанного совершенно становятся понятными высокие имена и выражения, которые обыкновенно прилагаются к епископам, как то: что они одни, в строгом смысле, суть преемники апостолов, что на епископах церковь держится, как на своих подпорах; что епископ есть «живый образ бога на земле, и, по священнодействующей силе духа святого, обильный источник всех таинств вселенской церкви, которыми приобретается спасение; а потому столько необходим для церкви, сколько дыхание для человека, солнце для мира» (Посл. вост. патриарх. о прав. вере, чл. 10); что в епископе средоточие верующих, находящихся в его епархии; что он даже «частная глава» своей духовной области (Прав. испов., чл. I, отв. на вопр. 85); что, наконец, как говорит Киприан, «епископ в церкви, а церковь (ему подчиненная) в епископе, и кто не в общении с епископом, тот и не в церкви» (стр. 228—230).
Пастыри, в этих разных степенях, соединенные между собою, решают, а народ должен повиноваться, и собственно всё то, что называется не для красоты слова, а действительно церковью, т. е. тот орган, которым выражается вера та, которой мы должны следовать, эта церковь – епископы.
§ 175 подтверждает это. Церковь это – епископы. И высшая над ними власть – это собрание всех епископов, которое называется собором, т. е. несколько епископов. В этом параграфе очень подробно, вроде как в положении о мировых судьях, раскрываются отношения всех этих лиц между собою:
Из этого, без всяких новых доказательств, видно, что право заседать на соборах, как поместных, так и вселенских, и право решать на них церковные дела принадлежит исключительно одним епископам, как главам частных церквей, а пресвитеры, во всем зависящие от своих местных архипастырей, могут, только с их согласия, быть допускаемы на соборы, и то лишь как советники, или помощники, или поверенные от них, и могут занимать только вторые места.
Точно так же могут быть допускаемы даже диаконы, которые пред лицем епископов должны стоять. Посему-то у св. отцов соборы обыкновенно назывались собраниями епископов. Второй вселенский собор называет символ веры, составленный на первом, верою 318 св. отцов (столько именно и было на соборе епископов); Трулльский собор вероопределения всех прежних вселенских соборов называет исповеданием или верою св. отец-епископов, по числу их, на тех соборах заседавших (прав. 1) (стр. 232—233).
Далее идет § 176, в котором излагается то, что Христос – глава церкви. Это видно: 1) из того, что Христос перед вознесением сказал – не церкви, а ученикам своим: «и я с вами да скончания века, аминь». В богословии к этим словам прибавляются слова: «и всеми будущими преемниками», – и потому эти слова считаются доказательством того, что Христос со всеми теми, которые, назвав себя его последователями, считают себя его преемниками.
2) Из того, в частности, что, хотя власть учительства он поручил апостолам и их преемникам; но верховным учителем, невидимо чрез них поучающим верующих, повелел называть одного себя (Матф. 23, 28), и. потому сказал: «слушаяй вас, мене слушает, и отметаяйся вас, мене отметается» (Лук. 10, 16) (стр. 233).
Это место с своими ссылками поразительно. Я думал, что уже ничего не может удивить меня в богословии, но дерзость, с которой приведен этот стих и с которой придано ему прямо обратное значение, изумительна.
Вот стих: «И не называйтесь наставниками: ибо один у вас наставник Христос».
Этот самый стих, слова, сказанные прямо против тех, которые будут называть себя наставниками, этот стих, соединен с стихом Лк. 10, 16, совсем не имеющим ничего общего с первым, и приводится в доказательство того, что те самые учителя, которые называют себя такими против веления Христа, имеют во главе своей Христа.
Из всего этого выходит, что (§ 177):
Понятие о всецелом существе церкви можно выразить так: церковь есть общество православно верующих и крестившихся в И. Христа (§ 168), им самим основанное и посредством св. апостолов (§ 167) им же самим оживляемое и ведомое к животу вечному (§§ 176, 169), видимо – посредством духовных пастырей: чрез учение, священнодействия и управление (§§ 172, 169), а вместе невидимо – посредством вседействующей благодати всесвятого духа (§ 176) (стр. 236).
За этим следуют доказательства того, что: § 178 – церковь единая, § 179 – церковь святая, § 180 – церковь соборная и вселенская и § 181 – церковь апостольская. Здесь, в отделе III о церкви соборной сказано следующее:
«Особенное преимущество церкви кафолической или вселенской состоит в том, что она в делах веры не может погрешать, ни обманывать, ни обманываться; но, подобно божественному писанию, непогрешительна и имеет всегдашнюю важность» (Посл. вост. патриарх. о прав. вере, чл. 2, 12) (стр. 245 и 246).
Нравственное приложение этого догмата в первый раз прямо и ясно вытекает из догмата. Приложение догмата всё в том, чтобы повиноваться церкви.
1. Господь Иисус основал церковь свою для того, чтобы она возрождала людей и воспитывала их к животу вечному. Итак, наше отношение к ней должно быть отношением детей к своей матери: мы обязаны любить Христову церковь, как свою духовную мать; обязаны повиноваться ей во всем, как своей духовной матери. В частности, господь Иисус: 2. Поручил церкви сохранять и преподавать людям свое небесное учение: наш долг принимать из уст богопоставленной наставницы это спасительное учение и разуметь его точно так, как разумеет она, постоянно наставляемая от духа святого. 3. Поручил церкви совершать для освящения людей таинства и вообще священнодействия: наш долг с благоговением пользоваться совершаемыми ею спасительными таинствами и всеми другими священнодействиями. 4. Поручил церкви руководить и утверждать людей в благочестивой жизни: наш долг беспрекословно покоряться внушениям такой руководительницы и свято исполнять все церковные заповеди (Правосл. испов., ч. I, отв. на вопр. 87—95). 5. Сам учредил в церкви иерархию, или священноначалие, положил различие между пасомыми и пастырями и указал каждому определенное место и служение: долг всех членов церкви, пастырей и пасомых, быть именно тем, к чему кто призван, и твердо памятовать, что мы имеем «дарования по благодати данней нам различна» (Рим. 12, 6) и что «единому комуждо нас дадеся благодать по мере дарования Христова» (Еф. 4, 7) (§ 182, стр. 248 и 249).
Так вот что такое церковь.
Церковь – то самое, на чем основано всё богословие, – есть сама себя учредившая иерархия и, в противность всем другим иерархиям, считающая одну себя святою и непогрешимою и одну себя имеющею власть проповедывать божеское откровение.
Так что всё учение о церкви, как его преподает богословие, всё основано на том, чтобы, установив понятие церкви, как единой истинной хранительницы божеской истины, подменить под это понятие – понятие одной известной, определенной иерархии, т. е. человеческое, возникшее из гордости, злобы и ненависти, учреждение, изрекающее догматы и преподающее пастве только то учение, которое оно само считает истинным, соединить в одно с понятием собрания всех верующих, имеющих невидимо во главе своей самого Христа – мистическое тело Христово. И на это сводится всё учение богословия о церкви.
Учение это утверждает, что единая истинная церковь – тело Христово – это она сама. Ход рассуждения такой: бог открыл собранию учеников истину и обещал быть с ними. Истина эта – полная, божеская. Та истина, которую мы проповедуем, есть та самая.
Но, не говоря уже о том, что для каждого человека, читавшего свящ. писание и видевшего те доводы, которые в доказательство этого приводит богословие, ясно, что Христос никогда не устанавливал никакой иерархии, церкви в том смысле, как ее понимает богословие; не говоря о том, что для каждого, читавшего историю, очевидно, что такими истинными церквами воображали себя многие люди, оспаривая и делая зло друг другу, – невольно является вопрос: на каком основании наша иерархия считает себя истинною, а другие иерархии и собраний верующих неистинными? Почему символ Никейский есть выражение истинной святой церкви, а не символ Арианский, который оспаривала наша иерархия? На это богословие и не пытается отвечать, не пытается потому, что по своему учению не может дать никакого ответа, ибо предметы, обсуждаемые символом, не могут быть доказанными, и потому иерархия говорит только то, что она в истине потому, что она свята и непогрешима, а свята и непогрешима потому, что она – последовательница иерархии, признавшей никейский символ. Но почему иерархия, признавшая никейский символ, истинна? на это нет и не может быть ответа. Так что признание иерархией, называющей себя церковью, истинною, святою, единою, вселенскою и апостольскою, есть только выражение сильного желания того, чтобы ей верили, есть утверждение вроде того, когда человек говорит: «ей-богу, я прав». Утверждение же это особенно ослабляется тем, что всякое утверждение иерархии о том, что она свята, происходит всегда именно потому, что другая иерархия, по какому-нибудь вопросу не соглашаясь с ней, говорит прямо противоположное, утверждая, что она права, и на слова «изволися нам и св. духу» отвечает тем, что св. дух живет в ней, вроде того, как присягают двое, отрицая один другого. Все богословы, как они ни стараются скрыть это, говорят и делают только это.
Церковь соединения всех верующих, тело Христово есть только красноречие для придания важности человеческому учреждению – иерархии и мнимой преемственности ее, на которой зиждется всё.
Удивительны и поучительны в этом случае попытки новых богословов, Vinet и последователей его – Хомякова и его отпрысков – найти новые опоры учению о церкви и определение церкви построить не на иерархии, а на всем собрании верующих – пастве.
Новые богословы эти, сами того не замечая, стараясь утвердить это посаженное без кореньев дерево, уже вовсе роняют его. Богословы эти отрицают иерархию и доказывают ложность этой основы, и им кажется, что они дают другую основу; но, к несчастью, эта другая основа их не что иное, как тот самый софизм богословия, которым богословие старается скрыть грубость своего учения о том, что церковь есть иерархия. – Этот софизм новые богословы берут за основу и разрушают окончательно учение церкви, сами же остаются с софизмом самым очевидным, вместо основы. Ошибка их следующая. Церковь получила между верующими два главные значения: одно – церковь, человеческое временное учреждение, и другое – церковь, совокупность людей живых и умерших, соединенных единою истинною верою. Первое есть определенное историческое явление, собрание людей, подчиненных известным правилам и уставам, и такое собрание, из котоporo могут вытекать постановления. Скажу ли я: церковь католическая такого-то года, или церковь русская, или церковь греческая православная, я говорю про известных людей – папу, патриархов, епископов, священников, организованных известным образом и управляющих известным образом паствой.
Второе есть отвлеченное понятие, и если я говорю «церковь» в этом смысле, то очевидно, что определением ее не могут быть признаки времени и места и ни в каком случае не могут быть известные определенные постановления, выраженные определенными словами. Единственное определение такой церкви, как носительницы божеской истины, есть соответственность ее тому, что есть божеская истина. Приравнение этих двух понятий одного к другому, замена одного другим всегда составляли задачу всех разных христианских исповеданий. Собрание людей, желающее уверить других, что оно исповедует абсолютную истину, утверждает, что оно свято и непогрешимо. Святость же свою и непогрешимость оно зиждет на двух основах: на проявлениях святого духа, выражающихся в святости членов этой общины и потому в чудесах, и на законной преемственности учительства, ведущейся от Христа.
Первая основа не выдерживает критики: святость мерить и доказать нельзя; чудеса обличаются и оказываются обманами, и чудеса в доказательство приводить нельзя. Так что остается одно доказательство – правильная преемственность иерархии. Доказать этого тоже нельзя, но нельзя тоже и опровергнуть. И потому на этой основе только и держатся все церкви. На этом одном доводе держатся и могут держаться теперь церкви.
Если католик, православный, старообрядец утверждают, что они в истине, то утверждение свое они могут неопровержимо основать только на непогрешимости преемственности блюстителей предания.
Церковь католическая главою иерархии признает папу и в своем развитии необходимо должна была признать непогрешимость папы. Церковь греческая могла не признавать папу, но, не признавая необходимости этого высшего члена иерархии, она не могла не признавать непогрешимость самой иерархии. Точно так же и церковь протестантская, не признавая католичества во времена его упадка, не могла не признавать непогрешимости той иерархии, догматы которой она признает, ибо без непогрешимости преемственности блюстителей предания она не имела бы оснований для утверждения своей истинности.
Все церкви держатся только на признании непогрешимости той иерархии, которой они держатся. Вы можете не соглашаться с тем, что такая-то иерархия есть единая правильная, но если человек говорит, что он признает истинною ту иерархию, догматы которой он признает, вы не можете ему доказать неправильность его догматов. Это единственная несокрушимая основа, и потому-то все церкви держатся ее. И вот новые богословы разрушают эту единственную основу, думая заменить ее лучшею.
Новые богословы говорят, что божеская истина хранится не в непогрешимой иерархии, а в совокупности всех верующих людей, соединенных любовью, и только людям, соединенным любовью, дается божеская истина, и что таковая церковь определяется только верою и единением в любви и согласии. Рассуждение это очень хорошо само по себе, но, к сожалению, из него никак нельзя вывести ни одного из тех догматов, которые исповедуют эти богословы.
Богословы эти забывают, что для того, чтобы признать какой-нибудь догмат, необходимо было признать предание священным и определенно выраженным в постановлениях непогрешимой иерархии. Отказавшись же от непогрешимости иерархии, нельзя уже ничего утверждать, и нет ни одного положения церкви, которое соединяло бы всех верующих. Утверждение этих богословов о том, что они признают те постановления, которые выражали веру всех неразделенных христиан, и отрицают произвольные постановления отделившихся христиан, совершенно несправедливо, потому что такого полного единения всех христиан никогда не было. Рядом с Никейским символом был арианский символ; и принят Никейский символ не всеми, а одной частью иерархии, и другие христиане признали этот символ только потому, что признали непогрешимость той иерархии, которая его выразила, сказав: «изволися нам и святому духу». Такого же времени, в которое бы все христиане сошлись в одном, никогда не было, и соборы только затем и собирались, чтобы выйти как-нибудь из споров о догматах, разделявших христиан. Так что единения в любви, во-первых, никогда не было, а во-вторых, это единение в любви, по самому существу своему, выразить и определить ничего не может.
Новые богословы эти утверждают, что под церковью они разумеют соединение всех верующих – тело Христово, а никак не непогрешимую иерархию и человеческое учреждение; но как только они коснутся дел церкви, то сейчас видно, что они под церковью разумеют и не могут разуметь ничего другого, как человеческое учреждение. Забота всех этих новых богословов, начиная с Лютера, об отношениях церкви и государства ясно доказывает то, что эти богословы под церковью разумеют еще более низменное и человеческое учреждение, чем католики и православные. Церковные богословы последовательнее в своих рассуждениях: церковь, по их учению, это – епископы, папа; так они и говорят, и так оно и есть. И папа, епископы должны стоять, по их учению, во главе всех мирских учреждений, и не может быть вопроса об отношениях церкви и государства. Церковь есть всегда глава всего. У протестантов же и новых богословов, несмотря на то мнимо высокое значение, которое они придают церкви, является вопрос об отношениях церкви и государства. Все они теперь очень озабочены отделением, или освобождением церкви от гнета государства. И все очень скорбят о жалком положении божественной истины и Христа во главе ее, находящегося в плену у Бисмарка, Гамбетты и т. п., но они забывают то, что если только государство может оказать какое бы то ни было влияние на церковь, то уже очевидно, что, говоря о церкви, мы говорим не о божеской истине, имеющей во главе Христа, а о человеческом учреждении.
Люди, верующие в учение церкви, ни на чем ином не могут основать свою веру, как только на законности, правильности преемственности иерархии. Правильность же и законность преемственности иерархии ничем не может быть доказана. Никакие исторические исследования не могут подтвердить ее. Исторические исследования, напротив, не только не подтверждают правильности какой бы то ни было иерархии, но прямо показывают, что Христос никогда не устанавливал непогрешимой иерархии, что в первые времена ее не было и что этот прием возник во времена упадка христианского учения, во времена ненависти и злобы из-за толкований догматов; и что все самые разнообразные христианские учения заявили и заявляют точно такие же права на правильность преемственности в их церкви и отрицают эту правильность в других; так что всё ничем не оправданное учение богословия о церкви сводится для меня на желание некоторых людей выставить – в противоположность другим учениям, имеющим такие же притязания и с таким же правом утверждающими, что они в истине, – свое учение, как единое истинное и святое.
До сих же пор я не видел в этом учении ничего не только истинного, святого, но даже ничего разумного и доброго.
Попытки этих богословов, в особенности же нашего Хомякова, опровергнуть основу церкви – непогрешимость иерархии – и подставить на место ее мистическое понятие церкви – всех верующих, соединенных любовью, есть последние содрогания этого церковного учения. Это подпорка, которая заваливает всё здание.
В самом деле, тут происходит удивительное qui pro quo.25 Богословие, чтобы скрыть свое грубое утверждение о том, что церковь – это непогрешимая иерархия, прикрывается ложными определениями церкви в смысле соединения всех верующих. Новые богословы ухватываются за это только внешнее и ложное определение и, воображая, что они на нем основывают церковь, уничтожают одну существенную опору церкви – непогрешимость иерархии.
Действительно, для всякого, кто бы сам не хотел трудиться исследовать доводы церкви о непогрешимости иерархии, достаточно прочесть всё то, что выработала вообще протестантская литература в этом отношении. Основа непогрешимости иерархии разрушена во имя основы церкви – собрания верующих, соединенных любовью. Собрание же верующих, соединенных любовью, очевидно, не может определить никакого догмата, не только всего Никейского символа, как это подразумевают Хомяков и другие богословы. Собрание верующих, соединенных любовью, есть такое общее понятие, из которого не может выйти никакого общего всем христианам верования или догмата.
Так что дело новых богословов, если только они последовательны, сводится к тому, что единственная основа церкви – непогрешимость иерархии – уничтожена, новая же осталась чем она и была – мистическим представлением, из которого не вытекает никакого верования, тем менее исповедания.
Единственная основа есть непогрешимость иерархии для тех, кто верует в нее.
ГЛАВА XIV
«Член II. О благодати божией, как силе, которою господь освящает нас».
Отдел весь излагает особенное отношение спасителя к людям. Член первый излагал понятие церкви, то орудие, через которое спасается род человеческий; теперь, казалось бы, надо изложить те средства, которыми спасаются люди; но об этом будет излагаться в члене третьем. Этот же второй член будет излагать то, в чем именно состоит спасение. И вот это учение и будет излагаться в этом члене. Учение это называется учением о благодати. Что же означается под словом благодать?
§ 183 начинается с разных определений благодати:
1. Под именем благодати божией вообще разумеется всё то, что дарует господь тварям своим без всякой с их стороны заслуги (Рим. 11, 6; 1 Петр. 5, 10) (стр. 249).
Это определение благодати; далее идут подразделения:
А потому благодать божию разделяют: на «естественную» и «сверхъестественную». К естественной относятся все дары божии тварям естественные, каковы: жизнь, здоровье, разум, свобода, внешнее благосостояние и под. К сверхъестественной – все дары, сообщаемые богом тварям сверхъестественным образом, в дополнение к дарам природы, – когда, например, он сам непосредственно просвещает разум разумных существ светом своей истины и подкрепляет волю их своею силою и содействием в делах благочестия. Эта последняя благодать, т. е. сверхъестественная, подразделяется еще на два вида: на «благодать бога творца», которую он сообщает нравственным тварям своим, пребывающим в состоянии невинности: сообщал человеку до его падения и доселе сообщает ангелам добрым; и на «благодать бога спасителя», которую он даровал и дарует собственно падшему человеку чрез Иисуса и во Иисусе Христе (Тит. 3, 4) (стр. 249—250).
Это последнее подразделение имеет 3 подподразделения: благодать есть, во-первых, воплощение Христа и искупление; во-вторых, чрезвычайные дары на пользу церкви – пророчества, чудеса и т. п., и в-третьих:
Наконец, называется благодатию особенная сила, или особенное действие божие, сообщаемая нам ради заслуг нашего искупителя, и совершающая наше освящение, т. е., с одной стороны, очищающая нас от грехов, обновляющая и оправдывающая пред богом, а с другой – утверждающая и возвращающая нас в добродетели для жизни вечной. В сем-то последнем смысле благодать и составляет собственно предмет догматического о ней учения (стр. 250).
Это последнее подподразделение еще заключает в себе 3 «частнейшие понятия»:
Она – а) есть особенная сила, особенное действие божие в человеке, как видно из слов самого господа к апостолу Павлу: «довлеет ти благодать моя: сила бо моя в немощи совершается», и затем из слов св. Павла: «сладце убо похвалюся паче в немощех моих, да вселится в мя сила Христова» (2 Кор. 2, 9) и в других местах: «емуже бых служитель по дару благодати божия, данные мне по действу силы его» (Еф. 3, 7); «в немже и труждаюся и подвизаюся по действу его, действуемому во мне силою» (Кол. 1, 29). Или: «разделения дарований суть, а тойжде дух: и разделения служений суть, а тойжде господь: и разделения действ суть, а тойжде есть бог, действуяй вся во всех» (1 Кор. 12, 4—6). «Подаяй убо вам духа, и действуяй силы в вас, от дел ли закона, или от слуха веры» (Гал. 3, 5). Могущему же паче вся творити по преизбыточествию, ихже просим или разумеем, по силе действуемей в нас, тому слава в церкви о Христе Иисусе, во вся роды века веков, аминь» (Еф. 3, 20, 21). Она – б) даруется нам туне, ради заслуг Иисуса Христа, как учит тот же апостол: «вси согрешиша, и лишени суть славы божия: оправдаеми туне благодатию его, избавлением, еже о Христе Иисусе» (Рим. 3, 23, 24; снес. 5, 15). «Не от дел праведных, ихже сотворихом мы, но по своей его милости спасе нас банею пакибытия и обновления духа святого, егоже излия на нас обильно Иисус Христом спасителем нашим» (Тит, 3, 5, 6). «Благодарю бога моего всегда о вас, о благодати божией, данней вам о Христе Иисусе» (1 Кор. 1, 4). «Спостражди благовествованию Христову по силе бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делом нашим, но по своему благоволению и благодати, данной нам о Христе Иисусе прежде лет вечных» (2 Тим. 1, 8—9). Она – в) даруется нам для нашего освящения, т. е. для нашего очищения и оправдания, для нашего преуспеяния во благочестии и спасении. Это подтверждают следующие места писания: «Благодать вам и мир да умножится в познании бога и Христа Иисуса господа нашего: яко вся нам божественные силы его, яже к животу и благочестию, подана разумом призвавшего нас славою и добродетелию» (2 Петр. 1, 2—3). «Идеже умножися грех, преизбыточествова благодать: да якоже царствова грех во смерть, такожде и благодать воцарится правдою в жизнь вечную Иисус Христом господем нашим» (Рим. 5, 20—21). «Да оправдившеся благодатию его, наследницы будем по упованию жизни вечные» (Тит. 3, 7). «Да совершит вы (бог) во всяком деле блазе, сотворити волю его, творя в вас благоугодное пред ним, Иисус Христом» (Евр. 13, 21). «Благодатию господа Иисуса Христа веруем спастися» (Деян. 15, 11).
Эта освящающая благодать, для большей отчетливости в учении об ней, подразделяется еще на частнейшие виды. Называется «внешнею», поколику действует на человека совне, чрез внешние средства, каковы: слово божие, проповедь евангелия, чудеса и под., и «внутреннею», поколику действует непосредственно в самом человеке, истребляя в нем грехи, просвещая разум, возбуждая и направляя его волю к добру. Называется «преходящею», когда производит частные впечатления на душу человека и содействует ему в частных добрых делах; и «постоянною», когда обитает постоянно в душе человека и соделывает его праведным и угодным пред богом. Называется «предваряющею, или предшествующею, поколику предшествует всякому доброму делу, призывает и побуждает к нему человека; и «сопутствующею», или содействующею, поколику сопутствует всякому доброму делу. Называется «достаточною», поколику преподает человеку всегда достаточную силу и удобство действовать к своему спасению, хотя и не сопровождается самим действием со стороны человека; и «действенною», когда сопровождается самим действием человека и приносит в нем спасительные плоды (стр. 250 и 252).
Так что всех благодатей собственно 14 разных. И про все эти благодати будет раскрыто. Все противные мнения, будут опровергнуты, и всё будет, по обычным приемам, подтверждено свящ. писанием.
Ни в каком отделе учения столько, как в учении о благодати, не подтверждается с такою очевидностью то замечание, что чем менее учение нужно для объяснения человеку смысла его жизни, для руководства его к единению с богом, тем более о нем говорилось и говорится церковью, тем менее оно понятно и тем больше было из-за него споров, лжи, злобы, войн и казней, как мы знаем по истории.
В самом деле, что может быть удивительнее по своей ненужности этого удивительного учения о благодати, о том, по определению богословия, что бог дарует тварям своим без всякой с их стороны заслуги. Казалось бы, что по этому определению благодать есть вся жизнь – всё, потому что всё дано нам от бога без всякой заслуги, и что потому отношение человека к благодати есть отношение человека к жизни. Оно так и есть; но так как отношение человека к жизни богословие понимает самым превратным, грубым и безнравственным образом, то все рассуждения о благодати сводятся к тому, чтобы низвести смысл жизни к самому уродливому и грубому пониманию.
Сначала берется сказание о сотворении человека, в котором священное писание выражает в лице Адама отношение свободы человека к благодати, т. е. к внешнему миру. Всё сказание это понимается богословием в одном историческом смысле. Адам пал, и весь род человеческий погиб, и до Христа отношения свободы человеческой к благодати, т. е. к жизни, не было никакого: люди всегда всё делали дурно. Пришел Христос и искупил род человеческий, и тогда, строго говоря, по учению богословия, опять уничтожилось отношение свободы человека к благодати, к внешнему миру, ибо, по церковному учению, человек весь стал свят и всё делает уже хорошо. В первом случае признавалось одно зло, во втором – одно добро. Но, как мы знаем, ни того, ни другого никогда не было; а весь смысл учения и ветхозаветного, и евангельского, и всех религиозных, нравственных и философских учений только в том, чтобы найти разрешение противоречий добра и зла, борющихся в человеке. Утверждая, что человек после искупления весь стал хорош, богословие, однако, знает, что это неправда: неправда то, что люди были все злы до искупления и стали добры после него; и потому видит, что вопрос о том – как он стоял перед Адамом – есть или не есть яблоко, и так же, как он стоит перед нами: жить или не жить по учению Христа, – всё точно так же стоял и стоит перед людьми. И потому оно вынуждено придумать такое учение, при котором этот вопрос о том, что должен делать человек, заменился бы вопросом о том, что он должен исповедывать или говорить.
И вот для этой цели придумываются учения – сначала о церкви и теперь о благодати. Но, как мы увидим после, и этого учения о благодати недостаточно, и придумывается еще новое учение о вере, которое должно содействовать этому затемнению перед людьми главного религиозного и нравственного вопроса: как должны жить люди?
Связно передать это учение о благодати, как оно изложено, невозможно. Чем больше внимаешь, тем меньше понимаешь. Читаешь и не понимаешь не только то, что излагается, но не понимаешь, для чего, зачем это излагается. Только прочтя всё богословие до конца, прочтя главу о священнодействиях, о таинствах и вспомнив то противоречие с действительностью, которое поставлено в догмате искупления, можно, наконец, догадаться о том поводе, который заставляет придумывать эти странные рассуждения, и объяснить себе это удивительное учение.
Объяснение учения о благодати для меня следующее: иерархия (для точности я впредь буду употреблять это слово вместо темного – церковь) учит тому, что Христос искупил род человеческий, уничтожил грех, зло, болезни, смерть и неплодородность земли. В действительности же ничего этого не уничтожилось, всё осталось, как было. Как же оправдать это неоправдавшееся утверждение? Надо, чтобы утверждать это, присоединить к спасению Христом poда человеческого еще условие, без которого спасение это не может совершиться, с тем чтобы иметь право говорить, что искупление совершилось, но оно не действует, потому что не соблюдено условие, при котором одном оно действительно. Условие это и есть благодать.
Прямо сказано:
§ 186. Благодать божия необходима для освящения человека-грешника вообще, т. е. для того, чтобы грешник мог выйти из своего греховного состояния, сделаться истинным христианином и, таким образом, усвоить себе заслуги искупителя, иначе – мог обратиться, очиститься, оправдаться, обновиться и потом подвизаться во благочестии и достигнуть вечного спасения (стр. 260).
Так что искупление стало действительно только при условии получения благодати. И потому неисполнение искупления объясняется отсутствием благодати; и вся цель верующих уже направляется к получению благодати. Благодать же передается таинствами. Это-то самое освящение таинствами, т. е. привлечение людей к жреческим обрядам, и составляет другой повод для учения благодати. Так что учение о благодати имеет два повода: один – логический: объяснение того, что весь мир изменился, тогда как он не изменился; другой – практический: употребление священнодействий и таинств, как средств приобретения благодати.
Учение о благодати есть, с одной стороны, неизбежное следствие ложной посылки, что Христос искуплением изменил мир, с другой стороны оно же и есть основа тех жреческих обрядов, которые нужны для верующих, чтобы отводить им глаза, а для иерархии – чтобы пользоваться выгодами жреческого звания. Учение это о благодати само в себе поразительно своей сложностью, совершенной бессодержательностью и запутанностью. Если прежде некоторые части учения невольно напоминали человека, намеревающегося пред публикой измерить сотни аршин воображаемого волоса богородицы, то это учение можно сравнить с тем, как если бы этот меряющий воображаемый волос делал бы вид, что намеренные им волоса запутались и он распутывает их.
Кроме того, учение это о благодати, имеющее целью отвести глаза верующих от неисполнения обещаний искупления и приобретение доходов духовенству, носит в себе тот ужасный зачаток безнравственности, который извратил нравственность поколений, исповедывавших это учение. Обман о том, что человек может исцелиться от болезни благодатью миропомазания, если он будет верить в это, или что он будет бессмертен, если получит благодать, или умолчание о том, что земля продолжает быть неплодородной, все эти обманы были относительно безвредны. Но обман о том, что человек всегда порочен и бессилен и стремления его к добру бесполезны, если он не усвоит себе благодати, это учение под корень подсекает всё, что есть лучшего в природе человека. Безнравственность этого учения не могла не поразить всех лучших людей, живших в среде этого исповедания, и потому против этой стороны учения об отношении свободы человека к благодати восставали в самой церкви все более честные люди. И оттого вопрос этот усложнился бесконечными спорами, до сих пор разделяющими разные исповедания.
В § 184 излагаются эти споры о благодати:
Догмат об освящающей человека-грешника благодати подвергался весьма многим искажениям со стороны неправомыслящих и еретиков.
1. Одни из них заблуждали и заблуждают, в большей или меньшей степени, касательно «необходимости» для человека «благодати». Сюда относятся: пелагиане, полупелагиане, социниане и рационалисты.
Пелагиане, явившиеся в начале V века в западной церкви, учили: «так как Адам чрез свое грехопадение нимало не повредил своей природы и, следовательно, потомки его рождаются без всякой естественной порчи и прародительского греха, то они и могут одними естественными своими силами достигать нравственного совершенства и не нуждаются для сего в сверхъестественной божией помощи и силе». Таким образом, совершенно отвергая необходимость божественной благодати для освящения человека-грешника и преспеяния его во благочестии, пелагиане, однакож, по свойственной еретикам хитрости, не хотели казаться явными противниками церковного догмата и смягчали свои мысли. Они допускали благодать, говорили об ней; но разумели под именем ее: а) естественные силы человека, разум и свободу, дарованные ему туне (gratia naturalis); б) закон, данный богом чрез Моисея (gratia legis); в) учение и пример Иисуса Христа (gratia Christi); г) отпущение грехов и какое-то внутреннее просвещение от духа святого, содействующее только к более легкому исполнению нравственного закона, который, впрочем, по их словам, человек может, хотя не с такою удобностию, исполнять и одними собственными силами (gratia Spiritus Sancti). Против Пелагия с его последователями прежде всех восстал блаженный Августин и написал, в опровержение их, весьма многие сочинения. Восстали также и другие пастыри церкви, и как на Востоке, так и на Западе в самое короткое время было более двадцати соборов, единодушно осудивших эту ересь. Защитники истины единогласно утверждали:
а) что человек, падший и рождающийся с прародительским грехом, не может сам собою творить духовного добра без помощи благодати божией; б) что под нею надобно разуметь не одни естественные силы человека, закон Моисеев, учение и пример Иисуса Христа – пособия внешние, но сверхъестественную силу божию, внутренно сообщаемую душе человека;
в) что эта благодать не состоит только в отпущении прежних грехов, но подает действительную помощь не творить новых грехов;
г) не только просвещает разум и сообщает ему познание о том, что должно делать и чего уклоняться, но подает и силы к исполнению познанного и вливает в сердце любовь;
д) не облегчает только исполнение для нас божественных заповедей, которые будто бы мы можем исполнять и сами собою, хотя с неудобством, но служит таким пособием, без которого мы вообще не в состоянии исполнять закона божия и творить добра, содействующего к нашему спасению.
В настоящее время учение православной церкви, направленное против лжеучения пелагиан, можем видеть в трех следующих правилах принимаемого ею, в числе девяти поместных, Карфагенского собора, бывшего против Пелагия: «аще кто речет, яко благодать божия, которою оправдываются в Иисусе Христе господе нашем, действительна к единому токмо отпущению грехов, уже содеянных, а не подает сверх того помощи, да не содеваются иные грехи, таковый да будет анафема. Яко благодать божия не токмо подает знание, что подобает творити, но еще вдыхает в нас любовь, да возможем и исполнити, что познаем» (прав. 125). «Аще кто речет, яко та же благодать божия, яже о Иисусе Христе господе нашем, вспомоществует нам к тому токмо, чтобы не согрешати, поелику ею открывается и является нам познание грехов, да знаем, чего должно искати и от чего уклоняться, но что ею не подается нам любовь и сила к деланию того, что мы познали должным творити, таковый да будет анафема. Ибо… то и другое есть дар божий, и знание, что подобает творити, и любовь к добру, которое подобает творити» (прав. 126).
«Аще кто речет, яко благодать оправдания нам дана ради того, дабы возможное к исполнению по свободному произволению удобнее исполняли мы чрез благодать, так как бы и не прияв благодати божией, мы, хотя с неудобством, однако могли и без нее исполнити божественные заповеди, таковый да будет анафема. Ибо о плодах заповедей не рек господь: без мене неудобно можете творити, но рек: без мене не можете творити ничесоже (Иоан. 15, 5)» (прав. 127) (стр. 252—254).
Это, по богословию, первое заблуждение.
Другое заблуждение в том, что одним бог дал благодать и предопределил к осуждению, а другим дал и предопределил к спасению. Смотреть на это надо вот как:
«Веруем, что всеблагий бог предопределил к славе тех, которых избрал от вечности, а которых отвергнул, тех предал осуждению, не потому, впрочем, чтобы он восхотел таким образом одних оправдать, а других оставить и осудить без причины: ибо это несвойственно богу, общему всех и нелицеприятному отцу, который «хощет всем человеком спастися и в познание истины приити» (1 Тим. 1, 4); но поелику он предвидел, что одни хорошо будут пользоваться своею свободною волею, а другие худо, то посему одних предопределил к славе, а других осудил. О употреблении же свободы мы рассуждаем следующим образом: поелику благость божия даровала божественную просвещающую благодать, называемую нами также предваряющею, которая, подобно свету, просвещающему ходящих во тьме, путеводит всех, то желающие свободно покоряться ей (ибо она споспешествует ищущим ее, а не противящимся ей) и исполнять ее повеления, необходимо нужные для спасения, – получают посему и особенную благодать, которая, содействуя, укрепляя и постоянно совершенствуя их в любви божией, т. е. в тех благих делах, которых требует от нас бог (и которых требовала также предваряющая благодать), оправдывает их и делает предопределенными; те, напротив, которые не хотят повиноваться и следовать благодати, и потому не соблюдают заповедей божиих, но, следуя внушениям сатаны, злоупотребляют своею свободою, данною им от бога с тем, чтобы они произвольно делали добро, предаются вечному осуждению. Но, что говорят богохульные еретики, будто бог предопределяет или осуждает, нисколько, не взирая на дела предопределяемых или осуждаемых, это мы почитаем безумием и нечестием» (чл. 3) (стр. 257).
Третье заблуждение нельзя выразить своими словами. Вот оно:
О существе освящения (sanctificatio) или оправдания (justificatio), понимаемого в смысле обширном, протестанты утверждают, что оно состоит —
а) не в том, будто благодать божия внутренним образом действует в человеке и, действительно, с одной стороны, очищает его от всех грехов, а с другой – соделывает обновленным, праведным, святым; б) но в том, что, по благоволению бога, только внешним образом прощаются и не вменяются человеку грехи, хотя на самом деле они в нем остаются, и только внешним образом вменяется ему праведность Христова. Таково учение и лютеран, и реформатов.
Учение православной церкви – совсем другого рода. Говоря о плодах таинства крещения, в котором собственно и совершается благодатию наше оправдание и освящение, церковь проповедует:
«Во-первых, сие таинство уничтожает все грехи: в младенцах – первородный, а в возрастных – и первородный и произвольный. Во-вторых, воссозидает человека и возвращает ему ту праведность, которую он имел в состоянии невинности и безгрешности» (Правосл. испов., ч. 1, отв. на вопр. 103).
И в другом месте:
«Нельзя говорить, что крещение не разрешает от всех прежних грехов, но что они хотя и остаются, однакоже не имеют уже силы. Учить таким образом есть крайнее нечестие, есть опровержение веры, а не исповедание ее. Напротив, всякий грех, существующий или существовавший прежде крещения, уничтожается и считается как бы не существующим или никогда не существовавшим. Ибо все образы, под которыми представляется крещение, показывают очистительную его силу, и изречения свящ. писания касательно крещения дают разуметь, что чрез него получается совершенное очищение, что видно из самых названий крещения. Если оно есть крещение духом и огнем, то явно, что оно доставляет очищение совершенное, ибо дух очищает совершенно. Если оно есть свет, то всякая тьма прогоняется им. Если оно есть возрождение, то все ветхое мимоходит; а это ветхое есть не что иное, как грехи. Если крещаемый совлекается ветхого человека, то совлекается и греха. Если он облекается в Христа, то на самом деле становится безгрешным посредством крещения» (Посл. вост. патриарх, о прав. вере, чл. 16).
Касательно же условий оправдания или освящения со стороны человека протестанты учат: как только грешник, пришедши в сознание своей греховности и совершенного бессилия исполнить нравственный закон Евангелия и, устрашенный тяжестью своей виновности, уверует твердо, что он примирен с богом чрез Иисуса Христа, – тотчас, по «вере» его, которая «одна оправдывает», вменяются ему заслуги Христовы, и он объявляется праведным и невинным, хотя на самом деле не становится таковым. С того времени бог совершает в человеке все добрые дела, во свидетельство его веры, но без участия самого человека, для которого это участие, по совершенному бессилию его, невозможно.
Вопреки этого лжеучения православная церковь исповедует; «веруем, что человек оправдывается не просто одною верою, но верою, споспешествуемою любовию, т. е. через веру и дела. Признаем совершенно нечестивою мысль, будто вера, заменяя дела, приобретает оправдание о Христе: ибо вера в таком смысле могла бы приличествовать каждому, и не было бы ни одного не спасающегося, – что, очевидно, ложно. Напротив, мы веруем, что не призрак только веры, а сущая в нас вера чрез дела оправдывает нас во Христе. Дела же почитаем не свидетельством только, подтверждающим наше призвание, но и плодами, которые соделывают веру нашу деятельною и могут, по божественному обетованию, доставить каждому заслуженную мзду, добрую или худую, смотря по тому, что он соделал, с телом своим» (Посл. восточ. патриарх. о прав. вере, чл. 13; снес. чл. 9) (стр. 258—259).
За этим следует § 186: «Необходимость благодати для освящения человека вообще». Доказывается свящ. писанием. И вот как решается соборами:
«Если кто утверждает, что для очищения нас от грехов бог ожидает нашего изволения, а не исповедует, что самое изволение очиститься происходит в нас чрез излияние св. духа и его содействие, – тот противится духу святому» (стр. 264).
Нельзя думать, что бог ожидает нашего желания очиститься, а надо думать, что св. дух, т. е. тот же бог в другом лице, производит это желание очиститься. Да если доброе желание произошло уже, а я сам есмь творение бога, и желание обращено к богу, то очевидно, что нельзя признавать это желание иным, как происшедшим от бога.
Все эти изречения остаются совершенно непонятными, если не иметь в виду той дели, к которой они ведут: цель в том, чтоб стремление к добру заменить внешними действиями таинств, сообщающих благодать. Далее говорится:
«Если кто утверждает, что человек может, по силам своей природы, помышлять, как должно, или избирать нечто доброе, относящееся к вечному спасению, и соглашаться на принятие спасительной, т. е. евангельской проповеди без просвещения и внушения от духа святого, – тот обольщается духом еретическим» (прав. VII) (стр. 264).
Человек не может желать ничего доброго без внушения св. духа: внушения же св. духа сообщаются благодатью; благодать же сообщается таинствами; таинства же сообщаются иерархией.
§ 187. «Необходимость благодати для веры и для самого начала веры, или для самого обращения человека к христианству».
Благодать божия, необходимая вообще для освящения и спасения человека, необходима, в частности, для его веры и самого начала веры в господа Иисуса (стр. 265).
Доказательства свящ. писания и постановление собора:
«Если кто говорит, что как приращение, так и начало веры и самое расположение к ней, по которому мы веруем в «оправдающего нечестива» и приступаем к возрождению в таинстве крещения, бывают в нас не по дару благодати, т. е. чрез внушение от духа святого, направляющего волю нашу от неверия к вере, от нечестия к благочестию, а бывают естественно: таковый показывает себя противником апостольских догматов» (прав. V) (стр. 269).
Смысл постановления тот, что верующие должны признавать, что переход от нечестия к благочестию не может происходить естественно, а бывает только по благодати, т. е. через какое-то неестественное внешнее действие.
§ 188. Будучи необходимою для самого обращения человека к христианству, для его веры и начала веры, благодать божия остается необходимою для человека и по обращении, чтобы он мог исполнять закон евангельский, творить дела, достойные жизни по Христе (стр. 272).
Доказательства из свящ. писания. И заключается тем, что:
«Хотя человек, прежде возрождения, может по природе быть склонным к добру, избирать и делать нравственное добро; но чтобы, возродившись, он мог делать добро духовное (ибо дела веры, будучи причиною спасения и совершаемы сверхъестественною благодатию, обыкновенно называются духовными), – для сего нужно, чтобы благодать предваряла и предводила, так что он не может сам по себе творить дел, достойных жизни по Христе, а только может желать или не желать действовать согласно с благодатию» (стр. 275).
Смысл этого рассуждения еще определеннее, и выражение его еще смелее. Тут уже прямо говорится, что человек, хотя и может делать добрые дела без благодати, как скоро он принимает учение церкви, теряет уже возможность делать добрые дела, а может только желать этого, призывая на помощь себе благодать, находящуюся в церкви божией.
§ 189. Если без благодати божией человек не может ни уверовать, ни веровать во Христа, ни творить дел, достойных жизни по Христе, то само собою следует, что не может человек, без содействия благодати божией, и пребыть в христианской вере и благочестии до конца жизни (стр. 276).
Здесь говорится, что содействие этой внешней благодати не исчерпывается крещением и верою, но что для спасения нужна постоянная помощь от иерархии.
Всё это казалось бы ясно, но вот следует § 190, оспаривающий еретиков. В этом и следующих параграфах очевидно выражается вся бессвязность, произвольность и пустословность всего этого учения. Иерархии нужно такое учение, которое свело бы всё учение о жизни к учению о священнодействиях, но прямо сказать этого никак нельзя: слишком очевидна безнравственность такого учения. Кроме того, по этому вопросу было много споров; одни рассуждения последовательно говорили: если спасает благодать, то свободные усилия человека бесполезны; другие говорили: если нужны свободные усилия человека, то всё дело в них, и благодать сообщается им; но наше богословие оспаривает и тех, и других и само путается и остается в этой путанице.
§ 190. Вопреки заблуждениям кальвинистов и янсенитов, будто бог дарует благодать свою только некоторым людям, которых он безусловно предопределил к праведности и вечному блаженству и потому дарует благодать непреодолимую, православная церковь учит —
а) что благодать божия простирается на всех людей, а не на одних предопределенных к праведности и вечному блаженству;
б) что предопределение божие одних к вечному блаженству, других к вечному осуждению не безусловно, а условно и основывается на предведении того, воспользуются ли они, или не воспользуются благодатию;
в) что благодать божия не стесняет свободы человека, не действует на нее непреодолимо, и —
г) что, напротив, человек деятельно участвует в том, что совершает: в нем и чрез него благодать божия (Посл. вост. патриарх. о прав. вере, чл. 3) (стр. 279).
Предшествующий параграф определил спасение человека так, что оно, очевидно, не вытекает уже нисколько из усилий человека и всё вполне зависит от сообщающейся человеку извне благодати. И потому естественно должно было явиться рассуждение: если спасение не зависит от человека, а от бога, а бог всеведущ, то одни люди предопределены к спасению, другие к погибели.
Но богословие не соглашается с кальвинистами. В параграфе 190 сказано: «Благодать простирается на всех людей, а не на одних предопределенных к праведности и вечному блаженству». Приводятся доказательства в опровержение кальвинистов. И тут невольно выходит то, что, опровергая кальвинистов, богословие опровергает все те положения соборов, постановлявших то, что человек не может спасаться своими силами.
Св. Иоанна Златоустого: «Если (Христос) «просвещает всякого человека, грядущего в мир» (Иоан. 1, 9), каким образом люди пребывают без освящения? Он действительно просвещает всякого. Но если некоторые, заключая добровольно очи ума своего, не хотят принимать лучей сего света, то пребывание их во тьме зависит не от естества света, а от несчастия тех, которые по своей воле лишают себя дара…»
Св. Амвросия: «Он, как таинственное солнце правды, взошел для всех, пришел для всех, пострадал для всех, воскрес для всех… Если же кто не верует во Христа, тот сам лишает себя всеобщего благодеяния».
Блаженного Августина: «не посла бог сына своего в мир, да судит мирови, но да спасется им мир» (Иоан. 3, 17). Итак, что до врача: он пришел исцелить больного: и сам себя погубляет тот, кто не хочет исполнять повелений врача. Пришел спаситель в мир: почему и назван он спасителем мира, если не потому, что цель его спасти мир, а не судить мирови? Hе хочешь исцелиться от него? Сам будешь своим судиею» (стр. 282).
Прежде было сказано на соборах, что тот, кто утверждает, что для очищения нас от грехов бог ожидает нашего изволения, что человек может избирать доброе, тот не прав, но здесь вдруг оказывается, что человек именно должен избирать.
Далее идет § 192, который должен доказать, что и есть предопределение, и нет предопределения.
§ 192. «Предопределение божие одних к вечному блаженству, других к вечному осуждению условно и основывается на предведении того, воспользуются ли, или не воспользуются они благодатию».
Если же в слове божием говорится, что бог одних предопределил к вечной славе (Рим. 8, 29), других к вечному осуждению (Иуд. 4), это не значит, будто он не «всем человеком хощет спастися», не всем дарует свою благодать и предопределил то и другое без всякой причины, по одной безусловной воле своей. А значит только, что бог, желающий всем спастися и всем подающий благодать, так как от вечности предвидел, кто захочет и кто не захочет воспользоваться его благодатию, то сообразно с этим и предопределил одних ко спасению, других к погибели (стр. 282).
Весь этот параграф о предопределении носит на себе отличительный характер отчасти византийского, но преимущественно русского богословия. Здесь повторяется то, что во всех спорных местах богословия. Одни богословы говорят: дело всё в делах, другие – дело всё в благодати. И то и другое с некоторой логической последовательностью можно доказывать. Но русское богословие никогда не дает себе труда разбирать мысль и последовательно идти от вывода к выводу. Оно говорит: вы говорите – дела, а вы говорите – благодать. Так мы скажем общее: и дела, и благодать. О том же, что одно неизбежно исключает другое, об этом оно не заботится. Попутает несколько непонятных фраз, поцитирует несколько отцов и делает заключение, воображая, что вопрос решен.
Доказательства писания.
Учение о безусловном предопределении божием противно и здравому разуму. Он убежден, что бог правосуден и, следовательно, не может без всякой причины одних предопределить к вечному блаженству, а других к вечному осуждению. Убежден, что бог бесконечно благ, и, следовательно, не может без всякой причины осудить кого-либо к вечной погибели. Убежден, что бог бесконечно премудр и, следовательно, не может, даровав человеку свободу, стеснять ее своим безусловным предопределением и отнимать всю нравственную цену у ее действий (стр. 288).
Рассуждение это прямо игнорирует всё то, что было сказано против него в предшествующих параграфах, и этим явным противоречием заключает всё разъяснение.
§ 193 еще больше запутывает дело. Тут противоречие уже в каждом слове:
Хотя «бог есть действуяй» в нас, и «еже хотети, и еже деяти о благоволении» (Фил. 2, 14), и без благодати его мы не можем ни предпринять, ни совершить ничего истинно доброго; однакоже эта сила божия, действуя в нас и чрез нас, нимало не стесняет свободы нашей, не влечет к добру непреодолимо (стр. 288).
То есть что же это значит? Переведя фразу на понятный язык, выйдет, что благодать не стесняет нашей свободы, но доброго мы без нее ничего не можем сделать. В чем же свобода? По этому определению только в том, чтобы делать разного рода зло. И всё рассуждение идет в таком же роде, так что под конец, в заключение всего говорится:
Здравый разум с своей стороны не может не заметить, что, если благодать божия стесняет свободу человека и влечет ее насильно к добру, в таком случае отнимается у человека всякое побуждение к добродетели, отнимается всякая заслуга у его добрых действий и вообще подрывается вся его нравственность, и всему этому виною – сам бог! Можно ли допустить такие мысли? Правда, разум не в состоянии объяснить, каким образом могущественная сила божия, действуя на человека, оставляет неприкосновенною его свободу, и определить с точностию их взаимное отношение; но тем не менее тайна эта должна быть для нас выше всякого сомнения, когда мы имеем столько оснований верить, что человек не только не лишается свободы при влиянии на него благодати, но деятельно участвует в ее действиях, совершаемых в нем и чрез него (стр. 290).
То есть, другими словами, богословие признается само в том, что оно ничего не понимает само из того, что оно наговорило, но оно считает, что надо верить в эту тайну, т. е. во что-то такое бессмысленное и противоречивое, чего даже и выразить нельзя.
§ 194 продолжает ту же путаницу, доказывая, что: «Человек деятельно участвует в том, что совершает в нем и чрез него благодать божия». Говорится:
Блаженный Феодорит: «Апостол назвал даром божиим, и «еже веровати, и еже» славно «страдати» (Фил. 1, 29), не отвергая участия свободного изволения (человеческого), но научая, что изволение само по себе, лишенное благодати, не может совершить ничего доброго. Ибо то и другое необходимо: и наша готовность или желание действовать и божие содействие. И как не имеющим этого желания не довольно одной благодати духа, так, с другой стороны, одно желание, не подкрепляемое благодатию, не может собрать богатства добродетелей» (стр. 293).
Этот параграф утверждает, что человек, не могущий ничего сделать доброго без благодати, вместе с тем участвует в действии благодати. Не говоря о бессмысленности, противоречивости, безнравственности всего учения, невольно спрашиваешь себя: зачем и кому это нужно? И если это кому нужно, то зачем вся эта путаница? Ну, не может человек делать ничего без благодати, ну, так и скажите. Но нет, оказывается, что человек не может спастись без благодати, а вместе с тем он должен искать этой благодати, содействовать ей. Зачем эта путаница? Казалось бы, нельзя ответить на этот вопрос: зачем всё это? И если бы мы не знали того, что будет дальше, мы бы так и не нашли ответа. Но ответ есть прямой: благодать, подразумеваемая иерархией, не есть та благодать кальвинистов – предопределенное богом спасение, но благодать иерархии это – таинства, и их надо искать. Таинства же передают пастве жрецы, жрецам же за это дают деньги. Стало быть, без благодати нельзя спастись, и искать благодать в таинствах нужно. Нехорошо только то, что при этом уничтожается не только всё нравственное значение учения Христа, но всякое нравственное учение и заменяется исканием этих таинств, покупаемых за деньги. Но что же делать? Без этого не было бы иерархии. Стало быть, всё это учение благодати очень нужно. Только этим можно объяснить себе это удивительнейшее учение о благодати.
ГЛАВА XV
Учение о благодати считается богословием теперь утвержденным, и начинается изложение того, что на нем основывается учение об освящении:
§ 196. «Освящение человека состоит в том, что он действительно очищается от грехов благодатиею божиею и соделывается праведным и святым» (стр. 295).
Здесь под словами «освящение человека» разумеются таинства. Так, после доказательств из свящ. писания приводится выражение Иоанна Златоуста:
«Священники иудейские имели власть очищать проказу телесную, или, точнее, отнюдь не очищать, а только свидетельствовать очистившихся… Сии же (священники христианские) прияли власть не телесную проказу, но нечистоту души не свидетельствовать, когда она очистится, но совершенно очищать» (стр. 297).
Так что действие благодати, до сих пор непонятное, пока дело шло об отвлеченной благодати, становится ясным: благодать есть святость, которая сообщается священниками. И потому теперь уже можно понять, что разумеется под тем, что благодать необходима для спасения и что человек не может спастись добрыми делами без освящения таинств. Человек без учения об освящении будет стремиться к тому, чтобы быть лучше. По учению иерархии, этого не нужно; нужно только искать благодати. Искать же благодать значит искать освящения. Искать освящения значит принимать от священников таинства. Заключительные слова этого параграфа важны потому, что они поразительно подтверждают то высказанное мною положение, что догмат искупления есть одно из оснований жреческого учреждения – иерархии. Вот что говорится в этом параграфе:
Восстановление человека есть не что иное, как возведение его в первобытное состояние, в каком он находился до падения. Но до падения человек был действительно невинен, праведен и свят. Следовательно, в такое же точно состояние ему надлежит возвратиться и чрез восстановление. Иначе, если восстановленные и оправданные попрежнему остаются во грехах, без праведности и святости, а только получают прощение грехов и совне прикрываются праведностию Христовою: в таком случае восстановления собственно нет, и оно – один призрак или восстановление кажущееся (стр. 299).
Восстановление есть возведение человека в прежнее состояние невинности. Искупление, по утверждению иерархии, сделало это. Но сама же иерархия видит, что этого ничего нет, и искупление ничего подобного не сделало. В чем же признать это восстановление? Признать это восстановление в том, что действительно хорошие люди, узнав закон Христа, делают больше доброго, чем злого, нельзя, потому что тогда будут искуплены только хорошие люди, а дурные будут в погибели. Признать же, что и злые люди уже не злые и что они все восстановлены в невинности, потому что Христос искупил их, тоже нельзя. Поэтому необходимо надо придумать такую воображаемую невинность и святость и такие видимые орудия сообщения этой святости, при которых бы можно было уверять всех людей без различия, что, как бы они дурны ни были, они все-таки святы. И это-то самое и придумывается. Но для этого построения искусственного здания воображаемого искупления учения о благодати недостаточно. Нужно ввести еще новое звено в эту цепь обмана.
И вот в § 197 излагается тот самый способ самообманывания, при котором люди, делающие добрые дела, не могут считать свои дела добрыми, если они не соблюдают поставленные для того условия, и люди неправедные и не невинные могут, при исполнении этого условия, считать себя восстановленными и святыми. Самообманывание это зиждется на вводимом здесь, в первый раз во всей книге, понятии веры, понимаемой самым нарочно запутанным образом. Говорится о том, что вера есть первое условие со стороны человека для его освящения и спасения. Дается определение веры самое запутанное, но клонящееся к тому, чтобы под понятие веры подставить какое-то действие, находящееся во власти человека. И выводится заключение о том, что тот, кто верит, что он освящается и восстановляется в полной святости и невинности, что тот и только тот действительно восстановляется в полной святости и невинности. Но ведь если кто верит, что он свят, и другого средства утверждения его святости нет, как его вера в свою святость, то хотя он и будет себя считать несомненно святым, – никак нельзя утверждать, что он действительно свят. Если сумасшедший верит, что у него на носу башня, то ведь несомненно то, что ему представляется на носу башня, но никто не станет утверждать, что у него на носу действительно башня. Однако именно на таком рассуждении построено всё учение об освящении верою.
Вот это рассуждение:
§ 197. Благодать божия, совершающая наше освящение, хотя простирается на всех людей, но не действует на них против их воли, и самым делом освящает человека-грешника, а вслед за тем спасает его, только при известных с его стороны условиях. Первое из этих условий есть вера (стр. 299).
Это неожиданное введение в это рассуждение понятия веры особенно замечательно потому, что все те догматы, которые нам раскрывались до сих пор, начиная с понятия о боге, все были не что иное, как истины веры. До сих же пор ни разу не было говорено о вере, не было определения того, что нужно разуметь под словом вера. До сих пор предполагалось, что вера есть то самое верное знание бога (как и говорят восточные патриархи – правое понятие о боге), которое лежит в основе всякого другого знания, что из веры вытекает всё остальное; но никак не было выражено то определение веры, по которому она есть действие воли человека. Здесь же она оказывается некоторого рода действием:
1. Под именем веры вообще здесь разумеется свободное принятие и усвоение человеком, всеми силами души, тех истин, которые бог благоволил открыть нам во Христе для нашего освящения и спасения. Верою же называется это принятие и усвоение – потому, что откровенные истины большею частию непостижимы для нашего разума и недоступны для знания, а могут быть усвояемы только верою (стр. 299, 300).
Благодать не действует против воли. Люди должны сделать усилие воли, чтобы принять ее. Вера есть свободное принятие, усвоение истин непостижимых. Невольно представляется вопрос: усвоение-то чем делается? Разумом или волею? Разумом невозможно, потому что истины непостижимы. Стало быть – волей. Что же это значит: усвоить усилием воли? Говоря ясно, это значит – послушаться. Так что вера, по этому определению, сводится к послушанию. И так и понимается в богословии слово «вера», хотя далее для того, чтобы запутать определение, и дается другое, туманное определение, смешивающее веру с любовью и надеждой.
Необходимость веры для нашего освящения и спасения понятна и по соображениям разума. Без веры мы не можем усвоить себе истин божественного откровения; следовательно, не будем знать ни того, что сделал бог для нашего спасения, ни того, что обязаны сделать мы. А таким образом и откровение, вместе со всем домостроительством спасения, останется для нас чуждым, и мы будем чужды откровению и спасению. Веруя во Христа спасителя и откровенное слово его, мы, так сказать, отверзаем, душу свою для всех спасительных действий божиих в нас, а не веруя, мы заключаем самих себя для этих действий и отталкиваем божественную помощь. Потому-то, хотя вера возбуждается в нас предваряющею благодатию и по началу своему есть дар божий, но как только она породится в нас, при нашем свободном согласии, она становится с нашей стороны самым первым орудием для действительного принятия в души наши спасительной благодати или «всех божественных сил, яже к животу и благочестию» (2 Петр. 1, 3); самым первым условием для нашего возрождения, освящения и спасения благодатию.
Достоинство же веры и вменяемость ее понятна из того, что, хотя вера начинается в нас по предваряющей благодати божией, но затем зависит и от нас; как свободное послушание гласу благодати, зовущей нас ко Христу, свободное подчинение нашего разума и всех сил души откровенным истинам и всему установленному богом порядку нашего освящения, свободное предание себя водительству Христову (стр. 305 и 306).
Каким путем возбуждается это свободное согласие? Как делается подчинение разума?
«Естественное рождение, – говорит блаженный Феодорит, – не имеет нужды в соучастии рождаемого; но рождение веры требует согласия и рождающего и рождаемого. Ибо хотя бы проповедующий истинно веровал, но если слушающий примет проповедь его без веры, в таком случае не будет соответствия проповеднику» (стр. 306).
Григорий Богослов: «Исповедуй Иисуса Христа и веруй, что он воскрешен из мертвых, и ты спасешься. Ибо оправдание и – веровать только, совершенное же спасение – исповедывать и к познанию присовокуплять дерзновение» (стр. 304).
Веру до сих пор я понимал как основу всей деятельности человека; а тут говорится о вере как деятельности. Невольно является вопрос: на чем же основана та деятельность, которая ищет веры и даже вперед избирает ту веру, которую она ищет? И страннее всего, что не говорилось ничего о вере о тех пор, пока излагались откровенные, основные истины веры о боге, творении, человеке, душе, – ведь и во всё это надо верить. Ничего не говорилось о вере, а теперь вдруг, когда надо излагать освящение и восстановление, которых нет, то понадобилось и определять веру, и неожиданно вера определяется не как знание бога, а как доверие к тому, что говорится иерархией.
И действительно, под словом «вера» разумеется в богословии не то, что разумеется под этим словом обыкновенно. Яснее и короче это видно из следующего места катехизиса Филарета. Там есть вопрос о том, чтò нужнее: вера или добрые дела? И ответ: вера, потому что в писании сказано: «без веры невозможно угодити богу». Но вслед за тем вопрос: почему с верою должны быть неразлучны добрые дела? И ответ: потому что сказано: «вера без дел мертва есть». Второй ответ на вопрос о том, что «с верою должны быть неразлучны добрые дела, потому что вера без дел мертва», уничтожает разделение веры от добрых дел. Если вера без добрых дел не может быть, то зачем же было их разделять и говорить: во-первых, вера, и во-вторых, добрые дела?
Здесь логическая ошибка не случайна. Та же самая умышленная ошибка повторена в богословии. Ясно, что под словом «вера» богословию нужно разуметь не то, что говорит это слово, и не то, что разумеет Павел и восточные патриархи и что разумеем под этим словом все мы.
«Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых, т. е. уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем», говорит Павел. Павел ничего не говорит о том, что это извещение и упование передается кем-нибудь. «Верою называем правое понятие наше о боге и о предметах божественных», говорят восточные патриархи. «Никто не может спастись без веры», говорят далее восточные патриархи.
Вера есть извещение уповаемых и обличение невидимых и правое понятие о боге. То же самое и разумеют все люди. Мы погибаем в этой жизни без знания бога. Знание бога – вера – дает нам спасение. Все дела спасения суть по тому самому добрые дела. И все добрые дела суть добрые только потому, что они – дела спасения, вытекающие из нашего знания бога, т. е. из веры. Вера не то что неразлучна с добрыми делами, но вера есть единственная причина добрых дел. Добрые же дела суть неизбежные последствия веры. И потому, казалось бы, нельзя спрашивать, что важнее: вера или добрые дела? Это всё равно, что спрашивать: что важнее – солнце или свет его? А между тем это-то самое разделение сделано. Сделано благодаря тому, что вере дано ложное, узкое определение не веры, а доверия и послушания.
Отделение веры от дел и сравнение их ясно показывает, что под верою разумеется что-то иное, чем определение Павла и восточных патриархов и чем то, что говорит самое слово, а разумеется то, про что в другом мecтe восточные патриархи говорят: «веруем, как научены верить» (член 10).
Очевидно, как у Филарета, так и во всех богословских сочинениях под словом «вера» разумеется только внешнее согласие с тем, что проповедует богословие. И это-то одно согласие считается нужным для освящения и спасения. И потому-то здесь определяется не одна вера вообще, а вместе определяется и то, во что именно надо верить, и разъясняется, что тот, кто поверит, тот получит большие выгоды, а кто не поверит, тому будет дурно.
Прежде, при изложении каждого догмата, излагался самый догмат: хоть – бога, троицы, искупления, церкви, и раскрывались доводы, приводящие нас к вере, но нигде не говорилось, что надо верить и что выгодно верить. Но тут неожиданно, вместо доводов, вместо раскрытия истины, прямо говорится, что надо сделать свободнее усилие – не противиться и стараться верить, и кто поверит, тот спасется, а кто не поверит, тот погибнет. Прежде раскрывались самые истины богооткровенные и предполагалось, что раскрытие это приводило нас к единственной цели учения – вере, т. е. к знанию бога. Теперь принят обратный прием: говорится, что для того, чтобы раскрылась истина об освящении, надо верить вперед в это освящение: поверь, и тогда всё раскроется. Да ведь вся цель учения состоит в том, чтобы привести меня к вере! Если же вы бросаете тот путь раскрытия истин, которые приводят меня к вере, а говорите, что надо довериться тому, что вы говорите, как эта говорит всякий человек, которому хочется, чтоб ему поверили, то я уже не имею права вам верить.
Если всё дело на доверии, то доверие мое будет зависеть только от большего или меньшего уважения к тому, кто убеждает меня, и от сравнительной вероятности свидетельства истины. Вероятности же этого свидетельства в учении иерархии нет никакой, как мы видели до сих пор, и потому мне остается одно: испугаться тех угроз, которые изрекаются мне за то, что я не поверю, и из страха подчинить своей разум тому, что называется благодатью, т. е. тому, чему учит иерархия. Это старание подчинить свой разум, это непротивление благодати мы все пробовали. Но оно становится не только недействительно, но все доводы в пользу его становятся против него, как только человек серьезно ищет истины. Вы говорите, что я навеки погублю свою душу, если я не поверю вам. Но я не верю вам именно потому, что боюсь погубить свою душу навеки. И особенна теперь, когда, разобрав этот параграф, мне ясно, что само богословие, приступая к самому для него дорогому и важному установлению таинств, само отказалось от придания какого-нибудь смысла этому установлению и ничем иным не могло хоть сколько-нибудь оправдать его, как наивным утверждением, что надо верить, что это так.
Сведя таким образом понятие веры на доверие и послушание и разделив таким образом неразделимое, богословие невольно пришло к вопросу об отношении между собой этих двух воображаемых, немыслимых понятий веры, как доверия к тому, что вам сказали, и добрых дел, не зависимых от веры.
Следующий § 198 разбирает отношение этих двух мнимых понятий.
Для того, чтобы понять этот параграф, необходимо иметь в виду то, что с первых же времен введения ложного понятия доверия, вместо веры, явился вопрос о том: что спасает – вера или добрые дела, и что исповедующие это учение с первых времен делятся на два враждебные учения. Одни говорят, что спасает вера, другие говорят – спасают дела. Наше богословие, с своим обычным приемом и совершенной свободой от всяких связей логики, утверждает, что спасает и то, и другое. И вот назначение следующего § 198: «Кроме веры, для освящения и спасения человека требуются от него еще добрые дела».
Впрочем, как ни велико достоинство веры, обнимающей собою, в обширном смысле, и надежду, и любовь, и хотя вера эта есть самое первое условие для усвоения человеком заслуг Христовых, но одна она еще недостаточна для цели. По одной вере может человек получить оправдание и очиститься от грехов в таинстве крещения, когда он только что вступает в царство благодати Христовой; может потом принимать благодатные дары чрез прочие таинства церкви. Но чтобы он мог, по вступлении в благодатное царство, сохранить приобретенную им в крещении праведность и чистоту; чтобы он мог воспользоваться дарованиями духа святого, которые будет получать чрез прочие таинства; чтобы он мог укрепиться в христианской жизни и постепенно возвышаться в христианской святости; мог, наконец, по совершении земного поприща, явиться оправданным и освященным на страшном суде Христовом, – для этого, кроме веры, требуются еще добрые дела, т. е. такие дела, в которых вера, надежда и любовь, обитающие в душе христианина, выразились бы внешним образом, как в своих плодах, и которые служили бы точным исполнением воли божией, преподанной нам в законе евангельском (стр. 307).
За этим приводятся подтверждения из свящ. писания, прямо отрицающие всё предшествующее деление веры и дел и преимущество веры над делами:
«Не всяк глаголяй ми: господи, господи, внидет в царствие небесное; но творяй волю отца моего, иже есть на небесех» (Матф. 7, 21; снес. 26, 27)… «Вера, аще дел не имать, мертва есть о себе… покажи ми веру твою от дел твоих… Яко же тело без духа мертво есть, тако и вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 27, 18—26)… «Имеяй заповеди моя и соблюдаяй их, той есть любяй мя» (Иоан. 14, 21). «Чадца моя, не любим словом, ниже языком, но делом и истиною» (1 Иоан. 3, 18)… «Того бо есмы творение, создани во Христе Иисусе на дела благая, яже прежде уготова бог, да в них ходим» (Еф. 2, 10)… «Явися благодать божия, спасительная всем человеком, наказующи нас, да отвергшеся нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживем в нынешнем веце, ждуще блаженного упования и явления славы великого бога и спаса нашего Иисуса Христа: иже дал есть себе за ны, да избавит ны от всякого беззакония, и очистит себе люди избранны, ревнители добрым делом» (Тит. 2, 11—14)… «Приити бо имать сын человеческий во славе отца своего со ангелы своими: и тогда воздаст комуждо по деяниям его» (Матф. 16, 27; снес. 25, 34—36). «Кийждо, еже аще сотворит благое, сие приимет от господа» (Еф. 6, 8), «иже воздаст комуждо по делом его» (Рим. 2, 6). «Всем бо явитися нам подобает пред судищем Христовым, да приимет кийждо яже с телом со дела, или блага, или зла» (2 Кор. 5, 10; снес. 9, 6). «Или не весте, яко неправедницы царствия божия не наследят» (1 Кор. 6, 9; снес. Гал. 5, 19, 20; Евр. 12, 14) (стр. 307 и 308).
Все приведенные тексты, особенно евангельские, показывают несомненно, что веру нельзя отделить от дел, что дела суть последствия веры; и потому казалось бы, что параграф этот прямо разрушает весь смысл предшествующего параграфа о первостепенном значении веры. Но богословие нисколько не смущается этим. В первом параграфе оно полемизировало со всеми христианами, признающими спасение в делах; в этом оно полемизирует с теми, которые признают его в вере, и спокойно разрушает само свои положения, что не помешает ему в конце торжественно сказать, что истинное учение в том, чтобы принимать и то и другое, несмотря на то, что одно исключает другое.
В самом деле, как ни неправильно разделение веры и дел, если уже раз разделение это совершилось в понятии верующих, то понятно, что можно утверждать, что спасает одна вера или одни дела. Если посредством веры мы совершенно очищаемся и делаемся святы, то, очевидно, добрые дела делаются излишни. Они предполагаются сами собою, но не могут уже составлять цели. Если же спасаемся мы усилием своей воли, как это было сказано в предшествующем параграфе, то очевидно, что прежде всего должно быть это усилие воли, т. е. поступок, и тогда уже будет вера и спасение.
Оба утверждения логичны и последовательны; но наша иерархия, заручившись верою в себя, считает излишним какую-либо логическую последовательность, она утверждает оба противные друг другу положения вместе.
Заключительные слова параграфа, направленные к тому, чтобы доказать необходимость добрых дел, доказывают как раз противное.
Творить добрые дела мы не иначе можем, как при содействии божественной благодати, почему они и называются плодами св. духа (Гал. 5, 22). Но так как в совершении добрых дел необходимо участие и нашей свободной воли; так как чрез это свободное участие в добрых делах мы выражаем свою веру, любовь и надежду на бога; так как это участие стоит для нас нередко великих подвигов и трудов (Лук. 13, 24; 2 Кор. 6, 4—6; 2 Тим. 3, 12) в борьбе со врагами нашего спасения – миром, плотию и диаволом, то господь бог благоволит вменять нам наши добрые дела в заслугу. И, во-первых, по мере преспеяния нашего в благочестии при содействии благодати, он благоволит приумножать в нас духовные дарования (Матф. 25, 21, 28, 29), чтобы с помощью их мы могли восходить «от силы в силу, от славы в славу» (2 Кор. 3, 18) (стр. 311).
Вся выписка эта есть повторение в разных выражениях одного и того же противоречия: творить добрые дела мы не иначе можем, как чрез благодать, но для них нужно участие нашей свободной воли.
Нравственное приложение этого догмата более смешно, чем обыкновенно. Действительно, трудно найти какое-нибудь для нравственности приложение самого безнравственного догмата, имеющего целью оправдать и успокоить пороки и дать доход иерархии, но все-таки à propos26 находится: 1) молиться богу, чтоб дал благодать; 2) благодарить бога; 3) молиться; 4) следовать внушениям благодати; 5) человеку, ставшему невинным, как Адам, стараться быть невинным; 6) «да приступаем же со истинным сердцем во извещение веры к престолу благодати» (§ 169, стр. 313 и 314).
ГЛАВА XVI
«Член III. О таинствах церкви, как средствах, чрез которые сообщается нам благодать божия».
Таинства определяются так:
1) «Таинство есть священное действие, которое под видимым образом сообщает душе верующего невидимую благодать божию, будучи установлено господом нашим, чрез которого всякий из верующих получает божественную благодать» (Прав. исп., ч. 1, отв. на вопр. 99). Следовательно, «существо» таинств церковь полагает в том, что это суть священнодействия, действительно сообщающие верующему благодать божию, что они «не суть только знаки обетований божиих, а суть орудия, которые необходимо действуют благодатию на приступающих к оным» (Посл. вост. патриарх, о прав. вере, чл. 15). А «существенными принадлежностями» каждого из таинств считает: а) божественное установление таинств. б) какой-либо видимый или чувствам подлежащий образ и в) сообщение таинствам невидимой благодати душе верующего (стр. 315).
Необходимо обратить внимание на определение существа таинств и на слова: «божественное установление таинств», чтобы потом ясно разобрать тот обман, на котором богословие старается установить догмат таинств. Перечисляются семь таинств и отвергаются различные ложные учения о таинствах всех других христиан, кроме нашей иерархии. Вот эти ложные учения:
1. О существе таинств. По Лютеру, это суть простые знаки божественных обетований для возбуждения веры во Христа, отпущающего грехи. По Кальвину и Цвинглию – знаки божественной благодати, которыми удостоверяется избранный в полученной им вере и божественных обетованиях, или еще более удостоверяет всю церковь в своей вере, нежели удостоверяется сам. Социниане и арминиане видят в таинствах одни внешние обряды, которыми отличаются христиане от иноверцев. Анабаптисты считают таинства аллегорическими знаками духовной жизни. Сведенборгиане – символами взаимного соединения между богом и человеком. Квакеры и наши духоборцы, отвергая совершенно видимую сторону таинств, признают их только за внутренние, духовные действия небесного света. Все эти и другие подобные понятия о таинствах разных протестантских сект, при всем своем различии, сходны в том, что равно отвергают истинное понятие о таинствах, как внешних священнодействиях, действительно сообщающих верующим благодать божию и возрождающих, обновляющих и освящающих ею человека.
2. О числе таинств. Как бы не довольствуясь одним низвращением истинного понятия о существе и действенности таинств, протестантство простерло святотатственную руку и на то, чтобы сократить число таинств, и хотя вначале протестанты показали немало разногласия в этом деле, но, наконец, согласились признавать за таинства, – разумеется, каждая секта в своем смысле, – только два: крещение и евхаристию. Из наших раскольников так называемые беспоповцы хотя не отрицают, что таинств установлено семь, но довольствуются только двумя, говоря: «довольно по нужде и двух– крещения и покаяния; без прочих обойтись можно».
3. Об условиях для совершения и действенности таинств. По учению Лютера, для совершения таинства вовсе не требуется законно поставленный священник или епископ, таинства могут быть совершаемы всяким клириком или мирянином, мужчиною и женщиною, и сохраняют свое значение и силу, как бы ни были совершены, хотя бы без всякого намерения (intentione) совершить, даже с насмешкою или мимически. Целая половина наших раскольников, составляющих беспоповщину, также предоставляют совершать таинства простым мирянам; а другая половина, под именем поповщины, предоставляют это хотя священникам, но священникам или запрещенным, или даже лишенным сана, и во всяком случае, бежавшим из православной церкви и отвергшимся от нее для соединения с раскольническою сектою. С другой стороны, древние донатисты, потом в XII веке вальденсы и альбигенсы, с XIV последователи Виклефа вдались в противоположную крайность, утверждая что для совершения и действенности таинств требуется не только законно поставленный священнослужитель, но именно священнослужитель благочестивый, и что таинства, совершенные порочными служителями алтаря, не имеют никакого значения. Наконец реформаты и лютеране измыслили учение, что действительность и действенность таинств зависят не от достоинства и внутреннего расположения совершителя таинств, а от расположения и от веры лиц, приемлющих таинства, так что таинство бывает таинством и имеет свою силу только во время самого принятия и употребления его с верою, а вне употребления или в случае принятия без веры не есть таинство и остается бесплодным (стр. 316—318).
Богословие не отвергает этих ложных учений, а приступает к изложению своего учения о таинствах каждом отдельно. Я рассмотрю отдельно каждое из так называемых таинств, но прежде необходимо указать на тот обман мнимого доказательства божественности установления таинств, который один и тот же в одинаковой форме будет прилагаться ко всем таинствам. Обман состоит в следующем. В определении таинства сказано, что это есть внешнее действие, сообщающее действительную благодать, т. е. особенную силу духовную, принимающему таинство. Потом сказано, что таинство, т. е. действие, сообщающее благодать принимающему, установлено Христом. И потом указывается на то, что Христос (и то только в одном случае, крещения) предписал верующим или ученикам известное внешнее действие, и из этого заключается, что Христос установил таинства, т. е. такие действия, которые, будучи производимы иерархией, сообщают верующим особенную духовную силу.
Обман состоит в том, что утверждается, будто Христос установил таинство, т. е. такое внешнее действие, которое сообщает внутреннюю благодать, правильнее говоря, что будто Христос установил догмат таинства, т. е. учение о том, что купание в воде или еда хлеба и питье вина сообщают душе купающегося или ядущего хлеб и пьющего вино какую-то особенную силу. Чтобы доказать установление Христом догмата таинств, нужно показать, что Христос приписывал тем внешним действиям, на которые указывает иерархия, те свойства, которые им приписывает иерархия, называя их таинствами. А на подобное понимание Христом таинств нет не только указания, но нет ни малейшего намека. Утверждая, что Христос велел купать или ужинать в его воспоминание, иерархия не имеет никакого основания утверждать, что Христос установил таинства крещения и евхаристии со всем тем значением, которое приписывает им иерархия и о котором в учении Христа нет и не могло быть намека.
Так, § 202 доказывает божественность установления крещения, как таинства, тем, что Христос сказал ученикам:
«Дадеся ми всяка власть на небеси и на земли. Шедше убо, научите вся языки, крестяще их во имя отца и сына и святого духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам: и се аз с вами есмь во вся дни до скончания века» (Матф. 28, 18—20). «Иже веру имет и крестится, спасен будет; а иже не имет веры, осужден будет» (Марк. 16, 16; снес. Посл. вост. патриарх. о прав. вере, чл. 15) (стр. 322).
Не говоря уже о том, что стихи Марка 16, 16—18 есть позднейшая прибавка к Евангелию, в которой находится также то соблазнительное место о том, что верующие могут брать змей и пить яд безвредно, если и допустить подлинность этого места, ни из него, ни из Мф. 28, 19 никак не вытекает то, чтобы крещение сообщало какую-либо особую силу крестящимся. Сказано у Матфея: крестить людей и учить их исполнять то, что велел Христос. У Марка сказано, что кто будет верить и крестится, тот спасется.
Где же тут установление таинства таким, каким оно определено богословием? Всё, что можно сказать по этим стихам Матфея и Марка в пользу обряда купанья, это то, что Христос для всех верующих в его учение избрал или, скорее, не отверг внешний, употреблявшийся Иоанном, его предшественником, знак купанья. Всё же, что подразумевается иерархией под невидимым действием крещения, всё это установлено ею, но никак не Христом. Это можно видеть из последующего изложения (§§ 203 и 204), в котором подробно описывается видимая и невидимая сторона таинства, на которое в свящ. писании нельзя найти никакого указания.
В § 203 – «Видимая сторона таинства крещения» – излагаются подробно правила о том, в чем купать, как купать, сколько раз окунать, кто должен купать и что при этом говорить. Доказывается, что те, которые не так делают, те – еретики, и что при отступлении от этих правил благодать не действует.
§ 204. «Невидимые действия таинства крещения и его неповторяемостъ». Здесь говорится:
В то самое время, как оглашенный св. верою видимо погружаем бывает в водах крещения, с произнесением слов: «крещается раб божий… во имя отца и сына и св. духа», благодать божия невидимо действует на всё существо крещаемого и 1) возрождает его или воссозидает… 2) очищает от всякого греха, оправдывает и освящает… 3) соделывает чадом божиим и членом тела Христова… 4) спасает от вечных наказаний за грехи и соделывает наследниками вечной жизни (стр. 331—333).
Всё это не имеет никаких оснований в учении Христа.
§ 205. «Необходимость крещения для всех; крещение младенцев; крещение кровью» (стр. 337). Доказывается, что необходимо крестить младенцев, потому что они поганы от прародительского греха, и если умрет некрещеный младенец, то он идет в ад; если же окрестится, то в рай. Всё это доказывается свящ. писанием.
§ 206. «Кто может совершать крещение, и что требуется от крещаемых» (стр. 344). Доказывается, что крестить должны священники; дьяконы могут иногда, и иногда могут и простые. Всё это доказано свящ. писанием. Чтоб креститься, нужна вера, опять та самая, о которой шла речь в параграфе о благодати и покаянии. Когда крестят младенцев, то за них произносить слова веры и отрекаться от дьявола должны восприемники.
Очевидно, что всё это установлено не Христом, а одной из многих разделившихся иерархий.
За крещением следует миропомазание.
§ 207. «Связь с предыдущим, место таинства миропомазания в ряду прочих, понятие об этом таинстве и его названия».
Чрез крещение мы рождаемся в жизнь духовную и чистыми от всякого греха, оправданными и освященными вступаем в благодатное царство Христово. Но как в жизни естественный человек, едва только родится в мир, уже имеет нужду в воздухе, свете и других внешних пособиях и силах для поддержания своего бытия, для постепенного укрепления себя и возрастания, так точно и в духовной жизни, вдруг по рождении человека свыше, ему необходимы благодатные силы духа святого, которые бы служили для него и духовным воздухом и светом, и при пособии которых он мог бы не только поддерживать свою новую жизнь, но и постепенно укрепляться в ней и возрастать. Эти-то «божественные силы, яже к животу и благочестию» (2 Петр. 1, 3), и подаются каждому, возродившемуся в крещении, чрез другое таинство церкви, чрез таинство миропомазания (стр. 347 и 348).
§ 208. «Божественное установление таинства миропомазания, его отдельность от крещения и самостоятельность». Доказывается, что миропомазание установлено Христом. Вот доказательства:
1. Евангельская история свидетельствует, что Христос-спаситель имел намерение и обетовал даровать верующим в него духа святого. «В последний день великий праздника, – говорит св. Иоанн Богослов, – стояше Иисус и зваше глаголя: аще кто жаждет, да приидет ко мне и пиет. Веруяй в мя, якоже рече писание, реки от чрева его истекут воды живы. Сие же рече о дусе, его же хотяху приимати верующие во имя его: не у бо бе дух святый, яко Иисус не у бе прославлен» (Иоан. 7, 37—39). Здесь, очевидно, речь о таких дарах духа святого, которые предлагаются, и, следовательно, необходимы вообще верующим в господа Иисуса, а не о дарованиях чрезвычайных, которые сообщаются только некоторыми из верующих для особых целей (1 Кор. 12, 29 и дал.), хотя и не упоминается, чрез какое видимое посредство будут преподаваемы всем верующим необходимые для них дары святого духа.
2. Книга Деяний апостольских повествует, что апостолы после того, как Иисус Христос был уже прославлен, действительно преподавали верующим в него духа святого, и преподавали именно чрез возложение рук. Таков, например, был случай следующий: «слышавше, иже во Иерусалиме апостолы, яко прият Самария слово божие, послаша к ним Петра и Иоанна. Иже сошедше, помолишася о них, яко да приимут духа святого. Еще бо ни на единого их бе пришел, точию крещени бяху во имя господа Иисуса. Тогда возложиша руце на ня, и прияша духа святого» (Деян. 8, 14—17). Отсюда совершенно ясно: а) что духа святого апостолы преподавали верующим не чрез крещение (в котором верующие только возрождаются или воссозидаются от духа мгновенно, не приемля его в себя навсегда), а чрез возложение рук на крестившихся; б) что чрез это возложение апостолы преподавали верующим дары духа святого, необходимые всем, приявшим крещение, а не дарования чрезвычайные, сообщаемые только некоторым; в) что это возложение рук, соединенное с молитвою к богу о ниспослании на крестившихся святого духа, составляло особенное тайно действие, отдельное от крещения, – и г) наконец, что это таинство, отдельное от крещения, имеет божественное установление: потому, что апостолы во всех своих словах и действиях при распространении евангельского учения были вдохновляемы духом святым, который наставлял их на всяку истину и воспоминал им всё, что заповедал им господь Иисус (Иоан. 14, 26; 16, 13). Подобное же читаем и о св. апостоле Павле: «Рече Павел (ученикам Иоанновым): аще убо дух свят прияли есте, веровавше; они же реша к нему: но ниже аще дух святый есть, слышахом. Рече же к ним: во что убо крестистеся; они же рекоша: во Иоанново крещение. Рече же Павел: Иоанн убо крести крещением покаяния, людям глаголя, да во грядущего по нем веруют, сиречь во Христа Иисуса. Слышавше же крестишася во имя господа Иисуса. И возложшу Павлу на ня руце, приидѳ дух святый на ня» (Деян. 19, 2—6) (стр. 349 и 350).
Усвоенный иерархией обман для уверения паствы, что Христос установил таинства, состоит, как мы видели, в том, чтобы в случае малейшего намека Христом или апостолами на какое-нибудь внешнее действие приписать этому действию несвойственное ему значение таинства и утверждать, что Христос установил таинство. Но этот обман имеет хоть какую-нибудь обманчивость только при крещении; при других же даже нет повода к обману, и иерархия должна выдумывать и самый повод, как она и делает в этом случае. Из того, что Христос сказал: «веруяй в мя, якоже рече писание, реки от чрева его истекут воды живы», из этого следует, что надо всех мазать маслом, и что это сообщает всем особую благодать.
И идет изложение догмата таинства.
§ 209. «Видимая сторона таинства миропомазания» (стр. 355). Видимая сторона та, что мажут маслом крестообразно и говорят слова. Всё это доказывается свящ. писанием.
§ 210. «Невидимые действия таинства миропомазания и его неповторяемостъ» (стр. 360). Невидимое действие то, что дух святой входит в того, кого мажут, и входят: 1) благодать, вразумляющая в истинах веры; 2) утверждающая в благочестии. Упоминается о том, что прежде от этого мазания начинали пророчествовать и говорить языками, теперь уже этого нет – только входит дух святой.
§ 211. «Кому принадлежит право совершать таинство миропомазания, над кем и когда оно должно быть совершаемо?» (стр. 364). Мазать может и священник, а не один только епископ. И потому католики неправы. И это очень подробно доказывается.
§ 212. «Связь с предыдущим, понятие о таинстве евхаристии, его превосходство и разные названия».
Через таинство крещения мы вступаем в благодатное царство Христово чистыми, оправданными, возрожденными для жизни духовной. В таинстве миропомазания приемлем в себя благодатные силы, необходимые для нашего укрепления и возрастания в жизни духовной. Наконец в таинстве евхаристии мы удостоиваемся для той же высокой цели вкушать спасительную пищу и питие – пречистую плоть и кровь нашего господа Иисуса, и преискренне соединяемся с самим «источником живота» (Пс. 35, 10) (стр. 369).
Это таинство, в котором мы преискренне соединяемся с богом, превосходит другие:
1) Преизбытком таинственности и непостижимости. В прочих таинствах непостижимо собственно то, что под известным видимым образом невидимо действует на человека благодать божия, а самое вещество таинств, например, в крещении – вода, в миропомазании – св. миро, остается неизменным. Здесь, напротив, изменяется самое вещество таинства: хлеб и вино, сохраняя один вид свой, чудесно претворяются в истинное тело и кровь нашего господа и потом уже, будучи приняты верующими, невидимо производят в них свои благодатные действия.
2) Преизбытком любви к нам господа и чрезвычайным величием дара, преподаваемого в этом таинстве. В других таинствах господь Иисус сообщает верующим в него те или другие частные дары спасительной благодати, сообразно с существом каждого таинства, – дары, которые он приобрел для людей своею крестною смертию. Здесь же он предлагает в снедь верным самого себя – собственное тело и собственную кровь, и верующие, соединяясь здесь непосредственно с своим господом и спасителем, соединяются, таким образом, с самим источником спасительной благодати.
3) Наконец – тем, что все другие таинства суть только таинства, спасительно действующие на человека; а евхаристия есть не только непостижимейшее и спасительнейшее из таинств, но вместе и жертва богу, – жертва, которая приносится ему за всех живущих и умерших, и умилостивляет его (Прав. испов., ч. I, отв. на вопр. 107; Посл. вост. патриарх. о правосл. вере, чл. 17) (стр. 369 и 370).
Учение об этом таинстве действительно отличается от всех других. Оно отличается прежде всего тем, что отступает уже совершенно от прежде данного определения таинств. Таинство это, по учению иерархии, не только 1) дает особенную силу принимающему, но оно представляет постоянно повторяющееся чудо; 2) дает на съедение бога; 3) есть жертва, которую сам бог приносит за себя, – все такие явления, которые не входят в первое определение.
По определению этого таинства, таинство это, кроме сообщения благодати принимающим его, есть еще превращение вещества, обращение бога в пищу людей и жертва богу, приносимая богом. Но это не смущает богословие; оно доказывает, что совершенно особенное таинство это установлено Христом.
§ 213. «Божественное обетование о таинстве евхаристии и самое установление». В доказательство того, что это таинство установлено Христом, приводится шестая глава Иоанна и слова о тайной вечери из Евангелия и Послания к коринфянам.
Рассматривая главу Иоанна, легко видеть, избегая всякого толкования и держась самого буквального смысла, что Христос говорит, что: он – его плоть и кровь – есть хлеб жизни, и что он дает этот хлеб жизни людям, и кто не будет есть этот хлеб, тот не будет иметь жизни. Христос обещает дать людям хлеб жизни, который он называет своею плотию и кровию, и, не говоря о том, что надо разуметь под его плотию и кровию, велит людям питаться этим хлебом. Из этих слов можно сделать тот вывод, что люди должны питаться тем хлебом, который Христос назвал своей плотью и кровью, что этот хлеб есть и должен быть и что потому люди должны искать этот хлеб, как он и сказал им; но никак нельзя сделать тот вывод, который делает церковь, – что этот хлеб есть печеный кислый хлеб и вино виноградное, не всякий хлеб и не всякое вино, но только такие, про которые нам скажут, что это именно тот самый хлеб и то самое вино, которые велел есть Христос.
Другое место, на котором основывается таинство евхаристии, это место Евангелия и Послания коринфянам, в которых сказано, что Христос сказал ученикам, прощаясь с ними: вот я ломаю хлеб и даю вино – это моя кровь и тело за вас. Ешьте и пейте все. Христос перед смертью говорит своим ученикам, преломляя хлеб и подавая им чашу: это вино и этот хлеб – моя плоть и кровь. Пейте теперь и потом делайте в мое воспоминание. Из этих слов можно сделать вывод о том, что Христос, прощаясь с учениками, сказал им, что он умирает за людей и им велит делать то же, т. е. так же, как и он, отдавать свое тело и кровь людям; можно вывести, что он велел им при преломлении хлеба и поднесении вина вспоминать его; можно, если держаться самого буквального смысла о плоти и крови, вывести то, что он сделал чудо перед учениками и дал им в виде хлеба и вина есть и пить свое тело и кровь; можно даже вывести то, что он ученикам велел делать такое же чудо, т. е. из вина и хлеба делать свое, т. е. каждого ученика, тело и кровь; можно, пожалуй, даже вывести самое далекое – что он велел им делать чудо: из вина и хлеба делать его, Христа, кровь и плоть; но ни в каком случае нельзя вывести того, что выводит церковь: что не одни ученики, к которым он обращался, а некоторые люди в известное время и при известных условиях должны делать подобие этого чуда и должны верить и уверять других, что вино и хлеб, которые они предлагают, есть самое тело и кровь Христа и что, принимая этот хлеб и вино с уверенностью, что это кровь и тело, люди спасаются. Этого вывода, который делает иерархия, уже никак нельзя сделать, тем более, что иерархия утверждает, что многие делают это чудо неправильно, узнать же, когда это чудо делается и когда не делается, невозможно, ибо признака этого чуда нет другого, кроме веры в то, что оно делается.
Впрочем, доказывать неразумность и произвольность этого таинства излишне. Стоит только проследить вместе с богословием до тех выводов, к которым оно приходит, признав такое понимание, чтобы бессмысленность этого таинства, а главное и кощунственность его стали очевидны.
§ 214. «Видимая сторона таинства евхаристии» (стр. 375). Видимая сторона таинства состоит: 1) из вещества употребляемого, 2) священнодействия и 3) слов произносимых. При этом хлеб должен быть пшеничный, чистый и квасной. О том, что хлеб не пресный – пять страниц доказательств. Вино должно быть виноградное. Описаны все манипуляции, которые должен делать при этом священник, проскомидия и литургия, и слова, которые надо говорить при этом. Сказано и то, какие из этих слов самые важные.
§ 215. «Невидимое существо таинства евхаристии: а) действительность присутствия Иисуса Христа в сем таинстве» (стр. 387). Невидимое действие то, что не символически, как говорят такие-то, не преизбытком благодати, как говорят такие-то, не существенно (ὑποστατικώς), не чрез проницание хлеба, —
но истинно и действительно, так что, по освящении хлеба и вина, хлеб прелагается, пресуществляется, претворяется, преобразуется в самое истинное тело господа, которое родилось в Вифлееме от приснодевы, крестилось во Иордане, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сидит одесную бога отца, имеет явиться на облаках небесных (стр. 387).
Так и именно так надо верить. Идут споры. Все неправы, а —
Учение православной церкви о действительности присутствия Иисуса Христа в таинстве евхаристии имеет непоколебимые основания как в свящ. писании, так и в свящ. предании (стр. 388).
Вот образец доказательств того, что действие это надо понимать, как понимает его церковь:
Значение евхаристии. Установляя ее, господь установлял величайшее таинство Нового Завета, которое заповедал совершать во все времена (Лук. 22, 19, 20). Но и важность таинства, необходимого для нашего спасения, и свойства завета, или завещания, и свойство заповеди равно требовали, чтобы при этом речь была употреблена самая ясная и определенная, которая бы не повела ни к каким недоразумениям или обману в столь важном деле (стр. 392).
§ 216. «Образ и следствия присутствия Иисуса Христа в таинстве евхаристии».
I. Если это присутствие, как мы видели, состоит в том, что по освящении св. даров в евхаристии находятся и преподаются верующим уже не хлеб и вино, а истинное тело и истинная кровь господа, то, значит, он присутствует в сем таинстве не так, будто только проницает (по лжеучению лютеран) хлеб и вино, остающиеся в целости, и только сопребывает с ними, в них, под ними (in, cum, sub раnе) своим телом и кровию, но так, что хлеб и вино прелагаются, пресуществляются, претворяются в самое тело и самую кровь его (Прав. исп., ч. I, отв. на вопр. 56; Посл. вост. патриарх. о прав. вере, чл. 17) (стр. 399).
II. Хотя хлеб и вино в таинстве евхаристии претворяются собственно в тело и кровь господа, но он присутствует в сем таинстве не одним телом своим и кровию, но всем существом, т. е. и душою своею, которая нераздельно соединена с его телом, и самым божеством своим, которое ипостасно и нераздельно соединено с его человечеством…
III. Хотя тело и кровь господа раздробляются в таинстве причащения и разделяются, но собственно это бывает только с видами хлеба и вина, в которых тело и кровь Христовы и видимы и осязаемы быть могут, а сами в себе они совершенно суть целы и нераздельны…
IV. Равным образом, хотя таинство евхаристии совершалось и совершается в бесчисленных местах вселенной, но тело Христово всегда и везде одно, и кровь Христова всегда и везде одна, и повсюду в сем таинстве всецело присутствует один и тот же Христос, совершенный бог и совершенный человек…
V. Если хлеб и вино чрез таинственное освящение пресуществляется в истинное тело и кровь Христа-спасителя, то значит, со времени освящения св. даров он присутствует в этом таинстве постоянно, т. е. присутствует не только при самом употреблении и принятии таинства верующими, как утверждают лютеране, но и до употребления и после употребления: ибо хлеб и вино, пресуществившись в тело и кровь Христову, уже не прелагаются в прежнее свое естество, а остаются телом и кровию господа навсегда, независимо от того, будут ли, или не будут они употреблены верующими…
VI. Если хлеб и вино в св. и животворящих тайнах суть истинное тело и истинная кровь господа Иисуса, то сим тайнам надлежит воздавать ту же честь и боголепное поклонение, какими мы обязаны самому господу Иисусу (стр. 399—404).
§ 217. «Кто может совершать таинство евхаристии; кто – причащаться сему таинству, и в чем должно состоять приготовление к нему?» (стр. 406).
Власть совершать это таинство принадлежит епископам. Епископы передают власть пресвитерам, но дьяконы не могут; миряне тоже не могут. Причащаться же все могут. Могут и младенцы; об этом спор.
§ 218. «Необходимость причащения евхаристии, и именно под обоими видами, и плоды таинства» (стр. 409).
Причащаться должны все. Доказательства. Причащаться надо и хлебом и вином, а не одним хлебом. Опять спор и доказательства.
Из-за этого спора сожжен Гус и замучены его последователи. Я отмечаю только словами спор и доказательства. Но, боже мой! что бы за ужасная книга была та история богословия, которая бы рассказала все эти насилия, обманы, муки, убийства, которые происходили из-за каждого из этих споров. Всё это так кажется неважно, только смешно, когда читаешь теперь описание этих споров; но сколько зла они внесли в мир!
§ 219. «Евхаристия как жертва: а) истинность или действительность сей жертвы».
Веруя и исповедуя, что святейшая евхаристия есть истинное таинство, православная церковь верует также и исповедует, вопреки заблуждениям протестантов, что евхаристия есть вместе истинная, действительная жертва, т. е. что в евхаристии тело и кровь нашего спасителя как, с одной стороны, предлагаются в снедь людям, так, с другой, приносятся за людей в жертву богу (Прав. исп., ч. I, отв. на вопр. 107) (стр. 417).
§ 220. «Отношение сей жертвы к жертве крестной и свойства».
Жертва, приносимая богу в таинстве евхаристии, по существу своему совершенно одна и та же с жертвою крестною (стр. 422).
Далее говорится о том, что жертва эта имеет свойство умилостивить бога и поэтому надо поближе к ней и поскорее после нее поминать людей. Бог от этого поможет этим людям.
Так как бескровная жертва имеет силу умилостивлять и преклонять к нам бога, то, естественно, она сильна испрашивать нам у бога и разные блага, и, следовательно, будучи умилостивительною, есть вместе просительная или ходатайственная. Посему св. церковь, совершая бескровное жертвоприношение, не только молит бога о помиловании за грехи и о спасении живых и умерших, но испрашивает у него разнообразных даров, духовных и телесных, благопотребных для человека в жизни (стр. 427).
Этим кончается изложение таинства евхаристии. Оно заняло восемьдесят страниц. Всё, что было тут изложено, весь этот кощунственный бред, всё это основано Иисусом Христом.
Падение совершается с ужасающей быстротой. Падение с высоты вопросов в болото непостижимейших суеверий. Первое падение было тогда, когда признано было, что бог искупил нас, второе – что благодать сообщается нам видимым образом, и теперь последнее, когда описываются действия этой благодати. Ниже идти некуда. В чем разница между чувашином, мажущим сметаной своего бога, и православным, торопящимся подать 5 копеек, чтобы имя его помянули в известном месте и в известное время?
Далее следует таинство покаяния.
§ 221. «Связь с предыдущим, понятие о таинстве покаяния и его разные названия».
В трех спасительных таинствах церкви, доселе нами рассмотренных, преподается человеку всё обилие духовных дарований, необходимых для того, чтобы он мог соделаться христианином и, соделавшись, преуспевать в христианском благочестии и достигнуть вечного блаженства. Крещение очищает грешника от всех его грехов, первородного и произвольных, и вводит в царство благодати Христовой. Миропомазание сообщает ему божественные силы для укрепления и возрастания его в благодатной жизни. Евхаристия питает его божественною пищею и соединяет с самим источником жизни и благодати. Но так как совершенно очистившись от всех грехов в купели крещения, человек не освобождается от следствий прародительского греха и наследственной порчи, каковы: в душе – удобопреклонность ко злу, а в теле – болезни и смерть (§§ 91, 93); так как и после крещения, будучи уже христианином, он снова может грешить, даже очень часто (1 Иоан. 1, 8, 10), может подвергаться болезням, иногда очень тяжким, приближающим к могиле, то всеблагому господу угодно было установить в церкви своей еще два таинства, как два спасительных врачества для немощных ее членов: таинство покаяния, врачующее наши немощи духовные, и таинство елеосвящения, простирающее свои спасительные действия и на немощи наши телесные (стр. 427, 428).
Отчего же только на немощи телесные? Ведь сказано, что искупление избавило людей от греха, болезней и смерти, а действительным это избавление становится через таинство елеосвящения. Стало быть, елеосвящение должно уничтожать болезнь и смерть. Но для богословия закон не писан. Елеосвящение, как будет видно потом, действует против болезней и смерти, но немножечко.
Покаяние, понимаемое в смысле таинства, есть такое священнодействие, в котором пастырь церкви силою духа святого разрешает кающегося и исповедующегося христианина от всех грехов, совершенных им после крещения, так что христианин снова делается невинным и освященным, каким он вышел из-под крещения (стр. 428).
С точки зрения церкви, в таинстве этом важно не то смирение, с которым кающийся приступает к нему, не та поверка себя, а важно одно то очищение от грехов, которое какою-то мнимой властью дает иерархия. Я даже удивляюсь, для чего церковь не уничтожит совсем это таинство, заменив его тою отпустительной молитвой, которую они ввели и которую говорят над мертвыми: «аз, недостойный, властью мне данной, отпускаю тебе грехи». Церковь видит только это внешнее, мнимое очищение и только о нем заботится. То есть видит только внешнее действие, которому она приписывает целебное значение, то же, что происходит в душе кающегося, это для нее неважно. Если и есть прибавленные рассуждения о том, как должен приступать кающийся к таинству, то это только между прочим, и это не есть необходимое условие, при котором совершается мнимое очищение. Всё дело в этом мнимом очищении, на которое имеет власть иерархия. Доказывается, как и о всех таинствах, что оно установлено Христом, но, как и во всех таинствах, нет ни малейшего доказательства на то, что Христос, говоря слова, которые он говорил, как бы мы их ни понимали, имел в виду таинство.
§ 222. «Божественное установление и действительность таинства покаяния» (стр. 429). Для доказательства этой мнимой власти приводятся слова Евангелия Матфея (18, 17, 18), которые толкуются так, что «пастыри всегда пользовались богодарованным правом вязать и решать». Иерархия понимает эти слова так, что иерархии дана власть прощать грехи. И всё основывается на следующей беседе Христа: «Аще и церковь преслушает, буди тебе яко язычник и мытарь. Аминь бо глаголю вам, елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси; и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех» (Мф. 18, 17, 18).
Если брат согрешил против тебя (эти слова иерархия пропускает для своего толкования), уговори его с глазу на глаз, потом вдвоем, потом в собрании, если же он и то не послушается, то ты сделал всё, что мог: ты развязал грех. А если бы ты этого не сделал, то бы оставил грех на земле. Что свяжете на земле, то будет связано на небе; что развяжете на земле, то будет развязано на небе.
Это-то ясное место, данное в поучение всем людям, только потому, что тут употреблено слово ἐκκλησία (собрание), получившее другое значение впоследствии, толкуется навыворот и представляется подтверждением какой-то мнимой власти иерархии отпускать грехи.
Но положим, противно тексту и здравому смыслу, что слова эти обращены Христом не ко всем людям, а к ученикам только: положим, что он дал им власть прощать грехи; каким образом вытечет из этого таинство покаяния, делающее невинным того, кто принимает его? Опять та же уловка: установленное гораздо после Христа таинство, о котором в его время никто не мог иметь понятия, приписывается Христу. И идет изложение правил этого таинства.
§ 223. «Кто может совершать таинство покаяния и кто приступает к нему» (стр: 431). Совершать это таинство, т. е. прощать грехи, могут только священники.
§ 224. «Что требуется от приступающих к таинству покаяния?» (стр. 433). Приступая к покаянию, нужно иметь: 1) сокрушение о грехах. Описано даже, какое должно быть это сокрушение:
Что же касается до свойств сокрушения о грехах, то надобно заботиться, чтобы оно проистекало не из страха только наказаний за грехи, не из представлений вообще одних гибельных для нас последствий от них в настоящей и будущей жизни, а преимущественно из любви к богу, которого волю мы нарушили, из живейшего сознания, что мы оскорбили грехами своего величайшего благодетеля и отца; явились неблагодарными пред ним, соделались недостойными его (стр. 435).
2) Намерение больше не грешить. 3) Вера. 4) Устное исповедание грехов (стр. 436 и 437). И тогда священник говорит:
«Господь и бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит ти, чадо, вся согрешения твоя, и аз, недостойный иерей, властию его, данною мне, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя отца и сына и св. духа. Аминь» (стр. 440).
И тогда человек очищается.
«Весьма полезно и необходимо, чтобы виновность грехов прежде последнего дня была разрешаема священническою молитвою» (стр. 441).
Но не сказано, что же бывает тогда, когда нет того сокрушения, какое нужно, не бывает твердого намерения не грешить и твердой веры, а священник дает отпущение. А такого сокрушения, какое нужно, такого намерения не грешить и веры, как мы знаем, никогда не бывает. Так что из описания этого таинства церковью, считающей всю сущность его в мнимой власти отпущения грехов иерархией, выходит какая-то игрушка, насмешка или, по крайней мере, бессмысленное действие.
§ 225. «Видимая сторона таинства покаяния, невидимые его действия и их обширность» (стр. 440).
Здесь доказывается, что нет того греха, который бы не мог быть прощен иерархией, кроме того, чтобы не верить тому, чему учит иерархия.
§ 226. «Епитимии, их происхождение и употребление в церкви».
1. Под именем епитимий (ἐπιτιμία) разумеются запрещения или наказания (2 Кор. 2, 6), которые, по правилам церковным, священнослужитель, как духовный врач, определяет некоторым из кающихся христианам для уврачевания их нравственных болезней (стр. 443).
Власть эту получила иерархия от бога.
§ 227. «Значение епитимий». § 228. «Несправедливость учения римской церкви об индульгенциях».
На двадцати двух страницах излагается спор с католиками об епитимиях и индульгенциях. Епитимии – это наказания исправительные, а не наказания возмездия. Всё это доказывается свящ. писанием против католиков, доказывающих обратное свящ. писанием. Об индульгенциях же вопрос состоит в следующем: Христос искупил род человеческий с барышом, остался остаток; кроме того, святые прикопили своей хорошей жизнью еще к этому остатку. Так что набралось добра порядочно. Все эти барыши находятся в распоряжении церкви. Вот этими-то барышами, которых уже девать некуда, церковь, руководимая всегда св. духом, и платит богу за грехи своих членов. А члены ей за это платят уже не чем-нибудь таинственным, а просто деньгами. Так вот это учение тут не то что оспаривается, но исправляется. То, что церковь распоряжается этим капиталом и этим-то самым капиталом и уплачивает за грехи людей, прощая их им в таинстве покаяния, в этом и наша иерархия согласна; но спор идет о том, может ли церковь и глава ее совершенно произвольно прощать эти грехи без покаяния самого грешника? Католики говорят, что может, наши говорят, что не может. Смыслу, разумеется, нет ни в том, ни в другом утверждении, как нет человеческого смысла и в самом вопросе, но как в этом случае, так и во многих других спорах с католиками и протестантами наша иерархия если имеет какой-нибудь отличительный характер, то характер глупости и совершенного неумения выражаться по законам логики. Так и в этом споре. Католики по логике правее. Если церковь может прощать своей властью и церковь всегда свята, то почему же ей и не прощать разбойников, как они все и делают.
За этим идет таинство елеосвящения.
§ 229. «Связь с предыдущим, понятие об елеосвящении и его названия».
Таинство покаяния, как благодатное врачество, предназначено для всех христиан, но только для исцеления одних болезней их духовных. Таинство елеосвящения есть другое спасительное врачество, предназначенное для христиан, больных по самому телу, и имеющее целью врачевать не одни болезни их духовные, но и телесные (стр. 467).
Вот тут как раз случай, подтверждающий то, что я не раз говорил о характеристической черте нашей церкви – глупости. Сказано и прежде, и теперь, что покаяние исцеляет душу от грехов, а елеосвящение – тело от болезней и смерти. Так надо же как-нибудь объяснить то, что елеосвящение не излечивает ни от болезней, ни от смерти. Нельзя этого скрыть, что нет такого исцеления. Про душу можно говорить, что хочешь, а тут нельзя: дело на виду. Или не надо говорить, что исцеляет от смерти, или придумать что-нибудь. Католики – те связаны логикой и потому решили, что таинство это преподается только в виде напутствия таким больным, которые находятся при смерти, и называют его последним помазанием. Но наша церковь не отрекается от того, что оно не исцеляет болезней и ничего не придумывает, чтобы скрыть это, а, как всегда, выходит из затруднения тем, что говорит: исцелять – исцеляет, но отчасти, немножечко и иногда.
Следуют доказательства божественности установления.
§ 230. «Божественное установление таинства елеосвящения и его действительность» (стр. 468). Для доказательства основания этого таинства Иисусом Христом не оказывается ни одного намека даже во всех Евангелиях. Но это не мешает богословию утверждать, что оно основано богом, потому что Иаков в одном письме своем говорит:
«Злостраждет ли кто в вас, да молитву деет; благодушествует ли кто, да поет»; непосредственно продолжает: «болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковные, и да молитву сотворят над ним, помазавши его елеем во имя господне. И молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его господь; и аще грехи сотворил есть, отпустятся ему» (Иак. 5, 14, 15). Из этих слов равно открывается и божественное установление елеосвящения и действительность его, как таинства.
Божественное установление. Ибо, с одной стороны, очевидно из связи речи, что апостол говорит об елеопомазании не как о чем-то новом, чего прежде не знали христиане, а только указывает им на это врачебное средство, как уже на существовавшее и общеизвестное между ними, которым и заповедует пользоваться в случае болезней. С другой же стороны, несомненно, что св. апостолы ничего не проповедовали сами от себя (Гал. 1, 11, 12), но учили только тому, что заповедал им господь Иисус (Матф. 28, 20) и что внушал дух божий (Иоан. 16, 13); известно, что они называли себя «слугами Христовыми» и только «строителями», а не установителями тайн божиих (1 Кор. 4, 1). Следовательно, и елеосвящение, заповедуемое здесь св. апостолом Иаковом христианам, как таинственное врачество от болезней телесных и душевных, заповедано самим господом нашим Иисусом Христом и духом божиим. Когда именно установил господь это таинство, в писании не находим, так как многое, чему учил и что совершил он на земле, не предано письмени (Иоан. 21, 25). Но всего естественнее думать, что это таинство, как и два другие (крещение и покаяние), чрез которые даруется отпущение грехов, господь установил уже по воскресении своем, когда «дадеся ему всяка власть на небеси и на земли» (Матф. 28, 18) и когда он «деньми четыредесятьми» являлся апостолам и «глаголал» им «яже о царствии божии» (Деян. 1, 3), т. е. об устроении своей св. церкви, существеннейшую часть которого и составляют таинства (стр. 468 и 469).
Больше доказательств нет. Поразительно, что само богословие признается, что не только оснований (оснований нет никакому таинству), но нет даже ни малейшего повода для этого таинства; но для порядка доказывает и про него, что оно основано богом.
Следует § 231. «Кому и кем может быть преподаваемо таинство елеосвящения» (стр. 473). Говорится, что можно мазать всех больных, а не только умирающих, как католики, и что мазать могут священники. Епископы могут. Лучше всего, чтобы мазало семь священников, но могут и три, и один.
§ 232. «Видимая сторона таинства елеосвящения и его невидимые благодатные действия» (стр. 475).
Видимая сторона состоит в том, чтобы мазать и приговаривать молитвы, а невидимая сторона – какая вы думаете? Невидимая сторона – «исцеление немощей телесных».
Для больных телом собственно предназначено таинство елеопомазания; потому уврачевание телесных болезней и составляет самый первый благодатный плод этого таинства (стр. 475).
Параграф назван: «видимая сторона», а тут говорится о невидимом исцелении, так как его, как известно, не бывает от елеосвящения. Но это не стесняет богословие, и оно прямо и говорит, что исцеление бывает, но невидимое.
Не всегда бывает это действие от елеосвящения? Правда. Но – а) иногда действительно бывает, и больной мало-помалу выздоравливает совершенно и восстает с одра болезни. Еще чаще – б) опасно-больной получает по крайней мере временное облегчение от болезни или подкрепление и возбуждение к перенесению ее – а это есть также цель таинства елеосвящения, потому что глагол ἐγείρα означает не только – воздвигаю, но и возбуждаю, одушевляю, подкрепляю. Иногда же – в) приемлющие таинство елеосвящения не получают от него уврачевания болезней, может быть потому же, почему и приемлющие таинство евхаристии, вместо спасительных от него плодов, только «суд себе ядят и пиют» (1 Кор. 11, 29) – т. е. по своему недостоинству, по отсутствию живой веры в господа Иисуса, по жестокосердию. Наконец – г) желать или требовать, чтобы всякий раз, как только человек удостаивается елеосвящения, он исцелялся от своих болезней, значило бы требовать, чтобы он вовсе не умирал, а это противно самому плану нашего восстановления, по которому нам необходимо сложить с себя это греховное, мертвенное тело, чтобы со временем, по ту сторону гроба, облещися в бессмертное. Посему, приступая к таинству елеосвящения, всякий болящий должен всецело предаваться в волю господа, который лучше нас знает, кому полезнее ниспослать исцеление от болезни и продолжить жизнь и кому благовременно прекратить ее (Прем. 4, 11) (стр. 475 и 476).
Так зачем же было говорить об исцелении от болезней и смерти?
Итак, первое видимое действие есть невидимое исцеление; второе есть исцеление немощей душевных.
После этого отвергается учение католиков, придавшее хоть какой-нибудь смысл таинству, отвергается то, что это таинство есть предсмертное напутствие. Вот это-то есть пятое таинство, установленное богом.
«О таинстве брака». § 233. «Связь с предыдущим; брак, как установление божие, и его цель; понятие о браке, как таинстве, и его названия».
1. Три таинства православной церкви – крещение, миропомазание, причащение – предназначены для всех людей, чтобы каждый мог соделаться христианином и потом преуспевать в христианском благочестии и достигнуть вечного спасения. Два другие таинства – покаяние и елеосвящение – предназначены для всех христиан, как два спасительные врачества, одно от болезней душевных, а другое от болезней телесных и вместе душевных. Но есть еще два таинства, учрежденные господом, которые если не предназначены и необязательны для всех людей, если не необходимы для каждого из членов церкви непосредственно, зато необходимы для целей церкви вообще, для ее существования и процветания. Это – а) таинство брака, сообщающее известным лицам благодать к естественному рождению детей, будущих чад церкви, и – б) таинство священства, сообщающее также особым лицам благодать к сверхъестественному рождению чад церкви и воспитанию их для жизни вечной (стр. 478 и 479).
Но ведь таинство, по своему определению, есть «священное действие, которое под видимым образом сообщает душе верующего невидимую благодать божию» (стр. 315). А естественное рождение детей не есть невидимая благодать. Кроме того, при определении таинства сказано далее:
«Для совершения таинства требуются три вещи (πράγματα): приличное вещество, как то: вода для крещения, хлеб и вино для евхаристии, елей и другие, сообразные с таинством» (стр. 316).
Тут никакого вещества не нужно.
Брак, очевидно, не подходит под определение таинства и вообще отличается от всех других таинств той существенной чертой, что во всех других таинствах, включая и священство, под таинством разумеются внешние действия, совершаемые при чем-то мнимопроисходящем, ни с чем действительным не связанным и совершенно не нужным, тогда как здесь таинством называют известные внешние действия, совершаемые при настоящем и самом важном в человеческой жизни акте. От этого и такая особенность определения и такая запутанность во всем последующем. Говорится:
Брак можно рассматривать с двух сторон: как закон природы или установление божие и как таинство новозаветной церкви, освящающее ныне, по падении человека, этот закон (стр. 479).
Освящающее таинство вот в чем состоит:
Чтобы освятить, возвысить и укрепить закон брака, который сам по себе свят и чист по своему происхождению от бога и по своим целям, но вследствие расстройства человеческой природы подвергся зловредному влиянию греха и многочисленным искажениям со стороны людей, предавшихся чувственности, господь Иисус благоволил установить в церкви своей особое таинство – таинство брака. Под именем этого таинства разумеется такое священнодействие, в котором лицам брачущимся, по объявлении ими перед церковию обета взаимной супружеской верности, преподается свыше, чрез благословение священнослужителя, божественная благодать, освящающая их брачный союз, возвышающая его в образ духовного соединения Христа с церковию и потом содействующая им к благословенному достижению всех целей брака (стр. 481 и 482).
То есть что при законе брака, который сам по себе свят, иерархия находит нужным еще освящать его.
§ 234. «Божественное установление таинства брака и его действительность». Оснований таинству брака, как таинству, очевидно, нет и не может быть в Евангелиях; нет даже и повода, к которому бы можно было прицепиться, и потому избирается из Евангелий то место, в котором употребляется слово «брак». И это место о браке в Кане Галилейской, не имеющее ничего общего не только с установлением, но даже с благословением, с одобрением брака, принимается за основание. Богословие само чувствует, как и в елеосвящении, что не к чему прицепиться, и потому говорит:
Когда и как господь установил таинство брака, – тогда ли, когда присутствовал на браке в Кане Галилейской (Иоан. 2, 1—11), или когда по поводу известного вопроса фарисеев раскрывал истинное понятие о браке и сказал: «еже убо бог сочета, человек да не разлучает» (Матф. 19, 3—12), или уже по воскресении своем, когда «деньми четыредесятьми» являлся ученикам своим и глаголал им «яже о царствии божии», т. е. о том, что относилось к устроению его церкви (Деян. 1, 3), Евангелия не упоминают: так как «и ина много, яже сотвори Иисус, не суть писана в книгах сих» (Иоан. 20, 30; 21, 26) (стр. 482—483).
Но поэтому это считается доказанным.
§ 235. «Видимая сторона таинства брака и невидимые действия». Видимая сторона брака та, что жених и невеста обещаются быть мужем с женой, а священник приговаривает. Невидимая сторона: 1) освящает союз, как Христос с церковью, 2) скрепляет, как Христос с церковью, 3) содействует исполнять обязанности, как Христос с церковью. Неожиданно вводится для чего-то сравнение Христа с церковью – с мужем и женой, и в этом полагается невидимая сторона таинства брака.
§ 236. «Кто может совершать таинство брака и что требуется от приступающих к этому таинству?» Совершать брак могут попы, а жениться могут православные или если один православный. Все же остальные не женятся, а только совокупляются.
§ 237. «Свойства христианского брака, освящаемого таинством». Жениться можно только на одной. И разводиться можно только в случае прелюбодеяния. И это всё считается таинством, основанным самим богом.
§ 238. «О таинстве священства». «Связь с предыдущим; священство как особое богоучрежденное служение в церкви (иерархия) и его три степени, понятие о священстве как таинстве».
Излагая доселе учение о таинствах, мы о каждом из них замечали, что оно может быть совершаемо и преподаваемо верующим только пастырями церкви, епископами и пресвитерами. Но для того, чтобы люди могли соделываться пастырями Христовой церкви и получать власть совершать таинства, господь учредил еще особое таинство – таинство священства (стр. 493).
Действительно, не говоря уже о том, что из всех шести таинств до сих пор ни одно таинство, как известно, не было основано Христом, что про четыре из них: миропомазание, покаяние, елеосвящение и брак – даже не было найдено ни малейшего намека, все таинства, даже по определению церкви, становятся таинствами только тогда, когда они производятся пастырями церкви, т. е. истинными пастырями, и потому все предшествующие таинства в сущности зиждутся на этом таинстве священства. Если это таинство не есть таинство и происхождение его не может быть доказано, то и все остальные таинства пали бы сами собой, если бы действительность их даже была доказана. Говорится дальше:
Священство понимается в двояком смысле: как особое сословие людей, особое служение в церкви, известное под именем иерархии (священноначалия), и как особое священнодействие, чрез которое посвящаются и поставляются люди в это служение. В первом смысле священство мы уже рассматривали и видели: а) что сам господь учредил иерархию, или чин пастырей, которых одних только уполномочил быть учителями в церкви, священнодействователями и духовными управителями, а отнюдь не предоставил сего всем верующим (стр. 494).
Таинства могут производить только священники, но чтобы быть священником, надо, чтобы над ним было произведено таинство священства.
В предшествующих параграфах было сказано, что всякое из таинств недействительно, если производится не настоящим священником. В разъяснениях было много говорено о еретических учениях, имеющих ложное священство. Вся сила, следовательно, не только одного этого таинства, но и всех остальных в том, чтобы были ясные доказательства того, что священство установлено Христом, установлена передача этого священства и что в числе многих существующих самозванных священств то, о котором идет речь, есть одно истинное.
И вот § 239 – «Божественное установление и действительность таинства священства» – доказывает, что это таинство от бога.
Доказательств установления этого таинства не только нет, но, как в таинствах миропомазания и елеосвящения, нет на это таинство ни малейшего намека во всех Евангелиях. Доказательства следующие:
Божественное установление таинства священства видно из действий св. апостолов, которые сами, по наставлению от духа святого, воспоминавшего им всё, что заповедал господь Иисус (Иоан. 14, 26), совершали это таинство и чрез возложение рук возводили на все три степени иерархии (стр. 494 и 495).
Далее идут доказательства отцов и соборов. Так что очевиднее, чем даже во всех других таинствах, то, что это таинство, совершенно независимо от учения Христа, выдумано иерархией.
Идет изложение таинства.
§ 240. «Видимая сторона таинства священства, его невидимые действия и неповторяемость». Видимая сторона таинства состоит в том, чтобы руки положить на голову и приговаривать слова.
Невидимое действие таинства священства состоит в том, что чрез него, по молитве, действительно сообщается рукополагаемому божественная благодать, соответствующая его будущему служению, благодать священства (стр. 498).
Важность таинства следующая:
«Если кто размыслит, сколь важно то, чтобы, будучи еще человеком, обложенным плотию и кровию, присутствовать близ блаженного и бессмертного естества, то увидит ясно, какой чести удостоила священников благодать духа. Ими совершается жертвоприношение, совершаются и другие высокие служения, относящиеся к достоинству и спасению нашему. Еще живут и обращаются на земле; а поставлены распоряжать небесным и получили власть, которой не дал бог ни ангелам, ни архангелам»…
«Кто дает благодать епископства: бог или человек? Без сомнения, ответишь: бог. Но бог дает ее чрез человека. Человек возлагает руки, а бог изливает благодать; священник возлагает смиренную десницу, а бог благословляет всемощною десницею; епископ посвящает в сан, а бог сообщает достоинство».
Надобно заметить, что благодать священства хотя одна, но сообщается чрез таинство в различной степени: в меньшей степени диакону, в большей пресвитеру, еще в большей епископу, соответственно самому служению их в церкви, так что, по силе полученных чрез рукоположение дарований, епископ есть и главный учитель, и первый священнодействователь, и главный правитель, или архипастырь, в своей частной церкви; пресвитер, получая всю власть свою чрез рукоположение от епископа, имеет власть учить, священнодействовать и духовно управлять только в своем приходе и в зависимости от епископа, а диаконы суть только способники и сослужители епископам и пресвитерам в их служении церкви, сами же по себе не имеют власти ни учить, ни священнодействовать, ни управлять.
Благодать священства, сообщаемая чрез рукоположение, хотя в различной степени, диаконам, пресвитерам и епископам и облекающая их известною мерою духовной власти, обитает в душе каждого из них неизменно: почему ни епископ, ни пресвитер, ни диакон в другой раз не рукополагаются в тот же сан, и таинство священства считается неповторяемым (стр. 498, 499, 500).
Излагаются споры об этом.
§ 241. «Кто может совершать таинство священства и что требуется от приступающих к нему?»
По учению православной церкви, власть рукополагать в священнические степени принадлежит только непосредственным преемникам апостолов, епископам (стр. 501).
И идут продолжительные споры о том, когда это рукоположение действительно и когда недействительно. Священниками могут быть:
1) …христиане православные…
2) Должны быть люди, испытанные в слове веры и в житии, сообразном правому слову (Лаодик. соб. прав. 12): «якоже божии строители» (Тит. 1, 7), которые призываются учить других вере словом и житием (1 Тим. 3, 2; 4, 12). Посему в законоположении церкви постановлено: а) ищущий священнического достоинства должен знать св. писание и церковные правила, чтобы самому исполнять их и наставлять в них вверенную паству…
3) Должны быть, если избираются в сан епископа, свободными от уз брака; если же избираются в сан пресвитера или диакона, то могут, по желанию, находиться и в брачном состоянии (стр. 503—504).
И идет еще спор о безбрачии. Но вопрос о том, чем доказывается то, что наша иерархия есть истинная преемница апостолов, а не одна из других иерархий, считающих себя такою, – об этом даже и не упоминается. Так что из всех таинств то самое, на котором основываются все другие, не только не доказано, не определено, но введено совершенно произвольно, без малейшего основания и, что еще важнее, без малейшего признака, по которому бы можно было отличить это таинство от подобия его.
За этим следует отдел, называемый: «Общие замечания о таинствах». В этих общих замечаниях излагается:
§ 243. «О существе таинств».
Таинства не суть только знаки божественных обетований для возбуждения веры в людях, не суть простые обряды, отличающие христиан от не-христиан, не суть одни символы духовной жизни и тому подобное, как мудрствуют неправомыслящие (§ 200); а суть священнодействия, которые под видимым каким-либо образом действительно сообщают верующим невидимую благодать божию, суть «орудия, которые необходимо действуют благодатию на приступающих к оным» (стр. 508).
§ 244. «О седмеричном числе таинств». Доказывается, что таинств именно семь. Из доказательств этих ясно обозначается совершенно противное.
После этого не должно соблазняться тем, если некоторые древние учители, по требованию нужды, или сообразно с избранною ими целию, или по другим причинам, говорят в своих писаниях то о двух, то о трех, то о четырех таинствах, умалчивая о прочих. Выводить отсюда, как выводят протестанты, будто древняя церковь признавала только два таинства (почему же не три или не четыре?) – крещение и евхаристию, совершенно несправедливо, когда известно, что другие учители церкви в то же время или еще прежде упоминают и о всех остальных таинствах, когда известно, что даже те же самые учители, называя поименно крещение и евхаристию, иногда указывают при этом и на другие такие же таинства и в различных местах своих сочинений ясно говорят о каждом из седми таинств порознь (стр. 514 и 515).
То, что таинств не было семь, это знает всякий, читавший церковную историю. Семь же таинств, именно потому, что семь даров духа святого, семь светильников, семь печатей и т. д.
§ 245. «Об условиях для совершения и действительности таинств». Для совершения таинств, т. е. сообщения благодати верующим, нужно: «1) законно рукоположенный пресвитер или епископ; 2) законное, т. е. по богопреданному чину, священнодействие таинств» (стр. 517).
Но несправедливо, с другой стороны, думали и думают некоторые неправомыслящие, – а) будто для совершения и действенности таинств необходим не только законно рукоположенный священнослужитель, но священнослужитель благочестивый, так что таинства, совершенные порочными служителями алтаря, не имеют никакого значения; или б) будто действительность и действенность каждого таинства зависит от веры лиц, его преемлющих, так что оно бывает таинством и имеет свою силу только во время самого принятия его и употребления с верою, а вне употребления или в случае принятия без веры не есть таинство и остается бесплодным.
1) Несправедливо первое. Ибо благодатная сила таинств зависит собственно от заслуг и воли Христа-спасителя, который сам невидимо и совершает их, а пастыри церкви суть только служители его и видимые орудия, чрез которые он преподает таинства людям.
2) Несправедливо и мнение второе, полагающее силу и действительность таинств в совершенной зависимости от веры и расположения лиц, приемлющих таинства. Ибо – а) как мы видели, господу угодно было установить таинство так, чтобы в каждом таинстве с известным видимым знаком существенно было соединено известное дарование св. духа и чтобы каждое таинство, когда только оно совершается правильно, необходимо действовало на человека благодатию (стр. 518—521).
Ясно: таинства суть чисто внешние действия, как заговоры от зубов, действующие на людей, и о духовном ни со стороны заговорщиков зубов, ни тех, которые лечатся, нечего думать и говорить. Надо делать руками и губами такие-то движения, и благодать сойдет.
§ 246. «Нравственное приложение догмата о таинствах» (стр. 521). Приложение догмата заканчивает член о таинствах. Приложение одно, очевидное – прибегать к иерархии для освящения себя посредством таинств.
Всё учение о таинствах, после рассмотрения его, сводится к следующему. В числе бесчисленных, несогласных между собой последователей Христа есть одни последователи его, которые признают себя рукоположенными теми людьми, которых рукополагали прежние, которых рукополагали апостолы. Признаков этой преемственности люди эти не дают никаких, но утверждают, что на них сошла благодать св. духа и что вследствие этого они знают семь действий, чрез которые сходит благодать св. духа на людей; и вот эту-то благодать, хотя и ничем видимым не определяющуюся, они могут сводить на людей. Это сообщение этими людьми этой невидимой благодати и есть учение о таинствах.
ГЛАВА XVII
«Глава II. О боге, как судьи и мздовоздаятеле» (стр. 524).
Кратко повторяется учение сначала.
§ 247. «Связь с предыдущим, понятие о боге, как судьи и мздовоздаятеле, и состав церковного о сем учения».
Для полного восстановления и спасения падшего человека надлежало совершить три великие дела: а) примирить грешника с богом, которого он бесконечно оскорбил своим грехопадением; б) очистить грешника от грехов и соделать его праведным и святым; в) освободить грешника от самих казней за грехи и даровать ему, соответственно его святости, заслуженные им блага (§ 124). Первое дело совершил господь бог сам – без нашего участия, когда ниспослал на землю своего единородного сына, который, воплотившись и приняв на себя грехи всего человеческого рода, принес за них своею смертию совершеннейшее удовлетворение вечной правде и таким образом не только искупил нас от грехов и от наказаний за грехи, но и стяжал нам дары св. духа и вечное блаженство (§ 153). Второе дело совершает господь бог при нашем участии. Он основал на земле свою св. церковь, как живое и постоянное орудие для нашего очищения от грехов и освящения; ниспосылает нам в церкви и чрез церковь благодать св. духа, как действительную силу, очищающую нас от грехов и освящающую; учредил в церкви различные таинства для сообщения нам разнообразных даров этой спасительной благодати соответственно всем потребностям нашей духовной жизни; и от нас зависит воспользоваться или не воспользоваться предлагаемыми нам от бога средствами освящения (стр. 524 и 525).
Бог сжалился над людьми, погибавшими от своей злой воли, и искупил их. Но положение людей и после искупления осталось то же самое, какое было при Адаме и патриархах. Точно так же, как тем до искупления, так и нам по искуплении для того, чтобы спастись, нужно искать спасения. Разница между состоянием подзаконным и благодатным только та, что тогда не было этого механического средства таинств, а теперь есть. Разница та, что тогда Иаков, Авраам могли спастись хорошей жизнью, исполнением воли бога в жизни, а теперь можно спастись таинствами.
Всё это бы хорошо, но при этом учении, казалось бы, невозможно допустить мздовоздаяние, потому что мздовоздаяние вытекает из совершенно свободной деятельности человека, при спасении же таинствами человек несвободен. Спасение делами добра тем отличается от всякого другого, что оно совершенно свободно – человек для нравственного добра так же свободен на кресте, как и у себя дома; но спасение таинствами не вполне, а иногда и совершенно не зависит от воли человека. Так что, несмотря на всё желание окреститься, помазаться, причаститься, человек может не иметь возможности этого сделать. И потому мздовоздаяние, при состоянии благодати, представляется несправедливым. Адам мог быть наказан за яблоко, он мог съесть и не съесть его, но казнь за то, что человек не имел случая, возможности окреститься, помазаться, причаститься, казнь за это разрушает понятие справедливости бога. А это-то самое и оказывается при церковной благодати. По Ветхому Завету бог представлялся грубым и жестоким, но все-таки справедливым; по новой же благодати, как учит иерархия, он представляется несправедливым судьей, каким-то шальным, казнящим за то, что вне воли человека.
Видно, не уйдешь от законов разума.
Первая ошибка или ложь искупления привела к большей лжи – благодати, благодать еще к большей лжи – веры как послушания, и это – к механическим действиям таинств. Необходимость побуждения для исполнения таинств привела к мздовоздаянию, и учение выразилось в ужасающем безобразии.
Бог, чтобы спасти всех людей, отдал своего сына на казнь; а от этого выходит то, что если поп с причастием опоздает, когда я буду умирать, я пойду если не прямо в ад, то все-таки мне будет худо, много хуже, чем тому, кто награбил много денег и нанял попа и попов так, чтобы они всегда при нем были. Это не злоупотребление, это – прямой вывод. Но это не смущает богословие. Оно говорит: первое дело – бог спас нас, второе – дал нам таинства.
Третье дело совершает господь бог уже по окончании второго, совершаемого им при нашем участии: он является тогда судиею людей, правосудно взвешивающим, воспользовались ли, или не воспользовались они дарованными им на земле средствами к их очищению от грехов и освящению и достойны ли, или недостойны освободиться от наказаний за грехи и получить блаженство; является вслед за тем праведным мздовоздаятелем, назначающим людям определенную участь каждому по заслугам (стр. 525).
Средства – таинства. И затем идет обычное изложение. В мздовоздаянии участвуют все лица св. троицы.
«Член I. О частном суде». § 248. «Обстоятельство, предваряющее частный суд: смерть человека» (стр. 527). И рассказывается про смерть, как про что-то новое, никому не известное. Причина смерти есть грехопадение первого человека, а от первого мы все взяли эту привычку. Всё это доказывается.
§ 249. «Действительность частного суда». Доказывается, что по смерти человека бывает для него суд частный в отличие от суда всеобщего. Суд, т. е. известный процесс исследования и вытекающего из него возмездия, приписывается всеведущему и всеблагому богу (стр. 529—532).
§ 250. «Изображение частного суда: учение о мытарствах».
Как происходит частный суд, – св. писание не излагает. Но образное представление этого суда, основанное преимущественно на свящ. предании и согласное с свящ. писанием, находим в учении о мытарствах (τελωνία), издревле существующем в православной церкви (стр. 532).
Описываются мытарства и подтверждаются свящ. писанием на десяти страницах.
1) Говорится, что к людям умирающим, при разлучении их души от тела, являются ангелы божии и духи-истязатели (стр. 539).
2) Говорится, что, по разлучении от тела, душа человека, совершая свой путь в мир высший чрез воздушные пространства, непрестанно встречает здесь падших духов (стр. 540).
3) Представляется, что эти темные духи, как мытари-истязатели, останавливают душу во время пути ее к небу на разных мытарствах, припоминают ей постепенно разные виды ее грехов и стараются всячески ее осудить, между тем как добрые ангелы, сопутствующие душе, в то же время припоминают противоположные грехам ее добрые дела и заботятся ее оправдать (стр. 541).
4) Представляется, что бог не непосредственно творит суд частный над душой человека, по разлучении ее с телом, а попускает истязать ее духам злобы, как бы орудиям своего грозного правосудия, и вместе с тем употребляет в орудия своей благости ангелов добрых (стр. 541).
Надобно представлять мытарства не в смысле грубом, чувственном, а, сколько для нас возможно, в смысле духовном и не привязываться к частностям, которые у разных писателей и в разных сказаниях самой церкви, при единстве основной мысли о мытарствах, представляются различными (стр. 542).
§ 251. «…Хотя прежде последнего суда ни праведные, ни грешные не получают совершенного воздания за дела свои, но при всем том не все души находятся в одинаковом состоянии и не в одно и то же место посылаются» (Прав. испов., ч. I, отв. на вопр. 61). «Веруем, что души умерших блаженствуют или мучатся, смотря по делам своим. Разлучившись с телами, они тотчас переходят или к радости, или к печали и скорби, впрочем, не чувствуют ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения. Ибо совершенное блаженство или совершенное мучение каждый получит по общем воскресении, когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или порочно» (Посл. восточн. патр. о прав. вере, чл. 18) (стр. 542 и 543).
§ 252. «Мздовоздаяние праведникам: а) прославление их на небеси – в церкви торжествующей».
Мздовоздаяния праведникам
«два: а) прославление их, хотя еще не совершенное, на небеси – в церкви торжествующей, и б) прославление их на земле – в церкви воинствующей» (стр. 543).
Каким образом слово: слава, прославление – занимает такое важное место в учении церкви, трудно понять, когда вспоминаешь особенно учение Христа, постоянно направленное против славы, и когда сам знаешь сердцем, что любовь к славе, прославлению есть одно из самых мелких человеческих чувств. Я понимаю, как награду: созерцание бога, успокоение, рай Эдем, даже рай Магомета, нирвану, но для того, чтобы понять награду в прославлении, мне надо вообразить себя на месте самого грубого человека или самого себя, когда мне было пятнадцать лет. Но у иерархии прославление считается великой наградой. Прославление это представляется в том, что на них наденут венцы, что они будут в чести, покой их в славе. Доказывается это из свящ. писания.
§ 253. «б) Прославление праведников на земле – в церкви воинствующей: аа) почитание святых».
Вместе с тем, как праведный судья и мздовоздаятель удостоивает праведников по кончине их прославления на небеси – в церкви торжествующей, хотя еще предначинательного, он удостоивает их прославления и на земле – в церкви воинствующей (стр. 550).
Слава эта опять представляется в виде венцов, золота, камней, поклонов, кадил, церквей, песнопений, обеден и т. п. И следуют споры с теми, которые не считают нужным прославлять так святых. Всё это доказывается из свящ. писания.
§ 254. «бб) Призывание святых».
Почитая святых, как верных слуг, угодников и друзей божиих, св. церковь вместе с тем призывает их в молитвах, не как богов каких, могущих помогать нам своею собственною силою, как предстателей наших пред богом, единым источником и раздаятелем всех даров и милостей тварям (Иак. 1, 17), – как предстателей и ходатаев наших, имеющих силу ходатайства от Христа, который «един есть» в собственном смысле и самостоятельный «ходатай бога и человеков, давый себе избавление за всех» (1 Тим. 2, 5; Прав. испов. веры, ч. III, отв. на вопр. 52; Посл. восточн. патр. о прав. вере, чл. 8).
Св. писание преподает нам этот догмат (стр. 558).
Это есть догмат. Догмат в том, что а) надо молиться святым, б) что святые слышат нас и в) что они молятся за нас. Всё это доказывается свящ. писанием, и доказательство заключается выпиской из постановления собора:
«Если кто не исповедует, что все святые, сущие от века и угодившие богу как до закона, так под законом и под благодатию, досточестны (τίμιοι) пред ним по душе и по телу, или не просит молитв святых, как имеющих позволение предстательствовать за мир (ὑπὲρ τοῠ κὀσμου πρεσβ϶ύειν), по церковному преданию: анафема» (стр. 566—567).
Доказательство, очевидно, достаточное.
§ 255. «вв) Почитание св. мощей и других останков угодников божиих». Кроме того, надо также прославлять мощи и всякие остатки угодников. Доказательства этому:
а) что тело одного мертвеца, едва только коснулось костям пророка Елисея во гробе его, тотчас ожило, и мертвый восстал (4 Цар. 13, 21; снес. Сирах. 48, 14, 15);
б) что самая милость Илии, оставленная им Елисею, разверзла прикосновением своим воды Иордана для перехода последнему пророку (4 Цар. 2, 14; снес. 8);
в) что даже платки и полотенца св. апостола Павла, полагавшиеся в отсутствие его на недужных и одержимых бесами, исцеляли болезни и прогоняли нечистых духов (Деян. 19, 12).
«…они (св. мученики) прославляются великими почестями и праздниками, они прогоняют демонов, врачуют болезни, являются, прорекают; самые тела их, когда к ним прикасаются и чтут их, столько же действуют, как святые души их; даже капли крови и всё, что носит на себе следы их страдания, так же действительны, как их тела».
«…И по смерти действуют они (мученики), как живые, исцеляют больных, изгоняют бесов и силою господа отражают всякое лукавое влияние их мучительского владычества. Ибо святым мощам всегда присуще чудодействующая благодать святого духа».
…Особенно разительнейшее чудо, которым господь прославляет тела многих угодников своих, есть их «нетление», когда осуществляются на деле – и предсказание царя-пророка: «не даси (господи) преподобному твоему видети истления» (Пс. 15, 10), исполнившееся прежде всего на первенце из мертвых, Иисусе Христе (Деян. 2, 27), и благожелание древнего мудреца израильского праведникам: «кости их процветут от места их» (Сирах. 46, 14; сн. 49, 12; Ис. 58, 11).
Это нетление св. мощей, это изъятие их чудодейственною силою божиею из всеобщего закона тления, как бы в живой урок нам о будущем воскресении тел и в сильнейшее побуждение для нас – почитать самые телеса прославляемых богом праведников и подражать вере их, не подлежит ни малейшему сомнению. В Киеве и Новгороде, Москве и Вологде и во многих других местах нашего богохранимого отечества открыто почивают многие нетленные останки св. угодников и непрестающими чудесами для притекающих к ним с верою громогласно свидетельствуют о истине своего нетления (стр. 567 – 571).
Ведь мы все знаем о герцоге Декруа, о сотнях и сотнях неразлагающихся тел по физическим условиям; все знаем о том, что случайно не разложившийся сибирский архиерей какой-то лежит теперь в Киеве (Филофей, кажется) в подвале, ожидая открытия мощей; знаем о тех под спудом находящихся мощах, о чучелах, с которыми собирают копейки для иерархии и покровы на которых келейно переменяются членами иерархии; знаем об масле, вливаемом в мироточивые головы. Ведь ни один ученик семинарии уже не верит в это. Все мужики не верят. Зачем же излагать это в богословии как догмат? Ведь если бы в этом богословии было что-нибудь в самом деле похожее на раскрытие истин веры, если бы всё даже было разумно и верно, ведь одно такое утверждение о мощах погубило бы всё.
Доказывается и то, что мощи и всякие платки и портки надо чтить, целовать и класть на них копейки, и всё заключает решение седьмого вселенского собора:
Итак, дерзнувшие отвергать… мощи мучеников, о которых знали, что они подлинные и истинные, если это епископы или клирики, да низложатся; а если иноки и миряне, да лишатся приобщения (стр. 574).
Но это всё еще мало. Мало подменить бога святыми, их пальцами и портками, еще нужны иконы.
§ 256. «гг) Почитание св. икон». Церковь заповедует: а) употреблять иконы в церквах, домах, улицах, б) чествовать каждением, поставлением свеч; и церковь осуждает: а) древних иконоборцев, б) новых протестантов и в) поклоняющихся им, как богам. Начинаются доказательства и споры. Споры эти стоили много злобы, казней и крови.
Только совершенным отклонением от вопросов веры можно объяснить эти споры и те утверждения и доказательства, которые приводятся в книге.
Новым побуждением к чествованию св. икон служат те бесчисленные знамения и чудеса, какие благоволил господь совершать чрез иконы для верующих. Сказаниями об этих чудесах наполнены летописи как церкви вообще, так в особенности церкви нашей. Некоторые иконы Христа-спасителя, его пречистой матери, святителя Николая и других угодников божиих по обилию совершавшихся от них чудес издревле известны под именем чудотворных и, находясь в разных местах православной церкви по устроению благодеющего нам господа, доселе не престают быть как бы протоками или проводниками его спасительной для нас чудодейственной силы (стр. 585).
Вот за эти-то протоки чудодейственной силы и были споры и теперь разногласие. Протоки они или не протоки? Если через иконы господь благоволит совершать чудеса, именно через иконы, то не то что грубый мужик или баба, но самый большой мудрец не может иначе делать, как молиться иконе. Если через секретаря решается дело, надо просить секретаря. И из этого выйти нельзя. Уж мы давно спустились на землю из области вопросов о вере. Дело шло о таинствах, которые механически передают благодать, независимо от духовного состояния пастыря и верующего, только когда нет поводов к кассации; теперь дело идет об иконах, которые суть протоки чудодейственной силы и которым поэтому надо молиться, но которые не суть боги.
§ 257. «Мздовоздаяние грешникам: а) их наказание во аде».
Грешники отходят вдруг после смерти и частного суда душами своими в место печали и скорби (стр. 589).
Доказательства свящ. писания. Место, куда они отходят, называется тьмою кромешною, бездною, преисподнею, геенною, пещью огненной. Где эта геенна, не все согласны. Но разные есть отделения в аду,
свои частные обители, затворы и хранилища душ (3 Ездр. 4, 32, 35, 41), свои особые отделения, из которых одно называется собственно адом, другое – геенною, третье – тартаром, четвертое – озером огненным и т. п. По крайней мере есть в Апокалипсисе место, где ад и озеро огненное различаются (20, 13, 14).
Эти неодинаковые мучения грешников во аде после частного суда не суть притом мучения полные и совершенные, а только предначинательные (стр. 593).
Доказательства свящ. писания.
§ 258. «б) Возможность для некоторых грешников получать облегчение и даже освобождение от наказаний адских по молитвам церкви».
Впрочем, преподавая учение, что все грешники, после смерти своей и частного суда над ними, равно отходят во ад – место печали и скорби, православная церковь в то же время исповедует, что для тех из них, которые до разлучения с настоящею жизнию покаялись, только не успели принести плодов, достойных покаяния (каковы: молитва, сокрушение, утешение бедных и выражение в поступках любви к богу и ближним), остается еще возможность получать облегчение в страданиях и даже вовсе освобождаться от уз ада.
Такое облегчение и освобождение могут получать грешники не по собственным каким-либо заслугам или чрез раскаяние (ибо после смерти и частного суда нет места ни для покаяния, ни для заслуг), но только по бесконечной благости божией, чрез молитвы церкви и благотворения, совершаемые живыми за умерших, а особенно силою бескровной жертвы, которую, в частности, приносит священнослужитель для каждого христианина о его присных, вообще же на всех, повседневно, приносит кафолическая и апостольская церковь (стр. 594).
Это доказывается. То естественное соображение, что если уж бог правосуден (как человек правосудный), как то понимает иерархия, то за какие же он чужие молитвы простит грешника? – это разрешается следующим:
«Нимало не должно сомневаться, что (молитвы св. церкви, спасительное жертвоприношение и милостыни) приносят пользу умершим, – но лишь тем, которые прежде смерти жили так, чтобы по смерти всё это могло быть для них полезным.
Ибо для отшедших без веры, споспешествуемой любовию, и без общения в таинствах, напрасно совершаются ближними дела того благочестия, коего залога они не имели в себе, когда находились здесь, не приемля или всуе приемля благодать божию и сокровиществуя себе не милосердие, а гнев.
Итак, не новые заслуги приобретаются для умерших, когда совершают за них что-либо доброе знаемые, а только извлекаются последствия из прежде положенных ими начал» (стр. 603, 604).
Так для чего же молитвы? Бог разве не разберет один, без адвокатов этих прежде положенных начал? Для чего же молитвы и церкви и у жертвы? Как ни неприятно говорить, другой нет причины, как повод к собиранию копеек. И странно: это такое естественное, сердечное чувство всякого молящегося человека, обращаясь к богу, помянуть души близких ему людей, это святое, хорошее чувство иерархия, прикоснувшись к нему, умела обратить во что-то глупое, низкое и подлое.
Следуют соображения о молитвах церкви за усопших.
1) Разделяются те, за которых надо молиться, и те, за которых не надо молиться.
2) Опровергаются мнения тех, что за покойных приобщившихся нечего уже молиться – они и так святы. Доказывается, что надо молиться.
3) То, что Христос сказал: он один ходатай, – не мешает молиться церкви, она чрез него молит.
4) Молитвы действуют только на частный суд.
5) То самое рассуждение Августина, что молитва есть род напоминания.
6) Что есть такие, которых уж нельзя выручить молитвою, а есть такие, которых можно.
7) Молится церковь в третий день в воспоминание воскресения, в девятый – в воспоминание живых и умерших (больше ничего), в сороковой – потому, что столько дней народ оплакивал Моисея.
8) А что как мы молимся за них, а они уже в царстве небесном. Это не вредно.
9) А если так, то все спасутся. Это желательно. Но едва ли.
§ 259. «в) Замечание о чистилище» (стр. 611). Спор с католиками о чистилище и доказательства, что они неправы.
§ 260. «Нравственное приложение догмата» понятно, как все теперь приложения: бояться суда и прибегать к мощам и иконам и платить иерархии деньги, чтобы она молилась за усопших (стр. 616—617).
«Член II. О всеобщем суде». § 261. «Связь с предыдущим, день всеобщего суда, неизвестность этого дня и признаки его приближения, в особенности явление антихриста».
Суд частный, которому подвергается каждый человек по смерти своей, не есть суд полный и окончательный, и потому естественно заставляет ожидать еще другого суда, полного и решительного. На частном суде получает мздовоздаяние только душа человека, без всякого участия тела, хотя и тело разделяло с нею дела ее, добрые и злые. После частного суда и для праведников на небеси, и для грешников во аде открывается только предначатие того блаженства или мучения, которое они заслужили. Наконец после частного суда для некоторых грешников остается еще возможность облегчать свою участь и даже освободиться из уз ада, если не чрез собственные заслуги, то по молитвам церкви.
Но приидет некогда день, «последний день» для всего рода человеческого (стр. 618).
Придет день, когда и тело получит по заслугам. Затем определяются признаки пришествия этого дня:
1) С одной стороны, необычайные успехи добра на земле – распространение Евангелия Христова во всем мире…
2) С другой стороны, необычайные успехи зла и явление на земле антихриста (стр. 619).
Антихрист будет вот кто:
а) Будет определенное лицо и именно человек, но только человек беззаконный, под особенным действом сатаны. Касательно же отношения к нему диавола одни полагали, что антихрист будет как бы сыном, или исчадием сатаны; другие, – что сатана как бы поселится в нем и будет употреблять его орудием, действуя в нем сам собою; третьи, – что в лице антихриста воплотится непосредственно сам диавол.
б) Будет, по характеру своему, отличаться необычайною гордостию и выдавать себя за бога…
в) Для достижения своей цели будет проповедовать ложное учение, противное спасительной вере Христовой, учение обольстительное, которым и увлечет многих, слабых и недостойных…
г) В подтверждение своего учения и для большего обольщения людей будет совершать ложные знамения и чудеса…
д) Наконец погибнет от действия Христа-спасителя, когда он придет судить живых и мертвых…
Он произойдет от колена Данова…
Будет могущественный властелин, который похитит себе власть насильно и распространит свое влияние на все народы…
Воздвигнет сильное гонение на христиан, будет требовать себе от всех поклонения божеского, многих увлечет, а тех, которые не последуют ему, будет предавать смерти…
Для противодействия антихристу бог пошлет с неба «двух свидетелей», которые, как говорится в Апокалипсисе, будут «прорицати» истину, сотворять чудеса и, «егда скончают свидетельство свое», будут умерщвлены змием, потом чрез три с половиною дня воскреснут и вознесутся на небеса (Апок. 11, 3—12).
Владычество антихриста будет продолжаться только три с половиною года (стр. 621—623).
Всё это доказано свящ. писанием.
Не излишне заметить, что предсказания об антихристе не раз уже прилагаемы были к разным лицам. Одни, по свидетельству блаженного Августина, видели антихриста в Нероне; другие видели – в гностиках; третьи – в римском первосвященнике или вообще в папстве: – мысль, возникшая и довольно распространенная в средние века на Западе между многими сектантами, но особенно усилившаяся с появлением протестантских обществ, проникшая в их богословские системы и многократно раскрытая в особых сочинениях (стр. 624).
Писатель не упоминает, что большая часть русского народа считает нашу иерархию иерархией антихриста.
§ 262. «События, имеющие совершиться в день всеобщего суда, и их распорядок».
Действия антихриста на земле будут продолжаться до самого «дня судного» (стр. 624).
§ 263. «Предварительные обстоятельства всеобщего суда: а) пришествие господа – судьи: живых и мертвых» (стр. 625). В этот день придет с неба на землю господь Иисус Христос. Всё это доказано свящ. писанием.
§ 264. «Воскресение мертвых и изменение живых».
В тот же последний день (Иоан. 6, 40, 44) и в то же самое время, как будет совершаться с небеси славное нисшествие господа на землю, окруженного небожителями, он «послет пред собою ангелы своя с трубным гласом велием» (Матф. 24, 31), «и мертвии услышат глас сына божия» (Иоан. 5, 25): «яко сам господь в повелении, во гласе архангелове, и в трубе божии снидет с небесе, и мертвии о Христе воскреснут первее; потом же мы живущии оставшии… изменимся» (1 Сол. 4, 16, 17; 1 Кор. 15, 52) (стр. 627 и 628).
То есть по-русски: все мертвые воскреснут прежде, а потом живущие изменимся. Доказывается свящ. писанием, что «воскресение мертвых действительно будет, и возможность воскресения мертвых также не должна подлежать сомнению» (стр. 628 и 629).
Это доказывается вот как:
В мире вообще ничто не уничтожается и не исчезает, а всё остается целым во власти и деснице вседержителя; что наши тела теряют бытие через смерть только для нас, а не для бога, который совершенно знает всё, даже малейшие частицы каждого умершего тела, хотя бы они рассеялись повсюду и соединились с другими телами, и всегда силен воссоединить эти частицы в прежний организм (стр. 630).
Но уж если зашло дело о частицах, то дело не в том, чтобы разместить частицы, а частиц недостанет. Тело моего прадедушки сгнило, частицы его тела пошли в траву. Траву съела корова, мальчик мужицкий выпил эти частицы в молоке, и эти частицы стали его телом. И его тело сгнило. Частиц много недостанет. Так что посредством частиц сделать этого и богу никак нельзя.
Уж лучше доказывать по-старому так:
Говорили о силе и действенности христианских таинств: крещения, в котором мы всецело, и душою и телом, возрождаемся для жизни вечной; миропомазания, в котором не только душа наша, но и тело запечатлеваются несокрушимою печатию св. духа, господа животворящего; евхаристии, которой как душа, так равно и тело наше питается животворящим телом и кровию самого жизнодавца и преискренне соединяются с ним (стр. 631 и 632).
Так если бог может делать такие чудеса для тех, которые верят в них, то как же ему не воссоздать тела.
Этим доказывается возможность воскресения в теле. А необходимость доказывается так:
По самому существу христианства необходимо, чтобы, «якоже о Адаме вси умирают, такожде и о Христе вси» некогда «ожили» (1 Кор. 15, 22), чтобы не только был побежден первый наш враг – диавол, но упразднился и последний враг – смерть (1 Кор. 15, 26).
Иначе цель пришествия Христова на землю, цель всего христианства, не будет достигнута вполне: человек спасается не весь, враги его будут не все побеждены, во Христе мы получим менее, нежели сколько потеряли во Адаме.
…Воскресения наших тел требуют и правда божия и премудрость. Правда: ибо тело человека участвует как в добрых делах души, так и в ее беззакониях; следовательно, по справедливости, должно участвовать и в ее вечных наградах или наказаниях. Премудрость: ибо, по премудрости бог создал человека двухчастным, из тела и души, чтобы в этом виде он достигал своего предназначения; следовательно, премудрость божия не оправдалась бы от дел, если бы, рано или поздно, тело человека, по разлучении с душою, снова не соединилось с нею для составления полного человека.
Воскресение мертвых будет «всеобщее и одновременное»…
По качествам своим воскресшие тела —
1) Будут существенно те же, какие соединены были с известными душами в продолжение настоящей жизни.
2) Но, с другой стороны, будут и отличны от настоящих тел; потому что восстанут в виде преображенном, по подобию воскресшего тела Христа-спасителя (стр. 633 и 634).
Тела будут те же, но нетленны, славны или светоносны, сильны и крепки, духовны.
Но все не будут одинаково нетленны, бессмертны и пр., а по степеням нетленны: праведников – совсем нетленны, пониже – немножко нетленны и т. д. (стр. 637).
Кроме того, одни учители церкви говорили, что воскресшие не будут иметь различия полов, другие говорили, что будут мужчины и женщины, третьи – что все сделаются мужчинами.
Одни гадали, что все умершие, и старцы, и мужи, и юноши, и дети, восстанут в одном и том же возрасте – «в мере возраста исполнения Христова» (Еф. 4, 13); другие говорили, что не в одном, хотя и не допускали, чтобы младенцы и юноши воскресли в возрасте младенческом и юношеском, а не в зрелых летах (стр. 637).
Кроме воскресения мертвых, открыта еще тайна о том, что те, которых суд застанет в живых, также изменятся, и очень скоро.
§ 265. «Самый суд всеобщий: его действительность, образ и свойства».
Вслед за тем, как явится на землю в славе своей судия живых и мертвых и по гласу его воскреснут мертвые и изменятся живые, начнется самый суд над ними – «суд всеобщий» (стр. 638).
Суд будет состоять из судьи, сидящего на престоле, из ангелов около него, подсудимых: а) всех людей, б) праведных и злых и в) дьяволов. Предметами суда будут: дела, слова и мысли человеческие. Про дьяволов ничего не сказано. Когда рассудят, тогда отделят праведных от злых. Одних поставят направо, других налево. Потом произойдет произнесение суда:
«Тогда речет царь сущим одесную его: приидите благословеннии отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира» (Матф. 25, 34)… «Тогда речет и сущим ошую его: идите от мене проклятии во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его» (—41).
Св. отцы и учители церкви признавали это изображение всеобщего суда несомненно истинным, оставили на него свои толкования (стр. 641).
Вот эти толкования:
«Не должно думать, что пришествие господа будет местное и плотское, но надобно ожидать его во славе отчей вдруг в целой вселенной». «Не должно думать, что много потратится времени, пока каждый увидит себя и дела свои; и судию и следствия божия суда, неизреченною силою, во мгновение времени представит себе ум, всё это живо начертает пред собою, и во владычественном души, как бы в зеркале, увидит образы соделанного им» (стр. 642).
Богословие говорит, что не надо разуметь суд местным и плотским; но как же разуметь его, когда говорится: суд будет —
1) Всеобщий: потому что будет простираться на всех людей, живых и мертвых, добрых и злых, на самих даже ангелов падших: тогда «имать» господь «судити вселенней» (Деян. 17, 31).
Выноска: «Царь сходит с своего места, чтобы совершить суд над землею; с великим страхом и трепетом сопровождают его воинства его. Мощные чины сии приходят быть свидетелями грозного суда; и все люди, сколько их было и есть на земле, предстают царю. Сколько ни было и ни будет рожденных на свете, все приидут на сие позорище видеть суд» (стр. 642—643).
2) Торжественный и открытый: потому что судия явится во всей славе своей со всеми святыми ангелами и произведет суд пред лицем целого мира, небесного, земного и преисподнего.
Выноска: «И небо и землю призовет он быть с ним на суде! И горние, и дольние предстанут со страхом и трепетом. И небесные воинства, и полчища преисподних вострепещут пред немилующим судиею, который придет, сопровождаемый ужасом и смертию» (стр. 643).
Это Христос так придет?!
3) Строгий и страшный: потому что совершится по всей правде божией, и только одной правде; то будет «день гнева и откровения праведного суда божия» (Рим. 2, 5).
4) Решительный и последний: потому что неизменно определит на всю вечность участь каждого из подсудимых (Матф. 25, 46) (стр. 643).
То есть навеки определит грешникам мучения.
Прибавлять к этому нечего. Одно чувство, которое я испытывал, выписывая это, есть чувство ужаса и страха перед тем кощунством, которое я совершаю, переписывая и повторяя это.
§ 266. «Сопутствующие обстоятельства всеобщего суда: а) кончина мира».
В тот же «последний день», в который совершится последний суд божий над всем миром, последует и кончина мира…
Сущность и образ. Кончина мира будет состоять не в том, будто он совершенно разрушится и уничтожится, а в том, что он только изменится и обновится посредством огня…
…весь мир вещественный должен очиститься от гибельных следствий греха человеческого и обновиться. Это-то обновление мира и совершится в последний день посредством огня, так что на новом небе и новой земле не останется уже ничего греховного, а будет «жить» одна «правда» (2 Петр. 2, 13) (стр. 643 и 644).
Так что здесь уже ясно высказывается та мысль, что обновление мира не произведено еще искуплением, что то говорилось, только для красоты слова, а что настоящее обновление произведется Христом, но не при первом, а при втором пришествии.
Доказывается из свящ. писания справедливость этого конца и обновление мира огнем.
§ 267. «б) Кончина благодатного царства Христова и начало царства славы; замечание о хилиазме, или тысящелетии, Христовом» (стр. 646) это самое и подтверждает. Благодатное царство кончится, и начнется царство славы, т. е. действительного освобождения от греха и смерти, т. е. того самого, что прежде утверждалось о благодатном царстве.
Доказательства этого писанием и спор с теми, которые говорили, что за 1000 лет до конца мира Христос придет на землю, воскресит праведников и будет с ними царствовать 1000 лет. Это неправда,
§ 268. «Связь с предыдущим и свойства этого мздовоздаяния» (стр. 653). После суда Христос изречет приговор.
Это мздовоздаяние после всеобщего суда будет полное, совершенное, решительное. Полное, т. е. не для одной только души человека, как после частного суда, а для души вместе и для тела, – для полного человека. Совершенное: потому что будет состоять не в предначатии только блаженства для праведников и мучения для грешников, как после частного суда, а во всецелом блаженстве и мучении соответственно заслугам каждого. Решительное: потому что для всех пребудет неизменным во веки, и ни для кого из грешников не останется никакой возможности освободиться когда-либо из ада, как остается она для некоторых после частного суда (654).
§ 269. «Мздовоздаяние грешникам: а) в чем будут состоять их муки?» (стр. 654). Вечные мучения грешников будут состоять: 1) в удалении их от бога, 2) лишении благ царствия божия, 3) они будут в аду с дьяволами. Дьяволы будут их мучить, 4) они будут испытывать внутренние мучения, 5) будут испытывать внешние мучения – червя неумирающего и огня неугасающего.
«Услышавши об огне, не думай, будто тамошний огонь похож на здешний: этот, что захватит, сожжет и изменит на другое; а тот, кого однажды обымет, будет жечь всегда и никогда не перестанет, почему и называется неугасимым. Ибо и грешникам надлежит облечься бессмертием, не в честь, но чтобы быть всегдашним напутием тамошнего мучения; а сколь это ужасно, того и представить ум никогда не может; разве из опытного познания маловажных бедствий можно получить малое понятие о тех великих мучениях. Если ты будешь когда в бане, натопленной сильнее надлежащего, то представь себе огонь геенский; и если ты когда будешь гореть в сильной горячке, то перенесись умом к оному пламени; и тогда будешь в состоянии хорошо понять это различие. Ибо если баня и горячка так мучат и беспокоят нас, то что мы будем чувствовать, когда попадем в ту огненную реку, которая будет течь пред страшным судилищем!» (стр. 657 и 658).
6) Они будут постоянно плакать и скрежетать зубами.
«Каково будет, говорил также другой св. отец, состояние тела у подвергшегося этим нескончаемым и нестерпимым мучениям там, где огонь неугасимый, червь, бессмертно мучительствующий, темное и ужасное дно адово, горькое рыдание, необычайные вопли, плач и скрежет зубов, и нет конца страданиям? От всего этого нет избавления по смерти, нет ни способов, ни возможности избыть горьких мучений» (стр. 659).
Каково состояние грешника? Но каково будет состояние благого бога вечно смотреть на это?
§ 270. «б) Степени адских мучений».
Впрочем, хотя все грешники подвергнутся адским мучениям, но не все в одинаковой степени: одни будут наказаны больше, другие менее, каждый соразмерно грехам своим (стр. 659—660).
Всё это доказано свящ. писанием.
§ 271. «в) Вечность адских мучений».
Но, различаясь между собою по степени, мучения грешников во аде нимало не будут различны по отношению к продолжительности: потому что для всех будут равно вечны и нескончаемы (стр. 662).
Всё это подтверждается свящ. писанием, и опровергается мнение о том, что учение о вечности мучений противоречит здравому разуму (не здравому разуму, а какому-нибудь самому низкому понятию о боге). По учению богословия, невечные мучения противоречат здравому разуму.
§ 272. «Мздовоздаяние праведникам: а) в чем будет состоять их блаженство?»
Сколько, с одной стороны, мрачными чертами изображает слово божие участь грешников после всеобщего суда, столько же, с другой, светлыми и радостными– участь праведников (стр. 668).
Участь их в том, что они будут «зреть триипостасного лицом к лицу», т. е. зреть того страшного бога, который, из любви сотворив людей, вечно мучает их.
§ 273. «б) Степени блаженства праведников».
Блаженство праведников на небеси, общее для всех их, будет, однакоже, иметь свои степени, соответственно нравственному достоинству каждого (стр. 673).
Доказывается свящ. писанием.
§ 274. «в) Вечность блаженства праведников» (стр. 676).
Блаженство праведников вечно.
§ 275. «Нравственное приложение догмата о суде и мздовоздаянии всеобщем» (стр. 678).
О, если бы мы чаще и внимательнее размышляли о том «великом дне» (Деян. 2, 20), – «дне гнева и откровения праведного суда божия» (Рим. 2,5), которым окончится некогда всё домостроительство нашего спасения! Если бы живее и раздельнее представляли те бесконечные блага, которые уготованы праведникам на небеси, и те вечные мучения, которые ожидают грешников во аде! Сколько побуждений мы находили бы для себя удерживаться от грехов и подвизаться во благочестии!
Даруй же нам, господи, всем всегда – живую и неумолкающую память твоего будущего славного пришествия, твоего последнего страшного суда над нами, твоего праведнейшего и вечного мздовоздаяния праведникам и грешникам, – да, при свете ее и твоей благодатной помощи, «целомудренно и праведно и благо честно поживем в нынешнем веце» (Тит. 2, 12) и таким образом достигнем, наконец, и вечно-блаженной жизни на небеси, чтобы всем существом славословить тебя, со безначальным твоим отцем и пресвятым и благим и животворящим твоим духом, во веки веков (стр. 680).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И вот оно всё, это раскрытие богооткровенных истин. Все раскрыты. Больше ничего нет. И иначе понимать нельзя. Тот, кто иначе понимает, тот – анафема.
Человек спрашивает: что такое весь этот мир, в котором он находит себя? Спрашивает, какой смысл его существования? И чем ему надо руководиться в той свободе, которую он чувствует в себе? Он спрашивает, и бог устами установленной им церкви отвечает ему:
Ты хочешь знать, что такое этот мир? Вот что. Есть бог единый, всеведущий, всеблагой, всемогущий. Бог этот есть дух простой, но он имеет волю и разум. Бог этот один и вместе три. Отец родил сына. Сын во плоти и сидит одесную отца. Дух изошел от отца. Все они три – боги, и все разны, и все – одно.
Этот-то тройной бог существовал вечно один втроем, и вдруг вздумал сотворить мир и сотворил из ничего своею мыслью, хотением и словом. Сотворил сначала духовный мир – ангелов. Ангелы сотворены добрыми, и только для их блаженства бог сотворил их; но, сотворенные добрыми, эти существа стали вдруг злыми сами собой. Ангелы – одни остались добрыми, другие стали злыми и стали дьяволами. Ангелов сотворил бог очень много и разделил их на 9 чинов и 3 разряда: ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, силы, господства, начала, власти, престолы. И дьяволы тоже разделены по чинам, но имена их чинов точно неизвестны.
Потом прошло много времени, и бог опять стал творить и сотворил мир вещественный. Он сотворил его в шесть дней. День надо считать днем обращения земли около оси. И были утро и вечер с первых же дней. Если солнца не было в первые дни, то в эти дни бог сам сотрясал светящуюся материю, чтобы было утро и вечер. Творил шесть дней. В шестой день бог сотворил Адама, первого человека, из земли и дунул в него, потом сотворил жену. Человек сотворен из души и тела. Назначение человека – оставаться верным власти божией. И человек сотворен добрым и вполне совершенным. Вся обязанность его в том была, чтоб не есть запрещенного яблока, и бог ему, кроме того, что сотворил его совершенным, всячески помогал еще в этом, учил его, развлекал и посещал его в саду. Но Адам все-таки съел запрещенное яблоко, и за это бог благой отмстил Адаму, выгнав его из рая, проклял его, всю землю и всех потомков Адама. Всё это надо понимать не в каком-нибудь переносном, а в прямом смысле; надо понимать, что всё это так точно было.
После этого бог этот самый в трех лицах, всеведущий, всеблагой и всемогущий, сотворивши Адама и проклявши его и всё потомство, все-таки не переставал промышлять, т. е. заботиться, для их блага, об Адаме и его потомках, о всех сотворенных им существах. Он сохраняет тварей, содействует им и управляет ими всеми и каждым особенно. Бог этот управлял и управляет ангелами, злыми и добрыми, и людьми, злыми и добрыми. Ангелы помогают богу управлять миром. Есть ангелы, приставленные к царствам, к народам и к людям. И вот бог всеведущий, всемогущий и всеблагой, сотворивший их всех, погубил тьмы ангелов злых навсегда и людей всех за Адама, но не переставал заботиться о всех людях и заботится естественным образом и даже сверхъестественным.
Сверхъестественный этот способ заботы о людях состоит в том, что, когда прошло 5000 лет, бог нашел средство заплатить самому себе за грех Адама, которого он сам сделал таким, каким он был. Средство состоит в том, что в числе лиц троицы одно – сын. Оно, это лицо, так всегда и было сыном. Так этот сын вышел из девы, не нарушая ее девства; но вошел в деву Марию, как муж ее – дух святой, а вышел сын – Иисус Христос. И этот сын назывался Иисус, и он был бог, и человек, и лицо троицы.
Этот-то бог-человек и спас людей. Он спас их вот как: он был пророк, первосвященник и царь. Он, как пророк, дал новый закон; как первосвященник, сам себя принес в жертву тем, что умер на кресте, и как царь, делал чудеса, и сошел в ад, выпустил оттуда всех праведников и уничтожил грех, проклятие и смерть в людях.
Но средство это, хотя и очень сильное, не всех спасло, однако. Тьмы тем дьяволов так и остались дьяволами, и люди воспользоваться этим спасением должны умеючи.
Чтобы воспользоваться этим средством, надо освятиться. А освятить может только церковь. А церковь – это те люди, которые говорят про себя, что на них накладывали руки такие люди, на которых накладывали руки такие люди, и т. д., на которых накладывали руки ученики самого бога Иисуса, на которых накладывал руки сам бог сын. А накладывая руки, сам бог Иисус дунул на них и дал им этим дуновением, им и всем, кому они это передадут, власть освящать людей. И это-то самое освящение нужно, чтобы спастись.
Это, что спасает, называется благодать. Освящает человека и спасает его благодать – это значит сила божия, передаваемая в известных формах церковью. Чтобы благодать эта действовала, надо, чтобы человек, желающий освятиться ею, верил, что он освящается. Он может даже не совсем верить, но должен слушаться церкви и, главное, не противоречить, – тогда благодать перейдет. В жизни же своей человек, освященный благодатью, не должен думать, как он думал прежде, что если он делает хорошо, то это потому, что он хочет делать хорошо, но он должен думать, что если он что-нибудь делает хорошо, то это только потому, что в нем действует благодать; и поэтому он должен только заботиться о том, чтобы в нем была благодать.
Благодать же эта передается церковью разными манипуляциями и произнесением разных слов, которые называют таинствами. Таких манипуляций семь.
1) Купанье. Когда церковная иерархия выкупает кого-нибудь, как следует, то этот выкупанный делается чист от всякого греха, а главное, от первородного Адамова. Так что если младенец невыкупанный умрет, то он, как исполненный греха, погибнет.
2) Когда помажет его маслом, то в него войдет св. дух.
3) Когда он съест хлеба и вина при известных условиях и с убеждением, что он ест тело и кровь бога, то делается чист от греха и получает жизнь вечную. (Вообще же около таинства бывает много благодати, и надо поближе около него и поскорее после того, как оно совершится, молиться, и тогда молитва услышится.)
4) Когда, выслушав его грехи, священник скажет слова известные, грехов уже нет.
5) Когда семь попов помажут маслом, то исцелятся телесные болезни и душевные.
6) Когда наденут венцы, то войдет благодать в брачущихся.
7) Когда наложат руки, то войдет дар св. духа.
Крещение, миропомазание, покаяние и причащение по благодати освящают человека и освящают всегда, независимо от духовного состояния священника и принимающего таинства; только бы всё было правильно, не было бы повода к кассации. И в этих-то манипуляциях и заключается то средство спасения рода человеческого, которое придумал бог. Тот, кто верит, что он освящен, и очищен, и получит жизнь вечную, тот действительно освящен, и очищен, и имеет жизнь вечную.
Все те, которые верят в это, и те, которые не верят в это, получат мздовоздаяние, сначала частное – тотчас после смерти, и потом общее – после кончины мира. Частное мздовоздаяние верующих будет то, что они прославятся на земле и на небе. На земле их мощам и иконам будут кадить и ставить свечи, а на небе они будут с Христом в славе.
Но, прежде чем достигнуть этого, они будут проходит через воздушные пространства, где их будут останавливать, испытывать, ангелы и дьяволы будут препираться о них, и те, за которых защита ангелов будет сильнее обвинения дьяволов, те пойдут в рай, а те, которых дьяволы отвоюют, те пойдут в вечные мученья в ад.
Праведники, те, которые пойдут в рай, там расположатся в разных местах, и те, которые ближе к троице, те могут молиться там, в раю, за нас богу, и потому мы должны здесь прославлять их мощи, платья, иконы. От этих вещей бывают чудеса. И надо молиться около этих вещей богу, тогда праведники там за нас заступятся.
Грешники пойдут в ад, к дьяволам, – все еретики, некрещеные, неверующие, непричащавшиеся, но в аду будут в разных местах по степеням их виновности и будут там до кончины мира. Молитвы священников и особенно те, которые будут произноситься поближе к евхаристии, эти молитвы могут облегчить их положение там.
Но будет еще конец света и суд всеобщий. Конец света будет происходить так: одно лицо троицы, бог Иисус, который в теле сидит на небе одесную отца, на облаках сойдет на землю в человеческом образе, в том, в каком он был на земле. Ангелы будут трубить, и все мертвые воскреснут в своих, в самых своих телах, только тела немножко изменятся. Тогда соберутся все ангелы, дьяволы и все люди, и Христос будет судить и праведников отделит направо, они с ангелами пойдут в рай, а грешников налево, они с дьяволами пойдут в ад и там будут вечно мучиться мучениями большими, чем горение в огне. Мучения эти будут вечны. А бога вечно будут прославлять все праведники.
На вопрос мой о том, какой смысл имеет моя жизнь в этом мире, ответ такой:
Бог какой-то странный, дикий, получеловек, получудовище, по прихоти сотворил мир такой, какой ему хотелось, и человека такого, какого ему хотелось, и всё приговаривал, что хорошо, и всё хорошо, и человек хорошо. Но вышло всё очень нехорошо. Человек подпал под проклятие и всё потомство его. И бог благой всё продолжал творить людей в утробах матерей, зная, что они все или многие погибнут. И после того, как он придумал средство спасти их, осталось то же самое. Еще хуже, потому что тогда, как говорит церковь, люди, как Авраам, Иаков, могли спастись своей доброй жизнью, теперь же, если я родился буддистом и случайно не подпал под освящающее действие церкви, я наверно пропал и вечно буду мучиться с дьяволами; мало того, если я даже и в числе счастливчиков, но я имею несчастье считать требования своего разума законными, а не отрекаюсь от них, чтоб поверить учению церкви, я тоже погиб. Мало того, если я даже и поверил всему, но не успел причаститься, и за меня не будут, по рассеянности моих близких, молиться, я могу тоже попасть в ад и остаться там.
Смысл моей жизни, по этому учению, есть совершеннейшая бессмыслица, без сравнения худшая той, которая мне представлялась при свете одного моего разума. Тогда я видел, что я живу и, пока живу, пользуюсь жизнью, а умру – не буду чувствовать. Тогда меня пугала бессмысленность моей личной жизни, неразрешимость вопроса: зачем мои стремления, моя жизнь, когда всё кончится? Но теперь еще хуже: всё это не кончится, а вся эта бессмыслица, прихоть чья-то будет вечно продолжаться.
На вопрос, как мне жить, ответ этого учения тоже прямо отрицает всё то, чего требует мое нравственное чувство, и требует того, что мне всегда представлялось самым безнравственным, – лицемерия. Из всех нравственных приложений догматов вытекает одно: спасайся верою, не можешь понять того, во что велят верить – говори, что веришь, подавляй всеми силами души потребность света и истины, говори, что веришь, и делай то, что вытекает из веры. Дела ясны. Несмотря на все оговорки о том, что нужны зачем-то добрые дела и нужно следовать учению Христа о любви, смирении и самоотвержении, очевидно, что эти дела не нужны, и практика жизни всех верующих так и подтверждает это. Логика неумолима. Зачем дела, когда я искуплен смертью бога. Надо только верить. Да и как я могу бороться, стремиться к добру, в чем одном я понимал прежде добрые дела, когда главный догмат веры тот, что человек сам ничего не может, а всё дается туне благодатью. Надо только искать благодати. Благодать же приобретается не мной одним, а сообщается мне другими. Если я даже не успею освятиться при моей жизни благодатью, то есть средства воспользоваться ею и после смерти: можно оставить деньги на церковь, и за меня будут молиться. От меня требуется одно: чтобы я искал благодати. Благодать же дается таинствами и молитвами церкви. Стало быть, и надо прибегать к ним и обставить себя так, чтобы никогда не быть лишенным их, – иметь при себе попов или жить при монастыре и оставить побольше денег на поминовенье. Мало того, обеспечив себя так для будущей жизни, я могу спокойно пользоваться этою и для этой жизни пользоваться теми орудиями, которые мне даются церковью, молясь богу промыслителю о пособии им моим земным делам, так как мне указано, как и каким образом эти молитвы будут действительнее. Молиться действительнее подле икон, мощей, во время литургии.
И ответ на вопрос, что мне делать, ясно вытекает из учения, и ответ этот слишком знаком каждому и слишком грубо противоречит совести. Но он неизбежен.
Помню, когда я, еще не сомневаясь в учении церкви, читал в Евангелии слова: «хула на сына человеческого простится вам, но хула на св. духа не простится ни в этом веке, ни в будущем», – я никак не мог понять этих слов.
Теперь же они, эти слова, мне слишком, ужасно ясны. Вот она, та хула на святого духа, которая не простится ни в этом веке, ни в будущем. Хула эта – это ужасное учение церкви, основа которого есть учение о церкви.
–
Православная церковь?
Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженных людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженных людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ. Как же я могу верить этой церкви и верить ей тогда, когда на глубочайшие вопросы о своей душе она отвечает жалкими обманами и нелепостями и еще утверждает, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководиться ничем иным, как только ее указаниями. Цвет панталон я могу выбрать, жену могу выбрать, дом построить по моему вкусу, но остальное, то самое, в чем я чувствую себя человеком, во всем том я должен спроситься у них – у этих праздных и обманывающих и невежественных людей. В своей жизни, в святыне своей у меня руководитель – пастырь, мой приходский священник, выпущенный из семинарии, одуренный, полуграмотный мальчик, или пьющий старик, которого одна забота – собрать побольше яиц и копеек. Велят они, чтобы на молитве дьякон половину времени кричал многая лета правоверной, благочестивой блуднице Екатерине II или благочестивейшему разбойнику, убийце Петру, который кощунствовал на Евангелии, и я должен молиться об этом. Велят они проклясть, и пережечь, и перевешать моих братьев, и я должен за ними кричать анафема; велят эти люди моих братьев считать проклятыми, и я кричи анафема. Велят мне ходить пить вино из ложечки и клясться, что это не вино, а тело и кровь, и я должен делать.
Да ведь это ужасно! Ужасно, если бы возможно было. На деле же этого нет, но не оттого, чтобы они ослабели в своих требованиях – они всё так же орут анафема, кому велят, и многая лета, кому тоже велят; но на деле уже давно, давно никто их не слушает. Мы, люди так называемые образованные (я помню свои тридцать лет жизни вне веры), даже не презираем, а просто не обращаем никакого внимания, даже любопытства не имеем знать, что они там делают и пишут и говорят. Пришел поп – дать полтинник. Церковь, построенную для тщеславия, святить – позвать долгогривого архиерея, дать сотню. Народ еще меньше обращает внимания. На масленице надо блины печь, на страстной говеть, а если возникнет вопрос душевный для нашего брата, идешь к умным, ученым мыслителям, к их книгам, или к писанию святых, но не к попам. Люди же из народа, как только в них проснется религиозное чувство, идут в раскол, штундисты, молоканы. Так что уже давно попы служат для себя, для слабоумных и плутов и для женщин. Надо думать, что скоро они будут поучать и пасти только друг друга.
Это так, но все-таки что же значит, что есть люди умные, которые разделяют это заблуждение? Что значит эта церковь, заведшая их в такие непроходимые леса глупости? – Церковь – это, по их определениям, собрание верующих, попов, непогрешимое и святое.
«Не подобает мирянину», говорит именно 64-ое правило вселенского собора, «произносити слово или учити и тако брати на себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от господа чину, отверзати ухо приявшим благодать учительского слова и от них научаться божественному слову. Ибо в единой церкви разные чины сотворих бог, по слову апостола (1 Кор. 12, 27, 28), которое изъясняя, Григорий Богослов ясно показывает находящийся в них чин, глаголя: «сей, братия, чин почтим, сей сохраним; сей да будет ухом, а тот языком; сей рукою, а другий иным чем-либо; сей да учит, тот да учится». И после немногих слов далее глаголет: «учащийся да будет в повиновении, раздающий да раздает с веселием, служащий да служит с усердием. Да не будем все языком, аще и всего ближе сие, ни все апостолами, ни все пророками, ни все истолкователями». И посла неких слов еще глаголет: «почто твориши себе пастырем, будучи овцою; почто делаешися главою, будучи ногою; почто покушаешися военачательствовати, быв поставлен в ряду воинов»; и в другом месте повелевает премудрость: «не буди скор в словах (Екклез. 5, 1); не распростирайся, убог сый, с богатым (Притч. 23, 4); не ищи мудрых мудрейший быти. Аще же кто усмотрен будет нарушающим настоящее правило, на четыредесять дней да будет отлучен от общения церковного».
Понятно после сего, в каком смысле должно разуметь слово церковь, когда речь идет о непогрешимости ее в деле учения. Непогрешима, без сомнения, вообще вся церковь Христова, состоящая из пастырей и пасомых. Но так как блюсти, проповедывать и истолковывать людям божественное откровение предоставлено собственно сословию пастырей, так как пасомые обязаны неуклонно последовать в сем святом деле гласу своих богопоставленных наставников (Ефес. 4, 11—15; Деян. 20, 28; Евр. 5, 4; 13, 17), то очевидно, что при раскрытии учения о непогрешимости церкви преимущественно надо иметь в виду церковь учащую, соединенную, впрочем, нераздельно с церковью учимою.
Из этого ясно, что разумеет церковь под церковью: не что иное, как право одной ей учить. А в объяснение этого права она говорит, что она непогрешима. Непогрешима же она – она говорит – потому, что она ведет свое учение от источника истины – от Христа. Но как только есть два учения, одинаково ведущие свое учение от Христа, так распадается эта основа доводов и всё на ней зиждующееся и остаются одни поводы к такому бессмысленному учению. Поводы ясны как теперь, при взгляде на дворцы и кареты архиереев, так и в VI веке, глядя на роскошь патриархов, так и в первые времена апостольские, приняв в соображение желание каждого учителя подтвердить истинность своего учения. Но церковь утверждает, что ее учение зиждается на учении божественном. Доводы из Деяний и посланий неправильно приводятся в этом случае, ибо апостолы были первые люди, выставившие начало церкви, той самой, истинность которой требуется доказать, и потому их учение так же мало, как и учение позднейшее, может подтвердить то, что учение основано на учении Христа. Как бы близки по времени они ни были к Христу, по учению церкви, они – люди, он – бог. Всё, что он сказал, истинно, всё, что они сказали, подлежит доказательству и опровержению. Церкви чувствовали это и потому поспешили на апостольское учение наложить печать непогрешимости святого духа. Но, отстраняя эту уловку и приступая к самому учению Христа, нельзя не быть пораженным той смешной дерзостью, с которой учители церкви хотят основать свое учение на учении Иисуса, прямо отрицающем то, что они хотят утвердить.
Слово «экклезия», не имеющее никакого другого значения, как собрание, только два раза употреблено в Евангелиях, и то у Матвея: На тебе, на верном ученике, как на камне, я утвержу собрание мое – соединение людей, – раз; и другой раз в том смысле, что если брат твой тебя не послушает, то скажи при собрании людей, потому что, что вы развяжете здесь (разумея свою злобу, досаду), то развяжется на небе, т. е. в боге. Что же делают из этого попы?
Явившись на земле, чтобы совершить великое дело нашего искупления, спаситель сначала только одному себе усвоял право учить людей истинной вере, полученное им от отца. «Дух господень на мне, говорит он, его же ради помаза мя благочестити нищим, посла мя исцелити сокрушенные сердцем; проповедати плененным отпущение и слепым прозрение; отпустити сокрушенные в отраду; проповедати лето господне приятно» (Лк. 4, 18, 19), и, проходя грады и веси с проповедию Евангелия, присовокуплял: «аз на сие родихся и на сие приидох в мир»… (Иоан. 18, 37), «аз на сие послан есмь» (Лк. 4, 43), заповедуя в то же время народом и учеником: «вы же не нарицайтеся учители: един бо есть вам учитель Христос… ниже нарицайтеся наставницы: един бо есть вам наставник Христос» (Мф. 23, 1, 8, 10). Потом он передал свое божественное право учительства своим ученикам, двенадцати и семидесяти, которых сам нарочно избрал к этому великому служению из среды всех своих слушателей (Лк. 6, 13; снес. 10, 1 и след.), предал сперва на время еще во дни своей земной жизни, когда посылал их проповедывать Евангелие царствия только овцам погибшим дому израилева (Мф. 10, 5—16 и дал.), а затем и навсегда по воскресении своем, когда, совершив сам всё дело свое на земле и отходя на небо, сказал им: «якоже посла мя отец, и аз посылаю вы» (Иоан. 20, 21), «шедше научите вся языки, крестяще их во имя отца и сына и святого духа» (Мф. 28, 19); и, с другой стороны, весьма ясно и с страшными угрозами обязал всех людей и будущих христиан принимать учение апостолов и им повиноваться: «слушаяй вас, мене слушает, и отметаяйся вас, мене отметается; отметаяйся же мене, отметается пославшего мя» (Лк. 10, 16; смотри также Мф. 10, 14; 18, 15, 19; Мр. 16, 16).
Наконец, в то же самое время, как передавал господь свое божественное право учительства апостолам, он выразил желание, чтобы от апостолов непосредственно перешло право это и на их преемников, а от сих последних, переходя из рода в род, сохранялось в мире до самого скончания мира. Ибо он сказал ученикам своим: «шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари, – шедше научите вся языки, крестяще их во имя отца и сына и святого духа; учаще их блюсти вся, елика заповедах вам: и се аз с вами есмь во вся дни до скончания века» (Мр. 16, 15; Мф. 28. 18—20).
Но эти ученики, без сомнения, не могли жить до скончания века, и если могли проповедывать Евангелие всем языкам, какие только были им современны, то не могли же проповедывать народам последующих веков. Следовательно, в лице своих апостолов спаситель послал на дело всемирной проповеди, равно как обнадежил своим присутствием, и всех их будущих преемников: это не простое гадание ума, а положительное учение одного из самих апостолов, который говорит, что «сам Христос дал церкви своей не только апостолы, пророки, благовестники, но и пастыри и учители» (Ефес. 4, 11).
Даже принимая то непонятное, очевидно добавленное место о крещении во имя отца, сына и святого духа, нет ни слова на указание о церкви. Напротив, прямое указание о том, что не называйтесь учителями. Что можно сказать яснее против церкви, по понятиям церкви? И это-то самое место, как бы в насмешку над здравым смыслом, они приводят. А против учительства? Не два, не три места, – кроме «учителей» говорит весь смысл Евангелия («Мы твоим именем учили». – «Идите в геенну, творящие беззаконие»). Все речи к фарисеям и о внешнем богопочитании, о том, чтобы слепому не водить слепого, и мн. др. Но главное, весь смысл учения Иисуса у Иоанна и других евангелистов. – Он пришел благовествовать нищим духом и называет их блаженными. Несколько раз повторяет, что учение его доступно и понятно младенцам и несмышленным, преимущественно перед мудрыми и учеными, и избрал глупых, неученых и забитых, и они поняли. Говорит, что пришел не учить, но исполнять. И исполнил своей жизнью. Повторяет и повторяет, что кто будет исполнять, тот узнает, от бога ли оно, что блажен исполняющий, а не учащий. Что кто исполнит, тот велик, – тот, кто будет творить, а не тот, кто будет учить. Гневается на одних только: на одних учащих; говорит: не судите о других. Говорит, что он один открыл дверь овцам, что овцы знают его, и он знает их. И вот непрошенные пастыри, волки в одежде овчей, пришли в одежде блудниц, стали перед ним и говорят – они, творящие беззаконие: мы – не он, а мы дверь овцам.
Поводы понятны. Понятны особенно в первые времена, когда первый Павел заговорил о церкви и непогрешимости. Одушевленный верой истинной, понятно, что горячий человек мог, не поняв вполне дух учителя, отступить от его учения. Понятны и другие ближайшие по времени. Понятно после, при давлении власти Константина, как могли увлечься желанием поскорее утвердить свою внешнюю веру; понятны все войны, насилия во имя этого отступления от духа учения. Но пришло время, когда надо отделить овец от козлов, они сами уже разделились теперь так, что истинное учение уже не может встретиться в церквах. Стрелка развела уже далеко два пути. И теперь ясно, что учительство церкви, хотя и возникшее из малого отступления, теперь есть злейший враг христианства; что пастыри ее служат чему хотите, только не учению Иисуса, потому что отрицают его.
Учение о церкви учительской есть теперь учение чисто враждебное христианству. Отступив от духа учения, оно извратило его до того, что дошло до его отрицания всей жизнью: вместо унижения – величие, вместо бедности – роскошь, вместо неосуждения – осуждение жесточайшее всех, вместо прощения обид – ненависть, войны, вместо терпения зла – казни. И все отрицают друг друга. Чего еще? Имя Христовой церкви не может спасти ее. – Но в определении церкви есть еще, кроме определения церкви пастырей, еще какое-то неясное определение церкви пасомых, которые должны повиноваться. Что разумеется под первой, ясно, что же разумеется под второй, совершенно не ясно. Собрание верующих? Если верующие собрались верою в одно, то, разумеется, это собрание верующих. Такое есть собрание верующих в музыку Вагнера, в политическую экономию NN, в социальную теорию. К ним не приложимо слово церковь с присоединяемым к нему понятием непогрешимости, в чем вся и штука. Она есть собрание верующих и больше ничего, и видеть пределы этой церкви нельзя, так как вера не плотское дело. Вот ваша поповская вера, ту можно ощупать на катехизисах, панагиях и другом вздоре, но вера верующих, то единое, что есть в людях жизнь и свет, того нельзя ощупать и сказать, где оно есть и сколько его. Стало быть, это сказано только для того, чтобы пастырям было кого пасти, другого нет смысла. Церковь, всё это слово, есть название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими. И другой нет и не может быть церкви. Только на этом обмане построились на истинном учении, пронесенном всеми церквами, те безобразные догматы, которые уродуют и закрывают всё учение. И божество Иисуса, и святой дух, и троица, и дева богородица, и все дикие обряды, потому называемые таинствами, что они не имеют смысла и никому ненужны, исключая таинства священства, нужного для попов, чтобы собирать яйца.
Но кто бы вынес, выправил священное писание, чему бы верили, кто бы учил, если бы не было церкви?
Священное писание вынесли не те, которые спорили, а те, которые верили и делали. Священное предание есть предание дел и жизни. Учили только те, которые учили жизнью, так чтобы свет их светил перед людьми. Верили и верят только делам. «Если не верите мне, верьте делам моим». Не я и никто не призван судить других и прошедшее. То, что было, то было. Теперь же я вижу, что только дела преемственны, учат меня и народ, и только учения и споры развращают его и лишают веры. И в самом деле, начиная с перстосложения через вопросы опресноков, крещения до гомогусии и негомогусии, все споры шли о том, что никому не нужно, что не есть предмет веры. Теперь дошло до того, что предметом веры представляется вопрос о том, погрешим ли папа, и Мария родилась ли по-человечески или нет. Предмет же веры, жизнь, никогда не был и не мог быть предметом спора. Как ты покажешь веру? А я покажу дела.
Но где же истинная церковь, истинно верующие, как узнать, кто в истине, кто нет? спросят те, которые не поняли учения Иисуса.
Где церковь, т. е. где пределы ее? Если ты в церкви, то ты не можешь видеть пределов ее. Если ты верующий, то ты скажешь: как бы мне-то спастись, а уж где мне судить о других.
Для того, кто понял учение Иисуса, оно в том состоит, что мне, моему свету, дано идти к свету, мне дана моя жизнь. И кроме ее и большее ее ничего нет, кроме источника всякой жизни – бога. Всё учение смирения, жизни настоящим, отречения от богатства, любви к ближнему, только имеет тот смысл, что я эту жизнь могу сделать жизнью самой в себе бесконечной. Всякое мое отношение к чужой жизни есть только вознесение моей, общение, единение с тою же в мире и в боге. Собою только я могу постигнуть истину, – и делом, тем, что все действия мои делаются последствиями вознесения моей жизни, я могу выразить эту истину.
Какое же место для меня, понимающего так жизнь, – а иначе я не понимаю ее, – занимает вопрос о том, что другие думают, как другие живут? Любя их, я не могу не желать сообщить им мое счастье, но одно орудие, данное мне, это – сознание моей жизни и дела ее. Я не могу желать, думать, верить за другого. Я возношу свою жизнь, и это одно может вознести жизнь другого, да и другой – я же. Так, если я вознесу себя, я вознесу всех. «Я в них, и они во мне».
Всё учение Иисуса только в том, что простыми словами повторяет народ: спасти свою душу, но направляй силы только на свою, потому что она всё. Страдай, терпи зло, не суди – всё только говорит одно. При всяком же прикосновении к делам мира Иисус учит нас примером полного равнодушия, если не презрения к царям, почитающимся князьями народов, к подати на храм и кесарю, к разборам тяжб о наследстве, к казни преступницы, к пролитию драгоценного мира. Всё, что не твоя душа, всё это не твое дело. Ищите царства небесного и правды его в своей душе, и всё будет хорошо. И в самом деле: мне дана во власть моя душа, так же точно и всякому. Чужими душами я не только не могу владеть, не могу постигнуть их. Как же мне исправлять их, учить? И как мне терять силы на то, что не во власти моей, а упускать то, что в моей власти?
Иисус, кроме учения, своею жизнью показал ложность устройства этого мира, космоса, в котором все будто бы заняты благом других, тогда как их цель – одно потворство похоти, любовь тьмы. Посмотри какое хочешь зло, и увидишь, что у творящего его есть отговорка блага ближнего. Когда увидишь, что человек борется с другим, обижает его и говорит, что он это делает для блага людей, поищи, чего именно хочется человеку, и найдешь, что он для своего хотенья делает это.
И вот непонимание этого завлекло людей в мнимое желание учить других и породило церковь со всеми ее ужасами и безобразиями. Но что же будет, если не будет церкви? Будет то, что есть и теперь. То, что сказал Иисус, он сказал не потому, что ему хотелось, а потому, что это так есть. Он сказал: творите добрые дела, чтобы люди, видя их, прославляли бога.
И только это одно ученье было и будет с тех пор, как стоял и будет стоять мир. В делах нет разногласия. А в исповедании, в понимании, во внешнем богопочитании, если есть и будет разногласие, то оно не касается веры и дел и никому не мешает. Церковь хотела соединить эти исповедания и внешние богопочитания, а они распались на бесчисленное количество толков, и одно отвергло другое и тем показало, что ни исповедание, ни богопочитание не есть дело веры. Дело веры есть только жизнь по вере. И жизнь одна выше всего и не может быть подчинена ничему, кроме бога, познаваемого только жизнью.
В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?
Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14 или 15 детских, 35 лет я прожил нигилистом в настоящем значении этого слова, то есть не социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия всякой веры.
Пять лет тому назад я поверил в учение Христа – и жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мной случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг дорогой решил, что дело это ему совсем не нужно,– и повернул домой. И всё, что было справа, – стало слева, и всё, что было слева, – стало справа: прежнее желание – быть как можно дальше от дома – переменилось на желание быть как можно ближе от него. Направление моей жизни – желания мои стали другие: и доброе и злое переменилось местами. Всё это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как я понимал его прежде.
Я не толковать хочу учение Христа, я хочу только рассказать, как я понял то, что есть самого простого, ясного, понятного и несомненного, обращенного ко всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастие.
Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его.
Все христианские церкви всегда признавали, что все люди, неравные по своей учености и уму, – умные и глупые, – равны перед богом, что всем доступна божеская истина. Христос сказал даже, что воля бога в том, что немудрым открывается то, что скрыто от мудрых.
Не все могут быть посвящены в глубочайшие тайны догматики, гомилетики, патристики, литургики, герменевтики, апологетики и др., но все могут и должны понять то, что Христос говорил всем миллионам простых, немудрых, живших и живущих людей. Так вот то самое, что Христос сказал всем этим простым людям, не имевшим еще возможности обращаться за разъяснениями его учения к Павлу, Клименту, Златоусту и другим, это самое я не понимал прежде, а теперь понял; и это самое хочу сказать всем.
Разбойник на кресте поверил в Христа и спасся. Неужели было бы дурно и для кого-нибудь вредно, если бы разбойник не умер на кресте, а сошел бы с него и рассказал людям, как он поверил в Христа.
Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастия, в котором я нахожусь теперь.
Я, как разбойник, знал, что жил и живу скверно, видел, что большинство людей вокруг меня живет так же. Я так же, как разбойник, знал, что я несчастлив и страдаю и что вокруг меня люди также несчастливы и страдают, и не видал никакого выхода, кроме смерти, из этого положения. Я так же, как разбойник к кресту, был пригвожден какой-то силой к этой жизни страданий и зла. И как разбойника ожидал страшный мрак смерти после бессмысленных страданий и зла жизни, так и меня ожидало то же.
Во всем этом я был совершенно подобен разбойнику, но различие мое от разбойника было в том, что он умирал уже, а я еще жил. Разбойник мог поверить тому, что спасение его будет там, за гробом, а я не мог поверить этому, потому что кроме жизни за гробом мне предстояла еще и жизнь здесь. А я не понимал этой жизни. Она мне казалась ужасна. И вдруг я услыхал слова Христа, понял их, и жизнь и смерть перестали мне казаться злом, и, вместо отчаяния, я испытал радость и счастье жизни, не нарушимые смертью.
Неужели для кого-нибудь может быть вредно, если я расскажу, как это сделалось со мной?
I
О том, почему я прежде не понимал учения Христа и как и почему я понял его, я написал два большие сочинения: Критику догматического богословия и новый перевод и соединение четырех Евангелий с объяснениями. В сочинениях этих я методически, шаг за шагом стараюсь разобрать всё то, что скрывает от людей истину, и стих за стихом вновь перевожу, сличаю и соединяю четыре Евангелия.
Работа эта продолжается уже шестой год. Каждый год, каждый месяц я нахожу новые и новые уяснения и подтверждения основной мысли, исправляю вкравшиеся в мою работу, от поспешности и увлеченья, ошибки, исправляю их и дополняю то, что сделано. Жизнь моя, которой остается уже немного, вероятно, кончится раньше этой работы. Но я уверен, что работа эта нужна, и потому делаю, пока жив, что могу.
Такова моя продолжительная внешняя работа над богословием, Евангелиями. Но внутренняя работа моя, та, про которую я хочу рассказать здесь, была не такая. Это не было методическое исследование богословия и текстов Евангелий, – это было мгновенное устранение всего того, что скрывало смысл учения, и мгновенное озарение светом истины. Это было событие, подобное тому, которое случилось бы с человеком, тщетно отыскивающим по ложному рисунку значение кучи мелких перемешанных кусков мрамора, когда бы вдруг по одному наибольшему куску он догадался, что это совсем другая статуя; и, начав восстановлять новую, вместо прежней бессвязности кусков, на каждом обломке, всеми изгибами излома сходящимися с другими и составляющими одно целое, увидал бы подтверждение своей мысли. Это самое случилось со мной. И вот это-то я хочу рассказать.
Я хочу рассказать, как я нашел тот ключ к пониманию учения Христа, который мне открыл истину с ясностью и убедительностью, исключающими сомнение.
Открытие это сделано было мною так: С тех первых пор детства почти, когда я стал для себя читать Евангелие, во всем Евангелии трогало и умиляло меня больше всего то учение Христа, в котором проповедуется любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло. Такова и оставалась для меня всегда сущность христианства, то, что я сердцем любил в нем, то, во имя чего я после отчаяния, неверия признал истинным тот смысл, который придает жизни христианский трудовой народ, и во имя чего я подчинил себя тем же верованиям, которые исповедует этот народ, т. е. православной церкви. Но, подчинив себя церкви, я скоро заметил, что я не найду в учении церкви подтверждения, уяснения тех начал христианства, которые казались для меня главными; я заметил, что эта дорогая мне сущность христианства не составляет главного в учении церкви. Я заметил, что то, что представлялось мне важнейшим в учении Христа, не признается церковью самым важным. Самым важным церковью признается другое. Сначала я не приписывал значения этой особенности церковного учения. «Ну что ж, – думал я, – церковь, кроме того же смысла любви, смирения и самоотвержения, признает еще и этот смысл догматический и внешний. Смысл этот чужд мне, даже отталкивает меня, но вредного тут нет ничего».
Но чем дальше я продолжал жить, покоряясь учению церкви, тем заметнее становилось мне, что эта особенность учения церкви не так безразлична, как она мне показалась сначала. Оттолкнули меня от церкви и странности догматов церкви, и признание и одобрение церковью гонений, казней и войн, и взаимное отрицание друг друга разными исповеданиями; но подорвало мое доверие к ней именно это равнодушие к тому, что мне казалось сущностью учения Христа, и, напротив, пристрастие к тому, что я считал несущественным. Мне чувствовалось, что тут что-то не так. Но что было не так, я никак не мог найти; не мог найти потому, что учение церкви не только не отрицало того, что казалось мне главным в учении Христа, но вполне признавало это, но признавало как-то так, что это главное в учении Христа становилось не на первое место. Я не мог упрекнуть церковь в том, что она отрицала существенное, но признавала церковь это существенное так, что оно не удовлетворяло меня. Церковь не давала мне того, чего я ожидал от нее.
Я перешел от нигилизма к церкви только потому, что сознал невозможность жизни без веры, без знания того, что хорошо и дурно помимо моих животных инстинктов. Знание это я думал найти в христианстве. Но христианство, как оно представлялось мне тогда, было только известное настроение – очень неопределенное, из которого не вытекали ясные и обязательные правила жизни. И за этими правилами я обратился к церкви. Но церковь давала мне такие правила, которые нисколько не приближали меня к дорогому мне христианскому настроению и, скорее, удаляли от него. И я не мог идти за нею. Мне была нужна и дорога жизнь, основанная на христианских истинах; а церковь мне давала правила жизни, вовсе чуждые дорогим мне истинам. Правила, даваемые церковью о вере в догматы, о соблюдении таинств, постов, молитв, мне были не нужны; а правил, основанных на христианских истинах, не было. Мало того, церковные правила ослабляли, иногда прямо уничтожали то христианское настроение, которое одно давало смысл моей жизни. Смущало меня больше всего то, что всё зло людское – осуждение частных людей, осуждение целых народов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений: казни, войны, всё это оправдывалось церковью. Учение Христа о смирении, неосуждении, прощении обид, о самоотвержении и любви на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле то, что было несовместимо с этим учением.
Неужели учение Христа было таково, что противоречия эти должны были существовать? Я не мог поверить этому. Кроме того, мне всегда казалось удивительным то, что, насколько я знал Евангелия, те места, на которых основывались определенные правила церкви о догматах – были места самые неясные; те же места, из которых вытекало исполнение учения, были самые определенные и ясные. А между тем догматы и вытекающие из них обязанности христианина определялись самым ясным, отчетливым образом; об исполнении же учения говорилось в самых неясных, туманных, мистических выражениях. Неужели этого хотел Христос, преподавая свое учение? Разрешение моих сомнений я мог найти только в Евангелиях. И я читал и перечитывал их. Из всех Евангелий, как что-то особенное, всегда выделялась для меня нагорная проповедь. И ее-то я читал чаще всего. Нигде, кроме как. в этом месте, Христос не говорит с такою торжественностью, нигде он не дает так много нравственных, ясных, понятных, прямо отзывающихся в сердце каждого правил, нигде он не говорит к большей толпе всяких простых людей. Если были ясные, определенные христианские правила, то они должны быть выражены тут. В этих трех главах Матфея я искал разъяснения моих недоумений.
Много и много раз я перечитывал нагорную проповедь и всякий раз испытывал одно и то же: восторг и умиление при чтении тех стихов о подставлении щеки, отдаче рубахи, примирении со всеми, любви к врагам – и то же чувство неудовлетворенности. Слова бога, обращенные ко всем, были неясны. Поставлено было слишком невозможное отречение от всего, уничтожавшее самую жизнь, как я понимал ее, и потому отречение от всего, казалось мне, не могло быть непременным условием спасения. А как скоро это не было непременное условие спасения, то не было ничего определенного и ясного. Я читал не одну нагорную проповедь, я читал все Евангелия, все богословские комментарии на них. Богословские объяснения о том, что изречения нагорной проповеди суть указания того совершенства, к которому должен стремиться человек, но что падший человек – весь в грехе и своими силами не может достигнуть этого совершенства, что спасенье человека в вере, молитве и благодати, – объяснения эти не удовлетворяли меня.
Я не соглашался с этим, потому что мне всегда казалось странным, для чего Христос, вперед зная, что исполнение его учения невозможно одними силами человека, дал такие ясные и прекрасные правила, относящиеся прямо к каждому отдельному человеку? Читая эти правила, мне всегда казалось, что они относятся прямо ко мне, от меня одного требуют исполнения.
Читая эти правила, на меня находила всегда радостная уверенность, что я могу сейчас, с этого часа, сделать всё это. И я хотел и пытался делать это; но как только я испытывал борьбу при исполнении, я невольно вспоминал учение церкви о том, что человек слаб и не может сам сделать этого, и ослабевал.
Мне говорили: надо верить и молиться.
Но я чувствовал, что я мало верю и потому не могу молиться. Мне говорили, что надо молиться, чтобы бог дал веру, ту веру, которая дает ту молитву, которая дает ту веру, которая дает ту молитву и т. д., до бесконечности.
Но и разум и опыт показывали мне, что средство это недействительно. Мне всё казалось, что действительны могут быть только мои усилия исполнять учение Христа.
И вот, после многих, многих тщетных исканий, изучений того, что было писано об этом в доказательство божественности этого учения и в доказательство небожественности его, после многих сомнений и страданий, я остался опять один с своим сердцем и с таинственной книгою пред собой. Я не мог дать ей того смысла, который давали другие, и не мог придать иного, и не мог отказаться от нее. И только изверившись одинаково и во все толкования ученой критики, и во все толкования ученого богословия, и откинув их все, по слову Христа: если не примете меня, как дети, не войдете в царствие божие…, я понял вдруг то, чего не понимал прежде. Я понял не тем, что я как-нибудь искусно, глубокомысленно переставлял, сличал, перетолковывал; напротив, всё открылось мне тем, что я забыл все толкования. Место, которое было для меня ключом всего, было место из V главы Матфея, стих 39-й: «Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу»… Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас не то что появилось что-нибудь новое, а отпало всё, что затемняло истину, и истина восстала предо мной во всем ее значении. «Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу». Слова эти вдруг показались мне совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде.
Прежде, читая это место, я всегда по какому-то странному затмению пропускал слова: а я говорю: не противься злу. Точно как будто слов этих совсем не было, или они не имели никакого определенного значения.
Впоследствии при беседах моих со многими и многими христианами, знавшими Евангелие, мне часто случалось замечать относительно этих слов то же затмение. Слов этих никто не помнил, и часто, при разговорах об этом месте, христиане брали Евангелие, чтобы проверить, – есть ли там эти слова. Также и я пропускал эти слова и начинал понимать только со следующих слов: «И кто ударит тебя в правую щеку… подставь левую…» и т. д. И всегда слова эти представлялись мне требованием страданий, лишений, не свойственных человеческой природе. Слова эти умиляли меня. Мне чувствовалось, что было бы прекрасно исполнить их. Но мне чувствовалось тоже и то, что я никогда не буду в силах исполнить их только для того, чтобы исполнить, чтобы страдать. Я говорил себе: ну, хорошо, я подставлю щеку, – меня другой раз прибьют; я отдам, – у меня отнимут всё. У меня не будет жизни. А мне дана жизнь, зачем же я лишусь ее? Этого не может требовать Христос. Прежде я говорил это себе, предполагая, что Христос этими словами восхваляет страдания и лишения и, восхваляя их, говорит преувеличенно и потому неточно и неясно; но теперь, когда я понял слова о непротивлении злу, мне ясно стало, что Христос ничего не преувеличивает и не требует никаких страданий для страданий, а только очень определенно и ясно говорит то, что говорит. Он говорит: «не противьтесь злу; и, делая так, вперед знайте, что могут найтись люди, которые, ударив вас по одной щеке и не встретив отпора, ударят и по другой; отняв рубаху, отнимут и кафтан; воспользовавшись вашей работой, заставят еще работать; будут брать без отдачи… И вот если это так будет, то вы все-таки не противьтесь злу. Тем, которые будут вас бить и обижать, все-таки делайте добро». И когда я понял эти слова так, как они сказаны, так сейчас же всё, что было темно, стало ясно, и что казалось преувеличенно, стало вполне точно. Я понял в первый раз, что центр тяжести всей мысли в словах: «не противься злу», а что последующее есть только разъяснение первого положения. Я понял, что Христос нисколько не велит подставлять щеку и отдавать кафтан для того, чтобы страдать, а велит не противиться злу и говорит, что при этом придется, может быть, и страдать. Точно так же, как отец, отправляющий своего сына в далекое путешествие, не приказывает сыну – недосыпать ночей, недоедать, мокнуть и зябнуть, если он скажет ему: «ты иди дорогой, и если придется тебе и мокнуть и зябнуть, ты все-таки иди». Христос не говорит: подставляйте щеки, страдайте, а он говорит: не противьтесь злу, и, что бы с вами ни было, не противьтесь злу. Слова эти: не противься злу или злому, понятые в их прямом значении, были для меня истинно ключом, открывшим мне всё. И мне стало удивительно, как мог я так навыворот понимать ясные, определенные слова. Вам сказано: зуб за зуб, а я говорю: не противься злу или злому, и, что бы с тобой ни делали злые, терпи, отдавай, но не противься злу или злым. Что же может быть яснее, понятнее и несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто и прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении Христа, не только в нагорной проповеди, но во всех Евангелиях, всё, что было запутано, стало понятно, что было противоречиво, стало согласно; и главное, что казалось излишне, стало необходимо. Всё слилось в одно целое и несомненно подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи, составленные так, как они должны быть. В этой проповеди и во всех Евангелиях со всех сторон подтверждалось то же учение о непротивлении злу.
В этой проповеди, как и во всех местах, везде Христос представляет себе своих учеников, т. е. людей, исполняющих правило о непротивлении злу, не иначе, как подставляющих щеку и отдающих кафтан, как гонимых, побиваемых и нищих.
Везде много раз Христос говорит, что тот, кто не взял крест, кто не отрекся от всего, тот не может быть его учеником, т. е. кто не готов на все последствия, вытекающие из исполнения правила о непротивлении злу. Ученикам Христос говорит: будьте нищие, будьте готовы, не противясь злу, принять гонения, страдания и смерть. Сам готовится на страдания и смерть, не противясь злу, и отгоняет от себя Петра, жалеющего об этом, и сам умирает, запрещая противиться злу и не изменяя своему учению.
Все первые ученики его исполняют это правило непротивления злу и всю жизнь проводят в нищете, гонениях и никогда не воздают злом за зло.
Стало быть, Христос говорил то, что говорил. Можно утверждать, что всегдашнее исполнение этого правила очень трудно, можно не соглашаться с тем, что каждый человек будет блажен, исполняя это правило, можно сказать, что это глупо, как говорят неверующие, что Христос был мечтатель, идеалист, который высказывал неисполнимые правила, которым и следовали по глупости его ученики, но никак нельзя не признавать, что Христос сказал очень ясно и определенно то самое, что хотел сказать: именно, что человек, по его учению, должен не противиться злу и что потому тот, кто принял его учение, не может противиться злу. А между тем, ни верующие, ни неверующие не понимают такого простого, ясного значения слов Христа.
II
Когда я понял, что слова: не противься злу, значат: не противься злу, всё мое прежнее представление о смысле учения Христа вдруг изменилось, и я ужаснулся перед тем не то что непониманием, а каким-то странным пониманием учения, в котором я находился до сих пор. Я знал, мы все знаем, что смысл христианского учения – в любви к людям. Сказать: подставить щеку, любить врагов – это значит выразить сущность христианства. Я знал это с детства, но отчего же я не понимал этих простых слов просто, а искал в них какой-то иносказательный смысл? Не противься злому – значит не противься злому никогда, т. е. никогда не делай насилия, т. е. такого поступка, который всегда противоположен любви. И если тебя при этом обидят, то перенеси обиду и все-таки не делай насилия над другим. Он сказал так ясно и просто, как нельзя сказать яснее. Как же я, веруя или стараясь верить, что тот, кто сказал это – бог, говорил, что исполнить это своими силами невозможно. Хозяин скажет мне: поди наруби дров, а я скажу: я своими силами не могу исполнить этого. Говоря это, я говорю одно из двух: или то, что я не верю тому, что говорит хозяин, или то, что я не хочу делать того, что велит хозяин. Про заповедь бога, которую он дал нам для исполнения, про которую он сказал: кто исполнит и научит так, тот большим наречется и т. д., про которую он сказал, что только те, которые исполняют, те получают жизнь, заповедь, которую он сам исполнил и которую выразил так ясно, просто, что в смысле ее не может быть сомнения, про эту-то заповедь я, никогда не попытавшись даже исполнить ее, говорил: исполнение ее невозможно одними моими силами, а нужна сверхъестественная помощь.
Бог сошел на землю, чтобы дать спасение людям. Спасение состоит в том, что второе лицо троицы, бог-сын, пострадал за людей, искупил перед отцом грех их и дал людям церковь, в которой хранится благодать, передающаяся верующим; но, кроме всего этого, этот бог-сын дал людям и учение и пример жизни для спасения. Как же я говорил, что правило жизни, выраженное им просто и ясно для всех, так трудно исполнять, что даже невозможно без сверхъестественной помощи? Он не только не сказал этого, он определенно сказал: непременно исполняйте, а кто не исполнит, тот не войдет в царство божие. И он никогда не говорил, что исполнение трудно, он, напротив, сказал: иго мое благо, и бремя мое легко. Иоанн, его евангелист, сказал: заповеди его не тяжки. Как же это я говорил, что то, что бог велел исполнять, то, исполнение чего он так точно определил, и сказал, что исполнять это легко, то, что он сам исполнил как человек и что исполняли первые последователи его; как же это я говорил, что исполнять это так трудно, что даже невозможно без сверхъестественной помощи? Если бы человек все усилия своего ума положил на то, чтобы уничтожить какой-нибудь данный закон, что действительнее для уничтожения этого закона мог бы сказать этот человек, как не то, что закон этот по существу неисполним и что мысль самого законодателя о своем законе такова, что закон этот неисполним, а что для исполнения его нужна сверхъестественная помощь? А это самое я думал по отношению к заповеди о непротивлении злу. И я стал вспоминать, как и когда вошла мне в голову эта странная мысль о том, что закон Христа божественен, но исполнять его нельзя. И, разобрав свое прошедшее, я понял, что мысль эта никогда не была передана мне во всей ее наготе (она бы оттолкнула меня), но что я, незаметно для себя, всосал ее с самого первого детства, и вся последующая жизнь моя только укрепляла во мне это странное заблуждение.
С детства меня учили тому, что Христос – бог и учение его божественно, но вместе с тем меня учили уважать те учреждения, которые насилием обеспечивают мою безопасность от злого, учили меня почитать эти учреждения священными. Меня учили противостоять злому и внушали, что унизительно и постыдно покоряться злому и терпеть от него, а похвально противиться ему. Меня учили судить и казнить. Потом меня учили воевать, т. е. убийством противодействовать злым, и воинство, которого я был членом, называли христолюбивым воинством; и деятельность эту освящали христианским благословением. Кроме того, с детства и до возмужалости меня учили уважать то, что прямо противоречит закону Христа. Дать отпор обидчику, отмстить насилием за оскорбление личное, семейное, народное; всё это не только не отрицали, но мне внушали, что всё это прекрасно и не противно закону Христа.
Всё меня окружающее: спокойствие, безопасность моя и семьи, моя собственность, всё построено было на законе, отвергнутом Христом, на законе: зуб за зуб.
Церковные учители учили тому, что учение Христа божественно, но исполнение его невозможно по слабости людской, и только благодать Христа может содействовать его исполнению. Светские учители и всё устройство жизни уже прямо признавали неисполнимость, мечтательность учения Христа, и речами и делами учили тому, что противно этому учению. Это признание неисполнимости учения бога до такой степени понемножку, незаметно всосалось в меня и стало привычно мне, и до такой степени оно совпадало с моими похотями, что я никогда не замечал прежде того противоречия, в котором я находился. Я не видал того, что невозможно в одно и то же время исповедывать Христа-бога, основа учения которого есть непротивление злому, и сознательно и спокойно работать для учреждения собственности, судов, государства, воинства, учреждать жизнь, противную учению Христа, и молиться этому Христу о том, чтобы между нами исполнялся закон непротивления злому и прощения. Мне не приходило еще в голову то, что теперь так ясно: что гораздо бы проще было устраивать и учреждать жизнь по закону Христа, а молиться уж о том, чтобы были суды, казни, войны, если они так нужны для нашего блага.
И я понял, откуда возникло мое заблуждение. Оно возникло из исповедания Христа на словах и отрицания его на деле.
Положение о непротивлении злому есть положение, связующее всё учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда оно есть закон.
Оно есть точно ключ, отпирающий всё, но только тогда, когда ключ этот просунут до замка. Признание этого положения за изречение, невозможное к исполнению без сверхъестественной помощи, есть уничтожение всего учения. Каким же, как не невозможным, может представляться людям то учение, из которого вынуто основное, связующее всё положение? Неверующим же оно даже прямо представляется глупым и не может представиться иным.
Поставить машину, затопить паровик, пустить в ход, но не надеть передаточного ремня – это самое сделано с учением Христа, когда стали учить, что можно быть христианином, не исполняя положения о непротивлении злу.
Я недавно с еврейским раввином читал V главу Матфея. Почти при всяком изречении раввин говорил: это есть в Библии, это есть в Талмуде, и указывал мне в Библии и Талмуде весьма близкие изречения к изречениям нагорной проповеди. Но когда мы дошли до стиха о непротивлении злу, он не сказал: и это есть в Талмуде, а только спросил меня с усмешкой: – И христиане исполняют это? подставляют другую щеку? – Мне нечего было отвечать, тем более, что я знал, что в это самое время христиане не только не подставляли щеки, но били евреев по подставленной щеке. Но мне интересно было знать, есть ли что-нибудь подобное в Библии или Талмуде, и я спросил его об этом. Он сказал: – Нет, этого нет, но вы скажите, исполняют ли христиане этот закон? – Вопросом этим он говорил мне, что присутствие такого правила в христианском законе, которое не только никем не исполняется, но которое сами христиане признают неисполнимым, есть признание неразумности и ненужности этого правила. И я не мог ничего отвечать ему.
Теперь, поняв прямой смысл учения, я вижу ясно то странное противоречие с самим собой, в котором я находился. Признав Христа богом и учение его божественным и вместе с тем устроив свою жизнь противно этому учению, что же оставалось, как не признавать учение неисполнимым? На словах я признал учение Христа священным, на деле я исповедывал совсем не христианское учение и признавал и поклонялся учреждениям не христианским, со всех сторон обнимающим мою жизнь.
Весь Ветхий Завет говорит, что несчастия народа иудейского происходили оттого, что он верил в ложных богов, но не в истинного бога. Самуил в первой книге, в главах 8-й и 12-й, обвиняет народ в том, что ко всем прежним своим отступлениям от бога он прибавил еще новое: на место бога, который был их царем, поставил человека-царя, который, по их мнению, спасет их. Не верьте в «тогу», в пустое, говорит Самуил народу (XII, 21 стих). Оно не поможет вам и не спасет вас, потому что оно «тогу», пустое. Чтобы не погибнуть вам с царем вашим, держитесь одного бога.
Вот вера в эти «тогу», в эти пустые кумиры и заслоняла от меня истину. На дороге к ней, заграждая ее свет, стояли предо мной те «тогу», от которых я не в силах был отречься.
На днях я шел в Боровицкие ворота; в воротах сидел старик, нищий-калека, обвязанный по ушам ветошкой. Я вынул кошелек, чтобы дать ему что-нибудь. В это время с горы из Кремля выбежал бравый молодой румяный малый, гренадер в казенном тулупе. Нищий, увидав солдата, испуганно вскочил и в прихромку побежал вниз к Александровскому саду. Гренадер погнался было за ним, но, не догнав, остановился и стал ругать нищего за то, что он не слушал запрещения и садился в воротах. Я подождал гренадера в воротах. Когда он поровнялся со мной, я спросил его: знает ли он грамоте?
– Знаю, а что? – Евангелие читал? – Читал. – А читал: «и кто накормит голодного?..»– Я сказал ему это место. Он знал его и выслушал. И я видел, что он смущен. Два прохожие остановились, слушая. Гренадеру, видно, больно было чувствовать, что он, отлично исполняя свою обязанность, – гоняя народ оттуда, откуда велено гонять, – вдруг оказался неправ. Он был смущен и, видимо, искал отговорки. Вдруг в умных черных глазах его блеснул свет, он повернулся ко мне боком, как бы уходя. – А воинский устав читал? – спросил он. Я сказал, что не читал. – Так и не говори, – сказал гренадер, тряхнув победоносно головой, и, запахнув тулуп, молодецки пошел к своему месту.
Это был единственный человек во всей моей жизни, строго логически разрешивший тот вечный вопрос, который при нашем общественном строе стоял передо мной и стоит перед каждым человеком, называющим себя христианином.
III
Напрасно говорят, что учение христианское касается личного спасения, а не касается вопросов общих, государственных. Это только смелое и голословное утверждение самой очевидной неправды, которая разрушается при первой серьезной мысли об этом. Хорошо, я не буду противиться злу, подставлю щеку, как частный человек, говорю я себе, но идет неприятель или угнетают народы, и меня призывают участвовать в борьбе со злыми – идти убивать их. И мне неизбежно решить вопрос: в чем служение богу и в чем служение «тогу». Идти ли на войну, или не идти? Я – мужик, меня выбирают в старшины, судьи, в присяжные, заставляют присягать, судить, наказывать, – что мне делать? Опять я должен выбирать между законом бога и законом человеческим. Я – монах, живу в монастыре, мужики отняли наш покос, меня посылают участвовать в борьбе со злыми – просить в суде на мужиков. Опять я должен выбрать. Ни один человек не может уйти от решения этого вопроса. Я не говорю уже о нашем сословии, деятельность которого почти вся состоит в противлении злым: военные, судейские, администраторы, но нет того частного, самого скромного человека, которому бы не предстояло это решение между служением богу, исполнением его заповедей, или служением «тогу», государственным учреждениям. Личная моя жизнь переплетена с общей государственной, а государственная требует от меня нехристианской деятельности, прямо противной заповеди Христа. Теперь с общей воинской повинностью и участием всех в суде в качестве присяжных, дилемма эта с поразительной резкостью поставлена пред всеми. Всякий человек должен взять орудие убийства: ружье, нож, и если не убить, то зарядить ружье и отточить нож, т. е. быть готовым на убийство. Каждый гражданин должен прийти в суд и быть участником суда и наказаний, т. е. каждый должен отречься от заповеди Христа непротивления злому не словом только, но делом.
Вопрос гренадера: Евангелие или воинский устав? закон божий или закон человеческий? – теперь стоит и при Самуиле стоял перед человечеством. Он стоял и перед самим Христом и перед учениками его. Стоит и перед теми, которые теперь хотят быть христианами, стоял и передо мной.
Закон Христа, с его учением любви, смирения, самоотвержения, всегда и прежде трогал мое сердце и привлекал меня к себе. Но со всех сторон, в истории, в современной окружающей меня, и в моей жизни я видел закон противоположный, противный моему сердцу, моей совести, моему разуму, но потакающий моим животным инстинктам. Я чувствовал, что, прими я закон Христа, я останусь один, и мне может быть плохо, мне придется быть гонимым и плачущим, то самое, что сказал Христос. Прими закон человеческий – меня все одобрят, я буду спокоен, обеспечен, и к моим услугам все изощрения ума, чтобы успокоить мою совесть. Я буду смеяться и веселиться, то самое, что сказал Христос. Я чувствовал это и потому не только не углублялся в значение закона Христа, но старался понять его так, чтобы он не мешал мне жить моей животной жизнью. А понять его так нельзя было, и потому я вовсе не понимал его.
В этом непонимании я доходил до теперь удивительного мне затмения. Для образца такого затмения приведу мое прежнее понимание слов: «Не судите, и не будете судимы» (Матф. VII, 1). «Не судите, и не будете судимы – не осуждайте, и не будете осуждены» (Луки VI, 37). Мне так несомненно казалось священным, не нарушающим закона бога учреждение судов, в которых я участвовал и которые ограждали мою собственность и безопасность, что никогда и в голову не приходило, чтобы это изречение могло значить что-нибудь другое, как не то, чтобы на словах не осуждать ближнего. Мне и в голову не приходило, чтобы Христос в этих словах мог говорить про суды: про земский суд, про уголовную палату, про окружные и мировые суды и всякие сенаты и департаменты. Только когда я понял в прямом значении слова о непротивлении злу, только тогда мне представился вопрос о том, как относится Христос ко всем этим судам и департаментам. И поняв, что он должен отрицать их, я спросил себя: Да не значит ли это: не только не судите ближнего на словах, но и не осуждайте судом – не судите ближних своими человеческими учреждениями – судами.
У Луки, гл. VI, с 37 по 49, слова эти сказаны тотчас после учения о непротивлении злу и о воздаянии добром за зло. Тотчас после слов: «будьте милосерды, как отец ваш на небе», сказано: «не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены». Не значит ли это, кроме осуждения ближнего, и то, чтобы не учреждать судов и не судить в них ближних? спросил я себя теперь. И стоило мне только поставить себе этот вопрос, чтобы и сердце и здравый смысл тотчас же ответили мне утвердительно.
Я знаю, как такое понимание этих слов поражает сначала. Меня оно тоже поразило. Чтобы показать, как я далек был от такого понимания, признаюсь в стыдной глупости. Уже после того, как я стал верующим и читал Евангелие как божественную книгу, я, при встрече с моими приятелями, прокурорами, судьями, в виде игривой шутки, говорил им: а вы всё судите, а сказано: не судите, и не судимы будете. Я так был уверен, что слова эти не могут значить ничего другого, как только запрещение злословия, что не понимал того страшного кощунства, которое я делал, говоря это. Я до того дошел, что, уверившись в том, что ясные слова эти значат не то, что значат, в шутку говорил их в их настоящем значении.
Расскажу подробно, как уничтожилось во мне всякое сомнение о том, что слова эти не могут быть понимаемы иначе, как в том смысле, что Христос запрещает всяческие человеческие учреждения судов, и словами этими ничего не мог сказать другого.
Первое, что поразило меня, когда я понял заповедь о непротивлении злу в ее прямом значении, было то, что суды человеческие не только не сходятся с нею, но прямо противны ей, противны и смыслу всего учения, и что поэтому Христос, если подумал о судах, то должен был отрицать их.
Христос говорит: не противиться злому. Цель судов – противиться злому. Христос предписывает: делать добро за зло. Суды воздают злом за зло. Христос говорит: не разбирать добрых и злых. Суды только то и делают, что этот разбор. Христос говорит: прощать всем. Прощать не раз, не семь раз, а без конца. Любить врагов. Делать добро ненавидящим. Суды не прощают, а наказывают, делают не добро, а зло тем, которых они называют врагами общества. Так что по смыслу выходило, что Христос должен был запрещать суды. Но, может быть, думал я, Христос не имел дела с человеческими судами и не думал о них. Но вижу, что этого нельзя предположить: Христос со дня рождения и до смерти сталкивался с судами Ирода, синедриона и первосвященников. И действительно, вижу, что Христос много раз прямо говорит про суды, как про зло. Ученикам он говорит, что их будут судить, и говорит, как им держаться на суде. Про себя говорил, что его засудят, и сам показывает, как надо относиться к суду человеческому. Стало быть, Христос думал о тех судах человеческих, которые должны были засудить его и его учеников, и засуждавшие и засуждающие миллионы людей. Христос видел это зло и прямо указывал на него. При исполнении приговора суда над блудницей он прямо отрицает суд и показывает, что человеку нельзя судить, потому что он сам виноватый. И эту же самую мысль он высказывает несколько раз, говоря, что засоренным глазом нельзя видеть сора в глазу другого, что слепой не может видеть слепого. Объясняет даже то, что происходит от такого заблуждения. Ученик станет такой же, как учитель.
Но, может быть, и высказав это по отношению к суду блудницы и указав притчей о спице на общую слабость человеческую, он все-таки не запрещает обращения к человеческому правосудию; в виду защиты от злых; но вижу, что этого никак нельзя допустить.
В нагорной проповеди, обращаясь ко всем, он говорит: и если кто хочет высудить у тебя рубаху, отдай и кафтан. Стало быть, он всем запрещает судиться.
Но, может быть, Христос говорит только о личном отношении каждого человека к судам, но не отрицает самого правосудия и допускает в христианском обществе людей, которые судят других в установленных учреждениях? Но вижу, что и этого нельзя предположить. Христос в молитве своей всем людям без исключения велит прощать другим, чтобы и им были прощены их вины. И повторяет эту мысль много раз. Стало быть, всякий человек и на молитве и прежде чем принести дар должен всем простить. Как же может судить и приговаривать по суду человек, который, по исповедуемой им вере, должен всем всегда прощать? И потому вижу, что, по учению Христа, христианский наказывающий судья быть не может.
Но, может быть по той связи, в которой находятся с другими слова: не судите и не осуждайте, видно, что в этом месте Христос, говоря: не судите, не думал о судах человеческих? Но этого тоже нет, напротив, ясно по связи речи, что, говоря: не судите, Христос говорит именно о судах, учреждениях: по Матфею и Луке, перед тем, чтобы сказать: не судите и не осуждайте, он говорит: не противьтесь злому, терпите зло, делайте добро всем. А перед этими словами повторяет, по Матфею, слова уголовного еврейского закона: око за око, зуб за зуб. И после этой ссылки на уголовный закон говорит: а вы делайте не так, не противьтесь злому, и потом уже говорит: не судите. Стало быть, Христос говорит именно про уголовный закон человеческий и его-то и отрицает словами не судите.
Кроме того, по Луке, он говорит не только: не судите, но – не судите и не осуждайте. Для чего-нибудь да прибавлено же это слово, имеющее почти то же значение. Прибавка этого слова может иметь только одну цель: выяснение значения, в котором должно пониматься первое слово.
Если бы он хотел сказать: не осуждайте ближнего, то он прибавил бы это слово, но он прибавляет слово, переводимое по-русски – не осуждайте. И после этого говорит: и не будете осуждены, всем прощайте, и будете прощены.
Но, может быть, все-таки Христос не думал про суды, говоря это, и я свою мысль нахожу в его словах, имеющих другое значение.
Справляюсь с тем, как первые ученики Христа, апостолы, смотрели на суды человеческие, признавали ли, одобряли ли их?
В главе IV, от 1—11, апостол Иаков говорит: Не злословьте друг друга, братия; кто злословит брата и судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если закон судишь, то ты не исполнитель закона, а судья. – законодатель и судья, который может спасти и погубить, – а ты кто, который судишь другого?
Слово, переданное словом злословить, есть слово καταλαλἐω. Без справки с лексиконом можно видеть, что слово это должно значить обвинять. И то самое оно и значит, в чем может убедиться всякий, справившись с лексиконом. Переведено: кто злословит брата, тот злословит закон. И невольно представляется вопрос: почему? Сколько бы я ни злословил брата, я не злословлю закон, но если я обвиняю и сужу судом брата, то очевидно, что я этим самым обвиняю закон Христа, т. е. я считаю закон Христа недостаточным и обвиняю и сужу закон. Тогда ясно, что я уже не исполняю его закон, а сам судья. Судья же, – говорит Христос, – тот, который может спасти. А как же я, не будучи в состоянии спасти, буду судьей, буду наказывать?
Всё место это говорит о суде человеческом и отрицает его. Всё послание это проникнуто тою же мыслью. В том же послании Иакова (гл. II, 1—13) говорится: 1) братия мои! вера в господа нашего Иисуса Христа прославленного да будет без лицеприятия. 2) Ибо если войдет в собрание ваше человек с золотым перстнем на руке, в богатой одежде, войдет же и нищий в худом платье; и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе прилично стать здесь; а нищему скажете: ты стань там, или садись здесь, при ногах моих; то не разрозниваетесь ли вы между собою и не представляете ли в себе судей с злыми помышлениями? 3) Послушайте, братия мои возлюбленные, не нищих ли мира сего бог избрал быть богатыми верою и наследниками царствия, которое обещал он любящим его? 4) А вы презрели нищего! Не богатые ли притесняют вас и не они ли влекут вас в суды? 5) Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? 6) Если вы исполняете царский закон по писанию, – возлюби ближнего твоего, как самого себя (Левит XIX, 18), – хорошо поступаете. 7) Но если смотрите на лица, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. 8) Ибо кто сохранит весь закон и в одном чем-нибудь согрешит, тот становится виновен во всем. 9) Ибо тот же, кто сказал: не прелюбодействуй, сказал: не убей. Почему, если ты не сделаешь прелюбодеяния, но убьешь, то ты всё преступник закона (Второзаконие XXII, 22; Левит XVIII, 17—25). 10) Говорите и поступайте как люди, которые должны быть судимы по закону свободы. Ибо суд без помилования тому, кто 11) не делает милости: милость торжествует над судом. (Последние слова – милость торжествует над судом – переводились, и часто, так: милость превозносится на суде, и переводились так в том смысле, что суд христианский может быть, но что он должен быть милостив.)
Иаков увещевает братьев не делать различия между людьми. Если вы делаете различие, то вы διαξκρίνατε, разрозниваетесь, как на суде судьи с злыми помышлениями. Вы рассудили, что нищий – хуже. А напротив, хуже – богатый. Он и угнетает вас и тащит в суд. Если вы живете по закону любви к ближнему, по закону милосердия (который, в отличие от другого, Иаков называет царским), то это хорошо. Но если смотрите на лица, делаете различие между людьми, то делаетесь преступниками закона милосердия. И, имея, вероятно, в виду пример блудницы, которую привели к Христу, чтобы по закону побить ее камнями, или вообще преступление прелюбодеяния, Иаков говорит, что тот, кто казнит смертию блудницу, будет виновен в убийстве и нарушит закон вечный. Потому что тот же вечный закон запрещает и блуд, и убийство. Он говорит: И поступайте, как люди, судимые законом свободы. Потому что нет милости тому, кто сам без милости, а потому милость уничтожает суд.
Как же еще сказать это яснее, определеннее: запрещается всякое различие между людьми, всякий суд о том, что этот хорош, а этот дурен, указывается прямо на суд человеческий, который несомненно дурен, и показывается, что суд этот сам преступен, казня за преступления, и что потому суд сам собою уничтожается законом бога – милосердием.
Читаю послания апостола Павла, пострадавшего от судов, и в первой же главе к римлянам читаю увещание, которое делает апостол римлянам за все их пороки и заблуждения, и в том числе за их суды (32): «Они хотя и знают праведный суд божий (т. е. что делающие таковые дела достойны смерти), однако не только сами их делают, но и делающих одобряют».
Глава II, 1) Итак, неизвинителен ты, человек, кто бы ты ни был, судящий другого; ибо тем же (судом), которым судишь другого, осуждаешь себя; потому что, судя другого, ты делаешь то же. 2) А мы знаем, что праведен суд божий на делающих таковые дела. 3) Неужели думаешь ты, человек, избежать суда божия, осуждая делающих таковые дела и (сам) делая то же? 4) Или ты пренебрегаешь богатством благости его и кротости и долготерпения, не помышляя, что благость божия ведет тебя к покаянию?
Апостол Павел говорит: они, зная справедливый суд бога, сами делают несправедливо и научают так делать других, и потому нельзя оправдать человека, который судит.
Такое отношение к судам я нахожу в посланиях апостолов, в жизни же их, как мы все знаем, суды человеческие представлялись им тем злом и соблазном, которые надо сносить с твердостью и преданностью воле божией.
Восстановив в своем воображении положение первых христиан среди язычников, каждый легко поймет, что запрещать суды гонимым человеческими судами христианам не могло приходить в голову. Только при случае они могли коснуться этого зла, отрицая основы его, как они делают это.
Справляюсь с учителями церкви первых веков и вижу, что учители первых веков все всегда определяли свое учение, отличающее их от всех других, тем, что они никого ни к чему не принуждают, никого не судят (Афинагор, Ориген), не казнят, а только переносят мучения, налагаемые на них судами человеческими. Все мученики делом исповедывали то же. Вижу, что всё христианство до Константина никогда иначе не смотрело на суды, как на зло, которое надо терпеливо переносить, но что никогда и в голову ни одному христианину того времени не могло прийти той мысли, чтобы христианин мог участвовать в суде.
Вижу, что слова Христа: не судите и не осуждайте, были поняты его первыми учениками так же, как я их понял теперь, в их прямом смысле: не судите в судах – не участвуйте в них.
Всё несомненно подтверждало мое убеждение, что слова – не судите и не осуждайте – значат не судите в судах; но толкование о том, что будто это значит: не злословьте ближнего, до такой степени общепринято и до такой степени смело и самоуверенно суды процветают во всех христианских государствах, опираясь даже на церковь, что я долго сомневался в справедливости моего понимания. Если все люди могли толковать так и учреждать христианские суды, то, вероятно, имели же они какое-нибудь основание, и что-нибудь ты не понимаешь, – говорил я себе. – Должны же быть те основания, по которым слова эти понимаются как злословие и должны же быть основания, на которых учреждаются христианские суды.
И я обратился к толкованиям церкви. Во всех этих толкованиях, с пятого века, я нашел, что слова эти принято понимать как осуждение на словах ближнего, т. е. как злословие.
И так как слова эти принято понимать только как осуждение на словах ближнего, то является затруднение: как не осуждать? Зло нельзя не осуждать. И потому все толкования вертятся на том, что можно и что нельзя осуждать. Говорится о том, что для служителей церкви это нельзя понимать как запрещение судить, что сами апостолы судили (Златоуст и Феофилакт). Говорится о том, что, вероятно, этим словом Христос указывает на иудеев, которые обвиняли ближних в малых грехах, а сами делали большие.
Но нигде ни слова не говорится о человеческих учреждениях, судах, о том, в каком отношении находятся суды эти к этому запрещению осуждать. Запрещает ли их Христос, или допускает? На этот естественный вопрос нет никакого ответа, как будто уже слишком очевидно то, что как скоро христианин сел на судейское место, то тогда он не только может осуждать ближнего, но и казнить его.
Справляюсь у греческих, католических, протестантских писателей и писателей тюбингенской школы и школы исторической. Всеми, даже самыми свободномыслящими толкователями слова эти понимаются как запрещение злословить. Но почему слова эти, противно всему учению Христа, понимаются так узко, что в запрещении судить не входит запрещение судов, почему предполагается, что Христос, запрещая осуждение ближнего, невольно сорвавшееся с языка, как дурное дело, такое же осуждение, совершаемое сознательно и связанное с причинением насилия над осужденным, не считает дурным делом и не запрещает, – на это нет ответа; и ни малейшего намека о том, чтобы можно было под осуждением разуметь и то осуждение, которое происходит на судах и от которого страдают миллионы. Мало того, по случаю этих слов: не судите и не осуждайте, этот-то самый жестокий прием судейского осуждения старательно обходится и даже выгораживается. Богословы-толкователи упоминают о том, что в христианских государствах суды должны быть и не противны закону Христа.
Заметив это, я уже усомнился в искренности этих толкований и обратился к самому переводу слов: судите и осуждайте к тому, с чего следовало бы начать.
В подлиннике слова эти κρίνω и καταδικάζω. Неверный перевод слова в послании Иакова, переведенного словом злословить, подтверждал мое сомнение в верности перевода.
Справляюсь, как переводятся в Евангелиях слова κρίνω и καταδικάζω на разные языки, и нахожу, что в Вульгате слово осуждать переведено condamnare; так же и по-французски; по-славянски – осуждать; у Лютера переведено verdammen – проклинать.
Различие этих переводов еще усиливает мои сомнения. И я задаю себе вопрос: что значат и могут значить греческое слово κρίνω, употребленное в обоих Евангелиях, и слово καταδικάζω, употребленное у Луки – евангелиста, писавшего, по мнению знатоков, на довольно хорошем греческом языке. Как переведет эти слова человек, ничего не знающий об учении евангельском и его толкованиях и имеющий перед собой одно это изречение?
Справляюсь с общим лексиконом и нахожу, что слово κρίνω имеет много различных значений, и в том числе весьма употребительное значение – приговаривать по суду, казнить даже, но никогда не имеет значения злословить. Справляюсь с лексиконом Нового Завета и нахожу, что слово это в Новом Завете часто употребляется в смысле приговаривать по суду. Иногда употребляется в смысле отбирать, но никогда в смысле злословить. Итак, вижу, что слово κρίνω можно перевести различно, но что перевод такой, при котором оно получает значение – злословить, есть самый далекий и неожиданный.
Справляюсь о слове καταδικάζω , присоединенном к слову κρίνω имеющему много значений, очевидно для того, чтобы определить то значение, в котором именно понимается писателем первое слово. Справляюсь о слове καταδικάζω в общем лексиконе и нахожу, что слово это никогда не имеет никакого другого значения, как только приговаривать по суду к наказаниям или казнить. Справляюсь с лексиконом Нового Завета и нахожу, что слово это употреблено в Новом Завете четыре раза, и всякий раз в смысле засудить, казнить. Справляюсь с контекстами и нахожу, что слово это употреблено в послании Иакова, гл. V, ст. 6, где сказано: «Вы осудили и убили праведного». Слово осудили, то самое слово καταδικάζω, употреблено по отношению к Христу, которого засудили. И иначе, в другом смысле, это слово никогда не употребляется ни во всем Новом Завете и ни в каком греческом языке.
Что ж это такое? До чего я объюродивел! Я и каждый из нас, живущий в нашем обществе, если только призадумывался над участью людей, ужасался пред теми страданиями и тем злом, которое вносят в жизнь людей уголовные законы человеческие – зло и для судимых, и для судящих: от казней Чингис-хана и казней революции до казней наших дней.
Всякий человек с сердцем не миновал того впечатления ужаса и сомнения в добре при рассказе даже, не говорю, при виде казни людей такими же людьми: шпицрутенов на смерть, гильотины, виселицы.
В Евангелии, каждое слово которого мы считаем священным, прямо и ясно сказано: у вас был уголовный закон – зуб за зуб, а я даю вам новый: не противьтесь злому; все исполняйте эту заповедь: не делайте зла за зло, а делайте всегда и всем добро, всех прощайте.
И далее прямо сказано: не судите. И чтобы невозможно было недоразумение о значении слов, которые сказаны, прибавлено: не приговаривайте по суду к наказаниям.
Сердце мое говорит ясно, внятно: не казните; наука говорит: не казните, чем больше казните – больше зла; разум говорит: не казните, злом нельзя пресечь зла. Слово бога, в которое я верю, говорит то же. И я читаю всё учение, читаю эти слова: не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и будете прощены, признаю, что это слово бога, и говорю, что это значит то, что не надо заниматься сплетнями и злословием, и продолжаю считать суды христианским учреждением и себя судьей и христианином. И я ужаснулся пред той грубостью обмана, в котором я находился.
IV
Я понял теперь, что говорит Христос, когда он говорит: Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противься злу, а терпи его. – Христос говорит: вам внушено, вы привыкли считать хорошим и разумным то, чтобы силой отстаиваться от зла и вырывать глаз за глаз, учреждать уголовные суды, полицию, войско, отстаиваться от врагов, а я говорю: не делайте насилия, не участвуйте в насилии, не делайте зла никому, даже тем, которых вы называете врагами. Я понял теперь, что в положении о непротивлении злу Христос говорит не только, что выйдет непосредственно для каждого от непротивления злу, но он, в противоположение той основы, которою жило при нем по Моисею, по римскому праву и теперь по разным кодексам живет человечество, ставит положение непротивления злу, которое, по его учению, должно быть основой жизни людей вместе и должно избавить человечество от зла, наносимого им самому себе. Он говорит: вы думаете, что ваши законы исправляют зло, – они только увеличивают его. Один есть путь пресечения зла – делание добра за зло всем без всякого различия. Вы тысячи лет пробовали ту основу, попробуйте мою – обратную.
Удивительное дело! В последнее время мне часто случалось говорить с самыми различными людьми об этом законе Христа – непротивления злу. Редко, но я встречал людей, соглашавшихся со мною. Но два рода людей никогда, даже в принципе, не допускают прямого понимания этого закона и горячо отстаивают справедливость противления злу. Это люди двух крайних полюсов: христиане патриоты-консерваторы, признающие свою церковь истинною, и атеисты-революционеры. Ни те, ни другие не хотят отказаться от права насилием противиться тому, что они считают злом. И самые умные, ученые люди из них никак не хотят видеть той простой, очевидной истины, что если допустить, что один человек может насилием противиться тому, что он считает злом, то точно так же другой может насилием противиться тому, что этот другой считает злом.
Недавно у меня была в руках поучительная в этом отношении переписка православного славянофила с христианином-революционером. Один отстаивал насилие войны во имя угнетенных братьев-славян, другой – насилие революции во имя угнетенных братьев – русских мужиков. Оба требуют насилия, и оба опираются на учение Христа.
Все на самые различные лады понимают учение Христа, но только не в том прямом простом смысле, который неизбежно вытекает из его слов.
Мы устроили всю свою жизнь на тех самых основах, которые он отрицает, не хотим понять его учение в его простом и прямом смысле и уверяем себя и других, или что мы исповедуем его учение, или что учение его нам не годится. Так называемые верующие верят, что Христос – бог, второе лицо троицы, сошедшее на землю для того, чтобы дать людям пример жизни, и исполняют сложнейшие дела, нужные для совершения таинств, для постройки церквей, для посылки миссионеров, учреждения монастырей, управления паствой, исправления веры, но одно маленькое обстоятельство они забывают – делать то, что он сказал. Неверующие всячески пробуют устроить свою жизнь, но только не по закону Христа, вперед решив, что этот закон не годится. Попытаться же делать то, что он говорит, этого никто не хочет. Но мало того, прежде чем даже попытаться делать это, и верующие и неверующие вперед решают, что это невозможно.
Он говорит просто, ясно: тот закон противления злу насилием, который вы положили в основу своей жизни, ложен и противоестественен; и дает другую основу – непротивления злу, которая, по его учению, одна может избавить человечество от зла. Он говорит: вы думаете, что ваши законы насилия исправляют зло; они только увеличивают его. Вы тысячи лет пытались уничтожить зло злом и не уничтожили его, а увеличили его. Делайте то, что я говорю и делаю, и узнаете, правда ли это.
И не только говорит, но сам всею своею жизнью и смертью исполняет свое учение о непротивлении злу.
Верующие всё это слушают, читают это в церквах, называя это божественными словами, его называют богом, но говорят: всё это очень хорошо, но это невозможно при нашем устройстве жизни, – это расстроит всю нашу жизнь, а мы к ней привыкли и любим ее. И потому мы верим во всё это в том только смысле, что это есть идеал, к которому должно стремиться человечество, – идеал, который достигается молитвою и верою в таинства, в искупление и в воскресение из мертвых. Другие же, неверующие, свободные толкователи учения Христа, историки религий, – Штраусы, Ренаны и другие, – усвоив вполне церковное толкование о том, что учение Христа не имеет никакого прямого приложения к жизни, а есть мечтательное учение, утешающее слабоумных людей, пресерьезно говорят о том, что учение Христа годно было для проповедания диким обитателям захолустьев Галилеи, но нам, с нашей культурой, оно представляется только милою мечтою «du charmant docteur»,27 как говорит Ренан. По их мнению, Христос не мог подняться до высоты понимания всей мудрости нашей цивилизации и культуры. Если бы он стоял на той же высоте образования, на которой стоят эти ученые люди, он не говорил бы тех милых пустяков: о птицах небесных, о подставлении щеки и заботе только о нынешнем дне. Ученые историки эти судят о христианстве по тому христианству, которое они видят в нашем обществе. По христианству же нашего общества и времени признается истинной и священной наша жизнь с ее устройством тюрем одиночного заключения, альказаров, фабрик, журналов, барделей и парламентов, и из учения Христа берется только то, что не нарушает этой жизни. А так как учение Христа отрицает всю эту жизнь, то из учения Христа не берется ничего, кроме слов. Ученые историки видят это и, не имея нужды скрывать это, как скрывают это мнимоверующие, это-то лишенное всякого содержания учение Христа и подвергают глубокомысленной критике и весьма основательно опровергают и доказывают, что в христианстве никогда ничего и не было, кроме мечтательных идей.
Казалось бы, прежде чем судить об учении Христа, надо понять, в чем оно состоит. И чтобы решать: разумно ли его учение или нет, надо прежде всего признавать, что он говорил то, что говорил. А этого-то мы и не делаем: ни церковные, ни вольнодумные толкователи. И очень хорошо знаем, почему мы этого не делаем.
Мы очень хорошо знаем, что учение Христа всегда обнимало и обнимает, отрицая их, все те заблуждения людские, те «тогу», пустые идолы, которые мы, назвав их церковью, государством, культурою, наукою, искусством, цивилизацией, думаем выгородить из ряда заблуждений. Но Христос против них-то и говорит, не выгораживая никаких «тогу».
Не только Христос, но все пророки еврейские – Иоанн Креститель, все истинные мудрецы мира об этой-то самой церкви, об этом самом государстве, об этой самой культуре, цивилизации и говорят, называя злом и погибелью людей.
Положим, строитель скажет жителю: ваш дом дурен, его надо весь перестроить. А потом будет говорить подробности о том, какие бревна, как срезать и куда положить. Житель пропустит мимо ушей слова о том, что дом дурен и надо его перестроить, и будет с притворным уважением слушать слова строителя о дальнейших распоряжениях и размещении в доме. Очевидно, все советы строителя будут казаться непригодными, а не уважающий строителя будет прямо называть эти советы глупыми. Это самое совершается так точно по отношению к учению Христа.
Не найдя лучшего сравнения, я употребил это. И вспомнил, что Христос, преподавая свое учение, употребил это самое сравнение. Он сказал: я разрушу ваш храм и в три дня построю новый. И за это самое его распяли. И за это самое и теперь распинают его учение.
Наименьшее, что можно требовать от людей, судящих о чьем-нибудь учении, это то, чтобы судили об учении учителя так, как он сам понимал его. А он понимал свое учение не как какой-то далекий идеал человечества, исполнение которого невозможно, не как мечтательные поэтические фантазии, которыми он пленял простодушных жителей Галилеи; он понимал свое учение как дело, такое дело, которое спасет человечество, и он не мечтал на кресте, а кричал и умер за свое учение. И так же умирали и умрут еще много людей. Нельзя говорить про такое учение, что оно – мечта.
Всякое учение истины – мечта для заблудших. Мы до того дошли, что есть много людей (и я был в числе их), которые говорят, что учение это мечтательно, потому что оно несвойственно природе человека. Несвойственно, говорят, природе человека подставить другую щеку, когда его ударяют по одной, несвойственно отдать свое чужому, несвойственно работать не на себя, а на другого. Человеку свойственно, говорят, отстаивать себя, свою безопасность, безопасность своей семьи, собственность, другими словами, – человеку свойственно бороться за свое существование. Ученый правовед научно доказывает, что самая священная обязанность человека есть отстаивание своего права, т. е. борьба.
Но стоит на минуту отрешиться от той мысли, что устройство, которое существует и сделано людьми, есть наилучшее, священное устройство жизни, чтобы возражение это о том, что учение Христа несвойственно природе человека, тотчас же обратилось против возражателей. Кто будет спорить о том, что не то, что мучить или убивать человека, но мучить собаку, убить курицу и теленка противно и мучительно природе человека. (Я знаю людей, живущих земледельческим трудом, которые перестали есть мясо только потому, что им приходилось самим убивать своих животных). А между тем, всё устройство нашей жизни таково, что всякое личное благо человека приобретается страданиями других людей, которые противны природе человека. Всё устройство нашей жизни, весь сложный механизм наших учреждений, имеющих целью насилие, свидетельствует о том, до какой степени насилие противно природе человека. Ни один судья не решится задушить веревкой того, кого он приговорил к смерти по своему правосудию. Ни один начальник не решится взять мужика из плачущей семьи и запереть его в острог. Ни один генерал или солдат без дисциплины, присяги и войны не убьет не только сотни турок или немцев и не разорит их деревень, но не решится ранить ни одного человека. Всё это делается только благодаря той сложнейшей машине государственной и общественной, задача которой состоит в том, чтобы разбивать ответственность совершаемых злодейств так, чтобы никто не чувствовал противоестественности этих поступков. Одни пишут законы, другие прилагают их, третьи муштруют людей, воспитывая в них привычки дисциплины, т. е. бессмысленного и безответного повиновения, четвертые эти самые вымуштрованные люди – делают всякого рода насилия, даже убивают людей, не зная зачем и для чего. Но стоит человеку хоть на минуту мысленно освободиться от этой сети устройства мирского, в которой он запутался, чтобы понять, что ему несвойственно.
Не будем только утверждать, что привычное зло, которым мы пользуемся, есть несомненная божественная истина, и тогда ясно, что естественно и свойственно человеку: насилие или закон Христа? Знать ли, что спокойствие и безопасность моя и семьи, все мои радости и веселья покупаются нищетой, развратом и страданиями миллионов, – ежегодными виселицами, сотнями тысяч страдающих узников и миллионом оторванных от семей и одуренных дисциплиной солдат, городовых и урядников, которые оберегают мои потехи заряженными на голодных людей пистолетами; покупать ли каждый сладкий кусок, который я кладу в свой рот или рот моих детей, всем тем страданием человечества, которое неизбежно для приобретения этих кусков; или знать, что какой ни есть кусок – мой кусок только тогда, когда он никому не нужен и никто из-за него не страдает. Стоит только понять раз, что это так, что всякая радость моя, всякая минута спокойствия при нашем устройстве жизни покупается лишениями и страданиями тысяч, удерживаемых насилием; стоит раз понять это, чтобы понять, что свойственно всей природе человека, т. е. не одной животной, но и разумной и животной природе человека; стоит только понять закон Христа во всем его значении, со всеми последствиями его для того, чтобы понять, что не учение Христа несвойственно человеческой природе, но всё оно только в том и состоит, чтобы откинуть несвойственное человеческой природе мечтательное учение людей о противлении злу, делающее их жизнь несчастною.
Учение Христа о непротивлении злу – мечта! А то, что жизнь людей, в душу которых вложена жалость и любовь друг к другу, проходила и теперь проходит для одних в устройстве костров, кнутов, колесований, плетей, рванья ноздрей, пыток, кандалов, каторг, виселиц, расстреливаний, одиночных заключений, острогов для женщин и детей, в устройстве побоищ десятками тысяч на войне, в устройстве периодических революций и пугачевщин, а жизнь других – в том, чтобы исполнять все эти ужасы, а третьих – в том, чтобы избегать этих страданий и отплачивать за них, – такая жизнь не мечта.
Стоит понять учение Христа, чтобы понять, что мир, не тот, который дан богом для радости человека, а тот мир, который учрежден людьми для погибели их, есть мечта, и мечта самая дикая, ужасная, бред сумасшедшего, от которого стоит только раз проснуться, чтобы уже никогда не возвращаться к этому страшному сновидению.
Бог сошел на землю; сын бога – одно лицо святой троицы, – вочеловечился, искупил грех Адама; бог этот, нас приучили так думать, должен был сказать что-нибудь таинственно-мистическое, такое, что трудно понять, что можно понять только помощью веры и благодати, и вдруг слова бога так просты, так ясны, так разумны. Бог говорит просто: не делайте друг другу зла – не будет зла. Неужели так просто откровение бога? Неужели только это сказал бог? Нам кажется, что мы это всё знаем. Это так просто.
Илья пророк, убегая от людей, укрылся в пещере, и ему было откровение, что бог явится ему у входа пещеры, Сделалась буря – ломались деревья. Илья подумал, что это бог, и посмотрел, но бога не было. Потом началась гроза; гром и молния были страшные. Илья вышел посмотреть, – нет ли бога, но бога не было. Потом сделалось землетрясение: огонь шел из земли, трескались скалы, валились горы. Илья посмотрел, но бога не было. Потом стало тихо, и легкий ветерок пахнул с освеженных полей. Илья посмотрел, – и бог был тут. Таковы и эти простые слова бога: не противься злу.
Они очень просты, но в них выражен закон бога и человека, единственный и вечный. Закон этот до такой степени вечен, что если и есть в исторической жизни движение вперед к устранению зла, то только благодаря тем людям, которые так поняли учение Христа и которые переносили зло, а не сопротивлялись ему насилием. Движение к добру человечества совершается не мучителями, а мучениками. Как огонь не тушит огня, так зло не может потушить зла. Только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло. То, что это так, есть в мире души человека такой же непреложный закон, как закон Галилея, но более непреложный, более ясный и полный. Люди могут отступать от него, скрывая его от других, но все-таки движение человечества к благу может совершаться только на этом пути. Всякий ход вперед сделан только во имя непротивления злу. И ученик Христа может увереннее, чем Галилей, в виду всех возможных соблазнов и угроз, утверждать: «И все-таки, не насилием, а добром только вы уничтожите зло». И если, медленно это движение, то только благодаря тому, что ясность, простота, разумность, неизбежность и обязательность учения Христа скрыты от большинства людей самым хитрым и опасным образом, скрыты под чужим учением, ложно называемым его учением.
V
Всё подтверждало верность открывшегося мне смысла учения Христа. Но долго я не мог привыкнуть к той странной мысли, что после 1800 лет исповедания Христова закона миллиардами людей после тысяч людей, посвятивших свою жизнь на изучение этого закона, теперь мне пришлось, как что-то новое, открывать закон Христа. Но как ни странно это было, это было так: учение Христа о непротивлении злу восстало предо мной, как что-то совершенно новое, о чем я не имел ни малейшего понятия. И я спросил себя: отчего это могло произойти? У меня должно было быть какое-нибудь ложное представление о значении учения Христа для того, чтобы я мог так не понять его. И ложное представление это было.
Приступая к чтению Евангелия, я не находился в том положении человека, который, никогда ничего не слыхав об учении Христа, вдруг в первый раз услыхал его; а во мне была уже готова целая теория о том, как я должен понимать его. Христос не представлялся мне пророком, который открывает мне божеский закон, а он представлялся мне дополнителем и разъяснителем уже известного мне несомненного закона бога. Я имел уже целое, определенное и очень сложное учение о боге, о сотворении мира и человека и о заповедях его, данных людям через Моисея.
В Евангелиях я встретил слова: «Вам сказано: око за око и зуб за зуб; а я говорю вам: не противьтесь злу». Слова: «око за око и зуб за зуб» – была заповедь, данная богом Моисею. Слова: «я говорю: не противься злу или злому», была новая заповедь, которая отрицала первую.
Если бы я просто относился к учению Христа, без той богословской теории, которая с молоком матери была всосана мною, я бы просто понял простой смысл слов Христа. Я бы понял, что Христос отрицает старый закон и дает свой, новый закон. Но мне было внушено, что Христос не отрицает закон Моисея, а, напротив, утверждает его весь до малейшей черты и йоты и восполняет его. Стихи 17—23 V гл. Матфея, в которых утверждается это, всегда, при прежних чтениях моих Евангелия, поражали меня своей неясностью и вызывали сомнения. Насколько я знал тогда Ветхий Завет, в особенности последние книги Моисея, в которых изложены такие мелочные, бессмысленные и часто жестокие правила, при каждом из которых говорится: «и бог сказал Моисею», мне казалось странным, чтобы Христос мог утвердить весь этот закон, и непонятно, зачем он это сделал. Но я оставлял тогда вопрос, не решая его. Я принимал на веру то с детства внушенное мне толкование, что оба закона эти суть произведения святого духа, что законы эти соглашаются, что Христос утверждает закон Моисея и дополняет и восполняет его. Как происходит это восполнение, как разрешаются те противоречия, которые бросаются в глаза в самом Евангелии и в этих стихах 17—20 и в словах: «а я говорю», я никогда не давал себе ясного отчета. Теперь же, признав простой и прямой смысл учения Христа, я понял, что два закона эти противоположны и что не может быть и речи о соглашении их или восполнении одного другим, что необходимо принять один из двух и что толкование стихов 17—20 пятой главы Матфея, и прежде поражавших меня своей неясностью, должно быть неверно. И, вновь прочтя стихи 17—19, те самые, которые казались мне всегда так неясны, я был поражен тем простым и ясным смыслом этих стихов, который вдруг открылся мне.
Смысл этот открылся мне не оттого, что я что-нибудь придумывал, переставлял, а только оттого, что откинул то искусственное толкование, которое присоединялось к этому месту.
Христос говорит (Матф. V, 17—18): «Не думайте, чтобы я пришел нарушить закон или (учение) пророков; я не нарушить пришел, но исполнить. Потому что верно говорю вам, скорее упадет небо и земля, чем выпадет одна малейшая иота или черта (частица) закона, пока не исполнится всё».
И 20-й стих прибавляет: «Ибо, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в царство небесное».
Христос говорит: я не пришел нарушить вечный закон, для исполнения которого написаны ваши книги и пророчества, но пришел научить исполнять вечный закон; но я говорю не про ваш тот закон, который называют законом бога ваши учители-фарисеи, а про тот закон вечный, который менее, чем небо и земля, подлежит изменению.
Я выражаю ту же мысль другими словами только для того, чтобы оторвать мысль от обычного ложного понимания. Не будьэтого ложного понимания, то нельзя точнее и лучше выразить эту мысль, чем как она выражена в этих стихах.
Толкование, что Христос не отрицает закон, основано на том, что слову закон в этом месте, благодаря сравнению с иотою писанного закона, без всякого основания и противно смыслу слов, приписано значение писанного закона, – вместо закона вечного. Но Христос говорит не о писанном законе. Если бы Христос в этом месте говорил о законе писанном, то он употребил бы обычное выражение: закон и пророки, то самое, которое он всегда и употребляет, говоря о писанном законе; но он употребляет совсем другое выражение: закон или пророка. Если бы Христос говорил о законе писанном, то он и в следующем стихе, составляющем продолжение мысли, употребил бы слово: «закон и пророки», а не слово закон без прибавления, как оно стоит в этом стихе. Но, мало того, Христос употребляет то же выражение, – по Евангелию Луки в такой связи, что значение это становится уже несомненным. У Луки XVI, 15, Христос говорит фарисеям, полагавшим праведность в писанном законе. Он говорит: «Вы оправдываете сами себя перед людьми, но бог знает ваши сердца; что у людей высоко, то мерзость перед богом». 16. «Закон и пророки до Иоанна, а с тех пор царство божие благовествуется, и всякий своим усилием входит в него». И тут-то, вслед за этим (см. 17) он говорит: «Легче небу и земле прейти, чем из закона выпасть одной черточке». Словами: «закон и пророки до Иоанна» Христос упраздняет закон писанный. Словами: «легче небу и земле прейти, чем из закона выпасть черточке», он утверждает закон вечный. В первых словах он говорит: закон и пророки, т. е. писанный закон; во-вторых, он говорит просто: закон, следовательно закон вечный. Стало быть, ясно, что здесь противополагается закон вечный закону писанному28 и что точно то же противоположение делается и в контексте Матфея, где закон вечный определяется словами: закон или пророки.
Замечательна история текста стихов 17 и 18 по вариантам. В большинстве списков стоит только слово «закон» без прибавления «пророки». При таком чтении уже не может быть перетолкования о том, что это значит закон писанный. В других же списках, в Тишендорфовском и в каноническом, стоит прибавка – «пророки», но не с союзом «и», а с союзом «или», закон или пророки, что точно так же исключает смысл вечного закона.
В некоторых же списках, не принятых церковью, стоит прибавка: «пророки» с союзом «и», а не «или»; и в тех же списках при повторении слова закон прибавляется опять: «и пророки». Так что смысл всему изречению при этой переделке придается такой, что Христос говорит только о писанном законе.
Эти варианты дают историю толкований этого места. Смысл один ясный тот, что Христос, так же как и по Луке, говорит о законе вечном: но в числе списателей Евангелий находятся такие, которым желательно признать обязательность писанного закона Моисеева, и эти списатели присоединяют к слову закон прибавку – «и пророки» – и изменяют смысл.
Другие христиане, не признающие книг Моисея, или исключают вставку, или заменяют слово: «и» – «καί» словом «или» – «ἤ». И с этим «или» это место входит в канон. Но, несмотря на ясность и несомненность текста в том виде, в котором он вошел в канон, канонические толкователи продолжают толковать его в том духе, в котором были сделаны не вошедшие в текст изменения. Место это подвергается бесчисленным толкованиям, тем больше удаляющимся от его прямого значения, чем менее толкующий согласен с самым прямым, простым смыслом учения Христа, и большинство толкователей удерживают апокрифический смысл, тот самый, который отвергнут текстом.
Чтобы вполне убедиться в том, что в этих стихах Христос говорит только о вечном законе, стоит вникнуть в значение того слова, которое подало повод лжетолкованиям. По-русски – закон, по-гречески – νόμος, по-еврейски – тора, как по-русски, по-гречески и по-еврейски имеют два главные значения: одно – самый закон без отношения к его выражению. Другое понятие есть писанное выражение того, что известные люди считают законом. Различие этих двух значений существует и во всех языках.
По-гречески в посланиях Павла различие это даже определяется иногда употреблением члена. Без члена Павел употребляет это слово большею частью в смысле писанного закона, с членом – в смысле вечного закона бога.
У древних евреев, у пророков, у Исаии – слово закон, тора, всегда употребляется в смысле вечного, единого, невыраженного откровения – научения бога. И то же слово – закон, тора, у Ездры в первый раз и в позднейшее время, во время Талмуда, стало употребляться в смысле написанных пяти книг Моисея, над которыми и пишется общее заглавие – тора, так же как у нас употребляется слово Библия; но с тем различием, что у нас есть слово, чтобы различать между понятиями – Библии и закона бога, а у евреев одно и то же слово означает оба понятия.
И потому Христос, употребляя слово закон – «тора», употребляет его, то утверждая его, как Исаия и другие пророки, в смысле закона бога, который вечен, то отрицая его в смысле писанного закона пяти книг. Но для различия, когда он, отрицая его, употребляет это слово в смысле писанного закона, он прибавляет всегда слово: «и пророки», или слово: «ваш», присоединяя его к слову закон.
Когда он говорит: «не делай того другому, что не хочешь, чтобы тебе делали, в этом одном – весь закон и пророки», он говорит о писанном законе, он говорит, что весь писанный закон может быть сведен к одному этому выражению вечного закона, и этими словами упраздняет писанный закон.
Когда он говорит (Лук. XVI, 16): «закон и пророки до Иоанна Крестителя», он говорит о писанном законе и словами этими отрицает его обязательность.
Когда он говорит (Иоан. VII, 19): «не дал ли вам Моисей закона, и никто не исполняет его»; или (Иоан. VIII, 17): «не сказано ли в законе вашем»; или: «слово, написанное в законе их» (Иоан. XV, 25), – он говорит о писанном законе, о том законе, который он отрицает, о том законе, который его самого присуждает к смерти (Иоан. XIX, 7). Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть». Очевидно, что этот закон иудеев, тот, по которому казнили, не есть тот закон, которому учил Христос. Но когда Христос говорит: я не нарушить пришел закон, но научить вас исполнять его, потому что ничто не может измениться в законе, а всё должно исполниться, он говорит не о законе писанном, а о законе божественном, вечном, и утверждает его.
Но положим, что всё это – формальные доказательства, положим, что я старательно подобрал контексты, варианты, старательно скрал всё то, что было против моего толкования; положим, что толкования церкви очень ясны и убедительны и что Христос действительно не нарушал закон Моисея, а оставил его во всей силе. Положим, что это так. Но тогда чему же учит Христос? По толкованиям церкви, он учил тому, что он, второе лицо троицы, сын бога отца, пришел на землю и искупил своей смертью грех Адама. Но всякий, читавший Евангелие, знает, что Христос в Евангелиях или ничего, или очень сомнительно говорит про это. Но положим, что мы не умеем читать и там говорится про это. Но, во всяком случае, указание Христа на то, что он есть второе лицо троицы и искупляет грехи человечества, занимает самую малую и неясную часть Евангелия. В чем же всё остальное содержание учения Христа? Нельзя отрицать, и все христиане всегда признавали это, что главное содержание учения Христа есть учение о жизни людей: как надо жить людям между собою.
Признав, что Христос учил новому образу жизни, надо представить себе каких-нибудь определенных людей, среди которых он учил.
Представим себе русских, или англичан, или китайцев, или индусов, или даже диких на островах, и мы увидим, что у всякого народа всегда есть свои правила жизни, свой закон жизни, и что потому, если учитель учит новому закону жизни, то он этим самым учением разрушает прежний закон жизни; не разрушая его, он не может учить. Так это будет в Англии, в Китае и у нас. Учитель неизбежно будет разрушать наши законы, которые мы считаем дорогими и почти священными; но среди нас еще может случиться то, что проповедник, уча новой жизни, будет разрушать только наши законы гражданские, государственные, наши обычаи, но не будет касаться законов, которые мы считаем божественными, хотя это и трудно предположить. Но среди еврейского народа, у которого был только один закон, – весь божественный и обнимавший всю жизнь со всеми мельчайшими подробностями, среди такого народа, что мог проповедывать проповедник, вперед объявлявший, что весь закон народа, среди которого он проповедует, ненарушим? Но, положим, и это недоказательно. Пусть те, которые толкуют слова Христа так, что он утверждал весь закон Моисея, пусть они объяснят себе: кого же во всю свою деятельность обличал Христос, против кого восставал, называя их фарисеями, законниками, книжниками?
Кто не принял учения Христа и распял его с своими первосвященниками?
Если Христос признавал закон Моисея, то где же были те настоящие исполнители этого закона, которых бы одобрял за это Христос? Неужели ни одного не было? Фарисеи, нам говорят, была секта. Евреи не говорят этого. Они говорят: фарисеи – истинные исполнители закона. Но, положим, это секта. Саддукеи тоже секта. Где же были не секты, а настоящие?
По Евангелию Иоанна, все они, враги Христа, прямо называются иудеи. И они не согласны с учением Христа и противны ему только потому, что они иудеи. Но в Евангелиях не одни фарисеи и саддукеи выставляются врагами Христа; врагами Христа называются и законники, те самые, которые блюдут закон Моисея, книжники, те самые, которые читают закон, старейшины, те самые, которые считаются всегда представителями мудрости народной.
Христос говорит: я не праведных пришел призывать к покаянию, к перемене жизни, μετανοία, но грешных. Где же, какие же были эти праведные? Неужели один Никодим? Но и Никодим представлен нам добрым человеком, но заблудшим.
Мы так привыкли к тому, по меньшей мере странному толкованию, что фарисеи и какие-то злые иудеи распяли Христа, что тот простой вопрос о том, где же были те не фарисеи и не злые, а настоящие иудеи, державшие закон, и не приходит нам в голову. Стоит задать себе этот вопрос, чтобы всё стало совершенно ясно. Христос – будь он бог или человек – принес свое учение в мир среди народа, державшегося закона, определявшего всю жизнь людей и называвшегося законом бога. Как мог отнестись к этому закону Христос?
Всякий пророк – учитель веры, открывая людям закон бога, всегда встречает между людьми уже то, что эти люди считают законом бога, и не может избежать двоякого употребления слова закон, означающего то, что эти люди считают ложно законом бога ваш закон, и то, что есть истинный, вечный закон бога. Но мало того, что не может избежать двоякого употребления этого слова, проповедник часто не хочет избежать его и умышленно соединяет оба понятия, указывая на то, что в том ложном в его совокупности законе, который исповедуют те, которых он обращает, что и в этом законе есть истины вечные. И всякий проповедник эти-то знакомые обращаемым истины и берет за основу своей проповеди. То самое делает и Христос среди евреев, у которых и тот и другой закон называется одним словом тора. Христос по отношению к закону Моисея и еще более к пророкам, в особенности Исаии, слова которого он постоянно приводит, признает, что в еврейском законе и пророках есть истины вечные, божеские, сходящиеся с вечным законом, и их-то, как изречение – люби бога и ближнего, – берет за основание своего учения.
Христос много раз выражает эту самую мысль (Лук. X, 26). Он говорит: в законе что написано? Как читаешь? – И в законе можно найти вечную истину, если умеешь читать. И он указывает не раз на то, что заповедь их закона о любви к богу и ближнему есть заповедь закона вечного (Матф. XIII, 52). Христос после всех тех притч, которыми он объясняет ученикам значение своего учения, в конце всего, как относящееся ко всему предшествующему, говорит: поэтому-то всякий книжник, т. е. грамотный, наученный истине, подобен хозяину, который берет из своего сокровища (вместе, безразлично) и старое и новое.
Св. Ириней, а за ним и вся церковь точно так и понимают эти слова, но, совершенно произвольно и нарушая тем смысл речи, приписывают этим словам значение того, что всё старое – священно. Смысл ясный тот, что кому нужно доброе, тот берет не одно новое, но и старое, и что потому, что оно старое, его нельзя отбрасывать. Христос этими словами говорит, что он не отрицает того, что в древнем законе вечно. Но когда ему говорят о всем законе или о формах его, – он говорит, что нельзя вливать вино новое в мехи старые. Христос не мог утверждать весь закон, но он не мог также и отрицать весь закон и пророков, тот закон, в котором сказано: люби ближнего как самого себя, и тех пророков, словами которых он часто высказывает свои мысли.
И вот, вместо этого простого и ясного понимания самых простых слов, как они сказаны и как они подтверждаются всем учением Христа, подставляется туманное толкование, вводящее противоречие туда, где его нет, и тем уничтожающее значение учения Христа, сводящее его на слова и восстановляющее на деле учение Моисея во всей его дикой жестокости.
По всем церковным толкованиям, особенно с пятого века, Христос не нарушал писанный закон, а утверждал его. Но как он утвердил его? Как может быть соединен закон Христа с законом Моисея? на это нет никакого ответа. Во всех толкованиях делается игра слов и говорится о том, что Христос исполнил закон Моисея тем, что на нем исполнились пророчества, и о том, что Христос через нас, через веру людей в себя, исполнил закон. Единственный же существенный для каждого верующего вопрос о том, как соединить два противоречивые закона, определяющие жизнь людей, остается даже без попытки разрешения. И противоречие между тем стихом, в котором говорится, что Христос не разрушает закон, и стихом, где говорится: «вам сказано…, а я говорю вам»… и между всем духом учения Моисея и учением Христа остается во всей силе.
Всякий интересующийся этим вопросом пусть сам посмотрит церковные толкования этого места, начиная от Иоанна Златоуста и до нашего времени. Только прочтя эти длинные толкования, он ясно убедится, что тут не только нет разрешения противоречия, но есть искусственно внесенное противоречие туда, где его не было. Невозможные попытки соединения несоединимого ясно показывают, что соединение это не есть ошибка мысли, а что соединение имеет ясную и определенную цель, что оно нужно. И даже видно, зачем оно нужно.
Вот что говорит Иоанн Златоуст, возражая тем, которые отвергают закон Моисея (толкование на Евангелие Матфея Иоанна Златоуста, т. I, стр. 320, 321):
«Далее, испытывая древний закон, в коем повелевается исторгать око за око и зуб за зуб, тотчас возражают: как может быть благим тот, который говорит сие? Что же мы на сие скажем? – То, что это, напротив, есть величайший знак человеколюбия божия.29 Не для того он постановил сей закон, чтобы мы исторгали глаза один у другого, но чтобы, опасаясь потерпеть сие зло от других, не причиняли и им оного. Подобно тому, как, угрожая погибелью ниневитянам, он не хотел их погубить (ибо если б он хотел сего, то надлежало бы ему молчать), но хотел только сим страхом сделать их лучшими, оставить гнев свой. Так и тем, кои так дерзки, что готовы выколоть у других глаза, определил наказание с тою целью, что если они по доброй воле не захотят удержаться от сей жестокости, то, по крайней мере, страх препятствовал бы им отнимать зрение у ближних. Если бы это была жестокость, то жестокостию было бы и то, что запрещается убийство, возбраняется прелюбодеяние. Но, так говорить могут только сумасшедшие, дошедшие до последней степени безумия. А я столько страшусь назвать сии постановления жестокими, что противное оным почел бы делом беззаконным,30 судя по здравому человеческому смыслу. Ты говоришь, что бог жесток потому, что повелел исторгать око за око; а я скажу, что когда бы он не дал такого повеления, тогда бы справедливее многие могли бы почесть его таким, каким ты его называешь». Иоанн Златоуст прямо признает закон зуб за зуб законом божественным, и противное закону зуб за зуб, т. е. учение Христа о непротивлении злу, делом беззаконным. (Стр. 322, 323): «Положим, что весь закон уничтожен, – далее говорит Иоанн Златоуст, – и никто не страшится определенного оным наказания, – что всем порочным позволено без всякого страха жить по своим склонностям, и прелюбодеям, и убийцам, и ворам, и клятвопреступникам. Не низвратится ли тогда всё, не наполнятся ли бесчисленными злодеяниями и убийствами города, торжища, домы, земля, море и вся вселенная? Это всякому очевидно. Если и при существовании законов, при страхе и угрозах, злые намерения едва удерживаются, то когда бы отнята была и сия преграда, что тогда препятствовало бы людям решаться на зло? Какие бедствия не вторглись бы тогда в жизнь человеческую? Не только то есть жестокость, когда злым позволяют делать, что хотят, но и то, когда человека, не учинившего никакой несправедливости, оставляют страдать невинно без всякой защиты. Скажи мне, если бы кто-нибудь, собрав отовсюду злых людей и вооруживши их мечами, приказал им ходить по всему городу и убивать всех встречающихся, – может ли быть что бесчеловечнее сего? Напротив, если бы кто-нибудь другой сих вооруженных людей связал и силою заключил их в темницу, а тех, которым угрожала смерть, исхитил бы из рук беззаконников оных, может ли что-нибудь быть человеколюбивее сего?»
Иоанн Златоуст не говорит: чем будет руководствоваться кто-нибудь другой в определении злых? Что если он сам злой и будет сажать в темницу добрых?
«Теперь приложи сии примеры к закону: Повелевающий исторгать око за око налагает сей страх, как некие крепкие узы, на души порочных и уподобляется человеку, связавшему оных вооруженных; а кто не определил бы никакого наказания преступникам, тот вооружил бы их бесстрашием и был бы подобен человеку, который роздал злодеям мечи и разослал их по всему городу».
Если Иоанн Златоуст признает закон Христа, то он должен сказать: кто же будет исторгать глаза и зубы и сажать в темницу? Если бы повелевающий исторгать око за око, т. е. бог, сам бы исторгал, то тут не было бы противоречия, а то это надо делать людям, а людям этим сын божий сказал, что этого не надо делать. Бог сказал: исторгать зубы, а сын сказал: не исторгать, – надо признать одно из двух, и Иоанн Златоуст и за ним вся церковь признает повеление отца, т. е. Моисея, и отрицает повеление сына, т. е. Христа, которого учение будто бы исповедует.
Христос отвергает закон Моисея, дает свой. Для человека, верующего Христу, нет никакого противоречия. Он и не обращает никакого внимания на закон Моисея, а верует в закон Христа и исполняет его. Для человека, верующего закону Моисея, тоже нет никакого противоречия. Евреи признают слова Христа пустыми и верят закону Моисея. Противоречие является только для тех, которые хотят жить по закону Моисея, а уверяют себя и других, что они верят закону Христа, – для тех, которых Христос называл лицемерами, порождениями ехидны.
Вместо того чтобы признать одно из двух: закон Моисея или Христа, признается, что оба божественно-истинны.
Но когда вопрос касается дела самой жизни, то прямо отрицается закон Христа и признается закон Моисея.
В этом ложном толковании, если вникнуть в значение его, страшная, ужасная драма борьбы зла и тьмы с благом и светом.
Среди еврейского народа, запутанного бесчисленными внешними правилами, наложенными на него левитами под видом божеских законов, пред каждым из которых стоит изречение: «и бог сказал Моисею», – является Христос. Не только отношения человека к богу, его жертвы, праздники, посты, отношения человека к человеку, народные, гражданские, семейные отношения, все подробности личной жизни: обрезание, омовение себя и чаш, одежды, – всё определено до последних мелочей и всё признано повелением бога, законом бога. Что же может сделать, не говорю Христос-бог, но пророк, но самый обыкновенный учитель, уча такой народ, не нарушая тот закон, который уже определил всё до малейших подробностей? Христос так же, как и все пророки, берет из того, что люди считают законом бога, то, что есть точно закон бога, берет основы, откидывает всё остальное и с этими основами связывает свое откровение вечного закона. Нет нужды уничтожать всё, но неизбежно нарушить тот закон, который считается одинаково обязательным во всем. Христос делает это, и его упрекают в нарушении того, что считается законом бога, и за это самое его казнят. Но учение его остается у его учеников и переходит в другую среду и в века. Но в другой среде веками нарастают опять на это новое учение такие же наслоения, толкования, объяснения, опять подстановка человеческих низменных измышлений на место божеского откровения; вместо «и бог сказал Моисею» говорится: «изволися нам и св. духу». И опять буква покрывает дух. И что более всего поразительно – это то, что учение Христа связывается со всей той «тора» в смысле писанного закона, который он не мог не отрицать. Эта тора признается произведением откровения его духа истины, т. е. св. духа, и он сам оказывается в тенетах своего откровения. И всё учение его сводится на ничто.
Так вот отчего после 1880 лет со мной случилась такая страшная вещь, что мне пришлось открывать смысл учения Христа, как что-то новое.
Мне не открывать пришлось, а мне пришлось делать то самое, что делали и делают все люди, ищущие бога и закон его: находить то, что есть вечный закон бога, среди всего того, что люди называют этим именем.
VI
И вот, когда я понял закон Христа, как закон Христа, а не закон Моисея и Христа, и понял то положение этого закона, которое прямо отрицает закон Моисея, так все Евангелия, вместо прежней неясности, разбросанности, противоречий, слились для меня в одно неразрывное целое, и среди их выделилась сущность всего учения, выраженная в простых, ясных и доступных каждому пяти заповедях Христа (Матф. V, 21– 48), о которых я ничего не знал до сих пор.
Во всех Евангелиях говорится о заповедях Христа и об исполнении их.
Все богословы говорят о заповедях Христа; но какие эти заповеди, я не знал прежде. Мне казалось, что заповедь Христа состоит в том, чтобы любить бога и ближнего, как самого себя. И я не видел, что это не может быть заповедь Христа, потому что это есть заповедь древних (Второзаконие и Левит). Слова (Матф. V, 19) – кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в царстве небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в царстве небесном, – я относил к заповедям Моисея. А то, что новые заповеди Христа ясно и определенно выражены в стихах V главы Матфея от 21—48, никогда не приходило мне в голову. Я не видел того, что в том месте, где Христос говорит: «вам сказано, а я говорю вам», выражены новые определенные заповеди Христа, и именно по числу ссылок на древний закон (считая две ссылки о прелюбодеянии за одну), пять новых, ясных и определенных заповедей Христа.
Про блаженства и про число их я слыхал и встречал перечисление и объяснение их в преподавании закона божия; но о заповедях Христа я никогда ничего не слыхал. Я, к удивлению моему, должен был открывать их.
И вот как я открывал их. Матф. V, 21—26. Сказано: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду (Исход XX, 13). А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака» – подлежит синедриону, а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной (23). Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя (24), оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде помирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой (25). Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу (26). Истинно говорю: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта».
Когда я понял заповедь о непротивлении злу, мне представилось, что стихи эти должны иметь такое же ясное, приложимое к жизни значение, как и заповедь о непротивлении злу. Значение, которое я приписывал прежде этим словам, было то, что всякий должен всегда избегать гнева против людей, не должен никогда говорить бранных слов и должен жить в мире со всеми без всякого исключения; но в тексте стояло слово, исключающее этот смысл. Сказано было: не гневайся напрасно, так что из слов этих не выходило предписания безусловного мира. – Слово это смущало меня. И за разъяснением моих сомнений я обратился к толкованиям богословов; и, к удивлению моему, нашел, что толкования отцов преимущественно направлены на разъяснение того, когда гнев извинителен и когда неизвинителен. Все толкователи церкви, особенно напирая на значение слова: напрасно, объясняют это место так, что не надо оскорблять невинно людей, не надо говорить бранных слов, но что гнев не всегда несправедлив, и в подтверждение своего толкования приводят примеры гнева апостолов и святых.
И я не мог не признать, что объяснение о том, что гнев, по их выражению, во славу божию не воспрещается, хотя и противное всему смыслу Евангелия, последовательно и имеет основание в слове напрасно, стоящем в 22 стихе. Слово это изменяло смысл всего изречения.
Не гневайся напрасно. Христос велит прощать всем, прощать без конца; сам прощает и запрещает Петру гневаться на Малха, когда Петр защищает своего ведомого на распятие учителя, казалось бы, не напрасно. И тот же Христос говорит в поучение всем людям: не гневайся напрасно и тем самым позволяет гневаться поделом, не напрасно. Христос проповедует мир всем простым людям, и вдруг, как бы оговариваясь в том, что это не относится до всех случаев, а есть случаи, когда можно гневаться на брата, – вставляет слово «напрасно». И в толкованиях объясняется, что бывает гнев благовременный. Но кто же судья тому, говорил я, когда гнев благовременный? Я не видал еще людей гневающихся, которые бы не считали, что гнев их благовременный. Все считают, что гнев их законен и полезен. Слово это разрушало весь смысл стиха. Но слово стояло в священном писании, и я не мог выкинуть его. А слово это было подобно тому, что если бы к изречению: люби ближнего, было прибавлено: люби хорошего ближнего, или: того ближнего, который тебе нравится.
Всё значение места разрушалось для меня словом: «напрасно». Стихи 23 и 24 о том, что прежде, чем молиться, надо помириться с тем, кто имеет что против тебя, которые без слова «напрасно» имели бы прямой, обязательный смысл, получали тоже смысл условный.
Мне представлялось, что Христос должен был запрещать всякий гнев, всякое недоброжелательство и для того, чтобы его не было, предписывает каждому: прежде чем идти приносить жертву, т. е. прежде, чем становиться в общение с богом, вспомнить, нет ли человека, который сердится на тебя. И если есть такой, напрасно или не напрасно, то пойти и помириться, а потом уж приносить жертву или молиться. Так мне казалось, но по толкованиям выходило, что это место надо понимать условно.
По всем толкованиям объясняется так, что надо стараться помириться со всеми; но если этого нельзя сделать по испорченности людей, которые во вражде с тобою, то надо помириться в душе – в мыслях; и вражда других против тебя не мешает тебе молиться. Кроме того, слова: кто скажет рака и безумный, тот страшно виновен, всегда казались мне странными и неясными. Если запрещается ругаться, то почему избраны примеры таких слабых, почти неругательных слов? И потом, за что такая страшная угроза тому, у кого сорвется такое слабое ругательство, как рака, т. е. ничтожный? Всё это было неясно.
Мне чувствовалось, что тут происходит такое же непонимание, как при словах: не судите: я чувствовал, что как и в том толковании, так и здесь из простого, важного, определенного, исполнимого всё переходит в область туманную и безразличную. Я чувствовал, что Христос не мог так понимать слова: поди и помирись с ним, как они толкуются: «помирись в мыслях». Что значит: помирись в мыслях? Я думал, что Христос говорит: то, что он высказывал словами пророка: не жертвы хочу, но милости, т. е. любви к людям. И потому, если хочешь угодить богу, то прежде, чем молиться утром и вечером у обедни и всенощной, вспомни, – кто на тебя сердится; и поди устрой так, чтобы не был он сердит на тебя, а после уж молись, если хочешь. А то «в мыслях». Я чувствовал, что всё толкование, разрушавшее прямой и ясный для меня смысл, зиждилось на слове «напрасно». Если бы выкинуть его, смысл выходил бы ясный; но против моего понимания были все толкователи, против него было каноническое Евангелие со словом напрасно.
Отступи я в этом, я могу отступить в другом по своему произволу; другие могут сделать то же. Всё дело в одном слове. Не будь этого слова, всё было бы ясно. И я делаю попытку объяснить как-нибудь филологически это слово «напрасно» так, чтобы оно не нарушало смысла всего.
Справляюсь с лексиконами; общим, и вижу, что слово это по-гречески εἰκῆ – значит тоже и без цели, необдуманно; пытаюсь дать такое значение, которое бы не нарушало смысла, но прибавление слова, очевидно, имеет тот смысл, который придан ему. Справляюсь с евангельским лексиконом – значение слова то самое, которое придано ему здесь. Справляюсь с контекстом – слово употреблено в Евангелии только один раз, именно здесь. В посланиях употребляется несколько раз. В послании Коринфянам I, XV, 2, употребляется именно в этом смысле. Стало быть, нет возможности объяснить иначе, и надо признать, что Христос сказал: не гневайтесь напрасно. А должен сознаться, что для меня признать, что Христос мог в этом месте сказать такие неясные слова, давая возможность понимать их так, что от них ничего не оставалось, для меня признать это было бы то же, что отречься от всего Евангелия. Остается последняя надежда: во всех ли списках стоит это слово? Справляюсь с вариантами. Справляюсь по Грисбаху, у которого означены все варианты, т. е. как, в каких списках и у каких отцов употреблялось выражение. Справляюсь, и меня сразу приводит в восторг то, что в этом месте есть выноски, есть варианты. Смотрю – варианты все относятся к слову напрасно. Большинство списков Евангелий и цитат отцов не имеют вовсе слова напрасно. Стало быть, большинство понимало, как и я. Справляюсь с Тишендорфом, – в списке самом древнем, – слова этого нет вовсе. Смотрю в переводе Лютера, из которого я бы мог узнать это самым коротким путем, – тоже нет этого слова.
То самое слово, которое нарушало весь смысл учения Христа, слово это – прибавка еще в пятом веке, не вошедшая в лучшие списки Евангелия.
Нашелся человек, который вставил это слово, и находились люди, которые одобряли эту вставку и объясняли ее.
Христос не мог сказать и не сказал этого ужасного слова, и тот первый, простой, прямой смысл всего места, который поразил меня и поражает всякого, есть истинный.
Но мало того, стоило мне понять, что слова Христа запрещают всегда всякий гнев против кого бы то ни было, чтобы смущавшее меня прежде запрещение говорить кому-нибудь слова рака́ и безумный получило бы тоже другой смысл, чем тот, что Христос запрещает бранные слова. Странное непереведенное еврейское слово рака́ дало мне этот смысл. Рака́ значит растоптанный, уничтоженный, несуществующий; слово рака́ очень употребительное, значит исключение, только не. Рака́ значит человек, которого не следует считать за человека. Во множественном числе слово реким употреблено в книге Судей IX, 4, где оно значит пропащие. Так вот этого слова Христос не велит говорить ни о каком человеке. Так же как и не велит ни о ком говорить другое слово безумный, как и рака́, мнимо освобождающее нас от человеческих обязанностей к ближнему. Мы гневаемся, делаем зло людям и, чтобы оправдать себя, говорим, что тот, на кого мы гневаемся, пропащий или безумный человек, И вот этих-то двух слов не велит Христос говорить о людях и людям. Христос не велит гневаться ни на кого и не оправдывать свой гнев тем, чтобы признавать другого пропащим или безумным.
И вот вместо туманных, подлежащих толкованиям и произволу, неопределенных и неважных выражений открылась мне с стиха 21—28 простая, ясная и определенная первая заповедь Христа: живи в мире со всеми людьми, никогда своего гнева на людей не считай справедливым. Ни одного, никакого человека не считай и не называй пропащим или безумным, ст. 22. И не только своего гнева не признавай не напрасным, но чужого гнева на себя не признавай напрасным, и потому: если есть человек, который сердится на тебя, хоть и напрасно, то, прежде чем молиться, поди и уничтожь это враждебное чувство, ст. 23, 24. Вперед старайся уничтожить вражду между собою и людьми, чтобы вражда не разгорелась и не погубила тебя, ст. 25, 26.
Вслед за первою заповедью с такою же ясностью открылась мне и вторая, начинающаяся также ссылкой на древний закон. Матф. V, 27—30, сказано: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй (Исход XX, 14). А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твое было ввержено в геенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твое было ввержено в геенну».
Матф. V, 31—32: «Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную (Второзаконие XXIV, 1). А я говорю вам: кто разведется с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».
Значение этих слов представилось мне такое: человек не должен допускать даже мысли о том, что он может соединяться с другой женщиной, кроме как с тою, с которой он раз уже соединился, и никогда не может, как это было по закону Моисея, переменить эту женщину на другую.
Как в первой заповеди против гнева дан совет тушить этот гнев вначале, совет, разъясненный сравнением с человеком, ведомым к судье, так и здесь Христос говорит, что блуд происходит оттого, что мужчины и женщины смотрят друг на друга как на предмет похоти. Чтобы этого не было, надо устранить всё то, что может вызвать похоть. Избегать всего того, что возбуждает похоть, и, соединившись с женою, ни под каким предлогом не покидать ее; потому что покидание жен и производит разврат. Покинутые жены соблазняют других мужчин и вносят разврат в мир.
Мудрость этой заповеди поразила меня. Всё зло между людьми, вытекающее из половых сношений, устранялось ею. Люди, зная, что потеха половых сношений ведет к раздору, избегают всего того, что вызывает похоть, и, зная, что закон человека – жить па́рами, – соединяются попарно, не нарушая ни в каком случае этого союза; и всё зло раздора из-за половых сношений уничтожается тем, что нет мужчин и женщин одиноких, лишенных брачной жизни.
Но поражавшие меня всегда при чтении нагорной проповеди слова: кроме вины прелюбодеяния, понимаемые так, что человек может разводиться с женою в случае ее прелюбодеяния, поразили меня теперь еще больше.
Не говоря уже о том, что было что-то недостойное в самой той форме, в которой была выражена эта мысль, о том, что рядом с глубочайшими, по своему значению, истинами проповеди, точно примечание к статье свода законов, стояло это странное исключение из общего правила, самое исключение это противоречило основной мысли.
Справляюсь с толкователями, – и все (Иоанн Златоуст, стр. 365) и другие, даже ученые-богословы-критики, как Reuss, признают, что слова эти означают то, что Христос разрешает развод в случаях прелюбодеяния жены и что в XIX главе, в речи Христа, запрещающей развод, слова: если не за прелюбодеяние, означают то же. Читаю, перечитываю стих 32, и кажется мне, что это не может значить разрешение развода. Чтобы поверить себя, я справляюсь с контекстами и нахожу в Евангелии Матфея XIX, Марка X, Луки XVI, в Первом послании Павла коринфянам разъяснение того же учения неразрывности брака без всякого исключения.
У Луки XVI, 18, сказано: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует; и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует».
У Марка X, 4—12, сказано также без всякого исключения: «По жестокосердию вашему он написал вам заповедь сию. В начале же сотворения мужа и жены сотворил их бог. Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет два – одна плоть, так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что бог сочетал, того человек да не разлучает. Опять о том же спросили его в доме ученики его. Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».
То же самое сказано у Матфея, глава XIX, 4—9.
В Первом послании Павла коринфянам VII, с 1 по 12, развита подробно мысль предупреждения разврата тем, чтобы каждый муж и жена, соединившись, не покидали бы друг друга, удовлетворяли бы друг друга в половом отношении; и также прямо сказано, что один из супругов ни в каком случае не может покидать другого для сношений с другим или другою.
По Марку, Луке и по посланию Павла не позволено разводиться. По смыслу толкования о том, что муж и жена – единое тело, соединенное богом, толкования, повторенного в двух Евангелиях, не позволено. По смыслу всего учения Христа, предписывающего всем прощать, не исключая из этого падшую жену, не позволено. По смыслу всего места, объясняющего то, что отпущение жены производит разврат в людях, тем более развратной, – не позволено.
На чем же основано толкование, что развод допускается в случае прелюбодеяния жены? На тех словах 32-го стиха пятой главы, которые так странно поразили меня. Эти самые слова толкуются всеми так, что Христос разрешает развод в случае прелюбодеяния жены, и эти самые слова в XIX главе повторяются многими списками Евангелий и многими отцами вместо слов: если не за прелюбодеяние.
И я опять стал читать эти слова, но очень долго не мог понять их. Я видел, что тут должна была быть ошибка перевода и толкования, но в чем она была – я долго не мог найти. Ошибка была очевидна. Противополагая свою заповедь заповеди Моисея, по которой всякий муж, как сказано там, возненавидевши свою жену, может отпустить ее и дать ей разводную, Христос говорит: А я говорю вам, кто разведется с женой, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. В словах этих нет никакого противоположения и даже нет никакого определения того, что можно или нельзя разводиться. Сказано только, что отпущение жены подает ей повод прелюбодействовать. И вдруг при этом сделано исключение о жене, виновной в прелюбодеянии. Исключение это, относящееся до виновной в прелюбодеянии жены, когда дело идет о муже, вообще странно и неожиданно, но в этом месте просто глупо, потому что оно уничтожает и тот сомнительный смысл, который был в этих словах. Сказано, что отпущение жены заставляет ее прелюбодействовать, и предписывается отпускать жену, виновную в прелюбодеянии, как будто виновная в прелюбодеянии жена не будет прелюбодействовать.
Но мало этого, когда я разобрал внимательнее это место, я увидал, что оно не имеет даже грамматического смысла. Сказано: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, подает ей повод прелюбодействовать; и предложение кончено. Говорится о муже, о том, что он, отпуская жену, подает ей повод прелюбодействовать. К чему же сказано тут: кроме вины прелюбодеяния жены? Ведь если бы было сказано, что муж, разводящийся с женой, кроме как за ее прелюбодеяние, прелюбодействует, тогда бы предложение было правильно. А то к подлежащему муж, который разводится, нет другого сказуемого, как подает повод. Как же к этому сказуемому отнести: кроме вины прелюбодеяния? Нельзя подавать повод, кроме вины прелюбодеяния жены. Даже если бы к словам: «кроме вины прелюбодеяния» было бы прибавлено слово жены, или ее, чего нет, то и тогда бы эти слова не могли относиться к сказуемому: подает повод. Слова эти, по принятому толкованию, относятся к сказуемому: кто разводится; но кто разводится есть не главное сказуемое; главное сказуемое – подает повод. К чему же тут: кроме вины прелюбодеяния? И при вине прелюбодеяния и без вины прелюбодеяния муж, разводясь, одинаково подает повод.
Ведь выражение такое же, как следующее: тот, кто лишит пропитания своего сына, кроме вины жестокости, подает ему повод быть жестоким. Выражение это, очевидно, не может иметь того смысла, что отец может лишить пропитания своего сына, если сын жесток. Если оно имеет смысл, то только тот, что отец, лишающий сына пропитания, кроме своей вины жестокости, заставляет и сына быть жестоким. Точно так же и евангельское выражение имело бы смысл, если бы вместо слов: вины прелюбодеяния, стояло бы: вины сладострастия, распутства или чего-нибудь подобного, выражающего не поступок, а свойство.
И я спросил себя: да не сказано ли здесь просто то, что тот, кто разводится с женою, кроме того, что сам виновен в распутстве (так как каждый разводится только, чтобы взять другую), подает повод и жене прелюбодействовать. Если в тексте слово прелюбодеяние выражено такими словами, что оно может означать и распутство, то смысл ясен.
И повторилось то же, что так часто в таких случаях повторялось со мной. Текст подтвердил мое соображение, так что уже не могло быть сомнения.
Первое, что бросилось мне в глаза при чтении текста, было то, что слово πορνεία, переведенное тем же словом прелюбодеяние, как и слово μοιχᾶσϑαι, – совершенно другое слово. Но, может быть, слова эти синонимы, или в Евангелиях употребляются одно за другое? Справляюсь со всеми лексиконами – общим и евангельским, и вижу, что слово πορνεία, соответствующее еврейскому – דברת , латинскому – fornicatio, немецкому – Hurerei, русскому – распутство, – имеет самое определенное значение и никогда ни по каким лексиконам не значило и не может значить поступка прелюбодеяния – adultère, Ehebruch, как оно переводится. Оно значит порочное состояние или свойство, а никак не поступок, и не может быть переведено прелюбодеянием. Мало того, вижу, что слово: прелюбодеяние, прелюбодействовать – везде в Евангелиях и даже в этих стихах обозначается другим словом μοιχάω. И стоило мне только исправить этот, очевидно умышленно неправильный, перевод, чтобы смысл, придаваемый толкователями этому месту и контексту XIX главы, стал совершенно невозможен, и чтобы тот смысл, при котором слово πορυεία относится к мужу, стал бы несомненен.
Перевод, который сделает всякий знающий по-гречески, будет следующий: παρεκτός – кроме, λόγου – вины, πορνείας – распутства, ποιεῖ – заставляет, αὐτήν – ее, μοιχᾶσϑαι – прелюбодействовать, и выходит слово в слово: тот, кто разводится с женою, кроме вины распутства, заставляет ее прелюбодействовать.
Тот же смысл получается и в XIX главе. Стоит только поправить неверный перевод и слова πορνεία, и предлога ἐπί, переведенного за, и вместо «прелюбодеяния» поставить слово распутство, и вместо за поставить – по или для, чтобы ясно было, что слова: εἰ μὴ ἐπί πορνεία не могут относиться к жене. И как слова παρεκτὸς λόγου πορνείας не могут ничего значить другого, как – кроме вины распутства мужа, так и слова εἰ μὴ ἐπί πορνεία, стоящие в XIX главе, не могут относиться ни к чему иному, как к распутству мужа. Сказано – εἰ μὴ ἐπί πορνεία, – слово в слово: если не по распутству, не для распутства. И смысл выходит тот, что Христос, отвечая в этом месте на мысль фарисеев, которые думали, что если человек оставил свою жену не для того, чтобы распутничать, а чтобы жить брачно с другою, то он не прелюбодействует, – Христос на это говорит, что оставление жены, т. е. прекращение сношений с нею, если и не по распутству, а для брачного соединения с другою, все-таки прелюбодеяние. И выходит простой смысл, согласный со всем учением, с теми словами, в связи с которыми он находится и с грамматикой и с логикой.
И этот-то простой, ясный смысл, вытекающий из самих слов и из всего учения, мне надо было открывать с величайшим трудом. В самом деле, прочтите эти слова по-немецки, по-французски, где прямо сказано: pour cause d’infidélité, или à moins que cela ne soit pour cause d’infidélité, и догадайтесь, что это значит совсем другое. Слово παρεκτός, по всем лексиконам значащее: excepté, ausgenommen, кроме, – переводится целым предложением: à moins que cela ne soit. Слово πορνείας переводится infidélité, Ehebruch, прелюбодеяние. И вот на этом умышленном искажении текста зиждется толкование, нарушающее и нравственный, и религиозный, и грамматический, и логический смысл слов Христа.
И опять для меня подтвердилась та ужасная и радостная истина, что смысл учения Христа прост, ясен, что положения его важны, определенны, но что толкования его, основанные на желании оправдать существующее зло, так затемнили его, что надо с усилием открывать его. Мне стало ясно, что если бы Евангелия были открыты наполовину сожженные или стертые, было бы легче восстановить их смысл, чем теперь, когда по ним прошли недобросовестные толкования, имеющие прямою целью извратить и скрыть смысл учения. В этом случае очевиднее еще, чем в прежнем, как самая частная цель оправдать развод какого-нибудь Иоанна Грозного послужила поводом к затемнению всего учения о браке.
Стоит отбросить толкования и вместо туманного и неопределенного является определенная и ясная вторая заповедь Христа.
Не делай себе потеху из похоти половых сношений; всякий человек, если он не скопец, т. е. не нуждается в половых сношениях, пусть имеет жену, а жена мужа, и муж имей жену одну, жена имей одного мужа, и ни под каким предлогом не нарушайте плотского союза друг с другом.
Тотчас же непосредственно после второй заповеди приводится опять ссылка на древний закон и излагается третья заповедь. Матф. V, 33—37. «Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй перед господом клятвы твои (Левит XIX, 12. Второзаконие XXIII, 21). А я говорю вам: не клянись вовсе; ни небом, потому что оно престол божий; ни землею, потому что она подножие ног его; ни Иерусалимом, потому что он город великого царя; ни головою своею не клянись, потому что ни одного волоса не можешь сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого».
Место это при прежних чтениях моих всегда смущало меня. Оно смущало меня не своей неясностью, как место о разводе, не противоречиями с другими местами, как разрешение не напрасного гнева, не трудностью исполнения, как место о подставлении щеки, оно смущало меня, напротив, своей ясностью, простотою и легкостью. Рядом с правилами, глубина и значение которых ужасали и умиляли меня, вдруг стояло такое не нужное мне, пустое, легкое и не имеющее никаких ни для меня, ни для других последствий правило. Я и так не клялся ни Иерусалимом, ни богом, ничем, и мне это никакого труда не стоило; и, кроме того, мне казалось, что буду ли, или не буду я клясться, это не может иметь ни для кого никакой важности. И, желая найти объяснение этого, своей легкостью смущавшего меня правила, я обратился к толкователям. В этом случае толкователи помогли мне.
Все толкователи видят в этих словах подтверждение третьей заповеди Моисея – не клясться именем божиим. Они объясняют эти слова так, что Христос, как и Моисей, запрещает произносить имя бога всуе. Но, кроме этого, толкователи еще объясняют и то, что это правило Христа не класться – не всегда обязательно и никак не относится к той присяге, которую каждый гражданин дает предержащей власти. И подбираются тексты священного писания не для того, чтобы подтвердить прямой смысл предписания Христа, а для того, чтобы доказать то, что можно и должно не исполнять его.
Говорится, что Христос сам утвердил клятву на суде, когда на слова первосвященника: «Заклинаю тебя богом живым», отвечал: ты сказал; говорится, что апостол Павел призывает бога во свидетельство истины своих слов, что есть, очевидно, та же клятва; говорится, что клятвы были предписаны законом Моисеевым, но господь не отменил этих клятв; говорится, что отменяются только клятвы пустые, фарисейски-лицемерные.
И, поняв смысл и цель этих объяснений, я понял, что предписание Христа о клятве совсем не так ничтожно, легко и незначительно, как оно мне казалось, когда я в числе клятв, запрещенных Христом, не считал государственную присягу.
И я спросил себя: да не сказано ли тут то, что запрещается и та присяга, которую так старательно выгораживают церковные толкователи? Не запрещена ли тут присяга, та самая присяга, без которой невозможно разделение людей на государства, без которой невозможно военное сословие? Солдаты – это те люди, которые делают все насилия, и они называют себя – «присяга». Если бы я поговорил с гренадером о том, как он разрешает противоречие между Евангелием и воинским уставом, он бы сказал мне, что он присягал, т. е. клялся на Евангелии. Такие ответы давали мне все военные. Клятва эта так нужна для образования того страшного зла, которое производят насилия и войны, что во Франции, где отрицается христианство, все-таки держатся присяги. Ведь если бы Христос не сказал этого, не сказал – не присягайте никому, то он должен бы был сказать это. Он пришел уничтожить зло, а не уничтожь он присягу, какое огромное зло остается еще на свете. Может быть, скажут, что во времена Христа зло это было незаметно. Но это неправда: Эпиктет, Сенека говорили про то, чтобы не присягать никому; в законах Ману есть это правило. Отчего я скажу, что Христос не видал этого зла? И скажу тогда, когда он сказал это прямо, ясно и даже подробно.
Он сказал: Я говорю: не клянись вовсе. Выражение это так же просто, ясно и несомненно, как слова: не судите и не присуждайте, и так же мало подвержено перетолкованиям, тем более, что в конце прибавлено, что всё, что потребуется от тебя сверх ответа – да и нет, всё это – от начала зла.
Ведь если учение Христа в том, чтобы исполнять всегда волю бога, то как же может человек клясться, что он будет исполнять волю человека? Воля бога может не совпасть с волею человека. И даже в этом самом месте Христос это самое и говорит. Он говорит (ст. 36): не клянись головою, потому что не только голова твоя, но и каждый волос на ней во власти бога. То же говорится и в послании Иакова.
В послании своем, в конце его, как бы в заключение всего, апостол Иаков говорит (гл. V, ст. 12): прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни другою какою клятвою, но да будет у вас: да, да и нет, нет; дабы вам не подпасть осуждению. Апостол прямо говорит, почему не следует клясться: клятва сама по себе кажется не преступною, но от нее подпадают осуждению, и потому не клянитесь никак. Как еще яснее сказать то, что сказано и Христом и апостолом?
Но я был так запутан, что я с удивлением долго спрашивал себя: неужели это значит то, что значит? Как же мы все присягаем на Евангелии? Это не может быть.
Но я уже прочел толкования и видел, как это невозможное было сделано.
Что при объяснениях слов: не судите, не гневайтесь ни на кого, не разрывайте союз мужа с женою, то же и здесь. Мы установили свои порядки, любим их и хотим считать их священными. Приходит Христос, которого мы считаем богом, и говорит, что эти-то наши порядки нехороши. Мы его считаем богом и не хотим отказаться от наших порядков. Что же нам делать? Где можно, вставить слово – «напрасно» и на нет свести правило против гнева; где можно, как самые бессовестные кривосуды, так перетолковать смысл статьи закона, чтобы выходило обратное: вместо – никогда не разводиться с женою, вышло бы то, что можно разводиться. А где уж никак нельзя перетолковать, как в словах: не судите и не присуждайте, и в словах: не клянитесь вовсе, смело, прямо действовать противно учению, утверждая, что мы ему следуем. И в самом деле, главная помеха тому, чтобы понять то, что Евангелие запрещает всякую клятву и тем более присягу, есть то, что псевдо-христианские учители с необычайной смелостью на самом на Евангелии, самым Евангелием заставляют клясться людей, т. е. делать противное Евангелию.
Как придет в голову человеку, которого заставляют клясться крестом и Евангелием, что крест оттого и свят, что на нем распяли того, кто запрещал клясться, и что присягающий, может быть, целует, как святыню, то самое место, где ясно и определенно сказано: не клянитесь никак.
Но меня уже не смущала эта смелость. Я ясно видел, что с ст. 33 по 37 была выражена ясная, определенная, исполнимая третья заповедь: не присягай никогда никому ни в чем. Всякая присяга вымогается от людей для зла.
Вслед за этой третьей заповедью приводится четвертая ссылка и излагается четвертая заповедь (Матф. V, 38—42; Лук. VI, 29, 30). «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним на одно поприще, иди с ним на два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся».
О том, какое прямое, определенное значение имеют эти слова и как мы не имеем никакого основания перетолковывать их иносказательно, я говорил уже. Толкования этих слов, начиная от Иоанна Златоуста и до нас, поистине удивительны. Слова эти всем очень нравятся, и все делают, по случаю этих слов, всякого рода глубокомысленные соображения, за исключением одного: что слова эти имеют тот самый смысл, который они имеют. Церковные толкователи, нисколько не стесняясь авторитетом того, кого они признают богом, преспокойно ограничивают значение его слов. Они говорят: «Само собой разумеется, что все эти заповеди о терпении обид, об отречении от возмездия, как направленные собственно против иудейской любомстительности, не исключают не только общественных мер к ограничению зла и наказанию делающих зло, но и частных, личных усилий и забот каждого человека о ненарушимости правды, о вразумлении обидчиков, о прекращении для злонамеренных возможности вредить другим; ибо иначе самые духовные законы спасителя по-иудейски обратились бы только в букву, могущую послужить к успехам зла и подавлению добродетели. Любовь христианина должна быть подобна любви божией, но любовь божия ограничивает и наказывает зло только в той мере, в какой оно остается более или менее безвредным для славы божией и для спасения ближнего; в противном случае должно ограничивать и наказывать зло, что особенно возлагается на начальство» (Толковое Евангелие архим. Михаила, всё основанное на толковании святых отцов).
Ученые и свободномыслящие христиане также не стесняются смыслом слов Христа и поправляют его. Они говорят, что это очень возвышенные изречения, но лишенные всякой возможности приложения к жизни, ибо приложение к жизни правила непротивления злу уничтожает весь тот порядок жизни, который мы так хорошо устроили: это говорит Ренан, Штраус и все вольнодумные толкователи.
Но стоит отнестись к словам Христа только так, как мы относимся к словам первого встречного человека, который с нами говорит, т. е. предполагая, что он говорит то, что говорит, чтобы тотчас же устранилась необходимость всяких глубокомысленных соображений. Христос говорит: я нахожу, что способ обеспечения вашей жизни очень глуп и дурен. Я вам предлагаю совсем другой, следующий. И он говорит свои слова от стиха тридцать восьмого по сорок второй. Казалось бы, что, прежде чем поправлять эти слова, надо понять их. А вот этого-то никто не хочет сделать, вперед решая, что порядок, в котором мы живем и который нарушается этими словами, есть священный закон человечества.
Я не считал нашу жизнь ни хорошею, ни священною, и потому понял эту заповедь прежде других. И когда я понял слова эти так, как они сказаны, меня поразила их истинность, точность и ясность. Христос говорит: вы злом хотите уничтожить зло. Это неразумно. Чтобы не было зла, не делайте зла. И потом Христос перечисляет все случаи, в которых мы привыкли делать зло, и говорит, что в этих случаях не надо его делать.
Эта четвертая заповедь была первая заповедь, которую я понял и которая открыла мне смысл всех остальных. Четвертая простая, ясная, исполнимая заповедь говорит: никогда силой не противься злому, насилием не отвечай на насилие: бьют тебя – терпи, отнимают – отдай, заставляют работать – работай, хотят взять у тебя то, что ты считаешь своим – отдавай.
И вслед за этой четвертой заповедью следует пятая ссылка и пятая заповедь (Матф. V, 43—48). «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего (Левит XIX, 17, 18). А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен отец ваш небесный».
Стихи эти прежде представлялись мне разъяснением, дополнением и усилением, скажу даже – преувеличением слов о непротивлении злу. Но, найдя простой, приложимый, определенный смысл каждого места, начинающегося с ссылки на древний закон, я предчувствовал такой же и в этом. После каждой ссылки была изложена заповедь, и каждый стих заповеди имел значение и не мог быть выкинут, и здесь должно было быть то же. Последние слова, повторенные у Луки о том, что бог не делает различия между людьми и дает благо всем, и что потому и вы должны быть таковы же, как бог: не делать различия между людьми и должны не так делать, как язычники, а должны всех любить и всем делать добро одинаково – эти слова были ясны, они представлялись мне подтверждением и объяснением какого-то ясного правила, но в чем было это правило – я долго не мог понять.
Любить врагов? Это было что-то невозможное. Это было одно из тех прекрасных выражений, на которые нельзя иначе смотреть, как на указание недостижимого нравственного идеала. Это было слишком много или ничего. Можно не вредить своему врагу, но любить – нельзя. Не мог Христос предписывать невозможное. Кроме того, в самых первых словах, в ссылке на закон древних: «вам сказано: ненавидь врага», было что-то сомнительное. В прежних местах Христос приводит действительные, подлинные слова закона Моисея; но здесь он приводит слова, которые никогда не были сказаны. Он как будто клевещет на закон.
Толкования, как и в прежних моих сомнениях, ничего не разъяснили мне. Во всех толкованиях признается, что слов: «вам сказано: ненавидь врага» – нет в законе Моисея, но объяснения этого неверно приведенного места из закона нигде не дается. Говорится о том, как трудно любить врагов – злых людей, и большею частью делаются поправки к словам Христа; говорится, что нельзя любить врагов, а можно не желать и не делать им зла. Между прочим внушается, что можно и должно обличать, т. е. противиться врагам, говорится о разных степенях достижения этой добродетели, так что по толкованиям церкви конечный вывод тот, что Христос, неизвестно зачем, неправильно привел слова из закона Моисея и наговорил много прекрасных, но, собственно, пустых и неприложимых слов.
Мне казалось, что это не может быть так. Тут должен быть ясный и определенный смысл, такой же, как и в первых четырех заповедях. И для того, чтобы понять этот смысл, я прежде всего постарался понять значение слов неверной ссылки на закон: «вам сказано: ненавидь врагов». Недаром же Христос при каждом правиле приводит слова закона: не убей, не прелюбодействуй и т. д., и этим словам противополагает свое учение. Не поняв того, что он разумел под словами приводимого им закона, нельзя понять того, что он предписывает. В толкованиях же прямо говорится (да и нельзя этого не сказать), что он приводит такие слова, которых не было в законе, но не объясняется, почему он это делает и что значит эта неверная ссылка. Мне казалось, что прежде всего надо объяснить, что мог разуметь Христос, приводя слова, которых не было в законе. И я спросил себя: что же могут значить слова, неверно приведенные Христом из закона? Во всех прежних ссылках Христа на закон приводится только одно постановление древнего закона, как: не убей, не прелюбодействуй, держи клятвы, зуб за зуб…, и по случаю этого одного приводимого постановления излагается соответствующее ему учение. Здесь же приводятся два постановления, противополагающиеся друг другу: вам сказано – люби ближнего и ненавидь врага, так что, очевидно, основой нового закона должно быть самое различие между двумя постановлениями древнего закона относительно ближнего и врага. И чтобы понять яснее, в чем было это различие, я спросил себя: что значит слово «ближний» и слово «враг» на евангельском языке? И, справившись с лексиконами и контекстами Библии, я убедился, что ближний на языке еврея всегда означает только еврея. Такое определение ближнего дается и в Евангелии притчей о самарянине. По понятию еврея-законника, спрашивающего, кто ближний? – самарянин не мог быть ближним. Такое же определение ближнего дается и в Деяниях (VII, 27). Ближний на евангельском языке значит: земляк, человек, принадлежащий к одной народности. И потому, предполагая, что противоположение, которое выставляет Христос в этом месте, приводя слова закона: вам сказано: люби ближнего и ненавидь врага, состоит в противоположении между земляком и чужеземцем, спрашиваю себя, что такое враг по понятиям иудеев, и нахожу подтверждение своего предположения. Слово враг употребляется в Евангелиях почти всегда в смысле врагов не личных, но общих, народных (Лук. I, 71—74; Матф. XXII, 44; Марк. XII, 36; Лук. XX, 43 и др.). Единственное число, в котором употреблено слово враг в этих стихах в выражении ненавидь врага, показывает мне, что здесь идет речь о враге народа. Единственное число означает совокупность вражеского народа. В Ветхом Завете понятие вражеского народа всегда выражается единственным числом.
И как только я понял это, так тотчас же устранилось то затруднение: зачем и каким образом мог Христос, всякий раз приводя подлинные слова закона, здесь вдруг привести слова: вам сказано: ненавидь врага, которые не были сказаны. Стоит только понимать слово враг в смысле врага народного и ближнего – в смысле земляка, чтобы затруднения этого вовсе не было. Христос говорит о том, как по закону Моисея предписано евреям обращаться с врагом народным. Все те разбросанные по разным книгам писания места, в которых предписывается и угнетать, и убивать, и истреблять другие народы, Христос соединяет в одно выражение: ненавидеть – делать зло врагу. И он говорит: вам сказано, что надо любить своих и ненавидеть врага народного; а я говорю вам: надо любить всех без различия той народности, к которой они принадлежат. И как только я понял эти слова так, так тотчас устранилось и другое, главное затруднение: как понимать слова: любите врагов ваших. Нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих. И для меня стало очевидным, что, говоря: вам сказано: люби ближнего и ненавидь врага, а я говорю: люби врагов, Христос говорит о том, что все люди приучены считать своими ближними людей своего народа, а чужие народы считать врагами, и что он не велит этого делать. Он говорит: по закону Моисея сделано различие между евреем и не евреем – врагом народным, а я говорю вам: не надо делать этого различия. И точно, и по Матфею и по Луке вслед за этим правилом он говорит, что для бога все равны, на всех светит одно солнце, на всех падает дождь; бог не делает различия между народами и всем делает равное добро; то же должны делать и люди для всех людей без различия их народностей, а не так, как язычники, разделяющие себя на разные народы.
Так что опять с разных сторон подтвердилось для меня простое, важное, ясное и приложимое понимание слов Христа. Опять вместо изречения туманного и неопределенного любомудрия выяснилось ясное, определенное и важное и исполнимое правило: не делать различия между своим и чужим народом и не делать всего того, что вытекает из этого различия: не враждовать с чужими народами, не воевать, не участвовать в войнах, не вооружаться для войны, а ко всем людям, какой бы они народности ни были, относиться так же, как мы относимся к своим.
Всё это было так просто, так ясно, что мне было удивительно, как мог я сразу не понять этого.
Причина моего непонимания была та же, что и причина непонимания запрещения судов и клятвы. Очень трудно понять, что те суды, которые открываются христианскими молебствиями, благословляются теми, которые считают себя блюстителями закона Христа, что эти-то самые суды несовместимы с исповеданием Христа и прямо противны ему. Еще труднее догадаться, что та самая клятва, к которой приводят всех людей блюстители закона Христа, прямо запрещена этим законом; но догадаться, что то, что в нашей жизни считается не только необходимым и естественным, но самым прекрасным и доблестным – любовь к отечеству, защита, возвеличение его, борьба с врагом и т. п., – суть не только преступления закона Христа, но явное отречение от него, —догадаться, что это так – ужасно трудно. Жизнь наша до такой степени удалилась от учения Христа, что самое удаление это становится теперь главной помехой понимания его. Мы так пропустили мимо ушей и забыли всё то, что он сказал нам о нашей жизни – о том, что не только убивать, но гневаться нельзя на другого человека, что нельзя защищаться, а надо подставлять щеку, что надо любить врагов, – что нам теперь, привыкшим называть людей, посвятивших свою жизнь убийству, – христолюбивым воинством, привыкшим слушать молитвы, обращенные ко Христу о победе над врагами, славу и гордость свою полагающим в убийстве, в некоторого рода святыню возведшим символ убийства, шпагу, так что человек без этого символа, – без ножа, – это осрамленный человек, что нам теперь кажется, что Христос не запретил войны, что если бы он запрещал, он бы сказал это яснее.
Мы забываем то, что Христос никак не мог себе представить, что люди, верующие в его учение смирения, любви и всеобщего братства, спокойно и сознательно могли бы учреждать убийство братьев.
Христос не мог себе представить этого, и потому он не мог христианину запрещать войну, как не может отец, дающий наставление своему сыну о том, как надо жить честно, не обижая никого и отдавая свое другим, запрещать ему, как не надо резать людей на большой дороге.
То, чтобы нужно было христианину запрещать убийство, называемое войною, не мог себе представить и ни один апостол и ни один ученик Христа первых веков христианства. Вот что говорит, например, Ориген в своем ответе Цельзию (глава 63).
Он говорит: «Цельзий увещевает нас помогать всеми нашими силами государю, участвовать в его законных трудах, вооружаться за него, служить под его знаменами, если нужно – водить в сражениях его войска. На это надо ответить, что мы при случае подаем помощь царям, но так сказать, божественную помощь, потому что мы облечены бронею бога. Этим поведением мы подчиняемся голосу апостола. «Умоляю вас прежде всего, – говорит он, – молиться, просить и благодарить за всех людей, за царей и за высоких в почестях». Так что чем набожнее, тем полезнее бывает человек для царей; и польза его более действительна, чем польза солдата, который, завербовавшись под знамена царя, побивает столько врагов, сколько может. Кроме того, людям, которые, не зная нашей веры, требуют от нас того, чтобы мы резали людей, мы можем еще отвечать то, что и ваши жрецы не оскверняют своих рук, чтобы ваш бог принял их жертвы. То же и мы». И, кончая эту главу объяснением того, что христиане приносят пользу своею мирною жизнию более, чем солдаты, Ориген говорит: «Итак, мы воюем лучше, чем кто-нибудь, за спасение императора. Правда, что мы не служим под его знаменами. Мы и не станем служить, если бы даже он принуждал нас к этому».
Так относились к войне христиане первых веков и так говорили их учителя, обращаясь к сильным мира, и говорили так в то время, когда сотнями и тысячами гибли мученики за исповедание Христовой веры.
А теперь? Теперь и вопроса нет о том, может ли христианин участвовать в войнах. Все молодые люди, воспитываемые в церковном законе, называемом христианским, каждую осень, когда настанет срок, идут в воинские присутствия и с помощью церковных пастырей отрекаются от закона Христа. Только недавно нашелся один крестьянин, который на основании Евангелия отказался от военной службы. Учители церкви внушали крестьянину его заблуждение; но так как крестьянин поверил не им, но Христу, то его посадили в тюрьму и продержали там до тех пор, пока он не отрекся от Христа. И всё это делается после того, как нам, христианам, 1800 лет тому назад объявлена нашим богом заповедь вполне ясная и определенная: «не считай людей других народов своими врагами, а считай всех людей братьями и ко всем относись так же, как ты относишься к людям своего народа, и потому не только не убивай тех, которых называешь своими врагами, но люби их и делай им добро».
И, поняв таким образом эти столь простые, определенные, не подверженные никаким перетолкованиям заповеди Христа, я спросил себя: что бы было, если бы весь христианский мир поверил в эти заповеди не в том смысле, что их нужно петь или читать для умилостивления бога, а что их нужно исполнять для счастия людей? Что бы было, если бы люди поверили обязательности этих заповедей хоть так же твердо, как они поверили тому, что надо каждый день молиться, каждое воскресенье ходить в церковь, каждую субботу есть постное и каждый год говеть? Что бы было, если бы люди поверили в эти заповеди хоть так же, как они верят в церковные требования? И я представил себе всё христианское общество, живущее и воспитывающее молодые поколения в этих заповедях. Я представил себе, что всем нам и нашим детям с детства словом и примером внушается не то, что внушается теперь: что человек должен соблюдать свое достоинство, отстаивать перед другими свои права (чего нельзя иначе делать, как унижая и оскорбляя других), а внушается то, что ни один человек не имеет никаких прав и не может быть ниже или выше другого; что ниже и позорнее всех только тот, который хочет стать выше других; что нет более унизительного для человека состояния, как состояние гнева против другого человека; что кажущееся мне ничтожество или безумие человека не может оправдать мой гнев против него и мой раздор с ним. Вместо всего устройства нашей жизни от витрин магазинов до театров, романов и женских нарядов, вызывающих плотскую похоть, я представил себе, что всем нам и нашим детям внушается словом и делом, что увеселение себя похотливыми книгами, театрами и балами есть самое подлое увеселение, что всякое действие, имеющее целью украшение тела или выставление его, есть самый низкий и отвратительный поступок. Вместо устройства нашей жизни, при котором считается необходимым и хорошим, чтобы молодой человек распутничал до женитьбы, вместо того, чтобы жизнь, разлучающую супругов, считать самой естественной, вместо узаконения сословия женщин, служащих разврату, вместо допускания и благословления развода, – вместо всего этого я представил себе, что нам делом и словом внушается, что одинокое безбрачное состояние человека, созревшего для половых сношений и не отрекшегося от них, есть уродство и позор, что покидание человеком той, с какой он сошелся, перемена ее для другой есть не только такой же неестественный поступок, как кровосмешение, но есть и жестокий, бесчеловечный поступок. Вместо того, чтобы вся жизнь наша была установлена на насилии, чтобы каждая радость наша добывалась и ограждалась насилием; вместо того, чтобы каждый из нас был наказываемым или наказывающим с детства и до глубокой старости, я представил себе, что всем нам внушается словом и делом, что месть есть самое низкое животное чувство, что насилие есть не только позорный поступок, но поступок, лишающий человека истинного счастья, что радость жизни есть только та, которую не нужно ограждать насилием, что высшее уважение заслуживает не тот, кто отнимает или удерживает свое от других и кому служат другие, а тот, кто больше отдает свое и больше служит другим. Вместо того, чтобы считать прекрасным и законным то, чтобы всякий присягал и отдавал всё, что у него есть самого драгоценного, т. е. всю свою жизнь, в волю сам не зная кого, я представил себе, что всем внушается то, что разумная воля человека есть та высшая святыня, которую человек никому не может отдать, и что обещаться с клятвой кому-нибудь в чем-нибудь есть отречение от своего разумного существа, есть поругание самой высшей святыни. Я представил себе, что вместо тех народных ненавистей, которые под видом любви к отечеству внушаются нам, вместо тех восхвалений убийства – войн, которые с детства представляются нам как самые доблестные поступки, я представил себе, что нам внушается ужас и презрение ко всем тем деятельностям – государственным, дипломатическим, военным, которые служат разделению людей, что нам внушается то, что признание каких бы то ни было государств, особенных законов, границ, земель, есть признак самого дикого невежества, что воевать, т. е. убивать чужих, незнакомых людей без всякого повода есть самое ужасное злодейство, до которого может дойти только заблудший и развращенный человек, упавший до степени животного. Я представил себе, что все люди поверили в это, и спросил себя: что бы тогда было?
Прежде я спрашивал себя, что будет из исполнения учения Христа, как я понимал его, и невольно отвечал себе: ничего. Мы все будем молиться, пользоваться благодатью таинств, верить в искупление и спасение наше и всего мира Христом, и все-таки спасение это произойдет не от нас, а оттого, что придет время конца мира. Христос придет в свой срок во славе судить живых и мертвых, и установится царство бога независимо от нашей жизни. Теперь же учение Христа, как оно представилось мне, имело еще и другое значение; установление царства бога на земле зависело и от нас. Исполнение учения Христа, выраженного в пяти заповедях, установляло это царство божие. Царство бога на земле есть мир всех людей между собою. Мир между людьми есть высшее доступное на земле благо людей. Так представлялось царство бога всем пророкам еврейским. И так оно представлялось и представляется всякому сердцу человеческому. Все пророчества обещают мир людям.
Всё учение Христа состоит в том, чтобы дать царство бога – мир людям. В нагорной проповеди, в беседе с Никодимом, в послании учеников, во всех поучениях своих он говорит только о том, что разделяет людей и мешает им быть в мире и войти в царство бога. Все притчи суть только описание того, что есть царство бога и что, только любя братьев и будучи в мире с ними, можно войти в него. Иоанн Креститель, предшественник Христа, говорит, что приблизилось царство бога и что Иисус Христос дает его миру.
Христос говорит, что принес мир на землю (Иоан. XIV, 27). «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается».
И вот эти пять заповедей его действительно дают этот мир людям. Все пять заповедей имеют только одну эту цель – мира между людьми. Стоит людям поверить учению Христа и исполнять его, и мир будет на земле, и мир не такой, какой устраивается людьми, временный, случайный, но мир общий, ненарушимый, вечный.
Первая заповедь говорит: Будь в мире со всеми, не позволяй, себе считать другого человека ничтожным или безумным (Матф. V, 22). Если нарушен мир, то все силы употребляй на то, чтобы восстановить его. Служение богу есть уничтожение вражды (23—24). Мирись при малейшем раздоре, чтобы не потерять истинной жизни (26). В этой заповеди сказано всё; но Христос предвидит соблазны мира, нарушающие мир между людьми, и дает вторую заповедь – против соблазна половых отношений, нарушающего мир. Не смотри на красоту плотскую как на потеху, вперед избегай этого соблазна (28—30); бери муж одну жену, и жена – одного мужа, и не покидайте друг друга ни под каким предлогом (32). Другой соблазн – это клятвы, вводящие людей в грех. Знай вперед, что это – зло, и не давай никаких обетов (34—37). Третий соблазн – это месть, называющаяся человеческим правосудием; не мсти и не отговаривайся тем, что тебя обидят, – неси обиды, а не делай зла за зло (38—42). Четвертый соблазн – это различие народов, вражда племен и государств. Знай, что все люди – братья и сыны одного бога, и не нарушай мира ни с кем во имя народных целей (43—48). Не исполнят люди одну из этих заповедей – мир будет нарушен. Исполнят люди все заповеди, и царство мира будет на земле. Заповеди эти исключают всё зло из жизни людей.
При исполнении этих заповедей жизнь людей будет то, чего ищет и желает всякое сердце человеческое. Все люди будут братья и всякий будет всегда в мире с другими, наслаждаясь всеми благами мира тот срок жизни, который уделен ему богом. Перекуют люди мечи на орала и копья на серпы. Будет то царство бога, царство мира, которое обещали все пророки и которое близилось при Иоанне Крестителе, и которое возвещал и возвестил Христос, говоря словами Исаии: «Дух господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето господне благоприятное» (Лук. IV, 18—19; Исаии LXI, 1—2).
Заповеди мира, данные Христом, простые, ясные, предвидящие все случаи раздора и предотвращающие его, открывают это царство бога на земле. Стало быть, Христос точно мессия. Он исполнил обещанное. Мы только не исполняем того, чего вечно желали все люди, – того, о чем мы молились и молимся.
VII
Отчего же люди не делают того, что Христос сказал им и что дает им высшее доступное человеку благо, чего они вечно желали и желают? И со всех сторон я слышу один, разными словами выражаемый, один и тот же ответ: «Учение Христа очень хорошо, и правда, что при исполнении его установилось бы царство бога на земле, но оно трудно и потому неисполнимо».
Учение Христа о том, как должны жить люди, божественно, хорошо и дает благо людям, но людям трудно исполнять его. Мы так часто повторяем и слышим это, что нам не бросается в глаза то противоречие, которое находится в этих словах.
Человеческой природе свойственно делать то, что лучше. И всякое учение о жизни людей есть только учение о том, что лучше для людей. Если людям показано, что им лучше делать, то как же они могут говорить, что они желают делать то, что лучше, но не могут? Люди не могут делать только то, что хуже, а не могут не делать того, что лучше.
Разумная деятельность человека, с тех пор как есть человек, направлена к тому, чтобы найти, что̀ лучше из тех противоречий, которыми наполнена жизнь и отдельного человека и всех людей вместе.
Люди дерутся за землю, за предметы, которые им нужны, и потом доходят до того, что делят всё и называют это собственностью; они находят, что хотя и трудно учредить это, но так лучше, и держатся собственности; люди дерутся за жен, бросают детей, потом находят, что лучше, чтобы у каждого была своя семья, и, хотя очень трудно питать семью, люди держатся собственности, семьи и многого другого. И как только люди нашли, что так лучше, то как бы это трудно ни было, так и делают. Что же такое значит, что мы говорим: учение Христа прекрасно, жизнь по учению Христа лучше, чем та, которою мы живем; но мы не можем жить так, чтобы было лучше, потому что это «трудно».
Если это слово: «трудно» понимать так, что трудно жертвовать мгновенным удовлетворением своей похоти большему благу, то почему же мы не говорим, что трудно пахать, для того чтобы был хлеб, сажать яблони, чтобы были яблоки? То, что надо переносить трудности для достижения большего блага, это знает всякое существо, одаренное первым задатком разума. И вдруг оказывается, что мы говорим, что учение Христа прекрасно, но что оно неисполнимо, потому что трудно. Трудно же потому, что, следуя ему, мы должны лишаться того, чего мы прежде не лишались. Мы как будто никогда не слыхали того, что выгоднее иногда потерпеть и лишиться, чем ничего не терпеть и удовлетворять всегда свою похоть.
Человек может быть животным, и никто не станет упрекать его в том; но человек не может рассуждать о том, что он хочет быть животным. Как только он рассуждает, то он сознает себя разумным, и, сознавая себя разумным, он не может не признавать того, что разумно и того, что неразумно. Разум ничего не приказывает, он только освещает.
Я в темноте избил руки и колена, отыскивая дверь. Вошел человек со светом, и я увидал дверь. Я не могу уже биться в стену, когда я вижу дверь, и еще менее могу утверждать, что я вижу дверь, нахожу, что лучше пройти в дверь, но что это трудно, и потому я хочу продолжать биться коленками об стену.
В этом удивительном рассуждении: христианское учение хорошо и дает благо миру; но люди слабы, люди дурны и хотят лучше делать, а делают хуже, и потому не могут делать лучше, – есть очевидное недоразумение.
Тут, очевидно, не ошибка рассуждения, а что-нибудь другое.
Тут, должно быть, какое-нибудь ложное представление. Только ложное представление о том, что есть то, чего нет, и нет того, что есть, может привести людей к такому странному отрицанию исполнимости того, что, по их же признанию, дает им благо.
Ложное представление, приведшее к этому, есть то, что называется догматическою христианскою верой, – тою самою, которой с детства учат всех исповедующих церковную христианскую веру по разным православным, католическим и протестантским катехизисам.
Вера эта, по определению верующих же, есть признание существующим того, что кажется (это сказано у Павла и повторяется во всех богословиях и катехизисах как лучшее определение веры). И вот это-то признание существующим того, что кажется, и привело людей к такому странному утверждению того, что учение Христа хорошо для людей, но не годится для людей.
Учение этой веры в самом точном его выражении такое: личный бог, существующий вечно, один в трех лицах, вдруг вздумал сотворить мир духов. Бог благой сотворил этот мир духов для их блага; но случилось, что один из духов сделался сам злым и потому несчастным. Прошло много времени, и бог сотворил другой мир, вещественный, и человека тоже для его блага. Бог сотворил человека блаженным, бессмертным и безгрешным. Блаженство человека состояло в пользовании благом жизни без труда; бессмертие его состояло в том, что он всегда должен был так жить; безгрешность его состояла в том, что он не знал зла.
Человек этот в раю был соблазнен тем духом первого творения, который сам собою сделался злым, и человек с тех пор пал, и стали рождаться такие же падшие люди, и с тех пор люди стали работать, болеть, страдать, умирать, бороться телесно и духовно, т. е. воображаемый человек сделался действительным, таким, каким мы его знаем и которого не можем и не имеем права и основания вообразить себе иным. Состояние человека трудящегося, страдающего, избирающего добро и избегающего зла и умирающего, то, которое есть и помимо которого мы не можем себе ничего представить, по учению этой веры не есть настоящее положение человека, а есть несвойственное ему, случайное, временное положение.
Несмотря на то, что состояние это продолжалось для всех людей по этому учению от изгнания Адама из рая, т. е. от начала мира до рождения Христа, и точно так же продолжается и после для всех людей, верующие должны воображать, что это есть только случайное, временное состояние. По этому учению сын бога – сам бог, второе лицо троицы, послан богом на землю в образе человека затем, чтобы спасти людей от этого не свойственного им случайного, временного состояния, снять с них все проклятия, наложенные на них тем же богом за грех Адама, и восстановить их в их прежнем естественном состоянии блаженства, т. е. безболезненности, бессмертия, безгрешности и праздности. Второе лицо троицы – Христос, по этому учению, тем, что люди его казнили, этим самым искупил грех Адама и прекратил это неестественное состояние человека, продолжавшееся от начала мира. И с тех пор человек, поверивший в Христа, стал опять таким же, каким он был в раю, т. е. бессмертным, неболеющим, безгрешным и праздным.
На той части осуществления искупления, вследствие которой после Христа земля для верующих уже стала рождать везде без труда, болезни прекратились и чада стали родиться у матерей без страданий, – учение это не очень останавливается, потому что тем, которым тяжело работать и больно страдать, как бы они ни верили, трудно внушить, что не трудно работать и не больно страдать. Но та часть учения, по которой смерти и греха уже нет, утверждается с особенной силой.
Утверждается, что мертвые продолжают быть живы. И так как мертвые никак не могут ни подтвердить того, что они умерли, ни того, что они живы, так же как камень не может подтвердить того, что он может или не может говорить, то это отсутствие отрицания применяется за доказательство и утверждается, что люди, которые умерли, не умерли. И еще с большей торжественностью и уверенностью утверждается то, что после Христа верою в него человек освобождается от греха, т. е. что человеку после Христа не нужно уже разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, т. е. совершенно хорош. По этому учению люди должны воображать, что в них разум бессилен и что потому-то они и безгрешны, т. е. не могут ошибаться.
Истинно верующий должен воображать, что со времени Христа земля родит без труда, дети родятся без мук, болезней нет, смерти нет и греха, т. е. ошибок, нет, т. е. нет того, что есть, и что есть то, чего нет.
Так говорит строго логическая богословская теория.
Учение это само по себе кажется невинно. Но отступление от истины никогда не бывает невинно и влечет за собой свои последствия, тем более значительные, чем значительнее тот предмет, о котором говорится неправда. Здесь же предмет, о котором говорится неправда, есть вся жизнь человеческая.
То, что по этому учению называется истинною жизнью, есть жизнь личная, блаженная, безгрешная и вечная, т. е. такая, какую никто никогда не знал и которой нет. Жизнь же та, которая есть, которую мы одну знаем, которою мы живем и которою жило и живет всё человечество, есть по этому учению жизнь падшая, дурная, есть только образчик той хорошей жизни, которая нам следует.
Та борьба между стремлением к жизни животной и жизни разумной, которая лежит в душе каждого человека и составляет сущность жизни каждого, по этому учению совершенно устраняется. Борьба эта переносится в событие, совершившееся в раю с Адамом при сотворении мира. И вопрос о том: есть ли мне или не есть те яблоки, которые соблазняют меня? – не существует для человека по этому учению. Вопрос этот раз навсегда решен Адамом в раю в отрицательном смысле. Адам за меня согрешил, т. е. ошибся, и все люди, все мы безвозвратно пали, и все наши усилия жить разумно бесполезны и даже безбожны. Я дурен непоправимо, и должен знать это. И спасение мое не в том, что я разумом могу осветить свою жизнь и, узнав хорошее и дурное, делать то, что лучше. Нет, Адам раз навсегда за меня сделал дурно, и Христос раз навсегда поправил это дурное, сделанное Адамом, и потому я должен, как зритель, сокрушаться о падении Адама и радоваться о спасении Христом.
Вся же та любовь к добру и истине, которая лежит в душе человека, все усилия его осветить разумом явления жизни, вся моя духовная жизнь – всё это не только не важно по этому учению, но это есть прелесть или гордость.
Жизнь, какая есть здесь, на земле, со всеми ее радостями, красотами, со всею борьбой разума против тьмы, – жизнь всех людей, живших до меня, вся моя жизнь с моей внутренней борьбой и победами разума есть жизнь не истинная, а жизнь павшая, безнадежно испорченная; жизнь же истинная, безгрешная – в вере, т. е. в воображении, т. е. в сумасшествии.
Пусть человек, отрешившись от привычки, взятой с детства, допускать всё это, постарается взглянуть просто, прямо на это учение, пусть он перенесется мыслью в свежего человека, воспитанного вне этого учения, и представит себе, каким покажется это учение такому человеку? Ведь это полное сумасшествие.
И как ни странно и ни страшно это думать, я не мог не признать этого, потому что это одно объясняло мне то удивительное, противоречивое, бессмысленное возражение, которое я слышу со всех сторон против исполнимости учения Христа: оно хорошо и дает счастье людям, но люди не могут исполнить его.
Только представление существующим того, что не существует, и несуществующим того, что существует, могло привести к этому удивительному противоречию. И такое ложное представление я нашел в проповедуемой 1500 лет псевдо-христианской вере.
Но возражение против учения Христа о том, что оно хорошо, но неисполнимо, делают не одни верующие, его делают и неверующие, такие люди, которые не верят или думают, что не верят в догмат грехопадения и искупления. Возражение против учения Христа, состоящее в его неисполнимости, делают люди науки, философы, вообще люди образованные и считающие себя совершенно свободными от всяких суеверий. Они не верят или думают, что не верят ни во что, и потому считают себя свободными от суеверия грехопадения и искупления. И мне так казалось это сначала. Мне тоже казалось, что эти ученые люди имеют другие основания для отрицания исполнимости учения Христа. Но, вникнув глубже в основы их отрицания, я убедился, что у неверующих то же ложное представление о том, что наша жизнь не есть то, что есть, а то, что им кажется, и что представление это зиждется на той же основе, как и представление верующих. Признающие себя неверующими, правда, не веруют ни в бога, ни в Христа, ни в Адама; но в основное ложное представление о правах человека на блаженную жизнь, на котором зиждется всё, в него они веруют так же и еще тверже, чем богословы.
Как ни храбрись привилегированная наука с философией, уверяя, что она решительница и руководительница умов, – она не руководительница, а слуга. Миросозерцание всегда дано ей готовое религией, и наука только работает на пути, указанном ей религией. Религия открывает смысл жизни людей, а наука прилагает этот смысл к различным сторонам жизни. И потому, если религия дает ложный смысл жизни, то наука, воспитанная в этом религиозном миросозерцании, будет с разных сторон прикладывать этот ложный смысл к жизни людей. Вот это-то и случилось с нашей европейско-христианской наукой и философией.
Церковное учение дало основной смысл жизни людей в том, что человек имеет право на блаженную жизнь и что блаженство это достигается не усилиями человека, а чем-то внешним, и это миросозерцание и стало основой всей нашей науки и философии.
Религия, наука, общественное мнение, все в один голос говорят, что дурна та жизнь, которую мы ведем, но что учение о том, как самим стараться быть лучше и этим сделать и самую жизнь лучше, – учение это неисполнимо.
Учение Христа в смысле улучшения жизни людей своими разумными силами неисполнимо потому, что Адам пал и мир лежит во зле, – говорит религия.
Учение это неисполнимо потому, что жизнь человеческая совершается по известным, не зависимым от воли человека законам, – говорит наша философия. Философия и вся наука, только другими словами, говорит совершенно то же, что говорит религия догматом первородного греха и искупления.
В учении искупления два основные положения, на которые всё опирается: 1) законная жизнь человеческая есть жизнь блаженная, жизнь же мирская здесь есть жизнь дурная, не поправимая усилиями человека, и 2) спасение от этой жизни – в вере.
Эти два положения стали основой миросозерцания и верующих и неверующих нашего псевдо-христианского общества. Из второго положения вытекла церковь с ее учреждениями. Из первого вытекает наше общественное мнение и наши философские и политические теории.
Все философские и политические теории, оправдывающие существующий порядок, гегельянизм и его дети зиждутся на этом положении. Пессимизм, требующий от жизни того, что она не может дать, и потому отрицающий жизнь, вытекает из него же.
Материализм с его удивительным восторженным утверждением, что человек есть процесс и больше ничего, есть законное детище этого учения, признавшего, что жизнь здешняя есть жизнь падшая. Спиритизм с его учеными последователями есть лучшее доказательство того, что научное и философское воззрение не свободно, а основано на религиозном учении о блаженной вечной жизни, свойственной человеку.
Извращение смысла жизни извратило всю разумную деятельность человека. Догмат падения и искупления человека заслонил от людей самую важную и законную область деятельности человека и исключил из всей области знания человеческого знание того, что должен делать человек для того, чтобы ему самому быть счастливее и лучше. Наука и философия, воображая, что они действуют враждебно псевдо-христианству, гордясь этим, только работают на него. Наука и философия трактуют обо всем, о чем хотите, но только не о том, как человеку самому быть и жить лучше. То, что называется этикой – нравственным учением, совершенно исчезло в нашем псевдо-христианском обществе.
И верующие и неверующие одинаково не спрашивают себя о том, как надо жить и как употребить тот разум, который дан нам, а спрашивают себя: отчего жизнь наша людская не такая, какою мы себе ее вообразили, и когда она сделается такою, какой нам хочется?
Только благодаря этому ложному учению, всосавшемуся в плоть и кровь наших поколений, могло случиться то удивительное явление, что человек точно выплюнул то яблоко познания добра и зла, которое он, по преданию, съел в раю, и, забыв то, что вся история человека только в том, чтобы разрешать противоречия разумной и животной природы, стал употреблять свой разум на то, чтобы находить законы исторические одной своей животной природы.
Религиозные и философские учения всех народов, за исключением философских учений псевдо-христианского мира, все, которые мы знаем: иудаизм, конфуцианство, буддизм, браманизм, греческая мудрость, – все учения имеют целью устройство жизни людской и уяснение людям того, как каждый должен стремиться к тому, чтобы быть и жить лучше. Всё конфуцианство – в личном совершенствовании, иудаизм – в личном следовании каждого завету с богом, буддизм – в учении о том, как каждому спастись от зла жизни. Сократ учил личному совершенствованию во имя разума, стоики разумную свободу признают единой основой истинной жизни.
Вся разумная деятельность человека не могла не быть и всегда была в одном – в освещении разумом стремления к благу. Свобода воли, – говорит наша философия, – есть иллюзия, и очень гордится смелостью этого утверждения. Но свобода воли есть не только иллюзия – это есть слово, не имеющее никакого значения. Это – слово, выдуманное богословами и криминалистами, и опровергать это слово – бороться с мельницами. Но разум, тот, который освещает нашу жизнь и заставляет нас изменять наши поступки, есть не иллюзия, и его-то уж никак нельзя отрицать. Следование разуму для достижения блага – в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом всё учение Христа, и его-то, т. е. разум, отрицать разумом уже никак нельзя.
Учение Христа есть учение о сыне человеческом, общем всем людям, т. е. об общем всем людям стремлении к благу и об общем всем людям разуме, освещающем человека в этом стремлении. (Доказывать, что сын человеческий значит сын человеческий, совершенно излишне. Для того, чтобы под сыном человеческим разуметь что-нибудь другое, чем то, что значат слова, надо доказать то, что Христос умышленно употреблял для обозначения того, что он хотел сказать, слова, имеющие совсем другое значение. Но если даже, как это хочет церковь, сын человеческий значит сын божий, то и тогда сын человеческий значит тоже человек по своей сущности, потому что сынами божьими Христос называет всех людей.)
Учение Христа о сыне человеческом – сыне бога, составляющее основу всех Евангелий, яснее всего выражено в его беседе с Никодимом. «Каждый человек, – говорит он, – кроме сознания своей плотской личной жизни, происшедшей от мужского отца в утробе плотской матери, не может не сознавать свое рождение свыше (Иоан. III, 5, 6, 7). То, что̀ человек сознает в себе свободным, – это-то и есть то, что̀ рождено от бесконечного, от того, что мы называем богом (11—13). Это-то рождение от бога, этого сына бога в человеке, мы должны возвысить в себе для того, чтобы получить жизнь истинную (14—17). Сын человеческий есть сын бога однородный (а не единородный). Тот, кто возвысит в себе этого сына бога над всем остальным, кто поверит, что жизнь только в нем, тот не будет в разделении с жизнью. Разделение с жизнью происходит только от того, что люди не верят в свет, который есть в них» (18—21). (Тот свет, о котором сказано в Евангелии Иоанна, что в нем жизнь и что жизнь есть свет людей.)
Христос учит тому, чтобы над всем возвысить сына человеческого, который есть сын бога и свет людей. Он говорит: «Когда возвысите (вознесете, возвеличите) сына человеческого, вы узнаете, что я ничего не говорю от себя лично» (Иоан. XII, 32, 44, 49). Евреи не понимают его учения и спрашивают: кто этот сын человеческий, которого надо возвысить? (Иоан. XII, 34). И на этот вопрос он отвечает (Иоан. XII, 35): «Еще на малое время свет в вас31 есть. Ходите, пока есть свет, чтобы тьма не объяла вас. Тот, кто ходит во тьме, не знает, куда идет». На вопрос, что значит: возвысить сына человеческого, Христос отвечает: жить в том свете, который есть в людях.
Сын человеческий, по ответу Христа, – это свет, в котором люди должны ходить, пока есть свет в них.
Луки XI, 35. Смотри, не сделался ли свет, находящийся в тебе, тьмою?
Матф. VI, 23. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? – говорит он, поучая всех людей.
Прежде и после Христа люди говорили то же самое: то, что в человеке живет божественный свет, сошедший с неба, и свет этот есть разум, – и что ему одному надо служить и в нем одном искать благо. Это говорили и учители браминов, и пророки еврейские, и Конфуций, и Сократ, и Марк Аврелий, и Эпиктет, и все истинные мудрецы, не составители философских теорий, а те люди, которые искали истины для блага своего и всех людей.32
И вдруг мы по догмату искупления признали, что об этом-то свете в человеке говорить и думать вовсе и не нужно. Надо думать, говорят верующие, о том, какое естество у какого лица троицы, какие таинства надо и не надо совершать; потому что спасение людей произойдет не от наших усилий, а от троицы и от правильного совершения таинств. Надо думать, говорят неверующие, о том, по каким законам совершает движения бесконечно малая частица материи в бесконечном пространстве в бесконечное время; но о том, чего для его блага требует разум человека, об этом думать не надо, потому что улучшение состояния человека произойдет не от него, а от общих законов, которые мы откроем.
Я убежден, что через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославляемых последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений. Несколько веков ученые люди западной малой части большого материка находились в повальном сумасшествии, воображая, что им принадлежит вечная блаженная жизнь, и занимались всякого рода элукубрациями о том, как, по каким законам наступит для них эта жизнь, сами же ничего не делали и не думали никогда ничего о том, как сделать эту свою жизнь лучше. И что будет представляться еще трогательнее будущему историку – это то, что он найдет, что у людей этих был учитель, ясно, определенно указавший им, что им должно делать, чтобы жить счастливее, и что слова этого учителя были объяснены одними так, что он на облаках придет всё устроить, а другими так, что слова этого учителя прекрасны, но неисполнимы, потому что жизнь человеческая не такая, какую бы мы хотели, и потому не стоит ею заниматься, а разум человеческий должен быть направлен на изучение законов этой жизни без всякого отношения к благу человека.
Церковь говорит: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь здешняя есть образчик жизни настоящей; она хороша быть не может, она вся есть зло. Наилучшее средство прожить эту жизнь состоит в том, чтобы презирать ее и жить верою (т. е. воображением) в жизнь будущую, блаженную, вечную; а здесь жить – как живется, и молиться.
Философия, наука, общественное мнение говорят: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь человека зависит не от того света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов, и потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно с ним, а надо жить, как живется, твердо веруя, что по законам прогресса исторического, социологического и других после того, как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделается сама собой очень хорошей.
Приходят люди во двор, находят в этом дворе всё, что нужно для их жизни: дом со всею утварью, амбары, полные хлебом, погреба, подвалы со всеми запасами; на дворе – орудия земледельческие, снасть, сбруя, лошади, коровы, овцы, полное хозяйство – всё, что нужно для довольной жизни. Люди с разных сторон приходят в этот двор и начинают пользоваться всем тем, что они находят тут, каждый только для себя, не думая ничего оставлять ни тем, которые теперь с ними в доме, ни тем, которые придут после. Каждый хочет всё для себя. Каждый торопится воспользоваться чем может, и начинается истребление всего – борьба, драка за предметы обладания: корову молочную, нестриженых котных овец бьют на мясо; станками и телегами топят печи, дерутся за молоко, за зерно, проливают и просыпают и губят больше, чем пользуются. Никто спокойно не съест куска, ест и огрызается; приходит сильнейший и отнимает, а у того отнимает другой.
Намучившись, избитые, голодные люди уходят из двора. Опять хозяин приготовляет всё во дворе так, чтобы люди могли спокойно жить в нем. Опять двор – полная чаша, опять приходят прохожие, и опять свалка, драка, всё идет тунью, и опять измученные, избитые и озлобленные люди выходят вон, ругаясь и злобясь и на товарищей, и на хозяина, что он плохо и мало заготовил. Опять добрый хозяин учреждает двор так, чтобы могли жить в нем люди, и опять то же, и опять, и опять, и опять. И вот в один из новых приходов людей находится учитель, который говорит другим: братцы! мы не то делаем. Смотрите, сколько добра во дворе, как всё хозяйственно устроено! На всех нас хватит и останется тем, которые после нас придут, только давайте с умом жить. Не будем друг у дружки отнимать, а будем помогать друг другу. Станем сеять, пахать, скотину водить, и всем хорошо будет жить. И вот случилось, что кое-кто понял, что говорил учитель, и стали эти понявшие так делать: перестали драться, отнимать друг у дружки и стали работать. Но остальные, которые и не слыхали речей учителя, а которые и слышали, да не верили им, не делали по словам человека, а попрежнему дрались и губили хозяйское добро и уходили. Приходили другие, и было то же самое. Те, которые послушали учителя, говорили всё свое: не деритесь, не губите хозяйское добро, вам лучше будет. Делайте, как сказал учитель. Но всё еще было много таких, которые не слыхали и не верили, и дело шло долго всё по-старому. Всё это понятно и так точно могло быть, пока люди не верили тому, что говорил учитель. Но вот, рассказывают, что пришло время, все услыхали во дворе слова учителя, все поняли их, все, мало что поняли, все признали, что это сам бог говорит через учителя, что и учитель-то был сам бог, и все поверили, как в святыню, в каждое слово учителя. Но рассказывают, что будто после этого, вместо того чтобы всем жить по словам учителя, вышло то, что после этого уж никто не стал удерживаться от свалки, и пошли все бузовать друг друга, и стали все говорить, что теперь-то мы верно знаем, что так надо и что иначе нельзя.
Что же это такое значит? Ведь скотина – и та сладится, как ей так корм есть, чтобы не сбивать его дуром, а люди узнали, как надо лучше жить, поверили, что сам бог им велел так жить, и живут еще хуже, потому что, говорят, нельзя жить иначе. Что-нибудь другое вообразили себе эти люди. Ну, что же могли вообразить себе эти люди во дворе, чтобы, поверив словам учителя, продолжать жизнь попрежнему, отнимать друг у друга, драться, губить добро и себя? А вот что: учитель сказал им: ваша жизнь в этом дворе дурная, живите лучше, и ваша жизнь будет хорошая, а они вообразили, что учитель осудил всю жизнь в этом дворе и обещал им другую, хорошую жизнь не на этом дворе, а где-то в другом месте. И они решили, что этот двор постоялый и что не стоит стараться жить в нем хорошо, а что надо только заботиться о том, как бы не прозевать ту обещанную хорошую жизнь в другом месте. Только этим можно объяснить странное поведение во дворе тех людей, которые верят, что учитель был бог, и тех, которые считают его умным человеком и слова его справедливыми, но продолжают жить по-старому, противно советам учителя.
Люди всё слышали, всё поняли, но только пропустили мимо ушей то, что учитель говорил только о том, что людям надо делать свое счастье самим здесь, на том дворе, на котором они сошлись, а вообразили себе, что это двор постоялый, а там где-то будет настоящий. И вот от этого вышло то удивительное рассуждение, что слова учителя очень прекрасны и даже слова бога, но исполнять их теперь трудно.
Только бы люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им: Христос на облаках с трубным гласом, или исторический закон, или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не поможет, коли сами не помогут. А самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а самим перестать губить себя.
VIII
Но положим, что учение Христа дает блаженство миру, положим, что оно разумно, и человек на основании разума не имеет права отрекаться от него; но что делать одному среди мира людей, не исполняющих закон Христа? Если бы все люди вдруг согласились исполнять учение Христа, тогда бы исполнение его было возможно. Но нельзя идти одному человеку против всего мира. «Если я один среди мира людей, не исполняющих учение Христа, – говорят обыкновенно, – стану исполнять его, буду отдавать то, что имею, буду подставлять щеку, не защищаясь, буду даже не соглашаться на то, чтобы идти присягать и воевать, меня оберут, и если я не умру с голода, меня изобьют до смерти, и если не изобьют, то посадят в тюрьму или расстреляют, и я напрасно погублю всё счастье своей жизни и всю свою жизнь».
Возражение это основано на том же недоразумении, на котором основывается и возражение о неисполнимости учения Христа.
Так говорят обыкновенно и так думал и я, пока не освободился вполне от церковного учения, и потому не понимал учения Христа о жизни во всем его значении.
Христос предлагает свое учение о жизни как спасение от той губительной жизни, которою живут люди, не следуя его учению, и вдруг я говорю, что я бы и рад последовать его учению, да мне жалко погубить свою жизнь. Христос учит спасению от погибельной жизни, а я жалею эту погибельную жизнь. Стало быть, я считаю эту свою жизнь вовсе не погибельной, считаю эту жизнь чем-то действительным, мне принадлежащим и хорошим. В этом-то признании своей этой мирской, личной жизни за что-то действительное, мне принадлежащее и лежит недоразумение, препятствующее пониманию учения Христа. Христос знает это заблуждение людей, по которому они эту свою личную жизнь считают за что-то действительное и себе принадлежащее, и целым рядом проповедей и притч показывает им, что у них нет никаких прав на жизнь, нет никакой жизни до тех пор, пока они не приобретут истинной жизни, отрекшись от призрака жизни, того, что они называют своей жизнью.
Для того чтобы понять учение Христа о спасении жизни, надо прежде всего понять то, что говорили все пророки, что говорил Соломон, что говорил Будда, что говорили все мудрецы мира о личной жизни человека. Можно, по выражению Паскаля, не думать об этом, нести перед собой ширмочки, которые бы скрывали от взгляда ту пропасть смерти, к которой мы все бежим; но стоит подумать о том, что такое одинокая личная жизнь человека, чтобы убедиться в том, что вся жизнь эта, если она есть только личная жизнь, не имеет для каждого отдельного человека не только никакого смысла, но что она есть злая насмешка над сердцем, над разумом человека и над всем тем, что есть хорошего в человеке. И потому, чтобы понять учение Христа, надо прежде всего опомниться, одуматься, надо, чтобы в нас совершилась ματάνοια, то самое, что, проповедуя свое учение, говорит предшественник Христа – Иоанн таким же, как мы, запутанным людям. Он говорил: «Прежде всего покайтесь, т. е. одумайтесь, а то все погибнете». Он говорил: «Топор уже лежит подле дерева, чтобы срубить его. Смерть и погибель тут, подле каждого. Не забывайте этого, одумайтесь». И Христос, начиная свою проповедь, говорит то же: «Одумайтесь, а то все погибнете».
Луки XIII, 1—5. Христу рассказали о погибели галилеян, убитых Пилатом. И он говорит: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете».
Если бы он жил в наше время в России, он сказал бы: разве вы думаете, что сгоревшие в бердичевском цирке или погибшие на кукуевской насыпи были виновнее других? – все так же погибнете, если не одумаетесь, если не найдете в своей жизни того, что не погибает. Смерть задавленных башней, сгоревших в цирке ужасает вас, но ведь ваша смерть, столь же ужасная и столь же неизбежная, стоит также перед вами. И вы напрасно стараетесь забыть ее. Когда она придет неожиданная, она будет еще ужаснее.
Он говорит (Луки XII, 54—57): «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет; и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет; и бывает. Лицемеры! лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?»
Ведь вы по приметам узнаете вперед погоду, как же вы не видите, что с вами быть должно? Убегай от опасности, оберегай свою жизнь, сколько хочешь, и все-таки не Пилат убьет, так башня задавит, а не Пилат и не башня, то умрешь в постели в страданиях еще злейших.
Сделайте простой расчет, как делают люди мирские, когда они что-нибудь затевают: башню строят, или идут на войну, или завод строят. Они затевают и трудятся над тем, что должно иметь разумный конец.
Луки XIV, 28—31. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?»
Разве не бессмысленно трудиться над тем, что, сколько бы ты ни старался, никогда не будет закончено? Всегда смерть придет раньше, чем будет окончена башня твоего мирского счастья. И если ты вперед знаешь, что, сколько ни борись со смертью, не ты, а она поборет тебя, так не лучше ли уж и не бороться с нею и не класть свою душу в то, что погибает наверно, а поискать такого дела, которое не разрушилось бы неизбежною смертью.
Луки XII, 22—27. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи и тело – одежды. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и бог питает их; сколько же вы лучше их? Да кто же из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них».
Сколько ни заботьтесь о теле и пище, никто не может прибавить себе жизни на один час.33 Так разве не бессмысленно заботиться о том, чего вы не можете сделать?
Вы знаете очень хорошо, что жизнь наша кончится смертью, а вы заботитесь о том, чтобы обеспечить свою жизнь имением. Жизнь не может обеспечиться имением. Поймите, что это смешной обман, которым вы сами себя обманываете.
Не может быть смысл жизни, говорит Христос, в том, чем мы владеем и что мы приобретаем, то, что не мы сами; он должен быть в чем-нибудь ином.
Он говорит (Луки XII, 15—21): «Жизнь человека при всем избытке его не зависит от его имения. У одного богатого человека, – говорит он, – был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю бо̀льшие, и сберу туда весь хлеб мой и всё добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы; покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в бога богатеет».
Смерть всегда, всякое мгновение стоит над вами. И потому (Луки XII, 35, 36, 38, 39, 40): «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий».
Притча о девах, ожидающих жениха, завершение века и страшный суд, – все эти места, по мнению всех толкователей, кроме другого значения конца мира, имеют значение: всегда, всякий час предстоящей человеку смерти.
Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждет вас. Жизнь ваша всегда совершается в виду смерти. Если вы трудитесь лично для себя в будущем, то вы сами знаете, что в будущем для вас одно – смерть. И эта смерть разрушает всё то, для чего вы трудились. Стало быть, жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Если есть жизнь разумная, то она должна быть какая-нибудь другая, т. е. такая, цель которой не в жизни для себя в будущем. Чтобы жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни.
Луки X, 41. «Марфа! Марфа! хлопочешь и заботишься о многом, а одно только нужно».
Все те бесчисленные дела, которые мы делаем для себя в будущем, не нужны для нас; всё это обман, которым мы сами обманываем себя. Нужно только одно.
Со дня рождения положение человека таково, что его ждет неизбежная погибель, т. е. бессмысленная жизнь и бессмысленная смерть, если он не найдет этого, чего-то одного, которое нужно для истинной жизни. Это-то одно, дающее истинную жизнь, Христос и открывает людям. Он не выдумывает это, не обещает дать это по своей божеской власти; он только показывает людям, что вместе с той личной жизнью, которая есть несомненный обман, должно быть то, что есть истина, а не обман.
Притчей о виноградарях (Матф. XXI, 33—42) Христос разъясняет этот источник заблуждения людей, скрывающего от них эту истину и заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную.
Люди, живя в хозяйском обработанном саду, вообразили себя, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков этих людей, кончающийся их изгнанием, исключением из жизни; точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею, как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. И для нас, вообразивших себе это, неизбежен такой же ряд безумных и жестоких поступков и несчастий; и такое же исключение из жизни. И как виноградарям кажется, что чем злее они будут, тем лучше обеспечат себя, – убьют послов и хозяйского сына, – так и нам кажется, что чем злее мы будем, тем будем обеспеченнее.
Как неизбежно кончается с виноградарями тем, что их, никому не дающих плодов сада, изгоняет хозяин, так точно кончается и с людьми, вообразившими себе, что жизнь личная есть настоящая жизнь. Смерть изгоняет их из жизни, заменяя их новыми; но не за наказание, а только потому, что люди эти не поняли жизни. Как обитатели сада или забыли, или не хотят знать того, что им передан сад окопанный, огороженный, с вырытым колодцем и что кто-нибудь да поработал на них и потому ждет и от них работы; так точно и люди, живущие личной жизнью, забыли или хотят забыть всё то, что сделано для них прежде их рождения и делается во всё время их жизни, и что поэтому ожидается от них; они хотят забыть то, что все блага жизни, которыми они пользуются, даны и даются и потому должны быть передаваемы или отдаваемы.
Эта поправка взгляда на жизнь, эта μετάνοια есть краеугольный камень учения Христа, как он и сказал в конце этой притчи. ІІо учению Христа, как виноградари, живя в саду, не ими обработанном, должны понимать и чувствовать, что они в неоплатном долгу перед хозяином, так точно и люди должны понимать и чувствовать, что, со дня рождения и до смерти, они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед жившими до них и теперь живущими и имеющими жить, и перед тем, что было и есть и будет началом всего. Они должны понимать, что всяким часом своей жизни, во время которой они не прекращают этой жизни, они утверждают это обязательство, и что потому человек, живущий для себя и отрицающий это обязательство, связывающее его с жизнью и началом ее, сам лишает себя жизни, должен понимать, что, живя так, он, желая сохранить свою жизнь, губит ее, – то самое, что много раз повторяет Христос.
Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей.
Чтобы быть участником в этой жизни, человек должен отречься от своей воли для исполнения воли отца жизни, давшего ее сыну человеческому.
Иоанна VIII, 35. Раб, делающий свою волю, а не волю хозяина, не живет вечно в доме хозяина; только сын, исполняющий волю отца, только тот живет вечно, – говорит Христос ту же мысль в другом смысле.
Воля же отца жизни есть жизнь не отдельного человека, а единого сына человеческого, живущего в людях, и потому человек сохраняет жизнь только тогда, когда он на жизнь свою смотрит как на залог, как на талант, данный ему отцом для того, чтобы служить жизни всех, когда он живет не для себя, а для сына человеческого.
Матф. XXV, 14—46. Хозяин дал рабам своим каждому по части имения своего и, ничего не сказав им, оставил их одних. Одни рабы, хотя и не слыхали приказания хозяина о том, как употребить часть имения господина, поняли, что имение не их, а хозяйское, и что имение должно расти, и работали для хозяина. И рабы, которые работали для хозяина, стали участниками жизни хозяина, а неработавшие лишены того, что было дано им.
Жизнь сына человеческого дана всем людям, и им не сказано, зачем она дана им. Одни люди понимают, что жизнь не их собственность, а дана им как дар, и должна служить жизни сына человеческого, и живут так. Другие, под предлогом непонимания цели жизни, не служат жизни. И люди, служащие жизни, сливаются с источником жизни; люди, не служащие жизни, лишаются ее. И вот с стиха 31—46 Христос говорит о том, в чем состоит служение сыну человеческому и в чем награда этого служения. Сын человеческий, по выражению Христа, как царь (34), скажет: «Придите благословенные отца, наследуйте царство за то, что вы поили, кормили, одевали, принимали, утешали меня, потому что я всё тот же один и в вас, и в малых сих, которых вы жалели и которым делали добро. Вы жили жизнью не личной, а жизнью сына человеческого, и потому вы имеете жизнь вечную».
Только этой вечной жизни учит Христос по всем Евангелиям, и, как ни странно это сказать про Христа, который лично воскрес и обещал всех воскресить, никогда Христос не только ни одним словом не утверждал личное воскресение и бессмертие личности за гробом, но и тому восстановлению мертвых в царстве мессии, которое основали фарисеи, придавал значение, исключающее представление о личном воскресении.
Саддукеи оспаривали восстановление мертвых. Фарисеи признавали его так же, как признают его теперь правоверные евреи.
Восстановление мертвых (а не воскресение, как неправильно переводится это слово), по верованиям евреев, совершится при наступлении века мессии и установлении царства бога на земле. И вот Христос, встречаясь с этим верованием временного, местного и плотского воскресения, отрицает его и на место его ставит свое учение о восстановлении вечной жизни в боге.
Когда саддукеи, не признающие восстановления мертвых, спрашивают Христа, предполагая, что он разделяет понятия фарисеев, «чья будет жена семи братьев?» – он ясно и определенно отвечает о том и о другом.
Он говорит: Матф. XXII, 20—32; Марка XII, 24—27; Луки XX, 34—38: «Вы заблуждаетесь, не понимая писания и силу божию». И, отвергая представление фарисеев, он говорит: Восстановление из мертвых бывает не плотское и не личное. Те, которые достигнут восстановления из мертвых, делаются сынами бога и живут как ангелы (сила бога) на небе (т. е. с богом), и вопросов личных, чья жена, для них не может быть, потому что они, соединяясь с богом, перестают быть личностями. «Что же касается того, что есть восстановление мертвых», говорит он, возражая саддукеям, признающим одну земную жизнь и ничего, кроме плотской земной жизни, «то разве вы не читали того, что сказано вам богом? В писании сказано, что бог при купине сказал Моисею: «Я – бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова». Если бог сказал Моисею, что он бог Иакова. то Иаков не умер для бога, потому что бог есть бог только живых, а не мертвых. Для бога все живы. И потому если есть живой бог, то и жив тот человек, который стал в общение с вечно живым богом.
Против фарисеев Христос говорит, что восстановление жизни не может быть плотское и личное. Против саддукеев он говорит, что, кроме личной и временной жизни, есть еще жизнь в общении с богом.
Христос, отрицая личное, плотское воскресение, признает восстановление жизни в том, что человек жизнь свою переносит в бога. Христос учит спасению от жизни личной и полагает это спасение в возвеличении сына человеческого и жизни в боге. Связывая это свое учение с учением евреев о пришествии мессии, он говорит евреям о восстановлении сына человеческого из мертвых, разумея под этим не плотское и личное восстановление мертвых, а пробуждение жизни в боге. О плотском же личном воскресении он никогда не говорил. Лучшим доказательством того, что Христос никогда не проповедовал воскресения людей, служат те единственные два места, которые приводятся богословами в подтверждение его учения о воскресении. Эти два места следующие: Матф. XXV, 31—46 и Иоанна V, 28, 29. В первом говорится о пришествии, т. е. восстановлении, возвеличении сына человеческого (точно так же, как это говорится у Матф. X, 23), и потом величие и власть сына человеческого сравниваются с царем. Во втором месте говорится о восстановлении истинной жизни здесь на земле, как это и выражено в предшествующем 24 стихе.
Стоит вдуматься в смысл учения Христа о жизни вечной в боге, стоит восстановить в своем воображении учение еврейских пророков, чтобы понять, что если бы Христос хотел проповедовать учение о воскресении мертвых, которое тогда только начинало входить в Талмуд и было предметом спора, то он ясно и определенно высказал бы это учение; он же, наоборот, не только не сделал этого, но даже отверг его, и во всех Евангелиях нельзя найти ни одного места, которое бы подтверждало это учение. А два приведенные выше места означают совсем другое.
О своем же личном воскресении, как это ни покажется странным всем, кто не изучал сам Евангелий, Христос никогда нигде не говорит. Если, как учат богословы, основа веры Христовой – в том, что Христос воскрес, то, казалось бы, меньшее, чего можно желать, – это то, чтобы Христос, зная, что он воскреснет и что в этом будет состоять главный догмат веры в него, хотя бы один раз определенно и ясно сказал это. Но он не только не сказал этого определенно и ясно, но ни разу, ни одного разу по всем нашим каноническим Евангелиям даже не упомянул об этом. Учение Христа в том, чтобы возвысить сына человеческого, т. е. сущность жизни человека – признать себя сыном бога. В самом себе Христос олицетворяет человека, признавшего свою сыновность богу: Матф. XVI, 13—20. Он спрашивает у учеников: что̀ про него – сына человеческого – толкуют люди? Ученики говорят, что одни считают его за чудесно воскрешенного Иоанна или за пророка, другие – за Илию, пришедшего с неба. – Ну, а вы как понимаете меня? – спрашивает он. И Петр, понимая Христа так же, как он сам понимал себя, отвечает: ты – мессия, сын бога живого. И Христос говорит: не плоть и кровь открыли тебе это, а отец наш небесный, т. е. ты понял это не потому, что ты поверил человеческим толкованиям, а потому, что ты, сознав себя сыном бога, понял меня. И, объяснив Петру, что на этой сыновности богу зиждется истинная вера, Христос говорит другим ученикам, чтобы они и не говорили вперед, что именно он, Иисус – мессия. И после этого Христос говорит: что, несмотря на то, что его будут мучить и убьют, сын человеческий, сознавший себя сыном бога, все-таки будет восстановлен и восторжествует над всем. И эти-то слова толкуются за предсказание о его воскресении.
Иоан. II, 10, 22. Матф. XII, 40. Луки XI, 30. Матф. XVI, 4. Матф. XVI, 21. Марка VIII, 31. Луки IX, 22. Матф. XVII, 23. Марка IX, 31. Матф. XX, 19. Марка X, 34,. Луки XVIII, 33. Матф. XXVI, 32. Марка XIV, 28. Вот все 14 мест, которые понимаются так, что Христос предсказывал свое воскресение. В трех из этих мест говорится о Ионе во чреве китове и в одном о восстановлении храма. В остальных же десяти местах говорится о том, что сын человеческий не может быть уничтожен; но нигде ни одним словом не говорится о воскресении Иисуса Христа.
Во всех этих местах в подлиннике нет даже слова «воскресение». Дайте человеку, не знающему богословских толкований, но знающему по-гречески, перевести все эти места, и никогда никто не переведет их так, как они переведены. В подлиннике в этих местах стоят два разные слова: одно ἀνὶσιημι, другое ἐγεὶρω. Одно из этих слов значит: «восстановить»; другое значит: «будить», и в медиуме: «проснуться», «встать». Но ни то, ни другое никогда ни в каком случае не может значить: «воскреснуть». Для того, чтобы вполне убедиться в том, что греческие слова эти и соответствующее им еврейское кум не могут значить «воскреснуть», стоит только сличить те места Евангелия, где употребляются эти слова, а употребляются они множество раз и ни разу не переведены словом «воскреснуть». Слова «воскреснуть», «auferstehen», «ressusciter», нет ни на греческом, ни на еврейском языке, так как не было и соответствующего им понятия. Чтобы на греческом или на еврейском языке выразить понятие о воскресении, нужна перифраза, нужно сказать: «встал» или «проснулся» из мертвых. Так, в Евангелии говорится (Матф. XIV, 2) про то, что Ирод полагал, что Иоанн Креститель «воскрес», и там сказано: «проснулся из мертвых». Так и у Луки XVI, 31 говорится в притче о Лазаре про то, что «если бы кто и воскрес, то и воскресшему бы не поверили, и сказано: «восстал бы из мертвых». Там же, где к словам: «встать», или «проснуться» не прибавлено слов: из мертвых, слова – «встать» и «проснуться» никогда не значили и не могут значить – «воскреснуть». А говоря о себе, Христос ни разу во всех тех местах, которые приводятся в доказательство предсказании его о «воскресении», ни разу, ни одного разу не употребляет слов: «из мертвых».
Наше понятие о воскресении до такой степени чуждо понятию евреев о жизни, что нельзя себе представить даже, как мог бы говорить Христос евреям о воскресении и вечной личной, свойственной каждому человеку жизни. Понятие о будущей личной жизни пришло к нам не из еврейского учения и не из учения Христа. Оно вошло в церковное учение совершенно со стороны. Как ни странно это покажется, но нельзя не сказать, что верование в будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представление, основанное на смешении сна со смертью и свойственное всем диким народам, и что еврейское учение, не говоря уже о христианском, стояло неизмеримо выше его. Мы же так уверены в том, что это суеверие есть что-то очень возвышенное, что пресерьезно доказываем преимущество нашего учения перед другими именно тем, что мы держимся этого суеверия, а другие, как китайцы и индусы, не держатся его. Это доказывают не только богословы, но и вольнодумные ученые историки религий – Тиле, Макс Мюллер и др.; классифицируя религии, они признают, что те из них, которые разделяют это суеверие, выше тех, которые его не разделяют. Вольнодумный Шопенгауэр прямо называет еврейскую религию самой пакостной (niederträchtigste) из всех религий за то, что в ней нет и понятия (keine Idee) о бессмертии души. Действительно, в еврейской религии ни понятия, ни слова такого не было. Жизнь вечная по-еврейски «хайе-ойлом». Ойлом значит бесконечное, во времени непоколебимое. Ойлом значит тоже мир – космос. Жизнь вообще, и тем более жизнь вечная, хайе-ойлом, по учению евреев, есть свойство одного бога. Бог есть бог жизни, бог живой. Человек, по понятию евреев, всегда смертен, только бог есть всегда живой. В Пятикнижии два раза употреблены слова: «жизнь вечная». Один раз во Второзаконии, другой раз в книге Бытия. Во Второзаконии, гл. XXXII, 39, 40, бог говорит: поймите, что это я – я. Что нет бога, кроме меня; я живлю, я умерщвляю, я бью, я исцеляю, и от меня никто не освобождается; я поднимаю руку до неба и говорю: я живу вечно. В другой раз: в книге Бытия III, 22, бог говорит: вот человек съел плода от древа познания добра и зла и стал таким, как мы (одним из нас); как бы он не протянул руки и не взял с древа жизни и не съел и не стал бы жить вечно. Эти два единственные случая употребления слов: жизнь вечная в Пятикнижии и во всем Ветхом Завете (за исключением одной главы апокрифического Даниила) ясно определяют понятия евреев о жизни вообще и жизни вечной. Жизнь сама по себе, по понятию евреев, вечна и такова она в боге: человек же всегда смертен, таково его свойство.
Нигде в Ветхом Завете не сказано того, чему учат нас в священных историях – что бог вдунул в человека душу бессмертную, или того, что первый человек до греха был бессмертен. Бог сотворил, по первому сказанию книги Бытия, ст. 26 I гл., человека точно так же, как и животных, точно так же мужеский и женский пол и точно так же велел им плодиться и множиться. Как о животных не сказано, что они бессмертны, точно так же не сказано этого и о человеке. Во второй главе говорится о том, как человек познал добро и зло. Но о жизни сказано прямо, что бог выгнал человека из рая и загородил ему путь к древу жизни. Человек так и не вкусил плода древа жизни, он так и не получил хайе-ойлом, т. е. жизни вечной, и остался смертен.
По учению евреев, человек есть человек точно такой, какой он есть, т. е. смертный. Жизнь есть в нем только как жизнь, продолжающаяся из рода в род в народе. Один только народ, по учению евреев, имеет в себе возможность жизни. Когда бог говорит: будете жить и не умрете, то он говорит это народу. Вдунутая в человека богом жизнь есть смертная для каждого отдельного человека, но жизнь эта продолжается из поколения в поколение, если люди исполняют завет с богом, т. е. условия, положенные для этого богом.
Изложив все законы и сказав, что законы эти не на небе, а в сердцах их, Моисей говорит во Второзаконии XXX, 15: «Вот ныне я кладу перед вами благо и жизнь, смерть и зло, увещевая вас любить бога и идти по его путям, исполняя его закон с тем, чтобы вы удержали жизнь». И в ст. 19: «Беру в свидетели против вас небо и землю. Вот жизнь и смерть, благословение и проклятие я кладу перед вами. Изберите же жизнь с тем, чтобы жить вам и потомству вашему, любя бога, повинуясь ему и прилепляясь к нему, потому что от него ваша жизнь и продолжение ее».
Главное различие между нашим понятием о жизни человеческой и понятием евреев состоит в том, что, по нашим понятиям, наша смертная жизнь, переходящая от поколения к поколению, не настоящая жизнь, а жизнь падшая, почему-то временно испорченная; а по понятию евреев, эта жизнь есть самая настоящая, есть высшее благо, данное человеку под условием исполнения воли бога. С нашей точки зрения переход этой падшей жизни от поколения к поколениям есть продолжение проклятия. С точки зрения евреев это есть высшее благо, которого может достигнуть человек, и то только исполняя волю бога.
Вот на этом-то понятии о жизни и основывает Христос свое учение о жизни истинной или вечной, которую он противуполагает жизни личной и смертной. «Исследуйте писания», говорит Христос евреям (Иоан. V, 39), «ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную».
Юноша спрашивает Христа (Матф. XIX, 16): как войти в жизнь вечную? Христос, отвечая ему на вопрос о жизни вечной, говорит: если хочешь войти в жизнь (он не говорит: жизнь вечную, а – просто жизнь), соблюди заповеди. То же говорит законнику: так поступай, и будешь жить (Луки X, 28), и то же говорит – жить, просто, не прибавляя – жить вечно. Христос в обоих случаях определяет, что̀ должно разуметь под словами: жизнь вечная; когда он употребляет их, то говорит евреям то же самое, что сказано много раз в законе их, а именно: исполнение воли бога есть жизнь вечная.
Христос в противоположность жизни временной, частной, личной учит той вечной жизни, которую по Второзаконию бог обещал израилю, но только с той разницею, что, по понятию евреев, жизнь вечная продолжалась только в избранном народе израильском и для приобретения этой жизни нужно было соблюдать исключительные законы бога для израиля, а по учению Христа жизнь вечная продолжается в сыне человеческом, и для сохранения ее нужно соблюдать законы Христа, выражающие волю бога для всего человечества.
Христос противополагает личной жизни не загробную жизнь, а жизнь общую, связанную с жизнью настоящей, прошедшей и будущей всего человечества, жизнь сына человеческого.
Спасение жизни личной от смерти, по учению евреев, было исполнением воли бога, выраженной в законе Моисея по его заповедям. Только при этом условии жизнь евреев не погибала, а переходила от поколения к поколению в избранном богом народе. Спасение жизни личной от смерти по учению Христа есть то же самое исполнение воли бога, выраженное в заповедях Христа. Только при этом условии, по учению Христа, жизнь личная не погибает, а становится вечною непоколебимо в сыне человеческом. Разница только в том, что служение богу Моисея было служение богу одного народа; а служение отцу Христа есть служение богу всех людей. Продолжение жизни в поколениях одного народа было сомнительно потому, что мог исчезнуть сам народ, и потому еще, что продолжение это зависело от плотского потомства. Продолжение жизни, по учению Христа, несомненно потому, что жизнь, по его учению, переносится в сына человеческого, живущего по воле отца.
Но положим, что слова Христа о страшном суде и совершении века и другие слова из Евангелия Иоанна имеют значение обещания загробной жизни для душ умерших людей, все-таки несомненно и то, что учение его о свете жизни, о царстве бога имеет и то доступное его слушателям и нам теперь значение, что жизнь истинная есть только жизнь сына человеческого по воле отца. Это тем легче допустить, что учение о жизни истинной по воле отца жизни включает в себя понятие о бессмертии и жизни за гробом.
Может быть, справедливее предположить, что человека после этой мирской жизни, пережитой для исполнения его личной воли, все-таки ожидает вечная личная жизнь в раю со всевозможными радостями; может быть, это справедливее, но думать, что это так, стараться верить в то, что за добрые дела я буду награжден вечным блаженством, а за дурные вечными муками, – думать так не содействует пониманию учения Христа; думать так значит, напротив, лишать учение Христа самой главной его основы.
Всё учение Христа в том, чтобы ученики его, поняв призрачность личной жизни, отреклись от нее и переносили ее в жизнь всего человечества, в жизнь сына человеческого. Учение же о бессмертии личной души не только не призывает к отречению от своей личной жизни, но навеки закрепляет эту личность.
По понятию евреев, китайцев, индусов и всех людей мира, не верующих в догмат падения человека и искупления его, жизнь есть жизнь, как она есть. Человек живет, совокупляется, рождает детей, воспитывает их, стареется и умирает. Дети его вырастают и продолжают его жизнь, которая, не прерываясь, ведется от поколения к поколениям, точно так же, как ведется все в мире существующее; камни, земля, металлы, растения, звери, светила и всё в мире. Жизнь есть жизнь, и ею надо воспользоваться как можно лучше. Жить для себя одного неразумно. И потому, с тех пор как есть люди, они отыскивают для жизни цели вне себя: живут для своего ребенка, для семьи, для народа, для человечества, для всего, что не умирает с личной жизнью.
Наоборот, по учению нашей церкви, жизнь человеческая, как высшее благо, известное нам, представляется только частицей той жизни, которая на время удержана от нас. Наша жизнь, по нашему понятию, не есть жизнь такая, какую бог хотел и должен был нам дать, а жизнь наша есть испорченная, дурная, падшая жизнь, «образчик» жизни, насмешка над настоящей, над тою, которую почему-то мы воображаем, что бог должен был дать нам. Главная задача нашей жизни по этому представлению не в том, чтобы прожить ту данную нам смертную жизнь так, как хочет податель жизни, не в том, чтобы сделать ее вечною в поколениях людей, как евреи, или слиянием ее с волею отца, как учил Христос, а в том, чтобы уверить себя, что после этой жизни начнется настоящая.
Христос не говорит про эту нашу мнимую жизнь, которую бог должен был дать, но не дал почему-то людям. Теория грехопадения Адама и вечной жизни в раю и бессмертной души, вдунутой богом в Адама, была неизвестна Христу, и он не упоминал про нее и ни одним словом не намекнул на существование ее.
Христос говорит о жизни, какая она есть и какая будет всегда. Мы же говорим о той жизни, которую мы себе вообразили и которой никогда не было; как же нам понять учение Христа?
Христос и не мог представить себе такого странного понятия у своих учеников. Он предполагает, что все люди понимают неизбежность погибели личной жизни, и открывает жизнь не погибающую. Он дает благо тем, которые во зле; но тем, которые уверились, что они имеют гораздо больше того, что дает Христос, учение его ничего не может дать. Я буду усовещивать человека, чтобы он работал, уверяя его, что он за то получит одежду и пищу, и вдруг этот человек уверится, что он и так миллионер; очевидно, что он не примет моих увещаний. Это самое происходит и с учением Христа. Что мне еще заработывать, когда я и так могу быть богачом? Что мне стараться прожить эту жизнь по-божьи, когда я уверен, что и без того я буду вечно лично жить?
Нас учат, что Христос спас людей тем, что он – второе лицо троицы, что он – бог и вочеловечился и, приняв на себя грех Адама и всех людей, искупил грех людей пред первым лицом троицы и установил для нашего спасения церковь и таинства. Веруя в это, мы спасаемся и получаем вечную личную жизнь за гробом. Но нельзя же отрицать и того, что он спас и спасает людей еще и тем, что, указав им на их неизбежную погибель, он, по словам своим: Я есмъ путь, жизнь и истина, дал нам истинный путь жизни, взамен того ложного пути жизни личной, по которому мы шли прежде.
Если могут найтись люди, которые усомнятся в загробной жизни и спасении, основанном на искуплении, то в спасении людей, всех и каждого отдельно, чрез указание неизбежной погибели личной жизни и истинного пути спасения в слиянии своей воли с волею отца, не может быть сомнения. Пусть всякий разумный человек спросит себя: что такое его жизнь и смерть? И пусть придаст этой жизни и смерти какой-нибудь другой смысл, кроме того, который указал Христос.
Всякое осмысливание личной жизни, если она не основывается на отречении от себя для служения людям, человечеству – сыну человеческому, есть призрак, разлетающийся при первом прикосновении разума. В том, что моя личная жизнь погибает, а жизнь всего мира по воле отца не погибает и что одно только слияние с ней дает мне возможность спасения, в этом я уж не могу усомнится. Но это так мало в сравнении с теми возвышенными религиозными верованиями в будущую жизнь! Хоть мало, но верно.
Я заблудился в снежную метель. Один уверяет меня, и ему так кажется, что вот они – огоньки, вот и деревня; но это только так кажется и ему и мне, потому что нам этого хочется, а уж мы ходили на эти огоньки, и их не оказалось. А другой пошел по снегу: походил, вышел на дорогу и кричит нам: «Никуда не ездите, огоньки у вас в глазах, везде заблудитесь и пропадете, а вот крепкая дорога, и я стою на ней, она выведет нас». Это очень мало. Когда мы верили огонькам, мелькавшим в наших ошалелых глазах, была уже вот-вот и деревня, и теплая изба, и спасенье, и отдых, а тут только крепкая дорога. Но если послушаемся первого, наверно замерзнем, а если послушаемся второго, наверно выедем.
Итак, что же я должен делать, если я один понял учение Христа и поверил в него, один среди непонимающих и неисполняющих его?
Что мне делать? Жить, как все, или жить по учению Христа? Я понял учение Христа в его заповедях и вижу, что исполнение их дает блаженство и мне и всем людям мира. Я понял, что исполнение этих заповедей есть воля того начала всего, от которого произошла и моя жизнь.
Я понял, кроме того, что что̀ бы я ни делал, я неизбежно погибну бессмысленною жизнью и смертью со всем окружающим меня, если я не буду исполнять этой воли отца, и что только в исполнении ее – единственная возможность спасения.
Делая, как все, я наверно противодействую благу всех людей, наверно делаю противное воле отца жизни, наверно лишаю себя единственной возможности улучшить свое отчаянное положение. Делая то, чему Христос учит меня, я продолжаю то, что делали люди до меня: я содействую благу всех людей, теперь живущих, и тех, которые будут жить после меня, делаю то, что хочет от меня тот, кто произвел меня, и делаю то, что одно может спасти меня.
Горит цирк в Бердичеве, все жмутся и душат друг друга, напирая на дверь, которая отворяется внутрь. Является спаситель и говорит: «Отступите от двери, вернитесь назад; чем больше вы напираете, тем меньше надежды спасения. Вернитесь, и вы найдете выход и спасетесь». Многие ли, один ли я услыхал это и поверил – всё равно; но, услыхавши и поверивши, что же я могу сделать, как не то, чтобы пойти назад и звать всех на голос спасителя? Задушат, задавят, убьют меня – может быть; но спасение для меня все-таки лишь в том, чтобы идти туда, где единственный выход. И я не могу не идти туда. Спаситель должен быть точно спаситель, т. е. точно спасать. И спасение Христа есть точно спасение. Он явился, сказал – и человечество спасено.
Цирк горит час, и надо спешить, и люди могут не успеть спастись. Но мир горит уж 1800 лет, горит с тех пор, как Христос сказал: я огонь низвел на землю; и как томлюсь, пока он не разгорится, – и будет гореть, пока не спасутся люди. Не затем ли и люди, не затем ли и горит, чтобы люди имели блаженство спасения?
И, поняв это, я понял и поверил, что Иисус не только мессия, Христос, но что он точно и спаситель мира.
Я знаю, что выхода другого нет ни для меня, ни для всех тех, которые со мной вместе мучаются в этой жизни. Я знаю, что всем, и мне с ними вместе, нет другого спасения, как исполнять те заповеди Христа, которые дают высшее доступное моему пониманию благо всего человечества.
Больше ли у меня будет неприятностей, раньше ли я умру, исполняя учение Христа, мне не страшно. Это может быть страшно тому, кто не видит, как бессмысленна и погибельна его личная одинокая жизнь, и кто думает, что он не умрет. Но я знаю, что жизнь моя для личного одинокого счастья есть величайшая глупость и что после этой глупой жизни я непременно только глупо умру. И потому мне не может быть страшно. Я умру так же, как и все, так же, как и не исполняющие учения; но моя жизнь и смерть будут иметь смысл и для меня и для всех. Моя жизнь и смерть будут служить спасению и жизни всех, – а этому-то и учил Христос.
IX
Исполняй все люди учение Христа, и было бы царство бога на земле; исполняй я один – я сделаю самое лучшее для всех и для себя. Без исполнения учения Христа нет спасения.
«Но где взять веры для того, чтобы исполнять его, всегда следовать ему и никогда не отрекаться от него? Верую, господи, помоги моему неверию».
Ученики просили Христа утвердить в них веру. «Хочу делать хорошее, и делаю дурное», – говорит апостол Павел.
«Трудно спастися», так говорят и думают обыкновенно.
Человек тонет и просит о спасении. Ему подают веревку, которая одна может спасти его, а утопающий человек говорит: утвердите во мне веру, что веревка эта спасет меня. Верю, говорит человек, что веревка спасет меня, но помогите моему неверию.
Что это значит? Если человек не хватается за то, что спасает его, то это значит только то, что человек не понял своего положения.
Как может христианин, исповедующий божественность Христа и его учения, как бы он ни понимал его, говорить, что он хочет верить и не может? Сам бог, придя на землю, сказал: вам предстоят вечные мучения, огонь, вечная тьма кромешная, и вот спасенье вам – в моем учении и исполнении его. Не может такой христианин не верить в предлагаемое спасенье, не исполнять его и говорить: «помоги моему неверию».
Для того, чтобы человек мог сказать это, надо не только не верить в свою погибель, но надо верить в то, что он не погибнет.
Дети попрыгали с корабля в воду. Их еще держит течение, ненамокшее платье и их слабые движения, и они не понимают своей погибели. Сверху из убегающего корабля выкинута им веревка. Им говорят, что они наверно погибнут, их умоляют с корабля (притчи: о женщине, нашедшей полушку, о пастухе, нашедшем пропавшую овцу, об ужине, о блудном сыне говорят только про это); но дети не верят. Они не верят не веревке, а тому, что они погибают. Такие же легкомысленные дети, как и они, уверили их, что они всегда, когда и уйдет корабль, будут весело купаться. Дети не верят в то, что скоро платье их намокнет, ручонки намахаются, что они станут задыхаться, захлебнутся и пойдут ко дну. В это они не верят, и только потому не верят в веревку спасения.
Как дети, упавшие с корабля, уверились в том, что они не погибнут, и оттого не берутся за веревку; так точно и люди, исповедующие бессмертие душ, уверились в том, что они не погибнут, и оттого не исполняют учение Христа бога. Они не верят в то, во что нельзя не верить, только потому, что они верят в то, во что нельзя верить.
И вот они взывают к кому-то: «Утверди в нас веру в то, что мы не погибнем».
Но этого невозможно сделать. Для того, чтобы у них была вера в то, что они не погибнут, им надо перестать делать то, что их губит, и начать делать то, что их спасает – им надо взяться за веревку спасенья. А они не хотят этого сделать, а хотят увериться в том, что они не погибнут, несмотря на то, что на их глазах один за другим гибнут их товарищи. И это-то желание свое увериться в том, чего нет, они называют верой. Понятно, что им всегда мало веры и хочется иметь больше.
Когда я понял учение Христа, только тогда я понял также, что то, что люди эти называют верой, не есть вера, и что эту-то самую ложную веру и опровергает апостол Иаков в своем послании. (Послание это долго не принималось церковью и, когда было принято, подверглось некоторым извращениям: некоторые слова выкидываются, некоторые переставляются или переводятся произвольно. Я оставлю принятый перевод, исправляя только неточности по Тишендорфскому тексту.)
ΙΙ, 14. «Что в том пользы, братия мои, – говорит Иаков, – если человек полагает, что он имеет веру, а дел не имеет? Не может вера спасти его. 15. Если, например, брат или сестра ходят голые, и нет у них дневного пропитания. 16. И скажет им кто-нибудь из вас: идите с богом, грейтесь и питайтесь, и вы не дадите им того, что нужно для их тела, что в том пользы? 17. Так-то и вера, если от нее нет дел, мертва сама по себе. 18. И всякий может сказать: у тебя вера, а у меня дела, покажи мне веру твою без дел, а я покажу тебе делами моими мою веру. 19. Ты веришь, что бог один: хорошо! и бесы верят и трепещут. 20. Хочешь ли узнать, пустой человек, что вера без дел мертва? 21. Авраам, отец наш, не делами ли стал праведен, положив сына своего Исаака на жертвенник? 22. Видишь, что вера содействовала делам его, а делами совершилась вера? 23......24. Видите, что делами становится праведным человек, а не верою только. 25......26. Потому что так же, как тело без души мертво, так и вера без дел мертва».
Иаков говорит, что единственный признак веры – дела, вытекающие из нее, и что потому вера, из которой не вытекают дела, есть только слова, которыми как не накормишь никого, так и не сделаешь себя праведным и не спасешься. И потому вера, из которой не вытекают дела, не есть вера. Это только желание верить во что-нибудь, это только ошибочное утверждение на словах, что я верю в то, во что я не верю.
Вера, по этому определению, есть то, что содействует делам, а дела – то, что совершает веру, т. е. то, что делает веру верою.
Иудеи говорили Христу (Иоан. VI, 30): «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?»
Это же говорили ему, когда он был на кресте. Марка XV, 32. «Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем».
Матф. XXVII, 42. «Других спасал, а себя самого не может спасти! Если он царь израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него».
И на такое требование усиления веры Христос отвечает им, что желание их напрасно и что ничем нельзя заставить их верить тому, во что они не верят. Он говорит: «Если скажу вам, вы не поверите» (Луки XXII, 67). «Я сказал вам, и не верите. Вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам» (Иоан. X, 25, 26).
Иудеи требуют того же, что требуют церковные христиане, чего-нибудь такого, что заставило бы их внешним образом поверить в учение Христа. И он отвечает им, что это невозможно, и объясняет им, почему невозможно. Он говорит, что они не могут верить потому, что они не из овец его, т. е. не следуют тому пути жизни, который он показал овцам своим. Он объясняет (Иоан. V, 44), в чем различие его овец и других, объясняет, почему одни верят, а другие нет, и на чем зиждется вера. «Как вы можете веровать, – говорит он, – когда друг от друга принимаете δόξα учение,34 а то учение, которое от единого бога, того не ищете?»
Чтобы верить, говорит Христос, надо искать то учение, которое от одного только бога. Говорящий от себя ищет свое личное учение (δόξαν τὴν ἴδιαν), а кто ищет учение пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем (Иоан. VII, 18).
Учение о жизни, δόξα, есть основа веры.
Поступки все вытекают из веры. Веры же все вытекают из δόξα, того смысла, который мы приписываем жизни. Поступков может быть бесчисленное количество, вер тоже очень много; но учений о жизни (δόξα) есть только два: одно из них отрицает, а другое признает Христос. Одно учение – то, которое отрицает Христос, состоит в том, что личная жизнь есть что-то действительно существующее и принадлежащее человеку. Это – то учение, которого держалось и держится большинство людей и из которого вытекают все разнообразные веры людей мира и все их поступки. Другое учение – то, которое проповедовали все пророки и Христос, именно: что жизнь наша личная получает смысл только в исполнении воли бога.
Если человек имеет ту δόξα, что важнее всего его личность, то он будет считать, что его личное благо есть самое главное и желательное в жизни и, смотря по тому, в чем он будет полагать это благо, – в приобретении ли именья, в знатности ли, в славе, в удовлетворении ли похоти и пр., – у него будет соответственная этому взгляду вера, и все поступки его будут всегда сообразны с нею.
Если δόξα человека – другая, если он понимает жизнь так, что смысл ее только в исполнении воли бога, как понимал это Авраам и как учил этому Христос, то, смотря по тому; в чем он будет полагать волю бога, у него будет и соответствующая вера, и все поступки его будут вытекать из этой веры.
Вот почему и не могут верующие в благо личной жизни поверить в учение Христа. И все усилия их поверить этому всегда останутся тщетны. Чтобы поверить, – им надо изменить свой взгляд на жизнь. А пока они не изменили его, дела их будут всегда совпадать с их верой, а не с их желаниями и словами.
Желание верить в учение Христа тех, которые просили у него знамений, и наших верующих не совпадает и не может совпадать с их жизнью, как бы они ни старались об этом. Они могут молиться Христу богу, причащаться, делать дела человеколюбия, строить церкви, обращать других; они всё это и делают, но не могут делать дел Христа, потому что дела эти вытекают из веры, основанной на совсем другом учении (δόξα), чем то, которое они признают. Они не могут принести в жертву единственного сына, как это сделал Авраам, между тем как Авраам не мог даже задуматься над тем, принести ли, или не принести сына своего в жертву богу, тому богу, который один давал смысл и благо его жизни. И точно так же Христос и ученики его не могли не отдавать своей жизни другим, потому что в этом, одном был смысл и благо их жизни. Из этого-то непонимания сущности веры и вытекает то странное желание людей – сделать так, чтобы поверить в то, что жить по учению Христа лучше, тогда как всеми силами души, согласно с верой в благо личной жизни, им хочется жить противно этому учению.
Основа веры есть смысл жизни, из которого вытекает оценка того, что важно и хорошо в жизни, и того, что неважно и дурно. Оценка всех явлений жизни есть вера. И как теперь люди, имея веру, основанную на своем учении, никак не могут согласовать ее с верою, вытекающей из учения Христа, так не могли этого сделать и ученики его. И это недоразумение много раз резко и ясно выражено в Евангелии. Ученики Христа много раз просили его утвердить их веру в то, что он говорил: Матф. XX, 20—28 и Марк. X, 35—45. По обоим Евангелиям, после слова, страшного для каждого верующего в личную жизнь и полагающего благо в богатстве мира, после слов о том, что богатый не войдет в царство бога, и после еще более страшных для людей, верующих только в личную жизнь, слов о том, что кто не оставит всего и жизни своей ради учения Христа, тот не спасется, – Петр спрашивает: что же будет нам, последовавшим за тобой и оставившим всё? Потом, по Марку, Иаков и Иоанн сами, а по Матфею их мать, просят его, чтобы он сделал так, чтобы они сели по обеим сторонам его, когда он будет в славе. Они просят, чтобы он утвердил их веру обещанием награды. На вопрос Петра Иисус отвечал притчей (Матф. XX, 1—16); на вопрос же Иакова он говорит: вы сами не знаете, чего хотите, т. е. вы просите невозможного. Вы не понимаете учения. Учение – в отречении от личной жизни, а вы просите личной славы, личной награды. Пить чашу (провести жизнь) вы можете такую же, как и я, но сесть справа и слева от меня, т. е. быть равными мне, этого никто не может сделать. И тут Христос говорит: только в мирской жизни сильные мира пользуются и радуются славой и властью личной жизни; но вы, ученики мои, должны знать, что смысл жизни человеческой не в личном счастье, а в служении всем, в унижении перед всеми. Человек не затем живет, чтобы ему служили, а затем, чтобы самому служить и отдавать свою личную жизнь, как выкуп за всех. Христос на требование учеников, показавшее ему всё непонимание ими его учения, не приказывает им верить, т. е. изменить ту оценку благ и зол жизни, которая вытекает из его учения (он знает, что это невозможно), а разъясняет им тот смысл жизни, на котором зиждется вера, т. е. истинная оценка того, что хорошо и дурно, важно и неважно.
На вопрос Петра (Марк. X, 28): что нам будет, какая награда за наши жертвы? Христос отвечает притчей о работниках, нанятых в разное время и получивших одинаковую награду. Христос разъясняет Петру его непонимание учения, от которого и зависит отсутствие его веры. Христос говорит: только в жизни личной и бессмысленной дорого и важно вознаграждение за работу по мере работы. Вера в вознаграждение за работу по мере работы вытекает из учения личной жизни. Вера эта зиждется на предположении о правах, которые мы будто имеем на что-то; но прав человек ни на что не имеет и не может иметь; он только имеет обязательства за благо, данное ему, и потому ему нельзя считаться ни с кем. Отдав всю свою жизнь, он все-таки не может отдать того, что ему дано, и потому хозяин не может быть несправедливым к нему. Если же человек заявляет права на свою жизнь, считается с началом всего, с тем, что дало ему жизнь, то этим он только показывает, что он не понимает смысла жизни.
Люди, получив счастье, требуют еще чего-то. Люди эти стояли на базаре праздные и несчастные – не жили. Хозяин взял их и дал им высшее счастье жизни – труд. Они приняли милость хозяина и потом остались недовольны. Они недовольны потому, что у них нет ясного сознания своего положения. Они пришли на работу с своим ложным учением о том, что они имеют право на свою жизнь и на свой труд и что поэтому труд их должен быть вознагражден. Они не понимают того, что этот труд есть самое высшее благо, которое дано им и за которое им надо только стараться возвратить такое же благо, а нельзя требовать вознаграждения. И потому люди, имеющие такое же, как эти работники, превратное понятие о жизни, не могут иметь правильной и истинной веры.
Притча о хозяине и работнике, пришедшем с поля, сказанная в ответ на прямую просьбу учеников утвердить, умножить в них веру, еще яснее определяет основу той веры, которой учит Христос.
Луки XVII, 3—10. На слова Христа, что надо прощать брату не раз, а семь раз семьдесят, ученики, ужасаясь трудности исполнения этого правила, говорят: да, но… надо верить, чтоб исполнять это; утверди же, умножь в нас веру. Как прежде они спрашивали: что нам за это будет? так и теперь спрашивают о том же самом, что говорят все так называемые христиане. Хочу верить, но не могу; утверди в нас веру в то, что веревка спасения спасает нас. Они говорят: сделай так, чтобы мы верили, – то самое, что говорили ему, требуя от него чудес. Чудесами или обещаниями наград сделай так, чтобы мы верили своему спасению.
Ученики говорят так, как мы говорим: хорошо бы было сделать так, чтобы нам, живя той жизнью одинокой, своевольной, которой мы живем, верить еще, что, если мы будем исполнять учение бога, нам будет еще лучше. Мы все предъявляем это противное всему смыслу учения Христа требование и удивляемся, что никак не можем поверить. И на это-то самое коренное недоразумение, бывшее тогда, как и теперь, он отвечает притчей, в которой показывает, чтò есть истинная вера. Вера не может произойти от доверия к тому, что он скажет; вера происходит только от сознания своего положения. Вера зиждется только на разумном сознании того, что лучше делать, находясь в известном положении. Он показывает, что нельзя возбудить в других людях эту веру обещанием наград и угрозой наказания, что это будет доверие очень слабое, которое разрушится при первом искушении, что та вера, которая горы сдвигает, та, которую ничто поколебать не может, зиждется на сознании неизбежной погибели и того единственного спасения, которое возможно в этом положении.
Для того, чтобы иметь веру, не нужно никаких обещаний наград. Нужно понять, что единственное спасение от неизбежной погибели жизни есть жизнь общая по воле хозяина. Всякий, понявший это, не будет искать утверждения, а будет спасаться без всяких увещаний.
На просьбу учеников утвердить в них веру Христос говорит: когда хозяин придет с работником с поля, то не велит ему сейчас обедать, а велит убрать скотину и служить, а потом уж работник садится за стол и обедает. Работник всё это делает и не считает себя обиженным, и не хвалится, и не требует благодарности или награды, а знает, что это так должно быть и что он делает только то, что нужно, что это есть необходимое условие службы и вместе с тем истинное благо его жизни. Так и вы, говорит Христос, когда сделаете всё, что вам велено, считайте, что вы сделали только то, что должны были делать. Кто поймет свое отношение к хозяину, тот поймет, что, только покоряясь воле хозяина, он может иметь жизнь, и будет знать, в чем его благо, и будет иметь веру, для которой не будет ничего невозможного. Вот этой-то вере и учит Христос. Вера, по учению Христа, зиждется на разумном сознании смысла своей жизни.
Основа веры, по учению Христа, есть свет.
Иоан. I, 9—12. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир произошел через него, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божиими. Иоан. III, 19—21. Суд же35 состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличались дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в боге соделаны.
Для того, кто понял учение Христа, не может быть вопроса об утверждении веры. Вера, по учению Христа, зиждется на свете истины. Христос нигде не призывает к вере в себя; он призывает только к вере в истину.
Иоан. VIII, 40. Он говорит иудеям: Вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от бога.
46. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Иоан. XVIII, 37. Он говорит: Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего.
Иоан. XVI, 6. «Он говорит: Я – путь и истина и жизнь».
«Отец, – говорит он ученикам в той же главе (16), – даст вам другого утешителя, и тот будет с вами вовек. Утешитель этот – дух истины, которого мир не видит и не знает, а вы знаете, потому что он при вас и в вас будет».
Он говорит, что всё его учение, что он сам есть истина.
Учение Христа есть учение об истине. И потому вера в Христа не есть доверие во что-нибудь, касающееся Иисуса, но знание истины. В учение Христа нельзя уверять никого, нельзя подкупать ничем к исполнению его. Кто понимает учение Христа, у того и будет вера в него, потому что учение это – истина. А кто знает истину, нужную для его блага, тот не может не верить в нее, и потому человек, понявший, что он истинно тонет, не может не взяться за веревку спасения. И вопрос, как сделать, чтобы поверить, есть вопрос, выражающий только непонимание учения Христа.
Х
Мы говорим: «трудно жить по учению Христа!» Да как же не трудно, когда мы сами старательно всей жизнью нашей скрываем от себя наше положение и старательно утверждаем в себе доверие к тому, что наше положение совсем не то, какое есть, а совершенно другое. И это-то доверие, назвав его верою, мы возводим во что-то священное и всеми средствами – насилием, действием на чувства, угрозами, лестью, обманом – заманиваем к этому ложному доверию. В этом требовании доверия к невозможному и неразумному, мы доходим до того, что самую неразумность того, к чему мы требуем доверия, считаем признаком истинности. Нашелся человек христианин, который сказал credo, quia absurdum,36 и другие христиане с восторгом повторяют это, предполагая, что нелепость есть самое лучшее средство для научения людей истине. Недавно в разговоре со мной один ученый и умный человек сказал мне, что христианское учение, как нравственное учение о жизни, не важно. «Всё это, – сказал он мне, – можно найти у стоиков, у браминов, в Талмуде. Сущность христианского учения не в этом, а в теозофическом учении, выраженном в догматах». То есть не то дорого в христианском учении, что вечно и общечеловечно, что нужно для жизни и разумно, а важно и дорого в христианстве то, что совершенно непонятно и потому ненужно, и то, во имя чего побиты миллионы людей.
Мы составили себе ни на чем, кроме как на нашей злости и личных похотях основанное ложное представление о нашей жизни и о жизни мира, и веру в это ложное представление, связанное внешним образом с учением Христа, считаем самым нужным и важным для жизни. Не будь этого веками поддерживаемого людьми доверия ко лжи, ложь нашего представления о жизни и истина учения Христа обнаружились бы давно.
Ужасно сказать (но мне иногда кажется): не будь вовсе учения Христа с церковным учением, выросшим на нем, то те, которые теперь называются христианами, были бы гораздо ближе к учению Христа, т. е. к разумному учению о благе жизни, чем они теперь. Для них не были бы закрыты нравственные учения пророков всего человечества. У них были бы свои маленькие проповедники истины, и они верили бы им. Но теперь вся истина открыта, и вся истина эта показалась так страшна тем, чьи дела были злы, что они перетолковали ее в ложь, и люди потеряли доверие к истине. В нашем европейском обществе на заявление Христа, – что он пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать о истине, и что потому всякий, кто – от истины, слышит его, на эти слова все давно уже отвечали себе словами Пилата: что есть истина? Эти слова, выражающие такую грустную и глубокую иронию над одним римлянином, мы приняли взаправду и сделали их своей верою. Все в нашем мире живут не только без истины, не только без желания узнать ее, но с твердой уверенностью, что из всех праздных занятий самое праздное есть искание истины, определяющей жизнь человеческую.
Учение о жизни – то, что у всех народов до нашего европейского общества всегда считалось самым важным, то, про что Христос говорил, что оно единое на потребу, – это-то одно исключено из нашей жизни и всей деятельности человеческой. Этим занимается учреждение, которое называется церковью и в которое никто, даже составляющие это учреждение, давно уже не верят.
Единственное окно для света, к которому обращены глаза всех мыслящих, страдающих, заслонено. На вопрос: что я, что мне делать, нельзя ли мне облегчить жизнь мою по учению того бога, который, по вашим словам, пришел спасти нас? мне отвечают: исполняй предписание властей и верь церкви. Но отчего же так дурно мы живем в этом мире? спрашивает отчаянный голос; зачем всё это зло, неужели нельзя мне своей жизнью не участвовать в этом зле? неужели нельзя облегчить это зло? Отвечают: нельзя. Желание твое прожить жизнь хорошо и помочь в этом другим есть гордость, прелесть. Одно, что можно – это спасти себя, свою душу для будущей жизни. Если же не хочешь участвовать в зле мира, то уйди из него. Путь этот открыт каждому, говорит учение церкви, но знай, что, избирая этот путь, ты должен уже не участвовать в жизни мира, а перестать жить и медленно сам убивать себя. Есть только два пути, говорят нам наши учителя: верить и повиноваться нам и властям и участвовать в том зле, которое мы учредили, или уйти из мира и идти в монастырь, не спать и не есть или на столбе гноить свою плоть, сгибаться и разгибаться и ничего не делать для людей; или признать учение Христа неисполнимым и потому признать освященную религией беззаконность жизни; или отречься от жизни, что равносильно медленному самоубийству.
Как ни удивительно кажется понявшему учение Христа то заблуждение, по которому признается, что учение Христа очень хорошо для людей, но неисполнимо; но заблуждение, по которому признается, что человек, желающий не на словах, а на деле исполнять учение Христа, должен уйти из мира, – еще удивительнее.
Заблуждение это – что человеку лучше удалиться от мира, чем подвергаться искушениям мира, есть старое заблуждение, давно известное евреям, но совершенно чуждое не только духу христианства, но и иудаизму. Против этого-то заблуждения задолго еще до Христа написана повесть о пророке Ионе, столь любимая и часто приводимая Христом. Мысль повести от начала до конца одна: Иона пророк хочет один быть праведным и удаляется от развращенных людей. Но бог показывает ему, что он – пророк, что он затем только и нужен, чтобы сообщить заблудшим людям свое знание истины, а потому он не убегать должен от заблудших людей, а жить в общении с ними. Иона брезгает развращенными ниневитянами и убегает от них. Но как ни убегает Иона от своего назначения, бог приводит его через кита к ниневитянам, и делается то, чего хочет бог, т. е. ниневитяне принимают через Иону учение бога, – и жизнь их делается лучше. Но Иона не только не радуется тому, что он – орудие воли божией, но досадует, ревнует бога к ниневитянам, – ему хотелось бы одному быть разумным и хорошим. Он удаляется в пустыню, плачется на свою судьбу и упрекает бога. И тогда над Ионой вырастает в одну ночь тыква, защищающая его от солнца, а в другую ночь червь съедает эту тыкву. Иона еще отчаяннее упрекает бога за то, что дорогая ему тыква пропала. Тогда бог говорит ему: тебе жалко тыкву, которую ты называешь своей, она в одну ночь выросла и в одну ночь пропала, а мне разве не жалко было огромного народа, который погибал, живя как животные, не умея отличить правой руки от левой! Твое знание истины на то только и нужно было, чтобы передать его тем, которые не имели его.
Христос знал эту повесть и часто приводил ее, но, кроме того, в Евангелиях рассказано, как сам Христос после посещения удалившегося в пустыню Иоанна Крестителя, перед началом своей проповеди, подпал тому же искушению и как он был отведен диаволом (обманом) в пустыню для искушения, и как он победил этот обман и, в силе духа, вернулся в Галилею, и как с тех пор, уже не гнушаясь никакими развратными людьми, провел жизнь среди мытарей, фарисеев и грешников, научая их истине.37
По церковному же учению Христос-богочеловек дал нам пример жизни. Всю известную нам жизнь свою Христос проводит в самом водовороте жизни: с мытарями, блудницами, в Иерусалиме, с фарисеями. Главные заповеди Христа – любовь к ближнему и проповедание другим его учения. И то и другое требует постоянного общения с миром. И вдруг из этого делается тот вывод, что по учению Христа надо уйти от всех, ни с кем не иметь никакого дела и стать на столб. Чтобы следовать примеру Христа, оказывается, что надо делать совершенно обратное тому, чему он учил, и тому, что он делал.
Учение Христа, по церковным толкованиям, представляется как для мирских людей, так и для монашествующих не учением о жизни – как сделать ее лучше для себя и для других, а учением о том, во что надо верить светским людям, чтобы, живя дурно, все-таки спастись на том свете, а для монашествующих – тем, как для себя сделать эту жизнь еще хуже, чем она есть.
Но Христос учит не этому.
Христос учит истине, и если истина отвлеченная есть истина, то она будет истиною и в действительности. Если жизнь в боге есть единая жизнь истинная, блаженная сама в себе, то она истинна, блаженна здесь, на земле, при всех возможных случайностях жизни. Если бы жизнь здесь не подтверждала учения Христа о жизни, то это учение было бы не истинно.
Христос не призывает к худшему от лучшего, а, напротив – к лучшему от худшего. Он жалеет людей, которые ему представляются, как растерянные, погибающие без пастуха овцы, и обещает им пастуха и хорошее пастбище. Он говорит, что ученики его будут гонимы за его учение и должны терпеть и переносить гонения мира с твердостью. Но он не говорит, что, следуя его учению, они будут терпеть больше, чем следуя учению мира; напротив, он говорит, что те, которые будут следовать учению мира, те будут несчастны, а те, которые будут следовать его учению, те будут блаженны.
Христос учит не спасению верою, или аскетизму, т. е. обману воображения, или самовольным мучениям в этой жизни; но он учит жизни такой, при которой, кроме спасения от погибели личной жизни, еще и здесь, в этом мире, меньше страданий и больше радостей, чем при жизни личной.
Христос, открывая свое учение, говорит людям, что, исполняя его учение даже среди неисполняющих, они не будут от этого несчастливее, чем прежде, но, напротив, будут счастливее, чем те, которые не будут исполнять этого. Христос говорит, что есть верный мирской расчет не заботиться о жизни мира.
«И начал Петр говорить ему: вот мы оставили всё и последовали за тобой. Что нам будет? Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и евангелия и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Матф. XIX, 27—29; Марк. X, 28—30; Луки XVIII, 28—30).
Христос, правда, упоминает, что тем, которые послушают его, предстоят гонения от тех, которые не послушают его; но он не говорит, чтобы ученики что-нибудь потеряли от этого. Напротив, он говорит, что ученики его будут иметь здесь, в мире этом, больше радостей, чем не ученики.
Что Христос говорит и думает это, в этом не может быть сомнения и по ясности его слов об этом, и по смыслу всего учения, и по тому, как он жил, и по тому, как жили его ученики. Но правда ли это?
Разбирая отвлеченно вопрос о том, чье положение будет лучше: учеников Христа или учеников мира? нельзя не видеть, что положение учеников Христа должно быть лучше уже потому, что ученики Христа, делая всем добро, не будут возбуждать ненависти в людях. Ученики Христа, не делая никому зла, могут быть гонимы только злыми людьми, ученики же мира должны быть гонимы всеми, так как закон жизни учеников мира есть закон борьбы, т. е. гонения друг друга. Случайности же страданий – те же, как для тех, так и для других, с тою только разницей, что ученики Христа будут готовы к ним, а ученики мира все силы души будут употреблять на то, чтобы избежать их, и что ученики Христа, страдая, будут думать, что их страдания нужны для мира, а ученики мира, страдая, не будут знать, зачем они страдают. Рассуждая отвлеченно, положение учеников Христа должно быть выгоднее положения учеников мира. Но так ли оно в действительности?
Чтобы проверить это, пусть всякий вспомнит все тяжелые минуты своей жизни, все телесные и душевные страдания, которые он перенес и переносит, и спросит себя: во имя чего он переносил все эти несчастия: во имя учения мира или Христа? Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько всю свою жизнь, и он увидит, что никогда, ни одного раза он не пострадал от исполнения учения Христа; но большинство несчастий его жизни произошли только оттого, что он в противность своему влечению, следовал связывавшему его учению мира.
В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесенных мною во имя учения мира, столько, что их достало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь, – всё это есть мученичество во имя учения мира.
Да, я говорю про свою еще исключительно счастливую в мирском смысле жизнь. А сколько мучеников, пострадавших и теперь страдающих за учение мира страданиями, которых я не могу даже живо представить себе.
Мы не видим всей трудности и опасности исполнения учения мира только потому, что мы считаем, что всё, что мы переносим для него, необходимо.
Мы уверились в том, что все те несчастия, которые мы сами себе делаем, суть необходимые условия нашей жизни, и потому не можем понять, что Христос учит именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо.
Чтобы быть в состоянии обсудить вопрос о том, какая жизнь счастливее, нам надо хоть мысленно отрешиться от этого ложного представления и без предвзятой мысли оглянуться на себя и вокруг себя.
Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и вглядитесь в эти истомленные, тревожные, больные лица и потом вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вам довелось узнать; вспомните все те насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите: во имя чего все эти страдания, смерти и отчаяния, приводящие к самоубийствам? И вы увидите, как ни странно это кажется сначала, что девять десятых страданий людей несутся ими во имя учения мира, что все эти страдания не нужны и могли бы не быть, что большинство людей – мученики учения мира.
Ha днях, в осеннее дождливое воскресенье, я проехал по конке через базар Сухаревой башни. На протяжении полуверсты карета раздвигала сплошную толпу людей, тотчас же сдвигавшуюся сзади. С утра до вечера эти тысячи людей, из которых большинство голодные и оборванные, толкутся здесь в грязи, ругая, обманывая и ненавидя друг друга. То же происходит на всех базарах Москвы. Вечер люди эти проведут в кабаках и трактирах. Ночь – в своих углах и конурах. Воскресенье – это лучший день их недели. С понедельника в своих зараженных конурах они опять возьмутся за постылую работу.
Вдумайтесь в жизнь этих людей, в то положение, которое они оставили, чтобы избрать то, в которое они сами себя поставили, и вдумайтесь в тот неустанный труд, который вольно несут эти люди, – мужчины и женщины, – и вы увидите, что это – истинные мученики.
Все эти люди побросали дома, поля, отцов, братьев, часто жен и детей, – отреклись от всего, даже от самой жизни, и пришли в город для того, чтобы приобрести то, что по учению мира считается для каждого из них необходимым. И все они, не говоря уже о тех десятках тысяч несчастных людей, потерявших всё и перебивающихся требухой и водкой в ночлежных домах, – все, начиная от фабричного, извозчика, швеи, проститутки до богача-купца и министра и их жен, все несут самую тяжелую, неестественную жизнь и не приобрели того, что считается для них нужным по учению мира.
Поищите между этими людьми и найдите, от бедняка до богача, человека, которому бы хватало то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, необходимым по учению мира, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобресть то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира и отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретет то, что требуется, от него потребуется еще другое, и еще другое, и так без конца идет эта Сизифова работа, губящая жизни людей. Возьмите лестницу состояний от людей, проживающих в год триста рублей до пятидесяти тысяч, и вы редко найдете человека, который бы не был измучен, истомлен работой для приобретения 400, когда у него 300, и 500, когда у него 400, и так без конца. И нет ни одного, который бы, имея 500, добровольно перешел на жизнь того, у которого 400. Если и есть такие примеры, то и этот переход он делает не для того, чтобы облегчить свою жизнь, а для того, чтобы собрать деньги и спрятать. Всем нужно еще и еще отягчать трудом свою и так уже отягченную жизнь и душу свою без остатка отдать учению мира. Нынче приобрел поддевку и калоши, завтра – часы с цепочкой, послезавтра – квартиру с диваном и лампой, после – ковры в гостиную и бархатные одежды, после – дом, рысаков, картины в золотых рамах, после – заболел от непосильного труда и умер. Другой продолжает ту же работу и так же отдает жизнь тому же Молоху, так же умирает и так же сам не знает, зачем он делал всё это. Но, может быть, сама эта жизнь, во время которой человек делает всё это, сама в себе счастлива?
Прикиньте эту жизнь на мерку того, что всегда все люди называют счастьем, и вы увидите, что эта жизнь ужасно несчастлива. В самом деле, какие главные условия земного счастья – такие, о которых никто спорить не будет?
Одно из первых и всеми признаваемых условий счастия есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, т. е. жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе; общение с землей, растениями, животными. Всегда все люди считали лишение этого большим несчастьем. Заключенные в тюрьмах сильнее всего чувствуют это лишение. Посмотрите же на жизнь людей, живущих по учению мира: чем большего они достигли успеха по учению мира, тем больше они лишены этого условия счастья. Чем выше то мирское счастье, которого они достигли, тем меньше они видят свет солнца, поля и леса, диких и домашних животных. Многие из них – почти все женщины – доживают до старости, раз или два в жизни увидав восход солнца и утро и никогда не видав полей и лесов иначе, как из коляски или из вагона, и не только не посеяв и не посадив чего-нибудь, не вскормив и не воспитав коровы, лошади, курицы, но не имея даже понятия о том, как родятся, растут и живут животные. Люди эти видят только ткани, камни, дерево, обделанное людским трудом, и то не при свете солнца, а при искусственном свете; слышат они только звуки машин, экипажей, пушек, музыкальных инструментов; обоняют они спиртовые духи и табачный дым; под ногами и руками у них только ткани, камень и дерево; едят они по слабости своих желудков большей частью несвежее и вонючее. Переезды их с места на место не спасают их от этого лишения. Они едут в закрытых ящиках. И в деревне и за границей, куда они уезжают, у них те же камни и дерево под ногами, те же гардины, скрывающие от них свет солнца; те же лакеи, кучера, дворники, не допускающие их до общения с землей, растениями и животными. Где бы они ни были, они лишены, как заключенные, этого условия счастия. Как заключенные утешаются травкою, выросшей на тюремном дворе, пауком, мышью, так и эти люди утешаются иногда чахлыми комнатными растениями, попугаем, собачкой, обезьяной, которых все-таки растят и кормят не они сами.
Другое несомненное условие счастья есть труд, во-первых, любимый и свободный труд, во-вторых, труд физический, дающий аппетит и крепкий, успокаивающий сон. Опять, чем большего, по-своему, счастья достигли люди по учению мира, тем больше они лишены и этого другого условия счастья. Все счастливцы мира – сановники и богачи, или, как заключенные, вовсе лишены труда и безуспешно борются с болезнями, происходящими от отсутствия физического труда, и еще более безуспешно со скукой, одолевающей их (я говорю: безуспешно – потому что работа только тогда радостна, когда она несомненно нужна; а им ничего не нужно), или работают ненавистную им работу, как банкиры, прокуроры, губернаторы, министры и их жены, устраивающие гостиные, посуды, наряды себе и детям. (Я говорю: ненавистную – потому, что никогда еще не встретил из них человека, который хвалил бы свою работу и делал бы ее хоть с таким же удовольствием, с каким дворник очищает снег перед домом.) Все эти счастливцы или лишены работы, или приставлены к нелюбимой работе, т. е. находятся в том положении, в котором находятся каторжные.
Третье несомненное условие счастья – есть семья. И опять, чем дальше ушли люди в мирском успехе, тем меньше им доступно это счастье. Большинство – прелюбодеи и сознательно отказываются от радостей семьи, подчиняясь только ее неудобствам. Если же они и не прелюбодеи, то дети для них не радость, а обуза, и они сами себя лишают их, стараясь всякими, иногда самыми мучительными средствами сделать совокупление бесплодным. Если же у них есть дети, они лишены радости общения с ними. Они по своим законам должны отдавать их чужим, большей частью совсем чужим, сначала иностранцам, а потом казенным воспитателям, так что от семьи имеют только горе – детей, которые смолоду становятся так же несчастны, как родители, и которые по отношению к родителям имеют, одно чувство – желание их смерти для того, чтобы наследовать им.38 Они не заперты в тюрьме, но последствия их жизни по отношению к семье мучительнее того лишения семьи, которому подвергаются заключенные.
Четвертое условие счастья – есть свободное, любовное общение со всеми разнообразными людьми мира. И опять, чем высшей ступени достигли люди в мире, тем больше они лишены этого главного условия счастья. Чем выше, тем уже, теснее тот кружок людей, с которыми возможно общение, и тем ниже по своему умственному и нравственному развитию те несколько людей, составляющих этот заколдованный круг, из которого нет выхода. Для мужика и его жены открыто общение со всем миром людей, и если один миллион людей не хочет общаться с ним, у него остается 80 миллионов таких же, как он, рабочих людей, с которыми он от Архангельска до Астрахани, не дожидаясь визита и представления, тотчас же входит в самое близкое братское общение. Для чиновника с его женой есть сотни людей равных ему, но высшие не допускают его до себя, а низшие все отрезаны от него. Для светского богатого человека и его жены есть десятки светских семей. Остальное всё отрезано от них. Для министра и богача и их семей – есть один десяток таких же важных или богатых людей, как и они. Для императоров и королей кружок делается еще менее. – Разве это не тюремное заключение, при котором для заключенного возможно общение только с двумя-тремя тюремщиками?
Наконец пятое условие счастья есть здоровье и безболезненная смерть. И опять, чем выше люди на общественной лестнице, тем более они лишены этого условия счастья. Возьмите среднего богача и его жену и среднего крестьянина и его жену, несмотря на весь голод и непомерный труд, который, не по своей вине, но по жестокости людей, несет крестьянство, и сравните их. И вы увидите, что чем ниже, тем здоровее, и чем выше, тем болезненнее мужчины и женщины.
Переберите в своей памяти тех богачей и их жен, которых вы знаете и знали, и вы увидите, что большинство больные. Из них здоровый человек, не лечащийся постоянно или периодически летом, – такое же исключение, как больной в рабочем сословии. Все эти счастливцы без исключения начинают онанизмом, сделавшимся в их быту естественным условием развития; все беззубые, все седые или плешивые бывают в те года, когда рабочий человек начинает входить в силу. Почти все одержимы нервными, желудочными и половыми болезнями от объядения, пьянства, разврата и лечения, и те, которые не умирают молодыми, половину жизни своей проводят в лечении, в впрыскивании морфина или обрюзгшими калеками, неспособными жить своими средствами, но могущими жить только как паразиты или те муравьи, которых кормят их рабы. Переберите их смерти: кто застрелился, кто сгнил от сифилиса, кто стариком умер от конфортатива, кто молодым умер от сечения, которому он сам подверг себя для возбуждения, кого живого съели вши, кого – черви, кто спился, кто объелся, кто от морфина, кто от искусственного выкидыша. Один за другим они гибнут во имя учения мира. И толпы лезут за ними и, как мученики, ищут страданий и гибели.
Одна жизнь за другою бросается под колесницу этого бога: колесница проезжает, раздирая их жизни, и новые и новые жертвы со стонами и воплями и проклятиями валятся под нее!
Исполнение учения Христа трудно. Христос говорит: кто хочет следовать мне, тот оставь дом, поля, братьев и иди за мной – богом, и тот получит в мире этом во сто раз больше домов, полей, братьев и, сверх того, жизнь вечную. И никто не идет. А учение мира сказало: брось дом, поля, братьев, уйди из деревни в гнилой город, живи всю свою жизнь банщиком голым, в пару намыливая чужие спины, или гостинодворцем, всю жизнь считая чужие копейки в подвале, или прокурором, всю жизнь свою проводя в суде и над бумагами, занимаясь тем, чтобы ухудшить участь несчастных, или министром, всю жизнь впопыхах подписывая ненужные бумаги, или полководцем, всю жизнь убивая людей, – живи этой безобразной жизнью, кончающейся всегда мучительной смертью, и ты ничего не получишь в мире этом и не получишь никакой вечной жизни. И все пошли. Христос сказал: возьми крест и иди за мной, т. е. неси покорно ту судьбу, которая выпала тебе, и повинуйся мне, богу, и никто не идет. Но первый потерянный, никуда, как на убийство, не годный человек в эполетах, которому это взбредет в голову, скажет: возьми не крест, а ранец и ружье и иди за мной на всякие мучения и на верную смерть, – и все идут.
Побросав семьи, родителей, жен, детей, одевшись в шутовские одежды и подчинив себя власти первого встречного человека, высшего чином, холодные, голодные, измученные непосильными переходами, они идут куда-то, как стадо быков на бойню; но они не быки, а люди. Они не могут не знать, что их гонят на бойню; с неразрешимым вопросом – зачем? и с отчаянием в сердце идут они и мрут от холода, голода и заразительных болезней до тех пор, пока их не поставят под пули и ядра и не велят им самим убивать неизвестных им людей. Они бьют, и их бьют. И никто из бьющих не знает, за что и зачем. Турки жарят их живых на огне, кожу сдирают, разрывают внутренности. И завтра опять свистнет кто-нибудь, и опять все пойдут на страшные страдания, на смерть и на очевидное зло. И никто не находит, что это трудно. Не только те, которые страдают, но и отцы и матери не находят, что это трудно. Они даже сами советуют детям идти. Им кажется, что это не только так надо и что нельзя иначе, но что это даже хорошо и нравственно.
Можно бы поверить, что исполнение учения Христа трудно и страшно и мучительно, если бы исполнение учения мира было очень легко и безопасно и приятно. Но ведь учение мира много труднее, опаснее и мучительнее исполнения учения Христа.
Были когда-то, говорят, мученики Христа, но это было исключение; их насчитывают у нас 380 тысяч – вольных и невольных за 1800 лет; но сочтите мучеников мира, – и на одного мученика Христа придется тысяча мучеников учения мира, которых страдания в сто раз ужаснее. Одних убитых на воинах нынешнего столетия насчитывают тридцать миллионов человек.
Ведь это всё мученики учения мира, которым стоило бы не то что следовать учению Христа, а только не следовать учению мира, и они избавились бы от страданий и смерти.
Стоит человеку только сделать то, чего ему хочется, – отказаться от того, чтобы идти на войну, – и его послали бы копать канавы и не замучили бы в Севастополе и Плевне. Стоит человеку только не верить учению мира, что нужно надеть калоши и цепочку и иметь ненужную ему гостиную, и что не нужно делать все те глупости, которых требует от него учение мира, и он не будет знать непосильной работы и страданий и вечной заботы и труда без отдыха и цели; не будет лишен общения с природой, не будет лишен любимого труда, семьи, здоровья и не погибнет бессмысленно мучительной смертью.
Не мучеником надо быть во имя Христа, не этому учит Христос. Он учит тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложного учения мира.
Учение Христа имеет глубокий метафизический смысл; учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит людей не делать глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа.
Христос говорит: не сердись, не считай никого ниже себя, – это глупо. Будешь сердиться, обижать людей, – тебе же будет хуже. Христос говорит еще: не бегай за всеми женщинами, а сойдись с одной и живи, – тебе будет лучше. Еще он говорит: не обещайся никому ни в чем, а то тебя заставят делать глупости и злодейства. Еще говорит: за зло не плати злом, а то зло вернется на тебя еще злее, чем прежде, как подвешенная колода над медом, которая убивает медведя. И еще говорит: не считай людей чужими только потому, что они живут в другой земле, чем ты, и говорят другим языком. Если будешь считать их врагами и они будут считать тебя врагом, – тебе же будет хуже. Итак, не делай всех этих глупостей, и тебе будет лучше.
«Да, – говорят на это, – но мир так устроен, что противиться его устройству еще мучительнее, чем жить согласно с ним. Откажись человек от военной службы, и его посадят в крепость, расстреляют, может быть. Не обеспечивай человек свою жизнь приобретением того, что нужно ему и семье, он и семья его умрут с голоду». – Так говорят люди, стараясь защитить устройство мира, но сами они не думают так. Они говорят так только потому, что им нельзя отрицать справедливости учения Христа, которому они будто бы верят, и им надо оправдаться как-нибудь в том, что они не исполняют этого учения. Но они не только не думают этого, но никогда даже вовсе не думали об этом. Они верят учению мира и только пользуются отговоркой, которой их научила церковь, – что, исполняя учение Христа, надо много страдать, и потому никогда даже и не пробовали исполнять учение Христа. Мы видим бесчисленные страдания, которые несут люди во имя учения мира, но страданий из-за учения Христа мы в наше время никогда уже не видим. Тридцать миллионов погибло за учение мира на войнах; тысячи миллионов погибло в мучительной жизни из-за учения мира, но не только миллионов, даже тысяч, даже десятков, даже ни одного человека я не знаю, который бы погиб смертью или мучительной жизнью с голода или холода из-за учения Христа. Это только смешная отговорка, доказывающая, до какой степени неизвестно нам учение Христа. Мало того, что мы не разделяем его, но мы никогда даже серьезно не принимали его. Церковь потрудилась растолковать нам учение Христа так, что оно представляется не учением о жизни, а пугалом.
Христос призывает людей к ключу воды, которая тут, подле них. Люди томятся жаждой, едят грязь, пьют кровь друг друга, но учители их сказали им, что они погибнут, если пойдут к тому ключу, к которому призывает Христос. И люди верят им, мучаются и мрут от жажды в двух шагах от воды, не смея подойти к ней. Но стоит только поверить Христу, что он принес благо на землю, поверить, что он дает нам, жаждущим, ключ воды живой, и прийти к нему, чтобы увидать, как коварен обман церкви и как безумны наши страдания тогда, когда спасение наше так близко. Стоит прямо и просто принять учение Христа, чтобы ясен был тот ужасный обман, в котором живем все мы и живет каждый из нас.
Поколения за поколениями мы трудимся над обеспечением своей жизни посредством насилия и упрочения своей собственности. Счастье нашей жизни представляется нам в наибольшей власти и наибольшей собственности. Мы так привыкли к этому, что учение Христа о том, что счастье человека не может зависеть от власти и именья, что богатый не может быть счастлив, представляется нам требованием жертвы во имя будущих благ. Христос же и не думает призывать нас к жертве, он, напротив, учит нас не делать того, что хуже, а делать то, что лучше для нас здесь, в этой жизни. Христос, любя людей, учит их воздержанию от обеспечения себя насилием и от собственности так же, как, любя людей, учат их воздержанию от драки и пьянства. Он говорит, что, живя без отпора другим и без собственности, люди будут счастливее, и своим примером жизни подтверждает это. Он говорит, что человек, живущий по его учению, должен быть готов умереть во всякую минуту от насилия другого, от холода и голода, и не может рассчитывать ни на один час своей жизни. И нам кажется это страшным требованием каких-то жертв; а это только утверждение тех условий, в которых всегда неизбежно живет всякий человек. Ученик Христа должен был готов во всякую минуту на страдания и смерть. Но ученик мира разве не в том же положении? Мы так привыкли к нашему обману, что всё, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни: наши войска, крепости, наши запасы, наши одежды, наши лечения, всё наше имущество, наши деньги, кажется нам чем-то действительным, серьезно обеспечивающим нашу жизнь. Мы забываем то, что очевидно каждому, то, что случилось с тем, который задумал построить житницы, чтобы обеспечить себя надолго: он умер в ту же ночь. Ведь всё, что мы делаем для обеспечения нашей жизни, совершенно то же, что делает страус, останавливаясь и пряча голову, чтобы не видать, как его убивают. Мы делаем хуже страуса: чтобы сомнительно обеспечить не нашу сомнительную жизнь в сомнительном будущем, мы наверно губим нашу верную жизнь в верном настоящем.
Обман состоит в ложном убеждении, что жизнь наша может быть обеспечена нашей борьбой с другими людьми. Мы так привыкли к этому обману мнимого обеспечения своей жизни и своей собственности, что и не замечаем всего, что мы теряем из-за него. А теряем мы всё – всю жизнь. Вся жизнь поглощается заботой об этом обеспечении жизни, приготовлением к ней, так что жизни совсем не остается.
Ведь стоит на минуту отрешиться от своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что всё, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, мы делаем совсем не для того, чтобы обеспечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этим, забывать о том, что жизнь никогда не обеспечена и не может быть обеспечена. Но мало того, что мы обманываем себя и губим свою настоящую жизнь для воображаемой, мы в этом стремлении к обеспечению чаще всего губим то самое, что мы хотим обеспечить. Французы вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году, и от этого обеспечения гибнут сотни тысяч французов; то же делают все вооружающиеся народы. Богач обеспечивает свою жизнь тем, что у него есть деньги. И самые деньги привлекают разбойника, который убивает его. Мнительный человек обеспечивает свою жизнь лечением, и самое лечение медленно убивает его, а если и не убивает его, то наверно лишает его жизни, как того расслабленного, который не жил 38 лет, а дожидался ангела у купели.
Учение Христа о том, что жизнь нельзя обеспечить, а надо всегда, всякую минуту быть готовым умереть, несомненно лучше, чем учение мира о том, что надо обеспечить свою жизнь; лучше тем, что неизбежность смерти и необеспеченность жизни остается та же при учении мира и при учении Христа, но сама жизнь, по учению Христа, не поглощается уже вся без остатка праздным занятием мнимого обеспечения своей жизни, а становится свободной и может быть отдана единой свойственной ей цели – благу себя и людей. Ученик Христа будет беден. Да, т. е. он будет пользоваться всегда всеми теми благами, которые ему дал бог. Он не будет губить свою жизнь. Мы назвали словом, выражающим беду – бедностью, то, что есть счастье; но само дело не изменилось от этого. Беден – это значит: он будет не в городе, а в деревне, не будет сидеть дома, а будет работать в лесу, в поле, будет видеть свет солнца, землю, небо, животных; не будет придумывать, что ему съесть, чтобы возбудить аппетит, и что сделать, чтоб сходить на час, а будет три раза в день голоден; не будет ворочаться на мягких подушках и придумывать, чем спастись от бессонницы, а будет спать; будет иметь детей, будет жить с ними, будет в свободном общении со всеми людьми, а главное, не будет делать ничего такого, чего ему не хочется делать; не будет бояться того, что с ним будет. Болеть, страдать, умирать он будет так же, как и все (судя по тому, как болеют и умирают бедные, – легче, чем богатые), но жить он будет несомненно счастливее. Быть бедным, быть нищим, быть бродягой (πτωχος значит бродяга), это то самое, чему учил Христос; то самое, без чего нельзя войти в царство бога, без чего нельзя быть счастливым здесь, на земле.
«Но никто не будет кормить тебя, и ты умрешь с голоду», говорят на это. На возражение о том, что человек, живя по учению Христа, умрет с голоду, Христос ответил одним коротким изречением (тем самым, которое толкуется так, что оно оправдывает праздность духовенства) (Матф. X, 10; Лук. X, 7).
Он сказал: «Не берите: ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха; ибо трудящийся достоин пропитания».
«В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть; ибо трудящийся достоин награды за труды свои».
Трудящийся достоин ἔξεδτι – слово в слово значит: может и должен иметь пропитание. Это очень короткое изречение; но для того, кто поймет его так, как понимал его Христос, уже не может быть рассуждения о том, что человек, не имеющий собственности, умрет с голоду. Для того, чтобы понять это слово в его настоящем значении, надо прежде всего отрешиться совершенно от сделавшегося, вследствие догмата искупления, столь привычным нам представления о том, что блаженство человека есть праздность. Надо восстановить то свойственное всем неиспорченным людям представление о том, что необходимое условие счастья человека есть не праздность, а труд; что человек не может не работать, что ему скучно, тяжело, трудно не работать, как скучно, трудно не работать муравью, лошади и всякому животному. Надо забыть наше дикое суеверие о том, что положение человека, имеющего неразменный рубль, т. е. казенное место, или право на землю, или билеты с купонами, которые дают ему возможность ничего не делать, есть естественное счастливое состояние. Надо восстановить в своем представлении тот взгляд на труд, который имеют на него все неиспорченные люди и который имел Христос, говоря, что трудящийся достоин пропитания. Христос не мог представить себе людей, которые бы смотрели на работу как на проклятие, и потому не мог и представить себе человека, неработающего или желающего не работать. Он всегда подразумевает, что ученик его работает. И потому говорит: если человек работает, то работа кормит его. И если работу этого человека берет себе другой человек, то другой человек и будет кормить того, кто работает, именно потому, что пользуется его работой. И потому трудящийся всегда будет иметь пропитание. Собственности он не будет иметь; о пропитании же не может быть речи.
Разница между учением Христа и учением нашего мира о труде – в том, что по учению мира работа есть особенная заслуга человека, в которой он считается с другими и предполагает, что имеет право на большее пропитание, чем больше его работа; по учению же Христа: работа – труд есть необходимое условие жизни человека, а пропитание есть неизбежное последствие его. Работа производит пищу, пища производит работу – это вечный круг: одно – следствие и причина другого. Как бы зол ни был хозяин, он будет кормить работника так же, как будет кормить ту лошадь, которая работает на него, будет кормить так, чтобы работник мог сработать как можно больше, т. е. будет содействовать тому самому, что составляет благо человека.
«Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою в выкуп за многих». По учению Христа каждый отдельный человек независимо от того, каков мир, будет иметь наилучшую жизнь, если он поймет свое призвание – не требовать труда от других, а самому всю жизнь свою полагать на труд для других, жизнь свою отдавать, как выкуп за многих. Человек, поступающий так, говорит Христос, достоин пропитания, т. е. не может не получить его. Словами: человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других, Христос устанавливает ту основу, которая, несомненно, обеспечивает материальное существование человека, а словами: трудящийся достоин пропитания, Христос устраняет то столь обыкновенное возражение против возможности исполнения учения, которое состоит в том, что человек, исполняющий учение Христа среди не исполняющих, погибнет от голода и холода. Христос показывает, что человек обеспечивает свое пропитание не тем, что он будет его отбирать от других, а тем, что он сделается полезен, нужен для других. Чем он нужнее для других, тем обеспеченнее будет его существование.
При теперешнем устройстве мира люди, не исполняющие законов Христа, но трудящиеся для ближнего, не имея собственности, не умирают от голода. Как же возражать против учения Христа, что исполняющие его учение, т. е. трудящиеся для ближнего, умрут от голода? Человек не может умереть от голода, когда есть хлеб у богатого. В России в каждую данную минуту есть всегда миллионы людей, живущих без всякой собственности, только трудом своим.
Среди язычников христианин будет точно так же обеспечен, как и среди христиан. Он работает на других, следовательно он нужен им, и потому его будут кормить. Собаку, которая нужна, и ту кормят и берегут; как же не кормить и не беречь человека, который всем нужен?
Но больной человек, человек с семейством, с детьми не нужен, не может работать, – и его перестают кормить, скажут те, которым непременно хочется доказать справедливость зверской жизни. Они скажут это, они и говорят это, и сами не видят того, что они сами, говорящие это, и желали бы поступить так, да не могут и поступают совсем иначе. Эти самые люди, те, которые не признают приложимости учения Христа, – исполняют его. Они не перестают кормить овцу, быка, собаку, которая заболеет. Они даже старую лошадь не убивают, а дают ей по силам работу; они кормят семейство, ягнят, поросят, щенят, ожидая от них пользы; так как же они не будут кормить нужного человека, когда он заболеет, и как же не найдут посильной работы старому и малому, и как же не станут выращивать людей, которые будут на них же работать?
Они не только будут делать это, но они это самое и делают. Девять десятых людей – черный народ – выкармливается одной десятой не черных, а богатых и сильных людей, как рабочий скот. И как ни темно то заблуждение, в котором живет эта одна десятая, как ни презирает она остальных 9/10 людей, эта одна десятая сильных никогда не отнимает у 9/10 нужного пропитания, хотя и может это сделать. Она не отнимает у черного народа нужного для того, чтобы он плодился и работал на них. В последнее время эта 1/10 сознательно работает на то, чтобы 9/10 кормились правильно, т. е. могли бы выставлять, как можно больше работы, и на то, чтобы плодились и выкармливались новые рабочие. Муравьи – и те плодят и воспитывают своих дойных коровок; так как же людям не делать того же: плодить тех, которые на них работают? Рабочие нужны. И те, которые пользуются работой, всегда будут очень озабочены тем, чтобы эти рабочие не переводились.
Возражение против исполнимости учения Христа, состоящее в том, что если я не буду приобретать для себя и удерживать приобретенное, то никто не станет кормить мою семью, справедливо, но только по отношению к праздным, бесполезным и потому вредным людям, каково большинство нашего богатого сословия. Праздных людей никто воспитывать не станет, кроме безумных родителей, потому что праздные люди никому, даже самим себе, не нужны; но людей-работников даже самые злые люди будут кормить и воспитывать. Телят воспитывают, а человек есть рабочее животное, более полезное, чем бык, как оно и ценилось всегда на базаре рабов. Вот почему дети никогда не могут остаться без призрения.
Человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других. Кто будет трудиться, того будут кормить.
Это – истины, подтверждаемые жизнью всего мира.
До сих пор, всегда и везде, где человек трудился, он получал пропитание, как всякая лошадь получала корм. И такое пропитание получал трудящийся невольно, неохотно, ибо трудящийся желал одного – избавиться от труда, приобрести как можно больше и сесть на шею того, кто у него сидит на шее. Такой невольно, неохотно трудящийся, завистник и злой работник не оставался без пропитания и оказывался счастливее даже того, который не трудился и жил чужими трудами. Насколько же счастливее будет тот трудящийся по учению Христа, которого цель будет состоять в том, чтобы сработать как можно больше и получить как можно меньше? И насколько еще будет счастливее его положение, когда вокруг него еще будет хоть несколько, а может быть и много таких же, как он, людей, которые будут служить и ему.
Учение Христа о труде и плодах его выражено в рассказе о насыщении 5 и 7 тысяч двумя рыбами и пятью хлебами. Человечество будет иметь высшее доступное ему благо на земле, когда люди не будут стараться поглотить и потребить всё каждый для себя, но когда они будут делать, как научил их Христос на берегу моря.
Надо было накормить тысячи людей. Ученик Христа сказал ему, что видел у одного человека несколько рыб; у учеников тоже было несколько хлебов. Иисус понял, что у людей, пришедших издалека, у некоторых есть с собой пища, а у некоторых нет. (То, что у многих были с собой запасы, доказывает уже то, что во всех четырех Евангелиях сказано, что по окончании еды остатки собраны были в 12 корзин. Если бы ни у кого, кроме как у мальчика, ничего не было, то и не могло бы быть 12 корзин в поле.) Если бы Христос не сделал того, что он сделал, т. е. чудо насыщения тысячи народа пятью хлебами, то было бы то, что происходит теперь в мире. Те, у которых были запасы, съели бы то, что у них было, съели бы всё через силу даже, чтобы ничего не оставалось. Скупые, может быть, унесли бы домой свои остатки. Те, у которых ничего не было, остались бы голодными, с злобной завистью смотрели бы на ядущих, а может быть, некоторые из них утащили бы у запасливых, и произошли бы ссоры и драки, и одни пошли бы домой пресыщенные, другие – голодные и сердитые; было бы то же самое, что происходит в нашей жизни.
Но Христос знал, что он хотел сделать (как и сказано в Евангелии), он велел всем сесть кру́гом39 и научил учеников предлагать другим то, что у них было, и говорить другим, чтобы они делали то же. И тогда вышло то, что когда все те, у которых были запасы, сделали то же, что ученики Христа, т. е. свое предлагали другим, то все ели в меру, и когда обошли круг, то досталось и тем, которые не ели сначала. И все насытились, и осталось еще много хлеба, так много, что собрали 12 корзин.
Христос учит людей, что так сознательно они должны поступать в жизни потому, что таков закон человека и всего человечества. Труд есть необходимое условие жизни человека. И труд же дает благо человеку. И потому удержание от других людей плодов своего или чужого труда препятствует благу человека. Отдавание своего труда другим содействует благу человека.
«Если люди не будут отнимать один у другого, то они будут умирать с голоду», говорим мы. Казалось бы, надо сказать обратное: если люди будут силой отнимать один у другого, то будут люди, которые умрут с голоду, как оно и есть.
Ведь всякий человек, как бы он ни жил, – по учению ли Христа, или по учению мира, – он жив только трудом других людей. Другие люди и уберегли его, и вспоили, и вскормили его, и берегут, и поят, и кормят. Но по учению мира человек насилием и угрозой заставляет других людей продолжать кормить себя и свою семью. По учению Христа человек точно так же убережен, вскормлен и вспоен другими людьми; но для того, чтобы другие люди продолжали беречь, поить и кормить его, он никого к этому не принуждает, а сам старается служить другим, быть как можно полезнее всем, и тем становится нужным для всех. Люди мира всегда будут желать перестать кормить ненужного им человека, насилием заставляющего их кормить себя, и при первой возможности не только перестают кормить, но и убивают его, как ненужного. Но всегда все люди, как бы злы они ни были, будут старательно кормить и беречь работающего на них.
Как же вернее, разумнее и радостнее жить: по учению мира или по учению Христа?
XI
Учение Христа устанавливает царство бога на земле. Несправедливо то, чтобы исполнение этого учения было трудно: оно не только не трудно, но неизбежно для человека, узнавшего его. Учение это дает единственно возможное спасение от неизбежно предстоящей погибели личной жизни. Наконец, исполнение этого учения не только не призывает к страданиям и лишениям в этой жизни, но избавляет от девяти десятых страданий, которые мы несем во имя учения мира.
И, поняв это, я спросил себя: отчего же я до сих пор не исполнял этого учения, дающего мне благо, спасение и радость, а исполнял совсем другое – то, что делало меня несчастным? И ответ мог быть и был только один: я не знал истины, она была скрыта от меня.
Когда мне открылся в первый раз смысл Христова учения, я никак не думал, что разъяснение этого смысла приведет меня к отрицанию учения церкви. Мне казалось только, что церковь не дошла до тех выводов, которые вытекают из учения Христа, но я никак не думал, что новый открывшийся мне смысл учения Христа и выводы из него разъединят меня с учением церкви. Я боялся этого. И потому во время своих исследований я не только не отыскивал ошибки церковного учения, напротив, умышленно закрывал глаза на те положения, которые мне казались неясными и странными, но не противоречили тому, что я считал сущностью христианского учения.
Но чем дальше я шел в изучении Евангелий, чем яснее открывался мне смысл учения Христа, тем неизбежнее становился для меня выбор: учение Христа разумное, ясное, согласное с моею совестью и дающее мне спасение, или учение прямо противоположное, не согласное с моим разумом и совестью и не дающее мне ничего, кроме сознания погибели вместе с другими. И я не мог не откидывать одно за другим положения церкви. Я делал это нехотя, с борьбой, с желанием смягчить сколько возможно мое разногласие с церковью, не отделяться от нее, не лишиться самой радостной поддержки в вере – общения со многими. Но когда я кончил свою работу, я увидал, что, как я ни старался удержать хоть что-нибудь от учения церкви, от него ничего не осталось. Мало того, что ничего не осталось, я убедился в том, что и не могло ничего остаться.
Уже при окончании моей работы случилось следующее: мальчик, сын мой, рассказал мне, что между двумя совсем необразованными, еле грамотными людьми, служащими у нас, шел спор по случаю статьи какой-то духовной книжки, в которой сказано, что не грех убивать людей преступников и убивать на войне. Я не поверил тому, чтобы это могло быть напечатано, и попросил показать книжку. Книжечка, вызвавшая спор, называется: «Толковый молитвенник». Издание третье (восьмой десяток тысяч). Москва, 1879 г. На странице 163-й этой книжки сказано:
«Какая шестая заповедь божия? – Не убий. Не убий – не убивай. – Что бог запрещает этой заповедью? – Запрещает убивать, т. е. лишать жизни человека. – Грех ли наказывать по закону преступника смертью и убивать неприятеля на войне? «Не грех. Преступника лишают жизни, чтобы прекратить великое зло, которое он делает; неприятеля убивают на войне потому, что на войне сражаются за государя и отечество». И этими словами ограничивается объяснение того, почему отменяется заповедь бога. Я не поверил своим глазам.
Спорящие спросили моего мнения о своем споре. Я сказал тому, который признавал справедливость напечатанного, что это объяснение неправильно.
«Как же так печатают неправильно против закона?» спросил он. Я ничего не мог ему ответить. Я оставил книгу и просмотрел ее всю. Книга содержит: 1) 31 молитву с поучениями о коленопреклонениях и сложении перстов; 2) объяснение символа веры; 3) ничем не объясненные выписки из 5-й главы Матфея, почему-то названные заповедями для получения блаженства; 4) десять заповедей с объяснениями, большей частью упраздняющими их, и 5) тропари на праздники.
Как я говорил, я не только старался избегать осуждения церковной веры, я старался видеть ее с самой хорошей стороны и потому не отыскивал ее слабостей и, хорошо зная ее академическую литературу, я был совершенно незнаком с ее учительной литературой. Распространенный в таком огромном количестве экземпляров еще в 1879 г. молитвенник, вызывающий сомнения самых простых людей, поразил меня.
Я не мог верить, чтобы чисто языческое, не имеющее ничего христианского, содержание молитвенника было сознательно распространяемое в народе церковью учение. Чтобы проверить это, я купил все изданные синодом или «с благословения» его книги, содержащие краткие изложения церковной веры для детей и народа, и перечитал их.
Содержание их было для меня почти новое. В то время как я учился закону божию, этого еще не было. Не было, сколько мне помнится, заповедей блаженств, не было и учения о том, что убивать не грех. Во всех старых русских катехизисах этого нет. Нет ни в катехизисе Петра Могилы, ни в катехизисах Платона, ни в катехизисе Белякова, нет и в кратких католических катехизисах. Нововведение это сделано Филаретом, составившим также катехизис для военного сословия. Толковый молитвенник составлен по этому катехизису. Основная книга есть «Пространный христианский катехизис православной церкви» для употребления всех православных христиан, изданный по высочайшему его императорского величества повелению.
Книга разделена на три части: о вере, надежде и любви. В первой разбор Никейского символа веры. Во второй разбор молитвы господней и восьми стихов пятой главы Матфея, составляющих вступление к нагорной проповеди и почему-то названных заповедями для получения блаженства. (В обеих частях этих трактуется о догматах церкви, молитвах и таинствах, но нет никакого учения о жизни.) В 3-й части излагаются обязанности христианина. В этой части, названной: «о любви», излагаются не заповеди Христа, а 10 заповедей Моисея. И заповеди Моисея излагаются как будто только для того, чтобы научить людей не исполнять их и поступать противно им. После каждой заповеди оговорка, уничтожающая заповедь. По случаю первой заповеди, повелевающей почитать одного бога, катехизис научает почитать ангелов и святых, не говоря уже о матери бога и трех лицах бога («Прост. катех.», стр. 107—108). По случаю второй заповеди – не сотворять кумира – катехизис научает поклонению иконам (стр. 108). По случаю третьей заповеди – не клясться напрасно – катехизис научает людей клясться по всякому требованию законной власти (стр. 111). По случаю четвертой заповеди – о праздновании субботы – катехизис научает праздновать не субботу, а воскресенье и 13 праздников больших и множество малых и поститься все посты, среды и пятницы (стр. 112—115). По случаю пятой заповеди – почитать отца и мать – катехизис научает «почитать государя, отечество пастырей духовных, начальствующих в разных отношениях» (sic); и о почитании начальствующих – три страницы с перечислением всех сортов начальствующих. «Начальствующие в училищах, начальники гражданские, судьи, начальники военные, господа (sic) в отношении к тем, которые им служат и которыми они владеют» (sic) (стр. 116—119). (Я цитирую из катехизиса издания 64-го 1880 года. Двадцать лет прошло с уничтожения рабства, и никто не позаботился даже выкинуть ту фразу, которая по случаю повеления бога почитать родителей была вписана в катехизис для поддержания и оправдания рабства.)
По случаю 6-й заповеди – не убий – люди с первых же строк научаются убивать.
«В. – Что запрещается 6-й заповедью?
«О. – Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.
«В. – Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?
«О. – Не есть беззаконное убийство, когда отнимают жизнь по должности, как-то:
«1) когда преступника наказывают смертью по правосудию;
«2) когда убивают неприятеля на войне за государя и отечество» (курсивы в подлиннике). И дальше:
«В. – Какие случаи относиться могут к законопреступному убийству?
«О. – .... 2) когда кто укрывает или освобождает убийцу».
И это печатается и насильно в сотнях тысяч экземпляров и под страхом угроз и наказаний внушается всем русским людям под видом христианского учения. Этому учат весь русский народ. Этому учат всех невинных ангелов-детей, – тех детей, которых Христос просит не отгонять от себя, потому что их есть царствие божие, – тех детей, на которых нам надо быть похожими, чтобы войти в царство бога, похожими тем, чтобы не знать этого, – тех детей, ограждая которых Христос сказал: горе тому, кто соблазнит единого из малых сих. И этих-то детей насильно учат этому, говоря им, что это единственный священный закон бога.
Это не прокламации, которые распространяются тайно, под страхом каторги, а это прокламации, несогласие с которыми наказывается каторгой. Я теперь пишу это, и мне жутко только за то, что я позволяю себе сказать, что нельзя отменять главную заповедь бога, написанную во всех законах и во всех сердцах, ничего не объясняющими словами: по должности, за государя и отечество, и что не должно учить этому людей.
Да, сделалось то, о чем Христос предупреждал людей (Лук. XI, 33—36, и Матф. VI, 23), говоря: смотрите, не сделался бы свет, находящийся в вас, тьмою. Если свет, который есть в тебе, стал тьмою, то какова же тьма?
Свет, находящийся в нас, стал тьмою. И тьма, в которой мы живем, стала ужасна.
«Горе вам, – сказал Христос, – горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что заперли вы от людей царство небесное. Сами не взошли и не даете другим войти в него. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что поедаете домы вдов и на виду молитесь подолгу. За это вы еще больше виноваты. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что обходите моря и земли, чтобы обращать в свою веру, а когда обратите, то сделаете обращенного хуже, чем он был. Горе вам, вожаки слепые!…
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророков, украшаете памятники праведников. И вы полагаете, что если бы вы жили в те дни, когда замучены были пророки, то вы бы не были участниками в их крови. Так вы сами свидетельствуете против себя о том, что вы такие же, как те, которые били пророков. Дополняйте же меру, начатую подобными вам. И вот пошлю вам пророков мудрых и книжников; и иных вы убьете и распнете, а иных будете бить в ваших собраниях и будете высылать из города в город. И да падет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от Авеля».
«Всякая хула (клевета) прощается людям, но не может быть прощена клевета на святой дух».
Ведь всё это точно вчера написано против тех людей, которые теперь уже не обходят моря и земли, клевеща на святой дух и приводя людей к вере, делающей этих людей худшими, но прямо насилием заставляют их принимать эту веру и преследуют и губят всех тех пророков и праведников, которые пытаются разрушить их обман.
И я убедился, что церковное учение, несмотря на то, что оно назвало себя христианским, есть та самая тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам.
–
Учение Христа, как и всякое религиозное учение, заключает в себе две стороны: 1) учение о жизни людей – о том, как надо жить каждому отдельно и всем вместе – этическое, и 2) объяснение, почему людям надо жить именно так, а не иначе – метафизическое учение. Одно есть следствие и вместе причина другого. Человек должен жить так потому, что таково его назначение, или назначение человека таково, и потому он должен жить так. Эти две стороны всякого учения находятся во всех религиях мира. Такова религия браминов, Конфуция, Будды, Моисея, такова же и религия Христа. Она учит жизни, как жить, и дает объяснение, почему именно надо так жить. Но как было со всеми учениями: браминизмом, иудаизмом, буддизмом, так было и с учением Христа. Люди отступают от учения о жизни, и из числа людей являются такие, которые берутся оправдать это отступление. Люди эти, садящиеся, по выражению Христа, на седалище Моисея, разъясняют метафизическую сторону учения так, что этические требования учения становятся необязательными и заменяются внешним богопочитанием – обрядами. Это явление обще всем религиям, но никогда, мне кажется, это явление не выразилось с такою резкостью, как в христианстве. Оно выразилось особенно резко потому, что учение Христа есть самое высшее учение; а самое высшее оно потому, что метафизика и этика учения Христа до такой степени неразрывно связаны и определяются одна другою, что отделить одну от другой нельзя, не лишив всё учение его смысла, и еще потому, что Христово учение есть уже само по себе протестантизм, т. е. отрицание не только обрядных постановлений иудаизма, но и всякого внешнего богопочитания. И потому в христианстве разрыв этот должен был уже совершенно извратить учение и лишить его всякого смысла. Так оно и было. Разрыв между учением о жизни и объяснением жизни начался с проповеди Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии Матфея, и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо-каббалистическую теорию, и совершился этот разрыв окончательно во время Константина, когда найдено было возможным весь языческий строй жизни, не изменяя его, облечь в христианские одежды и потому признать христианским.
Со времени Константина, язычника из язычников, которого церковь за все его преступления и пороки причисляет к лику христианских святых, начинаются соборы, и центр тяжести христианства переносится на одну метафизическую сторону учения. И это метафизическое учение с сопутствующими ему обрядами, всё более и более отклоняясь от основного смысла своего, доходит до того, до чего оно дошло теперь: до учения, которое объясняет самые недоступные разуму человеческому тайны жизни небесной, дает сложнейшие обряды богослужебные, но не дает никакого религиозного учения о жизни земной.
Все религии, кроме церковно-христианской, требуют от исповедующих их, кроме обрядов, исполнения еще известных хороших поступков и воздержания от дурных. Иудаизм требует обрезания, соблюдения субботы, милостыни, юбилейного года и еще многого другого. Магометанство требует обрезания, ежедневной пятикратной молитвы, десятины бедным, поклонения гробу пророка и многого другого. То же и все другие религии. Хороши ли, дурны ли эти требования, но это требования поступков. Только псевдо-христианство не требует ничего. Нет ничего, что бы обязательно должен был делать христианин и от чего он должен бы был обязательно воздерживаться, если не считать постов и молитв, самой церковью признаваемых необязательными. Всё, что нужно для псевдо-христианина, – это таинства. Но таинство не делает сам верующий, а над ним его производят другие. Псевдо-христианин ничего не обязан делать и ни от чего не обязан воздерживаться для того, чтобы спастись, но над ним церковью совершается всё, что для него нужно: его и окрестят, и помажут, и причастят, и особоруют, и исповедуют даже глухою исповедью, и помолятся за него – и он спасен. Христианская церковь со времен Константина не потребовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было. Христианская церковь признала и освятила всё то, что было в языческом мире. Она признала и освятила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала, отречения от зла; но потом при крещении младенцев перестали требовать даже и этого.
Церковь, на словах признавая учение Христа, в жизни прямо отрицала его.
Вместо того чтобы руководить миром в его жизни, церковь в угоду миру перетолковала метафизическое учение Христа так, что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям жить так, как они жили. Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, она пошла за ним. Мир делал всё, что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за ним в своих объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всем противную учению Христа жизнь, а церковь придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним. И кончилось тем, что мир стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то и состоит учение Христа.
Но пришло время и свет истинного учения Христа, которое было в Евангелиях, несмотря на то, что церковь, чувствуя свою неправду, старалась скрывать его (запрещая переводы Библии), – пришло время, и свет этот через так называемых сектантов, даже через вольнодумцев мира проник в народ, и неверность учения церкви стала очевидна людям, и они стали изменять свою прежнюю, оправданную церковью жизнь на основании этого помимо церкви дошедшего до них учения Христа.
Так, сами люди помимо церкви уничтожили рабство, оправдываемое церковью, уничтожили сословия, уничтожили оправдываемые церковью религиозные казни, уничтожили освященную церковью власть императоров, пап и теперь начали стоящее на очереди уничтожение собственности и государств. И церковь ничего не отстаивала и теперь не может отстаивать, потому что уничтожение этих неправд жизни происходило и происходит на основании того самого христианского учения, которое проповедовала и проповедует церковь, хотя и стараясь извратить его.
Учение о жизни людей эмансипировалось от церкви и установилось независимо от нее.
У церкви остались объяснения, но объяснения чего? Метафизическое объяснение учения имеет значение, когда есть то учение жизни, которое оно объясняет. Но у церкви не осталось никакого учения о жизни. У ней было только объяснение той жизни, которую она когда-то учреждала и которой уже нет. Если остались еще у церкви объяснения той жизни, которая была когда-то прежде, как объяснения катехизиса о том, что по должности должно убивать, то никто уже не верит в это. И у церкви ничего не осталось, кроме храмов, икон, парчи и слов.
Церковь пронесла свет христианского учения о жизни через 18 веков и, желая скрыть его в своих одеждах, сама сожглась на этом свете. Мир с своим устройством, освященным церковью, отбросил церковь во имя тех самых основ христианства, которые нехотя пронесла церковь, и живет без нее. Факт этот совершился, – и скрывать его уже невозможно. Всё, что точно живет, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, всё живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живет своей жизнью независимо от церкви. И пусть не говорят, что это – так в гнилой Западной Европе; наша Россия своими миллионами рационалистов-христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она, в смысле отпадения от церкви, слава богу, гораздо гнилее Европы.
Всё живое независимо от церкви.
Государственная власть зиждется на предании, на науке, на народном избрании, на грубой силе, на чем хотите, но только не на церкви.
Войны, отношения государств устанавливаются на принципе народности, равновесии, на чем хотите, только не на церковных началах. Государственные учреждения прямо игнорируют церковь. Мысль о том, чтобы церковь могла быть основой суда, собственности, в наше время только смешна. Наука не только не содействует учению церкви, но нечаянно, невольно в своем развитии всегда враждебна церкви. Искусство, прежде служившее одной церкви, теперь всё ушло от нее. Мало того, что жизнь вся эманципировалась от церкви, жизнь эта не имеет другого отношения к церкви, кроме презрения, пока церковь не вмешивается в дела жизни, и ничего, кроме ненависти, как только церковь пытается напомнить ей свои прежние права. Если еще существует та форма, которую мы называем церковью, то только потому, что люди боятся разбить сосуд, в котором было когда-то драгоценное содержимое; только этим можно объяснить существование в наш век католичества, православия и разных протестантских церквей.
Все церкви – католическая, православная и протестантская – похожи на караульщиков, которые заботливо караулят пленника, тогда как пленник уже давно ушел и ходит среди караульщиков и даже воюет с ними. Всё то, чем истинно живет теперь мир: социализм, коммунизм, политико-экономические теории, утилитаризм, свобода и равенство людей и сословий и женщин, все нравственные понятия людей, святость труда, святость разума, науки, искусства, всё, что ворочает миром и представляется церкви враждебным, всё это – части того же учения, которое, сама того не зная, пронесла с скрываемым ею учением Христа та же церковь.
В наше время жизнь мира идет своим ходом, совершенно независимо от учения церкви. Учение это осталось так далеко назади, что люди мира не слышат уже голосов учителей церкви. Да и слушать нечего, потому что церковь только дает объяснения того устройства жизни, из которого уже вырос мир и которого или уже вовсе нет, или которое неудержимо разрушается.
Люди плыли в лодке и гребли, а кормщик правил. Люди вверились кормщику, и кормщик правил хорошо; но пришло время, что хорошего кормщика заменил другой, который не правил. Лодка пошла скоро и легко. Сначала люди не замечали того, что новый кормщик не правит, и только радовались тому, что лодка шла легко. Но потом, убедившись, что новый кормщик не нужен, они стали смеяться над ним – и прогнали его.
Всё бы это ничего, но горе в том, что люди под влиянием досады на бесполезного кормщика забыли, что без кормщика не знаешь, куда плывешь. Это самое случилось с нашим христианским обществом. Церковь не правит, и легко плыть, и мы далеко уплыли, и все успехи знаний, которыми так гордится наш XIX век, это – только то, что мы плывем без руля. Мы плывем, не зная куда. Мы живем и делаем эту свою жизнь и решительно не знаем, зачем. А нельзя плыть и грести, не зная, куда плывешь, и нельзя жить и делать свою жизнь, не зная, зачем?
Ведь если бы люди ничего сами не делали, а были поставлены внешней силой в то положение, в котором они находятся, они бы могли на вопрос: зачем вы в таком положении? совершенно разумно ответить: мы не знаем, но мы очутились в таком положении и находимся в нем. Но люди делают свое положение сами для себя, для других и в особенности для своих детей, и потому на вопросы: зачем вы собираете и сами собирались в миллионы войск, которыми вы убиваете и увечите друг друга? зачем вы тратили и тратите страшные силы людские, выражающиеся миллиардами, на постройку ненужных и вредных вам городов, зачем вы устраиваете свои игрушечные суды и посылаете людей, которых считаете преступными, из Франции в Каэну, из России в Сибирь, из Англии в Австралию, когда вы сами знаете, что это бессмысленно? зачем вы оставляете любимое вами земледелие и трудитесь на фабриках и заводах, которые вы сами не любите? зачем воспитываете детей так, чтобы они продолжали эту не одобряемую вами жизнь? зачем вы всё это делаете? На это вы не можете не ответить. Если бы всё это были приятные дела, которые бы вы любили, вы и тогда должны бы были сказать: зачем вы это. делаете? Но когда это ужасно трудные дела и вы их делаете с усилием и ропотом, то нельзя же вам не думать о том, зачем вы всё это делаете. Надо или перестать делать всё это, или ответить, зачем мы это делаем.
Без ответа на этот вопрос люди никогда не жили и не могут жить. И ответ всегда был у людей.
Иудей жил так, как он жил, т. е. воевал, казнил людей, строил храм, устраивал всю свою жизнь так, а не иначе, потому что всё это было предписано в законе, по убеждению его, сошедшем от самого бога. То же самое для индийца, китайца; то же самое было для римлянина, то же самое и для магометанина; то же самое было и для христианина за 100 лет тому назад; то же самое и теперь для невежественной толпы христиан. На вопросы эти невежественный христианин теперь отвечает так: солдатчина, войны, суды, казни, всё это существует по закону бога, передаваемому нам церковью. Здешний мир есть мир падший. Всё зло, которое существует, существует по воле бога, как наказание за грехи мира, и потому исправлять это зло мы не можем. Мы можем только спасать свою душу верою, таинствами, молитвами и покорностью воле божией, передаваемой нам церковью. Церковь же учит нас, что каждый христианин должен беспрекословно повиноваться царям, помазанникам божиим, и поставленным от них начальникам, ограждать насилием свою и чужую собственность, воевать, казнить и переносить казни по воле богом поставленных властей.
Хороши ли, дурны ли эти объяснения, но они объясняли для верующего христианина, как для иудея, буддиста и магометанина, все особенности жизни, и человек не отрекался от разума, живя по закону, который он признавал за божественный. Но теперь пришло время, что в эти объяснения верят только самые невежественные люди, и число таких людей с каждым днем и с каждым часом всё уменьшается. Остановить это движение нет никакой возможности. Все люди неудержимо идут за теми, которые идут впереди, и все придут туда, где стоят передовые. Передовые же стоят над пропастью. Передовые эти находятся в ужасном положении: они делают жизнь для себя, готовят жизнь для всех тех, которые идут за ними, и находятся в совершенном неведении того, зачем они делают то, что делают. Ни один цивилизованный передовой человек теперь не в состоянии дать ответ на прямой вопрос: зачем ты живешь тою жизнью, которой ты живешь? Зачем делаешь всё то, что ты делаешь? Я пробовал спрашивать об этом и спрашивал у сотен людей, и никогда не получал прямого ответа. Всегда, вместо прямого ответа на личный вопрос: зачем ты так живешь и так делаешь, всегда я получал ответ не на мой вопрос, а на вопрос, которого я не делал.
Верующий католик, протестант, православный на вопрос: зачем он живет так, как он живет, т. е. противно тому учению Христа бога, которое он исповедует? всегда вместо прямого ответа начинает говорить о плачевном состоянии безверия нынешнего поколения, о злых людях, производящих безверие, и о значении и будущности истинной церкви. Но почему он сам не делает того, что велит ему его вера, он не отвечает. Вместо ответа о себе он говорит об общем состоянии человечества и о церкви, словно его собственная жизнь не имеет для него никакого значения, а он занят только спасением всего человечества и тем, что он называет церковью.
Философ, какого бы он ни был толка – идеалист, спиритуалист, пессимист, позитивист, – на вопрос: зачем он живет так, как он живет, т. е. несогласно с своим философским учением? – всегда вместо ответа на этот вопрос заговорит о прогрессе человечества, о том историческом законе этого прогресса, который он нашел и по которому человечество стремится к благу. Но он никогда прямо не ответит на вопрос: почему он сам в своей жизни не делает того, что считает разумным? Философ, так же как и верующий, как будто озабочен не своею личной жизнью, а только наблюдением над общими законами всего человечества.
Средний человек, огромное большинство полуверующих, полуневерующих цивилизованных людей, тех, которые всегда без исключения жалуются на свою жизнь и на устройство нашей жизни и предвидят погибель всему, – этот средний человек на вопрос: зачем он сам живет этой осуждаемой им жизнью и ничего не делает, чтобы улучшить ее? – всегда вместо прямого ответа начнет говорить не о себе, а о чем-нибудь общем: о правосудии, о торговле, о государстве, о цивилизации. Если он городовой или прокурор, он скажет: «А как же пойдет государственное дело, если я, чтобы улучшить свою жизнь, перестану участвовать в нем? » «А как же торговля? » скажет он, если он торговый человек. «А как же цивилизация, если я для улучшения своей жизни не буду содействовать ей? » Он скажет всегда так, как будто задача его жизни состоит не в том, чтобы делать то благо, к которому он всегда стремится, а в том, чтобы служить государству, торговле, цивилизации. Средний человек отвечает точь-в-точь то же, что и верующий философ. Он на место личного вопроса подставляет общий, а подставляет его и верующий, и философ, и средний человек потому, что у него нет никакого ответа на личный вопрос жизни, потому что у него нет никакого настоящего учения о жизни. И ему совестно.
Ему совестно потому, что он чувствует себя в унизительном положении человека, не имеющего никакого учения о жизни; тогда как человек никогда не жил и не может жить без учения о жизни. Только в нашем христианском мире, на место учения о жизни и объяснения, почему жизнь должна быть такая, а не иная, т. е. на место религии подставилось одно объяснение того, почему жизнь должна быть такою, какою она была когда-то прежде, и религией стало называться то, что никому ни на что не нужно: а сама жизнь стала независима от всякого учения, т. е. осталась без всякого определения.
Мало того: как всегда бывает, наука признала именно это случайное, уродливое положение нашего общества за закон всего человечества. Ученые Тиле, Спенсер и друг. пресерьезно трактуют о религии, разумея под нею метафизические учения о начале всего и не подозревая, что говорят не о всей религии, а только о части ее.
Отсюда произошло то удивительное явление, что в наш век мы видим людей умных и ученых, пренаивно уверенных, что они свободны от всякой религии только потому, что не признают тех метафизических объяснений начала всего, которые когда-то и для кого-то объясняли жизнь. Им не приходит в голову, что им надо же жить как-нибудь и что они живут же как-нибудь и что именно то, на основании чего они живут так, а не иначе, – и есть их религия. Люди эти воображают, что у них есть очень возвышенные убеждения и нет никакой веры. Но каковы бы ни были их разговоры, у них есть вера, если только они совершают какие-нибудь разумные поступки, потому что разумные поступки всегда определяются верою. Поступки же этих людей определяются только верою, что надо делать всегда то, что велят. Религия людей, не признающих религии, есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, т. е., короче, религия повиновения существующей власти.
Можно жить по учению мира, т. е. животною жизнью, не признавая ничего выше и обязательнее предписаний существующей власти. Но кто живет так, не может же утверждать, что живет разумно. Прежде чем утверждать, что мы живем разумно, надо ответить на вопрос: какое учение о жизни мы считаем разумным? А у нас, несчастных, не только нет никакого такого учения, но потеряно даже и сознание в необходимости какого-нибудь разумного учения о жизни.
Спросите у людей нашего времени, верующих или неверующих: какому они учению следуют в жизни? Они должны будут сознаться, что они следуют одному учению – законам, которые пишут чиновники ІІ-го отделения или законодательные собрания и приводит в исполнение – полиция. Это – единственное учение, которое признают наши европейские люди. Они знают, что учение это не от неба, не от пророков и не от мудрых людей; они постоянно осуждают постановления этих чиновников или законодательных собраний, но все-таки признают это учение и повинуются исполнителям его – полиции, повинуются безропотно в самых страшных требованиях ее. Написали чиновники или собрания, что всякий молодой человек должен быть готов на поругание, смерть и на убийство других, и все отцы и матери, вырастившие сыновей, повинуются такому закону, написанному вчера продажным чиновником и завтра могущему быть измененным.
Понятие о законе, несомненно разумном и по внутреннему сознанию обязательном для всех, до такой степени утрачено в нашем обществе, что существование у еврейского народа закона, определявшего всю их жизнь, такого закона, который был обязателен не по принуждению, а по внутреннему сознанию каждого, считается исключительным свойством одного еврейского народа. Что евреи повиновались только тому, что они считали в глубине души несомненной истиной, полученной прямо от бога, т. е. тому, что было согласно с их совестью, считается особенностью евреев. Нормальным же состоянием, свойственным образованному человеку, считается то, чтобы повиноваться тому, что заведомо пишется презираемыми людьми и приводится в исполнение городовым с пистолетом, тому, что каждый или по крайней мере большинством этих людей считается неправильным, т. е. противным их совести.
Тщетно искал я в нашем цивилизованном мире каких-нибудь ясно выраженных нравственных основ для жизни. Их нет. Нет даже сознания, что они нужны. Есть даже странное убеждение, что они не нужны, что религия есть только известные слова о будущей жизни, о боге, известные обряды, очень полезные для спасения души по мнению одних и ни на что ненужные по мнению других, а что жизнь идет сама собой и что для нее не нужно никаких основ и правил; нужно только делать то, что велят. Из того, что составляет сущность веры, т. е. учения о жизни и объяснения смысла ее, первое считается неважным и не принадлежащим к вере, а второе, т. е. объяснение когда-то бывшей жизни или рассуждения и гадания об историческом ходе жизни, считаются самым важным и серьезным.
Во всем, что составляет жизнь человека – в том, как жить, идти ли убивать людей или не идти, идти ли судить людей или не идти, воспитывать ли своих детей так или иначе, – люди нашего мира отдаются безропотно другим людям, которые точно так же, как и они сами, не знают, зачем они живут и заставляют жить других так, а не иначе.
И такую-то жизнь люди считают разумной и не стыдятся ее!
Раздвоение между объяснением веры, которое названо верою, и самою верою, которая названа общественной, государственной жизнью, дошло теперь до последней степени, – и всё цивилизованное большинство людей осталось для жизни с одной верой в городового и урядника.
Положение это было бы ужасно, если бы оно вполне было таково. Но, к счастью, и в наше время есть люди, лучшие люди нашего времени, которые не довольствуются такой верою и имеют свою веру в то, как должны жить люди.
Люди эти считаются самыми зловредными, опасными и, главное, неверующими людьми; а между тем это единственные верующие люди нашего времени, и не только верующие вообще, но верующие именно в учение Христа, если не во всё учение, то хотя в малую часть его.
Люди эти часто вовсе не знают учения Христа, не понимают его, часто не принимают, так же как и враги их, главной основы Христовой веры – непротивления злу, часто даже ненавидят Христа; но вся их вера в то, какова должна быть жизнь, почерпнута из учения Христа. Как бы ни гнали этих людей, как бы ни клеветали на них, но это – единственные люди, не покоряющиеся безропотно всему, что велят, и потому это – единственные люди нашего мира, живущие не животной, а разумной жизнью, – единственные верующие люди.
–
Нить, связующая мир с церковью, дававшей смысл миру, становилась всё слабее и слабее по мере того, как содержание, соки жизни всё более и более переливались в мир. И теперь, когда соки все перелились, связующая нить стала только помехой.
Это – таинственный процесс рождения; и вот он совершается на наших глазах. В одно и то же время обрывается последняя связь с церковью и устанавливается самостоятельный процесс жизни.
Учение церкви с ее догматами, соборами, иерархией, несомненно, связано с учением Христа. Связь эта столь же очевидна, как и связь новорожденного плода с утробой матери. Но как пуповина и место делаются после рождения ненужными кусками мяса, которые, из уважения к тому, что хранилось в них, надо бережно зарыть в землю, так и церковь сделалась ненужным, отжившим органом, который только из уважения к тому, чем она была прежде, надо спрятать куда-нибудь подальше. Как только установилось дыхание и кровообращение, – связь, бывшая прежде источником питания, стала помехою. И безумны усилия удержать эту связь и заставить вышедшего на свет ребенка питаться через пуповину, а не через рот и легкие.
Но освобождение детеныша из утробы матери не есть еще жизнь. Жизнь детеныша зависит от установления новой связи питания с матерью. То же должно совершиться и с нашим христианским миром. Учение Христа выносило наш мир и родило его. Церковь – один из органов учения Христа – сделала свое дело и стала ненужна, стала помехой. Мир не может руководиться церковью, но и освобождение мира от церкви еще не есть жизнь. Жизнь его наступит тогда, когда он сознает свое бессилие и почувствует необходимость нового питания. И вот это должно наступить в нашем христианском мире: он должен закричать от сознания своей беспомощности; только сознание своей беспомощности, сознание невозможности прежнего питания и невозможности всякого другого питания, кроме молока матери, приведет его к нагрубшей от молока груди матери.
С нашим столь внешне-самоуверенным, смелым, решительным и в глубине сознания испуганным и растерянным европейским миром происходит то же, что бывает с только что родившимся детенышем: он мечется, суется, кричит, толкается, точно сердится, и не может понять, что ему делать. Он чувствует, что источник прежнего питания его иссяк, но не знает еще, где искать новый.
Только что родившийся ягненок и глазами и ушами водит, и хвостом трясет, и прыгает, и брыкается. Нам кажется по его решительности, что он всё знает, а он, бедный, ничего не знает. Вся эта решительность и энергия – плод соков матери, передача которых только что прекратилась и не может уже возобновиться. Он – в блаженном и вместе в отчаянном положении. Он полон свежести и силы; но он пропал, если не возьмется за соски матери.
То же самое происходит и с нашим европейским миром. Посмотрите, какая сложная, как будто разумная, какая энергическая жизнь кипит в европейском мире. Как будто все эти люди знают всё, что они делают и зачем они всё это делают. Посмотрите, как решительно, молодо, бодро люди нашего мира делают всё, что делают. Искусства, науки, промышленность, общественная, государственная деятельность – всё полно жизни. Но всё это живо только потому, что питалось недавно еще соками матери через пуповину. Была церковь, которая проводила разумное учение Христа в жизнь мира. Каждое явление мира питалось им и росло, и выросло. Но церковь сделала свое дело и отсохла. Все органы мира живут; источник их прежнего питания прекратился, нового же они еще не нашли; и они ищут его везде, только не у матери, от которой они только что освободились. Они, как ягненок, пользуются еще прежней пищей, но не пришли еще к тому, чтобы понять, что эта пища опять только у матери, но только иначе, чем прежде, может быть передана им.
Дело, которое предстоит теперь миру, состоит в том, чтобы понять, что процесс прежнего бессознательного питания пережит и что необходим новый, сознательный процесс питания.
Этот новый процесс состоит в том, чтобы сознательно принять те истины учения христианского, которые прежде бессознательно вливались в человечество через орган церкви и, которыми теперь живо еще человечество. Люди должны вновь поднять тот свет, которым они жили, но который скрыт был от них, и высоко поставить его перед собою и людьми и сознательно жить этим светом.
Учение Христа, как религия, определяющая жизнь и дающая объяснение жизни людей, стоит теперь так же, как оно 1800 лет тому назад стояло перед миром. Но прежде у мира были объяснения церкви, которые, заслоняя от него учение, все-таки казались ему достаточными для его старой жизни; а теперь настало время, что церковь отжила, и мир не имеет никаких объяснений своей новой жизни и не может не чувствовать своей беспомощности, а потому и не может теперь не принять учения Христа.
Христос прежде всего учит тому, чтобы люди верили в свет, пока свет есть в них. Христос учит тому, чтобы люди выше всего ставили этот свет разума, чтобы жили сообразно с ним, не делали бы того, что они сами считают неразумным. Считаете неразумным идти убивать турок или немцев – не ходите; считаете неразумным насилием отбирать труд бедных людей для того, чтобы надевать цилиндр или затягиваться в корсет, или сооружать затрудняющую вас гостиную – не делайте этого; считаете неразумным развращенных праздностью и вредным сообществом сажать в остроги, т. е. в самое вредное сообщество и самую полную праздность – не делайте этого; считаете неразумным жить в зараженном городском воздухе, когда можете жить на чистом; считаете неразумным учить детей прежде и больше всего грамматикам мертвых языков, – не делайте этого. Не делайте только того, что делает теперь весь наш европейский мир: жить и не считать разумным свою жизнь, делать и не считать разумными свои дела, не верить в свой разум, жить несогласно с ним.
Учение Христа есть свет. Свет светит, и тьма не обнимает его. Нельзя не принимать света, когда он светит. С ним нельзя спорить, нельзя с ним не соглашаться. С учением Христа нельзя не согласиться потому, что оно обнимает все заблуждения, в которых живут люди, и не сталкивается с ними и, как эфир, про который говорят физики, проникает всех их. Учение Христа одинаково неизбежно для каждого человека нашего мира, в каком бы он ни был состоянии. Учение Христа не может не быть принято людьми не потому, что нельзя отрицать то метафизическое объяснение жизни, которое оно дает (отрицать всё можно), но потому, что только оно одно дает те правила жизни, без которых не жило и не может жить человечество, не жил и не может жить ни один человек, если он хочет жить, как человек, т. е. разумною жизнью.
Сила учения Христа не в его объяснении смысла жизни, а в том, что вытекает из него – в учении о жизни. Метафизическое учение Христа не новое. Это всё одно и то же учение человечества, которое написано в сердцах людей и которое проповедовали все истинные мудрецы мира. Но сила учения Христа – в приложении этого метафизического учения к жизни.
Метафизическая основа древнего учения евреев и Христа – одна и та же: любовь к богу и ближнему. Но приложение этого учения к жизни по Моисею и по закону Христа – весьма различно. По закону Моисея, как его понимали евреи, для приложения его к жизни требовалось исполнение шестисот тринадцати заповедей, часто бессмысленных, жестоких и таких, которые все основывались на авторитете писания. По закону Христа учение о жизни, вытекающее из той же метафизической основы, выражено в пяти заповедях, разумных, благих и носящих в самих себе свой смысл и свое оправдание и обнимающих всю жизнь людей.
Учение Христа не может не быть принято теми верующими иудеями, буддистами, магометанами и другими, которые усомнились бы в истинности своего закона; еще менее – оно не может не быть принято людьми нашего, христианского мира, которые не имеют теперь никакого нравственного закона.
Учение Христа не спорит с людьми нашего мира о их миросозерцании, оно вперед соглашается с ним и, включая его в себя, дает им то, чего у них нет, что им необходимо и чего они ищут: оно дает им путь жизни и притом не новый, а давно знакомый и родной им всем.
Вы – верующий христианин, какого бы то ни было исповедания. Вы верите в сотворение мира, в троицу, в падение и искупление человека, в таинства, в молитвы, в церковь. Христово учение не только не спорит с вами, но вполне соглашается с вашим миросозерцанием, оно только дает вам то, чего у вас нет. Сохраняя вашу теперешнюю веру, вы чувствуете, что жизнь мира и жизнь ваша – исполнена зла и вы не знаете, как избежать его. Учение Христа (обязательное для вас, потому что оно есть учение вашего бога), дает вам простые, исполнимые правила жизни, которые избавят и вас и других людей от того зла, которое мучит вас. Верьте в воскресение, в рай, в ад, в папу, в церковь, в таинства, в искупление, молитесь, как это требуется по вашей вере, говейте, пойте псалмы, – всё это не мешает вам исполнять то, что открыто Христом для вашего блага: не сердитесь, не блудите, не клянитесь, не защищайтесь насилием, не воюйте.
Может случиться, что вы не исполните какого-нибудь из этих правил, вы увлечетесь и нарушите одно из них так же, как вы нарушаете теперь в минуты увлечения правила вашей веры, правила закона гражданского или законов приличия. Так же вы отступите, может быть, в минуты увлечения и от правил Христа. Но в спокойные минуты не делайте того, что вы теперь делаете, – устраивайте жизнь не такую, при которой трудно не сердиться, не блудить, не клясться, не защищаться, не воевать, а такую, при которой трудно бы было это делать. Вы не можете не признать этого, потому что бог велел вам это.
Вы – неверующий философ какого бы то ни было толка. Вы говорите, что всё происходит в мире по закону, который вы открыли. Христово учение не спорит с вами и признает вполне открытый вами закон. Но ведь помимо этого вашего закона, по которому через тысячелетия настанет то благо, которое вы желаете и приготовили для человечества, есть еще ваша личная жизнь, которую вы можете прожить или согласно с разумом, или противно ему; а для этой-то вашей личной жизни у вас теперь и нет никаких правил, кроме тех, которые пишутся не уважаемыми вами людьми и приводятся в исполнение полицейскими. Учение Христа дает вам такие правила, которые наверно сходятся с вашим законом, потому что ваш закон альтруизма или единой воли есть не что иное, как дурная перифраза того же учения Христа.
Вы – средний человек, полуверующий, полуневерующий, не имеющий времени углубляться в смысл человеческой жизни; и у вас нет никакого определенного миросозерцания, вы делаете то, что делают все. Христово учение не спорит с вами. Оно говорит: хорошо, вы не способны рассуждать, поверять истинность преподаваемого вам учения, вам легче поступать зауряд со всеми; но как бы скромны вы ни были, вы все-таки чувствуете в себе того внутреннего судью, который иногда одобряет ваши поступки, согласные со всеми, иногда не одобряет их. Как бы ни скромна была ваша доля, вам приходится все-таки задумываться и спрашивать себя: так ли мне поступить, как все, или по-своему? В таких именно случаях, т. е. когда вам представится надобность решить такой вопрос, правила Христа и предстанут перед вами во всей своей силе.
И правила эти наверное дадут вам ответ на ваш вопрос, потому что они обнимают всю вашу жизнь, и они ответят вам согласно с вашим разумом и вашей совестью. Если вы ближе к вере, чем к неверию, то, поступая таким образом, вы поступаете по воле бога; если вы ближе к свободомыслию, то вы, поступая так, поступаете по самым разумным правилам, какие существуют в мире, в чем вы сами убедитесь, потому что правила Христа сами в себе несут свой смысл и свое оправдание.
Христос сказал (Иоан. XII, 31): «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон».
Он сказал еще (Иоан. XVI, 33): «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: я победил мир».
И действительно, мир, т. е. зло мира побеждено.
Если существует еще мир зла, то он существует только как нечто мертвое, он живет только по инерции; – в нем нет уже основ жизни. Его нет для верующего в заповеди Христа. Он побежден в разумном сознании сына человеческого. Разбежавшийся поезд еще бежит по прямому направлению, но вся разумная работа на нем делается уже давно для обратного направления.
Ибо всё рожденное от бога побеждает мир. И победа, которою побежден мир, есть вера ваша (Первое послание Иоанна V, 4).
Вера, побеждающая мир, есть вера в учение Христа.
XII
Я верю в учение Христа, и вот в чем моя вера.
Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.
Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно.
Я верю, что и до тех пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной погибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел дверь спасения.
Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне отец жизни.
Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной погибели и дает мне здесь наибольшее благо. А потому я не могу не исполнять его.
Закон дан через Моисея, а благо и истина – через Иисуса Христа (Иоан. I, 17). Учение Христа есть благо и истина. Прежде, не зная истины, я не знал и блага. Принимая зло за благо, я впадал во зло и сомневался в законности моего стремления ко благу. Теперь же я понял и поверил, что благо, к которому я стремлюсь, есть воля отца, есть самая законная сущность моей жизни.
Христос сказал мне: живи для блага, только не верь тем ловушкам – соблазнам (σκάνδαλος), которые, заманивая тебя подобием блага, лишают этого блага и уловляют в зло. Благо твое есть твое единство со всеми людьми, зло есть нарушение единства сына человеческого. Не лишай себя сам того блага, которое дано тебе.
Христос показал мне, что единство сына человеческого, любовь людей между собой не есть, как мне прежде казалось, цель, к которой должны стремиться люди, но что это единство, эта любовь людей между собой есть их естественное блаженное состояние, то, в котором родятся дети, по словам его, и то, в котором живут всегда все люди до тех пор, пока состояние это не нарушается обманом, заблуждением, соблазнами.
Но Христос не только показал мне это, но он ясно, без возможности ошибки перечислил мне в своих заповедях все до одного соблазны, лишавшие меня этого естественного состояния единства, любви и блага и уловлявшие меня в зло. Заповеди Христа дают мне средство спасения от соблазнов, лишавших меня моего блага, и потому я не могу не верить в эти заповеди.
Мне дано благо жизни, а я сам губил его. Христос показал мне своими заповедями те соблазны, которыми я гублю свое благо, а потому я и не могу делать того, что губит мое благо. В этом и в этом одном вся моя вера.
Христос показал мне, что первый соблазн, губящий мое благо, есть моя вражда с людьми, мой гнев на них. Я не могу не верить в это, и потому не могу уже сознательно враждовать с другими людьми, не могу, как я делал это прежде, радоваться на свой гнев, гордиться им, разжигать, оправдывать его признанием себя важным и умным, а других людей ничтожными – потерянными и безумными; не могу уже теперь при первом напоминании о том, что я поддаюсь гневу, не признавать себя одного виноватым и не искать примирения с теми, кто враждует со мною.
Но этого мало. Если я знаю теперь, что гнев мой есть неестественное, вредное для меня болезненное состояние, то я знаю еще, какой соблазн приводил меня в него. Этот соблазн состоял в том, что я отделял себя от других людей, признавая только некоторых из них равными себе, а всех остальных – ничтожными, не людьми (рака) или глупыми и необразованными (безумными). Я вижу теперь, что это отделение себя от людей и признание других за «рака» и безумных было главной причиной моей вражды с людьми. Вспоминая свою прежнюю жизнь, я вижу теперь, что я никогда не позволял разгораться своему враждебному чувству на тех людей, которых считал выше себя, и никогда не оскорблял их; но зато малейший неприятный для меня поступок человека, которого я считал ниже себя, вызывал мой гнев на него и оскорбление, и чем выше я считал себя перед таким человеком, тем легче я оскорблял его; иногда даже одна воображаемая мною низкость положения человека уже вызывала с моей стороны оскорбление ему. Теперь же я понимаю, что выше других людей будет стоять только тот, кто унизит себя перед другими, кто будет всем слугою. Я понимаю теперь, почему то, что высоко перед людьми, есть мерзость перед богом, и почему горе богатым и прославляемым, и почему блаженны нищие и униженные. Только теперь я понимаю это и верю в это, и вера эта изменила всю мою оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни. Всё, что прежде казалось мне хорошим и высоким, – почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов, – всё это стало для меня дурным и низким. Всё же, что казалось дурным и низким, – мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов – всё это стало для меня хорошим и высоким. А потому, если и теперь, зная всё это, я могу в минуту забвения отдаться гневу и оскорбить брата, то в спокойном состоянии я не могу уже служить тому соблазну, который, возвышая меня над людьми, лишал меня моего истинного блага – единства и любви, как не может человек устраивать сам для себя ловушку, в которую он попал прежде и которая чуть не погубила его. Теперь я не могу содействовать ничему тому, что внешне возвышает меня над людьми, отделяет от них; не могу, как я прежде это делал, признавать ни за собой, ни за другими никаких званий, чинов и наименований, кроме звания и имени человека; не могу искать славы и похвалы, не могу искать таких знаний, которые отделяли бы меня от других, не могу не стараться избавиться от своего богатства, отделяющего меня от людей, не могу в жизни своей, в обстановке ее, в пище, в одежде, во внешних приемах не искать всего того, что не разъединяет меня, а соединяет с большинством людей.
Христос показал мне, что другой соблазн, губящий мое благо, есть блудная похоть, т. е. похоть к другой женщине, а не той, с которой я сошелся. Я не могу не верить в это и потому не могу, как я делал это прежде, признавать блудную похоть естественным и возвышенным свойством человека; не могу оправдывать ее перед собой моей любовью к красоте, влюбленностью или недостатками своей жены; не могу уже при первом напоминании о том, что поддаюсь блудной похоти, не признавать себя в болезненном, неестественном состоянии и не искать всяких средств, которые могли бы избавить меня от этого зла.
Но, зная теперь, что блудная похоть есть зло для меня, я знаю, еще и тот соблазн, который вводил меня прежде в него, и потому не могу уже служить ему. Я знаю теперь, что главная причина соблазна не в том, что люди не могут воздержаться от блуда, но в том, что большинство мужчин и женщин оставлено теми, с которыми они сошлись сначала. Я знаю теперь, что всякое оставление мужчины или женщины, которые сошлись в первый раз, и есть тот самый развод, который Христос запрещает людям потому, что оставленные первыми супругами мужья и жены вносят весь разврат в мир. Вспоминая то, что меня вводило в блуд, я вижу теперь, что, кроме того дикого воспитания, при котором и физически и умственно разжигалась во мне блудная похоть и оправдывалась всеми изощрениями ума, главный соблазн, уловлявший меня, заключался в оставлении мною той женщины, с которой я сошелся сначала, и в состоянии оставленных женщин, со всех сторон, окружавших меня. Я вижу теперь, что главная сила соблазна была не в моей похоти, а в неудовлетворенности похоти моей и тех оставленных женщин, которые со всех сторон окружали меня. Я понимаю теперь слова Христа: бог сотворил вначале человека – мужчиной и женщиной, так чтобы два были одно, и что поэтому человек не может и не должен разъединять то, что соединил бог. Я понимаю теперь, что единобрачие есть естественный закон человечества, который не может быть нарушаем. Я понимаю теперь вполне слова о том, что тот, кто разводится с женою, т. е. с женщиной, с которой он сошелся сначала, для другой, заставляет ее распутничать и вносит сам против себя новое зло в мир. Я верю в это, и вера эта изменяет всю мою прежнюю оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни. То, что прежде мне казалось самым хорошим, – утонченная, изящная жизнь, страстная и поэтическая любовь, восхваляемая всеми поэтами и художниками, – всё это представилось мне дурным и отвратительным. Наоборот, хорошим представились мне: трудовая, скудная, грубая жизнь, умеряющая похоть; высоким и важным представилось мне не столько человеческое учреждение брака, накладывающее внешнюю печать законности на известное соединение мужчины и женщины, сколько самое соединение всякого мужчины и женщины, которое, раз совершившись, не может быть нарушено без нарушения воли бога. Если я и теперь могу в минуту забвения подпасть блудной похоти, то не могу уже, зная тот соблазн, который вводил меня в это зло, служить ему, как я делал это прежде. Я не могу желать и искать физической праздности и жирной жизни, разжигавшей во мне чрезмерную похоть; не могу искать тех разжигающих любовную похоть потех – романов, стихов, музыки, театров, балов, которые прежде представлялись мне не только не вредными, но очень высокими увеселениями; не могу оставлять своей жены, зная, что оставление ее есть первая ловушка для меня, для нее и для других; не могу содействовать праздной и жирной жизни других людей; не могу участвовать и устраивать тех похотливых увеселений, – романов, театров, опер, балов и т. п., – которые служат ловушкой для меня и других людей; не могу поощрять безбрачное житье людей зрелых для брака; не могу содействовать разлуке мужей с женами; не могу делать различия между совокуплениями, называемыми браками и не называемыми так; не могу не считать священным и обязательным только то брачное соединение, в котором раз находится человек.
Христос открыл мне, что третий соблазн, губящий мое благо, есть соблазн клятвы. Я не могу не верить в это и потому не могу уже, как я делал это прежде, сам клясться кому-нибудь и в чем-нибудь и не могу уже, как я делал это прежде, оправдывать себя в своей клятве тем, что в этом нет ничего дурного для людей, что все делают это, что это нужно для государства, что мне или другим будет хуже, если я откажусь от этого требования. Я знаю теперь, что это есть зло для меня и для людей, и не могу делать его.
Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который уловлял меня в это зло, и не могу уже служить ему. Я знаю, что соблазн состоит в том, что именем бога освящается обман. Обман же состоит в том, что люди вперед обещаются повиноваться тому, что велит человек или люди, тогда как человек не может никогда повиноваться никому, кроме бога. Я знаю теперь, что самое страшное по своим последствиям зло мира – убийство на войнах, заключения, казни, истязания людей совершаются только благодаря этому соблазну, во имя которого снимается ответственность с людей, совершающих зло. Вспоминая теперь многое и многое зло, которое заставляло меня осуждать и не любить людей, – я вижу теперь, что всё оно было вызвано присягой – признанием необходимости подчинить себя воле других людей. Я понимаю теперь значение слов: всё, что сверх простого утверждения или отрицания – да и нет, всё, что сверх этого, всякое обещание, даваемое вперед, – есть зло. Понимая это, я верю, что клятва губит благо мое и других людей; и вера эта изменяет мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Всё то, что прежде казалось мне хорошим и высоким, обязательство верности правительству, подтверждаемое присягой, вымогание этой присяги от людей и все поступки, противные совести, совершаемые во имя этой присяги, – всё это представилось теперь мне и дурным и низким. И потому я не могу уже теперь отступить от заповеди Христа, запрещающей клятву; не мог уже клясться другому, ни заставлять клясться других, ни содействовать тому, чтобы люди клялись и заставляли клясться других людей и считали бы клятву или важною и нужною, или хотя бы не вредною, как это думают многие.
Христос открыл мне, что четвертый соблазн, лишающий меня моего блага, есть противление злу насилием других людей. Я не могу не верить, что это есть зло для меня и других людей, и поэтому не могу сознательно делать его и не могу, как я делал это прежде, оправдывать это зло тем, что оно нужно для защиты меня и других людей, для защиты собственности моей и других людей; не могу уже при первом напоминании о том, что я делаю насилие, не отказаться от него и не прекратить его.
Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который вводил меня в это зло. Я знаю теперь, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что жизнь моя может быть обеспечена защитой себя и своей собственности от других людей. Я знаю теперь, что большая доля зла людей происходит оттого, что они, вместо того чтобы отдавать свой труд другим, не только не отдают его, но сами лишают себя всякого труда и насилием отбирают труд других. Вспоминая теперь всё то зло, которое я делал себе и людям, и всё зло, которое делали другие, я вижу, что большая доля зла происходила оттого, что мы считали возможным защитой обеспечить и улучшить свою жизнь. Я понимаю теперь значение слов: человек рожден не для того, чтобы на него работали, но чтобы самому работать на других, и значение слов: трудящийся достоин пропитания. Я верю теперь в то, что благо мое и людей возможно только тогда, когда каждый будет трудиться не для себя, а для другого, и не только не будет отстаивать от другого свой труд, но будет отдавать его каждому, кому он нужен. И вера эта изменила мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Всё, что прежде казалось мне хорошим и высоким – богатство, собственность всякого рода, честь, сознание собственного достоинства, права, – всё это стало теперь дурно и низко; всё же, что казалось мне дурным и низким, – работа на других, бедность, унижение, отречение от всякой собственности и всяких прав – стало хорошо и высоко в моих глазах. Если теперь я и могу в минуту забвения увлечься насилием для защиты себя и других или своей или чужой собственности, то я не могу уже спокойно и сознательно служить тому соблазну, который губит меня и людей; я не могу приобретать собственности; не могу употреблять какое бы то ни было насилие против какого бы то ни было человека, за исключением ребенка, и то только для избавления его от предстоящего ему тотчас же зла; не могу участвовать ни в какой деятельности власти, имеющей целью ограждение людей и их собственности насилием; не могу быть ни судьей, ни участником в суде, ни начальником, ни участником в каком-нибудь начальстве; не могу содействовать и тому, чтобы другие участвовали в судах и начальствах.
Христос открыл мне, что пятый соблазн, лишающий меня моего блага, – есть разделение, которое мы делаем между своими и чужими народами. Я не могу не верить в это, и потому если в минуту забвения и может подняться во мне враждебное чувство к человеку другого народа, то я не могу уже в спокойную минуту не признавать это чувство ложным, не могу оправдывать себя, как я прежде делал это, признанием преимущества своего народа над другими, заблуждениями, жестокостью или варварством другого народа; не могу, при первом напоминании о том, не стараться быть более дружелюбным к человеку чужого народа, чем к соотечественнику.
Но мало того, что я знаю теперь, что разделение мое с другими народами есть зло, губящее мое благо, – я знаю и тот соблазн, который вводил меня в это зло, и не могу уже, как я делал это прежде, сознательно и спокойно служить ему. Я знаю, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что благо мое связано только с благом людей моего народа, а не с благом всех людей мира. Я знаю теперь, что единство мое с другими людьми не может быть нарушено чертою границы и распоряжениями правительств о принадлежности моей к такому или другому народу. Я знаю теперь, что все люди везде равны и братья. Вспоминая теперь всё то зло, которое я делал, испытал и видел вследствие вражды народов, мне ясно, что причиной всего был грубый обман, называемый патриотизмом и любовью к отечеству. Вспоминая свое воспитание, я вижу теперь, что чувства вражды к другим народам, чувства отделения себя от них никогда не было во мне, что все эти злые чувства были искусственно привиты мне безумным воспитанием. Я понимаю теперь значение слов: творите добро врагам, делайте им то же, что и своим. Вы все дети одного отца, и будьте так же, как и отец, т. е. не делайте разделения между своим народом и другими, со всеми будьте одинаковы. Я понимаю теперь, что благо возможно для меня только при признании своего единства со всеми людьми мира без всякого исключения. Я верю в это. И вера эта изменила всю мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. То, что мне представлялось хорошим и высоким, – любовь к отечеству, к своему народу, к своему государству, служение им в ущерб блага других людей, военные подвиги людей – всё это мне показалось отвратительным и жалким. То, что мне представлялось дурным и позорным, – отречение от отечества, космополитизм, – показалось мне, напротив, хорошим и высоким. Если я и могу теперь в минуту забвения содействовать больше русскому, чем чужому, желать успеха русскому государству или народу, то не могу я уже в спокойную минуту служить тому соблазну, который губит меня и людей. Не могу признавать никаких государств или народов, не могу участвовать ни в каких спорах между народами и государствами, ни разговорами, ни писаниями, ни тем более службой какому-нибудь государству. Я не могу участвовать во всех тех делах, которые основаны на различии государств – ни в таможнях или сборах пошлин, ни в приготовлении снарядов или оружия, ни в какой-либо деятельности для вооружения, ни в военной службе, ни тем более в самой войне с другими народами, и не могу содействовать людям, чтобы они делали это.
Я понял, в чем мое благо, верю в это и потому не могу делать того, что несомненно лишает меня моего блага.
Но мало того, что я верю в то, что я должен жить так, я верю, что если буду жить так, и только так, то жизнь моя получит для меня единственно-возможный разумный, радостный и не уничтожаемый смертью смысл.
Я верю, что разумная жизнь моя – свет мой на то только и дан мне, чтобы светить перед человеками не словами, но добрыми делами, чтобы люди прославляли отца (Матф. V, 16). Я верю, что моя жизнь и знание истины есть талант, данный мне для работы на него, что этот талант есть огонь, который только тогда огонь, когда он жжет. Я верю, что я – Ниневия по отношению к другим Ионам, от которых я узнал и узнаю истину, но что и я Иона по отношению к другим ниневитянам, которым я должен передать истину. Я верю, что единственный смысл моей жизни – в том, чтобы жить в том свете, который есть во мне, и ставить его не под спуд, но высоко перед людьми, так, чтобы люди видели его. И вера эта придает мне новую силу при исполнении учения Христа и уничтожает все те препятствия, которые прежде стояли передо мной.
То самое, что прежде подрывало для меня истинность и исполнимость учения Христа, то, что отталкивало меня от него – возможность лишений, страданий и смерти от людей, не знающих учение Христа, – это самое теперь подтвердило для меня истинность учения и привлекло к нему.
Христос сказал: когда возвысите сына человеческого, все привлечетесь ко мне, и я почувствовал, что неудержимо привлечен к нему. Он сказал еще: истина освободит вас, и я почувствовал себя совершенно свободным.
Придет войной неприятель или просто злые люди нападут на меня, думал я прежде, и если я не буду защищаться, они оберут нас, осрамят, измучают и убьют меня и моих близких, и мне казалось это страшным. Но теперь всё, смущавшее меня прежде, показалось теперь радостным и подтвердило истину. Я знаю теперь, что и неприятели и так называемые злодеи и разбойники, все – люди, точно такие же сыны человеческие, как и я, так же любят добро и ненавидят зло, так же живут накануне смерти и так же, как и я, ищут спасения и найдут его только в учении Христа. Всякое зло, которое они сделают мне, будет злом для них же, и потому они должны делать мне добро. Если же истина неизвестна им и они делают зло, считая его благом, то я знаю истину только для того, чтобы показать ее тем, которые не знают ее. Показать же ее им я не могу иначе, как отречением от участия в зле, исповеданием истины на деле.
Придут неприятели: немцы, турки, дикари, и, если вы не будете воевать, они перебьют вас. Это неправда. Если бы было общество христиан, не делающих никому зла и отдающих весь излишек своего труда другим людям, никакие неприятели – ни немцы, ни турки, ни дикие – не стали бы убивать или мучить таких людей. Они брали бы себе всё то, что и так отдавали бы эти люди, для которых нет различия между русским, немцем, турком и дикарем. Если же христиане находятся среди общества нехристианского, защищающего себя войною, и христианин призывается к участию в войне, то тут-то и является для христианина возможность помочь людям, не знающим истины. Христианин для того только и знает истину, чтобы свидетельствовать о ней перед теми, которые не знают ее. Свидетельствовать же он может не иначе, как делом. Дело же его есть отречение от войны и делание добра людям без различия так называемых врагов и своих.
Но не неприятели, а свои же злые люди нападут на семью христианина и, если он не будет защищаться, оберут, измучают и убьют его и его близких. Это опять несправедливо. Если все члены семьи – христиане и потому полагают свою жизнь в служении другим, то не найдется такого безумного человека, который лишил бы пропитания или убил бы тех людей, которые служат ему. Миклуха-Маклай поселился среди самых зверских, как говорили, диких и его не только не убили, но полюбили его, покорились ему только потому, что он не боялся их, ничего не требовал от них и делал им добро. Если же христианин живет среди нехристианской семьи и близких, защищающих себя и свою собственность насилием, и христианин призывается к участию в этой защите, то этот призыв и есть для христианина призыв к исполнению своего дела жизни. Христианин только для того и знает истину, чтобы показать ее другим и – более всего – близким ему, связанным с ним семейными и дружескими связями людям, а показать истину христианин не может иначе, как не впадая в то заблуждение, в которое впали другие, не становясь на сторону ни нападающих, ни защищающих, а отдавая всё другим, жизнью своей показывая, что ему ничего не нужно, кроме исполнения воли бога, и ничего не страшно, кроме отступления от нее.
Но правительство не может допустить того, чтобы член общества не признавал основ государственного порядка и уклонялся от исполнения обязанностей всех граждан. Правительство потребует от христианина присяги, участия в суде, военной службе и за отказ подвергнет его наказанию – ссылке, заключению, даже казни. И опять-таки это требование правительства будет для христианина только призывом его к исполнению своего дела жизни. Для христианина требование правительства есть требование людей, не знающих истины. И потому христианин, знающий ее, не может не свидетельствовать о ней перед людьми, не знающими ее. Насилие, заключение, казни, которым подвергнется вследствие этого христианин, дают ему возможность свидетельствовать не словами, а делом. Всякое насилие: война, грабеж, казни происходят не вследствие неразумных сил природы, но производятся людьми заблудшими и лишенными знания истины. И потому чем большее зло делают эти люди христианину, тем более они далеки от истины, тем несчастнее они и тем нужнее им знание истины. Передать же знание истины людям христианин не может иначе, как воздержанием от того заблуждения, в котором находятся люди, делающие ему зло, воздаянием добра за зло. И в этом одном всё дело жизни христианина и весь смысл ее, не уничтожаемый смертью.
Люди, связанные друг с другом обманом, составляют из себя как бы сплоченную массу. Сплоченность этой массы и есть зло мира. Вся разумная деятельность человечества направлена на разрушение этого сцепления обмана.
Все революции суть попытки насильственного разбивания этой массы. Людям представляется, что если они разобьют эту массу, то она перестанет быть массой, и они бьют но ней; но, стараясь разбить ее, они только куют ее.
Но сколько бы они ни ковали ее, сцепление частиц не уничтожится, пока внутренняя сила не сообщится частицам массы и не заставит их отделяться от нее.
Сила сцепления людей есть ложь, обман. Сила, освобождающая каждую частицу людского сцепления, есть истина. Истина же передается людям только делами истины.
Только дела истины, внося свет в сознание каждого человека, разрушают сцепление обмана, отрывают одного за другим людей от массы, связанной между собою сцеплением обмана.
И вот уже 1800 лет делается это дело.
С тех пор, как заповеди Христа поставлены перед человечеством, началась эта работа, и не кончится она до тех пор, пока не будет исполнено всё, как и сказал это Христос (Матф. V, 18).
Церковь, составлявшаяся из тех, которые думали соединить людей воедино тем, что они с заклинаниями утверждали про себя, что они в истине, давно уже умерла. Но церковь, составленная из людей не обещаниями, не помазанием, а делами истины и блага, соединенными воедино – эта церковь всегда жила и будет жить. Церковь эта как прежде, так и теперь составляется не из людей, взывающих: господи, господи! и творящих беззаконие (Матф. VII, 21, 22), но из людей, слушающих слова сии и исполняющих их.
Люди этой церкви знают, что жизнь их есть благо, если они не нарушают единства сына человеческого, и что благо это нарушается только неисполнением заповедей Христа. И потому люди этой церкви не могут не исполнять этих заповедей и не учить других исполнению их.
Мало ли, много ли теперь таких людей, но это – та церковь, которую ничто не может одолеть, и та, к которой присоединятся все люди.
Не бойся, малое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство (Лук. XII, 32).
Москва.
22 января 1884 г.
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ.
МОЯ ЖИЗНЬ
5 мая 1878. – Я родился в Ясной Поляне, Тульской губернии Крапивенского уезда, 1828 года 28 августа. – Это первое и последнее замечание, которое я делаю о своей жизни не из своих воспоминаний <и впечатлений>. Через 3 месяца мне будет 50 лет <и едва ли изменюсь еще много до своей смерти>, и я думаю, что стою на зените своей жизни.40 Я буду описывать не мои соображения о том, что привело меня к тому и внешнему и душевному состоянию, в котором я нахожусь, а последовательно те впечатления, которые я пережил в эти 50 лет. Я не буду делать догадок и предположений о том, как то и то действовало на меня и какое имело влияние, я буду описывать то, что я чувствовал, невольно избирая то, что оставило более сильные отпечатки в моей памяти.
Теперешнее свое положение, с точки которого я буду оглядывать и описывать свою жизнь, я избрал потому, что я нахожусь только теперь, не более, как год, в таком душевном состоянии спокойствия, ясности и твердости, в каком я до сего никогда в жизни не был.
С 1828 по 1833
Вот первые мои воспоминания <такие, которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после. О некоторых даже не знаю, было ли то во сне, или наяву. Вот они.> Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мною стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и всё это в полутьме, но я помню, что двое, и41 крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (т. е. то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это,42 и я заливаюсь криком противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки, или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому всё нужно, я слаб, а они сильны.
Другое43 воспоминание радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельцо. Вероятно, это было отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельцо с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками. Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех, четырех лет, в то время, когда я кормился грудью, меня отняли от груди, я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного воспоминания, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно; как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда44 я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами. Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал всё то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро что во всю остальную жизнь я не приобрел и 1/100 того. От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего страшное45 расстояние. От зародыша до новорожденного – пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них.
Следующие воспоминания мои относятся уже к четырем, пяти годам, но и тех очень немного, и ни одно из них не относится к жизни вне стен дома. Природа до пяти лет – не существует для меня. Всё, что я помню, всё происходит в постельке, в горнице, ни травы, ни листьев, ни неба, ни солнца не существует для меня. Не может быть, чтобы не давали мне играть цветами, листьями, чтобы я не видал травы, чтобы не защищали меня от солнца, но лет до 5—6 нет ни одного воспоминания из того, что мы называем природой. Вероятно, надо уйти от нее, чтобы46 видеть ее, а я был природа.
Следующее за корытцем воспоминание есть воспоминание Еремевны. «Еремевна» было слово, которым нас, детей, пугали. И, вероятно, уже давно пугали, но47 мое воспоминание о ней такое: Я в постельке, и мне весело и хорошо, как и всегда, и я бы не помнил этого, но вдруг няня или кто-то из того, что составляло мою жизнь, что-то говорит новым для меня голосом и уходит, и мне делается, кроме того, что весело, еще и страшно. И я вспоминаю, что я не один, а кто-то еще такой же, как я (это, вероятно, моя годом младшая сестра Машинька, с которой наши кроватки стоят в одной комнатке), и вспоминаю, что есть положок у моей кроватки, и мы вместе с сестрою радуемся и пугаемся тому необыкновенному, что случилось с нами, и я прячусь в подушки, и прячусь и выглядываю в дверь, из которой жду чего-то нового и веселого. И мы смеемся, и прячемся, и ждем. И вот является кто-то в платке и в чепце, всё так, как я никогда не видал, но я узнаю, что это – та самая, кто всегда со мной (няня или тетка, я не знаю), и эта кто-то говорит грубым голосом, который я узнаю, что-то страшное про дурных детей и про Еремевну. Я визжу от страха и радости и точно ужасаюсь и радуюсь, что мне страшно, и хочу, чтобы тот, кто меня пугает, не знал, что я узнал ее. Мы затихаем, но потом опять нарочно начинаем перешептываться, чтобы вызвать опять Еремевну.
Подобное воспоминанию Еремевны есть у меня другое, вероятно, позднейшее по времени, потому что более ясное, но навсегда оставшееся для меня непонятным. В воспоминании этом играет главную роль немец Федор Иванович, наш учитель, но я знаю наверно, что еще я не нахожусь под его надзором, следовательно это происходит до пяти лет. И это первое мое впечатление Федор Ивановича. И происходит это так рано, что я еще никого – ни братьев, ни отца, никого не помню. Если и есть у меня представление о каком-нибудь отдельном лице, то только о сестре, и то только потому, что она одинаково со мной боялась Еремевны. С этим воспоминанием соединяется у меня тоже первое представление о том, что в доме у нас есть верхний этаж. Как я забрался туда, сам ли зашел, кто меня занес, я ничего не помню, но помню то, что нас много, мы все хороводом держимся рука за руку, в числе держащихся есть чужая женщина (почему-то мне помнится, что это прачка), и мы все начинаем вертеться и прыгать, и Федор Иванович прыгает, слишком высоко поднимая ноги и слишком шумно и громко, и я в одно и то же мгновение чувствую, что это нехорошо, развратно, и замечаю его и, кажется, начинаю плакать, и всё кончается.
Вот всё, что я помню до пятилетнего возраста. Ни своих нянь, теток, братьев, сестру, ни отца, ни комнат, ни игрушек я ничего не помню. Воспоминания более определенные начинаются у меня с того времени, как меня перевели вниз к Федору Ивановичу и к старшим мальчикам.
При переводе моем вниз к Федору Ивановичу и мальчикам я испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (привычное от вечности), грустно было, поэтически грустно, расставаться не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне, я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Федор Иванович, старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе, старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней, но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастие, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги48 я49 испытывал50 тихое горе о безвозвратности утраченного. Я всё не верил, что это будет, хотя мне и говорили про то, что меня переведут к мальчикам, но, помню, халат с подтяжкой, пришитой к спине, который на меня надели, как будто отрезал меня навсегда от верха, и я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которую я не помнил прежде. Это была тетинька Татьяна Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, добрую, нежную, жалостливую. Она надевала на меня халат, обнимая подпоясывала и целовала, и я видел, что она чувствовала то самое, что и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. – В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело. Не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело.
1833—1834
Воспоминаний уже много. Вызывая одни другие, они встают в моем воображении, <но мне трудно решить, какое было после, какое прежде, и какие надо соединить вместе и какие разрознить. Перебрав все эти воспоминания, я начинаю понимать, из чего состояла вся жизнь этого года>.
Жизнь моя того года очевиднее, чем настоящая жизнь, слагается из двух сторон: одна – привычная, составляющая как бы продолжение прежней, не имевшей начала, жизни, и другая – новая жизнь, то радующая своей новизной и притягивающая, то ужасающая, то отталкивающая, но все-таки притягивающая.
Я просыпаюсь, и постели братьев, самые братья, вставшие или встающие, Федор Иванович в халате, Николай (наш дядька), комната, солнечный свет, истопник, рукомойники, вода, то, что я говорю и слышу, – всё только перемена сновидения. Я хотел сказать, что сновидения ночи более разнообразны, чем сновидения дня, но это несправедливо. Всё так ново для меня и такое изобилие предметов, подлежащих моему наблюдению, что то, что я вижу, та сторона предмета, которую я вижу днем, так же необычайно нова для меня и странна, как и те сновидения, которые представляются мне ночью. И основой для тех и других видений служит одно и то же. Как ничего нового – не того, что я воспринял днем, я не могу видеть во сне, так и ничего нового я не могу видеть днем. Только иначе перемешивая впечатления, я узнаю новое. Одна разница. Сновидения сладки, спокойны, даже страх, ужас, горе сновидений имеют сладость и успокоение: я весь во власти чуждой силы, но я живу и предаюсь ей – нет борьбы, искания и раскаяния или угрозы раскаяния, а в своей маленькой жизни я уже чувствую ее. Нет тоже в сновидении ничего нового по сущности своей, ничего такого, что против воли моей влекло бы меня туда, куда я не хочу, таких образов, которые бы были злы и вместе с тем законны. Во сне нет51 ужасного, нелюбовного. Если есть52 ужасное, то оно просто ужасно, но оно не зло. —
53 Впечатления дневной жизни того времени делились для меня на две стороны: привычное и новое. Привычное была вся семья.
ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
Вера есть смысл, даваемый жизни, есть то, что дает силу, направление жизни. Каждый живущий человек находит этот смысл и живет на основании его. Если не нашел, – то он умирает. В искании этом человек пользуется всем тем, что выработало все человечество. Всё это, выработанное человечеством, называется откровением. Откровение есть то, что помогает человеку понять смысл жизни. Вот отношение человека к вере.
Что ж за удивительная вещь? Являются люди, которые из кожи лезут вон для того, чтобы другие люди пользовались непременно этой, а не той формой откровения. Не могут быть покойны, пока другие не примут их, именно их форму откровения, проклинают, казнят, убивают всех, кого могут, из несогласных. Другие делают то же самое – проклинают, казнят, убивают всех, кого могут, из несогласных. Третьи – то же самое. И так все друг друга проклинают, казнят, убивают, требуя, чтобы все верили, как они. И выходит, что их сотни вер, и все проклинают, казнят, убивают друг друга.
Я сначала был поражен тем, как такая очевидная бессмыслица, такое очевидное противоречие не уничтожит самую веру? Как могли оставаться люди верующие в этом обмане?
И действительно, с общей точки зрения это непостижимо и неотразимо доказывает, что всякая вера есть обман, и что всё это суеверия, что и доказывает царствующая теперь философия. Глядя с общей точки зрения, и я неотразимо пришел к признанию того, что все веры – обманы людские, но я не мог не остановиться на соображении о том, что самая глупость обмана, очевидность его и вместе с тем то, что все-таки всё человечество поддается ему, что это самое показывает, что в основе этого обмана лежит что-то необманчивое. Иначе всё так глупо, что нельзя обманываться. Даже эта общая всему человечеству, истинно живущему, поддача себя под обман заставила меня признать важность того явления, которое служит причиной обмана. И вследствие этого убеждения я стал разбирать учение христианское, служащее основой обману всего христианского человечества.
Так выходит с общей точки зрения; но с личной точки зрения, с той, вследствие которой каждый человек и я, для того чтобы жить, должен иметь веру в смысл жизни и имеет эту веру, – это явление насилия в деле веры еще более поразительно своей бессмыслицей.
В самом деле, как, зачем, кому может быть нужно, чтобы другой не только верил, но и исповедывал бы свою веру так же, как я? Человек живет, стало быть знает смысл жизни. Он установил свое отношение к богу, он знает истину истин, и я знаю истину истин. Выражение их может быть различно (сущность должна быть одна и та же – мы оба люди). Как, зачем, что может меня заставить требовать от кого бы то ни было, чтобы он выражал свою истину непременно так, как я?
Заставить человека изменить свою веру я не могу ни насилием, ни хитростью, ни обманом (ложные чудеса).
Вера есть его жизнь. Как же я могу отнять у него его веру и дать ему другую? Это всё равно, что вынуть из него сердце и вставить ему другое. Я могу сделать это только тогда, когда вера и моя, и его – слова, а не то, чем он живет, – нарост, а не сердце. Этого нельзя сделать и потому, что нельзя обмануть или заставить верить человека в то, во что он не верит и нельзя потому, что тот, кто верит, – т. е. установил свои отношения с богом и потому знает, что вера есть отношение человека к богу, – не может желать установить отношения другого человека с богом посредством насилия или обмана. Это невозможно, но это делается, делалось везде и всегда; т. е. делаться это не могло, потому что это невозможно, но делалось и делается что-то такое, что очень похоже на это; делалось и делается то, что люди навязывают другим подобие веры, и другие принимают это подобие веры, – подобие веры, т. е. обман веры.
Вера не может себя навязывать и не может быть принимаема ради чего-нибудь: насилия, обмана или выгоды; а потому это не вера, а обман веры. И этот-то обман веры есть старое условие жизни человечества.
В чем же состоит этот обман и на чем он основан? Чем вызван для обманывающих и чем держится для обманутых?
Не буду говорить о браминизме, буддизме, конфуцианстве, магометанстве, в которых были те же явления, не потому, чтобы невозможно было и здесь найти то же. Для каждого, читавшего об этих религиях, будет ясно, что то же совершалось и в тех верах, что и в христианстве; но буду говорить исключительно о христианстве, как о вере нам известной, нам нужной и дорогой. В христианстве весь обман построен на фантастическом понятии церкви, ни на чем не основанном и поражающем с начала изучения христианства своей неожиданной и бесполезной бессмыслицей.
Из всех безбожных понятий и слов нет понятия и слова более безбожного, чем понятие церкви. Нет понятия, породившего больше зла, нет понятия более враждебного учению Христа, как понятие церкви.
В сущности слово экклезия значит собрание и больше ничего и так употреблено в Евангелиях. В языках всех народов слово экклезия означает дом молитвы. Дальше этих значений, несмотря на 1500-летнее существование обмана церкви, слово это не проникло ни в какой язык. По определениям, которые дают этому слову те жрецы, которым нужен обман церкви, оно выходит не что иное, как предисловие, говорящее: всё, что я теперь буду говорить, всё истина, и если не поверишь, то я тебя сожгу, или прокляну и всячески обижу. Понятие это есть софизм, нужный для некоторых диалектических целей, и остается достоянием тех, которым оно нужно. В народе, не только в народе, а в обществе и в среде образованных людей, несмотря на то, что этому учат в катехизисах, понятия этого нет совсем.
Определение это (как ни совестно серьезно разбирать его, надо это сделать, потому что столько людей так серьезно выдают его за что-то важное) – определение это совершенно ложно. Когда говорят, что церковь есть собрание истинно верующих, то собственно ничего не говорят (не говоря уж о фантастических мертвых), потому что если я скажу, что капелла есть собрание всех истинных музыкантов, то я ничего не сказал, если не сказал, что я называю истинными музыкантами. По богословию же оказывается, что истинно верующие – те, которые следуют учению церкви, т. е. находятся в церкви. Не говоря уже о том, что истинных таких вер сотни, определение ничего не говорит и, казалось бы, даже бесполезно, как определение капеллы собранием истинных музыкантов; но тотчас же за этим виднеется конец ушка. Церковь истинна и едина, и в ней пастыри и паства; и пастыри, богом установленные, учат этому истинному и единому учению, т. е.: «Ей-богу, всё, что мы будем говорить, всё истинная правда». Больше ничего нет. Обман весь в этом, в слове и понятии церкви. И смысл этого обмана только тот, что есть люди, которым без памяти хочется учить других своей вере.
Для чего же им так хочется учить своей вере других людей? Если бы у них была истинная вера, они бы знали, что вера есть смысл жизни, отношение с богом, устанавливаемое каждым человеком, и что потому нельзя учить вере, а только обману веры. Но они хотят учить. Для чего? Самый простой ответ был бы тот, что попу нужны лепешки и яйца, архиерею – дворец, кулебяка и шелковая ряса. Но этот ответ недостаточен.
Таков, без сомнения, внутренний, психологический повод к обману, повод, поддерживающий обман. Но как, разбирая, каким образом мог один человек (палач) решиться убивать другого человека, против которого он не имеет никакой злобы, было бы недостаточно сказать, что палач убивает потому, что ему дают водки, калачи и красную рубаху, точно так же недостаточно сказать, что киевский митрополит с монахами набивает соломой мешки, называя их мощами угодников, только для того, чтобы иметь 30 тысяч дохода. И то, и другое действие слишком ужасно и противно человеческой природе для того, чтобы такое простое, грубое объяснение могло быть достаточно. Как палач, так и митрополит, объясняя свой поступок, приведут целый ряд доказательств, которых главная основа будет историческое предание. «Человека надо казнить. Казнили с тех пор, как свет стоит. Не я, так другой. Я сделаю это, надеюсь, с божией помощью, лучше, чем другой». Так же скажет митрополит: «Внешнее богопочитание нужно. С тех пор, как свет стоит, почитали мощи угодников. Пещерные мощи почитают, ходят сюда. Не я, так другой будет хозяйничать над ними. Я, с божией помощью, надеюсь богоугоднее употребить эти деньги, вырученные кощунственным обманом».
Чтобы понять обман веры, надо пойти к его началу и источнику. Мы говорим о том, что знаем о христианстве. Обратясь к началу христианского учения, в Евангелиях мы находим учение, прямо исключающее внешнее богопочитание, осуждающее его и в особенности ясно, положительно отрицающее всякое учительство. Но от времени Христа, приближаясь к нашему времени, мы находим отклонение учения от этих основ, положенных Христом. Отклонение это начинается со времен апостолов, особенно охотника до учительства Павла; и чем дальше распространяется христианство, тем больше и больше оно отклоняется и усваивает себе приемы того самого внешнего богопочитания и учительства, отрицание которого так положительно выражено Христом. Но в первые времена христианства понятие церкви употребляется только как представление о всех тех разделяющих то верование, которое я считаю истинным, – понятие совершенно верное, если оно не включает в себя выражение верований словами, но всей жизнью, так как верование не может быть выражено словами.
Употреблялось еще понятие истинной церкви, как довод против разногласящих, но до царя Константина и Никейского собора церковь есть только понятие, со времени же царя Константина и Никейского собора церковь становится делом, и делом обмана. Начинается тот обман митрополитов с мощами, попов с евхаристиею, Иверских, синодов и т. п., которые так поражают и ужасают нас и не находят достаточного объяснения, по своему безобразию, в одной выгоде этих лиц. Обман этот старый, и он начался не из одних выгод частных лиц. Нет такого человека изверга, который бы решился это делать, если бы он был первый и если бы не было других причин. Причины, приведшие к этому, были недобрые. «По плодам узнаете их». Начало было зло – ненависть, человеческая гордость, вражда против Ария и других; и другое, еще большее зло – соединение христиан с властью. Власть – Константин царь, по языческим понятиям стоящий на высоте величия человеческого, (их причитали к богам), принимает христианство, подает пример всему народу, обращает народ и подает руку помощи против еретиков и уставляет посредством вселенского собора единую правую христианскую веру.
Христианская кафолическая вера установлена навсегда. Так естественно было поддаться на этот обман, и до сих пор еще так верят в спасительность этого события.
А это было то событие, где большинство христиан отреклось от своей веры; это были те росстани, где огромное большинство пошло с христианским именем по языческой дороге и идет до сих пор. Карл великий, Владимир продолжают то же. И обман церкви идет до сих пор, обман, состоящий в том, что принятие властью христианства нужно для тех, которые понимают букву, а не дух христианства, потому что принятие христианства без отречения от власти есть насмешка над христианством и извращение его.
Освящение власти государственной христианством есть кощунство, есть погибель христианства. Проживя 1500 лет под этим кощунственным союзом мнимого христианства с государством, надо сделать большое усилие, чтобы забыть все сложные софизмы, которыми 1500 лет, везде в угоду власти, изуродовав всё учение Христа, чтобы оно могло ужиться с государством, пытались объяснить святость, законность государства и возможность его быть христианским. В сущности же слова «христианское государство» есть то же, что слова: теплый, горячий лед. Или нет государства, или нет христианства.
Для того, чтобы ясно понять это, надо забыть все те фантазии, в которых мы старательно воспитываемся, и прямо спрашивать о значении тех наук исторических и юридических, которым нас учат. Основ эти науки не имеют никаких. Все эти науки не что иное, как апология насилия.
Пропустив истории персов, мидян и т. д., возьмем историю того государства, которое первое составило союз с христианством.
Было разбойничье гнездо в Риме; оно разрослось грабительством, насилием, убийством; оно завладело народами. Разбойники и потомки их, с атаманами, которых называли то Кесарем, то Августом, во главе, – грабили и мучили народы для удовлетворения своих похотей. Один из наследников этих разбойничьих атаманов, Константин, начитавшись книг и пресытившись похотной жизнью, предпочел некоторые догматы христианства прежним верованиям. Принесению людских жертв он предпочел обедню, почитанию Аполлона, Венеры и Зевса он предпочел единого бога с сыном Христом и велел ввести эту веру между теми, которых он держал под своей властью.
«Цари властвуют над народами, между вами да не будет так. Не убей, не прелюбодействуй, не имей богатств, не суди, не присуждай. Терпи зло». Всего этого никто не сказал ему. «А ты хочешь называться христианином и продолжать быть атаманом разбойников, бить, жечь, воевать, блудить, казнить, роскошествовать? Можно».
И они устроили ему христианство. И устроили очень покойно, даже так, что и нельзя было ожидать. Они предвидели, что, прочтя Евангелие, он может хватиться, что там требуется всё это, т. е. жизнь христианская, кроме построения храмов и хождения в них. Они предвидели это и внимательно устроили ему такое христианство, что он мог, не стесняясь, жить по-старому, по-язычески. С одной стороны – Христос, сын бога, затем только и приходил, чтобы его и всех искупить. Оттого, что Христос умер, Константин может жить, как хочет. А этого мало – можно покаяться и проглотить кусочек хлебца с вином, это будет спасенье, и всё простится. Мало того, – они еще его власть разбойничью освятили и сказали, что она от бога, и помазали его маслом. Зато и он им устроил, как они хотели – собрание попов, и велел сказать, какое должно быть отношение каждого человека к богу, и каждому человеку велел так повторять.
И все стали довольны, и вот 1500 лет эта самая вера живет на свете, и другие разбойничьи атаманы ввели ее, и все они помазаны, и все, все от бога. Если какой злодей пограбит всех, побьет много народа, его они помажут – он от бога. У нас мужеубийца, блудница была от бога, у французов – Наполеон. А попы зато – не только уж от бога, но почти сами боги, потому что в них сидит дух святой. И в папе, и в нашем синоде с его командирами чиновниками.
И как какой помазанник, т. е. атаман разбойников, захочет побить чужой и свой народ, – сейчас ему сделают святой воды, покропят, крест возьмут (тот крест, на котором умер нищий Христос за то, что он отрицал этих самых разбойников) и благословят побить, повесить, голову отрубить.
И всё бы хорошо, да не умели и тут согласиться и стали помазанники друг друга называть разбойниками (то, что они и есть), и стали попы друг друга называть обманщиками (то, что они и есть); а народ стал прислушиваться и перестал верить и в помазанников, и в хранителей св. духа, а выучился у них же называть их, как следует и как они сами себя называют, т. е. разбойниками и обманщиками.
Но о разбойниках только пришлось к слову, потому что они развратили обманщиков. Речь же об обманщиках, мнимых христианах. Такими они сделались от соединения с разбойниками. И не могло быть иначе. Они сошли с дороги с той первой минуты, как освятили первого царя и уверили его, что он своим насилием может помочь вере, – вере о смирении, самоотвержении и терпении обид. Вся история настоящей церкви, не фантастической, т. е. история иерархии под властью царей есть ряд тщетных попыток этой несчастной иерархии сохранить истину учения, проповедуя ее ложью и на деле отступая от нее. Значение иерархии основано только на учении, которому она хочет учить. Учение говорит о смирении, самоотречении, любви, нищете; но учение проповедуется насилием и злом.
Для того, чтобы иерархии было чему учить, чтобы были ученики, нужно не отрекаться от учения, но для того, чтобы очистить себя и свою незаконную связь с властью, нужно всякими ухищреннейшими соображениями скрыть сущность учения. А для этого нужно перенести центр тяжести учения не на сущность учения, а на внешнюю сторону его. И это самое делает иерархия.
Так вот: источник того обмана веры, который проповедуется церковью, источник его есть соединение иерархии, под именем церкви, с властью – насилием. Источник же того, что люди хотят научить других людей вере, в том, что истинная вера обличает их самих и им нужно вместо истинной веры подставить свою вымышленную, которая бы их оправдывала.
Истинная вера везде может быть, только не там, где она явно насилующая, – не в государственной вере. Истинная вера может быть во всех так называемых расколах, ересях, но наверное не может быть только там, где она соединилась с государством. Странно сказать, но название «православная, католическая, протестантская» вера, как эти слова установились в обыкновенной речи, значат не что иное, как вера, соединенная с властью, т. е. государственная вера и потому ложная.
Понятие церкви, т. е. единомыслия многих, большинства, и вместе с тем близость к источнику учения в первые два века христианства, был только один из плохих внешних доводов. Павел говорил: «я знаю от самого Христа». Другой говорил: «я знаю от Луки». И все говорили: мы думаем верно, и доказательство того, что мы верно думаем, то, что нас большое собрание, экклезия, церковь. Но только с собора в Никее, устроенного царем, начался – для части исповедующих одно и то же учение – прямой и осязательный обман. «Изволися нам и св. духу», – стали говорить тогда. Понятие церкви стало уже не только плохой аргумент, а стало для некоторых власть. Оно соединилось с властью и стало действовать, как власть. И всё то, что соединилось с властью и подпало ей, перестало быть верой, а стало обманом.
Чему учит христианство, понимая его как учение какой бы то ни было церкви или всех церквей?
Как хотите разбирайте, смешивая или подразделяя, но тотчас же всё учение христианское распадется на два резкие отдела: учение о догматах, начиная с божественности сына, духа, отношения этих лиц, до евхаристии с вином или без вина, пресного или кислого хлеба, – и на нравственное учение смирения, нестяжательности, чистоты телесной, семейной, неосуждения и освобождения от неволи уз, миролюбия. Как ни старались учители церкви смешать эти две стороны учения, они никогда не смешивались, и как масло от воды, всегда были врозь – каплями большими и малыми.
Различие этих двух сторон учения ясно для каждого, и каждый может проследить плоды той и другой стороны учения в жизни народов, и по этим плодам может заключить о том, какая сторона более важна и, если можно сказать, более истинна, то какая более истинна? Посмотришь на историю христианства с этой стороны – и ужас нападет на тебя. Без исключения с самого начала и до самого конца, до нас, куда ни посмотришь, на какой ни взглянешь догмат, хоть с самого начала – догмат божественности Христа – и до сложения перстов, до причастия с вином или без вина, – плоды всех этих умственных трудов на разъяснение догматов: злоба, ненависть, казни, изгнания, побоища жен и детей, костры, пытки. Посмотришь на другую сторону – нравственного учения, от удаления в пустыню для общения с богом до обычая подавать калачи в острог, и плоды этого – все наши понятия добра, всё то радостное, утешительное, служащее нам светочем в истории.
Заблуждаться тем, перед глазами которых не выразились ясно еще плоды того и другого, можно было, и нельзя было не заблуждаться. Можно было заблуждаться и тем, которые искренно вовлечены были в эти споры о догматах, не заметив того, что они этими догматами служат дьяволу, а не богу, не заметив того, что Христос прямо говорил, что он пришел разрушить все догматы; можно было заблуждаться и тем, которые, унаследовав предания важности этих догматов, получили такое превратное воспитание умственное, что не могут видеть своей ошибки; можно и тем темным людям, для которых догматы эти не представляют ничего, кроме слов или фантастических представлений, но нам, для которых открыт первый смысл Евангелия, отрицающего всякие догматы, нам, имеющим перед глазами плоды в истории этих догматов, нам нельзя уж ошибаться. История для нас – поверка истинности учения, поверка даже механическая.
Догмат непорочного зачатия богородицы – нужен он или нет? Что от него произошло? Злоба, ругательства, насмешки. А польза была? Никакой. Учение о том, что не надо казнить блудницу, нужно или нет? Что от него произошло? Тысячи и тысячи раз люди были смягчены этим напоминанием.
Другое: в догматах каких бы то ни было все согласны? – Нет. – В том, чтобы просящему дать? – Все.
И вот первое – догматы, в чем никто не согласен, что никому не нужно, что губит людей, это-то иерархия выдавала и выдает за веру; а второе, то, в чем все согласны, что всем нужно и что спасает людей, этого, хотя и не смела отрицать иерархия, но не смела и выставлять, как учение, ибо это учение отрицало ее самое.
ПЛАНЫ и ВАРИАНТЫ
[ПЛАНОВЫЕ ЗАМЕТКИ К АВТОБИОГРАФИИ «МОЯ ЖИЗНЬ»]
На полях л. 1 оборот:
Пеленают, моют. Еремевна. Танцуют.
На полях л. 2:
Уроки с Ал[ександрой] Ил[ьинишной]
Трубку папа
бабушка
Дунечка Темешева
Кланяться задом
шарады
Я буду дурен, но умен.
Несчастье? то буду спать.
Миллер доктор
Фанфар[онова] гора
Николин[ькина] голая рука
(Андрюша)
На полях л. 4 оборот:
уроки (радость и шалость)
ночь (темнота, сон)
чувствен[ность] (рука Ник[олиньки], судно Сережи)
новые миры (Петруша – низ)
лакомство чернослив
<Веселье (танцы – экосез)>
<Дунечка (уроки Темешева)>
старший, но законный мир
(папа, собаки, тетки, бабушка).
Новый мир – ужас (гость Волконский).
Судно наверху (Прасковья Исавна)
В дневной жизни привычное и новое любопытное и новое страшное.
ИСПОВЕДЬ
* № 1.
К главе I
Я родился от богатых родителей 4-м сыном большой семьи. Мать умерла, когда мне было 1½ года, и я не помню ее. Отец умер, когда мне было 9 лет. Как все мне говорили, и отец и мать моя были54 хорошие люди – образованные, добрые, благочестивые. После отца мы остались на попечении теток. Две тетки, на руках которых мы были сначала, были очень добрые, благочестивые женщины. Третья тетка, под опеку которой мы перешли, когда мне было 12 лет, и которая перевезла нас в Казань, была тоже добрая женщина (так все знавшие ее говорили про нее) и очень набожна, так что кончила жизнь в монастыре, но легкомысленная и тщеславная. В Казани под ее влиянием я поступил в университет, пробыл три года и вышел, сделавшись независимым, и приехал в доставшуюся мне деревню. Воспитан я был в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и готовя к экзамену, и в университете. Но в 20 лет уже, сколько мне помнится, ничего не оставалось из моих верований, если только можно так назвать то, чему меня учили в детстве и в школе. Помню, что когда мне было лет 11, один мальчик, товарищ, бывший в гимназии, объявил нам раз, что бога нет, и мы все приняли это известие, как что-то новое, занимательное и весьма возможное, хотя и не поверили ему. Помню потом, что весной, в день первого моего экзамена в университет, я, гуляя по Черному Озеру, молился богу о том, чтобы выдержать экзамен, и, заучивая тексты катехизиса, ясно видел, что весь катехизис этот – ложь. Не могу сказать, когда я совсем перестал верить.55 Отречение от веры произошло во мне, мне кажется по крайней мере, несколько сложнее, чем, как я вижу, оно происходит поголовно во всех умных людях нашего времени.56 Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так, что знания самые разнообразные и даже не философские – математические, естественные, исторические, искусства, опыт жизни вообще (нисколько не нападая на вероучение) своим светом и теплом незаметно, но неизбежно растапливают искусственное здание вероучения. Вероучение же это не участвует в жизни,57 не служит руководителем жизни, человеку в жизни никогда не приходится справляться с ним, и он сам не знает, что оно дело у него или нет; и в сношениях с другими людьми человеку никогда [не] приходится сталкиваться с этим учением, как с двигателем жизни. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением. По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, православно-верующий он или нет. Даже напротив в большей части случаев: нравственная жизнь, честность, правдивость, доброта к людям встречались и встречаются чаще в людях неверующих. Напротив, признание своего православия и исполнение наглядное его обрядов большей частью встречается в людях безнравственных, жестоких, высокопоставленных, пользующихся насилием для своих похотей – богатства, гордости, сластолюбия. Без исключения все люди власти того времени, да и теперь тоже, искренно или неискренно исповедовали и исповедуют православие. Так что в жизни, как руководство к нравственному совершенствованию, православная вера не имеет никакого значения; она только внешний признак. Даже само православие в связи с властью чувствовало и чувствует это. Оно требовало тогда и теперь требует внешнего исполнения обряда. В школах учат катехизису, гоняют учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельства в бытии у причастия.
Так что, как теперь, так и прежде, вера детская, вместе с насильно напущенными вероучениями, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противуположных вероучений, и когда приходится человеку вспомнить об этом вероучении, вдруг оказывается, что на том месте, где оно было, уже давно пустое место. Мне рассказывал мой брат, умный и правдивый человек. Лет 26-ти уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой с детства привычке, стал вечером на молитву. Это было на охоте. Старший наш брат Николай лежал уже на сене и смотрел на него. Когда Сергей кончил и стал ложиться, Николай сказал ему: «А ты еще всё делаешь этот намаз?» И больше ничего они не сказали друг другу. Брат Сергей с этого дня перестал становиться на молитву и ходить в церковь. И вот 30 лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он поверил брату, а потому, что это было указание на то, что у него уже давно ничего не оставалось от веры, а что оставались только бессмысленные привычки. Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования и говорю о людях правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Это – люди самые коренные неверующие; потому что если вера для него средство для власти, для денег, для славы, то она уже не вера.) Люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни уже растопил искусственное здание вероучения, но они еще не заметили этого, или уже разъел, и они заметили и не то что отбросили – отбрасывать нечего, – а освободили место, или еще не заметили этого. Такая была та самая тетушка, которая воспитывала нас в Казани. Она всю жизнь была набожна. Но когда 80-ти лет она стала умирать, то она не хотела причащаться, боясь смерти, сердилась на всех58 за то, что она страдает и умирает, и, очевидно, тут только, перед смертью, поняла, что всё то, что она делала в жизни, было не нужно.
Искусственное здание вероучения исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, которая бывает у людей пытливого ума, склонных к философии. Я с 16 лет начал заниматься философией, и тотчас вся59 умственная постройка богословия разлетелась прахом, как она по существу своему разлетается перед самыми простыми требованиями здравого смысла, так что умственно неверующим я стал очень рано; очень рано очистил то место, на котором стояло ложное здание. Но60 какая-то религиозная любовь к добру, стремление к нравственному совершенствованию жили во мне очень долго. Не могу сказать, чтобы эти стремления основывались на детской моей вере (я не мог и не могу этого знать, я не думаю этого, потому что руководства в нравственном совершенствовании я искал не в духовной письменности, даже не в Евангелии: ложь, бессмыслица всего вероучения отталкивала меня от всего того, что только связывалось с ним, – но в светской, древней и новой письменности); но не могу и отрицать того, чтобы это не было последствием моей детской веры. На чем бы оно ни было основано, но первые 10 лет моей молодой жизни прошли в этом стремлении к совершенствованию. И это искание и борьба составляли главный интерес всего того времени. У меня еще сохранились дневники всего того времени, ни для кого не интересные, с Франклиновскими таблицами, с правилами, как достигать совершенства.
Это продолжалось 10 лет, если не больше; но со временем стремление стало тухнуть, тухнуть и совсем потухло. Даже и этого стремления не осталось: оно заменилось другим, и я остался без всякого руководства в жизни.
Прежде чем сказать о том, что заменило это стремление, я не могу не вспомнить о трогательном, жалком положении, в котором я находился в эти 10 лет. – Когда-нибудь я расскажу подробно историю моей жизни и трогательную, поучительную историю этих 10 лет. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всей душой желал быть хорошим, готов был на всё, чтобы быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, и я был один, совершенно один, с своими стремлениями. Я был смел, но всякий, всякий раз, когда я пытался выказать то, что было во мне хорошего, я встречал презрение и насмешку, как только я отдавался самым гадким страстям, меня принимали в открытые объятия. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие – это всё уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, меня уважали. Добрая тетушка всегда говорила мне, что она ничего не желала так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужней женщиной: rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut;61 и чтобы я был адьютантом, лучше всего государя, и чтобы у меня было как можно больше рабов.
Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Не было пороков, которым бы я не предавался в эти года, не было преступления,62 которого бы я не совершил. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство, я всё совершал, а желал одного добра; и меня считали и считают мои сверстники сравнительно очень нравственным человеком. Я жил в деревне, пропивая, проигрывая в карты, проедая труды мужиков, казнил, мучал их, блудил, продавал, обманывал, и за всё меня хвалили. И, без исключения презирая меня, смеялись надо мной за всё, что я пытался делать хорошего. И я делал одно дурное, любя хорошее.
Так я жил 10 лет. Бывали у меня минуты раскаяния, попытки исправления, но широкий путь был слишком легок, и я шел по нем. В это время я был на войне – убивал, и в это же время я стал писать из тщеславия и гордости. В писаниях моих я делал то же самое, что и в жизни. Для того, чтобы иметь славу, для которой я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. – Сколько раз я ухитрялся скрыть в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого. Меня хвалили.
28 лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли, как своего, льстили мне. И я не успел оглянуться, как сословный взгляд на жизнь людей, с которыми я сошелся, усвоился мною и заменил почти мои прежние стремления к совершенствованию. Я говорю: почти, потому, что хотя и не было прежнего стремления к совершенствованию, в минуты, спокойные от страстей, и в этот новый период63 я смутно чувствовал, что живу не так, и искал чего-то. Я уже не писал дневников Франклиновских, не обсуживал свои поступки, не раскаивался, и жизнь моя не казалась мне дурною. Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю? и чему же мне учить? – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать. А что художник, поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом. И потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я, художник, поэт, писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещенье, женщины, общество, у меня была слава. И я довольно долго – года три – наивно верил этому. Но чем дольше я жил в этих мыслях, тем чаще мне стали приходить сомнения. Вера эта в развитие жизни и искусство, поэзию была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно, но у меня было достаточно способности отвлеченной мысли и наблюдательности, чтобы усомниться в вере; тем более, что жрецы этой веры не все были согласны. Одни говорили: так надо совершать таинства, а другие – иначе. Спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали. Кроме того, было много между жрецами людей не верующих в веру, а просто достигающих своих целей корыстных с помощью этой веры. Почти все жрецы были люди самые безнравственные и большинство – люди плохие, ничтожные по характерам, – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней, разгульной военной жизни. А гордости была бездна. Люди мне опротивили, и я понял, что это ложь.
Но странно то, что хотя всю эту ложь я понял скоро и отрекся от их веры, но чин, данный мне этими людьми – художника, поэта, учителя – от этого чина я не отрекся. Я наивно воображал, что я – поэт, художник, и могу, не зная ничего, учить всех, сам не зная чему. И так и делал. Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – гордость и иначе не могу назвать, как сумасшествие – уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему. Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно. Именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших. Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить, говорить, писать, печатать, как можно скорей, как можно больше, что всё это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других и не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: как – так или не так сделать? мы не знаем, что ответить, и что мы все, не слушая друг друга, все в раз говорим, точно так, как в сумасшедшем доме. Тысячи работников работали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, и мы всё еще больше и больше учили, учили и учили, и никак не успевали всему научить, и все сердились, что нас мало слушают. Иначе нельзя назвать этого, как сумасшествием, пьянством болтовни.
Ужасно странно; но теперь мне понятно. Один из главных догматов той веры был, что всё развивается, что просвещение благо. Просвещение измеряется распространением книг, газет. Что из столкновения выходит истина, что всё, что есть, то разумно; а нам платят деньги, и нас уважают за это, то как же не учить?
Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой нет; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, называл всех сумасшедшими, кроме себя. С этого времени я подпал этому сумасшествию – учить, сам ничего не зная. И, как я теперь думаю, я особенно горячо старался учить именно потому, что я чувствовал, что ничего не знаю, боялся этого незнания и учительством старался заглушить в себе ужас незнания, предаваясь этой страсти учительства еще 6 лет, до моей женитьбы. Учительство в это время приняло во мне особое направление. Мои сотоварищи журналисты стали мне противны, я видел их слабости, видел, что им нечему учить, но в себе того же не видел. И тут я попал на занятия крестьянскими школами. Я полюбил это занятие в особенности потому, что у меня была смутная точка опоры, с которой я мог учить и отрицать учителей журналистов. Что моя точка опоры была смутная, это было не беда, потому что их точка опоры была еще смутнее. И я стал учить и народ и образованных всех. Но всё время я чувствовал, что я не совсем умственно здоров, и долго и это не могло продолжаться. И я бы тогда, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в 50 лет, если бы во мне не было еще одной основы жизни, поддерживавшей меня в то время, – это было представление о семейной жизни и любви к воображаемой жене. Мечты о семейной жизни, любви к жене не оставляли меня всю мою молодость с 15 лет. Но теперь они стали еще сильнее. И я женился. Новые условия жизни, влияние хорошей жены опять дали мне отдых. Сумасшествие мое учительства продолжалось, я писал женатый, успех моих книг радовал меня. Но главный смысл моей жизни за это время была семья, заботы о увеличении средств жизни [с] семьею, о жене, детях. Так прошло еще 10 лет. У меня росли хорошие дети, и тут после 10 лет я понемногу стал опоминаться, страсть моя учительства стала слабеть, и я стал спрашивать себя: чему же учу? И оказалось, что я всех могу научить, а решительно не знаю, чему учить своих детей, решительно не знаю, что я такое, зачем я живу, что хорошо, что дурно; и на меня стали находить сначала минуты отчаяния, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать. Сначала находили только минуты, в жизни же отдавался прежним привычкам, учил так же, но потом чаще и чаще, и потом, в то время как я писал, кончал свою книжку Анна Каренина, отчаяние это дошло до того, что я ничего не мог делать, как только думать, думать о том ужасном положении, в котором я находился.
Сначала мне казалось, что это – так, бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это всё известно и что если когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, что теперь только мне некогда заниматься этим, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и, как точки, всё падая на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно. И я с ужасом и сознанием своего бессилия остановился перед этим пятном.
И вот мне было почти 50 лет, когда эти вопросы без ответов довели меня до ужасного, совершенно неожиданного положения. Сделалось то, что я, здоровый, счастливый человек, почувствовал, что я не могу более жить, и какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от жизни.
Нельзя сказать, чтобы я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня к самоубийству, была сильнее, полнее, общее хотения, желания. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. И это стремление было так властно, что я спрятал от себя снурок, чтобы не повеситься на перекладине над шкапами в своей комнате, где я каждый вечер бывал один раздеваясь, что я перестал ходить на охоту с ружьем.
Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее, и боялся смерти. И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было то, что считается совершенно счастливым: это было в то время, когда мне было под 50 лет. У меня была добрая, честная, красивая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми больше, чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать,64 что имя мое славно, без особенного самообольщения.65 При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и телесной и духовной, какую я редко встречал в моих сверстниках. Телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков. Умственно я мог работать по 8, 10 часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не могу жить, и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя для того, чтобы не лишить себя жизни, которой я боялся.
Душевное состояние это выросло из всей прошедшей моей жизни, но во время моего отчаяния оно выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то, кем-то сыгранная надо мной глупая, злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого кого-то, который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, пустив меня на свет, была самая естественная мне форма представления. Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь покатывается со смеху, глядя на меня, как я целые 30, 40 лет жил, жил, учась, развиваясь, ростя телом и духом, всё носясь с разными представлениями о66 смысле жизни, и как теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет, и ужасаюсь перед тем, что так долго обманывало меня. А ему смешно. Но есть ли или нет этот кто-нибудь за кулисами, который смеется надо мною, но мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному акту, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать его с самого начала. И так давно всем известно со времен Сакия Муни и Соломона. Не нынче-завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Да и дела-то какие: ряд безобразий, дел злобы и похоти и ряд обманов, прикрывающих эти безобразия.67 Как может человек не видать этого и жить – вот что удивительно. Можно жить только, покуда пьян жизнью, а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что всё это только обман, и злой, жестокий обман.
Ужас моего положения выражался для меня в том, что всё, что я ни делал прежде, всё, что ни мог делать, всё это было и глупо и дурно. И ничего не делать глупо и дурно.
* № 2.
К главе I
Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с тою только разницей, что у меня оно очень рано стало сознательным. Я очень рано стал много читать философских книг. Руссо первый увлек меня; я перечитывал его по нескольку раз, и он имел на меня большое влияние.
* № 3.
К главе III
Только изредка не разум мой, а чувство возмущалось против этого общего суеверия прогресса, которым люди заслоняют от себя отсутствие всякой веры. Так, в бытность мою в Париже вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела и то и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, <что люди сделали ужасное, ничем не извиняемое дело, что я участник этого дела хоть тем, что я не сделал всего, что мог, чтобы помешать этому>.
* № 4.
К главе III
Несмотря на то, что я считал писательство пустяками в продолжение этих 15 лет, я продолжал писать. Я считал, что всё, что другие пишут, пустяки, но то, что я пишу, то очень важно. Я писал, главное, потому, что, кто раз вкусил соблазна писательства – того же, как и соблазн актерства, кто вкусил соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд, тот не может отречься от него.
* № 5.
К главе IV
Были у меня два ряда желаний, которые долго еще держались во мне и отводили мне глаза от жестокой истины, были две капли меду – семья и так называемое искусство, поэзия, но и их сладость я перестал чувствовать. Одна пасть змия видна мне. Семья.... но семья – люди – жена, дети. И они так же висят над пропастью. И они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить, зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их: для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина – смерть. Искусство, поэзия? Долго под влиянием успеха, похвалы людской, я уверял себя, что это – дело, которое можно делать и вися над смертью, но скоро я увидал; что и это обман. Как ни искренно я любил и люблю искусство, поэзию, мне было ясно, что это только одна из тех заманок других к жизни – к той, которая уже для меня потеряла свою заманчивость. И вся болтовня эстетики не может придать писанию картин, симфоний, поэм другого значения, как средства от скуки, тоски, отчаяния. Змий ждет, и мыши подъедают деревцо жизни.
Пока я не жил своей жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хотя я и не умею выразить его, отражения жизни всякого рода в поэзии и искусстве доставляли мне радость. Мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальцо искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни и не нашел его, когда я почувствовал необходимость самому жить, зеркальцо это стало мне или не нужно, излишне и смешно или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, игра в зеркальцо не могла уж забавлять меня; как перестанет забавлять человека рассматривание видов в камеру-обскуру, когда он увидит, что на него надвигается настоящая беда. Он бросит забаву и будет спасаться от беды. Так сделал и я. Я от зеркальца обратился к жизни, чтобы спастись от беды. И спасенья не находил.
* №. 6.
К главе V
Вопрос мой тот, который в 50 лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, тот вопрос, без которого жизнь невозможна, что я испытал на деле. Вопрос состоит в том: что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра – из всей моей жизни? Иначе сказать можно: зачем мне жить, желать, делать? Еще иначе то же можно сказать так: есть ли в моей жизни для меня такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?
На этот-то один и тот же, различно выраженный вопрос, отсутствие ответа на который привело меня к отчаянию, я искал ответа в человеческом знании. И не нашел, а нашел только то, что все человеческие знания но отношению к этому вопросу разделяются как бы на две противуположные полусферы, на конце которых находятся два полюса: один отрицательный, как бы не признающий вопроса, но зато ясно и точно отвечающий на свои независимо поставленные вопросы, – на крайней точке этих знаний опытных стоит математика; и другой положительный, признающий отчасти вопрос и дающий частные ответы, но неясно, неточно, взаимно противуречиво: это – знания умозрительные, и на крайней их точке – философия.
В лесу этих знаний, в поисках за ответами на вопрос жизни, я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек. Есть в лесу заросшая сплошными деревьями темная, непроглядная сторона леса, и есть более светлая, с прогалинами и полянами. Идешь по темной, и чем темнее, тем меньше знаешь, куда идешь, но можешь надеяться всякую минуту, что тебе откроется истинный путь; идешь по светлой, и тебе далеко видно, но чем дальше ты видишь чужие, новые места, тем яснее тебе, что ты заблудился. Выйдешь на бугор перед просветом – и перед тобой открывается бесконечное пространство. Всё ясно, но уже наверное тут дома нет. Это чистая математика. Глядишь в просветы, где кое-что ясно и видно и кое-что закрыто. Не темно, определить многое можно, но не всё, многое закрыто. И потому есть надежда, что там и дом, где не всё видно. И чем больше закрыто, тем больше надежды и наоборот. Это – опытные, естественные знания.
Войдешь в темную сторону – и опять то же самое. Войдешь в самый мрак, и когда ничего не видишь, ни на чем не можешь поверить верность или неверность своего направления и можешь надеяться, что вот-вот сейчас тебе откроется дом или хоть легкий путь к нему, это – философия. Но чем больше видишь, чем больше признаков, тем меньше надежды, – это все умозрительные науки: история, право, филология.
* № 7.
К главе V
Все мои знания в этой области, в области общего знания, в области так называемой новой науки биологии, всё знание, какое только может быть в этой области в сравнении с вопросами жизни, недоразумение, вытекающее из этого, показалось мне невыразимо смешно. Оно напомнило мне ответ одного сметливого и плутоватого мальчика 8 лет. Он шел из школы, в которую он недавно начал ходить. – Что, ты умеешь уже складывать? – Умею. – Ну-ка, сложи мне: лапа. – Какая лапа? собачья или волчиная? – Он не знал того, что нужно ему знать, и хотел отвесть мне глаза своим знанием того, чего не нужно ему было знать. Разве мы не то же спрашиваем: чья лапа? собачья или волчиная? когда мы, не зная, что мы такое, зачем мы живем, откуда пришли и куда идем, в исследовании туманных пятен и их химического состава, в угадывании форм бесконечно малых атомов и происхождения организмов и языка, которым мы говорим, думаем видеть ответы на наш вопрос. Недурно знать различие между собачьей и волчьей лапой, но надо отвечать, умеешь или не умеешь сложить лапу.
* № 8.
К главе V
<Философия всегда занимала меня, я любил следить за этим напряженным и стройным ходом мыслей, при котором все сложные явления мира сводились – их разнообразия – к единому. Но когда я захотел справиться, получить ответ на вопрос, что такое жизнь, для того, чтобы знать, как жить, я получал или ответ о том, что всё, следовательно и я, есть субстанция, или дух, или воля, но это я и сам знал. Я знал, что я – что-то такое, такое же, как всё во всем мире; а что это названо было субстанцией, духом или волею, мне нисколько не помогло.
Философия оставалась умственной игрой, справедливой самой в себе, а вопрос оставался без ответа и только повторявший другими словами то самое, что составляет сущность вопроса жизни.
В том отделе философии, который называется этикой и который прямо отвечает на мой вопрос жизни: зачем я живу? философия только утверждает то, что проявляется в жизни людей. Кант, самый строгий мыслитель нового времени, утверждает, что в человеке лежит категорический императив, т. е. говорит, что такое человеку нужно делать. Но что и зачем – он не может сказать.
Шопенгауэр говорит, что в человеке лежит потребность заесть своего ближнего и сострадать ему; но зачем я живу и что выйдет из моей жизни, он не говорит.>
* № 9.
К главе VII
Но хотя я и решил, что лучше всего ничего не могу сделать, как убить себя, но не убил себя.68
Теперь, вспоминая, отчего я не убил себя, я вижу, что причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей мудрых, приведших меня к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения. Тогда я бы не умел, но теперь я могу выразить его. Оно было такое:
Я – мой разум – признаю, что жизнь неразумна, но разум мой есть плод жизни.
Если нет высшего разума, а его нет и ничто доказать не может, то разум есть высший судья и творец жизни для меня. Как же этот разум отрицает жизнь; а он сын жизни. – Разум мой, который есть плод жизни, отрицает самую жизнь, находит ее неразумной. Мое знание дало мне ответ общий об истине и исключило жизнь. А я сам не что иное как жизнь.
Я чувствовал, что тут что-то неладно. И потому всей душой не верил тому выводу, который приводил меня к смерти.
<Другая причина была, что я всю мою жизнь любил какое-то добро, не матерьяльное, а какое-то добро, объяснить которое я не мог, объяснение которого состраданием Шопенгауэра и категорическим императивом Канта было для меня неясно и недостаточно, но которое я любил сердцем и умел узнавать в жизни. Оно было и сострадание, и долг, но было и больше: оно было самоотвержение, нежность, любовь, ласка, правдивость. Я не умел его назвать, но я знал его и любил в жизни. И третья причина была та, что это самое добро я находил в людях. И я стал приглядываться еще к людям, именно к тем, в которых я находил это добро; и, приглядываясь к ним, я удалился из своего маленького кружка одинакового образования и образа жизни и увидал>
* № 10.
К главе VIII
Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к простому народу, заставившей меня понять его и увидать, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать – это повеситься, я понял, наконец, пробил эту стену, отделявшую меня, ученого и мудрого, от глупых и невежд, и очнулся, как из душного колодца выскочил на свет божий.
* № 11.
К главе IX
<И тут в первый раз я понял, что такое вера, религия. До сих пор ни одно определение не казалось мне достаточным. Это же было точное определение. Знание смысла жизни и смерти. Ответ на вопрос, что выйдет из моей жизни и смерти? И мне стало ясно значение всех вер. Так-то будешь жить – будешь вечно или от вечного бога награжден. Это самое знание веры имел и я и тогда жил. И я понял, что без этого жить нельзя.
* № 12.
К главе IX
Стоит посмотреть назад. Индейская история, по случайности сохранившихся памятников, особенно поучительна в этом отношении. Всё то, чем мы гордимся так, всё это давно думано и передумано и решено. Все наши рассуждения о материи, силах, о духе, о пространстве, причинности, времени, все давно, давно уже были сделаны.
* № 13.
Понятие бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом суть понятия, выработанные скрывающимся в бесконечности ходом мысли человеческой, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого. Пускай понятие бога было по моему воспитанию неразрывно связано с безумным представлением 3 и 1, сына и т. п., понятие души – с мытарствами и дьяволами, и понятие добра – с мазанием себя маслом и т. п. Но понятия были не виноваты в том, что они переданы были мне нераздельно со всяким вздором.
* № 14.
К главе X
Я долго занимался тем, что всех людей моего круга, знакомых и незнакомых, допрашивал: верят ли они, или не верят? И оказалось, что из людей моего разбора – ученых, за самыми редкими исключениями, никто не говорил, что верит. Верующими называли себя или попы, положение которых заставляет их утверждать свою веру, или чудаки, из упрямства, с злобой, не столько для своих личных нужд, сколько для спора, уверявшие, что они верят в бога; или такие, что для каких-нибудь политических или корыстных несознанных целей говорили, что верят: или же очень глупые люди; или еще явившиеся в новое время женщины и мужчины из ученых, говорящие о какой-то особенной вере <одни по-Хомяковски, другие по-Редстоковски>. Но, несмотря на то, что я знал теперь, что единственно возможное знание жизни может быть открыто знанием веры, я видел, что то, что выдавали эти люди за веру, не было знание веры, – то, которое дает смысл жизни.
Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, чем больше я вглядывался в их жизнь, тем яснее я видел их заблуждения и потерю моей надежды найти какое-нибудь объяснение смысла жизни. Все эти люди жили в избытке, и потому, не говоря о иерархии, имеющей законные поводы утверждать свою веру, и всё то непонятное, что они говорили, невольно хотелось объяснить так же, как всякую дурь людей, живущих в избытке и бесящихся от жира, как магнетизм, месмеризм, спиритизм и т. п.
* № 15.
К главе X
И я оглянулся подальше того маленького круга людей таких же, как я, досужных, достаточных и ученых, вгляделся в жизнь бедных, глупых, работающих, и тут я нашел то, чего искал. Тут я нашел твердое знание какого-то другого, непонятного мне смысла жизни, подтверждаемое жизнью поколений миллионов людей. – Вероучение этих людей – народа – было то же, как и вероучение мнимо верующих из нашего круга. К истинам, не противным разуму, примешано было еще больше вздора, чем у первых, но разница была в том, что вся жизнь этих людей была другая, была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. <Я увидал, что они так твердо уверены в знании смысла жизни, что никогда не колеблются поколения[ми] в объяснении всё одним и тем же своей жизни.> Я увидал, что эти люди живут и переносят болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью, что всё это так должно быть и не может быть иначе, что всё это добро. Я увидал, что не только их жизнь понятна для них, но понятна и смерть, и в смерти они не видят ничего странного, противного и страшного. Я увидел между ними людей стареющихся, как я же, приближающихся к смерти без малейшего страха и недоумения. Увидал то, чего я тщетно искал между верующими нашего круга: людей, переносящих 20-летние страдания с всегдашним умилением благодарности богу; видел не 1, 2, 100, а 1000 людей, лишающих себя всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих величайшее счастие. Увидел умирающих не только с спокойствием, но с радостью.
И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, 10, 100, 1000, 1 000 000. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, духу, все одинаково и совершенно противоположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно жили и умирали, видя в этом не суету, но добро. Были такие, которые исполняли эти удивительные дела страданий, лишений и смерти, видя в этом свое благо, но все без исключения верующие, хотя и поддавались тому нашему взгляду на жизнь, все без исключения видели благо в том, что для нас есть зло. И потому я уже твердо знал, что это есть истинное знание смысла жизни, и все силы души напряг на то, чтобы понять его.
И чем больше я вникал в их жизнь и то, что служило ей основой, в тот смысл, который они придавали ей, тем более я убеждался, что этот смысл единый истинный.69 Смысл этот, если можно его выразить, был следующий: Я произошел на этот свет по воле бога. Бог дал мне закон – заповеди, по которым надо жить, и еще дал мне более ясное указание жизни в учении и жизни Иисуса Христа. Смысл жизни откроется только, если жить по этому учению. И чем дальше я пытался это делать тем яснее мне становился смысл. Я знал, что в вероучении есть много еще другого, такого, чего я не мог понять, и потому я старался избегать всех этих толкований вероучения. Тем более, что я знал, что чем больше я слышал или читал эти вероучения непонятные, тем более я терял смысл жизни. Что же мне было делать иного? Я старался делать всё, что должно делать. Поститься, ходить к службам, говеть, но избегать осуждения того, что я должен был осуждать. Я это и делал. Я читал Евангелие и особенно житие святых. Вероучение то, которое исповедовал народ, как я говорил, было одно и то же, как и то, которому меня учили к экзамену, которое исповедовали люди нашего круга. Даже всё то, что знал народ о вере, он почерпнул и черпает из тех знаний, которые имеют люди нашего круга. Но то же самое вероучение, еще засоренное в народе бесчисленным количеством бессмысленных обрядов, в народе не отталкивало меня, как оно отталкивало в образованных. В народе вероучение это было неизвестно во всем его объеме, до них дошли как бы отрывки этих вероучений, и народ не приписывает им никакого значения, он не знает их. Для человека из народа неизвестно и непонятно учение о церкви, о искуплении, даже о троице, [он] не знает о таинствах; богородица, пятница, Микола, казанская безразлично почти служат внешними образами его богопочитания. – Нет никакой разумной связи между предметами его богопочитания. Он отрекается от всех таинств из-за сложения перстов, отрекается от крестного знамени и вместе от всех таинств из-за кощунства иконы – молокане, <отрекается от спасителя и святого духа из-за мысли о грехе многобожия – суботник, и, очевидно, не приписывает никакой важности никакой из внешних форм богопочитания>, но зато все поступки его служат выражением его понимания смысла жизни. Не один, не два, не сотню, а тысячи примеров я видел людей, расслабленных, страдающих, мучимых, заключенных, благословляющих жизнь, избегающих почести и власти, богатства.
Но лучше всего мне выражает то понимание смысла жизни, которое имеет весь народ, это – его положение. Он делает всё, он и духовная и плотская сила России, он отдает власть, богатство от себя и несет одни труды. Если он делает это, значит он считает, что это так нужно.
Может быть, я ошибался, приписывая такой смысл жизни народу и тому, что в нем одном я нашел веру, но дело в том, что в нем одном я нашел веру и от него я старался понять ее.
* № 16.
К главе XI
Я не вполне еще так думал тогда, но во мне было сознание в том, что я с моими сотоварищами богачами, учеными – заблудший паразит, а что только огромные массы народа, рабочего народа, есть настоящее человечество, и я обратился к этому человечеству, желая быть таким же, как он, и слиться с ним.
* № 17.
К главе XII
Это происходило у меня в голове. В сердце же у меня вместе, рядом с этим шевелилось два сильные чувства. Первое – зависть к тем людям, которые умели жить, понимая смысл жизни, и желание жить, как они, и второе – искание бога – отыскивание такого хода мысли, при котором конечное мое существование получило бы смысл в бесконечном. —
Я говорю, что это искание бога было не ходом мысли, но чувством, потому что действительно эти мысли вытекали не из моих воззрений на мир – они были даже прямо противуположны им, но они вытекали из сердца, из чувства. Чувство это было и страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого, и надежды на чью-то помощь. Ниоткуда не вытекало понятие бога.
Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя; а я все-таки искал бога, надеялся в то, что я найду его, и обращался к чему-то. Причина, начало всего должно быть, говорил я себе. Причина не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Даже вовсе не категория. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. И это – то, что называют богом. И как только я приходил к убеждению, что есть эта причина, эта сила, этот разум, во власти которого я нахожусь, так тотчас сиротливость моя, страх мой пропадали; я чувствовал возможность жизни. Но как только я спрашивал себя, что же это такое? Как мне думать о нем? Как мне относиться к нему? Я ничего не мог ответить. Только знакомые мне ответы приходили мне в голову: «Он – творец, промыслитель. Он милосерд, надо молиться ему». И уже я чувствовал, что вера моя в существование его слабеет. Я начинал молиться, и вера совершенно исчезала. Я чувствовал, что он не слышит меня. Нет никого такого, к которому бы можно было обращаться: «Господи, помилуй». И опять я впадал в страх и отчаяние и чувствовал, что жизнь моя останавливается. Но опять и опять с разных других сторон я приходил к тому же, к признанию того, что не могу я быть таким заброшенным щенком, каким я себя чувствовал. Пускай я, заброшенный щенок, лежу на спине, визжу в крапиве, но я и визжу-то оттого, что я знаю, что меня выносила в своем брюхе мать, выперла, вылизала… Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто забросил? Не могу я скрыть от себя, что, любя, родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? Опять бог. Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть, говорил я себе, и опять жизнь представилась мне понятной и возможной. И опять от признания существования бога я переходил к отыскиванию отношения к нему, и опять мне представлялся тот бог, наш творец, в трех лицах, приславший сына искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и опять ничего не оставалось, и опять я чувствовал, что не могу жить. Не два, не три раза, а десятки раз приходил я [в] эти положения радости, оживления, и опять погружался в отчаяние и сознание невозможности жизни. Помню, это было ранней весной, я один был в лесу на тяге, прислушиваясь к звукам леса в ожидании свиста вальдшнепа. Я прислушивался и ждал и думал всё об одном, как я постоянно думал всё об одном эти последние три года. Я опять искал бога. Хорошо, нет никакого бога, говорил я себе, нет такого, которого бы я знал, понимал, который бы меня понимал, который бы был не мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь. Нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное, но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? спросил я себя. Понятие-то это откуда взялось? Необходимость эта, откуда она? Она бог. И опять я испытал радость. Всё вокруг меня ожило, получило смысл. Но понятие бога – не бог. Может быть, это мое личное заблуждение, сказал я себе. И опять всё стало умирать во мне и вокруг меня. Не понятие, сказал я себе, но необходимость – потребность знания бога для того, чтобы жить. Стоит мне знать о боге, и я живу, стоит забыть, не верить в него, – и я умираю. Это не представление, а это жизнь. Знать бога и жить одно и то же. И не я один. Все те, кто знает бога, тот живет, не знает, и нет жизни. Бог есть жизнь. И опять и сильнее, чем когда-нибудь, всё осветилось во мне и вокруг меня. Но какое же отношение к богу? спросил я себя. Отношение указано верою, теми, которые живут. Ты не можешь сказать, знаешь ли или не знаешь ты бога по тому, что говорят о нем, но только жизнью ты можешь понять и выразить бога. Живи по тому, что тебе выдают за откровение бога, и тогда жизнь твоя, а не разум, подтвердит или не подтвердит бога. И с этой минуты сознание бога такого, которого должно постигать жизнью, а не разумом, осталось во мне.
* № 18.
К главе XII
И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Так же, как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно вместо прежнего остановившегося паровика подцепился новый и, равномерно усиливая ход, повлек меня другой – тот, который движет меня теперь. И странно, что та сила жизни, которая теперь заменила во мне прежнюю, была не новая, а самая старая, та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому, юношескому. Как прежде главным двигателем моим была вера в бога, в ту силу, которая произвела меня и чего-то хочет от меня, стремление к нравственному совершенствованию и доверие к тому, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего всё человечество. Только та и была разница, что тогда всё это было взято на веру, тогда эти знания были приняты мною в числе других между прочими знаниями, и я не считал их важнее других; теперь я знал, что это одно, что я могу знать, и что знание такое, что без него нельзя жить человеку. Тогда я сомневался в истине этих знаний, иногда стыдился высказывать их; теперь я сомневался во всем, кроме этого, и стыдился всего, кроме этого.
* № 19.
К главе XIV
Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение к богу, мне было понятно и легко. Но главный праздник было воспоминание о событии, которое представлялось мне хуже, чем невозможностью и глупостью – сознательной ложью. И этим именем воскресенья назывались дни субботние. И в эти дни совершалось соблазнительнейшее, бессмысленнейшее действие евхаристии.
* № 20.
К главе XV
Главные столкновения с положениями церкви были: обучение вере моих детей, отношение к раскольникам и война. К экзамену надо было учить моих детей закону божию. Мы взяли священника, и он учил их катехизису. Это было то самое учение, которому меня учили и которое я отбросил и не мог не отбросить. Я слушал это учение и видел, что не говоря о том, что преподавалось, что в этом учении есть насилие, что как бы нарочно этим учением заслоняют от ребенка всякую возможность понять веру. Бессмысленность и наглость положений, которые требовалось заучить, явно противуречила тому смыслу, который я нашел в вере. Но и тут я усомнился в себе и сказал себе, что, может быть, мне это только так кажется, что я не понимаю этого.
Второе столкновение был вопрос о раскольниках. В Самаре, где я жил, много молокан. Молокане жизнью своей еще больше, чем православные крестьяне, выражают тот смысл жизни, который им дает знание веры. То же можно сказать и о раскольниках старообрядцах. Между тем, и раскольники и православные оспаривают друг друга, враждебно относятся друг к другу. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. Здесь мне, нашедшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести. Так же, как и в прежних недоумениях, я признал, что виноват я, не понимая этого. Смутно мне казалось, по моему пониманию веры, что тут должно быть разрешение истины; я не верил тому, чтобы можно было сказать, что тот старик молоканин, которого я знал и который роздал всё свое имение неимущим и из богатого стал бедным, только для того, чтобы последовать правилу: просящему дай, и говорил косноязычно всю жизнь нарочно для того, чтобы обдумать, что он скажет, и не согрешить языком, – я не верил, чтобы почему бы то ни было можно было исключить такого человека – и таких других исповеданий, раскольников и многих, многих других – из нашего братства церкви. Я верил в ту церковь, в которой соединялись все верующие, и искал такого высшего понятия. И обращался ко всем – и к попам, и епископам, и архиепископам, и получил ответ отрицательный: тот, кто не так выражает веру, как учат моих детей в катехизисе, тот не член церкви.
* № 21.
К главе XVI
Весь вообще народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И всё то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви, и что чем безграмотнее, чем темнее, чем меньше выражались эти истины, тем они были несомненнее, и наоборот, я все-таки видел, что ложь неизбежно примешана была к истине. Правда, что в народе не было того возмутительного преподавания бессмысленных изречений катехизиса, которые человеку закрывали живое отношение к богу, но зато был ряд суеверий икон, мощей, крестов, помогающих в делах жизни, не было того решительного выбрасывания раскольников из братства церкви (даже понятия церкви нет у народа), напротив, есть всегда сомнение и обращение к себе. На вопрос мой у старика православного о том, спасутся ли, по его мнению, раскольники, он ответил: «Нам как бы свою душу не погубить, а не о чужих заботиться». Но, несмотря на это, народ же приписывает и важность перстосложению и может убивать неверующих, как он. Правда, на войну народ смотрит как на злое, жалеет и турка, но считает благим делом борьбу с неверными. – Так что ложь примешана к истине и у грамотных, и у неграмотных. И там, и здесь источник и лжи и истины – учение.
* № 22.
К главе XVI
<И я понял, что верования народа питались и питаются двумя источниками: одним – чистым христианским, выраженным в излюбленных народом местах из Евангелия, переходящих из уст в уста иногда в внешне искаженном виде, в житиях подвижников и мучеников, в легендах, пословицах, рассказах и, главное, в самом предании жизни, примеров подвигов жизни людей народа; и другим – мутным источником пастырского научения. —
Что же такое это пастырское учение? Что есть в нем ложного и что истинного? Истина должна быть в нем, потому что оно же, это пастырское учение, довело до нас все истины христианские, и оно же научило им народ.>
* № 23.
ЧТО Я?
Нас было пятеро: 4 сына и одна дочь. Я меньшой сын. Мать умерла родами сестры. Мне было тогда полтора года, и я не помню ее. Отец не женился. Две тетки, одна – родная, отцова сестра, и другая – дальняя родня, жили у нас в доме и заступили материно место. После матери отец пожил 7 лет и помер, когда мне было 9 лет. Я чуть помню его. Отец и мать мои были люди богатые и знатные и учены так, как бывают учены богатые и знатные люди. Фамилия отца была Толстой граф. Он был единственный сын богатого графа Ильи Андреевича. Родители его воспитали как умели лучше. Были при нем учителя немцы, англичане и больше французы. Служил он не долго. После войны с французами дед разорился, и родитель вышел из службы. И скоро женился на богатой невесте, княжне Волконской. Мать моя тоже была одна дочь у богатого отца. И была воспитана как можно лучше. Отец мой женился на ней и стал ее деньгами выкупать именья деда. И жил безвыездно в деревне в Ясной Поляне, в той самой, где я родился и теперь живу, и в ней и умер. По слухам знаю, что родители мои были оба люди добрые и честной жизни.
После смерти отца остались мы на попечении родной тетки Александры Ильинишны графини Сакен. Ее молодую отдали за графа Сакена. Но в первый же год муж ее помешался в уме, и Александра Ильинишна переехала жить к отцу. Александра Ильинишна была женщина богомольная, постница и странноприимная. Когда мы жили в деревне, к ней каждый день ходили странники, странницы, монахи, монахини, юродивые. Она принимала их и подолгу беседовала с ними. Когда мы жили в Москве, она каждый день хаживала к заутрене, к ранней, поздней обедне, ездила к старцам и к себе принимала. Отец мой, как я слышал, говел каждый год, ходил по праздникам в церковь и слушал дома всеночные, но всегда смеялся над Александрой Ильинишной и над ее монахами и странниками. Смеялся он над ней без злобы, но смеялся. Помню, раз за обедом он рассказывал, как тет[ушка] Александра Ильинишна с Пашенькой (воспитаница тетушки) и с двумя Евреиновыми барынями ловили какого-то монаха, чтобы благословиться от него и поцеловать его руку. Он, говорил отец, вышел после обедни, хотел домой проскочить, видит, на самом лазу (отец был охотник) стоит Евреинова с сестрой, воззрились в него. Он назад перешел к северным дверям, думал проскочить, а тут Сашенька. Сашенька выпустила его в меру, угонку дала. Пока она его кружила, тут Евреинова в поперечь заложилась. И начали крутить…
Все хохотали, бывало, и добрая тетушка Александра Ильинишна смеялась. Мы смеялись больше всех. Рассказывали тоже и отец и тетушки и смеялись, как Александра Ильинишна встает к заутрене и сама одевается и на цыпочках обходит горничную, чтоб не разбудить ее. Как она привела с собой странницу нищую и положила на свою постель и потом не могла отмыться от насекомых. Рассказывали и смеялись, как она хвалила похлебку постную и говорила, что постное вкуснее скоромного, и как потом ахала, когда нашла куриную косточку в похлебке. И упрекала повара за то, что он оскоромил ее. Мы, дети, всё это видели, слышали. И мало думали об этом. У детей много своих забот и потех. Игрушки, веселья, ученье. Я тогда и вовсе не думал об этом, но теперь, как вспоминаю, то мне казалось об этом вот что: дурного Александра Ильинична ничего не делает; но пустяки делает. Тетушка она добрая, но малоумная. И делать того, что она делает, не надо. С детства нас учили молиться богу, Богородице дево радуйся, Отче наш, папиньку, маминьку, и креститься, и кланяться в землю. И я верил, что это нужно для чего-то. Верил я, что нужно у всенощной стоять и просто, и со свечой, и с вербой и потом христосоваться с яйцом, и что самое лучшее стоять так, как стоял папинька за стулом, и изредка опалком руки, косточками доставать до полу. Думал, что нужно причащаться;70 а нужнее всего было утром и вечером прочитать все молитвы и кланяться в землю. Что если этого не сделать, то бог накажет, случится какое-нибудь несчастие, игрушку разобьешь или провинишься. Очень маленький я был, но уже это было во мне твердо, что бог – как самый старший над всеми, что надо делать то, что он велит делать, так же как то, что учитель велит урок учить или говорить по-французски, и тогда будет хорошо, а не будешь делать, то он накажет. И было твердо то, что все приказы его такие же, как приказы учителя, простые, определенные – как урок отсюда досюда, и что если исполнил приказ, тогда делай, что хочешь. То, чтобы приказанья были такие, что каждое, каждое дело можно сделать по-божьи – добро или дурно, что приказы его на всю жизнь, а не только утром и вечером во всенощной и в обедни, этого не приходило мне в голову. И потому дела тетушки Александры Ильинишны, всех ее странников и странниц мне казались чудачеством смешным. Так и смотрели на это большие.
После отца тетушка Александра Ильинишна осталась опекуншей. В доме, кроме нее, жила бабушка, отцова мать, старушка, и другая дальняя тет[енька] Татьяна Александровна Ергольская. – Мы жили тогда в Москве, как завел отец, на широкую руку. После отца бабушка стала хилеть и году не пережила. Этот год мы жили по-старому. Но когда померла бабушка, осталась одна тетушка Александра Ильинишна опекуншей с Языковым. Стали говорить, что долгов много осталось, именья расстроены, жизнь наша спустилась ниже. Тетушка Александра Ильинишна повела жизнь скромнее. Меньшие трое переехали в деревню на зиму. Она осталась с старшими на маленькой квартирке и повела жизнь71 скромную. После смерти брата (моего отца) и матери (моей бабушки) Александра Ильинична еще больше стала подвигаться к богу. Больше постилась, молилась, странных принимала. И у нас в деревне жили по два, по три человека странников. Ольга Романова, Федосья, Федор и Акимушка юродивый, часто и еще 4-я монахиня гостила. – И в Москве и в деревне жизнь наша шла тихо. Не было у нас никаких веселий, ни товарищей, ни игр, ни елок, ни театров, ни танцев, никакой роскоши. Были учителя – немец дядька, семинарист да всегда человека 4 странников. Мы учились, катались зимой на санях и салазках, летом верхом и рыбу ловить. И было нам хорошо. Мне был 12-й год, Дмитрию 13, Сергею 14, Никол[аю] 16, и никто, кроме Николая, не знал из нас, какая разница мужчины и женщины, и шалости наши были – сахар утащить да убежать в сад на малину. Тетушки принимали странников и ездили в Оптину Пустынь и старших брали туда: Зачем они всё это делали, я не знал и не думал, но не видел в том ничего ни хорошего, ни худого. Я всё попрежпему считал, что нужно одно: молиться утром, вечером богу, не шалить, не смеяться в церкви и не уронить на пол крошки просвирки. Если всё будешь это делать, бог наградит, а не будешь – накажет; и примечал, что так и бывало, когда проглядят, и я забуду помолиться богу. – Помню, у обедни, священник выслал на[м] просвирки. Я уже пил чай и съел просвиру. То, что я съел не натощак, мучало меня, и я заметил, что бог наказал меня за это. Но в 40[-й] голодный год, у нас были у каждого свои лошади, и, помню, мы ходили на мужицкий овес, шмурыгали его и в картузах приносили своим лошадям. Это мы делали, когда люди по два дня не ели и ели этот овес. И, помню, старик удерживал нас. Мне и стыдно не было, и в голову не пришло, что это дурно.
Год после матери (моей бабушки) в самый 40[-й] голодный год померла в Оптиной Пустыни и Александра Ильинишна. Мне было тогда 12 лет. Ближняя родня нам оставалась другая сестра отцова, Пелагея Ильинична. Пелагея Ильинична была мужняя жена. Муж ее Юшков жил в Казани. Она приехала к нам, поступила в опекунши и увезла нас в Казань.
Пелагея Ильинична
В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?
№ 1.
К главе I
<Помню, в одну хорошую минуту, когда я, беседуя с монахом учителем, сообщил ему мое желание отдать <именье> всю собственность, чтобы последовать Христу, учитель сказал мне, что это было бы дурно, что этого не требует учение Христа, что для исполнения учения Христа не надо так прямо понимать его учение, а надо следовать учению церкви о том, как исполнять учение Христа, что церковь предлагает другой, царский путь. Отдавать всего не надо; а надо продолжать жить в роскоши, отдавая 1/10 и молиться и пользоваться благодатью таинств.>
* № 2.
К главе X
Отыскиванием истины математической, научной считается похвальным заниматься. Разрешением разных восточных, римских вопросов можно заниматься. Можно заниматься писанием опер, комедий, историй, можно заниматься геральдикой – чем хотите, всё это допускается, но истинной жизни нашей человеческой не позволяется заниматься. Это считается глупым, смешным – или непозволительным. Единственные люди – социалисты и коммунисты, – которые пытаются заниматься этим, считаются врагами и религии, и государства, и человечества, и всего святого.
КОММЕНТАРИИ
«ИСПОВЕДЬ»
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ
I
«Исповедь», или «Вступление к ненапечатанному сочинению», является первым законченным произведением Л. Н. Толстого, написанным после его «второго рождения», как он называл происшедший во второй половине 1870-х годов перелом в его миросозерцании.
В последней части «Анны Карениной», над которой Толстой работал в начале 1877 г., дается описание того душевного кризиса, который переживал в то время автор. Как и Левин, Толстой испытывал мучительные сомнения в основах своего миросозерцания. Он искал ответов на тревожившие его вопросы о смысле и цели жизни. Как Левин, «невольно, бессознательно для себя, он теперь во всякой книге, во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношения к этим вопросам и разрешения их… Мысли эти томили и мучили его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели».72
3 марта 1877 г. С. А. Толстая писала в своем дневнике: «Сегодня он [Лев Николаевич] говорит, что он и не мог бы жить долго в той страшной борьбе религиозной, в какой находился эти последние два года, и теперь надеется, что близко то время, когда он сделается вполне религиозным человеком».73
Разрешение своих религиозных сомнений Толстой нашел там, где никак не думал найти: не в богословских сочинениях, не в общении с профессиональными духовными лицами, а в общении с русским трудовым народом. Спасло его «уважение и какая-то кровная любовь к мужику, всосанная им, как он сам говорил, вероятно, с молоком бабы-кормилицы», которую он, как изображенный им Левин, всегда испытывал в сильной степени. В «Анне Карениной» рассказывается, как разговор с крестьянином Фоканычем вывел Левина из состояния отчаяния, в котором он находился до того времени.
Толстой, как Левин, принимает церковную веру, потому что ее придерживается большинство трудового крестьянства.
Он исполняет все предписания церковной веры: ходит в церковь, молится дома, соблюдает посты, едет вместе с H. Н. Страховым в Оптину пустынь. Весной 1877 г. он считал себя уже вполне церковно-верующим человеком, как это видно из следующего места черновой редакции последней части «Анны Карениной», написанной не позднее мая 1877 г.: «Я знаю, к кому мне прибегнуть, когда я слаб, я знаю, что яснее тех объяснений, которые дает церковь, я не найду, и эти объяснения вполне удовлетворяют меня».74
25 августа 1877 г. Софья Андреевна записывает в дневнике: «Всё более и более укрепляется в нем религиозный дух. Как в детстве, всякий день становится он на молитву, ездит по праздникам к обедне… по пятницам и средам ест постное и всё говорит о духе смирения, не позволяя и останавливая полушутя тех, кто осуждает других».75
Едва ли, однако, Толстой был когда-либо вполне православно-верующим. Уже 6 ноября 1877 г. он писал H. Н. Страхову:
«На днях слушал я урок священника детям из катехизиса. Всё это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов, что мне захотелось попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался. И попытка эта показала мне, как это для меня трудно и, боюсь, невозможно. И от этого мне грустно и тяжело».76
В письме к H. Н. Страхову от 27 ? января 1878 г. Толстой жизнь Христа (даже «Христов», как он пишет) не выделяет из ряда «жизней Авраамов, Моисеев… святых отцов»; причащению – этому центральному акту общения человека с богом по учению церкви – не придает никакого значения («остаюсь к нему индиферентным» – было сначала написано в этом письме).77
Но еще более, чем догматическая сторона, возбуждало в Толстом сомнение нравственное и общественное учение церкви. В Дневнике 22 мая 1878 г. он записал: «Был у обедни в воскресенье. Подо всё в службе я могу подвести объяснение, меня удовлетворяющее. Но «многая лета» и «одоление на врагов» есть кощунство. Христианин должен молиться за врагов, а не против них».78
11 июня 1879 г. Толстой отправляется в Киев, куда приехал 14 июня. Здесь он ходит по соборам, пещерам, монахам, схимникам, но остается неудовлетворенным. «Не стоило того», – пишет он жене в тот же день.79 Приехавший в Ясную Поляну в конце июня 1879 г. H. Н. Страхов нашел Толстого уже в «новом фазисе», как писал он ему 21 июля.80 Этим «новым фазисом» было, без сомнения, антицерковное настроение Толстого, тогда впервые замеченное Страховым.
27 сентября 1879 г. Толстой поехал в Москву, а из Москвы проехал в Троице-Сергиеву лавру. В Москве он беседовал о вере с митрополитом московским Макарием (Булгаковым) и викарием Алексеем (Лавровым-Платоновым), а в лавре – с наместником Леонидом (Кавелиным). «Все трое прекрасные люди и умные, – писал Толстой Н. Н. Страхову 4 октября, – но я больше еще укрепился в своем убеждении. Волнуюсь, метусь и борюсь духом и страдаю; но благодарю бога за это состояние».81
Повидимому, вскоре после возвращения из Москвы Толстой принялся за изложение своих религиозных взглядов и своего отношения к православию. Писал он для себя, повинуясь непреодолимой внутренней потребности выяснить самому себе свое отношение к религии. Работа шла страшно напряженно.
«Я очень занят, – писал Толстой Н. H. Страхову в коротеньком письме около 2 ноября 1879 г., – но не скажу, что пишу».82 Ему же 22 ноября: «Я очень занят, очень взволнован своей работой. Работа не художественная и не для печати».83 В тот же день Фету: «Я очень занят. Из занятия моего ничего не выйдет, кроме моего удовлетворения, но все-таки очень занят».84 Страхову около 12 декабря: «Я очень занят и очень напрягаюсь. Всё голова болит».85
Вся умственная энергия его до такой степени была устремлена на занимавшую его работу, что ему трудно было оторваться даже для того, чтобы написать письмо. «Поблагодарите Стасова, – писал он H. Н. Страхову в том же письме, – за… его милое письмо и попросите извинения, если и теперь не отвечу, хотя хочу ответить».
Брату Сергею Николаевичу Толстой 21 декабря 1879 г. писал о своей работе в следующих выражениях: «Я всё так же предавался своему сумасшествию, за которое ты так на меня сердишься. Только теперь роды86 выбили меня из колеи».87
Некоторые сведения о работе Толстого над религиозно-философским произведением сообщает и его жена в письмах к своей сестре Т. А. Кузминской. 7 ноября 1879 г. она писала: «Левочка всё работает, как он выражается, но увы! он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и всё это, чтобы доказать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего; я одного желаю, чтоб уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь. Им владеть или предписывать ему умственную работу такую или другую никто в мире не может, даже он сам в этом не властен».88 15 ноября: «Левочка… пишет всё свое божественное». 29 ноября: «Левочка очень много пишет, но все то же объяснение на Евангелие и религиозные работы какие-то, которыми я почти что не могу интересоваться, и хотя мне это больно, но себя не переделаешь. Он тоже все не совсем здоров, все голова болит».89
В своих записках С. А. Толстая писала 18 декабря 1879 г.: «Пишет о религии, объяснение Евангелия и о разладе церкви с христианством. Читает целые дни, постное ест по средам и пятницам… Все разговоры проникнуты учением Христа. Расположение духа спокойное и молчаливо-сосредоточенное. Декабристы90 и вся деятельность в прежнем духе совсем отодвинуты назад, хотя он иногда говорит: «Если буду опять писать, то… напишу совсем другое, до сих пор всё мое писание были одни этюды».91
Это первое доведенное до конца изложение Толстым своих религиозных убеждений сохранилось. Датировка его 1879 г. подтверждается самым текстом произведения. По поводу обличения Христом книжников и фарисеев Толстой уже в конце сочинения говорит, что это обличение «для нас, в нашем 1879 году кажется написанным прямо против наших архиереев, митрополитов, попов во вчерашней газете, ускользнувшей как-то от цензуры». Сочинение не озаглавлено; начинается словами: «Я вырос, состарелся и оглянулся на свою жизнь».
Окончив начерно эту работу, Толстой принялся перерабатывать ее всю сначала. После переработки из первой главы выросло новое произведение, получившее впоследствии название «Исповедь».
Печатая это свое произведение в 1882 г., Толстой под третьей корректурой поставил дату: «1879». Эта датировка подтверждается письмом Толстого к Н. Н. Страхову около 2 марта 1880 г., в котором он писал, что, начав перерабатывать с начала всё свое произведение, он уже кончает разбор «догматического богословия».92 Таким образом, переработка первой главы, из которой сложилась «Исповедь», должна была быть закончена, повидимому, никак не позднее февраля 1880 г.; возможно, что она была произведена еще в предыдущем 1879 г., как датирует ее автор.
Судя по сохранившимся черновикам, новое произведение в переработанном виде начиналось с описания душевного кризиса, пережитого автором. Вот первые его строки:
Мне было почти 50 лет, когда со мной сделалось то ужасное душевное состояние, которое чуть не привело меня к самоубийству и наконец привело меня в то душевное состояние, в котором я нахожусь.
Что именно таков был первоначальный замысел автора, подтверждается и сохранившимся на обложке первой редакции «Исповеди» планом всего произведения, который приводим здесь целиком:
Жизнь остановилась.
Страдания и смерть
<Ужас путни[ка]>
Гора – пропасть
Ужас путника.
Как это со мной сделалась понемногу
Справки с знаниями, с верою (она отброшена)
Оглядываюсь на сверстных. Соломон, Шопенг[ауэр]
Оглядываюсь чувством на человечество.
Вера – дела.
Облегчение, отдых, можно жить.
Не пускают попы.
Что ж они говорят – богословия.
Историч[еский] обзор.
Так Евангелие <как>. Оно свет людей, утоливших меня
Как его читать.
Евангелие – Критич.
Вывод.
Затем у Толстого явилась мысль – присоединить к рассказу о своих сомнениях и исканиях описание своей прошлой жизни. Около 2 ноября 1879 г. он пишет Страхову: «Напишите свою жизнь; я всё хочу то же сделать. Но только надо поставить – возбудить к своей жизни отвращение всех читателей».93
Высказанная в этих словах цель – возбудить к своей жизни отвращение читателей – обусловила особенный характер нового произведения. Всегда склонный к самоанализу, Толстой, вступив на новый путь, начал с самобичевания, явно преувеличенно изобразив в «Исповеди» ошибки своей прошлой жизни.
К какому бы времени ни относить переработку «Исповеди», во всяком случае в начале июля 1881 г. произведение имелось уже в законченном виде. К этому времени относится письмо Толстого к Страхову о том, что он написал предисловие к своему «Краткому изложению Евангелия».94 В предисловии этом сказано, что автором написано большое сочинение, «которое лежит в рукописи и не может быть напечатано» (в России). Сочинение это, говорит далее Толстой, состоит из четырех частей; первая часть содержит «изложение того хода моей личной жизни и моих мыслей, который привел меня к убеждению в том, что в христианском учении находится истина».
Это и была «Исповедь».
В архиве Толстого сохранилась очень своеобразная рукопись, относящаяся к работе над «Исповедью». Это – попытка распространенного изложения первой главы «Исповеди» совершенно простым, понятным языком, в стиле рассказов Толстого для «Азбуки».
Толстой взял первую страницу копии «Исповеди» и принялся радикально перерабатывать ее. Из прежнего текста он оставил только несколько строк и заново написал продолжение. Работа, однако, была прервана на полуфразе, и Толстой более к ней не возвращался.
Мы полагаем, что работа эта предназначалась для журнала «Детский отдых», издававшегося в 1881 г. братом С. А. Толстой П. А. Берсом и
В. К. Истоминым. П. А. Берс просил Толстого предоставить его журналу свое какое-нибудь новое произведение. Но Толстой, повидимому, скоро убедился, что начатая им работа не подойдет для детского журнала, и написал для «Детского отдыха» легенду «Чем люди живы».
Если наше предположение справедливо, то написание данного отрывка следует отнести к зиме 1880—1881 гг. (не позднее января).
II
Новое произведение Л. Н. Толстого, совершенно иного духа и иного содержания, чем все ранее им написанное, стало известно его старому знакомому, редактору «Русской мысли» Сергею Андреевичу Юрьеву, которому Толстой, вероятно в первых числах апреля, читал ее вслух. На другой день Юрьев писал Толстому (письмо не датировано): «Прочтенное Вами вчера оставило в моей душе неизгладимое, сильное впечатление и желание попытать возможность напечатать в моем журнале Ваше рассуждение». Толстой выразил согласие, и в начале апреля 1882 г. статья Толстого была сдана в набор.
7 апреля Толстой уехал из Москвы в Ясную Поляну. 9 апреля он предлагает жене приехать с младшими детьми в Ясную с тем, чтобы он с мальчиками остался в Москве. «Я найду себе занятие в Москве, – писал он, – может быть, корректуры будут».95 11 апреля он писал ей же, что накануне посылал на почту «за корректурами».96 Из письма, однако, не видно, чтобы корректуры были получены.
13 апреля Толстой вернулся в Москву, и переписка его с женой прервалась. Сведения о чтении им корректур находим в письме С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 2 мая 1882 г., в котором она писала: «Левочка остается с мальчиками [в Москве] больше потому, что он печатает статью свою в «Русской мысли» и держит корректуры, ему удобнее это делать здесь» (ГМТ).
Сохранились три авторские корректуры «Исповеди» в гранках. Несомненно, Толстой правил статью и в верстке. По своему обыкновению, в корректурах он совершенно переработал свое произведение, заново написал многие страницы, другие совершенно переделал и написал новое заключение.
К 16 мая чтение корректур было закончено; Толстой уехал из Москвы в Ясную Поляну.
Редакция «Русской мысли» сочла необходимым предпослать статье Толстого введение на трех страницах, где говорилось о том значении, какое имеет статья «в наши дни тоски, неопределенных по своему внутреннему содержанию исканий правды самой по себе и правды в жизни», разочарований, приводящих к самоубийствам. «Великое значение», по мнению редакции журнала, сочинение Толстого «может получить для наших учителей веры: они ясно могут уразуметь от него свою задачу, каким запросам и каким нравственным требованиям должны они удовлетворять».
Кроме этого введения, от редакции к отдельным местам глав XIII—XV было сделано пять примечаний в духе церковного учения. Но все это не избавило статью Толстого от представления в духовную цензуру. Духовный цензор отметил некоторые места, как требующие смягчения. 24 мая Толстой, находившийся тогда опять в Москве, писал жене в Ясную Поляну: «Юрьева видел. Он просил смягчить некоторые места, отмеченные в духовной цензуре. Я завтра попробую это сделать там, где смысл от этого не теряет, и тогда возвращу ему, и он напечатает и опять поедет с книгой в духовную цензуру. А там уже они будут делать, как знают, – т. е. остановят книгу или пропустят».97
Дальнейшая история «Исповеди» рассказана в статье бывшего секретаря «Русской мысли» H. H. Бахметьева.98 По его словам, «духовная цензура держала ее [майскую книгу «Русской мысли» со статьей Толстого] очень долго, не давая никакого ответа. Из Троицкой лавры, где находился в то время московский комитет духовной цензуры, приходили сведения, из которых видно было, что там не знали, как отнестись к этому произведению Толстого, докладывали митрополиту, а в то время московским митрополитом был известный своими богословскими сочинениями и большим для архиерея либерализмом преосвященный Макарий. Ему не хотелось запретить, но и пропустить такую статью он не решался. А время шло, и редакция «Русской мысли» вынуждена была выпустить июньскую книжку раньше застрявшей в цензуре майской. Юрьев в то время находился у себя в имении на летнем отдыхе, и мне, в качестве заведующего делами редакции, пришлось ехать, чтобы подвинуть решение вопроса о майской книжке, в Троицкую лавру. Там я узнал, что рассмотрение «Исповеди» и составление доклада поручено ректору Вифанской семинарии протоиерею Сергиевскому. Поехал к нему в Вифанию. Батюшка оказался очень любезным и словоохотливым. Подробно поведал мне о затруднении, в которое поставила «Исповедь» не только его, но и над ним стоящих, и предложил весьма удобный, по его мнению, выход из этого затруднения. Состоял он в том, чтобы граф Толстой, не изменяя ни единого слова в своей «Исповеди», в конце ее в нескольких словах высказал, что так он думал прежде, но теперь воззрения его иные, более соответствующие духу православной церкви, и тогда никаких затруднений со стороны духовной цензуры к выпуску книги не встретится. На мое возражение, что не только граф Толстой на это ни за что не согласится, но что и редакция не решится предложить ему подобный компромисс, батюшка стал доказывать, что в этом не было бы ничего предосудительного, и читатели отлично поняли бы, что такой «кончик» приделан только ради цензурных требований, суть осталась бы та же, а такое выдающееся, «захватывающее», как выразился отец протоиерей, произведение великого писателя было бы спасено и сделалось бы достоянием читающей публики. Никакого другого выхода он не видел. Без такой приклейки по его, вполне оправдавшемуся впоследствии, уверению духовная цензура не пропустит «Исповеди».
Действительно, в июле состоялось постановление духовной цензуры, запрещавшее появление статьи Толстого.
По сообщению газеты «Голос» от 24 июля 1882 г. (№ 198), статья Толстого была «к выходу в свет окончательно воспрещена и, по передаче ее инспектором типографий в распоряжение полиции, полицией на днях уничтожена», В действительности дело происходило не совсем так. По словам H. H. Бахметьева, «для выпуска майской книжки «Русской мысли» «Исповедь» пришлось вырезать, под очень бдительным наблюдением инспектора типографий, который, опечатав вырезанные листы, препроводил их для уничтожения в Главное управление по делам печати. Впоследствии мне приходилось встречать у некоторых лиц в Петербурге эти вырезки из «Русской мысли». Оказалось, что Главное управление по делам печати выдало их нескольким высокопоставленным лицам, отказать в просьбе которым оно не могло. Осталось и в редакции «Русской мысли» и у меня лично несколько корректурных оттисков «Исповеди» в верстанных листах и в гранках, некоторые даже с поправками автора. С них в свое время снимались многочисленные копии, которые затем в гектографированном или литографированном виде расходились по всей России. В Петербурге существовал кружок студентов, специально занимавшийся таким издательством, и за три рубля за экземпляр в Петербурге, Москве и других городах можно было иметь сколько угодно оттисков «Исповеди». В Петербурге главный склад этого издания помещался в квартире тестя одного из товарищей министра внутренних дел, того именно, который заведывал тогда жандармской частью. Несомненно, что нелегальным путем «Исповедь» разошлась в числе во много раз большем, чем распространила бы ее «Русская мысль», печатавшаяся тогда только в трех тысячах экземпляров».99 Запрещенная книга была впервые напечатана М. К. Элпидиным в Женеве в 1884 г. под заглавием: «Исповедь графа Л. Н. Толстого. Вступление к ненапечатанному сочинению».
К 1885 г. относится также новая попытка издания «Исповеди». С. А. Толстая решила в двенадцатом томе, издаваемого ею собрания сочинений Л. Н. Толстого поместить «Исповедь», «В чем моя вера?» (под новым заглавием: «Как я понял учение Христа») и «Так что же нам делать?». С. А. Толстая предприняла это издание по совету либерального священника А. М Иванцова-Платонова, который взялся снабдить книгу примечаниями, содержащими возражения против наиболее сильных антицерковных утверждений Толстого. Но примечания эти не спасли книгу. Светская цензура передала книгу в духовную цензуру. Духовная цензура, не решаясь сама пропустить или запретить книгу, обратилась в Синод. 5 июля 1886 г. из Московского духовного цензурного комитета на имя С. А. Толстой было отправлено следующее уведомление:
«Ее сиятельству графине Софье Андреевне Толстой. Святейший Синод, принимая во внимание, что в присланных Вами в Московский духовный цензурный комитет сочинениях графа Льва Николаевича Толстого под названиями «Исповедь» и «Как я понял учение Христа» по местам излагаются мысли и суждения, несогласные с учением православной церкви, определяет: не разрешать к печати означенные сочинения и представленные Вами корректурные листы сих сочинений хранить в синодальном архиве.100 Член комитета протоиерей Платон Капустин».
За границей после первого издания Элпидина «Исповедь» перепечатывалась неоднократно: 2-е изд. Элпидина, Женева, 1889; 3-е изд. его же 1895 г. и под тем же номером новое издание 1900 г.; без года, изд. И. Рэда; изд. «Свободное слово» В. и А. Чертковых, Christchurch, 1901, под заглавием: «Вступление к критике догматического богословия и исследованию христианского учения» («Исповедь») и др.
В России довольно значительные выдержки из «Исповеди» были напечатаны в последних главах статьи М. С. Громеки «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого» («Русская мысль» 1884, 11; отдельно 1-е изд. – М. 1885, 6-е и последнее – «Посредник», М. 1914); в статье В. Вогезского «Беседы с гр. Л. Н. Толстым» («Неделя» 1885, 44, 46); в статье М. Остроумова «Наши новые «философы и богословы» («Вера и разум» 1885, 20—23; 1886, 22, 23; 1887, 2, 4, 5, 6; отдельно под заглавием «Гр. Л. Н. Толстой», Харьков 1887) и в статье проф. Казанской духовной академии А. Ф. Гусева «Исповедь графа Л. Н. Толстого и его мнимо-новая вера» («Православное обозрение» 1886, 1—6, 9, 10; отдельно – М. 1890). Разумеется, все самые антицерковные места статьи в этих изданиях не перепечатывались.
Полностью первое законченное критическое по отношению к церкви и государству произведение Л. Н. Толстого было напечатано в России лишь в 1906 г. в № 1 журнала «Всемирный вестник», после чего неоднократно перепечатывалось многими издательствами (отдельное изд. «Всемирного вестника» 1906, Ефимова 1906, издательства «Народ» 1906, «Донская речь» (без указания года), Аскарханова 1906, «Всеобщая библиотека» 1906, «Посредник» 1907, Коха 1911, Холмушина 1911 и 1912, трудовой общины «Трезвая жизнь» 1919 и др.) и вошло в полные собрания сочинений Толстого: изд. С. А. Толстой 1911 (т. 13) и т-ва И. Д. Сытина 1913 (т. 11 издания в 20 томах и т. 15 издания в 24 томах) и в другие собрания сочинений Толстого.
Следует остановиться на происхождении заглавия статьи Толстого.
Название «Исповедь гр. Л. Н. Толстого» является впервые в издании Элпидина 1884 г. Ни в рукописях, ни в корректурах этого названия нет. По всему, что мы знаем о Толстом, несомненно, что он не захотел бы пойти по стопам Августина и Руссо, назвав свое произведение «Исповедью».
Трудно сказать, откуда взялось это название. Оно употреблено уже
С. А. Толстой в записи ее дневника от 31 января 1881 г., где она говорит, что Лев Николаевич «написал свою религиозную исповедь в начале нового сочинения».101 Дает ли С. А. Толстая эту характеристику произведения Льва Николаевича от себя или повторяет то, что сказано было другими – неизвестно. Это же название употреблялось и в редакции «Русской мысли» – судя по тому, что оно упоминается в письме к С. А. Юрьеву Н. П. Гилярова-Платонова,102 которому Юрьев посылал произведение Толстого еще в первой корректуре. Исповедью (без кавычек) называет его и журналист Л. Е. Оболенский в своем критическом фельетоне в «Русском богатстве» за 1883 г.;103 называет и Тургенев в письме к Григоровичу 31 октября 1882 г.104 и к самому автору, которому 15 октября 1882 г. Тургенев писал: «Я начал было большое письмо Вам в ответ Вашей исповеди – но не кончил и не кончу именно потому, чтобы не впасть в спорный тон. Если бы я свиделся с Вами, я бы, конечно, много говорил с Вами об этой исповеди, но, конечно бы, не спорил, а просто сказал бы, что я думаю – разумеется, не из желания доказать свою правоту (это прилично только молодым, неопытным людям), а чтобы в свою очередь исповедаться перед дорогим мне человеком».105
Совершенно определенно называет «Исповедью» новое произведение Толстого и H. Н. Страхов в письме к Н. Я. Данилевскому от 13 сентября 1883 г. В этом письме Страхов сообщал, что Л. Д. Урусов, «величайший поклонник новой мысли Толстого» «перевел для «Revue nouvelle» «Исповедь» (которая печаталась в «Русской мысли» и сожжена)».106
Название «Исповедь» через некоторое время было признано и самим автором. Это название употреблено Толстым в письме к Л. Д. Урусову от 1 мая 1885 г.107 Равным образом в письме к жене, написанном 15—18 декабря 1885 г., Толстой, указывая некоторые страницы своего произведения (очевидно, по женевскому изданию Элпидина 1884 г.), называет его тем заглавием, под которым оно было напечатано – «Исповедь».108
Это дает нам основание печатать произведение под утвердившимся и признанным автором названием, к тому же соответствующим и его содержанию.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ
Существуют следующие рукописи «Исповеди»:
1. Черновики первой сохранившейся редакции. 61 лл. 4°, из которых 28 лл. – автографы, остальные – копии рукой Т. А. Кузминской и Д. Ф. Виноградова частью с сочинения, начинающегося словами: «Я вырос, состарелся и оглянулся на свою жизнь», частью с неизвестного оригинала. Л. 51 не заполнен. Рукопись не имеет окончания. Начало: «Я родился от богатых родителей»; конец: «в том знании веры, к которому».
Листы, являющиеся копиями, очень значительно переработаны автором; в большинстве листов прежний текст зачеркнут и на полях написан новый.
Эта первая редакция «Исповеди» хотя и содержит в основном все главы (кроме одной и заключения) окончательной редакции, тем не менее значительно от нее отличается. Здесь больше (особенно в начале) чисто автобиографического материала. В окончательной редакции утрачен до некоторой степени тот характер задушевности и откровенности, каким отличается эта первая редакция. Так, в окончательной редакции автор выпустил откровенную характеристику тетушки П. И. Юшковой, у которой он жил в Казани; выпустил также рассказ о том, как в день первого вступительного ного экзамена в Казанский университет по «закону божию» он, гуляя по Черному озеру, молился о том, чтобы ему выдержать экзамен, и «ясно видел, что весь катехизис этот – ложь» и т. д. С другой стороны, однако, некоторые автобиографические эпизоды отсутствуют в этой редакции, как, например, рассказ о зрелище смертной казни в Париже и о смерти брата (гл. III окончательной редакции). Отсутствует целиком глава XII окончательной редакции (об искании бога) и заключение всего произведения (рассказ о виденном автором сне).
Деление на главы, очевидно, предполагалось автором, так как в начале стоит цифра I, но дальнейшая нумерация глав не была проведена.
Ввиду несомненного автобиографического интереса этой редакции мы даем из нее в вариантах довольно большие куски под №№ 1, 3, 4, 6, 7, 10 и 11. Эти варианты соответствуют в окончательной редакции главам
I—III и частям глав IV, VIII, X, XV и XVI.
2. Копия всего произведения рукою С. А. Толстой. Содержала первоначально 64 лл. 4°, с отогнутыми полями, исписанных с обеих сторон и нумерованных переписчицей цифрами 1—64. Начало: «Я родился от богатых родителей»; конец: «И вот я приступил к этому». При пересмотре рукописи Толстой сделал большую вставку на отдельном листе на л. 12, вставку из трех отдельных листов на л. 37 и большую вставку на л. 46, а также произвел ряд значительных исправлений других мест рукописи. Исправления наиболее коснулись следующих глав (по окончательной редакции): конца гл. IV – о семье и писательстве, конца гл. VII (от слов: «Так люди моего разбора…»); всей гл. VIII и всей гл. IX. Вновь была написана отсутствующая в первой редакции гл. XII (об искании бога).
Листы, содержащие собственноручные вставки Толстого, и листы копии, подвергшиеся особенно значительной правке, всего 13 листов, были вновь переписаны рукою А. П. Иванова. Остальные же листы копии, менее подвергшиеся авторской правке, были переложены в следующую рукопись.
3. Копия всего произведения. 81 лл. 4°. Рукопись составлена из 44 лл. копии рукою С. А. Толстой, переложенных из предыдущей рукописи, и 37 лл., переписанных рукою Д. Ф. Виноградова и А. П. Иванова, исписанных с одной стороны. Первые 2 лл. отсутствуют. Начало: «Так что как теперь, так и прежде»; конец: «И вот я приступил к этому». Исправлений автора, частью карандашом, частью чернилами, сравнительно немного.
На полях этой рукописи имеются заметки о плане произведения, осуществленного отчасти в этой редакции, отчасти в последующих:
1) В это время гильотина. Что-то екнуло, но ничего не наш[ел] и прод[олжал] жить по-старому, только стал искать в массах народа (л. 6 об.).
2) Убиться не по причине рассуждений, а тоска (л. 8 об.).
3) Дело разума только одно – понять и объяснить жизнь (л. 34 об.).
4) Бог. Церковь Хом[якова]. Мне открылся бог (на пне). Труд восстановить бога, чистого от наслоений церкви (л. 71 об.).
5) Сам бог уничтожался (л. 77 об.).
Из этой рукописи мы печатаем варианты №№ 2 и 9, представляющие значительные различия с теми частями глав IV и XII, которым они соответствуют в окончательной редакции.
4. Вариант начала. Копия рукой С. А. Толстой, с исправлениями автора. 4 лл. 4°, из которых первые два – те самые, которые отсутствуют в рукописи № 2. Начало: «Нас было пятеро»; конец: «свидетельств в бытии у причастия». Заглавие: «Что я?».
В этой рукописи из верхней части первой страницы осталось лишь 9 строк, остальное было зачеркнуто автором и над строками и на полях вписан совершенно новый текст. Продолжение было написано на двух листах, из которых первый исписан с обеих сторон, а второй с одной стороны. Текст обрывается на полуфразе. Последние строки: «Она приехала к нам, поступила в опекунши и увезла нас в Казань. П[елагея] И[льинишна]». Остальная часть копии, не связанная с новым текстом – 8 строк внизу стр. 1 и целиком стр. 2—4 – исправлениям не подвергалась.
Это – начало той рукописи, которая предназначалась для журнала «Детский отдых», издававшегося П. А. Берсом и В. К. Истоминым. Отрывок напечатан в «Звеньях», № 3—4, 1933, стр. 757—761.
Печатаем этот вариант полностью (№ 13).
5. Наборная рукопись для майской книжки «Русской мысли» 1882 г. Переписана рукой А. П. Иванова и содержит 68 лл. 4°, исписанных с обеих сторон и нумерованных по полулистам писчей бумаги, согнутым пополам (т. е. так, что единица нумерации соответствует 4 страницам), с небольшими собственноручными поправками автора на лл. 2, 3, 4 и 9. Была озаглавлена «Что я?», но заглавие зачеркнуто автором. Рукопись списана с копии, описанной выше под № 3. Начало: «Я родился от богатых родителей»; конец: «которого я искал в вере». На л. 1 типографская помета: «кор[ректуру] в 10 экз[емплярах]».
6. Первая авторская корректура. Набор заключал первоначально 34 гранки. После исправлений автора некоторые гранки были разрезаны, другие склеены друг с другом, так что всего составилось 32 гранки, из которых отсутствуют гранки 25 и 27. Заглавие: «Вступление к ненапечатанному сочинению». Начало: <«Я родился от богатых родителей»>; конец: «будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано».
Корректура подверглась основательной авторской правке; целые абзацы зачеркнуты и заменены другими или вовсе исключены. Многие чисто автобиографические подробности вымараны; так, исчез весь первый абзац (об отце, матери, тетках и переезде в Казань). Взамен их больше рассказывается об отношении автора к вере и об его исканиях смысла жизни. Впервые говорит Толстой о своей поездке за границу, о своем разочаровании в господствовавшей тогда в интеллигентных кругах вере в «прогресс», о зрелище смертной казни в Париже, о смерти брата, произведшей на него сильнейшее впечатление (гл. III окончательной редакции). Не забыта и художественная отделка произведения; так, восточная притча о путнике в колодце (гл. IV), кратко изложенная в первоначальной редакции, здесь превращается в небольшой, но художественно законченный рассказ, так же как и легенда о Будде (гл. VI). Точнее и подробнее изложено отношение автора к науке (гл. V и VI). Очень развита гл. XI (окончательной редакции) – сравнение отношения к жизни людей богатых классов и людей трудящихся; большая часть этой главы впервые появляется в этой корректуре. Так же подробно развито описание столкновения с церковью по вопросу об отношении к другим исповеданиям (гл. XV). Кроме этих обширных вставок, Толстой, как всегда, сделал немало исправлений, имеющих целью уточнить свою мысль и придать большую яркость и образность.
Здесь впервые появляется деление на главы, не вполне соответствующее последней редакции.
Из этой корректуры мы даем вариант № 8.
7. Переписанные для ясности рукой А. П. Иванова первые 4 гранки первой корректуры с исправлениями автора. Нумерованных (кроме последнего) 32 лл. 4°. Начало: «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере»; конец: «И потеря эта остановила во мне жизнь». Перечитывая эту переписку, автор сделал небольшие (большей частью) исправления на всех листах. Последние 3 страницы, дающие первую редакцию последних пяти абзацев гл. III окончательной редакции, почти целиком написаны рукой автора. Заглавие: «Вступление к ненапечатанному сочинению». По этой рукописи производилась правка в типографии.
8. Вторая авторская корректура с главы I до половины главы XIII (окончательной редакции). 31 нумерованная гранка. Отсутствуют гранки 24 и 26а. Заглавие: «Вступление к ненапечатанному сочинению», вместо зачеркнутого: «Как я потерял смысл жизни и в чем нашел его». Начало: «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере»; конец: <«единение и жертвы во имя любви»˃. Деление на главы еще не вполне соответствует окончательной редакции. На первых 21 гранках, содержащих I—VII главы окончательной редакции, исправлений автора сравнительно немного; есть некоторые гранки (3а, 4, 5, 6, 7, 12, 14), где их нет совсем; наибольшие исправления и вставки сделаны на гранке 10, где рассказывается об отношении автора к науке (гл. V окончательной редакции). С гранки 18 до конца исправлений и вставок значительно больше, особенно в тексте, соответствующем X, XII и XIII главам окончательной редакции.
Из этой корректуры мы печатаем вариант № 5.
9. Третья авторская корректура. Содержала всего 40 гранок, из которых отсутствуют гранки: 1—10, 12, 13, 17, 21 и часть гранки 11. Начало: «Но этого мало. Если бы я просто понял»; конец: «будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано». Деление на главы почти соответствует окончательной редакции. Авторских исправлений и вставок очень много, из которых многие очень обширны. Особенно усердно были переработаны главы V (об отношении к науке), X (о народной вере), XI (сравнение жизни богатых с жизнью трудящихся), XII (об искании бога – здесь впервые дается сравнение человеческой жизни с переправой на другой берег), XIII (о православии) и XV (о столкновении с церковью по вопросу об отношении к другим исповеданиям).
Корректура на последнем листе датирована рукой автора: «1879».
Из этой корректуры мы даем вариант № 12.
10. Рукопись заключения всего произведения – описание виденного автором сна. Была написана по окончании просмотра третьей корректуры.
3 лл. 4°, целиком написанные рукой автора; оборотная сторона последнего листа не заполнена. Начало: «Это было написано мною»; конец: <«очень рад, что видел этот сон»>. Рукопись служила оригиналом набора, что видно из оставшихся на ней типографских пятен.
Несмотря, однако, на такое изобилие рукописей и корректур «Исповеди», отсутствует самая главная и нужная последняя, в сверстанных листах, авторская корректура, по которой произведение было напечатано в «Русской мысли». Из статьи секретаря «Русской мысли» H. H. Бахметьева мы уже знаем, что часть корректур с исправлениями автора осталась в редакции «Русской мысли». Между тем тексты как «Русской мысли», так и первого отдельного издания «Исповеди» Элпидина не во всем совпадают с текстом последней имеющейся в нашем распоряжении третьей корректуры; следовательно, в листах произведение снова подверглось правке.
Сравнивая тексты «Исповеди» в «Русской мысли» с текстом отдельного издания Элпидина, находим между ними существенную разницу. В издании Элпидина не внесены последние стилистические исправления, сделанные в тексте «Русской мысли». С другой стороны, как мы знаем из письма Толстого к жене, в тексте «Русской мысли» с согласия автора и при его участии были произведены некоторые цензурные смягчения. В издании Элпидина текст произведения Толстого появился без цензурных искажений. Очевидно, Элпидин печатал по предпоследней сверстанной корректуре – без последних поправок автора, но и без цензурных смягчений и выкидок.
Мы сочли наиболее правильным печатать «Исповедь» по тексту «Русской мысли», с уничтожением цензурных смягчений по тексту издания Элпидина. Эти смягчения поддаются определению. Мы считаем следующие места «Вступления к ненапечатанному сочинению» подвергшимися цензурным смягчениям:
Страница и строка данного тома – 2, 20
В издании Элпидина – Если и есть различие
В «Русской мысли» – Если замечал различие
Страница и строка данного тома – 2, 23
В издании Элпидина – большею частью встречалось
В «Русской мысли» – большею частью, как мне казалось, встречалось
Страница и строка данного тома – 2, 26
В издании Элпидина – большею частью встречались в людях
В «Русской мысли» – большею частью встречались, как мне казалось, в людях
Страница и строка данного тома – 33, 8—9
В издании Элпидина – чего я не могу принять, пока я не сошел с ума
В «Русской мысли» – что не совместимо с требованиями моего разума
Страница и строка данного тома – 34, 36—37
В издании Элпидина – Как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою
В «Русской мысли» – Как ни неразумны ответы, даваемые верою
Страница и строка данного тома – 37, 34—36
В издании Элпидина – Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью.
В «Русской мысли» – Я видел, что знание смысла жизни – в вере, но в какой вере и как понять ее?
Страница и строка данного тома – 44, 23—25
В издании Элпидина – тем очевиднее для меня было, что он не слышит меня, и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться.
В «Русской мысли» – тем дальше становился от меня тот бог, к которому я обращался, я уж не чувствовал его.
Страница и строка данного тома – 45, 4—5
В издании Элпидина – И опять этот отдельный от мира, от меня бог, как льдина, таял, таял на моих глазах
В «Русской мысли» – И опять этот отдельный от мира, от меня бог скрывался от моих глаз.
Страница и строка данного тома – 51, 39—40
В издании Элпидина – Эта мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.
В «Русской мысли» – Заменено двумя строками точек.
Страница и строка данного тома – 54, 20—23
В издании Элпидина – И не получил никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире – сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире это – желтые уланы.
В «Русской мысли» – И не получал никакого объяснения кроме того, что истина слишком очевидна. Католик видел очевидность истины в своем, православный – в своем, старообрядец – в своем исповедании.
ПРИМЕЧАНИЯ К ОСНОВНОМУ ТЕКСТУ «ИСПОВЕДИ»
1. 16. …вышел со второго курса университета – Толстой поступил в Казанский университет в 1844 г. и пробыл один год на восточном отделении философского факультета и два года на юридическом факультете. В 1847 г. вышел из университета.
2. 113. Володинька М. – Это был Владимир Алексеевич Милютин (1826—1855), родной брат военного министра Д. А. Милютина, впоследствии профессор государственного, а затем полицейского права в Петербургском университете. Литературную деятельность В. А. Милютин начал двадцати лет, будучи еще студентом университета, и сразу же благодаря своей образованности и талантливости занял видное место среди тогдашних литераторов. На двадцать девятом году, вследствие личных причин, покончил самоубийством. Главные работы В. А. Милютина: «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» – «Отечественные записки» 1847, 1—4; «Мальтус и его противники» – «Современник» 1847, 7—8; статьи по поводу книги А. Бутовского «Опыт о народном хозяйстве или о началах политической экономии» – «Современник» 1847, 10—12, и «Отечественные записки» 1847, 11—12. «Избранные произведения» В. А. Милютина изданы в 1946 г. Госполитиздатом с предисловием И. Г. Блюмина.
3. 116-17. (это было в 1838 г.) – описанный Толстым случай произошел в сентябре 1839 г.
4. 121. …старший брат мой Дмитрий. – Дмитрий Николаевич Толстой (р. 23 апреля 1827 г., ум. 21 января 1856 г. от туберкулеза). См. о нем «Воспоминания» Толстого (т. 34).
5. 24-5. …читал Вольтера. – Франсуа-Мари Вольтер (1694—1778). Против церкви и духовенства были направлены очень многие сочинения Вольтера, как, например, «Oedip» («Эдип»), «Mahomet» («Магомет»), «Zaire» («Заира»), «Henriade» («Генриада»), «Siècle de Louis XIV» («Век Людовика XIV»), «Essay sur les moeurs et l’esprit des nations»)(«Опыт о нравах и духе народов») и др. Одну из едких насмешек Вольтера над церковными догматами Толстой вспоминает в статье «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1901—1902): «…не говоря и о том нелепом таинстве, про которое Вольтер еще говорил, что были и есть всякие нелепые религиозные учения, но никогда еще не было такого, в котором главный религиозный акт состоял бы в том, чтобы есть своего бога» (т. 35, стр. 169).
6. 31. …рассказывал С. – С. – брат Толстого Сергей Николаевич (р. 17 февраля 1826 г., ум. 23 августа 1904 г.). «Старший брат», упоминаемый далее, – H. H. Толстой. Точные слова, сказанные H. H. Толстым С. Н. Толстому, были: «А ты еще всё делаешь этот намаз?» См. рукописные варианты «Исповеди», вариант № 1.
7. 430. …добрая тетушка моя. – Речь идет о воспитательнице Толстого Татьяне Александровне Ергольской (р. 4 ноября 1792 г., ум. 20 июня 1874 г.), приходившейся ему троюродной теткой. По признанию самого Толстого, Т. А. Ергольская имела на него сильное и благотворное влияние. «Она научила меня духовному наслаждению любви», – писал он в «Воспоминаниях», где посвятил Т. А. Ергольской отдельную главу (VI).
8. 55. Я убивал людей на войне. – Толстой участвовал в войне с кавказскими горцами в 1851—1853 гг. и в Крымской войне 1854—1855 гг., находясь сначала в Дунайской армии, а затем в осажденном Севастополе.
9. 55. …вызывал на дуэли. – Известны два случая вызова Толстым на дуэль. Первый произошел 19 марта 1856 г. М. Н. Лонгинов, в то время сотрудник «Современника», а впоследствии орловский губернатор и затем начальник Главного управления по делам печати, прислал Некрасову письмо, в котором сомневался в свободомыслии Толстого. Не зная содержания письма, Некрасов показал его Толстому; Толстой оскорбился письмом Лонгинова и послал ему вызов на дуэль. Инцидент был улажен Некрасовым. См. письмо Толстого к Некрасову от 2 июля 1856 г., т. 60.
Второй случай – вызов Тургенева после ссоры с ним 27 мая 1861 г. в гостях у Фета. См.: А. Фет, «Мои воспоминания», т. I, М. 1890, стр. 369—375; Н. Н. Гусев, «Толстой в молодости», М. 1927, стр. 387– 394; «Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928, стр. 63—68.
10. 512. В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. – Первое произведение, написанное Толстым для печати, относится к 1851—1852 гг. Это – повесть «Детство»; она появилась в сентябрьской книжке «Современника» 1852 г. По Дневникам Толстого 1851—1852 гг. видно, как он был захвачен творческой работой, когда писал это свое первое законченное произведение, как неправомерна данная автохарактеристика.
11. 520. …я приехал после войны в Петербург. – Толстой приехал в Петербург после Крымской войны 19 ноября 1855 г. Ему было тогда не двадцать шесть, а двадцать семь лет.
12. 83. …я поехал за границу. – Толстой в первый раз выехал за границу из Москвы 29 января 1857 г. Он побывал во Франции, Швейцарии и Германии; вернулся в Петербург 30 июля 1857 г. См. его Дневник и письма за этот период (тт. 47 и 60); «Воспоминания» А. А. Толстой – «Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой», изд. Общества Толстовского музея, СПб. 1911, стр. 4—12.
13. 820. …вид смертной казни. – Толстой наблюдал смертную казнь гильотиной в Париже 25 марта (6 апреля) 1857 г. (был казнен убийца). В этот день он записал в Дневнике: «Больной, встал в 7 часов и поехал смотреть экзекуцию. Толстая белая здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие, и потом – смерть, что за бессмыслица! – Сильное и не даром прошедшее впечатление. Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу… Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться» (т. 47, стр. 121—122).
Кроме того, Толстой писал о впечатлении, произведенном на него видом смертной казни, в письме к В. П. Боткину в тот же день (т. 60, стр. 167—169) и в трактате «Так что же нам делать?» (гл. II), написанном в 1884—1885 гг. (т. 25, стр. 190).
14. 830-31. …смерть моего брата. – Николай Николаевич Толстой (р. 21 июня 1823 г.) скончался 20 сентября 1860 г. в Гиере от туберкулеза. По признанию Толстого, брат Николай Николаевич имел на него сильное и благотворное влияние. Лев Николаевич в письме к Т. А. Ергольской от 6 января 1852 г. писал, что самым большим несчастием для него была бы смерть ее и «Николеньки» (т. 59, стр. 145—146). Смерть брата потрясла Толстого. «Скоро месяц, что Николенька умер, – писал он в Дневнике 13 октября 1860 г. – Страшно оторвало меня от жизни это событие.... Николенькина смерть – самое сильное впечатление в моей жизни» (т. 48, стр. 29—30). То же писал он Фету 17 октября того же года (т. 60, стр. 357—358).
О H. Н. Толстом см.: Л. Н. Толстой, «Воспоминания» (т. 34); его же Дневники и письма: к Т. А. Ергольской от 20 и 24—25 сентября 1860 г. и к С. Н. Толстому от 24—25 сентября того же года (т. 60, стр. 352—356); А. Фет, «Мои воспоминания», т. I, М. 1890; Евг. Гаршин, «Воспоминания об И. С. Тургеневе» – «Исторический вестник» 1883, 11.
Из произведений H. Н. Толстого напечатаны: «Охота на Кавказе» – «Современник» 1857, 2, отдельное изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1922, с предисловием М. О. Гершензона; «Пластун» – «Красная новь» 1926, 5, 7, с статьей А. Е. Грузинского «Писатель H. H. Толстой».
15. 92. …занятие крестьянскими школами. – Толстой занимался педагогической деятельностью в течение 1858—1863 гг. Основным принципом его педагогической системы было отсутствие всякого принуждения по отношению к учащимся со стороны учителя. Занятия с детьми оставили в нем светлое воспоминание на всю его жизнь. «Счастливые периоды моей жизни, – писал он в Дневнике 8 апреля 1901 г., – были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям. Это были: школа, посредничество, голодающие и религиозная помощь» (т. 54, стр. 94).
О школьных занятиях Толстого см. его педагогические статьи, т. 8; «Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы B. C. Морозова», изд. «Посредник», М. 1917; Н. Н. Гусев, «Толстой в молодости», М. 1927, стр. 315—362 (там же библиография).
16. 922-23 …я другой раз поехал за границу. – Толстой вторично выехал за границу 2 июля 1860 г. На этот раз он побывал в Германии, Франции, Англии и Бельгии. Возвратился в Россию 12 апреля 1861 г. См. его Дневники этого периода (т. 48).
17. 927. …заняв место посредника. – Толстой был назначен мировым посредником 28 июня 1861 г. Состоя в этой должности, он защищал интересы крестьян против несправедливых притязаний помещиков, чем вызвал озлобление против себя всего крапивенского дворянства. Озлобление это было так велико, что ему, наконец, пришлось оставить службу. 30 апреля 1862 г. он подал в отставку, которую получил 26 мая того же года. См. Д. Успенский, «Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого» – «Русская мысль» 1903, 9; Н. Н. Гусев, «Толстой в молодости», М. 1927, стр. 394—398.
18. 929. …в журнале, который я начал издавать. – Толстой в 1862 г. издавал журнал под названием: «Ясная Поляна. Школа. Журнал педагогический». Вышло всего двенадцать номеров, в которых было помещено одиннадцать больших статей Толстого и ряд статей учителей, занимавшихся в основанных им школах под его руководством, а также других лиц, занятых вопросами народного образования.
19. 102. …поехал в степь. – Толстой в первый раз поехал на кумыс в Самарскую губ. 14 мая 1862 г., захватив с собою двух своих учеников – Василия Морозова и Егора Чернова. Он поселился в башкирском кочевье на Каралыке в Николаевском уезде Самарской губ. Возвратился в Ясную Поляну 31 июля 1862 г. О пребывании Толстого в башкирской степи см. «Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы В. С. Морозова», изд. «Посредник», М. 1917, стр. 89—123.
20. 104. …я женился. – Толстой женился на Софье Андреевне Берс 23 сентября 1862 г. См. его Дневники за август – сентябрь 1862 г., т. 48; Т. А. Кузминская, «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1925; С. А. Толстая, «Женитьба Л. Н. Толстого» – «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928, стр. 8—29.
21. 1324-25 …придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей. – Ко времени написания «Исповеди» Толстой пережил смерти следующих близких людей: 1) отец Николай Ильич; 2) бабушка Пелагея Николаевна Толстая; 3) тетушка Александра Ильинична Остен-Сакен, опекунша; 4) брат Дмитрий Николаевич; 5) брат Николай Николаевич; 6) зять Валерьян Петрович Толстой (ум. 6 января 1865 г.); 7) сын Петр (р. 13 июня 1872 г., ум. 9 ноября 1873 г.); 8) «тетенька» Т. А. Ергольская; 9) сын Николай (р. 22 апреля 1874 г., ум. 21 февраля 1875 г.); 10) тетка Пелагея Ильинична Юшкова, вторая опекунша Толстых (ум. 22 декабря 1875 г.).
22. 1334. Давно уже рассказана восточная басня. – Басня эта входит в состав санскритского сборника повестей, басен и назидательных сентенций, известного под именем Панчантры (Пятикнижия). Время составления его точно неизвестно, но определяется приблизительно между II веком до н. э. и VI веком. В VI веке сборник был переведен на сирийский, а впоследствии – на арабский язык. Арабский перевод послужил затем источником для распространения этого сказания с Востока на Запад. См. Ф. И. Буслаев, «Мои досуги», т. II, М. 1886, статья «Перехожие повести». Толстой читал эту басню в «Прологе» но мог читать и в стихотворном переложении Жуковского: «Две повести. Подарок на Новый год издателю «Москвитянина». Из Шамиссо и Рюккерта» (1844).
23. 2230-32. …в истинной философии, – не в той, которую Шопенгауер называет профессорской философией. – Шопенгауэр высказался о профессорах философии особенно резко в предисловии ко второму изданию «Мир как воля и представление», написанном в 1844 г. См. в русском переводе А. Фета, изд. Маркса, 4-е, СПб., стр. XXV—XXVIII.
24. 2237. «Мы приблизимся к истине.... когда смерть приходит к нам». – Отрывок представляет свободный и сокращенный перевод двух выдержек из гл. XI и XII диалога Платона «Федон», передающего предсмертные беседы Сократа с учениками. Возможно, что Толстой, зная греческий язык, читал «Федона» в оригинале.
По списку, составленному Толстым в 1891 г., «Федон» произвел на него «очень большое» впечатление в возрасте от 20 до 35 лет (письмо к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г., т. 66, стр. 68).
25. 235-27. «Познавши внутреннюю сущность.... есть ничто». – Выдержка взята из заключительного (71) параграфа сочинения Артура Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung» («Мир как воля и представление»). Толстой читал его в оригинале; перевод принадлежит ему.
26. 2326—2518. Суета сует, – говорит Соломон.... делается под солнцем. – Выдержки взяты из 1, 2 и 9 глав «Книги Екклезиаста, или Проповедника», считающейся церковью одной из канонических книг, входящих в состав священного писания Ветхого Завета. Церковная традиция приписывает книгу Соломону, царю израильскому, жившему в XI—X веках до н. э. Библейская критика находит, что приписывать это сочинение Соломону нет никаких оснований. Действительный автор его неизвестен.
27. 2731—282. И похвалил я веселье.... ни знания, ни мудрости. – Выдержки взяты из 8 и 9 глав «Книги Екклезиаста».
28. 3417. …то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем. – Декарт (1596—1650) – французский философ. Толстой имеет в виду его сочинение «Principia philosophiae» («Основания философии», 1647).
Толстой читал выдержку из сочинения Декарта в переводе H. Н. Страхова в его статье «Об основных понятиях психологии», появившейся в «Журнале Министерства народного просвещения» 1878, № 5, стр. 31—35, откуда она и заимствована нами.
29. 383. …к православным богословам нового оттенка. – Разумеются сочинения славянофилов Алексея Степановича Хомякова (1804—1860) и Юрия Федоровича Самарина (1819—1876).
30. 384-5. …к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. – В 1874 г. в петербургских великосветских кругах появился англичанин лорд Редсток, проповедывавший спасение одною верою в «искупление кровью Христа». Из его последователей Толстой был знаком и состоял в 1876 г. в переписке с гр. Алексеем Павловичем Бобринским (1826—1894), бывшим в 1871—1874 гг. министром путей сообщения. В седьмой части «Анны Карениной» (гл. XXI—XXII), появившейся в № 4 «Русского вестника» за 1877 г., последователи этого учения изображаются уже в комическом виде.
31. 443-5. Несмотря на то, что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя). – В «Критике чистого разума» Канта (I. Трансцендентальное учение об элементах, гл. III, секция 4, 5 и 6) говорится о «невозможности» онтологического, космологического и физико-теологического доказательства существования бога.
32. 448. …доводы.... Шопенгауера. – Шопенгауэр рассматривает доказательства бытия божия в своем сочинении: «Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund» («О четверояком корне закона достаточного основания»), гл. вторая, §§ 7, 8; гл. четвертая, § 20.
33. 4914-15. …новые наши русские богословские сочинения. – Разумеются статьи А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина. О впечатлении, произведенном на него богословскими сочинениями Хомякова, Толстой писал также в «Анне Карениной» (ч. восьмая, гл. IX) и в «Исследовании догматического богословия» (гл. XIII).
34. 4932. …в Никейском символе. – Никейский (правильнее – Никео-Константинопольский) символ – исповедание веры, принятое церковью на двух «вселенских соборах»: первом – в Никее в 325 г. и втором – в Константинополе в 381 г. Излагает основные положения церковной догматики.
35. 5123. …причащался в первый раз. – Это было в 1878 г. См. письмо Толстого к H. Н. Страхову от 17 апреля 1878 г. (т. 62, стр. 413).
36. 5221. …при чтении Четьи-Минеи. – Четьи-Минеи – сборник житий святых православной церкви. Толстой читал жития святых в издании: «Книга житий святых. Напечатался в царствующем великом граде Москве, в синодальной типографии, пятым тиснением, в лето от рождества по плоти бога слова 1864», 12 томов. Это издание, с многочисленными пометками Толстого, хранится в яснополянской библиотеке. Кроме него, Толстой читал еще «Великие Минеи-Четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием», СПб., изд. Археографической комиссии, и В. Ключевского «Древнерусские жития святых, как исторический источник. Исследование», изд. К. Солдатенкова, М. 1871. Экземпляр книги Ключевского, имеющийся в яснополянской библиотеке, также испещрен многочисленными пометками Толстого.
37. 5221. …при чтении..... Прологов. – «Прологом» в древней Руси называлась весьма распространенная книга, содержащая жития святых и поучения. Древнейший список «Пролога» восходит к XII веку, но самый перевод был сделан значительно раньше. Первое печатное издание относится к 1642—1644 гг. Перепечатывался много раз; последние издания были сделаны старообрядцами в Москве, без изменений с первого издания, в 1910 и 1915 гг. Упоминаемое ниже Толстым житие Макария Великого помещено в «Прологе» под 19 января; житие Иоасафа царевича, являющееся христианским пересказом легенды о Будде, – под 18 ноября; «Слово о путнике в колодце», имеющее название «Притча святого Варлаама о временнем сем веце», – под 19 ноября; «Слово о монахе, нашедшем золото» («О Филагрии мнисе, иже найде тысящу златник и возврати погубившему») – под 13 сентября; «Слово о Петре Мытаре» (Иоанна Милостивого) – под 22 сентября; «Слова Иоанна Златоуста» рассеяны в большом количестве на протяжении всей книги. Толстой читал «Пролог» в издании 1875—1876 гг. Читанный им экземпляр, испещренный многочисленными его пометками, сохраняется в яснополянской библиотеке. Судя по закладкам. Толстой в последний раз читал «Пролог» в июне 1880 г.
38. 5411-12. …отношение.... пашковца. – Пашковцы – последователи религиозных воззрений Василия Александровича Пашкова (ум. 1902), последователя учения лорда Редстока (см. прим. 30). Учение Пашкова в 1870—1880 гг. было распространено в аристократических кругах Петербурга.
39. 5411-12. …отношение.... шекера. – Шекеры – сектанты, выделившиеся из квакеров в Манчестере. Переселившись в Америку, шекеры были организованы в 1774 г. Анной Ли (1733—1784). Учение шекеров отвергает брак, присягу и военную службу и признает общность имущества.
40. 566_7. …мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. – Имеется в виду так называемое «единоверие», то есть соединение старообрядцев с господствующей церковью при условии подчинения их православному духовенству и принятия церковнослужителей от православных архиереев. Богослужение же и таинства единоверцы совершают по старопечатным книгам и по старым обрядам. Единоверие возникло в конце XVIII века по инициативе старообрядцев.
41. 559. «filioque» (буквально – «и сына», прибавление к восьмому члену символа веры) – догматическое расхождение католической церкви с православной.
42. 561. война в России. – Имеется в виду Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
43. 569-10. …убийство.... юношей. – Автор говорит о казнях революционеров-террористов, членов партии «Народной воли», особенно участившихся с 1879 г.
44. 5717. …увидал сон. – Сон этот Толстой, по его словам, действительно видел (см. H. Н. Гусев, «Два года с Л. Н. Толстым», изд. Толстовского музея, М. 1928, стр. 86, запись от 15 февраля 1908 г.).
ПРИМЕЧАНИЯ К ВАРИАНТАМ ИЗ ЧЕРНОВЫХ РУКОПИСЕЙ «ИСПОВЕДИ»
К варианту № 1
1. 4884. …мать умерла, когда мне было 1 1/2 года. – Не совсем точно: Мария Николаевна Толстая скончалась 7 августа 1830 г., когда Льву Николаевичу было, следовательно, без малого два года.
2. 4885-6. Две тетки. – Родная тетка Толстого – Александра Ильинична Остен-Сакен и дальняя родственница Татьяна Александровна Ергольская.
3. 4887. Третья тетка. – Пелагея Ильинична Юшкова (р. 14 апреля 1797 г., ум. 22 декабря 1875 г.), родная сестра отца Толстого, была опекуншей Толстых после смерти А. И. Остен-Сакен.
4. 48812-13. …кончила жизнь в монастыре. – П. И. Юшкова «кончила жизнь в монастыре» в том смысле, что жила в монастыре (под Тулой) последние годы жизни; умерла же она в Ясной Поляне.
5. 48817. …приехал в.... деревню. – Толстой уехал из Казани 23 апреля 1847 г. Приехал в доставшуюся ему по разделу Ясную Поляну 30 апреля 1847 г.
6. 48824-25. …в день первого моего экзамена в университет. – Вступительный в Казанский университет экзамен по «закону божию» Толстой держал 29 мая 1844 г.
7. 48943. …делаешь этот намаз. – «Намаз» – ежедневная молитва мусульман, состоящая из строго установленных формул и производимая в определенные часы дня.
8. 4911. …дневники.... с Франклиновскими таблицами. – В марте—апреле 1851 г., живя в Москве. Толстой, составив список добродетелей, которые хотел развить в себе, ежедневно отмечал в Дневнике, какую из добродетелей он нарушил за истекший день. Толстой называл такого рода записи «Франклиновскими таблицами» потому, что подобный дневник вел американский общественный деятель и ученый Вениамин Франклин (1706—1790). См. т. 46.
9. 4911-2. …с правилами, как достигать совершенства. – Составление для себя правил всякого рода было излюбленным приемом молодого Толстого. Сохранились составленные им «Правила в жизни», «Правила вообще», «Правила для развития воли телесной», «воли чувственной», «воли разумной» и пр. Дневники молодости Толстого также изобилуют правилами всякого рода. См. т. 46.
К варианту № 23
10. 50840-41. Мать умерла родами сестры. – Это не вполне точно: сестра Толстого Мария Николаевна родилась 2 марта 1830 г., а мать умерла 7 августа того же года, следовательно, через 5 месяцев после родов. По словам С. А. Толстой, мать Льва Николаевича умерла не после родов дочери, а вследствие этих родов: она заболела нервным расстройством, которое и свело ее в могилу. Существует, однако, и другой рассказ о причинах смерти матери Толстого, исходивший от его сестры. По ее рассказу, М. Н. Толстая умерла вследствие мозговой болезни, постигшей ее после падения с качель и ушиба головы. См. Н. Н. Гусев, «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год», изд. Академии наук СССР, М. 1954, стр. 57—59.
11. 5095-6. …графа Ильи Андреевича. – Граф Илья Андреевич Толстой (р. 20 июля 1757 г., ум. 21 марта 1820 г.).
12. 50917. …за графа Сакена. – Граф Карл Иванович Остен-Сакен (р. около 1797 г., ум. в 1855 г.).
13. 50931. …с Пашенькой. — О воспитаннице А. И. Остен-Сакен Пашеньке известно из «Воспоминаний» Толстого (гл. V) только то, что после того, как А. И. Остен-Сакен, испуганная душевнобольным мужем, пытавшимся ее зарезать, преждевременно родила мертвую девочку, «боясь последствий от огорчения от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяли родившуюся в то же время у знакомой прислуги, жены придворного повара, девочку». В то время как Толстой стал помнить себя, Пашенька уже взрослой девушкой жила у них в доме. Умерла в 1846 г. от туберкулеза.
14. 50931-32. …с двумя Евреиновыми барынями.– О каких именно «барынях Евреиновых» идет речь, сказать трудно. Возможно, что имеется в виду Ольга Ивановна Евреинова, рожд. Кучецкая (р. 24 июня 1764 г., ум. 27 февраля 1841 г.), жена Михаила Яковлевича Евреинова. Граф М. В. Толстой называет ее «умной и благочестивой матерью» («Русский архив» 1891, 8, стр. 405). У нее была дочь Елизавета Михайловна.
15. 51037. Этот год – то есть год после смерти отца, следовательно с лета 1837 г. до кончины бабушки.
16. 51039. …с Языковым. – Семен Иванович Языков, помещик Белевского уезда Тульской губ., крестный отец Толстого, один из опекунов малолетних Толстых.
17. 5114. …Акимушка юродивый. – Аким «дурачок», как называет его Толстой в своих воспоминаниях, был в Ясной Поляне помощником садовника. Дети подслушивали его молитву. (Вставка в «Биографию Л. Н. Толстого», составленную П. И. Бирюковым, т. 34, стр. 395.)
18. 511. …немец дядька — Федор Иванович Рёссель.
19. 51131. …в самый 40-й голодный год померла.... Александра Ильинишна. Мне было тогда 12 лет. – А. И. Остен-Сакен умерла не в 1840, а в 1841 г., когда Толстому было, следовательно, не 12, а 13 лет.
20. 51134. …муж ее Юшков жил в Казани. – Владимир Иванович Юшков, владелец имения Паново в Казанской губ., ум. 28 ноября 1869 г.
«ИССЛЕДОВАНИЕ ДОГМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ
I
В вступлении к «Исследованию догматического богословия» Толстой говорит, что, решив исследовать православную догматику, он долгое время не мог решить, какое изложение выбрать для своего разбора, и, наконец, остановился на «Православно-догматическом богословии» доктора богословия Макария, тогда митрополита московского.109 Сочинение это было указано Толстому, как лучшее изложение догматов православия, тульским священником А. Ивановым, с которым он беседовал о вопросах веры.
Первое издание «Православно-догматического богословия», в пяти томах, появилось в 1849—1853 гг. 17 апреля 1854 г. Академия наук присудила автору полную демидовскую премию. Макарий был признан первым русским богословом.
Сведения о писании «Исследования догматического богословия» крайне скудны.
В комментариях к «Исповеди» было указано, что в последних месяцах 1879 г. Толстой начал писать религиозно-философское сочинение, в состав которого входил и разбор православной догматики, и изложение Евангелия, и изложение его понимания евангельского учения. Окончив начерно это сочинение, Толстой принялся перерабатывать его.
Около 2 марта 1880 г. он писал H. Н. Страхову: «Каждый день собираюсь писать вам, и каждый день так устану от работы, что тяжело взяться за перо.... Я очень много работаю. Бумаги измарал много с большим напряжением и не скажу радостью, но с уверенностью, что это так нужно. Особенно тяжело мне было то, что, начав всё перерабатывать сначала, я отдел обзора православного богословия должен был расширить. И я изучил хорошо богословие и теперь вот кончаю разбор его. Если бы мне рассказывали то, что я там нашел, я бы не поверил. И всё это очень важно».110
Около 20 марта Толстой опять пишет Страхову: «Я всё работаю и не могу оторваться и часто счастлив своей работой, но очень часто слабею головой». В приписке к тому же письму С. А. Толстая говорит: «Лев Николаевич совсем себя замучил работой, ужасно устает и страдает головой, что меня сильно тревожит. Но оторвать его нет никакой возможности».111
Однако мы не можем с уверенностью сказать, что работа, о которой идет речь в этом последнем письме, есть именно «Исследование догматического богословия». Толстой работал в это время так напряженно, что возможно, что в это время он уже приступил к продолжению своей работы – переработке своего перевода и исследования Евангелия, которое впоследствии получило название «Соединение и перевод четырех Евангелий».112
Таким образом, перед нами в сущности только одно указание, несомненно относящееся к созданию «Исследования догматического богословия». К какому времени относится дальнейшая переработка произведения, точно неизвестно. Можно определить время написания лишь окончания гл. XIII, входящего в состав рукописи, описанной нами под № 3. Листы 390—397 этой рукописи содержат отдельную статью, озаглавленную: «По поводу статей Соловьева, Ив.-П. и Д. X.». Первоначальное, зачеркнутое название этой статьи – «Что такое Церковь?». Эта статья была вызвана статьями Влад. Соловьева «О духовной власти в России (по поводу последнего пастырского воззвания св. синода)» – «Русь» 1881, № 56, Ив.-П. [А. М. Иванцов-Платонов], «О русском церковном управлении» – «Русь» 1882, №№ 1—5, 7—8, 10—16, и Д. X. [Д. А. Хомяков], «По поводу статей о русском церковном управлении Ив.-П. в «Руси» 1882 г.» – «Русь» 1882, № 18. Статья Толстого имеет законченный вид и, очевидно, предназначалась для печати. На обороте последнего листа рукой С. А. Юрьева (тогда редактора «Русской мысли») сделана помета: «Денежный переулок, дом К. Волконского, Лев Николаевич Толстой». Рукопись имеет потертый вид, очевидно, от пребывания в редакции «Русской мысли». Повидимому, к этой именно статье относится замечание Толстого в письме к жене от 24—25 мая 1882 г.: «Ту же маленькую статью я очень рад, что не напечатал. Я не хочу задора. Если бы случилось, что что-нибудь бы вызвало, тогда бы только отдал».113
Так как 18 номер «Руси» за 1882 г. вышел 1 мая, то, на основании этого письма, написание статьи можно вполне точно приурочить к маю 1882 г.
Отказавшись от напечатания статьи, Толстой, сократив ее и оставив лишь общие положения, включил ее в «Исследование догматического богословия». При этом было исключено упоминание о тех статьях, которые ее вызвали.
Наконец, имеются сведения о времени последней правки всего произведения.
В мае 1884 г. В. Г. Чертков просил Толстого прислать ему рукопись «Исследования догматического богословия» для одного из его знакомых. Толстой 19 мая ответил Черткову из Москвы, что оба экземпляра рукописи «Исследования догматического богословия» находятся в Ясной Поляне, куда он увез их для того, чтобы «просмотреть и поправить описки писцов».114
1 октября 1884 г. Толстой уведомил Черткова, что он «стал было укладывать» «большую рукопись» для отправки ему, «но заглянул в нее, нашел неясности, неточности и решил, что надо пересмотреть. И вот теперь уже несколько дней пристально работаю над ней. Работы оказалось больше, чем я предполагал, но дело подвигается, и чрез неделю надеюсь кончить хоть первую часть. Когда кончу – пришлю».115
Через два дня, 3 октября, Толстой извещал Черткова: «О себе скажу, что я весь ушел в работу, которую вы мне задали – переправляю обзор богословия. И очень благодарен вам, что вы меня побудили к этому».116
Работа продолжалась в течение всего октября 1884 г. 21 октября Толстой пишет жене в Москву: «…занимался пристально пересмотром с поправкой богословия». На другой день ей же: «Встал в 8, убрался, напился кофе.... Вышел в сад, погода восхитительная. Думаю: надо воспользоваться, только взгляну переписанное. Сел, стал читать, поправлять и до 6 часов со свечой еще работал. И устал. Ты скажешь: пустое занятие. Мне самому так казалось. Но потом я вспомнил ту главу, которую я поправлял и над которой больше всего сидел, – это глава об искуплении и божественности Христа. Как ни смотри на это, для миллионов людей этот вопрос огромной важности, и потому кое-как или основательно исследовать его – это важно, если только писанье мое будет прочтено».
23 октября ей же: «Продолжаю поправлять переписанное. Нынче не хотел уставать, и в 3 кончил». 25 октября: «Встал рано. Здоров. Поправляю богословие. Нынче хорошо работал.... Заснул после обеда. Потом хотел шить сапоги, но взялся за свои тетради и опять стал писать. Не думай, чтобы это была праздная работа; напротив, я вижу, что теперь я окончательно доделываю эту работу, так что больше не возьмусь за нее». 26 октября: «…нынче проснулся позднее. Дождь. Я сел за работу и просидел до темноты. Голова болит». 29 октября: «Встал рано, пошел по хозяйству. Потом занялся своим богословием – порядочно». 31 октября: «Поработал порядочно».117
На этом прекращаются имеющиеся у нас сведения о переработке «Исследования догматического богословия». 3 ноября Толстой переехал в Москву, где, вероятно, занялся другими работами.
Таким образом, на основании имеющихся данных, мы относим написание «Исследования догматического богословия» к последним месяцам 1879 – марту 1880 г., а последнюю переработку его к сентябрю – ноябрю 1884 г.
II
Впервые «Исследование догматического богословия» было напечатано в издании М. К. Элпидина в двух частях: первая часть – Genève, 1891 г., вторая – Carouge (Genève), 1896 г. Произведение было озаглавлено «Критика догматического богословия». Не знаем, откуда взялось это название, которое впоследствии перепечатывалось во всех изданиях; но в рукописи последней редакции, на первом листе рукой самого автора четко и старательно написано: «Исследование догматического богословия». Об «исследовании» говорит автор в первой же строке своего труда («Я был приведен к исследованию учения о вере православной церкви…»); тот же термин встречаем в гл. I («В то время как я начал это исследование…») и в гл. VI («Выставлять в дальнейшем исследовании…», «так как исследование двух первых глав…»), а также в первой редакции заключительной главы «Исповеди» («После этого я написал исследование догматического христианского богословия…»). В предисловии к «Краткому изложению Евангелия», написанном в 1884 г., Толстой говорит о написанном им «большом сочинении, которое лежит в рукописи и не может быть напечатано»; сочинение состоит из четырех частей; содержание второй части автор излагает в следующих словах: «Исследование христианского учения сначала по толкованиям одной православной церкви, потом по толкованиям вообще церкви, апостолов и так называемых отцов церкви и раскрытие того, что есть ложного в этих толкованиях».
Таким образом, автор неизменно называл свою работу «исследованием», и мы сочли необходимым восстановить это название.
Издание Элпидина было очень неисправно. Кроме ошибок переписчиков, содержавшихся в той копии, с которой производился набор, в книге было много типографских опечаток, искажавших смысл.
В 1903 г. «Исследование догматического богословия» появилось в издании «Свободное слово», Christchurch, Англия, составив второй том предпринятого издательством «Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, запрещенных в России». Ряд опечаток издания Элпидина был устранен, но ошибки переписчиков остались не исправленными.
В России «Исследование догматического богословия» появилось в двух изданиях: Аскарханова, СПб. (вышла лишь половина книги), и Е. В. Герцика, СПб. 1908, перепечатка с издания «Свободное слово», с очень незначительными цензурными пропусками: в «Заключении», после слов: «правоверной благочестивой блуднице» было пропущено – «Екатерине», и после слов: «благочестивейшему разбойнику, убийце» было пропущено – «Петру».
Затем произведение перепечатывалось в «Полном собрании сочинений» Л. Н. Толстого, изд. С. А. Толстой, 1911 (ч. XIII) и в «Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого», изд. т-ва И. Д. Сытина, под редакцией П. И. Бирюкова, М. 1913, т. XI (20-томного издания). В обоих этих изданиях в «Заключении» была выпущена целиком и заменена точками фраза: «правоверной благочестивой блуднице Екатерине или благочестивейшему разбойнику, убийце Петру, который кощунствовал над Евангелием». Кроме того, в издании С. А. Толстой были сделаны по цензурным соображениям следующие не оговоренные смягчения текста. В гл. X в фразе: «жалкая мошенническая подтасовка» выпущено слово «мошенническая». В гл. XVI фраза: «то, что я не раз говорил о характеристической черте нашей церкви – глупости» изменена так: «то, что я не раз говорил о характеристической черте учения церкви». В конце той же главы в фразе: «Ясно: таинства суть чисто внешние действия, как заговоры от зубов, действующие на людей, а о духовном ни со стороны заговорщиков зубов, ни тех, которые лечатся, нечего думать и говорить» – выпущены слова: «как заговоры от зубов», а слова; «ни со стороны заговорщиков зубов, ни тех, которые лечатся» заменены словами: «ни с какой стороны». В гл. XVII в фразе: «мощи и всякие платки и портки» слово «портки» заменено словами: «и проч.». Далее в той же главе в фразе: «подменить бога святыми – их пальцами и портками» слово «портками» заменено словом «платками».
Все перечисленные места были выпущены и в издании Сытина, с заменой выпущенных мест точками.
Таким образом, всего на русском языке «Исследование догматического богословия», под названием «Критика догматического богословия», было напечатано пять раз (если не считать неполного издания Аскарханова): дважды за границей и трижды в России.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ
Существуют следующие рукописи «Исследования догматического богословия»:
1. Первая черновая редакция всего произведения. Автограф. 104 лл. 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «Я был приведен к исследованию учения»; конец: «есть многие церкви, одни другие отрицающие». Большая часть рукописи пронумерована автором по сложенным пополам полулистам писчей бумаги (т. е. единица нумерации соответствует 4 страницам). Первые два листа представляют копию, написанную рукой С. А. Толстой. От нее оставлена автором лишь первая страница; почти с самого начала оборота первого листа весь текст зачеркнут, и рукой Толстого вписан совершенно новый текст, составивший часть «Вступления». Текст, зачеркнутый автором, содержал начало разбора «Пространного христианского катехизиса» Филарета. Весь дальнейший текст написан рукой автора и содержит разбор «Православно-догматического богословия» митрополита Макария. Деление на главы еще не проведено. Рукопись заканчивается разбором понятия о церкви Хомякова, выпущенным в последней редакции.
Эта первая редакция «Исследования догматического богословия», подобно первой редакции «Исповеди», отличается от окончательной редакции большей задушевностью и непосредственностью, проявлением личного отношения к учению православной церкви. Автор больше, чем в следующих рукописях, говорит о своем собственном, им пережитом, отношении к церковной догматике. Вследствие этого самое изложение порою более резкое и страстное; автор не удерживается от чувств негодования и возмущения и нередко говорит о «кощунственных» рассуждениях богослова, о том, что богослов «кривит душой», что рассуждения о догматах – «споры заблудших людей», которым нужна «не истина, а что-то другое». Слово «попы» не раз встречается в сочинении, особенно в конце его.
2. Разрозненные листы копии рукописи № 1 рукой С. А. Толстой и других переписчиков, с исправлениями Толстого. Всего 101 лл., в том числе 88 лл. 4° и 13 обрезков. 50 лл. 4° и все обрезки заполнены с одной стороны, 38 лл. 4° – с обеих сторон. Большая часть этой рукописи, именно те листы, где поправок автора было сравнительно немного, была переложена в следующую рукопись. Исправления коснулись преимущественно учений церкви о догматах (гл. I), о познании бога (гл. II), о троичности лиц божества (гл.Ѵ), о прародительском грехе (гл. VII), о божественности Христа (гл. XI), об искуплении (гл. XII), о церкви (гл. XIII).
3. Копия всего произведения рукой С. А. Толстой и трех других переписчиков, из которых один – А. П. Иванов. Переписка рукой С. А. Толстой прекращается на л. 123. Содержит всего 564 лл., в том числе 524 лл. 4° и 40 обрезков. 139 лл. исписаны с обеих сторон, остальные – с одной стороны. Лл. 399 и 564 не заполнены. Лл. 145—146 и 259 являются копиями л. 144 об. Первые 530 лл. нумерованы цифрами 1—530; далее пагинация прекращается. Начало: «Я был приведен к исследованию учения»; конец: «познаваемого только жизнью».
Этот экземпляр был составлен из переложенных из рукописи № 2 наименее правленных автором листов и вновь переписанных наиболее правленных листов той же рукописи. Составленная таким образом рукопись была вновь проредактирована Толстым. Таким образом, отдельные листы этой рукописи носят следы как первичной, так и вторичной правки, что видно уже из того, что исправления на одном и том же листе сделаны различными чернилами. Первые 4 лл. данной рукописи были вложены в нее ошибочно: они относятся к рукописи № 4.
В этой рукописи впервые появляется деление на главы, почти целиком соответствующее окончательной редакции.
Автором были подвергнуты существенной переработке почти все главы. Кроме того, в главу XIII (лл. 390—397) была включена статья: «По поводу статей Соловьева, Ив.-П. и Д. Хомякова». К основному тексту здесь присоединено заключение первого религиозно-философского произведения Толстого. Автор начал было пересматривать это заключение и сделал на первых четырех листах несколько поправок, но далее исправления прекращаются. На л. 195 имеются замечания Н. Н. Страхова. Толстой принял их в соображение и тут же внес в текст соответствующие изменения.
Так как в эту рукопись входит предназначавшаяся для «Русской мысли» статья Толстого, написанная в мае 1882 г., то рукопись могла быть составлена не ранее мая – июня 1882 г.
4. Копия рукой нескольких переписчиков, в том числе Т. Л. Толстой, с исправлениями Толстого. 431 лл. 4°, исписанных, кроме 15 лл., с обеих сторон. Лл. 103 и 357 не заполнены. Лл. 241—242, 247—248, 254, 260, 262 и 266 представляют копию лл. 243—244, 249—250, 253 об., 259, 263 и 265. Начальные и конечные слова – те же, что и в предыдущей рукописи. Рукопись переплетена; на переплете наклеена помета рукой Д. П. Маковицкого: «Критика догм. богосл. М. Шмидт», означающая, что экземпляр принадлежал другу Толстого Марии Александровне Шмидт. Рукопись содержит ту последнюю редакцию всего произведения, над которой Толстой работал в октябре 1884 г. Подверглись переработке преимущественно введение и отделы об учении церкви о грехопадении (гл. VIII), о божественности Христа (гл. X) и о церкви (гл. XIII). Некоторые листы правились дважды, что видно по цвету чернил.
По копиям с этой рукописи печатались заграничные издания произведения; с нее же делались рукописные копии для распространения в России. Первые 4 лл. этой рукописи были вложены в рукопись, описанную нами выше под № 3, а из рукописи № 3 первые 4 лл. перешли в данную рукопись, почему начало произведения печаталось до сих пор не в последней редакции.
Эта рукопись взята нами за основной текст «Исследования догматического богословия».
Изучив автографы и авторизованные копии произведения, мы убедились, что все копии были переписаны не только небрежно, но и крайне безграмотно: переписывалось зачеркнутое автором и, наоборот, не переписывались сделанные им вставки, пропускались слова неразобранные, вместо одного слова ставилось другое. Одна страница из рукописи № 2, относящаяся к гл. XI, вовсе не была переписана и в рукописи № 3 была заменена Толстым новым текстом. Все эти искажения, извращавшие смысл, вошли и в печатный текст. Во всех этих случаях мы считаем необходимым дать подлинный текст автора. Таким образом, в нашем издании произведение впервые появляется в своем настоящем виде.
Полный перечень всех многочисленных ошибок и искажений переписчиков, вошедших в печатный текст, занял бы много страниц. Даем лишь образцы этих ошибок из разных глав произведения.
Вступление
Страница – 63
Строка – 12
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – иногда даже ложность
Исправлено в настоящем издании – часто ложность
По какой рукописи – № 4, л. 4.
Глава I
Страница – 65
Строка – 26
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – передает
Исправлено в настоящем издании – преподает
По какой рукописи – № 3, л. 9.
Страница – 67
Строка – 39
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – Усердно посмотрим
Исправлено в настоящем издании – Но посмотрим
По какой рукописи – № 3, л. 14 об.
Глава II
Страница – 69
Строка – 12
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – истины
Исправлено в настоящем издании – тексты
По какой рукописи – № 2, л. 7.
Страница – 71
Строка – 3
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – отвергается
Исправлено в настоящем издании – опровергается
По какой рукописи – № 1, л. 11 об.
Страница – 72
Строка – 6
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – ведение
Исправлено в настоящем издании – сведения
По какой рукописи – № 2, л. 11 об.
Страница – 77
Строка – 37
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – пропуск
Исправлено в настоящем издании – знаем даже его цели
По какой рукописи – № 3, л. 27.
Страница – 77
Строка – 22
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – повторительного
Исправлено в настоящем издании – повторившегося
По какой рукописи – № 3, л. 31.
Глава III
Страница – 77
Строка – 38
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – воззрении еретиков
Исправлено в настоящем издании – возражении еретиков
По какой рукописи – № 1, л. 15 об.
Страница – 81
Строка – 27
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – доказано
Исправлено в настоящем издании – Кантом же и доказано
По какой рукописи – № 3, л. 45 об.
Страница – 82
Строка – 42
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – Софизм
Исправлено в настоящем издании – Это второе доказательство есть очень плохой софизм
По какой рукописи – № 1, л. 19.
Страница – 83
Строка – 11
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – Ибо
Исправлено в настоящем издании – И потому
По какой рукописи – № 3, л. 49.
Глава IV
Страница – 86
Строка – 20
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – мысль
Исправлено в настоящем издании – смысл
По какой рукописи – № 1, л. 20.
Страница – 88
Строка – 12
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – нельзя
Исправлено в настоящем издании – не нужно
По какой рукописи – № 1, л. 21.
Страница – 88
Строка – 33
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – непостижимому
Исправлено в настоящем издании – постижимому
По какой рукописи – № 1, л. 22.
Страница – 98
Строка – 34
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – составление
Исправлено в настоящем издании – сопоставление
По какой рукописи – № 1, л. 28.
Глава V
Страница – 108
Строка – 22
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – делается 1 = 3
Исправлено в настоящем издании – делится 1 на 3
По какой рукописи – № 1, л. 33.
Страница – 110
Строка – 31
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – пропуск
Исправлено в настоящем издании – Конец главы.
По какой рукописи – № 1, л. 33.
Страница – 110
Строка – 7
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – мольбы
Исправлено в настоящем издании – отчаянные мольбы
По какой рукописи – № 1, л. 35.
Страница – 123
Строка – 10
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – называется
Исправлено в настоящем издании – признается
По какой рукописи – № 1, л. 35.
Глава VII
Страница – 133
Строка – 36
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – Да не думают
Исправлено в настоящем издании – Не подумайте
По какой рукописи – № 3, л. 186.
Страница – 138
Строка – 13
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – поэтическое
Исправлено в настоящем издании – мистическое
По какой рукописи – № 3, л. 203 об.
Страница – 139
Строка – 19
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – пропуск
Исправлено в настоящем издании – выгнал человека
По какой рукописи – № 3, л. 205 об.
Глава XI
Страница – 162
Строка – 36
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – ни тени
Исправлено в настоящем издании – ни те, ни другие
По какой рукописи – № 2, л. 49.
Страница – 175
Строка – 37
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – разъясняют
Исправлено в настоящем издании – уничтожают
По какой рукописи – № 2, л. 61.
Глава XII
Страница – 181
Строка – 16
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – пропуск
Исправлено в настоящем издании – своею смертью
По какой рукописи – № 3, л. 309 об.
Страница – 184
Строка – 10
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – первый
Исправлено в настоящем издании – первосвященник
По какой рукописи – № 1, л. 59.
Страница – 185
Строка – 5
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – выбрал
Исправлено в настоящем издании – неловко выбрал
По какой рукописи – № 1, л. 59 об.
Страница – 189
Строка – 20
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – пропуск
Исправлено в настоящем издании – позднейших
По какой рукописи – № 3, л. 328.
Страница – 193
Строка – 24
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – сама не рожала
Исправлено в настоящем издании – земля не рожала
По какой рукописи – № 1, л. 96.
Глава XIII
Страница – 209
Строка – 30
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – будут всё иерархи
Исправлено в настоящем издании – будет в иерархии
По какой рукописи – № 2, л. 15.
Страница – 210
Строка – 11
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – доказательство
Исправлено в настоящем издании – обстоятельство
По какой рукописи – № 3, л. 365.
Страница – 211
Строка – 38
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – власть
Исправлено в настоящем издании – кому-то власть
По какой рукописи – № 3, л. 368.
Страница – 219
Строка – 37
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – самовольно
Исправлено в настоящем издании – символом
По какой рукописи – № 1, л. 291.
Глава XIV
Страница – 225
Строка – 12
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – понимается
Исправлено в настоящем издании – означается
По какой рукописи – № 3, л. 392.
Страница – 228
Строка – 38
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – оправдать
Исправлено в настоящем издании – утверждать
По какой рукописи – № 1, л. 77.
Страница – 239
Строка – 13
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – затемняется
Исправлено в настоящем издании – заменяется
По какой рукописи – № 1, л. 79 об.
Глава XVI
Страница – 254
Строка – 6
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – Христос обещает от этого особую выгоду
Исправлено в настоящем издании – сообщает всем особую благодать
По какой рукописи – № 3, л. 449 об.
Страница – 254
Строка – 9
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – произносят
Исправлено в настоящем издании – говорят
По какой рукописи – № 1, л. 85 об.
Страница – 254
Строка – 16
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – же
Исправлено в настоящем издании – уже
По какой рукописи – № 1, л. 85 об.
Страница – 255
Строка – 27
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – жертва бога
Исправлено в настоящем издании – жертва богу
По какой рукописи – № 3, л. 452 об.
Глава XVII
Страница – 279
Строка – 10
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – подбила
Исправлено в настоящем издании – погубило
По какой рукописи – № 1, л. 95 об.
Заключение
Страница – 292
Строка – 35
Переписано ошибочно и печаталось во всех изданиях – Крещенье
Исправлено в настоящем издании – Купанье
По какой рукописи – № 1, л. 101.
Кроме многочисленных ошибок и искажений текста, переписчики семинаристы, следуя установленному в то время обычаю, писали местоимения: «он», «его», «себя», «свой» и др. в тех случаях, когда они относились к божеству, с большой буквы, тогда как Толстой почти всегда писал их с малой буквы. Эти же переписчики самовольно удлиняли приводимые Толстым цитаты из книги Макария. Все эти отступления от оригинала нами устранены.
Сравнив рукопись № 4 с первопечатным текстом издания Элпидина, мы нашли в этом тексте шесть мест, не имеющихся ни в одной из известных нам рукописей «Исследования догматического богословия». Места эти следующие:
1) «И ведь бог вне пространства… чего-нибудь ограниченного» (гл. I, стр. 57).
2) «Между прочим, когда читаешь… И наконец в» (гл. XII, стр. 219).
3) «Ведь епископы… не лжи» (гл. XIII, стр. 258).
4) «Но ведь и желание это… в заколдованном кругу» (гл. XIV, стр. 280).
5) «Всё учение о таинствах… и есть учение о таинствах» (гл. XVI, стр. 336).
6) «Об истории этих протоков… означенное правило» (гл. XVII, стр. 346).
Кроме этих вставленных кусков, по всему изданию Элпидина (а за ним и во всех последующих) рассыпаны мелкие стилистические изменения текста Толстого, сводящиеся главным образом к «приглаживанию» его стиля и уничтожению особенностей его языка. Кому принадлежат эти изменения – нам неизвестно, но во всяком случае не автору. Все эти отступления от подлинного толстовского текста устранены в нашем издании.
В ноябре 1902 г. А. К. Черткова, предприняв переиздание «Исследования догматического богословия» в издательстве «Свободное слово», прислала Толстому на просмотр первые два листа книги. Не внося новых изменений в текст книги, Толстой в первом листе в четырех местах сделал исправления ошибок переписчиков. Второй лист им не просматривался. Исправления Толстого в наше издание внесены.
«В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?»
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ
I
Во второй половине декабря 1882 или в первой половине января 1883 г. Толстой получил от незнакомого ему М. А. Энгельгардта письмо с вопросом о том, «как теперь добиться осуществления евангельского учения? что делать?»118 Толстой ответил длинным письмом, в котором подробно изложил свое понимание христианства, в частности учение о «непротивлении злу», свое отношение к церкви, государству, революционной борьбе и пр.
Письмо это носило слишком интимный характер, вследствие чего Толстой решил его не отправлять.119 Но это неотправленное письмо послужило толчком к началу нового большого произведения, в окончательной редакции озаглавленного «В чем моя вера?», в котором рассматривался вопрос об отношении христианского учения к современной жизни.
Новое произведение вначале носило характер автобиографических записок. Толстой воспользовался началом своего Дневника 1881 г., озаглавленного «Записки христианина» (см. т. 49). Это заглавие было заменено другим – «Записки моей жизни 1881 года». Однако скоро форма записок была оставлена, вследствие чего пришлось изменить и название произведения.
30 января 1883 г. С. А. Толстая сообщала Т. А. Кузминской: «Левочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи». 10 февраля ей же: «Левочка муж всё пишет о христианстве». 8 марта: «Левочка всё пишет свои евангельские сочинения; у него два переписчика постоянно пишут; но напечатать ни одного слова нельзя. Это очень грустно, что он работает для того, чтобы его работа лежала под замком и никогда не видала света» (ГМТ).
В феврале 1883 г. Толстой пишет М. С. Громеке: «Простите, что коротко пишу. Дела много. Мне часто говорят: пишите художественное и т. д. Я всей душой бы рад и кажется, что есть, что; да кто же то напишет, что я теперь пишу? Пусть кто-нибудь снимет с меня это дело или покажет мне, что оно не нужно, или сделает его – в ножки поклонюсь».120
В самой работе есть только одно хронологическое указание, позволяющее относить начало ее писания именно к первым месяцам 1883 г. В главе четвертой автор говорит: «Недавно у меня была в руках поучительная… переписка православного славянофила с христианином – революционером». Это переписка И. С. Аксакова с М. А. Энгельгардтом, которая была послана Толстому М. А. Энгельгардтом вместе с письмом к нему во второй половине декабря 1882 или в первой половине января 1883 г.
После нескольких месяцев напряженной работы Толстой почувствовал утомление и в первых числах апреля писал М. С. Громеке: «К весне способность умственной работы перемежается и становится тяжелее».121 Работа продолжалась и летом 1883 г. за исключением последних чисел мая и всего июня, которые Толстой провел в самарском имении. Г. А. Русанов, посетивший Толстого в Ясной Поляне 24—25 августа 1883 г., услышал от Льва Николаевича, что он пишет «теперь статью по религиозному вопросу».122 В конце августа Толстой писал М. С. Громеке: «Я всё работаю работу, которая поглощает и радует меня».123 Повидимому, к этому времени произведение вчерне было уже доведено до конца, так как 2 сентября 1883 г. Толстой пишет Н. Н. Страхову: «Я всё переделываю, поправляю свое писанье и очень занят».124
В сентябре 1883 г. рукопись была уже сдана в журнал «Русская мысль». Г. А. Русанов со слов Толстого сообщает, что редактор «Русской мысли» С. А. Юрьев и издатель В. М. Лавров настойчиво просили у Толстого эту статью, высказав при этом такое предположение: «Они имеют право напечатать ее без цензуры, цензура не пропустит и уничтожит статью, но несколько экземпляров, хотя три, будет утаено ими».125
Сдав рукопись, Толстой продолжает работать над заключением к книге, которому он придавал особенное значение. 29 сентября Толстой писал жене в Москву: «Корректур я своих еще не получал и только один день позанялся и не кончил заключенье. А оно очень мне кажется важно, и я все дни о нем думаю. Завтра займусь, если пойдет дело… До сих пор не решил, когда уеду. Хочется кончить; если бы день или два хорошей работы, то сейчас бы приехал».126 На следующий день ей же: «На бумаге я ничего не написал, но много хорошо обдумал и жду первого хорошего рабочего дня… Нынче я позанялся немного, вижу – не идет… То, что в Москве, с возбужденными нервами, мне казалось хорошо, здесь совсем переделывается и становится так ясно, что я радуюсь».127 Ей же 1 октября: «Утром… сел за работу. Писал много, но, кажется, нехорошо».128
Заключение, которому Толстой придавал такое значение, составило две последние главы окончательной редакции. Последняя из них первоначально называлась: «В чем же моя вера?» – почти повторяя название всей книги. Сохранилось четыре начала этой главы, свидетельствующие о том, с каким упорством и настойчивостью добивался Толстой наиболее сильного выражения своих мыслей в этой заключительной и, по его мнению, важнейшей части своего произведения.
Между тем 2 октября были уже получены из Москвы корректуры, о чем Толстой в тот же день извещал жену: «Нынче получил гору корректур из Ясенков… Из типографии просят поскорее поправить, а то у них нет шрифта. В три дня надеюсь кончить».129 3 октября: «Получил корректуры и нынче, как и ожидал, прекрасно работал – сделал почти половину… Я надеюсь, что поработается эти два дня, как нынче. Буду очень счастлив кончить».130 4 октября: «До сих пор сбывается то, чего я желал – второй день помногу работаю, и если завтра так же, то кончу корректуры».131
Приехав в Москву 7 октября, Толстой пробыл там октябрь и первые числа ноября, усиленно работая над корректурами. 9 ноября С. А. Толстая в ответ на запрос А. М. Кузминского, интересовавшегося работой Толстого и знакомого с ней в первой редакции, в письме к Т. А. Кузминской передает слова Льва Николаевича, что «двух слов не осталось подряд из старой рукописи, всё переделано» (ГМТ).
9 ноября Толстой опять уехал в Ясную Поляну кончать работу над корректурами. Судя по письмам к жене, работа на этот раз не пошла, – Толстой чувствовал себя переутомленным, и 18 ноября вернулся в Москву.
Проезжая на извозчике с вокзала домой, он потерял чемодан, в котором были одежда, книги, рукописи и корректуры «В чем моя вера?». Несмотря на объявления в газетах, пропажа не была найдена.
В Москве Толстой вновь энергично принялся за работу, и 28 ноября была подписана последняя гранка корректуры. Однако, по своему обыкновению, Толстой усердно правил и вторую корректуру и сверстанные листы. Только 10 января 1884 г. он смог написать А. Н. Пыпину: «Нынче первый день, что я не занят корректурами того, что я печатаю. Я вчера снес последнее в типографию».132 На самом деле просмотр корректур продолжался еще некоторое время, так как произведение было напечатано с датой: «Москва, 22 января 1884 г.».
Эту дату и следует считать последней в работе над «В чем моя вера?»; больше Толстой уже не возвращался к этому произведению.
II
Намерение напечатать статью в «Русской мысли» было оставлено – вероятно, из-за большого объема книги. Было напечатано в отдельном издании только 50 экземпляров по цене 25 рублей за экземпляр, в надежде из-за малого количества экземпляров и высокой продажной цены получить разрешение цензуры.
В том же письме от 10 января 1884 г. Толстой писал А. Н. Пыпину: «Не могу себе представить, что сделает цензура. Пропустить нельзя. Не пропустить тоже, мне кажется, в их видах нельзя».
29 января 1884 г. С. А. Толстая писала Льву Николаевичу в Ясную Поляну: «Маракуев133 сказал, что книгу твою новую цензура светская передала в цензуру духовную, что архимандрит [Амфилохий], председатель цензурного комитета, ее прочел и сказал, что в этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он с своей стороны не видит причины не пропустить ее. Но я думаю, что Победоносцев со своей бестактностью и педантизмом опять запретит; пока она запечатана у Кушнерева,134 и решения никакого нет».135
На это письмо Толстой отвечал 31 января: «Известие твое от Маракуева о мнении архимандрита мне очень приятно. Если оно справедливо. Ничье одобрение мне не дорого бы было, как духовных. Но боюсь, что оно невозможно».136
Еще до окончания печатания книги корректурные оттиски попали в руки председателя Московского цензурного комитета В. Федорова, который, ознакомившись с ними, написал 14 января 1884 г. следующее заключение на имя начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова: «Сочинение читается с большим интересом и возбуждает полное внимание. По существу же оно должно быть признано крайне вредной книгой, так как подрывает основы государственных и общественных учреждений и вконец рушит учение церкви. По получении книги я полагал бы немедленно задержать выпуском из типографии и экземпляр отправить в духовную цензуру; что же касается до судебного преследования, то предоставляю вопрос этот благоусмотрению вашего превосходительства. С своей стороны, я бы думал, что судебное преследование по такому сочинению невозможно».
После этого оттиски «В чем моя вера?» были переданы в Московский духовный цензурный комитет, который, за подписью протоиерея М. Боголюбского, сообщил Московскому цензурному комитету, что новая книга Толстого развенчивает всех «исказителей Евангелия», в том числе и апостола Павла, и порицает все церковные и государственные установления. «Все самые вредные направления мысли, как-то: социализм, коммунизм и проч., по мнению Толстого, суть части учения Христова, проносимые церковью». По мыслям, явно противным духу и учению христианства, разрушающим начала нравственного учения его, устройство и тишину церкви и государства, книга Льва Толстого «В чем моя вера?» принадлежит к числу сочинений, о которых говорит 239-я статья ценз. устава».137
Получив заключения московских цензурных комитетов светского и духовного, начальник Главного управления по делам печати 14 февраля отношением за № 785 распорядился «о безусловном запрещении означенного сочинения», с тем чтобы все его экземпляры были доставлены в Главное управление по делам печати. 18 февраля инспектор по типографиям Москвы арестовал в типографии Кушнерева 39 экземпляров и препроводил в Главное управление.
19 февраля Толстой пишет А. С. Бутурлину: «Книга моя вышла и запрещена, но не сожжена, а увезена в Петербург, где, сколько мне известно, те, которые запретили ее, разбирают ее по экземплярам и читают. И то хорошо».138 То же писал он и H. Н. Ге 2—3 марта 1884 г.: «Книгу мою, вместо того чтобы сжечь, как следовало по их законам, увезли в Петербург и здесь разобрали экземпляры по начальству. Я очень рад этому. Авось кто-нибудь и поймет».139
H.H. Бахметьев, бывший тогда заведующим делами редакции «Русской мысли», передает следующие подробности запрещения «В чем моя вера?»:
«В Петербурге очень скоро узнали о печатании нового произведения графа Толстого, и оттуда, задолго еще до окончания печатания, пришло распоряжение обязать типографию подпиской в том, что она, как только книга будет отпечатана, передаст все экземпляры в распоряжение инспектора типографий, а сей последний, не передавая в местный цензурный комитет, отправит их в Главное управление по делам печати. Все это, конечно, было в точности выполнено. В Петербурге книга передана была в духовную цензуру, ею, конечно, запрещена, и Главному управлению по делам печати оставалось только сжечь ее. Но именно этого-то и не случилось. Все экземпляры без исключения уцелели и теперь находятся в целости и невредимости в частных библиотеках.
Дело в том, что как только стало известно, что книгу решено уничтожить, то в Главное управление посыпались от разных особ просьбы о выдаче им экземпляров этой книги. Тогдашний министр внутренних дел гр. Толстой потребовал присылки ему нескольких экземпляров, попросили и другие министры, главноуправляющие и тому подобные должностные лица; взяли себе по экземпляру и Феоктистов и некоторые из членов Главного управления. В дворцовых и придворных сферах также пожелали иметь несколько экземпляров. Словом, как говорил мне сам Феоктистов и В. М. Юзефович, состоявший тогда членом Главного управления по делам печати, все запрещенное цензурой издание избегло уничтожения и разошлось.
Таким образом, цель издания, хотя и иным, совершенно неожиданным путем, была достигнута: произведение было напечатано вполне легально, его читали и передавали из рук в руки в печатном виде, и можно с уверенностью сказать, что все экземпляры этой обреченной цензурой на сожжение книги существуют и до сих пор. Несколько экземпляров проходило потом через руки московских букинистов-антиквариев, которые, приобретя их случайно за недорогую, конечно, цену, брали по нескольку сот рублей за экземпляр. Многие из тех, которые так или иначе добыли себе эту книжку, переплетали ее в очень дорогие художественные переплеты, и мне приходилось видеть несколько таких экземпляров, переплетенных работавшим тогда в Петербурге замечательным художником-переплетчиком Жюлем Мейером».140
III
Не появившись в печатном виде, «В чем моя вера?», так же как и «Исповедь», получила широкое распространение в рукописных, гектографированных и литографированных копиях. Некоторое количество экземпляров рукописных копий «В чем моя вера?» разошлось через самого автора, который в вышеупомянутом письме писал A. C. Бутурлину: «Книга моя ответит на большую часть ваших вопросов… У меня есть и будут рукописные экземпляры. Плачу я за переписку по пятнадцати рублей».
В Гос. музее Л. Н. Толстого в Москве есть полный экземпляр «В чем моя вера?», представляющий собой фотокопию первого печатного издания.
Впервые «В чем моя вера?» вышла в свет во французском переводе Л. Д. Урусова в Париже в 1885 г. под заглавием: «Ma religion»; второе издание в том же году. Фамилия переводчика на книге не указана. Этот перевод был просмотрен и в некоторых местах собственноручно исправлен автором, о чем свидетельствуют письма к нему Л. Д. Урусова. 22 апреля 1884 г. Л. Д. Урусов писал Толстому из Парижа, что он виделся там с литератором Э. Вогюэ, которого просил просмотреть перевод «В чем моя вера?». «Вогюэ, – писал Урусов, – выразил готовность прочитать со мною перевод, но прибавил, что, судя по французским отрывкам и разговорам, встречающимся в «Войне и мире», поправок не нужно. Он думает, что перевод, прочитанный вами и поправленный вашей рукой, не требует исправления». В другом письме, от 23 августа 1885 г., Урусов писал: «Как хорошо вышла двенадцатая глава, в которой я безусловно запретил всякую поправку, взяв слово, что все останется так, как вы исправили собственноручно» (ГМТ). К сожалению, отсутствие рукописи не позволяет определить, какие именно места перевода и как были исправлены Толстым.
В том же 1885 г. появился немецкий перевод «В чем моя вера?» под заглавием: «Worin besteht mein Glaube?» Eine Studie. Aus dem russischen Manuskript übersetzt von Sophie Behr. Наконец в том же году сочинение вышло и в английском переводе, в книге под общим заглавием: «Christ’s Christianity» («Христианство Христа»), где были переведены: «Исповедь», «В чем моя вера?» (под заглавием: «What I believe») и «Краткое изложение Евангелия».
Русским читателям из «В чем моя вера?» была доступна лишь часть десятой главы, напечатанная под заглавием «В чем счастье?» в «Русском богатстве» 1886, № 1, стр. 133—149. Этот отрывок помещался потом и в собраниях сочинений Толстого. Кроме того, русские читатели могли знакомиться с запрещенным произведением Толстого по тем выдержкам, которые помещались в сочинениях церковных писателей, написанных с целью опровержения «толстовского лжеучения». Таковы в особенности были: статьи А. Гусева «Исповедь графа Л. Н. Толстого и его мнимоновая вера», напечатанные в «Православном обозрении» 1886, №№ 1—6, 8, 10; 1889, №№ 10—12, и 1890, №№ 1, 2, 4, и отдельно М. 1890; Александра Орфано: «В чем должна заключаться истинная вера каждого человека» («Чтения в Обществе любителей духовного просвещения», 1887, ч. I, и отдельно – М. 1890); И. А. Карышева «Православно-христианский взгляд на основания, принятые гр. Л. Н. Толстым для своего лжеучения, изложенного в сочинении: «В чем моя вера?» (М. 1891).
Полностью «В чем моя вера?» появилась в Женеве в издании М. Элпидина, без указания года. В 1888 г. появилось второе издание, и с тою же пометкой: «второе издание», новое издание его же – в 1892 г., и третье издание – в 1900 г. Затем в Берлине в 1902 г. появилось издание Гуго Штейница и в том же году издание «Свободного слова» (Christchurch), в виде седьмого тома «Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, запрещенных в России». В России «В чем моя вера?» появляется только после 1905 г. В 1906 г. произведение было напечатано в февральской книге журнала «Всемирный вестник» и в отдельных изданиях «Всемирного вестника» и «Посредника». В 1911 г. появляется издание Б. Коха (СПб.), анонимное в Москве (типография П. В. Бельцова); в 1912 г. анонимное в Петербурге (склад издания в магазине Н. И. Холмушина) и второе издание «Посредника».
«В чем моя вера?» вошла и в собрания сочинений Толстого: С. А. Толстой (изд. 12-е, часть тринадцатая, М. 1911, стр. 517—717) и т-ва Сытина под редакцией П. И. Бирюкова (т. XI, М. 1913, стр. 409—566).
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ
Сохранились следующие рукописи, относящиеся к «В чем моя вера?»:
1. План части «В чем моя вера?». Написан на листке из календаря на 1882 г., стр. 339—340 (24 и 25 ноября). Оборотная сторона листка не заполнена.
Мысли, намеченные в плане, были развиты преимущественно в VII—X главах книги.
2. Первая редакция вступления. Копия рукою А. П. Иванова, с исправлениями Толстого и собственноручной вставкой его на отдельном листе. 6 лл. 4°. Содержит начало Дневника «Записки христианина», переработанное, как вступление к запискам религиозного содержания. Начало перечеркнуто. Рукопись начинается словами: «Я прожил на свете 54 года». Конец отсутствует. Перенумерована переписчиком по листам цифрами 1—6.
3. Продолжение вступления. Оригинал рукою Толстого. 5 лл. 4° + 1 л. почтовый (на обороте не подписанного письма к автору от неизвестной женщины). Служит непосредственным продолжением предыдущей рукописи. Начинается словами: «Но чтобы читатель понял меня, я должен предпослать моим запискам хотя краткое изложение тех христианских положений…» После общего введения содержит начало разбора нагорной проповеди.
4. Копия предыдущей рукописи и продолжение ее, написанное собственноручно автором. 27 лл. 4°, из которых первые 6 лл. и лицевая сторона л. 7 представляют копию, написанную рукою А. П. Иванова, с исправлениями Толстого, а с оборота л. 7 до конца – автограф. Лл. 3—7 вырезаны из тетради. Лл. 8—23 нумерованы переписчиком цифрами 1—16. Оборот л. 9 и лицевая сторона л. 10 не заполнены. Первый лист отсутствует. Рукопись начинается словами: «поступится истиной для человеческих целей». Начало представляет копию рукописи № 3, из которой переписаны лишь лл. 1, 2, 3 и почти вся лицевая сторона л. 4, до слов: «Я читал нагорную проповедь». Рукопись содержит разбор нагорной проповеди и изложение значения заповеди о непротивлении злу.
5. Копия части предыдущей рукописи, переписанная А. П. Ивановым, с многочисленными исправлениями автора. 36 лл. 80 + 1 л. почтовый с собственноручной вставкой автора. Первые 45 страниц перенумерованы автором цифрами 1—45; далее нумерация прекращается. Между лл. 30 и 31 пропуск нескольких листов. В рукописи введено деление на главы, начинающееся цифрою III и кончающееся цифрою IX. Последние листы отсутствуют. Сравнительно с предыдущей данная рукопись, с одной стороны, значительно сокращена, с другой – в ней развито изложение значения учения о непротивлении злу и вообще заповедей Христа.
6. Неполная копия предыдущей рукописи. 17 лл., переписанных А. П. Ивановым, с исправлениями автора. Первые 2 лл. нумерованы переписчиком цифрами 12 и 13; лл. 10—14 нумерованы автором по страницам цифрами 9—17; далее нумерация прекращается. Между лл. 5 и 6 пропуск одного листа; между лл. 9 и 10 также заметен пропуск. Копия кончается словами: «Если бы люди, не пытаясь исполнить предписанное». Большинство страниц перечеркнуто переписчиком в знак того, что эти страницы им переписаны.
7. Рукопись всего произведения, озаглавленная: «Записки моей жизни 1881-го года». Это заглавие переправлено из «Записки христианина». 622 лл., из которых 514 лл. 4°, а 108 лл. меньшего размера. Первые листы вырезаны из тетради; они относятся к рукописи № 4. Рукопись переписана рукою А. П. Иванова, с исправлениями автора. Ранее хранилась в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, куда поступила в 1884 г. через H. Н. Страхова, как это указано в «Отчете императорской Публичной библиотеки за 1884 г.» (СПб. 1887, стр. 104). В этой редакции особенно значительные исправления и дополнения сделаны в главах, в окончательной редакции соответствующих главам: IV (о значении учения непротивления), V (об отношении закона Моисея к учению Христа), VI (о заповедях Христа), VIII (о понятии воскресения и вечной жизни), X (в чем счастье), XI (о церкви) и XII (заключительной). Из этой рукописи мы печатаем вариант № 2.
8. Неполная копия предыдущей рукописи. Заглавия не имеет. Переписана рукою переписчика с многочисленными поправками Толстого и содержит нумерованных 252 лл. 4° + 3 лл. 4° и 1 л. in folio. Лист 135 вырван. Разделена на семнадцать глав, в окончательной редакции соответствующих первым десяти главам. В этой рукописи сокращены цитаты из Библии и ее толкований, а также филологические рассуждения о слове «жизнь» по-еврейски (гл. XIV). На лл. 106, 126, 194 и др. имеются замечания Л. Д. Урусова.
9. Дальнейшая редакция вступления. Копия рукою переписчика с исправлениями автора. 16 лл. 4°. Рукопись не озаглавлена; перенумерована переписчиком по листам.
10. Копия предыдущей рукописи с поправками автора. 16 лл. 4°. Первые 9 лл. перенумерованы переписчиком. С оборота л. 9 начинается собственноручный текст автора; лл. 13—16 не заполнены. Рукопись первоначально была озаглавлена: «Как мне открылось учение Христа». Это заглавие было зачеркнуто и вместо него написано: «Как мне открылся смысл учения Христа». Это название также зачеркивается и заменяется словами: «В чем христианское учение». Наконец и это заглавие заменяется окончательным: «В чем моя вера?».
11. Неполная копия предыдущей рукописи. Переписана рукою переписчика, с исправлениями автора. 17 лл. 4°. Рукопись перенумерована переписчиком по листам цифрами 1—18; отсутствуют (по нумерации) лл. 6, 7 и 15. Предпоследний лист содержит несколько собственноручных строк автора; последний лист не заполнен.
12. Копия предыдущей рукописи. Переписана рукою переписчика, с исправлениями автора. 14 лл. 4°. Содержит вступление и часть I главы окончательной редакции.
13. Неполная первая редакция одиннадцатой главы. Автограф. 7 лл. in folio, написанных на бланках сельскохозяйственных анкет, рассылавшихся, вероятно, тульским земством своим корреспондентам. Перенумерована переписчиком по листам. Оборотная сторона листов не заполнена.
14. Разрозненные черновики разных редакций. Автографы и копии. 592 лл. разных размеров, от 4° до обрезков в несколько строк. Один из. черновиков написан на повестке Толстому Тульского окружного суда от 1 сентября 1883 г. о назначении его присяжным на заседание суда в Крапивне, другой – на письме к нему А. Д. Ушинского от 17 октября 1883 г.
15. Наборная рукопись. 111 лл. 4°, переписанных четырьмя переписчиками, в том числе С. А. Толстой и А. П. Ивановым. 4 лл. не заполнены. Рукопись сохранилась не полностью; отсутствуют главы II—VII (по окончательной редакции). Исправления автора, сравнительно незначительные в первых главах, очень увеличиваются в тексте, соответствующем XI—XII главам окончательной редакции. Последний лист имеет подпись и дату: «Лев Толстой. 28 октября. Москва».
16. Первая редакция заключительной (XII) главы. Автограф. 2 лл. 4°. Заглавие: «В чем же моя вера?».
17. То же. Второй вариант. Автограф. 1 л. 4°. Заглавие: «XII. В чем моя вера?». Страница не дописана и почти вся перечеркнута, кроме последних четырех строк.
18. То же. Третий вариант. Автограф. 3 лл. in folio. Заглавие: «XII. В чем моя вера».
19. То же. Четвертый вариант. Автограф. 11 лл. 4° и 1 л. in folio. Рукопись нумерована автором; отсутствуют лл. 2 и 5. Заглавие: «XII. В чем моя вера». Эта рукопись была сдана в типографию, о чем, кроме пятен от типографской краски, свидетельствует также надпись автора на обложке: «Набирать. В самый конец». Лл. 7 и 8 были для ясности собственноручно переписаны автором; автографы этих листов также сохранились.
20. Разрозненные корректурные листы с исправлениями автора. 54 гранки (или части гранок) и 44 лл. рукописных вставок. В числе сохранившихся гранок имеется и последняя с датой: «Москва. 28 ноября 1883 г.» и с пометой автора на обороте:
«Прошу всё верстать. Всё лежит по порядку. Первые 9 гранок вы прислали мне не исправив. Пожалуйста, поспешите.
Л. Толстой».
Сохранившиеся гранки составляют, несомненно, лишь малую часть всех исправленных автором корректур. Отсутствуют корректуры вступления и глав I и IV; очень немного корректур, относящихся к главам II и V. Корректур в листах нет совершенно.
О судьбе корректур «В чем моя вера?» имеются следующие сведения. Дмитрий Митрофанович Щепкин, сын известного публициста, автора работ по экономическим вопросам, гласного Московской городской думы Митрофана Павловича Щепкина (1832—1908), в составленной для Музея Л. Н. Толстого записке о своем отце утверждает, что «печатание «В чем моя вера?», начавшееся в конце 1883 г., Лев Николаевич осуществлял при помощи [М. П.] Щепкина, который держал корректуру всего издания. Уже в корректуре работа подвергалась большим частичным и общим переделкам, по которым между Львом Николаевичем и Щепкиным происходил оживленный обмен мнений… Все корректурные листы, испещренные переделками, хранились у Щепкина. В 1898 г. он передал весь этот материал известному историку, директору Исторического музея И. Е. Забелину. Я лично, завертывая эту корректуру при передаче ее Забелину, оставил себе на память несколько листов, в том числе последний лист окончательной корректуры с пометкой Льва Николаевича… Оставленные мною листки, за исключением последнего, по просьбе М. О. Гершензона, я передал ему в его коллекцию автографов». (В настоящее время и эти листки хранятся в составе корректур «В чем моя вера?» в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.)
Архив И. Е. Забелина передан им был в Отдел рукописей Исторического музея; однако корректур «В чем моя вера?» в нем в настоящее время не имеется.
По сохранившимся корректурам, ввиду их неполноты, нельзя составить полного представления о работе, произведенной Толстым в корректурах. С несомненностью можно утверждать лишь то, что были значительно расширены главы VI (о заповедях Христа), VIII (о понятии воскресения по Евангелию), X (о бедственности «мирской жизни» и счастии жизни по учению Христа). В главу XI была сделана большая вставка о разрешении убийства по «Катехизису» Филарета.
Печатаем «В чем моя вера?» по изданию 1884 г., лично прочитанному и исправленному автором в корректурах, с исправлением опечаток. Два экземпляра этого издания, из которых один принадлежал ранее С. А. Толстой, а другой – М. П. Щепкину, хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. 31533. Я недавно с еврейским раввином читал V главу Матфея – Еврейский раввин, с которым Толстой изучал еврейский язык и читал Библию, – московский раввин Соломон Алексеевич Минор (Залкинд) (1826—1900).
2. 31928. …при встрече с моими приятелями, прокурорами, судьями.– Из представителей судебного мира Толстой в период писания «В. чем моя вера?» был близок с Александром Михайловичем Кузминским (1843—1917), женатым на сестре его жены Т. А. Берс и занимавшим в то время должность прокурора в Кутаисе и затем в Тифлисе, и Николаем Васильевичем Давыдовым (1848—1920), в то время прокурором Тульского окружного суда.
3. 32838. …переписка православного славянофила с христианином – революционером. Толстой имеет в виду переписку Михаила Александровича Энгельгардта (1861—1915) с славянофилом Иваном Сергеевичем Аксаковым (1823—1886). Эта переписка, относящаяся к ноябрю—декабрю 1882 г., была прислана Толстому М. А. Энгельгардтом в копии. Напечатана в «Письмах Толстого и к Толстому», Гиз, 1928, стр. 317—325.
4. 33334-35. …тот мир, который учрежден людьми для погибели их, есть мечта.... бред сумасшедшего. – Мысль о безумии существующего устройства жизни впервые была высказана Толстым в письме к В. И. Алексееву в ноябре или декабре 1882 г. в следующих словах: «Я довольно спокоен, но грустно часто от торжествующего самоуверенного безумия окружающей жизни. Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие, и они совершенно лишены возможности понять свое безумие и свои ошибки».141 Чем далее, тем все более и более настойчиво Толстой высказывает это свое убеждение, которое с особенной силой было им выражено в статьях последних лет его жизни: «Номер газеты» (1909) и «О безумии» (1910) (т. 38).
5. 36737_38 . …крестьянин отказался от военной службы.– Иван Васильевич Сютаев (ум. в феврале 1928 г., в возрасте около 80 лет), сын тверского крестьянина Василия Кирилловича Сютаева (ум. летом 1892 г., около 80 лет), которого Толстой очень уважал. Под влиянием отца И. В. Сютаев в 1877 г. отказался от военной службы и просидел несколько лет в разных тюрьмах, в том числе и в Шлиссельбургской крепости. (К. С. Шохор-Троцкий, «Сютаев и Бондарев» – «Толстовский ежегодник 1913 года», изд. Общества Толстовского музея в С.-Петербуге и Толстовского общества в Москве, СПб. 1914, отд. «Статьи и материалы», стр. 11.)
6. 38133. Марк Аврелий говорит. – Приводимая Толстым цитата заимствована из пятого отдела (§ 21) книги Марка Аврелия и в точном переводе гласит так: «Чти наиболее совершенное из существующего в мире; им будет то, что всем пользуется и всем правит. Равным образом почитай наиболее совершенное из существующего в тебе: оно сродни первому. Ибо и в тебе оно – то, что пользуется всем другим, а твоя жизнь направляется им» (Марк Аврелий, «Наедине с собой. Размышления». Перевод с греческого и примечания С. Роговина, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1914, стр. 65—66).
7. 38137. Эпиктет говорит. Приводимого Толстым изречения в афоризмах Эпиктета не содержится.
8. 38144. В книге Конфуция сказано. – Приводимая Толстым мысль Конфуция открывает книгу Конфуция «Великая Наука». Дословный перевод следующий: «Великая Наука, или мудрость жизни состоит в том, чтобы раскрыть и поднять светлое начало разума, которое мы все получили с неба; она состоит в том, чтобы обновить людей, в том, чтобы научить людей свое высшее назначение полагать в совершенстве, иначе сказать в высшем благе» (П. А. Буланже, «Жизнь и учение Конфуция», изд. «Посредник», М. 1903, стр. 103).
9. 38538. Можно по выражению Паскаля.... к которой мы все бежим.– Указанное Толстым место из книги Паскаля в точном переводе гласит так: «Мы беззаботно стремимся в пропасть, поставивши что-нибудь перед собою, чтобы помешать себе видеть ее» (Блез Паскаль, «Мысли (о религии)», перевод с французского П. Д. Первова, изд. 2-е, М. 1899, стр. 39).
10. 38635. …сгоревшие в бердичевском цирке. – Упоминаемый Толстым пожар бердического цирка, принадлежавшего Людгенсу и Ферони, произошел 1 января 1883 г. в десять часов вечера. В цирке шло представление; в этот вечер было взято шестьсот двадцать платных билетов. Загорелось за кулисами от неизвестной причины. Стены цирка, сделанные из двух рядов, досок, промежуток между которыми для тепла был заложен соломой, быстро запылали. Публика в панике бросилась к выходу; он был только один, и то отворявшийся внутрь. Пока напором толпы были выдавлены: двери, причем многие были задавлены, внутренность цирка была вся в пламени. В узких дверях, заваленных раздавленными, происходили настоящие бои; выбирались только сильнейшие; толпа внутри гибла в огне и задыхалась в дыму. Вскоре обрушившаяся крыша, на которой было сложено несколько возов сена, сделала спасение оставшихся совершенно невозможным. Пожарные, пьяные по случаю праздника, явились только через час и без воды. Весь цирк с конюшнями, лошадьми и всем имуществом сгорел дотла. Большинство трупов обгорело с головы; видно, что горели они стоя, сразу целой массой. Некоторые трупы до того обгорели, что в них невозможно было узнать даже форм человеческого тела. По полицейским сведениям, в огне погибло около трехсот человек; по частным сведениям – еще больше.
11. 38626. …погибшие на кукуевской насыпи. – 29 июня 1882 г. днем в 3 часа 30 минут из Москвы по Московско-Курской железной дороге вышел почтовый поезд № 3. На 296-й версте, между станциями Чернь и Бастыево, близ деревни Кукуевка, произошла катастрофа. Ночью в этом месте страшным ливнем вымыло двадцать колен чугунной трубы около полутора аршин в диаметре и насыпь над нею вышиною около одиннадцати сажен. В 3 часа 45 минут утра поезд достиг места обвала. В несколько секунд багажный и семь пассажирских вагонов обрушились в промоину, разбились в щепы и были засыпаны землею продолжавшегося обвала. Остальные шесть вагонов оторвались и остались на рельсах. В первый же день после катастрофы было приступлено к работам по извлечению трупов; работало днем и ночью от трехсот пятидесяти до полуторы тысячи человек. Последние трупы были откопаны 13 июля. Всего, по официальным сведениям министерства путей сообщения, было убито сорок два человека, ранено тяжело пятеро (из них двое умерло), легко ранено сорок пять человек («Московские ведомости», № 208 от 29 июля 1882 г.). См. также Н. В. Давыдов, «Из прошлого», М. 1913, стр. 154—158.
12. 41172. Credo, quia absurdum est [верю, потому что нелепо]. – Изречение принадлежит богослову Тертуллиану (ум. ок. 230).
13. 42614-15. Французы вооружаются.... в 70-м году. – 19 июля 1870 г. Франция объявила войну Пруссии; война кончилась полным поражением Франции, которая по Франкфуртскому миру, заключенному 19 мая 1871 г., должна была уступить Пруссии Эльзас-Лотарингию и уплатить 5 миллиардов франков контрибуции.
14. 43431-32. …нет.... в катехизисах Платона. – Толстой ошибся, утверждая, что в катехизисах митрополита Платона не содержится оправдания войны и смертной казни. В книге «Православное учение, или сокращенная христианская богословия», посвященной наследнику Павлу Петровичу, законоучителем которого был митронолит Платон, сказано при объяснении шестой заповеди Моисея: «Судии, кои повинного предают на смерть, также и воины, которые, защищая отечество, убивают неприятелей, заповеди сия преступниками назваться не могут. Ибо чрез то они самому богу и правосудию его по знанию своему служат» (изд. 1819 г., М., стр. 190). По толкованию автора, шестой заповедью запрещаются лишь «войны неправедные» (там же).
«МОЯ ЖИЗНЬ»
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ
Это незаконченное произведение представляет собою первую попытку Толстого написать свою автобиографию. В Дневнике 22 мая 1878 г. он записал: «Начал писать «свою жизнь» (т. 48).
Повидимому, вся работа над «Моей жизнью» ограничилась одним днем.
Из плановых заметок, набросанных Толстым на полях и на последних страницах рукописи, видно, что Толстой имел намерение подробно описать свое детство. Некоторые из намеченных эпизодов были рассказаны Толстым позднее в его «Воспоминаниях», писавшихся в 1903—1906 гг.; некоторые намеки уясняются по «Детству» и «Отрочеству»; многие же остаются для нас непонятными, как, например, «уроки (радость и шалость)», «ночь (темнота, сон)» и др.
«Моя жизнь» была напечатана по копии неполностью (со слов: «Вот первые мои воспоминания», кончая: «не игрушка, а трудное дело») и с некоторыми неточностями в тексте, под заглавием: «Первые воспоминания. (Из неизданных автобиографических заметок Л. Н. Толстого)», в сборнике «Русским матерям», под редакцией И. Горбунова-Посадова, М. 1892, стр. 2—6, и затем перепечатывалась во всех собраниях сочинений Толстого.
Мы печатаем «Мою жизнь» по автографу, хранящемуся в Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого. Рукопись содержит 5 лл. 4°, вырванных из тетради и заполненных с обеих сторон. На обороте последнего листа начата запись мыслей от 1 января 1883 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 47039. …мать. – Мать Толстого, рожд. княжна Мария Николаевна Волконская, р. 10 ноября 1790 г., ум. 7 августа 1830 г.
2. 47127. …сестра Машинька. — Сестра Толстого Мария Николаевна, р. 2 марта 1830 г., ум. 6 апреля 1912 г.
3. 47135. …тетка. – Вероятно, родная тетка Толстого, сестра его отца, Александра Ильинична Остен-Сакен (р. 30 ноября 1795 г., ум. 30 августа 1841 г.), либо Т. А. Ергольская.
4. 4721. …немец Федор Иванович. – Федор Иванович Рёссель, немец, гувернер братьев Толстых, с большой достоверностью изображен Толстым в повестях «Детство» и «Отрочество». До конца жизни (около 1845 г.) жил в Ясной Поляне.
5. 4725. …братьев. – Братья Толстого: Николай, Сергей и Дмитрий. См. примечания к «Исповеди», стр. 530 и 531.
6. 4725. …отца. – Отец Толстого Николай Ильич, р. 26 июня 1794 г., ум. 21 июня 1837 г.
7. 4729. …в доме у нас. – Большой дом в Ясной Поляне, в два этажа. Постройка его началась при деде Толстого, Николае Сергеевиче Волконском, и закончилась при его отце. В 1854 г. по поручению Л. Н. Толстого дом был продан его зятем В. П. Толстым соседнему помещику Горохову и перевезен в его имение Долгое, в восемнадцати верстах от Ясной Поляны. Имение переходило из рук в руки, и в 1913 г., по постановлению крестьян, в то время владевших усадьбой, полуразвалившийся дом был разобран на дрова и кирпич и разделен по дворам.
8. 4736. …тетинька – Татьяна Александровна Ергольская.
9. 4876. Уроки с Александрой Ильинишной. – А. И. Остен-Сакен занималась с детьми французским языком.
10. 4877. Трубку папа. – В своих «Воспоминаниях» (гл. VIII) Толстой описывая уклад жизни в Ясной Поляне при отце, между прочим рассказывает: «Обед кончается. Отцу подают закуренную трубку» (т. 34).
11. 4878. бабушка. – Бабка Толстого, гр. Пелагея Николаевна Толстая (р. 28 апреля 1762 г., ум. 25 мая 1838 г.). Толстой писал о ней в главе IV «Воспоминаний».
12. 4879. Дунечка Темешева. – О Дунечке Темешевой см. «Воспоминания» Толстого, гл. VII.
13. 48710. Кланяться задом. – В неопубликованных «Материалах к биографии Л. Н. Толстого», записанных 24 октября 1876 г. (хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого), С. А. Толстая рассказывает: «Судя по словам старых тетушек, которые мне рассказывали кое-что о детстве моего мужа, и также по словам моего деда Исленьева, который был очень дружен с Николаем Ильичем [Толстым], маленький Левочка был очень оригинальный ребенок и чудак. Он, например, входил в залу и кланялся всем задом, откидывая голову назад и шаркая».
14. 48711. шарады. – О своем «искусстве составлять шарады», которое он выказывал за обедом, Толстой рассказывает в VIII главе «Воспоминаний».
15. 48712. Я буду дурен, но умен. – В главе XVII повести «Детство» находим следующие строки:
«Я очень хорошо помню, как раз за обедом – мне было тогда шесть лет – говорили о моей наружности, как maman старалась найти что-нибудь хорошее в моем лице: говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка, и наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была сознаться, что я дурен; и потом, когда я благодарил ее за обед, потрепала меня по щеке и сказала:
– Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить; поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком.
Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но еще и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком».
О том же в XXIV главе повести «Отрочество»: «Я гораздо ниже ростом Володи, широкоплеч и мясист, попрежнему дурен и попрежнему мучусь этим. Я стараюсь казаться оригиналом. Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня умная рожа, и я вполне верю в это».
16. 48714. Миллер доктор. – Врач Г. В. Миллер служил инспектором Тульской врачебной управы. Он лечил детей Толстых; им был подписан врачебный протокол о смерти Н. И. Толстого.
17. 48715. Фанфар[онова] гора. – См. «Воспоминания», гл. IX.
18. 48717. Андрюша – в то время младший сын Толстого, родившийся 6 декабря 1877 г. (ум. 24 февраля 1916 г.).
19. 48722. Петруша. – «Петруша» и «Матюша» – два брата, бывшие камердинерами у отца Толстого, «оба красивые, ловкие ребята и лихие охотники» («Воспоминания», гл. III).
20. 48723. Лакомство – чернослив. – В IX главе «Воспоминаний» Толстой рассказывает: «Помню, какой я испытал ужас, когда проглотил косточку французского чернослива, который дала мне тетинька, и как я торжественно, как бы перед смертью, объявил ей об этом несчастье».
21. 48728. Гость Волконский. – В IX главе «Воспоминаний» Толстой пишет: «…я боялся нищих, боялся одного Волконского, который щипал меня».
22. 48729. (Прасковья Исавна). – Об экономке Прасковье Исаевне Толстой рассказывает в VIII главе «Воспоминаний». В «Детстве» Прасковья Исаевна изображена под именем Натальи Савишны.
«ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО»
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ
Об обстоятельствах, при которых была написана и получила распространение эта статья, П. И. Бирюков рассказывает следующее.
В одно из своих посещений Ясной Поляны, в 1885 или 1886 г., он остался один в кабинете Толстого и стал рассматривать книги, лежавшие на полках. «На нижних полках под книгами лежали рукописи. Я запустил туда руку и вытащил несколько тетрадей… Порывшись, немного, я вытащил одну тетрадь, представлявшую нечто цельное, это было несколько листов бумаги большого формата, мелко исписанных почерком не Льва Николаевича, и сверху была белая, в обыкновенный лист писчей бумаги, обложка, и на ней надпись: «Церковь и государство». Название заинтересовало меня; я присел к столу и стал читать. Я прочел всю статью залпом и пришел в восторг. Она начиналась так: «Было разбойничье гнездо в Риме – это двор Константина»; затем в этой статье цари назывались разбойниками, а попы – обманщиками. Это вполне соответствовало моему тогдашнему настроению. Я немедленно же принялся переписывать, и скоро копия была готова.
В кабинет зашел Лев Николаевич и спросил, что я делаю; я указал ему на рукопись и сказал, что мне она очень понравилась. Он посмотрел и равнодушным тоном, как о деле его мало интересующем, сказал: «Ах, это сочинение Александра Петровича». Это меня озадачило, и я стал добиваться разъяснения. Оказалось, что это Лев Николаевич сказал шутя, это были его черновые наброски, Александр Петрович Иванов, переписчик, переписал их и сам дал заглавие: «Церковь и государство»; поэтому Лев Николаевич и назвал это сочинением Александра Петровича.
Эта статья представляет неоконченный вариант, вероятно, времени писания «Критики догматического богословия», и была брошена Львом Николаевичем без внимания. Хотя статья была уже переписана мною, я все-таки попросил у Льва Николаевича позволения увезти с собой копию, на что он охотно согласился, не придавая никакого значения как самой статье, так и копированию ее.
Я увез с собой копию, а самую статью положил на прежнее место и не знаю, где она теперь находится. Копию я привез в Петербург, в «Посредник». Нас посещали студенты из разных революционных кружков. Одним из них был студент Василий Васильевич Водовозов. Он усердно занимался в университете литографированием лекций. Я думаю, что это занятие его привлекало главным образом тем, что этим путем ему удавалось литографировать запрещенные революционные сочинения. Так как новые религиозно-философские произведения Льва Николаевича были запрещены, то он занялся изданием и этих произведений, хотя и не был согласен с ними. Таким образом, он издал «Исповедь», «Краткое Евангелие», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?». Я снабжал его оригиналами, получая их от Владимира Григорьевича Черткова.
Когда Василий Васильевич зашел ко мне по моем возвращении из Ясной, чтобы узнать, не привез ли я чего-нибудь нового, я показал ему «Церковь и государство». Он прочел, пришел в восторг и сказал, что это непременно надо издать.
Мне тоже этого хотелось, но я не решился бы это сделать, не получив на то разрешения Льва Николаевича. Василий Васильевич разрешил мое сомнение революционным путем. Он попросил у меня позволения переписать для себя. Я дал ему, полагая, что если Лев Николаевич так охотно и без всяких оговорок позволил мне увезти копию, то он не будет против того, чтобы кто-нибудь списал ее у меня. Водовозов взял у меня копию и через несколько дней, возвратив мне ее, вручил мне уже готовый, прекрасно изданный литографированный экземпляр, сказав, что статья эта имеет большой успех среди студенчества.
Я был смущен и, кажется, написал Льву Николаевичу об этом или сказал при следующем свидании, но он никакого внимания на это не обратил, и с моей души свалился тяжелый камень ответственности за это подпольное издание, сделанное без его ведома, и притом такого произведения, которое он сам не предназначал для печати».142
Рассказ П. И. Бирюкова о происхождении статьи «Церковь и государство» вполне подтверждается перепиской Толстого. 23 октября 1886 г. Г. А. Русанов писал Толстому: «Мне пришлось как-то прочесть, кажется в «Новом времени», что в Петербурге ходит по рукам новое произведение ваше под заглавием «Государство и церковь». (Имелось в виду, очевидно, вышеупомянутое литографированное издание.) На это Толстой отвечал около 10 ноября 1886 г.: «Церковь и государство» есть мысли некоторые, набросанные мною. Переписчик озаглавил их и пустил в ход. Особенно нового и значительного в них ничего нет. Что будет, вам сообщу, если и это попадется, пришлю вам».143
О том же писал Толстой В. Г. Черткову 11 июня 1903 г. Указав на то, что в издании «Свободного слова» статья «Церковь и государство» неверно датирована 1892 г., Толстой далее писал: «Она была написана вместе с Евангелиями [с работой Толстого «Соединение и перевод четырех Евангелий»]. Переписал же ее и пустил в ход Александр Петрович гораздо позже. Я не думал ее издавать и ни разу не перечел ее и ни слова не поправил в ней» (т. 88).
Но Толстой ошибался, говоря как в письме к Г. А. Русанову, так и устно П. И. Бирюкову, что заглавие статьи «Церковь и государство» дано переписчиком: заглавие это крупным и четким почерком написано рукою автора наверху первой страницы сохранившейся рукописи этой статьи. Ошибкой Толстого является также и его утверждение, будто бы он ни разу не перечитал и совершенно не поправлял статью «Церковь и государство». Сохранилась копия статьи, просмотренная и исправленная Толстым. Забывчивость его в данном случае объясняется тем, что статья, против обыкновения, была просмотрена только один раз, и исправлений в ней было сделано сравнительно немного.
Статья «Церковь и государство» – не что иное, как развитие мыслей, записанных Толстым в Записной книжке в сентябре и октябре 1879 г.: «Церковь, начиная с конца и до III века – ряд лжей, жестокостей, обманов» (30 сентября). «Вера отрицает власть и правительство – войны, казни, грабеж, воровство, а это всё сущность правительства. И потому правительству нельзя не желать насиловать веру… Христианство насиловано при Константине – при разделении Запада и Востока. Лютеранство, кальвинизм, англиканство – всё не вера, а форма насилия. Истинны только угнетенные павликиане, донаты, богомилы и т. п.» (30 октября).144
Можно думать, что написание статьи «Церковь и государство» относится к ноябрю – декабрю 1879 г. Во всяком случае статья написана до начала не только писания «Исследования догматического богословия», но даже и изучения разбираемого Толстым в этой книге сочинения митр. Макария «Православно-догматическое богословие». Думаем так потому, что там, где идет речь об определении понятия «церковь», находим заметку автора: «Определ[ение] из Ист[ории] ц[еркви], из кат[ехизиса], из кат[олической] ист[ории] церкви», после чего в рукописи проставлена строка точек. О книге Макария здесь не упомянуто, чего не могло бы быть, если бы статья писалась после такого основательного изучения этой книги, какое было сделано Толстым. На то же указывает и архаический термин «богословия» (именительный падеж), употребленный Толстым в черновой редакции статьи, тогда как после изучения книги Макария он, вслед за этим писателем, писал уже не «богословия», а «богословие».
Для датировки статьи имеет значение также и упоминание в черновой редакции об обер-прокуроре Синода, графе Д. А. Толстом. Это не дает возможности датировать статью позднее апреля 1880 г., так как 24 апреля 1880 г. на место Д. А. Толстого обер-прокурором синода был назначен Победоносцев.
Статья «Церковь и государство» впервые появилась в Берлине в издании Кассирер и Данцигер без обозначения года; предисловие издателей подписано 29 января 1891 г. Статья была напечатана крайне неряшливо; не только были искажены отдельные слова, но и пропущены целые фразы. Возможно, что статья набиралась по неисправной копии. Затем статья была напечатана по более исправной копии в томе десятом «Полного собрания сочинений запрещенных в России» Л. H. Толстого, изд. «Свободного слова», Christchurch, 1904, стр. 1—13.
В России статья впервые появилась в издании «Обновление», № 8, СПб. 1906; затем была переиздана издательством «Благая весть» (№ 12) в Самаре в 1918 г.
В вышедшие до сих пор собрания сочинений Толстого статья не включалась.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ
Сохранились следующие рукописи, относящиеся к статье «Церковь и государство».
1. Автограф. 12 лл. 4°, исписанных с обеих сторон, за исключением лл. 8 и 10, исписанных с одной стороны. Начало: «Вера есть смысл, даваемый жизни»; конец: «В том, чтобы просящему дать? – Все».
2. Неполная копия статьи рукою А. П. Иванова. 22 лл. 4°, исписанных с одной стороны и нумерованных переписчиком по сложенным пополам листам писчей бумаги (то есть так, что единица нумерации соответствует двум листам 4°) цифрами 10—20. Первые 18 лл. (по нумерации переписчика лл. 1—9) отсутствуют. Начало: «Христианская кафолическая вера»; конец: «это учение отрицало ее самое». Первая половина л. 15 разрезана на две части. Толстым сделаны исправления на некоторых листах и приписан заключительный абзац.
Печатаем статью «Церковь и государство» с начала до слов «Христианская кафолическая вера» по первопечатному тексту издания 1891 г., с исправлением опечаток по автографу; со слов «Христианская кафолическая вера» до конца – по авторизованной копии.
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
В настоящий указатель введены имена личные и географические, заглавия книг, названия статей, произведений искусства. Кроме того, в указатель введены названия журналов и газет, если они употреблены самостоятельно, а не как библиографические данные. Знак || означает, что цифры страниц, стоящие после него, указывают на страницы редакторского текста.
Имена, поясненные в примечаниях, в указателе не аннотируются.
Август (Гай Юлий Цезарь Октавиан, 63 до н. э. – 14 н. э.) – первый римский император – 479.
Августин Аврелий (Блаженный, 353—430) – богослов, епископ гиппонский – 97, 100, 101, 136, 230, 236, 281, 283, || 523.
Авель – 437.
Авраам – библейский патриарх – 98, 111, 184, 274, 294, 392, 404, 406, || XVIII, 516.
Аврелий Марк (121—180) – римский император, философ-стоик – 381, || 558.
– «Наедине с собой. Размышления» – || 558.
Австралия – 442.
Адам – 79, 111, 130, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 154, 156, 158, 159, 175, 182, 193, 196, 227, 228, 230, 248, 274, 285, 291, 292, 333, 340, 374, 376, 377, 378, 399, 400.
Акимушка – 511, || 537.
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) – общественный деятель и публицист, славянофил – || 549, 558.
Александрия – 108.
Александровский сад в Москве – 316.
Алексеев Василий Иванович (1848—1919) – в 1877—1881 гг. учитель детей Толстого – || 558.
Алексей (Лавров-Платонов) – протоиерей, профессор богословия – || 517.
Алексей Михайлович (1624—1676) – русский царь – 55.
Амвросий (340—397) – епископ миланский, автор сочинений по вопросам догматическим и церковно-практическим – 116, 215, 236.
Америка – || 535.
Амфилохий, архимандрит – председатель духовного цензурного комитета – || 551.
Англия – 340, 442, || 532.
Апокалипсис или Откровение – священная книга Нового Завета; приписывается церковью Иоанну Богослову – 170, 171, 188, 280, 283.
Аполлон – 480.
Аравия – 108.
Арий (256—336) – пресвитер александрийской церкви, учение которого признано Никейским собором (в 325 г.) еретическим – 479.
Архангельск – 420.
Астрахань – 420.
Афанасий Великий (293—373) – архиепископ Александрийский, прозванный отцом православия; автор одного из символов веры – 75, 108.
Афиногор (II. в.) – философ, последователь Платона; церковный писатель – 324.
Базаров В., «Толстой и русская интеллигенция» – || VI, VII.
Бастыево, Московско-Курской ж. д. – || 559.
Бахметьев Николай Николаевич (1847—1909) – журналист, в 1880-х гг. секретарь редакции «Русской мысли» – || 521, 522, 528, 552.
– «Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах» – || 521, 522, 528, 553.
Бельгия – || 532.
Бердичев – 401.
Берс Петр Андреевич (1849—1910) – шурин Толстого – || 519, 526.
Библия – 80, 138, 139, 315, 316, 339, 364, || 555.
Бирюков Павел Иванович (1860—1931) – || 564, 565, 566.
– «Биография Л. Н. Толстого» – || 517, 537.
– «Мои два греха» – || 565.
Бисмарк Отто Эдуард Леопольд (1815—1898) – германский государственный деятель – 223.
Боровицкие ворота, в московском Кремле – 316.
Бобринский Алексей Павлович – || 534.
Боголюбский М. – духовный цензор – || 551.
Боткин Василий Петрович (1811—1869) – литературный критик и публицист – || 531.
Будда – 22, 25, 26, 27, 28, 29, 52, 385, 437, 495, || XV, 526, 535.
Буланже П. А., «Жизнь и учение Конфуция» – || 559.
Буслаев Ф. И., «Мои досуги» – || 533.
– «Перехожие повести» – || 533.
Бутовский А., «Опыт о народном хозяйстве, или О началах политической экономии» – || 529.
Бутурлин Александр Сергеевич (1845—1916) – знакомый Толстого – || 552, 553.
«Бытия Книга» – первая книга Библии – 79, 80, 130, 134, 135, 136, 138, 156, 196, 395, 396.
Вагнер Рихард (1813 —1883) – композитор и дирижер – 301.
Ванс Арнольд де – || XXIII.
Варнава – спутник ап. Павла, основатель первой христианской общины в Антиохии – 189, 213.
Василий Великий (329—379) – архиепископ кесарийский, богослов, признаваемый всеми христианскими церквами – 100, 205.
«Великие Минеи -Четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием», СПб. – || 534.
Венера – 480.
Виклиф Джон (1320—1384) – английский религиозный реформатор, выступавший за ликвидацию папства, монашества и сложной церковной иерархии – 249.
Вине Александр (Vinet, 1797—1847) – швейцарский богослов – 220.
Виноградов Дмитрий Федорович – учитель яснополянской школы – || 524, 525.
Вифания – Спасо-Вифанский мужской монастырь близ Троице-Сергиевой лавры – || 521.
Вифлеем – город в Палестине, близ Иерусалима – 162, 257.
Владимир Святославович (ум. 1015) – великий князь – 479.
Вогезский В., «Беседы с гр. Л. Н. Толстым» – || 523.
Вогюэ Эжен-Мельхиор (1848—1910) – французский публицист и критик-эстет – || 553.
Водовозов Василий Васильевич – || 565.
Волконский – 487, || 563.
Волконский Николай Сергеевич (1753—1821) – дед Толстого – || 562.
Вологда – 278.
Вольтер Франсуа-Мари (1694—1773) – 2, 63, || 530.
– «Век Людовика XIV» – || 530.
– «Генриада» – || 530.
– «Заира» – || 530.
– «Магомет» – || 530.
– «Опыт о нравах и духе народов» – || 530.
– «Эдип» – || 530.
«Всемирный вестник», журнал – || 523, 554.
«Второзаконие» – книга Библии – 79, 83, 89, 96, 157, 323, 347, 352, 357, 395, 396.
Галилей Галилео (1564—1642) – 334.
Галилея – 330, 413.
Гамбетта Леон (1838—1882) – французский политический деятель, вождь республиканской партии, с 1879 г. президент палаты депутатов, в ноябре 1879 – январе 1882 г. глава кабинета – 223.
Гаршин Евг., «Воспоминания об И. С. Тургеневе» – || 531.
Ге Николай Николаевич (1831—1894) – || 552.
Гераклит Эфесский (ок. 540 – 480 до н. э.) – древнегреческий философ-материалист – || XXV.
Геркулеса созвездие – 21.
Германия – || 531, 532.
Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) – литератор и историк, славянофил; в 1909 г. участник сборника «Вехи» – || 557.
Гиер (Франция) – || 531.
Гиларий или Иларий (ок. 320—368) – епископ в Пуатье, считающийся учителем Западной церкви; автор сочинения «О троице» – 97, 116, 193.
Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—1887) – профессор Московской духовной академии, публицист славянофильского направления – || 523.
– «Сборник сочинений» – || 523.
ГМТ. См. Государственный музей Л. Н. Толстого.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) – 11.
«Голос» – петербургская газета – || 521.
Горохов – || 562.
Горький Алексей Максимович (1868—1936) – || XXXI.
Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград) – || 555.
Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва) – || 518, 520, 522, 548, 550, 553, 557, 561, 562.
Гречулевич Василий Васильевич (1822—1885) – церковный писатель, с 1882 г. – епископ Могилевский Виталий – || XXIII.
Григорий Богослов (ок. 329—389) – епископ констан
тинопольский, || || богослов – 71, 112, 116, 179, 185, 192, 208, 215, 243, 297.
Григорий Великий или Двоеслов (ок. 540—604) – римский папа, автор богословских сочинений – 195.
Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) – || 523, 524.
Гризбах Иоганн-Якоб (1745—1812) – немецкий богослов, исследователь библейских текстов – 350.
Громека Михаил Степанович (1852—1883) – литературный критик; знакомый Толстого с 1874 г. – || 548, 549.
– «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого» – || 523.
Грузинский A. E., «Писатель H. Н. Толстой» – || 531.
Гус Ян (1369—1415) – чешский священник, вдохновитель национально-освободительного движения первой половины XV в., вождь Реформации в Чехии; сожжен на костре как «еретик» – 259.
Гусев А. Ф., «Исповедь графа Л. Н. Толстого и его мнимо новая вера» – || 523, 553.
Гусев H. H., «Два года с Л. Н. Толстым» – || 535.
– «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год» – || 536.
– «Толстой в молодости» – || 530, 531, 532.
Давид – иудейский царь – 1, 112, 156, 162, 184, 194, 195.
Давыдов Николай Васильевич – || 558.
– «Из прошлого» – || 560.
Дан – один из двенадцати сыновей библейского патриарха Иакова – 283.
Даниила пророка книга – писание Ветхого Завета апокалипсического характера – 84, 95, 396.
Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) – публицист-славянофил – || 524.
Декарт Рене (1596—1650) – французский философ-рационалист, физик, математик и физиолог – 34, || 533.
– «Основания философии» – || 533.
Декруа, герцог – из Ревеля, чей прах вследствие особых условий почвы не подвергся тлению – 278.
«Детский отдых» – журнал – || 519, 520, 526.
«Деяния апостолов» – книга, приписываемая церковью апостолу Луке – 85, 102, 156, 172, 204, 206, 213, 214, 215, 216, 226, 253, 265, 268, 278, 286, 290, 298, 364.
Дионисий Ареопагит (IV—V вв.) – член афинского ареопага, обращенный апостолом Павлом в христианство; первый афинский епископ; автор многих сочинений на церковные темы – 215.
Долгое, Тульской губ. – || 562.
Ева – 130, 131, 137, 141, 156.
Евангелие – 41, 114, 115, 116, 163, 168, 170, 172, 186, 188, 190, 205, 210, 211, 213, 251, 255, 256, 264, 268, 270, 282, 296, 298, 299, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 326, 327, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 346, 347, 348, 350, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 364, 367, 380, 393, 394, 406, 407, 413, 431, 477, 490, 503, 508, || 517, 518, 519, 531, 539, 541, 551.
Евреинов Михаил Яковлевич – || 537.
Евреинова Елизавета Михайловна – || 537.
Евреинова Ольга Ивановна – || 537.
Евреиновы – 509, || 537.
Европа – 8, 440, 441.
Египет – 108, 156.
«Ездры третья книга» – писание Ветхого Завета апокалипсического характера – 280, 339.
Екатерина II (1729—1796) – русская императрица («мужеубийца») – 296, 480 || 541.
«Екклезиаста или Проповедника книга» – священная книга Ветхого Завета, приписываемая церковью Соломону – 23, 297, || 533.
Елисей – библейский пророк – 278.
Епифаний (307—343) – епископ саламинский, автор сочинений по догматическим вопросам – 185, 190, 195.
Ергольская Татьяна Александровна («тетушка») – 4, 473, 510, || 530, 531, 532, 536, 561, 562.
Женева – || 522, 553.
Жуковский В. А., «Две повести. Подарок на Новый год издателю «Москвитянина». Из Шамиссо и Рюккерта» – || 533.
Забелин Иван Егорович (1820—1908) – историк и археолог – || 557.
Захария – отец Иоанна Крестителя – 169.
«Захарии пророка книга» – священная книга Ветхого Завета – 195.
«Звенья» – журнал – || 526.
Зевс – 139, 480.
Иаков – библейский патриарх – 274, 392.
Иаков («брат господен») – апостол, первый епископ иерусалимской церкви – 89, 265, 322, 323, 326, 327, 359, 407.
– «Соборное послание» – 89, 246, 264, 277, 322, 326, 327, 359, 404.
Иванов А. – || 538.
Иванов Александр Петрович (1836—1912) – переписчик Толстого – || 525, 526, 527, 543, 554, 555, 556, 564, 567.
Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835—1894) – протоиерей и духовный писатель, профессор Московского университета – || 522, 539, 543.
– «О русском церковном управлении» – || 539.
Игнатий Богоносец (ум. ок. 107) – епископ антиохийский; ему приписывается пятнадцать посланий – 189, 214.
«Иезекииля пророка книга» – книга Библии – 96.
Иеремия – библейский пророк – 162.
«Иеремии пророка книга» – книга Библии – 88, 95, 162.
Иероним Блаженный (род. между 331—346, ум. 420) – один из учителей Западной церкви; автор ряда сочинений догматического и полемического характера – 205, 215.
Иерусалим – 23, 24, 185, 194, 253, 357, 358, 414.
Иисус Навин – библейская личность – 80.
Иисус Христос – 3, 50, 51, 72, 74, 104, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 123, 139, 151, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 273, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 444, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 464, 465, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 503, 512, || XV, XVI, XVII, XXI, XXVIII, XXIX, 516, 518, 534, 540, 543, 546, 551, 555, 556, 557.
«Иисуса сына Сирахова книга премудрости» – входящая в состав Библии – 69, 278.
Иларий. См. Гиларий.
Илия – библейский пророк – 169, 278, 334, 393.
Иоанн Богослов – апостол и евангелист – 70, 115, 119, 120, 164, 169, 170, 173, 175, 188, 212, 214, 251, 253, 255, 300, 313, 407.
– «Евангелие» – 69, 71, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 141, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 179, 180, 186, 187, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 203, 210, 211, 231, 236, 246, 253, 255, 265, 268, 270, 284, 299, 339, 370, 380, 390, 392, 394, 397, 398, 404, 405, 409, || XXIII, XXV, 410, 453, 454.
– «Послания» – 69, 103, 119, 120, 151, 170, 193, 246, 260, 453.
Иоанн IV Грозный (1530—1584) – 357.
Иоанн Дамаскин (676—777) – знаменитый богослов, автор сочинений философского и богословского содержания – 62, 63, 68, 72, 73, 83, 86, 88, 99, 101, 110, 176.
– «Точное изложение православной веры» – 87, 176.
Иоанн Златоуст (род. ок. 344 – ум. 407) – один из отцов Восточной церкви, с 397 г. епископ константинопольский; знаменитый проповедник – 52, 97,193, 236, 239, 305, 325, 343, 344, 345, 353, 361.
Иоанн Креститель – 169, 253, 331, 337, 339, 370, 371. 386, 393, 394, 413.
Иоасаф царевич – || 535.
«Иова книга» – священное писание Ветхого Завета – 141, 147.
Иона – библейский пророк – 156, 394, 413, 461.
Иордан – 257, 278.
Ириней (род. ок. 130 – ум. 202) – епископ лионский; известен своим сочинением против гностиков – 71, 97, 214, 342.
Ирод Великий (62 до н. э. – 4 н. э.) – иудейский царь и правитель Галилеи и Самарии – 394.
Исаак – библейский патриарх, сын Авраама – 156, 192, 392. 404.
Исаия-пророк – 111, 168, 185, 194, 339, 342, 371.
– «Исаии пророка книга» – 168, 185, 194, 371.
Исленьев Александр Михайлович (1794—1888) – дед С. А. Толстой – || 562.
Истомин Владимир Константинович (1847—1914) – приятель братьев С. А. Толстой; в 1881 г. один из издателей журнала «Детский отдых» – || 519, 526.
Исторический музей в Москве – || 557.
«Исход» – книга Библии – 83, 95, 96, 111, 152, 156, 157, 347, 352.
Иуда Искариотский – 213.
Иуда Фаддей или Леввей – один из двенадцати апостолов, которому церковь приписывает «Соборное послание» – 171.
– «Соборное послание» – 171, 237.
Иудея– 202.
Казанский университет – 1, || 525, 529, 536.
Казань – 488, 490, 511, || 524, 526, 536, 537.
Каиафа – евангельский персонаж, иудейский первосвященник – 188, 190.
Каин – 156.
Кайенна – город во французской Гвиане, место ссылки – 442.
Кальвин Жан (1509—1564) – швейцарский реформатор; вместе с Цвингли основатель реформатской церкви – 249.
Кана Галилейская – город в древней Палестине – 195, 268.
Кант Иммануил (1724—1804) – немецкий философ-идеалист – 44, 81, 499, 500, 504, || VI, XXIX, 534, 544.
– «Критика чистого разума» – || 534.
Капустин Платон – || 522.
Каралык, Самарской губ. – || 532.
Карл Великий (742—814) – император римский и король франков – 479.
Карышев И. А., «Православно-христианский взгляд на основания, принятые гр. Л. Н. Толстым для своего лжеучения, изложенного в сочинении «В чем моя вера?» – || 554.
Кассиан – архимандрит – 195.
«Катехизис И. Белякова» – 434.
Киев – 278, 279, || 516.
Киприан (ум. 258) – епископ карфагенский, автор посланий и богословских сочинений – 215.
Китай – 340.
Климент Александрийский (ум. между 211—220) – пресвитер, автор богословских сочинений – 97.
Климент Римский (ум. 101) – епископ, автор посланий – 189, 214, 305.
Ключевский В., «Древнерусские жития святых, как исторический источник. Исследование» – || 534.
«Книга житий святых. Напечатася в царствующем великом граде Москве, в синодальной типографии, пятым тиснением, в лето от рождества по плоти бога слова 1864» – || 534.
Константин Великий (274—337) – римский император, провозгласивший христианскую религию господствующей в государстве – 300, 324, 438, 439, 478, 479, 480, || XVI, 564, 566.
Константинополь – || 534.
Конфуций (551—479 до н. э.) – 381, 437, || XV, 559.
– «Великая Наука» – || 559.
Крапивна, Тульской губ. – || 556.
Кузминская Татьяна Андреевна (1846—1925) – || 517, 520, 524, 548, 550, 558.
– «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» – || 532.
Кузминский Александр Михайлович (1843—1917) – || 550, 558.
Кукуевка, Тульской губ. – || 559.
Кушнерев Иван Николаевич – владелец типографии в Москве – || 551, 552.
Лавров Вукол Михайлович (1852—1912) – издатель «Русской мысли» – || 549.
Лазарь – евангельский персонаж, брат Марии и Марфы – 195.
«Левит» – книга Библии – 79, 103, 322, 323, 347, 357, 362.
Ленин Владимир Ильич (1870—1924) – || VI, VII, VIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI.
– «Герои оговорочки» – || VI, VII, VIII.
– «Сочинения» – || VI, VII, VIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI.
Леонид (Лев Александрович Кавелин, 1822—1891) – архимандрит, наместник Троице-Сергиевой лавры – || 517.
Ли Анна – || 535.
Ливия – древнее название Африки – 108.
Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875) – в 1850-х гг. сотрудник «Современника», библиограф, позднее начальник Главного управления по делам печати – || 530.
Лука – евангелист – 169, 196, 321, 326, 337, 338, 353, 354, 363, 365, 481.
– «Евангелие» – 169, 184, 187, 194, 196, 202, 203, 204, 210, 211, 212, 213, 215, 217, 247, 257, 299, 318, 319, 337, 339, 342, 353, 360, 364, 371, 381, 386, 387, 388, 389, 392, 394, 397, 405, 408, 414, 415, 427, 436, 465.
Людченса и Ферони цирк в Бердичеве – || 559.
Лютер Мартин (1483—1546) – видный деятель Реформации, основатель протестантизма (лютеранства) в Германии – 223, 249, 326, 350.
Магомет (Мохаммед, 571—632) – 277.
Макарий Великий (301—391) – отец церкви, богослов – 52, || 535.
Макарий (Михаил Петрович Булгаков, 1816—1882) – с 1879 г. митрополит московский, церковный писатель – 61, 62, 63, 73, 121, || 517, 521, 538, 542, 546, 566.
– «Введение в православное богословие» – 61, 209.
– «Православно-догматическое богословие» – 61 – 303, || 538, 542, 546, 566.
Маковицкий Душан Петрович (1866—1921) – || 543.
Малахия – библейский пророк – 162.
«Малахии пророка книга» – священное писание Ветхого Завета – 162.
Малх – евангельский персонаж – 348.
Мамонтов А. И. – владелец типографии в Москве – || 522.
Манчестер (Англия) – || 535.
Маракуев Владимир Николаевич – || 551.
Мария – 161, 175, 176, 179, 180, 291, 302.
Марк – апостол и евангелист – 168, 213, 251, 353, 354, 407.
– «Евангелие» – 80, 81, 167, 168, 184, 194, 203, 204, 212, 213, 215, 251, 299, 353, 364, 392, 394, 404, 407, 415.
Маркел (ум. 374) – епископ анкирский – 109.
Марфа – евангельский персонаж – 389.
Матфей – апостол и евангелист – 114, 168, 202, 212, 251, 261, 299, 308, 310, 315, 321, 336, 337, 353, 365, 407, 434, 438.
– «Евангелие» – 69, 72, 83, 84, 96, 114, 165, 167, 168, 183, 184, 187, 194, 195, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 217, 246, 248, 251, 261, 265, 268, 284, 286, 287, 299, 308, 310, 315, 318, 335, 336, 337, 342, 343, 347, 352, 353, 357, 360, 362, 364, 370, 371, 381, 389, 390, 392, 393, 394, 397, 404, 407, 414, 415, 427, 434, 436, 461, 464, || XV, 558.
Матюша – 487, || 563.
Мейер Жюль – || 553.
Мельхиседек – библейская личность, священник – 156, 184, 185.
Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846—1888) – 463.
Миллер Г. В. – 487, || 563.
Милютин Владимир Алексеевич («Володинька М.») – 1, || 529.
– «Избранные произведения», изд. Госполитиздат, М. 1946 – || 529.
– «Мальтус и его противники» – || 529.
– «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» – || 529.
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) – в 1861—1881 гг. военный министр – || 529.
Минор Залкинд (Соломон Алексеевич) – || 558.
Михаил архимандрит, «Толковое Евангелие» – 361.
«Михея пророка книга» – священное писание Ветхого Завета – 162.
Моисей – библейский патриарх, вождь еврейского народа – 63, 79, 80, 119, 129, 130, 156, 177, 182, 186, 194, 230, 231, 282, 328, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 352, 354, 358, 363, 365, 392, 396, 397, 398, 435, 437, 438, 451, 454, || XV, 516, 555, 560.
Молох – название божества у финикиян и аммонитян; ему приносились человеческие жертвы – 418.
Мольер Жан-Батист (1622—1673) – 11.
Морозов Василий Степанович (1848—1913) – тульский крестьянин, любимый ученик Толстого – || 532.
– «Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы» – || 532.
Москва – 278, 417, 465, 509, 510, 511, || 517, 520, 522, 531, 535, 536, 539, 540, 549, 550, 551, 552, 556, 557, 559.
«Московские ведомости» – газета – || 560.
Мусин-Пушкин Михаил Николаевич – 1.
Мюллер Макс (1826—1900) – немецкий языковед; исследователь и издатель древнеиндийских памятников – 395.
Наполеон I Бонапарт (1769—1821) – 480.
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878) – || 530.
Нерон (37—68) – с 54 г. римский император; при нем (в 64 г.) было первое гонение на христиан – 283.
Несторий (ум. 440) – патриарх Константинопольский, осужденный на III Вселенском соборе в Ефесе (в 431 г.) как еретик – 177, 178, 180.
Никея – город в Вифинии (Малая Азия) – 481, || 534.
Никодим – евангельский персонаж; член иерусалимского синедриона, тайный ученик Христа – 162, 163, 186, 341, 370.
Николай Чудотворец (IV в.) – архиепископ Мирликийский – 123, 279, 503.
Ниневия – главный город древней Ассирии – 461.
Новгород – 278.
«Новое время» – реакционная газета, выходившая в Петербурге в 1868—1917 гг. – || 565.
Ноеций (III в.) – церковный писатель, признанный еретиком – 109.
Ной – библейский персонаж – 1.
Оболенский Леонид Егорович (1845—1906) – журналист, в 1883—1890 гг. издатель журнала «Русское богатство» – || 523.
– «Обо всем. Критические заметки» [за подписью: Созерцатель] – || 523.
Олимп – 80, 120.
Оптина пустынь, Калужской губ. – 511, || 516.
Ориген (ок. 185—255) – богослов, автор многочисленных сочинений по вопросам догматики, апологетики и христианской нравственности – 127, 324, 367.
Орфано А., «В чем должна заключаться истинная вера каждого человека» – || 554.
Остен-Сакен Александра Ильинична (1797—1841) – тетка Толстого – 487, 509, 510, 511, || 532, 536, 537, 561, 562.
Остен-Сакен Карл Иванович (1797—1855) – муж А. И. Остен-Сакен – 509, || 536.
Остроумов М., «Наши новые «философы и богословы» – || 523.
– «Гр. Л. Н. Толстой» – || 523.
«Отчет императорской Публичной библиотеки за 1884 год», СПб. 1887 – || 555.
Павел – апостол – 70, 157, 171, 173, 184, 185, 189, 190, 204, 213, 226, 243, 244, 253, 300, 305, 323, 324, 339, 353, 354, 358, 373, 402, 438, 478, 481, || XV, 551.
– «Послания»:
Галатам – 152, 154, 157, 160, 190, 226, 247, 265.
Евреям – 69, 96, 156, 157, 171, 184, 185, 190, 200, 204, 215, 247, 298.
Ефесянам– 85, 154, 173, 189, 190, 195, 200, 203, 204, 212, 219, 226, 246, 285, 298.
Колоссянам– 84, 157, 171, 200, 226.
Коринфянам – 69, 71, 72, 156, 171, 173, 189, 203, 204, 214, 215, 226, 247, 248, 253, 255, 256, 263, 265, 266, 284, 285, 297, 350, 353, 354.
Римлянам – 69, 95, 96, 126, 152, 156, 157, 171, 172, 189, 193, 206, 219, 225, 226, 237, 246, 287, 290.
Солунянам – 215, 284.
Тимофею – 69, 89, 152, 171, 172, 173, 206, 215, 216, 226, 232, 247, 271, 277.
Титу – 171, 172, 225, 226, 246, 271, 290.
Филемону – 84, 171, 237, 238.
Павел I Петрович (1754—1801) – || 560.
Павел Самосатский (III в.) – епископ антиохийский, признанный церковью еретиком – 109.
Паново, Казанской губ. – || 537.
«Панчатра» – || 533.
Париж – 8, 496, || 525, 526, 531, 553.
Паскаль Блез (1623—1662) – французский математик, физик и философ-моралист – 385, || 559.
– «Мысли (о религии)» – || 559.
Пашенька – воспитанница А. И. Остен-Сакен – 509, || 537.
Пашков Василий Алексеевич – || 535.
Пелагий (V в.) – церковный писатель, признанный карфагенскими соборами еретиком – 231.
«Переписка Л. Н. Толстого с Н.Н. Страховым», СПб. 1911 – || 516, 539.
Петербург – 5, 492, || 522, 531, 535, 552, 553, 564, 565.
Петербургский университет – || 529.
Петр – апостол – 83, 114, 188, 214, 253, 312, 348, 393, 407, 414.
– «Послания» – 83, 152, 185, 188, 207, 215, 216, 225, 242, 252, 287.
Петр I (1672—1725) – 296, || 541.
Петр Могила (1596—1647) – киевский митрополит и духовный писатель – 61, 434.
Петр Мытарь – евангельский персонаж – 52.
Петруша – камердинер Н. И. Толстого – 487, || 563.
Пилат Понтий (I в.) – римский прокуратор в Иудее в 26—36 гг. – 167, 194, 386, 387, 412.
«Письма Толстого и к Толстому», Государственное издательство, М. 1928 – || 548, 558.
Платон, «Федон» – || 533.
Платон (П. Левшин, 1737—1812) – московский митрополит, проповедник и церковный писатель – 61, 434, || 560.
– «Православное учение, или сокращенная христианская богословия» – || 560.
Плевна – 423.
Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) – обер-прокурор Синода, крайний реакционер – || 551, 566.
Поликарп (ум. между 155—165) – епископ смирнский, автор богословских сочинений и двух посланий – 189.
«Послание патриархов православно-кафолической церкви о православной вере» – церковная книга, автором которой был иерусалимский патриарх Досифей. На греческом языке появилось в 1672 г., в русском переводе митрополита Филарета в 1872 г.; содержит восемнадцать членов, относящихся к догматам православной веры – 66, 68, 176, 210, 216, 218, 233, 236, 248, 251, 255, 258, 277.
«Посредник», издательство – || XXIII, 564.
«Православное исповедание кафолической и апостольской церкви восточной» – церковная книга, автором которой считают или киевского митрополита Петра Могилу, или его сподвижника И. Т. Козловского. Первоначально была написана на греческом и латинском языках; на русский язык была переведена в 1685 г. – 147, 185, 210, 216, 218, 232, 248, 255, 258, 259, 276, 277.
Праксий (II в.) – церковный писатель, сочинения которого признаны церковью еретическими – 109.
Прасковья Исаевна – экономка у Толстых – 487, || 563.
«Премудрость Соломонова» – библейская неканоническая книга; по предположению библейской критики, написана за два века до н. э. – 69, 72, 147, 156, 196, 266.
«Притча святого Варлаама о временнем сем веце» – || 535.
«Притчи Соломона» – книга Ветхого Завета, содержащая в поэтической форме изложение религиозно-нравственных поучений – 73, 95, 96, 128, 152, 298.
«Пролог» – распространенный в древней Руси славянско-русский сборник, заключающий жития святых, поучения, повести и т. п. – 52, || 533, 534, 535.
Прометей – 139.
Пруссия – || 560.
«Псалтырь» – книга Ветхого Завета, собрание ста пятидесяти гимнов – 69, 80, 83, 84, 96, 102, 111, 147, 152, 155, 167, 184, 254, 278.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) – 11.
Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) – историк русской литературы, журналист; академик – || 550, 551.
«Пятикнижие» – общее название первых пяти книг Библии – 80, 395, 396.
Редсток Гренвиль (1831—1913) – английский проповедник, евангелик – 501, || 534, 535.
Рейс Эдуард (Reuss, 1804—1891) – протестантский богослов, профессор в Страсбурге – 353, || XXIII.
Ренан Жозеф-Эрнест (1823—1892) – французский буржуазный историк и философ – 121, 330, 361.
Рёссель Федор Иванович (ум. между 1847—1852) – гувернер братьев Толстых – 472, 473, || 537, 562.
Рим – 479, || 564.
Россия (Русь) – 7, 9, 56, 111, 386, 429, 440, 442, 493, 504, || VII, VIII, 517, 519, 522, 523, 534.
Русанов Гавриил Андреевич (1846—1907) – уроженец Воронежской губ., член Острогожского, а затем Харьковского окружного суда; один из друзей Толстого – || 549, 564, 566.
– «Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 г.)» – || 549.
«Русская мысль», журнал – || 520, 521, 522, 523, 524, 526, 528, 529, 539, 543, 549, 550, 552.
«Русский архив», – журнал – || 523.
«Русский вестник», – журнал – || 524, 534.
«Русское богатство», – журнал, издававшийся в 1883—1890 гг. Л. Е. Оболенским – || 523, 553.
Руссо Жан-Жак (1712—1778) – 496, || 523.
«Русь» – газета славянофильского направления, выходившая в Москве в 1880—1896 гг. – || 539.
Савелий (III в.) – римский пресвитер, учение которого было признано церковью еретическим – 109.
Сакиа-Муни. См. Будда.
Салим. См. Иерусалим —
Самара – 507.
Самарин Юрий Федорович – || 533, 534.
Самария – 253.
Самарская губерния – 11, || 532.
Самуил – библейский пророк – 316.
«Свободное слово» – издательство В. Г. Черткова в Англии – || 547.
Севастополь – 423, || 530.
Сенека Луций Анней (4 до н. э. – 65 н. э.) – римский философ-стоик – 359.
Сергиевский – протоиерей, ректор Вифанской семинарии – || 521.
Сизиф – в греческой мифологии сын Эола, выдавший людям тайны богов, за что был осужден вечно вкатывать на гору громадный камень, который у вершины горы срывался и падал вниз («Сизифова работа») – 418.
Симон Волхв – из Самарии, основатель гностической секты симониан – 108.
Сирах. См. «Иисуса сына Сирахова книга премудрости».
«Слова Иоанна Златоуста» – || 535.
«Слово о монахе, нашедшем золото» – || 535.
«Слово о Петре Мытаре» – || 535.
«Слово о путнике в колодце» – || 535.
«Современник» – журнал – || 530.
Сократ (469—399 до н. э.) – 22, 381, || 533.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) – философ-идеалист и поэт – || 539, 543.
– «О духовной власти в России» – || 539.
Соломон (XI—X вв. до н. э.) – 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 40, 147, 156, 196, 385, 387, 495, 502, || 519, 533.
Спенсер Герберт (1820—1903) – английский буржуазный философ и социолог – 445.
Спиноза Барух (1632—1677) – голландский философ материалист и атеист – || XXVIII.
Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) – художественный и музыкальный критик, близкий знакомый Толстого – || 517.
Страхов Николай Николаевич (1828—1896) – философ-идеалист и литературный критик, близкий к славянофилам – || 516, 517, 518, 519, 524, 534, 538, 543, 549, 555.
– «Об основных понятиях психологии» – || 533.
«Судей книга» – книга Библии – 351.
Сухарева башня, в Москве – 417.
Сютаев Василий Кириллович – || 558.
Сютаев Иван Васильевич – || 558.
«Талмуд» – свод догматических религиозно-этических и правовых законоположений иудаизма – 315, 316, 339, 393, 411.
«Творения святых отцов» – 192.
Темяшева Евдокия Александровна – воспитанница отца Толстого – 487, || 562.
Тертуллиан (160—230) – церковный писатель – 81, 82, 97, || 560.
Тиле – 395, 445.
Тишендорф Константин (1815—1874) – немецкий протестантский богослов, исследователь библейских текстов – 338, 350.
«Толковый молитвенник», изд. третье, М. 1879 – 433, 434.
Толстая Александра Андреевна (1817—1904) – двоюродная тетка Толстого – || 531.
– «Воспоминания» – 531.
Толстая Мария Николаевна (1790—1830) – мать Толстого – 470, 488, 508, 509, || 535, 536, 561.
Толстая Мария Николаевна (1830—1912) – сестра Толстого – 472, 508, || 536, 561.
Толстая Пелагея Николаевна, рожд. Горчакова (1762—1838) – бабка Толстого – 510, 511, || 532, 562.
Толстая Софья Андреевна (1844—1919) – || 515, 516, 517, 518, 520, 523, 525, 526, 532, 536, 539, 540, 541, 542, 543, 548, 549, 550, 551, 556, 557.
– «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», изд. М и С. Сабашниковых, М. 1928 – || 515, 516, 518, 523, 532.
– «Женитьба Л. Н. Толстого» – || 532.
– «Материалы к биографии Л. Н. Толстого» – || 562.
– «Письма к Л. Н. Толстому», Academia, 1936 – || 551.
Толстая Татьяна Львовна (1864—1950) – || 543.
Толстой Андрей Львович – 487, || 563.
Толстой Валерьян Петрович (1813—1865) – зять Толстого – || 532, 562.
Толстой гр. Дмитрий Андреевич (1823—1889) – в 1882 г. министр внутренних дел, крайний реакционер – || 552, 566.
Толстой Дмитрий Николаевич (1827—1856) – брат Толстого 1, 511, || 530, 532, 562.
Толстой Илья Андреевич (1757—1820) – дед Толстого – 509, || 536.
«Толстой и Тургенев. Переписка», редакция и примечания А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928– || 524, 530.
Толстой Лев Николаевич:
– «Азбука» – || 519.
– «Анна Каренина» (Левин, Фоканыч) – 494, || 515, 516, 534.
– «Воспоминания» – || 530, 531, 537, 561, 562, 563.
– Вставка в «Биографию Л. Н. Толстого», составленную П. И. Бирюковым – || 537.
– «В чем моя вера?», изд. М. К. Элпидина Genève б/г (2-е изд. 1888 и 3-е – 1900) – || 554.
– «В чем моя вера?», изд. Гуго Штейница, Берлин 1902 – || 554.
– «В чем моя вера?», изд. «Свободное слово», Christchurch, England, 1902 – || 554.
– «В чем моя вера?», изд. «Всемирный вестник», 1906 – || 554.
– «В чем моя вера?», изд. «Посредник», М. 1906 и 2-е – М. 1912 – || 554.
– «В чем моя вера?», изд. Б. Коха, СПб. 1911 – || 554.
– «В чем моя вера?», типография П. В. Бельцова, М. 1911 – || 554.
– «В чем моя вера?», – склад изд. Н. И. Холмушина, СПб. 1912 – || 554.
– «Декабристы» – || 518.
– «Детство» – || 530, 561, 562, 563.
– Дневники и Записные книжки – || 516, 530, 531, 532, 536, 561.
– «Записки христианина» – || 548.
– «Исповедь графа Л. Н. Толстого. Вступление к ненапечатанному сочинению», изд. М. К. Элпидина, 1-е – 3-е, Женева, 1885, 1889 и 1895 (повторено в 1900 г.) – || 522, 523.
– «Исповедь», изд. «Посредник», М. 1885 (1-е изд.; последнее – 6-е, М. 1914) – || 523.
– [«Исповедь] «Вступление к критике догматического богословия», изд. В. и А. Чертковых, Christchurch, England, 1901 – || 523.
– «Исповедь», изд. Аскарханова, СПб. 1906 – || 523.
– «Исповедь», изд. журнала «Всемирный вестник», СПб. 1906 – || 523.
– «Исповедь», изд. Ефимова, М. 1906 – || 523.
– «Исповедь», изд. «Народ», 1906 – || 523.
– «Исповедь», изд. «Донская речь», Ростов-на-Дону, б/г. – || 523.
– «Исповедь», изд. «Всеобщая библиотека», 1906 – || 523.
– «Исповедь», изд. Коха, СПб. 1911 – || 523.
– «Исповедь», изд. Н. И. Холмушина, СПб. 1911 – || 523.
– «Исповедь», изд. «Трезвая жизнь», М. 1919 – || 523.
– «Исповедь», изд. П. Рэда, б/г. – || 523.
– «Исследование догматического богословия» («Критика догматического богословия») – 306.
– «Исследование догматического богословия», изд. «Свободное слово», Christchurch, England, 1903 – || 541.
– «Исследование догматического богословия», изд. Аскарханова, СПб. 1908 – || 541, 542.
– «Исследование догматического богословия», изд. Е. В. Терцина, СПб. 1908 – || 541.
– «Краткое изложение Евангелия» – || 519, 553, 565.
– «Критика догматического богословия», изд. М. К. Элпидина (в 2-х частях: Genève, 1891 и – Carouge (Genève); 1896– || 540.
– «Номер газеты» – || 558.
– «О безумии» – || 558.
– «Отрочество» – || 561, 562, 563.
– «Первые воспоминания (Из неизданных автобиографических заметок Л. Н. Толстого» – || 561.
Письма :
Алексееву В. И. – || 558.
Боткину В. П. – || 531.
Бутурлину А.С. – || 552, 553.
Громеке М. С. – || 548, 549.
Ергольской Т. А. – || 531.
Ледерле М. М. – || 533.
Некрасову Н. А. – || 530.
Пыпину А. Н. – || 550, 551.
Русанову Г. А. – || 565, 566.
Страхову Н. Н. – || 516, 517, 518, 519, 534, 538, 549.
Толстой С. А. – || 516, 520, 521, 524, 540, 549, 550, 551.
Толстому С. Н. – || 517, 531.
Урусову Л. Д. – || 524.
Фету А. А. – || 517, 531.
Черткову В. Г. – || 539, 540, 565.
Эндельгардту М. А. – || 548.
– «Полное собрание сочинений», изд. С. А. Толстой, М. 1911 – || 523, 541, 554.
– «Полное собрание сочинений», изд. т-ва И. Д. Сытина, М. 1913 – || 523, 541, 542, 554.
– «Полное собрание сочинений, запрещенных в России», изд. «Свободное слово», Christchurch, England – || 541, 554, 566.
– «Полное собрание сочинений». Юбилейное издание:
т. 8 – || 532.
т. 17 – || 518.
т. 19 – || 515.
т. 20 – || 516.
т. 24 – || XIV, XXI, XXV, XXIX, XXX.
т. 25 – || 531.
т. 34 – || 537, 562.
т. 35 – || 530, 531.
т. 38 – || 558.
т. 46 – || 536.
т. 47 – || 531.
т. 48 – || 516, 531, 532, 561, 566.
т. 49 – || 548.
т. 54 – || 532.
т. 59 – || 531.
т. 60 – || 531.
т. 62 – || 516, 517, 519, 534.
т. 63 – || 518, 519, 524, 538, 539, 548, 549, 550, 552, 565.
т. 66 – || 533.
т. 83 – || 516, 520, 521, 524, 539, 540, 549, 550, 551.
т. 85 – || 540.
т. 88 – || 565.
– «Предисловие к «Краткому изложению Евангелия» – || 519, 541.
– «Собрание сочинений», изд. 6-е – || 522.
– «Соединение и перевод четырех Евангелий» – 306 || XII, XXIII, XXIV, 539.
– «Так что же нам делать?» – || 522, 531, 565.
– «Царство божие внутри вас» – || XII.
– «Церковь и государство», изд. Кассирер и Данцигер, б/г. – || 566.
– «Церковь и государство», изд. «Обновление», СПб. 1906 – || 567.
– «Церковь и государство», изд. «Благая весть», Самара 1918 – || 567.
– «Чем люди живы» – || 520.
Толстой Михаил Львович (1879—1944) – сын Толстого – || 517.
Толстой Николай Ильич (1795—1837) – отец Толстого – 487, 488, 508, 509, 510, || 532, 536, 562, 563.
Толстой Николай Львович – || 532.
Толстой Николай Николаевич («старший брат») – 3, 8, 487, 489, 511, || 530, 531, 532, 562.
– «Охота на Кавказе» – || 531.
– «Пластун» – || 531.
Толстой Петр Львович – || 532.
Толстой Сергей Николаевич («С.») – 3, 487, 489, 490, 511, || 517, 530, 531, 562.
Троице-Сергиева лавра, под Москвой – || 517, 521.
Тула – || 536.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) – || 523, 524.
– «Первое собрание писем», СПб. 1885 – || 524.
Урусов Леонид Дмитриевич (ум. 1885) – тульский вице-губернатор, близкий знакомый Толстого – || 524, 553, 556.
Успенский Д., «Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого» – || 532.
Ушинский A. Д. – || 556.
Фаррар Фредерик-Уильям (1831—1903) – английский писатель-богослов – || XXIII.
Федоров В. – || 551.
Фейербах Людвиг (1804—1872) – немецкий философ-материалист – || VI, VII.
Феодорит Блаженный (ок. 385—457) – епископ сирский, автор сочинений по вопросам догматики, апологетики, экзегетики и истории церкви – 112, 136, 193, 238, 242.
Феоктистов Евгений Михайлович (1829—1898) – начальник Главного управления по делам печати – || 551, 553.
Феофилакт Болгарский (ум. после 1085 г.) – архиепископ Охриды (в нынешней Македонии), автор толкований на священное писание – 325.
Фет Афанасий Афанасьевич (1820—1892) – || 517, 530, 531.
– «Мои воспоминания» – || 530, 531.
Филарет (Василий Михайлович Дроздов, 1782—1867) – с 1821 г. митрополит московский, автор популярного «Пространного христианского катехизиса православные кафолические восточные церкви», служившего учебником закона божия во всех школах – 61, 63, 66, 68, 73, 243, 244, 434, 435, || 542, 557.
Филон Александрийский, или Филон Иудей (20 до н. э. – 54 н. э.) – еврейско-греческий философ и религиозный писатель – || XXV.
Фотин (ум. 375) – епископ сирийский, учение которого было осуждено на соборах Антиохийском (345) и Миланском (347) как еретическое – 109.
Франклин Вениамин – || 536.
Франция – 359, 442, || 531, 532, 560.
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) – поэт, историк и публицист; один из основателей славянофильства – 66, 220, 501, || 525, 533, 534.
Хомяков Дмитрий Алексеевич (1841—1919) – сын писателя А. С. Хомякова, публицист, славянофил – 501, || 539, 542, 543.
– «По поводу статей о русском церковном управлении Ив.-П. в «Руси» в 1882 г.» – || 539.
Хорив – библейское название горы на Синайском полуострове, на которой, по сказанию Библии, бог дал закон еврейскому народу – 89.
«Царств книги» – книги Библии – 278.
Цвингли Ульрих (1484—1531) – швейцарский реформатор, вместе с Кальвином основавший реформатскую церковь – 249.
Цельз (II в.) – философ-эклектик, автор сочинения «Sermo Verus», опровергающего христианство – 367.
Чермное море – залив Индийского моря, отделяющий Азию от Африки – 156.
Чернов Егор – тульский крестьянин (из деревни Ломинцово), ученик Яснополянской школы Толстого – || 532.
Черное озеро, в Казани – 488, || 525.
Чернь Московско-Курской ж. д. – || 559.
Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) – || 539, 540, 565.
Черткова Анна Константиновна (1859—1927) – жена В. Г. Черткова – || 547.
«Четьи-Минеи» – сборник житий святых, признанных православной церковью – 52, || 534.
Чингис-хан (1155—1227) – 327.
«Числ книга» – книга Библии – 96, 111.
Швейцария – || 531.
Шекспир Вильям (1564—1616) – 11.
Шмидт Мария Александровна (1843—1911) – близкий друг Толстого – || 543.
Шопенгауэр Артур (1788—1860) – немецкий философ-идеалист – 22, 23, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 39, 44, 395, 499, 500, || 518, 533, 534.
– «Мир как воля и представление» – || 533.
– «О четверояком корне достаточного основания» – || 534.
Шохор-Троцкий К. С., «Сютаев и Бондарев» – || 558.
Штраус Давид-Фридрих (1808—1874) – немецкий писатель, историк христианства – 330, 361.
Щепкин Дмитрий Митрофанович – || 557.
Щепкин Митрофан Павлович – || 557.
Элпидин Михаил Константинович (1835—1908) – русский эмигрант, издатель в Женеве – || 522, 523, 528, 529, 540, 541.
Эльзас-Лотарингия – || 560.
Энгельгардт Михаил Александрович (1861—1915) – сын А. Н. Энгельгардта, журналист – || 548, 549, 558.
Эпиктет (ок. 50 – ок. 138) – греческий философ-стоик – 359, 381, || 559.
Юзефович В. М. – || 552.
Юм Давид (1711—1776) – английский буржуазный философ, субъективный идеалист, агностик – 63.
Юрьев Сергей Андреевич (1821—1888) – редактор журнала
«Русская мысль» – || 520, 521, 523, 539, 549.
Юшков Владимир Иванович (1789—1868) – муж П. И. Толстой – 511, || 537.
Юшкова Пелагея Ильинична (1801—1875) – тетка Толстого – 511, || 524, 526, 532, 536.
Языков Семен Иванович (1787—1865) – тульский помещик, товарищ Н. И. Толстого по охоте – 510, || 537.
Ясенки, Тульской губ. – || 550.
Ясная Поляна – 469, 509, || 516, 520, 532, 536, 537, 539, 549, 550, 551, 562, 564, 565.
«Ясная Поляна. Школа. Журнал педагогический» – журнал Толстого, выходивший в 1862 г. – || 532.
«Revue nouvelle» – французский журнал.
Tolstoi L., «Christ’s Christianity» – || 553.
– «Ma religion», Paris, 1885 – || 553.
– «Worin besteht mein Glaube», aus dem russischen Manuskript übersetzt von Sophie Behr – || 553.
Vinet. См. Вине A.
СОДЕРЖАНИЕ (из 23-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого)
Религиозно-философские трактаты Л. Н. Толстого. В. Ф. Асмус… V
Редакционные пояснения… XXXII
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Исповедь (Вступление к ненапечатанному сочинению)… 1
Исследование догматического богословия… 60
В чем моя вера?… 304
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ, НЕОКОНЧЕННОЕ
Моя жизнь… 469
Церковь и государство… 475
ПЛАНЫ И ВАРИАНТЫ
[Плановые заметки к автобиографии «Моя жизнь»]… 487
Исповедь… 488
В чем моя вера?… 512
КОММЕНТАРИИ
Н. Н. Гусев
«Исповедь»… 515
«Исследование догматического богословия»… 538
«В чем моя вера?»… 548
«Моя жизнь»… 561
«Церковь и государство»… 564
Иллюстрации
Л. Н. Толстой. Фотография Дьяковченко. Между XXXVI и 1 стр.
1
Базаров, «Толстой и русская интеллигенция», «Новая заря», 1910, X (цит. по статье В. И. Ленина «Герои «оговорочки», Сочинения, т. 16, стр. 339).
(обратно)2
В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 339,
(обратно)3
Там же, стр. 339—340,
(обратно)4
Там же, стр. 340.
(обратно)5
В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 339.
(обратно)6
Там же, стр. 341—342.
(обратно)7
В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.
(обратно)8
Там же.
(обратно)9
Там же, т. 16, стр. 294
(обратно)10
Там же.
(обратно)11
Там же, т. 16, стр. 301.
(обратно)12
Там же, стр. 323.
(обратно)13
В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 296.
(обратно)14
В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 302.
(обратно)15
В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30.
(обратно)16
Там же.
(обратно)17
Там же, т. 16, стр. 295.
(обратно)18
[ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной;]
(обратно)19
[и сына]
(обратно)20
Курсив Толстого. Прим. ред.
(обратно)21
[кстати.]
(обратно)22
[недоразумение]
(обратно)23
[сын божий,]
(обратно)24
Именно – протестантов, которые не признают, чтобы Христос
учредил в церкви особое священноначалие или иерархию, а утверждают, что все верующие, по силе таинства крещения, суть равно священники бога вышнего; но так как всем невозможно отправлять обязанностей священства, то верующие и избирают сами из среды себя особых мужей, как своих «представителей», которых и облекают правами священноначалия (стр. 211).
(обратно)25
[недоразумение.]
(обратно)26
[кстати]
(обратно)27
[очаровательного учителя,]
(обратно)28
Мало этого, как бы для того, чтобы уж не было никакого сомнения о том, про какой закон он говорит, он тотчас же в связи с этим приводит пример, самый резкий пример отрицания закона Моисеева – законом вечным, тем, из которого не может выпасть ни одна черточка; он, приводя самое резкое противоречие закону Моисея, которое есть в Евангелии, говорит (Лука XVI, 18): «всякий, кто отпускает жену и женится на другой, прелюбодействует», т. е. в писанном законе позволено разводиться, а по вечному – это грех.
(обратно)29
[Курсив Толстого.]
(обратно)30
[Курсив Толстого.]
(обратно)31
Во всех церковных переводах в этом месте сделан умышленно ложный перевод: вместо слов в вас, ὲν ῦπὶν, везде, где встречаются эти слова, стоит: с вами.
(обратно)32
Марк Аврелий говорит: «Почитай то, что могущественнее всего в мире, то, что пользуется всем и всем управляет. Почитай тоже то, что могущественно в тебе. Оно подобно первому, потому что оно пользуется тем, что есть в тебе, управляет твоей жизнью».
Эпиктет говорит: «Бог посеял семя свое не только в моего отца и деда, но и во все существа, живущие на земле, в особенности в разумные, потому что они одни входят в сношения с богом через разум, которым они соединены с ним».
В книге Конфуция сказано: «Закон великой науки в том, чтобы развивать и восстановлять начало света разума, которое мы получили с неба». Это положение повторяется несколько раз и служит основой учения Конфуция.
(обратно)33
Слова эти неверно переведены: слово ήλικία – возраст, время жизни. И потому всё выражение значит: не можете прибавить часу жизни.
(обратно)34
Δόξα, как и во многих местах, совершенно неправильно переводится словом: слава. Δόξα от δοκέω значит воззрение, суждение, учение.
(обратно)35
Суд – κρίπς – значит не суд, а разделение.
(обратно)36
[верю, потому что нелепо,]
(обратно)37
Луки IV, 1, 2. Христос отведен в пустыню обманом, чтобы там быть искушаемым. Матф. IV, 3, 4. Обман говорит Христу, что он не сын бога, если не может из камней сделать хлебы. Христос говорит: я могу жить без хлеба. Я жив тем, что вдунуто в меня богом. Тогда обман говорит: если ты жив тем, что вдунуто в тебя богом, то бросься с высоты, ты убьешь плоть, но дух, вдунутый в тебя богом, не погибнет. – Христос отвечает: жизнь моя во плоти есть воля бога. Убить свою плоть значит идти против воли бога – искушать бога. Матф. IV, 8—11. Тогда обман говорит: если так, то и служи плоти, как все люди, и плоть вознаградит тебя. – Христос отвечает: я бессилен над плотью, жизнь моя в духе, но уничтожить плоть я не могу, потому что дух вложен в мою плоть волею бога, и потому, живя во плоти, я могу служить только отцу своему, богу. И Христос идет из пустыни в мир.
(обратно)38
Очень удивительно то оправдание такой жизни, которое часто слышишь от родителей. «Мне ничего не нужно, – говорит родитель, – мне жизнь эта тяжела, но, любя детей, я делаю это для них». То есть я несомненно опытом знаю, что наша жизнь несчастлива, и потому… я воспитываю детей так, чтобы они были так же несчастливы, как и я. И для этого я по своей любви к ним привожу их в полный физических и нравственных зараз город, отдаю их в руки чужих людей, имеющих в воспитании одну корыстную цель, и физически, и нравственно, и умственно старательно порчу своих детей. И это-то рассуждение должно служить оправданием неразумной жизни самих родителей!
(обратно)39
[Ударение Толстого.]
(обратно)40
Зачеркнуто: Я хочу попытаться описать <тот ход> всё, что я передумал и перечувствовал за эти 50 лет. Описать всё это было бы или слишком легко, если бы я писал только всё то, что сделало мое внешнее положение, или слишком трудно, если бы я хотел описать всё то, что сделало мою душу такою, какой она есть теперь, и я попытаюсь найти середину: буду описывать то, что сильнее действовало на меня и что привело меня
(обратно)41
Зачеркнуто: им жалко меня, но по какому-то странному недоразумению они
(обратно)42
Зач.: И это-то недоразумение более всего мучает меня и заставляет
(обратно)43
Зач.: из таких же
(обратно)44
Зач.: у меня опять не будет
(обратно)45
Зачеркнуто: непонятное
(обратно)46
Зач.: опять полюбить ее.
(обратно)47
Зач.: я бы никогда не помнил ее если
(обратно)48
Зачеркнуто: но никогда ни перед сражением, ни перед отъездом
(обратно)49
Зач.: не
(обратно)50
Зач.: такого страха перед предстоящим
(обратно)51
Зачеркнуто: нового
(обратно)52
Зач.: новое
(обратно)53
Зач.: Вот
(обратно)54
Зачеркнуто: прекра[сные]
(обратно)55
Зач.: именно потому, что желание быть лучше, никогда не оставлявшее меня, заставляло меня искать руководства, и руководство это я находил в вере, а свойство моего ума, допытывающегося до всего, давно уже отбросило ложь и бессмыслицу, встреченную в вероучении.
(обратно)56
Зачеркнуто: Оно произошло не так, как оно произошло с братом моим Сергеем, умным, хорошим человеком, но не имеющим <расположения> и пытливости ума.
(обратно)57
Зач.: ни на один волос
(обратно)58
Зачеркнуто: на судь[бу]
(обратно)59
Зач.: шутовская
(обратно)60
Зач.: детская вера чувства
(обратно)61
[ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной;]
(обратно)62
Зачеркнуто: кажется, кроме убий[ства]
(обратно)63
Зачеркнуто: не был никогда совсем спокоен
(обратно)64
Зачеркнуто: себя лучшим русским писателем
(обратно)65
Зач.: Чего еще нужно для счастия?
(обратно)66
Зач.: красоте, правде, добре
(обратно)67
Зач.: но обманы все прозрачны.
(обратно)68
Зачеркнуто: Если бы я писал книгу философскую, я бы сказал те выводы, которыми я опроверг свое отчаяние (я даже и сделал было это, но вычеркнул). Но если бы я писал богословское сочинение, я бы сказал, что бог меня спас. Но я хочу описать ход моей душевной жизни как можно правдивее и потому говорю, что остановило меня от самоубийства. Меня спасло то, что я видел других
(обратно)69
Зачеркнуто: Для меня открылся новый мир, в котором всё было навыворот тому, что я знал прежде.
(обратно)70
Зачеркнуто: но всё это было не то, что делала Александра Ильинишна. Она пустое делала, а это было настоящее.
(обратно)71
Зач.: бедную
(обратно)72
Т. 19, стр. 368, 369.
(обратно)73
«Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928, стр. 38—39.
(обратно)74
Т. 20, стр. 573.
(обратно)75
«Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928, стр. 39.
(обратно)76
Т. 62, стр. 347—348.
(обратно)77
Там же, стр. 380—381.
(обратно)78
Т. 48, стр. 70.
(обратно)79
Т. 83, стр. 270.
(обратно)80
«Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым», СПб. 1911, стр. 227.
(обратно)81
Т. 62, стр. 499.
(обратно)82
Там же, стр. 500.
(обратно)83
Там же, стр. 504.
(обратно)84
Там же, стр. 503.
(обратно)85
Там же, стр. 505.
(обратно)86
Рождение сына Михаила 20 декабря 1879 г.
(обратно)87
Т. 62, стр. 507.
(обратно)88
П. И. Бирюков, «Биография Л. Н. Толстого», т. II, 1923, стр. 158 (без точной даты).
(обратно)89
Письма не опубликованы; хранятся в Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого.
(обратно)90
Роман из эпохи декабристов (т. 17).
(обратно)91
«Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928, стр. 42.
(обратно)92
Т. 63, стр. 13.
(обратно)93
Т. 62, стр. 500.
(обратно)94
Т. 63, стр. 72.
(обратно)95
Т. 83, стр. 331.
(обратно)96
Там же, стр. 336
(обратно)97
Т. 83, стр. 346.
(обратно)98
Н. Б—в, «Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах», «Новое время» 1908, № 11694 от 1 октября.
(обратно)99
Н. Б – в, «Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах», «Новое время» 1908, № 11694 от 1 октября.
(обратно)100
В Отделе рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого хранятся корректурные оттиски 14 и 15 листов этого издания с пометками типографии А. И. Мамонтова 6 и 8 ноября 1885 г. Корректура без поправок автора.
(обратно)101
«Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928, стр. 43.
(обратно)102
«Русский архив» 1889, 11, стр. 432. То же – Н. П. Гиляров-Платонов, «Сборник сочинений», т. II, М. 1900, стр. 287—291.
(обратно)103
«…образ другого нашего великого художника, гр. Толстого, который еще на днях поведал миру свою душевную исповедь» (Созерцатель, «Обо всем. Критические заметки» – «Русское богатство» 1883, 1, стр. 216).
(обратно)104
«Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1885, стр. 510.
(обратно)105
«Толстой и Тургенев. Переписка», редакция и примечания А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928, стр. 110.
(обратно)106
«Русский вестник» 1901, 2, стр. 468.
(обратно)107
Т. 63, стр. 242.
(обратно)108
Т. 83, стр. 539.
(обратно)109
В миру Михаил Петрович Булгаков (1816—1882).
(обратно)110
Т. 63, стр. 12—13.
(обратно)111
«Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым», СПб. 1914, стр. 247.
(обратно)112
Т. 63, стр. 15.
(обратно)113
Т. 83, стр. 346.
(обратно)114
Т. 85, стр. 60.
(обратно)115
Там же, стр. 101.
(обратно)116
Там же, стр. 105.
(обратно)117
Т. 83, стр. 429—452.
(обратно)118
См. «Письма Толстого и к Толстому», Государственное издательство, М. 1928, стр. 308—311.
(обратно)119
Т. 63, стр. 112—124.
(обратно)120
T. 63, стр. 131.
(обратно)121
Там же, стр. 136.
(обратно)122
Г. A. Русанов, «Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 г.)» – «Толстовский ежегодник 1912 г.», изд. Общества Толстовского музея в Петербурге и Толстовского общества в Москве, М. 1912, стр. 55.
(обратно)123
Т. 63, стр. 137.
(обратно)124
Там же, стр. 138.
(обратно)125
Г. А. Русанов, «Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1S83 г.)», стр. 55.
(обратно)126
Т. 83, стр. 395—396.
(обратно)127
Там же, стр. 397.
(обратно)128
Там же, стр. 399.
(обратно)129
Т. 83, стр. 400.
(обратно)130
Там же, стр. 401.
(обратно)131
Там же, стр. 402.
(обратно)132
Т. 63, стр. 150.
(обратно)133
Владимир Николаевич Маракуев, издатель и писатель по вопросам сельского хозяйства.
(обратно)134
Типография в Москве, в которой печаталась «В чем моя вера?».
(обратно)135
С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, «Academia», 1936, стр. 246.
(обратно)136
Т. 83, стр. 418
(обратно)137
Дело Московского цензурного комитета 1884 г. № 22.
(обратно)138
Т. 63, стр. 155.
(обратно)139
Там же, стр. 160.
(обратно)140
Н. Б—в, «Л. Н. Толстой и цензура в 80-х годах», «Новое время» 1908, № 11694 от 1 октября.
(обратно)141
Т. 63, стр. 106.
(обратно)142
П. И. Бирюков, «Мои два греха» «Толстой. Памятники творчества и
жизни», 3, редакция В. И. Срезневского, изд. «Кооперативного т-ва изучения и распространения творений Л. Н. Толстого», М. 1923, стр. 48—50.
(обратно)143
Т. 63, стр. 406.
(обратно)144
Т. 48, стр. 195—196.
(обратно)
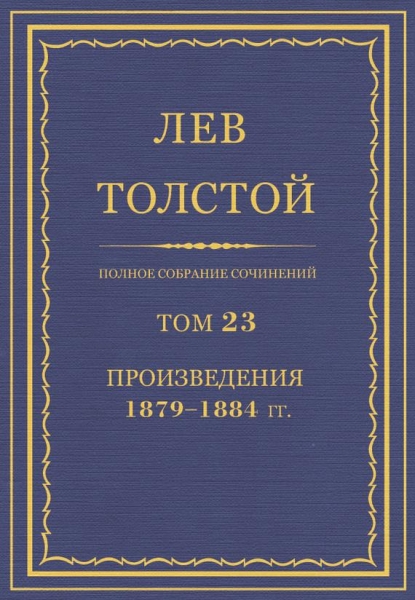


Комментарии к книге «ПСС. Том 23. Произведения, 1879-1884 гг.», Лев Николаевич Толстой
Всего 0 комментариев