Евгений Иванович Замятин Собрание сочинений в пяти томах Том 3. Лица
Автобиография*
Конские ярмарки, цыгане, шулера, помещики – в поддевках, в «дворянских» с красным околышем фуражках. «Царские дни», на молебне в соборе впереди всех – исправник, за ним – чиновники, учителя гимназии в мундирах, со шпагами, купцы с медалями на шеях. Масленичные катания по Большой улице – в пестрых «ковровых», выехавших из 17-го века санях. Летние крестные ходы – с запахом полыни, с тучами пыли, с потными богомольцами, на карачках пролезающими под иконой Казанской. Бродячие монахи, чернички, юродивый Вася-антихрист, изрекающий божественное и матерное вперемежку…
Да полно: было ли все это? Так это далеко – на целые века – от нынешнего, что не веришь и сам. И все же знаю, что было, и было всего лет сорок назад. Это тамбовская Лебедянь, та самая, о какой писали Толстой и Тургенев и с какой связаны мои детские годы.
Дальше – Воронеж, серая, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером – чудесный красный флаг, вывешенный на пожарной каланче и символизирующий отнюдь не социальную революцию, а мороз в 20° – и отмену занятий. Впрочем, это и была однодневная революция в скучной, разграфленной гимназической жизни – с учителями в вицмундирах, с латинскими и греческими «экстэмпорале».
Из гимназического сукна вылез в 1902 году. Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о рангах – «кобылы»), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскакивали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: «Моей almae matri, о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев». И инспектор – наставительно, в нос, на «о»: «Хорошо? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути». Наставление не помогло.
Петербург начала 900-х годов – Петербург Комиссаржевской, Леонида Андреева, Витте, Плеве, рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я – студент-политехник косовороточной категории.
В зимнее белое воскресенье на Невском – черно от медленных, чего-то выжидающих толп. Дирижирует Невским – думская каланча, с дирижера все не спускают глаз. И когда подан знак – один удар, час дня – на проспекте во все стороны черные человеческие брызги, куски «Марсельезы», красных знамен, казаки, дворники, городовые… Первая (для меня) демонстрация – 1903 год. И чем ближе к девятьсот пятому – кипенье все лихорадочней, сходки все шумнее.
Летом – практика на заводах, Россия, прибаутливые, веселые, третьеклассные вагоны, Севастополь, Нижний, Камские заводы, Одесса, порт, босяки.
Лето 1905 года – особенно синее, пестрое, тугое, доверху набитое людьми и происшествиями. Я – практикантом на пароходе «Россия», плавающем от Одессы до Александрии. Константинополь, мечети, дервиши, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый яффский прибой, черно-зеленый Афон, чумной Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия – с английскими полисменами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш. Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба. И по возвращении в Одессу – эпопея бунта на «Потемкине».
В те годы быть большевиком – значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком. Была осень 1905 года, забастовки, черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17-ое октября, митинги в высших уездных заведениях… Развязка – конечно, одиночка на Шпалерной и затем высылка (весною девятьсот шестого года). Место высылки было предоставлено мне выбирать самому. Я выбрал – Лебедянь. Но уездную тишину, колокола, палисадники – выдержал недолго: уже летом – без прописки в Петербурге, потом – в Гельсингфорсе.
Там однажды в купальне на Эрдгольмсхатан голый товарищ познакомил меня с голым пузатеньким человечком: пузатенький человечек оказался знаменитым капитаном Красной гвардии – Коком. Еще несколько дней – и Красная гвардия под ружье, на горизонте чуть видные черточки кронштадтской эскадры, фонтаны от взрывающихся в воде двенадцатидюймовок, слабеющее буханье свеаборгских орудий. И я – переодетый, выбритый, в каком-то пенсне – возвращаюсь в Петербург.
Парламент в государстве; маленькие государства в государстве – высшие учебные заведения, и в них свои парламенты: Советы старост. Борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом – одно время председателем – Совета старост. Это было веселое и хорошее время. Оно кончилось в 1908 году.
Весною в 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету, был оставлен при кафедре корабельной архитектуры (с 1911 года – преподавателем по этому предмету). Одновременно с листами проекта «башенно-палубного» судна – на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в «Образование», которое редактировал Острогорский; беллетристикой ведал Арцыбашев. Осенью 1908 года рассказ в «Образовании» был напечатан.
Три следующих года – корабли, корабельная архитектура, логарифмическая линейка, чертежи, постройки, специальные статьи в журналах «Теплоход», «Русское судоходство», «Известия Политехнического института». Много связанных с работой поездок по России: Волга вплоть до Царицына, Астрахани, Кама, Донецкий район, Каспийское море, Архангельск, Мурман, Кавказ, Крым.
Летом 1911 года Охранное отделение опять выслало меня из Петербурга. Поселился сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом зимой – в Лахте. Здесь – в снегу, одиночестве, тишине – написалось «Уездное». После «Уездного» – сближение с группой «Заветов», Ремизовым, Пришвиным, Ивановым-Разумником.
В 1913 году (трехсотлетие Романовых) – получил право жить в Петербурге. Теперь из Петербурга выслали врачи. Уехал в Николаев, построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и повесть «На куличках». По напечатании ее в «Заветах» – книга журнала была конфискована цензурой, редакция и автор привлечены к суду. Судили незадолго до Февральской революции: оправдали.
В начале 1916 года – через Швецию, Норвегию – уехал в Англию.
Там – сперва железо, машины, чертежи: строил ледоколы в Глазго, Нью-Кастле, Сэндэрланде, Саус-Шилдсе (между прочим, один из наших самых крупных ледоколов – «Ленин»). Немцы сыпали сверху бомбы с «цеппелинов» и аэропланов. Я писал «Островитян».
Когда в газетах запестрели жирные буквы: «Revolution in Russia», «Abdication of Russian Tzar»[1], в Англии стало невмочь, и в сентябре 1917 года на стареньком английском пароходишке (не жалко, если потопят немцы) я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов пятьдесят, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шлюпки наготове.
Дальше – веселая, жуткая зима 17–18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность.
Всяческие всемирные затеи: издать классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей – практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось только преподавание в Политехническом институте). И одновременно: чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена (19201921), курс техники художественной прозы в Студии Дома искусств («Серапионовы братья»), работа в Редакционной коллегии «Всемирной Литературы», в Правлении Всероссийского союза писателей, в Комитете Дома литераторов, в Совете Дома искусств, в Секции исторических картин ПТО, в издательстве Гржебина, «Алконост», «Петрополис», «Мысль», редактирование журналов «Дом искусств», «Современный Запад», «Русский современник».
В эти годы – роман («Мы»), ряд повестей, рассказов, критических статей. И в эти же годы – новый соблазн: театр.
На четвертом этаже «Всемирной Литературы» за каким-то неестественно длинным столом заседала Редакционная коллегия Секции исторических картин: Горький, Блок, Гумилев, Ольденбург, художник Щуко, я – и еще три-четыре человека. Уже водрузили мы основные вехи в потоке всемирной истории, уже запрудили его мощной программой, как будто все готово, и вот-вот история завертит театральную турбину, но – исторических драматургов не оказалось. Едва ли не единственной в портфеле Секции была пьеса Чапыгина об удельно-вечевой эпохе, написанная прекрасным и… никому не понятным подлинным языком XI века. Приняты были военные меры: редакторы Секции были мобилизованы для писания исторических пьес – и вскоре Блок дал «Рамзеса», Гумилев – пьесу об изобретении огня, а я – «Огни св. Доминика». Для постановки их намечен был сначала театр Народного дома, потом предложен был Василеостровский, потом какой-то еще более захудалый районный театр. Секция отказалась дать туда пьесы – так они на сцену и не попали. Позже «Огни св. Доминика» попали в список пьес, не рекомендованных к постановке. Впрочем, пьеса эта, переведенная на немецкий, оказалась не рекомендованной к постановке и в Германии: там в ней усмотрели «оскорбление католической религии».
Это был мой первый драматургический опыт; вторая работа для театра – «Блоха», написанная для МХАТа 2-го.
О театрализации лесковского «Левши» МХАТ 2-ой мечтал уже давно, но все не мог найти подходящего автора. Когда, по предложению театра, я взялся за эту работу, я увидел, что задача – действительно очень трудная. Сюжет «Левши», как известно, взят из народного сказа, и эту сказовую форму – с ее особенным языком, с ее анахронизмами и условностями – надо было дать на театре. Единственно возможное решение мне увиделось в форме народной комедии, в форме «игры» – театра условного от начала до конца; эта условность была подчеркнута «раскрытием приема» в лице трех ведущих масок – «халдеев». «Халдеи» пришли в «Блоху» одновременно из старинного русского «действа» и из итальянской импровизационной комедии, их предки – скоморохи, Петрушка, масленичный балаганный дед, Бригелла, Панталоне, Труффальдино. К весне 1924 года «Блоха» была закончена и в легкий, веселый майский день прочитана гастролировавшему тогда в Ленинграде МХАТу 2-му. Актеры смеялись так, что трудно было читать.
Премьера «Блохи» в МХАТе 2-м в постановке А. Д. Дикого и великолепном оформлении Б. М. Кустодиева состоялась в феврале 1925 года. В Ленинграде (тоже в декорациях Кустодиева и постановке Н. Ф. Монахова) «Блоха» была показана в ноябре 1926 года и затем обошла все крупные провинциальные сцены. В МХАТе 2-м пьеса шла до осени 1930 года, когда была снята – для «освежения» материала: роли «Раешника», «Левши» и «Англичан» написаны так, что они допускают введение рада реплик злободневного характера. Эта работа была проделана мною в течение зимы 1930-31 года, с осени 1931 года «Блоха» снова включается в репертуар МХАТа 2-го.
На большом производстве рядом с основным продуктом из «отходов» всегда получаются продукты побочные – «дериваты»: такие «дериваты» образовались и около «Блохи». К премьере «Блохи» в Ленинграде изд-вом «Academia» был выпущен небольшой сборник под заглавием «Блоха», куда вошли статьи: Б. Эйхенбаума, Б. М. Кустодиева, Н. Ф. Монахова, А. Лейферта и моя, в сборнике – иллюстрации Кустодиева. В 1929 году «Изд-вом писателей в Ленинграде» выпущена книга «Житие Блохи» – остроумные рисунки Б. М. Кустодиева и мой текст, дающие в пародийной форме историю постановки «Блохи» в Москве и Ленинграде. Превосходная музыка Ю. Шапорина к ленинградской постановке «Блохи» дала материал для симфонической сюиты «Блоха», исполнявшейся в Москве в сезон 1929-30 года; А. Коутс будет дирижировать этой сюитой в Нью-Йорке в сезон 1931–1932 года. «Блоха» переведена на английский язык 3. А. Венгеровой и переделана для американской сцены драматургом Генри Альсбергом.
Третья пьеса – трагикомедия «Общество Почетных Звонарей» (построенная на материале моей повести «Островитяне») – родилась под менее счастливой звездой, чем «Блоха». Пьеса эта была взята для постановки МХА-Том 1 – м в Москве и бывшим Александрийским в Ленинграде. В бывшем Александрийском театре пьеса стала плацдармом для войны двух режиссеров: в результате военных действий постановка была скомкана, перенесена в бывший Михайловский театр, на репетиции дано было всего только три недели. Для провала пьесы было сделано все возможное. Провала, правда, все же не получилось, но успех был довольно малокровный: пьеса продержалась только часть сезона 1925-26 года. В МХАТе 1-м ее начинали репетировать дважды, но до постановки дело так и не дошло. Очень хорошо эта пьеса была поставлена молодым театром «Красный факел», в течение нескольких сезонов игравшим ее в разных городах – главным образом, на юге России. С большим успехом «Общество Почетных Звонарей» шло в Театре русской драмы в Риге (сезон 1925-26 и 1926-27 гг.). Пьеса переведена на немецкий, английский, итальянский языки; осуществлена ли ее постановка в переводах на эти языки – мне неизвестно.
Как правило, – пьеса у меня пишется быстрее и легче, чем рассказ, повесть, роман (потому что повесть, роман – это пьеса плюс многое другое). Исключением была четвертая у меня пьеса – «Атилла»: работа над ней, включая «инкубационный» период и изучение материалов, заняла года три. Эпоха, когда состарившаяся западная, римская цивилизация была смыта волною молодых народов, хлынувших с востока, с черноморских, волжских, каспийских степей, – показалась мне похожей на нашу необычайную эпоху: огромная фигура Атиллы, двинувшего против Рйма все эти народы, увиделась мне совсем в ином, не традиционном освещении. Уложить все это в четыре акта – было нелегко; нелегкой была и выбранная форма: чередование прозы с vers libre все время меняющихся размеров (в зависимости от перемен эмоционального ритма). Пьесу пришлось написать дважды: один, уже вполне готовый, вариант был разобран потом на кирпичи, и из них потом все здание было еще раз построено заново.
Работа была закончена осенью 1927 года. Право первого представления было предоставлено ленинградскому Большому драматическому театру. Пьеса была прочитана на заседании художественного совета – в присутствии делегатов от 18 ленинградских заводов; протокол этого заседания, где закреплена реакция рабочей аудитории на эту пьесу, – один из самых ценных документов в моем литературном архиве. Рабочие делегаты предлагали приурочить постановку пьесы к десятилетнему юбилею театра. С февраля 1928 года начались репетиции (Н. Ф. Монахов – в роли Атиллы), художник Н. П. Акимов сделал макет постановки; пьеса разрешена была Главреперткомом и объявлена на афишах, но, по независящим от театра обстоятельствам, до зрителя не дошла.
Две следующих пьесы – тоже остались в рукописях: это одноактная мелодрама «Пещера» (театрализация одноименного моего рассказа) и «История одного города» по Щедрину. «Пещера» написана по заказу Художественного театра (1-го), предполагавшего поставить спектакль из пяти одноактных пьес современных авторов (Вс. Иванов, Пильняк, Леонов, Бабель и я); проект этот не осуществился. «История одного города» – заказ театра Мейерхольда (1928 год); эта пьеса погибла на половине пути: из семи «эпизодов» закончены были три – остальные сохранились только в форме сценария.
Осенью 1929 года – пьеса «Сенсация» (переделка «The front page»[2] Бен Хекта. В мае 1930 года «Сенсация» была показана в Театре им. Вахтангова в Москве и в июне – в Ленинграде, в бывшем Александрийском театре; в сезоне 1930-31 года, кроме этих театров, пьеса шла во многих театрах в провинции. И последняя, седьмая пьеса (если не считать незаконченной «Истории одного города») – «Африканский гость. Невероятное происшествие в трех часах». Этот сатирический фарс из советской жизни, написанный по заказу МХАТа 2-го, пока еще не напечатан и не поставлен.
Лица
Воспоминания о Блоке*
1918 год. Маленькая редакционная комната – какая-то пустая, торопливая, временная – два-три стула, в углу связки – только что из типографии – книг. Еще непривычно, что в комнате – в шляпах и пальто. И непривычный, дружески-вражеский разговор с одним из редакторов левоэсеровского журнала.
Стук в дверь – и в комнате Блок. Нынешнее его, рыцарское лицо – и смешная, плоская американская кепка. И от кепки – мысль: два Блока – один настоящий, а другой – напяленный на этого настоящего, как плоская американская кепка. Лицо – усталое, потемневшее от какого-то сурового ветра, запертое на замок.
И в углу около книг – какое-то мимоходное, шепотом, редакционное совещание – я на минуту вдвоем с Блоком.
– Сейчас? (его ответ). Ну какое же писание. Выколачиваю деньги. Очень трудно…
И вдруг – сквозь металл, из-под забрала – улыбка, совсем детская, голубая:
– А я думал, что вы – непременно с бородой до сих пор, вроде земского доктора. А вы – англичанин, московский…
Это было мое знакомство с Блоком. Только этот короткий разговор, улыбка, кепка.
* * *
Три года затем мы все вместе были заперты в стальном снаряде – и во тьме, в тесноте, со свистом неслись неизвестно куда. В эти предсмертные секунды-годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в несущемся снаряде. Смешные в снаряде затеи: «Всемирная Литература», Союз Деятелей Художественного Слова, Союз Писателей, Театр… И все писатели, кто уцелел, в тесноте сталкивались здесь – рядом Горький и Мережковский, Блок и Куприн, Муйжель и Гумилев, Чуковский и Волынский.
Сначала – жужжащая, густая приемная «Всемирной Литературы» на Невском. И Блок проходит сквозь и как-то особенно раздельно, твердо – берет руку – и слышен каждый слог: «Николай Степанович!» – «Федор Дмитриевич!» – «Алексей Максимович!»
Горький тогда был влюблен в Блока – он непременно должен быть на час в кого-нибудь, во что-нибудь влюблен: «Вот – это человек! Да! Покорнейше прошу!» Блока слушал Горький на заседаниях «Всемирной Литературы» так, как никого.
Еще неясно было, что мы заседаем, завинченные в летящий стальной снаряд, или, быть может, еще не устал Блок пересаживаться из заседания в заседание, но он был пока не тот, безнадежный и усталый, как позже, он срывал с якоря толстых томов не одного только Горького.
В один весенний вечер – заседание на частной квартире. Горький, Батюшков, Браун, Гумилев, Ремизов, Гизетти, Ольденбург, Чуковский, Волынский, Иванов-Разумник, Левинсон, Тихонов и еще кто-то – много. И один Блок. Доклад Блока о кризисе гуманизма.
Я помню отчетливо: Блок на каком-то возвышении, на кафедре – хотя знаю, никакой кафедры там не могло быть, – но Блок все же был на возвышении, отдельно от всех. И помню: сразу же – стена между ним и всеми остальными, и за стеною – слышная ему одному, и никому больше, – варварская музыка пожаров, дымов, стихий.
А потом – в комнате рядом: потухающий огонь в камине; Блок – у огня со сложенными крыльями бровей, упорно что-то ищущий в потухающем огне, и взволнованные за полночь споры, и усталый, равнодушный ответ Блока – издали, из-за стены…
Кажется, весь этот вопрос – о кризисе гуманизма – ответвился как-то от Гейне: Блок редактировал во «Всемирной Литературе» – Гейне. Работал он над Гейне необычайно тщательно и усидчиво. Помню какой-то будничный денежный разговор – и слова Блока:
– Оплата? Какая же тут может быть оплата? Вчера за два часа я перевел двенадцать строк. И еще в комнате у меня в тот вечер было тепло, горела печь. Очень трудно, чтобы перевести по-настоящему.
Он делал все – «по-настоящему». Но все же чувствовал – ни на минуту не переставал чувствовать, что это – не то, не настоящее.
Вижу его в зале, у окна – вдвоем с Гумилевым. Тоскливое, румяно-холодное небо. Гумилев, как всегда, жизнерадостен, какие-то многообещающие проекты и схемы. И Блок, глядя мимо, в окно:
– Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?
А за окном – опустошенное ветром, румяное, холодное небо…
В тесноте, в темноте, внутри несущегося со свистом стального снаряда – торопились заседать, одно заседание перекрывало другое. Союз Деятелей Художественной Литературы решил заняться в снаряде – изданием произведений изящной словесности. Составилась редакция: Блок, Горький, Куприн, Шишков, Слезкин, Муйжель, Мережковский, Чуковский и я. Посыпались рукописи. Блоку приходилось давать рецензии о стихах – и я помню одну его – отточенную, острую; как и всегда на заседаниях, он не говорил, а читал по написанному (и рукопись этой его рецензии сохранилась). Один из поэтов, нанизанный на острие этой рецензии, просил меня достать у Блока его отзыв. Но на следующем заседании Блок сказал мне:
– Я не принес… Не нужно. Может, ему это очень важно – писать стихи. Пусть пишет.
Решили устроить журнал. Он должен был называться «Завтра» – и, помню, мне поручено было написать что-то вроде манифеста. Там было – о круге: вчера, сегодня и завтра, и о том, что вся литература всегда о завтра и во имя завтра, и этим определяется отношение к вчера, к сегодня. И от этого она всегда – ересь, бунт.
А потом, при пересадке с заседания на заседание – мимолетный разговор с Блоком и об этом.
Помню: на минуту, за этим – медленным, металлическим, на замке – лицом мне мелькнул человек, который трудно и больно отрывает от себя что-то. Это был первый мой разговор с Блоком – без стен. Знаю конец. Я сказал:
– Вы очень отошли от того, кем были год назад. Вы меняетесь.
Ответ:
– Да, я сам чувствую, что меняюсь.
* * *
Петербург – выметенный, опустелый; забитые досками магазины; разобранные на дрова дома; кирпичные скелеты печей. Обтрепанные обшлага; поднятые воротники; фуфайки; вязаные свитера; и в свитере – Блок. Лихорадочная попытка перегнать нужду и какие-то новые, минутные, непрочные затеи, какие-то новые заседания – из заседания в заседание.
И вот – поздно вечером, после трех или, может быть, четырех заседаний – в одной из маленьких задних комнат «Всемирной Литературы». Столовая, под зеленым колпаком лампа; лица в тени. Налево от дверей – теплая изразцовая лежанка и на лежанке, возле лежанки – Блок, Гумилев, Чуковский, Лернер, я – и кругленьким кубарем из угла в угол Гржебин.
Трудно починить водопровод, трудно построить дом – но очень легко – вавилонскую башню. И мы строили вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы российской – от Фонвизина и до наших дней. Сто томов!
Мы, быть может чуть-чуть улыбаясь, – верили или хотели верить. И больше всех верил Блок. Как и всегда, как и ко всему – он и к этому подошел «по-настоящему».
В пестрой, переливающейся груде – надо было увидеть какую-то закономерность, уловить ритм. И тут у Блока оказалась зоркость глаза, острота слуха такая, как ни у кого. Башню решили строить по его плану; в издательстве Гржебина где-то хранится составленный им список ста томов. И недаром в найденной среди его посмертных бумаг автобиографии он отмечает: «Ноябрь 1919 г. Составление списка ста томов». Если вавилонская башня когда-нибудь будет построена – она будет одним из памятников Блоку: с такой тщательностью и точностью он сделал выбор.
* * *
В озябшем, голодном, тифозном Петербурге – была культурно-просветительная эпидемия. Литература – это не просвещение, и потому поэты и писатели – все стали лекторами. И была странная денежная единица паек, – приобретаемая путем обмена стихов и романов – на лекции.
Блоку в это время жилось трудно – он не способен был на этот обмен. Помню, он говорил:
– Завидую вам всем: вы умеете говорить, читаете где-то там. А я не умею. Я могу только по написанному.
Но эпидемия все же захватила и его. Образовалась Секция исторических картин. Это была опять одна из вавилонских башен: в цикле исторических пьес – показать всю мировую историю – ни больше и ни меньше. Придумал это Горький и прикованные к столу заседаний все те же: Блок, Гумилев, Чуковский, Ольденбург, я; из других – Щуко и Лаврентьев.
Помню, с самого начала Блок в это не очень верил и говорил:
– Нельзя, чтоб искусство везло науку.
Но все-таки работал – как всегда «по-настоящему». Все-таки это были не лекции, суррогат творчества, а к суррогатам мы уже привыкли: ели лепешки из картофельной шелухи, пили воду вместо вина. И Блок настойчиво пытался претворить воду в вино.
Одно из первых заседаний – в величественном кожаном кабинете Театрального отдела (ПТО).
Блок читал свой сценарий исторической пьесы – не знаю, сохранился ли этот сценарий, но знаю: пьеса осталась ненаписанной. Там было любимое средневековье Блока, рыцари и дамы, пажи, менестрели. И помню легкое пожатие плеч театрального начальства, когда это было прочитано. И сценарий был куда-то спрятан Блоком.
Было уже написано для Секции несколько пьес. Все спрашивали Блока! «Когда же вы дадите, Александр Александрович?» И он отвечал:
– Куда там! Вот выселяют всех из нашего дома. Все бегаю, устраиваю, чтоб как-нибудь остаться. Вчера ездили в Смольный с письмом от Горького. Завтра идти в районный отдел.
Или:
– Ну – пьеса! Вот я нынче все утро окна замазывал. И завтра надо еще в двух комнатах. Медленно идет, не умею…
И вот – квартиру удалось отстоять, окна замазаны. Он стал думать о пьесе.
– Вот еще не знаю, взять ли Куликовскую битву с татарами – мне это очень близко – или другое: Тристана и Изольду.
Говорил, что уж сделал какие-то наброски для «Тристана», и вдруг неожиданно – из египетской жизни: «Рам-зес» – едва ли не последняя, написанная им вещь.
Прочитали. Делали какие-то замечания о «Рамзесе». Блок отшучивался:
– Да ведь я только переложил Масперо. Я тут ни при чем.
Секции был обещан свой театр. Но нечем топить – нет дров: наши пьесы передали в Народный дом, из Народного дома – в Василеостровский театр. «Рамзес» – в Василеостровском театре…
Случайно я узнал об этом, рассказал Блоку. Блок усмехнулся, не очень весело:
– Пусть лучше не ставят.
И Секция наложила veto на постановку «Рамзеса» и других наших пьес. Вавилонская наша башня разваливалась.
* * *
Уже весной 21-го года – одно из последних заседаний Секции. Открыто окно, трамвайные звонки, голоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно почему – вдруг все смешно. Ни у Блока, ни у Гумилева, ни у меня – нет папирос. Гумилев у кого-то стащил и распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исчезает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьнического, неслышного смеха. И кажется ему смешным каждое слово в какой-то нелепой пьесе – читается пьеса – и он заражает своим смехом.
Это был один из редких случаев, когда за эти годы я видел Блока – молодым. И может быть, это был последний раз, когда я видел Блока.
Потом шли вместе до Невского. Очень отчетливо, вы-резанно, помню: слева, от Николаевского вокзала, лезла на солнце туча, но солнце еще было, брызгало.
– Очень хочется писать, – говорил Блок. – Это теперь почти никогда не бывает. Может быть, в самом деле, отдохну и сяду…
На Садовой ждали трамвая, – все не было. Туча поползла, закрыла солнце, и сверху – как плита. И почему-то заговорили о зиме, о пещерной петербургской зиме; о том, что теперь мы, как звери, знаем лето, солнце, зиму; о том, что ему, после болезни, трудно ходить.
Над головой – туча, плита. Опять – знакомая, еле заметная тень на виске. И у меня мысль: нет, не отдохнет, не сядет. Это только минутное солнце.
* * *
Какие-то торопливые, краткие, вагонные были эти мои почти ежедневные встречи с Блоком все три последних года. И может быть, ближе всего вдвоем с ним и неспешней всего – я был летом 1920 года. Мне пришлось тогда вместе с ним работать над текстом и постановкой «Лира» в Большом Драматическом театре.
Помню: на репетициях – темный, гулкий, как губка вбирающий все звуки зал. За режиссерским столиком перед рампой или в первом ряду кресел – справа от меня медальный профиль Блока. На сцене – один и тот же выход в пятый, в шестой раз подряд, в пятый и в шестой раз падают, убивают. И я вижу, как нетерпеливо Блок поводит головой – будто мешает ему воротник – от каждого неверного слова и жеста на сцене.
Кончится чей-нибудь выход – по лесенке слева через рампу перелезает темная фигура и к Блоку:
– Ну как, Александр Александрович, – ничего?
Было впечатление: темный, пустой зал – полон для них одним зрителем – Александром Александровичем. Его тихих и медленных слов слушались самые строптивые.
– Александр Александрович – наша совесть, – сказал мне однажды, кажется, режиссер Лаврентьев. И ту же фразу – как утвержденную формулу – я слышал потом не раз от кого-то в театре.
Последние – обстановочные и костюмные – репетиции кончались часа в два, в три ночи. Блок всегда сидел до конца, и чем позже – тем, кажется, больше оживал он, больше говорил: ночная птица.
– Не утомляет вас это? – спросил я. Ответ:
– Нет. Театр, кулисы, вот такой темный зал – я люблю, я ведь очень театральный человек.
На одной из таких последних ночных репетиций – вдруг стало невмочь, и решили выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера. Помню, Блок был за то, чтобы глаза вырывать:
– Наше время – тот же самый XVI век… Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи…
После утренних репетиций из театра часто шли вместе на Моховую. Из позабытых, стершихся разговоров уцелели – выброшены волною на берег – только разрозненные обломки. Но если приглядеться к ним – видишь, что все они – одно.
Ясно вижу: мы, ухватившись за ремни, стоим в вагоне трамвая. Толкают, наступают на ноги – и в этой толчее конец какого-то странного разговора.
– …А вот бывает с вами так: смотришь на себя со стороны – ты совершенно определенно в стороне, в другом углу комнаты и видишь, себя не себя, а чужое?
Ответ – после паузы – глаза очень далеко:
– Да, бывало. Раза три в жизни. Теперь больше не бывает… Теперь со мной ничего не бывает… – и еле приметная горечь в углах губ.
И вот идем по Бассейной – куда, не помню. Блок в своей кепке. И голый, ни с чем не связанный, обломок – его слова:
– Дышать нечем. Душно. Болен, может быть.
И может быть, в тот же – может быть, в другой день – долгий разговор, его горькие, жестокие слова о мертвечине, о лжи.
А потом, нахмурившись, упрямо – может быть самому себе, а не мне:
– И все-таки золотник правды – очень настоящей – во всем этом есть. Ненавидящая любовь – это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней.
На каком-то заседании – у меня в руках английский журнал, и там я увидел статью о переводе «Двенадцати» Блока – под заглавием: «Большевистская поэма». Я показал Блоку статью. Он усмехнулся.
И потом – разговор о большевизме.
– Большевизма и революции – нет ни в Москве, ни в Петербурге. Большевизм – настоящий, русский, набожный – где-то в глуши России, может быть в деревне. Да, наверное, там…
Он всегда говорил медлительно, металлически, холодновато. И только два-три раза я слышал в металле острие, жало – и видел; он натягивает вожжи, чтобы удержать себя.
Один раз он так говорил о марксизме. Другой раз – он только что прочитал заграничную «русскую Мысль» Струве – и я редко слышал, чтобы он брал такие грубые слова.
– Что они смыслят, сидя там? Только лают по-собачьи.
И написал об этом очень резкую статью для невышедшей «Литературной Газеты» Союза Писателей.
Это было в апреле 1921 года – перед последней его поездкой в Москву.
* * *
Блок весь из Невы, из тумана белых ночей, Медного всадника. Пестрая, по-купечески телесная Москва – ему чужая, и он Москве – чужой. Его чтения в Москве – в мае 1921 года – это показали.
Последний его печальный триумф – был в Петербурге, в белую апрельскую ночь.
Помню, он с усмешкой рассказывал – вечер его не разрешают: спекуляция, цены – выше каких-то тарифов. Наконец – разрешили. И вот доверху полон огромный театр (Большой) – и в полумраке шелест, женские лица – множество женских лиц, устремленных на сцену. Усталый голос Чуковского – речь о Блоке – и потом, освещенный снизу, из рампы, Блок – с бледным, усталым лицом. Одну минуту колеблется, ищет глазами, где стать, – и становится где-то сбоку столика. И в тишине – стихи о России. Голос какой-то матовый, как будто откуда-то уже издалека – на одной ноте. И только под конец, после оваций – на одну минуту выше и тверже – последний взлет.
Какая-то траурная, печальная, нежная торжественность была в этом последнем вечере Блока. Помню сзади голос из публики:
– Это поминки какие-то!
Это и были поминки Петербурга о Блоке. Для Петербурга – прямо с эстрады Драматического театра Блок ушел за ту стену, по синим зубцам которой часовым ходит смерть: в ту белую апрельскую ночь Петербург видел Блока последний раз.
* * *
На заседаниях – у каждого было уже какое-то свое привычное место. И вот стул Блока – с краю, у самого окна, стоял теперь пустым: Блок болен. Еще зимой – с месяц стал пустым стул этот. Но, отлежав месяц, Блок вернулся как будто все таким же. Да и что особенного: острый ревматизм, от промерзлых домов – у кого этого теперь нет в Петербурге? Никто не думал, что этим неособенным, обыкновенным – уже исчислены удары его сердца. И неожиданно было, когда узнали: это серьезно, и спасти его можно только одним – тотчас же увезти в санаторий за границу.
Никто из нас не видал его за эти три месяца его болезни: ему мешали люди, мешали даже привычные вещи, он ни с кем не хотел говорить – хотел быть один. И никак не мог оторваться от ненавистной – любимой России; не хотел согласиться на отъезд в финляндский санаторий, пока не понял: остаться здесь для него – умереть. Но и тут не хотел ни за что подписывать никаких прошений и бумаг. Письма в Москву о разрешении Блоку выезда за границу были написаны (в июне) Правлением Союза Писателей.
В Москве был Горький. Горький с бумагами ходил по инстанциям; к нам приходили известия: обещали, выпустят, скоро. Блок метался: не хватало воздуха, нечем дышать. И приходили люди, говорили: больно сидеть в соседней комнате и слушать, как он задыхается.
Мы заседали; стояли в очередях; цеплялись за подножки трамваев; Блок метался; Горький в Москве ходил по инстанциям. И наконец, 3-го или 4-го августа пришло из Москвы разрешение: Блок мог уехать.
Ветреное, дождливое утро 7-го августа – одиннадцать часов, воскресенье. Телефонный звонок – «Алканост» (Алянский): скончался Александр Александрович.
Помню: ужас, боль, гнев – на всё, на всех, на себя. Это мы виноваты – все. Мы писали, говорили – надо было орать, надо было бить кулаками – чтобы спасти Блока.
Помню, не выдержал и позвонил Горькому:
– Блок умер. Этого нельзя нам всем – простить.
* * *
Синий, жаркий день 10-го августа. Синий ладанный дым в тесной комнатке. Чужое, длинное, с колючими усами, с острой бородкой лицо – похожее на лицо Дон-Кихота. И легче оттого, что это не Блок, и сегодня зароют – не Блока.
По узенькой, с круглыми поворотами, грязноватой лестнице – выносят гроб – через двор. На улице у ворот – толпа. Все тех же, кто в апрельскую белую ночь у подъезда Драматического театра ждал выхода Блока – и все, что осталось от литературы в Петербурге. И только тут видно: как мало осталось.
Полная церковь Смоленского кладбища. Косой луч наверху в куполе, медленно спускающийся все ниже. Какая-то неизвестная девушка пробирается через толпу – к гробу – целует желтую руку – уходит.
И наконец – под солнцем, по узким аллеям – несем то чужое, тяжелое, что осталось от Блока. И молча – так же, как молчал Блок эти годы, – молча Блока глотает земля.
1921
Белая любовь*
Дело было в кабинете генерала Бетрищева. Именно там Павел Иванович Чичиков сказал: «Ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». И поднесено это было с такой ловкостью и так внушительно, что генерал Бетрищев поверил, а вместе с Бетрищевым поверили и мы – и, кажется, до сих пор верим, что это – аксиома. Но попробуйте перенести ее из плоского чичиковского мира, из мира мертвых душ – в мир, где горят трагические души, – и вы увидите, что эта общепризнанная аксиома окажется перевернутой на голову, вы увидите, что полюбить черненькой или серенькой любовью дано всякому (из Чичиковых), и лишь немногим под силу трудный путь иной – белой любви. Один из этих немногих – Федор Сологуб.
Помню, однажды летом 1920 г. мы ехали с Блоком в трамвае по Литейному и, стоя в тряске, держась за ремни, говорили. Блок сказал: «Сейчас Россию я люблю ненавидящей любовью – это, пожалуй, самое подходящее определение». Да, это блоковское определение – ненавидящая любовь – самое подходящее и для той любви, которою болен Сологуб. Молния вспыхивает только тогда, когда один из полюсов заряжен положительно, другой – отрицательно. Белая любовь как молния: на одном полюсе ее – непременно минус, непримиримый, острый.
Блок мне вспомнился не случайно: Сологуб и Блок – одного ордена, <они братья>, в обоих – если напряженно в них вслушаться – звучит один и тот же обертон, оба – сквозь ревы и визги жизни – непрестанно слышат/один и тот же голос: Прекрасной Дамы. И пусть Блок зовет ее Незнакомкой, а Сологуб – Дульцинеей, она – одна, и ни тот, ни другой никогда не примирится с тем, чтобы дама – стала Дарьей, просто – Дарьей, аппетитно позевывающей за ужином, в папильотках и в капоте. Дарья и Альдонса (это все равно: у нее тысячи имен; нет только одного: Дульцинея) – дебела и румяна, она – женщина не плохая, она – не черная, нет: черненькая; может быть – серая; больше: может быть, даже почти белая. И любой из Чичиковых, любой из Санхо-Панс с восторгом примут ее – потому, что они мудры, они знают, что и на солнце есть пятна, они знают, что принять человека и жизнь со «всячинкой», с «почти», полюбить их черненькими или серенькими – куда практичней, проще, удобней, благоразумней. А чудак Дон Кихот и чудак Сологуб тотчас же уйдут от Альдонсы – потому что в них есть какой-то реактив, который улавливает, если в вино Альдонсы-жизни брошен хотя бы один миллиграмм «всячинки», одна только капля «почти». И бокал с таким вином Дон Кихот и Сологуб – выплеснут за окно. Не потому, что они не любят вина жизни, а потому, что они его любят больше, чем кто-нибудь, потому что они слишком любят его: они хотят или чистейшее – или никакого, или всё – или ничего. И этим определяется путь тех, кому послан прекрасный мучительный дар непримиримой, белой любви.
Путь этот – трагический путь Агасфера, путь в Дамаск сологубовского рыцаря Ромуальда из Турени, путь тех вечно несытых душ, о которых поют в чистый четверг. Пусть розы, пальмы, фонтаны, купола встреченного в пустыне города тысячам скажут, что это и есть Дамаск, – Дон Кихот, и Сологуб, и его рыцарь Ромуальд уйдут из Дамаска дальше, им идти в пустыне без конца, пока они не лягут там костьми. Великий и тяжкий их рок в том, что их не удовлетворит никакой достигнутый Дамаск: всякое достижение, всякое воплощение убивает настоящий Дамаск, для них нет ничего страшнее оседлости, стен. Именно здесь их полярность с миллионами Чичиковых и Санхо-Панс, как бы в жизни они ни назывались. Чичиковы могут жить только в стенах, в прочном, в решенном, найденном, в отмеченном; рыцарь Ромуальд и Сологуб могут жить только тогда, когда впереди есть еще ненайденное, нерешенное. Чичиковым страшнее всего бесконечность; для Сологуба, для романтика, бесконечность – родная стихия. Миллионы Чичиковых, вероятно, в неистовом восторге от того, что заблудившийся в софизмах Эйнштейн вычислил, что вселенная – конечна и радиус ее равен стольким-то миллиардам миллиардов верст; если бы Сологуб не знал, что это только софизм, он не мог бы жить в этой вселенной, она была бы тесна для него: в ней – все равно, когда – можно дойти до конца.
Я все время ставил рядом эти два имени: Дон Кихот Ламанчский и Федор Сологуб. Это делалось часто, с тех пор как Сологуб вышел на турнир со щитом, на котором сам же написал имя своей дамы: Дульцинея. И все-таки ошибся Сологуб, ошибся я, ошиблись все. Параллельность линий Дон Кихота и Сологуба – только кажущаяся: в какой-то точке линии их пересекаются, чтобы затем разойтись в разные стороны. И угол расхождения этого так велик, что в конце своего пути Дон Кихот перестает быть Дон Кихотом. Многие слышали эти последние его слова: «Полноте, друзья мои, какой я рыцарь Ламанчский: нет, я просто – Алонсо Добрый». От Сологуба этих слов никто и никогда не услышит.
Если в белой любви Сологуба – цвет раскаленной добела молнии, вспыхивающей между двумя полюсами, спаивающей огнем плюс и минус, то в белой любви Дон Кихота – цвет облака, стремящегося в бесконечную даль. Белая любовь Дон Кихота – мягка и добродушна, он никого не убивал; белая любовь Сологуба – беспощадна. Сологуб убивает.
Но оружие, которым убивает Сологуб, – это тот самый стилет, что у средневековых рыцарей назывался «misericordia»[3]: им, из человеколюбия, прикалывали раненных насмерть. Именно так – из человеколюбия, мизерикордией – закалывает Сологуб всех своих любимых героев, чтобы избавить их от горечи открытия в Дульцинее Альдонсы. В «Отравленном саду» – Юноша и Красавица, конечно, умирают, в первый раз обнявши друг друга. Конечно, умирает на пути в Дамаск рыцарь Ромуальд из Турени. И Вера, «Заклинательница змей» – в тот самый момент, когда ей остается всего один шаг до ее Дамаска, – несомненно, должна умереть. И Сережа в рассказе «Звезды» – «бросается торопливо и радостно с темной земли к ясным звездам», чтобы умереть. И лучезарная Рая является Мите – в рассказе «Утешение» – для того, чтобы сказать: «Не бойся», когда Митя кидается вниз с четвертого этажа. Так у Сологуба неизменно с каждым из его мечтателей, с каждым из тех, кого он любит. Это – милосердная жестокость сологубовской любви к человеку.
Но человек – человек только тогда, когда он в точности соответствует своему биологическому имени: когда он – homo erectus[4], когда он уже встал с четверенек и умеет смотреть вверх, в бесконечность. К тем, кто еще на четвереньках, кто еще роется пятачком в земле, к Санхо-Пансам – румяным, дебелым, удовлетворенным, конечным – к ним Сологуб немилосерден, их он казнит жизнью, они никогда у него не умирают, они не могут умереть. Посмотрите: на всем огромном протяжении «Мелкого беса» не умирает никто, там бессмертны. Всегда говорят о бессмертии великих людей, героев – это, конечно, ошибка: герой неразрывно связан с трагедией, со смертью; неистребимо-живуч, бессмертен – мещанин. И для него, бессмертного, у Сологуба уже не мизерикордия, а другое, немилосердное оружие: кнут.
Кнут еще мало оценен как орудие человеческого прогресса. Действительнее кнута я не знаю средства, чтобы поднять человека с четверенек, чтобы человек перестал стоять на коленях перед чем и перед кем бы то ни было. Я говорю, конечно, не о кнутах, сплетенных из ремней, я говорю о кнутах, сплетенных из слов, – о кнутах Гоголей, Свифтов, Мольеров, Франсов, о кнутах иронии, сарказма, сатиры. И таким кнутом Сологуб владеет, быть может, еще лучше, чем стилетом мизерикордии. Прочтите две книги его сказочек – и вы увидите, что они еще так же остры, как и двадцать лет назад. Прочтите «Мелкого беса» – и вы увидите, что Передонов обречен бессмертию вечно бродить по свету, писать доносы и «всех значительных в городе лиц уверять в своей благонадежности».
За цветами нужно ухаживать, чтобы они росли; плесень растет всюду сама. Мещанин – как плесень. Одно мгновение казалось, что он дотла сожжен революцией, но вот он уже снова, ухмыляясь, вылезает из-под теплого еще пепла – трусливый, ограниченный, тупой, самоуверенный, всезнающий. Нужно, чтобы снова просвистел бич сатиры, нужен новый «Мелкий бес». И я хочу верить, что мы доживем до того часа, когда Сологуб покажет нам воплощенным нового – вернее, все того же старого, вечного, только переодетого – Передонова.
Патент на кнут не без основания историей записан на имя России, но только на кнут из ремней: ирония, сатира в русскую литературу привезены с Запада. И хотя для сатиры нет почвы более урожайной, чем наш чернозем, – до сих пор у нас вызрело только три-четыре полновесных колоса, и один из них конечно, Сологуб. Причина этого отчасти в том, что в России Санхо-Пансы всегда были слишком слабонервны, чтобы у них хватало мужества спокойно слышать сатиру. Я не знаю, был ли когда отменен приказ Петра I: «За составление сатиры сочинитель ее будет подвергнут злейшим истязаниям». Но главное не здесь: просто русский писатель, за малыми исключениями, всегда был уж слишком по-русски добродушен и мягкотел. В этом Сологуб, к счастью, не русский: он умеет, когда надо, стать сталью, блестящей, беспощадной.
Европейское у Сологуба – не только в его сатире: весь его стиль закален европейским закалом и гнется по-стальному. Без малейших следов надлома или трещины он выдерживает стовосьмидесятиградусный перегиб от каменнейшего, тяжелейшего быта – в фантастику, от земли, пропитанной запахом водки и щей, – в землю Ойле. Тонкое и трудное искусство – к одной формуле привести и твердое и газообразное состояние литературного материала, и фантастику, и быт – давно уже известно европейским мастерам; из русских прозаиков секрет этого сплава по-настоящему знают, может быть, только двое: Гоголь и Сологуб.
Слово приручено Сологубом настолько, что он позволяет себе даже игру с этой опасной стихией, он сгибает традиционный прямой стиль русской прозы. В «Мелком бесе», в «Навьих чарах», во многих своих рассказах он намеренно смешивает крепчайшую вытяжку бытового языка с приподнятым и изысканным языком романтика; в «Ваньке-ключнике и паже Жеане» эти диссонансы заострены еще больше и осложняются очаровательной игрой намеренных анахронизмов; в «Сказочках» – новый уклон: игра гиперболированным фольклором. Всей своей прозой Сологуб круто сворачивает с наезженных путей натурализма – бытового, языкового, психологического. И в стилистических исканиях новейшей русской прозы, в ее борьбе с традициями реализма, в ее попытках перекинуть какой-то мостик на Запад – во всем этом, если вглядеться внимательно, мы увидим тень Сологуба. С Сологуба начинается новая глава русской прозы.
Если бы вместе с остротой и утонченностью европейской Сологуб ассимилировал и механическую, опустошенную душу европейца, он не был бы тем Сологубом, который нам так близок. Но под строгим, выдержанным европейским платьем Сологуб сохранил безудержную русскую душу. Эта белая любовь, требующая все или ничего, эта нелепая, неизлечимая, прекрасная болезнь – болезнь не только Сологуба, не только Дон Кихота, не только Блока (Блок именно от этой болезни и умер) – это наша русская болезнь, morbus rossica. Этой именно болезнью больна лучшая часть нашей интеллигенции – и, к счастью, будет больна, как бы ее ни лечили. К счастью, потому, что страна, в которой нет уже непримиримых, вечно неудовлетворенных, всегда беспокойных романтиков, в которой остались одни здоровые, одни Санхо-Пансы и Чичиковы – раньше или позже обречена захрапеть под стеганым одеялом мещанства. Быть может, только в огромном размахе русских степей, где будто еще недавно скакали не знающие никакой власти, никакой оседлости скифы, могла родиться эта русская болезнь. При всем своем европеизме Сологуб – от русских степей, по духу – он русский писатель куда больше, чем многие из его современников, чем, например, Бальмонт или Брюсов. Жестокое время сотрет многих, но Сологуб – в русской литературе останется.
Речь на похоронах Ф. Сологуба*
Сегодня, сейчас Ф. К. Сологуб покинет эти знакомые ему комнаты – и уже больше сюда не вернется. Прежде чем он уйдет отсюда навсегда, я по поручению Всероссийского Союза Писателей именно здесь хочу сказать ему несколько последних прощальных слов.
Один из ближайших друзей Сологуба, видевших его во время болезни, говорил мне, что со своей серебряной бородой, исхудавший, Сологуб стал похож на Гомера. Мне кажется, что во время его болезни только проявилось вовне то, что уже было внутри его все эти годы. Какое-то гомеровское спокойствие, какая-то великая умудренность – вот что видели в нем все мы, кому приходилось встречаться с ним последнее время. Для Союза он был не только должностным лицом – Председателем Правления, – он был мудрым старцем, к которому приходили во всех трудных случаях в жизни Союза – и не бывало, чтобы уходили от него, не получив ответа.
Мы, работавшие вместе с ним писатели позднейших, чем он, поколений, видели в нем единственный уцелевший мост, который связывал нас со славным прошлым русской литературы. На наших глазах время безжалостно подтачивало этот мост – и вот он рухнул. Федора Сологуба больше нет.
Для русской литературы 5-е декабря 1927 года – такой же день, как 8-е августа 1921 года: тогда, в августе, умер Блок, теперь, в декабре, умер Сологуб. Со смертью каждого из них – перевернута незабываемая страница в истории русской литературы. И еще: в каждом из них мы теряли человека с большой, ярко выраженной индивидуальностью, со своими – пусть и очень различными – убеждениями, которым каждый из них оставался верен до самого своего конца.
Конец этот наступил… Человек Федор Сологуб – умер, больше мы не увидим и не услышим его никогда. Перед этим жутким словом «никогда» – останавливается мысль. Самый страшный враг человечества – смерть – еще не побежден, перед ним мы бессильны. Может быть, пока наше единственное оружие в борьбе со смертью – это творческая работа, это подлинное вдохновение – и мы знаем: это оружие есть у Федора Сологуба. Тело его лежит немое и холодное, но не погас пламенный круг его чувств и мыслей, запечатленных в его книгах. Последнее прости мы говорим сегодня только человеку – Федору Кузьмичу: поэт Федор Сологуб – остается с нами.
Чехов*
Революцию часто сравнивают с метелью – с этой седой, буйной русской стихией. Попробуйте наутро после метельной ночи выйти в сад – вы не увидите уж ни одной знакомой тропинки, ни одного знакомого предмета. Все белое, новое, всюду сугробы, и вы не знаете что под сугробом: может быть, колодец, может быть, скамейка, может быть, куст жасмина. Так же замело все дороги, так же насыпало сугробов за эти десять лет русской метели. И под одним из сугробов оказался Чехов.
Поговорите о Чехове с кем-нибудь из читателей нового последнего поколения. Вы чаще всего услышите: «Чехов? Нытье, пессимизм, лишние люди…» – «Чехов? Никакого отношения к новой литературе, к революции, общественности…» Это значит, что Чехова не знают, его перестали видеть, замело к нему все тропинки. И это значит, что пора взять лопату, разрыть сугроб и показать Чехова, показать его биографию. Не внешнюю его биографию – ею занимались довольно, а биографию его духа, линию его внутреннего развития.
«Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу одиноким». Это – коротенькая, неизвестно к кому относящаяся заметка из записной книжки Чехова, опубликованной после его смерти. И можно думать, что он написал это о себе: именно с ним было так, всю жизнь он прожил один. Приятелей у него было много, но друзей – таких, которым бы он настежь открыл двери в свою душу – таких друзей у него не было. Было в нем какое-то особое целомудрие, заставлявшее его тщательно прятать все, что глубоко, по-настоящему волновало его. Оттого для Чехова трудно установить то, что я назвал «биографией духа». И лишь путем «косвенных улик», учитывая некоторые малозаметные события внешней его биографии, внимательно прислушиваясь к тому, что говорят действующие лица его произведений – можно увидеть, в чем была его вера и каковы были его общественные взгляды.
Бога церковного Чехов потерял еще в юности. Этому очень помогло то, что Антона Павловича (и его братьев) воспитывали «в страхе Божьем». Обязательное отбывание молитвенных повинностей оказало действие прямо противоположное тому, какого добивались родители. Позже, уже взрослым человеком, Чехов об этом писал так: «Религии теперь у меня нет. Когда, бывало, я и мои два брата среди церкви пели „Да исправится“, – на нас все смотрели с умиленьем и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».
Потерявши церковную религию, какую-то другую Чехов нашел еще не скоро: он долго жил безо всякого Бога, безо всякой веры. Первый период его литературной работы, вплоть до средины 80-х годов, прошел в том, что он «скакал как молодой теленок, выпущенный на простор, смеялся сам, смешил других» (из писем Чехова). И только во второй половине 80-х годов происходит в нем резкий переворот, только тут он впервые серьезно задумывается над жизнью, над смыслом жизни, над смертью. Впервые в том, что он пишет, появляется острый привкус горечи, тоски, неудовлетворенности. Уже в «Счастье» и в «Степи» залитая солнцем ширь омрачается по временам, как тенью от крыльев летящей птицы, – мыслью о смерти, и тогда «сущность жизни представляется отчаянной, ужасной». В «Скучной истории» эта легкая, мелькающая тень – вырастает уже в темную, безнадежную, давящую тучу.
И не только эту смерть увидел теперь Чехов: увидел он и другую, быть может, еще более мучительную медленную смерть – увидел тысячи заживо погребенных в болоте пошлой и мелкой обыденной жизни. С искусством опытного врача, по тончайшим, почти неуловимым признакам открывающего в пациенте смертельную болезнь, – отыскивает Чехов пошлость там, где на первый взгляд жизнь идет так, как будто мирно и благополучно («Учитель словесности», «Попрыгунья», «Моя жизнь», «Ионыч», позже «Невеста»). В «Черном монахе» – он определенно решает смерть лучше обыденной тусклой жизни.
И если бы Чехов перестал писать в эти годы – правы были бы те, у которых при имени Чехова сразу же выскакивают кнопки с ярлыками «пессимизм», «нытье», «лишние люди». Но в 90-х годах в линии внутреннего его развития мы видим новый поворот: именно в эти годы Чехов явно выходит из своего прежнего равнодушия к вопросам общественности. Тот Чехов, который за подписью «Чехонте» писал в разных «Будильниках» и «Стрекозах», не задумываясь начал работать в реакционном «Новом времени». Теперь Чехов уже говорит о нововременских публицистах Буренине и Жителе: «Они мне просто гадки, по убеждениям своим я стою на 7375 верст от Жителя и К°». «После чтения Жителя, Буренина и прочих судей человечества у меня остается во рту вкус ржавчины, и день мой бывает испорчей» (письма); и затем Чехов оставляет, наконец, работу в «Новом времени».
Предпринятая Чеховым в 90–91 годах поездка на Сахалин – не была путешествием за беллетристическим материалом: эта поездка была продиктована тоже мотивами общественного характера, и книга Чехова «Сахалин», написанная после поездки, привела к совершенно реальным результатам – к целому ряду улучшений быта каторжников на Сахалине. Переселение Чехова в деревню, в Мелихово, было тоже вызвано не только, – а может быть и не столько – болезнью Чехова, сколько другими причинами. «Если я врач, то мне нужны больные и больницы; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни», – так писал он в это время одному из своих друзей. И наконец, в 1902 году, после отмены выборов Горького в академики, Чехов, вместе с Короленко, слагает с себя звание академика. Этим актом Чехов определенно записывает себя в ряды «неблагонадежных», становится уже вполне ясным, с кем бы он шел, если бы дожил до 1905 года.
В то же самое время в своих повестях и рассказах Чехов все чаще затрагивает темы социального порядка.
Это начинается с «Припадка», где он с небывалой остротой и резкостью ставит вопрос о проституции, в «Убийстве», «Мужиках», в «Овраге» – он по-новому подходит к вопросу о мужике; одно время увлекается толстовскими идеями («Моя жизнь»). Все чаще он начинает задумываться вообще о несправедливости такого социального порядка, когда одни живут в нищете и невежестве, а другие – в богатстве. «Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье… Между тем во всех домах и на улице – тишина, спокойствие; из живущих в городе – ни одного, который бы выкрикнул, громко возмутился… Протестует только одна немая статистика: столько-то с ума сошло; столько-то ведер выпито; столько-то детей погибло от недоедания… И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча…» Это из рассказа Чехова «Крыжовник». Герой другого рассказа «Дом с мезонином» намечает даже и путь к лечению социальных болезней: «Если бы мы все, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, может быть, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно… Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и – я уверен в этом – правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти, и даже самой смерти».
Так Чехов писал в 1895 году. Какая разница с безнадежностью в «Степи», когда «сущность жизни» представлялась ему «отчаянной и ужасной». Сложным путем, глубоко заглянув в темный колодец человеческой души, полный грязи, – и там где-то на самом дне Чехов нашел, наконец, свою веру. И эта вера оказалась верой в человека, в силу человеческого прогресса, и богом оказался человек. Такие как будто разные и такими разными путями – Чехов и Горький пришли к одинаковой вере: «Человек – вот правда. В этом все начала и концы. Все в человеке, все для человека», – писал Горький. «Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным…», «Мы – высшие существа, и если бы в самом деле познали всю силу человеческого гения – мы стали бы, как боги!». «Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте», – писал Чехов. И чем ближе к концу жизни, тем крепче становится его вера в «великое, блестящее будущее» человека, в «царство вечной правды» («Черный монах»). «О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, веселым, свободным», – писал он уже совсем незадолго до смерти в 1903 году (рассказ «Невеста»).
Как и раньше, на всем, что он написал в последние годы, лежит тихий свет сумерек. Но эти сумерки уже не прежние, это не вечерние сумерки, следом за которыми – ночь, это сумерки – предрассветные, и сквозь них – издали все ярче заря.
Было бы грубой ошибкой сделать из сказанного вывод, что Чехов был писатель тенденциозный. От тенденции, от проповеди – он был дальше, чем кто-нибудь из русских писателей. «Тенденциозность имеет в своем основании неуменье людей возвышаться над частностями». «Художник должен быть только беспристрастным свидетелем». «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец. Я хотел бы быть свободным художником». Такие мысли можно найти во многих его письмах. В жизни Чехов был врач, но в его повестях, рассказах и пьесах – нет ни одного политического рецепта, с полным правом он мог применить к себе слова Герцена: «Мы не врачи, мы – боль».
Чехов смотрел на жизнь без всяких очков – и именно это помогло ему стать подлинным писателем-реалистом. «Беспристрастным свидетелем» прошел он через конец 19-го и начало 20-го века, и для изучения русской жизни в эту эпоху все написанное Чеховым – такой документ как летопись Нестора – для изучения начала Руси.
Вот то, что открывается, если разрыть сугроб, наваленный за последние годы на Чехова. Открывается человек, глубоко взволнованный социальными вопросами, открывается писатель, социальные идеалы которого – те же самые, какими живет наша эпоха; открывается философия человекобожества, горячей веры в человека, той самой веры, какая двигает горы. И все это сближает Чехова с последними метельными годами России, делает Чехова одним из предвестников этих лет.
Если хоть чуть-чуть внимательней вглядеться в Чехова как в художника, мастера – то и здесь, конечно, мы найдем близкое родство с мастерством слова нашей эпохи.
В рассказах Чехова – все реально, все имеет меру и все можно видеть и осязать все – на земле. Ничего фантастического, ничего таинственного, ничего потустороннего – нет у него ни в одном рассказе. Если и появляется огнеглазый, пугающий мыслью о дьяволе пудель, то он, конечно, оказывается просто заблудившейся собакой приятеля (рассказ «Страх»); если и появляется призрак Черного монаха, то беседующий с призраком Коврин – все время знает, что это только призрак, галлюцинация, болезнь. Для душевных движений, казалось бы, самых неуловимых, самых тонких – Чехов находит реалистический, с весом и мерой, образ: слушать пение красивой женщины – это «похоже на вкус холодной, спелой дыни» («Вся жизнь»); оскорбленное авторское самолюбие – это «ящик с посудой, которую распаковать легко, но уложить опять, как она была, невозможно» («Тяжелые люди»); вечная насмешка, ирония петербуржца – «точно щит у дикаря» («Рассказ неизвестного человека»); человека ожесточило презренье – он «заржавел» (там же).
И еще об одном говорят эти несколько наудачу взятых примеров: образы Чехова – оригинальны, смелы. «Волостной старшина и волостной писарь до такой степени пропитались неправдой, что самая кожа на лице у них была мошенническая» («В овраге»). «Лицо Пимфова раскисает еще больше, вот-вот растает от жары и потечет вниз за жилетку» («Мыслитель»). До Чехова – сказать так не рискнули бы. Тут Чехов выступает в роли новатора: он впервые начинает пользоваться приемами импрессионизма.
Новостью была и необычная, доведенная до крайних пределов сжатость и краткость рассказов Чехова. Он первый узаконил в русской литературе ту форму художественной прозы, которая на Западе давно уже существовала под именем новелл. Величайший мастер новеллы – Мопассан, несомненно, влиял на Чехова. Недаром Чехов так любил и так высоко ставил искусство Мопассана; недаром мечтал он о том, чтобы взять и перевести Мопассана «как следует».
Определенное и сознательное стремление создать новые литературные формы было у Чехова и в его пьесах, особенно последних – «Три сестры» и «Вишневый сад». Он намеренно отступал от общепринятых правил драматургии. По окончании «Чайки» он писал: «Пьесу я уже кончил. Начал ее форте, кончил пьяниссимо – вопреки всем правилам»… «Пишу пьесу… Страшно вру против условий сцены… Мало действия, пять пудов любви», – говорится в другом письме. Своими пьесами он дал образцы «психологической драмы», где обычно внешние, сценические эффекты отсутствуют, где вся коллизия проходит под поверхностью жизни – в душе человека.
Новатор и большой художник, Чехов оказал несомненное влияние на целый ряд позднейших русских писателей. У Чехова учились Бунин, Шмелев, Тренев и другие писатели младшего поколения. Все это одна группа, одно созвездие – реалистов.
По созвездиям моряки определяют курс; по литературным, объединяющих более или менее близких писателей, группам приходится определять курс в широком море русской литературы. Но чтобы найти созвездие, нужно сначала опереться глазом на какую-нибудь особенно яркую и крупную звезду. В созвездии писателей-реалистов такая опора для глаза – Чехов.
И конечно, от Чехова до современного нам нового реализма – прямая линия, кратчайшее расстояние.
1924
Л. Андреев*
Было это в 1906 году. Революция не была еще законной супругой, ревниво блюдущей свою законную монополию на любовь. Революция была юной, огнеглазой любовницей – и я был влюблен в Революцию…
По воскресеньям через улицы Гельсингфорса торжественно, с музыкой, со знаменами, проходила Красная гвардия – знаменитый капитан Кок впереди. В парке Тэлэ, среди сосен, серых и красных гранитных глыб, под фаянсово-синим июльским небом – устраивались маневры и ученья. Шепотом говорили, что там, на этих притаившихся за зелеными бастионами Свеаборгских островках – готовится что-то. А солнце все жарче, небо все тяжелее, все гуще синева, гроза все ближе.
И вот однажды вечером газеты привезли телеграмму: «Дума разогнана». Наутро в Рабочем доме – толкотня, лихорадка. Финские рабочие с трубочками. Русские студенты. Свеаборгский матрос – в штатском пальто, а из-под пальто наивно белеет белый вырез матросской куртки.
На крыльцо вышел Седой – весь спрессованный, крепкий, голова подернута инеем, – он слыл одним из участников декабрьских событий в Москве. Седой прочитал воззвание членов Думы и объявил:
– Завтра – митинг в парке Кайсаниэмэ. Будет выступать один из членов Думы и – Леонид Андреев.
Все связывали Леонида Андреева с «Мыслью», с «Василием Фивейским», но Леонид Андреев – и революция… это был совсем новый андреевский лик: и вся русская колония повалила доставать билеты на митинг.
Душный день. На поляне – высокая деревянная, вся в цветах, эстрада. Тесная, плечом к плечу, толпа.
Сзади, из-за деревьев, подымается темная, пятипалая рука – туча.
– Ах, Господи, пойдет дождь… И он не приедет. Как вы думаете: приедет? – воркует сзади.
Это – партийная девица. Под мышкой – сверток; может быть, прокламации. Голова всегда набочок, и странные, разноцветные глаза: один зеленый (партийный), другой – голубенький (беспартийный). Беспартийным глазом она взволнованно поглядывает вверх, на тучу.
Но музыка уже играет. Толпа раздвигается, как Чермное море, и в узком проходе среди тысяч глаз – двое: Леонид Андреев в своей черной рубашке, без шляпы, немного бледный, букет красных роз в руках, – и член Думы Михайличенко, приземистая, раскоряченная фигура, на шее – огромный хомут цветов.
Уж не помню почему, – но только меня откомандировали «занимать» Андреева. Он сосредоточенно-рассеян, покусывает усы и, видимо, волнуется. Перед глазами, из-за чьих-то плеч, на цыпочках вытягивается разноглазая голова. Вот уже протолкалась, и впереди всех, и голубым, восторженным, умиленным глазом сияет прямо в лицо Андрееву, и куда бы ни обернулся, – всюду перед ним, к нему, как стрелка компаса.
– Кто это? – спрашивает на ухо.
– А так, – девица партийная. Из обожающих.
Может быть, девица приметила брошенный на нее Андреевым взгляд, не знаю. Но только – глядь, уже дергает меня сзади и шепчет:
– Послушайте… Ради Бога… Познакомьте меня с Андреевым… Я не могу… Я должна пожать ему руку… Я должна…
Познакомил. Девица, вся пылая и вытягиваясь на цыпочках, восторженно лепетала что-то. На эстраде Михайличенко в своем хомуте разматывал неуклюжие, лошадиные, битюговые слова. Пятипалая туча покрыла солнце, брызнул теплый дождь. Андреев раскрыл зонтик и, рассеянно думая о чем-то своем, улыбался пылающей девице. Туча быстро свалилась. Опять все ясно, хрустально, сине.
Подбежал кто-то:
– Леонид Николаевич, вам…
Андреев немножко рассеянно оглядывался: куда девать мокрый зонтик? Нельзя с зонтиком на эстраду.
– Леонид Николаевич, ради Бога, дайте мне, я подержу ваш зонтик – ради Бога… – встрепенулась девица.
Андреев сунул ей зонтик. И вот над головами – бледное, взволнованное лицо, букет кроваво-красных роз. И в тишине – редкие, раздельные слова:
– Падают, как капли, секунды. И с каждой секундой – голова в короне все ближе к плахе. Через день, через три дня, через неделю – капнет последняя, и, громыхая, покатится по ступеням корона и за ней – голова…
Дальше – не помню. Помню одно: тогда это казалось очень значительным, и красивым, и заражало. После каждых двух-трех фраз Андреев останавливался, переводчик, тоже редко и раздельно, невольно подражая в интонациях Андрееву, переводил его речь по-фински. И это торжественное, медленное чередование медленных слов – напоминало пасхальную обедню: священник и дьякон читают Евангелие стих за стихом один по-гречески, другой по-славянски…
Кончил. Долгая овация. Жадной, тесной кучкой осадили его внизу, у эстрады. Вытянутые через плечи головы, настороженные уши – ловят и прячут какие-то обрывки слов. Наконец он отбился, выбрался.
– Не люблю, когда так много глаз, – сказал он. – Не знаешь, какие выбрать…
Он торопился сейчас же уйти. Протянул руку за зонтиком. Девица отступила на шаг, прижала зонтик к сердцу и, умоляюще глядя на Андреева беспартийным глазом, быстро-быстро заговорила:
– Леонид Николаевич, ради Бога… Оставьте мне зонтик… Ради Бога… Я буду его всегда – я буду его…
Андреев засмеялся, хитро поглядел на девицу:
– Ну ладно, Бог с вами. Только смотрите: берегите.
– Леонид Николаевич… Неужели вы думаете – неужели я…
Через два шага, за деревьями, Андреев махнул рукой, захлебываясь от смеха:
– Не в том дело… Главное-то… Ведь зонтик-то не мой, а нашей гувернантки…
Заговорит о чем-нибудь другом, потом опять вспомнит про зонтик – махнет рукой, захлебнется…
У выхода, прощаясь, он очень серьезно попросил меня:
– Только уж вы, пожалуйста, не говорите ей про зонтик. Зачем ей правду? Не надо…
И до сего дня я про зонтик честно молчал.
1922
Встречи с Б. М. Кустодиевым*
Озаглавить это, в сущности, надо было бы иначе: «Встречи с Борисом Михайловичем и Кустодиевым». Именно так – не с одним, а с двумя. Потому что я встретился с ними не в одно время и оба они – художник Кустодиев и человек Борис Михайлович – живут в моей памяти каждый отдельно.
С художником Кустодиевым я познакомился давно – это было не в Ленинграде, это было еще в Петербурге, на одной из выставок «Мира Искусства». На этой выставке я вдруг зацепился за картину Кустодиева и никак не мог отойти от нее. Я стоял, стоял перед ней, я уже не только видел – я слышал ее, и те слова, какие мне слышались, я торопливо записывал в каталоге – скоро там были исписаны все поля. Не знаю названия этой картины, вспоминается только: зима, снег, деревья, сугробы, санки, румяное русское веселье – пестрая, кустодиевская Русь. Быть может, что сам я в те годы жил как раз этими же красками: тогда писалось мое «Уездное». Правда, Кустодиев видел Русь другими глазами, чем я – его глаза были куда ласковей и мягче моих, но Русь была одна, она соединяла нас – и встретиться раньше или позже нам было неизбежно.
Встреча эта, когда я узнал и полюбил не только Кустодиева, – но и Бориса Михайловича, – случилась не скоро, лет через десять, когда уже не было Петербурга, а был Петроград-Ленинград, когда пышная кустодиевская Русь лежала уже покойницей. О мертвой – теперь не хотелось говорить так, как можно было говорить о живой; лягать издохшего льва – эта легкая победа меня не прельщала. Так вышло, что Русь Кустодиева и моя могли теперь уложиться на полотне, на бумаге в одних и тех же красках. Так вышло, что с художником Кустодиевым я встретился в общей нашей книге «Русь» – и это же было началом моего знакомства с человеком Борисом Михайловичем.
Осенью 22-го года издательство «Аквилон» прислало мне «русские типы» Кустодиева, – чтобы я о них написал статью. О чем же писать? О живописной технике Кустодиева? Об этом лучше меня напишут другие. Статьи я не стал писать, я сделал иначе: просто разложил перед собою всех этих кустодиевских красавиц, извозчиков, купцов, трактирщиков, монахинь – я смотрел на них так же, как когда-то на его картину на выставке – и сама собой написалась та повесть («Русь»), какая вошла в книгу «Русь».
Повесть была кончена – и через день-два из «Аквилона» мне позвонили, что Кустодиев просит вечером заехать к нему. Это «вечером» я понял по-петербургски, попал к Борису Михайловичу поздно, часов в 10 – и тут для меня в первый раз открылась книга его жития. Иного слова, чем «житие», я не могу подобрать, если говорить о его жизни в эти последние годы.
Маленькая комнатка – спальня, и у стены справа в кровати – Борис Михайлович. Эта кровать здесь не случайная вещь, я ее хорошо помню: от изголовья к ногам, на высоте так аршина с небольшим был протянут шест – мне было непонятно, зачем это. На столике возле кровати лежала моя рукопись, Борис Михайлович хотел показать мне какие-то места в тексте, протянул руку – и вдруг я увидел: он приподнялся на локте, схватился за шест и, стиснув зубы, стиснув боль – нагнул вперед голову, как будто защищая ее от какого-то удара сзади. Этот жест – я видел потом много раз, я позже привык к этому, как мы ко всему привыкаем, но тогда – я помню: мне было стыдно, что я – здоровый, а он, ухватившись за шест, корчится от боли, что вот я сейчас встану и пойду, а он – встать не может. От этого стыда я уже не мог слушать, не понимал, что говорил Борис Михайлович о нашей книге – и поскорее ушел…
С собой я унес впечатление: какой усталый, слабый, измученный болью человек.
Через несколько дней я опять был здесь – чтобы на этот раз увидеть: какой бодрости, какой замечательной силы духа человек.
Меня провели в мастерскую. День был морозный, яркий, от солнца или от кустодиевских картин в мастерской было весело: на стенах розовели пышные тела, горели золотом кресты, стлались зеленые летние травы – все было полно радостью, кровью, соком. А человек, который напоил соками, заставил жить все эти полотна, сидел (возле узаконенной в те годы буржуйки) в кресле на колесах, с закутанными мертвыми ногами и говорил, подшучивая над собой: «Ноги – что… предмет роскоши. А вот рука начинает побаливать – это уж обидно…»
Многое нам раскрывается только в противопоставлениях, только в контрастах. И только в этот день, когда я впервые увидел в одной комнате, рядом, художника и его картины, рядом, художника и человека – я понял: какую творческую волю надо иметь в себе, чтобы, сидя вот так в кресле и стискивая зубы от боли, написать все эти картины. Я понял: человек Борис Михайлович – сильнее, крепче любого из нас. И еще: его жизнь – это «житие», а сам он – подвижник, такой же, каких в старое время знала его любимая Русь. С той только разницей, что его подвиг был не во имя спасения души, а во имя искусства. Илларион-Затворник, Афанасий-Сидящий, Нил-Столбенский-Сидящий, и вот в наши дни – еще один «затворник» и «сидящий». Но этот затворник не проклинал землю, тело, радость жизни, а славил их своими красками.
* * *
Как известно из всех Четий-Миней, всякому настоящему затворнику и подвижнику по временам являлись бесы и соблазняли его. На мою долю выпало стать таким бесом для Бориса Михайловича – и последствием соблазна была единственная появившаяся в печати серия эротических рисунков Кустодиева – иллюстраций к моему рассказу «О том, как исцелен был отрок Еразм». Эта книга, выпущенная издательством «Петрополис» в Берлине, была второй нашей совместной работой с Борисом Михайловичем.
Задача для художника здесь была очень трудная. Речь шла, конечно, не о примитивной, откровенной эротике, вроде известных работ Сомова: нужно было в иллюстрациях дать то, что текст давал только между строк, только в намеках, в образах. И эта как будто неразрешимая задача была решена Кустодиевым с удивительным изяществом, с удивительным тактом – и добавлю еще одно: с большим чувством юмора.
Как сумел Кустодиев сохранить в себе это чувство, как сумел невредимым пронести через свое житие – я не знаю. И еще больше, чем у художника Кустодиева, это было у человека, Бориса Михайловича: он любил шутку, острые слова, смех. Он смеялся иногда так молодо и весело, что становилось завидно нам, здоровым, сидевшим за одним столом с ним[5].
Веселым я видел Бориса Михайловича не раз, я часто видел его усталым, больным, – но я никогда не видел его унылым, никогда не видел, чтобы у него опускались руки. Причина, может быть, в том, что эти руки были вечно заняты, на столике, приделанном к его креслу, перед ним всегда лежала какая-нибудь работа. И, помню, он часто говорил, что работа – для него самое лучшее лекарство.
Но иногда работа становилась для него не лекарством, а болезнью – болезнью не человека Бориса Михайловича, а художника Кустодиева. «Делаю все какие-то полузаказы, тошнотворные, стараюсь собрать деньги на поездку, денег не платят…» – писал он мне летом 26-го года. А тогда – в 23-м, в 24-м году – от этой тошнотворной болезни он страдал еще сильнее. Чтобы жить, есть, топить буржуйку – приходилось откладывать свою, настоящую работу и приниматься за эти «полузаказы». Я видел, как у него в таких случаях вдруг начинали ломаться карандаши, пропадать резинки, все не ладилось, все раздражало. Помню, однажды при мне ему принесли обложку, сделанную им по заказу издательства «Земля и фабрика», рисунок оказался неподходящим «к идеологическому заданию», его нужно было скомпоновать заново. В тот день, единственный раз за все годы нашего знакомства, я видел, как Кустодиеву изменило обычное его умение владеть собой – я видел Кустодиева по-настоящему рассерженным.
* * *
В начале зимы 23-го года Борис Михайлович захотел сделать мой портрет – и недели две подряд я приходил к нему почти каждое утро. В мастерской еще была настоянная за ночь тишина, потрескивала печь, за окном – в Введенской церкви – звонил колокол. Борис Михайлович протягивал руку по-особенному, осторожно, ковшиком: рука побаливала, он ее берег. Поздоровавшись, он, чтобы согреть руку, сейчас же прятал ее за пазуху и вдруг неожиданно вытаскивал оттуда одного котенка, другого: животных он очень любил. Потом, ловко орудуя колесами своего кресла, он выбирал нужное положение, брал карандаш. Губы у него еще посмеивались, еще кончали что-то говорить, но глаза тотчас же менялись, они становились острыми, как у охотника, взявшего ружье на прицел. Сначала он работал обыкновенно молча, и только потом, когда – как он называл это, «карандашом разогревался», мы начинали разговор.
Кажется, позже мне уже никогда не удавалось говорить с ним так, как говорилось этими зимними утрами. Говорили обо всем: о людях, о книгах, о странах, о театре, о России, о большевиках. Иногда удавалось вспомнить и рассказать что-нибудь смешное – тогда он бросал карандаш и хохотал – согнувшись, чтобы не было больно от смеха. Но чаще всего или он мне рассказывал о своих прежних путешествиях, или я ему – о своих. Для христианских подвижников, обреченных жить в целомудрии, соблазн, естественно, принимал форму женщины; для Кустодиева, обреченного жить в четырех стенах, соблазн, естественно, воплощался в путешествии. Подчас он начинал мечтать вслух: «Эх, попасть бы еще раз в жизни куда-нибудь… В Париж… – нет, лучше в Лондон, и чтобы сидеть где-нибудь наверху, на десятиэтажной крыше, чтобы оттуда все было видно…» От многолетнего затворничества, от хронического зрительного недоедания – у него был настоящий глазной голод.
Как-то я пришел к Борису Михайловичу и увидел его кресло на совсем непривычном месте: в углу у окна. Слегка перегнувшись, он все посматривал на улицу и не торопился, как обычно, сесть за работу. Я спросил, в чем дело. «А сегодня – поздняя обедня, сейчас будут выходить из церкви, надо посмотреть», – объяснил он мне. И я понял: для его изголодавшихся глаз это было уже богатой пищей.
Откуда же, при такой бедности внешних впечатлений, брал Кустодиев весь пестрый, богатый материал своих картин? Очевидно, зрительная память у него была необычайная, где-то в недрах ее хранились еще полные амбары всяких запасов – и запасы эти были неисчерпаемы.
* * *
В эти недели, когда делался портрет, изо дня в день развертывались передо мною страницы кустодиевского жития – и все яснее становилось мне, какая огромная сила духа у этого человека.
По моим впечатлениям, этой зимой Борис Михайлович чувствовал себя хуже, чем когда-нибудь. Особенно его мучили судороги. К его креслу был приделан столик со съемной фанерной крышкой – и один раз случилось так, что подброшенные судорогой ноги столкнули эту крышку, посыпались краски, карандаши. С тех пор во время работы приходилось привязывать ноги ремнями к креслу. Боли от этого, конечно, не становились легче.
Помню, не один раз я видел, как вдруг странно менялось у Бориса Михайловича лицо: резко краснела правая половина, а левая оставалась бледной. И затем – все тот же знакомый жест: втянутая в плечи нагнутая вперед голова – как будто он чувствовал сзади себя занесенную для удара чью-то руку.
Видеть это было физически больно. Но сколько раз я ни предлагал Борису Михайловичу бросить работу и хоть ненадолго отдохнуть – он никогда не соглашался. Каким-то невероятным усилием воли он преодолевал боль и продолжал рисовать – то, что ему хотелось, свое, настоящее, и то, что было нужно, для того чтобы жить, есть, топить печку.
Было одно, что пугало его и о чем ему было жутко подумать: это боли в правой руке. Только раз или два, помню, он сказал мне, что теперь ему иногда трудно держать в руке карандаш или кисть. Это грозило ему потерей самого смысла его жизни, это было все равно что у христианского святого отнять веру в Бога.
Оставалось только одно: попробовать операцию (это была уже третья по счету) – и Борис Михайлович уехал в Москву. Сложнейшую эту операцию – удаление опухоли в позвоночнике – делал известный немецкий хирург Ферстер, тот самый, какой лечил Ленина. Операция длилась четыре с половиной часа, наркоз был только местный, последние два часа он уже не действовал. Какое нечеловеческое терпение нужно было, чтобы вынести это!
Желание жить и работать было так велико, что Борис Михайлович вынес – и мог еще несколько лет продолжать свой подвиг. После операции я увидел его повеселевшим, мучительные судороги теперь прекратились. Однажды он даже сказал, что как будто в ногах возвращается чувствительность. Но больше об этом никогда уже не говорилось. После операции стало только немного легче, но житие не превратилось в жизнь.
* * *
Зима 24-25-го года связала меня с Кустодиевым еще ближе: в эту зиму появилось на свет новое наше общее детище – спектакль «Блохи» – в Художественном театре (2-м) в Москве.
Театру – и это понятно – хотелось иметь художника под рукой, в Москве. Попробовали Крымова, но то, что он сделал – не понравилось. А репетиции были уже в полном ходу, уже пора было делать декорации. Однажды утром с режиссером «Блохи» – Диким – мы сидели вдвоем в пустом, темном фойе и говорили… – нет, не говорили, а молчали об этом. У обоих на языке вертелось одно и то же имя: Кустодиев, и оба разом сказали его вслух. Послали Кустодиеву телеграмму и получили от него ответ, что он согласен и уже приступает к работе.
Работал он над «Блохой» с большим увлечением. Да это и понятно: здесь во всю силу могли загореться краски его любимой Руси. И думаю, не ошибусь, если скажу, что это была одна из самых удачных – может быть, даже самая удачная – его театральная работа.
Опять каждые два-три дня я приезжал к Борису Михайловичу, он показывал уже сделанное, мы выдумывали новые подробности, новые забавные трюки. Работать с ним было настоящим удовольствием. В большом, законченном мастере – в нем совершенно не было мелочного самолюбия, он охотно выслушивал, что ему говорилось, и не раз бывало – менял уже сделанное. Ему хотелось, чтобы вышел по-настоящему хороший спектакль – и он, не жалея труда, делал для этого все, что мог.
Скоро эскизы его декораций были готовы, отправлены в Москву, и через день оттуда было получено восторженное письмо Дикого. Теперь театр был уверен в успехе спектакля.
От напряженной работы над «Блохой» Кустодиеву все время приходилось отрываться для выполнения разных скучных заказов – обложек, иллюстраций. Он чувствовал себя очень усталым, но тем не менее решил непременно ехать в Москву к премьере «Блохи» – и числа 7–8 февраля был уже там. Поселили его в самом театре, в комнате правления – рядом с фойе. Помню, с какой особенной нежностью относились к нему все актеры. В комнату правления началось паломничество: приходил то один, то другой, то несколько вместе. А работа над спектаклем – уже совсем лихорадочная – перед генеральной – шла своим чередом, и этой лихорадкой заражался Борис Михайлович. В пустой, темный зал, освещенный только лампочкой за режиссерским столиком, вкатывалось его кресло и становилось в проходе, Борис Михайлович сам проверял монтировку, свет, гримы, костюмы…
И наконец, это же кресло Бориса Михайловича – уже в ярко освещенном зале. Декорации каждого акта встречаются аплодисментами. Театр победил – большую долю этой победы, конечно, нужно отнести на счет Кустодиева.
Ценнее всего, мне кажется, что в этой постановке Кустодиев победил не только публику, но и самого себя. Это была едва ли не первая его крупная работа, где он совершенно отошел от обычной своей реалистической манеры и показал себя большим мастером в совершенно как будто для него неожиданной области – в гротеске. Но и в этой области он оставался верен своей неизменной теме – Руси.
* * *
Весной 24-го года поднялся вопрос о постановке «Блохи» в бывшем Александрийском театре. Казалось, что, если и здесь художником спектакля будет Кустодиев, – вся постановка выйдет слишком похожей на московскую. Попробовали иметь дело с другими художниками: сначала один, потом другой сделали эскизы и макеты к «Блохе», но все выходило не то.
Как «Блоха», с которой он так сжился и которую так любил, пойдет без него, – этого Борис Михайлович представить не мог. «А я все-таки ее еще раз сделаю, по-новому – пускай хоть для себя», – говорил он мне. И действительно сделал новые эскизы декораций и костюмов. Кустодиев в них, конечно, остался Кустодиевым, но богатая его фантазия сумела найти другое – и не менее удачное – разрешение задачи.
Эскизы эти были осуществлены в ленинградской постановке «Блохи» в Большом Драматическом театре (зима 1926–1927 года).
После ленинградской премьеры «Блохи» шуточным обществом «Физико-Геоцентрическая Ассоциация» – в сокращении «Фига» – устроен был – блошиный вечер! Для этого вечера мною написан был пародийный рассказ «Житие блохи»: туда попал и автор пьесы, и художник ее, и актеры, и критики. Борис Михайлович прочитал «Житие» и шутя пригрозил мне: «Ну, ладно: я вам за это отомщу – будете помнить».
Когда я в следующий раз увидел Кустодиева, он уже начал «мстить»: он показал мне два первых своих рисунка к «Житию блохи». Насмешливо-благочестивые, рисунки эти были сделаны в той же манере – старой деревянной русской гравюры – как иллюстрации к «Еразму», но были еще изящней, острее, легче, лаконичней. Так вышло, может быть, потому, что Кустодиев делал это весело, для себя, играючи.
Из задуманных – сколько помню – двенадцати рисунков, он сделал только семь: «отомстить» до конца он не успел…
Ленинградская постановка «Блохи» и книжка «Житие блохи» – это были уже последние совместные работы с Кустодиевым.
* * *
Еще раз мне пришлось близко подойти к Борису Михайловичу летом 26-го года.
Как только за окном, на высохшей мостовой, по-весеннему застучали колеса – Борис Михайлович, по обыкновению, начал мечтать о путешествиях. И по обыкновению, – ни для каких дальних путешествий не было денег. «Куда бы, куда бы это поехать, чтоб и капиталов хватило – и чтобы это была не петербургская дача, а настоящее?» – спрашивал он меня.
Это лето я собирался проводить у себя на родине – в самом черноземном нутре России – в городишке Лебедянь, Тамбовской губернии. Я предложил поехать туда и Кустодиеву, по правде говоря, без всякой надежды, что из этого выйдет что-нибудь, кроме разговора, потому что добраться туда было нелегко: в поезде две ночи, одна – в жестком вагоне. Но когда я стал рассказывать о ржаных полях, о горе, уставленной церквами, об увешанных наливными яблоками садах, – Борис Михайлович вдруг загорелся и решил непременно все это увидеть.
Я уехал в Лебедянь раньше. Борис Михайлович с семьей попал туда только месяца через полтора – в начале августа. К приезду для него была уже найдена квартира – две комнаты с балконом, в белом одноэтажном домике, окнами на уличку, густо заросшую травой. Перед балконом ходил привязанный к колышку белолобый теленок, важно переваливались гуси. В базарные дни, распугивая гусей, тарахтели телеги, шли пешком пестропоневые бабы из пригородных сел. Одним концом уличка упиралась в голубую, наклоненную, как Пизанская башня, колокольню елизаветинских времен, а другим – в бескрайние поля. Это было «настоящее», это была – Русь.
Я жил на соседней улице – в пяти минутах от квартиры Кустодиевых. Каждый день или я с женой приходили к Борису Михайловичу, или его в кресле привозили к нам в сад, или Кустодиевы и мы отправлялись на берег Дона, на выгон, в поле. И тут я видел, с какой жадностью Борис Михайлович пожирал все изголодавшимися глазами, как он радовался далям, радуге, лицам, летнему дождю, румяному яблоку.
В том саду, где я жил, этим летом фрукты были особенно хороши. Часто мы приберегали для Бориса Михайловича ветку яблок, потом подвозили его в кресле – и он сам рвал яблоки с дерева. «Вот, вот этого мне и хотелось – чтобы самому рвать», – говорил он. И, хрустя яблоком, набрасывал этюды: ему очень нравился вид сверху, из сада, на другой берег Дона.
Я редко видел раньше Бориса Михайловича таким веселым, разговорчивым, шутливым – каким он был этот месяц. Но к концу августа погода как-то испортилась, захолодало, пошли дожди, Борис Михайлович начал жаловаться, что зябнет – и скоро уехал к себе, в Ленинград. Зимой я увиделся там с ним уже на репетициях «Блохи» в Большом Драматическом театре. А когда опять настало лето – Бориса Михайловича уже не было.
* * *
Так замкнулся круг моих встреч с Кустодиевым: от книги «Русь» – до этой живой Руси: так вышло, что с ней, любимой его Русью, он провел последнее лето своей жизни. Это было не случайно: Русь – в сущности, единственная тема всех его работ, он ей не изменил, и она не изменила ему – и не изменит.
Уже после смерти Кустодиева мне случилось говорить о нем с одним из больших наших художников. Мой собеседник признался мне: «Ведь вот при жизни я, пожалуй, не очень даже любил работы Бориса Михайловича. А теперь, когда он умер – вижу, как его не хватает, и вижу, что его место – некому занять, и так оно останется не занятым никем».
Он был прав. Потому что Кустодиев был единственный, неповторимый художник – и единственным было его удивительное, подвижническое житие.
1927
Андрей Белый*
Склоненная над письменным столом голова, прикрытая темной бархатной шапочкой, окаймленная ореолом легких, летучих, седых волос. На столе раскрыты толстые тома атомической физики, теории вероятностей… Кто это? Профессор математики?
Но странно: математик читает свои лекции… в петербургском Доме Искусств. Быстрые, летящие движения рук, вычерчивающих в воздухе какие-то кривые. Вы вслушиваетесь – и оказывается, что это – кривые подъема и падения гласных, это – блестящая лекция по теории стиха.
Новый ракурс: этот человек – с долотом и молотком в руках, на подмостках в полутемном куполе какого-то храма, он выдалбливает узор капителя. Храм этот – знаменитый «Гётеанум» в Базеле, над постройкой которого работали преданнейшие адепты антропософии.
И после тишины Гётеанума – вдруг неистовый гвалт берлинского кафе, из горла трубы, из саксофона, взвизгивая, летят бесенята джаза. Человек, который строил антропософский храм, в сбившемся набок галстуке, с растерянной улыбкой – танцует фокстрот…
Математика, поэзия, антропософия, фокстрот – это несколько наиболее острых углов, из которых складывается причудливый облик Андрея Белого, одного из оригинальнейших русских писателей, только что закончившего свой земной путь: в синий, снежный январский день он умер в Москве.
То, что он писал, было так же причудливо и необычно, как его жизнь. Поэтому, уже не говоря о его многочисленных теоретических работах, даже его романы оставались чтением преимущественно интеллектуальной элиты. Это был «писатель для писателей» прежде всего, мэтр, изобретатель, изобретениями которого пользовались многие из русских романистов более молодых поколений. Ни одна из многочисленных антологий современной русской литературы, выходящих за последнее время на разных европейских языках, не обходится без упоминания об Андрее Белом.
Но здесь опять один из тех парадоксов, которыми полна вся его человеческая и литературная биография: книги этого мэтра, теоретика целой литературной школы – остаются непереведенными, они живут только в русском своем воплощении. Я не знаю, впрочем, можно ли, оставаясь точным, назвать их написанными по-русски: настолько необычен синтаксис Белого, настолько полон неологизмов его словарь. Язык его книг – это язык Белого, совершенно так же, как язык «Улисса» не английский, но язык Джойса.
И еще парадокс. Этот типичнейший русский писатель, прямой потомок Гоголя и Достоевского, оказался в русской литературе проводником чисто французских влияний: Белый был одним из основателей и единственным серьезным теоретиком школы русского символизма. При всем своеобразии этого литературного направления, очень тесно переплетающегося с религиозными исканиями русской интеллигенции, связь его с французским символизмом – с именами Малларме, Бодлера, Гюисманса – совершенно бесспорна. Одного этого уже достаточно, чтобы остановить внимание французского читателя, и особенно читателя литературного, на оригинальной фигуре Андрея Белого.
Отрывистые, пересекающиеся линии, которыми здесь набросан был контур его портрета, продиктованы стилем самой личности этого человека, от которого всегда оставалось впечатление стремительности, полета, лихорадочности. Для тех, чей глаз привык к линиям более академическим, к датам и именам, ниже дается несколько дополнений к этому контуру.
Две таких как будто несхожих, но, по существу, родственных стихии – математика и музыка – определили юность Белого. Первая из них была у него в крови: он был сыном известного русского профессора математики и изучал математику в том самом Московском университете, где читал лекции его отец. Может быть, там же читал бы лекции и Андрей Белый, если бы однажды он не почувствовал эстетики формул совершенно по-новому: математика для него зазвучала (так он сам рассказывал об этом), она материализовалась в музыку. И, казалось, эта муза окончательно повела его за собой, когда неожиданно из вчерашнего математика и музыканта Бориса Бугаева (настоящее его имя) родился поэт Андрей Белый. Первая же книга его стихов ввела его в тогдашние передовые литературные круги, сблизила его с Блоком, Брюсовым, Мережковским.
Это было начало 20-го века, годы, близкие к 905-му, когда огромное, заржавевшее тело России сдвинулось с привычной в течение веков орбиты, когда искание нового началось во всех слоях русского общества. Белый был сыном этой эпохи, одной из тех, родственных героям Достоевского, беспокойных русских натур, которые никогда не удовлетворяются достигнутым. Быть модным поэтом, даже одним из вождей новой литературной школы – для него скоро оказалось мало: он искал для себя ответов на самые мучительные «вечные» вопросы. Он искал их всюду: на заседаниях петербургского «религиозно-философского общества»; в прокуренных студенческих комнатах, где спорили всю ночь до утра; в молельнях русских сектантов и на конспиративных собраниях социалистов; в чайных и в трактирах, где под выкрики подвыпивших извозчиков вел тихую беседу какой-нибудь русский странник с крестом на посохе…
Этот пестрый вихрь уже не вмещался в скупые строки стихов – и Белый перешел к роману. В эти годы были написаны две наиболее известные его книги: «Серебряный голубь» и «Петербург». Первый роман вводит читателя в жуткую атмосферу жизни хлыстовской секты, куда попадает рафинированный интеллигент, поэт, погибающий в столкновении с темной силой русской деревни. Как позже писал сам Белый, в этом романе им «был увиден Распутин в начальной стадии» (Распутин, как известно, вышел из хлыстовской среды). Во втором романе царский Петербург показан Белым как город, уже обреченный на гибель, но еще прекрасный предсмертной, призрачной красотой. Один из властителей этого Петербурга, сенатор Аблеухов, приговорен к смерти революционерами, с которыми связан его сын, студент: на этой острой коллизии построен сюжет романа. В этой книге, лучшей из всего, написанного Белым, Петербург впервые после Гоголя и Достоевского нашел своего настоящего художника.
Предреволюционные годы (1912–1916) Белый провел в беспокойных скитаниях по Африке и Европе. Встреча с главой антропософов д-ром Штейнером оказалась для Белого решающей. Но для него антропософия не была тихой гаванью, как для многих усталых душ, – для него это был только порт отправления в бесконечный простор космической философии и новых художественных экспериментов. Самым любопытным из них был роман «Котик Летаев», едва ли не единственный в мировой литературе опыт художественного отражения антропософских идей. Экраном для этого отражения здесь взята детская психика, период первых проблесков сознания в ребенке, когда из мира призрачных воспоминаний о своем существовании до рождения, из мира четырех измерений – ребенок переходит к твердому, больно ранящему его, трехмерному миру.
В послереволюционной России, с ее новой религией материализма, антропософия была не ко двору – и в 1921 году Белый снова оказался за границей. Для него наступило время «искушения в пустыне»: женщина, которую он любил, оставила его, чтобы быть около д-ра Штейнера, поэт остался один в каменной пустоте Берлина. С антропософских высот он бросился вниз – в фокстрот, в вино… Но не разбился, у него хватило силы встать – и снова начать жить, вернувшись в Россию.
Волосы вокруг купола головы, прикрытого шапочкой, были у него теперь седые, но в нем был все такой же полет, тот же юношеский пыл. Мне запомнился один петербургский вечер, когда Белый зашел ко мне «ненадолго»: он торопился, ему в этот вечер нужно было читать лекцию. Но вот разговор коснулся одной особенно близкой ему темы – о кризисе культуры, его глаза засветились, он приседал на пол и поднимался, иллюстрируя свою теорию «параллельных эпох», «спирального движения» человеческой истории, он говорил не останавливаясь, это была блестящая лекция, прочитанная перед одним слушателем: другие напрасно ждали его в аудитории в тот вечер, – только когда пробила полночь, увлекшийся Белый вдруг вспомнил, схватился за голову…
Лекция эта была главою его большого труда по философии истории, над которым он, не переставая, работал все последние годы. Как будто уже видя недалекий конец своего пути, в этой книге он торопился подвести итоги всех своих беспокойных интеллектуальных скитаний. Работа эта, сколько знаю, осталась незаконченной.
Таким же подведением итогов были и другие его последние книги: том мемуаров «На рубеже двух столетий», романы «Москва» и «Маски». Здесь уже нет четырехмерного, фантастического мира «Котика Летаева» и «Петербурга»; эти романы построены на реальном, частью автобиографическом, материале из жизни московской интеллигенции в переломную эпоху начала 20-го века. Взятый автором явно сатирический ракурс был уступкой духу времени, требовавшему развенчания прошлого. Но неутомимые формальные искания Белого, на этот раз больше всего в области лексической, продолжались и в этих последних романах: он до конца остался «русским Джойсом».
<1934>
М. Горький*
Они жили вместе – Горький и Пешков. Судьба кровно, неразрывно связала их. Они были очень похожи друг на друга и все-таки не совсем одинаковы. Иногда случалось, что они спорили и ссорились друг с другом, потом снова мирились и шли в жизни рядом. Их пути разошлись только недавно: в июне 1936 года Алексей Пешков умер, Максим Горький остался жить. Человек с самым обычным лицом русского мастерового и со скромным именем «Пешков» был тот самый, кто выбрал для себя псевдоним «Горький».
Я знал обоих. Но я не вижу надобности говорить о писателе Горьком, о котором лучше всего говорят его книги. Мне хочется вспомнить здесь о человеке с большим сердцем и с большой биографией.
Есть много замечательных писателей без биографии, которые проходят через жизнь только в качестве гениальных наблюдателей. Таков был, например, современник Горького и один из тончайших мастеров русского слова Антон Чехов. Горький никогда не мог оставаться только зрителем, он всегда вмешивался в самую гущу событий, он хотел действовать. Он был заряжен такой энергией, которой было тесно на страницах книг: она выливалась в жизнь. Сама его жизнь – это книга, это увлекательный роман.
Необычайно живописны и, я бы сказал, символичны декорации, в которых развертывается начало этого романа.
На высоком берегу реки – зубчатые стены древнего Кремля, золотые кресты и купола многочисленных церквей. Ниже, у воды – бесконечные склады, амбары, пристани, магазины: здесь каждое лето шумела знаменитая русская ярмарка, где происходили гомерические кутежи и делались миллионы, где с длиннополыми сюртуками русских купцов смешивались азиатские халаты. И наконец, на другом берегу – кусок Европы – лес фабричных труб, огненные жерла домен, железные корпуса кораблей.
Этот город, где жили рядом Россия 16 и 20 века, – Нижний Новгород, родина Горького. Река, на берегу которой он вырос, – это Волга, родившая легендарных русских бунтарей Разина и Пугачева, Волга, о которой сложено столько песен русскими бурлаками. Горький прежде всего связан с Волгой: его дед был здесь бурлаком.
Это был тип русского американца, self-made man[6], начавши жизнь бурлаком, он закончил ее владельцем трех кирпичных фабрик и нескольких домов. В доме этого скупого и сурового старика проходит детство Горького. Оно было очень коротким: в 8 лет мальчик был уже отдан в подмастерья к сапожнику, он был брошен в мутную реку жизни, из которой ему предоставлялось выплывать как ему угодно. Такова была система воспитания, выбранная его дедом.
Дальше идет головокружительная смена мест действия, приключений, профессий, роднящая Горького с Джеком Лондоном и, если угодно, даже с Франсуа Вийоном, перенесенным в 20-й век и в русскую обстановку. Горький – помощник повара на корабле, Горький – продавец икон (какая ирония!), Горький – тряпичник, Горький – булочник, Горький – грузчик, Горький – рыбак. Волга, Каспийское море, Астрахань, Жигулевские горы, Моздокская степь, Казань. И позже: Дон, Украина, Бессарабия, Дунай, Черное море, Крым, Кубань, горы Кавказа. Все это – пешком, в компании бездомных живописных бродяг, с ночевками в степи у костров, в заброшенных домах, под опрокинутыми лодками. Сколько происшествий, встреч, дружб, драк, ночных исповедей! Какой материал для будущего писателя и какая школа для будущего революционера!
Посвящение в орден революционеров он получил от русских студентов, для которых бунт в ту пору был такой же священной традицией и непременной принадлежностью, как их голубая студенческая фуражка. Это «посвящение» произошло в Казани. Там же Горький встретился с одним профессиональным революционером. Затем следует глава классического «хождения в народ»: Горький уезжает в деревню и работает там в качестве продавца в бакалейной лавке. Но, разумеется, и «продавец», и «хозяин» – это были только конспиративные маски для того, чтобы вести пропаганду среди крестьян. Объект для пропаганды, очевидно, был выбран неудачно: в одну темную ночь крестьяне подожгли избу наших конспираторов, которые еле успели выскочить из огня. И может быть, эта ночь положила начало антипатии Горького к русской деревне, к мужику и определила путь Горького к городу, к городскому пролетарию.
Через несколько лет этот романтический бродяга выпустил книгу рассказов. Пред изумленным читателем предстал не только до тех пор неведомый мир «босяков», но и целая система анархической философии этих пасынков общества. «Цеховой малярного цеха Алексей Пешков», как было записано в его паспорте, превратился в Максима Горького. Он сразу стал одним из самых популярных писателей в России, особенно в левых кругах молодежи и интеллигенции.
Теперь, казалось бы, можно было забыть о рискованных авантюрах и спокойно пожинать лавры. Но беспокойная бурлацкая кровь была слишком горяча для этого: в год выхода книги писателя Горького революционер Пешков был арестован жандармами и отправлен «на место преступления», в Тифлис, где был заключен в Метехском замке. Заключение было непродолжительным, Горький был освобожден… для того, чтобы вскоре оказаться в Нижегородской тюрьме и оттуда быть высланным в глухую деревню.
При тогдашнем оппозиционном настроении русской интеллигенции эти злоключения Пешкова только помогли необычайно быстрому росту славы Горького. В 30 с небольшим лет он был уже избран членом Императорской Академии наук. Революционер, бывший босяк, – член Императорской Академии? Это был неслыханный скандал. Выборы были аннулированы по приказу императора Николая II, положившего на докладе Академии свою резолюцию: «Более чем оригинально!»
Его Величеству нельзя отказать в известной предусмотрительности: через несколько лет, во время первой русской революции 1905 года, Горький оказался запертым в каземат знаменитой Петропавловской крепости. Запереть в каземат академика – это было бы, конечно, несколько неудобно.
Следующие главы жизненного романа Горького происходят уже за границей. Он стал политическим эмигрантом, он был отрезан от России, от своей Волги, которую так любил. Он получил возможность вернуться на родину только незадолго до революции 1917 года.
Во время войны почти два года мне пришлось провести в Англии, куда я был командирован в качестве инженера для постройки заказанных русским правительством ледоколов. В Петербург я вернулся только осенью 1917 года и тогда в первый раз встретился с Горьким. Так случилось, что с революцией и с Горьким я встретился одновременно. Поэтому в моей памяти образ Горького встает неизменно связанным с новой, послереволюционной Россией.
Маленькая белая комната – кабинет редактора журнала «Летопись». Осенний петербургский вечер. Где-то на улице постреливают. Аккомпанемент этот для редактора – видно, дело привычное и нисколько не мешает оживленному разговору.
Этот редактор – Горький, но тема разговора – отнюдь не литературная; вопрос о моем рассказе – это уже дело решенное, Горькому он нравится и уже сдан в набор. Но вот построенные мною ледоколы, и техника, и мои лекции по корабельной архитектуре… «Черт возьми! Ей-Богу, завидую вам. А я так и помру – по математике неграмотным. Обидно, очень обидно!»
Самоучка, за всю свою жизнь только полгода пробывший в начальной школе, Горький не переставал учиться всю жизнь и знал очень много. И к тому, что он не знал, у него было трогательное, какое-то детски-почтительное отношение. Эту черту мне приходилось наблюдать в нем много раз.
За окном выстрелы слышались ближе. Я невольно вспомнил вслух о налетах немецких цеппелинов и аэропланов на Англию, о способах, которые там применялись для борьбы с налетами. Опять что-то новое для Горького, то, чего он не знал – и что, конечно, должен был знать. Но в дверь уже не один раз заглядывала секретарша с письмами и гранками. «Слушайте, если вы можете подождать меня немного, мы пойдем ко мне обедать, а?» – предложил мне Горький.
Он жил в верхнем этаже огромного петербургского дома. Совсем недалеко, вправо, из окон видны серые стены и золотой шпиц Петропавловской крепости…
Хозяев было двое: Горький и его вторая жена, М. Ф. Андреева, бывшая актриса Московского Художественного театра. Но за столом сидело не менее десяти – двенадцати гостей. Иные, как я не без удивления узнал потом, жили «гостями» в доме Горького уже несколько лет – так, как это водилось в русских помещичьих домах.
Когда Горький имел дело с новым, чем-нибудь заинтересовавшим его человеком, он умел быть обворожительным, как женщина. Для этого ему нужно было немного: только начать рассказывать о каких-нибудь своих приключениях и встречах с людьми. Рассказчик он был превосходный, люди, о которых он говорил, оживали и садились с нами за стол, их можно было видеть и слышать. Некоторых из этих людей я встретил позже в книге Горького – и мне показалось, что Пешков в тот вечер рассказал о них еще лучше, чем Горький в своей книге.
Недели через три или через месяц одиночные ружейные выстрелы, которые были аккомпанементом к моей первой встрече с Горьким, превратились в трескотню пулеметов и в глухие удары пушек: на улицах Петербурга шли бои, это была Октябрьская революция. Огромный корабль России оторвало бурей от берега и понесло в неизвестность. Никто, вплоть до новых капитанов, не знал: разобьется ли корабль вдребезги или пристанет к какому-нибудь неведомому материку.
Однажды утром, сидя в заставленном книжными полками кабинете Горького, я рассказал ему о возникшей у меня в те дни идее фантастического романа. Место действия – стратоплан, совершающий междупланетное путешествие. Недалеко от цели путешествия – катастрофа, междупланетный корабль начинает стремительно падать.
Но падать предстоит полтора года! Сначала мои герои, – разумеется, в панике, но как они будут вести себя потом? «А хотите, я вам скажу, как? – Горький хитро пошевелил усами. – Через неделю они начнут очень спокойно бриться, сочинять книги и вообще действовать так, как будто им жить по крайней мере еще лет 20. И, ей-Богу, так и надо. Надо поверить, что мы не разобьемся, иначе – наше дело пропащее». И он поверил.
Писатель Горький был принесен в жертву: на несколько лет он превратился в какого-то неофициального министра культуры, организатора общественных работ для выбитой из колеи, голодающей интеллигенции. Эти работы походили на сооружение Вавилонской башни, они были рассчитаны на десятки лет: издательство «Всемирная литература» – для издания в русском переводе классиков всех времен и всех народов; «Комитет исторических пьес» – для театрализации ни больше ни меньше как всех главнейших событий мировой истории; «Дом Искусств» – для объединения деятелей всех искусств; «Дом Ученых» – для объединения всех ученых…
В столице, где тогда уже не было хлеба, света, трамваев, в атмосфере разрушения и катастрофы – эти затеи показались в лучшем смысле утопическими. Но Горький в них верил («надо верить») – и своей верой сумел заразить скептических петербуржцев: ученые академики, поэты, профессора, переводчики, драматурги – начали работать в созданных Горьким учреждениях, увлекаясь все больше.
Я оказался в руководящих центрах трех или четырех из этих учреждений, где Горький всюду был неизменным президентом. Мне тогда приходилось встречаться с ним очень часто, и помню – я не раз с изумлением задавал себе вопрос: сколько часов в сутках у этого человека? Как у него, вечно покашливающего в прокуренные рыжие усы, наполовину съеденного туберкулезом, хватает сил на все? Однажды я спросил его об этом. Он с таинственным видом подвел меня к буфету, вынул темный флакончик и объяснил, что это – настой из чудодейственного китайского корня женьшень, привезенный ему одним поклонником из Маньчжурии. Но не правильнее ли, что этим женьшенем была его вера?
И другое, что у меня осталось в памяти: это спокойствие, уверенность, с каким он председательствовал на собраниях профессоров и академиков. Постороннему никогда бы не пришло в голову, что этот человек, с такой легкостью цитирующий имена и хронологические даты (память у него была исключительная) – бывший босяк, самоучка. Единственное, что его отличало от остальных, – это, мягко говоря, своеобразное произношение иностранных имен и слов: ни одного иностранного языка он не знал.
Одною из тогдашних затей Горького было издать 100 томов лучших, избранных произведений русских авторов, начиная от Чехова. Об этом сравнительно скромном по масштабу предприятии я упоминаю потому, что оно дало мне случай быть свидетелем очень любопытной ситуации: Горький в качестве критика… Горького.
Льстецов около Горького в ту пору было достаточно. Один из них, на заседании редакции «100 томов», начал восторженно перечислять произведения Горького, обильно поливая каждое соусом комплиментов. Горький смотрел вниз и сердито дергал усы. Когда оратор назвал его известное стихотворение в прозе «Песнь о буревестнике» – одну из его ранних вещей, – Горький перебил говорившего: «Вы, вероятно, шутить изволите. Мне об этой вещи даже вспомнить неловко. Это – вещь очень слабая». Когда названо было несколько пьес Горького, и опять – с комплиментами, он снова вмешался: «Извините, господа, но этот автор, о котором вы говорите, – драматург плохой: кроме одной пьесы „На дне“ – все остальное, по-моему, никуда не годится»…
Гораздо позже мне пришлось быть свидетелем другого случая – в этом же роде, но уже совершенно юмористического. В гостях у Горького был довольно развязный молодой автор из группы «пролетарских». Горький спросил его, что он сейчас пишет. Гость ответил, что начал было писать трехтомный роман, но теперь бросил: «В нашу динамическую эпоху трехтомные романы пишут только идиоты». Горький – совершенно хладнокровно: «Да, знаете… Вот, говорят, Горький тоже пишет третий том своего „Клима Самгина“…»
Молодой автор готов был провалиться сквозь землю. Но за шуточным тоном у Горького слышалось болезненное сознание своей неудачи, какою был этот его последний огромный роман.
Едва ли не лучшей вещью из всего, написанного Горьким после революции, были его замечательные воспоминания о Льве Толстом. Для меня эта вещь особенно памятна потому, что она открыла мне какую-то дверь внутрь Горького, в те душевные апартаменты, в которые мы стыдимся пускать посторонних.
В Петербурге был устроен литературный вечер; «гвоздем» было выступление Горького, читавшего тогда еще не опубликованные воспоминания о Толстом. Высокий, худой, сутулый, он стоял на эстраде; надетые для чтения очки сразу состарили его на десять лет. С моего места в первом ряду мне было видно каждое его движение. Когда, читая, он стал подходить к концу своих воспоминаний, началось что-то очень странное: казалось, он перестал видеть через свои очки. Он стал запинаться, останавливаться. Потом сдернул очки. И тогда стало видно: у него лились слезы. Он всхлипнул вслух, пробормотал: «Простите…» – и вышел из зала в соседнюю комнату. Это был не писатель и не старый революционер Горький, а просто человек, не смогший спокойно говорить о смерти другого человека.
Я знаю: человека-Горького с благодарностью вспоминают многие в России, и особенно в Петербурге. Не один десяток людей обязан ему жизнью и свободой.
Всем было хорошо известно, что Горький – в близкой дружбе с Лениным, что он хорошо знаком с другими главарями революции. И когда революция перешла к террору, последней апелляционной инстанцией, последней надеждой был Горький, жены и матери арестованных шли к нему. Он писал письма, ругался по телефону, в наиболее серьезных случаях сам ездил в Москву, к Ленину. Не раз случалось, что его заступничество кончалось неудачей. Как-то мне пришлось просить Горького за одного моего знакомого, попавшего в ЧК. По возвращении из Москвы, сердито пыхтя папиросой, Горький рассказал, что за свое вмешательство получил от Ленина реприманд: «Пора бы, говорит, вам знать, что политика – вообще дело грязное, и лучше вам в эти истории не путаться».
Но Горький продолжал «путаться».
По моим впечатлениям, тогдашняя политика террора была одной из главных причин временной размолвки Горького с большевиками и его отъезда за границу.
Случилось так, что незадолго до его отъезда я, возвращаясь из Москвы в Петербург, оказался в одном вагоне с Горьким. Была ночь, весь вагон уже спал. Вдвоем мы долго стояли в коридоре, смотрели на летевшие за черным окном искры и говорили. Шла речь о большом русском поэте Гумилеве, расстрелянном за несколько месяцев перед тем. Это был человек и политически, и литературно чужой Горькому, но тем не менее Горький сделал все, чтобы спасти его. По словам Горького, ему уже удалось добиться в Москве обещания сохранить жизнь Гумилева, но петербургские власти как-то узнали об этом и поспешили немедленно привести приговор в исполнение. Я никогда не видел Горького в таком раздражении, как в эту ночь.
Года через полтора, в глухой русской деревне, где я проводил лето, мне попался номер провинциальной коммунистической газеты с жирным заголовком: «Горький умер!» Заголовок оказался трюком остряка-журналиста: в статье шла речь о «политической смерти» Горького, опубликовавшего тогда за границей какой-то протест по поводу происходившего в Москве суда над социалистами-революционерами (русская партия, примыкающая к II Интернационалу).
Это был кульминационный пункт разлада Горького с большевиками. Но не только с ними, а и с самим собой, потому что, несомненно, кроме «Пешкова», человека с почти по-женски мягким сердцем, в нем жил большевик.
Когда от жестокого разрушения революция перешла к постройке нового, Горький вернулся в Россию. То, что вызвало его отъезд, – видимо, было забыто. Когда я попытался заглянуть внутрь его и узнать, что теперь думает (вернее, чувствует) «Пешков», я услышал ответ: «У них – очень большие цели. И это оправдывает для меня все».
Недавно в статье о новых русских романах (в «Marianne»), упоминая о Горьком, я назвал его «Le Раре de la Literature sovietique»[7]. Курьезная опечатка типографии сделала из «pape» – «pope». По странной случайности эта опечатка почти повторила то, что Горький в шутку говорил о себе: он называл себя: «литературным протопопом».
Я думаю, этой шуткой Горький правильнее всего определил свое положение в советской литературе. Было, конечно, немало и таких авторов, которые являлись к Горькому, чтобы «поцеловать папскую туфлю». С такими благочестивыми паломниками Горький скучал и торопился их выпроводить. «Смотрит на меня, будто я – дурак в мундире с орденами», – сердито сказал он мне об одном таком посетителе. Но большинство писателей приходило к нему не как к человеку с литературными орденами, не как к литературному авторитету, а просто – как к человеку: не к «Горькому», а к «Пешкову».
На моих глазах возникла и выросла дружба Горького с группой молодых петербургских писателей, носившей название «Серапионовых братьев», с которой был очень близко связан и я. Группа эта родилась в петербургском «Доме Искусств», где еще в периоды революции Горькому удалось организовать род литературного университета (я там был одним из лекторов). Когда из слушателей этого университета вышло несколько талантливых писателей, Горький чувствовал себя, как счастливый отец, он возился с ними, как наседка с цыплятами. Очень трогательные отношения с ними сохранились у Горького и позже, когда «цыплята» выросли и стали чуть что не классиками новой советской прозы.
Чрезвычайно любопытно, что вся эта группа писателей в литературном отношении была «левее» Горького, она искала новой формы – и искала ее никак не в реализме Горького. Тем показательнее их отношение к Горькому: это была любовь именно к человеку.
Для этой группы, как и для всех советских писателей не коммунистов, а только «попутчиков», – самым тяжелым периодом были годы 1927–1932. Советская литература попала под команду – иного выражения нельзя подобрать – организации «пролетарских писателей» (на языке советского кода – РАПП). Их главным талантом был партийный билет и чисто военная решительность. Эти энергичные молодые люди взяли на себя задачу немедленного «перевоспитания» всех прочих писателей. Ничего хорошего из этого, разумеется, не получилось. Одни из «воспитываемых» замолчали, в произведениях других стала слышна явная фальшь, резавшая даже невзыскательное ухо. Плодились цензурные анекдоты: среди «попутчиков» росло недовольство.
При встречах мне не раз приходилось говорить об этом с Горьким. Он молча курил, грыз усы. Потом останавливал меня: «Подождите. Эту историю я должен для себя записать».
Смысл этих «записей» стал мне ясен только гораздо позже, в 32-м году. В апреле этого года, неожиданно для всех, произошел подлинный литературный переворот: правительственным декретом деятельность РАППа была признана «препятствующей развитию советской литературы», организация эта была объявлена распущенной. Это не было неожиданностью только для Горького: я совершенно уверен, что этот акт был подготовлен именно им, и он действовал, как очень искусный дипломат.
Жил он в это время уже не в Петербурге, а в Москве. В городе в его распоряжение был предоставлен многим знакомый дом миллионера Рябушинского. Горький бывал здесь только наездами и большую часть времени проводил на даче, километрах в 100 от Москвы. Там же поблизости жил на даче и Сталин, который все чаще стал заезжать к «соседу» Горькому. «Соседи», один – с неизменной трубкой, другой – с папиросой, уединялись и, за бутылкой вина, говорили о чем-то часами…
Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что исправление многих «перегибов» в политике советского правительства и постепенное смягчение режима диктатуры – было результатом этих дружеских бесед. Эта роль Горького будет оценена только когда-нибудь впоследствии.
Не буду здесь рассказывать, как и почему, но я увидел, что мне лучше на время уехать за границу. В те годы получить заграничный паспорт писателю с моей репутацией «еретика» было делом нелегким. Я обратился к посредничеству Горького. Он стал меня убеждать, чтобы я подождал до весны (1931 года). «Увидите – все изменится». Весною ничего не изменилось. Тогда Горький, не очень охотно, согласился добыть для меня разрешение выехать за границу.
Однажды секретарь Горького позвонил мне, что Горький просит меня быть у него вечером, к обеду, на даче. Я очень отчетливо помню этот необычайно жаркий день, грозу, тропический ливень в Москве. Сквозь водяную стену автомобиль Горького мчал нас, нескольких человек, приглашенных в этот вечер к нему.
Обед был – «литературный», за столом сидело человек двадцать. Горький сначала сидел усталый, молчал. Все пили вино, а перед ним стоял бокал с водой, вино ему нельзя было пить. Потом он взбунтовался, налил себе бокал вина, еще и еще, стал похож на прежнего Горького.
Гроза кончилась, я вышел на огромную каменную террасу дачи. Тотчас же вышел туда Горький и сказал мне: «Ваше дело с паспортом устроено. Но вы можете, если хотите, вернуть паспорт и не ехать». Я сказал, что поеду. Горький нахмурился и ушел в столовую, к гостям.
Было уже поздно. Часть гостей осталась ночевать на даче, часть уезжала в Москву, в числе их – я. Прощаясь, Горький сказал: «Когда же увидимся? Если не в Москве, так, может быть, в Италии? Если я там буду, вы ко мне туда приезжайте, непременно! Во всяком случае – до свидания, а?»
Это был последний раз, что я видел Горького.
Впрочем, еще одна, заочная, чисто литературная встреча моя с Горьким произошла совсем недавно. За месяц-полтора до его смерти одна кинематографическая фирма в Париже решила сделать по моему сценарию фильм из известной пьесы Горького «На дне». Горький был извещен об этом, от него был получен ответ, что он удовлетворен моим участием в работе, что он хотел бы ознакомиться с адаптацией его пьесы, что он ждет манускрипта.
Манускрипт для отсылки был уже приготовлен, но отправить его не пришлось: адресат выбыл – с земли.
1936
Анатоль Франс (Некролог)*
Если с какой-нибудь соседней планеты наблюдать развитие нашей культуры, то оттуда, из-за сотен миллионов миль, видны только самые высокие пики. И если там составлен атлас нашей культуры за последние четверть века, то, конечно, на карте России обозначена вершина Лев Толстой, – на карте Франции вершина Анатоль Франс. В этих двух именах не только духовные полюсы двух наций, но и полюсы двух культур: одной, отчаливающей в неизвестное от того берега, который именуется европейской цивилизацией, и другой, оставшейся жить на этом берегу. И от этих двух высоких имен ложатся тени на все, что внизу, под ними: от Толстого – абсолют, пафос, вера (хотя бы это переламывалось в виде веры в разум); от Франса – релятивизм, ирония, скепсис.
В электронах, заряженных положительно и отрицательно, полярных друг другу, течет все-таки одна и та же энергия. Одна и та же энергия революции и в этих двух полярностях – Толстого и Франса: оба великие еретики, многие книги обоих числятся в наиболее почетном для писателя каталоге запрещенных книг.
И тем не менее полярность Толстого и Франса остается в силе: наши попытки ассимилировать Франса – только свидетельство вполне естественного, буйного аппетита молодости, накидывающегося иногда на малосъедобное. Реактивом, который однажды особенно ясно показал полярность по отношению к нам Франса, для меня был Блок. Блок говорил, что не принимает Франса – «он какой-то ненастоящий, все у него ирония». «Ненастоящим» Франс был для Блока потому, что Франс был настоящим – до конца – европейцем, потому что из двух возможных разрешений жизни Блоком, Россией, было выбрано трагическое с ненавистью и любовью, не останавливающимися ни перед чем, Франсом – ироническое, с релятивизмом и скепсисом, тоже не останавливающимися ни перед чем.
«Требуется недюжинная сила души, чтобы быть неверующим», – говорит господин Ларив дю-Мон в «Рубашке» Анатоля Франса, когда речь заходит о том, как трудно умирать. Ларив дю-Мон прав. Но к этому следует прибавить, что требуется еще большая сила души, чтобы быть неверующим, скептиком, релятивистом – и все-таки жить полной жизнью, все-таки любить жизнь. Франс выдержал это испытание огнем – и даже не огнем, а еще страшнее – испытание холодом. Оставаясь скептиком до самого конца, он до самого конца нежно и молодо любил жизнь. «Ирония, которую я признаю, не жестока, она не смеется ни над любовью; ни над красотой; она учит нас смеяться над злыми и глупыми, которых без нее мы имели бы слабость ненавидеть». Так говорил о себе Франс.
Умер он глубоким стариком. Умер он совсем молодым: еще недавно, когда ему было уже за 70 лет, он подарил мировой литературе самую франсовскую, самую французскую, самую веселую, самую беспощадную, самую мудрую из своих вещей: «Восстание ангелов». И оттого его смерть ощущается не как естественный конец художника, завершившего свой путь, а как некое нарушение, противозаконность – так же, как ощущаем мы смерть молодых.
<1924>
Герберт Уэллс*
I
Самые кружевные, самые готические соборы построены все-таки из камня; самые чудесные, самые нелепые сказки всякой страны – построены все-таки из земли, деревьев, зверей этой страны. В лесных сказках – леший, лохматый и корявый, как сосна, и с гоготом, рожденным из лесного ауканья, в степных – волшебный белый верблюд, летучий, как взвеянный вихрем песок, в полярных – кит-шаман и белый медведь с туловищем из мамонтовой кости. Но представьте себе страну, где единственная плодородная почва – асфальт, и на этой почве густые дебри только фабричных труб, стада зверей только одной породы – автомобили, и никакого весеннего благоухания – кроме бензина. Эта каменная, асфальтовая, железная, бензинная, механическая страна – называется сегодняшним XX столетия Лондоном, и, естественно, тут должны были вырасти свои железные, автомобильные лешие, свои механические, химические сказки. Такие городские сказки есть: они рассказаны Гербертом Уэллсом. Это – его фантастические романы.
Город, нынешний – огромный, лихорадочно-бегущий, полный рева, гула, жужжанья пропеллеров, проводов, колес, реклам – этот город Уэллса всюду. Сегодняшний город с некоронованным его владыкой – механизмом, в виде явной или неявной функции – непременно входит в каждый из фантастических романов Уэллса, в уравнение из уэллсовских мифов, а эти мифы – именно логические уравнения.
С механизма, с машины – начал Уэллс первый его роман – «Машина времени», и это – сегодняшний городской миф о ковре-самолете, а сказочные племена морлоков и элоев – это, конечно, экстраполированные, доведенные в своих типичных чертах до уродливости, два враждующих класса нынешнего города. «Грядущее» – это сегодняшний город, показанный через чудовищно увеличивающий, иронический телескоп: тут все несется со сказочной быстротой – машины, машины, машины, аэропланы, турбинные колеса, оглушительные граммофоны, мелькающие огненные рекламы «Спящий пробуждается» – опять аэропланы, провода, прожектора, армии рабочих, синдикаты. «Война в воздухе» – снова аэропланы, тучи аэропланов, дирижаблей, стада дредноутов. «Борьба миров» – Лондон, лондонские поезда, автомобили, лондонские толпы, и этот выросший на асфальте типичнейший городской леший-марсианец, стальной, шарнирный, механический леший, с механической сиреной, чтобы можно было зазывать и гоготать, как подобает всякому исполняющему обязанности лешего. В «Освобожденном мире» – городской вариант сказки о разрыв-траве: но только разрыв-трава найдена не на поляне в ночь на Ивана Купалу, а в химической лаборатории, и называется внутриатомной энергией. В «Человеке-невидимке» – снова химия: сегодняшняя, городская, химическая шапка-невидимка. Даже там, где Уэллс как будто изменит себе и уведет вас из города в лес, в поля, на ферму, – даже и там все равно слышно гуденье машин и запах химических реакций. В «Первых людях на луне» – вы попадаете на уединенную ферму в Кенте, но оказывается – «в погребе стоят динамо-машины, в садовой беседке – газометр, и все надворные постройки обращены в мастерские и лаборатории». И точно так же институтом экспериментальной физиологии оказывается уединенная лесная избушка в «Пище богов». Как бы ни хотел уйти Уэллс от асфальта, – он все-таки оказывается на асфальте, среди машин, в лаборатории. Сегодняшний, химико-механический, опутанный проводами город – основа Уэллса, и на этой основе выткан он весь, со всеми причудливыми и на первый взгляд парадоксальными, противоречивыми узорами.
Мотивы городских уэллсовских сказок – в сущности те же, что и всех других сказок: вы встретите у него и шапку-невидимку, и ковер-самолет, и разрыв-траву, и скатерть-самобранку, и драконов, и великанов, и гномов, и русалок, и людоедов. Но разница между его сказками и, скажем, нашими русскими – такая же, как между психологией пошехонца и лондонца: пошехонец садится под окошко и ждет, пока шапка-невидимка и ковер-самолет явятся к нему «по щучьему веленью», лондонец на «щучье веленье» не надеется, надеется на себя – лондонец садится за чертежную доску, берет логарифмическую линейку и вычисляет ковер-самолет, лондонец идет в лабораторию, зажигает электрическую печь и изобретает разрыв-траву, пошехонец примиряется с тем, что его чудеса – за тридевять земель и в тридесятом царстве; лондонец хочет, чтобы чудеса были сегодня, сейчас же, здесь же. И потому для своих сказок он выбирает надежный путь: путь, вымощенный астрономическими, физическими, химическими формулами, путь, утрамбованный чугунными законами точных наук. Это звучит сперва очень парадоксально: точная наука и сказка, точность и фантастика. Но это так – и должно быть так. Ведь миф всегда, явно или неявно, связан с религией, а религия сегодняшнего города – это точная наука, и вот – естественная связь новейшего городского мифа, городской сказки с наукой. И я не знаю, есть ли такая крупная отрасль точных наук, которая не отразилась бы в фантастических романах Уэллса. Математика, астрономия, астрофизика, физика, химия, медицина, физиология, бактериология, механика, электротехника, авиация. Почти все сказки Уэллса построены на блестящих, неожиданнейших научных парадоксах: все мифы Уэллса – логичны, как математические уравнения. И оттого мы, сегодняшние, мы, скептики, так подчиняемся этой логической фантастике, оттого она так захватывает, оттого мы так верим ей.
Уэллс вводит читателя в атмосферу чуда, сказки – с необычным лукавством: осторожно, постепенно он ведет вас с одной логической ступеньки на другую. Переходы со ступеньки на ступеньку совсем незаметны, вы, ничего не подозревая, доверчиво переступаете, подымаетесь все выше… Вдруг – оглянулись вниз, ахнули – но уже поздно: уж поверили в то, что по заглавию казалось абсолютно невозможным, совершенно нелепым.
Возьмите наудачу любую из фантазий Уэллса, «Человек-невидимка». Какой абсурд! Как нас, людей XX века, заставить поверить в такую детскую сказку, как человек-невидимка?
Но позвольте: что такое невидимость? Невидимость – не больше как самое простое, – самое реальное явление, подчиняющееся физическим законам – законам оптики, и зависит невидимость от способности поглощать или отражать световые лучи. Кусок стекла – прозрачен; тот же кусок стекла в воде – невидим. А если истолочь стекло в порошок, – порошок будет белого цвета, порошок будет непрозрачен, будет видим очень отчетливо. Стало быть, одно и то же вещество может быть и видимым и невидимым: все зависит от состояния его поверхности. Вы скажете: да, но человек – живое вещество. Но что же из этого? В морях живут морские звезды – почти прозрачные, и некоторые морские личинки – совершенно прозрачные. Вы скажете: да, но то – какие-то личинки, а то – человек, это две вещи разные. А знаете ли вы, что теперь в медицине для учебных целей уже пользуются совершенно или частично прозрачными анатомическими препаратами человеческого тела? Я назову вам даже изобретателя этих препаратов: немец, проф. Шпальтегольц. А раз мы можем сделать прозрачной одну руку, – мы можем сделать прозрачными и две руки, а если две руки, – то и все тело. И если этой прозрачности удалось добиться на мертвом человеке, – может быть, удастся добиться и на живом? Ведь прозрачность, видимость – и живой организм – понятия, вовсе не исключающие одно другое, это мы уже видели. А следовательно… И вы уже думаете: «А что ж, пожалуй, и в самом деле»… – вы уже опутаны, вы уже прицеплены к стальному логическому паровозу, и он увлечет вас по рельсам фантастики туда, куда заблагорассудится Уэллсу.
Точно так же заставит вас Уэллс поверить в «Остров д-ра Моро» – ученого хирурга, искусными операциями превращающего зверей в людей; заставит поверить в спящего, проснувшегося через 100 лет; заставит поверить в «кэйворит» – вещество, заслоняющее от земного притяжения, и в то, что на кэйворитовом аппарате – это уже ясно – можно отлично прокатиться на луну, заставит поверить в изобретение «Гераклеофорбии», питание которой до гигантских размеров увеличивает рост человека, растений и животных; заставит поверить в возможность путешествия не только в пространстве, но и во времени; заставит поверить в войну с марсианами, в вышедшую из моря на курортный пляж сирену, в страну слепых, в новейший ускоритель, в приключения м-ра Платтнера с четвертым измерением, заставит поверить, что любая из его фантазий – вовсе не фантазия, а действительность, если не сегодняшнего, то завтрашнего дня.
Да и как, правда, в наше время – время самых невероятных, самых неправдоподобных научных чудес – как можно в наше время сказать: то или это невозможно? Тридцать лет назад смеялись бы над человеком, который бы всерьез стал говорить о том, что можно перелететь из Лондона в Париж, из Парижа в Рим, из Нью-Йорка в Австралию. Тридцать лет назад можно было только в сказке читать о том, о чем мы сегодня читаем в газетах: о беспроволочном телефоне, о том, что в Лондоне говорят в какую-то трубку, а в Нью-Йорке слышно каждое слово. Тридцать лет назад никто не поверил бы, что можно видеть через непрозрачные предметы, а сегодня любой школьник знает о рентгеновских лучах. И кто знает, может быть, еще через 30 лет – через десять – через пять – мы так же равнодушно будем смотреть на машину, отправляющуюся на луну, как теперь смотрим на аэроплан, чернеющий в небе чуть заметной точкой.
Уэллсовская фантастика – это фантастика, может быть, только для сегодня, а завтра она уже станет бытом. Мы можем сказать это с тем большим основанием, что многие из фантазий Уэллса – уже воплотились, потому что у Уэллса есть странный дар видеть будущее сквозь непрозрачную завесу нынешнего дня. Впрочем, это неверно: странного здесь не более, чем в дифференциальном уравнении, позволяющем нам заранее сказать, куда упадет выпущенный с такой-то скоростью снаряд; странного здесь не более, чем в прозорливости астронома, предсказывающего, что затмение солнца будет такого-то числа, в таком-то часу. Здесь не мистика, а логика, но только логика более дерзкая, более дальнобойная, чем обычно.
Перенесемся в старый Лондон – в Лондон лет 25 назад. Как будто недавно, но эти 25 лет – век на высоких козлах сзади – важные, в цилиндрах, с длинными бичами кучера. Цокая по камню копытами, громыхают конные омнибусы. В небе лениво помахивает крыльями галка, в небе – никаких туч, благословенное царствование Виктории, в мире все прочно осело и твердеет, твердеет, твердеет, никогда больше не будет никаких войн, революций, катастроф… И только, может быть, один Уэллс сквозь все это тихое и мирное житие уже тогда видел сегодняшний буйный, сумасшедше-стремительный день.
В ту пору, когда еще еле ползли первые автомобили, когда они существовали для того только, чтобы потешать уличных мальчишек, – Уэллс в книге «Прозрения» уже точно описывал теперешнюю быстро мчащуюся лондонскую улицу, полную такси, автобусов, моторных грузовиков, – улицу, где увидеть лошадь так же мало шансов, как на нынешней российской улице – увидеть господина в цилиндре.
И в небе – Уэллс видел совсем другое. Об аэропланах тогда мечтали только разве самые отпетые фантасты. Где-то в Америке по рельсам еще неуклюже разбегался предок теперешнего аэроплана – машина Хирама Максима. А Уэллс в романе «Спящий пробуждается» уже слышал высоко в небе жужжание аэропланов, пассажирских и боевых, уже видел бои аэропланных эскадрилий, рассеянные повсюду аэропланные пристани.
Это было в 1893 году. А в 1908 году, когда еще никому не приходило в голову всерьез говорить об европейской войне, – он в безоблачном как будто небе уже разглядел небывалые, чудовищные грозовые тучи. В этом году он написал свою «Войну в воздухе». Вот несколько строк оттуда – и сколько в них пророческого:
«Воздушные корабли носились всюду, бросая бомбы… А внизу происходили экономические катастрофы, голодающее, безработное население восставало. Целые округи и города, вследствие затруднений в транспорте съестных припасов, были переполнены голодающими. Это вызывало правительственные кризисы и осадное положение; временные правительства, советы и революционные комитеты, и все эти организации ставили своей задачей все снова вооружать и вооружать население… Деньги исчезли, запрятанные в погребах, ямах, стенах домов и всевозможных тайниках. Остались только обесцененные бумажки. Вместе с исчезновением денег – настал конец торговле и промышленности. Экономический мир зашатался и пал мертвым, как будто в жилах живого существа внезапно свернулась кровь… Все организованные правительства в мире рассыпались, как фарфоровые чашки от удара палкой. Те, кто пережил эти ужасы, были охвачены смертельной апатией. Это было всемирное разложение».
И среди всего этого грохота рухнувшей старой цивилизации – такие нам знакомые детали: воздушные бои, аэропланы, цеппелины, ночные налеты, паника, потушенные огни, изрезанное прожекторами небо, постепенное исчезновение книг, газет, вместо газет – нелепые, противоречивые слухи; и в конце – одичавшие, в холодных, темных, развалившихся домах люди, все свои силы тратящие на первобытную борьбу с голодом и холодом. Все это рассказано человеком, как будто уже пережившим наше время. В 1908 году роман был фантастическим – теперь он стал бытовым.
Образ грядущей мировой войны и связанного с ней небывалого мирового переворота, очевидно, неотступно преследовал Уэллса, потому что к этой теме он возвращается не раз. Вот чудесная его сказка «Борьба миров» – 1898 год. Если прочитать ее теперь, после мировой войны и революции – сколько знакомых голосов услышим мы из-под сказочных масок. Вот сражение с марсианами. Марсиане опередили человека в технике – и их снаряды, «ударившись о землю, разбивались и выпускали целые тучи тяжелого, черного дыма, который сначала подымался кверху густым облаком, а потом падал и медленно расползался кругом по земле. И одно прикосновение этой ползучей струи, одно вдыхание этого газа – приносило смерть всему живому».
Откуда это? Из фантастического романа, написанного 20 лет назад, или из какой-нибудь газеты 19151916 года, когда немцы впервые пустили в ход свои удушливые газы?
И снова мировая война – в романе «В дни кометы» – и предсказание, что эта война закончится коренным переворотом в человеческой психологии, закончится братским объединением людей. И опять мировая война – последняя война – в романе «Освобожденный мир». Тут в точности намечена даже комбинация воюющих держав; центральные европейские державы напали на Славянскую Федерацию, а Франция и Англия – выступили в защиту этой Федерации.
В романе «Освобожденный мир» вся самопожирающая сила старой цивилизации дана в одном сжатом концентрированном символе – атомической энергии. Это – та энергия, которая со страшной силой сковывает в одно целое атомы вещества, та энергия, которая из стальной атомической пудры делает крепчайшую сталь, та энергия, которая медленно освобождается при таинственном переходе радия в другие элементы.
Уэллсу видится, что с атомической энергией случилось то же, что с аэропланами: овладев атомической энергией, человек использовал ее не только – или, вернее, не столько – для созидательных, сколько для разрушительных целей. Во время всесветной войны, описываемой в романе «Освобожденный мир», атомические бомбы истребили целые города, страны – истребили самую старую цивилизацию. И на развалинах ее – начинает строиться новая, на новых началах.
Все дело строительства берет в свои руки Всемирный Конгресс и создает единое Всемирное Государство. Конгресс упраздняет парламентаризм в его старой форме парламентов, отдельных для каждого государства – и после краткого периода самочинной организационной работы объявляет всемирные выборы в единый мировой правительственный орган. Конгресс вводит единую для всего мира монетную единицу, вырабатывает единый всемирный язык, поднимает уровень развития отсталого земледельческого класса и самое земледелие преобразует на коллективных началах. Конгресс освобождает мир от экономического гнета и вместе с тем в полной мере «обеспечивает свободу запроса, свободу критики, свободу передвижения». Конгресс сам же постепенно сводит свою власть на нет. И водворяется свободный, безвластный строй, наступает эпоха, в фантастической уэллсовской всемирной истории именуемая «эпохой цветения»; подавляющее большинство граждан – это художники всех видов, подавляющее большинство населения занято высочайшей областью человеческой деятельности – искусством.
И наконец, в 1922 году, когда народы Европы стали понемногу залечивать жестокие раны после мировой войны, где люди – братья: один из последних его романов – «Люди как боги».
Во всех пророчествах Уэллса читатель, вероятно, уже успел нащупать еще одну черту уэллсовской фантастики – черту, неразрывно связанную с городом, этой каменной почвой, в которой все корни Уэллса. Ведь сегодняшний городской человек непременно zoon politicon – животное социальное; отсюда – почти без исключений – социальный элемент, вплетающийся во всякую из фантазий Уэллса. Какую бы сказку он ни рассказывал, как бы она на первый взгляд ни казалась далекой от социальных вопросов, – к этим вопросам читатель будет неминуемо приведен.
Ну, вот хотя бы «Первые люди на луне» – как будто уже чего дальше от земли и от всего, что творится на земле? Вы несетесь вместе с героями романа на кэйворитовом аппарате, высаживаетесь на луне, путешествуете в лунных долинах, спускаетесь в лунные пещеры… И вдруг, к изумлению, видите, что и на луне все те же наши земные социальные болезни. То же самое деление на классы господствующие и подчиненные, но рабочие здесь уже превратились в каких-то горбатых пауков, и на безработное время их просто усыпляют и складывают в лунных пещерах, как дрова, пока опять не понадобятся.
На «Машине времени» мы умчались вместе с автором на 80 ООО лет вперед – и опять вы находите там наши же два мира: подземный – мир рабочих, и надземный мир праздных людей. И тот и другой класс выродились: одни – от тяжкой работы, другие – от тяжкого безделья. И классовая борьба приобрела жестокие, звериные формы. В 80 000-м году выродившиеся потомки угнетенных классов просто – по-звериному – пожирают своих «буржуев». В уродливых образах жестокого зеркала уэллсовской фантазии – мы опять узнаем себя, наше время, последствия все тех же болезней старой европейской цивилизации.
«Спящий» проспал двести лет, проснулся – и что же? Опять все тот же, сегодняшний город, сегодняшний общественный строй, только в десятки раз глубже пропасть между белыми и черными – и рабочие, под предводительством пробудившегося «спящего», восстают против капитала. Раскрываем «Грядущее» – самый острый, самый иронический из уэллсовских гротесков – снова великолепная пародия на современную цивилизацию. И наконец, «Война в воздухе» и «Освобожденный мир» – это детальный анализ эпохи, предшествовавшей всемирной войне, эпохи, когда миллиарды тратились на дредноуты, цеппелины, пушки, эпохи, когда в подвалах дворца старой цивилизации накопились горы пироксилина, а наверху люди – как это теперь ни странно – спокойнейшим образом жили, работали, веселились – над пироксилином. С убедительностью необычайной показывает Уэллс, что мировая война – только естественный вывод из всего силлогизма старой цивилизации; громче, чем где-нибудь, в этих романах Уэллс зовет людей опомниться, пока еще не поздно, зовет их вспомнить, что они не англичане, французы, немцы, а люди, зовет их перестроить жизнь на новых принципах.
Принципы эти до сих пор не были названы. Но читатель уже несомненно услышал это еще не сказанное вслух – принципы эти, конечно, социалистические, Уэллс, конечно, социалист. Это бесспорно. Но если бы какая-нибудь партия вздумала приложить Уэллса как печать к своей программе, – это было бы то же самое, что Толстым или Розановым утверждать православие.
Я ни в каком случае не хочу сравнивать Уэллса с Толстым, масштабы их как художников – конечно совершенно неодинаковы, но все же Уэллс прежде всего – художник. А художник – более или менее крупный – творит для себя свой особенный мир, со своими особенными законами – творит по своему образу и подобию, а не по чужому. И оттого художника трудно уложить в уже созданный, семидневный, отвердевший мир: он выскочит из параграфов, он будет еретиком.
Уэллс, повторяю, прежде всего – художник, и оттого у него все свое, и оттого его социализм – это социализм свой, уэллсовский. В его автобиографии мы читаем:
«Я всегда был социалистом, но социалистом не по Марксу. Для меня социализм не есть стратегия или борьба классов, я вижу в нем план переустройства человеческой жизни с целью замены беспорядка – порядком».
Цель переустройства – ввести в жизнь начало организующее – рацио – разум. И потому особенно крупную роль в этом переустройстве Уэллс отводит классу «способных людей» и прежде всего образованным, ученым, техникам. Эту теорию он выдвигает в своих «Прозрениях». Еще более любопытную – и, надо добавить, более еретическую окраску – эта мысль приобретает в его «Новой Утопии», где руководителями новой жизни являются «самураи», где новый мир предстает нам в виде общества, построенного до известной степени на аристократических началах, руководимого духовной аристократией.
Есть еще одна особенность в уэллсовском социализме – особенность, может быть, скорее национальная, чем личная. Социализм для Уэллса, несомненно, путь к излечению рака, въевшегося в организм старого мира. Но медицина знает два пути для борьбы с этой болезнью: один путь – это нож, хирургия, другой путь – более медленный – терапия. Уэллс предпочитает этот последний путь. Вот опять несколько строк из его автобиографии:
«Мы, англичане, парадоксальный народ, – одновременно и прогрессивны, и страшно консервативны, мы вечно изменяемся, но без всякого драматизма, никогда мы не знали внезапных переворотов… Чтобы мы что-нибудь „свергли“, „опрокинули“, „уничтожили“, чтобы мы начали все „сызнова“, как это бывало почти с каждой европейской нацией, – никогда!»
Знамя Уэллса окрашено не кровью. Человеческая кровь, человеческая жизнь – для Уэллса – неприкосновенная ценность, потому что он прежде всего гуманист. Именно поэтому умеет он находить такие убеждающие, острые слова, когда говорит о классах, брошенных в безысходный труд и нужду, когда говорит о ненависти человека к человеку, об убийстве человека человеком, когда говорит о войне и смертной казни. По Уэллсу виновных – нет, злой воли – нет: есть злая жизнь. Можно жалеть людей, можно презирать их, нужно любить их, – но ненавидеть нельзя.
Выпуклей, чем где-нибудь, эта мысль запечатлелась в его романе «В дни кометы». Герой романа – молодой рабочий-социалист, с мышлением примитивным: он убежден (я цитирую) «в жестокосердном бесчувственном заговоре – заговоре против бедняков». Он полон первобытной ненависти, он думает прежде всего о мести злонамеренным заговорщикам. И дальше гуманист Уэллс заставляет своего героя признаться: «Жалкой, глупой, свирепой нелепостью покажутся вам понятия моей юности, особенно в том случае, если вы принадлежите к поколению, родившемуся после переворота». Самый переворот этот, совершившийся под чудесным влиянием «зеленого газа» столкнувшейся с землей кометы, – самый переворот этот состоит в том, что люди органически потеряли способность ненавидеть, убивать, органически неизбежно пришли к любви. Такого же идиллического типа переход от «Века смятения» к счастливой утопии в романе «Люди как боги».
И тот же гуманизм в романе «Война в воздухе», стоит только вместе с автором – глазами автора – увидеть хотя бы сцену казни одного из матросов воздушного немецкого флота. И то же самое в «Острове д-ра Моро»: там д-р Моро становится жертвой своих слишком жестоких опытов. И то же самое в «Невидимке»: этому гениальному утописту Уэллс не может простить человекоубийство. И то же самое в «Машине времени», в этой жестокой карикатуре, какую Уэллс дал в образе своих людоедов-морлоков.
Вот что открывается нам, когда мы войдем внутрь этих причудливых зданий – сказок Уэллса. Там рядом математика и миф, физика и фантастика, чертеж и чудо, пародия и пророчество, сказка и социализм. Если из заоблачных башен мы спустимся в нижние этажи, если от фантастических романов Уэллса мы перейдем к его реалистическим романам – к среднему периоду его творчества, – этих странных сочетаний мы здесь уже не увидим: здесь Уэллс весь на земле, весь в прочном мире трех измерений. И только в последних романах, написанных в те дни, когда в вихре войн и революций закружился мир трех измерений, – Уэллс вновь отделился от земли, от реальности, и в этих романах мы вновь встретим сплавы идей, на первый взгляд самые неожиданные и странные.
II
Когда я лет двенадцать назад впервые увидел полет аэроплана и аппарат опустился на луг, когда летающий человек вылез из своих полотняных крыльев и сбросил странную стеклянноглазую маску, – я, помню, был как-то разочарован: летающий человек – бритый, толстенький, краснолицый – оказался точь-в-точь такой же, как мы все; носового платка он не мог достать – руки закоченели, – вытер нос пальцем. И такое чувство – что-то вроде разочарования – непременно будет у читателя, когда после фантастики Уэллса он раскроет его реалистические романы. «Как, это тоже – Уэллс?» Да, тоже Уэллс, но только не на аэроплане, а пешком. Летающий человек – на земле оказался не так уж резко отличающимся от других английских романистов. И если раньше по двум страницам, не читая подписи, можно было сказать: это – Уэллс, то теперь уже нужно взглянуть на подпись. Если раньше в области научно-фантастического, социально-фантастического романа – Уэллс был один, то теперь он стал «один из». Правда, один из больших, самых содержательных и интересных английских писателей, но все же только «один из».
Причина несомненно в том, что Уэллс, как и большинство его английских товарищей по перу, значительно большее внимание обращает на фабулу, чем на язык, стиль, слово – на все то, что мы привыкли ценить в новейших русских писателях. Своего, уэллсовского, языка, своего, уэллсовского, письма он не создал, да и некогда было: надо было успеть написать те 40 томов, которые он написал. Свое, оригинальное, исключительное у Уэллса было в фабуле его фантастических романов; и как только он слез с аэроплана, как только он взялся за более обычные фабулы, – часть оригинальности он утерял.
Стремительный, аэропланный лет сюжета в фантастических романах Уэллса, где все свистит мимо глаз и ушей – лица, события, мысли, – этот стремительный лет делает для читателя просто физически невозможным вглядеться в детали, в стиль автора. Но медленный неспешный ход бытового романа позволяет временами присесть, взглянуть на лицо рассказчика, на его костюм, жесты, улыбку. Как будто что-то знакомое. Но что? Еще один внимательный взгляд – и станет ясно: Диккенс – Чарльз Диккенс – вот славный предок Уэллса. Та же самая медлительная для сегодняшнего читателя, подчас слишком медлительная, речь; те же сложные, кружевные, готические периоды; та же манера давать полную законченную проекцию героя во всех измерениях, часто с самого появления его на свет; тот же способ – повторяя один какой-нибудь резкий штрих, врезать внешность действующего лица в память читателя; и наконец, как у Диккенса, – постоянная улыбка. Но у Диккенса – это ласковый юмор, это – улыбка человека, который любит людей все равно, какие бы они ни были, любит их даже черненькими. У Уэллса не то: он любит человека и одновременно ненавидит его – за то, что не человек, карикатура на человека – обыватель, мещанин. Уэллс любит острой, ненавидящей любовью, и потому его улыбка – улыбка иронии, и потому его перо часто обращается в кнут, и рубцы этого кнута остаются надолго.
Даже в самых его невинно-забавных и остроумных сказках, написанных как будто для 12-летнего читателя, даже там более внимательный глаз увидит все ту же ненавидящую любовь. Вот «Пища богов»: от чудесной пищи цыплята – величиной с лошадь, крапива – как пальмы, крысы – страшнее тигров и, наконец, гиганты с колокольню – люди. Вы читаете о принце, который стоит внизу, сквозь монокль с ужасом поглядывает на великаншу-невесту и боится взять ее замуж, «чтобы не попасть в смешное положение»; это смешно. Вы читаете о крошечном полицейском, который пытается арестовать гиганта и хватает его там, внизу, за ногу; и это тоже смешно. Вы читаете о десятках смешных столкновений гигантов с пигмеями, и прожектор уэллсовской иронии все яснее вырезает жалкую фигуру – пигмея-обывателя, который хватается за привычную, удобную жизнь в страхе перед грядущим, мощным гигантом Человеком – и становится уже не только смешным. Вот «Борьба миров»: мировая катастрофа, все рухнуло, все гибнет, и вы среди грохота вдруг слышите голос благочестивого священника: «Ах, погибли все наши воскресные школы!» Вот великолепный гротеск «Грядущее»: вы бродите по улицам Лондона XXII столетия, и перед глазами у вас мелькает изобретенная все той же злой любовью автора реклама на фронтонах церквей: «Быстрейшее в Лондоне обращение на путь истинный! Лучшие епископы, цены твердые! Остерегайтесь подделок! Моментальное отпущение грехов для занятых людей!»
Еще яснее эта ироническая основа в ткани каждого из реалистических романов Уэллса. Великосветские дамы, основной субстанцией которых являются корсетные кости; свирепо-нравственные старые девы; деревянноголовые школьные учителя; епископы, которые уволили бы от должности Христа за то, что он плохо одет и говорит неподобающие князю церкви слова, биржевик, искренне уверенный, что именно Господь Бог внушил ему купить тихоокеанские акции… Вероятно, Англии жутко смотреть в это жестокое зеркало злой любви. И кажется, нигде так не сверкает лезвие Уэллса, как в «Тоно-Бангэ», едва ли не лучшем из реалистических его романов. «Мне случалось встречаться не только с титулованными, но даже с высокими особами. Однажды – это самое светлое из моих воспоминаний – я даже опрокинул бокал с шампанским на панталоны первого государственного человека в империи…» Это мы читаем на первой странице романа, и дальше до самого конца всюду змеится ирония, на каждой странице, в каждом приключении незабвенного м-ра Пондерво, гения рекламы и шарлатанства.
Мир знает Уэллса-авиатора, Уэллса – автора фантастических романов; эти его романы переведены на все европейские языки, переведены даже на арабский и китайский. И вероятно, лишь немногим в широких читательских кругах известно, что Уэллс-фантаст – это ровно половина Уэллса; у него 14 фантастических романов и 15 реалистических. Фантастические: «Машина времени», «Чудесный гость», «Остров д-ра Моро», «Невидимка», «Борьба миров», «Спящий просыпается», «Грядущее», «Первые люди на луне», «Морская дева», «Пища богов», «В дни кометы», «Война в воздухе», «Освобожденный мир», «Люди как боги»; реалистические: «Колесо фортуны», «Любовь и мистер Льюишэм», «Киппс», «История мистера Полли», «Новый Макиавелли», «Анна-Вероника», «Тоно-Бангэ», «Брак», «Бэбли», «Страстная дружба», «Жена сэра Айсека Хармана», «Великие искания», «Мистер Бритлинг», «Джоана и Питер» и «Тайники сердца». И особняком стоят два его романа: «Душа епископа» и «Неугасимый огонь», открывающие какой-то новый путь в творчестве Уэллса[8].
Если у читателя хватит времени прочитать все 15 реалистических романов Уэллса, если у него хватит времени пройти через эту длинную анфиладу густо заселенных людьми зданий, то в первых из них он встретит самого м-ра Уэллса. Не отвлеченно, не потому, что всякий эпос в той или иной мере лиричен, а потому, что в первых романах читатель найдет часть автобиографии Уэллса. В молодости жизнь дала Уэллсу слишком много и слишком ощутительных пинков, чтобы он мог забыть их. Посыльный мальчик в галантерейном магазине, затем приказчик за прилавком, в бессонные ночи пополняющий скромный багаж грамотности, вынесенный из начальной школы; дальше студент педагогической академии и школьный учитель в английском захолустье… Все эти крепкие, трудные, тяжелые годы жизни Уэллса, полные упрямой работы над собой, борьбы с нуждой, увлечений, широких планов и разочарований, все эти годы отпечатались в трех первых бытовых романах Уэллса: «Колесо фортуны», «Любовь и мистер Льюишэм» и «Киппс».
В «Колесе фортуны» приказчик магазина суконных товаров Гэпдрайзер – это конечно Уэллс; и Уэллс – приказчик Киппс из романа «Киппс»; и Уэллс – студент педагогической академии Льюишэм из романа «Любовь и мистер Льюишэм». Все это – такие же автобиографические документы, как «Детство» и «В людях» Горького, как «Детство и отрочество» Толстого.
С конца 90-х годов, после «Машины времени» и «Борьбы миров», приказчик Уэллс и школьный учитель Уэллс – стали сразу популярными писателями. Колесо фортуны повернулось к нему на 180°, и о последствиях этого переворота он так пишет в своей автобиографии:
«Пускай хоть немного посчастливится твоей книге, – и в Англии тотчас же ты превращаешься в человека достаточного, вдруг получаешь возможность ехать куда хочешь, встречаться с кем хочешь. Вырываешься из тесного круга, в котором вертелся до сих пор, и вдруг начинаешь сходиться и общаться с огромным количеством людей. Философы и ученые, солдаты и политические деятели, художники и всякого рода специалисты, богатые и знатные люди – к ним ко всем у тебя дорога, и ты пользуешься ими, как вздумаешь!»
Уэллс вырвался из тесного круга, поле его наблюдений чрезвычайно расширилось, и это тотчас же отразилось в зеркале бытовых его романов: личный, автобиографический элемент из них исчез, и через них проходят толпы людей самого различного общественного положения – философы и ученые, солдаты и политические деятели, художники, богатые и знатные люди. Впрочем, прошлого своего Уэллс не забыл и теперь часто поднимается в верхние, ярко освещенные и комфортабельные этажи только для того, чтобы обитающих там, наверху, счастливых и беспечных людей увести вниз, в подвалы, к голодным и нищим («Жена сэра Айсека Хармана», «Душа епископа»).
Бытовые романы Уэллса становятся социологической обсерваторией, и его перо, как перо сейсмографа, систематически записывает все движения социальной почвы в Англии начала XX века. В начале 900-х годов эта почва на островах Джона Булля еще чрезвычайно прочна, устойчива, и записи уэллсовского сейсмографа дают соответственно кривые очень местного, небольшого размаха: проблема семьи и брака, школьного воспитания, суфражистский вопрос («Брак», «Страстная дружба», «Жена сэра Айсека Хармана»). Более общие, коренные социальные вопросы пока еще дремлют в статическом состоянии где-то глубоко под поверхностью и так же статически отражаются в романах Уэллса. Но понемногу все слышнее становятся подземные гулы, в незыблемой почве – расселины вглубь до самой сердцевины, и сквозь них красная, огненная лава небывалых войн и небывалых революций. И, начиная с «Мистера Бритлинга», это мировое землетрясение становится единственной темой романов Уэллса. Так, постепенно, из автобиографических – бытовые романы Уэллса становятся летописью жизни современной нам Англии.
Если мы теперь на минуту отойдем в сторону и на реалистические романы Уэллса взглянем издали, так чтобы глаз улавливал только основное, не отвлекаясь деталями, то отсюда, издали, нам станет ясно: архитектор, построивший шестиэтажные каменные громады бытовых романов, – один и тот же Уэллс. Как и в фантастике Уэллса, в реалистических его вещах все тот же самый непрекращающийся штурм старой европейской цивилизации, все те же красные рефлексы своеобразного, уэллсовского, социализма, все тот же гуманизм, все то же его «обвинять никого нельзя», о чем говорилось раньше, и все тот же бензиновый, асфальтовый, мелькающий рекламами город.
И вдруг, на асфальтовом тротуаре, среди бензиновых фимиамов, красных знамен, патентованных средств и людей в котелках, вы встречаете… Бога. Социалист, математик, химик, шофер, аэропланный пилот – вдруг заговаривает о Боге. После научной фантастики, после реальнейшей реальности – вдруг трактат: «God the invisible King» – «Бог – Невидимый Король», роман «Душа епископа» – о религиозном перевороте в душе англиканского священника; роман «Неугасимый огонь» – в сущности не роман, а спор о Боге, роман «Джоана и Питер», герой которого ведет диалоги с Богом.
В первую минуту это поражает, это кажется невероятным. Но после, приглядевшись, опять узнаешь все того же Уэллса, вечного авиатора. Этот, как будто неожиданный, поворот Уэллса к темам о Боге произошел недавно, в наши последние дни – годы, с началом мировой войны, с началом европейских революций, и это объясняет все. Случилось только то, что вся жизнь сорвалась с якоря реальности и стала фантастической; случилось только то, что осуществились фантастичнейшие из прозрений Уэллса, его научная фантастика свалилась сверху на землю. И естественно, неугомонному фантасту пришлось искать нового фантастического материала, лететь куда-то еще выше, еще дальше, на самое верхнее небо – и там, вдали, ему видится туманный образ Бога. Нелепая как будто война, неоправданная как будто гибель миллионов людей перед многими поставила мучительный вопрос: зачем? за что? не есть ли вся жизнь просто бессмысленный хаос? И от этого вопроса, конечно, не мог уйти и Уэллс.
Разрешает его он, как и надо было ожидать, отрицательно: нет, жизнь не бессмысленна; нет, в жизни все же есть смысл и цель. И оказывается, еще очень давно, 1902 году, в своих «Прозрениях» он писал: «Можно или признать, что вселенная едина и сохраняет известный порядок в силу какого-то особого, присущего ей качества, или же можно считать ее случайным агрегатом, не связанным никаким внутренним единством. Вся наука и большинство современных религиозных систем исходят из первой предпосылки, а признавать эту предпосылку для всякого, кто не настолько труслив, чтобы прятаться за софизмы, признавать эту предпосылку – и значит верить в Бога…»
Так Уэллс строит храм своему Богу – и рядом, на том же фундаменте, воздвигает свои научные лаборатории, свои социалистические фаланстеры. И вот такой, как будто неожиданный, такой, как будто непонятный, поворот Уэллса к религиозным темам – становится понятным: у Уэллса это, конечно, результат оземления, материализация его прежней фантастики, а не «богоискательство» в обычном смысле этого слова.
Первый из упомянутых романов Уэллса о Боге – это «Душа епископа». В написанном для одного издательства предисловии к переводу своих сочинений Уэллс называет этот роман «ироническим отражением перемен, происшедших в англиканской церкви под напором времени». Но именно иронии-то здесь меньше, чем где-нибудь у Уэллса, и чувствуется, что автор еще раз для себя решает вопрос: годится ли ему английский, достаточно чопорный и лицемерный Бог? Наполовину реальное, наполовину фантастическое содержание романа очень ясно отвечает на этот вопрос. Перед читателем – достопочтенный епископ, богатый, счастливый в семейной жизни, делающий великолепную карьеру. Как будто все хорошо, как будто нечего больше желать. Но у епископа заводится что-то в душе – маленькое, незаметное, как соринка в глазу. И соринка не дает покоя ни днем ни ночью, соринка вырастает в мучительный вопрос: да есть ли тот Бог, которому служит епископ? и есть ли этот Бог тот самый Христос, какой заповедал все отдать неимущим? Епископ пробует лечиться у одного, другого психиатра и, наконец, попадает к молодому врачу, одному из излюбленных Уэллсом дерзких научных революционеров. Этот начинает лечить епископа совсем по-иному, чем все: он не тушит, а, наоборот, раздувает пламя в душе епископа; он снабжает епископа чудесным эликсиром, который подымает его дух до состояния какого-то экстаза, уводит его из нашего трехмерного мира в мир высших измерений, и епископ своими глазами видит Бога и беседует с ним один раз, другой и третий. Этот Бог совсем не тот, которому до сих пор служил епископ, и епископ уходит от старого Бога, уходит от богатства, уходит от семьи. Епископ становится в ряды религиозных и социальных еретиков.
Второй роман Уэллса о Боге – это «Неугасимый огонь». Роман открывается грандиозной, слегка гротескной картиной:
«Два вечных существа в великолепных ореолах, одно – в ослепительном белом одеянии, другое – в сумасшедшей пестроте красок, ведут беседу; обстановка – невообразимые громады. Громады эти, по традиции, похожи на дворец, но в них теперь уже замечается явный космический элемент. Они не расположены в каком-нибудь определенном месте; они – за пределами материальной вселенной. И сцена производит такое впечатление, как если бы прежние прерафаэлистические декорации перерисовал футурист, основательно знакомый с новейшей физико-химической философией и вдохновленный неким религиозным замыслом».
Огромные колонны, кривые и спирали. Солнце и планеты мелькают, сверкают сквозь златоискрящиеся глубины пола из кристаллического эфира. Огромные, крылатые тени, выкованные из звезд, планет, свитков закона, пламенеющих мечей, – непрестанно поют «свят, свят, свят». Один из собеседников, конечно, Бог, о котором – добавляет Уэллс – не без основания хочется сказать, что ему необычно скучно глядеть, как все, что ни случается, уже непременно известно ему. И Бог с живейшим интересом слушает, что говорит другой участник диалога – сатана.
После одного непочтительного замечания сатаны архангел Михаил хочет поразить сатану мечом. Но Бог останавливает ретивого архангела:
– А что же мы-то будем делать без сатаны?
– Да, – говорит сатана, – без меня пространство и время замерзли бы в некое хрустальное совершенство. Это я волную воды. Это я волную вас. Я – дух жизни. Без меня человек до сих пор был бы все тем же никчемным садовником и попусту ухаживал бы за райским садом, который все равно не может расти иначе как правильно… Только представить себе: совершенные цветы! совершенные фрукты! совершенные звери! Боже мой! До чего бы это все надоело человеку! До чего надоело бы! А вместо этого разве я не толкнул его на самые удивительные приключения? Это я дал ему историю…
И все же сатана находит, что человек глуп и слаб. Сделал ли он хоть сколько-нибудь заметный шаг вперед за эти 10 000 лет? Люди все так же без конца, бесцельно истребляют друг друга. И скоро конец: скоро все человеческое обиталище охладится, замерзнет – конец.
– Конец в том, – возражает Бог, – что человек будет властвовать над миром. В человеке – Мой дух.
Сатана предлагает Богу кончить их вечную шахматную игру: игра становится слишком жестока, все человечество сейчас – это Иов, и не будет ли самым милосердным сразу убить всех?
Между высокими собеседниками завязывается спор об Иове: кто выиграл тогда, во времена Иова, и кто проиграл? Бог утверждает, что тогда выиграл Он, Бог, потому что, невзирая на все несчастья, – неугасимый, неумирающий огонь все же остался в человеке.
И вот Бог разрешает сатане еще раз повторить опыт с Иовом. Этот новый, сегодняшний Иов – английский школьный учитель м-р Хасс. Одно за другим на него обрушивается целый ряд несчастий: он получил известие, что его единственный сын, летчик, погиб на французском фронте; после пожара м-р Хасс разорился, рухнуло его любимое дело – школа, и наконец он заболел раком. Сегодня, может быть, последний день м-ра Хасса: сегодня ему сделают операцию. Перед операцией к нему приехали три джентльмена: один из его бывших сотоварищей по школьной работе и два капиталиста, вложившие свой капитал в школу, – приехали, чтобы уговорить его отказаться от управления школой. И вот дальше, на протяжении 200 страниц – двухчасовой спор о религии, о Боге между этими джентльменами, при участии врача, который лечил м-ра Хасса. У каждого из участников спора – уже своя, готовая религиозная концепция; у одного – портативный, карманный обывательский Бог, отнюдь не мешающий даже и в страшные дни войны жить комфортабельно и делать дела; другой – верующий адепт спиритизма, третий из спорящих – доктор, последовательный материалист, – у него нет никакого Бога; и наконец – четвертый – новый Иов, м-р Хасс, явно излагает теорию самого Уэллса. В прежнюю формулу Уэллса «мир целесообразен – следовательно, есть управляющий миром высший разум», для которого Уэллс берет термин «Бог», – в эту формулу жестокая бессмыслица войны внесла поправку. Сейчас человеческая жизнь, полная жестокостей, болезней, несчастий, нищеты, – сейчас она нелепа, неразумна, нецелесообразна; но человек в силах все это победить, он победит, он победит непременно, он построит прекрасную жизнь на земле – и больше, он разобьет хрустальную тюрьму нашей планеты в пространстве и с земли шагнет в невидимые дали вселенной. А раз так, раз это будет неизбежно, то есть сила, толкающая человека на этот путь, и для этой силы Уэллс пользуется прежним термином «Бог». Этот путь человека начертан вовсе не каким-нибудь слепым стихийным процессом, – нет: стихии сами по себе неразумны, мир и человек, предоставленные стихиям, идут к закату, к ущербу. Нет – это высший организующий разум и это его неугасимый огонь горит в человеке. Так говорит новый Иов, измученный несчастьями, в свой предсмертный час. И его вера в мощь человека – ergo[9]в Бога – вознаграждена: операция кончилась удачно, получена телеграмма, что сын м-ра Хасса не погиб, а в плену у немцев. В великой шахматной игре сатана еще раз проиграл.
Отголосок все того же грандиозного извечного спора между сатаной и Богом слышен и в последнем романе Уэллса «Джоана и Питер». Но только здесь вся колоссальная, космическая шахматная доска помещается внутри микрокосма – человека. Этот человек – Питер, английский летчик во время последней войны. И уже не сатана, как в предыдущем романе, а Питер выступает в парике и мантии обвинителя в этой тяжбе человечества с Богом. Весь израненный, изуродованный после боя с немецким авиатором, Питер в бреду бросает Богу упрек:
– Отчего ты не проявляешь себя? В мире так много зла… Эта ужасная трата жизней на войне… Как ты можешь переносить всю эту жестокость и грязь?
– А что? Это вам, людям, не нравится?
– Нет.
– Тогда измените все это. – И дальше современный Бог излагает новую, современную главу теологии. – Я вовсе не самодержавный злой тиран, как некоторые из вас думают; если бы это было так, я бы уже давно тебя первого пристукнул громом. Нет, я управляю на демократических началах и предоставляю вам самим работать за себя. Я вам не мешаю. Отчего вы, например, не уничтожаете своих королей? Вы можете. Люди могут, но они недостаточно хотят.
И Питеру становится все более ясным, что «великий древний экспериментатор» прав и мудр: зло так же целесообразно в космическом организме, как боль в организме человека; это – предупреждение, что надо поторопиться лечить болезнь.
Пусть для одних этот «экспериментатор» такая же личность, как сам Питер, пусть для других он еще более абстрактная идея, чем квадратный корень из -1. Важно одно: научить людей всеобщему братству. Не смешно ли биться насмерть из-за вопроса о том, как именно произносить слово «братство»?
Так из этого последнего романа Уэллса мы узнаем еще одно слагаемое в уэллсовской формуле Бога. И если мы проинтегрируем эту формулу – станет совершенно ясно, что и в своих религиозных построениях Уэллс остался все тем же Уэллсом. Станет ясно конечно же, его Бог – это лондонский Бог, и конечно, лучшие фимиамы для его Бога – это запах химических реакций и бензина из аэропланного мотора. Потому что всемогущество этого Бога – во всемогуществе человека, человеческого разума, человеческой науки. Потому что это не восточный Бог, в руках которого человек – только послушное орудие: это Бог западный, требующий от человека прежде всего активности, работы. Этот Бог знаком с английской конституцией, он не управляет, а только царствует. И хоругви этого современного Бога, конечно, не золотые и не серебряные, а красные, этот Бог – социалист.
Циркульная окружность ограниченного землей социализма и уходящая в туманную бесконечность гипербола религии – такое разное, такое несовместимое. Но Уэллс пытается разорвать окружность, разогнуть ее в гиперболу, один конец которой упирается в землю, в науку, в позитивизм, а другой теряется в облаках. Это искусство – невредимым проходить сквозь самые тесные парадоксы – нам уже знакомо, мы видели его в сказках Уэллса, где он сумел сплавить в одно фантастику и науку.
Один из последних бытовых романов Уэллса – «Джоана и Питер» – самый сегодняшний из всех его романов. Там есть Англия – накануне и во время войны, там есть эхо вчерашней и сегодняшней России. И наконец, в этом романе есть остроумные, большой художественной ценности страницы, написанные каким-то обновленным и помолодевшим Уэллсом. Вот, например, несколько строк из начала романа, где рассказывается детство Питера, о первых его впечатлениях от вселенной:
«Теория идеалов играла в философии Питера почти такую же роль, как в философии Платона. Но только Питер называл их не „идеалы“, а „игрушки“. Игрушки – это упрощенная квинтэссенция вещей, чистая, совершенная и управляемая. Реальные вещи неудобны, чересчур сложны, неподатливы. Ну хотя бы реальный поезд: это – жалкая, огромная, неуклюжая, ограниченная вещь, которая должна непременно ехать либо в Кройдон, либо в Лондон. А игрушечный поезд доставит вас куда угодно: в страну чудес, в Россию, вообще куда захочется. Там есть, например, великолепная мягкая кукла, по имени „Полисмен“, с сияющим красным носом и вечной улыбкой. Вы можете взять Полисмена, треснуть им по голове Джоану, подругу детства, – и ничего. Насколько неудобней настоящий, живой полисмен: попробуйте-ка схватить его за ногу и запустить в угол, – пожалуй, уж не будет улыбаться, как игрушечный, а начнет ворчать или даже что похуже».
И дальше – живет перед вами весь оригинальный детский мир Питера, где вещи – одушевленные существа, а люди – это вещи. Удобный и питательный предмет – нянька Мери, и рядом «медноглазое чудище с тройным брюхом, по имени Комод, которое не спускает с вас глаз и всю ночь скрипит по комнате». Неудобная, слишком громкая, раздражающая вещь, по имени «Дадди» – «отец» и рядом живой, фарфоровый мопс Нобби, защитник от комодов отцов – и вообще от всего страшного.
Незаметно от идеального, игрушечного мира Питер переходит в реальный мир, попадает в одну школу, другую, третью, в Кембриджский университет. И наконец, последняя ступень воспитания Питера и Джоаны – это война, которая научила их самому главному, самому глубокому. «История воспитания двух душ» – такой подзаголовок дал Уэллс всему этому роману.
Незадолго до войны Уэллс был в России, и, ясно, именно тогдашние свои впечатления он описывает на тех страницах книги, где рассказывается о путешествии в Россию Питера и его опекуна Освальда.
Вот какою увидел Уэллс Москву: «Красные стены Кремля; варварская карикатура Василия Блаженного; грязный странник с котелком в Успенском соборе; длиннобородые священники; татары-официанты в ресторанах; публика в меховых шубах – так нелепо богатая на английский взгляд». Затем – поразительная панорама Москвы с Воробьевых гор, синева снега, цветные пятна крыш, золотое мерцанье бесчисленных крестов. И отсюда, сверху, глядя на Москву, Освальд – или, вернее, Уэллс – говорит:
– Этот город – не то, что города Европы: это – нечто свое, особенное. Это – татарский лагерь, замерзший лагерь. Лагерь из дерева, кирпича и штукатурки…
– Тут лучше начинаешь понимать Достоевского. Начинаешь представлять себе эту «Святую Русь» как род эпилептического гения среди наций – нечто вроде «Идиота» Достоевского – гения, настаивающего на моральной правде, подымающего крест над всем человечеством…
Да, Азия идет на Европу с новой идеей… У них, русских, есть христианская идея в том виде, в каком у нас, в Европе, ее нет. Христианство для России – обозначает братство. И этот город с его бесчисленными крестами – в гармонии с русской музыкой, искусством, литературой…
Холодный, застегнутый Петербург англичанину, конечно, показался гораздо больше похожим на Европу, на Англию. Ничего татарского, ни азиатского англичанин здесь уже не увидел, пока не попал… в русский парламент, в Государственную Думу.
Последние главы тоже связаны с Россией: в России – уже пожар, и искры от него долетают в Англию, Англия уже прошла жестокую школу войны; побывавшие в этой школе – и Питер в том числе – поняли, что по-старому жить нельзя. Старое нужно разрушить, чтобы на его месте построить мировое государство, Союз Свободных Наций. Главное теперь – работать, работать, не щадя своих сил. «Мы должны жить теперь, как фанатики, – этот наш шатающийся мир не возродится. Он будет разваливаться все больше – и рухнет. И тогда раса большевистских мужиков будет разводить свиней среди руин».
Так суммирует Уэллс мнение английского интеллигента (надо добавить – радикально настроенного) о сегодняшней России. Нечего и говорить о джентльменах и леди, которые не спят ночей из-за страшных «болос», как сокращенно называют в Англии большевиков. Эта часть общества представлена в карикатурной фигуре леди Сайдэнгэм.
Свои личные взгляды на коммунистическую Россию, свои впечатления от недавнего пребывания в ней – Уэллс изложил в ряде статей в газете «Сандей Экспресс» и изданных затем отдельной книгой под заглавием «Россия в тени». Статьи эти дают обширный – часто, впрочем, легковесный, из окна вагона – материал, но он уже не укладывается в объем настоящей задачи – показать Уэллса-художника. Я приведу оттуда только одну фразу, которая, мне кажется, может быть взята эпиграфом ко всем этим статьям: «Я не верю, – говорит Уэллс, – в веру коммунистов, мне смешон их Маркс, но я уважаю и ценю их дух, я понимаю его».
И тот Уэллс, портрет которого дан на этих страницах, не мог иначе сказать. Еретик, которому нестерпима всякая оседлость, всякий катехизис, – не мог иначе сказать о катехизисе марксизма, неугомонный авиатор, которому ненавистней всего старая, обросшая мхом традиций земля, не мог иначе сказать о попытке оторваться от этой старой земли.
Аэроплан – в этом слове, как в фокусе, для меня вся современность, и в этом же слове – весь Уэллс, современнейший из современных писателей. Человечество отделилось от земли и с замиранием сердца поднялось на воздух. С аэропланной головокружительной высоты открываются необъятные дали, одним взглядом охватываются целые нации, страны, весь этот засохший кусочек грязи – земля. Аэроплан мчится – скрываются из глаз царства, цари, законы и веры. Еще выше – и вдали сверкают купола какого-то удивительного завтра.
Этот новый кругозор, эти новые глаза авиатора – у многих из нас, кто пережил последние годы. И эти глаза уже давно у Уэллса. Отсюда у него эти прозрения будущего, эти огромные горизонты пространства и времени.
Аэропланы – летающая сталь – это конечно парадокс, и такие же парадоксы везде у Уэллса. Но парадоксальный как будто – аэроплан весь, до последнего винтика, насквозь логичен: и так же весь, до последнего винтика, логичен Уэллс. Аэроплан, конечно, чудо, математически рассчитанное и питающееся бензином, и точно такие чудеса у Уэллса. Аэроплан, дерзающий на то, что раньше дозволено было только ангелам, – это конечно символ творящейся в человечестве революции, и об этой революции все время пишет Уэллс. Ничего более городского, более сегодняшнего, более современного, чем аэроплан – я не знаю, и я не знаю английского писателя – более сегодняшнего, более современного, чем Уэллс.
Генеалогическое дерево Уэллса
Для аристократии феодальной и для аристократии духа – гениев и талантов – основы «знатности» полярно противоположны.
Слава аристократа феодального в том, чтобы быть звеном в цепи предков как можно более длинной; слава аристократа духа в том, чтобы не иметь предков – или иметь их как можно меньше. Если художник – сам себе предок, если он имеет только потомков, – входит в историю гением; если предков у него мало или родство с ними отдаленное, – он входит в историю как талант. И очень метко Уэллс в автобиографии замечает: «Писательство – это одна из нынешних форм авантюризма. Искатели приключений прошлых веков – теперь стали бы писателями». История литературы – как история всякого искусства и науки – это история открытий и изобретений, история Колумбов и Васко да Гам, история Гуттенбергов и Стефенсонов. Гениев, открывающих неведомые дотоле или забытые страны (атланты, быть может, знали Америку), – история знает немного; талантов, совершенствующих или значительно видоизменяющих формы, – больше. И к числу последних несомненно следует отнести Уэллса.
Но какого Уэллса? Уэллсов – два: один – обитатель нашего трехмерного мира, автор бытовых романов, другой – обитатель мира четырех измерений, путешественник во времени, автор научно-фантастических и социально-фантастических сказок.
Первый Уэллс – новых земель не открыл, у этого Уэллса много знатной родни. Второй Уэллс – с предками связан очень отдаленными родственными узами, и он почти один создал новый литературный жанр. И конечно, не будь второго Уэллса, – первый в астрономическом каталоге литературы не попал бы в число звезд очень ярких.
Есть две основных линии в английской литературе. Одна воплощает англичанина у себя дома, на Островах Соединенного Королевства, другая – неутомимого мореплавателя, искателя новых земель, мечтателя и авантюриста (авантюрист – непременно мечтатель). И два Уэллса – реалист и фантаст – отражают в себе эти две основных линии.
Первая линия в Диккенсе достигла вершины, еще не превзойденной. И первый Уэллс, трезвый реалист, скептик, иногда добродушно, иногда зло насмешливый – определенно ведет свой род именно от Диккенса. Тут – прямая, кровная степень родства, о ней подробнее говорилось выше. И тут Уэллс – только одна из ветвей от мощного ствола Диккенса, другие ветви, идущие отсюда же: Элиот, Мередит, Гарди, Шоу, Гиссинг, Бе-нет, Голсуорси.
Уэллс – автор социально-фантастических и научно-фантастических романов – со второй линией связан родством гораздо более сложным и тонким и гораздо более отдаленным: тут у него – нет прямых предков и, вероятно, будет много потомков.
Социально-фантастические романы Уэллса. Первое литературное определение, какое приходит в голову и какое часто приходилось слышать: утопии – социальные утопии Уэллса. И тогда, естественно, за Уэллсом встал бы длинный ряд теней, начиная с «Утопии» Томаса Мора, через «Город Солнца» Кампанеллы, «Икарию» Кабе – до «Вестей ниоткуда» Уильяма Морриса. Но эта генеалогия была бы неверна потому что социально-фантастические романы Уэллса – не утопии, Единственная его утопия – это его последний роман – «Люди как боги».
Еще два родовых и неизменных признака утопии. Один – в содержании авторы утопий дают в них кажущееся им идеальным строение общества или, если это перевести на язык математический, утопия имеет знак +. Другой признак, органически вытекающий из содержания, – в форме утопия всегда статична, утопия – всегда описание, и она не содержит или почти не содержит в себе – сюжетной динамики.
В социально-фантастических романах Уэллса этих признаков мы почти нигде не найдем. Прежде всего в огромном большинстве случаев его социальная фантастика, со знаком –, а не +. Своими социально-фантастическими романами он пользуется почти исключительно для того, чтобы вскрыть дефекты существующего социального строя, а не затем, чтобы создать картину некоего грядущего рая. В его «Грядущем» – ни одного розового или золотого райского отблеска: это скорее мрачные краски Гойи. И тот же Гойя – в «Машине времени», в «Первых людях на луне», в «Войне в воздухе», в «Освобожденном мире». Только в одном из наиболее слабых социально-фантастических романов «Люди как боги» – увидим мы слащавые розовые краски утопий.
Вообще же социально-фантастические романы Уэллса от утопий отличаются настолько же, насколько +А отличается от – А. Это не утопии, это – в большинстве случаев – социальные памфлеты, облеченные в художественную форму фантастического романа. И поэтому корни генеалогического дерева Уэллса можно искать только в таких литературных памятниках, как свифтовское «Путешествие Лемюэля Гулливера», «Путешествие Нильса Клима к центру Земли» Людвига Гольберга, «Грядущая раса» Эдварда Болвера-Литтона. Но и с этими авторами Уэллс связан лишь одинаковым подходом к сюжету, а не самим сюжетом и не литературными приемами. И наоборот, если мы иногда находим у Уэллса сюжеты, уже обработанные до него другими (сюжет путешествия на Луну, встречающийся у Сирано де Бер-жерака, у Эдгара По, у Жюля Верна, сюжет пробуждающегося через много лет спящего, заимствованный из различных народных сказаний сперва Луи Мерсье в конце XVIII века в книге «2440 год», затем Беллами, Виль-брандтом, Эдм. Абу и др.), – то подход Уэллса к такому сюжету совершенно иной. Все это заставляет сделать вывод, что своими социально-фантастическими романами Уэллс создал новую оригинальную разновидность литературной формы.
Два элемента придают фантастике Уэллса свой индивидуальный характер: это уже отмеченный выше элемент социальной сатиры и затем – непременно сплавленный с ним элемент научной фантастики. Этот второй элемент у Уэллса иногда выделяется в чистой, изолированной форме и дает начало его научно-фантастическим романам и рассказам («Невидимка», «Остров д-ра Моро», «Эпиорнис», «Новейший ускоритель» и пр.).
Научная фантастика, естественно, могла войти в область художественной литературы только в течение последних десятилетий, когда перед наукой и техникой действительно открылись возможности фантастические. Вот отчего в литературе прошлых веков едва ли не единственным образцом научной фантастики является утопия «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона – в тех ее главах, где описывается дом науки – «Дом Соломона», где гениальный ум Бэкона провидит многие из современных завоеваний точной науки, для XVII века представлявших совершенную фантастику. А дальше (если не считать некоторых бледных намеков в «Икарии» Кабе) подлинную научную фантастику, облеченную в художественную форму, мы найдем только в конце XIX века. Именно в эти годы – и это не случайность, а логика – почти одновременно появились: Курт Ласвиц «Картины будущего» и «Зейфенблазер», 1879–1890 годах, Беллами «Оглядываясь назад», 1887 года, Теодор Герцка «Фрейланд», 1889 года, Генри Трюс «В конце столетий», 1891 года, Уильям Моррис, Фламмарион, Жюль Берн и др.
В сочинениях этих авторов мы найдем много деталей фантастического будущего, близких к тем, которые видятся Уэллсу: воздушные экипажи и усовершенствованные машины у Ласвица; «Болланд» Трюса – нечто вроде «атомической энергии» Уэллса; электрические скатерти-самобранки у Герцки – очень похожи на то, что мы видим в «Грядущем» Уэллса, и т. д. Но все эти параллелизмы объясняются только тем, что у Уэллса и других авторов был один общий реальный источник, откуда они черпали свою фантастику: одна и та же наука, одна и та же логика науки. И конечно, ни у одного из перечисленных авторов нет такой стальной, коварной, гипнотизирующей логики, ни у одного нет такой богатой и дерзкой фантазии, как у Уэллса. Единственные авторы, которые могли дать литературный импульс Уэллсу, в области его научной фантастики, – это Фламмарион и Жюль Берн. Но и из этих авторов (не говоря уже о Фламмарионе – это совсем не художник) даже Жюля Верна нельзя поставить на один уровень с Уэллсом: фантастика Жюля Верна может зачаровать, дать иллюзии реальности – только неискушенному детскому уму; логическая фантастика Уэллса, в большинстве случаев снабженная острой приправой иронии и социальной сатиры, увлечет любого читателя.
Этому способствует и форма социально-фантастических и научно-фантастических романов Уэллса.
Как уже указывалось, элементов классической утопии у Уэллса почти нет нигде (единственное исключение – последний его роман «Люди как боги»). Замороженное благополучие, окаменело-райское социальное равновесие – логически связаны с содержанием утопии, и отсюда естественное следствие в форме утопий: статичность сюжета, отсутствие фабулы. В социально-фантастических романах Уэллса – сюжет всегда динамичен, построен на коллизиях, на борьбе; фабула – сложна и занимательна. Свою социальную и научную фантастику Уэллс неизменно облекает в форму робинзонады, типического авантюрного романа, столь излюбленного в англо-саксонской литературе. В этой области Уэллс является продолжателем традиций, созданных Даниелем Дефо и идущих через Фенимора Купера, Майн Рида, Стивенсона, Эдгара По – к современным Хаггарду, Конан Дойлю, Джеку Лондону. Но взяв форму авантюрного романа, Уэллс значительно углубил его и повысил его интеллектуальную ценность, внес в него элемент социально-философский к научный. В своей области – разумеется, в пропорционально меньшем масштабе – Уэллс сделал то же, что Достоевский, взявши форму бульварного, уголовного романа и сплавивший эту форму с гениальным психологическим анализом.
Незаурядный художник, владеющий блестящей и тонкой диалектикой, создавший образцы формы необычайно современной, образцы городского мифа, образцы социально-научной фантастики, – Уэллс несомненно будет иметь литературных преемников и потомков. Уэллс – только пионер; полоса социально-научной фантастики в литературе еще только начинается; вся фантастическая история Европы и европейской науки за последние годы позволяет с уверенностью предсказать это.
В современной английской литературе за Уэллсом идет Конан Дойль в некоторых своих вещах (например, «Затерянный мир», где в форме романа развит сюжет уэллсовского рассказа «Остров Эпиорниса»), Роберт Блэкфорд (роман «Страна чудес»). Под несомненным влиянием Уэллса написан социально-фантастический роман «Железная пята» Джека Лондона, его же «Смирительная рубашка» и «До Адама» (ср. «Сказка каменного века» Уэллса). За самое последнее время на путь фантастики вступили Бернард Шоу и Эптон Синклер: драматическая пенталогия Шоу «Назад к Мафусаилу», роман Синклера «Меня зовут плотником» и его же пьеса «Ад». Вероятно, тот же Уэллс дал импульс талантливому польскому писателю Жулавскому, написавшему лунную трилогию («На серебряном шаре», «Победитель» и «Старая земля») и молодому шведу Бергстедту, автору социально-фантастической сатиры «Александерсен». Во Франции параллельно с Уэллсом в области социального памфлета, одетого в изящную форму иронически-фантастических романов, работает Анатоль Франс («На белом камне», «Остров пингвинов» и «Восстание ангелов»). В последнем романе – «Восстание ангелов» – отправной пункт сюжета тот же, что в «Чудесном госте» Уэллса: ангелы – в среде земного человечества, но у Франса разработана эта тема гораздо глубже, остроумнее, тоньше, чем у Уэллса. За социально-научную фантастику взялся также Клод Фаррер – его роман «Обреченные смерти» значительно менее, впрочем, удачный, чем обычная экзотика этого автора.
Пережившие революцию Германия и Австрия являются гораздо более плодородной почвой для произрастания фантастики, чем другие, еще устоявшие на старом фундаменте, страны. Именно послереволюционные годы дали в этих странах богатейший урожай фантастических романов: «Третий путь» Колеруса, «В туманности Андромеды» Бренера, «Техническая фантазия» Гюнтера, «Мессия» Роланда Бетша, «Пылающее море» Шеффа, «Паника» Эйхаккера, «Роман относительности» Ганса Кристофа, «Циркус Менш» Мадегунда, замечательный чешский философско-фантастический роман «Фабрика абсолюта» Карела Чапека и др.
Окаменелая жизнь старой, дореволюционной России почти не дала – и не могла дать – образцов социальной и научной фантастики. Едва ли не единственными представителями этого жанра в недавнем прошлом нашей литературы окажутся Куприн (рассказ «Жидкое солнце») и Богданов (роман «Красная звезда», имеющий скорее публицистическое, чем художественное значение); и если заглянуть дальше назад – Одоевский и Сенковский – барон Брамбеус. Но Россия послереволюционная, ставшая фантастичнейшей из стран современной Европы, несомненно отразит этот период своей истории в фантастике литературной. И начало этому уже положено: романы А. Н. Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид», роман автора настоящей статьи «Мы», романы И. Эренбурга «Хулио Хуренито» и «Трест Д. Е.».
1921–1922
О'Генри*
Рекламы орут; пестрые огни мигают – в окнах, на стенах, в небе; поезда грохочут где-то в воздухе над головой; этажи бешено лезут друг другу на плечи – десятый, пятнадцатый, двадцатый. Это – Лондоны, Парижи, Берлины, заверченные в десять раз лихорадочней, это – Америка.
В минуту, по телефону, по телеграфу – сделать какие-то миллионы, на ходу проглотить чего-нибудь в баре – и в летящем вагоне десятиминутный отдых за книгой. Десять минут, не больше, и в десять минут надо иметь законченное, целое – и так, чтобы это летело, не отставая от стоверстного поезда – и так, чтобы это заставило забыть о поезде, о грохоте, о звонках – обо всем.
Это сумел сделать О'Генри (Уильям Сидней Портер, 1862–1911). В его коротких, острых, быстрых рассказах – конденсированная Америка. Джек Лондон – это американские степи, снежные равнины, океаны и тропические острова; О'Генри – американский город. Пусть у Лондона есть «Мартин Иден» и городские рассказы; пусть у О'Генри есть степная книга «Сердце Запада» и роман «Короли и капуста», где жизнь какого-то южноамериканского захолустья. Но все-таки, прежде всего, Джек Лондон – Клондайк, О'Генри – Нью-Йорк.
Ошибка, что кинематограф изобретен Эдисоном: кинематограф изобрели вдвоем Эдисон и О'Генри. В кинематографе прежде всего – движение, во что бы то ни стало – движение. И движение, динамика – прежде всего у О'Генри; отсюда его плюсы и минусы.
Читатель, попавший в кинематограф О'Генри, выйдет оттуда освеженный смехом: О'Генри неизменно остроумен, забавен, молодо-весел – таким был когда-то А. Чехонте, еще не выросший в Антона Чехова. Но бывает, что комические эффекты у него шаржированы, натянуты, грубоваты. Публику в кино необходимо время от времени растрогать: О'Генри ставит для нее очаровательные четырехстраничные драмы. Но бывает, что эти драмы – сентиментальны и кинематографически-поучительны. Впрочем, это у О'Генри случается редко, он растрогается только на секунду – и уже снова мчится смешливый, насмешливый, легкий; быстрый язык, быстрый ум, быстрые чувства – в движении каждый мускул, как у другого национального американского героя: Чарли Чаплина.
Во что верит Чарли Чаплин? Какая философия у Чарли Чаплина? Вероятно, ни во что; вероятно, никакой: некогда. И так же О'Генри, так же миллионы ньюйоркцев. Один из своих рассказов О'Генри, каламбуря и играя созвучиями, начинает так: «Древние философы потеряли свой авторитет. Платон – заплатка для дырявых котлов; Аристотель – мечтатель; Марк Аврелий – враль; из Эпиктета – и пикой ничего не выковыряешь». И кажется, это один из редких случаев, когда О'Генри говорит серьезно. Обычно, если только он не болен сентиментальностью, он смеется и шутит. Даже из драматического грима в нем иной раз все-таки выглянет все тот же неподражаемый Чарли Чаплин. Он улыбаясь – голодает, улыбаясь – идет в тюрьму и, вероятно, умирает с улыбкой. Быть может, единственная его философия – это то, что улыбкой нужно победить жизнь. О'Генри из тех англосаксов, что, медленно погружаясь на «Титанике», – пели гимн. Вероятно, он понимал – или хотя бы чувствовал, издали, – что огромный, комфортабельный «Титаник» цивилизации 19-го века налетел на ледяную гору и величественно идет ко дну; но О'Генри сжился со своим кораблем, он его не покинет и с шутками, иногда легкомысленными, иногда чуть-чуть горьковатыми, умрет мужественно, как «фаустовский» человек Шпенглера.
Эту ничем не истребимую, упругую бодрость выковала в О'Генри вся его жизнь: от молота – сталь становится крепче. Он сам жил в этих убогих меблированных комнатах, куда он не раз приведет с собой читателя, он сам проводил на скамьях ночи в парке, он – нью-йоркская богема, романтический американский бродяга. Из его биографии могла бы, вероятно, выйти превосходная кинематографическая фильма. О'Генри – приказчик в табачной лавчонке; О'Генри – фармацевт за стойкой аптеки; О'Генри – над гроссбухом в торговой конторе; О'Генри – в шайке поездных воров в Южной Америке; О'Генри – три года в тюрьме. И после тюрьмы – не «Редингская баллада», а веселые, легкие, обрызганные смехом рассказы. Тот же самый удар, какой вдребезги разбил изнеженного, хрупкого Уайльда – из О'Генри высек первую искру творчества.
Нужда, лихорадка огромного американского города – торопили, подстегивали О'Генри, он писал слишком много: иные годы по пятьдесят – шестьдесят рассказов. Оттого вещи его неровны. Правда, даже в самых слабых – среди лигатурных строк нет-нет да и сверкнет червонный О'Генри. Но ведь один и тот же углерод дает и уголь, и графит, и алмаз. Во всяком случае алмазы – у О'Генри есть, и это ставит его вблизи таких мастеров новеллы, как Чехов и Мопассан. И надо сказать, что художественная техника О'Генри – по крайней мере, в лучших его вещах – острее, смелее, современней, чем у многих уже ставших классиками новеллистов.
Острый, сверкающий эксцентричной и неожиданной символикой язык – первое, что увлекает читателя О'Генри. И это не мертвый, механический эксцентризм в символике имажинистов, у О'Генри – образ всегда внутренне связан с основной тональностью действующего лица, эпизода или всего рассказа. Потому-то у него всякий, самый необычайный как будто, эпитет и образ – покоряет, гипнотизирует. У хозяйки меблированных комнат (рассказ «Меблированные комнаты») – «горло, подбитое мехом». Сперва это входит в сознание не без труда, но дальше – варьируется все тот же образ, с каждой вариацией заостряясь все больше: уже просто – «меховой голос», «сказала самым своим меховым тоном», – и в воображении читателя врезана медоточивая фигура хозяйки, вовсе не описанная детально в приемах старого повествования.
Особенного эффекта О'Генри достигает, пользуясь тем приемом, которому правильнее всего было бы дать определение интегрирующего образа (в анализе художественной прозы – терминологию приходится создавать заново). Так, в рассказе «Город побежден» мисс Алиса Ван-дер-Пул – «холодна, бела и неприступна, как Юнгфрау». Юнгфрау – основной образ – в дальнейшем растет, разветвляется и широко, интегрально, охватывает почти весь рассказ: «Социальные Альпы, окружавшие Алису, подымались только до колен…» И вот этой Юнгфрау достиг Роберт Уолмслей. Если он и убедился, что путник, взобравшийся на горные вершины, находит самые высокие пики окутанными густым покровом из облаков и снега, то он все же скрыл свой озноб… «Уолмслей гордился своей женой, но когда он правую руку протягивал своим гостям – в левой он крепко сжимал свою альпийскую палку и градусник». Точно так же в рассказе «Квадратура круга» сквозь рассказ проходит интегрирующий образ: природа – круг, город – квадрат; в рассказе «Комедия зевак» – образ: зеваки – особое племя – и т. д.
Тип рассказов О'Генри больше всего приближается к сказовой форме (до сих пор еще одной из излюбленных форм русского рассказа): непринужденно диалогический язык, авторские отступления, чисто американские трамвайные, тротуарные словечки, каких не разыщешь ни в каком словаре. Впрочем, до конца проведенной формы сказа, когда автора – нет, автор – тот же актер, когда даже авторские ремарки даются языком, близким к языку изображаемой среды – у О'Генри нет.
Это все – из области статики художественного произведения. Но городского читателя, выросшего в бешеных скоростях современного города, – одной статикой не удовлетворить: нужна динамика сюжета. Отсюда – все это желтое море уголовной, сыщицкой литературы, обычно грубой и антихудожественной в языковом отношении. У О'Генри блестящий язык обычно соединен с динамичным сюжетом. Любимейший его композиционный прием – это совершенная неожиданность развязки. Иногда эффект неожиданности очень искусно достигается автором при помощи того, что можно назвать ложной развязкой, то есть в сюжетном силлогизме читатель намеренно приводится к ошибочному выводу, а затем где-нибудь вдруг, в конце, крутой поворот – и открывается развязка совершенно иная (рассказы «Кабачок и роза», «Смелее», «Квадратура круга», «Как скрывался Черный Билль»). Очень сложные и тонкие композиционные приемы можно найти в романе О'Генри «Короли и капуста».
К сожалению, в композиции рассказов О'Генри, особенно в переходах к развязке – есть однообразие: хроническая неожиданность теряет свой смысл, неожиданности – ожидаешь, исключение становится правилом. Это – то же самое ощущение, какое испытываешь под дождем парадоксов Уайльда: в конце концов видишь, что каждый из его парадоксов – только вывернутый наизнанку трюизм.
Впрочем, у Толстого Катюшу Маслову Нехлюдов не меньше любил оттого, что она была чуть-чуть раскосой. И указанные недостатки не помешали О'Генри стать одним из любимейших писателей в Америке и Англии.
1922
Завтра*
Всякое сегодня – одновременно и колыбель, и саван: саван – для вчера, колыбель для завтра. Сегодня, вчера и завтра – равно близки друг другу и равно далеки одно от другого: это – поколения, это – деды, отцы и внуки. И внуки – неизменно ненавидят и любят дедов.
Сегодня обречено умереть: потому что умерло вчера и потому что родится завтра. Таков жестокий и мудрый закон. Жестокий – потому что он обрекает на вечную неудовлетворенность тех, кто сегодня уже видит далекие вершины завтра; мудрый – потому что только в вечной неудовлетворенности – залог вечного движения вперед, вечного торжества. Тот, кто нашел свой идеал сегодня, – как жена Лота, уже обращен в соляной столп, уже врос в землю и не двигается дальше. Мир жив только еретиками: еретик Христос, еретик Коперник, еретик Толстой. Наш символ веры – ересь: завтра – непременно ересь для сегодня, обращенного в соляной столп, для вчера, рассыпавшегося в пыль. Сегодня отрицает вчера, но является отрицанием отрицания – завтра: все тот же диалектический путь, грандиозной параболой уносящий мир в бесконечность. Тезис – вчера, антитезис – сегодня, и синтез – завтра.
Вчера был царь и были рабы, сегодня – нет царя, но остались рабы, завтра будут только цари. Мы идем во имя завтрашнего свободного человека – царя. Мы пережили эпоху подавления масс; мы переживаем эпоху подавления личности во имя масс; завтра – принесет освобождение личности во имя человека. Война империалистическая и война гражданская – обратили человека в материал для войны, в нумер, цифру. Человек забыт – ради субботы: мы хотим напомнить другое – суббота для человека.
Единственное оружие, достойное человека – завтрашнего человека, – это слово. Словом русская интеллигенция, русская литература десятилетия подряд боролась за великое человеческое завтра. И теперь время вновь поднять это оружие. Умирает человек. Гордый хомо еректус становится на четвереньки, обрастает клыками и шерстью, в человеке – побеждает зверь. Возвращается дикое средневековье, стремительно падает ценность человеческой жизни, катится новая волна еврейских погромов. Нельзя больше молчать. Время крикнуть: человек человеку – брат!
На защиту человека и человечности зовем мы русскую интеллигенцию. Наше обращение не к тем, кто не приемлет сегодня во имя возврата к вчерашнему; наше обращение не к тем, кто безнадежно оглушен и сегодняшним днем; наше обращение к тем, кто видит далекое завтра, – и во имя завтра, во имя человека – судит сегодня.
1919
Цель*
У нас пока вся литература еще заражена ядами войны. Она строится на ненависти – на классовой ненависти, ее сложных соединяющих, ее суррогатах. На отрицательных чувствах – нельзя строить. Только тогда, когда мы вместо ненависти к человеку поставим любовь к человеку, – придет настоящая литература. Век наш жесток, железен – да; это век войн и восстаний – да. Но тем нужнее отдых от ненависти (она разрушительно действует на человеческую психику). Не время механического равенства, не время животного довольства настает с уничтожением классов, а время огромного подъема высочайших человеческих эмоций, время любви.
Впрочем, каково будет это грядущее – зависит от нас. Пока ни о каком воспитании высоких эмоций, свойственных эпохе осуществления коллективизма, – мы не думаем. Постановления, резолюции, параграфы, деревья – а за деревьями нет леса. Что же может увлечь в политграмоте? – ничто.
«Искусство всегда служило командующим классам…» Этим может восхищаться фашист, империалист, но не революционер, не диалектик. Все отличие командующего сейчас класса в том, что он командует временно, что он командует для того, чтобы как можно скорей перестать командовать – чтобы сбросить с человечества иго всякого государства и всякой команды; отличие в том, что командующий сейчас класс знает (верим, должен знать) все это. И вот об этом-то забывают.
– Зародыш будущего всегда в настоящем.
Это правда: художники – всех родов оружия – в большинстве всегда скептически развращены, беспринципны в большинстве – они всегда были ландскнехтами, продавали себя тем, кто им хорошо платит. Но этот закон купли-продажи таланта – закон капиталистического общества; обществу, думающему строить жизнь на иных, новых, более высоких началах, – принимать этот позорный закон так же неуместно, как принимать без всякой борьбы торговлю собою женщин. С моей (еретической) точки зрения несдающийся упрямый враг гораздо больше достоин уважения, чем внезапный коммунист – вроде, скажем, Сергея Городецкого. Служба господствующему классу, построенная на том, что это служба выгодна, – революционера отнюдь не должна приводить в телячий восторг; от такой «службы», естественно, переходящей в прислуживание, – революционера должно тошнить; услаждаться этим могут только такие типичные продукты переходной эпохи, совершенно лишенные обоняния – как Горбачев или Лилевич, да пожалуй, и такие, как Авербах, от них недалеко.
У этих молодых людей в руках не перо и чернила, а хлыст и кусочек жареного. В основном критика их сводится к окрику: «Служи!»; писатель для них – только собачка, которую нужно выучить стоять на задних лапках, – тогда ей дают кусочек жареного и тогда все обстоит благополучно.
Нет, дражайшие товарищи, не благополучно. Собачки, которые «служат» в расчете на кусочек жареного или из боязни хлыста – революции не нужны; не нужны и дрессировщики таких собачек. Нужны писатели, которые ничего не боятся – так же, как ничего не боится революция; нужны писатели, которые не ищут сегодняшней выгоды – так же, как не ищет этого революция (недаром же она учит нас жертвовать всем, даже жизнью – ради счастья будущих поколений – в этом ее этика); нужны писатели, в которых революция родит настоящее органическое эхо. Пусть это эхо в каждом писателе будет индивидуально, пусть писатели в работе не сообразуются с какими-то параграфами таких-то конференций: важно, чтобы это было искренно, важно, чтобы это вело читателей вперед, а не назад, важно, чтоб это их беспокоило, а не успокаивало.
Куда же – вперед? Как далеко – вперед? В ответе на этот вопрос – основная ошибка большей части нынешней критики и большей части писателей, покорно идущих на поводу этой, не умеющей диалектически мыслить критики.
Мы уверены, что правильным ответом на заданный вопрос должно быть: чем дальше вперед – тем лучше, ценнее. Снижение цен, санитарное благополучие города, тракторизация деревни – очень хорошо, это – движение вперед, конечно. Я представляю себе отличный газетный фельетон на эти темы (который завтра будет забыт). Но я с трудом могу вообразить Льва Толстого или Ромен Роллана, построенных на санитарном благополучии. Я с трудом вижу читателей, по-настоящему взволнованных таким санитарно-благополучным Толстым.
Пора же, наконец, уразуметь, что упорное ограничение писателя областью «малых дел» – создает только филистерскую, служебную литературу и ничего больше. Пора понять, что в литературе – так же, как в науке – есть деление на большую и малую литературу, у каждой из которых – свои задачи. Есть твердое деление хирургии на «большую» и «малую»: «большая» двигает науку вперед, «малая» выполняет ежедневную, очередную работу, «большая» производит опыты Каррлея и Воронова, «малая» – бинтует вывихнутую руку. Есть деление астрономии на большую и малую: большая занимается определением курса, по какому движется Солнечная система; малая рекомендует способы определения курса корабля в море. Если мы заставим Каррлея бинтовать вывихи – мы получим лишнего фельдшера; это, конечно, полезно, но – глупо, потому что человечество, приобретая фельдшера, потеряет гениального ученого.
Критика толкает сейчас русскую литературу – к фельдшерству; фельдшеризм – вот имя той болезни, которой больна русская литература. Недаром же Мариэтта Шагинян (писательница, от всех Горбачевых недавно получившая формальное звание «левого попутчика») не выдержала и закричала в своей книге «Быт и искусство» об отсутствии всяких «проекций будущего» как об одной из причин того, что «писатель болен». Она ошиблась только в одном: это – не одна из причин, это – единственная причина, к этому – в широком смысле сводятся все остальные.
Цель искусства и литературы в том числе – не отражать жизнь, а организовывать ее, строить ее (для отражения жизни есть малое искусство: фотография). Что значит для художественной литературы «организовывать жизнь»? Авербах понимает это так: «молочная кооперация будет темой художественного произведения новых писателей, потому что она является делом социальной практики новой эпохи». Это звучит как злой анекдот, но этот злой анекдот на память потомству – Авербах сочинил сам о себе.
Молочная кооперация, когда ею занимается не Авербах, а специалист, – дело очень почтенное: это – пусть маленький, пусть сантиметровый – шаг к определенной цели, это – одно из миллионов средств для достижения цели. Дело специалиста говорить о средствах, о сантиметрах; дело художника – говорить о цели, о километрах, о тысячах километров. Организующая роль искусства в том, чтобы заразить, взволновать читателя пафосом или иронией: это катод и анод в литературе. Но сантиметровая ирония – жалка, а сантиметровый, мелочно-кооперативный пафос – смешон, увлечь это не может никого. Чтобы взволновать, художник должен говорить не о средствах, а о цели – о великой цели, к которой идет человечество.
1926
Я боюсь*
Я боюсь, что мы слишком бережно и слишком многое храним из того, что нам досталось в наследие от дворцов. Вот все эти золоченые кресла – да, их надо сберечь: они так грациозны и так нежно лобызают любое седалище. И пусть бесспорно, что придворные поэты фацией и нежностью похожи на прелестные золоченые кресла. Но не ошибка ли, что институт придворных поэтов мы сохраняем не менее заботливо, чем золоченые кресла? Ведь остались только дворцы, но двора уже нет.
Я боюсь, что мы слишком уж добродушны и что французская революция в разрушении всего придворного была беспощадней. В 1794 году 11 мессидора Пэйан, председатель Комитета по народному просвещению, издал декрет – и вот что, между прочим, говорилось в этом декрете:
«Есть множество юрких авторов, постоянно следящих за злобой дня; они знают моду и окраску данного сезона; знают, когда надо надеть красный колпак и когда скинуть… В итоге они лишь развращают вкус и принижают искусство. Истинный гений торит вдумчиво и воплощает свои замыслы в бронзе, а посредственность, притаившись под эгидой свободы, похищает ее именем мимолетное торжество и срывает цветы эфемерного успеха…»
Этим презрительным декретом – французская революция гильотинировала переряженных придворных поэтов. А мы – своих «юрких авторов, знающих, когда надеть красный колпак и когда скинуть», когда петь сретение царя и когда молот и серп, – мы их преподносим народу как литературу, достойную революции. И литературные кентавры, давя друг друга и брыкаясь, мчатся в состязании на великолепный приз: монопольное правописания од, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию. Я боюсь – Пэйан прав: это лишь развращает и принижает искусство. И я боюсь, что если так будет и дальше, то весь последний период русской литературы войдет в историю под именем юркой школы, ибо неюркие вот уже два года молчат.
Что же внесли в литературу те, которые не молчали?
Наиюрчайшими оказались футуристы: не медля ни минуты – они объявили, что придворная школа – это, конечно, они. И в течение года мы ничего не слышали, кроме их желтых, зеленых и малиновых торжествующих кликов. Но сочетание красного санкюлотского колпака с желтой кофтой и с не стертым еще вчерашним голубым цветочком на щеке – слишком кощунственно резало глаза даже неприхотливым: футуристам любезно показали на дверь те, чьими самозваными герольдами скакали футуристы. Футуризм сгинул. И по-прежнему среди плоско-жестяного футуристического моря один маяк – Маяковский. Потому что он – не из юрких: он пел революцию еще тогда, когда другие, сидя в Петербурге, обстреливали дальнобойными стихами Берлин. Но и этот великолепный маяк пока светит старым запасом своего «Я» и «Простого, как мычание». В «Героях и жертвах революции», в «Бубликах», в стихах о бабе у Врангеля – уже не прежний Маяковский, Эдисон, пионер, каждый шаг которого – просека в дебрях: из дебрей он вышел на ископыченный большак, он занялся усовершенствованием казенных сюжетов и ритмов. Впрочем, что же: Эдисон тоже усовершенствовал изобретение Грэхема Белла.
Лошадизм московских имажинистов – слишком явно придавлен чугунной тенью Маяковского. Но как бы они ни старались дурно пахнуть и вопить – им не перепахнуть и не перевопить Маяковского. Имажинистская Америка, к сожалению, давненько открыта. И еще в эпоху Серафино один считавший себя величайшим поэт писал: «Если бы я не боялся смутить воздух вашей скромности золотым облаком почестей, я не мог бы удержаться от того, чтобы не убрать окна здания славы теми светлыми одеждами, которыми руки похвалы украшают спину имен, даруемых созданиям превосходным…» (из письма Пиетро Аретино к герцогине Урбинской). «Руки похвалы» и «спина имен» – это ли не имажинизм? Отличное и острое средство – image – стало целью, телега потащила коня.
Пролетарские писатели и поэты – усердно пытаются быть авиаторами, оседлав паровоз. Паровоз пыхтит искренне и старательно, но непохоже, чтобы он поднялся на воздух. За малыми исключениями (вроде Михаила Волкова в московской «Кузнице») – у всех пролеткультцев революционнейшее содержание и реакционнейшая форма. Пролеткультское искусство – пока шаг назад, к шестидесятым годам. И я боюсь – аэропланы, из числа юрких, всегда будут обгонять честные паровозы и, «притаившись под эгидой свободы, похищать ее именем мимолетное торжество».
К счастью, у масс – чутье тоньше, чем думают. И поэтому торжество юрких – только мимолетно. Так мимолетно было торжество футуристов. Так же мимолетно проторжествовал Клюев, после патриотических стихов о подлом Вильгельме – восторгавшийся «окриком в декретах» и пулеметом (восхитительная рифма: пулемет – мед!). И, кажется, не торжествовал даже мимолетно Городецкий: на вечере в Думском зале он был принят холодно, а на его вечер в Доме Искусства – не пришло и десяти человек.
А неюркие молчат. Два года тому назад пробило «Двенадцать» Блока – и с последним, двенадцатым, ударом Блок замолчал. Еле замеченные – давно уже – промчались по темным, бестрамвайным улицам «Скифы». Одиноко белеют в темном вчера прошлогодние «Записки мечтателя» Алконоста. И мы слышим, как жалуется там Андрей Белый: «Обстоятельства жизни – рвут на части: автор подчас падает под бременем работы, ему чуждой; он месяцами не имеет возможности сосредоточиться и окончить недописанную фразу. Часто за это время перед автором вставал вопрос, нужен ли он кому-нибудь, то есть нужен ли „Петербург“, „Серебряный Голубь“? Может быть, автор нужен, как учитель „стиховедения“? Если бы это было так, автор немедленно положил бы перо и старался бы найти себе место среди чистильщиков улиц, чтобы не изнасиловать свою душу суррогатами литературной деятельности…»
Да, это одна из причин молчания подлинной литературы. Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни – в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во «Всемирной Литературе», несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить – жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей, – Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре «Ревизора», Тургеневу каждые два месяца по трое «Отцов и детей», Чехову – в месяц по сотне рассказов. Это кажется нелепой шуткой, но это, к несчастью, не шутка, а настоящие цифры. Труд художника слова, медленно и мучительно-радостно «воплощающего свои замыслы в бронзе», и труд словоблуда, работа Чехова и работа Брешко-Брешковского, – теперь расцениваются одинаково: на аршины, на листы. И перед писателем – выбор: или стать Брешко-Брешковским – или замолчать. Для писателя, для поэта настоящего – выбор ясен.
Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. И не в бумаге дело: главная причина молчания – не хлебная и не бумажная, а гораздо тяжелее, прочнее, железней. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс, – тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло.
Пытающиеся строить в наше необычайное время новую культуру часто обращают взоры далеко назад: к стадиону, к театру, к играм афинского демоса. Ретроспекция правильная. Но не надо забывать, что афинская ссуора – афинский народ – умел слушать не только оды: он не боялся и жестоких бичей Аристофана. А мы… где нам думать об Аристофане, когда даже невиннейший «Работяга Словотеков» Горького снимается с репертуара, дабы охранить от соблазна этого малого несмышленыша – демос российский!
Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь – я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое.
1921
Новая русская проза*
Русская литература за последние годы – это Питер Шлемиль, потерявший свою тень: есть писатели – и нет критиков. Формалисты все еще не рискуют производить операций над живыми людьми и продолжают препарировать трупы. Живые – попадают в руки критиков-любителей, а эти судят о художественной литературе с той же ангельской простотой, с какой мой один знакомый инженер судил о музыке: вся музыка для него делилась на две половины: «боже, царя храни» – одна, и другая – все прочее; встают – стало быть, из первой половины, не встают – значит, из второй, из «не-боже-царя». Иного эха писатель сейчас не слышит: критики художественной, профессиональной – нет. И вот поневоле мне, беллетристу, приходится на час выйти из хоровода и посмотреть со стороны: кто, как, куда.
Хоровод – посолонь, слева направо. И левейшее: «пролетарские беллетристы». Их нет.
Они есть, но нет пока ни одного, какому дано было бы пережить завтра и войти в историю литературы – хотя бы даже не через парадную дверь. Несмотря на создание специальных инкубаторов, никакой пролетарской литературы высидеть не удалось, и теперь уже не редкость услышать честное признание: «мы напрасно создавали искусственно пролетарскую литературу, организуя пролеткульта, ибо пролеткульта никого и ничего не дали». Они и не могли дать: догма, статика, консонанс – мешают заболеть искусством, во всяком случае наиболее сложными его формами. Правда, в московских «Кузнице» и «Горне» выковалось несколько несомненных поэтов (Казин, Обрадович, Александровский). Но ведь прав Андрей Белый, когда в одной из своих статей говорит: «Написать… прозой – труднее, чем стихом. И оттого исторически она появляется несравненно позже поэзии». Это «несравненно позже» – пока еще очень далеко даже для наиболее культурных групп – «Кузницы», «Горна» в Москве.
Чрезвычайно шумливая компания «косм истое», паразитирующих на петербургских газетах, в статьях домашних своих критиков еженедельно угрожает ливнем новых талантов. Но любезные показания барометров помогают мало: в космосе – засуха все такая же и все тот же неурожай на прозаиков. Кажется, больше всего дружеских векселей было выдано на имя автора книжечки «Голод», торжественно названной романом. Героиня «Голода» (конечно, не Марья и не Дарья, а в соответствии с вербицкой эстетикой – «Фея») говорит где-то о своем лице: «Не вижу ни глаз, ни носа. Белеет что-то бледное, но мысль ничего не схватывает». Это – лицо не только «Феи», но и всей повести: все – строго, образцово банально – вплоть до «Облетели цветы, догорели огни… Прощай, Сергей, прощай. Я похоронила его навсегда». Это – финал не только повести, но, может быть, и автора.
Крепче, настоящей – некоторые московские писатели-коммунисты: Аросее, Неверов. Либединский. Они вспахивают свои страницы доброй старой сохой реализма; но Аросев иной раз выкорчевывает довольно глубокие психологические корневища (повести «Страда» и «Недавние дни»), Либединский (повесть «Неделя») уже приправляет быт импрессионизмом, Неверов… что ж: Неверов – верно глеб-успенствует. А все же явно и эти писатели – вместе с «космистами» и «кузнецами» уверены, что революционное искусство – это искусство, изображающее быт революции. Видят только тело – и даже не тело, а шапки, френчи, рукавицы, сапоги; огромный, фантастический размах духа нашей эпохи, разрушившей быт, чтобы поставить вопросы бытия, – это не чувствуется ни у одного. Это – передвижники, Верещагины, и будь Ревтрибунал Искусства – он привлек бы названные группы прозаиков к ответственности за художественную контрреволюцию.
Рядом на скамье подсудимых оказались бы… российские футуристы, вещественное доказательство: «Леф» № 1 – «журнал левого фронта искусства». Три динамитнейших манифеста; автосалют: «Мы знаем, мы лучшие работники искусства современности», действительно – мастерские стихи Асеева, Маяковского; и вдруг – направо кругом! – от Асеева к Авсеенке: рассказ Брика «Не попутчица». Рассказ – очень удачная пародия на салонную новеллу в современной обстановке, явно пародийны даже «элегантные» имена героев: Стрепетов! Велярская! Автор сыграл хорошую шутку с редакцией «Лефа», но этой пародии, конечно, не по пути ни с каким новым искусством.
Родившаяся от петербургского «Дома Искусств» группа «Серапионовых братьев» – сперва была встречена с колокольным звоном. Но теперь – лавровейшие статьи о них сменились чуть что не статьями Уголовного кодекса: по новейшим данным («космистов») оказывается, что у этих писателей – «ломаного гроша за душой нет», что они волки «в овечьей шкуре» и у них – «неприятие» революции. «Серапионовы братья» – не Моцарты, конечно, но Сальери есть и у них, и все это, разумеется, чистейший сальеризм: писателей, враждебных революции, в России сейчас нет – их выдумали, чтобы не было скучно. А поводом послужило то, что эти писатели не считают революцию чахоточной барышней, которую нужно оберегать от малейшего сквозняка.
Впрочем, «Серапионовы братья» – вообще выдуманы, как знаменитый Пютуа у Анатоля Франса: Пютуа приписывали разные поступки и даже преступления, но никакого Пютуа не было – он был выдуман г-жой Бержере. Этой Бержере в данном случае был отчасти и я, но теперь уже нельзя скрыть, что «Серапионовы братья» – вовсе не братья: отцы у них разные, и это никакая не школа и даже не направление: какое же направление, когда одни правят на восток, а другие на запад? Это просто встреча в вагоне случайных попутчиков: от литературных традиций вместе им ехать только до первой узловой станции; дальше поедет только часть, а остальные так и застрянут на этой станции – импрессионизированного, раскрашенного фольклором реализма. Наверное останутся здесь – Вс. Иванов и Федин; возможно, что останутся – Н. Никитин и Зощенко. Богатый груз слов – всех четырех тянет к земле, к быту; и с гофманскими серапионовыми братьями – у всех четырех едва ли даже шапочное знакомство.
Простодушные критики, пользующиеся методом «боже» и «не-боже», особенно звонили во Вс. Иванова. Кто-то назвал его даже «новым Горьким» – должно быть, хотели похвалить, но это для писателя – похвала довольно горькая. Горького в свое время никто не называл: новый такой-то, потому что он был Горький – и никто больше. И он стал Горьким «Детства», «Ералаша» – только после того, как долго, упорно работал и думал.
Чтобы Вс. Иванов много думал – пока не похоже: он больше нюхает. Никто из писателей русских до сих пор не писал столько ноздрями, как Вс. Иванов. Он обнюхивает все без разбору, у него запахи: «штанов, мокрых от пота», «пахнущих мочой Димитриевых рук», псины, гниющего навоза, грибов, льда, мыла, золы, кумыса, табаку, самогона, «людского, убожества» – каталог можно продолжить без конца. Нюх у Вс. Иванова – великолепный, звериный. Но когда он вспоминает, что ведь не из одной же ноздри, подобно лешему, состоит человек, и пробует философствовать, то частенько получаются анекдоты, вроде богоискательских разговоров в «Цветных ветрах»: «Самогон нету те?» – «Нет. А как ты о Боге?»; или там же герой, взгромоздившийся на бабу, вдруг вспоминает: «Веру надо, а какую надо – неведомо».
Вс. Иванов – живописец бесспорный, но искусство слова – это живопись + архитектура + музыка. Музыку слова – он слышит еще мало, и архитектурные формы сюжета ему еще не видны, оттого со сложной, полифонической конструкцией романа («Голубые пески») он не справился. Пока весь он – в быту («революционный быт») и бытовеет все гуще. Право на билет в вагоне «Серапионовых братьев» ему дает только импрессионизм образов.
«Кругом меня удивляются, отчего я такой чистенький. А не знают, что весь извалявшись в пуху… что только и думаю, как бы ловчее кувыркнуться… У меня тоска. Чем избавиться?» Это из лирического отступления в одном из рассказов Н. Никитина, и это то, что Никитин мог бы сказать, если бы каким-нибудь литературным Введенским была устроена «общая исповедь».
Кувыр-болезнь Никитина особенно заметна в последних его вещах, и происходит она, конечно, от хорошего страха банальности. Вот и сказал бы хорошее, точное слово, и может – а боится; и выходит подчас совсем что-нибудь невразумительное, вроде «заморелого пота», «отвального колоса», или: «чайка гаркнула крылом по воде», «презирая у ног, у тверди, небо» – хотя автор, вероятно, знает, что «гаркнуть» – это заорать, а твердь – никак не у ног.
Кувырканием от тоски не излечишься. Тоска, боль – та самая трещина в душе, через которую сочится настоящее искусство (кровь). Эта трещина у Никитина – к его счастью и несчастью – есть; оттуда у него такие рассказы, как «Пелла», «Камни», «Кол», оттого он гораздо беспокойнее Вс. Иванова, и у него меньше шансов почить от дел своих на «революционном быте», на фольклоре, на импрессионистской живописи.
Зощенко – за одним столом с Н. Никитиным и Вс. Ивановым: они объедаются одним и тем же – узорчатыми, хитро расписанными пряниками слов. Но никакого кувырканья, как у Никитина, никакой прожорливой неразборчивости, как у Вс. Иванова, – у Зощенки нет. Из всей петербургской литературной молодежи – Зощенко один владеет безошибочным народным говором и формой сказа (так же, как из москвичей – Леонов, о котором речь впереди). Такое – сразу точное и законченное – мастерство всегда заставляет бояться, что автор нашел для себя свой un petit verre. Но превосходные, еще не печатавшиеся литературные пародии Зощенки и его небольшая повесть «Аполлон и Тамара», построенная на очень острой грани между сентиментальностью и пародией на сентиментальность, – дают основание думать, что диапазон автора, может быть, шире сказа.
В активе у Федина – до странности зрелый рассказ «Сад», под которым подписался бы и Бунин. В повести «Анна Тимофеевна» – небольшой сдвиг влево, и, кажется, дальнейший сдвиг – в незаконченном его романе. Пока Федин правее, каноничнее остальных.
У трех «Серапионовых братьев» – Каверина, Лунца и Слонимского – взяты билеты дальнего следования. Может случиться, они не доехавши слезут где-нибудь на полпути; может случиться, не хватит сил у Слонимского, терпенья у Лунца, – но пока от застрявших в быту традиций русской прозы они отошли гораздо дальше, чем четверо их товарищей. Традиционной болезнью русских беллетристов стала какая-то пешеходность фантазии, сюжетная анемия, все ушло в живопись. А у этих троих – правда, за счет живописи – архитектура, сюжетная конструкция, фантастика; с Гофманом они в родстве не только по паспорту.
Особенно – Каверин: в географии – у него гейдельберги, вюртемберги, и живут в них – магистры, бургомистры и фрау. Слова для него – а, в, с, х, у, – одинаковые для любого языка обозначения; именованных чисел-слов у него нет, живописи он не знает – потому что целиком ушел в архитектуру. И тут опыты его очень интересны: у него выходят стойкие сплавы из фантастики и реальности; он хорошо заостряет композицию, играя в разоблачение игры; он умеет философски углубить перспективу как бы путем параллельных зеркал («Пятый странник»). Чтобы стать очень оригинальным писателем, Каверину нужно перевести свой Нюрнберг хотя бы в Петербург, немного раскрасить свое слово и вспомнить, что это слово – русское.
Лунц – так же, как и Каверин, – в алгебре, чертежах, а не в живописи. Рассказы его еще не вышли из стадии экзерсисов, может быть, и не выйдут: сюжетное напряжение у него обычно так велико, что тонкая оболочка рассказа не выдерживает, и автор берет киносценарий или пьесу. Его драма «Вне закона», построенная в некоей алгебраической Испании, революцию и современность захватывает, конечно, гораздо глубже, чем любой рассказ или пьеса из революционного быта.
М. Слонимский – пока еще гибрид; таков он, по крайней мере, в единственной книжке своих рассказов «Шестой стрелковый». Здесь – быт (война, фронт, семнадцатый год), но экран, на котором мелькают события быта, непрочен, часто колышется, и есть ощущение, что сквозь него прорвется фантастика.
Как это обычно случается с пассажирами отдельных вагонов – «Серапионовы братья» дверь своего вагона держат на запоре. Но, в сущности, там есть место еще для многих. Из петербуржцев, конечно, для Ольги Форш – не столько по ее рассказам, сколько по ее пьесам: в рассказах – современность дана примитивно, арифметически, а в пьесах – выражена неявными функциями, в очень глубокой, волнующей форме («Равви», «Коперник»). Из москвичей, конечно, для Пильняка, для Пастернака, Леонова, Буданцева, Огнева, Малышкина.
Среди московской литературной молодежи – Пильняк старший (он начал печататься еще до Февральской революции) и пока – самый заметный. Он явно посеян А. Белым, но, как всякой достаточно сильной творческой особи, – ему хочется поскорее перерезать пуповину, почему в посвящении к последней своей повести он пишет: «Ремизову – мастеру, у которого я был подмастерьем», это – только инстинктивная самозащита от Белого.
Ценно у Пильняка, конечно, не то, что глину для лепки он берет не иначе как из ям, вырытых революцией, и не его двухцветная публицистика, но то, что для своего материала он ищет новой формы и работает одновременно над живописью и над архитектурой слова; это – у немногих.
В композиционной технике Пильняка есть очень свое и новое – это постоянное пользование приемом «смещения плоскостей». Одна сюжетная плоскость – внезапно, разорванно – сменяется у него другой иногда по нескольку раз на одной странице. Прием этот применялся и раньше – в виде постоянного чередования двух или нескольких сюжетных линий (Анна + Вронский, Кити + Левин и т. д.), но ни у кого – с такой частотой колебаний, как у Пильняка: с «постоянного» тока – Пильняк перешел на «переменный», с двух-трехфазного – на многофазный. Удачнее всего – это в одной из первых его повестей («Иван да Марья»).
В последних вещах Пильняка – интересна попытка дать композицию без героев: задача, параллельная Толлеровскому «Masse Mensch». Поставить в фокусе толпу, массу – можно, так же, как можно стены отливать из бетонной массы вместо того, чтобы складывать их из отдельных кирпичей. Но для отливки бетонных стен – нужен стальной каркас. А у Пильняка никогда не бывает каркаса, у него сюжеты – пока еще простейшего, беспозвоночного типа, его повесть или роман, как дождевого червя, всегда можно разрезать на куски – и каждый кусок, без особого огорчения, поползет своей дорогой. Вот почему пока не удалась ему попытка сконструировать бессюжетно-безгеройную повесть («Третья столица»): как автор ни подчеркивает: «героев нет», – а повесть все-таки, оказывается, не из бетона, а из кирпичей, не Masse Mensch, a Menschen.
Языка нашей эпохи – быстрого и острого, как код, – Пильняк, кажется, еще не услышал: в его вещах, особенно в последних – синтаксис карамзинский, зыбучие пески периодов. Читать их вслух – мог бы только воздушный насос: никакого человеческого дыхания не хватит. Может быть, чтобы укрепить эту периодическую топь, автор прибегает к разным эпатантным типографским трюкам – которые после таких же трюков у Белого едва ли кого эпатируют. Я помню: один модерный дирижер в городе Пензе рассаживал оркестрантов разными этакими ромбиками, ступеньками и полукругами… чтобы сыграть попурри из «Демона». Но ведь у Пильняка – не попурри, у него есть свои слова, есть оригинальный композиционный прием – и пензенство его вещи только портит.
Москва – всегда была ближе к Пензе, чем Петербург, – и будет. И этот географический рок дает себя знать. Рука все того же пензенского дирижера – в пестрых, разношрифтных страницах Буданцева (роман «Мятеж»): корпуса, петиты, курсивы, коринны, прописные, полужирные, жирные… Но под всей этой шелухой, под сбивчивой еще линией ритма и стиля, отяжеленного множеством причастий, – чувствуется гибкое тело городского, сегодняшнего языка, крепкий костяк сюжета, острый и свежий глаз. В символике – буйный импрессионизм; это вполне гарантирует автора от банальностей, но иногда приводит его к образам, явно изготовленным в лабораторной банке. Местами Буданцев удачно применяет в романе словесную инструментовку – искусство, кроме него, не знакомое, кажется, никому из писателей младшего поколения.
И снова – Пенза: бездна, бездонный, безгранный, безликий, безглубый, безумный… Это за грехи Леонида Андреева мучится А. Малышкин. Писатель этот – всего пока двухрассказный, но в нем очень большой разбег, и ему нужно только перепрыгнуть через пензенскую бездну. В рассказе «Падение Дайра» Малыш-кину удалось то, что пока не вышло у Пильняка: тысячеголовый, безымянный герой.
В кильватере у Пильняка – может оказаться – Огнев: та же самая многофазность в развертывании сюжета (пов. «Евразия»). Впрочем, позже у него появляется и свое: синтез фантастики и быта (рассказ «Щи республики») – едва ли не единственно правильные координаты для синтетического построения современности. Те же координаты с самого начала взяты для своих рассказов Леоновым – с еще большим уклоном в фантастику, даже в миф; это – гарантия большого диапазона, гарантия, что автор не оплотнеет в быту. Леонов – родовит: он – Ремизович несомненный; отсюда язык у него румяный, упругий, очень русский, но без всякого арго.
Пастернак выбрал самый трудный, но и самый обещающий путь: это писатель без роду и племени. Но – не новый такой-то, а сразу же: Пастернак, хотя напечатал он, кажется, всего только один рассказ и одну повесть («Детство Люверс»). Сдвиг, новое, свое – у него не в сюжете (он – бессюжетен) и не в словаре, а в той плоскости, в какой кроме него почти никто не работает: в синтаксисе. Впрочем, и символика у него – очень острая и своя. Внешней современности – с выстрелами и флагами – он не ищет, и все же он – конечно, весь в современном искусстве.
Таково молодое поколение прозаиков. Считающие себя политически – левейшими – на крайних правых скамьях старого реализма; в центре – импрессионизированный быт и фольклор; левая – сюжетники, чистая фантастика, или фантастика, прорастающая из быта. Именно здесь левая потому, что в этой точке наибольший отмах от последних традиций русской прозы.
Традиции эти – тонкая станковая живопись, быт, психологизм – еще крепки в старших прозаиках. Землетрясения последних лет не изменили их техники, эпоха сказалась только в монументальности зданий: романы, и в материале – современность.
Впрочем, эти здания для осмотра еще только начинают открываться. Старшие писатели – в силу своего удельного веса – оказались в пределах того конуса, по какому распространяется сила взрыва, и взрывом 17-го года их разбросало во все концы. Только теперь начинают они выходить из беспечатных пустынь, и становятся известны – больше по слухам – их работы. В каких-то крымских дебрях Сергеев-Ценский молча закончил начатую еще во время войн офомную постройку: роман «Преображение» (еще не напечатанный) У Пришвина повесть «Раб обезьяний», в которой столько сегодня, что прочтем мы ее только в каком-то не очень скором завтра. У Ив. Новикова, Б. Зайцева, Шмелева – тоже засеянные современностью романы, еще не законченные. Прекрасный рассказ Шмелева «Это было» (альманах «Недра»), где быт каждую минуту готов заклубиться бредом – залог того, что у Шмелева и в романе хватит сил по-настоящему охватить современность.
В «Недрах» и «Новой Москве» – большая фуппа прозаиков (Тренев, Никандров, Шишков. Л. Яковлев и др.) все еще молится реалистически-бытовым двуперстием. Эти авторы, может быть, устойчивее, прочнее, талантливей, чем иные из молодых, но это – старая Москва, а никак не новая.
Из писателей, заброшенных в Россию Берлинскую, Парижскую, Пражскую – верб оказалось немного (верба цветет где угодно: хоть в бутылке с водою). Куприн, Мережковский, Гиппиус, Бунин – перестали цвести (впрочем, в самое последнее время появились сведения о новых бунинских рассказах). Из двух ветвей Белого – новые побеги только от одной: поэтической. Ремизов – все еще тянет соки из той коробочки с русской землей, какую привез с собой в Берлин; ожидаемые последствия Штейнаховской операции – у него еще впереди. Но вот два урожайных имени – А. Н. Толстой и Эренбург, – и они могут поспорить с тем, что сделано в петербургско-московской России.
«Хождение по мукам» А. Толстого – было бы неверно назвать новым романом: это – последний старый русский роман, последний плод реализма, настоящего Толстого – Льва. И все же для А. Толстого – этот роман новый: до сих пор герои его думали чем угодно, кроме головы, а тут неожиданно задумали головой. С непривычки это выходит у них не всегда удачно. Когда в «Хождении» Буров рассуждает о любви, о том, что любовь есть ложь – это изобретение пороха в 1001-й раз, и последними Шварцами были Арцыбашев и Винниченко. Но другое: Гвоздев – о «стаде» и о «вершке», Жадов – о «законе человека и законе человечества», об антиномии свободы и равенства – это настоящее, это – от Фауста. Пусть по сюжетным рельсам роман движется по расписанию почтового поезда; пусть против случайно проскочившего дерзкого эпитета автор тотчас выставляет кавычки – как итальянец джеттатуру[10]; пусть мехи старые – но в них влито хорошее вино. Залпом выпив иные страницы, читатель пьянеет; потому что А. Толстому дано знать, что такое любовь (многие из младших знают это только по учебникам анатомии).
В последнем своем романе «Аэлита» А. Толстой из почтового поезда попробовал пересесть в аэроплан фантастики – но только подпрыгнул и, растопырив крылья, сел на землю, как галчонок, выпавший из родного гнезда (быта). Толстовский Марс – верстах в 40 от Рязани: там есть даже пастух в установленной красной рубахе; есть даже «золото во рту» (пломбы?!); есть даже управляющий домом, который тайно «устраивал пальцами рожки, отгораживаясь от землян» – очевидно, побывал раньше вместе с барином в Италии. Красноармеец Гусев – единственная в романе по-А. Толстовски живая фигура; он один говорит, все остальные читают.
Язык романа: рядом с великолепной «сумасшедшинкой в глазах» – вдруг нечто совершенно лысое, что-нибудь вроде «память разбудила недавнее прошлое». И «недавнего прошлого» куда больше, чем «сумасшедшинки». С языком и символикой здесь случилось то, что иной раз бывает с женщинами после тифа: остригут волосы – и нет женщины – мальчишка. Привычную символику и быт Толстому поневоле пришлось выстричь, а новых – ему создать не удалось.
И наконец: у «Аэлиты» – много богатых родственников, начиная от Уэллса и Жулавского. На страницах «Красной нови» – «Аэлита», несомненно, краснеет за свое знакомство с таким патентованным «мистиком», как Рудольф Штейнер: о семи расах, Атлантиде, растительной энергии – Аэлита читала в Штейнеровской «Хронике Акаши».
Эренбург, пожалуй, самый современный из всех русских писателей внутренних и внешних: грядущий интернационал он чувствует так живо, что уже заблаговременно стал писателем не русским, а вообще – европейским, даже каким-то эсперантским. Таков и его роман «Хулио Хуренито».
Есть чей-то рассказ про одну молодую мать: она так любила своего будущего ребенка, так хотела поскорее увидеть его, что, не дождавшись девяти месяцев, – родила через шесть. Это случилось и с Эренбургом. Впрочем, может быть, здесь – просто инстинкт самосохранения: если бы «Хуренито» дозрел – у автора, вероятно, не хватило бы сил разродиться. Но и так – с незакрывшимся на темени родничком, кое-где еще не обросший кожей – роман значителен и в русской литературе оригинален.
Едва ли не оригинальней всего то, что роман – умный, и Хуренито – умный. За малыми исключениями, русская литература за последние десятилетия специализировалась на дураках, идиотах, тупицах, блаженных, а если и пробовали умных – не выходило умно. У Эренбурга – вышло. Другое: ирония. Это – оружие европейца, у нас его знают немногие: это – шпага, а у нас – дубинка, кнут. На шпагу поочередно нанизывает Эренбург империалистическую войну, мораль, религию, социализм, государство – всякое. И вот тут обнаруживаются не заросшие кожей куски: рядом с превосходными, франсовскими главами – абортированные, фельетонные (напр., гл. 6-я, 15-я).
Но больше всего в аборте уличает автора язык. Роман местами звучит как перевод с какого-то на очень мало русский. Синтаксис: «каялись, обещая, будучи министрами не быть…» и ужасная «пара недель» («мы все отправились на пару недель в Нидерланды»), и хроническое, неизлечимое «выявление». Это тем досадней, что изредка – рядом с ржавыми «выявлениями» – зерна золота (у интеллигента – «бородка жидкая, будто взошедшая в неурожайный год»; в кафе – женщины «с густо намалеванной мишенью для поцелуев»).
Три небольшие книжки рассказов Эренбурга («Неправдоподобные истории», «Рассказы о 13 трубках» и «6 повестей о легких концах») – три точки, по которым можно построить траекторию формальных сдвигов Эренбурга: сплетенный с фантастикой быт и еще русский язык в первой книге; ветка от «Хуренито» – вторая книга; и в третьей – язык сжат, быстр, остр, телеграфен, интернационален, несомненное родство с новейшей французской прозой (дадаисты, Сандрар, «Доногоо-Тонко» Ж. Ромена). Не потому ли и мужички в этой книге говорят по-пейзански (Егорыч – в «Меркюр де Рюсси», Силин – в «Колонии № 62»).
Все многочисленные кляксы в языке Эренбурга объясняются (но, конечно, не оправдываются) тем, что он – убежденный конструктивист, и в романе, в рассказах – у него всегда на первом плане не орнамент, не краска, а композиция. И надо сказать – композиционная его изобретательность часто остроумней, чем у посюсторонних его товарищей, работающих в той же области (в «Хуренито» – очень удачен прием введения автора в число действующих лиц; ново для русской прозы – заимствованное, впрочем, у Ж. Ромена – построение рассказа в виде киносценария). Эренбург замыкает собой левое крыло современной русской прозы.
Так – круг обойден. Десятки имен, заглавий, бессонных ночей, достижений, ошибок, лжей и правд. Но это и есть жизнь: по безошибочным прямым, по циркулярным кругам – движутся только мертвые механизмы. В искусстве вернейший способ убить – это канонизировать одну какую-нибудь форму и одну философию: канонизированное очень быстро гибнет от ожирения, от энтропии.
Такая энтропия грозила за последние годы русской литературе, но живучесть ее оказалась сильнее: в литературе есть еще жизнь-борьба, пока искусственно сведенная к борьбе формальных течений. Из них – символизма – уже нет на поле: он – на книжной полке, прочно переплетенный. Зато, подрумяненный политической левизной, вылезает примитивный реализм, отряхивая сорокалетнюю пыль. Но сегодня, когда точная наука взорвала самую реальность материи, – у реализма нет корней, – он удел старых и молодых старцев. В точной науке – анализ все больше сменяется синтезом, задачи микроскопические – задачами Демокрита и Канта, задачами пространства, времени, вселенной. И явно эти новые маяки стоят перед новой литературой: от быта – к бытию, от физики – к философии, от анализа – к синтезу.
Одно голое изображение быта, хотя бы и архисовременного – под понятие современного искусства уже не подходит. Бытописание – арифметика; единицы или миллионы – разница только количественная. А в нашу эпоху великих синтезов – арифметика уже бессильна; нужны интегралы от 0 до ∞, нужен релятивизм, нужна дерзкая диалектика, нужно «всякую осуществленную форму созерцать в ее движении, то есть как нечто преходящее» (Маркс). В новую прозу быт входит только в синтетических образах, или только в виде экрана для какого-то философского синтеза. И, конечно, мало меняют дело – пусть очень талантливые – попытки прозаиков центра омолодить бытописание, импрессионизм фольклором. Аналитическая работа словоискательства – подходит к завершению, отправившиеся за золотым руном слова аргонавты – подплывают уже к арго, к langue verte[11]. Маятник – явно в другую сторону: к более широким формальным задачам – сюжетным, композиционным.
Сама жизнь – сегодня перестала быть плоско-реальной: она проектируется не на прежние неподвижные, но на динамические координаты Эйнштейна, революции. В этой новой проекции – сдвинутыми, фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и вещи. Отсюда – так логична в сегодняшней литературе тяга именно к фантастическому сюжету или к сплаву реальности и фантастики. На Западе сейчас десятки авторов – в фантастике философской, социальной, мистической: Гаральд Бергштедт, Огэ Маделенд, Коллеруп, Бреннер, Мейринк, Фаррер, Мак-Орлан, Бе-нуа, Рандольф, Шнунда, Бернард Шоу, даже Эптон Синклер (его роман «They call me Carpenter»[12]). В этот же поток понемногу начинает вливаться и русская литература: роман «Аэлита» А. Толстого, роман «Хулио Хуренито» И. Эренбурга, роман «Мы» автора этой статьи; работы писателей младшей линии – Каверина, Лунца, Леонова. Сближение с Западом дает надежду и на излечение застарелой болезни русских прозаиков – о ней уже была речь: сюжетной анемии.
Вероятно, появится другая крайность: иные уйдут просто в бездумную сюжетную игру, в авантюрный роман, как это уже случилось с Пьером Бену а и Мак-Орланом во Франции. Но такой роман отвечает только одному цвету в спектре современности; чтобы отразить весь спектр – нужно в динамику авантюрного романа вложить тот или иной философский синтез. При хороших технических средствах – такого синтеза пока не хватает многим из названных в статье молодых авторов, а именно в нем-то сейчас острая потребность, жажда, голод. Разрушено все, что было нужно – и все, что было можно: пустыня, соленый, горький ветер – и вот застроить, заселить пустыню. Horror vacui[13] – есть не только в природе, но и в человеке.
Если искать какого-нибудь слова для определения той точки, в которой движется сейчас литература, я выбрал бы слово синтетизм: синтетического характера формальные эксперименты, синтетический образ в символике, синтезированный быт, синтез фантастики и быта, опыт художественно-философского синтеза. И диалектически: реализм – тезис, символизм – антитез, и сейчас – новое, третье, синтез, где будет одновременно и микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям, стекла символизма.
1923
О сегодняшнем и о современном*
1
Воробьихе, несомненно, кажется, что серенький ее супруг не чирикает, а поет, и поет уж никак не хуже соловья, а пожалуй, так и соловья заткнет за воробьиный свой пояс. Именно такая воробьиная история разыгрывалась последние годы в нашей литературной критике: воробьихи млели от пения своих супругов – млели от чистого сердца. И посейчас еще густы воробьиные стаи – как в марте, на посту великом, когда они оглушительно верещат, выклевывая сокровища на пожелтевшей колее. Но уже есть и неворобьиные голоса, имеющие мужество сказать себе и другим, что пленительное (для супруги) и отменно-полезное (для высиживания яиц) чириканье – все же только чириканье.
Пение, радующее не только воробьих, но и птицу любой породы, и человека, к счастью, еще слышно, и, как всякое пение, – оно прежде всего правдиво: его отличишь сразу.
Правды – вот чего в первую голову не хватает сегодняшней литературе. Писатель – изолгался, слишком привык говорить с оглядкой и с опаской. Оттого в большинстве литература не выполняет сейчас даже самой примитивной, заданной ей историей задачи: увидеть нашу удивительную, неповторимую эпоху – со всем, что в ней есть отвратительного и прекрасного, записать эту эпоху такой, какая она есть. Огромное, столетнее десятилетие 1913–1923 как приснилось: проснется когда-нибудь человек, протрет глаза, – а сон уж забыт, не рассказан. Что в нашей художественной литературе осталось хотя бы от войны? Для высиживания патриотических яиц считалось полезным густо обклеивать их сусальным золотом – и кроме этого сусального золота не осталось почти ничего.
Сусальность оказалась болезнью наследственной: по наследству она перешла к сегодняшней, послереволюционной литературе, и три четверти этой литературы насквозь просу салены. Целомудрие наше так велико, что чуть только перед рампой мелькнет коленка или живот голой правды, – как мы тотчас же торопимся накинуть на нее оперную тогу.
В Америке есть такое Society of Vice Suppression[14] которое однажды постановило: во избежание соблазна надеть юбочки, вроде балетных, – на все голые статуи в Нью-Йоркском Музее. Эти пуританские юбочки – только смешны, большой беды в них нет: если они еще не сняты – новое поколение их снимет и увидит статуи настоящими. Но когда писатель в этакую юбочку наряжает свою повесть – это уже не смешно, и когда это делает не один, а десятки, – это уже страшно: этих юбочек – не снять, и не по статуям, а по сусально размалеванным, набитым соломою куклам будут изучать следующие поколения нашу эпоху. Если в нашей литературе все останется по-прежнему – тела нашей правды потомки не узнают, художественных документов они не получат или получат их гораздо меньше, чем могли бы. Тем нужнее выделить такие документы.
2
На суде отводятся показания свидетелей, если они в близком родстве со сторонами. Такой отвод сделают и те, кто через сто или двести лет будут судить по нашей литературе о нашей эпохе, и этот отвод коснется в первую голову почти всех наших журналов. Как считать за художественный документ книжку хотя бы такого журнала, как «Октябрь»? Прямое отношение этот журнал имеет, главным образом, к одному искусству: военному, это – только новый вид оружия, в дополнение к изобретенным уже всяким газам и минам. Что касается прочих областей искусства… нет, пусть «Октябрь» говорит сам о себе, – красноречивей не скажешь: «Мы считаем необходимым освещение на страницах „Октября“ всех вопросов рабочего быта; а так же остальныхобластей пролетарского искусства» («От редакции», стр. 5)…
Впрочем, и во всяком «литературно-общественном» журнале художественный отдел – только отходный промысел, только притвор для оглашенных перед входом в святилище второго отдела. Художественных документов как будто скорее можно ждать в альманахах, где литература не для того, чтобы публика пришла на концерт-митинг (такие одно время были в моде повсюду, а сейчас уцелели только в литературе), но для того, чтобы публика пришла на концерт.
И вот – четыре последних альманаха: «Недра» – IV, «Наши Дни» – IV, «Круг» – III, «Рол» – III.
«Недра» – в явном родстве с прежней «Землей». Название обещает, что черноземный слой теперь вскопан глубоко и из недр земных добыты сокровища, лежавшие там многие годы.
В одной части – обещание это во всяком случае сдержано: многолетняя залежалость действительно чувствуется в большей части сокровищ, извлеченных из «Недр». Этому вполне удовлетворяло «В тупике» Вересаева, этому удовлетворяет и «Железный поток» Серафимовича – батальная, писанная по Верещагину, картина на 164 страницах – времени 1918 года.
«Железный поток»… Выкорчеванное из земли железо – казалось, чего бы лучше? Но пошлите в заводскую лабораторию кусочек этого железа – и окажется: оно давненько уже ржавело в подвалах «Знания». Как полагается по добрым знаньевским обычаям – на добрых двух страницах поют: «Вы жертвою пали в борьбе роковой»; потом поют: «Як не всхотелы, забунтовалы, тай утерялы Вкраину»; потом поют: «Ревуть, стегнуть гори хвили»; потом поют: «Чи у шинкарки мало горилки»; потом поют: «Чого москаль хоче» – на целой странице. И по знаньевским же, идущим еще от Андреевского «Красного смеха», заветам – «безумное солнце», «безумно целует свое дитя», «долой войну – безумно понятно», «безумно трепещет свет», «над голубой бездной», «бездонные пропасти», «мать смеется неизъяснимо-радостным, звенящим смехом», «марево трепещет знойным трепетаньем»…
Впрочем, кажется, есть и то, чего у знаньевского Серафимовича не было. Когда мы читаем: «Из толпы к ветрякам пробирается с неизъяснимо-красным лицом, с едва пробивающимися черными усиками, в матросской шапочке» – вот такое предложение без подлежащего – в нем мы ощущаем явный модерн, почти Пшибышевского. Когда мы находим фразы, подобные такой: «Опять у бежавших среди напряжения к спасению подымалось неподавимое изумление», – мы предполагаем здесь уже начало инструментовки – почти по Белому.
И еще: в «Знании» никогда не было той сусальности, которая есть теперь в Серафимовичевском железе, добытом из «Недр». По всем сусальным кодексам сделана фигура «гнусного соглашателя» Микеладзе. И особенно густо насусален конец – апофеоз героя, скомпонованный по всем оперным правилам, согласно коим, как известно, полагается говорить уже не «рот», а «уста», и не «глаза», а «очи», и полагается, чтобы в «сердце выжигалось огненным клеймом», а слезы «поползли по обветренным лицам встречавшихся, по стариковским лицам, и засияли слезами девичьи очи»…
Впрочем, в глухой провинции украинские пьесы с пением трогают многих еще и посейчас; критик из «Октября» пришел к выводу, что «это произведение следует отнести к тем, которыми будет гордиться пролетарская литература», и что «ни в поступках, ни в диалогах нет фальши – автор чуток на малейшую неловкость»…
Руда, использованная Серафимовичем для «Железного потока», настолько богата, что даже обработка оперным способом не могла до конца обесценить ее: иные сцены запоминаются. Есть несколько удачных образов («Руки, как копыта» – у мужа Горпыны; казаки с «остервенелыми говяжьими глазами»); хорошо сделана одна секунда-молния в горах (111 стр.). Но это – праведники в Гоморре.
Сергеев-Ценский для «Рассказа профессора» взял одну из простейших разновидностей сказа: красноармейский командир Рыбочкин повествует автору о своей жизни. Того напряженного, тревожного языка, последняя рябь которого еще была в «Движениях», теперь нет и в помине. Неоклассицизм этой вещи – вполне оправдан взятой формой и стоит, конечно, неизмеримо выше оперного ложноклассицизма. Ткань рассказа – крепкая, честная от начала до конца. Из художественной в публицистическую прозу вылезает только одна страница (194) – философский экскурс автора. Но, может быть, именно эта страница и поднимает весь рассказ над уровнем хорошего «рассказа из современного быта».
Единственное модерное ископаемое в «Недрах» – «Дья-волиада» Булгакова. У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе композиционной установки: фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин – одна из тех (немногих) формальных рамок, в какие можно уложить наше вчера – 19-й, 20-й год. Термин «кино» – приложим к этой вещи тем более, что вся повесть плоскостная, двухмерная, всё – на поверхности, и никакой, даже вершковой, глубины сцены – нет. С Булгаковым «Недра», кажется, впервые теряют свою классическую (и ложноклассическую) невинность, и, как это часто бывает, – обольстителем уездной старой девы становится первый же бойкий столичный молодой человек. Абсолютная ценность этой вещи Булгакова – уж очень какой-то бездумной – не велика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ.
В подборе стихов «Недра» еще выдерживают реалистически-бытовое целомудрие, – выдерживают так строго, что стихи Кириллова, Полонской, Орешина – одинаковы, как гривенники: из шести напечатанных стихотворений в четырех даже метр у всех авторов один и тот же – четырехстопный ямб.
3
Земля, как известно, стоит на трех китах; альманаху, как известно, полагается стоять на одном ките. В «Недрах» (IV) такой замкит – Серафимович, в «Наших Днях» (IV) вр<еменно> и<сполняющий> д<олжность> кита – Шишков; в «Недрах» – украинская опера, в «Наших Днях» – мелодрама «Ватага».
Это сейчас какая-то повальная болезнь: беллетристы разучились кончать, концы – всегда хуже начал. Может быть, корни этого – в самой нашей эпохе, похожей на роман, конца которого по своей арифметике не вычислит даже Шкловский. Концеболезнью страдает Серафимович, этим же болен и Шишков: в «Ватаге» именно на финише он захромал мелодрамой.
Тематика «Ватаги» автором выбрана удачно: не фальшивая, Мейерхольдовская, а настоящая «земля дыбом» – стихийное восстание сибирских мужиков против Колчака – тот самый земляной большевизм, в котором Блок видел всю суть истории последних наших лет. Тема эта любопытно сплетена с другой – на первый взгляд, совсем неожиданной: Ленин – и лестовка, большевики – из кержаков. Сквозь этот психологический парадокс автор умудряется пройти невредимым: партизаны-кержаки сносят церкви и рубят головы священникам с чистым сердцем – потому что все это никонианское, антихристово. Очень прямо, с жестокой горьковской прямотой, не прикрывая голой правды никакими квакерскими юбочками – показывает Шишков выброшенную из окна параличную старуху, перепиленного пополам протопопа, публичную казнь. С постановкой этих – казалось бы, самых трудных – сцен Шишков справился, но с HI акта – с X главы повести – актеры его начинают разыгрывать мелодраму: хрипят, рычат, завывают, гогочут, стонут.
«Сволочи, чего не переждали! – прохрипел Наперсток».
«Рыча и безумно взвизгивая, он грыз свои руки, разрывал одежду, выл, катался по земле…»
«Кровь… Кровь… – завывал он».
«Отец, отец… – весь содрогаясь, хрипел Зыков…»
«Ах, ты! Ах… – дико, страшно вскрикнул Зыков, он вцепился в свои волосы и застонал…» – и так далее.
И вот несколько добавочных авторских ремарок о героях: «Зыков – в черной поддевке, в красном кушаке, чернобородый, саженного роста великан»; «Зыков – на коне, конь скачет, из ноздрей валит дым, из-под копыт пламя»; дружина Зыкова – «как камень, как пламя, как лавина с гор»; сам он – «сказка, весь из чугуна и воли».
Героиня – Таня – «приникла печальным и милым, как сказка, лицом»; «печальная, милая девушка из печальной русской сказки – оторвалась от сказки».
Явно в эту «Таню-сказку» Шишков – вместе с Зыковым – влюблен до слез; и вместе с Таней – влюблен в Зыкова, и вместе еще с кем-то – ненавидит палача Наперстка. Все это прекрасно. Но пар будет послушно работать только тогда, когда мы стиснем его в стальном цилиндре; в бане – очень много пару, – но работы из него не добудешь.
Все ошибки «Ватаги» – ошибки в орнаменте, в красках; с композиционной стороны – повесть удачней. К рычанью актеров читатель постепенно привыкает, в конце концов (инстинкт самосохранения), перестает его замечать – и увлекается фабулой.
В композиции – упорный двуперстник Шишков начинает как будто уходить от канона: строение повести – кусковое, с быстро меняющимися декорациями – несколько смен в каждой главе.
Возле «кита»-«Ватаги» – резвится в «Наших Днях» стая рассказов помельче: почти все они проглатываются, не оставляя следа. Вчера мне дали за обедом котлету – кажется, котлету: не помню. Вкусно ли это было – не помню; было одно – что я это съел и что изжоги нет.
Изжога остается от Ляшко – «Стремена».
«Слова старика налиты спесью, тьмой»; «Вениамин ощущал их слепыми и липкими»… – так писали во времена блаженной памяти «декадентов». В те времена не знали искусства – показать эмоцию, ее описывал и; описанием эмоций полны и «Стремена»: «гнев взбурлил кровь», «заглушал зыбь тревоги», «гневно переносил волнующее из груди на полотно», «стыд обнажил череп», «волнение схлынуло», «в груди щемило тлеющей горечью» – это все только с 2–3 страниц.
Так же, как и «Ватага», «Стремена» – мелодрама, но – мелодрама сусальная: тот читатель, который примет мелодраму Шишкова, никогда не поверит мелодраме, разыгрывавшейся потому, что художник продал свою «идейную» картину «сытым». Этот художник – явно – из АХРР.
О «1919» К. Федина – отрывок из его, еще не законченного романа.
Я видел, как в 1919-м бережливо складывали всякий – хоть даже маленький – обрывок материи: был текстильный голод. Сейчас альманахи, журналы бережливо складывают на своих страницах обрывки романов: это литературный голод. И, может быть, совсем не метафорический голод писателя, вынужденного снимать две шкуры с одного романа. Автору можно сочувствовать. Но быть литературным Кювье и по одному зубу гадать о скелете – не стоит: роман Федина – не ископаемое.
«Гибель антенны», рассказ Огнева – несомненно, лучший из рассказов Пильняка. Вся лаборатория Пильняка – налицо: все то же постоянное смещение планов, тот же «многофазный ток», вклеивание документов, типографские трюки. Но у Пильняка прежнего – все это нанизано на катушечную нитку, она все время рвется;, у Пильняка, усовершенствованного Огневым, куски надеты на крепкий сюжетный стержень. У Пильняка усовершенствованного – композиционная работа идет рядом с орнаментальной: быстрые и острые синтаксические ходы; разнообразный словарь – от радиотерминов до народных речений; простая и смелая символика («пахло широко»… «пустяковый земной шар» – для облетающих его радиоволн и т. д.).
Мелкие промахи – не в счет («бензинных дизелей» – нигде на свете нет; и никто на свете не ставит дизелей на аэропланах; и никому на свете не надо ставить в прозе анапестов по Белому – как у Огнева на 301, 307 стр.). «Гибель антенны» – прекрасный рассказ; это – «наши дни» и по теме, и по технике. И все же этот прекрасный рассказ Огнева – лучший из рассказов Пильняка.
Я знаю случайно, что Пильняк и Огнев – приятели, оба в Коломне одновременно работали в поисках новой формы. Но Пильняк запатентовал свою форму раньше, и Огневу – что делать! – надо искать другого пути. Сил для этого у него хватит.
4
Третий альманах – «Круг»… От первых двух – шел свежий ветер, от третьего – «Круга» – внезапно и густо запахло нафталином 60-х годов. Не так давно Луначарский раскаялся в прежнем своем покровительстве футуризму и взял под высокую руку некоего Островского. Не этот ли новейший лозунг – «Назад, к Островскому!» – подействовал и на «Круг»?
Но если бы еще это было – назад к Островскому: это – назад к Успенскому, и не к Глебу, не к Николаю, а к А. Успенскому. Этому Успенскому, автору повести «Переподготовка» – нужна просто подготовка, самая элементарная подготовка, чтобы научиться хоть немного владеть техникой рассказа и научиться пришивать тенденцию хотя бы не такой здоровенной мешочной иглой.
Современна в повести только тема: послереволюционное захолустье. Задача автора – не искусство, а проповедь; его задача – «обличить» это захолустье, и обличить не как-нибудь предерзостно, а сколь возможно патриотически. Впрочем, даже и такая – реверансная – сатира показалась редакции опасной, и повесть выпустили, наклеив ей на причинное место «предисловие».
Вдохновленный самым последним из прочитанных им русских писателей – Денисом Фонвизиным, – А. Успенский начинает с того, что наклеивает ярлычки на своих героев: Азбукин (учитель – конечно же!), Налогов (из Финотдела – ясно!), Усердное, Молчальник… Затем эти аллегории разгуливают по страницам; автор же, заложив руку за борт сюртука (непременно длинный – ниже колен сюртук), читает им мораль:
«Эх, Головотяпск! Головотяпск! Высушить бы всю грязь, в которой постоянно купаешься ты; очистить бы тебя, приубрать, приукрасить; приобщить бы тебя к радости новой, разумной и прекрасной!»
Цитата – «Сейте разумное, доброе, вечное» – в повести не встречается ни разу. Но, несомненно, именно этой цитатой всегда кончает автор свои ораторские выступления в родном Головотяпске – и старушки мужского и женского пола утирают слезы…
Было бы, впрочем, клеветою сказать, что А. Успенский почил на Фонвизине: в чтении нынешних газет – он Усердное, и оттуда берет самые сусальные штампы. Жаль усердного автора и еще больше жаль богатого анекдотического материала, погубленного обработкой.
Невинность натурализма 60-х годов, не омраченного никакими композиционными и стилистическими ересями, в повести Айзмана («Их жизнь, их смерть»), в рассказах Шишкова («Черный час») и Федоровича («Сказ о боге Кичаг и Федоре Козьмиче»).
Повесть Айзмана – с французского, под Золя. «Черный час» Шишкова – рассказ из очень старой его (и вообще – старой) этнографической серии, с какой он когда-то начинал. Сегодня – есть только в теме рассказа Федоровича.
Повешенной Федоровичем вывеске «сказ» – верить следует не больше, чем вывеске «Василий Федоров из Парижа»: сказа никакого здесь нет, это, конечно, просто рассказ, в авторских ремарках изредка освеженный народным словарем. Когда-нибудь у автора, пожалуй, выйдет и сказ: диалогическим языком он владеет и чувствует свойственный народной речи юмор. Там, где говорят хохлы, автор (или редактор?) с серьезным видом снабжает рассказ примечаниями, что «пивень» – есть петух, а «очипок» – повойник. Не менее примечаний поучителен и сюжет: низвержение заводской комячейкой статуи Александра I («Федора Козьмича»), вокруг которой сложился некий народный миф. Впрочем, сусальности – для нее тема давала простор – автор сумел избежать.
В заколдованный круг сказа попали в «Круге» и четыре остальных автора: Бабель («Иисусов грех»), Леонов («Гибель Егорушки»), Форш («Для базы») и Рукавишников («Скомороший сказ»).
Лучше всего эта форма удалась Бабелю: вся его небольшая новелла целиком – включая авторские ремарки – сложена из элементов народного диалогического языка, нужные синонимы выбраны очень умело, использованы типичные для народной речи деформации синтаксиса. Работа над орнаментом не заставила автора забыть о композиционной задаче – как это часто бывает. И еще одно: Бабель (в этой хотя бы вещи) помнит, что кроме глаз, языка и прочего – у него есть еще и мозг, многими писателями сейчас принимаемый за орган рудиментарный, вроде appendix'a: коротенькая новелла приподнята над бытом и освещена серьезной мыслью.
В сказе Леонова трехмерные, бытовые ширмы временами тоже раздвигаются в фантастику (появление монашка Агапия), но к концу автор вдруг взглянул на землю, у него закружилась голова – и он наспех снизился в реальный план: обещавший развернуться во что-то большое лёт Егорушки и Агапия на «человечьих птицах» – раскрывается автором как сон, к рассказу пристегивается неудачная концовка (опять – концеболезнь).
Весь сказ построен в каком-то церковном ладе, и в нем есть местами приторность. Получается она от обилия уменьшительно-ласкательных синонимов (ягодка, клюковка, брусничка, гвоздик, кустик, Егорушка, хижинка, сараюшко, заливчик, березки, младенчик, мертвенькая благостынька и т. д.) и от встречающейся кое-где перестановки эпитетов после определяемого («костры сияний северных», «в зыбинах мох белый», «рыхлой земле сырой» и т. д.). Лексика – как обычно у Леонова – богатая и смелая, много очень органических неологизмов. Ошибки рассказа – хорошие ошибки: они обусловлены трудностью заданий, поставленных себе автором, а тяготение к трудным задачам – хороший знак.
Задача, поставленная себе О. Форш, – гораздо легче: закрепить в живой сказовой форме кусок «революционного быта» – творящейся в наши дни церковной революции. Сказ проведен очень последовательно и умело (откуда только у Форш это неприятное, одесское «выявить», «выявлять»?), и все же это – только плоский мир быта и только сказовая, уже канонизованная, форма. От автора ждешь хороших ошибок в трудном: они ценнее легких достижений.
Рукавишниковский опыт стихотворного сказа – очень любопытен. Ритмическое строение народного эпоса (у Рукавишникова – попытка реставрировать именно эту форму) и ритмическое строение художественной прозы – по сути аналогичные – до сих пор остаются не вскрытыми. Неудачна была попытка Белого подойти к этому вопросу с метрическим стандартом: в сущности, с тем. же стандартом подходит в своем запутанном и бескостном предисловии Малишевский.
Все остальные стихи в «Круге» – по старинке, вплоть до того, что в стихах Наседкина кто-то «радостный и близкий смеется тихо у воды». Новое только у Есенина: он, кажется, впервые пробует себя в патетической форме оды – и, увы! до чего это оказывается близко к сусальности прочих бесчисленных од. Быть может, отчасти тут и вина редакции, украсившей стихи Есенина длинным ожерельем многоточий…
5
Рядом с солидными «Нашими Днями» и сытыми «Недрами», рядом с пузатым «Кругом» – тощенький незнакомец со странным именем «Рол» – конфузливо садится на краешек стула, люди в сюртуках и люди в галифе – его не замечают, а между тем поговорить с этим незнакомцем – и о нем – стоит.
Не о стихах: в стихах здесь та же золотая, разной пробы, середина. Но из четырех прозаиков двое – Лидии и Иван Новиков – выше, чем многое в солидных их соседях.
В картинах французских импрессионистов часто видишь цветовые рефлексы на лицах: зеленые – от листьев, оранжевые – от апельсинов, малиновые – от зонтика. Вот такие же посторонние рефлексы ложились на лицо Лидина – с самых первых его, окрашенных Буниным, рассказов. Сейчас над ним – Лев Толстой, на лице у Лидина – Толстовские тона. Но это настолько же естественно, как то, что над всеми нами – небо, и под этим небом «Одна ночь» Лидина вышла густой и полновесной. Близкая нашему времени тема – недавняя война; с искусными паузами развитая фабула – соединена с языком, освеженным (простыми как будто) сдвигами в символике («зайчик стыдливой улыбки», «звезды крепко лились»). И за всей этой внешней тканью – ощущается некий синтез, дающий рассказу перспективу, глубину.
Еще больше этого синтеза, еще глубже перспектива в рассказе Ивана Новикова – «Ангел на земле».
По-видимому, в ангелов мы до сих пор еще верим: чем иначе объяснить, что мы так боимся упоминаний о них. А боимся напрасно: миф об ангеле, восставшем против своего владыки – прекраснейший из всех мифов, самый гордый, самый революционный, самый бессмертный из них. В рассказе Новикова – вариант именно этого мифа, вплетенного в наш, земной, и наш, русский, быт: восставший ангел у Новикова – попадает в работники к сельскому попу, уходит от него, чтобы звать к восстанию деревенскую голытьбу, – и уходит от людей, потому что он не в силах пролить кровь.
Летний зной – над всем рассказом. Это тот самый зной, когда все торопливо наливается соком, цветет, и цветут любовью люди; и это тот самый зной, когда к закату повисают жуткие медные тучи, загорается и рушится небо. Ощущение близости любовного разряда и грозового разряда бунта – держит в напряжении до самого конца. Но на последней странице оказалось, что и Новиков не ушел от всеобщей эпидемии – плохих концовок (хорошо еще, если перенесший эту болезнь получает иммунитет!). Выросший в конце, по изволению автора, розовый куст необходимо вырубить – чтобы не был розовым конец.
Язык рассказа торжественный, мерный – хорош уже по одному тому, что он звучит как нарушение сегодняшних – прыгающих – телеграфно-кодных канонов.
6
Это случайно сказавшееся слово «сегодняшний» – нынче самый ходовой аршин, каким меряют искусство: сегодняшнее – хорошо, несегодняшнее – плохо; или: современное – хорошо, несовременное – плохо.
Но в том-то и дело, что не «или»: «сегодняшнее» и «современное» – величины разных измерений; у «сегодняшнего» – практически – нет измерения во времени, оно умирает завтра, а «современное» – живет во временных масштабах эпохи. Сегодняшнее – жадно цепляется за жизнь, не разбирая средств: надо торопиться – жить только до завтра. И отсюда в сегодняшнем – непременная юркость, угодливость, легковесность, боязнь копнуть на вершок глубже, боязнь увидать правду голой. Современное – стоит над сегодня, оно может с ним диссонировать, оно может оказаться (или показаться) близоруким – потому что оно дальнозорко, оно смотрит вдаль. От эпохи – сегодняшнее берет только окраску, кожу, это закон мимикрии; современному – эпоха передает сердце и мозг, это закон наследственности.
Так приведенная выше оценочная формула – сводится к другой, более короткой: современное в искусстве – хорошо, сегодняшнее в искусстве – плохо. Если приложить эту формулу к новой литературе, ко всему, что сейчас ходит с паспортом художественной литературы, то, к сожалению, станет ясно, что там сегодняшнего – куда больше, чем современного. И, кажется, пропорция эта, отношение сегодняшнего к современному, все растет, так же как растет, лопухом лезет изо всех щелей мещанин, заглушая человека.
Перегудам. От редакции «Русского Современника»*
1
Знакомы ли вы с Оноприем Опанасовичем Перегудом? Конечно, знакомы – только вы не узнаёте его, потому что он постригся, переменил костюм. И чтобы при следующей встрече вы не забыли раскланяться с ним, мы напомним вам о самом замечательном происшествии в жизни Оноприя Опанасовича.
Оноприй Опанасович жил тихо и мирно, в животном благоволении. Но однажды его обуяла жажда славы, и слава его была в том, чтобы непременно отыскать и предоставить по начальству «потрясователя основ». На счастье, к соседу приехала учительница – стриженая и в очках. Ясно: она и есть! И когда она обмолвилась при нашем герое подозрительными изречениями насчет богатых и бедных, счастливец полетел к начальству, прихватив с собой листок с напечатленными там «выражениями фраз ее руки». Оноприй Опанасович уже ощущал ниспадающие на его грудь звезды, но тут-то и вышел невероятный конфуз: начальство обнаружило, что записанные на листке страшные «выражения» ни больше и ни меньше, как… евангельские тексты.
Н. С. Лесков в своем «Заячьем Ремизе» уверяет нас, что это было началом гибели Оноприя Опанасовича, и описывает даже романтическую его кончину. Но тут Лескова несомненно кто-то ввел в заблуждение: Оноприй Перегуд не только не погиб, не только здравствует и посейчас, а напротив того – как бы даже размножился; причем, дабы не напоминать о происшедшем некогда конфузе, свое громкое литературное имя – Перегуд – он заменяет подписями скромными и мало кому известными, как то: Розенталь, Лелевич, Родов – и так далее.
Оноприй Опанасович Розенталь снова переживает минуту незабвенного восторга: найден, найден «потрясователь основ»! Этот потрясователь – конечно же, «Русский Современник». И так же, как это было в первый раз, в руках у Оноприя Опанасовича – листок «с выражениями фраз руки» – доказательства неопровержимые, смотрите сами:
День минувший вечно жив, Душа, как птица, мчится мимо… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Там расцветает та же роза Под тою ж свежею росой.Вы думаете, что это – просто лирические стихи Сологуба и что роза – так она и есть роза? О, молодость! О, неопытность! Вот Оноприй Розенталь сразу же догадался, что в этих строчках сокрыты мечты о «лучшем будущем, когда не будет налогов, уплотнения, Г.П.У., когда, одним словом, будет так же, как вчера». Вот что такое «роза»!
Или возьмите вы, например, две строчки, подслушанные Оноприем Розенталем из четырех стихотворений Пастернака, которые были напечатаны в «Русском Современнике» № 2:
Ты распугал моих товарок, Октябрь, ты страху задал им.Пусть себе хитрый Пастернак пишет дальше и о сентябре, и об астрах, и о снеге, пусть заглавие стихотворению дает «Осень», – великого Оноприя этим не проведешь: перед ним «опять выплывает картина: Ильинка, облава и распуганные Октябрем товарки».
И то, что вам, наивные читатели, было, может быть, неясно, – не укроется от хитроумного ловца человеков: «Какой свободы хочется „Русскому Современнику“? Очевидно, буржуазной… Но ее нет, и нет никакой надежды на ее возврат, и вот „Русский Современник“ пишет»…
А вот угадайте: что дальше процитирует Оноприй Розенталь, чтобы окончательно уложить «Русский Современник»? Можно держать любое пари, что не угадает никто, ибо Оноприям законы (логики) не писаны. И Оноприй кончает:
«И вот „Русский Современник“ пишет: „…я тщательно старался в этом отрывке не сводить концы с концами“ (из статьи Шкловского)».
Вы, пожалуй, вспомните, что в этой цитате Шкловский говорит не о чем другом, как о своей обычной растрепанной манере письма, и будете ломать себе голову: какой же мостик от этой цитаты – к «буржуазной свободе»? Не трудитесь напрасно: этой загадки так же не разгадать, как загадки в армянском анекдоте. Оноприй Перегуд, как известно, наукам обучался в архиерейском хоре; для Оноприя Розенталя, несомненно, учебником логики был сборник армянских анекдотов. Только и всего. Но как же случилось, что его армянский анекдот напечатан в отделе «Библиография» московской «Правды» в № от 5/XI?
Под фамилией «Лелевич» («Большевик», № 5–6) Оноприй Перегуд все так же верен себе: снова найден потрясователь, снова – стихи Сологуба, все те же самые, и на основе этих стихов – все тот же армянский силлогизм. На стихах Ахматовой приключение Оноприя Перегуда повторяется почти буквально – с тою только разницей, что Оноприй Перегуд прискакал с листком, где был записан библейский текст, а Оноприй Лелевич прискакал с листком, где записано стихотворение на библейский текст.
В стихотворении Ахматовой рассказывается, как жена Лота превратилась в соляной столп, после того как оглянулась на гибнущий Содом. «Ага: оглянулась! – вы видели?» – Лелевич торжествует…
Дорогие читатели, если сзади вас гудит грузовик, гибнет Содом, свистит милиционер, – не оглядывайтесь назад, иначе Лелевич тотчас же запишет в свой листок то же самое, что записал он о бедной жене Лота: «Жена Лота, как известно, жестоко поплатилась за эту привязанность к прогнившему миру». А затем процитирует четыре строчки Ахматовой:
Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньшей ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет Отдавшую жизнь за единственный взгляд…– и из этих строк, в полном согласии с Положением об усиленной армянской логике, сделает вывод: «Можно ли желать еще более отчетливого доказательства глубочайшей нутряной антиреволюционности Ахматовой?»
Так, размножаясь все более, Оноприй Перегуд, под разными именами и литерами, мелькает в «Октябре» (№ 2), в Киевской «Правде» (№ от 22/VI), в «Батуме» (№ от 17/VIII), в «Советской Сибири» (№ от 3/VI) и т. д. – пока наконец его не настигает судьба лесковского Перегуда: страшный «потрясователь основ, в шляпе земли греческой» принимает формы все более чудовищные и фантастические, у Перегуда мутится в голове…
В этот период бедный Оноприй Опанасович носит имя «С. Родов» и выступает с речью на известном летнем Литературном Совещании (см<отри> «К вопросу о политике РКП в худож<ественной> литературе», изд<ательство> «Красная Новь»). Мы не видели его, когда он произнес там эту свою историческую фразу:
– За «русским Современником» стоят Эфрос и заграничный капитал.
И все же сейчас мы ясно видим, как он бледнеет и как у него широко раскрываются глаза, когда он произносит это страшное слово:
– Эфрос!!
Совершенно очевидно, что для Родова Эфрос – это название какого-то международного тайного общества, название, которое расшифровывается, скажем, так: «Эзотерическое Франко-Русское Общество Смерти» – Э.Ф.Р.О.С.
Да, когда этакое общество и акулы заграничного капитала объединяются, чтобы издавать «Русский Современник», – конечно, жутко!
2
От Лескова мы узнаем, что в самую трудную минуту, когда у Оноприя Опанасовича голова шла кругом, ему была ниспослана помощь свыше: явился некий человек, родом из Орловской губернии, а по прозвищу Дарвалдай, – явился и помог растерявшемуся Перегуду «все знать, и видеть, и людей ловить». Чтобы исполнилось все предсказанное о Перегуде Лесковым, мы готовы на минуту стать Дарвалдаем, мы готовы помочь Оноприю Розенталю, Оноприю Лелевичу и другим перегудам. Мы печатаем здесь еще одно стихотворение, – держите это крепче, дорогой Оноприй Опанасович, для вас это клад, не упускайте ни одного слова:
Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты…«Ага, брат! Так ты еще помнишь? знаем мы, что ты помнишь…» Рука у Оноприя Опанасовича дрожит от волнения, он пишет торопливо:
«Ныне перед нами выступление буржуазной литературы уже в открытом виде, без забрала… Покупает и продает фунты «делец» с Ильинки, но где-то там, в глубине души, все еще не погасло, тлеет воспоминание о «чудном мгновении». Всякому ясно, что для нэпмана этим – увы! – мгновеньем были те дни, когда власть была в руках Милюкова, которого автор стихов называет, конечно, «гением чистой красоты!»
Но все это было только «мимолетным виденьем», потому что:
Шли годы. Бурь порыв мятежный Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты.«Бурь порыв мятежный» – это, конечно, Октябрь, рассеявший все прежние мечты нэпмана. Ясно, какие мечты: мечты о буржуазной свободе, а также – о Дарданеллах. Безнадежность, безвыходность охватывает все существо нэпмана, и он пишет:
В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои…Для уплотненного нэпмана, кандидата в Нарым, сегодняшнее – конечно, только «мрак заточенья», нэпман еще надеется на лучшее будущее, когда не будет налогов, уплотнения, Г.П.У. И все это на фоне прикрытой клеветы и тонко выдержанного пасквиля – см<отри> дальнейшие строки стихов:
Без божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви…Еще бы! Размагниченному интеллигенту антирелигиозная борьба, конечно, стала поперек глотки, – он не может жить «без божества». И не может жить «без вдохновенья» – без упадочной интеллигентской литературы, без всех этих Пильняков и Сологубов.
Можно ли желать более откровенного и недвусмысленного признания в органической связанности с погибшим старым миром? Можно ли желать более отчетливого доказательства глубочайшей нутряной антиреволюционности?»
Мы не хотим заподозрить Оноприя Опанасовича в близком знакомстве с упадочной литературой: мы откроем ему, что так убедительно прокомментированные стихи – известное послание Пушкина к Анне Петровне Керн. И мы не скроем от читателя, что это только гипотетическая рецензия Оноприя Перегуда и что написали ее мы, во исполнение обязанностей Дарвалдая. Но кто же может поручиться, что эта гипотеза не станет реальным фактом? Кто может гарантировать, что завтра Перегуд под какой-нибудь фамилией действительно не напечатает такой рецензии о любовных стихах Пушкина?
3
Впрочем, довольно шутить. Когда этакие вот армянские анекдоты о себе читают Ахматова, Пильняк, Пастернак, Сологуб, Замятин, Шкловский, Эфрос – им, вероятно, только смешно. Но молодой поэт из «Перевала» Кузнецов полез от такой критики в петлю.
Пора сказать вслух, что по части передергивания и «чтения в сердцах» развязные репортеры вроде Розента-ля переходят всякую границу пристойности. В письме группы писателей, оглашенном на летнем литературном совещании, справедливо было сказано, что такая критика «не достойна ни литературы, ни революции». И не менее справедливы заключительные слова председателя этого совещания – Я. Яковлева: «Наша критика не только не выдержана, она отсутствует… У нас печатаются рецензии по дружбе, по знакомству. Это иначе как разложением назвать нельзя».
Да, иначе как разложением это назвать нельзя – и в особенности это относится к газетной критике. В лучшем случае – это «художественная» критика Н. Смирнова, который открывает нового Флобера в Сейфуллиной – тут же, рядом, довольно точно определяя ее как «скромную, „старомодную“, провинциальную писательницу», в худшем случае – это критика Розенталей, которые ежеминутно открывают все новых «потрясователей».
Пора же наконец понять, что услужливые друзья-Розентали опаснее врагов. Опасны они не только потому, что становятся героями анекдотов, но еще и потому, что они – политически безграмотны.
Все знают этот случай: однажды Ленину попался на глаза плакат с надписью – «Царствию рабочих и крестьян не будет конца», и Ленин распорядился, чтобы этот безграмотный плакат тотчас же и подальше убрали. Если этот плакат не был написан Розенталем, то это вышло случайно: в мировоззрении Розенталя – ровно столько же квадратных вершков, сколько их в этом плакате, и этими вершками измеряется кругозор нового мещанина.
Мещанство в мире создано было в седьмой день – в тот самый день, когда господь бог, обозрев вселенную, нашел, что все – «добро зело» – и… почил от дел своих. Это – миф о бессмертном мещанине всех времен и народов. Розентали – живут в седьмой день, дальше семи они не умеют считать: восьмого, тысячного дня, целых веков впереди – они не видят. И если Ленину было ясно, что сегодняшнее – это только переходный период, за которым – безгосударственный и бесклассовый строй, то Розенталям ясно, что переходный период – это седьмой день, что он хоть и переходный, но непреходящий. Поэтому-то Розенталь и торопится записать в свой синодик, что для «Русского Современника» сегодняшнее – это «преходящее, как преходящ сегодняшний день, и так же покрывается современностью, как сегодняшний день эпохи».
Да, для мещанина нет большего преступления, чем думать о великом завтра, какое ждет человека: еще бы – ведь это портит самодовольный покой седьмого дня. В этом преступлении «Р<усский> С<овременник>» охотно сознается. Но настоящие, диалектически мыслящие коммунисты, надо думать, окажутся не на стороне Розента-ля, и они хорошо сделают, если распорядятся, чтобы Розенталь еще раз снес на чердак свой плакат: этот плакат только компрометирует большие идеи.
Не худо также напомнить Розенталю, что «вольт» – это трюк не для литературной критики, а для карточной игры, да и здесь, кажется, такие трюки не все одобряют – надо быть осторожным.
О некоем воображаемом «Русском Современнике» Розенталь уведомляет, что этот журнал «живет вчерашним и завтрашним, которое, он (журнал) думает, будет похоже на вчерашнее, но только не сегодняшним…» – и делает ссылку: «См. Евг. Замятин – „О сегодняшнем и современном“». Очень неосторожно обращение Розенталя с русской грамматикой; но еще неосторожнее делать ссылки на статью, из которой, при самом пламенном желании, нельзя выловить ничего похожего на сочиненное Розенталем. О «вчерашнем и завтрашнем, которое будет похоже на вчерашнее» – это карта, довольно неловко вытащенная Розенталем из своего кармана.
И вот, черным по белому, чтобы раз и навсегда положить конец всяким «вольтам» всех Розенталей: «Русскому Современнику» все вчерашнее или похожее на вчерашнее – чуждо. И в «Русском Современнике» нет людей, враждебных революции, но есть люди, враждебные этой отрыжке вчерашнего: правдобоязни, угодничеству, самодовольству – в какие бы цвета это ни перекрашивалось.
4
Случайно Розенталь не солгал в одном: для «Русского Современника» – «завтрашнее – это хорошо». Да, вера в то, что человеческое завтра будет прекрасно, что оно будет лучше, чем сегодня, что оно будет совсем не похоже на вчера, что тогда не нужны будут ни тюрьмы, ни войны, – вера в такое завтра у нас есть. Это слово «завтра» – не было сказано нигде, но оно должно, по нашему мнению, звучать сейчас доминантой в литературе – и эта доминанта прежде всего определяет современную большую литературу.
Большая и малая хирургия, большая и малая астрономия – такая классификация давно уже установлена в науке, и круг деятельности большого и малого там строго разграничен. Большая астрономия – перестраивает человеческую мысль через миллион миллионов лет и прозревает путь всей солнечной системы к созвездию Геркулеса; малая астрономия – дает формулы, по которым штурман может определить местонахождение корабля, проверить компас. Большая хирургия – завтра узнает тайну продления человеческой жизни; малая хирургия – учит, как вскрыть нарыв и перевязать рану. Точно так же большая литература – о дальних, конечных задачах революции, о том завтра, когда уже будет сделан «прыжок из царства необходимости в царство свободы»; и малая литература – о том, как сегодня проверить компас и перевязать рану.
Кто же нужнее: американский чудодей Каррелл – или скромный ротный фельдшер? Каррелл как будто занимается разными пустяками: целыми месяцами бьется у него в колбе вырезанное кроличье сердце, а фельдшер вчера вскрыл нарыв на ноге – и сегодня я опять годен к работе. Верно. Но сделать отсюда вывод, что фельдшер нужнее Каррелла – может только обыватель, для которого время измеряется одним сегодня, а мир – десятком квадратных вершков.
Вот именно этим, обывательским взглядом на литературу – сейчас заражено мнение: «Большая литература – не нужна, нужно только литературное фельдшерство, литература, полезная сегодня, сейчас». Но сейчасом – польза этой литературы и кончается: завтра – она будет продаваться на вес. Впрочем, по признанию Н. Мещерякова (протоколы литер<атурного> совещания), она продается на вес и сейчас. И если даже сегодня литературному фельдшерству читатель предпочитает, скажем, Пильняка, так это потому, что Пильняк – чтобы ни говорили о его недостатках – работает в области большой, а не малой литературы, он пробует мыслить не вершками, а верстами. Пусть он ошибается, но эти ошибки – ценнее самоуверенности фельдшеров: это ошибки человека, который ищет.
Вероятно, ошибается и «Русский Современник»; вероятно, только немногое на его страницах и только в первом приближении решает задачу о «большой» литературе. Но эта задача – поставлена, и она остается главной задачей журнала, невзирая на все армянские анекдоты.
О синтетизме*
+, –, – –
вот три школы в искусстве – и нет никаких других. Утверждение; отрицание; и синтез – отрицание отрицания. Силлогизм замкнут, круг завершен. Над ним возникает новый – и все тот же – круг. И так из кругов – подпирающая небо спираль искусства.
Спираль; винтовая лестница в Вавилонской башне; путь аэро, кругами поднимающегося ввысь, – вот путь искусства. Уравнение движения искусства – уравнение спирали. И в каждом из кругов этой спирали, в лице, в жестах, в голосе каждой школы – одна из этих печатей.
+, –, – –
Плюс: Адам – только глина, мир – только глина. Влажная, изумрудная глина трав; персиково-теплая: на изумруде – нагое тело Евы, вишнево-румяная: губы и острия грудей Евы, яблоки, вино. Яркая, простая, крепкая, грубая плоть: Молешотт, Бюхнер, Рубенс, Репин, Золя, Толстой. Горький, реализм, натурализм.
Но вот Адам уже утолен Евой. Уже не влекут больше алые цветы ее тела, он в первый раз погружается в ее глаза, и на дне этих жутких колодцев, прорезанных в глиняном, трехмерном мире, – туманно брезжит иной мир. И выцветает изумруд трав; забыты румяные, упругие губы; объятья расплелись; минус – всему глиняному миру, «нет» – всей плоти. Потому что там, на дне, в зыбких зеркалах – новая Ева, в тысячу раз прекраснее этой, но она трагически недостижима, она – Смерть. И Шопенгауэр, Боттичелли, Росетти, Врубель, Чюрлёнис, Верлен, Блок, идеализм, символизм.
Еще годы, минуты – Адам вновь вздрогнул, коснувшись губ и коленей Евы, опять кровь прилила к щекам, ноздри, раздуваясь, пьют зеленое вино трав: долой минус! Но сегодняшний художник, поэт, сегодняшний Адам – уже отравлен знанием той, однажды мелькнувшей, Евы, и на губах этой Евы – от его поцелуев вместе с сладостью остается горький привкус иронии. Под румяным телом прошедший через отрицание умудренный Адам – знает скелет. Но от этого – только еще исступленней поцелуи, еще пьянее любовь, еще ярче краски, еще острее глаза, выхватывающие самую секундную суть линий и форм. Так – синтез: Ницше, Уитмен, Гоген, Сера, Пикассо – новый и еще мало кому известный Пикассо – и все мы, большие и малые, работающие в сегодняшнем искусстве, – все равно, как бы его ни называть: неореализм, синтетизм, экспрессионизм.
Завтра нас не будет. Завтра пойдет новый круг, Адам снова начнет свой художественный опыт: это – история искусства.
Уравнение искусства – уравнение бесконечной спирали. Я хочу найти координаты сегодняшнего круга этой спирали, и Юрий Анненков для меня – математическая точка на круге: чтобы, опираясь на нее, исследовать уравнение.
Тактическая аксиома: во всяком бою – непременно нужна жертвенная группа разведчиков, обреченная перейти за некую страшную черту – и там устлать собою землю под жестокий смех (пулеметов).
В бою между антитезой и синтезом – между символизмом и неореализмом – такими самоотверженными разведчиками оказались все многочисленные кланы футуристов. Гинденбург искусства дал им задание бесчеловечное, в котором они должны были погибнуть все до одного: это задание – reductio ad absurdum[15]. Они выполнили это лихо, геройски, честно; отечество их не забудет. Они устлали собою землю под жестокий смех, но эта жертва не пропала даром: кубизм, супрематизм, «беспредметное искусство» – были нужны, чтобы увидеть, куда не следует идти, чтобы узнать, что прячется за той чертой, какую переступили герои.
Они были именно только отрядом разведчиков, и те из них, у кого инстинкт жизни оказался сильнее безрассудного мужества, – вернулись из разведки обратно к выславшей их части, чтобы вновь идти в бой уже в сомкнутом строю – под знаменем синтетизма, неореализма.
Так случилось с Пикассо: его последние работы – портрет Стравинского, декорации для дягилевского балета «Тпсогпе» – поворот к Энгру. Тем же путем явно пойдет Маяковский – если только окажется, что рост его выше «РОСТа». Так же спасся и Анненков.
Уже, казалось, готова была захлопнуться за ним крышка схоластического куба, но сильный, живучий художественный организм одолел. Вот – от какого-то огня – покоробились, изогнулись, зашевелились у него прямые; от элементарных формул треугольника, квадрата, окружности он бесстрашно перешел к сложным интегральным кривым. Но еще линии – разорваны, мечутся, как инфузории в капле, как иглы в насыщенном, кристаллизующемся растворе. Еще момент, год – раствор окреп гранями – живыми кристаллами – телами: Анненковский – «Желтый траур», огромное полотно «Адам и Ева», его портреты.
И сейчас Анненков – там же, куда из символистских темных блиндажей, из окопов «Мира Искусства» незаметно для себя пришли все наиболее зоркие и любящие жизнь, кому ненавистна мысль уйти во вчера. Сюда – к синтетизму и неореализму – пришел перед смертью Блок со своими «Двенадцатью» (и не случайно, что иллюстратором для «Двенадцати» выбрал он Анненкова). Сюда пришел незаметно для себя Андрей Белый: недавно напечатанное им «Преступление Николая Летаева». По-видимому, здесь же Судейкин: его «Чаепитие», «Катание на масленице» и другие последние вещи. Здесь, конечно, Борис Григорьев: его графика, весь великолепный его цикл «Расея». И уверен: к неореализму с разных сторон в Париже, в Берлине, в Чикаго и в Лондоне пришли еще многие, – только мы, застойные, не знаем о них.
Но у Белого профессор Летаев – одновременно также и скиф, с копьем летящий на коне по степи; и водосточный желоб Косяковского дома – уже не желоб, а время. Но у Анненкова – к Еве идет Адам с балалайкой, и у Адамовых ног в раю – какой-то паровозик, петух и сапог; и в пророческом «Желтом трауре» на Медведице в небе воссел малый с гармошкой. Не смешно ли тут говорить о каком-то реализме – хотя бы даже и «нео»? Ведь известно, что желоб – есть желоб, и в раю – даже земном – все без сапог.
Но это известно – Фомам. Нам известно: что Фома из всех 12 апостолов только один – не был художник, только один не умел видеть ничего другого, кроме того, что можно ощупать. И нам, протитрованным сквозь Шопенгауэра, Канта, идеализм, символизм, – нам известно: мир, вещь в себе, реальность – вовсе не то, что видят Фомы.
Как будто так реально и бесспорно: ваша рука. Вы видите гладкую, розовую кожу, покрытую легчайшим пушком. Так просто и бесспорно.
И вот – кусочек этой кожи, освященный жестокой иронией микроскопа: канавы, ямы, межи; толстые стебли неведомых растений – некогда волосы; огромная серая глыба земли – или метеорит, свалившийся с бесконечно далекого неба – потолка, – то, что недавно еще было пылинкой; целый фантастический мир – быть может, равнина где-нибудь на Марсе.
Но все же это – ваша рука. И кто скажет, что «реальная» – эта вот, привычная, гладкая, видимая всем Фомам, а не та – фантастическая равнина на Марсе?
Реализм видел мир простым глазом; символизму мелькнул сквозь поверхность мира скелет – и символизм отвернулся от мира. Это – тезис и антитезис, синтез подошел к миру со сложным набором стекол – и ему открываются гротескные, странные множества миров; открывается, что человек – это вселенная, где солнце – атом, планеты – молекулы, и рука – конечно, сияющее, необъятное созвездие Руки, открывается, что земля – лейкоцит, Орион – только уродливая родинка на губе, и лёт солнечной системы к Геркулесу – это только гигантская перистальтика кишок. Открывается, красота полена – и трупное безобразие луны, открывается ничтожнейшее, грандиознейшее величие человека, открывается – относительность всего. И разве не естественно, что в философии неореализма – одновременно – влюбленность в жизнь и взрывание жизни страшнейшим из динамитов: улыбкой?
В наши дни единственная фантастика – это вчерашняя жизнь на прочных китах. Сегодня – Апокалипсис можно издавать в виде ежедневной газеты; завтра – мы совершенно спокойно купим место в sleeping car'е[16] на Марс. Эйнштейном – сорваны с якорей самое пространство и время. И искусство, выросшее из этой, сегодняшней, реальности – разве может не быть фантастическим, похожим на сон?
Но все-таки есть еще дома, сапоги, папиросы; и рядом с конторой, где продаются билеты на Марс, – магазин, где продаются колбасы из собачины. Отсюда в сегодняшнем искусстве – синтез фантастики с бытом. Каждую деталь – можно ощупать; все имеет меру, вес, запах; из всего – сок, как из спелой вишни. И все же из камней, сапог, папирос, колбас – фантазм, сон.
Это – тот самый сплав, тайну которого так хорошо знали Иероним Босх и «адский» Питер Брейгель. Эту тайну знают и некоторые из молодых, в том числе – Анненков, может быть – особенно Анненков. Фантастический его гармонист верхом на звездах, и свинья, везущая гроб, и рай с сапогами и балалайкой – это, конечно, реальность, новая, сегодняшняя реальность; не realia – да, но realiora. И не случайно, а закономерно то, что в театральных своих работах Анненков связывает себя с постановкою «Носа» Гоголя, «Скверного анекдота» Достоевского, «Лулу» Ведекинда.
После произведенного Эйнштейном геометрически-философского землетрясения – окончательно погибли прежнее пространство и время. Но еще до Эйнштейна землетрясение это было записано сейсмографом нового искусства, еще до Эйнштейна покачнулась аксонометрия перспективы, треснули оси Х-ов,Y-ов,Z-ов – и размножились лучами. В одну секунду – не одна, а сотни секунд; и на портрете Горького – рядом с лицом повисли: секундная, колючая от штыков улица, секундный купол, секундный дремлющий Будда; на картине одновременно – Адам, сапог, поезд. И в сюжетах словесных картин – рядом, в одной плоскости: мамонты и домовые комитеты сегодняшнего Петербурга; Лот – и профессор Летаев. Произошло смещение планов в пространстве и времени.
Смещение планов для изображения сегодняшней, фантастической реальности – такой же логически необходимый метод, как в классической начертательной геометрии – проектирование на плоскости Х-ов,Y-ob, Z-ob. Дверь к этому методу – ценою своих лбов – пробили футуристы. Но они пользовались им, как первокурсник, поставивший в божницу себе дифференциал и не знающий, что дифференциал без интеграла – это котел без манометра. И оттого у них мир – котел – лопнул на тысячу бессвязных кусков, слова разложились в заумные звуки.
Синтетизм пользуется интегральным смещением планов. Здесь вставленные в одну пространственно-временную раму куски мира – никогда не случайны; они скованы синтезом, и ближе или дальше – но лучи от этих кусков непременно сходятся в одной точке, из кусков – всегда целое.
Анненковские Петруха и Катька – из «Двенадцати» Блока. Катька: бутылка и опрокинутый стакан, мещанские с цветочками часы; черное окно с дырою от пули и паутиной, незабудочки.
Петруха: голая осенняя ветка; каркающее воронье; провода; разбойничий нож и церковный купол. Как будто бы хаос как будто бы противоречивых вещей, случайно выброшенных на одну плоскость. Но оглянитесь еще раз на «Двенадцать» – и вы увидите: там – фокус, где собраны все эти рассыпанные лучи, там крепко связаны бутылка и сентиментальные незабудочки, разбойничий нож и церковный купол.
Это – в последних вещах Анненкова. В более ранних его работах – этого интегрирования кусков часто сделать нельзя; там – только самодовлеющие, обожествленные дифференциалы, и мир рассыпан на куски только из озорного детского желания буйствовать. Там же – иногда и еще одна излюбленная ошибка футуристов: безнадежная попытка на холсте запечатлеть последовательность нескольких секунд, т. е. в живопись, искусство трехмерное – ввести четвертое измерение, длительность, время (что дано только слову и музыке). Отсюда – эти «следы» якобы движущейся руки в портрете Ел. Анненковой (по синтетической экономии линий – рисунке превосходном); «следы» якобы падающего котелка у «Буржуя» (иллюстрация к «Двенадцати»). Но все это для Анненкова – явно уже пройденная ступень. Последние его работы ясно говорят, что он уже увидел: сила живописи – не в том, чтобы обратить в краски пять секунд, но – одну; и сила живописи сегодняшней автомобильно. летящей эпохи в том, чтобы обратить в кристалл не одну, но одну сотую секунды.
Все наши часы – конечно, только игрушки: верных часов – ни у кого нет. Час, год сегодня – совсем другая мера, чем вчера, и мы не чувствуем этого только потому, что плывя во времени, – не видим берегов. Но искусство – зорче нас, и в искусстве каждой эпохи – отражена скорость эпохи, скорость вчера и сегодня.
Вчера и сегодня – дормез и автомобиль.
Вчера – вы ехали по степной дороге в покойном дормезе. Навстречу – медленная странница: сельская колокольня. Вы неспешно открыли в дормезе окно; прищурились от сверкающего на солнце шпица, от белизны стен; отдохнули глазом на синеве прорезей в небе; запомнили зеленую крышу, спущенные, как у восточного халата, кружевные рукава плакучей березы, одинокую женщину – прислонилась к березе.
И сегодня – на авто – мимо той же колокольни. Миг, выросла – сверкнула. И осталось только: повисшая в воздухе молния с крестом на конце; ниже – три резких, черных – один над другим – выреза в небе; и женщина-береза, женщина с плакучими ветвями. Ни одной второстепенной черты, ни одного слова, какое можно зачеркнуть: только суть, экстракт, синтез, открывающийся глазу в сотую секунды, когда собраны в фокусе, спрессованы, заострены все чувства.
Анненков не рисовал этой мелькнувшей колокольни: этот рисунок – мой, словами. Но я знаю: если бы он рисовал это – он нарисовал бы именно так. Потому что в нем есть это ощущение необычайной стремительности, динамичности нашей эпохи, в нем чувство времени – развито до уменья давать только синтетическую суть вещей.
Человека вчерашнего, дормезного – это, может быть, не удовлетворит. Но человека сегодняшнего, автомобильного – молния с крестом и три выреза в небе уведут гораздо дальше и глубже, чем прекрасно, детально – словами или кистью – написанная колокольня.
Сегодняшний читатель и зритель договорит картину, договорит словами – и им самим договоренное, дорисованное будет врезано в него неизмеримо ярче, прочнее, врастет в него органически. Так синтетизм открывает путь к совместному творчеству художника – и читателя или зрителя; в этом – его сила. И именно на этом принципе построена большая часть портретов Анненкова, особенно штриховых – последние его работы.
Портрет Горького. Сумрачное, скомканное лицо – молчит. Но говорят три еще только вчера прорезавшиеся морщины над бровью, орет красный ромб с «Р.С.Ф.С.Р», и от него – темная тень – может быть, даже дыра – в голове. А сзади странное сочетание: стальная сеть фантастического огромного города – и семизвездные купола Руси, проваливающейся в землю – или, может быть, подымающейся из земли. Две души.
Портрет Ахматовой – или точнее: портрет бровей Ахматовой. От них – как от облака – легкие, тяжелые тени по лицу, и в них – столько утрат. Они – как ключ в музыкальной пьесе: поставлен ключ – и слышишь, что говорят глаза, траур волос, черные четки на гребнях.
Портрет Ремизова. Голова из плеч – осторожно, как из какой-то норы. Весь закутан, обмотан, кофта Серафимы Павловны – с заплаткой на воротнике. В комнате – холодно – или, может быть, тепло только у печки. И у печки отогрелась зимняя муха, села на лоб. А у человека – нет даже силы взмахнуть рукой, чтобы прогнать муху.
Сологуб – посеребренный, тронутый морозом; зимний Пяст – лицо, заросшее щетиной, заржавевшее; стиснутые брови и губы; каталептически остановившийся глаз. Чуковский – с отчаянным от усталости, лекций и заседаний взглядом. Щеголев – лицо стало просторное, мешковатое – как костюм из магазина готового платья, но еще улыбается одним глазом, и по-прежнему – мамонтоногий, по-прежнему – в книгах. Лаконический автопортрет Анненкова: папироса, свернутая из казенных «Известий», и один острый, пристальный глаз, и эта пристальность – именно оттого, что не нарисован другой глаз. Иные лица этот пристальный глаз анатомировал иронически, но ирония – еле заметна, и, чтобы отыскать ее, оригиналу хочется заглянуть на ту, зазеркальную, сторону, где ищут настоящего кошки и дети.
Некоторые из этих портретов – таков портрет Горького – задуманы синтетически-остро, но в выполнении оказались не концентрированными, многословными; на других – еще очень заметно футуристическое детство Анненкова. Но все это – ранние его портретные опыты, и от соседства с ними – только выигрывают последние его работы.
Такие его портреты, как Ахматовой, Альтмана, – это японские четырехстрочные танки, это – образцы уменья дать синтетический образ. В них – минимум линий, только десятки линий – их все можно пересчитать. Но в десятки вложено столько же творческого напряжения, сколько вчерашнее искусство вкладывало в сотни. И оттого каждая из линий несет в себе заряд в десять раз больший. Эти портреты – экстракты из лиц, из людей, и каждый из них – биография человека, эпохи.
Последняя страница в этой биографии – Блок в гробу. И иначе, как последним, нельзя было поставить беспощадный лист: потому что это – не портрет мертвого Блока, а портрет смерти вообще – его, ее, вашей смерти, и после этого пахнущего тленом лица нельзя уже смотреть ни на одно живое лицо.
1922
О литературе, революции, энтропии и о прочем*
– Назови мне последнее число, верхнее, самое большое.
– Но это же нелепо! Раз число чисел бесконечно, какое же последнее?
– А какую же ты хочешь последнюю революцию! Последней нет, революции – бесконечны. Последняя – это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо, чтобы дети спали спокойно…
Евг. Замятин. Роман «Мы»Спросить вплотную: что такое революция?
Ответят луи-каторзно: революция – это мы; ответят календарно: месяц и число; ответят: по азбуке. Если же от азбуки перейти к складам, то вот:
Две мертвых, темных звезды сталкиваются с неслышным, оглушительным грохотом и зажигают новую звезду: это революция. Молекула срывается со своей орбиты и, вторгшись в соседнюю атомическую вселенную, рождает новый химический элемент: это революция. Лобачевский одной книгой раскалывает стены тысячелетнего Эвклидова мира, чтобы открыть путь в бесчисленные неэвклидовы пространства: это революция.
Революция – всюду, во всем, она бесконечна, последней революции – нет, нет последнего числа. Революция социальная – только одно из бесчисленных чисел: закон революции не социальный, а неизмеримо больше – космический, универсальный закон (universum) – такой же, как закон сохранения энергии, вырождения энергии (энтропии). Когда-нибудь установлена будет точная формула закона революции. И в этой формуле – числовые величины: нации, классы, молекулы, звезды – и книги.
Багров, огнен, смертелен закон революции, но это смерть – для зачатия новой жизни, звезды. И холоден, синь, как лед, как ледяные межпланетные бесконечности, – закон энтропии. Пламя из багрового становится розовым, ровным, теплым, не смертельным, а комфортабельным; солнце стареет в планету, удобную для шоссе, магазинов, постелей, проституток, тюрем: это – закон. И чтобы снова зажечь молодостью планету – нужно зажечь ее, нужно столкнуть ее с плавного шоссе эволюции: это – закон.
Пусть пламя остынет завтра, послезавтра (в книге бытия – дни равняются годам, векам). Но кто-то должен видеть это уже сегодня и уже сегодня еретически говорить о завтра. Еретики – единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли.
Когда пламенно-кипящая сфера (в науке, религии, социальной жизни, искусстве) остывает, огненная магма покрывается догмой – твердой, окостенелой, неподвижной корой. Догматизация в науке, религии, социальной жизни, искусстве – энтропия мысли; догматизированное – уже не сжигает, оно – греет, оно – тепло, оно – прохладно. Вместо нагорной проповеди, под палящим солнцем, над воздетыми руками и рыданиями – дремотная молитва в благолепном аббатстве; вместо трагического Галилеева «А все-таки она вертится!» – спокойные вычисления в теплом пулковском кабинете. На Галилеях эпигоны медленно, полипно, кораллово строят свое: путь эволюции. Пока новая ересь не взорвет кору догмы и все возведенные на ней прочнейшие, каменнейшие постройки.
Взрывы – малоудобная вещь. И потому взрывателей, еретиков, справедливо истребляют огнем, топором, словом. Для всякого сегодня, для всякой эволюции, для трудной, медленной, полезной, полезнейшей, созидательной, коралловой работы – еретики вредны: они нерасчетливо, глупо вскакивают в сегодня из завтра, они – романтики. Бабефу в 1797 году справедливо отрубили голову: он заскочил в 1797 год, перепрыгнув через полтораста лет. Справедливо рубят голову еретической, посягающей на догмы, литературе: эта литература – вредна.
Но вредная литература полезнее полезной: потому что она антиэнтропийна, она – средство борьбы с обызвествлением, склерозом, корой, мхом, покоем. Она утопична, нелепа – как Бабеф в 1797 году: она права через полтораста лет.
Ну, а двуперстники, Аввакумы? Аввакумы ведь тоже еретики?
Да, и Аввакумы – полезны. Если бы Никон знал Дарвина, он бы ежедневно служил молебен о здравии Аввакума.
Мы знаем Дарвина, знаем, что после Дарвина – мутации, вейсманизм, неоламаркизм. Но это все – балкончики, мезонины: здание – Дарвин. И в этом здании – не только головастики и грибы – там и человек тоже, не только клыки и зубы, но и человеческие мысли тоже. Клыки оттачиваются только тогда, когда есть кого грызть; у домашних кур крылья только для того, чтобы ими хлопать. Для идей и кур – один и тот же закон: идеи, питающиеся котлетками, беззубеют так же, как цивилизованные котлетные люди. Аввакумы – нужны для здоровья; Аввакумов нужно выдумать, если их нет.
Но они – вчера. Живая литература живет не по вчерашним часам, и не по сегодняшним, а по завтрашним. Это –, матрос, посланный вверх, на мачту, откуда ему видны гибнущие корабли, видны айсберги и мальстремы, еще неразличимые с палубы. Его можно стащить с мачты и поставить к котлам, к кабестану, но это ничего не изменит: останется мачта – и другому с мачты будет видно то же, что первому.
Матрос на мачте нужен в бурю. Сейчас – буря, с разных сторон – SOS. Еще вчера писатель мог спокойно разгуливать по палубе, щелкая кодаком (быт), но кому придет в голову разглядывать на пленочках пейзажи и жанры, когда мир накренился на 45°, разинуты зеленые пасти, борт трещит? Сейчас можно смотреть и думать только так, как перед смертью: ну, вот умрем – и что же? прожили – и как? если жить – сначала, по-новому, – то чем, для чего? Сейчас в литературе нужны огромные, мачтовые, аэропланные, философские кругозоры, нужны самые последние, самые страшные, самые бесстрашные «зачем?» и «дальше?».
Так спрашивают дети. Но ведь дети – самые смелые философы. Они приходят в жизнь голые, не прикрытые ни единым листочком догм, абсолютов, вер. Оттого всякий их вопрос нелепо наивен и так пугающе сложен. Те, новые, кто входит сейчас в жизнь, – голы и бесстрашны, как дети, и у них, так же, как у детей, как у Шопенгауэра, Достоевского и Ницше, – «зачем?» и «что дальше?». Гениальные философы, дети и народ – одинаково мудры, потому что они задают одинаково глупые вопросы. Глупые – для цивилизованного человека, имеющего хорошо обставленную квартиру, с прекрасным клозетом, и хорошо обставленную догму.
Органическая химия уже стерла черты между живой и мертвой материей. Ошибочно разделять людей на живых и мертвых: есть люди живые-мертвые и живые-живые. Живые-мертвые тоже пишут, ходят, говорят, делают. Но они не ошибаются; не ошибаясь – делают также машины, но они делают только мертвое. Живые-живые – в ошибках, в поисках, в вопросах, в муках.
Так и то, что мы пишем: это ходит и говорит, но оно может быть живое-мертвое или живое-живое. По-настоящему живое, ни перед чем и ни на чем не останавливаясь, ищет ответов на нелепые, «детские» вопросы. Пусть ответы неверны, пусть философия ошибочна – ошибка ценнее истин: истина – машинное, ошибка – живое, истина – успокаивает, ошибка – беспокоит. И пусть даже ответы невозможны совсем – тем лучше: заниматься отвлеченными вопросами – привилегия мозгов, устроенных пб принципу коровьей требухи, как известно, приспособленной к перевариванию жвачки.
Если бы в природе было что-нибудь неподвижное, если бы были истины – все это было бы, конечно, неверно. Но, к счастью, все истины – ошибочны: диалектический процесс именно в том, что сегодняшние истины – завтра становятся ошибками: последнего числа – нет.
Эта (единственная) истина – только для крепких: для слабонервных мозгов – непременно нужна ограниченность вселенной, последнее число, «костыли достоверности» – словами Ницше. У слабонервных не хватает сил в диалектический силлогизм включить и самих себя. Правда, это трудно. Но это – то самое, что удалось сделать Эйнштейну: ему удалось вспомнить, что он, Эйнштейн, с часами в руках наблюдающий движение, – тоже движется, ему удалось на земные движения посмотреть извне.
Так именно смотрит на земные движения большая, не знающая последних чисел, литература.
Критики арифметические, азбучные – тоже сейчас ищут в художественном слове чего-то иного, кроме того, что можно ощупать. Но они ищут так же, как некий гражданин в зеленом пальто, которого я встретил однажды ночью на Невском, в дождь.
Гражданин в зеленом пальто, покачиваясь и обнявши столб, нагнулся к мостовой под фонарем. Я спросил гражданина: «Вы что?» – «К-кошелек разыскиваю, сейчас потерял в-вон т-там» (– рукой куда-то в сторону, в темноту). – «Так почему же вы его тут-то, около фонаря, разыскиваете?» – «А п-потому тут под фонарем, светло, в-все видно».
Они разыскивают – только под своим фонарем. И под фонарем приглашают разыскивать всех.
И все же – они единственная порода настоящих критиков. Критики художественные – пишут повести и рассказы, где фамилии героев случайно – Блок, Пешков, Ахматова. Следовательно, они не критики: они – мы, беллетристы. Настоящим критиком может быть только тот, кто умеет писать антихудожественно – наследственный дар критиков общественных.
Только этот сорт критиков и полезен для художника: у них можно учиться, как не надо писать и о чем не надо писать. Согласно этике благоразумного франсовского пса Рике: «Поступок, за который тебя накормили или приласкали, – хороший поступок; поступок, за который тебя побили, – дурной поступок». Люди – часто неблагоразумны; и чем дальше они от благоразумия Рике, тем ближе к обратному этическому правилу: «Поступок, за который тебя накормили или приласкали, – дурной поступок; поступок, за который тебя побили, – хороший поступок». Не будь этих критиков, как бы мы знали, какие из наших литературных поступков хорошие и какие – дурные?!
Формальный признак живой литературы – тот же самый, что и внутренний: отречение от истины, то есть от того, что все знают и до этой минуты знали, – сход с канонических рельсов, с широкого большака.
Большак русской литературы, до лоску наезженный гигантскими обозами Толстого, Горького, Чехова, – реализм, быт: следовательно, уйти от быта. Рельсы, до святости канонизированные Блоком, Сологубом, Белым, – отрекшийся от быта символизм: следовательно – уйти к быту.
Абсурд, да. Пересечение параллельных линий – тоже абсурд. Но это абсурд только в канонической, плоской геометрии Эвклида: в геометрии неэвклидовой – это аксиома. Нужно только перестать быть плоским, подняться над плоскостью. Для сегодняшней литературы плоскость быта – то же, что земля для аэроплана: только путь для разбега – чтобы потом вверх – от быта к бытию, к философии, к фантастике. По большакам, по шоссе – пусть скрипят вчерашние телеги. У живых хватает сил отрубить свое вчерашнее: в последних рассказах Горького – вдруг фантастика, в «Двенадцати» Блока – вдруг уличная частушка, в «Жокее» Белого – вдруг арбатский быт.
Посадить в телегу исправника или комиссара, телега все равно останется телегой. И все равно литература останется вчерашней, если везти даже и «революционный быт» по наезженному большаку – если везти даже на лихой, с колокольцами, тройке. Сегодня – автомобиль, аэроплан, мелькание, лёт, точки, секунды, пунктиры.
Старых, медленных, дормезных описаний нет: лаконизм – но огромная заряженность, высоковольтность каждого слова. В секунду – нужно вжать столько, сколько раньше в шестидесятисекундную минуту: и синтаксис – эллиптичен, летуч, сложные пирамиды периодов – разобраны по камням самостоятельных предложений. В быстроте канонизированное, привычное ускользает от глаза: отсюда – необычная, часто странная символика и лексика. Образ – остр, синтетичен, в нем – только одна основная черта, какую успеешь приметить с автомобиля. В освященный словарь – московских просвирен – вторглось уездное, неологизмы, наука, математика, техника.
Если это сочтут за правило, то талант в том, чтобы правило сделать исключением; гораздо больше тех, кто исключение превращает в правило.
Наука и искусство – одинаковы в проектировании мира на какие-то координаты. Различные формы – только в различии координат. Все реалистические формы – проектирование на неподвижные, плоские координаты Эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он – условность, абстракция, нереальность. И потому реализм – нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности – то, что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не realia, a realiora – в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необъективности. Объективен объектив фотографического аппарата.
Основные признаки новой формы – быстрота движения (сюжета, фразы), сдвиг, кривизна (в символике и лексике) – не случайны: они следствие новых математических координат.
Новая форма не для всех понятна, для многих трудна? Возможно. Привычное, банальное, – конечно, проще, приятней, уютней. Очень уютен Вересаевский тупик – и все-таки это уютный тупик. Очень прост Эвклидов мир и очень труден Эйнштейнов – и все-таки уже нельзя вернуться к Эвклиду. Никакая революция, никакая ересь – не уютны и не легки. Потому что это – скачок, это – разрыв плавной эволюционной кривой, а разрыв – рана, боль. Но ранить нужно: у большинства людей – наследственная сонная болезнь, а больным этой болезнью (энтропией) – нельзя давать спать, иначе – последний сон, смерть.
Эта же болезнь – часто у художника, писателя: сыто заснуть в однажды изобретенной и дважды усовершенствованной форме. И нет силы ранить себя, разлюбить любимое, из обжитых, пахнущих лавровым листом покоев – уйти в чистое поле и там начать заново.
Правда, ранить себя – трудно, даже опасно: «Двенадцатью» – Блок смертельно ранил себя. Но живому – жить сегодня, как вчера, и вчера, как сегодня, – еще труднее.
Х-1923
Серапионовы братья*
Длинная, с колоннами, комната в Доме Искусств: студия. И тут они – вокруг зеленого стола: тишайший Зощенко; похожий на моего чудесного плюшевого Мишку – Лунц, и где-то непременно за колонной – Слонимский; и Никитин – когда на него смотришь, кажется, что на его голове – невидимая бойкая велосипедная кепка. В зимние бестрамвайные вечера я приходил сюда с Карповки, чтобы говорить с ними о языке, о сюжете, о ритме, об инструментовке; в темные вечера они приходили сюда от Технологического, от Александро-Невской лавры, с Васильевского. Здесь они все росли на моих глазах – кроме Вс. Иванова и К. Федина: эти пришли со стороны; и Каверина я помню только изредка в последние дни студии.
Никому из нас, писателей старших, не случалось пройти через такую школу: мы все – самоучки. И в такой школе, конечно, всегда есть опасность: создать шеренгу и униформу. Но от этой опасности Серапионовы братья, кажется, уже ушли: у каждого из них – свое лицо и свой почерк. Общее, что все они взяли из студии, – это искусство писать чернилами девяносто-градусной крепости, искусство вычеркивать все лишнее, что, быть может, труднее, чем – писать.
Федин – самый прочный из них: пока он все еще крепко держит в руках путеводитель с точно установленным расписанием (без опаздываний) старого реализма и знает название станции, до которой у него взят билет.
Остальные – все более или менее сошли с рельс и подскакивают по шпалам; неизвестно, чем они кончат: иные, может быть, катастрофой. Это – путь опасный, но он – настоящий.
Из семи собранных в 1-м альманахе Серапионовых братьев – наиболее катастрофичны трое: Лунц, Каверин и Никитин.
Лунц – весь изболтан, каждая частица в нем – во взвешенном состоянии, и неизвестно, какого цвета получится раствор, когда все в нем осядет. От удачной библейской стилизации («В пустыне») он перескакивает к трагедии, от трагедии – к памфлету, от памфлета – к фантастической повести (я знаю эти его работы). Он больше других шершав и неуклюж и ошибается чаще других; другие – гораздо лучше его слышат и видят, он – думает пока лучше других; он замахивается на широкие синтезы, а литература ближайшего будущего непременно уйдет от живописи – все равно, почтенно-реалистической или модерной, от быта – все равно, старого или самоновейшего, революционного – к художественной философии.
Тот же уклон чувствуется мне и у Каверина. В «Хронике города Лейпцига» это не так заметно, как в других его, еще не напечатанных, вещах. Каверин взял трудный курс: на Теодора Гофмана, – и через эту гору пока не перелез, но можно надеяться – перелезет. Если Зощенко, Иванов, Никитин работают больше всего над языковым материалом, над орнаментикой, то Каверина явно занимают эксперименты сюжетные, задача синтеза фантастики и реальности, острая игра – разрушать иллюзию и снова создавать ее. В этой игре – он искусен. Но увлекаясь ею, он подчас перестает слышать слова, – фразы выходят немножко раскосы. Впрочем (как недавно сообщила д-р М. Хорошева у меня, в присутствии Серапионовых братьев), это излечивается очень легко. Есть у Каверина одно оружие, какого, кажется, нет ни у кого из других Серапионовых братьев, – это ирония (профессор в «Хронике города Лейпцига», начало VI, начало VII главы). На наших российских полях этот острый и горький злак до сих пор произрастал как-то туго; тем ценнее попытка посеять его и тем больше своеобразия дает она лицу автора.
Зощенко, Вс. Иванов и Никитин – «изографы», фольклористы, живописцы. Новых архитектурных, сюжетных форм они не ищут (впрочем, у Никитина – последнее время заметно и это), а берут уже готовую: сказ.
Зощенко применяет пока простейшею разновидность сказа: от первого лица. Так написан у него весь цикл «Рассказов Синебрюхова» (рассказ в альманахе – из этого цикла). Отлично пользуется Зощенко синтаксисом народного говора: расстановка слов, глагольные формы, выбор синонимов – во всем этом ни единой ошибки. Забавную новизну самым стертым, запятачен-ным словам он умеет придать ошибочным (как будто) выбором синонимов, намеренными плеонизмами («пожить в полное семейное удовольствие», «на одном конце – пригорок, на другом – обратно – пригорок», «в нижних подштанниках»). И все-таки долго стоять на этой станции Зощенко не стоит. Надо трогаться дальше, – пусть даже по шпалам.
Никитин представлен в альманахе совсем не типичным для него рассказом «Дэзи». Это первая его попытка сойти с рельсов сказа и дать то, что мне случилось назвать «показом» (рассказ – сказ – показ) в концентрированном, безлигатурном виде: отдельные куски, как будто без всякого цемента, и только издали видно, что лучи от всех сходятся в одном фокусе. Композиционный опыт очень любопытный, но для автора он оказался не по силам: во второй половине (эпопея «Небо») он сбился на обычный рассказ. Получился поезд, составленный наполовину из аэропланов, наполовину из вагонов; аэропланы, разумеется, не летят. Но пусть даже катастрофа, пусть автор вылезет из нее в синяках – это все-таки хорошо, это говорит о том, что Никитин не хочет спокойной и прочной оседлости, не хочет стать добрым литературным помещиком. А оседлость у него уже была: превосходный, выдержанный, богатый свежими образами рассказ «Кол». Рассказ этот был бы самым крупным в альманахе, и не попал он туда только по не зависящим от автора обстоятельствам.
У Вс. Иванова – силы хоть отбавляй, но инструменты пока погрубей, чем у Зощенко и Никитина. Форма сказа не выдержана: нет-нет да и забудет автор, что смотреть ему на все надо глазами Ерьмы («Синий зверюшка») и думать его мозгом, нет-нет да выскочит где-нибудь «вычеканенный березой по небу лист». Совсем не нужна и неприятна у него попытка передавать народный говор в этнографических записях – с примитивным натурализмом: «В Расеи савсем плоха живут», «ниприменна», «ок-ромя», «надоть», «от нево», «здоровово мужика». Чтобы симфонически передать деревенское утро, вовсе не надо в оркестре рядом с первой скрипкой посадить живого петуха и теленка. И вовсе не нужны Вс. Иванову все эти «чаво» и «окромя», тем более что и этого принципа этнографической записи говора он не выдерживает: на одной и той же странице один и тот же Ёрьма говорит: «неприменно» и «неприменна»: «мучиничество» и «мучинство», «живу плохо» и «совсем плоха». Это – просто работа спустя рукава. Кажется мне, что пишет Вс. Иванов слишком торопливо и слишком много, не ищет так напряженно и так беспокойно, как иные из его соседей по альманаху. Это жаль, потому что талантлив он не меньше их. Какие новые, чудесные образы умеет он найти, если захочет: «темные и душные избы – и люди в них, как мухи, запеченные в хлеб», «вода между кочек – сытая», слова тяжелые и крепкие – «как ирбитские телеги».
Слонимский, так же, как Лунц, – еще ищет себя: он еще в состоянии Агасферном: пьесы, рассказы военные, гротески, современный быт. Вместе с Кавериным и Лунцем он составляет «западную» группу Серапионовых братьев, которые склонны оперировать преимущественно архитектурными, сюжетными массами и сравнительно мало слышат и любят самое русское слово, музыку его и цвет. Это больше дано «восточной» группе: Никитину, Зощенко, Вс. Иванову и отчасти Феди-ну. В рассказе «Дикий», очень динамичном и часто приближающемся к «показу» – автору удалась смена ритмов соответственно появлению тех или иных действующих лиц и напряженности действия (Гл. I – Авраам – lento; II – Иван Груда – allegro; III – presto). Богатства образов, как у Никитина и Вс. Иванова, – у Слонимского нет; иные ошибочно окрашены в цвета автора, а не действующих лиц («Авраам… увидал себя… мудрым, как вечность»; портной Авраам – и вечность. Сомнительно!).
Федин, повторяю, стоит как-то особняком во всей группе. Большая часть его товарищей идет под флагом неореализма, а он все еще целиком застрял в Горьком. Я помню отличный его рассказ «Сад» (читался в жюри на конкурсе Дома Литераторов). Лучшего, чем «Сад», он пока не дал. В «Песьих душах» – псы часто думают не по-собачьи, а по-федински. После «Каштанки» и «Белого клыка» писателям, особенно молодым, псов следует остерегаться.
Тени тех или иных крупных литературных фигур лежат пока на большей части Серапионовых братьев. Но разыскивать метрики – не стоит. О Ленине писали, что он родом из саратовских дворян: разве это меняет дело? Достаточно того, что они – по-разному – талантливы, молоды, много работают. Иные из них дадут, вероятно, материал для истории русской литературы, иные, может быть, только для истории русской революции…
1922
Для сборника о книге*
– Когда мои дети выходят на улицу дурно одетыми – мне за них обидно; когда мальчишки швыряют в них каменьями из-за угла – мне больно, когда лекарь подходит к ним с щипцами или ножом – мне кажется, лучше бы резали меня самого.
Мои дети – мои книги; других у меня нет.
– Есть книги такого же химического состава, как динамит. Разница только в том, что один кусок динамита взрывается один раз, а одна книга – тысячи раз.
– Человек перестал быть обезьяной, победил обезьяну в тот день, когда написана была первая книга. Обезьяна не забыла этого до сих пор: попробуйте, дайте ей книгу – она сейчас же ее изгрызет, изорвет, изгадит.
23. XII.1928
Закулисы*
В спальных вагонах в каждом купе есть такая маленькая рукоятка, обделанная костью: если повернуть ее вправо – полный свет, если влево – темно, если поставить на середину – зажигается синяя лампа, все видно, но этот свет не мешает заснуть, не будит. Когда я сплю и вижу сон – рукоятка сознания повернута влево; когда я пишу – рукоятка поставлена посредине, сознание горит синей лампой. Я вижу сон на бумаге, фантазия работает так же, как во сне, она движется тем же путем ассоциаций, но этим сном осторожно (синий свет) руководит сознание. Как и во сне – стоит только подумать, что это сон, стоит только полностью включить сознание – и сон исчез.
Нет ничего хуже бессонницы, когда включатель испорчен и сколько бы вы его ни вертели – полного сознания вам не удастся нарушить, белый, трезвый свет все время назойливо лезет в глаза. Такая литературная бессонница приключилась со мною лет десять назад. В студии Дома Искусств я начал читать курс «Техники художественной прозы», мне пришлось впервые заглянуть к самому себе за кулисы – и несколько месяцев после этого я не мог писать. Все как будто в порядке, постлана простыня чистой белой бумаги, уже наплывает сон – и вдруг толчок, я проснулся, все исчезло, потому что я начал следить (сознанием) за механикой сна, за ритмом, ассонансами, образами – я увидел канаты, блоки, люки закулис. Эта бессонница кончилась только тогда, когда на время работы я научился забывать, что я знаю, как я пишу.
Я не могу заснуть, когда я слышу, что рядом громко разговаривают, мне нужно, чтобы в моей комнате дверь была плотно закрыта, чтобы я был один. И это же мне необходимо, чтобы заснуть в рассказ, повесть, пьесу. Этажом ниже подо мной живет девочка – я никогда не видел ее, и все-таки я давно ее вижу и знаю (жиденькая белесая косичка, веснушки, мышьи глаза). По утрам, когда я сажусь за письменный стол, она садится за рояль и играет вот уже полтора года один и тот же этюд. Если есть, как уверяют теософы, «астральное клише», то там уже давно отпечаталась моя жестокая расправа с этой девчонкой: я ее убивал уже много раз.
Самое трудное – начать, отчалить от реального берега в сон. Сон еще воздушен, непрочен, неясен, его никак не поймать, мешает все – не только эта веснушчатая девчонка внизу, но и мое собственное дыхание, ощущение карандаша в руке, криво написанная строчка. Тут-то и начинается папироса за папиросой, пока дневной мир не завесится синей дымкой (рукоятка включателя – посередине). Потом, страница за страницей, сон становится все крепче, мотор фантазии развивает все большее число оборотов, пульс учащается, уши горят. И наконец, на какой-то день работы приходит настоящее, когда начатый сон уже становится неотвязным, когда ходишь загипнотизированный им, когда думаешь о нем на улице, на заседании, в ванне, в концерте, в постели. Тогда уже знаешь, что пошлу, что вещь выйдет – тогда работать весело, хорошо, пьяно. Утром торопишься скорее допить крепчайший чай, и первой строчкой затягиваешься с таким же аппетитом, как первой папиросой. Этого аппетита хватает уже не на три обычных, а на пять-шесть часов, до позднего петербургского обеда. Но как бы хорошо ни работалось, как бы ни развертывались в голове колеса, к вечеру я все равно выключаю ток и останавливаю машину, иначе – знаю по опыту: не заснуть до утра, и значит – потерян завтрашний день.
* * *
Химики знают, что такое «насыщенный раствор». В стакане налита как будто бесцветная, ежедневная, простая вода, но стоит туда бросить только одну крупинку соли и раствор оживает – ромбы, иглы, тетраэдры – и через несколько секунд вместо бесцветной воды уже хрустальные грани кристаллов. Должно быть, иногда бываешь в состоянии насыщенного раствора – и тогда случайного зрительного впечатления, обрывка вагонной фразы, двухстрочной заметки в газете довольно, чтобы кристаллизовать несколько печатных листов.
Из бесцветного, ежедневного Петербурга (это был еще Петербург) – я поехал как-то в Тамбовскую губернию, в густую, черноземную Лебедянь, на ту самую, заросшую просвирником улицу, где когда-то бегал гимназистом. Неделю спустя я уже возвращался – через Москву, по Павелецкой дороге. На какой-то маленькой станции, недалеко от Москвы, я проснулся, поднял штору. Перед самым окном – как вставленная в рамку – медленно проплыла физиономия станционного жандарма: низко нахлобученный лоб, медвежьи глазки, страшные четырехугольные челюсти. Я успел прочитать название станции: Барыбино. Там родился Анфим Барыба и повесть «Уездное».
В Лебедяни, помню, мне сделал визит некий местный собрат по перу – почтовый чиновник. Он заявил, что дома у него лежит 8 фунтов стихов, а пока он прочел мне на пробу одно. Это стихотворение начинается так:
Гулять люблю я лунною порой При цвете запахов герани И в то же время одной рукой Играть с красавицей младой, Прибывшей к нам из города Сызрани.Пять строк эти не давали мне покоя до тех пор, пока из них не вышла повесть «Алатырь» – с центральной фигурой поэта Кости Едыткина.
В 1915 году я был на севере – в Кеми, в Соловках, в Сороке. Я вернулся в Петербург как будто уже готовый, полный до краев, сейчас же начал писать – и ничего не вышло: последней крупинки соли, нужной для начала кристаллизации, еще не было. Эта крупинка попала в раствор только года через два: в вагоне я услышал разговор о медвежьей охоте, о том, что единственное средство спастись от медведя – притвориться мертвым. Отсюда – конец повести «Север», а затем, развертываясь от конца к началу, и вся повесть (этот путь – обратного развертывания сюжета – у меня чаще всего).
Ночное дежурство зимой, на дворе 1919-й год. Мой товарищ по дежурству – озябший, изголодавшийся профессор – жаловался на бездровье: «Хоть впору красть дрова! Да все горе в том, что не могу: сдохну, а не украду!» На другой день я сел писать рассказ «Пещера».
Очень ясно помню, как возник рассказ «Русь». Это – один из примеров «искусственного оплодотворения», когда сперматозоид дан творчеством другого художника (чаще мы – андрогины). Таким художником был Б. М. Кустодиев. Издательство «Аквилон» прислало мне серию его «Русских типов» – с просьбой написать о них статью. Статью мне писать не хотелось: только что была кончена статья о Юрии Анненкове (для его книги «Портреты»). Я разложил на столе кустодиевские рисунки: монахиня, красавица в окне, купчина в сапогах-бутылках, «молодец» из лавки… Смотрел на них час, два – вдруг они ожили, и вместо статьи написался рассказ, действующими лицами в нем были люди, сошедшие с этих ку-стодиевских картин.
Все это – случаи «насыщенного раствора», когда вся предварительная работа проходит в подсознании и рассказ, повесть начинаются почти непроизвольно, как сон. Другой путь возникновения вещи – аналогичен произвольному усыплению, когда я сам для себя становлюсь гипнотизером.
Этот путь труднее и медленней. Сначала является отвлеченный тезис, идея вещи, она долго живет в сознании, в верхних этажах – и никак не хочет спуститься вниз, обрасти мясом и кожей. Беременность длится месяцы, даже годы (несчастные слонихи ходят тяжелыми два года). Приходится держать строгую диету – читать только книги, не выходящие из круга определенных идей или определенной эпохи.
Помню, что для «Блохи» этот период продолжался месяца четыре, не меньше. Диета была такая: русские народные комедии и сказки, пьесы Гоцци и кое-что из Гольдони, балаганные афиши, старые русские лубки, книги Ровинского. Самая работа над пьесой, от первой строки до последней, заняла всего пять недель.
Чтобы войти в эпоху Атиллы (для пьесы «Атилла»), потребовалось уже около двух лет, пришлось прочитать десятки русских, французских, английских томов, дать три текстовых варианта. Совершенно независимо от того, что пьеса до сцены так и не дошла – все это оказалось только подготовительной работой к роману.
* * *
Нарезаны четвертушки бумаги, очинён химический карандаш, приготовлены папиросы, я сажусь за стол. Я знаю только развязку, или только одну какую-то сцену, или только одно из действующих лиц, а мне нужно их пять, десять. И вот на первом листке обычно происходит инкарнация, воплощение нужных мне людей, делаются эскизы к их портретам, пока мне не станет ясно, как каждый из них ходит, улыбается, ест, говорит. Как только они для меня оживут – они уже сами начнут действовать безошибочно, вернее – начнут ошибаться, но так, как может и должен ошибаться каждый из них. Я пробую перевоспитать их, я пробую построить их жизнь по плану, но если люди живые – они непременно опрокинут все выдуманные для них планы. И часто до самой последней страницы я не знаю развязки даже тогда, когда я ее знаю – когда с развязкой начинается вся работа.
Так было, например, с повестью «Островитяне». Знакомый англичанин рассказал мне, что в Лондоне есть люди, живущие очень странной профессией: ловлей любовников в парках. Сцена такой ловли увиделась мне как очень подходящая развязка, к ней приросла вся сложная фабула повести, а потом – к моему удивлению – оказалось, что повесть кончается совершенно иначе, чем это было по плану. Герой повести – Кембл – отказался быть негодяем, каким я хотел его сделать.
Любопытно, что первый вариант развязки совершенно выпал из текста повести и позже стал жить самостоятельно – в виде рассказа «Ловец человеков».
* * *
На дверях редакции была надпись: «Прием от 2 до 4». Я опоздал – было половина пятого – и потому вошел уже растерянным, а дальше пошло еще хуже. За столом сидел Иванов-Разумник и с ним какой-то черный, белозубый, лохматый цыган. Как только я назвал себя, цыган вскочил: «А-а, так это вы и есть? Покорно вас благодарю! Тетушку-то мою вы как измордовали!» – «Какую тетушку? Где?» – «Чеботариху, в „Уездном“ – вот где!»
Цыган оказался Пришвиным, мы с Пришвиным оказались земляками, а Чеботариха – оказалась пришвинской теткой…
Эту пришвинскую тетку я не один раз видел в детстве, она прочно засела во мне, и, может быть, чтобы избавиться от нее – мне пришлось выбросить ее из себя в повесть. Жизни ее – я не знал, все ее приключения мною выдуманы, но у нее в самом деле был кожевенный завод, и внешность ее в «Уездном» дана портретно. Ее настоящее имя в повести я оставил почти без изменения: сколько я ни пробовал, я не мог ее назвать иначе – так же как Пришвина не могу назвать иначе, чем Михаил Михалыч. Кстати сказать, это правило: фамилии, имена прирастают к действующим лицам так же крепко, как к живым людям. И это понятно: если имя почувствовано, выбрано верно – в нем непременно есть звуковая характеристика действующего лица.
Случай с пришвинской теткой – единственный: обычно я пишу без натурщиков и натурщиц. Если изредка люди из внешнего мира и попадают в мой мир, то они меняются настолько, что лишь я один знаю, чья на них лежит тень. Но раз сегодня открыт вход за кулисы, несколько таких теней я покажу – тем более что все они наперечет.
Помню, когда-то я читал повесть «Алатырь» А. М. Ремизову. Ремизов слушал, рисовал на бумажке чертей. Я до сих пор не знаю: увидел ли он, что алатырский спец по чертоведению отец Петр, автор «О житии и пропитании диаволов» – в родстве с писателем Ремизовым.
Вечный студент Сеня, погибший на баррикадах в рассказе «Непутевый», – жив до сих пор: это – бывший мой товарищ по студенческим годам Я. П. Г-ов. Ни его внешности, ни действительных событий его жизни в рассказе нет – и тем не менее именно от этого человека взята основная тональность рассказа. Позже он стал основателем секты книгопоклонников. В первые, голодные годы революции он часто заходил ко мне, с ним был всегда полный «куфтырь» книг – они покупались на последнее, на деньги от проданных татарину штанов. И, до неузнаваемости загримированный, он еще раз вышел на сцену в роли Мамая 1917 года – в рассказе «Мамай».
Опять – к давним гимназическим годам: канун Пасхи, весенний день, я вхожу во двор дома, где живет полковник Книпер. От изумления я столбенею: посреди двора на козлах – корыто, возле корыта с засученными рукавами – сам полковник, возле него суетится денщик. Оказалось, в корыте сбивается пятьдесят белков, полковник Книпер готовит для пасхального стола баум-кухен. Это пролежало во мне пятнадцать лет – и только через пятнадцать лет из этого, как из зерна, вырос генерал-гастроном Азанчеев в «На куличках».
С этой повестью вышла странная вещь. После ее напечатания раза два-три мне случалось встречать бывших дальневосточных офицеров, которые уверяли меня, что знают живых людей, изображенных в повести, и что настоящие их фамилии – такие-то и такие-то, и что действие происходит там-то и там-то. А между тем дальше Урала никогда я не ездил, все эти «живые люди» (кроме 1/10 Азанчеева) жили только в моей фантазии, и из всей повести только одна глава о «клубе ланцепупов» построена на слышанном мною от кого-то рассказе. «А в каком полку вы служили?» – Я: «Ни в каком. Вообще – не служил». – «Ладно! Втирайте очки!»
«Втирать очки» – строить даже незнакомый по собственному опыту быт и живых людей в нем – оказывается, можно. Фауна и флора письменного стола – гораздо богаче, чем думают, она еще мало изучена.
* * *
Так или иначе нужные мне люди, наконец, пришли, они есть, но они еще голы, их нужно одеть словами. В слове – и цвет, и звук: живопись и музыка дальше идут рядом.
На первой же странице текста приходится определить основу всей музыкальной ткани, услышать ритм всей вещи. Услышать это сразу – редко удается, почти всегда приходится переписывать первую страницу по нескольку раз (в повести «На куличках», например, было четыре разных начала, в «Островитянах» – два, в «Алатыре» – шесть). Это понятно: при решении ритмической задачи – прозаик в положении гораздо более трудном, чем поэт. Ритмика стиха давно изучена, для нее есть и свод законов, и уложение о наказаниях, а за ритмические преступления в прозе до сих пор не судят никого. В анализе прозаического ритма даже Андрей Белый – тончайший исследователь музыки слова – сделал ошибку: к прозе он приложил стопу (отсюда его болезнь – хронический анапестит).
Для меня совершенно ясно, что отношение между ритмикой стиха и прозы такое же, как отношение между арифметикой и интегральным исчислением. В арифметике мы суммируем слагаемые, в интегральном исчислении – мы складываем уже суммы, ряды: прозаическая стопа измеряется уже не расстоянием между ударяемыми слогами, но расстоянием между ударяемыми (логически) словами. И так же, как в интегральном исчислении – в прозе мы имеем дело уже не с постоянными величинами (как в стихе, арифметике), но с переменными: метр в прозе – всегда переменная величина, в нем все время – то замедления, то ускорения. Они, конечно, не случайны: они определяются эмоциональными замедлениями и ускорениями в тексте.
* * *
А живопись – забыта? Нет: слышать и видеть во время работы приходится одновременно. И если есть звуковые лейтмотивы – должны быть и лейтмотивы зрительные. В «Островитянах»: основной зрительный образ Кембла – трактор, леди Кембл – черви (губы); миссис Дьюли – пенсне; у адвоката О'Келли – двойник мопс. В «Севере» все время живут рядом Кортома – и самодовольный, сияющий самовар; Кортомиха – и снятая с руки, брошенная перчатка. В «Наводнении»: Софья – и птица, Ганька – и кошка. Каждый такой зрительный лейтмотив – то же, что фокус лучей в оптике: здесь в одной точке пересекаются образы, связанные с одним человеком.
Отдельными, случайными образами я пользуюсь редко: они – только искры, они живут одну секунду – и тухнут, забываются. Случайный образ – от неуменья сосредоточиться, по-настоящему увидеть, поверить. Если я верю в образ твердо – он неминуемо родит целую систему производных образов, он прорастет корнями через абзацы, страницы. В небольшом рассказе образ может стать интегральным – распространиться на всю вещь от начала до конца. Шестиэтажный огнеглазый дом на темной, пустынной, отражающей эхо выстрелов улице 19-го года, – мне увиделся, как корабль в океане. Я поверил в это совершенно – и интегральный образ корабля определил собою всю систему образов в рассказе «Мамай». То же самое – в рассказе «Пещера». И более сложный случай – в «Наводнении»: здесь интегральный образ наводнения проходит через рассказ в двух планах, реальное петербургское наводнение отражено в наводнении душевном – и в их общее русло вливаются все основные образы рассказов.
«Ни одной второстепенной детали, ни одной лишней черты: только суть, экстракт, синтез, открывающийся глазу в сотую долю секунды, когда собраны в фокус, спрессованы, заострены все чувства. Сегодняшний читатель и зритель сумеет договорить картину, дорисовать слова – и им самим договоренное, дорисованное – будет врезано в него неизмеримо прочнее, врастет в него органически. Здесь – путь к совместному творчеству художника и читателя или зрителя».
Это я писал несколько лет назад о художнике Юрии Анненкове, о его рисунках. Это я писал не об Анненкове, а о нас, о себе, о том, каким, по-моему, должен быть словесный рисунок.
Однажды был случай, когда я остро ощущал, что у меня потеряна одна рука – что третьей руки мне не хватает. Это было в Англии, когда я в первый раз поехал на автомобиле за шофера: в одно и то же время нужно было и править рулем, и переводить рычаг скоростей, и работать акселератором, и давать гудки. Нечто вроде этого я испытывал в давние годы, когда начинал писать: казалось совершенно немыслимым одновременно управлять и движением сюжета, и чувствами людей, и их диалогами, и инструментовкой, и образами, и ритмом. Потом я убедился, что для управления автомобилем – двух рук совершенно достаточно. Это пришло тогда, когда большая часть всех сложных движений стала выполняться подсознательно, рефлекторно. Такое шоферское ощущение раньше или позже приходит и за письменным столом.
Автомобильно-шоферский образ – конечно, неточен. Это можно позволить себе только за кулисами: на сцене, в повести, в романе – такой образ я наверное бы вычеркнул.
Образ этот неверен потому, что хороший шофер безошибочно проведет свой автомобиль даже в Лондоне – от Стрэнда до Юстон-роуд. А я, доехавши на бумаге до Юстон, опять вернусь на Стрэнд и поеду тем же путем обратно – и, может быть, только в третий раз доставлю моих пассажиров до места. Как будто уже дописанная до конца вещь – для меня еще не кончена: я непременно начинаю переписывать ее сначала, с первой строки, а если я все-таки недоволен ею, – то еще и еще раз (небольшой рассказ «Землемер» – помню, был переписан раз пять). Это одинаково относится к роману, к рассказу, повести, пьесе. И даже к статье: статья для меня – то же, что рассказ. Кажется, легче всего мне писать пьесу: здесь от жадности не разбегаются глаза, языковые возможности ограничены одним только диалогом.
Медленный процесс переписывания очень полезен: есть время присмотреться ко всем мелочам, изменить их – пока еще вещь не застыла, не отвердела, и все лишнее – выкинуть вон. Это «лишнее» само по себе может быть и написано превосходно, но когда оно не необходимо, когда вещь может жить без него – оно вычеркивается беспощадно. Если бы в машине мы оставили ненужный рычаг только потому, что он блестит, – разве это не было бы абсурдом? В человеческом организме нет ничего лишнего, кроме аппендикса: при первом же удобном случае врачи его вырезают. Чаще всего такие аппендиксы – это описания, пейзажи, когда они не служат рычагом, передающим психическое движение действующих лиц. Операция удаления их болезненна, как и всякая другая, – и все же она необходима.
Рукописи мои могут обмануть: подправок, подклеек, перечеркиваний там очень немного, все идет как будто легко. Но это только как будто: все нелегкости – за кулисами, каждую фразу я сначала примерю десять раз в голове и уже потом отрежу и наложу на бумаге. Незаконченных фраз, сцен, положений – позади я никогда не оставлю. Написанное может завтра мне не понравиться, я начну его заново, но сегодня оно должно казаться мне законченным: иначе двинуться дальше я не могу.
Крупных, коренных переделок в написанной вещи у меня почти никогда не бывает. Я уже поверил в своих людей, я их вижу, они живут, и то, что о них написано, – это уже их прошлое: прошлого не изменишь, оно – было. Из прошлого иногда удается кое-что позабыть: вычеркнуть; в воспоминаниях о прошлом можно кое-что приукрасить – и только.
Поправки в готовой рукописи – также воспоминания о прошлом. Эти поправки сводятся обычно к переменам в эпитетах, образах, в расстановке слов, в музыке. Каждое первое издание – новая правка, возраст вещи от переделок ее не спасает. Когда прошлым летом я подготовлял материал для Собрания сочинений – все вещи были заново пройдены наждаком и пемзой. Больше всего изменений было сделано в «Блохе», в «На куличках» и в «Алатыре» (в «Алатыре», например, все поля были изукрашены знаками от перестановки слов).
Кстати – это было случаем оглянуться на весь пройденный за пятнадцать лет путь, сравнить – как я писал и как я пишу теперь. Все сложности, через которые я шел, оказывается, были для того, чтобы прийти к простоте (рассказ «Ёла», повесть «Наводнение»). Простота формы – законна для нашей эпохи, но право на эту простоту нужно заработать. Иная простота – хуже воровства, в ней есть неуважение к читателю: «чего тратить время, мудрить – слопают и так».
Я трачу времени много, вероятно, – гораздо больше, чем это нужно для читателя. Но это нужно для критика, самого требовательного и придирчивого критика, какого я знаю: для меня самого. Обмануть этого критика мне никогда не удается, и, пока он не скажет, что сделано все что можно, – поставить точку нельзя.
Если я считаюсь еще с чьим-нибудь мнением, то только с мнением моих товарищей, о которых я знаю, что они знают, как делается роман, рассказ, пьеса: они сами делали это – и делали хорошо. Другой критики – для меня нет, и как она может быть – мне непонятно. Вообразите, что на завод, на судостроительную верфь приходит этакий бойкий молодой человек, в жизни своей не сделавший ни одного судового чертежа, и начинает учить инженера и рабочих, как строить корабль: молодого человека немедля прогонят в три шеи.
По своему мягкосердечию мы этого не делаем, когда такие молодые человеки иной раз мешают работать не меньше, чем летом – мухи.
1929 (?)
Приложение
Островитяне
М-р Стюард. Рыжие волосы и костюм. Совершенно приличное лицо, гладко заутюженный (как брюки) нос. Но что-то… Рот? Нет, рот маленький, даже слишком. И оттого какое-то очень скромное выражение. Уши, вот что! Острые кошачьи уши, вот-вот шевельнутся. А когда прищурит янтарные глаза, то ясно – у м-ра Стюарда – чужой рот, он носит свой рот…[17]
Гопкинс. Безобразно-прелестный. Вдовый. Остряк. Жуир.[18]
Пастор Чези. Бабье лицо, глаза невольно ищут у него бюста. «Все по расписанию».
Пасторша Чези. Корректность (чайная ложка). Надменна. Удивительная кожа. Возраст – сентябрьский. С кошкой – на «вы».[19]
М-р Кембл. Британское, ничего не выражающее лицо. Подбородок – слишком тяжелый, четырехугольный, упрямство невероятное. Железные руки.
М-с Кембл (мать). Глаз не видно: всегда опущены. И только губы: тонкие, как черви, свиваются, змеятся. Страшно слов, которые выйдут отсюда.
Шотландцы – в юбочках, круглые головы. Футбол…
Ослепительно-чистые пороги.
«Журнал Прихода Сэнт…»
Петрушка: Royal Punch and Judy.[20]
Армия Спасения, с барабанами – поют.
Мисс: «О, I am innocent!»[21]
Звон колоколов – как шарманка.
Мальчишки – босые, в белых воротничках.
Надувной чемодан.
I. Воскресенье – благочестие, гимны, тоска. Вечером – у пастора Чези: «пойдемте почезить…» М-с Чези в пенсне. «Че-зенье» о мисс Диди: ее костюмы, вырезы… Кембл помогает пасторше приготовить supper[22] (прислуга в воскресенье отпущена). Касания, начало…
II. Контора Гопкинса и его машинистки. Кембл на службе у Гопкинса. Гопкинс зовет его в театр: «Покажу вам очаровательную девочку». В театре – две пары: Кембл и пасторша. Гопкинс и Диди. Диди громко смеется, пасторша делает ей замечание. Диди начинает атаку на Кембла. Парк, олеандры, месяц, шепот в кустах – Диди сама увлекается своей игрой.
III. Кембл: ревность к Гопкинсу. Делает Диди предложение. Но… надо подождать, пока не заработает «на мебель» – года два. Очарование кончено, Диди – глотая смех: «Хорошо, я согласна».
IV. Бокс. Кембл. Диди и Гопкинс. Раздражающая, лихорадочная атмосфера азарта, голые напряженные мужские тела. Диди – прижимаясь к Кемблу: «Если вы меня в самом деле…» Кембл выходит и побивает Сэрджента. Скандал, разрыв с матерью и пасторшей.
V. Опять – воскресенье, утро, спальня Гопкинса. Армия Спасения проходит и будит его. Прогулка с Диди на «seaside»[23]. Старая церковь и замок. Гопкинс об Англии: жесток и остроумен. Диди забывает о его безобразии. Но когда он вдруг хочет поцеловать ее…
VI. М-с Чези и м-с Кембл, мать: как спасти бедного Кембла от «этой ужасной девушки»? Действуют через хозяйку бординга, где живет Диди. Кембл, как вол, работает «на мебель» (NB. Не «вол», нужно другое).
VII. Гопкинс по неизвестным причинам в великолепном настроении. Он сдает все дела Кемблу: уезжает на два дня в С. Кембл один, за столом Гопкинса, мечтает. В ящике стола находит маленький прозрачный чулок – тотчас сконфуженно задвигает ящик.
И вдруг: духи Диди! Поезд в С. – только через два часа. Колеблется: взять такси или нет – такси 3 фунта. Берет. Гостиница в С. «Где номер м-ра Гопкинса?» Кембла ведут. Коридорный мальчишка у замочной скважины. Когда он уходит. Кембл – сам… Он видит…
VIII. Долго, медленно, аккуратно, несколько дней думает: что сделать с Гопкинсом? Однажды приходит в контору и, не говоря ни слова, снимает пиджак, засучивает рукава. «Что вы? С ума сошли?» Ответ Кембла – логический, Гопкинс умирает со смеху. Кембл нещадно его избивает. Пишет письмо Диди, что его мать, м-с Кембл, была права.
IX. У матери: она отказывается принять его. Кембл – один в Джесмонде. Работы нет, тратит «мебельные»: теперь все равно. К нему приходит Диди: она сжалилась. Но она ненавистна, все женщины ненавистны. Счастлив, когда слышит, как она всхлипывает за дверью.
X. В Лондоне, ищет работы. Ночевки в «тюбах». Весна, в парке – голодный, злой. Влюбленные пары – он готов задушить их. Крадется за одной – кидается как раз, когда они… Перепуганный кавалер умоляет его не звать полиции, предлагает фунт. Кембла сразу осеняет: «Фунт? Нет, dear Sir[24], три фунта…»
XI. Кембл, наконец, нашел себе дело: охота за влюбленными. По сумеркам в парке – джентльмен в медно-рыжем костюме, с тросточкой… Лет через пять вернулся в Джесмонд, купил дом в приходе м-ра Чези. Теперь Кембл – почтенный, богатый человек, прошлое забыто. Изредка он уезжает в Лондон. И тогда снова в парках видят джентльмена в медно-рыжем костюме, прогуливающегося с небрежным как будто видом.
Вариант развязки
Кембл в тюрьме
…Так прошло еще два дня. За два дня Кембл умер и родился снова – и лучше бы ему было не родиться.
На второй день к вечеру Кембла позвали вниз… «Вероятно – мать», – подумал он. И не было ни малейшей радости. «А вдруг… а вдруг – Диди?» Это было уже совершенно невероятно, сердце сжалось, как перед смертью, и с этой невероятной надеждой Кембл спустился по лестнице.
Когда Кембл вошел в комнату с клеенчатым диваном, навстречу ему поднялась забинтованная голова Гопкинса.
В один молнийный миг Кембл вспомнил и понял, что говорил полицейский, когда вел его по Гай-Стрит. И понял, что Диди – нет и значит – нет мира для него и что он все-таки будет жить.
– Ну, старик, вам повезло, – говорил Гопкинс, – вы меня ухлопали не совсем. Но вам, чудаку, пора бы уже знать, что женщины – это только высший сорт шампанского. Нам, мужчинам, не пристало ссориться из-за какой-то лишней бутылки.
И опять, как всегда, нельзя было разобрать, шутит он или говорит серьезно.
– Слушайте, Кембл: я сказал, что это я вас спровоцировал на выстрел, и потому, думаю, вам много посидеть не придется. Но во всяком случае – потом вам надо убраться из Джесмонда, а может быть – даже из Англии. Тут не прощают…
Гопкинс был серьезно-серьезен. Кембл долго молчал, удивленно глядел на него. Потом неожиданно спросил:
– Скажите, Гопкинс, вы верите в бога? Почему вы все это…
– В бога? В их бога? Но это же – бог расписаний; это – Чези с шестью нулями, – засмеялся Гопкинс.
Он стал прежним, таким знакомым Кемблу…
Театр
Огни Св. Доминика*
Историческая драма в четырех действиях
Вступительное слово
В темных подземельях – тысячи юношей, девушек, старцев, под самыми мучительными пытками бесстрашно исповедующих свою веру. Обагренный человеческой кровью ослепительно желтый песок на арене цирков. По ночам – живые факелы из людей, обвитых смоляной паклей. И все-таки новые и новые толпы потрясенных красотой нового учения и идущих за него на смерть. Это – христиане. Это новое учение – христианство.
Прошло двенадцать веков. И снова – тысячи людей заперты за свою веру в темные подземелья; снова – те же самые пытки; снова дымятся человеческие факелы на кострах. И это тоже – христиане; но тогда христиан сжигали живьем – теперь сжигают живьем христиане; тогда умирали во имя Христа – теперь во имя Христа убивают; тогда христиане были жертвами – теперь они стали палачами. И имя этим палачам во имя Христово – инквизиторы.
Невозможно, неправдоподобно. Но история говорит нам, что так было. И история учит нас, что идеи – так же, как и люди, – смертны. Сперва юность – героическая, мятежная, прекрасная, полная исканий и борьбы за новое. Затем старость: идея победила, все найдено, все решено, все твердо, и с каждым днем костенеет все больше; живая идея все больше отливается в непогрешимую, не терпящую никаких сомнений – догму. И наконец, полное окостенение: смерть. Чем ближе к смерти идея, чем больше она стареет – тем с большей жадностью цепляется за жизнь, тем с большей нетерпимостью подавляет она свободу человеческой мысли, тем с большей жестокостью преследует еретиков – носителей новых, юных идей. Но идеям юным – хотя бы и целью великих жертв – всегда суждено победить, так же как идеям состарившимся – суждено умереть, какою бы жестокостью, какими бы насилиями они ни пытались удержать свою прежнюю власть над умами. И в этой вечной смене идей, в этой вечной борьбе против догмы, в не истребимом никакими казнями еретичестве – залог бесконечного прогресса человеческой мысли.
Героическая юность христианства, увенчанная пурпурными цветами мученичества, в сущности, кончилась уже в тот момент, когда христиане вышли из своих подземелий, из своих катакомб на широкий путь государственной религии: в тот момент, когда на престоле римских императоров появились христиане. Но в течение всех первых девяти веков своего существования христианство, в борьбе против иных религиозных идей и в борьбе против еретичества, не прибегало к грубой силе: идея христианства еще сохраняла следы былой красоты и силы этой красоты еще было достаточно для победы над идейными противниками. В третьем веке один из столпов христианства, Тертулиан, писал: «Навязывать религию – дело совершенно противоречащее религии»; позже другой христианский философ, Лактанций, говорил: «Никого не следует принуждать силою оставаться в лоне церкви».
С одиннадцатого века христианство начинает быстро стареть, все резче обнаруживаются в нем эти явные признаки старческого окостенения: вера в абсолютную непогрешимость своих догм, боязнь свободной мысли и стремление пользоваться в борьбе уже не силою проповеди, а силой оружия, силой тюрем и казней. Особенно сильно все это сказалось в христианстве западном, в католичестве. В тринадцатом веке Фома Аквинский, один из величайших католических философов и святых, уже совершенно ясно высказывался за то, что нераскаянных еретиков следует изъять из христианского общества, предавая их смерти. Фома Аквинский только окончательно укрепил философский фундамент для этой душной тюрьмы церковного террора, в которую на несколько веков была загнана большая часть Западной Европы.
Этот террор, конечно, именовал себя Священным Террором и свой суд – Священным Трибуналом. Все учреждения по розыску и преследованию еретиков, монахи – следователи и судьи, целая рать шпионов, вооруженной стражи, палачей – все это воинство составляло так называемую Инквизицию. И едва ли в средние века была какая-нибудь другая власть более могущественная и страшная, чем власть Инквизиции. Короли, и князья, и рыцари – так же склонялись перед волей инквизиторов, как и простые смертные. Все гражданские власти обязаны были беспрекословно исполнять все распоряжения инквизиторов и содействовать им. В выдаваемых инквизиторам папских грамотах говорилось, что все архиепископы, епископы и священники католической церкви должны повиноваться Инквизиции. Миряне величали инквизиторов «Ваше монашеское величество» – и в самом деле эти монахи были некоронованными повелителями средневековья. Большая часть инквизиторов принадлежала к монашеской общине доминиканцев, основанной св. Домиником; святой Доминик поэтому считался покровителем Инквизиции, а костры, на которых сжигали еретиков, часто назывались «огнями св. Доминика».
Впервые с огнем и мечом против свободной, еретической мысли Инквизиция выступила в первой половине тринадцатого века в Южной Франции. Здесь было тогда самостоятельное Тулузское графство – с богатыми городами Тулуза, Альби, Каркассон и другими. Под южным солнцем, на плодородной земле – здесь жилось хорошо и свободно, насколько вообще могла быть свобода при феодальном строе. Здесь мирно обитали рядом католики и еретики – альбигойцы, названные так по имени города Альби. Альбигойство представляло собою смесь из принципов христианства первых веков с элементами восточных учений, Зороастры и Манеса; это была одна из первых попыток разрушить окостеневшую католическую догму и рационализировать христианство. Дряхлеющее католичество, уверенное в своей непогрешимости, решило силою оружия и костров загнать непокорных еретиков в свой рай.
ЛИЦА
Граф Кристобал де-Санта-Крус.
Валтасар – его сын.
Родриго (Рюи) – его сын.
Инеса – невеста Рюи.
Диэго – мажордом.
Фра-Себастьяно– поэт.
Дама (Сеньора Сан-Висенте).
Гонсалес де-Мунебрага – инквизитор.
Нотариус.
Фра-Педро, Фра-Нуньо – доминиканцы
Секретарь инквизиции.
Первый мастер инквизиции.
Второй мастер.
Желтый горожанин с женой.
Румяный горожанин с женой.
Первый гранд.
Второй гранд.
Король Филипп II. Кабальеро и дамы. Алгуасилы. Служители инквизиции. Еретики. Монахи. Народ.
Место действия – Севилья. Время – вторая половина 16-го века.
Действие первое
Внутренний двор в доме Санта-Крус. Справа и слева – стены дома; узкие, глубокие ниши окон, все в плюще. На заднем плане высокая каменная ограда с зубцами; над зубцами полоса черно-синего неба, звезды. Тяжелая, обитая железом, дверь на улицу, на двери герб: крест из двух мечей, на конце одного меча сердце. Возле рампы, справа и слева – две винтовых лестницы внутрь дома; истертые каменные ступени. Недалеко от одной из лестниц – столик с книгами и принадлежностями для письма. Посередине двора – обеденный стол. Диэго расставляет блюда, бутылки, вазы с фруктами.
Дон-Кристобал (берет одну за другой бутылка а смотрит на свет). А где же малага? Ай, Диэго, за эти три года ты уже успел забыть, что Рюи больше всего любит малагу. Ну, чего же стоишь и сияешь, как медный таз Алонсо-цирюльника? Рад, старик, что Рюи вернулся, а? Впрочем, я и сам, должно быть, как медный таз… Три года! Ты бы сбегал наверх, Диэго: может быть, Рюи уже пришел из собора?
Диэго. Из собора? Да он туда и не ходил.
Кристобал. Как, разве? А я думал – он вместе с Валтасаром и Инесой…
Диэго. Нет, сеньор, Рюи сказал дон-Балтасару, что он устал с дороги. Должен заметить, сеньор, что я это не одобрил: пожалуй, еще кто-нибудь скажет, что наш Рюи набрался разных мыслей в этих самых Нидерландах.
Кристобал. Ну, хотел бы я посмотреть, кто осмелится что-нибудь этакое сказать об одном из Сайта-Кру сов. (Помолчав.) Нет, а какой он стал: совсем мужчина! Ты приметил, Диэго, как он вошел: голову назад, взглянул вот так… А говорит… как говорит! Нет, в нидерландских университетах учат хорошо. Я не жалею, что послал его туда.
Диэго. А я, должен заметить, сеньор, не одобряю. Там, говорят, еретиков что орехов в Барселоне. А у неверных, конечно, и наука неверная. Вот уж у нас в Испании, если дважды два, так спокойно можешь сказать, что это – с благословения святой церкви – четыре. Взять, например, вашего старшего, дон-Балтасара…
Рюи (медленно спускается по лестнице справа, в руках у него книга, читает на ходу. Спохватился, закрыл, книгу, входит). Как хорошо! Вино, а не воздух: пьешь и хочется все больше… А где Инеса?
Кристобал. А-а, мальчик, вот чем ты пьян? Инеса? Рыцарь Санта-Крус, и сдался в плен… Кому же? Девочке! И не стыдно?
Рюи. Сеньор отец…
Кристобал. Ну-ну, Рюи, я шучу. Когда-то – так давно и так недавно – я ведь и сам был такой, как ты, и я помню… Что это у тебя за книжка?
Рюи (смущенно). Это… это так. (Прячет книгу за спину.) Это…
Громкий, отчетливый стук в дверь. Рюи поспешно засовывает книгу под плющ, в оконной нише. Диэго открывает дверь. Входит Балтасар.
Балтасар. Не запирай, Диэго: там Инеса и гости. (Идет к Рюи.) Ну, Рюи, дай обнять тебя еще раз. Я так торопился в собор – не успел даже разглядеть тебя. Да, теперь у тебя в глазах как будто… Нет, не знаю… А это… Погоди-ка, ведь это на щеке у тебя тот самый шрам! Помнишь тот наш детский турнир из-за Инесы? И еще ты боялся, что след у тебя останется на всю жизнь? Неужели…
Рюи. Да, Балтасар, это на мне твоя печать. Так и умру с ней.
Кристобал (смотрит на сыновей, мигает). Ну вот – оба теперь… Ну, давайте же… (Наливает бокалы – вытирает глаза.) Пыль – с улицы: дверь открыта…
Входит Инеса. Рюи к ней навстречу с бокалом. Становится на одно колено, целует у нее руку и подает ей бокал.
Рюи. Инеса, вам бокал – и… я просто боюсь – я расплескаюсь, перельюсь через край, так полно!
Кристобал. Инеса… Рюи… Пошли вам счастья Святая Дева. И ты будь счастлив, Балтасар!
Балтасар берет свой бокал, смотрит на Инесу, на Рюи – ставит свой бокал обратно на стол. Входят Гости. Впереди фра-Себастьяно говорит кому-то, оборачиваясь назад.
Фра-Себастьяно. Нет, ведь это просто ужас! Говорят, все монахи из Сан-Изодоро – тоже… И вот, по ночам все эти отступники от веры…
Гость. Ну, фра-Себастьяно, вы поэт, а поэты склонны… как бы это сказать…
Фра-Себастьяно. Нет, нет, уверяю вас, мне говорил сам инквизитор де-Мунебрага…
Кристобал и Балтасар идут навстречу Гостям. Инеса и Рюи – в стороне, меняются незаметно бокалами и пьют, не отрывая глаз друг от друга. Слышны смешанные восклицания Гостей.
Гости. Позвольте и мне, дон-Кристобал… – Нет, нет, фра-Себастьяно, тут какая-то ошибка… – Теперь, дон-Кристобал, вы можете спокойно…
Первый гранд (второму – глядя на Инесу и Рюи). Смотрите: сейчас во всем мире их только двое. Никого нет: только их двое.
Второй гранд. Никого нет? Сеньор, вы, по обыкновению, говорите так, что я… (Проходят.)
Рюи (Инесе). А наше Эльдорадо: вы помните, Инеса? В башне, когда смеркалось, камни начинали шевелиться – и я спасал вас от великанов. И вот теперь бы мне каких-нибудь эльдорадских великанов, что-нибудь самое трудное для вас…
Толстый сеньор (подходит). Чтоб не забыть: не скажете ли вы мне, дон-Родриго, чем они там откармливают свиней? У них ведь – свиньи лучшие в мире.
Гости (подходят). Да, да – расскажите, расскажите нам что-нибудь!
Рюи. Свиньи? Сеньор, я крайне сожалею, но я был занят более… более необходимым: я изучал метафизику.
Толстый сеньор. Более необходимым? Что значит молодость!
Кристобал (подходит). А где же дон-Фернандо? Странно: он так хотел видеть Рюи – и он всегда точен, как часы. Не заболел ли? Ну что ж, я думаю, мы не будем его ждать? Прошу, сеньоры. Инеса, ты мне поможешь?
Вместе с Инесой и частью Гостей идет к столу.
Рюи (взял со стола какую-то книгу, раскрыл). Нет, вы только посмотрите! (Смеется. Идет к большому столу, где Гости, и читает.) «О том, что есть торговля, и об искусстве тончайшем очарования покупателя. Посвящается императрице неба, матери вечного слова, чистейшей деве Марии». Нет, это великолепно! (Смеется.)
Балтасар (сурово). Перестань, Рюи. Что тут смешного?
Рюи. Нет, Балтасар, ты только… О торговле – деве Марии… Нет, не могу!
Кристобал (с добродушной усмешкой). Ты, Рюи, не шути с ним: ведь он у нас – ревнитель веры. Три месяца уже, как он стал el santo.
Рюи. El santo?
Кристобал. Ну да. Бедный мальчик! Чему же там вас учили в Нидерландах? Ты не понимаешь?
Рюи. Нет, сеньор отец, прошу вас извинить меня, но право же…
Кристобал. Я помню – это было очень торжественно, после мессы, собор полон рыцарей и дам. Вас было десять: не так ли, Балтасар? И каждому из десяти сеньор де-Мунебрага, инквизитор севильский, вручил вот этот белый знак. (Показывает на грудь Валтасара.) Тишина в соборе такая, что слышно было, как шуршали шелковые складки фиолетовой одежды де-Мунебраги. И в тишине каждый из десяти поклялся перед алтарем – бороться с еретиками, поклялся забыть, согласно заветам Христа, об отце, о матери, о братьях, и кто бы ни были еретики – всех предавать в распоряжение святейшей инквизиции. Обет тяжелый, но Санта-Крусы всегда в первых рядах сражались против врагов церкви – против турок, мавров и против…
Рюи. Прошу прощения, сеньор отец. Но с маврами – Санта-Крусы, насколько знаю, сражались мечом, а не доносами. Я ушам не верю: испанский рыцарь – пойдет с доносом в инквизицию! И об этом так, вслух…
Балтасар (с шумом отодвигает кресло, берется за шпагу). Рюи, у тебя на щеке еще цел след от моей рапиры, и если ты…
Кристобал (хватает его за руку). Тише, тише. Вспомни, Балтасар, что Рюи уже три года не был в Испании и потому…
Балтасар. Там три года или не три года… Но должен же он понять, что служба инквизиции – это служба церкви, и потому это честь для каждого из нас! (Кулаком по столу.) Неужели же не ясно, что убийство, ложь – все, что угодно, ради церкви – благородней, чем благороднейший из подвигов ради сатаны и его слуг – еретиков?
Толстый сеньор (сидел рядом с Рюи – теперь предусмотрительно отошел в сторону вместе с женой). Браво, браво, дон-Балтасар! (Жене тихо.) Как он неосторожен – этот Рюи. Что значит молодость!
Балтасар (садится. Спокойнее). Неужели же тебе не ясно, Рюи, что было бы жестокостью предоставить еретикам идти их пагубным путем? Разве не милосерднее спасти их?
Рюи. Насильно? Тюрьмой? Костром?
Балтасар (опять вскакивает. Вызывающе). Да! Да! А разве Бог не посылал казни на избранный народ? Разве не Бог приказал Моисею истребить смертью четыреста поклонников Ваала? Разве не ясно, что генеральный инквизитор – вовсе не Мунебрага, а сам Господь? И мы, воины инквизиции, в руках его – как благородный, беспощадный меч Тисон в руках Сида Кампеадора…
Гости. Браво! Браво!
Фра-Себастьяно (встает). Сеньоры, кстати о Сиде: если разрешите, я прочту свою новую поэму, посвященную его преподобию, сеньору Мунебраге. Там как раз…
Гости. Просим! Просим!
Балтасар. Нет, позвольте. Я хочу, чтобы Рюи ответил мне прямо на вопрос: считает ли он, что католическая церковь…
За стеной на улице слышен топот бегущих и неясные крики погони. Балтасар сбивается.
…Что церковь…
Фра-Себастьяно (стоит с листком в руках). Сеньоры…
Толстый сеньор (возле него теперь еще несколько Гостей). Ого! Этот турнир между братьями становится серьезным!
Крики за стеной ближе. Слышно: «Держи! Где же она? Сюда!»
Гости. Что там? Что случилось? Слышите? (Вскакивают.)
Кристобал. Посмотри, Диэго.
Диэго выходит на улицу. Крики затихают вдали. Диэго возвращается.
Ну? Кто же это сейчас там был на улице?
Диэго. Только один человек, сеньор.
Кристобал. Кто же?
Диэго. Я, сеньор.
Кристобал. Ну, ты уж… (Отчаянно машет рукой.) Хорошо, иди.
Фра-Себастьяно. Итак, сеньоры…
Гости. Да, да, фра-Себастьяно! – Конечно! – Мы ждем!
Фра-Себастьяно (читает).
Гремите, трубы и литавры; Хвалите Бога, стар и млад: Покорны были Сиду мавры – Покорен Мунебраге ад. Как Сидов меч, Тисон могучий, У Мунебраги – крест Христов: Взмахнет – все выше, выше, круче – Горой тела еретиков. Как под Валенсией у Сида, Уж руки…Тихий стук в дверь.
(Сердито оглядывается и продолжает громче.)
Уж руки по локоть в крови: Господь его благослови – Де-Мунебрагу…Снова слышен стук.
Рюи. Простите, фра-Себастьяно. Но там стучат. Быть может, это, наконец, дон-Фернандо…
Идет к двери, открывает. Входит Дама. Прислонившись к стенке, смотрит на всех широко раскрытыми глазами, молча.
Дама (к Рюи). Закройте… Ради Святой Девы – скорей, скорей…
Кристобал. Как – вы? Одна? А что же дон-Фернандо? Но что с вами?
Дама (тихо). Дон-Фернандо взяли.
Кристобал. Дон-Фернандо? О, нет! Что вы, что вы!
Дама (сперва тихо, потом громче, возбужденней). Они окружили весь дом, они заняли все входы… Во всех комнатах, все книги, письма… Они схватили дон-Фернандо – у него свалилась шляпа, он наступил на шляпу… и его повели неизвестно куда… Нет, хуже: известно! Святая Дева – они сказали: в этот проклятый замок инквизиции, в Триану, в тюрьму…
Балтасар (еле сдерживаясь). В Святой Дом. Это называется – Святой Дом, позвольте вам сказать, сеньора. Это Святой Дом, а не тюрьма. Благодарите Бога и Мадонну, что есть люди, которые…
Дама (не слушая). Они рыщут по всему городу. Они оцепили целые улицы. Они повсюду. Гнались за мною. Я видела: ведут мужчин и женщин. В замке инквизиции все окна освещены. Они замучают, они сожгут его! Дон-Кри-стобал, скажите – дон-Кристобал, что мне делать, что, что?
Кристобал (дрожащими руками наливает ей вина). Вот, выпейте. Я думаю, все это ошибка. И завтра же… Нет, дон-Фернандо… Это смешно! Балтасар, ведь ты же знаешь его. Ты знаешь!
Балтасар (угрюмо). Да, знаю. И знаю, что однажды он дал приют еретику, которого разыскивал святейший трибунал.
Дама (делая движение к Валтасару). Да, да, дон-Балтасар, вот вы понимаете: он был такой добрый… Святая Дева! Почему я говорю «был»? О, он шел без шляпы – один, а сзади, и спереди, и с боков, – они. А он один…
Ее окружают Гости и Гостьи. Все встали из-за стола. У лестницы справа – Толстый сеньор и группа других поглядывают на происходящее издали и сперва перешептываются, а потом – громко.
Толстый сеньор. Я вам говорю, сеньоры, берите шляпы и домой. Я вам говорю: в этом доме пахнет огнем.
Толстая сеньора (радостно). Нет, вы обратите внимание, как бледен дон-Родриго. Уж поверьте: тут что-то…
Прощаются с дон-Кристобалом, уходят, за ними другие Гости. Дама остается; возле нее Кристобал, Диэго, Балтасар; Инеса и Рюи в стороне – возле ниши, где Рюи спрятал книгу.
Инеса. Мой милый Рюи, что с вами? Вы смотрите на меня так, как будто я из стекла. Вы – совсем другой.
Рюи. Разве? Мне кажется… я… Мне неприятно, что этот вечер, такой радостный, – был омрачен… В этом я вижу дурной знак.
Инеса. А я ничего на свете не вижу, кроме… (Пристально смотрит на Рюи.) Рюи, вы что-то скрываете от меня.
Рюи (неохотно). Ну… если хотите, дон-Фернандо – был мой друг. И может быть – даже больше… (После паузы, решительно.) Инеса, что бы вы сказали, если б я…
Инеса. Что – вы?
Рюи. После. Здесь Балтасар…
Диэго, поддерживая, уводит Даму внутрь дома по лестнице налево. Дон-Кристобал и Балтасар – сзади.
Кристобал. Но, Балтасар, подумай: куда же она пойдет, ночью, одна? Ведь это же…
Балтасар. Сеньор отец, я повторяю: она скрылась от служителей святого трибунала. Вы можете принудить меня к тому, чего я не хотел бы… И я настаиваю…
Кристобал. Что? Довольно! Или я уж не хозяин в этом доме? (Уходит по лестнице налево.)
Балтасар (вслед ему). Сеньор отец, предупреждаю, что я должен… Сеньор отец!
Некоторое время Балтасар стоит нахмурившись, глядя вслед ушедшему Кристобалу, потом идет к нише направо, где Инеса и Рюи. Рюи, не глядя на Балтасара, быстро поворачивается и уходит по лестнице в дом.
Ушел, не хочет… Инеса!
Инеса молчит.
Инеса, если бы вы знали, как мне трудно сейчас… Понимаете: часы. Хотят или не хотят – но они неизбежно должны пробить двенадцать. Должны! Инеса! (Осторожно берет ее за руку.) Если бы вы когда-нибудь… я не говорю сейчас – но, может быть, когда-нибудь… Если бы вы согласились разделить со мною…
Инеса (вырывает руку и прячет ее за спину. Нащупала книгу, спрятанную Рюи, вытащила ее и перелистывает, чтобы не смотреть на Валтасара). Я очень сожалею, дон-Балтасар, но если бы вы оставили меня одну, мне было бы приятнее. Вы, кажется, снова начинаете о том, о чем мы уже столько раз говорили.
Балтасар. В последний раз – больше никогда. Скажите мне в последний раз…
Снова касается ее руки. Инеса роняет книгу, Балтасар ее поднимает.
Инеса (встает). Если вы не перестанете, дон-Балтасар, я сейчас же уйду.
Балтасар (некоторое время молчит, глядя в книгу. Резко). Чья книга? Ваша? (Протягивает Инесе.)
Инеса (встает). Вам это так интересно? Нет, не моя. (Открывает книгу.) Здесь пометки. Как будто почерк Рюи. Ну да, конечно же, его…
Балтасар (в ужасе). Рюи? Вы говорите, что это… это его, Рюи?
Инеса изумленно поднимает голову. Входит Рюи. Увидел раскрытую книгу в руках Инесы – и как споткнулся: стоит, не отрывая глаз от книги. За стеной голоса, шаги, звон оружия.
Инеса (к Рюи). Опять они: слышите? Весь город полон ими… Что за ужасная ночь!
Балтасар. Да, это… Я должен… (Делает два-три шага к двери на улицу, останавливается, возвращается обратно. Секунду стоит возле окна; проводит по лицу рукой – раз и еще раз.)
Инеса (прислушиваясь). Прошли.
Балтасар (очнувшись). Мне надо… Я скоро вернусь – сейчас… Ты за мной закроешь? (Подходит к Рюи, кладет ему руки на плечи, опускает глаза.) Прощай, Рюи! (Целует его.) Спокойной ночи, донья Инеса! (Уходит на улицу.)
Рюи (поспешно закрывает дверь и бросается к Инесе). Он видел? Раскрывал ее? (Крепко стиснул руку Инесы.)
Инеса. Что? Я не понимаю… Пустите же, Рюи, мне больно!
Рюи. Он видел? Он видел, что это за книга?
Инеса. Пустите же! Я не знаю… Я уронила… Он спросил, чья книга… Пустите!
Рюи. Он видел!
Инеса. Рюи, ради Святой Девы – что все это значит?
Рюи. Что значит? Это значит, что вы, сами того не подозревая, подожгли фитиль у бочки с порохом – и через час, через минуту, я не знаю, когда – все взлетит на воздух…
Инеса. Но что же, что я сделала? Вы меня пугаете.
Рюи. Разве вы не видите: это Новый Завет по-кастильски, это сделанный Жуаном Перецом перевод с латинского…
Инеса. Не понимаю. Если это Новый Завет – если это Евангелие…
Рюи. Дитя! Вы не знаете, что для них – для Валтасара – это ересь? Что это то самое Евангелие, какое читал дон-Фернандо, и десятки, и сотни других, кого сегодня ночью…
Инеса. Рюи, вы – вы! – тоже… Как дон-Фернандо…
Рюи. Да, я – тоже.
Инеса (после паузы, тихо). Но неужели вы можете думать, что Балтасар… (Громче.) Но это же нелепо! Вы не знаете, как он… Когда вы были в Нидерландах, один – кто, я не скажу – нехорошо отзывался о вас при Валтасаре. И Балтасар вызвал его на поединок, был ранен… Нет же, Рюи, это невозможно, чтобы Балтасар, – я знаю.
Рюи. Я тоже знаю: одной и той же рукой – он может убить из-за меня и может убить меня…
Слышно: в городе медленно бьют башенные часы.
Инеса. Постойте. Он что-то говорил о часах… Не помню. У меня все путается в голове. Какой-то сон… И эта книга и то, что вы отреклись от Христа и Мадонны, и то, что Балтасар может…
Рюи (перебивая горячо). Инеса, я не отрекся от Христа: я только полюбил его – и возненавидел тех, кто снова распинает его, кто заставляет его быть предателем, Иудой. Тюрьмы, казни во имя Христа! Инеса, вы только представьте: Христос – сейчас там, на улицах. Неужели вам не ясно, что…
Обрывает. За стеной снова шаги. Остановились.
Тише, там, кажется, кто-то…
Громкий троекратный стук в дверь.
Инеса. Рюи…
Рюи (прижимая к себе Инесу). Ничего, ничего, Инеса. Это только… Это… Кто там?
Балтасар (за дверью). Это я. Откройте…
Инеса. Но там – там еще какие-то голоса… Рюи, я дрожу вся, Рюи…
Рюи. Нет, нет, это вам показалось. Это Балтасар. Диэго сейчас откроет. Пойдемте.
Инеса. Я не… не могу…
Рюи бросает книгу в нишу, подхватывает Инесу обеими руками и уносит по лестнице направо. Снова стук в дверь, нетерпеливые голоса.
Диэго (застегиваясь на ходу, бежит к двери). Кого вам надо?
Балтасар (за дверью). Это я. Открой, Диэго!
Диэго открывает. Входит доминиканец, откидывая капюшон. Рядом с ним Балтасар. Отряд алгуасилов инквизиции.
Диэго (всплескивая руками). Сеньор Иисус!
Балтасар (большими шагами идет к нише, берет оттуда книгу, подает ее доминиканцу). Вот эта книга!
Доминиканец. Подумайте! За эту ночь я вижу уж чуть ли не десятую. Весь город засеян семенами дьявола, и я полагаю… Позвольте, позвольте, куда же вы?
Балтасар, не слушая, быстро выходит на улицу. Весь дом проснулся. Мелькают огни. Открываются окна, высовываются и прячутся чьи-то головы. По лестнице слева спускается Кристобал.
Кристобал (доминиканцу). Что вам здесь надо? Вы ошиблись, отец мой. Это – мой дом, дом графов Санта-Крус.
Доминиканец. Сеньор, простите. Но вот приказ святого трибунала. Вы видите печать: меч, ветвь оливы и собака с пылающей головней. И вот девиз: справедливость и милосердие.
Часть алгуасилов уходит в дом по лестнице налево.
Кристобал (руки у него дрожат). Я… я… не могу. Здесь неясно.
Доминиканец (насмешливо). Возможно. Ведь имя вписано сию минуту, на улице под фонарем. Но оно вам знакомо.
Кристобал (поднимает бумагу к свету – и садится, согнувшись, постарев сразу). Как? Мой сын? Рюи?
Доминиканец. Да, сеньор Родриго де-Санта-Крус. И супруга еретика Фернандо Сан-Висенте.
На лестнице справа – показывается Рюи; останавливается на последних ступеньках.
Кристобал (растерянно). Но… он… ведь только приехал сегодня утром… Только приехал, понимаете? (С отчаянием.) Я хочу сказать: его здесь нет – нет!
Рюи (выходит). Я здесь. Я – Родриго Санта-Крус. Кристобал (встает, выпрямившись, смотрит на Рюи. Гордо). Да, это он.
По лестнице слева алгуасилы ведут вниз Даму.
Занавес
Действие второе
Низкая, глухая комната в замке Триана. Сводчатый потолок. Узкое окно с решеткой; створки с цветными стеклами открыты внутрь, на стеклах играет солнечный луч. На одной стене – две задернутые черные занавески; за ними, вероятно, двери или ниши. Возле другой стены – покрытый черным бархатом стол и четыре кресла. Перед столом скамья подсудимых: на выкрашенных в черное деревянных крестовинах – положен треугольный брусок, острым ребром кверху. Отдельный столик для Секретаря инквизиции. Под окошком стоят два Мастера, в длинных, черных одеждах, с капюшонами, закрывающими голову и лицо; в капюшонах прорезы для глаз, рта и носа.
Первый мастер фыркает.
Второй мастер. Ты чего?
Первый мастер. Да уж очень смешно. Вчера-то, помнишь? Раздели ее, стали к доске прикручивать, а из грудей молоко как брызнет! Прямо мне на руку! Теплое!.. (Помолчав.) Младенец, должно быть, дома у ней…
Второй мастер молчит.
Ты что молчишь, нос повесил?
Второй мастер. Девочка у меня заболела. Младшая.
Первый мастер. А, это которая – палец тряпкой завязан? Еще я ей куклу на тряпке…
Второй мастер. Ну вот – теперь у ней всю руку раздуло. Кричит, просто сердце переворачивается. Скорей бы домой.
Первый мастер. Попадешь тут домой! Дадут тебе какую-нибудь упрямую лютеранскую собаку…
Второй мастер (со злостью). Ну, у меня нынче живо… Так завинчу…
Первый мастер. Тише! Идут…
Входит Мунебрага с Нотариусом, за ними два доминиканца и сзади всех Секретарь с бумагами и Служитель. Мунебрага – румяный, с ямочками на щеках; доминиканцы – два желтых черепа с венками седых волос. Нотариус на каждом шагу прикланивается и все время идет на полшага сзади Мунебраги.
Нотариус. Ваше преподобие, изволили вы…
Мунебрага (Мастерам). Можете пока идти к себе. (Служителю.) Там есть кто-нибудь наверху в приемной?
Служитель. Сеньор Балтасар. Хочет вас видеть, ваше преподобие.
Мунебрага. А-а, это кстати. Веди его сюда! (Нотариусу.) Вы что-то спрашивали, сеньор Нотариус?
Нотариус. Я хотел узнать: изволили ли вы, ваше преподобие, читать поэму, написанную фра-Себастьяно? Как метко: сверкающий огнем меч Тисон – именно огнем, заметьте. И ваше преподобие – в виде доблестного Сида.
Мунебрага. Да, это, конечно, не Петрарка. Но… (вытаскивает из кармана изюм, кладет его в рот)…зато в авторе – бескорыстная преданность церкви, что делает его ценней Петрарки… Ах, кстати: позвольте, фра-Педро, поблагодарить вас за скворца. Вы прямо чудеса делаете со своими птицами! Понимаете, сеньор Нотариус: скворец – насвистывает Te-Deum.
Нотариус. Te-Deum! Так мудро использовать естественное стремление птицы петь! Te-Deum! Как бы я хотел послушать Te-Deum! Как бы я хотел послушать…
Мунебрага. За чем же дело? Вот кончим, приходите завтракать ко мне. (Зажмуривается.) А каких мы вчера ели омаров! Мы получаем их из Англии, с Святого Острова. Да, уж этот остров подлинно взыскан благоволением Божиим.
Секретарь (подносит для подписи). Приговор, ваше преподобие. Костер.
Мунебрага (не глядя, подписывает. Продолжает). Слегка поджарены, с соусом из взбитых яиц и с красным канделедским перцем… Пальчики оближешь! И к этому вино – из рейнских лоз. Да, еретики в Германии умеют делать вино, что говорить!
Нотариус (с поклоном и многозначительной улыбкой). И еретики на что-нибудь полезны, как все созданное Господом.
Мунебрага. Ах, я все забываю спросить вас. Старик дон-Кристобал…
Нотариус. Разве я не докладывал вашему преподобию? Он поторопился отправиться в чистилище – чтобы заблаговременно приготовить там апартаменты для сына. Он этого мальчика, кажется, очень любил.
Мунебрага. Да, знаю, знаю, я не о том. Сколько он оставил? Вам, сеньор, это, я думаю, известно.
Нотариус. Около двадцати тысяч дукатов, ваше преподобие. И, стало быть, после конфискации его имущества…
Входит Балтасар. Мунебрага встает ему навстречу.
Мунебрага. Хвала и честь вам, дон-Балтасар. Я вас с тех пор не видел и еще не имел случая сказать вам, как меня глубоко тронул ваш подвиг. Вы подлинно достойны имени Санта-Крус: вы мужественно стали на защиту святого креста и церкви, вы не пощадили даже…
Балтасар. Ваше преподобие, простите, я пришел справиться о нем – о Рюи… о дон-Родриго, моем несчастном брате.
Мунебрага. Не могу скрыть от вас: у нас есть опасение, что нам не удастся вырвать его душу из когтей сатаны. Он тверд, как железо. Одна надежда, что и железо делается мягким на огне. Сегодня мы допросим его в третий раз – и если он будет все так же упрям – как ни прискорбно, придется прибегнуть к инструментам…
Балтасар (вскакивает). Ваше преподобие! Вы хотите… вы хотите его, Рюи… (Замолкает.)
Мунебрага (с усмешкой). Вы хотели что-то сказать, дон-Балтасар?
Балтасар (снова опускается в кресло. Устало). Нет. Ничего.
Мунебрага. Нет? Тогда позвольте мне сказать вам – или, вернее, доказать, – как я ценю вас. Я хочу, чтобы вы были спокойны, и предоставлю вам самому возможность судить, насколько мы будем правы, если отведем его туда… (Показывает на ту дверь за занавесью, в которую ушли Мастера.) Вы сами услышите, как он говорит и что. Прошу вас сюда, сеньор.
Открывает одну из занавесей в передней стене: за занавесью кресло в нише. Балтасар по-прежнему сидит возле стола, согнувшись.
Ну, что же?
Балтасар медленно, тяжело идет, садится в нише. Мунебрага задергивает занавес, подходит к столу, звонит. Входит Служитель.
Сороковой номер здесь?
Служитель. С утра здесь, ваше преподобие.
Мунебрага. Сюда его. (Садится на место, вынимает из кармана изюм и жует.)
Нотариус (тихо). Вы не опасаетесь, ваше преподобие, какого-нибудь… недоразумения? (Кивает головой в сторону ниши.)
Мунебрага. Недоразумения? Наоборот – я жду большего разумения того, насколько мы следуем нашему священному девизу: справедливость и милосердие. (Предлагает Нотариусу изюм.) Угодно? Это синий, из Малаги. Если у вас желудок не в порядке, если вас крепит – так это прекрасное средство!
Служитель вводит Рюи. Рюи босой, в арестантской одежде.
Сын мой! Взгляни туда… (Показывает на окно.)
Рюи (оборачивается). Какое синее! (Закрывает глаза – и снова повертывается к столу. Как бы оправдываясь.) Я отвык.
Мунебрага. Сын мой! Мы хотим, чтобы твоя душа была в этом неизреченном свете, а не в кромешной тьме геенны. У тебя есть еще время покаяться. И есть путь: сказать нам – чистейшую, как это небо, правду.
Рюи. Ни один из Санта-Крусов не нуждается в таком щите, как ложь.
Мунебрага. Тем лучше. Тогда скажи: известен ли тебе указ нашего доброго короля – указ о том, что всякий перепечатывающий, продающий или читающий эту книгу (осторожно, двумя пальцами, как бы опасаясь запачкаться, поднимает со стола книгу) – должен быть казнен на костре, на эшафоте или в яме?
Рюи (вздрагивает). Известен.
Мунебрага. И значит, ты признаешь, что впал в ересь сознательно, с открытыми глазами вступил на этот сатанинский путь?
Рюи (спокойно). Мой путь не сатанинский, а путь Христа.
Мунебрага (негодующе). Вы слышите? Что он говорит, что он говорит, безумный! Если твой путь – есть путь Христа, то, следовательно, наш – сатанинский? Ты, следовательно, считаешь, что святая церковь… нет, мой язык не в состоянии произнести такую хулу! Секретарь, отметьте: богохульствует.
Фра-Педро (доминиканец слева от Мунебраги). Неслыханно!
Рюи (все еще спокойно). Вы просто хотите придать другой смысл моим словам. Я утверждал раньше и утверждаю, что ни в чем не отступил от учения Христа.
Мунебрага. Но раз церковь – раз мы говорим тебе, что ты впал в ересь… Ты, стало быть, хочешь сказать, что церковь может ошибаться? Ты не веришь тому, чему учит церковь?
Фра-Нуньо (доминиканец справа от Мунебраги). Это, ваше преподобие, настолько очевидно, что я полагал бы…
Фра-Педро (горячо). Несчастный! Да если бы мне церковь сказала, что у меня только один глаз – я бы согласился и с этим, я бы уверовал и в это. Потому что хотя я и твердо знаю, что у меня два глаза, но я знаю еще тверже, что церковь – не может ошибаться. А ты, несчастный…
Рюи. Вот именно, отец мой: я твердо знаю, что у меня два глаза. И обоими глазами я вижу ясно, что в этой книге – учение Христа.
Фра-Педро (кричит). Молчи! Это дьявол подсказывает тебе на ухо ответы. Вот – я вижу, я вижу: шевелятся его бородавчатые, лиловые губы! Это – тот самый, какой сегодня ночью меня…
Мунебрага. Успокойтесь, фра-Педро. (К Рюи.) Сын мой! Пойми же: мы любим тебя – как отец любит даже и блудного сына. И от твоего упорства – сердце у нас по каплям исходит кровью. Пойми же, наконец, свою выгоду: если ты не покаешься – как упорный еретик ты будешь сожжен на костре; если ты покаешься – как сознавшийся в ереси ты будешь сожжен на костре, но…
Рюи (с усмешкой). Я выгоды не вижу.
Мунебрага. Ты не дал мне кончить. Пойми: кратковременным страданием – ты искупишь свой грех. И раньше или позже – из чистилища ты перейдешь в светлое Христово царство. Покайся же!
Рюи. Мне не в чем каяться.
Мунебрага (встает, руки к небу). Святая Дева! Помоги мне смягчить его окаменевшее сердце! (Выходит из-за стола, становится перед Рюи на колени. С дрожью в голосе.) Сын мой! Я на коленях молю тебя: покайся! Ты видишь: у меня слезы на глазах… Сжалься над нами, дай нам спасти тебя!
Рюи (пытается поднять его. Растерянно). Встаньте же… Ведь это… Я… я просто… (Доминиканцам.) Помогите же мне…
Мунебрага. Не встану – пока не скажешь: каюсь!
Рюи. Клянусь святым крестом: если бы я чувствовал, что я… Но я же не могу…
Мунебрага (встает. Секретарю). Запишите: упорствовал и ложно клялся святым крестом. (Садится.) К прискорбию, я вижу, нам остается только одно…
Звонит два раза. Входят Мастера.
Принесите инструменты. А вы, фра-Нуньо, объясните ему. Я обессилен – он измучил меня своим упорством.
Фра-Нуньо (по мере того как приносят инструменты – объясняет. Говорит ласково). Вас положат на эту лестницу, сеньор Родриго. Руки привяжут вот тут, наверху, а ноги вот к этой веревке. А здесь вот – видите? – это ворот, и воротом вас будут тянуть вниз, пока суставы не хрустнут, – и вы будете становиться все длиннее, длиннее, длиннее… А вот тут, на этой скамье – тут гвозди… (Что-то смахивает с гвоздей.) Это ничего: это остались клочки… Вас прикрутят осторожно к скамье – сапог на вас нет? – отлично; ноги будут вот здесь: в колодке. Внизу поставим жаровню – вот так! – подошвы вам смажем маслом, слегка, и будем подогревать… пока не лопнет кожа и мы не увидим, какого цвета кости у вас. А если вы все же будете молчать, так наши мастера наденут на вас вот эти сапоги. Уж вам придется извинить нас, если они окажутся немного просторны. Но видите ли, здесь есть винт, и если подвинтить – боюсь, вы станете жаловаться, что сапоги вам слишком тесны…
Рюи отступает к скамье подсудимых, хватается рукою за стойки.
А это… не пугайтесь, дон-Родриго, – здесь всего только вода, чистейшая, как слезы Мадонны. Вода и кусок полотна. Полотном мастера прикроют вам нос и рот – и сверху будут лить воду. Правда, вы будете захлебываться, и один только глоток воздуха покажется вам драгоценней, и слаще, и желанней мадригальского вина… Но стоит вам только сделать знак рукою, что вы готовы подчиниться нашим отеческим советам, – как тотчас же…
Мунебрага. Довольно. Я вижу: он согласен. Не правда ли, сын мой?
Рюи (тихо). Этим… этим, быть может, вы заставите меня сознаться в чем угодно. Может быть, я даже скажу вам, что Господа Иисуса Христа убил я, а не кто другой. Но помните… (Твердо и громко.) Помните, что на другой день – я повторю вам все то же: я ни в чем не нарушил заветов Христа, изложенных вот в этой книге.
Мунебрага. Так? (Подходит к инструментам и благословляет их.) Во имя Божие и святого Доминика… (Мастерам.) Ведите его.
Мастера ведут Рюи.
Фра-Нуньо (Мунебраге – тихо). Перед тем как наши мастера… – пожалуй, было бы очень кстати посвятить его в то, что его отец уже… Понимаете? Это пробьет в упрямце брешь – и облегчит мастерам штурм…
Мунебрага. Вы мудры, как змий, фра-Нуньо. (Мастерам.) Эй, постойте! Сын мой, пока не поздно – в последний раз, именем твоего покойного отца…
Рюи (вырывается из рук мастеров – к столу). Вы сказали… отца… Он умер? Умер?
Мунебрага (скорбно). Да, сын мой. Он не вынес. И это ты убил его своим преступным…
Рюи. Я? Нет, не я, а вы – ваш Балтасар… Он убил отца, да, он! И меня он… (задыхается) из низкой зависти, что Инеса…
Балтасар (за занавесью). Ложь! (Выходит.) Ложь! Замолчи! Ты не знаешь, чего мне стоит…
За столом смятение. Все вскакивают с мест.
Рюи. А-а, ты там подслушивал! Ну что же: ты все идешь вперед. Недаром же на щите у Санта-Крусов девиз: «Только вперед».
Балтасар. Замолчи!
Нотариус (Мунебраге). Я говорил!
Мунебрага быстро становится между Рюи и Валтасаром.
Мунебрага (Мастерам). Возьмите его! Живей!
Рюи. Я сам пойду. Но теперь, когда я знаю, что мой милый брат будет сидеть с вами и ждать, пока я… Будьте уверены: теперь я не скажу ни слова! (Мастерам.) Я готов.
Уходит с мастерами. Все рассаживаются. Балтасар тяжело опускается на скамью подсудимых.
Мунебрага. Ах, дон-Балтасар, боюсь – вы испортили нам все дело… Но садитесь сюда: вам там не место.
Балтасар. Не знаю. Быть может, именно на этой скамье…
Мунебрага. Мужайтесь, дон-Балтасар. Я понимаю: вам нелегко. Но вспомните – Христос сказал Иуде… то есть наоборот: Иуда сказал…
Балтасар (поднял голову, прислушивается – перебивает). Постойте, кажется…
Нотариус (любезно). О, нет, сеньор. Тут стены очень толсты – и дверь… Так что это только вам показалось.
Балтасар. Ваше преподобие – я умоляю вас: распорядитесь остановить. Я умоляю!
Мунебрага (сурово). Я не узнаю вас, дон-Балтасар. Вы вмешиваетесь в действия святого трибунала. Остановить пытку?
Балтасар. Да, да… Мне пришло сейчас в голову… Потому что ведь он все равно ничего не скажет, я знаю его. Мне пришло в голову, что есть другое средство…
Мунебрага. Действительнее пытки? Не думаю, сеньор.
Балтасар. Да, вы сейчас увидите сами… Только прошу вас – прошу вас – остановите скорей…
Мунебрага (пожимая плечами). Хорошо. Но если окажется, что вы… (Звонит два раза.)
Показывается Второй мастер – утирает рукою пот с лица.
Остановите… пока.
Второй мастер (недовольно). Уже остановить?
Мунебрага. Я сказал.
Мастер уходит.
Мы ждем, дон-Балтасар.
Балтасар. У него… у моего брата – невеста… Инеса – он только что назвал ее.
Мунебрага (заинтересовываясь). А-а! Невеста?
Балтасар. Она готова жизнь отдать, чтобы спасти его. И ей надо обещать, что если ей удастся убедить Родриго покаяться, то ему будет дарована жизнь. И я уверен – тогда…
Мунебрага. Дон-Балтасар, сегодня вы расстроены и говорите очень странно – чтоб не сказать больше. Неужели мне объяснять вам – вам? – что мы не вправе прощать еретиков. Неужели и вам надо напоминать о том, что, щадя их тело, – мы безжалостно оставляем их душу во власти…
Балтасар. Ваше преподобие, вы поняли меня превратно. Я сказал: обещать.
Мунебрага. Обещать? Позвольте, позвольте… Вы хотите сказать, что…
Балтасар (перебивая горячо). Я люблю его. И чтобы спасти его душу… Это мне дороже страданий его, моих и… и чьих угодно. Дороже чести…
Мунебрага. Дон-Балтасар, простите меня: я на минуту усомнился в вас… и, кажется, даже был резок… Вы правы – тысячу раз правы. Я вас понял. Я понял. Это гениально! Мы испробуем ваш способ завтра же – непременно. Вы правы… А пока, сеньоры, кончим – и, надеюсь, вы не откажетесь разделить со мною мою скромную трапезу?
Нотариус. Как всегда – вы истинно христиански скромны, ваше преподобие. Скромная трапеза!
Балтасар. Благодарю за честь, ваше преподобие… Но…
Мунебрага. И слышать не хочу! Идемте. (Берет Балтасара под руку; идут к двери направо.) Индейка, кормленная каштанами, – вы понимаете? Это не индейка, а трехлетний ребенок в масле, персик, облако… (В дверях.) Нет, нет. И слышать не хочу!
Занавес
Действие третье
Приемная де-Мунебраги. Окна с ярко расцвеченными витражами, много солнца. На устланном ковром возвышении в кресле – Мунебрага. Зала полна посетителей. Жужжание сдержанного говора. Отдельно – группа доминиканцев.
Первый доминиканец (восторженно). Это, я вам скажу, была охота! Он выскочил через окно в сад, мы загнали его в угол. Так что же бы вы думали: стал, проклятый, прыгать на стену, цепляться ногтями. Потом сел в углу, лицом в стену – и захныкал. Тут мы смело навалились кучей…
Второй доминиканец. Да, в эту ночь сеньор Иисус благословил наши сети, как некогда сети галилейских рыбаков…
Разговаривая, уходят. Остаются фра-Педро и фра-Нуньо. Фра-Нуньо что-то шепчет на ухо фра-Педро.
Фра-Педро (жадно). Где? Где?
Фра-Нуньо. Вот – рядом с дон-Валтасаром на диване. Вся в черном – видите?
Фра-Педро (отплевывается). Тьфу! Тьфу! Vade retro! Какая мерзостная красота! Точь-в-точь как тот сук-куб, какой вчера ночью…
Фра-Нуньо. А вот попробуем, не удастся ли нам и суккуба обратить в орудие церкви. Того – Родриго – тоже привели: ждет внизу. Сейчас кончится прием – и тогда… Я просто умираю от нетерпенья: удастся – или не удастся?
В это время Мунебрага знаком подзывает к себе Секретаря инквизиции и что-то приказывает.
Секретарь (стоя на возвышении, громко). Его преподобие сегодня больше не принимает. Остальные – завтра.
Посетители начинают выходить. Снаружи, за дверью, какой-то шум, визгливый женский голос.
Женский голос. А я вам говорю – пойду! А я говорю…
Мунебрага (морщась). Что там такое? Скажите, чтобы…
Вырвавшись от алгуасилов, вбегает высокая, растрепанная женщина и падает на колени перед Мунебрагой. Посетители задерживаются в дверях, с любопытством смотрят.
Женщина. Ваше преподобие! Сеньор! Я не могу терпеть такого надругательства над верой! Я должна…
Мунебрага. Встаньте, дочь моя. В чем дело?
Женщина (захлебываясь от негодования). Сеньор… Этот подлый Хуан, мой муж… Он подарил турецкую шаль соседке Марии. Это ей-то! Да у ней только и хорошего, что жирное вымя, а глупа, как…
Мунебрага. Но вымя – это не входит в круг наших задач, сеньора.
Женщина (не слушая). Так я ему и сказала: глупа, как мул. А он на меня – с кулаками. Я схватила со стены медное распятие, размахнулась и хотела… Не помню: кажется – и хотела его благословить.
Мунебрага. Благословить? (Еле сдерживает смех.)
Женщина. Да, кажется. А он, негодный, ударил кулаком, вышиб распятие – и потом всю меня… Вот видите – синяки: вот, вот… Он оскорбил меня – и святой крест…
Мунебрага. Вас, милая сеньора, как будто уж не так легко оскорбить. Но то, что он ударил изображение божественного Спасителя… Я прикажу арестовать его.
Женщина. Да хранит вас Матерь Божия, сеньор! Вы заступник веры и слабых женщин… А уж с этой Марией – я с ней разделаюсь… я ей… (Что-то приговаривая, уходит.)
Сдержанный смех среди посетителей. Мунебрага сперва закрывает рот платком, затем смеется громко, роняет платок. Несколько посетителей бросаются поднимать.
Первый гранд (у авансцены – Второму гранду). Турнир из-за платка – смотрите: сражаются де-Кастро, и Вега, и дон-Мендоса… целый букет севиль-ских рыцарей…
Второй гранд. Сеньор, я не пойму: как вы можете улыбаться?
Первый гранд. Нет, отчего же? Это зрелище – прекрасно. Инквизиция – могущественна, могущество – красиво; преклонение пред красотой – прекрасно. Ergo…
Второй гранд. Сеньор, в ваших словах есть вкус полыни…
Уходят вместе с остальными. Секретарь, фра-Нуньо и фра-Педро – удаляются через другую дверь во внутренние покои Мунебраги. В приемной остаются – Мунебрага и Балтасар с Инесой.
Мунебрага (подходит к Инесе). Итак, сеньора…
Инеса (прерывающимся голосом). Дон-Балтасар говорил мне, что вы были так… так добры, что разрешили мне свидание с моим… с моим женихом… дон-Родриго…
Мунебрага. Прелестная сеньора! Если бы я не разрешил раньше, то, конечно, разрешил бы теперь – увидев вас. Какие ручки! Говорят, такие же были у мавританки Ахи Га лианы, и такими же – она погубила душу рыцаря Нальвильоса…
Инеса (смущенно). Вы… вы очень добры, отец мой.
Мунебрага (продолжает). Но вы, быть может, этими руками спасете дон-Родриго.
Инеса (радостно). Спасу? Вы говорите – я… О, дон-Мунебрага, неужели… Дон-Мунебрага, это неправда, что говорят о вас – что вы жестоки… (Горячо.) Это неправда – я вижу!
Мунебрага. Сеньора, вы не допускаете мысли, что вы – лишь вы – заставили меня вдруг перемениться? Вот если бы вам также удалось и дон-Родриго сделать менее жестоким по отношению к нам!
Берет и гладит ее руку. Инеса закусывает губы, но сдерживается.
Так вот, сеньора. Вы должны убедить жениха покаяться – и тогда…
Инеса. Что – что тогда?
Мунебрага. Первое – мы завтра же переведем его из Трианы в монастырь святого Доминика: дон-Родриго там будет легче. А затем – посмотрим. Надеюсь, нам удастся сохранить его для вас. Разумеется, если он будет чистосердечно отвечать на все наши вопросы.
Инеса. Я сделаю! Сеньор де-Мунебрага! Я все сделаю! Он покается! Дайте – дайте мне только увидеть его!
Мунебрага. Я ухожу, сеньора: сказать, чтобы его привели. Но помните, вы должны от него добиться… вы должны! (Уходит.)
Инеса (Валтасару – возбужденно). Неужели – неужели все это правда? Я верю – и боюсь поверить. Я думала, что Мунебрага – … а он такой же, как все, как мы все – самый обыкновенный. Но зачем он так мои руки… Была одна минута – я чуть не схватилась за свой кинжал: ведь вы знаете – он всегда при мне…
Балтасар. Этим кинжалом вы прежде всего убили бы его, Рюи. Вы должны взять себя в руки и помнить, что сейчас от вас – только от вас – зависит, какова будет судьба Рюи.
Инеса. Постойте – он сказал: в монастырь… но ведь… Это только сейчас пришло мне в голову… Ведь это же… понимаете? Если нельзя устроить побег отсюда, то из монастыря…
Балтасар молчит.
(Спохватившись, жестко.) Прошу прощенья. Я забыла, что говорю с тем, кто заключил Рюи в Триану. (Помолчав.) Но ведь это вы же устроили мне свидание с ним – и чтоб спасти его, вы… Нет, я вас не понимаю – и боюсь вас!
Балтасар молчит.
Берегитесь, дон-Балтасар! Не забудьте: во мне есть мавританская кровь. Недаром Мунебрага вспомнил Аху Га-лиану… Но, впрочем, нет: тут же не может быть, не может быть ничего такого… Ну скажите – что не может! Ну что же вы молчите?
Балтасар. Я могу сказать только одно: если вы убедите Рюи – он будет спасен.
Инеса. Порукой в том ваше слово – слово честного рыцаря и графа Санта-Круса?
Балтасар (твердо). Да. (Горячо.) Если бы вы знали, чего бы только я не дал, чтобы он покаялся! Ведь я же брат ему! И ради его спасенья – я готов…
За дверью справа – голоса.
Инеса (торопливо). Я вам верю. Балтасар. Они… Я буду ждать внизу. (Уходит во внутренние покои.)
Мунебрага входит. За ним два служителя вводят Рюи.
Мунебрага. Ну вот, сеньора: я отдаю этого упрямца в ваши нежные руки – и, вероятно, вы предпочтете остаться с ним вдвоем?
Инеса. Да, если бы…
Мунебрага. Хотя по нашему уставу это и не разрешается, но для вас, сеньора… (Служителям.) Ступайте! (Инесе.) Когда вы кончите – вы постучите мне в ту дверь. Но торопитесь.
Инеса и Рюи – на диване. Инеса обняла Рюи и молча прижимает его голову к груди. Пауза.
Инеса. Мой бедный, мой милый мальчик… Простите – что я так… но вы для меня сейчас – как мое единственное дитя – мое дитя! (Пауза.) Если б вы знали, как я все это время… я не спала, я целые ночи металась по комнате – и все об одном: ведь это я, я – вот этими руками! Я взяла там, в нише, эту книгу! И я должна…
Рюи. Инеса, не надо… Я не могу говорить… Понимаете: после соломы и крыс – вдруг солнце – и вы здесь, со мною! Инеса, сделайте, чтоб я поверил: вдруг проснусь, вдруг все…
Инеса. Мой бедный! Ну слушайте – вот сквозь шелк – вы слышите, как бьется мое сердце?
Рюи (секунду слушает). Инеса! (Прижимается к тому месту, где слушал. Выпрямившись.) Инеса! Неужели это – последний раз?
Инеса опять нежно берет его голову и прижимает.
Что вы делаете со мной? Все время я был в каких-то железных латах, а сейчас…
Инеса. Не надо лат. Я не хочу, чтобы вы были в латах – со мною. И не бойтесь: не последний раз. Мы вас спасем. Понимаете – спасем! И я здесь для того, чтобы…
Рюи. Спасем? Меня? Кто это – «мы»?
Инеса. Я и Балтасар.
Рюи (нахмурившись). Балтасар?
Инеса. Да, это он устроил все. Мне кажется, он очень изменился и так страдает… Он устроил – и я только что говорила с дон-Мунебрагой…
Рюи. Инеса, зачем вы… Если вы хотели утешить меня обманом – так не надо. Не надо лучше! Я уже приучил себя к мысли, что скоро я… Зачем же вы…
Инеса. Рюи, милый, вы мне не верите – мне? Взгляните мне в глаза. Ну? Неужели они не говорят вам…
Рюи (медленно). Да. Да, как будто… (Отодвигаясь, качает головой.) Нет. Это невозможно. Я знаю их. Нет…
Инеса. Балтасар вот только сейчас, здесь, дал мне слово, что если вы исполните то, что я скажу вам, – вы будете спасены. Понимаете: дал слово. Не станет же он… И Мунебрага – сам обещал мне…
Рюи. Ах, знаю я их спасенье!
Инеса. Ну пусть даже вы и правы… Хотя я говорю вам: Балтасар дал слово. Но ведь это остается: Мунебрага обещал вас завтра же перевести в монастырь святого Доминика. А оттуда… (Тихо.) Рюи… вы понимаете? – оттуда, позже, вы можете…
Рюи (оживлюсь). В монастырь? Постойте, постойте… Но что же я должен?
Инеса. Рюи – так немного, так немного… Только сказать им, что вы ошибались, сказать, что теперь вы признаете это, – только сказать… (Умоляюще.) Рюи!
Рюи (угрюмо). Сознаться? Покаяться?
Инеса. Рюи, слушайте. Если они убьют вас – я тоже не буду жить. Я в тот же день убью себя. Вы знаете – я ведь не бросаю слов на ветер.
Рюи. Инеса, что вы делаете, что вы делаете со мною!
Инеса. Рюи, слушайте. Неужели у вас хватит духу убить меня?
Рюи. Монастырь святого Доминика… Да, я вспоминаю: дон-Пабло удалось бежать оттуда… Да, помню… (Загораясь.) Инеса! (Берет ее за руки.)
Инеса. Я победила! Я вижу! Я спасла вас!
Рюи (тихо). Инеса – и ведь вы тоже со мною? Когда я вырвусь – мы уедем вместе?
Инеса. Да, Рюи! Да! Да!
Рюи. И где-нибудь далеко… Мы найдем наш Эльдорадо… Далеко от всех этих… (вздрагивает) и от их инструментов…
Инеса. Рюи, милый, не надо об этом. Это уж кончено: забудьте. И помните – только помните, что скоро… (Поднимается.)
Рюи. Одну минуту… (Прижимается лицом к ее груди и целует.) Прощайте.
Инеса. Нет, Рюи, не прощайте. Я знаю: мы опять скоро увидимся. Я чувствую. И увидимся не так, как сейчас, – все будет другое… (Подходит к двери, стучит.)
Мунебрага (входит). Ну что ж, сеньора? Я жду – с нетерпением…
Инеса (радостно). Он согласен!
Мунебрага. Сеньора, я говорил, что эти очаровательные ручки… Нет, право, нам необходимо включить хотя бы одну женщину в число членов святого трибунала. Тогда наша работа пошла бы гораздо быстрее – и легче – и приятней для тех, кого нам приходится спасать от дьявольских когтей…
Инеса делает движение, чтоб отойти.
Еще немного терпенья. Я хочу, чтобы все это при вас… Так вернее. (Заглядывает в отворенную дверь.) Сюда, прошу вас. И захватите с собою бумаги.
Входят Секретарь, фр а-Педро и фра-Нуньо.
Итак, сеньор Родриго, вы передумали? И больше уж не хотите мучить нас своим упрямством?
Рюи (не отрываясь взглядом от Инесы. Тихо). Да.
Мунебрага. Вы признаете, что впали в преступную ересь?
Рюи (по-прежнему). Да.
Мунебрага (Секретарю). Пишите. (Поворачиваясь к Рюи.) И каетесь, и просите святую церковь отпустить вам прегрешения?
Рюи. Да.
Мунебрага. Пишите. Ну вот видите, как просто. Вот и все! (Инесе.) От имени святого трибунала – благодарю вас, сеньора. (Секретарю.) Сегодня понедельник… завтра… нет, когда у нас аутодафе?
Секретарь. В четверг.
Мунебрага. Сегодня уже поздно, сеньора. И вдобавок вечером нам придется еще раз немного поговорить с дон-Родриго. Но завтра – ручаюсь вам – он будет в монастыре святого Доминика.
Инеса. Сеньор, я так – так благодарна вам! Сейчас я выйду отсюда – и в первый раз этой весной увижу, как цветут деревья и как… Прощайте, дон-Родриго, и помните все, что я вам сказала, – помните, что завтра вы уже в монастыре.
Рюи (с тоской). Инеса!
Служители уводят его направо.
Мунебрага (Инесе). Сюда, прошу вас. (Секретарю.) Проводите!
Фра-Педро. Спасен! Господь премудр – и руками той, кто погубил блаженство человека в раю, руками любимицы дьявола – спасен. Господь премудр…
Занавес
Действие четвертое
Площадь в Севилье. В глубине, заслоняя солнце, высится черный, как уголь, Святой Дом – замок Триана. Ближе квемадеро: каменный эшафот; по углам – четыре гигантских медных статуи апостолов. В нижней части статуй открыты двери: видны разложенные внутри статуй костры; костры также и на свободной площади квемадеро. Между квемадеро и замком – овраг: нежно-зеленые листья олив, золотые апельсины. Слева – фасад дома и балкон; с балкона спускается черное сукно – на сукне серебром королевский герб. Под балконом – трибуны, обтянутые черным; у подножия трибун – несколько лож для знати. Фасад дома заканчивается (недалеко от рампы) круглой башней; под башней – ворота. Справа от квемадеро – небольшой, тоже черный, помост для инквизиторов и духовенства, украшенный гербами инквизиции. Площадь наполнена народом. На трибунах – все больше и больше разодетых кабальероидам. От средины квемадеро через всю площадь тянутся шпалерами алгуасилы: охраняют проход для шествия. Шныряют разносчики прохладительных напитков, торговцы фруктами, монахи. Вдали глухой, медленный звон колоколов.
Торговец фруктами. Персики, фанаты, фанаты! (Офицеру алгуасилов, любезничающему с девушкой.) Сеньор алгуасил, купите: персик обойдется вам куда дешевле этой сеньориты, а пушок такой же приятный, как у нее на губах. Право! (Гладит себя персиком по щеке.)
Девушка. Бесстыдник! Сеньор алгуасил, скажите ему, чтобы он…
Торговка (румяная, руки красные, засучены по локоть, вскакивает на табуретку). Вон, вон уж видно: спускаются, завернули. Еретиков-то нынче сколько! Целое стадо!
Толпа. Пусти же, дай мне! – Не давите, я вам не виноград! – Пожалуй, посочнее… – Чего там, волоки ее за ноги! (Стаскивают торговку. Смех.)
Слева из-под башенных ворот показывается пара: Горожанинс лимонно-желтым лицом, опирающийся на палку, с ним рядом – Сеньора с двумя сумками в руках. Справа другая пара: обливающийся потом Горожанин с румяным лицом, рядом Сеньора с веером.
Сеньора с веером. Чтоб их чума заела! Надо же им было устроить это перед самым нашим домом! От этих еретиков такая жирная сажа: опять закоптят мне все стены – чисть потом…
Румяный. Осторожней! Не видишь: сосед навстречу. Время теперь такое: кто его знает…
Желтый. Чтобы их черт взял! Вместо того, чтобы лежать – я, человек больной, должен вот с самого утра…
Сеньора с двумя сумками. Ш-ш, тише! Навстречу нам этот толстый боров. Кто его знает…
Встречаются.
Желтый. А-а, любезный сеньор сосед! О чем это вы так горячо беседовали с супругой?
Румяный. Мы радовались, что квемадеро так близко от нас. Хвала отцам инквизиторам: без них мы давно забыли бы о душе и погрязли в низменных заботах о плоти.
Возле разговаривающих появляется Идальго, похожий на Дон-Кихота, и, уронив монету, усердно ее ищет; разговаривающие косятся на него.
Желтый. Вполне согласен. Вот я – собрал последние силы и все-таки пришел. Я бы мог взять удостоверение от медика, что по болезни не мог прийти, но я не хотел упустить счастливый случай.
Сеньора с двумя сумками. К тому же – выгодно; ведь его святейшество обещал дать всем присутствующим бесплатное отпущение грехов на сорок дней, а если купить индульгенции у монахов – это выйдет… Сорок по пять… (Проходит.)
Первый гранд (в воротах под башней). Улов у них богатый. Подумайте, какие имена: де-Кастро, Сан-Висенте, младший Санта-Крус…
Второй гранд. Дон-Родриго? Нет, вы ошибаетесь, сеньор! Я слышал, что старший, дон-Балтасар, использовал свою близость к святому трибуналу, и ему удалось…
Первый гранд. Что ему удалось отправить брата в Триану – это верно. Но чтобы он раздумал посредством костра излечить Родриго от вредных мыслей… Едва ли. Едва ли, сеньор! Скорей у этого медного апостола случится изжога после сегодняшней дичи…
Неподалеку появляется Идальго, похожий на Дон-Кихота, роняет монету, ищет ее.
Второй гранд. Не так громко, сеньор. Вон тот идальго уж что-то слишком долго ищет свою монету.
Первый гранд (оборачивается. Громко). Как спокойно и радостно на душе, когда чувствуешь за собой бдительный, любящий взгляд! Невольно вспоминается, что к каждому из нас от рождения приставлен белокрылый ангел-хранитель, любовно стерегущий наш каждый шаг…
Похожий на Дон-Кихота Идальго поднимает свою монету и ретируется. Первый гранд смотрит ему вслед с усмешкой.
Второй гранд. Вас не поймешь, сеньор, когда вы в шутку и когда серьезно…
Проходят. Из толпы – Балтасар и Инеса.
Торговец фруктами. Персики, сеньор, персики! Кожа нежная, как у вашей… (Пригвожденный к месту взглядом Валтасара, замолкает, пятится в толпу.)
Инеса (поднимает голову, увидела квемадеро, остановилась). Я не могу… Эти медные лица – и все время колокол… Я не могу! Слушайте; вы уверены, что ему – Рюи – вчера передали этот поддельный ключ и оружие и что он успел…
Балтасар. На нас смотрят. Успокойтесь, прошу вас. Ведь вы же понимаете…
Инеса. Да, да… Сейчас… Я – я помню… Я знаю: Рюи не может быть здесь. Но при одной мысли, что он тоже мог бы… Дайте мне руку… нет, не надо. Сегодня – я так вас ненавижу! Ведь это вы его – вы… Пусть даже потом вы сами – помогли.
Балтасар. Донья Инеса. Я знаю, вам трудно простить меня. Но попробуйте понять: я не мог иначе! Что бы ни случилось, помните: я не мог, я должен был – как стрелка часов – все вперед, до конца… Каков бы ни был конец… А мы никогда не знаем, каков он будет.
Инеса. Какой конец? Почему не знаем? Не мучьте меня, ради Святой Девы!
Балтасар. Не смотрите на меня так. Зачем – зачем вы пошли сегодня?
Инеса. Я не могла ждать до завтра. А сегодня – я своими глазами увижу, что его здесь нет, что он – спасен…
К ним подходят Первый и Второй гранды, низко кланяются. Все четверо проходят к ложам.
Торговка (опять на табурете). Идут! Идут!
Толпа. Пусти, говорят тебе! – Ты и так как колокольня… – Ты что больше любишь? Это – или бой быков? – Ай, ожерелье! Оборвали мое ожерелье!
Алгуасилы (осаживают толпу). Назад, эй! Назад, говорят вам! – Ты, деревенщина, дойная корова, что ли: ноги-то расставил? Что-о?
Показывается шествие. Впереди угольщики, с пиками; за ними доминиканцы, с белым крестом, обвитым черным крепом. Мальчики, ученики духовных коллегий, в белом. Поют: «Ora pro nobis»[25].
Торговка. Вот они! Вот они! Глядите!
Девушка. Сеньор алгуасил, а эти, с пиками, – зачем?
Офицер алгуасилов. А это, красавица, угольщики – поставщики святых костров.
Девушка. У-угольщики! Я думала… А знаете, сеньор алгуасил, вам очень бы пошли рыцарские шпоры. Я бы хотела, чтобы вы скорее завоевали какую-нибудь французскую крепость.
Офицер алгуасилов (покручивая усы). Сеньора, я как раз пытаюсь завоевать самую неприступную крепость – ваше сердце.
Девушка. Сеньор алгуасил, тогда вы уже заслужили шпоры…
Проносят важную сеньору в носилках.
Сеньора в носилках (высовываясь). Еще не зажгли? Я не опоздала?
Офицер алгуасилов (покручивая усы). О, нет, сеньора! Но если вы будете смотреть туда – я, на основании собственного опыта, чувствую, что костры сейчас же загорятся…
Носилки уносят. На виду – два мальчика и девочка; сложили костер из сухих трав и сучьев. Спорят.
Первый мальчик. Я буду палач…
Второй мальчик. Нет, я!
Первый мальчик. Да-а… (Плаксиво.) Ты всегда себе самое лучшее. Король – ты, палач – ты…
Офицер алгуасилов. Вы, там! Тише! Не видите, король сейчас…
На балконе два пажа – открыли двери и стали по сторонам. Медленно выходит король Филипп II, с ним радом – невеста, принцесса Елизавета Французская, и свита.
Толпа. Да здравствует король-роль-о-о-о!
Гул.
Король делает знак рукою. Толпа затихает. Король невнятно бормочет что-то.
Толпа. Что – что он сказал? – Что такое, усердие к вере… – Невеста-то! Ах, бедненькая! – Ну, я хотела бы. – Он сказал, что каждому из присутствующих будет выдано из королевской казны… – Что за вздор!
В это время король подошел к перилам балкона и увидел Валтасара. Милостиво кивает ему и, полуобернувшись назад, отдает пажу какое-то приказание. Паж вбегает в ложу, где Балтасар и Инеса, – и говорит с Валтасаром, показывая рукой наверх. Балтасар и Инеса проходят в дом, появляются на балконе и вскоре вместе с королем и частью свиты скрываются внутрь. Возле башенных ворот раскладывает свой столик торговец прохладительными напитками. Сюда подходят Первый и Второй гранды.
Первый гранд (торговцу). Шербет для меня и для этого сеньора. (Второму гранду, продолжая разговор.) И вот, сеньор, его величество ответил так: «Если бы мой сын оказался еретиком – я бы первый поджег для него костер». Не правда ли, – слова, достойные христианина? Естественно, что, узнавши о благородном подвиге дон-Валтасара, король… Смотрите, смотрите: кладет ему руку на плечо…
Второй гранд (недоуменно). Не понимаю вас, сеньор: серьезно вы это или только в шутку?
Первый гранд. А это: почтить прибытие невесты таким благочестивым и блестящим зрелищем, как аутодафе. По крайней мере, эта француженка сразу поймет, что Испания единственная страна в Европе, где пекутся не о телах, но о душах…
Проходят. Шествие аутодафе, остановившееся, пока говорил король, снова двинулось. Группа духовенства в траурных ризах. Герцог Медина Сэл и, со знаменем инквизиции. Служители инквизиции с украшенными серебром черными палицами. За ними – осужденные на сожжение живьем еретики; они в желтых «Сан-Бенито», в колпаках, расписанных изображениями бесов и языков адского пламени, обращенных остриями вверх. В руках у них зеленые зажженные свечи, каждого сопровождают солдат и два монаха. Монахи, горячо жестикулируя, негромко увещают еретиков. Впереди всех еретиков – гордо идет, улыбаясь, очень красивая молодая женщина.
Торговка (на табурете, размахивая руками). Эй, вы! Бросьте увещать эту ведьму! Ослепли, что ли? Она вам в глаза смеется. Пусть ее сожгут живьем!
Толпа. Улыбается, а? Глядите! – Ткни ее палкой! – Женщину? Связанную? Ткни сам! – Какая женщина? Это еретичка! – Живьем! (Напирают на алгуасилов, размахивая руками, палками.)
Алгуасилы. Назад! С ума сошли? – Назад!
Толпа. Бей! Живье-е-ем!
Рев. Рвутся сквозь цепь алгуасилов.
Алгуасилы. Назад! – Здесь же король, бараны! – Назад!
Алгуасилы действуют рукоятками алебард. Толпа перестает наседать и постепенно затихает. Из толкотни выбрались РумяныйиЖелтый со своими дамами.
Румяный (утираясь). Ф-фу! Не правда ли, сеньор: отрадно видеть такое христианское усердие в народе?
Желтый. Вполне согласен, дорогой сосед.
Второй гранд (возле столика с прохладительными напитками. Взволнованно). Не может быть!
Первый гранд. Да вон же: сзади всех, высокий. Узнаете?
Второй гранд. Святая Дева! Вы правы: он, дон-Родриго… Но как же так… И даже в числе нераскаявшихся…
Первый гранд. Ну что же: сперва раскаялся, потом раскаялся, что раскаялся… Вот когда дон-Балтасар опять появится в своей ложе, я хотел бы увидеть, как он… Пожалуй, я предпочел бы быть на месте дон-Родриго!
Второй мальчик (толкает девочку на костер из травы и сучьев). Ну, лезь же! (Первому мальчику.) А ты поджигай! Так! Эх, вот весело!
Девочка (босая, огонек костра обжигает ей ноги. Она вскрикивает). Ой, больно! (В недоумении.) Неужели и тем так же?
Второй мальчик. Глупая: видно, что девчонка! Они же мужчины!
Девочка. Ну, если мужчины – так и становись сам. А я не хочу.
Румяный (умиленно). Милые дети! Как жаль, что мы не взяли своих! (Исчезают в толпе.)
Осужденных на сожжение живьем – вводят на квемадеро и ставят на колени перед кострами, спиною к толпе. Король выходит на балкон. Внизу в ложе появляются Балтасар и Инеса; Балтасар беспокойно озирается. Увидел Рюи, выпрямился как шпага, встал перед Инесой, чтобы заслонить от нее квемадеро.
Первый гранд (Второму). Смотрите, смотрите: дон-Балтасар уже увидел. Ручаюсь вам – сейчас произойдет что-нибудь такое…
Второй гранд. Сеньор, не лучше ли нам уйти?
Первый гранд. Нет, нет: я всякий роман дочитываю до конца, а здесь не книги – живые люди…
Шествие продолжается. Группа раскаявшихся: в руках у них зеленые потушенные свечи, на колпаках языки пламени острием вниз. Возле них монахи, читающие молитвы: непрерывное, монотонное жужжание. Дальше на длинных зеленых шестах доминиканцы несут чучела еретиков, умерших в тюрьме; у соломенных, прикрытых рваной материей, чучел – огромные выпученные глаза из смолы, накрашенные суриком губы. Ноги – легкие, и чучела все время пляшут в воздухе судорожный танец. За ними гробы с прахом умерших еретиков; гробы прикрыты желтыми покрывалами; на покрывалах красные языки пламени. Шествие замыкается инквизиторами в фиолетовых одеяниях, под охраной. Инквизиторы подымаются на эстраду.
Офицер алгуасилов (объясняет девушке). Это? Это – изображения умерших еретиков и вынутые из могил гробы с их прахом.
Девушка. А впереди?
Офицер алгуасилов. Те, что с потушенными свечами? Это – раскаявшиеся.
Девушка (разочарованно). Как? Значит, их уж не сожгут?
Офицер алгуасилов. О, не беспокойтесь, сеньора, сожгут. Но церковь милосердна к раскаявшимся: их сперва повесят, потом сожгут. Так что, красавица, если и вы согрешите, а потом покаетесь… Нет, правда, знаете что: как только это кончится… (Обнимает девушку за талию и шепчет ей на ухо.)
Торговка (на табурете). Чучела, чучела-то, глядите! Расплясались, как висельники! А, а! Ногами-то! Прямо – сарабанда!
Толпа. Что, не терпится самой поплясать с ними? – На, вот у меня кастаньеты… – Поднимай ее на шест, поднимай!
Торговку поднимают вверх, она кричит и отбивается. В это время на эстраде инквизиторов Мунебрага встает с своего кресла; в руках у него лист бумаги.
Алгуасилы. Тише! – Эй, вы, заткните глотки! – Тише!
Мунебрага (читает торжественно среди внезапно наступившей тишины). Властью апостольскою и нашей, согласно постановлению святого трибунала, мы объявляем: все доставленные сюда под стражей – передаются в руки светской власти, чтобы с ними поступлено было согласно закону. Именем Бога всемогущего и Господа Иисуса Христа, мы молим и заклинаем отнестись к осужденным великодушно, кротко и милосердно…
Голос в толпе. Слыхали! Знаем мы ваше христианское милосердие!
Идальго, похожий на Дон-Кихота, как коршун кидается в толпу и вытаскивает оттуда крестьянского парня в широкополой шляпе.
Идальго, похожий на Дон-Кихота. Алгуасилы, сюда! Вот этот!
Несколько алгуасилов бросаются ему на помощь. Толпа с криком раздается в стороны и трусливо жмется. Арестованному скручивают руки и уводят его.
Мунебрага (торжественно). Ваше Величество. Клянетесь ли вы крестом шпаги, на которую опирается ваша рука, – клянетесь ли вы поддерживать святую инквизицию в ее борьбе с еретиками и доносить нам о всех действиях и словах их, которые дойдут до сведения вашего величества?
Король (встав и целуя крест на рукояти шпаги). Клянусь!
Мунебрага (оборачиваясь к толпе). Вы слышали? И всякий истинный сын церкви и подданный нашего доброго короля должен немедленно явиться к нам и донести обо всех еретиках, которых знает. Клянетесь ли вы все?
Толпа (нестройно и жидко). Клянемся!
Желтый (тихо – жене, оглядываясь на Идальго, похожего на Дон-Кихота). Я, кажется, недостаточно громко… Боюсь, он не слышал. (Очень громко, вытянувшись и привстав на носках.) Клянусь!
В толпе смешки, показывают на него пальцами; он смущенно оглядывается. Монахи на квемадеро возле осужденных торопливо уговаривают их: есть еще несколько минут; воинственно машут распятиями. Слышен злой крик: «Да кайся же, говорят тебе!» Часть осужденных палачи ведут куда-то в овраг, за квемадеро.
Толпа. Куда их? – В овраг: там виселица. – Пойдем туда! – Нет, тут прозеваешь: я больше люблю костры… – Глядите: факелы уже! Сейчас…
К кострам подходят угольщики с факелами наготове. Первого из осужденных на открытой части квемадеро привязывают к столбу сзади костра. Других вводят внутрь статуй апостолов и с лязгом захлопывают двери.
Первый гранд (Второму). Смотрите, смотрите: в той ложе, где дон-Балтасар, – костры уже загораются. Вы видите его лицо? Пламя уже лижет ему ноги.
Второй гранд. Довольно вам шутить, сеньор!
Первый гранд. Я не шучу. Его лицо – вы видите его лицо?
Женщина на квемадеро (перед статуей апостола крепко уперлась ногами, не идет. Вскрикивает). Я каюсь! Я не хочу! Я каюсь. (Ее уводят в овраг.)
Толпа (удовлетворенно). Ага-а!
Старуха с клюкой (протискиваясь в толпу). Ой, что же это? Ой, дорогие мои сеньоры – пропустите!
Офицер алгуасилов. Ты что, старуха, кричишь? Чего тебе?
Старуха с клюкой. Ой, сеньор алгуасил, красавец мой! Пропустите меня, старуху, вперед! Ведь последний раз в жизни взгляну, как будут жечь собак неверных… (Пролезла.) Ох, слава тебе, святая Мария, Милосердная Дева! Ох, в последний раз ведь…
Толпа. Не бойся, бабушка, не последний: еще в пекле с ними встретишься! (Смех.) – Тише, тише. Еще один кается… Вон, вон: который руку поднял…
Осужденный на квемадеро (громко, подняв руку). Я каюсь! Я каюсь в том, что раньше не покинул эту церковь, где вместо Христа – палач, а вместо Бога…
Мунебрага (указывая пальцем, кричит). Наденьте ему гаг! Гаг! Скорей! Чего же вы смотрите, ротозеи?
Палачи кидаются к осужденному, надевают ему на рот гаг, торопливо привязывают к столбу сзади костра.
Первый гранд (Второму). Ах, если бы можно было надеть гаг – сразу на всех испанцев! Подумайте, ничей слух не оскорбляли бы такие вот – неудобные – слова. Вернейший способ!
Второй гранд (с сердцем). Сеньор, неужто и на смертном одре вы будете вот так же шутить и будете…
Первый гранд (схватив Второго за руку). Смотрите, смотрите!
На квемадеро палачи подходят к последнему из осужденных, еще стоящему перед костром на коленях, и берут его под руки. Это – Р ю и. В ложе – Балтасар, крепко вцепившись в балюстраду руками, весь перегнулся туда, к квемадеро. Инеса сидит, низко опустив голову, закрыла глаза.
Рюи (на квемадеро – вырвавшись от палачей и подбежав к краю). Вы! Рабы! Вы спокойно смотрите, как эти, смеющие называть себя христианами…
Инеса (после первого же слова Рюи – как бы проснулась: вскочила, секунду дико смотрит на квемадеро). Рюи! Рюи!
Рюи остановился, обернулся к ложе. Раскрыл рот – что-то сказать Инесе. Но на него сзади уже накинулись и надевают ему гаг. Вскочил и что-то кричит Мунебрага. Инеса обеими руками схватила за плечо Валтасара и трясет его. Смятение в ложах, в толпе. Балтасар и еще несколько человек из соседних лож схватывают Инесу и уносят ее вниз – через толпу – к башенным воротам.
Инеса (отбиваясь). Пусти! Пустите, говорю вам! Я хочу к нему!
Балтасар (крепко держит ее). Инеса…
Инеса (отогнувшись назад в руках Валтасара и как будто только увидев его). А-а, ты? Так ты обманул меня? Ты заставил меня обмануть его? Предатель! Не смей меня! – пусти! Нет? Нет? (Вытаскивает из корсажа кинжал и ударяет Валтасара.)
Балтасар. Благодарю… (Медленно оседает на землю.)
На квемадеро – уже курится дымок. Место происшествия заслоняет густая толпа; возбужденный гул голосов; вытягиваются на цыпочках, стараются заглянуть через плечи стоящих впереди.
Желтый и Румяный с женами – в стороне от других, направо.
Желтый. Оттуда, с оврага, ветер: чувствуете? Еще насморк, пожалуй, схватишь. Идем домой. (Уходят.)
Занавес
1920
Общество Почетных Звонарей*
Трагикомедия в четырех действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
М-р Кембл – клерк адвоката О'Келли. Огромные квадратные ботинки, квадратный подбородок, квадратный лоб. Ходит медленно, тяжело и непреложно, как грузовой трактор. И так же медленно и непреложно говорит. В затруднительных случаях усиленно трет лоб.
Викарий Дьюли – председатель Общества Почетных Звонарей и прихода Сент-Инох. Во рту – восемь золотых коронок, сияет золотой улыбкой. Когда говорит, потирает руки; когда молчит, руки сложены за спиной, перебирает пальцы по одному, как будто отсчитывает: «во-первых, во-вторых».
Миссис Дьюли – жена викария. Еще красивая (в августе бывают жаркие дни). Носит пенсне без оправы. В пенсне она – бронированная; без пенсне – настоящая.
Адвокат О' Келли – ирландец. Рыжий, вихрастый, коротконогий. Лицо как у мопса. Галстук набок, какая-то пуговица не застегнута. Размахивает руками так, что кажется, рук у него по меньшей мере – четыре.
Диди – артистка из «Эмпайра». Кудрявая, тоненькая, быстрая: девочка-мальчик. Курит.
Джонни – фарфоровый мопс Диди. Очень похож на адвоката О'Келли.
М-р Мак-Интош – шотландец. Секретарь Общества Почетных Звонарей, торговец непромокаемыми пальто и философ. Голова – коротко остриженная, круглая, как футбольный мяч. Без штанов, в пиджаке и в пестрой шотландской юбочке («kilt»), чулки до колен, коленки и ноги выше – голые.
Леди Кембл – мать м-ра Кембла, супруга покойного сэра Г. Кембла. Голову держит вверх, как будто ее все время подергивают уздой. Высокая, костлявая – кости выпирают, наподобие пружин из сломанного зонтика. Губы извиваются как черви.
Миссис Аунти – содержательница меблированных комнат. Медовая.
Бобби – статуй. В крайних случаях – моргает.
Нанси – артистка из «Эмпайра». Очень хорошо чувствует себя без платья; в платье ей, несомненно, стыдно.
Четыре хористки из «Эмпайра».
Эксцентрик из «Эмпайра».
Сесили, Анни, Лори, Бетти – машинистки адвоката О'Келли.
Судья во время бокса. Почтенный, как премьер-министр.
Боксеры – Смис и Борн (без слов).
Мастер-палач. В корректном черном костюме, почти пасторском. Неестественно огромные руки. Шляпа надвинута на глаза. (Без слов).
Капельдинер.
Газетчики – мальчишки. Босые, в белых отложных воротничках.
Воскресные Джентльмены – в цилиндрах; все одинаковы, как пуговицы.
Голубые и Розовые леди.
Отряд Армии Спасения – с женщиной-офицером в синей лопоухой шляпе.
Два Спортсмена – в костюмах для гольфа.
Человек в кепке и Человек в шляпе.
Голоса из толпы.
Действие первое
Картина 1
Кабинет викария Дьюли. Викарий Дьюли, заложив руки назад и перебирая пальцами, расхаживает по кабинету. М-р Мак-Интош сидит с блокнотом и карандашом; он, как стрелка компаса, поворачивает голову вслед движениям викария. Миссис Дьюли на диване; в момент открытия занавеса она что-то говорит – не разобрать слов.
Вик. Дьюли (останавливается). Что?
М-с Дьюли. Я говорю, что все-таки вы завтра должны были бы съездить к адвокату О'Келли и поговорить с ним насчет нашего бедного м-ра Кембла.
Вик. Дьюли. Но, дорогая, поймите же, ради Бога: если я поеду к этому О'Келли, весь завтрашний день, все завтрашнее расписание у меня сойдет с рельс. Да, сойдет с рельс, опрокинется, разлетится в щепки! Понимаете?
М-с Дьюли. Но О'Келли говорит, что сейчас, весною, у него особенно много бракоразводных дел и что помощник нужен ему именно сейчас. Может быть, это – единственный случай устроить м-ра Кембла. И мне кажется, теперь, когда он, наконец, поправился и покидает наш дом… (Уронила на пол пенсне, сразу лицо – растерянное.)
Вик. Дьюли. Знаете, этот ваш м-р Кембл… (Смотрит на м-с Дьюли). Что с вами?
М-с Дьюли. Я, кажется… я потеряла пенсне…
Мак-Интош кидается, поднимает пенсне, подает.
Благодарю вас.
Вик. Дьюли (продолжает). Этот ваш Кембл… Не представляю, что вообще можно сделать из молодого человека, который ухитрился среди бела дня попасть под автомобиль? И не понимаю, зачем ему для этого понадобилось выбрать место именно против нашего дома? Это некорректно, это… я не знаю… это…
М-с Дьюли. Но я полагаю, что м-р Кембл вовсе не выбирал…
Вик. Дьюли. Ну да, ну да! Но во всяком случае, все эти две недели, пока он лежал там, наверху, я все время чувствовал… ммм… (С гримасой делает правой рукой какие-то движения на уровне лица.)
Мак-Интош. Флюс.
Вик. Дьюли. Что?
Мак-Интош. Я говорю… э-э-э… так сказать, затвердение, если взять метафору из быта…
Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, прошу вас: поберегите свои метафоры для речей на заседаниях нашего Общества. Возьмите-ка лучше завтрашнее расписание, пусть м-с Дьюли убедится сама, что это невозможно, немыслимо, все сойдет с рельс! Ну, читайте.
Мак-Интош (снял со стены одну из таблиц, читает). Суббота. Омовение и система Мюллера – от 8 до 8. Общение с Верховным Существом от 8 1/2 до 8 3/4…
Вик. Дьюли. Нет, пожалуйста, только вечерние часы: днем адвокат О'Келли – в суде.
Мак-Интош. Вечерние? Хорошо. (Читает.) От 7 до 8 – посещение больных, моцион. От 8 до 9 – обед. От 9 до 10 – заседание Общества Почетных Звонарей. От 10 до 10 1/4 – общение с Верховным Существом совместно с м-с Дьюли. От 10 1/4 до 10 1/2… (Кашляет.) Здесь… многоточие. Так сказать, занавес, если взять метафору…
Вик. Дьюли. Ну да, ну да… Благодарю вас. (Подходит к м-с Дьюли, целует ей руку.) Гм… мм-да, моя дорогая… Так вот: поехать в город к м-ру О'Келли и обратно – это не меньше… да, не меньше двух часов, и стало быть… (Берет расписание у Мак-Интоша, соображает вслух.) От 9 до 11… От 11 до часу… До часу!
Мак-Интош начинает записывать в блокнот.
Ради Бога, подождите записывать! (Бормочет про себя, высчитывает.) Это будет… позвольте: ничего не понимаю! Это будет… (Останавливается.)
М-с Дьюли. Простите, что будет?
Вик. Дьюли. Что? А то, что завтрашний обед будет послезавтра утром. Вот что будет!
Мак-Интош. Так сказать, будущее питание… Или если взять этот древнегреческий случай, когда Геркулес догонял черепаху… и, так сказать, под видом черепахи – обед, а ваше преподобие – под видом Геркулеса…
Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, сколько раз я просил вас…
Стук в дверь.
М-с Дьюли (вскакивает, тотчас же садится, поправляя пенсне). Да, да. Войдите.
Входит Кембл.
Вик. Дьюли. А, м-р Кембл! Очень кстати. Гм, гм… да. Так вы, оказывается, завтра покидаете нас? Чрезвычайно рад… ну да… то есть вы, значит, уже совершенно здоровы – это меня радует в высшей степени, да, да… (Жест в сторону Мак-Интоша.) Вы не знакомы?
Мак-Интош. Мак-Интош. Магазин непромокаемых пальто, так сказать. И секретарь Общества Почетных Звонарей прихода Сент-Инох.
Кембл (жмет ему руку. Сморщив лоб, соображает). Следовательно, это вы звоните в колокол? Я очень люблю звон колоколов.
Мак-Интош (обиженно). Прошу прощения, сэр: мы звоним, так сказать, невидимо, идейно. Мы, так сказать…
Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош – большой философ, и я горжусь им, как одной из лучших овец моей паствы.
Мак-Интош. Разрешите, ваше преподобие, исправить, так сказать, грамматическую ошибку: поскольку речь идет об особе, так сказать, мужского пола, правильней сказать не «овец», а… а «баранов»… (Спохватывается.) Хотя, впрочем… в области скотоводства… э-э-э, так сказать, грамматического скотоводства… э-э-э…
Вик. Дьюли. Ну да, ну да… Это деталь, оставим это… М-р Кембл, мы здесь говорили о том, что у адвоката О'Келли может найтись работа для вас.
Кембл. Да, я знаю: м-с Дьюли была так любезна… И эти две комнаты на Гай-Стрит – для меня и моей матери – я их взял в расчете на работу у м-ра О'Келли.
Вик. Дьюли. Ах, так это, значит, одно с другим… Ну да, ну да! (Торжественно.) Дорогой м-р Кембл, вы меня знаете достаточно, и знаете, что когда речь идет о том, чтобы помочь… м-м-м… ближнему, я готов на самое трудное, даже невозможное. (К м-с Дьюли.) Дорогая, мы перенесем на сегодня некоторые… м-м-м… как вы знаете, очень дорогие для меня параграфы завтрашнего расписания – и тогда завтра я смогу поехать к адвокату О'Келли. Так что, дорогой м-р Кембл, вы можете быть уверены.
Кембл. Вы меня выведете из затруднения. Следовательно, я должен быть вам благодарен. Благодарю вас.
Вик. Дьюли. О, пожалуйста, пожалуйста! Я очень рад, что это даст возможность вам и вашей матери… Да, кстати: возьмите на себя труд передать уважаемой леди Кембл, что мы избрали ее действительным членом нашего Общества Почетных Звонарей, а вас – членом-соревнователем. Я полагаю, ей будет приятно узнать это.
Кембл. Я уверен.
Вик. Дьюли. Очень рад. Спокойной ночи, м-р Кембл! (Смотрит на часы, потом на м-с Дьюли.) Без десяти одиннадцать. У меня осталось ровно десять минут до… до…
Мак-Интош. До – так сказать – занавеса…
Вик. Дьюли (свирепо). М-р Мак-Интош, спокойной ночи.
Выходит. Мак-Интош торопливо прощается и катится за ним. В дверях викарий Дьюли оборачивается.
Надеюсь, дорогая, вы не задержите надолго м-ра Кембла, а?
М-с Дьюли. О нет! Конечно… (Кемблу, который берет себе стул.) Нет, я хочу, чтобы вы сели здесь, вот сюда.
Кембл нерешительно садится на диван.
Вам удобно? Подождите… (Кладет ему подушку за спину. Смотрит в лицо.) Слушайте, Кембл, неужели, в самом деле, вы уезжаете от нас? Я не могу… я как-то не могу представить… Это уже окончательно?
Кембл. Да. Я снял две комнаты. Два фунта одиннадцать. Завтра я должен туда переехать.
М-с Дьюли. Завтра? (Растерянно оглядывается.) Знаете, опять потеряла пенсне. Без пенсне я просто…
Кембл нагибается.
Ах, не надо – все равно, сейчас я… Нет, просто мне очень странно, что вот завтра вас здесь уже не будет. Вам не странно?
Кембл. Странно? Почему же? Вы и ваш муж были так любезны, что разрешили мне оставаться у вас, пока не срослись швы. Следовательно…
М-с Дьюли. А вы думаете, что вы уже совершенно поправились после этой ужасной истории с автомобилем?
Кембл. О, да, доктор сказал, так что я уверен – я совершенно здоров.
М-с Дьюли. Жаль… То есть нет, конечно, я страшно рада, но я хочу сказать, что… Понимаете, ну… я так… я так привыкла к вам за эти две недели. Боже мой! Я как сейчас помню эту минуту: шум, голоса… вдруг открывается дверь – и вас вносят, впереди этот рыжий О'Келли… рука у вас свесилась, качается… И как вы ни за что не хотели при мне… вы помните?
Кембл. Конечно. Я уверен, что никогда не забуду ваших забот обо мне.
М-с Дьюли. Да? Вы не забудете? Правда, вы меня не забудете? Нет? (Кладет свою руку на руку Кембла.) Кембл, вот, понимаете, ваша рука…
Кембл (поднимает свою руку, удивленно на нее смотрит). Моя рука… что?
М-с Дьюли. Нет… я хочу… я хотела только… (Пауза. Смотрит на часы. Взволнованно.) Три минуты. Понимаете: три минуты!
Кембл (сморщив лоб, старается понять). Три минуты?
М-с Дьюли. Я хочу сказать: без трех минут одиннадцать. В одиннадцать… (Оглядывается на дверь, через которую вышел викарий. Пауза.) Да, завтра мы уже будем вдвоем с Дьюли – и все по-прежнему, как десять, как пятнадцать лет… (Берет на колени подушку с дивана, нежно поглаживает ее.) Кембл! Кембл. Да, м-с Дьюли?
М-с Дьюли. Кембл… пусть… пусть будто вы еще больны… И я… и я, как все эти недели, приду положить вам компресс на ночь. Кембл! (Глядит на подушку, нежно поглаживает ее.)
Кембл (сморщился, трет лоб). Но ведь я же… я же не болен. Доктор сказал. Следовательно, компресс… я не понимаю: зачем же компресс?
М-с Дьюли (отшвыривает от себя подушку, встает. Закусив губы, секунду смотрит на Кембла). Вы… Слушайте, вы… вы просто…
Вик. Дьюли (показывается на ступенях лестницы сверху; он в ночном колпаке). Дорогая, ровно одиннадцать. Ах, вы уже идете? Прекрасно, прекрасно!
Поднимается по лестнице; следом за ним – м-с Дьюли. Кембл, расставив ноги, стоит, трет лоб. Поворачивает выключатель, выходит.
Картина 2
Приемная в конторе адвоката О'Келли. Прямо – открыта дверь в комнату машинисток, четыре мисс сидят, стучат на машинках. Дверь слева – вход в приемную, дверь справа – вход в кабинет О'Келли. В кресле – 1-й Воскресный Джентльмен, с цилиндром в руках. В стороне, у раскрытого окна – Кембл: упорно, ни на кого не глядя, читает газету. За окном городской шум, крик мальчишки-газетчика.
Газетчик. «Джесмондская Звезда»! Экстренный выпуск! Бокс!
2-й, 3-й, 4-й Воскресные Джентльмены (все совершенно одинаковые, в цилиндрах, входят, идут к 1-му Джентльмену). А, добрый день!
1-й Воскр. Джентльмен. Добрый день.
2-й Воскр. Джентльмен. Прекрасная погода, не правда ли?
1-й Воскр. Джентльмен. О, да, вчера была значительно хуже… (Молчит.)
3-й Воскр. Джентльмен. Мм… да. Очень много зависит от погоды, вы не находите?
1-й Воскр. Джентльмен. О, да. Так, например, подагра и многие другие важные вещи.
4-й Воскр. Джентльмен. Да-а! Да. (Молчит.)
3-й Воскр. Джентльмен. Мм… да. Приятно иногда – вот так встретиться, поговорить, обменяться мыслями, вы не находите?
4-й Воскр. Джентльмен. Да-а! Да.
1-й Воскр. Джентльмен. О, да, чрезвычайно, чрезвычайно приятно.
Молчат. Искоса поглядывают на Кембла. Шепчутся.
3-й Воскр. Джентльмен. Кембл? Сын покойного сэра Гаральда? Печально, печально!
1-й Воскр. Джентльмен. О, да! Я полагаю, что покойный сэр…
Вошла Диди. Воскресные Джентльмены замолкают, смотрят на нее.
Шепчутся.
2-й Воскр. Джентльмен. Да, знаете, этот О'Келли… он умеет…
1-й Воскр. Джентльмен (выразительно). О, да!
3-й Воскр. Джентльмен. Тсс!
О'Келли (выбегает из кабинета). А-а, джентльмены, мое почтение. Дидичка, и вы здесь? Сию минуту, сию минуту.
1-й Воскр. Джентльмен передает О'Келли бумагу, О'Келли пробегает ее.
Правление Общества Почетных Звонарей… Доверенность м-ру Мак-Интошу… Чудесно! Пожалуйте.
Открывает дверь в кабинет. Телефонный звонок. О'Келли подбегает.
Да, слушаю. Ах, это вы, дорогая? Да… Но, видите ли, телефон еще недостаточно усовершенствован, чтобы я мог вас по телефону… Да. Завтра… (К Диди.) Сейчас, Диди, милая, сейчас. (В комнату машинисток.) Сесили, деточка, вот это письмо, пожалуйста. (Берет Сесили за подбородок.) У-у, цыпка! Джентльмены, пожалуйста.
Проходят в кабинет.
Газетчик (за окном). «Джесмондская Звезда»! Экстренный выпуск! Сегодня бокс! Сержант Смис, чемпион Англии!
Диди (подойдя к окну). Мальчик, мальчик! Да, да, я. Принесите мне газету.
Газетчик (за окном). Слушаю, мисс.
Кембл оборачивается к Диди. Она напевает что-то. Кембл начинает читать газету и опять оборачивается, смотрит на Диди.
Диди. Вы, кажется, хотели что-то сказать мне?
Кембл (встает, сконфуженно). Про… Простите, я вам не представлен. Следовательно… следовательно, я не могу говорить с вами…
Диди. Но ведь вы же говорите?
Кембл (растерянно трет лоб). Вы… вы находите? Да… да, кажется, вы правы…
Диди (смеется). Да, вам кажется?
Газетчик (мальчишка, в белом воротничке, босой, вбегает, передает газету). Пожалуйста, мисс. (Получает деньги.) Спасибо, мисс. (Уходит.)
О'Келли (выходит из кабинета с Воскресными Джентльменами). Да, да, можете быть спокойны. До свидания. Привет вашему почтеннейшему председателю… хотя, кажется, викарий Дьюли терпеть меня не может, а?
1-й Воскр. Джентльмен. О, нет! Но, видите ли… вы с ним настолько… как бы это сказать, не совсем…
О'Келли. Понимаю, понимаю! Всего наилучшего.
Воскр. Джентльмены уходят, косясь на Диди.
А, м-р Кембл, очень рад. Диди, деточка, сию минуту. (кидается к машинисткам.) Сесили, готово? Сейчас подпишу. (Возвращается к Кемблу.) Очень рад, м-р Кембл. Необычайно кстати! Диди, позвольте вас… М-р Кембл – отныне мой помощник. Диди Ллойд, артистка из «Эмпайра» – моя клиентка: развод.
Диди. Собственно, мы уже давно… минут пять знакомы.
О'Келли. Как, уже? Кембл, Кембл! А я-то надеялся, что рекомендация достопочтенного викария Дьюли, автора «Завета Принудительного Спасения», председателя Общества Почетных Звонарей и прочая, и прочая…
Кембл. Нет, видите ли… я… я смотрел… и миссис Ллойд…
О'Келли. Вы смотрели? Смотрите вы у меня! Вы, кажется, собираетесь стать моим помощником во всех отношениях? (Кричит в комнату машинисток.) Сесили! Анни! Бетти! Пожалуйте все сюда.
Машинистки входят. О'Келли пересчитывает их.
Раз… два… три… четыре… все? Прекрасно. Начнем. Только, пожалуйста, будьте серьезны, потому что вы имеете дело уже не со мной, а с человеком серьезным и положительным. Это – м-р Кембл, мой помощник. (Кемблу.) А это – Сесили, моя жена.
Кембл почтительно жмет ей руку.
Это – Анни, моя жена, Бетти, моя жена, Лори, моя жена.
Кембл останавливается с протянутой рукой; страдальчески сморщившись, пытается понять, трет лоб. Машинистки, сдерживая смех, прячутся друг за друга.
О'Келли (серьезно). Послушайте, Кембл, да разве вы не знали: ведь я же магометанин.
Кембл (облегченно). О, я всегда с уважением относился ко всякой установленной религии. Рассуждая логически, всякая установленная религия…
О'Келли (не выдержав, лопается от смеха, за ним машинистки, Диди). Послушайте, Кембл… Ой, не могу! Ведь надо же! Он, ей-Богу, поверил! Послушайте, Кембл, вы понимаете, что такое шутка? Ну?
Кембл (растерянно). Я… я не понимаю: вы хотите… что вы… что это неправда? Вы сказали неправду?
О'Келли. Вы, кажется, этого не одобряете? Подождите, давайте по-вашему: «рассуждая логически». Животные и представления не имеют о неправде – так? Хорошо. Если вы попадете к каким-нибудь диким островитянам, они тоже будут говорить только правду, пока не познают европейской культуры. Следовательно, правда – есть признак… Ну? Кончайте сами.
Кембл. Следовательно… (Трет лоб.) Да, кажется, действительно… (В отчаянии.) Но ведь это же не может, это не должно быть!
О'Келли. Счастливец: он знает, что должно и что не должно! (К Сесили, которая подает ему какую-то бумагу.) Сейчас, деточка, сейчас… (Достает из шкафа папку.) А вот наша милейшая Диди никак не может уразуметь, что она должна принять деньги, которые ей предлагает м-р Ллойд.
Диди (сдвинув брови). О'Келли, если вы еще раз…
О'Келли (Кемблу). Бот видите! Вот видите! Поручаю вам обстрелять ее своей двенадцатидюймовой логикой. Здесь все документы.
Передает папку Кемблу, уходит к машинисткам. Кембл и Диди садятся к столу, Диди – с газетой.
Кембл (перелистывая папку). Простите, миссис Ллойд, но по закону вы действительно можете требовать от вашего… от вашего бывшего мужа…
Диди (глядя в газету). М-р Кембл, понимаете: сегодня выступает сержант Смис, чемпион Англии. Я никогда не видела этих… чемпионов, Я думаю, они похожи на вас. Вы, должно быть, страшно сильный? Скажите, вы можете поднять меня одной рукой?
Кембл (оторвавшись от бумаг, осматривает Диди с ног до головы. Конфузливо улыбаясь). Вы… вы такая…
Диди. Какая?
Кембл (восхищенно). Вы очень… Я думаю, что могу. Диди. Нет, правда, можете? Ну, попробуйте – ну?
Кембл встает, нагибается к стулу Диди. Телефонный звонок.
О'Келли (выбегает из комнаты машинисток). Кембл! Кембл, что это вы?
Кембл. Это я… Это я одной рукой… Я…
О'Келли (шутовски). Диди, между нами все кончено. (Подходит к телефону) Да, я. А-а, миссис Дьюли, здравствуйте! Кембл? Да, будьте покойны, уже начал. Блестяще! Не за что. Какое именно? Дело миссис Ллойд, Диди Ллойд, из «Эмпайра» – наверно, слышали? Что? Нет, нет, не бойтесь. Да, уж я… Всего наилучшего! (Кемблу.) Ну, м-р Кембл, знаете ли…
Подходит Сесили.
Ах, да, подписать! Сейчас, деточка, сейчас. (Уходит с Сесили к машинисткам.)
Кембл (садится, сконфуженно уткнувшись в бумаги). Миссис Ллойд, по закону вы имеете право. Следовательно, вы должны.
Диди. Должна? А если я не могу?
Кембл (морщит лоб). Но, собственно, почему?
Диди. А вот просто так. (Смотрит на руку Кембла.) Ух, какая у вас рука! Вы никогда не занимались боксом?
Кембл. Нет, простите, не занимался. Почти. В школе, давно. Но я должен узнать, почему вы не можете…
Диди (сердито бросает газету). Потому что я, я, я изменила м-ру Ллойду! Поняли, нет? Почему изменила? Потому что была хорошая погода, вот и все! И я предпочитаю плясать в «Эмпайре», чем… Ну, что вы уставились? Пожалуйста, убирайтесь со своими бумагами, ну? Вы просто невыносимы!
Кембл берет папку, встает.
Куда вы? Сядьте!
Кембл садится. Диди закуривает папироску. Пауза.
Кембл. М-с Ллойд… я… я согласен. Вы действительно не можете. И я… я уважаю вас. То есть не то, что вы… что вы изменили, а то, что вы…
О'Келли (входит). Что у вас тут за шум?
Диди. О, мы разговариваем… относительно бокса. Я хотела его убедить, что…
О'Келли (Кемблу). Ну, а вы? Убедили ее?
Кембл. Нет, я полагаю, что она… что м-с Ллойд не должна брать денег.
О'Келли. Кембл, Кембл! Если это начало, чем же вы кончите?
Диди. Вы знаете, О'Келли, он страшно смешной, – ну, просто прелесть! Мы идем с ним сегодня на бокс…
Кембл хочет что-то сказать.
Нет, нет, Кембл, конечно, идем: ведь вы же на меня не сердитесь, нет?
Кембл. О, нет! Я даже…
Диди. Ну, тогда, значит, идем. И вы, О'Келли, тоже. Только надо скорей, скорей, сию же минуту пообедать – и туда. Уже семь.
О'Келли. Деточка моя, я вас так люблю, что ради вас готов пойти на бокс с м-ром Кемблом, на дуэль с м-ром Кемблом – на все.
Кембл (трет лоб). То есть как на дуэль?
О'Келли. Да, м-р Кембл, будьте готовы ко всему. Но только сначала – обед. Идем. (Уходят).
Картина 3
Бокс. Четырехугольная площадка для боксеров, обнесенная барьером из каната. Скамьи для публики уже заполнены. Воскресные и прочие джентльмены, люди в кепках, мальчишки. Жужжание говора. Входят Диди, О'Келли, Кембл. К ним – Капельдинер.
Капельдинер. Мест нет, сэр.
О'Келли. Очень жаль. Но я надеюсь, в вашем кошельке место еще есть? Ага, прекрасно! (Дает ему монету.) Принесите нам три стула.
Капельдинер. Слушаю, сэр.
На принесенных стульях отдельной группой у рампы садятся: впереди – Кембл и Диди; О'Келли – сзади Диди. Пауза. Публика стучит ногами, свистит. Звонок. На площадке – Судья.
Судья (снимая цилиндр). Леди и джентльмены. Первыми выступают знаменитый сержант Смис, чемпион тяжеловесов Англии, и м-р Борн из Джесмонда. Двадцать кругов по три минуты и полминуты отдыха после каждого круга, согласно правилам маркиза Квинзбери.
Звонит. С противоположных углов площадки выходят: Смис в голубых трусиках и Борн – в черных.
Публика. Браво, Борн! Браво, Джесмонд! – Сержант Смис, браво-о!
Судья надел цилиндр. Поднял руку – тишина. Вынул часы. Секунданты торопливо завязывают перчатки обоим противникам. Судья звонит. Смис и Борн сходятся, пожимают руки. Первый круг. Нападает Борн, удачный удар.
Публика. Так его, Джесмонд! – Браво, Борн! – Какой панч! Так-так-так! – Ловко, Смис! – Ага, ага! Смотрите: дэбль-кросс!
Звонок, перерыв. Оба противника – на стульях, по своим углам, вытянувшись. Дышат, широко раскрыв рты, секунданты обмахивают их полотенцами.
Публика (волнуется, гудит; отдельные голоса). Ставлю фунт за Борна! – Борн, Борн, Джесмонд за вас! – Смис, утрите нос этому младенцу! – Два фунта за Борна! – Держу пари – нокаут на втором круге – два фунта.
Диди (прижимаясь плечом к Кемблу; Кембл с часами в руках). Смотрите, смотрите: они дышат, как рыбы. Почему они так дышат?
Кембл. Чтобы лучше отдохнуть. Согласно правилам – полуминутный перерыв.
О'Келли. Вы, Диди, нарушаете это правило честного боя.
Диди. Я?
О'Келли. Ну да, вы: вы не даете Кемблу даже полминуты отдыха. Смотрите, он уже… Публика. Ш-ш-ш!
Звонок. Судья – с часами. Смис и Борн снова сходятся. Смис сперва только защищается, затем вдруг – снизу вверх в нос Борну. Борн прячет лицо под мышку к Смису. Смис продолжает тыкать ему в нос снизу.
Публика. Так, Смис, так его! – У Борна финта. – Борн, стыдитесь! – Поцелуй его, Борн, в подмышку: очень вкусное местечко! – Ага, смотрите!
Борн вырвался. Смис нападает на него, удар за ударом. Борн качается, падает. В публике: «Ах» – и мертвая тишина. Судья с часами считает вслух: «Раз, два, три… восемь». На восьмой секунде Борн встает.
Публика. Браво, Борн! – Молодец, Борн, не сдавайся! – Браво, браво, браво!
Борн, покачиваясь, выдерживает еще несколько ударов. Звонок, перерыв. Секунданты обмахивают, растирают обоих, кропят им высунутые языки водой.
Публика (голоса все возбужденней). Ничего подобного! Ничего подобного! – Это только второй круг, вот увидите! Борн, мы за вас! – У него короткий удар. – Два фунта – нокаут на третьем круге!
Диди (взволнованная, дергает за рукав Кембла; Кембл стоит). Кембл!
Кембл оглядывается; у него выдвинутая нижняя челюсть, стальные мускулы на скулах напряжены; смотрит на Диди сверху.
Вы… что вы на меня так смотрите? Ой, О'Келли, глядите, какой он сейчас – прямо страшно!
О'Келли. Берегитесь, Диди, говорю вам: берегитесь!
Звонок Судьи. Смис и Борн сходятся. Борн нападает.
Публика. Так-так-так, Борн! – Панч! Ага! – Панч… Еще! – Фью! – Нокаут! – Я… говорил! – Какой нокаут? Сейчас встанет. – Ш-ш-ш…
Смис ударяет, Борн упал. Судья вслух считает: «девять, десять». Борн все лежит. Большая часть публики вскочила, Кембл и Диди тоже стоят. Когда Судья сказал «десять», в публике рев, аплодисменты, свистки. Судья поднимает вверх руку, надевает цилиндр.
Судья. Сержант Смис побил Борна из Джесмонда в 8 минут и 40 секунд.
Публика (гам, свист, аплодисменты, крики). Браво, Смис! – Неверно: он ударил, когда Борн уже падал! – Долой Смиса! – Браво, Смис! – Долой Смиса! – Браво! – Долой!
Диди (кричит, стоя на стуле). Неверно! Долой Смиса!
Борна поднимают, уводят. Смис спокойно стоит, улыбаясь.
И еще улыбается! Что за наглость! Если бы я была мужчиной…
Смис что-то говорит Судье.
Судья (подняв руку). Чемпион Англии сержант Смис вызывает любого, сейчас же и на тех же условиях, что с Борном: двадцать кругов, согласно правилам маркиза Квинзбери. Приз – пятьдесят фунтов.
Публика (волнение, свистки, аплодисменты). Браво! – Джесмонд! Джесмонд! Эх, будь я на десять лет… – Долой Смиса! – Браво, Смис!
Затихают, пауза. Смис улыбается.
Диди. Если бы я была мужчиной… Неужели никого нет, кто бы… Слушайте, Кембл, миленький, я не могу видеть этой наглой физиономии! Пойдите, докажите ему, что…
Кембл. Вы хотите? (Смотрит на нее.) Вы хотите? Хорошо, я иду. (Идет к площадке, говорит что-то Судье.)
Судья. М-р Кембл из Джесмонда любезно согласился принять вызов сержанта Смиса.
Публика. Браво-о-о! – Кембл, браво! – Кембл! (Неистовый рев, топот.)
Диди (теребя О'Келли). Слушайте, О'Келли, он и самом деле, он с ума сошел! Я же только так… Остановите его!
О'Келли. Голубушка моя, я же вас предупреждал, что с Кемблом шутить нельзя. Есть племена, у которых в языке нет слова «шутка».
Диди. Но ведь это же… это же… О'Келли, скажите: вы считаете, что это я виновата?
О'Келли. По-моему, виновато ваше декольте.
Диди. Как вы… как вы можете шутить в такой момент, когда человек рискует… я не знаю: может быть, даже жизнью!
О'Келли. А вы не думаете, что я сейчас рискую больше, чем он?
Диди. Вы? Чем?
О'Келли. Вами.
Кембл выходит, уже переодетый. Опять восторженный рев. Звонок.
Диди (стоя, восторженно смотрит на Кембла). Нет, вы знаете, он великолепен!
Первый круг. Кембл, неуклюже поворачиваясь на месте, пытается защищаться. Смис наносит ему удар за ударом в грудь, в лицо.
В публике (тишина, чей-то восхищенный голос). Ну и морда – прямо чугунная!
Смех. Напряженная тишина. Еще удар – Кембл падает.
Публика (неистовый рев). Браво-о, браво-о, Смис! – Правильно! – Правильно! – Кембл из Джесмонда, браво-о!
Над Кемблом нагибается Судья с часами в руках. Из публики через канат перескакивает кто-то. Кембла поднимают, несут.
Публика. Доктор, это доктор… – Что с ним? – Что, что? В висок? – Нет. – Да говорю же вам: я сам видел! – Смотрите, смотрите!
Диди. Это ужасно, это ужасно! (Кидается к площадке.)
О'Келли. Куда вы? Туда нельзя.
Диди (вырывается). Пустите! Это ужасно! Я никогда не прощу себе! О'Келли, да говорите же: ну что нам теперь делать?
О'Келли. Успокойтесь, успокойтесь! Ну, если хотите, пойдемте туда.
Идут. Вся публика вскочила с мест. К барьеру-веревке подходит Бобби, переговаривается о чем-то с Судьей.
Публика. Что? Что? – Что случилось? – Наповал?
Судья (подняв руку). Прошу успокоиться. Перерыв на десять минут. Через десять минут все будет известно.
Занавес
Действие второе
Картина 1
Кабинет викария Дьюли. Викарий Дьюли, миссис Дьюли, Мак-Интош, Воскресные Джентльмены, Голубые и Розовые Леди – сидят за столом. Перед ними листки бумаги.
Вик. Дьюли (стоя, звонит в звонок). Леди и джентльмены, заседание Общества Почетных Звонарей продолжается. Чтобы покончить с первым вопросом, позвольте мне процитировать пять строк из только вчера написанной главы моей книги «Завет Принудительного Спасения». Вот (читает): «Премудрость Создателя в том, что человек…
Телефонный звонок. Вик. Дьюли, оскалив золотые зубы, смотрит на телефон, жестом приглашает м-с Дьюли подойти к телефону. Продолжает.
…человек не только был создан однажды, но создается ежедневно, меняясь параллельно природе. Природа нашего века – машины»…
М-с Дьюли (в телефон). Да… да…
Вик. Дьюли. «И вот от брака – именно так: от брака – людей и машин – возникает новое, совершенное племя – наше племя, которое с механической точностью приведёт мир к цели»…
М-с Дьюли (в телефон, взволнованно). Что? Что с ним? Не может? Да. Да. (Подходит к столу, едва владея собой.)
Леди и Джентльмены (к м-с Дьюли). Что случилось? – Дорогая, вы так бледны! – Воды… хотите воды?
М-с Дьюли (задыхаясь). Нет… Леди Кембл звонила, что она… запоздает и что… что м-р Кембл… он совсем не может прийти сегодня.
Вик. Дьюли. Ах, вот как? Почему же?
Леди и Джентльмены. Не может прийти? Что с ним? – Хотите воды? – Несчастье?
М-с Дьюли (пьет воду). Да… По-видимому… Я не знаю. Она сказала, что… что нельзя объяснить это по телефону.
Леди и Джентльмены. Но позвольте, мы еще вчера видели его… – Это невероятно! – Дорогая, сядьте, вам лучше сесть.
Вик. Дьюли (звонит). Леди и джентльмены, спокойствие. Жизнь каждого из нас в руках Провидения. Продолжим нашу работу. Через несколько минут мы узнаем от леди Кембл все. А пока в порядке дня… М-М-М (заглядывает в листок) – вопрос о поднятии доходности «Журнала прихода Сент-Инох». Доклад секретаря, м-ра Мак-Интоша. Мак-Интош, прошу.
Мак-Интош (встает). Леди и джентльмены… так сказать. Мне нет надобности говорить о той высокой, так сказать, выделке… (щупает листок бумаги между пальцами, как материю)…э-э-э… материи, из которой мы шьем, так сказать, нравственные одежды нашего журнала. Или, если взять метафору из современного быта, то вот вы, например, приходите ко мне в магазин и спрашиваете, так сказать, непромокаемое пальто, и если вы возьмете его вот так… (Оперирует с листком бумаги).
Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, быть может, вы несколько воздержитесь от метафор?
Мак-Интош. Я только хочу сказать, что журнал, в котором еженедельно печатаются статьи из, так сказать, совершенно непромокаемого материала, статьи нашего уважаемого викария…
Леди и Джентльмены. Слушайте, слушайте! (Аплодисменты).
Вик. Дьюли. Благодарю вас, м-р Мак-Интош. Но все же просил бы вас, ближе к делу.
Мак-Интош. Я всегда утверждаю: какая великая вещь, так сказать, цивилизация. Но если взять метафору, представьте себе: к вам в магазин пришел нецивилизованный, так сказать, дикарь, который ходит, так сказать, голый, – извините, мисс! Я спрашиваю вас: что может купить такой человек в магазине готового платья, если этот человек ходит голый? Что? – я вас спрашиваю!
Пауза. Общее недоумение.
Розовая Леди (наивно). Купальный костюм.
Мак-Интош. Как? (Растерянно.) Э-э-э… видите ли, мой вопрос был, так сказать, не вопрос, а наоборот…
Вик. Дьюли (потеряв терпение, звонит). Словом, м-р Мак-Интош вносит предложение пойти навстречу потребностям некоторой части читателей, которых ему угодно было назвать голыми, и приобрести для нашего церковного журнала новейшую серию «Приключений Арсэна Люпэна». Есть возражения?
Леди и Джентльмены. О, нет! – Да-да, конечно. – Приключения? Приобрести, приобрести!
Вик. Дьюли. Очень хорошо. Но чтобы окупить расходы, есть только один выход: объявления, объявления и объявления. Поэтому мы предлагаем: для создания финансовой базы ввести в журнале отдел объявлений.
Леди и Джентльмены. Да, да! – Конечно!
Вик. Дьюли. Теперь конкретные предложения. У вас, м-р Мак-Интош?
Мак-Интош. Э-э-э… От фирмы Скрибс – резиновые изделия «Идеал».
Джентльмены. Гм! – Кха! – Да…
Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, надеюсь, вы имеете в виду, что мы не можем рисковать добрым именем журнала и можем предлагать только те продукты, качество которых мы гарантируем.
Мак-Интош. О, за изделия Скрибса я могу ручаться. Если взять метафору, я, так сказать, собственноручно не раз…
Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, эти ваши метафоры… (Пожимает плечами.) Итак, изделия Скрибса тоже можно считать принятыми?
Джентльмены. Да! – Да!
Вик. Дьюли. В таком случае (заглядывает в листок)…Следующий вопрос…
Стук в дверь. Входит леди Кембл.
А, дорогая леди Кембл! Счастлив вас видеть, хотя и… (смотрит на часы) с некоторым запозданием.
М-с Дьюли (вскакивает, взволнованно подбегает к леди Кембл). Что с ним? Ради Бога? Что случилось?
Леди Кембл (опускаясь на кресло). Он – погиб.
М-с Дьюли. Нет! Ради Бога!
Все. Как? – Умер? – Что? – Не может быть: я его еще вчера днем… – Умер?
Леди Кембл. Да, почти. (Глаза к небу.) Боже мой, что сказал бы мой покойный муж, сэр Гаральд!
Вик. Дьюли. Леди и джентльмены, заседание продолжается. Я вполне понимаю охватившее вас волнение, но позвольте призвать вас к порядку, чтобы леди Кембл могла сделать внеочередное заявление… (нагибаясь к леди Кембл) о внезапной кончине м-ра Кембла, сколько я понял? (К м-с Дьюли.) Дорогая, вы слишком близко принимаете это к сердцу. Займите свое место, прошу вас.
М-с Дьюли. Я… я не могу. Я должна… я… Боже мой!
Вик. Дьюли (пожимс1Яплечами). Леди Кембл, мы ждем.
Леди Кембл (роется в ридикюле, вынимает газету). Вот… (Трагически). Это ужасно! Пусть кто-нибудь… только не я, нет!
Вик. Дьюли (передавая газету Мак-Интошу). М-р Мак-Интош, пожалуйста.
Мак-Интош. С наслаждением… то есть, я хочу сказать… Ну, да вы понимаете… (Ищет в газете.) Вот. (Пробегает глазами.) Ах!
Все. Что? Что? Да читайте же!
Вик. Дьюли (строго). М-р Мак-Интош!
Мак-Интош. Сию минуту. (Читает.) «Необычайный случай в Боксинг-Голле. Боксер-аристократ. Сержант Смис… М-М-М… (Бормочет про себя.) Борн из Джесмонда»… Вот! «Вызов победителя принял м-р Кембл, сын покойного Г. Д. Кембла».
Все. Как? – Леди Кембл, дорогая… – Тише!
Мак-Интош (продолжает). «Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели негра Джонса, впервые была украшена появлением боксера из высокоаристократической, хотя и обедневшей семьи. М-р Кембл с удивительной стойкостью – и, мы сказали бы, покорностью – выносил железные удары Смиса, пока на первом же круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. М-р Кембл был вынесен в бессознательном состоянии. Среди его друзей, особенно взволнованных концом его авантюры, выделялась туалетом звезда „Эмпайра“ Д***». Д и три звездочки, понимаете, кто?
М-с Дьюли. Ах, вот как! Вот как! Дайте мне, я хочу сама… Это… Это не может быть! (Вырывает газету у Мак-Интоша.)
Леди и Джентльмены. Ах, так он не умер? – Это неслыханно! Это – вызов, это вызов, брошенный… – Дорогая леди Кембл, позвольте выразить вам… – Необходимо самым решительным образом… – Да, да!
М-с Дьюли (с газетой, к леди Кембл). Вы видели его? Вы видели? Он действительно очень пострадал?
Леди Кембл. О, нет, я не видала его, нет!
Все. Как?
Леди Кембл. Он не явился домой. Он там. (Пальцем показывает вниз, как бы в преисподнюю.)
Все. Где? – Вы хотите сказать, что он уже… – Где там?
Леди Кембл. В доме миссис Аунти, где эта… госпожа из «Эмпайра». Конечно, он не решился явиться домой после этого. Она увезла его туда.
Леди и Джентльмены (волнение, вскакивают, отодвигают стулья). Дорогая леди Кембл, позвольте вам… – Исключить, немедленно исключить из Общества! – Да, да, да!
Вик. Дьюли. Леди и джентльмены, еще раз призываю вас к спокойствию. (К м-с Дьюли, которая ходит взад и вперед, комкая газету.) В особенности вас, дорогая: вы нарушаете…
М-с Дьюли. Я не могу… я не могу… Это… это просто… Увезла к себе!
Вик. Дьюли (пожимает плечами). Я слышал здесь предложение исключить м-ра Кембла из числа членов Общества Почетных Звонарей. Я полагал бы, что это – если хотите, изгнание павшего Адама из рая – эта мера, освященная писанием, была бы вполне…
М-с Дьюли. Нет! Это недопустимо! Это окончательно отдало бы его в руки… Я… мы потеряли бы…
Вик. Дьюли. Что же в таком случае предлагаете вы? Да сядьте же, наконец, прошу вас!
М-с Дьюли садится. Молчит. Встает Мак-Интош.
Мак-Интош. Я предлагаю! Вик. Дьюли. Да, мы слушаем. Мак-Интош. Господа, мы должны, так сказать, отдать на заклание нашего уважаемого викария.
Пауза. Недоумение.
Да, господа, всякий из нас, чью кожу, так сказать, пробивали насквозь вдохновенные проповеди викария, знает, что выдержать их невредимо могли бы лишь… лишь… (щупает листок бумаги, как материю), так сказать, непромокаемые…
Вик. Дьюли. Яснее, яснее, м-р Мак-Интош! Без метафор!
Мак-Интош. Господа, мы должны просить викария, чтобы он пошел в этот дом. И я уверен… мы уверены… Все. Да, да! – Мы уверены! – Просим, просим!
Вик. Дьюли (помолчав). Леди и джентльмены. Как это ни трудно мне, но я готов. Христос посещал и прокаженных. Но если это не удастся, я полагаю, остается одно: изгнать этого павшего Адама.
М-с Дьюли (вскакивает). Нет, вы не должны. Вы противоречите себе! Это именно тот случай, когда вы должны на практике применить ваш «Завет Принудительного Спасения». Я должна… мы должны – хотя бы против его воли – спасти его от этой женщины. Я уверена, что она недостойна его. Мы должны заставить его понять это! Мы должны найти доказательства, что она… (Тяжело дыша, замолкает, шарит около себя.) Я… я потеряла пенсне…
Садится. Пауза. Викарий пожимает плечами.
Вик. Дьюли. И что же дальше?
Мак-Интош (восторженно). Я, так сказать, понял!
Вик. Дьюли. А именно?
Мак-Интош. Приключения Арсэна Люпэна.
Недоумение.
Вик. Дьюли. Это относится к первому пункту порядка дня. Вы путаете, дорогой Мак-Интош. Это уже принято.
Мак-Интош. Прошу прощения, но это относится именно к вопросу о м-ре Кембле и… и этой… Я имею в виду, так сказать, серию приключений Арсэна Люпэна в борьбе с пороком. Доказательства – как сказала уважаемая м-с Дьюли. Каждый из нас должен стать Арсэном Люпэном, чтобы получить доказательства того, что эта женщина… так сказать…
Леди и Джентльмены. Браво, м-р Мак-Интош, браво!
Мак-Интош. Я первый готов отдать все свое время, так сказать, на алтарь… Я с детства, так сказать, слежу за литературой, я не пропустил ни одной подобной книги, я всегда мечтал о том, чтобы самому… И вот, наконец, случай соединить христианский подвиг и, так сказать, спорт, один из самых увлекательных видов спорта, когда человек является, так сказать, предметом, дичью… Я полагаю, каждый из нас…
Леди и Джентльмены. Да, да! – Браво, м-р Мак-Интош, браво. Вашу руку! – Да здравствует м-р Мак-Интош Люпэн! – Да, да! (Встают с мест, жмут руку Мак-Интошу.)
Картина 2
Комната Диди в номерах м-с Аунти. Камин. На каминной полке – фарфоровый мопс Джонни. Ширмы. Кровать. На кровати лежит Кембл, с примочкой на лице. Просыпается, поднимает голову, оглядывается кругом: где он? Торопливо сбрасывает примочки.
Кембл (тихо). Диди!
Диди (в черной пижаме – низкий вырез, переплетенный шнуром – вскакивает с диванчика, на котором спала, входит за ширмы к Кемблу). Ну, наконец-то, вы… Кембл, милый, я так рада, я так боялась! (Садится на кровать к Кемблу, берет его огромную руку в свои.) Кембл, вы можете меня простить?
Кембл (лежит, блаженно зажмурив глаза). Диди, я должен сказать вам… Я знал, что Смис меня побьет, но я сделал это потому, что вы… потому, что я… потому, что я вас…
Диди. Смешной. Я же знаю! Не надо говорить. Ну, понимаете – не надо: я знаю. (Смотрит ему в глаза, закусив губы.) Кембл, миленький, вы когда-нибудь это чувствовали: вот тут у вас вдруг тихонько повернется, будто там не сердце, а живой ребенок, и хочется, понимаете… закричать или…
Кембл. Но почему же закричать? (Морщит лоб.) Я полагаю…
Диди. Ни-че-го вы не понимаете! Молчите, а то я вас… (Слегка нагибается к Кемблу – короткая пауза – вдруг быстро, как клюнула, целует Кембла в губы.)
Кембл (изумленно моргает, приподнимается). Про… простите… Вы меня поцеловали.
Диди. Что? (Хохочет). Нет, вы просто… вы просто… (Выбегает из-за ширмы, берет на руки мопса Джонни, целует его.) Джонни, миленький мой, если б ты знал, до чего он забавен, до чего он забавен!
Кембл. Диди!
Диди. Да.
Кембл. Могу я у вас попросить почтовой бумаги? Мне надо написать письмо моей матери, леди Кембл.
Диди (входит за ширмы с листком бумаги и пером). Вот. (Смотрит, как Кембл пишет.)
Кембл. Нет, не могу.
Диди. Бедненький мой, вам больно?
Кембл. О, нет! Я чувствую себя очень хорошо. Но у вас бумага без линеек, я привык писать по линейкам. (Опускает руки. Сморщив лоб, размышляет.) Не понимаю.
Диди. Чего не понимаете?
Кембл. Вообще – ничего. Я был совершенно уверен, что вот это я должен, а вот это не должен. А теперь…
Диди. А теперь – без линеек?
Кембл. Как – без линеек? (Берет бумагу, смотрит.) Ах, да! У вас другой нет? Я не могу на этой.
Диди. Бедный мальчик! Ну, я научу вас обходиться без линеек. Только пойду оденусь.
Выходит из-за ширм. Перед зеркалом. Вынимает платье, шуршит шелком. Кембл еще пробует писать, слушает, бросил перо. С трудом, морщась от боли, встает. Он в крахмальной сорочке, в черных к смокингу брюках, как был на боксе. Быстро одевается, выходит в комнату Диди.
Диди. Сумасшедший! Что вы делаете? Доктор же велел вам лежать!
Кембл. Я… я не могу. Диди, я не спал всю ночь, я думал всю ночь, и сейчас тоже думал…
Диди. Ну? И что же?
Кембл (стоит твердо, башней расставив ноги). Диди, вы должны быть моей женой.
Диди (хохочет). Должна? Вы так думаете? Ну, что же, если должна, ничего не поделаешь! Только пойдите, ради Бога, и лежите спокойно.
Стук в дверь.
Ну, вот видите, вы не дали мне одеться! (Идет к двери.) Кто там?
О'Келли (за дверью). Я.
Диди. Ах, это вы! Ну, скорей, скорей. Я так рада, вам можно…
О'Келли (входит). Бомба! Бомба!
Кембл. Бомба? Анархист? Есть убитые?
О'Келли (серьезно). Да, убит весь приход Сент-Инох.
Кембл (изумленно). Как? Весь приход? Сразу?
О'Келли. Да, сразу. Бомба невероятной силы брошена анархистом по имени Кембл.
Кембл. Кембл? (Морщит, трет лоб.) Но, сколько я знаю, наша фамилия…
О'Келли (умирает со смеху, Диди тоже). Ах, Кембл вы эдакий! Вы меня уморите! Вы неподражаемы! Когда же вы научитесь понимать шутки? Вот – бомба здесь, завернута в эту газету. (Подает Кемблу газету.)
Кембл (берет газету, разворачивает. Сморщив лоб). Здесь?
О'Келли. Да читайте же!
Кембл и Диди про себя читают.
Кембл (в отчаянии садится). Ужасно! Моя мать теперь… (Пауза.) Но это неточно: здесь говорится, что я был вынесен в бессознательном состоянии.
О'Келли. Если хотите точности, так, по-моему, вы были в бессознательном состоянии с самого начала, как только сели рядом с Диди.
Кембл вскакивает со стула, нагнув голову, как бык.
Диди (сажает его на стул). Ну, О'Келли, оставьте, слышите? Кембл, миленький, не надо… (Стоит около, прижимает к себе его голову.) Не надо… ну?
О'Келли. Вот как? Фью! Дидичка, берегитесь! Если вы в шутку, то знайте, что он не будет шутить; если же вы всерьез, то знайте, что я буду шутить, а это может быть…
Диди. Да оставьте же! Надо его скорей устроить. Ведь вы же понимаете? Домой он не может… Вот что: подите с Кемблом к Нанси: может быть, она согласится переехать вниз, и тогда Кембл может в комнате рядом со мной…
О'Келли. Диди, я жалею, что это не меня избил Смис. Уважаемый анархист Кембл, идем.
Уходят. Диди начинает причесываться. Стук в дверь.
Диди (назад через плечо). Нанси? Войдите, дверь не заперта.
Входит викарий Дьюли. Диди – движение к ширмам, затем навстречу к викарию.
Вик. Дьюли. Ах! (Пятится.)
Диди. Нет, пожалуйста, пожалуйста!
Вик. Дьюли (брови треугольником вверх: негодование). Чрезвычайно извиняюсь! Я полагал, что раз уже больше двенадцати, когда уже все… уважающие себя… (Берется за ручку двери, но за ту же ручку берется Диди, закрывает дверь.)
Диди. Ради Бога, не стесняйтесь! Садитесь, прошу вас. Это – мой обыкновенный утренний костюм, и не правда ли: очень милый фасон? Я много о вас слышала, я очень рада, что вы…
Вик. Дьюли (садится; старается не смотреть на утренний костюм Диди). Видите ли… Мисс… гм… Диди… Я пришел к вам по поручению одной несчастной матери. Вы, конечно, не знаете, что значит иметь дитя…
Диди. О, м-р Дьюли, вы ошибаетесь, у меня есть…
Вик. Дьюли (изумленно). У вас есть?..
Диди (берет мопса Джонни, подносит к самому лицу викария). Вот мой единственный Джонни, и я его страшно люблю. Не правда ли, какой очаровательный? У-у, Джонни, улыбнись ему! Поцелуй м-ра Дьюли, не бойся, Джонни, не бойся! (Быстро прикладывает Джонни к губам викария; викарий машинально громко чмокает морду Джонни; Диди в восторге.) Ну какой вы милый, м-р Дьюли! Я так и думала!
Вик. Дьюли (вскакивает). Я зайду к вам, мисс… миссис, когда вы будете не так весело настроены. Я вовсе не расположен…
Диди. О, м-р Дьюли, к несчастью, я, кажется, всегда весело настроена.
Вик. Дьюли (поворачивается к двери). В таком случае…
Диди. Нет, нет, не уходите. Я уверена, что м-р Кембл будет очень жалеть, если вы уйдете. Я сейчас его позову. (Выходит.)
Викарий ходит взад и вперед с заложенными на спине руками. Подняв брови, останавливается перед афишей, брошенным платьем Диди, кроватью – ужасно! За дверью – голос, хохот О'Келли. Входит Кембл.
Вик. Дьюли (патетически). И это вы, вы, Кембл?
Кембл (с недоумением, морща лоб). То есть? Ну да, я.
Вик. Дьюли (все так же). Я не узнаю вас!
Кембл. Как? Разве я… (Ощупывает воротничок, поправляет галстук.) Вы хотите сказать, что я утром – в вечернем костюме. Да. Но видите ли…
Вик. Дьюли. Нет, дорогой Кембл, я говорю не о вашем бренном теле, я имею в виду вашу бессмертную душу. Хотя, разумеется, и ваш костюм… Это есть зеркало души, да. Вы понимаете теперь, насколько я был прав в моем «Завете Принудительного Спасения»? Вы представляете себе – хоть на минуту – меня в вашем теперешнем положении?
Кембл (мрачно). Нет.
Вик. Дьюли (торжествуя). Ага, нет! А между тем я такой же человек, как и вы… Ну, скажем, почти такой же – вы согласны?
Кембл. Согласен.
Вик. Дьюли. Да, и это благодаря тому, что я с неуклонной точностью… Впрочем, оставим мою… гм… скромную особу. В данный момент в обсуждении – и я скажу прямо: в осуждении – нуждаетесь вы. Вы согласны?
Кембл. Да, согласен.
Вик. Дьюли. Я так и думал. Я полагаю, что умею читать в сердцах, и я знаю, что вы в глубине сердца… Кембл, вы понимаете, что ваше имя – имя, которое носил достопочтенный сэр Гаральд. Это имя – на эстраде, в уличной газете, брошенное под ноги толпы… Это… это подобно троекратному отречению апостола Петра! Это подобно грехопадению Адама! (Библейски.) И Адам был изгнан из рая. И вы будете изгнаны из рая… Я хочу сказать, что мы будем вынуждены исключить вас из Общества Почетных Звонарей, куда мы так недавно еще вас выбрали.
Кембл (уныло). Да.
Вик. Дьюли. Потому что вы, как и Адам, поддались соблазну некоей Евы. Но Адам и Ева были… гм… так сказать, люди одного круга. А вы – и танцовщица из «Эмпайра»! О-о! Вы согласны?
Кембл (уныло). Да.
Вик. Дьюли. И вдобавок эта ваша Ева разгуливает здесь при мне в одной пижаме!
Кембл (начиная сердиться). Но позвольте… простите! Как известно, Ева не носила даже и пижамы.
Вик. Дьюли. Как? Вы, с вашим трезвым умом, вы хотите защищать эту… разведенную жену, эту… Саломею? Блудницу?
Кембл (свирепо). М-р Дьюли, я не позволю, я не позволю никому говорить так о… о Диди, которую я просил быть моей женой.
Вик. Дьюли. Же… женой? (Остолбенел. Пауза. Оправившись.) Но ведь вы же все время соглашались со мной, м-р Кембл?
Кембл (мрачно). Да, соглашался.
Вик. Дьюли. Так где же у вас логика, м-р Кембл? (Торжествует.)
Кембл (сморщившись, трет лоб). Логика? (Вдруг, нагнув голову, как бык, идет прямо на викария.) Да, женой, моей женой! Да! И прошу, прошу вас немедленно оставить меня!
Вик. Дьюли (негодующе подняв брови). Ах, так? Хо-ро-шо! (Идет к дверям, останавливается – и торжественно.) Объявляю вас изгнанным из Общества Почетных Звонарей. Мы заставим вас понять, что… (Плечи, брови вверх.) Нет, женой эту…
Кембл. Вон! Сейчас же, сейчас же! Я вас… (Задыхаясь, медленно надвигается на викария.)
Диди (входит, в руках чулки, поделки, лиф). Кембл, вы с ума сошли, Кембл!
Кембл продолжает наступать.
Держите. (Бросает викарию чулки, подвязки.)…Да держите же вы! (Кидается к Кемблу, хватает его за руки.) Кембл, не смейте! Сейчас же ложитесь!
Вик. Дьюли (растерянно глядит на перекинутые через руку чулки и прочее). Простите… Послушайте… Будьте любезны, слышите?
Диди оборачивается, хохочет, от смеха – ни одного слова. Викарий величественно вытягивает руку с чулками.
Мне отмщение и аз воздам! (Бросает чулки и все остальное на пол, уходит.)
Занавес
Действие третье
Картина 1
После поднятия первого занавеса остается спущенным второй: улица. Бобби-статуй на своем месте. Слева – с делано-небрежным видом появляется новый Арсэн Люпэн – м-р Мак-Интош. Проходит за спиною Бобби, останавливается перед вывеской м-с Аунти, глазеет наверх, посвистывает, искоса поглядывая на Бобби. Бобби подозрительно смотрит на Мак-Интоша, затем снимается с якоря и делает несколько шагов по направлению к нему. Мак-Интош, стараясь сохранить небрежный вид, торопливо уходит вправо.
Бобби. Мистер… эй, мистер!
Уходит следом за Мак-Интошем.[26] Поднимается второй занавес. Открывается комната Диди. На полу – солнце; часа четыре; жара, Кембл – за столиком, перебирает бумаги, пишет. Диди лежит на диванчике с книгой, неторопливо перелистывает, бросает книгу на диванчик.
Диди. Кембл, подите сюда.
Кембл подходит.
Сядьте.
Кембл поворачивается, чтобы взять стул.
Нет, сюда, на диван. Ну? Я могу подвинуться.
Кембл садится на самый край.
Что же вы молчите? Расскажите мне что-нибудь.
Кембл (сморщившись, мучительно трет лоб. Вдруг расплылся блаженно). Я, знаете, утюг… то есть я видел утюг нынче утром, в магазине на Кинг-Стрит. Понимаете: вот такой вот – электрический утюг – и всего только десять шиллингов.
Диди (рассеянно). Да?
Кембл (помолчав, с блаженной улыбкой). Знаете, Диди, я полагаю, мы могли бы понемногу покупать кое-что для… для нашего будущего дома. Я полагаю, месяца через три у меня будет достаточно денег, чтобы купить мебель, – следовательно, тогда мы могли бы уже… Тогда мы сможем обвенчаться, да. Знаете, Диди, я хотел вас спросить…
Диди (перебивает). Жарко! Я не могу… (Расстегивает одну, другую пуговицу блузы, раскрывает ее.)
Кембл, взглянув искоса, отворачивается, смотрит себе под ноги.
Кембл, миленький…
Кембл (не меняя позы). Да?
Диди. Кембл… Я, кажется, больна.
Кембл (испуганно). Но, Диди, как же? Ведь мы же хотели сегодня вечером отпраздновать нашу помолвку, вы не должны…
Диди. Ну, чем же я виновата, раз я больна или что-то такое… Вот попробуйте: у меня жар… (Берет его руку, кладет себе под блузу.) Да нет! Глубже, вот сюда… (Закрывает глаза.) Ну… ну?
Кембл (все так же глядя себе под ноги, вытаскивает руку). Д-да, кажется, есть жар… небольшой. Это – ничего, я полагаю, это просто от погоды, так как действительно сегодня очень жарко.
Молчит. Диди, изогнувшись, касается его телом. Он сидит по-прежнему.
Диди (сердито). Уйдите!
Кембл встает.
Постойте! Отворите окно!
Кембл (робко). Но, Диди, может быть… окно… Ведь вы же больны…
Диди. А я вам говорю: отворите! Мне жарко.
Кембл открывает окно, подходит к камину, рассеянно берет в руки фарфорового мопса Джонни.
Нет, уж пожалуйста, уж пожалуйста оставьте!
Кембл ставит мопса на место.
Нет, дайте его мне, дайте сюда. Ну?
Кембл приносит мопса, садится опять за бумаги. Диди целует мопса, обнимает, прикладывает его губы к своей груди.
Джонни, миленький мой Джонни! Поцелуй меня, Джонни… Так! Крепче, ну, слышишь? Еще крепче. Так! Еще! Еще!
Стук в дверь.
Кембл (встает, опасливо смотрит на Диди). Мм… да, можно.
О'Келли (входит). Дорогие мои дети, если вы заняты… э-э-э… многоточиями из расписания м-ра Дьюли, то я могу уйти. Ах, нет, вас тут трое! Я и не заметил Джонни… Глубокоуважаемый Джонни, как вы себя чувствуете? Впрочем, конечно же, превосходно. Я ему завидую, честное слово! Кембл, учитесь: смотрите, как он уютно устроился. А вы… ах, Кембл вы эдакий! Что вы там делаете? (Берет листок со стола у Кембла.) Двадцать плюс десять… плюс пятнадцать… Что это? Изучаете арифметику?
Кембл (серьезно). О, нет, арифметику я сдал в колледже. А это… (Сконфуженно.) Видите ли… двадцать фунтов у меня уже есть… и я считаю, сколько еще нужно, чтобы купить стулья и прочую мебель и… А затем…
О'Келли. А затем уж от мебели до любви один шаг. Понимаю! А без мебели, конечно, никак нельзя?
Кембл (серьезно). Ну да, конечно, нельзя.
О'Келли хохочет.
(Сердито.) Не вижу здесь ничего смешного, абсолютно ничего! Все это совершенно логично: я хочу устроить свой дом, следовательно…
О'Келли. Ну, голубчик Кембл, логику надо уметь оседлать, как лошадь. А у вас наоборот: логика на вас верхом, как на лошади.
Кембл. Не понимаю.
О'Келли. Что делать! (Идет к Диди, садится на диван к ней, близко.) Дидичка, милая, а вы что нахохлились?
Диди. Я больна. Оставьте!
О'Келли (смотрит внимательно. Диди торопливо застегивает блузу). Гм… так! Вижу, вижу… Погода, действительно, такая, что… А вы, Кембл! Ай-ай-ай!
Кембл. Что?
О'Келли. Вы не видите? Диди больна, ее надо лечить.
Кембл. Я, право, не думал… я могу пойти за доктором.
Диди. Замолчите, О'Келли! Мне вовсе не до ваших шуток.
О'Келли. Конечно, дело очень серьезное… Если уж дошло до Джонни… Дайте-ка его мне. (Берет мопса, смотрит на него.) Ну, что за морда! До чего он похож на меня! Знаете, Диди: глядя на него, я мог бы, пожалуй, бриться без зеркала.
Диди (не выдержав, хохочет). Слушайте, это вы сами придумали? Это замечательно! (Привстав, смотрит на О'Келли, хохочет.) А ведь верно: ей-Богу, вы на него похожи. Нос, рот и вот тут – морщины такие же… У-у, Джонни! (Вытягивает губы.)
О'Келли. Это вы мне? Только имейте в виду, что я менее фарфоров, чем Джонни… и чем Кембл…
Стук в дверь.
М-с Аунти (просовывается в дверь, обводит любопытным взглядом). М-р Кембл, можно вас на минуточку? Вы вчера просили стол к себе в комнату. Так вот, принесли. (Уходит вместе с Кемблом.)
Диди (держит мопса рядом с лицом О'Келли и, откинувшись на диван, опять смеется). Знаете, как я сегодня ночью смеялась! Проснулась – лежу и смеюсь. Понимаете, вижу во сне…
О'Келли. Слушайте, слушайте! Сон в летнюю ночь невесты м-ра Кембла, будущей леди Кембл.
Диди. Да замолчите! Вижу, будто бы стул, ну вот самый обыкновенный деревянный стул лезет ко мне в кровать… Ну до того ясно! Понимаете, передвигает ножками, как лошадь: правой передней – левой задней, правой задней – левой передней. И будто я знаю, что вот сейчас этот стул будет… ну… ну… любить меня. То есть не можете себе представить, до чего неудобно, смешно…
О'Келли. Воображаю! Вы рассказали этот сон Кемблу?
Диди. Кемблу? Нет.
О'Келли. Напрасно.
Диди. То есть?
О'Келли. Он мог бы быть доволен.
Диди. Почему?
О'Келли. Ну, потому что, конечно же, это вы видели во сне его, Кембла.
Диди (хохочет; потом вдруг нахмурившись). Послушайте, не смейте так говорить о Кембле. Он – удивительный. Вы бы никогда не могли вот так – взять и выйти, как он, на боксе. Я вспоминаю это всякий раз, когда мне…
О'Келли (с усмешкой). Когда вам… Ну, что же, кончайте.
Диди. Не хочу. И, пожалуйста, не приставайте!
Гладит Джонни, прижимает к груди, целует, не глядя на О'Келли. О'Келли молча, улыбаясь, как мопс, смотрит на нее.
О'Келли. А знаете что, милая моя детка? Диди. Да?
О'Келли. Умнее всего вам перестать любоваться, как в этой комнате разгуливает деревянный стул, и поехать ко мне. А? (Берет ее за руку, стискивает.) Я куплю шампанского, сухого, какое вы любите, соленых фисташек… Мой диван – вы его помните? Диди, я не забыл ничего, я не могу забыть…
Диди (выдергивает руку, вскакивает). Слушайте, уходите сейчас же! Уходите! Ну?
О'Келли (продолжает сидеть). Раньше вы говорили со мною по-другому.
Диди. А теперь… (Вскакивает.) Слушайте, неужели вы не понимаете, что я не могла бы взглянуть ему… Зачем вам надо, чтобы он был несчастен?
О'Келли. Девочка моя, мне надо, чтобы вы были несчастны.
Диди. Чтобы я?..
О'Келли. Да. Потому что такое меблированное счастье – одно из наиболее жирообразующих обстоятельств. Это вернейший способ приготовлять из людей первосортную ветчину. А я не хочу, чтобы вы, как тысячи других…
Диди. Нет, как вы не понимаете, что именно его, именно Кембла, обманывать – это жестоко! Как вы не понимаете? Он – большое дитя.
О'Келли. Вы ошибаетесь: было бы жестоко и немилосердно детям говорить правду.
Диди. Я не хочу слушать этих ваших адвокатских штучек! Уходите! Слышите?
О'Келли (встает). Хорошо. Я иду… покупать шампанское. (Уходит.)
Диди рассерженно захлопывает за ним дверь. Снимает с дивана мопса, ставит его на камин, смотрит, поворачивает мордой к стене. Садится на диван, начинает читать. Бросает книгу, вскакивает, ходит по комнате. Схватывает со стола листок, где записаны расчеты Кембла; пробегает, кладет обратно. Задела стул – стул падает. Диди берет его за ножки, смотрит, – вспомнила, смеется. Подходит к мопсу, переворачивает его мордой к себе.
Диди (мопсу). Джонни, миленький… А ты не рассердишься, если я… если я все-таки пойду? Ну, разве я виновата, что я еще живая? Скажи, Джонни, я очень гадкая? (Пауза). Нет? Ну, Джонни, миленький, какой ты умный! (Ставит мопса, быстро начинает надевать перед зеркалом шляпу.)
Кембл (входит). Как? Вы куда-то..?
Диди (не глядя). Я хочу пройтись немного.
Кембл. Но… вы же больны?
Диди. Пустяки! Просто… головная боль… и я думаю, она совсем пройдет, когда я… (Останавливается.)
Кембл (покорно). Хорошо. Я буду ждать вас. Когда вы вернетесь, мы с вами приготовим все к вечеру.
Диди (идет; у порога вдруг оборачивается, колеблется). Кембл, а может быть, правда, мне лучше остаться?
Кембл. Если головная боль, то самое лучшее средство – конечно, прогулка. Следовательно, вам надо идти.
Диди (усмехается). Следовательно? Ну, хорошо!
Перекидывает через руку ватерпруф и уходит. Кембл один. Садится за стол, начинает разбирать бумаги.
Улица. Бобби стоит статуей на своем месте. Из-за угла выходит миссисДьюли, осматривается. Сняла пенсне, вытирает платком, надела. Глядит на часы-браслет. К ней бежит Мак-Интош; запыхался, обмахивается шляпой.
Мак-Интош (в восторге). Слава Богу. Ну, слава Богу, слава Богу! Уф!
М-с Дьюли. Да говорите же! Что – слава богу?
Мак-Интош. Она, эта самая Диди, сейчас у О'Келли. Уф! Слава Богу! Она пешком – я пешком, она на трамвае – я на трамвае… Уф! Понимаете – в точности, как Арсэн Люпэн. Это все равно, что, так сказать, читать про самого себя в различных происшествиях. Нет, это у-ди-вительно!
М-с Дьюли. Слушайте, вы… вы уверены? Вы не могли спутать ее с другой женщиной?
Мак-Интош. Ее? Боже ты мой? Ее с другой? Что вы! Да на нее только взглянуть – и, так сказать, полнейшее кораблекрушение. Будь я Кемблом, я бы тоже всякую другую… (Останавливается.)
М-с Дьюли. Что – всякую другую?
Мак-Интош (пытается улизнуть). Простите… я должен, я должен скорее пойти, доложить обо всем викарию… я должен…
М-с Дьюли. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Что вы думали сказать?
Мак-Интош. Я… я не думал… Я так, наспех, не могу думать. Я всегда сперва говорю, а уже потом не торопясь думаю… Простите, я должен… (Хочет уйти.)
М-с Дьюли. Постойте. (Несколько секунд стоит, стиснув губы, руки. Вдруг что-то решила.) Слушайте, у вас нет бумаги и конверта?
Мак-Интош. Написать письмо? Есть, пожалуйста. (Вынимает ярко-розовый конверт.)
М-с Дьюли. Что за ужасный цвет!
Мак-Интош. Дорогая м-с Дьюли, эта бумага, так сказать, в соответствии с погодой и с миросозерцанием… и я полагал бы… (Заглядывает через плечо м-с Дьюли, которая начинает писать.)
М-с Дьюли (гневно). Да уходите же вы. Вы же торопитесь к викарию? Ну, уходите!
Мак-Интош. Ухожу, ухожу. (Уходит.)
М-с Аунти (сперва подходит к Бобби). М-р Вуп!
Бобби. Да?
М-с Аунти. М-р Вуп, я не могу, я совсем больна – такая погода! (Томно.) М-р Вуп, вы не знаете, что со мной? (Бобби, закрывшись, слегка фыркает.)
М-с Дьюли (подходит к Бобби). Могу я у вас на минуту попросить вашу книжку? Мне написать письмо надо, что-нибудь такое, на чем бы…
Бобби (вытаскивает из-за пояса записную книжку). Пожалуйста, мисс… миссис…
М-с Дьюли возвращается на прежнее место, пишет. М-с Аунти провожает ее критическим взором. По улице проходит Мастер. Идет медленно, возле стены, почти крадется, Бобби отдает ему честь, Мастер приподнимает шляпу.
М-с Аунти (кивая головой в сторону м-с Дьюли). На розовой бумаге… Любовное – даю голову на отсечение!
Бобби. М-с Аунти, слава Богу у нас, в Англии, головы не отсекают: у нас (сдавливает себе горло рукой)…и – куик!
Довольный остротой, гогочет. Мастер проходит мимо м-с Дьюли, которая в этот момент заклеивает конверт, и приподнимает шляпу. М-с Дьюли широко смотрит на него. Подходит к Бобби.
М-с Дьюли. Послушайте, кто этот джентльмен?
Бобби (сдавливает себе горло и досказывает жестом). Куик!
М-с Дьюли смотрит испуганно.
Бобби. Это – Мастер.
М-с Дьюли. Мастер?
Бобби. Ну да, он приводит в исполнение судебные приговоры.
М-с Дьюли. Вы хотите сказать, что это… Но почему же он поклонился мне?
Бобби (в недоумении). Гм… (Таращит глаза на м-с Аунти, на м-с Дьюли.) Я полагаю, спутал с кем-нибудь.
М-с Дьюли (сняла пенсне, протирает, рука у нее дрожит. Отдает Бобби записную книжку). Благодарю вас. (Идет вправо к почтовому ящику. Секунду колеблется, потом бросает в ящик письмо. Уходит.)
М-с Аунти (обмахивается платком). М-р Вуп!
Бобби. Да?
М-с Аунти. М-р Вуп, я прямо задыхаюсь. Неужели вы не можете помочь мне?
Бобби. Подождите до вечера… или до ночи. (Фыркает слегка.)
М-с Аунти. Я не выдержу – такая духота! Я уверена, будет гроза? Смотрите-ка.
Оба смотрят вверх. Темнеет. Рампа тухнет.
Картина 3
Комната Диди. Темно. Входит Диди, повертывает выключатель, комната освещается. Диди в шляпе, в перчатках, в ватерпруфе, не раздеваясь, садится на диван. Руки висят, как чужие. Стук в дверь – входит Кембл, в руках у него сверток.
Кембл. Вот. (Торжественно кладет сверток на стол перед диваном.) Я услышал ваши шаги – и сейчас же, чтобы скорее… Это вам от меня. Вы увидите, это замечательно.
Диди (мертво). Да? Спасибо.
Кембл (тревожно). Диди, милая, вам хуже? Я говорил, что вам не надо было выходить, раз вы не совсем здоровы.
Диди (пересилив себя, с искусственным оживлением). О, нет! После… после прогулки я чувствую себя гораздо лучше. Чуть-чуть устала, это сейчас пройдет. (Развязывает принесенный Кемблом сверток, вынимает электрический утюг.) Ну, какая прелесть! Это – тот самый, о каком вы говорили утром?
Кембл (торжествуя). Ну да. И всего только – десять шиллингов.
Диди. Неужели? Спасибо вам, милый Кембл. (Протягивает ему руку, Кембл целует. Диди быстро отдергивает руку.) Да! Ведь надо же скорей накрывать стол, сейчас придут. Поставьте это куда-нибудь.
Кембл берет утюг и ходит с ним по комнате, не зная, куда девать эту драгоценность, и, наконец, ставит на камин. Диди из сложенных на диване пакетов вынимает фрукты, бутылки с вином, коробки, расставляет на столе. Стук в дверь.
Кембл. Войдите.
М-с Аунти (входит). Добрый вечер! М-р Кембл, вам письмо. (В руке у нее ярко-розовый конверт.)
Кембл. Благодарю вас. Будьте добры, куда-нибудь… вот там на камине, да-да.
М-с Аунти (кладет письмо на камин, под утюг. Сложив на животе руки, глядит на Кембла и Диди, вздыхает). Поздравляю вас, мисс. И вас, м-р Кембл… Прямо завидно! (Вздыхает.)
Кембл (сияя). Спасибо, м-с Аунти, спасибо.
М-с Аунти уходит, в дверях встречается с О'Келли.
О'Келли. А, м-с Аунти! (Снимает пальто.) Хэл-ло, Диди! Ну, знаете какой ливень! Все стихии разыгрались, чтобы помешать апофеозу м-ра Кембла. И если еще я присоединюсь к этим стихиям…
Кембл. То есть как?
О'Келли. Успокойтесь! Может быть, я еще передумаю и буду для вас благодетельной диккенсовской феей… (Вынимает из кармана пальто и ставит на стол перед Диди бутьтку шампанского.) Это вам, Диди. Сухое.
Диди (гневно). Вы… вы не должны были этого делать! Возьмите, возьмите сейчас же!
О'Келли. Почему? Это – отличная марка. Я же знаю, я знаю, что вы это любите.
Диди. Я вам говорю, возьмите! Слышите?
Кембл (трет лоб). Диди, почему вы, в самом деле? Это – действительно очень хорошее шампанское. Следовательно…
Диди, сдвинув брови, сверкнув глазами в О'Келли, круто поворачивается, отходит к письменному столу. Взяла блокнот, стоит – сгибает и разгибает его.
О'Келли. Вот спасибо вам, Кембл. Я вижу, вы здесь мой единственный друг, не правда ли? Диди меня сегодня, кажется, ненавидит.
Кембл. О, нет, вы ошибаетесь, я уверен: у нее нет никаких причин. Так что…
За дверью шум, смех. Дверь распахивается. Эксцентрик катится колесом к Диди, становится перед ней на колени. За ним, умирая от хохота, входят три Хористки из «Эмпайра».
Эксцентрик. Божественная, я последний раз у ваших ног. Отныне патент на вас взят им (покрывает на Кембла) и я чувствую: всякого беспатентного он может убить.
1-я Хористка. У-у, Кембл! Неужели вы правда такой?
Кембл (трет лоб). То есть… какой? Я не совсем ясно…
2-я Хористка (обнимает Диди). Поздравляю. Я страшно рада!
3-я Хористка (обнимает). Я тоже. Дидичка, милая, вы счастливы?
Диди (думает о своем, сгибает и разгибает блокнот; наконец, услышала, удивленно поднимает голову). Я? Это вы мне? Ах, да, конечно, счастлива.
1-я Хористка. Дождь! Кембл, попробуйте: у меня, кажется, чулки мокрые, и даже…
Кембл (с опаской трогает чулок). Да, по-видимому, дождь.
О'Келли (подошел к камину, поднял утюг, смотрит на розовое письмо). Стоп-стоп-стоп! Кембл, это что такое!
Кембл (с гордостью). Это я подарил сегодня Диди. Электрический. И всего только десять шиллингов.
О'Келли. Нет-нет, дорогой мой, я не про утюг. (Берет письмо.) Вот это, вот это! любовное письмо, а?
Хористки. Кембл, Кембл! – Ай-яй-ай-яй-ай!
Кембл. О, нет, я уверен! И потом, м-р О'Келли, ведь вы же не читали. Следовательно…
О'Келли. И читать не надо. Вы что же думаете – деловое? В этаком неистовом конверте? (Потрясает конвертом.) Леди и джентльмены, вам предстоит увидеть трагедию: в тот самый момент, когда уже готовы были слиться два любящих сердца, вмешивается покинутая, пылающая местью соперница. Нагруженный электрическими утюгами, корабль счастья м-ра Кембла опрокидывается и…
Стук в дверь. Входит Нанси, закутанная в купальную простыню.
Нанси. Добрый вечер. (К Диди.) Милая, я только на секунду. Скажите своим мужчинам, чтобы они не выходили в коридор, потому что я иду в ванну, и они меня могут увидеть в этом костюме.
О'Келли (трясется от хохота). И чтобы… и чтобы мы не увидели вас в этом костюме… Нанси, неподражаемая, вы не уйдете отсюда: мы вас все равно уже увидели, а вы, надеюсь, увидели шампанское на столе.
Нанси. Не могу же я в этом костюме сесть за стол!
О'Келли. Хорошо, тогда садитесь на пол, мы устроим пикник. (На ходу засовывает в карман письмо.) Ну, господа, помогайте, живо!
Бросает на зеленый ковер салфетки, ставит туда цветы с камина. Эксцентрик и Хористки помогают. Кембл трет лоб, смотрит на Диди.
Нанси. Ну, если на травке, я, так и быть, согласна. Только перед купаньем мне вредно лежать на солнце. Устройте меня где-нибудь в тени.
О'Келли. Идет! Сию минуту перед вами вырастет первосортный дуб. Кембл!
Хористки и Нанси, отвернувшись от Кембла, смеются.
Кембл (растерянно). Что? Сию минуту… (Идет к Диди.) Диди, милая, может быть, вы в самом деле думаете, что это письмо, которое О'Келли… что я…
Диди (с усмешкой). Вы? Ни одной минуты не думаю.
Кембл. Тогда почему же вы так… Это, в самом деле, из-за О'Келли?
Диди кивает.
Но уверяю вас, вы несправедливы к нему. Я нахожу, что по отношению к вам он не сделал ничего дурного. Следовательно…
Диди. Следовательно? А если я скажу вам, что… Кембл. Что?
О'Келли. Кембл, да подумайте же о других! Поделитесь с нами вашей Диди последний раз. Идите же, мы ждем.
Диди, все так же терзая блокнот, и Кембл подходят, устраиваются на ковре.
Милая Диди, выпьем с вами. Право же, я виноват не больше, чем этот бокал, из которого вы пьете. Если бы вы не взяли этого бокала, все равно вы взяли бы другой.
Диди (не отвечая, поворачивается к Кемблу, отдает свой бокал). Дайте мне ваш. (Выпивает залпом, подставляет Кемблу.) Еще.
Нанси. Тц! Что, О'Келли?
О'Келли. Нанси, надеюсь, вы не будете так жестоки со мной? (Чокается с ней, обнявши ее одной рукой, пьет.)
Нанси (вытаскивает у него из кармана розовый конверт). Кембл, держите, держите, скорей!
Кембл протягивает руку. О'Келли перехватывает.
О'Келли. Не-ет! Это мы огласим торжественно за шампанским. Я буду иметь честь поднести м-ру Кемблу от себя некоторый подарок, а в виде перца посыплем его этим письмом.
Диди, лежа, рвет на клочки листок бумаги из блокнота, сыплет клочки, смотрит, как они падают. Кембл не спускает с нее глаз. О'Келли подталкивает Эксцентрика к Кемблу.
Эксцентрик (жонглирует апельсинами над Кемблом). Какие-то… таинственные письма… Диди явно… готовится на амплуа… драматической героини… Вообще, м-р Кембл… вас ожидает… (Роняет на голову Кемблу апельсин.) М-р Кембл, ради Бога!
Кембл. Нет-нет, мне совсем не больно.
О'Келли. М-р Эксцентрик, вы помешали ему витать в облаках. Я считаю себя обязанным поправить эту ошибку… (Шепчет ему что-то на ухо.)
Эксцентрик (вскакивает). Да-да-да, знаю! Превосходно.
О'Келли. Леди и джентльмены! Сейчас м-р Кембл предпринимает путешествие в облака.
Кембл. То есть как?
О'Келли. Как? Ну, разумеется, на аэроплане. Хотите?
Хористки. А, знаем, знаем! Да-да, непременно! (Аплодируют.)
Кембл. На аэроплане – это невозможно здесь. Следовательно…
Нанси. Кембл, вы, вы боитесь? Не ожидала!
Кембл. Я? Нет, но…
О'Келли. А если нет, пожалуйста, мы вам завяжем глаза. (Завязывает Кемблу глаза.) Вот! Теперь встаньте. Минуточку – сейчас подадут аэроплан. (Сует поднос Эксцентрику, шепчет что-то 2-й и 3-й Хористкам.) Сейчас, сейчас, соберитесь с духом. (Кладет на пол пустую бутылку, на нее доску, на доску вводит Кембла.) Осторожней. Вам придется лететь стоя – покажите себя мужчиной. Вы можете опереться руками на мои плечи, – вы знаете, я всегда готов помочь вам. Так!
Эксцентрик включает электрический вентилятор, он начинает жужжать. 2-я и 3-я Хористки берутся за края доски.
Дайте ход! Пошло, пошло… Ага! (Постепенно приседает на корточки.) Вы чувствуете, как вы поднимаетесь? (2-я и 3-я Хористки покачивают и чуть-чуть поднимают доску.) Чувствуете? Все выше, чувствуете?
Кембл. Да, странно… да, чувствую… все выше… Постойте, постойте!
Все, кроме Диди, еле сдерживают смех.
Эксцентрик. Легче! Не забирайте высоко!
1-я Хористка стоит на стуле над Кемблом и держит у него над головой поднос.
Тише! Вы с ума сошли? Потолок!
3-я Хористка касается подносом головы Кембла, Кембл хватается за голову.
Кембл, спасайтесь, прыгайте!
Все (кроме Диди). Прыгайте, прыгайте!
Кембл прыгает, будто с саженной высоты, неуклюже падает, срывает с себя повязку, растерянно смотрит. Хохот.
Диди. Это… это… Я сейчас уйду! О'Келли, вы…
Кембл. Диди, дорогая, но право же, я совсем не ушибся. Следовательно…
Нанси (удерживает Диди). Диди, милая…
О'Келли (на коленж). Диди, я раскаиваюсь. (Стучит по бокалу.) Леди и джентльмены, тише: я хочу принести публичное покаяние. М-р Эксцентрик, пожалуйста! (Показывает ему на шампанское, тот начинает наливать.)
Диди (ей налит бокал, она поднимает голову). Это… это шампанское?
Берет бокал, смотрит на О'Келли. Несколько секунд пауза: может быть, она выплеснет вино, может быть, швырнет бокалом в О'Келли. О'Келли пристально глядит на Диди. Рука у нее дрожит, она ставит бокал, хватает и комкает блокнот.
О'Келли (берет у ней блокнот). Леди и джентльмены, внимание! (Вынимает из кармана розовый конверт и еще какой-то листок.) Сейчас – самый захватывающий и патетический момент.
Эксцентрик. А-а, письмо! Наконец!
Все. Ч-ш-ш-ш!
О'Келли. Для начала… Ммм… Впрочем, мы, адвокаты, умеем начать с чего угодно. Если хотите, вот с этого блокнота. Обращаю ваше внимание на то, что эта почтовая бумага – с линейками: на другой истинные джесмондцы не пишут. И это достойно всякого уважения, ибо линейки – высокий символ рельс, а мысль должна двигаться, конечно, по рельсам и, конечно, согласно строжайшему расписанию викария Дьюли. И я – каюсь в этом – именно я, а не кто другой, был змием, соблазнившим Кембла сойти с рельс прихода Сент-Инох. Именно я познакомил его с нашей божественной Диди. А потому и почитаю себя обязанным возместить потерпевшему убытки. Правда, может быть, в конце концов потерпевшим буду я, но это неважно: это лирическое отступление. Итак, дражайший Кембл, мои вам почтительнейшие поздравления и – вот (протягивает ему чек), чтобы вы завтра же могли купить все свои остальные утюги…
Все (кроме Диди). О-о! – Браво, браво, О'Келли! – Ну, какой он милый!
Кембл (взял чек, смотрит). Но… позвольте, О'Келли… Это… это же – чек на пятьдесят… на пятьдесят фунтов. Я… я не могу это принять в подарок…
О'Келли. В подарок? Вы ошибаетесь. Жестоко ошибаетесь, дорогой мой! Это, разумеется, взаймы. И я требую, чтобы вы сегодня же – сейчас же! – написали мне вексель. Я требую, да! Вот вам мое перо… (Подает ему fontain реп.) Пишите сию же минуту.
Кембл (взволнованно встает). Диди, но ведь тогда, значит… Диди, вы только подумайте! О'Келли, я не умею говорить, как вы… Но вы понимаете, я никогда… Нет, О'Келли, вы это серьезно? Диди!
Диди (во время этой сцены стоит на коленях, смотрит и начинает хохотать, все выше, до слез, и сквозь слезы кричит). Не смейте брать, Кембл! Не смейте брать у него деньги! Не смейте, я не хочу!
Кембл (растерянно). Диди, Диди, что с вами? Почему? Ну, хорошо, я ему отдам, хорошо… (Отдает чек О'Келли.) О'Келли, я ничего не понимаю… Почему?
Все вскакивают, какие-то восклицания. Окружают Диди.
О'Келли (сует Кемблу розовый конверт). Держите, да держите же, вы! (Подает Диди бокал шампанского.) Ну, Диди, Диди милая, не надо, я больше не буду, простите. Неужели вы не понимаете, что все это потому, что я вас… (Поит ее.) Диди, ну?
Диди затихает. Кембл, не отрывая глаз от Диди, машинально разрывает конверт, ищет, куда бы положить перо О'Келли, засовывает его в карман. Взглянув на письмо, вдруг крепко стискивает его обеими руками, отходит в сторону, к рампе, читает еще раз; мучительно сморщившись, трет лоб.
Нанси (Эксцентрику). Что тут такое? Ничего не понимаю! Комедия или драма? Кембл. О'Келли! О'Келли. Да.
Кембл. Мне необходимо… мне необходимо с вами… это касается вас.
О'Келли (подходит; взяв письмо, читает вполголоса). «Сэр. Будучи вашим искренним другом… мм… что известная миссис Д. им-р О'К…» Что? Что такое? (Продолжает.) «…дурно пользуются вашим доверием, и не дальше как сегодня…» (Кончает про себя.) Однако! (Пауза.) Ну… ну и что же? Вы верите?
Кембл молчит, мрачно трет лоб.
Кембл, давайте рассуждать логически. Этот чек, который я предложил вам… мне неловко напоминать об этом, но ведь ясно: я это сделал для того, чтобы вы и Диди могли скорее…
Кембл (перебивает). Да.
О'Келли. И потом: вы же заметили, как Диди относится ко мне? Да? Следовательно?
Кембл. Следовательно… (Трет лоб. Пауза.) Да, конечно. Это – совершенный абсурд. (Рвет письмо.) Простите, О'Келли, что я мог… Да, куда я девал ваше перо?
О'Келли. Если вы хотите доказать на деле, что не верите этому письму, вы возьмете у меня чек. Иначе я могу думать, что вы не взяли потому, что вы…
Кембл. Да. (Секунду колеблется.) Хорошо. Я возьму. (Берет чек.) Но если… (Молчит, нагнув голову, как бык.) Впрочем, нет, это абсурд. (Идет к Диди. Робко.) Диди, я взял у О'Келли этот чек. Я должен был взять.
Диди (вскакивает с дивана). Вы, вы, вы взяли у него?
О'Келли (подходит, пристально смотрит на Диди). Если у вас есть какие-нибудь возражения, изложите их.
Напряженная пауза. Диди встает, делает шаг вперед – сейчас скажет все.
Диди. Кембл, я… (Замолкает.) Нет.
О'Келли. Нет? Ну, вот и прекрасно. Тогда мы завтра же поведем вас в церковь. Леди и джентльмены, ваши бокалы! (Берут бокалы.) Здоровье нашей – я надеюсь, она все же останется нашей общей – здоровье нашей очаровательной леди Кембл! Гип-гип-гип, ура!
Все. Ура!
Занавес
Действие четвертое
Картина 1
Улица. Старые дома, стены уходят вверх, в небо. Между домами – узкое ущелье: старинный переулочек – «клёз» – идет в глубь сцены. Над входом в «клёз» – каменная арка от дома к дому, на ней вывеска: «О'Келли. Адвокат». Внизу под аркой висит железный резной фонарь. Вечер. Огни. Где-то вдали грохот колес по мостовой. На улице стоит Бобби. Медленно проходит Мастер, почти крадется, в надвинутой на глаза шляпе. Бобби почтительно уступает ему дорогу и отдает честь. Несколько секунд улица пуста – никого, кроме Бобби. Потом несколько одиночек-прохожих и викарий Дьюли. Бобби отдает ему честь с таким же почтением, как Мастеру. Викария обгоняет стая беловоротничковых мальчишек-газетчиков.
Газетчики. Два пенса. Экстренный выпуск! Возможность войны с немцами! Загадочное убийство! Два пенса!
Вик. Дьюли (газетчикам). Что? Эй, вы, экстренный!
Газетчики уже убежали. Вик. Дьюли возвращается назад, вынимает часы, осматривается, явно поджидая кого-то. Уходит в клёз. Улица пуста. Затем – двое: О'Келли и Диди.
Диди (останавливается). Нет!
О'Келли. Что – нет?
Диди. Я не хочу идти к вам! Вчера мы… венчались с ним, а сегодня… Я просто… я не понимаю себя!
О'Келли. Я понимаю. Хотите – скажу? Вы не хотите идти ко мне, но вам хочется идти ко мне. И вы хотите оставаться с Кемблом, но вам не хочется остаться с ним.
Диди. Да. Да! И главное – это потом, когда я возвращаюсь…
О'Келли. Не стоит думать о «потом». Это все равно, что заглядывать в конец пьесы или романа – дурная привычка, неинтересно читать. К счастью, автор, написавший всех нас – вас, меня и всех – предусмотрительно закрывает от нас все «потом». Иначе, если бы мы знали, что случится через десять минут…
Диди. Вы говорите так, как будто вы знаете.
О'Келли. К счастью, не знаю. Или нет, знаю: через десять минут у меня в комнате вы будете лежать на диване, а я стану около на колени и буду целовать вот эти… вот эти… возмутительные уголки ваших губ и буду тем О'Келли, которого знаете, может быть, только вы одна…
Диди. О'Келли – не… не надо…
О'Келли. Вот вам ключ – вы знаете, как открыть. Я только пойду купить кое-что, и сейчас же назад…
Дает ей ключ. Диди, нагнув голову, медленно идет в клёз. Под аркой открывает маленькую, старинную, окованную железом дверь, оглядывается. О'Келли еще стоит на углу, ждет – кивает ему. О'Келли уходит. Наверху, над аркой, в конторе О'Келли освещается окно. У выхода из клёза показывается викарий, смотрит вверх в окно, выходит на улицу, потирая руки. По улице мчатся беловоротничковые мальчишки, размахивая газетами, идут два Спортсмена.
Газетчики. Экстренный выпуск! Загадочное убийство в Лондоне! Скачки в Дерби! Два пенса!
1-й Спортсмен (Газетчикам). Мне.
2-й Спортсмен. И мне.
Торопливо ищут что-то в газете. Вик. Дьюли тоже купил газету и читает ее в стороне, под фонарем.
1-й Спортсмен. А что я вам говорил? Их фаворит, конечно, Ибис! Я уверен, он опять придет первым. Прошлый раз он повысил рекорд ровно на четверть секунды – мои часы показывают с точностью до четверти секунды.
2-й Спортсмен. А я готов держать пари, что на этот раз Ибис будет побит.
1-й Спортсмен. Идет! Пять фунтов.
2-й Спортсмен. Я готов. Хоть десять.
1-й Спортсмен. Десять. Ладно, держу десять.
Рукопожатие. Стоят так несколько секунд. Появляется О'Келли, насвистывая; под мышкой у него бутылка, в руках цветы. Вдруг видит викария, стоящего к нему спиной в двух шагах. Подняв воротник и нахлобучив шляпу, О'Келли поворачивается и торопливо уходит обратно. Викарий вынимает часы, смотрит, снова берется за газету, но читать уже не может; опять глядит на часы, идет к Бобби.
Вик. Дьюли. Э-э-э… послушайте: вы не можете мне сказать точно, который час?
Бобби. Прошу прощенья: мои часы в починке.
Вик. Дьюли. Гм… Очень жаль! И вы без часов, по-видимому, чувствуете себя вполне здоровым? Это не делает вам чести.
Бобби (виновато моргает). Я… действительно, извините, здоров.
Вик. Дьюли. Это выше моего понимания. Я допускаю, что можно привыкнуть к отсутствию какого-нибудь второстепенного органа – ноги, пальца, носа, но человек без часов! Вам необходимо приобрести запасные часы.
Бобби. Я… Я постараюсь, извините!
По улице быстро идут Мак-Интош и м-с Дьюли. Викарий навстречу к ним с часами в руках.
Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, десять минут одиннадцатого.
Мак-Интош. Дорогой викарий, ради Бога… Уфф! (Вытирает лицо платком.) Мы с м-с Дьюли летели, так сказать, на крыльях Морфея…
Вик. Дьюли. Вы хотите сказать, что вы спали?
Мак-Интош. Нет, наоборот, наоборот!
Вик. Дьюли. Не совсем представляю, что такое будет «наоборот». Но во всяком случае вам сейчас же опять придется лететь – на каких угодно крыльях – и немедля привести сюда м-ра Кембла.
М-с Дьюли (возбужденно). Вы… вы ее видели, эту женщину?
Вик. Дьюли. Да, она там (показывает на освещенное окно). И сейчас туда должен прийти О'Келли. От всемогущего провидения не укроется ничто.
Мак-Интош (в восторге). Замечательно! Завтра же начинаю писать серию: «Арсэн Люпэн – апостол». Так сказать, евангелие от Арсэна Люпэна…
Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, прошу вас, воздержитесь от неуместных метафор и идите скорей.
Мак-Интош. Понимаю. Так сказать, по писанию: «Что хочешь делать – делай скорей». Это пять минут. Два шага! Бегу!
Уходит. М-с Дьюли протирает платком пенсне, руки у нее дрожат. Викарий пристально смотрит.
Вик. Дьюли. Что с вами? Вы дрожите?
М-с Дьюли. Я… я волнуюсь. Вы не думаете, что может выйти что-нибудь… что-нибудь неприятное? Мне как-то жутко.
Вик. Дьюли. Но, дорогая, ведь тогда, на заседании, вы же настаивали, что м-ра Кембла нельзя оставить в руках этой женщины. Я вас не понимаю!
М-с Дьюли. Да, я. И именно поэтому мне…
Вик. Дьюли (перебывает). А затем, нашими руками уже зажжен фитиль возмездия, и теперь мы уже не в силах остановить взрыв.
М-с Дьюли. Быть может, еще не поздно, я могу догнать, я могу…
Вик. Дьюли. Тесс! Идет…
Увлекает ее в тень, за выступ дома. Выходит О'Келли, оглядывается и хочет юркнуть в клёз. Навстречу ему из тени, с видом прогуливающегося, викарий Дьюли.
Вик. Дьюли. А-а, добрый вечер, дорогой О'Келли! Не правда ли, прекрасная погода?
О'Келли (смущенно старается спрятать бутылку и цветы). Д-да… ммм… (Оправившись, обычным своим шепотом.) Очевидно, прекрасная, раз вы изволите гулять в неположенные по расписанию часы. Или, может быть, вы занимаетесь посещением больных?
Вик. Дьюли (с злобно-любезной, золотой улыбкой). Я очень польщен; вы, по-видимому, никак не можете забыть моих расписаний. А вы – к себе в контору? Я и не подозревал, что вы такой труженик! Вам следовало бы щадить себя и не работать по вечерам.
О'Келли. О, нет, дорогой м-р Дьюли, по вечерам я занимаюсь делами милосердия и… и любви. Вне расписаний.
Вик. Дьюли. А-а, так-так… Желаю успеха!
Приподняв шляпу, уходит. О'Келли глядит ему вслед. Снимает шляпу, почесывает затылок. Затем, махнув рукой, ныряет в клёз, открывает ключом дверь; слышно, как изнутри запирает ее. По улице быстро идут Мак-Интош и Кембл. М-с Дьюли, завидев их, еще больше втискивается в свой угол – если бы только можно было войти в камень!
Мак-Интош. Никого… Где же они? М-р Дьюли! М-р Дьюли!
Кембл стоит без шляпы, мучительно трет лоб. Бобби поворачивается, внимательно приглядывается к этому джентльмену без шляпы. Справа показывается викарийДьюли.
Вик. Дьюли. А-а, м-р Кембл!
Кембл (нагнув по-бычьи голову, тяжело подходит к викарию). Это… Это правда? (Хватает его за руку.)
Вик. Дьюли. Послушайте, вы… вы делаете мне больно, оставьте! Оставьте же!
Кембл (не отпуская викария). Я вас ссспраши-ваю – это правда?
Вик. Дьюли. Что правда?
Кембл. Она – здесь?
Вик. Дьюли. Вы, кажется, считаете меня, служителя церкви, способным на низкие поступки, на ложь? Вы сейчас увидите все сами.
Кембл (отпускает его руку. Трет лоб и все лицо, как бы смахивает невидимых пчел. Потом ощупывает карманы, вынимает вечное перо, fountain реп, говорит, бессмысленно глядя на перо). Он забыл перо, я должен отдать ему… Этим самым пером… (Стискивает кулаки.) И я взял, я взял эти деньги, я взял их у него!
Вик. Дьюли. Перо? Деньги? О чем он? Какие деньги? (Мак-Интошу.) Он говорил вам что-нибудь?
Мак-Интош. М-р Кембл несколько раз упоминал о каком-то чеке на пятьдесят фунтов, но я, право, затрудняюсь…
Кембл (викарию Дьюли, тяжело дыша). Слушайте: если это… если это все ложь, я… я вас…
Вик. Дьюли. М-р Кембл, я христианин – и я прощаю вас. Но через несколько минут, когда вы вернетесь оттуда (показывает на освещенное окно), я надеюсь, вы сами извинитесь передо мной. А теперь, м-р Мак-Интош…
Мак-Интош. Да-да, пожалуйста, м-р Кембл, пожалуйста! Осторожнее!
Кембл спотыкается, идет за Мак-Интошем в клёз к двери в контору О'Келли, дергает дверь.
Кембл (растерянно). Заперто… (Подбородок у него прыгает.)
Мак-Интош. О, не беспокойтесь, мы принесли ключ. Вот… (Подает ему громадный, старинный ключ.)
Кембл (пробует открыть, не попадает в скважину, тычет ключ Мак-Интошу). Я не… не… не могу…
Мак-Интош (берет ключ). Давайте, я с удовольствием. (Работает ключом.) Вот французские ключи: это, действительно, так сказать – культура! Французского не подобрать, а такой… Готово! (Открывает дверь.)
М-с Дьюли (подойдя к викарию). Я… я боюсь… Ради Бога, ради Бога! Не надо… ради Бога!
Вик. Дьюли (со злостью). Вы сейчас же отправитесь домой. Слышите?
М-с Дьюли (Кемблу, который уже ринулся в дверь). Кембл! Кембл!
Мак-Интош (подходит, в восторге). Замечательно! Дорогой викарий, замечательно – это такой момент! Как будто читаешь, так сказать, последнюю главу романа. И понимаете, в этом романе – мы, мы, так сказать, напечатаны! Вы только вообразите: он врывается туда, как буря… она, быть может, в той самой пижаме, в которой вы однажды, так сказать, любовались ею…
Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, выбирайте выражения. Я только видел ее в этой пижаме, запомните это.
Мак-Интош. Ну да, ну да! Затем он выхватывает оружие – если только он его с собой захватил, – женщина падает на колени, но он беспощаден…
М-с Дьюли. Остановите, остановите! Мак-Интош, ради Бога, пойдите туда! Умоляю вас!
Вик. Дьюли. Успокойтесь, все это кончится так, как и надлежит кончиться банальной комедии: с изменами, ревностью и прочими атрибутами.
Мак-Интош. Ну да, относительно оружия – это я ведь только, так сказать, в литературно-художественном смысле…
М-с Дьюли (хватает викария за руку). Постойте! Вы слышите?
Вверху глухо слышны громкие голоса.
Бобби (подходит). Извините, ваше преподобие. Раз вы здесь, я, конечно, вполне… Но, кажется, там наверху…
Сверху слышен смех О'Келли.
Вик. Дьюли. О, не беспокойтесь! Вы слышите, там смеются. Мы ждем одного из наших друзей. Он сейчас кончит там деловой разговор, и мы…
Глухо слышен выстрел.
Что это? Мак-Интош, что это? Выстрел?
М-с Дьюли. Нет! Нет!
Мак-Интош (в восторге). Он выстрелил! Я говорил, я говорил! Это замечательно! Он должен был выстрелить – так сказать, литературно – понимаете?
На лестнице слышен грохот шагов. Выбегает Кембл. Стоит, мучительно трет лоб.
М-с Дьюли (кидается к нему). Кембл – нет? Скажите же, что нет! Говорите же!
Бобби (отводит ее рукою). Позвольте, позвольте мне, виноват… (Вынимает записную книжку. Кемблу.) В чем дело?
Кембл (бессмысленно глядя на Бобби). Он… он засмеялся.
Бобби (глядит на викария, на Мак-Интоша). Засмеялся? Не понимаю!
Кембл. Я не мог. Хотел уйти. Я отдал ему перо… и, понимаете, он засмеялся. Понимаете? Он засмеялся. Понимаете?
Бобби (в недоумении). Не понимаю! (Мак-Интошу.) Вы слышали выстрел, сэр?
Мак-Интош. Ну да, конечно, он был должен…
Кембл (к Бобби). Я убил.
Бобби. Сэр, вы…
Кембл. Говорю вам, я убил м-ра О'Келли, адвоката. Пожалуйста, поскорее отведите меня, куда надо, я очень устал.
Бобби (несколько секунд смотрит на него, разинув рот и моргая. Затем одергивает сюртук и деловым тоном). Очень хорошо. Пойдемте. (Идут.)
М-с Дьюли (протягивая руки, за ними). Это я! О, это я, Кембл, это я, я!
Картина 2
Солнечное утро. Площадь перед тюрьмой. Стена, низкие сводчатые ворота, обитые железом. Беспокойно движущаяся головная часть толпы. Отряд Армии Спасения с оркестром. В стороне – группа: вик. Дьюли, Мак-Интош, Воскресные Джентльмены и Леди, Спортсмены.
Вик. Дьюли (в центре группы). Видите ли, если ровно в десять позвонит тюремный колокол, то это возвестит нам, что мы должны…
Голубая Леди (вставая на цыпочки). Что? Колокол? М-р Дьюли, вы говорите – колокол?
Розовая Леди (прижимается к Джентльмену; они немного в стороне от группы). Милый, я ничего не понимаю. Какой колокол? Объясните мне.
Джентльмен. Дорогая, колокол на тюремном дворе должен зазвонить, если приговор будет приведен в исполнение, чтобы мы могли помолиться за душу этого бедного м-ра Кембла.
Розовая Леди (вздрагивая, прижимается). Колокол? Как жутко! Милый, мне кажется, я вас сегодня особенно, особенно люблю!
Джентльмен. А там, смотрите, приготовлен оркестр Армии Спасения, чтобы увенчать печальную церемонию гимном.
1-й Спортсмен (вынимая часы). Уверяю вас, еще ничего нельзя сказать. Помилование могло получиться сегодня утром, оно может получиться сейчас, еще не поздно. Знаете, это меня захватывает, как на скачках последние минуты перед финишем: догонит – не догонит, все время на волоске…
2-й Спортсмен. Да, и вдобавок здесь на волоске висит человек, и от этого еще… ну, как бы это сказать…
1-й Спортсмен. Да, да. Понимаю. Сколько сейчас на ваших часах?
2-й Спортсмен. Без семи десять. Еще семь минут.
М-с Дьюли (отчаянно). Нет, нет, неправда! Еще без четверти, еще без четверти десять – вот, вот же! (Показывает свои часы.) Ваши часы неверны – без четверти!
2-й Спортсмен. Простите, вы ошибаетесь.
М-с Дьюли. Нет, нет! Еще пятнадцать минут! Вы, вы не смеете!
Вик. Дьюли. Дорогая, не волнуйтесь. Я же говорил, что вам надо было остаться дома. Вы не совсем здоровы.
М-с Дьюли замолкает, стоит как неживая. Голубая и Розовая перешептываются. Вбегают беловоротничковые мальчишки-газетчики.
Газетчики. «Джесмондская Звезда»! Экстренный выпуск! Помилование убийцы адвоката О'Келли!
Публика кидается, расхватывают газеты.
Голоса. Как? – Помиловали? – Что, что? – Читайте! Эй, вы, на фонаре, читайте вслух! – Тише!
Человек на фонарном столбе (читает). «Как известно нашим читателям, местное общество чрезвычайно заинтересовано исходом ходатайства о помиловании, поданного матерью осужденного убийцы адвоката О'Келли. Мы с своей стороны полагали бы, что, принимая во внимание заслуги покойного сэра Гаральда, отца осужденного…»
Первый голос (хрипло). Долой сэров!
Второй голос. Небось этого солдата в прошлом году живо вздернули!
Голоса. Долой сэров! – Тише! – А, вы за убийцу? А убивать связанного – это, по-вашему… – Тише! Дайте дочитать. (Затихают.)
Человек на фонарном столбе. «Мы можем сообщить, что, по непроверенным еще слухам, сегодня утром из Букингэма получено помилование».
Третий голос. Долой сэров!
Человек на фонарном столбе (размахивая газетой). Долой «Джесмондскую Звезду»!
Голоса. Долой «Звезду»! – Идем бить окна в газете! – Долой сэров!
Бобби. Джентльмены, джентльмены, порядок! Эй вы, на фонаре – вниз!
Человек слезает с фонаря. Толпа возбужденно шевелится, переливается. Смутный, слитный говор.
М-с Дьюли. Я же говорила! Я же знала! Дайте, дайте, я сама!
Мак-Интош (дает ей газету). Дорогая м-с Дьюли, к сожалению, это пока еще только слух, и вы же понимаете, что газета, так сказать, существо женского рода и, подобно Еве…
М-с Дьюли. Нет! Нет, я знаю! Я знаю!
Толпа вдруг затихла, раздвигается и по живой улице, в совершенной тишине, к воротам тюрьмы проходит Мастер.
Розовая Леди (прижимаясь). Это он? Это он и есть?
Джентльмен. Да, дорогая, это он. Розовая Леди. Но зачем же, если…
М-с Дьюли, как автомат, делает два-три шага по направлению к Мастеру. Остановилась. Смотрит кругло, как на стук Мастера открывается калитка в воротах и вновь захлопывается. Тишина. М-с Дьюли быстро возвращается к своей группе.
1-й Спортсмен (вынимая часы). Сколько на ваших?
2-й Спортсмен (вынимая часы). Без одной минуты десять.
1-й Спортсмен. Совершенно правильно. Сейчас все будет ясно.
М-с Дьюли (растерянно). Это он, да? Но как же, ведь помиловали, ведь вот же, ведь вот же (в руках у нее газета)…вы же видели, все видели! Быть может, он не знает? Ради Бога!
Вик. Дьюли (пожимая плечами). Дорогая, ведь вы же сами читали: это только слух.
М-с Дьюли (хватает его за руки – выше локтя; в лицо ему, пронзительно). Вы, вы хотите сказать, что…
Вик. Дьюли (снимая ее руки). На вас сссмот-рят. Я ничего не хочу сссказать. Вы не умеете владеть сссобой!
1-й Спортсмен (не отрывая глаз от часов). Уже десять.
2-й Спортсмен (тоже с часами). Совершенно правильно.
Голоса в толпе. Десять! – Господа, десять, тише! – Долой сэ… – Тише! – Простите, вы меня совсем раздавили! – Десять. Сейчас… – Да тише вы!
Несколько секунд совершенная тишина. Оркестр Армии Спасения держит наготове трубы.
Мак-Интош (в восторге). Замечательно! Какой момент! Если взять метафору из быта четвероногих…
Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош!
Мак-Интош замолкает. Тишина.
1-й Спортсмен. Две минуты одиннадцатого.
2-й Спортсмен. Совершенно правильно. Очевидно, то, что было в газете, как слух…
М-с Дьюли (задыхаясь от радости). О, я говорила, говорила, я знала! Дьюли, вы-вы-вы понимаете? Дьюли, вы понимаете?
Вик. Дьюли. Я не понимаю вас. Вы сегодня…
М-с Дьюли. О, я сегодня… я так, я так сегодня… (Блаженно улыбается, пенсне падает на землю)
Мак-Интош (подымает). Какое несчастье! Оба стекла, так сказать…
М-с Дьюли (восторженно). Оба? Да?
Розовая Леди (разочарованно). Так, значит, ничего не будет?
Джентльмен. Да, по-видимому.
Розовая Леди. Это все вы! Вы обещали мне! Я так спешила…
Джентльмен. Простите, дорогая. Но, право же, я не думал… я думал…
Голоса в толпе (все слышнее и слышнее). Да, а небось солдата в прошлом году… – Знаем мы их! – Долой сэров! – Эй вы, как вас… – Да не толкайтесь! – Долой сэров! Я говорю: вы сами нахал! – Долой сэров!
Из толпы выходят двое: один в шляпе, другой в кепке.
Шляпа. Кто, я нахал!
Кепка. Да, вы.
Шляпа. Вы в этом уверены?
Кепка. А вы, кажется, нет! Жалко!
Шляпа (скидывает пиджак). Становитесь!
Кепка. Ладно! Посмотрим!
Скидывает пиджак. Начинают боксировать. Вокруг них быстро образуется кольцо зрителей.
Бобби (подходит). Эй, джентльмены, не здесь, не здесь! Не полагается! Разойдитесь! Будьте любезны, будьте любезны! (Растаскивает дерущихся за шиворот.)
Шляпа и Кепка уходят. За ними часть толпы.
Шляпа (надевает пиджак). Посмотрим!
Кепка (надевает пиджак). Да! И не таких нахалов случалось…
Голоса в толпе. Правда, идти домой, что ли? Подождем еще: вдруг… – Да ведь уже давно… – Мало ли что! – Долой сэров!
1-й Спортсмен. Вы еще остаетесь?
2-й Спортсмен. Да, я еще подожду минут пятьдесят.
1-й Спортсмен. Потеряете время… Значит, вечером в клубе, в пять?
2-й Спортсмен. Да, в пять. Если только я…
Вдруг из тюрьмы – медленно, мерно, мертво колокол. Все замирают.
М-с Дьюли (одна. Все еще молчит. Колокол продолжает звонить). Нет, нет, ради Бога, ради Бога! Вот же, вот же! (Размахивает газетой.) Остановите… Оста…
Колокол замолк. М-с Дьюли стоит немая.
Вик. Дьюли (снимает шляпу, все остальные мужчины тоже). Кончено!
Несколько секунд тишины. Вик. Дьюли взбирается на какое-то возвышение.
Леди и джентльмены!
М-с Дьюли, согнувшись, почти падая, уходит куда-то одна. Викарий взглянул на нее, продолжает.
Леди и джентльмены! На наших глазах кончился последний акт драмы. И прежде чем помолиться за душу грешника, я предлагаю присутствующим принять резолюцию с требованием, чтобы в парламент был, наконец, внесен мой билль о принудительном государственном спасении. Медлить дальше нельзя: мы на краю бездны.
Толпа. Да, Да! – Мы все! – Браво, викарий Дьюли! – Единогласно! – Долой сэров! – Тише вы!
Оркестр Армии Спасения играет.
Занавес
1924
Блоха*
Игра в четырех действиях
Предисловие
«Блоха» – опыт воссоздания русской народной комедии. Как и всякий народный театр – это, конечно, театр не реалистический, а условный от начала до конца, это – игра. Наиболее полно эта условность выражена в трех ведущих персонажах – ХАЛДЕЯХ. Халдеи пришли в «Блоху» одновременно и из старинного русского «действа», и из итальянской импровизационной комедии. Их русские предки – скоморохи, Петрушка, масленичный балаганный дед, медвежий вожак; их итальянские родичи – Бригелла, Панталоне, Капитан, Пульчинелла, Труфальдино. На протяжении игры каждый из халдеев переменяет несколько масок – несколько ролей.
Самое слово «халдей» – название старорусских комедиантов. Адам Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» пишет о них: «Они получали от патриарха разрешение в течение восьми дней перед Рождеством и вплоть до Крещения бегать по улицам… Одеты они были, как во время масленичного ряжения – на головах у них были деревянные размалеванные шляпы, а бороды были вымазаны медом, чтобы не загорались от огня, который они разбрасывали». В «Блохе» халдеи ведут всю игру и где надо – веселой выходкой поджигают и зрителей, и актеров.
Тематическим материалом для построения «Блохи» послужил бродячий народный сказ о туляках и блохе – и прекрасный рассказ Н. С. Лескова «Левша», представляющий собою литературную обработку народного сказа. Идея театрализовать этот материал возникла у А. Дикого, режиссера Московского Художественного театра 2-го, – для этого театра и была написана «Блоха».
В печатаемом ниже тексте «Блохи» учтен опыт сценической проработки пьесы в двух театрах – МХАТ 2-ми Ленинградском Большом драматическом; в частности, некоторые черты в образах Платова и 1-го Халдея связаны с исполнением этих ролей актерами МХАТ 2-го – А. Диким и В. Готовцевым.
Первое представление «Блохи» в МХАТ 2-м состоялось 11 февраля 1925 года. Первое представление «Блохи» в Ленинграде в Большом Драматическом театре было 25 ноября 1926 года. Для обеих постановок – декорации и костюмы по эскизам Б. М. Кустодиева.
ЛИЦА
Удивительные Люди Халдеи – трое, один из них девка.
Донской казак Платов. Царь.
Министр граф Кисельвроде.
Голландский Лекарь-аптекарь – 1-й Халдей.
Царский Скороход-курьер – 2-й Халдей.
Фрейлина Малафевна – Халдейка.
Тульский оружейник Левша.
Оружейник Силуян.
Оружейник-старик Егупыч.
Раёшник – 1-й Халдей.
Тульский купец – 2-й Халдей.
Тульская девка Машка – Халдейка.
Аглицкий Полшкипер.
Аглицкий Половой, чернорожий.
Аглицкий Химик-механик – 1-й Халдей.
Самолучший аглицкий Мастер – 2-й Халдей.
Аглицкая девка Меря – Халдейка.
Свистовые казаки Платова.
Царские генералы.
Околодочный.
Ямщик.
Дворник.
Городовые.
Туляки.
Морской Водоглаз, он же черт Мурин.
Пролог
Первый – театральный занавес поднят. За ним просцениум и второй – балаганный, яркий занавес; этот занавес еще опущен. На просцениум выходит 1-й Халдей.
1-й Халдей. Дорогие жители! Дозвольте вам представить мою краткую биографию из жизни, что я есть древнего халдейского происхождения – российского рождения. Папашу моего я не видал в глаза, а должность его была называемая коза, а именно – представлял штуки с ученым медведем Михайлой. Умные хвалили, дураки хаяли, потому – кромя потехи – кой-кому доставалось на орехи, чего и вам желаю.
А нынче, ввиду прогрессу, честь имею вам предложить вместо медведя научную блоху, а также прочие были и небылицы про славную петербургскую столицу, про заграничных англичан-чудаков, а также про наших русских туляков. Это будет игра в четырех актах и трех антрактах, при настоящем электрическом освещении и в полном составе моих дорогих товарищей.
Так, например, в следующей персоне вы можете убедиться, что это есть наш знаменитый солист Петя, который играет их императорское велич… т. е. вообще, извините, царя. Петя, покажись лично! (Выходит актер – не тот, который на самом деле играет царя.) Из чего вы можете видеть неподражаемое сходство.
А затем, наоборот, распоследний тульский Левша, который, однако, есть первый герой всему. Ваня, покажись! (Выходит «Ваня».) Утрите нос! Благодарю вас!
Теперь мы начинаем. Прошу вас всех проливать смех и слезы по собственному желанию, но беспорядков при том отнюдь не производить. Эй, музыка!
Музыка. Открывается второй занавес.
Действие первое
Царский дворец. Петербург. Но Петербург – тульский, такой, о каком вечерами на завалинке рассказывает небылицы прохожий странник.
Такой же и царский дворец. На сцене – рота Генералов, друг дружки старше. Из задних песок сыплется. Дворник с метлой заметает песок в угол. Камергерный генерал – с пришитыми к ягодицам золотыми ключами – выстраивает роту, выправляет строй: одному – брюхатому – чтоб не торчало пузо, другому – колченогому – чтоб не гнулись колени, третьему – у которого голова валится – чтоб держал голову женихом.
Министр граф Кисельвроде (входит, приседая. Поклон публике и Генералам). Здравствуйте, господа почтеннейшие! Уведомляю вас, что Царь нынче не выспался. Сердитый – ух! так сам себе навстречу и ходит. Беда!
Камергерный генерал (публике). Ага, струхнул немчура!
Кисельвроде (умильно). Уж вы, миленькие, чего-нибудь ему такое-эдакое придумайте – не то всем нам капут. А уж я уж вам уж… и того, и сего, и этого… как говорится: по первое число… уж это, уж будьте спокойны.
Камергерный генерал (публике). Ну, завел финти-фанты, немецкие куранты!
Слышен шум, грохот
Кисельвроде. Ой, слышите, везут! Ой, везут! Ну, миленькие, с молитвой, по-русски… ну, как это? – выручай, Матушка Казанская… сирота! (Крестится.)
На золотом троне, на деревянных колесиках с грохотом ввозят Царя.
Царь (кисло). Ну, здрассте, что ли.
Генералы. Здра-жла-ваше-царство!
Царь (зевает, почесывается. Все молчат. Генералам – сердито). Ну, что?
Генералы. Так точно, ваше царство!
Царь. Что так точно? Ну?
Генералы (переглядываются, подталкивают друг дружку. Потом – один, другой, третий). Не угодно ли вашему царскому величеству чего сладенького-кисленького покушать? Не угодно ли вашему царскому величеству Удивительных Людей поглядеть, послушать? Не угодно ли вашему царскому величеству…
Царь (махнул рукой, чтоб замолчали). Неси. Зови.
Кисельвроде. Неси! Зови! (Царю.) Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас, сию минуточку!
Генералы бегут на цыпочках, рысят, ковыляют. Несут виноград, яблоко: конечно, у Царя виноградина – с яблоко, а яблоко – с арбуз. Входят трое Удивительных Людей-Халдеев. Царь лениво жует яблоко.
1-й Халдей (играет на музыке и поет):
Дрита-дрита-дрита-дрита, Как отцу архимандриту Блошка спать не дает: Уж она его кусает Целу ночь напролет. На царя блоха насела – Он и взад, и вперед, Он и так, и сяк, и этак, А блохи не найдет…Царь перестает жевать, сердито хмурится. Кисельвроде испуганно дергает поющего, чтоб перестал.
Кисельвроде (подбегает, приседая). Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дураки ведь. Как говорится по-русски: дураки законы пишут. (Халдеям.) Ну-ка, вы, чего-нибудь этакое повеселее.
1-й Халдей. Сейчас. (На виду у публики напяливает очки, бороду.) А вот я, аглицкий Химик-механик, голландский Лекарь-аптекарь. Объявляю я свои науки, чтоб старики не зевали от скуки: стариков молодыми в печи переплавляю и при этом мозгов совсем не повреждаю. Со всех стран ко мне приезжайте, мои науки прославляйте! Эй, Малафевна!
Царь. А ну-ка, ну-ка?
3-й Халдей скидывает с себя верхнее и оказывается старухой – Малафевной. 2-й Халдей на тачке подвозит ее к Лекарю.
Малафевна (подает бумагу). Вот, пожалте – пачпорт: мне от роду – сто годов без году. Не желаю старухой оставаться, а желаю с молодыми целоваться.
Лекарь-аптекарь. Лезь в печь, Малафевна. Ну, Господи-Исусе, вперед не суйся, назади не оставайся, в середке не болтайся!
Старуха лезет в печь. Лекарь свистит в два пальца – старуха выходит из-за печки молодой, ражей девкой, целует одного Генерала, другого, хватает третьего и пускается с ним в пляс. Генералы кашляют, отбиваются.
Царь. Ах, ах, ах! (Хлопает себя руками по бокам, смеется.) Ну чтоб вам лопнуть – веселый вы народ, действительно!
Лекарь-аптекарь. Так точно – голосом пляшем, ногами поем, с воды пьяны живем, с квасу бесимся.
Царь. Ну что ж, Удивительные Люди, чем еще удивить можете?
Лекарь-аптекарь. А вот, дай срок – удивим. (Шепчет 2-му Халдею, тот уходит из палат наружу, и там, на виду у публики, быстро переодевается Курьером.)
Царь жует. Кисельвроде стоит, ковыряет в носу.
Царь (строго). Граф Кисельвроде, сколько раз вам говорено, чтоб официально не ковырять в носу!
Кисельвроде. Я… я… я это так только, для моциону…
2-й Халдей – Скороход-курьер стучит снаружи.
Царь. Кого еще нелегкая принесла? (К Кисельвроде.) Граф, сбегай, отопри.
Кисельвроде, приседая, бежит, отпирает. Входит Скороход-курьер. Лекарь-аптекарь подмигивает ему.
Царь. Кто такой?
Скороход-курьер. Вашего величества Скороход-курьер, здравия желаю! Из Англии только сейчас прибыл – еще горяченький.
Царь. А! Ну, здравствуй, что ли. Поди, поди сюда поближе. (Скороход-курьер подходит.) Что же это у тебя циферблат-то разнесло эдак?
Скороход-курьер. Это я как, значит, по морю плыл, то у меня от водного колтыхания морская свинка изделалась.
Царь. А ну, дыхни! Поближе, поближе. Дыхни-ка… Как из бочки! Хорош!
Скороход-курьер. Так точно, ваше царство!
Царь. Ну что же: с добром или с худом явился?
Скороход-курьер. Уж так худо – хуже бы, да некуда. Захвастали англичане – ну прямо не продыхнешь. У вас-де, говорят, ни свету, ни совету, ни толку нету. У вас-де, говорят, лаптем щи хлебают, гвоздем хлеб ковыряют…
Кисельвроде дергает Курьера сзади. Генералы все разом начинают перхать.
Царь. Вы, перхуны, тише! Не ровен час – рассыпетесь. (Курьеру.) Говори. Да говори всю правду, а то у меня… знаешь?
Скороход-курьер. Хвастают: ваша-де казна против нашей – тьфу, а ваши-де пушки против наших игрушки.
Царь хмурится.
Кисельвроде. Не расстраивайтесь, ваше царское величество: врет. Это ему со страху попритчилось – как по нашей русской пословице: пуганая ворона на молоко дует.
Царь. Уж ты – русский! Сию минуту казну сюда: вот увидим, врет или нет.
Кисельвроде. Неси казну!
Генералы бегут, ковыляют за казной. С ними уходят 1-й и 2-й Халдеи.
Царь (Скороходу-курьеру). Ну, еще что? Говори все равно.
Скороход-курьер. А еще хвастают: ваше-де сукно против нашего рядно, а вашим-де мастерам аглицкие-немецкие нос утрут.
Царь. Что-о? Аглицкие – нашим? Да ты… да я тебя…
Кисельвроде. Не расстраивайтесь, ваше царское величество: врет, дело ясное. Что немец! По нашей русской пословице: немцев обезьяна выдумала.
Царь. Тебя вот действительно обезьяна выдумала! Открывай-ка сундук лучше, нечего зубы заговаривать.
Кисельвроде открывает сундук с казной. Поддерживаемый под локоток, Царь слезает с трона, садится на корточки у сундука, перебирает казну. Сбоку к сундуку пристраивается несколько Генералов.
Царь (Генералам). Ну-ка, вы, отойдите в сторонку – целее будет! (Вытаскивает шкатулку.) Стой! Это что тут за особенная шкатулка за семью замками? (Вертит, пробует открыть.)
Скороход-курьер (напевает):
Он взад и вперед, Он и так, и сяк, и эдак…Царь (протягивает шкатулку Скороходу-курьеру). Отопри-ка, братец.
Скороход-курьер. Это нам раз плюнуть! (Плюнул, открыл, подает Царю.) Пожалте, ваше царство.
Царь вытащил из шкатулки бриллиантовый орех, вертит его, с трудом раскрывает.
Генералы (глядят, вытянув шеи). Раскрыл! – Орех! Бриллиантовый! – Из ореха, из ореха вытряхивает! – На ладошку… – На собственноручную… – Что, что? Бло… Блоха… Гляди, ей-жей-ей, блоха! – Блоха, ей-Богу, блоха!
Царь (встает. К Кисельвроде – строго). Это что ж такое? Как же это ты, братец, в казне каких-то блох содержишь? Да и блоха-то дохлая, коченелая. Ну, чего же молчишь? Говори!
Кисельвроде. Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дозвольте, я ее вон выкину.
Царь. Нет, стой, брат: выкинуть успеется. Это не так, это что-нибудь да обозначает. Тут какая-то есть секретная хитрость… (Разглядывает.) Фу т-ты! Как есть вся личность блошиная, блоха! Ну, скажи ты, пожалуйста! Нет, тут мы не годимся, тут надо кого-нибудь этакого… с мозговой конструкцией… А ну-ка, привести сюда голландского Аптекаря из Аничковской аптеки. Живо!
Кисельвроде (Генералам). Привести Аптекаря!
Втаскивает под руки голландского Лекаря-аптекаря.
Лекарь-аптекарь. Батюшка, ваше величество, не буду, прости, помилуй!
Царь. То-то! Милую. А ты за это разгадай, что мы тут за диковину обнаружили. Никто не знает. А ты всевозможную химию превзошел – должен знать, что к чему.
Лекарь-аптекарь (вынимает складной аршин, мерит блоху вдоль и поперек, разглядывает). Во-первых, это есть называемое животное – извините – блоха, по-нашему, которая сосет кровь, согласно науке, у всякого человека, даже хотя бы у скота – без разницы.
Царь. Ну, этакую премудрость не велика химия знать. Говори дело, а то… знаешь?
Лекарь-аптекарь. Ой, знаю, знаю! (Зажмурившись, пробует блоху на язык.) Во-вторых… Гм! Согласно науке-температуре, чувствую на языке хлад, как бы от крепкого металла. (Пробует зубом.) В-третьих… (Думает.)
Царь. Ну?
Лекарь-аптекарь. Как вам будет угодно, а только это не настоящая блоха.
Царь. А что же это, коли не блоха?
Лекарь-аптекарь. А это есть, согласно науке, называемая нимфозория, под видом блохи. И произведена она из настоящей железной стали, а работа эта – не русская, заграничная. А как нынче у нас с заграницей трудновато, то я больше вам на этот счет ничего произъяснить не могу.
Царь. Спасибо. Ступай к себе в аптеку. (Лекарь-аптекарь задом, с поклонами уходит.) Ну, граф Кисельвроде, вот что: если да ты мне сейчас не дознаешь, откуда у меня в казне эта иностранная нимфозория и на какой предмет – кормить тебе блох да тараканов в крепостном каземате.
Кисельвроде. Сейчас, сейчас, сейчас… Знаю! Дозвольте фрейлину Малафевну сюда кликнуть: ей от роду сто годов без году, может, она чего про блоху помнит.
Царь. Ну, ладно, так и быть: зови.
Кисельвроде. Малафевна!
Генералы. Малафевна, Малафевна!
Малафевна (вскакивает, подходит к Царю, делает книксен). Здравия желаю, ваше царское величество.
Царь. Ну, здравствуй, что ли. Не знаешь ли чего вот про эту штуку: бриллиантовый орех нашли, а в орехе – блоха?
Малафевна. Глуха? И то, и то, батюшка, глуха. Еще хоть куда, а вот с приглушью стала – это истинно.
Царь (машет рукой). Ну! Вот и сквозь печку ее пропустили, а толку чуть. (Кричит.) Блоха, говорю тебе, блоха!
Малафевна. Без греха? Верно: кто ж без греха. Я хоть и не первой молодости, а как время к постели – беда: одна ни за за что не усну, покамест Василий Иванович под одеяло не влезет, Васька – кот мой ангорский, это я про него…
Царь (гневается). Уйди! Уйди с глаз моих долой – увести, чтобы духу ее тут не было!
Малафевну уводят. Царь показывает Генералам перстом на Кисельвроде.
Взять его в каземат без сроку!
Генералы подбегают к Кисельвроде.
Кисельвроде (отбивается). Ваше… ваше царское… дозвольте… Ой, сейчас-сейчас-сейчас…
Царь. Ну?
Кисельвроде. Дозвольте в казначейской книге посмотреть – может, там что записано насчет этой государственной блохи.
Царь. Ну, ладно, погляди, так и быть.
Кисельвроде. Неси книгу!
Два Генерала подают громадную книгу.
Кисельвроде. Сейчас-сейчас-сейчас, сию минуточку! Аз, буки, буки… Вот: «Блохи». Нашел, оно самое.
Царь. Ну, читай, да гляди, а то у меня… знаешь?
Кисельвроде (читает). «От блох средство. Для сего надо, отходя ко сну, взять меду наилучшего пчелиного и сказанным медом рачительно простыню обмазать, и тогда к оной простыне все блохи неизбежно прилипнут. Ежели же, паче чаяния, к простыне прилипнет также особа мужеска или женска пола или оба одновременно, то сим смущаться отнюдь не надобно – напротив того…»
Царь (стучит кулаком). Да ты что – со мной шутки шутить вздумал? Так я с тобой пошучу – до новых веников не забудешь! Взять его!
Генералы схватили и ведут Кисельвроде.
Кисельвроде (отбиваясь, кричит). Ой, ваше! Ой, царское! Ой, вели! Ой, че! Ой, ство!
В дверях шествие сталкивается с Платовым – Платов, припечатывая сапогами, прет по-военному.
Камергерный генерал. Куда, куда – без докладу? Стой!
Платов (подымает страшенный кулак). Ммал-чать! (Мимо остолбеневших Генералов проходит во дворец.) Так и так: честь имею – к Царю, экстренно. Донской казак Платов.
Царь (сердито). Какая такая еще экстра? Не видят: у царя – делов до сих пор.
Платов. Как, значит, в Петербурге народное волнение, что-де обнаружена неизвестная блоха, то обязаны мы про блоху доложить согласно присяге!
Царь (Платову). А, про блоху-у? Это дело другое. А ну, подойди сюда. Кто такой?
Платов. Так и так: донской казак Платов. Здра-жла-ваше-цар-ство!
Царь. Ну, здравствуй, что ли. Чего ж тебе от меня, мужественный старик, надобно? Говори да поживее – у нас дела государственные.
Платов (гаркает). Так точно, ваше-цар-ство!
Генералы шарахаются.
Как, значит, я пью-ем, что хочу, и всем доволен, согласно присяге, то нам собственной надобности никакой нету. (Ест глазами Царя.)
Царь. А коли без надобности – так чего ж ты?
Платов. Так и так: как, значит, народное волнение, согласно присяге, по причине неизвестной нимфозории в вашего царского величества казне. То я, честь имею, про это государственное дело очень все знаю! (Ест глазами.)
Царь. О, неужли знаешь? Ну-ну-ну, докладай.
Платов. Честь имею: как, значит, мы с вашим папашей по разным Европам ихние диковины ездили смотреть в называемой Англии, город Лондон, жители мужского и женского полу не нашего вероисповедания…
Царь. Что же ты, по-французски, что ли, умеешь – ездил-то?
Платов (гаркает). Так точно, ваше-цар-ство! По-французски мы этого не можем, как я, человек женатый, согласно присяге, и стал-быть, нам французские разговоры для единственно зазрения совести, а опричь того…
Царь. Стой: про блоху говори!
Платов. Так и так: эти ихние англичане вашему папаше разные свои удивления показывали зловредно. Местность, называемая кунсткамера, где ихние витрины и разные прочие изваяния мужского и женского полу, а также эта самая нимфозория под видом стальной блохи… честь имею!
Царь. Ну-ну-ну-ну?
Платов. И, стал-быть, эта самая блоха изволила вашему папаше понравиться так, что ни взад – ни вперед, и взахались ваш папаша ужасно. Как, значит, ихние англичане, а наша мать-Рассея, то обязаны мы, для престол-отечества, согласно присяге…
Царь. Да знаю, знаю! Про блоху-то говори.
Платов (гаркает). Так точно, про блоху, ваше-цар-ство! И, стал-быть, ваш папаша приказали выдать англичанам приходо-расходно миллион рублей серебряными пятачками. Впоследствии чего ихние англичане эту блоху, конечно, в дар поднесли, а при блохе ключик бесплатный.
Царь. Ну, скаж-жи ты пожалуйста! Вот оно что! А ключик-то зачем же? И где он?
Платов. Так и так: дозвольте бриллиантовый орех мне в собственные руки взять.
Царь. Бери, сделай, милость.
Платов (берет, показывает Царю). И здесь, стал-быть, на благоусмотрение, щелочка-не-щелочка, а по-нашему – комариная… (Поперхнулся.) И в щелочке ключик.
Царь. Чтой-то не видать.
Платов. Так точно, ваше-цар-ство. В размерах – техническое удивление. Но ежели тем невидимым ключом у блохи в пузичке брюшную машинку завесть, то, осмелюсь доложить, произойдет даже сверх естества.
Царь. Да что ты?
Платов. Как перед истинным! Так что от заводу начинает блоха скакать в каком угодно пространстве и дансе делать, и даже две верояции направо и две налево.
Царь. Ну, ей-Богу?
Платов. Ей-Богу! Дозвольте попробую.
Царь. Не врешь?
Платов. Кабы врал!
Царь. Попробуй, сделай милость.
Платов (пробует взять страшенными своими пальцами невидимый ключик). Ф-фу ты, окаянный! Никак не ухватить.
Генералы. Снизу, снизу подковырни! – Сбочку! Вот-вот-вот! – Ну-ка! – Ну-ка! – Эх!
Платов. Тьфу! Нет, тут женская полезность надобна: у них пальцы вроде блошиных, которые даже могут нитку в иголку вздеть. А мы этого не можем.
Царь (глядит кругом). Ну-ка… Малафевна! Эй!
Генералы. Малафевна! Малафевна!
Малафевна. Я.
Царь. Вот что: тут ключик лежит, попробуй-ка, возьми его вот эдак – пальчиком.
Малафевна. С мальчиком? Что ты, что ты, что ты? Христос с тобой!
Царь. А, глухая тетеря! Да объясните ей руками как-нибудь.
Генералы и Кисельвроде наперебой объясняют Малафевне руками, что-де блоху надо завесть, и она-де пойдет танцевать.
Малафевна. А-а, слышу-слышу! Сейчас, сейчас. (Заводит блоху.)
Блоха под музыку прыгает на полу. Царь, Кисельвроде, Генералы, Малафевна – за ней на корточках, ползком, на четвереньках. Платов – как был – стоит во фрунт.
Царь. Ах, нечистая сила! Ведь и впрямь скачет! Гляди, гляди: танцует! Ах-ах-ах! Вот это я понимаю! Это работа тонкая! Это – мастера-а! Да.
Скороход-курьер (Царю). Что, удивили? То-то и оно-то. Я вам докладаю: захвастали англичане – не продыхнуть. А он (передразнивает Кисельвроде) – «Бреет, вре-ет»!
Царь. Верно. (Чешет в затылке.) Как тут быть? Что делать? (К Кисельвроде.) Ты как же это допустил, чтоб англичане над русскими предвозвышались?
Кисельвроде. Я… я не я… (На Платова.) Это – вот он.
Царь (Платову). Ну-ка, ты? Отвечай!
Платов. Так и так: согласно присяге, на поле-брани-отечестве…
Царь. Да про блоху, про блоху… Экой ты, брат!
Платов. Честь имею, что нам этому удивляться с одним восторгом чувств никак не следует. Как, значит, мы англичан ничем не хуже, а даже напротив и в полном виде.
Царь. Ну-ну-ну?
Платов. И стало быть, надобно эту самую нимфозорию подвергнуть русскому пересмотру в городе Туле нашего отечества. Так что наши тульские мастера ихних перешибут. А касательно ежели что – так во… ччесть имею!
Кажет страшенный кулак, Генералы шарахаются.
Царь. Это дело! Ну, мужественный старик, спасибо тебе, утешил. Бери ты эту самую шкатулку, а в шкатулке – бриллиантовый орех, а в орехе – блоха, и кати себе на Тихий Дон. А как через Тулу будешь ехать, отдай аглицкую нимфозорию тульским мастерам на пересмотр. Ну, только помни, чтоб был обратно через сорок дней – сорок ночей. И ежели перешибут англичан твои тульские – проси чего хочешь, а не перешибут – быть тебе без головы.
Платов (гаркает). Так точно – без головы, ваше-цар-ство! (Невоенным голосом.) А только ежели при вашем папаше у меня голова на плечах удержалась, так авось и теперь уцелеет.
Царь. Храбер! А это слыхал: не хвались идучи на рать?
Платов. Так точно, ваше-цар-ство. А едучи с этого… ратного поля-брани-отечества…
Царь. Знаю, знаю! Будет! Когда же едешь-то?
Платов. Сейчас еду. Вот только сбегаю водки выпью и бубликом закушу. Так и так: приятного аппетиту!
1-й Халдей (публике). И вам того же, почтеннейшие господа!
Занавес
Действие второе
Картина 1
Тула. Игрушечные – по пояс человеку – церквушки. Слева на сцене деревянный заборчик. Входят три Халдея. 1-й Халдей скидывает из-за спины и устанавливает на палке ящик-раешник.
1-й Халдей (публике). Пред-ста-вление продолжается! Почтенные господа, милости прошу к нашему грошу со своим пятаком. По копейке с рыла – пожалуйте!
Бойкая девка (вбегает, увидела Халдея – кличет). Эй, сюды, сюды! Девки, девки, скорея! Удивительные Люди пришли, с ящиком! Сюды, сюды!
С разных сторон – быстро, туляки, стар и млад. Отдельно – Левша, идет с гармошкой, пиликает. Ему подставляют ногу – он падает. Смех. Встает, снимает картуз, сморкается в него, опять надевает на голову. Девки толкаются локтями, хихикают, кажут пальцами на Левшу.
1-й Халдей. По копейке с рыла – по копейке с рыла, пожалуйте!
Несколько туляков глядят в стекла раешника.
Вот-т, извольте видеть, господа, очень прекрасный вид: донской казак Платов из самых из царских палатов на тройке летит, елки-палки из-под копыт, сзади пыль столбом, на столбу – фонарь, под фонарем объявление: «Никому от меня нет спасения».
Туляк (глядит в стекло). А-а! Скачет-то! Хлещет-то! Кулачищи-то!
1-й Халдей. А вот-т, извольте видеть, приятное свиданье нашего русского посла с ихним французским – в городе Париже, а может, и где поближе.
Бойкая девка (глядит). Ишь ты! А чего же это они оба ревмя ревут?
1-й Халдей. А это, красавица, с радости, что семь годов не видались, на восьмом повстречались… А вот, пожалте, сражение в Китае: генерал Пей-чаю перешел на сторону генерала Чей-сына, а генерал Чей-сын перешел на сторону Пей-чая, вследствие чего произошла небывалая, блестящая победа.
Туляк. Хм… Чего-й-то… непонятно выходит.
1-й Халдей. Чудак! А ты думаешь – я сам понимаю? А вот ан-ндерманир штук (хватает за шиворот Левшу и ставит его на другую сторону ящика): мой закадычный друг – знаменитый оружейник Левша, первый тульский богач, в одном кармане – блоха на аркане, а в другом – мощи тараканьи – пожалте на поклонение!
Бойкая девка. Девки, девки! Левшу нашего в ящике показывают! Уй, гляди, гляди!
Левша (вырывается). Да ну-т те… Пусти, ну! Дай, я сам погляжу (обходит кругом, глядит в стекло раешника).
1-й Халдей (подмигивает 3-му, тот скидывает верхнюю одежду и оказывается девкой Машкой). Вот ан-ндерманир: девка Машка, купецкая дочь, ей каждую ночь невмочь – об друге сердечном Левше скучает, днем ни питья, ни пищи не принимает, чем живет – неизвестно, а вид имеет прелестный.
Левша (в волнении глядит в одно стекло, в другое). Ух! Ух! Батюшки! (Заглядывает поверх ящика. Машка стоит, закрывшись рукавом.) Машка! Ой… Да никак, и впрямь ты?
Туляки кругом хохочут.
Девка Машка. Известно, я.
Левша (радостно). Гы-ы! Машка, а Машка!
Девка Машка. Что?
Левша. Машка, пойдем обожаться.
Девка Машка. Пойдем.
Обнявшись, уходят налево за заборчик и там обожаются. Девки подталкивают друг друга локтями, глядят в щели, хихикают.
Девки. Гли-кось, гли-кось: в губы! – Взасос! – Всласть!
1-й Халдей. Ан-ндерманир: тульский купец, Машкин отец, ума не богато, а гребет деньги лопатой. Пр-ред-ставление продолжается! (Показывает рукой на забор.)
2-й Халдей в это время скинул с себя халдейскую одежу и в купецком кафтане, расталкивая народ, идет к забору.
Купец. Нагнись-посторонись, раздвинься, раздайся: ли не видишь, я своей персоной иду? Ну-ко-сь пусти, чего тут у вас? (Глядит в щель, свирепеет.) Да это моя Машка – ах, шалава! Да это Левша – ах, кобель! (Бежит кругом, накидывается на Левшу.) Ты, рвань, голоштанник! Ты что ж мою девку скоромишь, а?
Левша (туда-сюда, тычется – убежать: бежать некуда. В отчаянии). Ой, вот те крест, женюсь я на Машке на твоей (Крестится левой рукой.) Ну… вот сейчас женюсь. Ну пойдем в церковь, пойдем!
Купец. Левша косорукий! Креститься-то сперва обучись! «Женю-юсь!» Машка, подь сюда! (Наступает.)
Левша (обиделся). Оно хотя-хоть я и Левша, а ежели технически… Да-к мы это самое…
Купец. Ух ты, рвань коричневая! Нет, ты сперва, голопузый, предоставь мне червонцев на сто рублей да серебра на тридцать, да бумажками пуд и три четверти. Вот тогда сватайся. А то ишь ты: «Я женю-юсь»… бес-портошник! Машка, подь сюда!
Девка Машка. Не пойду. (Прячется за Левшу.)
Купец. Не пойдешь? (Наступает на Левшу.)
Левша (прячется за Машку). Эй, наших бьют! Эй! Силуян, сюда!
Силуян (входит, засучивает рукава). Могу. Кого?
Купец (сробевши). Мене.
Силуян, не торопясь, приготовляется бить Купца, расправляет у него бороду, плюет себе на ладонь. Вдруг – издали – песня, посвист. Силуян останавливается. Опрометью вбегают несколько туляков, кричат.
Туляки. Казаки-и! – Скачут!
Все – врассыпную, кто куда – к забору, под забор. С гиком и свистом, влетают казаки на деревянных досках с лошадиными головами, с мочальным хвостом. Платов в санках, возле санок – свистовые с кнутами. Разогнались – Платов кричит: «Стой-стой-стой, дьяволы!» Из-под забора, из-за пригорков выглядывают головы – тройка остановилась – головы нырнули вниз.
Платов (стоит в санях, озирается грозно). А-а-а-а, нету? Попрятались тулячишки, в тараканьи норы забились? Эй, свистовые! Гони всех сюда!
Свистовые (скачут, как зайцев – подымают спрятавшихся туляков). Э-эй, гони! гони! – Та-та-та-та-та! – Гони! Фью! – Эй-эй-эй!
Согнанные туляки, сгрудившись, выпирают вперед Егупыча – божественного вида старик, и Силуяна – быкобогатырь. Платов взлезает на сиденье саней и, хлебнув из фляги, выпятив грудь, начинает.
Платов. Вот, братцы, так и так. Как, значит, пришло нам время стать собственной грудью. В рассуждении, что, значит, наша матушка-Рассея. На поле-брани-отечестве, согласно присяге. И ежели, например, ихняя аглицкая блоха супротив нашей, то, стал-быть, обязаны мы до своей последней капли все, как один. И приказано мне передать вам его милостивое царское слово… (Орет.) Чтоб у меня была сделана! (Кротко.) Как значит, он отец, мы – дети… (Орет.) А в случае ежели у меня – так во! (Грозит кулаком.) И, стал-быть, православные, поклянемся жизнь свою положить на месте преступления – все, как один. Ма-алчать! Ур-ра!
Лошади у Свистовых шарахаются. Туляки выпихивают вперед Егупыча.
Егупыч (скидывает гречневик, прокашливается). Да, оно, конечно, мы его милостивое царское слово чувствуем. Ка-ак же! А только сомнительно нам, про что это ты говорил-то. Мы народ тихий, невоенный.
Платов (невоенным, человеческим голосом). Да это я так – для строгого порядка. А дело, братцы, вот: должны наши тульские мастера ихним разным Европам нос утереть. Как, значит, ихняя невозможная техника, а наша – тульская, то оно и выходит… Да. Ну, которые тут у вас есть самолучшие мастера? Говори, не бойся.
Туляки (выкрикивают). Левша! Левша! – Силуян! – Старик Егупыч! – Левша! – Силуян! – Левша! Левша! Он, он у нас самый… – Левша!
Платов. А где же этот самый Левша?
Туляки. А вот он – с Машкой! – Мухрыш-то, ну вот – в картузе. – Он у нас самый…
Платов (Свистовым). Доставить его!
Левша старается унырнуть. Свистовые его ловят, волокут к Платову.
Платов (глядит на Левшу.) Н-да. Не тово… неказист… (Берет, открывает шкатулку.) Ну, мастера, глядите: тут вот оно все и есть.
Подходят Егупыч и Силуян.
Егупыч. Ах, ты Мать… Пресвятая, Сподручница грешных – да это блоха, никак?
Силуян. Живая – аль колелая?
Платов. То-то и есть, что не живая, а, стал-быть, подлецы эти англичане из чистой стали ее в изображении блохи построили… И, значит, в середке у ней, у гадины, завод с пружиной, и завести – она, стерва, пойдет танцевать. И как, значит, согласно присяге, то и пообещал я царю: так и так, наши-де тульские еще и почище диковину сделают. Ну? Можете?
Оружейники переглядываются, перешептываются.
Левша (скинув картуз, почесываясь). Оно хотя-хоть, конечно… Кромя всего прочего… Но ежели, это самое, техническое, например, так оно и не… и не то, чтобы как, а вроде как как…
Платов (орет). Что-о? Я на вас голову прозакладывал, а вы… Да я вас – в кр-рохи пирожные! (Подымает кулачище.)
Егупыч. Ты, ваше превосходительство, говори словесно. Мы – народ невоенный, но против ихних мастеров, конечно, не уступим. А только аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и против нее надо взяться помоля Богу, подумавши, да. Ты нам эту блошку оставь, а сам поезжай на Тихий Дон с Богом, заживляй раны, за отечество приявшие, а когда будешь вертаться, авось мы к той поре свое дело сделаем.
Платов. Авось! А это слыхал: авоська веревки вьет, небоська петли затягивает? Нет, вы мне толком скажите: чего вы такое сделаете?
Оружейники шепчутся.
Егупыч. А уж что мы сделаем, того мы в одну минуту преждевременно сказать тебе не можем.
Платов (орет). Как, такие-сякие, не можете? Да как же я вам это аглицкое удивление оставлю, коли я не знаю, чего такое вы с ним сделаете?
Егупыч. Не оставляй, батюшка, – не хочешь, не оставляй: воля твоя. Бери с Господом! Нам это хоть бы хны – нам все едино. И без этой блохи проживем: своих довольно.
Платов (освирепел). Да я вас всех… д… т… Ппашли вон!
Все шарахаются, стоит один Силуян.
Стой-стой-стой! Эй, ты, богатырь, как тебя? Поди-ка сюда, садись.
Силуян лезет в сани.
Вот. Ну, так и так: водку принимаешь?
Силуян. Могу.
Платов (наливает из фляжки). Ну-ка?
Силуян пьет и молча подставляет чарку снова. Пьет и опять подставляет. Платов хочет налить и себе, но фляжка уже пуста.
Эх! Л-ловок! Ну, ладно, пес с тобой. Рассказывай, чего вы такое с блохой придумали?
Силуян (не спеша утирается, отдает чарку Платову). Ф-фу! Благодарим покорно. А сказать – не могу. Это – аминь.
Платов. Ах т-ты… Слезай – вон отсюда! Задарма все вылакал. Гл-лотка! Слезай-слезай-слезай! (Егупычу.) Ну-ка ты, старичок почтенный, иди садись.
Егупыч подходит, садится. Платов набивает огромную трубку табаком, хитро поглядывает на Егупыча.
Д-да… Так и так, придется мне, видно, к павловским за-мошникам ехать: не хуже вашего сделают. Хоть и неохота, а придется, – делать нечего. Да, придется, придется…
Егупыч. Что ж, поезжай с Господом. А только павловским – чтоб им… Бог здоровья послал и в делах скорого поспешания – им против наших не выстоять, нет! У нас вот Левша есть – дак он тебе что хошь: из башки у тебя, как из часов, все колеса-пружины вынет, маслицем смажет и назад положит.
Платов. У меня, брат, пружины и так вертятся, и маслица твоего не надобно. А вот надобно мне знать, чего вы такое придумали: у вас пружины годятся ли? Да, вот что.
Хитро глядит на Егупыча, запаливает трубку. Егупыч не спеша встает, вылезает.
Стой-стой, куда?
Егупыч. А мы, батюшка, кержацкой веры, от этого самого табашного зелья у нас головокружение в ногах происходит, да. (Идет.)
Платов. Тьфу! Эх! (Выглядывает Левшу.) Ну, ты, чувырло чумазое, как тебя… Левша, иди-ка, садись.
Левша влезает, садится.
Жуков табак куришь?
Левша. Оно хотя-хоть и… пользуемся… технически… А только я нынче… уж восьмушку – это самое… В грудях копоть, не могу больше.
Платов. Ишь ты! А водку принимаешь?
Левша. Кромя всего прочего… ежели… А только я нынче, это самое… вроде как… (Договаривает руками – что, мол-де, нынче выпил довольно.)
Платов. О, да ты, брат, вижу, хитрее всех. Ну, а девок любишь?
Левша. Вот это да… Это – технически!
Платов. Ну, слушай, Левша. Так и так: ты мне очень по нраву пришелся. И, стал-быть, хочешь, я тебе вон энту девку усватаю? (Показывает на Машку.)
Левша (вскрикивает, картуз об земь). О? Неужели ж верно? Машка, а Машка!
Платов. Нет, брат, стой! Сперва хомут, а потом подпругу. Ты мне наперед скажи, чего вы такое с блохой придумали?
Левша (чешется). Э! (Гпядит на Машку, на Платова, косится на Егупыча.) Конечно, хотя-хоть… (Поднимает с земли, решительно нахлобучивает картуз.) Эх! То есть – ну… никак! Что-что, а это никак. То есть вот – ну!
Платов. Та-ак? Эй, свистовые! (Левша кидается наутек). Стой-стой-стой! (Платов пробует налить себе из фляжки – фляжка пуста, с сердцем об земь ее, вдребезги.) Тьфу! Ну, тульские, видно, делать нечего: будь по-вашему. Нате, берите, стервецы, у-у-у! (Тычет Левше шкатулку с блохой. Кротко.) Братцы, голубчики, уж вы как-нибудь, так и так… (Орет.) У меня чтоб в аккурате! Чтоб для нашей русской полезности – ни одна чтоб минута! (Кротко.) Как, стал-быть, она мать-Рассея… Костьми – на престоле-брани-отечестве… И мы, которые убиенные… (Орет.) Ммалчать! Через сорок дней, сорок ночей я вашу работу царю предоставить обязан. Чтоб у меня – в срок была-а! А то… (Подымает кулак.) Поняли?
Егупыч. Благодарим покорно – поняли.
Платов. Тррогай!
Тройка. Куда прикажете?
Платов. На Тихий Дон!
С песней, гиком, свистом казаки уезжают. Левша, разинув рот, стоит с шкатулкой в руках. Бойкая девка выбежала, смотрит вслед, приложив козырьком руку.
Туляки. Кулак-то, видел? – Страхота Господня!
Расходятся.
Егупыч. Ну, братцы, надо за дело: вода бежить, время идеть. Ты, Левша, мозгуй поживей, как нам и что…
Левша. Технически – это самое – ежели…
Егупыч. Во-во-во! А я пойду свечку поставлю Николе Кузнецкому да Зосиме-Савватию, братьям-разбойничкам.
Занавес
1-й Халдей (выходит на авансцену перед занавесом). Представление продолжается! А именно происходит расцвет промышленности в городе Туле нашего отечества. Слышите: молоточки тюкают?
Уходит. Музыка, тюкают молоточки оружейников.
Картина 2
Та же Тула, что и раньше, но посредине стоит теперь изба оружейников. Туляки, Раешник, Девка Машка – подслушивают, подглядывают: что такое в избе.
1-й Туляк. Стучат?
2-й Туляк. Постукивают.
3-й Туляк. Не питые, не етые сидят.
1-й Туляк. Никого не допущают.
2-й Туляк. Что делают – неизвестно.
3-й Туляк. Ну-ко-сь, дайте-ка я попробую.
3-й Туляк идет к избе, стучит в окошко. Окошко чуть приоткрывается.
Голос Егупыча. Кто там?
3-й Туляк (чужим голосом). Человек Божий, странник прохожий. Прикурить огонька дайте.
Егупыч (высовывается – и тоном сперва божественным, потом свирепым). Пойди ты… к Господу с чертовым твоим куревом на рога! Некогда нам: время идет. (Захлопывает окно. Почесываясь, 3-й Туляк уходит.)
2-й Туляк (идет к избе с медным тазом, колотит в таз и кричит). Ой, братцы, горим! Ой, горим, пожар! Вали, лей, ломай!
Егупыч (высовывается). Где пожар?
2-й Туляк (показывает вбок.) Тама. И-их, чешет!
Егупыч. Ну – с Богом, горите, а нам недосуг. Срок вышел, то и гляди – Платов назад будет. (Захлопывает окно. 2-й Туляк уходит.)
Девка Машка (идет к избе, кличет в оконце). Левша, а Левша! (Сахарным голосом.) Левша, красавчик ты мой! (Еще сахарней.) Левша, пойдем обожаться!
Окно раскрывается с треском, Левша высунулся по пояс, но изнутри две руки тотчас сгребли его за шиворот, две руки за вихры – втащили назад, захлопнули ставень. А с разных сторон уже бегут – кричат туляки.
Туляки. Казаки! – Скачут! – Девки, беги куда глаза глядят!
Прежним порядком, только еще отчаянней, въезжают казаки и Платов.
Платов. Стой-стой-стой! Назад, дьяволы. Стой! Где оружейники? Ммалч-ать!
Туляки молчат.
Да вы что же: язык-то вам корова, что ли, сжевала?
1-й Туляк. Да ты, ваше превосходительство, сам говоришь – молчать.
Платов. М-малч… Тьфу! Сейчас говори, где оружейники?
1-й Туляк. Да вон там: слышь? – молоточками тюкают.
Платов. Как, такие-сякие, тюкают? Не готово еще? Дай-я их… д… т… (Подымает кулачище. Свистовым.) Чтоб живых ли, мертвых ко мне их – в момент доставить! У-у-у! (Свирепеет.) 3-зубом загрызу!
Свистовые скачут к избе, стучат в окно, в дверь – им не отвечают. Возвращаются к Платову, стоят, вытянувшись перед ним во фронт.
Платов (Свистовым). Круши! Свистовые (берут бревно, запевают «Дубинушку»):
Эх, город Тула у нас слабый, Придешь девкой – уйдешь бабой. Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет! Раз! Ух! Раз! Эх!Туляки. Гляди, гляди! – Что делают! – С мясом рвут…
Свистовые поддели и сваливают крышу в сторону. Остается висеть одна лампадка – висит неизвестно на чем – и видны по пояс оружейники. Свистовых отшибает в сторону – стоят, зажав носы.
1-й Свистовой. Да вы как же, подлецы, этакой спиралью ошибать смеете? На вас – что: креста нету?
Егупыч. Спираль – оно, действительно, скопимши – от нашей безотдышной работы. А вот вы кто такие, что нам в казенном деле препятствие производите?
1-й Свистовой. Да вы ослепли никак? Ли не видите: донской казак Платов – вот он, вас к себе требует, чтоб сию секунду!
Егупыч. Передай ему от нас почтеньице и скажи: сейчас-де несут.
Свистовые бегут, оглядываясь. Оружейники за ними, на ходу застегивая одежду. Левша с шкатулкой.
Свистовые (Платову). Идут! Несут! Платов. М-малчать!
Туляки шарахаются, потом, любопытствуя, понемногу подходят ближе. Платов – оружейникам, грозно.
Н-нну-у?
Егупыч. Господи-Сусе-Христе Сыне Божий, помилуй нас…
Платов (свирепо). Ам-минь… ч-черт! Готово?
Левша. Га-га-га-тово.
Платов. Подавай сюда.
Левша подает. Платов открывает шкатулку, вынимает из нее табакерку, из табакерки – орех с блохой. Глядит.
Туляки (вытягивая шеи). Гли-ко-сь, гли-ко-сь! Бриллиант-то! – Чисто медный, глазам инда больно! – Ну и кулачище, страхота Господня!
Платов (встает, грозно – оружейникам). Вы это что же это, а? Шутки шутить? А ваша работа где ж, а?
Левша. Ту-ту-тута… (Тычет пальцем в блоху.)
Платов. Где тута? Ну-у? (Сует блоху Левше под нос.) Нюхалом ткнись! Это, по-твоему, что?
Левша. Бло-блоха… Ета самая аглицкая блоха, конечно.
Платов (кричит). Ета самая! Зарезали! Голову сняли! Как была блоха, так и есть. Ничего не сделали! М-ма-стера! Кошелки вам плесть! Еще, поди, аглицкую работу испортили? Уб-бью!
Левша (обиделся, свихнул картуз на ухо). Ежели – кромя всего прочего – это, то есть, кто же испортил?
Платов. М-малч… Кто? Ты, Левша косорукий, вот кто! Ма-астер!
Левша. Это я-то? Цык! (Цыркает сквозь зубы в знак высшего презрения.) Я свою работу сделал… технически. Да…
Платов. Сделал? Ну, так и говори, что сделал? У-у-у!
Левша. А что сделал, то… вот это самое и сделал. Царю… это самое… предъявите… – тогда оно и выйдет – технически. А преждевременно – вроде как не желаю, да.
Платов. Ма-алчать! В бутылку загоню! З-запеча-таю! «Царю предъявите!» Это, стал-быть, чтобы я перед Царем острамился, как вы передо мной? Нет, голубчики, шалишь! Так и так вашу… Я вам проверку устрою! Я вас на чистую воду выведу! Сейчас к аглицким мастерам одним духом скачу: они мне все ваши дуравьи хитрости разберут. И ежели только да вы мне ничего не сделали – я вас… (По очереди подносит кулачище под нос каждому из оружейников – Левша пятится, Егупыч крестится, Силуян стоит монументом.) Ммалчать! Тррогай!
Тройка. Куда прикажете?
Платов. В Лондон ихний. Гони во весь дух! (Свист, гик, топот. Платов вдруг вскакивает.) Стой, стой, стой! (Оборачивается, Левшу – за шиворот и к себе в санки – в ноги.) Сиди, с-сукин сын, тут заместо пубеля! И до самого до Лондона чтобы у меня не пикнул! Ты мне за всех ответишь. Ну, гайда!
Отъезжают.
Девка Машка (кидается вслед с причитанием). Красавчик ты мо-о-ой! Да куда ж он тебя-а-а? Ой, погубят тебя не-хри-сти…
Левша (высовывает вихрастую голову из саней). Прощай, Машка! Сорокоуст-то, сорокоуст, не забу… Платов за вихры сует его назад.
Егупыч (спокойно). Царствие ему небесное, вечный покой!
Издали слышно – казаки затянули: «И-эх, в Таганроге…»
Занавес
Действие третье
1-й Халдей (выходит на авансцену перед занавесом). Представление продолжается! А именно: вид с высоты на знаменитый город Лондон, ихнего отечества. Эй, занавес!
После поднятия занавеса открывается Англия – то же, как и Петербург, тульская – очень удивительная. Въезжают платовские сани, тройка.
Платов (для англичан он прибрался – в белых перчатках, с цветком в петлице. Вылезает из саней, вытаскивает оттуда Левшу). Вылезай, ты! Ну-ка, Свистовой, доставь мне сейчас ихних Удивительных Людей, химиков-механиков-мастеров, да чтоб были аглицкие первого сорта. Ну, живо!
1-й Свистовой. Рад стараться! Как скоро, так сейчас!
Платов (отхлебывая из фляги). Ф-фу, отлегло!
Химик-механик (входит с Мастером). А вот и мы, самые ихние Удивительные Люди, химики-механики-мастера на все руки, первое средство от скуки.
Платов (элегантно). Ах… бонжур, бонжур!
Химик-механик (вытащив огромные часы, Мастеру – важно). У вас – сколько?
Мастер (вытащив часы). Без четверти.
Химик-механик. И у меня без четверти. Благодарим вас.
Платов. А что, будто личности ваши я видел гдей-то, а? Да вы ихние ли, настоящие?
Мастер. Мы-то? Да вот те не крест не святой. Вот те не перед истинным! Да чтоб мне не издохнуть! Да чтоб мне…
Платов. Стой! А ну, перекрестись.
Химик-механик и Мастер крестятся: на затылок, на спину, и сзади же – на правое и левое плечо.
Ну, ладно, вижу: креститесь не по-нашему. (Свистовому – нежно.) Свистовой, голубчик, шкатулку мне из саней – просю вас…
Свистовой от нежного обращения обалдел, стоит, хлопает глазами.
Платов (орет). Да ты что: оглох, сукин сын? (Спохватившись – англичанам.) Ах, пардон, пардон (Взяв от Свистового шкатулку.) Ну, неправославные, так и так: глядите – ваша работа?
Химик-механик (пробует на зуб). Да-а! Наша аглицкая, первый сорт.
Мастер. Сами из стали ковали – под видом блохи. Ка-ак же!
Платов. Что ж: как была ваша блоха, так и есть?
Мастер (глядит). Как была – так и есть. В том же пространстве.
Химик-механик (глядит). Ни подмены, ни перемены, ни рог, ни хвоста: как была, так и осталась.
Платов. Быть того не может, не верю! Так и так: была ваша удивительная диковина у наших у тульских мастеров, и, стал-быть, произвели они над ней какой-то секрет – еще вашего удивительней, а какой секрет, про то не говорят. Так чтоб выведали вы мне секрет вон у энтого проклятого Левши. М-малчать! Не выведаете – в Сибирь сгоню! (Спохватившись.) Ах, пардон, пардон, пардон…
Химик-механик. Ничего. Не извольте беспокоиться – выведаем.
Платов. Убедительно благодарю вас. (Левше.) Ну ты, такой-сякой, лопать хочешь?
Левша. Оно… это самое… ежели и птицы такой нету, чтоб не ела, а пела… Что же я, вроде как хуже птицы, что ли?
Платов (Свистовому – на Левшу). Доставить его в пищеприемную ихнюю комнату!
Свистовой. Рад стараться! Сию минуточку (Открывает дверцу в какой-то железной трубе, оттуда грохот, пламя – вталкивает туда Левшу.)
Левша (мечется, орет). Ой, царица небесная! Ой, чтоб тебя разорвало! Ой, пустите! Ой, Машка, сорокоуст не заб…
Платов (Химику-механику и Мастеру). Ну, пока что, стал-быть, счастливо вам оставаться. Мне в Петербург к Царю поспешать надобно. (Садится в сани.) Трогай! (Машет англичанам рукой.)
Химик-механик. Скатертью дорожка, буераком путь! (Вынув часы – Мастеру.) У вас сколько?
Мастер. Без четверти.
Химик-механик. И у меня без четверти. Идем к Левше.
Совершают путешествие тем же порядком, что и Левша. Тем временем Левша – с грохотом, с пламенем – вываливается из трубы в «пищеприемную комнату». К нему, как и полагается в Англии, сам ползет накрытый стол и скамья. Левша нахлобучил картуз, пятится, потом осторожно трогает стол – ничего: садится на скамью – ничего. Вдруг сбоку, из деревянной толпыжки в стене, вылезает не спеша огромная кнопка, лезет прямо на Левшу.
Левша. Уйди… уйди… уйди, нечистая сила! (Упирается в кнопку рукой, кнопка ныряет в гнездо, подымается трезвон. Левша вскакивает – бежит. Входит аглицкий Половой – вроде московских тестовских, в белом, а рожа черная. Левша таращит на него глаза.) Эка, мордальон-то у тебя, а? Ну вот что, конечно… это самое… Самоварчик мне и ситного, подрукавного, фунт – да с изюмом чтоб, слышь?
Половой скалит зубы, мотает головой.
Левша (громче). Чаю, говорю, ну? Немырь ты этакий! Чаю пить с дороги желаю – понял?
Половой. Донтандерстэнд.
Левша. Дон-дон-дон! Долдон, больше ничего. Нет, чтоб по-нашему, это самое, по-русски: и просто и всякому, вроде, понятно, а то: «дон-дон-дон»… Ну – есть, снедать, трескать, лопать, жрать – понял? Кала-мала-балагам-гам! (Щелкает зубами, показывает пальцем себе в рот.) Понял?
Половой. Ее, ее.
Левша. Бес – истинно! Чистый бес. Сообразил вроде, как, слава Тебе, Господи! Ну, и чудак!
Половой. Сами вы чудаки. Раз мы англичане – так нам с вами по-русски никак нельзя. Неуж не понимаете?
Уходит. Левша, пока нет Полового, любопытствует, заглядывает под скатерть, колупает тут-там скамью. Нажал какую-то пружинку – и вдруг стол начинает уезжать, снова из стены лезет на Левшу кнопка. Левша струсил, одной рукой старается удержать стол, другой отпихивает кнопку. Опять трезвон, стол останавливается, входит Половой с блюдами.
Половой. Ситдаун! (Подает хлеб – вроде громадного кулича.)
Левша. Сит-на-ай? Оно хотя-хоть, но ежели у вас это ситный, какие же у вас куличи?
Половой ставит на стол блюдо с пудингом и зажигает ром.
Ах ты, черномазый, ты это что ж такое?
Половой. Пудинг.
Левша. Студень? Хорош студень – полыхает! Нет, это, брат, может быть, у вас черти в пекле этакий студень жрут… технически… А я – не знаю, чтоб это нам можно есть. Это самое… кромя… дак и внутри еще загорится. Неси, неси от греха подальше! (Сует блюдо обратно.) Ну, неси! Иси, тубо!
Половой уносит. Левша колупает пальцем одно, обнюхивает другое – отхватил ломоть ситного и, осенив себя крестным знамением, начинает его уплетать – на ходу: надо скорей поглядеть, как тут и что у англичан. Повернул какую-то вертушку – потемнело, опять повернул – светло, повернул еще раз – весь свет потух, в темноте – искры, грохот.
Левша (в ужасе). Эй, Силуян – наших бью-ут!
Из трубы вываливаются англичане.
Химик-механик. Это кто ж это здесь разделывает? Погасите этот адский пламень! (Все кончается, зажегся свет. Левше, похлопывая его по плечу.) Ничего, ничего! Не бойсь! Мы (на себя) – аглицкий, ты (на Левшу) – русский мастер, мы – камрады, понимаешь?
Левша. Оно хотя-хоть и конечно… Кому рады, а кому и не рады.
Химик-механик (ставит в уголку шкатулку, прикрывает ее шляпой. Мастера – за рукав в сторонку). Первым делом – мы ему жидкого хлеба (щелкает себя по шее) – глядишь, язык и распояшет. (Левше.) Ну, камрад, выпить вам – погуще воды этого самого – желательно? (Щелкает себя по шее.) Понимаешь?
Левша (нахлобучивает картуз, сжимается). Понимать-то мы это самое, хотя-хоть и понимаем…
Химик-механик. Садись, садись, камрад, чего там! Для встречного разговору без хлебной слезы нельзя.
Лезет из стены кнопка. Химик-механик нажимает ее, трезвон, вбегает Половой.
Ну-ка, Половой, спроворь-ка нам графинчик да закусочки на троих!
Половой. Слуш-с-с! (Убегает.)
Химик-механик (Мастеру – важно). У вас сколько?
Мастер. Без четверти.
Химик-механик. И у меня без четверти. Благодарим вас.
Левша (тем временем осматривает Мастера, щупает платье). Ишь ты, жилетка-то тужурная! Тц… технически! Аглицкое, небось, сукнецо-то?
Мастер. А то ништо? Известно, аглицкое, морозовское.
Химик-механик (наливает). Ну, камрад, об деле – со временем – после, а до дела – нальем белой.
Левша (с сомнением глядит на водку, чешет в затылке). Оно, конечно, ежели… Вроде… для пользы-простуды… А только, кто вас знает! Вы ведь… ох!
Химик-механик. Мы-то ох, да и ты не плох. У-у-у! (Грозит пальцем Левше.) Ну, приехамши вам! (Пьет, за ним Левша.) А что, к примеру, у вас гуси плавают?
Левша. Плавают.
Химик-механик. А по льду ходят?
Левша. Ходят.
Химик-механик. Ну и мы пройдемся. (Пьют.)
Левша. Хух! Крепка!
Химик-механик. А ну, камрад, что крепче… (Выдержав паузу – сразу.) Наша водка – или ваш тульский секрет?
Левша. Ка… ка… Какой секрет? (Нагибается к Мастеру, берет его за ногу, как кузнец – лошадь.) А-ах ты… щиглеты-то какие! Это самое – подкованность-то ихняя вроде к чему же?
Мастер. А это для топоту, когда казачка ли, нашего аглицкого камаринского плясать. Мы это очень уважаем.
Левша (подмигивает). Вот, братцы мои, ежели, – так в подковке-то вроде как… и секрет весь. Да.
Мастер (подталкивает Химика-механика). Клюнул! Подсекай, тащи.
Химик-механик (отпихнув Мастера). Как так в подковке? Ты нам это на своем русском языке произъясни, сделай милость.
Левша (сбил картуз на ухо, от вина осмелел). Долдоны вы! Я вам на своем русском языке все и произъясняю – технически: в подковке, говорю, секрет. Впоследствии времени все, братцы мои, узнаете! (Подмигивает хитро.)
Мастер (разочарованно). А-а-а! Впоследствии времени! (Химику-механику.) Накачивай еще.
Химик-механик (Мастеру.) Без тебя знаю! (Левше.) Ну, камрад, нашей русской горькой для прокладочки? А? (Наливает, Левша смотрит с сомнением.) Что, думаешь, купоросом заправлена? Не бойсь! Настоящая подвздошная – четырнадцатого классу.
Левша (нюхает). Оно хотя-хоть и кто вас знает… (Махнул рукой, картуз на ухо.) Эх! Здравствуй, стаканчик – прощай, вино! (Крестится левой рукой, пьет. Потом, мотнув головой, затягивает.) Эх, Тула-Тула-Тула-я…
Мастер (Химику-механику). Нести шкатулку, что ли?
Химик-механик (Мастеру). Да не суйся ты, оглашенный! (Левше.) Ты что же это – левой-то крестишься: лютеранец ихний, что ли?
Левша. Нет, веры мы русской, технически. А это потому… как вроде… например, левша мы.
Мастер. Левша? Это что же такое обозначает?
Левша (от вина смелеет все пуще). А это самое, стал-быть, чего вы правой рукой – так я это левой – за очень просто. Да-а. У нас вот как!
Мастер. Удивительно! (Химику-механику.) Ну, если бы он и правой взялся, да образование ему мало-мале – так наше дело табак! (Левше.) Арифметику-то науку проходил?
Левша. Куды там! Мы, братцы, ежели что – так вот эдак вот – по пальцам… вникаем… Да.
Мастер (наливает. Левша пьет.) А лучше бы вы из арифметики четыре правила сложения знали – куда пользительней!
Химик-механик. Да. А то у вас в руке – сметка, а в голове – ошметка. Вот вы того и не сообразили, что такая малая машинка, как в блохе, – она на самую аккуратную точность рассчитана. Без арифметики-то ее тяп-ляп – и испортили.
Левша. Кто – мы испортили? Это мы-то?
Химик-механик (подталкивает Мастера). Да, вы самые.
Левша. Мы испортили? Ах вы, нехристи гололобые! Давай ее сюда! Я вам покажу… как испортили! Испортили, а? Мы-то?
Химик-механик (Мастеру). Готов! Волоки шкатулку!
Левша (ерепенится). Я вам… это… такое покажу – рты разинете! Я вам…
Мастер уже взял шкатулку. Левша спохватился, нахлобучил картуз, вскакивает.
Стой-стой! (Хватается за живот.) Ой, не надо! Не могу! Ой, не могу! Ой, ой, скорее!
Мастер (остановился). Чего ты?
Левша. Ой, живот схватило – вот как, технически! Веди меня до ветру. Ой, скорей, ой, скорей!
Мастер (ведет его в павильон, возвращается к Химику-механику). Да это ч-рт те что! Я думал, он так – с максимцем, а он хитрый, как муха… Ну, чего делать, чего мы теперь с ним делать-то будем… Владычица!
Химик-механик. Довольно вам стыдно, господин! Уж сдрейфил! А туда же в англичане суетесь!
Мастер. Да ты гляди: ведь его, черта косорукого, и вино не берет!
Химик-механик. Будьте покойны! Как он оттуда выйдет, мы его сейчас же настоящими нашими аглицкими диковинами раззадорим – и этот самый секрет из него, как из квасу пробку, вышибет. Понял – дурья твоя голова?
Левша (возвращается, оправлю одежу, напевает). Тула-Тула-Тула-я, Тула родина моя! (Подходит.) Это самое… нужные места – это у вас действительно технически! Только уж дюже чистота одолевает: неспособно. У нас лучше.
Химик-механик. Нужные места – это что-о! Дай срок, мы тебя еще не так удивим. Ну-ко-сь, иди сюда!
Левша. Ну, показывайте… это самое – чего тут у вас – ежели… (Подходит, делает вид, что ему на все с высокого дерева наплевать. Напевает.) Тула-Тула-Тула-я… (Видит в числе прочих диковин – церковь и, оборвав «Тулу», начинает креститься.) Хм! Это у вас, у гололобых, вроде церковь-то к чему же?
Химик-механик (пододвигая церковь). А это, извольте видеть, чистый римский Петра-Павла собор, несчетно злата-серебра и прочего добра, на фундаменте из настоящего мрамора.
Левша (цыркает через зубы). На мра-аморе! Загнул! У нас, брат, в Москве – ежели, так… Никола-на-Капельках есть, Никола-на-Палашах, Никола-на-Курьих ножках, Никола-на-Кочерыжках. Вот это вот так. А то: на мра-аморе!
Мастер. На кочерыжках? Удивительно! И ничего, стоит?
Левша. А то как же? У нас, брат, строго: прикажут – и на кочерыжках будет стоять. Технически! (Напевает.) Тула-Тула-Тула-я… А это самое – что за трубка и к чему такое?
Химик-механик (выкатывает огромный барометр). У-у, это штука! Буреметр называется: от морского водопления – первое спасение. Погоду за сутки назад, непогоду за сутки вперед угадывает.
Левша. Ну, это против нашего… например… никуда не годится. Да-а! У меня в Туле вроде бабка есть, так у ней перед непогодой поясницу… технически – за неделю ломить начинает. А вы – эка: за сутки!
Мастер. Ну-у? За неделю? Удивительно!
Левша (напевает). Тула-Тула-Тула перевернула, кверху козырем пошла… (Ходит, глядит, остановился.) Хм! А это для каких-таких жителей… домина, вроде?
Химик-механик. А это, извольте видеть, называемая керамида, а в ней сохранно заключен удивительный египетский фараон, не принимает ни питья, ни пищи, лежит годов три тыщи, а может, и больше.
Левша (цыркает сквозь зубы). Чудаки вы… кромя всего!
Мастер. А что?
Левша. А то. У нас этих самых фараонов – хоть пруд пруди: в Москве на каждом углу стоят вроде для бесплатного удивления. А вы это самое… их за деньги показываете. Ну и чу-да-ки! Нет, вы мне такое предъявите, чего бы у нас нету.
Химик-механик. Сейчас… А ну-ка… родители, например, у тебя есть, камрад?
Левша. Во, брат, идиолух, а? Это, может, у вас, у нехристей, дети вроде… из этой бутылки вылазют, а у нас это самое… по-православному, технически…
Химик-механик. Да ты дело отвечай! Родители, говорю, есть, живы?
Левша. Ну, живы, ежели… Ну?
Химик-механик. А желательно вам сейчас с родителями, например, словесный разговор иметь?
Левша (обиделся). Чего-о? Ты, брат, мне, это, в мозги-то не капай. Я хоть какой-никакой, а в своем уме. Не-што отсюдова в Тулу слыхать?
Химик-механик. А на это, брат, у нас есть такое удивление, что ты родясь не видал – умрешь не увидишь. Вот: радиотелефон называется.
Левша. Ежели родителев он – так с родителем только и можно по ему разговаривать. А мне, ежели, например, не с родителями желательно, а совсем обратно? Вроде, скажем… с какой-нибудь с гражданочкой?
Химик-механик. Это все единственно. Вот, пожалуйте: нажмешь, повернешь, голосом поведешь – говори с кем хочешь, хоть с родителями, хоть обратно.
Левша. Ну-ка? (Нажал пуговку – трезвон, искры. Левша моргает, съежился. Робким голосом.) Машка, а Машка! (Громче.) Машка-а!
Голос девки Машки. Левша, никак ты? Красавчик ты мой!
Левша (картуз об земь, разинул рот). Тьфу, провались ты совсем! А ведь и верно. Маша моя, технически! Ей-Богу!
Голос девки Машки. Левша, а Левша!
Левша. Сейчас. (Чешет затыпок, думает. Придумал. Англичанам.) А желательно ежели – я вам сейчас, это, диковинку покажу… кромя прочего… почище разговорной этой трубки?
Химик-механик. Захвастался – кабы не захрястался! Гляди, брат!
Левша. Вот те и гляди! Я и без трубки вашей слышу. Да. И еще Машка моя… вроде как сказать – не сказала, а уж я слышу, что она скажет.
Химик-механик. Ну-ка, что ж она тебе скажет?
Левша. А вот чего… (Шепчет на ухо Химику-механику.)
Мастер. Что? Что? (Химик-механик шепчет на ухо Мастеру.)
Голос девки Машки. Левша, а Левша!
Левша. Что, Машенька, коровушка ты моя-а?
Голос девки Машки. Левша, пойдем обожаться!
Мастер. Чтоб тебе лопнуть: верно!
Химик-механик. Тюпелька в тюпельку!
Левша. То-то! Уж это вроде… будьте спокойны: уж так ли, эдак – а уж мы вас… это самое… технически! (Лихо заводит на гармошке.)
Мастер. Да это черт те что! Ну, буде баловаться с диковинами-то! Я ему сейчас вещь покажу, которая настоящая… На, гляди! (Сует Левше ружье.)
Голос девки Машки (удаляясь). Левша, а Левша!
Левша (опустив гармошку, прислушивается). Братцы, сделайте милость – отпустите вы меня… домой вроде… а?
Мастер. Гляди, говорю… черт косорукий!
Левша (нехотя берет ружье. Поглядел – и вдруг загорелся). Тц-тц-тц… Вот это вот – да! Это – технически! (Ощупывает, поглаживает.) Что тебе! Шлиховка-то, а? Прямо это… чисто вроде девку по спине гладишь! А замочек, замочек-то! (С ружьем в руках кидается к англичанам, обнимает их.) Сволочи! Милые!
Мастер. Ты что – рехнулся?
Левша. Эх! Уж очень добре, дюже работа хороша!
Мастер. Ага-а! Пробрало?
Левша (щупает в дуле). А внутре-то, внутре-то… Ай-ай-ай-ай! (Заглядывает внутрь, качает головой, вздыхает.) Эх! Кирпичом чистите-то, ай как?
Химик-механик. Сморозил: кирпичом! Это, может, у вас кирпичом, а у нас – порошком самым мелким, вроде клоповного персидского.
Левша. Не дай Бог – война… Куда мы… ежели с берданками нашими? Эх! (Осматривает еще раз ружье, вздыхает. Вдруг поставил ружье.) Братцы, отпустите вы меня домой за ради Христа!
Химик-механик. То есть, это как же?
Левша. А так. Хотя-хоть и это… благодарю вас покорно на всем угощении, и вроде всем я у вас очень доволен, а только… Не могу я у вас больше! Вот тут вот это самое… (Вертит рукой против сердца.)
Химик-механик. Ну вот, заскучал! Да мы тебе сейчас такое покажем… Вот: гляди…
Левша. Не могу я! Лучше покажите вы мне: в какой она стороне – Рассея наша?
Химик-механик. Рассея, Рассея! Ты лучше оставайся у нас, живут у нас мастера хорошо, семейно, на каждого члена по четыре кубических аршина воздуха…
Левша. Да не надо мне вашего кубического воздуха: мне без русского воздуха никак невозможно! Опять же я в холостом звании. И мне тут в одиночестве… вроде очень скучно будет. А там у меня есть…
Химик-механик. Чудак! Чего ж ты молчал-то? Это дело такое: раз моргнуть, два шепнуть. (Мастеру.) Волоки сюда скорей свою аглицкую девку Мерю.
Мастер. Есть! (Выводит Мерю.)
Меря (входя). А вот и я!
Химик-механик (Левше). Ну, что? Какова мамошка?
Левша. Это чего уж! Девка – я те дам! Вроде! Да-а!
Химик-механик. Ну, вот и ладно: ты нам только словечко закинь, какой вы секрет над блохой произвели, а мы тебе сейчас с нашей аглицкой девкой все устроим. (Мастеру.) Ну-ка!
Мастер. Меря, подь сюда! (Делает ей знак пальцем.)
Меря (подходя). Здравствуйте, прекрасный молодой человек Левша. Очень приятно.
Левша (снял и мнет картуз, глядит исподлобья). Ой, беда, на Машку мою похожа!
Меря (в радиотелефон). Эй, Половой! Кипяточку нам на четверых, да ватрушечек каких там, что ли.
Голос Полового. Слушс-с!
Въезжает стол, скамьи. Вбегает Половой с подносом, ставит на стол. Меря кобенится перед Левшой.
Меря (садясь за стол). Милости прошу к нашему шалашу!
Все садятся. Левша с Мери глаз не сводит.
Химик-механик. Ты погляди: одеваются у нас чисто, не халды какие-нибудь, хозяйственные. Ну-ка, Меря, покажи, как ты… Плесни-ка ему чайку.
Меря наливает Левше и себе. Оба пьют с блюдечка. Меря придвигается к Левше все ближе.
Химик-механик (в стороне, косится на них). Кх… Гм… (Вынув часы – Мастеру, важно.) У вас сколько?
Мастер. Без четверти.
Химик-механик. И у меня без четверти. Благодарим вас!
Меря придвигается к Левше. Левша не знает куда деваться, пот с него градом, берет салфетку, утирается.
Меря. Что ж вы, прекрасный молодой человек? Я к тебе голублюсь, а ты от меня тетеришься! (Обнимает Левшу.)
Химик-механик. Вот это так! Ну, Левша, поле с угородом – слово с уговором: пьем магарыч, что ли? Ты нам про блоху – тайный секрет, а мы тебя на Мере женим.
Левша (выскакивает из-за стола). Ой, не-ет: закон ежели принять с вашей аглицкой девкой… Это мне… это вроде как… никак невозможно.
Мастер. Это почему же такое? Какие у нас напротив наших девок порочные приметы есть?
Левша. А это самое… например… одежда на них накручена… И не разобрать, что и для какой надобности… ежели…
Мастер. Какое же тебе в том препятствие – в одежде?
Левша (конфузясь). А, значит… это… опасаюсь – зазорно будет… вроде глядеть – дожидаться, пока она из всего барахла разберется… ежели… это самое… Бог приведет… технически…
Мастер. Ну, это ты, камрад, врешь: это оне у нас могут в лучшем виде. Ну-ка, Меря; покажи ему голую технику!
Заводным голосом напевая нечто легкомысленное, Меря начинает скидывать с себя одёжу. Левша рвется бежать – и рвется к Мере. Мастер его держит.
Левша. Ой, батюшки, не надо! Ой, у меня Машка в Туле! Ой, невтерпеж, держите меня! Ой, пустите! Ой, братцы, на все согласен – открою вам секрет, бегите за блохой скорее!
Химик-механик и Мастер, толкаясь, бегут за блохой. Левша тычется в одну трубу, в другую: ищет выхода – выхода нет. Меря продолжает «голую технику». Появляется Полшкипер.
Левша (бегом к Подшкиперу). Ой, скорее, скорее! Ой, братишка, – куда бы мне…
Полшкипер. Я аглицкого корабля – Полшкипер. Вам, Левша, чего надобно?
Левша. Ой, друг любезный, Полшкипер, вези меня скорее в Петербург, в царский дворец.
Полшкипер. Отчего ж, можно, пожалуйте.
Левша, скинув картуз, крестится. Оба уходят. Химик-механик и Мастер вбегают с шкатулкой.
Химик-механик. Батюшки! А где ж Левша-то!
Меря (хладнокровно). Смылся – в Питер. Мастер. Да это черт те что!
Химик-механик. За ним! (Свистит. Выскакивает Ямщик.) В Питер! Гони во всю мочь!
Ямщик. В два счета!
Уходят. Появляется корабль – с Полшкипером и Левшой. Полшкипер крутит колесо, корабль движется.
Левша. Братишка, эй!
Полшкипер останавливается.
Скажи ты мне: в какой стороне – Рассея наша?
Полшкипер. Рассея? А хто ее знает! Должно быть – там… (Показывает в публику.)
Занавес
Действие четвертое
1-й Халдей (на авансцене перед занавесом). Представление продолжается! А именно: снова царский дворец и разные роскошные украшения. Эй, занавес!
Занавес подымается. Как в первом действии – Петербург и царский дворец. Дворник с метлой стоит, грызет подсолнухи, шкурки бросает наземь. Зевает, уходит. Появляются Левша и Полшкипер, оба навеселе.
Левша. Неужели вроде добрались? (Увидел что-то на приступках, подымает.) Подсолнухи! Верно! Она самая – Рассея! Эх, ты, коровушка ты моя-а! (Бросается на землю, целует ее. Встал. Полшкиперу.) Понимаешь ты, организм гололобый, что есть такое Рассея?
Полшкипер. Нет, этого мы не понимаем.
Левша. Куды тебе: рылом не вышел! А ежели кромя – все-таки… полюбил я тебя, друг ты мой любезный. Во как: по сих пор. Технически! Выпьем на росстань, а?
Полшкипер вынимает бутылку из кармана.
Это которая же по пальцам будет, ли по вашей арифметике?
Полшкипер. Три… тринадцатая. Ничего не значит. Пей, рус.
Пьют. Из оркестра на приступочки лезет Рыжий Черт.
Левша (Полшкиперу). Ой, гляди, гляди!
Полшкипер (спокойно). Ишь ты: рыжий.
Левша. Скорей перекрестись – отвернись, это черт Мурин! Говорил тебе: тринадцатой не надо.
Полшкипер. Какой черт? У нас по арифметике доказано: никаких чертей нету. Это Морской Водоглаз, он – ручной, не бойсь. (Протягивает Черту кусок хлеба.) Лопай, ну?
Черт ест.
Левша (выше подбирая ноги). Оно, хотя-хоть, конечно, арифметика – она, вроде как… А ведь, ей-Богу – хлеб жрет, а? Дай-ка, дай-ка, я попробую… (Берет у Полшкипера хлеб, протягивает Черту – боится, отдергивает руку.)
Полшкипер. Я тебе говорю: ручной. Ну вот – хочешь: я тебя в море швырну, и он мне тебя сейчас назад подаст?
Левша. Друг, милый, ну давай я тебя поцелую – ну? (Целуются.) Ну…. ну, хочешь – бери, швыряй черту своему… арифметическому – ну, швыряй!
Полшкипер подымает Левшу – бросить Рыжему Черту, тот протягивает уж лапы. Вбегает Платов. Рыжий Черт ныряет вниз.
Платов (Левше). А-а, шельма собачья, попался! Не-ет, от меня ни в земле, ни в воде не скроешься! Со дна морского достану! (Хватает Левшу за шиворот, ставит перед собой.) Ну, говори: где блоха? (Трясет Левшу.) Ну?
Левша (машет рукой). Та-та-та-тама.
Платов. Где тама?
Левша. У этих… у аглицких мастеров осталась… вроде.
Платов. У-у-у! Зарезал, окаянный черт! Пропали, пропали!
Левша. Не… нет, они не пропали. Зачем пропали? Они сейчас тут будут. За нами всю дорогу, без отдыху, вроде – гончие какие гнались… Да вон – колокольцы-то: слышь?
Слышны колокольцы. Появляются Химик-механик и за ним Мастер.
Химик-механик. Ф-фу, батюшки! Насилу-насилу догнали… Здравия желаем, донской казак Платов!
Платов. М-малчать! Где шкатулка с блохой?
Химик-механик. А вот, пожалуйте. (Подает шкатулку.) Она самая.
Платов. Ну, коли вы мне не узнали, в чем секрет, – молитесь вашему чертову богу!
Химик-механик. Да, поди-кось от него узнай! (На Левшу.) Ты на пень – он на корягу, ты в воду – он ко дну: ёрзок больно.
Левша. Что, съел?
Платов (трясет Левшу). М-малчать, язва! (Другим голосом.) Молодец, Левша, не осрамил Тулу, не выдал! (Опять трясет.) Ну, говори теперь, растакой-сякой: что вы за секрет с блохой сделали? А не то твоей жизни пять минут сроку осталось: сейчас Царя приведут – и мне конец и тебе крышка.
Левша. Может, ежели, никакого секрета и нету? (Цыркает сквозь зубы.) А может, вроде и есть. Сейчас все… это самое… обнаружится.
Платов (свирепо). Ну, коли я от Царя живым вернусь – уж я тебя, Бог даст… (Кулак – Левше. Свистовым.) Держать его, сукина сына – да крепче!
Левша. Эх, Левша, красавец молодой – сгубила тебя судьба!
Свистовые его уводят.
Химик-механик (Мастеру). У вас без четверти?
Мастер. Без четверти.
Химик-механик. Ау меня… (Лезет за часами – вытаскивает одну цепочку.) Часы-то… срезали! Батюшки!
Убегает, за ним – Мастер. В это время – музыка, парадным маршем входят Генералы и Царь.
Царь. Ну, здрасте, что ли.
Генералы. Здра-жла-ваше-цар-ство!
Царь (приглядывается). А где же этот… мой… как его?
Генералы (выскакивают). Здесь я, ваше-цар-ство! – Здесь, ваше-цар-ство! – Здесь…
Царь. А, да на кой вы мне! Ну, этот… как его… Платов!
Кисельвроде (Платову). Ну, дружочек, пришел твой часик: иди, Царь тебя требует.
Платов. Крышка! Пропал – ни за нюх табаку! (Идет за Кисельвроде.)
Царь. Ну, донской казак Платов, здравствуй, что ли.
Платов (гаркает). Здра-жла-ваше-цар-ство!
Царь. Где был, что видел?
Платов. Так и так: был я, согласно собственноручному твоему царскому слову, на Тихом Дону.
Царь. Ну, докладай, какие у вас там казаки промеж себя междоусобные разговоры ведут.
Платов. А это, стал-быть, могу я только по тайности на ушко сказать.
Царь. Ну, на тебе ухо – пользуйся.
Платов, подошедши к трону, шепчет Царю на ухо.
Царь (Платову). Та-ак. Ладно! А больше, например, тебе нечего мне сказать?
Платов. Гм… Кхе!
Генералы вытягиваются на цыпочках, шушукаются.
Царь (Платову). А что же ты, братец, про самое главное-то молчок? (Грозно.) А-а-а? Как же тульские твои мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?
Генералы. Каюк! – Поплыл Платов! – Митькой звали!
Платов (бухается на колени). Так и так: хочешь – казни, хочешь – милуй. А только нимфозория окаянная все в том же пространстве, и, стал-быть, ничего удивительней тульские мастера не могли сделать.
Царь. Ну, брат, это уж – маком! Ты – старик мужественный, а что ты мне докладаешь – этого быть никак не может! Слышишь?
Платов (гаркает). Так точно, ваше-цар-ство, никак не может! (Другим голосом.) А только вот хоть ты тресни – так оно и есть.
Царь. Да ты… Как это ты смеешь мне, царю, поперек говорить? Подавай ее сюда!
Платов мнется.
Не слышишь? Уши заколодило? Сейчас давай – ну?
Платов подает Царю шкатулку. Царь открывает, смотрит.
Что за лихо! И впрямь: как лежала блоха – так и лежит. Не может того быть: тут тульские мастера, наверно, что-нибудь сверх, понятия сделали… (Услышал страдательную Левши на гармошке. Платову.) Постой-ка: это кто же там приятной музыкой займается?
Платов. А это так… тульский один… стервец… у-у-у! (Свирепеет.)
Царь. А ну-ка, поди спроси этого самого тульского насчет государственной нашей блохи.
Платов уходит.
Нет, уж чего-нибудь они с ей да изделали… (Пробует взять блоху.) А, пропади ты пропадом! Палец у меня дюже толстый – не гожается…
Генералы. Послюньте пальчик, ваше-царство! – Лизните их… – Язычком, язычочком!
Кисельвроде. Дозвольте, я лизну!
Царь. А, иди ты к ляду!
Платов (возвращается, подходит к Царю). Так и так: говорит ихний тульский Левша, надо, говорит, блоху эту в самый мелкий мелкоскоп глядеть – тогда-де все обнаружится.
Царь (кричит сердито). Подать сюда самый мелкий мелкоскоп!
Кисельвроде. Подать мелкоскоп!
Десять Генералов на рысях немедля приносят громадную трубу, устанавливают ее поперек палаты – глядельным концом к публике; перед другим концом – держат шкатулку с блохой.
Кисельвроде. Пожалуйте, ваше величество. Как говорится, все наготове: сани до Казани, язык до Киева.
Царь (смотрит в мелкоскоп). Ага… ага… Вот-вот-вот… Тьфу! Ничего не видать, ни синь-пороху! Позвать сюда… этого самого… Лекаря-аптекаря…
Кисельвроде. Веди! Зови!
Генералы бегут.
Лекарь-аптекарь (входит). Здра-жла…
Царь (с досадой). Да знаю, знаю! Можешь мелкоскоп по глазам навести?
Лекарь-аптекарь. У-у, глаза отвести – это самое наше дело! (Налаживает мелкоскоп.) Раз, два, три. Готово! Пожалуйте!
Царь (глядит в мелкоскоп). А-а! Ну-ка, ну-ка? Поверни спинкой. Так. Бочком. Пузичком… Тьфу! Да что же это такое? Все как было. (Платову.) Волоки сюда этого тульского твоего! (Платов мнется. Царь – грозно.) Ну-у? (Топает.) Веди, говорят тебе, а то у меня… знаешь?
Платов (бежит, на ходу читает). Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его… Свят, свят, свят!
Свистовые ведут Левшу. У него одна штанина в сапоге, другая наружу, воротник разорван, но идет бойко – от последней отчаянности, а может, и от хмеля. За ним Полшкипер и Платов.
Платов (тычет Левшу в бок). Ну, д-дьявол, иди теперь – сам за себя отвечай. У-у-у!
Левша. А что ж такое: и пойду, и отвечу – технически! (Цыркает сквозь зубы. С гармонией своей под мышкой, подходит к Царю – кланяется.)
Царь. Ну, здравствуй, что ли. Хм, вон ты какой! Ну, вот что, скажи-ка, братец, это что ж значит? Мы и так и эдак в мелкоскоп глядели, а ничего замечательного не усматриваем. Плохо вы работаете – плохо, плохо! Да.
Левша. Оно хотя-хоть вы и глядели, а только глядеть надо вроде с соображением… А то ведь и баран, ежели, на новые ворота… тоже глядит. Да.
Генералы и Кисельвроде (кидаются к Левше, дергают его сзади). Шшшш! – Шшшш!
Царь. Оставьте над ним мудрить: пусть отвечает, как умеет. (Левше.) Ну, гляди сам: ничего не видать.
Левша. А вы бы, это… глаза-то получше разули, да. Этак не увидишь, конечно. Потому как наш секрет – кромя прочего ежели… так против этого размера не в пример мельче.
Царь. А есть, говоришь, секрет?
Левша (цыркает сквозь зубы). Ха! Вроде есть, конечно.
Царь. Ну? Ей-Богу?
Левша. Да уж есть.
Царь. А как же его разглядеть – секрет-то ваш?
Левша. А ежели, например, одну блохиную ножку… это самое… под весь мелкоскоп… например… вот этак вот, да. И, значит, потом глядеть, технически, на каждую ихнюю блохиную пяточку. И тут, это, все удивление… и здрасте-пожалте. Да.
Царь (показывает Левше на Лекаря-аптекаря). Поди, растолкуй ему, он это сейчас все устроит, согласно науке.
Левша идет неторопливо. Платов за ним с кулаками – от нетерпения инда трясется весь.
Царь. Ну, скорей, братец – экой ты!
Левша (Царю). Скорей! А это ты слыхал: детей скоро, например, делать – слепые родятся?
Платов. Маалч… (Зажимает себе рот.)
Лекарь-аптекарь (налаживает мелкоскоп). Раз, два, три… Андерманир штук, пожалуйте!
Левша (Царю). Ну, теперь глядите, коли хотите: жалко мне, что ли? (Отходит к Полшкиперу, наливают, пьют.)
Царь (Генералам, которые толкутся около мелкоскопа, мешают). Брысь! Уйдите!
Генералы порскают кто куда. Царь глядит в стекло. Платов в стороне: начнет креститься – не докрестится, начнет – не докрестится, глаз не спускает с Царя.
Царь. Да ведь они эту самую блоху… Вот это, брат, ловко! Ах, чтоб тебе сдохнуть. Ах-ах-ах!
Генералы, Платов, Кисельвроде (кидаются). Что? – Что? – Что такое?
Царь (сияет). Ну, глядите, пожалуйста! Да ведь они, мошенники, исхитрились аглицкую эту блоху – на подковы подковать! Нимфозорию подковали, а? (Опять смотрит в мелкоскоп.) Стой-стой-стой! А это еще там что такое? Ну-ка, подверни! (Подкова крупнее, видны буквы. Царь читает.) Егу. Пыч. Ору. Матер. (Левше.) Нехорошо, нехорошо! Чего же это вы слова-то этакие пишете? Матер… Нехорошо!
Левша. Вот ведь необразованные! Эх ты… «матер»! Мастер.
Царь. Гляди сам: матер.
Левша. Да это вроде для скорости – скоропись – нешто не понимаете? «Оружейный мастер Егупыч». Это подпись его.
Царь. Так это он там еще и расписался, значит? Ах, нечистая сила! Ах-ах-ах! Глядите, пожалуйста! Ну и стервецы!
Все кидаются глядеть.
Платов (кричит). Пус-сти! Пусти, р-расшибу! (Расшвыривает всех и, растопырив локти, впивается в мелкоскоп. Потом бежит к Левше.) Ну, брат… (Колотит себя в грудь, слов не хватает, с обожанием смотрит на Левшу.) Эх! (Вынимает из кармана стаканчик, подставляет Полшкиперу, чтоб налил, чокается с Левшой.) Ну… ах, чтоб тебе! Ну, ладно, живи, так и быть! Пес с тобой! Прощаю! Все прощаю!
Царь (Платову). Ну-ка, где твои англичане? Давай их сюда.
Платов бежит за англичанами.
Химик-механик (сбросив колпак и очки Лекаря, подходит к Царю). А вот я – аглицкий Химик-механик, а это мои дорогие товарищи, которые в одно мгновение могут произвести блоху и прочие удивленья.
Царь. Ну-ка, ну-ка, погляди, какая есть наша тульская техника напротив вашей научной блохи!
Мастер (глядит). Под… под… Подковали, а? Да это черт те что!
Химик-механик (глядит). Н-да-а! Это – не народ, это какие-то варвары!
Царь (доволен). Ха-ха-ха-ха-ха!
Левша (Химику-механику). Что, гололобые, съели? (Показывает ему фигу.)
Химик-механик. Это еще поглядим, кто съел, а кто и подавился. Ты вот ее заведи, попробуй.
Левша. А что ж такое? И за… и заведу. Очень даже просто… (Заводит. Музыка начинает: «Дрынь-дрынь» – и обрывается.) Это… это что же? Постой… Это она… знычть… вроде, не мо… не может больше?
Химик-механик. Танцевать-то? Не может.
Левша (в ужасе). Из… из… изгадили, знычть? Мы? Я?
Химик-механик. Ты. Что я тебе про арифметику-то говорил – помнишь? Оно самое.
Левша (стучит себя мослаком по лбу). Кобель! Рукосуй! Дьявол! (Шевелит блоху. В отчаянии.) Не… не танцует! (На Химика-механика – с кулаками.) Ты-ты… зачем мне сказал? Уйди… Уйди, окаянный! Уйди от греха!
Химик-механик уходит.
Полшкипер (Левше). Плю… плюнь, камрад!
Левша. Не танцует… Конец мне, братишка! По… понимаешь ты: не танцует!
Полшкипер. На… на! Пей скорей… Соси, милай… (Наливает Левше.)
Левша (стуча зубами, пьет). Эх… Жизнь наша – копейка, судьба – индейка! Ну, пропадать – так с музыкой! (Заводит на гармошке.)
Кисельвроде и Генералы (кидаются к Левше). Ш-ш-ш! – Что ты? – Рехнулся?
Царь (оборачивается к Левше). Да он еще тут? А я и забыл про него! (Подходит к нему.) Ну, брат, вот что: утешил ты меня – по сих пор. Спасибо. (Обнимает его, лобызает.) Проси, Левша, чего твоя душа хочет. Вот хочешь – полным генералом в отставке тебя сейчас произведу?
Левша (показывает пальцем на Генералов). Это вот лы-лы-лысые-то которые? (Цыркает сквозь зубы.) Нету моего согласия, чтоб в лысые. Что меня Машка тогда не… не… не будеть обожать – поэтому. Только она одна у мене и осталась…
Полшкипер (навеселе изрядно, мотает головой). В-верно, камрад!
Царь. Ну, коли так, жалую тебе с придворного певчего парадный кафтан. Давай сюда кафтан! Эй! Живо!
Приносят кафтан, напяливают его на Левшу. Кафтан на нем – как на вешалке.
Царь (торжественно). Граф Кисельвроде! Объявляю тебе народно: денег ему, мошеннику, дай сколько хочет. Сыпь – не жалей. (Всем.) Ну, я – на боковую. Эй, музыка – расходный марш мне!
Под «расходный марш» – Царь и Генералы отбывают.
Кисельвроде (подходит к Левше). Слыхал? Ну, проси, да не запрашивай, милый.
Левша (еле лыко вяжет). Гля… гля… Машки жа-лаю… червонцев на сто рублей, да серебра на т-три-дцать, да бумажками пуд и три ччер… ччерти! Т-только она у меня и… и танцует…
Кисельвроде. Ну, это, дружочек, завтра прошение подашь. А сейчас Царь жалует тебе двугривенный, как говорится, с своего плеча. Ну, иди, иди, нечего!
Левша (глядит на двугривенный). Эх, жись наша индейская! Не… не видать мне Машки моей! (Полшкиперу) Пойдем отсюдова, друг любезный. (Выходит. На приступках Левша растягивает гармошку.) Т-Тула-Тула – первернула…
Околодочный (вырастает на приступках около Левши). Это-то что такое? С-строго не разрешается!
Левша (перестает, тычет себя в грудь). У меня… может… все печенки вну… внутре сейчас полыхают – потому я испортил… А он мне: «Не разрешает-ся…» Эх, гуляй! (Снова – на гармошке.) Тула-Тула-Тула-я, Тула родина моя!
Околодочный. Др-р-р! (Свистит, выскакивают Городовые и Дворник.)
Левша (Полшкиперу). Вот, брат, у вас это за деньги, а у нас… фр-фр-фараоны бесплатно… вроде… И-эх, Тула-Тула первернула, ко дну козырем пошла…
Околодочный (Городовым). Тузи!
Левша. Не трожь… кафтан… каф… каф… (Затихает. Городовые, окружив густо, бьют Левшу.)
Полшкипер (мечется кругом, кричит). Стой, стой! Нельзя! Душу… Душу-то! Стой!
Околодочный. Так. В хобот. В хряпало. В загривок.
Городовые сбрасывают куда-то уже недвижимого Левшу. Дворник заметает метлою следы. Уходит.
Полшкипер (бежит к рампе). Ой, батюшки, убили! Утоп! Ой, батюшки!
Убегает, последние слова слышны уж издали. Тотчас же на сцене темнеет. На просцениуме появляются Халдеи.
Халдейка-девка Машка (причитает). Ой, да голубь ты сизый м-о-о-ой! Да на кого ж ты меня споки-и-нул…
1-й Халдей. Ну, что, что? Вот дуры бабы! Ну, чего нюни распустила?
Девка Машка. Левшу больно жалко! Не видать мне его, голубчика, до кончины до моей!
1-й Халдей. А я-то на что же? Гляди! (Свистит в два пальца. На сцене свет. Из печки вываливается Левша с гармошкой. Встает, подбегает к Халдейке.)
Левша. Машка! Никак, ты?
Девка Машка. Левша, красавчик ты мой
Левша. Машка! А, Машка!
Девка Машка. Что?
Левша. Пойдем обожаться!
Медленно уходят. Левша играет на гармошке.
Химик-механик (публике). С благополучным вас окончанием и затем до скорого свидания. Просим честной народ не забывать нас и вперед!
Занавес
<1924–1929>
Атилла*
Трагедия в четырех действиях
ЛИЦА
Атилла – владыка Великой Скифии.
Керка – его жена.
Ильдегонда – заложница Атиллы, дочь короля бургундов.
Вигила – ее жених, один из послов Восточного Рима.
Сенатор Максимин, Приск – послы Восточного Рима.
Оногост, Едекон, Исла – приближенные Атиллы.
Зыркон – шут Атиллы.
Аэций – магистр римской пехоты и конницы.
Анниан – епископ Аврелианский.
Гоур, Камель – римские рабы в Аврелиане.
Марулл – римский поэт.
Дулеб – оратай.
Ятвяг – один из ближайших кметей Атиллы.
1-й Кметь.
2-й Кметь.
Посол от Гиспанских варваров.
Посол от Галлов.
Глашатай Атиллы.
Чашник Атиллы.
Скифский Кобзарь.
Готский Зингер.
Пленный Ефиоп.
Кмети и Воины Атиллы.
Бургундские солдаты и Римские Воины (в Аврелиане).
Действие первое
Палата во дворце Атиллы: дерево, грубая резьба. На помосте, устланном звериными шкурами, скамья и сбоку другая пониже. У дверей, во внутренние покои – Старший Страж. Слышен звук римской трубы-букцины и ответный скифский рог.
Старший Страж (прислушиваясь). Ао! Труба… (1-му Стражу.) Зырчь, зырчь, – живо!
1-й Страж (бежит, смотрит в окно, возвращается). К нам.
Старший Страж. Кто?
1-й Страж. Чужие.
Старший Страж. Вопи сюда наших – живо.
1-й Страж уходит.
Едекон (входит. Старшему). Ну, привез гостей к Атилле.
Старший Страж. Кого?
Едекон. От Восточного Рима троих послов. Да еще бургунды пристряли к нам в дороге: ехали сюда же, везли Атилле заложницу – дочь их короля. Вот девка!
Старший Страж. Поглядим!
Едекон. Зря будешь глядеть. Покуда мы ехали все вместе, так с нею уж успел снюхаться один из римлян – посол, какой помоложе. Вот к этому приглядись, да крепче.
Старший Страж. А что?
Едекон. А то, что выйдет у нас такая потеха, какой никогда… (Замолкает.)
Входят Вигила и Ильдегонда.
Старший Страж. Чего стал?
Едекон. Тише, он самый… и с ним – она. Идем туда – я там тебе доскажу… (уходят во внутренние покои).
Вигила (Ильдегонде).
Все во сне, все сейчас улетит, как дым, ты останешься здесь у Атиллы, а я…А я – (останавливается).
Ильдегонда. А ты поедешь один – через степи, по каким мы мчались с тобою вдвоем – поедешь назад…
Вигила. Нет…
Ильдегонда. Как нет? Что ты хочешь сказать?
Вигила (молча смотрит на Ильдегонду. Потом). Ильдегонда моя… (целует ее). Прощай!
Ильдегонда. Прощай?
Но ведь я через год к тебе вернусь, пусть варвар Атилла, пусть лютый волк – не тронет заложницы даже он.Вигила. Я знаю.
Ильдегонда.
Отчего же так горек твой поцелуй – как будто прощаешься навек, как будто смерть за углом стоит? Скорее скажи, пока вдвоем. Молчишь? Идут… Скажи!Вигила. Нет!
Слышен громкий – в нос – голос Приска. Входит и Максимин.
Приск. Вигила, дорогой – я уверен: всё, что рассказывают про гуннов – это ложь. Эти милые дикари так почтительны со мной, что, право, мне даже как-то неловко…
Из внутренних покоев быстро входят 1-й Страж и двое других.
1-й Страж (кидается к Приску, хватает его за шиворот). Стой! Кто такие?
Максимин.
Из Византии римские послы – к Атилле. Понял? Дай дорогу!1-й Страж (своим). Ао! Сюда! Щупь их!
Стражи начинают обыскивать Вигилу.
Вигила.
Прочь, варвары, рабы… Сперва пойдите грязь с клешней отмойте.1-й и 2-й Стражи. А рррабы-ы? Мы рабы-ы? Аррчь… Аррчь его! (С мечами на Вигилу.)
1-й Страж. Стой! Не порть им шкуру!
Максимин (1-му Стражу).
Ты Едекона знаешь? Так пойди спроси его, кто мы такие?1-й Страж (2-му и 3-му). Чуть что – сарычь в башку! (Уходит.)
Приск (Максимину). Положись на меня! Я сейчас все устрою… (подойдя к стражам, начинает речь). Мои дорогие, многоуважаемые варвары!
2-й Страж. Что-о?
Приск. То есть, вообще… глубокоуважаемые… э-э-э… существа!
3-й Страж. Цыть!.. На место!
Приск (отходит поспешно. Максимину). Это… это они всё шутят… Я уверен!
Максимин. Позор! (Садится на скамью, опускает голову на руки.)
Мы, римляне, должны терпеть всё это. Как нищие ждать у его дверей, чтобы дождаться… Чего? как знать?Приск. Но, дорогой Максимин, говорят, Атилла сегодня в прекрасном расположении духа, я – тоже. Так что мы добьемся мира, мы спасем Рим – я уверен. Максимин.
Да, пожалуй, если мы пред ним – мы, римляне, пред варваром, пред гунном, перед Атиллой станем на колени… Да и тогда… он может гуннам крикнуть: – «стой» – но время ведь и он не остановит.Приск. То есть, как это – время?
Максимин.
Ты видишь, у меня трясутся руки, глаза слезятся, рот беззубый – видишь? Такие ж руки, рот, глаза – у Рима. Рим стал старик, как я. А варвары – от них воняет потом, но их глаза и зубы – посмотри: любой из них пихнет меня, как Рим, и Рим, как я, – в куски.Вигила. Нет, этого не будет!..
Максимин. Ты знаешь средство, чтоб лечить от смерти?
Вигила. Да, знаю: смерть. (Отходит в сторону. К нему – Ильдегонда).
Ильдегонда.
Вигила, ты бледен? Твоя рука в моей дрожит. Что задумал ты? Быть может, могу я тебе помочь? мои руки не так нежны, как твои, не умею играть на лютне я – но умею играть копьем, ножом… Ты скажешь мне?Вигила.
Я должен молчать – я клятву дал. Ты скоро увидишь все сама.Входят Едекон, Старший и 1-й Страж. Старший отводит стражей от послов. У Едекона за поясом топор, в руках мешок с чем-то круглым.
Едекон (Ильдегонде). Эй, красотка, там во дворе твои бургунды ждут тебя.
Ильдегонда выходит. Едекон – послам.
Ну, гости, привет вам от хозяев. Жить вам столько годов, сколько волос на голове у Максимина.
Стражи (пальцем на лысину Максимина). Га-га-га!
Едекон. Нишшь! (Стражи замолкают. Максимину). Ты не гневись на них: как лисий, так они ваш римский дух не терпят. Я им сказал, чтобы носы зажали и отошли подальше.
Стражи. Га-га-га!
Приск (Максимину). Вот видишь, я говорил тебе! Дух великого Рима должен победить – он победил.
Максимин отмахивается от него, понурившись, садится. Приск, пожав плечами, подходит к стражам, протягивает руку.
Дорогие, я ваш!..
Никакого впечатления. Пожимает плечами, отходит.
Глашатай (пробегает). Атилла! Атилла! Он вернулся с поля, он вошел в свой дом!
Вигила (в стороне. Едекону взволнованно).
Скорее – скажи еще раз, что наш уговор не забыл, что ты исполнишь…Едекон (дает ему мешок). Держи.
Вигила. Зачем? Это что?
Едекон. Князю Атилле подарок. Дыня.
Вигила (ощупывает). Дыня? Постой… постой… нет! Эта дыня созрела на человечьей шее!
Едекон. Хоть и римлянин, а не дурак: угадал.
Вигила. Чья голова? Говори – кто?
Едекон. Вледа.
Вигила. Как Вледа? Брат Атиллы? Ты его?..
Едекон. Не я – топор.
Вигила (молчит, потом). Едекон, прости меня.
Едекон. За что?
Вигила.
Я верил тебе – и я не верил, Я боялся: а вдруг изменишь? Но эта голова немая говорит за тебя – кричит, – что их звериное отродье ненавидишь ты, как я, что Атиллу, этого волка… нет хуже… бешеного пса…Едекон (хватает его за горло). Молчи! Не смей!
Вигила. Едекон, пусти! Ты что?
Едекон (другим тоном). Дурак, услышат – все пропало.
Вигила.
Показалось мне, что ты… Нет, нет, я знаю – ошибся…Глашатай (пробегает). Атилла! Атилла! Как солнце в небе он взойдет сейчас!
Вигила.
Да, сейчас… Еще миг, как волос тонкий, натянутый, как струна, и конь судьбы помчится, копытом давя людей…(Хватает за руку Едекона.)
Так помни же: я Атилле письмо подам, и как только он ко мне нагнется, ты сзади – в него топором, а я ему – нож в грудь.Едекон. Будь покоен: мой топор найдет… кого надо.
Вигила (вынув кошелек, встраивает его).
Как золото звенит – ты слышишь? Засыплет тебя император всего, с головы до ног…Едекон (приглядываясь к кошельку). Дай сюда. (Выхватывает кошелек.)
Вигила. Зачем?
Едекон. Римская башка! Стражу надо купить или нет? А то зарежут нас, как баранов.
Вигила.
Мое имя там, золотым шитьем… Отдай мне этот кошелек назад. Вот здесь другой.Едекон. Не веришь? Ну и делай все один. (Протягивает кошелек.)
Вигила. Нет, я верю, верю я, только…
Глашатай (входит). Атилла! Атилла! Славьте! Трепещите! Ликуйте!
Под дикую музыку, в неистовом плясе вбегают нескольковоинов. Входит Керка и ближние кмети Атиллы. Затем – Оногост, Исла, шут Зыркон и, наконец, Атилла.
Воины, Стражи (колотят в щиты). Арра, Атилла! Арра, Атилла!
Атилла садится; Керка тоже на скамье пониже. Остальные стоят, за исключением Приска. Он уселся, расправляет складки.
Едекон (кидается к нему). Встань, встань!
Приск (встает). А почему?
Едекон. Идол римский, не знаешь разве: сидеть при нем может только она одна. (Показывает на Керку.)
Приск. Она? А почему?
Едекон. Потому, что она может лежать под ним. Понял? Дуб!
Атилла обводит кругом глазами, все цепенеют. Тишина. Встретился взглядом с Керкой.
Керка (встает с поклоном).
Супруг мой, князь – живи и здравствуй…Атилла (небрежно).
Живи и ты. Здорова? Как спала?Керка. Мне не спалось. Я все ждала, что ты…
Атилла.
Потом… (Увидел Ятвяга среди кметей.) А, здесь, Ятвяг? Когда вернулся?Ятвяг. Вчера. Привез сюда пятьсот возов…
Атилла.
Расскажешь после. Ну, Оногост, с кого начнем?Оногост.
С кого велишь. И так и эдак можно: ждут и свои, ждут и чужие. Восточный Рим к тебе прислал послов – их Едекон привез. Вон там стоят. Тот лысый – он сенатор. Да-а!Атилла.
Сенатор? Ха! К нам, варварам, сенатор? Ведь нас они зовут склавены, славы – по-римски, а по-нашему – рабы. Какая честь! К рабам послом сенатор!Оногост. Прикажешь их позвать?
Атилла.
Пусть подождут. Мы варвары, что делать? Ты знаешь мой обычай – по порядку: Кто раньше всех пришел – того веди.Оногост. Да раньше всех так: голяк какой-то пришел, я ему сказал…
Атилла (нахмурившись). Что сказал?
Оногост. Чтоб шел он… (Поймав взгляд Атиллы.) Нет, чтоб стоял… то есть так и эдак: чтоб стоя шел.
Атилла. Зови его сейчас же… ты, двухъязыкий!
Оногост бежит к двери, впускает Дулеба.
Дулеб (кидается к Атилле). К тебе за управой! Невмочь терпеть. Мы тебе челом бьем на одного из твоих.
Атилла. Кто мы?
Дулеб. Дулебы мы, орем мы землю и сеем просо, живем. Так наехал к нам с людьми твой… (Замолкает.)
Атилла. Ну, что ж ты? Дальше!
Дулеб. Здесь он… Боюсь!
Атилла. Здесь я. Не бойся. Где он – укажи!
Дулеб (показывает на Ятвяга). Он… наехал, взял оброк с нас. Мы дали сполна: по мере с дыму. А через день – глядим, опять он тут – другажды давай ему оброк. Ну, обидно. Мы не дали. Так он велел нас в кнутья, коих до смерти, коих до крови. Меня, гляди: вон как иссек! (Поворачивается спиной, начинает спускать порты.)
Атилла.
Не надо – верю. (Ятвягу.) Подойди. Он правду говорит? Гляди в глаза мне!Ятвяг, дрожа, стоит молча, прикованный к глазам Атиллы.
Атилла (спокойно Ятвягу). Пойди, убей себя. Сейчас же!
Ятвяг (подходит к страже, ему дают нож, он ударяет себя ножом. Падая, кричит). Атилла – живи и здравствуй!
Его уносят.
Дулеб. Ты милостив, князь… и страшен.
Атилла. Не тебе: неправде. Иди.
Дулеб уходит.
(Едекону.)
А, мой топор! Вернулся? Ну, что в Восточном Риме видел, а?Едекон. Баб…
Атилла. Как баб? А император Феодосии?
Едекон. А вот я тебе скажу: «Кобылу видел», а ты меня тоже спросишь: «Как кобылу? А хвост?»
Атилла. Чудак. Пожалуй, не спрошу.
Едекон. Ну вот. Так Феодосий на бабах растет, как на кобыле хвост, и они им вертят, как хотят. А другие, чтоб походить на баб, вот это самое себе (показывает) ножом долой, и голоса у них бабьи, и рожи бабьи – евнухи по их.
Атилла. Ты это видел? Так. Что ж слышал?
Едекон. Имя.
Атилла. Какое?
Едекон. Атилла. Об Атилле, про Атиллу – все, у всех ты в глотке застрял, как рыбья кость: плюются, а кость все там. Только на одного и есть у них надежда, что он сумеет вынуть кость.
Атилла. Кто ж этот лекарь?
Едекон. Аэций.
Атилла.
Аэций? Тот, кому я дал приют, когда опальный он бежал из Рима? Мы рядом с ним, бок о бок шли на готов, в бою он жизнь мне спас – ты видел? Помнишь? И мы теперь сойдемся с ним врагами? Ну что ж: хороший враг – милее друга.Едекон. Страшен враг не в поле, а в доме.
Атилла. О чем ты?
Едекон (встраивает мешок). Об этом. Я принес тебе подарок. Возьми… (подает Атилле мешок).
Вигила (послам). Теперь… смотрите! Смотрите!
Атилла (раскрывает мешок). Брат, Вледа… ты?
Голова (шепотом). Вледа… Вледа! Вледа!..
Мертвая тишина.
Атилла (Голове).
Молчишь? Не слышишь? Ты помнишь, как с тобой однажды мы увели отцовского коня и – в степь, сквозь солнце, травы, пыль? Ты сзади сел и за меня держался – и в шею мне дышал теплом – теперь ты дышишь холодом в лицо…(Молча смотрит.)
А помнишь, ты метнул стрелой в лягушку? Лягушка дергалась, потом затихла, и ты меня спросил: «Что с ней?» Ну, что ж с тобой теперь? Затих? Молчишь? Ты знаешь, что письмо не император, не Феодосии получил, а я?(Едекону.)
Сперва ты показал ему письмо, потом ударил топором, ведь так?Едекон. Да, так.
Атилла. И сразу, с маху – он не крикнул даже?
Едекон. Он не поспел.
Атилла.
Вот так же мне с плеч голову снеси, когда увидишь, что как с псами пес я с Римом снюхался. Ты понял?Едекон. Понял.
Исла. Так, так, Атилла! Так!
Атилла (Голове).
Ты тоже понял? Поздно? Ну, прощай! Мой Вледа, брат, предатель милый…(Целует Голову, закрывает мешок. Едекону.)
Чтоб знали все, что он изменник, чтоб наказали сыновьям и внукам, чтоб, вспомнив ночью, просыпались с криком – пойди и труп его повесь на тын, да голову в руках пусть держит сам – стервятникам навстречу – пусть клюют. Ты слышал? Ну, иди!Все замерли. Едекон с мешком отходит от Атиллы.
Вигила (кидается к Едекону).
Скажи: ты сам дьявол – или кто?Едекон. Узнаешь скоро… Гляди, твоя…
Ильдегонда, одетая пышно, входит. Садится на скамью.
Атилла (увидел). Кто смел там сесть?
С разных сторон кидаются к Ильдегонде, Атилла останавливает их.
Ты знаешь наш обычай: при мне дано сидеть моей супруге. Ты что ж, со мной спала и хочешь, чтоб про это знали все?Смех.
Ильдегонда.
У вас, быть может, есть обычай, чтоб женщины зверям давались. У нас такого нет, ошибся.Атилла. Пусть стоит! Поднять ее!
К Ильдегонде подбегают, заставили встать, грубо держат. Вигила делает движение к Ильдегонде. Максимин хватает его за руку.
Ильдегонда (Вигиле). Не надо – я сумею сама.
Атилла. Подойди.
Ильдегонда стоит.
Ты что же, боишься?
Ильдегонда. Боюсь? До сих пор боялись – меня. (Подходит).
Атилла (смотрит на нее).
Да, вижу: тебя бояться можно. Не знал я слова такого: страх, но так хороша ты, что даже страшно.Шут Зыркон. А я, князь, на двенадцати языках говорю.
Атилла (не отрываясь от Ильдегонды). Умен! Что ж дальше?
Зыркон. А то, что судьба на всех языках бабьего рода.
Атилла.
Судьба? Судьбу согну я, как лук, тетиву оплету из ее же волос – судьба моя будет мне служить!Зыркон. Будешь гнуть – не перегни, а то лопнет, да в лоб…
Ныряет под скамью. Атилла берет за руку Ильдегонду. Она резко вырывает руку.
Керка (все время не спускавши глаз, бледнея, встает). Князь, позволь мне уйти!
Атилла (не слышит, или не слушает. Ильдегонде).
В лесу волчонка я раз поймал: теперь он ходит за мной ручной.Ильдегонда.
В лесу раз волк на меня напал, его кости я зарыла под сосной.Атилла.
Хорошо сказала! Так!Ильдегонда хочет уйти.
Подожди! Ты стоишь того, чтобы при мне сидеть. Ты хочешь?Ильдегонда. Нет. Атилла.
Поняла ли ты, что я тебе сказал? Ты вспомни: у нас обычай есть…Ильдегонда. Да, помню.
Атилла. Теперь твой ответ?
Ильдегонда. Нет.
Атилла. Нет, ты скажешь мне – да!
Ильдегонда.
Когда пух утонет, когда камень всплывет, тогда, быть может, скажу. (Отходит от Атиллы.)Зыркон. Съел молодец тридцать пирогов с творогом, а тридцать-то первый с рыбьей-то костью!
Атилла. Ты замолчишь? (К Атилле подходит Керка. Керке, глядя на Ильдегонду). С кем она говорит? Кто он?
Керка.
Позволь мне, князь, уйти к себе. Я больше не… не могу…Атилла (не слушает, смотрит на Ильдегонду и Вигилу). Кто он? С кем она говорит?
Керка. Ее жених – посол из Рима.
Атилла.
Жених? Вот что! Так римлянка она? Не знал! Ну, римлян я люблю лишь мертвых.Исла.
Вот эту речь я узнаю: Теперь Атилла говорит!Атилла.
Понравилось тебе, старик? Так вот тебе еще подарок: пойди скажи ей, чтоб сейчас же отсюда убиралась вон. И больше чтобы никогда не попадалась мне. Не то… Иди!Исла идет к Ильдегонде, грубо выводит ее.
Оногост.
Оно хотя – хоть будто так, но повернуть – так выйдет эдак.Атилла. Брось жвачку! Говори живей!
Оногост.
Не римлянка она. Ее отец – король бургундов.Атилла.
Ехидна и змея – одно. Союзники бургунды с Римом.Оногост.
Змея – она кольцом, конечно, так… Но вот и эдак тоже (покгяывает руками) прямо вроде. И если клюнет в сердце…Атилла (задумавшись).
Что? В сердце? Да… (Очнулся.) Постой… Ты слышишь: что это? Вот?Оногост (подбегает к окну).
Выезжают в ворота. Она – впереди. Обернулась… Крикнула… Кони – вскачь. Не видать больше: пылью заволокло…Атилла.
Эй, Едекон! Вернуть ее! Скачи – не жалей ни коней, ни себя.Едекон. Уж от меня бы птичка не улетела: ко мне в руки – в капкан. А только я сейчас не могу: не видишь, что ли, – послы ждут.
Атилла. Тебе что за дело до послов?
Едекон. Что за дело? Я обещал послам… (тихо) помочь убить тебя.
Атилла. Что? Повтори!
Едекон. Убить тебя.
Атилла (молчит. Ужасен. Улыбается).
Так вот каких послов к нам шлют! Ну, император, я с тобой…(Едекону.)
Дай мне топор! Постой… не надо… Скажи: все трое иль один?Едекон. Один. Он грамоту тебе подаст.
Атилла.
Что ж, примем дорогих гостей – по чину! Ну, Оногост, зови послов.Оногост жестом приглашает послов.
Максимин (Приску и Вигиле). Идем! (Идут к Атилле. Атилле.)
Владыка Скифии! Наш император как брату шлет тебе привет от сердца…Атилла. От сердца или в сердце?
Максимин (сбитый с толку, остановился. Продолжает). …и он тебе желает долго жить.
Атилла.
Еще бы! Знаю! От меня скажи, что ровно столько ж, ни минуты больше ему желаю жить. Ты понял?Максимин (опять остановился. Продолжает).
По доброте своей наш император дал беглецам из Скифии приют.Атилла.
Приют для всех, кто с Вледой заодно? Так, так!Максимин.
Но ты хотел, чтоб выдали тебе их, мы привезли их всех до одного. Не будь суров: согрей их, накорми, тебя об этом император просит.Атилла.
Для них мне ничего не жаль – увидишь.(Едекону.)
Их друга Вледы терем опустел,отвесть туда их…
(Максимину.) Разве я не щедр?(Едекону.)
И в терем к ним загнать быков штук пять.(Максимину.)
Довольно, правда? Но у вас, у римлян, они отвыкли мясо есть сырьем, как мы в походах. Что ж: поджарим мясо.(Едекону.)
Весь терем обложи кругом дровами, забей покрепче двери – и зажги.(Максимину.)
Не хочешь ли пойти полюбоваться,
как просьбу императора исполнят?
Кмети, Стража. Ха-ха! Ржуй Рим! Так!
Максимин (Атилле).
Ты смеешь надо мною издеваться – над сенатором, над римским послом? Так я – (овладев собой, Вигиле и Приску) уйдем, пока не поздно. Я – стар, но еще есть во мне кровь, и могу… я забуду, что я посол… Уйдем…Вигила.
Уйти? Нет, я не уйду! Письмо император дал, я должен вручить письмо – и я должен… Пусти!(Подходит к Атилле.)
Атилла (вглядываясь в подошедшего Вигилу медленно).
Так это должен сделать ты? Ну, ближе. Ближе, чтоб верней! Теперь как раз удобно. Правда?Вигила (протягивает письмо, рука дрожит). Письмо…
Атилла. Ну, что ж еще? Я жду!
Вигила, держа в руке письмо, другой рукой, под взглядом Атиллы, ищет нож, запутался в складках одежды.
Атилла (спокойно). Помочь тебе найти твой нож?
Вигила (растерянно). Мой… нож?
Атилла.
Ну да – твой нож. Что смотришь? Ведь ты хотел меня – ножом?..Керка кидается между Атиллой и Вигилой.
Кмети, Стража (к Вигиле со всех сторон). Ножом! Аррчь его! В клочь! В хрупь!
Атилла. Не тронь! Связать его!
Максимин (тем, кто вяжет Вигилу).
Не сметь! Он – посол! (Атилле.) Скажи дикарям своим, чтоб не смели оскорблять посла!Атилла.
Посла? Не посол он – убийца. (Едекону.) Говори!Едекон (Атилле). Царский евнух сказал о тебе – ты бешеный пес и на кого брызнет твоя слюна – все бесятся и рвут хозяев в клочья. И сказал: если я ему (на Вигилу) помогу убить тебя, так император отсыплет мне золота столько, сколько во мне весу. А весу во мне, что в добром медведе. Ого!
Максимин. Бёсстыдный варвар, ты лжешь!
Едекон. Лгу? Ах, ты, лысая тыква! Вот кошелек – гляди: на нем зернью нашито имя «Вигила». Это он дал мне купить стражу.
Максимин. Ты выкрал у него кошелек!
Едекон (быстро нащупав, выхватывает нож у Вигилы). А это что? Ага, проглотил язык! (Атилле, взявшись за топор и покрывая на Вигилу.) Прикажешь его сейчас же?
Атилла.
Постой… (Думает секунду.) Мальчишку этого – плетьми! (Вигиле.) Прославленным вернешься ты к невесте… Пускай узнает, чем ты кончил подвиг…Вигила. Нет! Нет! Только не это!
Исла (Атилле). Ты лучше бы его убить велел. Атилла.
Не много ль чести? Да к тому он посол, ведь жизнь посла священна. А впрочем, если он… (Вигиле.) Ты хочешь смерти? Скажи – умрешь сейчас же. Нет? Молчит. Ну, значит… (Едекону.) Что ж: веди его…Вигила. Будь ты прокл…
Едекон зажимает ему рот и быстро вытаскивает его.
Атилла.
Так вот как мира хочет Рим? В руках письмо, а за спиною нож? Послы затем, чтобы нанять убийцу? Убить меня, чтоб скифов заковать?(Максимину.)
Так пусть он молится – твой император! Скажи ему – пусть об земь бьется лбом, пускай торопится считать грехи: ему недолго жить – идет Атилла…Максимин хочет уйти.
Держать его! Чтоб до конца дослушал, чтоб римляне узнали, что их ждет!Приск, оглядываясь, крадучись, пробивается к дверям и выходит.
Максимин. И я живу! О, стыд!
Оногост (подводя к Атилле послов).
Евдокс – посол от галлов.Посол Галлов.
Леса у нас полны крестьян, рабов, бегут от римлян, ночью лес живет: горят костры, куют мечи и пики и к Риму ненависть в сердцах куют. Как друга варваров тебя все знают и как грозу для римлян ждут тебя…Атилла.
Скажи им, что гроза близка и скоро хлынет ливень – да такой, что смоет Рим с лица земли!Кмети и Стража. Арра! Арра!
Оногост.
Посол от наших родичей-вандалов, от тех, кто сорок лет назад с мечом в Гиспанию прошли.Посол Вандалов.
Король мой Гензерик прислал сказать тебе, что он готов ударить в римлян с тыла – ждет тебя.Атилла.
Скажи, что я уж поднял молот свой, и так ударю, что в куски Европа!Максимин. О, Рим! Старик мой Рим – прощай!
Атилла.
Теперь труби, глашатай, труби на запад, север, юг, восток, чтоб все от Вистулы до самой Волги услышали мой клич: вперед на Рим!Глашатай трубит.
Все. Арра! Атилла! Атилла!
Действие второе
Внутри Аврелиана, осажденного Атиллой. Зубчатая верхушка городской стены и над ней – верхний ярус башни. Видимая часть (нижнего) яруса башни образует обширную каменную площадку на уровне стены. Весь город чувствуется где-то внизу, виден купол христианской базилики, крыша еще какого-то здания. Старик раб, Камель, прикованный цепью к башне, вертит точило, точит мечи. Издали – удары тарана, глухой гул боя, крики и вдруг грохот: что-то рухнуло. Камель вскакивает.
Гоур (вбегает на площадку – Камелю – восторженно). Отец! Отец! Отец!
Камель. Гоур, ты? Что случилось?
Гоур. Рухнула-а! Северная башня рухнула! Атилла бил в нее таранами с утра – и она рухнула!
Камель. Значит, настал последний час?
Гоур. Да, последний час! Но не для нас с тобой, не для рабов, а для них – римлян, для короля бургундов – вот для кого! Теперь уж скоро – не знаю: через полчаса, через минуту – Атилла ворвется в город – и тогда мы свободны… (кричит). Сво-бод-ны! Ты понимаешь?
Камель. Тсс… тсссс… не кричи: услышат. Они здесь… они здесь…
Гоур. Кто?
Камель. Дочь короля Ильдегонда и с ней ее молодой римлянин. Гляди: вон они, внизу, они уже подходят к башне.
Гоур. Пусть слышат. Не боюсь: пришло время им нас бояться.
Камель. Смотри, не ошибись. Вспомни: утром глашатай короля кричал, что еще сегодня до заката придет на помощь Аэций с римским войском.
Гоур. Нет, Аэций не поспеет! Нас много – таких, как я. Я сейчас пойду и подниму их всех. Я знаю, у кого ключи от городских ворот: у епископа. Мы пойдем к нему, мы…
Камель (взглянув вниз). Тсс… они идут сюда – скорее уходи. И будь осторожней, будь осторожней! Помни: ты у меня один.
Гоур. Я не один. Нас много – не бойся! (Уходит.)
Камель (вслед ему). Мой Гоур… Как он хорош сейчас! Какой огонь в глазах…
Входят Ильдегонда и Вигила.
Вигила. Ильдегонда… что же делать – что делать?
Ильдегонда. Постой… (прислушивается. Удары тарана.) Вот опять… Ты слышишь?
Вигила.
Это новый таран подвезли, бьют где-то уже недалеко, вот-вот посыпятся камни – и Атилла… (Удары тарана.)Ильдегонда (прислушиваясь).
Опять! Опять! Это он – стучит в мою дверь, это он пришел за мной, – я знаю!..Вигила. Мы погибли.
Ильдегонда.
Еще нет. Но висим мы на волоске: Аэций с войсками близко, подоспеет – мы спасены, опоздает хоть на минуту – конец…За стеною, издали крики: «Аррчь! Ао!»
Вигила.
Что такое?(Подбегает к зубцам стены, смотрит, перегнувшись.)
Это скифы… Стреляют из луков…Ильдегонда (тоже смотрит).
Целят прямо в тебя… Отойди! Вигила! Вигила!Вигила отскакивает от стены. В плече у него торчит стрела. Он выдергивает ее и медленно опускается на землю.
Ильдегонда.
Вигила! Я с тобой! Ты слышишь? Это я! Открой глаза! (Пытается поднять его.) Кто здесь? Сюда, скорей!(Звеня цепью, подбегает Камель.)
Скорее… помоги расстегнуть… Подними… снимай… Теперь это…Снимают с Вигилы верхнюю одежду, начинают расстегивать нижнюю. Вигила приходит в себя. Камель возвращается на свое место.
Ильдегонда. Он жив! Очнулся!.. Вигила!
Вигила (отталкивает ее и, запахивая одежду, вскакивает). Ты видела? Ты видела? Говори!
Ильдегонда. Что видела?
Вигила.
Следы на моем теле… Ты видела их? Говори же!Ильдегонда.
Какие следы? Постой, дай рану перевяжу…Вигила (обнажая меч). Отойди! Не касайся меня!
Ильдегонда.
Опомнись, что с тобой? Скажи, что с тобой? Скажи, чего ты боишься? О каких говорил следах?Вигила (опуская меч). Н-ни о… каких… Я… не… знаю… не помню…
За стеной отдаленные крики: «Атилла! Атилла!» Вигила хватает Ильдегонду за руку.
Вигила. Ты слышишь – кричат – «Атилла»!
Ильдегонда (взглянув за стену).
Он на приступ идет…
Вигила.
Ильдегонда… Если так случится, что нас живыми в плен возьмет…Ильдегонда. Нет!
Вигила.
…умоляю тебя, обещай мне, что его словам не поверишь, что его не станешь слушать, забудешь все, что он скажет…Ильдегонда.
О чем ты? Не понимаю… Ты должен мне объяснить…Вигила торопливо уходит.
Куда? Постой… ты же ранен.Вигила.
Стрела только чуть задела… Меня ждут… не могу…Убегает вниз.
Воин-бургунд (входит).
Король, твой отец, приказал передать тебе свой последний привет.Ильдегонда. Он убит?
Воин-бургунд.
Еще жив, но он бьется сейчас на стене, откуда никто не уйдет живым: сам Атилла там – впереди своих. Как буря дыханьем вздымает волны, пока не сокрушит все на пути, так и он. Что же можем мы – против бури?Ильдегонда.
Ступай… Подожди. Скажи королю, что если погибнуть ему суждено, пусть помнит, мой нож всегда при мне.Воин-бургунд уходит. Удары тарана.
Ильдегонда (прислушиваясь).
Все слышней, все слышнее стук, Атилла все ближе, все ближе…Епископ Анниан (входит. Ильдегонде – в отчаянии).
Я их люблю… Ведь они живые… Понимаешь? Живые! Говорят! Я слышу их голос!Ильдегонда. Чей голос?
Еп. Анниан.
Моих книг… одиннадцать тысяч книг! Гляди: это Цезаря манускрипт, Гая Юлия Цезаря!Ильдегонда. Ну, так что же?
Еп. Анниан.
Как, что же? Сейчас ворвались, разбросали все мои книги…Ильдегонда. Кто ворвался?
Еп. Анниан.
Рабы, солдаты… Ключи у меня искали, ключи от городских ворот, чтобы открыть ворота Атилле… Гнались за мной по пятам, сейчас будут здесь… вот: слышишь?Крики приближающейся толпы.
Ильдегонда.
Постой… Дай прийти в себя… Как злые птицы – беды отовсюду слетелись, клюют.(Молчит, потом.)
Нет, не сдамся! Слушай, епископ: ты им скажешь, что Аэций идет, что он уж близко, он – тут…Еп. Анниан. Они ждать не хотят.
Ильдегонда. Так заставь их!
Е п. Анниан. Как?
Ильдегонда.
Угрозами, лестью, чудом, чем хочешь! Ключи при тебе?Еп. Анниан. Вот они.
Ильдегонда. Спрячь их подальше.
Е п. Анниан. Идут…
Ильдегонда.
До конца держись! Я тебя подожду – вон там… И помни: ни одно твое слово от меня не уйдет – все услышу.Скрывается за башней на другой стороне площадки. Крики толпы слышнее. К еп. Анниану подбегает Гоур, за ним еще несколько рабов и солдат. Двое-трое из толпы появляются на крышах здания, остальная толпа внизу, ее только слышно.
Камель (глядя вниз на поднимающегося по ступеням Гоура). Он! Он – мой Гоур – впереди всех!
Гоур (еп. Анниану). А-а, вот ты где, монах! Ключи! Ключи!
Голоса внизу. Ключи! Ключи!
Солдат на крыше. Мы – бургунды, какого черта дохнуть нам за Рим?
Голоса внизу. Верно! Верно! Ключи! Ключи!
Еп. Анниан.
Аврелианцы! Дайте мне сказать последнее. Потом я в вашей воле…(Толпа затихает.)
Смотрите! Вот! Вы видите пергамент? Ему цены нет. Тысячи таких же древнейших, драгоценных книг…Гоур. Ты опять о книгах? Мы – люди: понял? Мы жить хотим!
Еп. Анниан.
Нет, вы хотите, чтобы все погибло. Терпели вы осаду целый месяц – и вдруг в последний час хотите сдаться! В тот час, когда вот-вот придет к нам помощь, когда Аэций, может быть, совсем уж близко.Гоур. Не верьте ему, он лжет – Аэций далеко. Зато Атилла близко – наш Атилла!
Голоса внизу. Атилла! Атилла!
Гоур. Без разговоров – ключи давай!
Голоса. Ключи! Ключи!
Слышен звук римской букцины.
Еп. Анниан.
Постойте… (торжествуя). Слышите? Трубят! Еще! Вы узнаете звуки римских труб? Святая Дева, будь благословенна, ты чудо сотворила. Это он – Аэций! (Гоуру.) Что, солгал я? А, молчишь? Скорей на башню, кто-нибудь скорее, оттуда римляне уже видны…Солдат на крыше. Я иду. И если это Аэций… (Спускается с крыши.)
Гоур (в отчаянии). Нет! Нет! Не верьте!
Голос на крыше.
А вдруг правда? Смотрите: он уже влез. Он смотрит, он уже, наверное, увидел… Он сейчас будет говорить! Тише!Еп. Анниан (солдату на башне).
Ты видел? Римляне идут? Ведь так?Солдат. Да, римляне…
Еп. Анниан (влюбленно пергаменту). О! Ты спасен… спасен!
Солдат.
Но этих римлян, скованных, в цепях, – чтоб подразнить нас – гонят гунны к стенам.Еп. Анниан закрывает лицо.
Гоур. Обманщик! Убить монаха! Убить!
Окружают еп. Анниана. Над головами видна его поднятая рука с пергаментом.
Ильдегонда (выбегает из башни). Стойте!
Еп. Анниан. Мои книги! Кни… (Падает под ударами.)
Солдат (поднимая ключи). Вот они – ключи!
Голоса. Ключи! Скорее к воротам! Атилла! Атилла!
Ильдегонда. Злодеи! Король прикажет вас всех…
Гоур. Теперь приказывает не король, а я.
Ильдегонда. А-а, ты?
Голоса. Гоур с нами! Веди нас!
Гоур.
Идите, я за вами следом, только цепь раскую у отца…Голоса. Да здравствует Атилла! Атилла! Атилла! (Уходят).
Камель (любуясь Гоуром – восторженно). Мой Гоур! Мой Гоур!
Гоур. Поставь ногу сюда, скорее.
Камель. Ты рожден, чтоб вести за собой народ.
Гоур. У меня будто выросли крылья, мне кажется, – сейчас полечу…
Нагнувшись, начинает расковывать Камеля. Ильдегонда подходит сзади, вынимает свой нож.
Ильдегонда (удары ножом Гоура).
Лети, подлый раб, изменник!
Камель. Мой мальчик! (Хватает один из груды мечей, кидается на Ильдегонду.) Ты, проклятая!
Цепь мешает ему приблизиться к Ильдегонде, отошедшей на несколько шагов.
А-а… не могу… Ушла… (В сторону Ильдегонде.) Все равно: ты не уйдешь – ты не уйдешь – ты не уйдешь от меня! Помни!
Ильдегонда по другую сторону башни обессиленно опускается на каменную скамью. В руке нож, смотрит на него неподвижно. Появляется Марулл.
Марулл. Ильдегонда, я тебя ищу повсюду… Спрячь, спрячь меня!
Она в той же позе.
Разве ты меня не узнаешь? Я – Марулл, придворный поэт, я столько раз слагал оды в честь короля, твоего отца, и в честь тебя.
Ильдегонда (очнувшись).
Ты видел отца? Ты видел? Что с ним?Марулл.
Я видел, как этот бешеный зверь – Атилла – пустил в него стрелу: твой отец пал мертвым… Спрячь меня!Ильдегонда.
Так Атилла убил моего отца? Хорошо! Не забуду!Марулл. Спрячь меня!
Ильдегонда. Уходи!
Марулл прячется за выступ башни. Слышны крики и боевая песня гуннов где-то близко.
Ильдегонда (прислушиваясь).
Это гунны! Это они! Это он!Вигила (вбегает).
Им открыли ворота… Он – здесь! Атилла – здесь! Ильдегонда, все кончено…Ильдегонда.
Нет. Скорей, пока не поздно – в башню… быть может, там нас не найдут… железная дверь – крепка… быть может, Аэций успеет…Вигила. А если – нет?
Ильдегонда. Так успеем мы… умереть…
Пробегает мимо Камеля, подслушавшего их разговор, и по ступеням вниз. Марулл торопливо пишет что-то.
Камель. Так! Волки в капкане… (Нагибаясь к Гоуру.) Теперь тебе уж недолго ждать… Они в капкане, в капкане, в капкане!..
С противоположной стороны на площадку башни поднимается Атилла, с ним Исла, Едекон, Зыркон, два-три воина.
Исла.
Ну, вот, Аврелиан у наших ног: Любуйся! Что ж молчишь? Куда ты смотришь? Как будто ищешь ты еще врага?Атилла. Ты прав: ищу.
Исла. Кого же?
Марулл (появляется).
Атилла, ты! Тебя искал я всюду!Атилла. Зачем?
Марулл.
Затем лишь только, чтоб сказать: привет тебе, Атилла, богоравный… Что я? – все боги перед тобой – мальчишки!Зыркон начинает шапкой мести перед Маруллом.
Атилла (Зыркону). Ты это что затеял, шут?
Зыркон. А. разве ты не видишь – он на брюхе сейчас поползет, так чтобы не замарался… (Смех.)
Атилла. Оставь… (Маруллу.) Еще что скажешь?
Марулл
Я оду написал. Дозволь прочесть, – Тогда могу я умереть спокойно.Атилла. Чтоб умереть спокойно – что ж, читай.
Марулл.
Рим, трепещи! Слышишь звяк, слышишь гул, слышишь топот с Востока? Гунны могучие мы – мы несемся, как буря на Запад. Гунны могучие мы…Атилла. Скажи-ка: а давно ты гунном стал?
Марулл. Сегодня… Нет: вчера… Что я – с неделю!
Атилла.
Ты старый гунн! Такие нам нужны…(Едекону.)
Ты завтра в бой его пошлешь на римлян, да в первый ряд, пусть там себя покажет.Марулл пятится и кидается наутек.
Зыркон. Ага, живот схватило!
Воины. Сра!.. Ха!.. Хо!.. Хухусь! (Бегут за Маруллом.)
Атилла.
Оставьте! Или мало вшей у вас, – Еще одну хотите завести? Идем!Камель. Постой! Не уходи!
Атилла. Чего ты хочешь? Кто ты?
Камель. Римский раб.
Атилла.
Пора забыть, что был им. Встань, старик!(Одному из воинов.)
Сейчас же расковать его.Камель.
Зачем не видит этого мой сын? Зачем? Как он любил тебя, как ждал! И вот, смотри – дождался…Атилла. Убит? Скажи мне, кто убил его?
Камель.
Ты обещаешь мне его убийцу, чтоб я смог сам – вот этой вот рукой… Ты обещаешь? Ты – Атилла?Атилла.
Да, обещаю. Ты его получишь – Скажи, кто он?Камель. Она, она здесь – в этой башне.
Атилла. Говори же скорее: кто?
Камель. Ильдегонда.
Атилла (схватив Камеля). Ты сказал… Ильдегонда? Там?
Камель. Да…
Атилла. В этой башне? Дверь… где дверь?
Камель. Железная дверь – внизу.
Атилла (кричит вниз).
Это я, это я – Атилла! Двери в башню ломай живей! Топоры! Таран сюда! (Всем). За мной!Все быстро уходят. Остается только воин, расковывающий Камеля.
Камель.
Сейчас, Гоур… сейчас… Лежи спокойно. Еще минута – и им конец, конец, конец!Уходит вниз вместе с воином Атиллы.
Голоса внизу. Ао! Бей! Аррчь! (Удары топора.)
На башне, на самом верху, появляются Ильдегонда и Вигила.
Вигила.
Они знают, что мы здесь, – они знают! Топорами бьют в дверь – ты слышишь?Ильдегонда.
Пока держится дверь – есть надежда…Вигила. Снизу видно… Уйдем отсюда!
Ильдегонда. Все равно… Никуда не уйдешь.
Вигила. Смотри, таран несут!
Ильдегонда.
Таран? Значит, нам конец…. Теперь минуту жить… Сейчас Атилла ворвется…Вигила.
Я знаю, он расскажет тебе… Но ведь ты ему не поверишь, – не поверишь ему? Обещай!Ильдегонда.
О чем ты? Скажи, пока не поздно.Вигила.
Чтоб я тебе… сам? Никогда! Скорее умру!Голоса внизу. Бей! Гой! Хрряс!
Удар. Треск.
Ильдегонда. Пора… Вот… Возьми! (Дает ему свой нож).
Вигила. Что ты? Чего ты хочешь?
Ильдегонда.
Ты любишь меня? Да? Так направь мне нож в сердце: ты биться его заставлял и ты остановишь.Вигила. Нет!
Внизу удар, треск.
Ильдегонда (раскрывая платье).
Дай руку… Мою грудь – узнаешь? Ты хочешь, чтобы другой коснулся меня вот так? Ты видишь: шатер, ночь… белеют колени во тьме… Это я – на ложе Атиллы…Вигила. Дай мне нож! (Поднял. Опускает.) Нет!
Внизу удар, треск, что-то падает.
Вигила (взглянув вниз). Ворвались! Ильдегонда…
Ильдегонда.
Сейчас от Атиллы узнаю о тебе всю правду…Вигила.
Нет! Не узнаешь! (Поднимает нож.) Глаза… не могу… Отвернись… Теперь – прощай…На верх башни врываются Атилла, Едекон, Исла, Камель и несколько воинов-скифов.
Атилла. Аррчь, аррчь их!
Другие. Аррчь!
Короткая схватка. Вигила пытается защищаться ножом. Едекон обезоруживает его, скручивает ремнем руки, засовывает за ремень нож.
Едекон (Вигиле с издевкой). Держи крепче, пригодится: я этим ножом пощупаю у тебя сердце.
Вигила. Ты… гнусный предатель! Палач!
Едекон. Та-ак? Ну, я заклепаю тебе рот (затыкает ему рот полой его одежды. Атилле, который держит Ильдегонду.) Давай девку скручу!
Атилла (не отвечая ему, Ильдегонде).
Когда ты вот так, стиснув зубы, стоишь и глаза свои мечешь в меня, как копья, ты еще прекраснее – слышишь?Ильдегонда пытается закрыть грудь.
Зачем? Все равно ведь ты моя: Захочу, так увижу тебя всю.Ильдегонда. Ты убил отца… Берегись…
Атилла. Ха-а! Мне бояться тебя?
Едекон (подняв топор). Дай-ка я ее… вернее бы дело.
Камель. Она – моя! Он обещал ее мне!
Исла (посмотрев вниз, Атилле).
Кончай с ней скорей. Пора! Там в городе что-то случилось, кричат и сюда бегут…Едекон (с поднятым над Ильдегондой топором, Атилле). Прикажи!
Воин-скиф (запыхавшись, вбегает наверх башни). Аэций!.. Аэций! Римляне.
Камель (Атилле). Она моя! Ты обещал!
Атилла (Намелю).
Молчи! Сейчас нет ни тебя, ни ее: Есть только римляне и я…(Отстраняет Ильдегонду.)
Исла. Так, князь! Вот – теперь – это ты!
Атилла (Исле). Выводи из города всех – скорей!
Исла. Как? Уходить?
Атилла.
Не в клетке, в поле мы примем бой, на равнинах Каталауна, завтра с Аэцием встреча. Рим – или мы!Уходят, уводя Вигилу и Ильдегону. Мгновение сцена пуста, слышен мерный топот, звуки римских букцин. Затем на площадке появляется Центурион, с ним несколько римских воинов. Увидели труп епископа Анниана.
Центурион (кричит внизу). Аэций – сюда! Сюда!
Аэций (нагибается над трупом еп. Анниана). Как? Епископ Анниан? Убит?
Центурион. Король тоже. Ильдегонда в плену.
Аэций. Мы… опоздали…
Действие третье
Ночь после Каталаунской битвы. Лагерь Атиллы. Поставленные в круг грубые скифские телеги, крытые дубом. Впереди с закрытой занавесью – вежа Атиллы. Перед вежей на страже Едекон с топором. Входит Атилла.
Едекон (бросается к нему, ощупывая его, трется головой, радостно рыча, как большой пес). Гу-у-у? Гу-у-у!
Атилла. Ну что, что?
Едекон. Ты живой, живой вернулся! Я все стою и думаю: а ну, как его принесут… А ты вот – живой! (Берет у Атиллы щит, вглядывается.) Кровь… Чужая или твоя?
Атилла. Не знаю. Ильдегонда там? (Показывает на вежу.)
Едекон. Там.
Атилла. Говорила с тобой?
Едекон. Нет, молчит. Только раз спросила о нем.
Атилла. О ком?
Едекон. Да об этом… О Вигиле. Я сказал шутки ради, что снес ему голову топором.
Атилла. А она?
Едекон. Молчит, как земля, как ночь.
Атилла. Так. Ислу или Оногоста не видел?
Едекон. Нет.
Атилла.
Я их потерял в темноте. Не знаю: уцелели в бою, или погибли. Если живы – скажи, пусть придут сюда.Едекон уходит. Выйдя из темноты, недалеко от Атиллы появляется Камель.
Атилла.
Кто ты? Подойди поближе. Еще… Я тебя уже видел где-то… Где?Камель.
На башне в Аврелиане… или уж забыл? Ты тогда обещал мне…Атилла. Молчи! Уходи! Я помню: доволен?
Камель. Я подожду…
Отходит в сторону и дальше все время, как тень, следует на некотором расстоянии за Атиллой.
Исла и Оногост (входят).
Живи и здравствуй!Атилла.
Целы? Ну, скорее, – скорее скажите кто: они или мы? Кто: Рим или Скифы – чья победа? За кем Каталаунские поля?Исла.
Такого боя и я не запомню. К закату словно жнец по полю, снопами люди, головы – колосья, и солнце – голова, в крови – скатилась. Темно. Где недруг – все смешалось, ни зги не видно. Сразу бой затих – и римляне в свой лагерь отошли, а мы вернулись в свой.Атилла. Так, значит, кто же? Кто?
Оногост.
Ударь, попробуй билом в доску: доска качнется – и отскочит било, туда – сюда. Вот так и тут.Атилла.
Нет, тут не так! Или ослеп, не видишь: доска и било, Запад и Восток, Империя и мы – столкнулись насмерть, и в щепки разлетится то иль это!Оногост. Аэций там, поди-ка разлетись…
Атилла.
Опять Аэций поперек дороги! Был слух, что ранен он. Не знаешь, правда?Оногост (уверенно). Да, ранен. Ка-ак же, знаю!
Атилла. Куда?
Оногост. Куда? Э… э… э… (Торопливо тычет себя пальцем в глаз, шею, в грудь.) Э-э… сюда вот (показывает на пуп) – в глаз…
Атилла. Заврался! Помолчи.
Исла. Ты слышишь?
Атилла. Ветер? Слышу – воет.
Исла. Нет, там у римлян. Слушай: вот опять.
Издали слышно погребальное пение и вопли.
Атилла.
Как будто тризна? Плачут и поют… Что б это значило? Не знаешь?Исла. Нет.
Едекон (входит, ведя за собой связанного Ефиопа). Вот пленный. Куда его велишь?
Атилла. Как пленный? Пленных, я сказал, не брать!
Едекон. И не брали. А этот сейчас сам свалился к нам в темноте, как муха в квас.
Атилла (оглядывая Ефиопа). Из римской Африки похоже.
Едекон. Ефиоп.
Ефиоп (плохо говорит). Да, да. Я – Рим нет…
Атилла.
Ну, этак скоро римляне на нас и обезьян погонят… (Едекону.) Уведи и накорми его.Снова пение и плач.
Опять? (Едекону.) Постой-ка. (Ефиопу.) Ты слышишь? Там поют. Хоронят, умер, – ты это понимаешь: у-мер?Ефиоп. Умер… да, да (зажмурившись, кладет щеку на ладонь).
Атилла.
Вот, вот. Так кто же умер там? Ты слыхал? Не знаешь кто?Ефиоп. Большой самый… их большой самый… Да-да!
Атилла. Аэций?
Ефиоп. Да-да! Да-да!
Атилла (возбужденно).
Вы слышите? Аэций мертв! Теперь уж Рима не спасет никто. Победа наша! Победили мы!Едекон. Арра! Издох Аэций! Арр… (Подавился под взглядом Атиллы.)
Атилла.
Молчи! Последний римлянин погиб… Мой самый верный… враг и друг.Исла (прислушивается). Все громче воют…
Оногост.
Глянь-ка, глянь… Зажгли костер. Идем, посмотрим.Исла и Оногост уходят.
Атилла (Едекону). Отойди, стой там. И чтобы никто – никто не смел сюда… понимаешь?
Едекон отходит. Атилла отдергивает занавес вежи, входит туда.
Ильдегонда (отшатнувшись). Ты?
Атилла.
Да, я. Я и ты. Мы – вдвоем, в первый раз – одни, наконец.Ильдегонда. Зачем ты пришел?
Атилла.
Чтоб сказать: не найдется больше – он умер… (Радостно.) Ты слышишь – он умер!Ильдегонда.
Нет, убит! Это ты приказал топором ему голову… (Останавливается.)Атилла.
О ком ты? Умер Аэций, и его хоронят сейчас, зажжены костры, поют… Теперь наша победа, я знаю! Теперь я весь мир вспашу, мечом вспашу глубоко! Чтобы богатый взошел посев, небывалый, новый, мой! Как вином, я победой пьян – я полон – хочу одного: взойди на ложе скорей и собою меня напои, чтобы жизнь – через край, чтобы – как половодье, чтобы – э-эх!Хочет обнять Ильдегонду.
Ильдегонда.
Ты убил отца, ты убил Вигилу – не подходи!Атилла.
Вигилу? Ты о нем? Ты его еще любишь? Я, значит, ошибся: ты совсем не горда. Или ты уже забыла про подвиг его, когда он был послом? Про подвиг, о каком будут петь не скальды, а шуты в колпаках…Ильдегонда. Подвиг? Шуты?.. Что ты хочешь сказать?
Атилла.
А-а, вот что! Он скрыл – не сказал тебе – струсил. Бледнеешь? Не в бровь, прямо в глаз попал? Ну, будет потеха! (Едекону.) Вигилу сюда!Ильдегонда. Ви… Вигилу? Он жив! Говори же!
Атилла. Он сам тебе скажет сейчас… подожди.
Едекон вводит Вигилу.
Ильдегонда. Вигила!
Вигила. Ты! Ильдегонда моя!
Атилла.
Нет, моя! (Едекону.) Стань там между ними. Ну, римлянин, время долги платить. Теперь ты расскажешь все, как было.Вигила (в ужасе). При ней? Нет! Пощади!
Едекон. Ха! Попал карась на сковородку!
Ильдегонда. Вигила!
Атилла (Вигиле). Молчишь? Так я начну сказку…
Вигила. Нет!
Атилла (не слушая).
Ко мне он явился в посольской шкуре и убийц нанимал меня убить. Так было?Вигила. Да.
Ильдегонда.
Как стало легко мне… (Атилле.) Он бы мир избавил от чумы, от чудовища – от тебя! Вигила, тебя я люблю еще больше…
Атилла.
Не спеши, еще не кончена сказка. Я дал ему выбор: или смерть, или – что… Нет, мне не поверишь. Пусть кончит сам. (Вигиле.) Молчишь? Еще раз тебе выбор даю: вот этот топор (на топор Едекона) или скажешь все.Вигила (с мучительным усилием).
Я выбрал… тогда… (Замолкает.)Атилла.
Ну, смелее! Я вижу, он скажет сейчас. (Едекону.) Он знает, не шутка твой топор…Вигила. Я… Я…
Ильдегонда (обрывая). Вигила! Стой!
К веже подходит Оногост, с ним римлянин в низко надвинутом шлеме, плаще. Останавливается у входа в вежу, ожидая, пока Атилла кончит.
Атилла (Ильдегонде).
Посмотри: голова в твоих руках.Ильдегонда невольно смотрит на свои руки.
Его голова… (на Вигилу). Узнаешь? Захочешь – он будет жить, не захочешь – воля твоя.Ильдегонда (Вигиле медленно).
Если то, что ты скажешь… если это… Взгляни мне в глаза…(Вигила не поднимает глаз. Решительно.)
Нет – молчи! Молчи! Молчи!Атилла.
Ты решила? (Вигиле.) И ты решил?
Едекон, уведи! Он твой, и как только взойдет заря… Ты понял?..Едекон. Эх… заодно бы?
Уводит Вигилу. Римлянин, которого привел Оногост, провожает Вигилу взглядом.
Атилла (Ильдегонде).
Ну, слушай. Я за него расскажу, хочешь верь, не хочешь – не верь. Он выбрал быть высеченным плетьми, мог выбрать смерть.Ильдегонда. Лжешь!
Атилла. Быть может.
Ильдегонда.
Так вот о каких следах на теле он тогда говорил… Так вот почему он рану мне не хотел показать…Атилла. А-а, веришь?
Ильдегонда.
Нет… да… Будь ты проклят, гунн! Ты мне яду подлил в любовь, – но жива я еще… Берегись!Атилла. Берегись лучше ты: я вернусь…
Закрывает занавес, выходит.
Оногост (Атилле). От римлян пришел перебежчик – вот – хочет говорить с тобой.
Атилла. Так. Еще что скажешь?
Оногост. Вернулись с поля счетчики убитых.
Атилла. Ну, сколько? (Римлянину.) Подожди.
Оногост (на римлянина). При нем?
Атилла. Не все ль равно? Мы победили.
Оногост.
Не знаю. Ровно по сту тысяч осталось в поле – их и наших.Атилла.
Сто тысяч наших? (Молчит.) Но один Аэций ста тысяч стоит. Я спокоен. Аэций умер – Рим без головы.Римлянин. Аэций умер?..
Атилла (римлянину).
Как? Ты оттуда и не знаешь? Странно! Кто ты?Римлянин. Кто я – скажу наедине.
Атилла (Оногосту). Уйди!
Оногост уходит. Римлянин распахивает плащ, поднимает шлем. Это – Аэций.
Атилла. Аэций – ты?
Аэций. Да, я.
Атилла. Ты… ты жив?
Аэций. Как видишь.
Атилла.
Но сам слыхал я погребальный хор и плач по тебе, и пленный сказал нам…Аэций.
Король визиготов – Теодорик от ран скончался, его хоронили. А я, прости мне! – что делать? – жив.Атилла (в бешенстве).
Ты смеешься надо мной… ты смеешь? Ты подслушал, как я о тебе говорил? Я могу повторить: ты ста тысяч стоишь, и одним ударом меча сейчас сто тысяч голов с твоих плеч долой! На – меч, защищайся!Отстегивает меч с правого бока, бросает Аэцию. Вынимает меч из левых ножен, нападает.
Аэций (не поднимая меча, отступает).
Атилла. Меча моего боишься? Уходишь… Трус!
Аэций (в один прыжок хватает меч, вытащил, опять бросил).
Когда-то давно ты мне дал приют, не могу на тебя руки поднять. Если можешь – убей, не двинусь!Атилла (замахнулся мечом, колеблется, опустил).
Прости, дай руку. Я рад, что ты жив, не забыл я, как жизнь ты мне спас в бою. Говори, зачем пришел ко мне?Аэций.
Ты знаешь сам: сейчас победа пока ничья. Не хмурься: верно. Так вот пришел я предложить – уйдем домой, и ты, и я, уйдем, пока еще не поздно.Атилла.
Как? Мне – теперь уйти? Уйти и мир оставить прежним?Аэций.
А разве не прекрасен мир? Поедем в Рим со мной – увидишь: под синим небом белые дворцы, в дворцах поэты, флейты, пурпур, смех, вино, огни, картины, книги, мрамор… Под пурпурными парусами Рим плывет галерой, полною сокровищ, и хочешь ты ее пустить ко дну?Атилла.
Ты только вверх глядишь, на паруса: взгляни-ка вниз! Взгляни, и ты увидишь – глаза сверкают волчьими огнями, и люди на цепи, как псы, как звери, всю жизнь гребут, согнувшись… Впрочем, что ж: ведь там не римляне, не люди – значит – о них зачем и говорить!Аэций.
Нет, будем говорить: о людях, о них забыл не я, а ты! Сто тысяч мертвых там уже лежат, сердец, дыханий, глаз, отцов, мужей, сто тысяч жизней – или это мало? Иль хочешь ты их миллионы?Атилла.
Нет, я хочу, чтоб жили все.Аэций.
Так, значит, мир?Атилла.
Нет, до конца война. Ты слышал: я хочу, чтоб жили все. Теперь живут твои сто тысяч римлян, а миллионы их везут в галере и дохнут там, внизу… Ты понял… хочу, чтоб жили и они.Аэций. И это твой ответ?
Атилла. Да.
Аэций.
Ну, что же, значит, встретимся в бою…Атилла.
Прощай!Издали неясные крики.
Постой, неладно что-то… Проснулись в лагере, кричат…Оногост (входя). Ну, совсем взбеленились! Взбрело им в башку, будто тут, в нашем стане, Аэций… Я и так и эдак, никак: пойди, уйми их.
Атилла.
Сейчас приду…Оногост уходит.
(Аэцию). Вот мой перстень: его все знают, кто его покажет, того пропустят… Иди немедля.Уходит. За ним тенью Камель. Аэций отдергивает занавес вежи. Камель возвращается и прячется около вежи.
Ильдегонда. Аэций, как ты сюда попал?
Аэций (торопливо). Вот перстень Атиллы. С ним пройдешь, тебя пропустят. Накинь мой плащ – и беги скорей, пока он не вернулся.
Камель, высунувшись, прислушивается, сейчас прыгнет, нож в руке.
Ильдегонда (накинула плащ, колеблется). Нет, возьми.
(Она отдает перстень и плащ Аэцию.)
Я не раньше уйду, чем Атилле все заплачу сполна за себя, за отца, за Вигилу, за Рим.Аэций.
Он вернется и бросит тебя на ложе. Ведь ты безоружна. Он сильней…Ильдегонда.
А змея безоружна? Я буду змеей: раздвоится, станет змеиным язык. Из себя я улыбку выжму, как яд… Я сумею его обмануть…Камель скрывается.
Аэций (увидев вдали Атиллу – Ильдегонде). Атилла! Говори скорее: ты хочешь, чтоб жил Вигила – или чтобы он умер?
Ильдегонда.
Чтобы… Нет! Чтоб он молчал!.. Чтобы жил!.. Подожди!Аэций задергивает занавес, быстро уходит. Возле вежи – Атилла, перед ним Камель.
Камель. Остановись, ты должен узнать…
Атилла (с угрозой). Отойди от меня. Слышишь?
Камель отходит в сторону. Атилла входит в вежу.
Ильдегонда. Вигила еще жив?
Атилла (сурово). Да, но умрет. Скоро.
Ильдегонда.
Скорее! Скорее! Скажи, чтоб сейчас же!Атилла.
Я сказал – на заре.Ильдегонда.
Я хочу, чтоб не жил ни минуты! И его я могла любить?Атилла (понемногу мены тон). А теперь?
Ильдегонда. Ненавижу!
Атилла. И любить? Мне это знакомо.
Ильдегонда. И мне.
Атилла.
И тебе? (Вглядывается, резко.) Довольно. Ложись!Камель незаметно подходит к веже.
Ильдегонда.
Ты хочешь сделать так, чтоб только ненавидела я?Атилла. Я другого не жду. Я не слеп.
Ильдегонда. А если?..
Атилла. Ты вьешься, змея, лжешь!
Ильдегонда (скорее с угрозой).
Попробуй, поверь…Атилла.
Ты грозишь или просишь?Ильдегонда.
А ты разве не слышишь? Или ты еще не понял: только двое равных – это ты и я.Атилла.
И с тобой мы – враги: Рим и ты – для меня одно.Ильдегонда.
Одно? Да так ли? А если тебе скажу: хочу с тобой рядом сидеть?Атилла.
Вот как? Что ж случилось?Ильдегонда.
То, что я все узнала, то, что его, Вигилу, как гнилую занозу – вон из сердца я вынула. Понял?Атилла (к ней). Так дай же…
Ильдегонда. Нет!
Атилла. Нет?
Ильдегонда.
Не наложницей быть хочу: женой: Когда мы с тобой отпразднуем свадьбу…Атилла. Тогда?
Ильдегонда.
Тогда обниму тебя так, что ты задохнешься, целовать буду так, что ты сгоришь!Атилла (молча, пристально глядит на Ильдегонду, потом).
Если так, то клянусь тебе, что б ни было, что б ни случилось, ты будешь моей женой. Мое слово – крепко, как меч.Ильдегонда. Знаю.
Камель, войдя в вежу, трогает за плечо Атиллу.
Атилла (обернувшись, бешено). Ты опять? Ты дождешься, что я…
Камель. Ты кладешь себе в постель змею.
Атилла. Ты смеешь?
Камель. Когда ты уходил, я слышал, как она с тем римлянином…
Атилла. Что? Говори!
Камель. Она сказала ему, что сумеет тебя обмануть, что сумеет тебя… (Замолкает под взглядом Атиллы.)
Атилла (поворачиваясь к Ильдегонде). А-а… Так? (Медленно вынимает из ножен меч, глядя на Ильдегонду.)
Камель. Нет, ты мне обещал.
Атилла. Возьми ее!
Камель вынимает нож.
Не здесь, уведи…Ильдегонда (Атилле).
Так вот как ты слово держишь? Ты только что клялся мне – уж забыл ты? – что б ни было, что б ни случилось…Атилла. Молчи!
Камель. Ты мне обещал!
Атилла (молчит. Потом Намелю). Останься здесь. Но если ты ее тронешь только… Слышишь?
Камель. Да.
Атилла выходит из вежи. Стоит снаружи, тяжело дыша. Недалеко – огромный камень.
Атилла (подойдя к камню). Не сдвинуть? Сдвину! Не сдвинуть? Сдвину!
(Налег руками, плечом, камень покачнулся.)
Неужели то, что во мне, – тяжелей?
Шут Зыркон (появляется, молча смотрит, подходит). Что, землю захотел повернуть?
Атилла. Поверну.
Зыркон. А себя не можешь? Зацепило?
Атилла.
Ты мудрее всех – так слушай: пополам рассечено сердце, два сердца бьются во мне сейчас, и каждое сердце враг другому. Одно хочет убить…Зыркон. Другое – обнять.
Атилла (показывая на Ильдегонду и Камеля в веже).
Я ей дал свое слово сейчас, что она будет моей женой, а ему дал слово…Зыркон. При мне. Я помню. А ты, как Оногост – знаешь: и так и эдак…
Атилла. Как?
Зыркон. Пусть станет твоей женой, а после отдай, кому обещал.
Атилла. После?
Зыркон. Да. (Показывая на камень.) А только… после-то силы хватит сдвинуть?
Атилла (нахмурившись, молчит. Потом). Ислу позови… (Подойдя к веже.) Выходите!
Выходят Ильдегонда и Камель. Зыркон привел Ислу.
Атилла (Исае – на Ильдегонду).
Ты отправишь ее домой… – ко мне – сейчас же. И пусть все готовят – к свадьбе.Исла (оторопело). Как?
Атилла. Ты слышал. Исполни!
Камель. А я?
Атилла. Ты ее получишь после…
Камель. Я подожду.
Атилла (Ильдегонде).
Ну, милая невеста, на прощанье Получишь свадебный подарок от меня.Голоса (издала). Ао! Рыщь! Ао! Рыщь!
Атилла.
Что там еще? (Вбегает Едекон. Ему). Ты кстати. Видишь? – заря. Иди к нему, кончай – и голову его пошлешь…Едекон. Ч… чью голову?
Атилла (громко). Как, чью? Вигилы.
Ильдегонда вздрогнула. Крики вдали слышнее.
Едекон. Его сейчас… там – слышишь?
Атилла (бешено). Что? Ну?
Едекон. Не гневись: его еще, гляди, поймают…
Атилла (еще бешеней). Как, он убежал?
Оногост (взобравшись на телегу, глядит). Глядите, вон он, вон он!
Едекон (Атилле). Ты сам же его отпустил?
Атилла. Я? Его? Ты спятил?
Едекон. Он твой перстень показал часовому.
Атилла. Я перстень дал не ему.
Едекон. А кому же?
Атилла. Аэц… А этот перебежчик римский – где он?
Едекон. Часового в брюхо и поминай, как звали.
Атилла. Так – оба? Обоих догнать! В куски!
Едекон убегает.
Голоса (где-то внизу). Ао! Аррчь! Рыщь! Зде! Пугу! Пугу!
Атилла (Оногосту). Ну, что же? Что там? Говори!
Оногост (с телеги, погоне). Лево! Лево! Туда! Туда!
Атилла. Ты слышишь? Отвечай! Оглох?
Оногост.
Вон – там – чуть видать! Похоже – Вигила. Или нет – другой… Вигила!.. Нет…Ильдегонда в стороне, напряженно прислушивается.
Атилла (топает). А, сыч слепой! Да кто же?
Оногост.
Вот наш догнал – схватились… Да сверху – сверху! Не так! Эх, вырвался! из рук… Ну, конец!..Атилла. Что? Что?
Оногост.
От римлян скачут… Вот – вот! Подхватили. Обоих… Готово! Не догнать!Ильдегонда (Исле в сторону). Теперь идем.
Атилла.
Ну, что же, прощай, невеста. Жди. У нас с тобой еще не кончен счет…Ильдегонда. Не кончен – нет!
Действие четвертое
Палата Атиллы. Та же, что в первом действии, или другая. Свадебное столование. На возвышении стол. В голове стола – Атилла и Ильдегонда, по левую руку Атиллы – Керка; дальше Исла, Оногост и еще несколько ближних кметей. Столованье уже к концу, многих разобрал хмель. Посредине палаты Кобзарь кончает сказ.
Кобзарь. И походу конец. А сказу конца нет.
Голоса. Слава! Князю с молодой – честь! Атилла! Атилла!
Едекон (охмелев, обнимает и целует свой топор). И-их, родной, погуляли мы с тобой! (Кобзарю.) А, врешь ты про тыщу лет. Не вернутся наши времена.
Кобзарь. Ты вином сыт?
Едекон. Во – по сих пор!
Кобзарь. А завтра проспишься – будешь пить?
Едекон. И-их, буду!
Кобзарь. Так и земля: через тыщу лет проспится – опять красного пить захочет.
Зыркон (Едекону). Не тужи: были бы ножи, а бараны найдутся.
Едекон. А я – не я! (Сам удивился и замолк. Хохот).
Кобзарь. Эх ты, топор соскочил с топорища!
Едекон. А-а, ты мне поперек говоришь? Ты за римлян? Бей римлян… (Хватается за топор.)
1-й Кметь (старик). Тише, дурак. Или не знаешь: молодая-то сама, говорят, из римских…
Чашник (подносит Кобзарю чашу). Просят тебя князь с молодой княгиней чашей вина.
Кобзарь (взяв чашу – молодым). Чтоб вам всю ночь спать невмочь, чтоб игра до самого утра. (Хохот.)
1-й Кметь (второму). Игра-то игра… да будет ли весела?
2-й Кметь. Что так?
1-й Кметь. Да ты на молодую погляди – в бровях туча, то и гляди гром грянет.
Чашник (подносит чашу Керке). Просят тебя князь с молодой княгиней чашей вина.
1-й Кметь (второму). Глянь, глянь, это его старая… (Все затихают, смотрят.)
Керка (встает. Рука у нее дрожит, расплескивая вино. С трудом, после паузы). Князю моему долго жить… Молодую княгин… ль… любить…
2-й Кметь. Эка… на полотно расплескала!
1-й Кметь. А вино греческое, как кровь. На белом-то, гляди-ка…
Керка (выпив вино, садится. Закрыла глаза рукой, опять открыла. Атилле).
А нашу свадьбу – помнишь, князь? Как дождь всю ночь стучал нам в крышу, а утром ты раскрыл окно…Атилла (не отрывая глаз от Ильдегонды). Шел дождь? Не помню… может быть… (Ильдегонде.) Скажи хоть слово…
Камель в деревянных башмаках, стараясь не стучать, подходит, останавливается сзади. Ильдегонда услышала, оглянулась. Атилла тоже.
Атилла (Зыркону – шепотом, бешено). Скажи, чтоб он подальше – а не то…
Зыркон (тихо). Что? Камешек тяжел? (Подходит к Камелю.)
Едекон (стучит по столу). Бей, бей римлян!
Кмети (унимают его). Тише, тише!
Исла (все время зорко наблюдавший за Атиллой, вставая).
Нет, громче! Громче! А не то забудем, что поназвали мы на пир гостей, а мясо где? Еще в лесу рычит! Что печь мы распалили вот так жарко, а где дрова? Еще в лесу растут?Голоса. О чем он?
Исла.
О чем? О Риме! Или вы забыли, что ранен Рим, – но он еще не сдох. Чтоб с бабами его вам не проспать, чтоб не пропить, я вот о чем!Голоса. А верно он… верно!., так!..
Едекон. И-х, гуляй!
Исла (Атилле). Ты не гневись. (Атилла, нахмурившись, молчит.)
Оногост (стараясь замять). Э-э… это самое… Чего это я бишь хотел? Да… тут были мозги курячьи… где они? У кого?
Зыркон. У кого мозги курячьи? У тебя. (Хохот.)
Оногост (сердито). Пьян, дурак? (Атилле.) Упились, кончать пора. Гляди: кто сам на бок – голову – на сторону, а кто и весь под стол.
Атилла.
Вот, опроси молодую, как она. (Ильдегонде.) В опочивальню ты пойти не хочешь? Сдается мне, что нам уж время игру начать… вернее: кончить.Ильдегонда молчит.
(Оногосту.) Ха! Молчит!
Зыркон (Атилле).
А ну-ка тебя спросить: помереть хочешь? Пожалуй, и ты смолчишь.Оногост. Дурак ты, мурин. Мы на свадьбе, а ты про что?
Зыркон. Про что? Дурак свистнет – умный смыслит.
Конюх (встревоженный, вбегает).
Оногост, поди-ка скорей!Оногост. Чего? Как с цепи.
Конюх. Беда!
Оногост. Что еще?
Конюх (на Атиллу). Его коня вороного знаешь?
Оногост. Ну?
Конюх.
Стоял, ел овес – вдруг об земь. Мы к нему. Глядим: издох…Оногост.
Ой, к худу! А может, отравлен?Конюх.
Как же князю теперь сказать? Боюсь.Оногост.
До утра подождем: с молодой ночь проспит – все простит…Керка. Что случилось? О чем вы тут?
Оногост.
Да мы так… об том… об сем… Говорю, что время спать, Уж поздно, догорают огни.Керка.
Пусть всю ночь огни горят. Я боюсь…Оногост. Чего?
Керка.
Не знаю… Стукнут дверью – меня бросит в жар, звякнут чашей – я вся вздрогну…Оногост.
Будь покойна: мы в оба глядим. Хотя – хоть оно, конечно…Атилла (Ильдегонде).
Все молчишь? Что сдвинула брови, как крылья? Все равно – не улететь никуда: теперь не поможет тебе ни твой змеиный язык, ни Рим, ни твой Бог, никто. Молчишь? Проиграла игру?Едекон (приплясывая на месте, поет).
Эх, вино – эх, мед! Тоска сердце пьет – далеко милой живет…1-й Кметь. Да тише ты!
2-й Кметь. Вот хлебнул: рогами землю роет!
В это время Оногост подходит к Кобзарю и двум певцам – один помоложе, другой седобородый – потом идет к Атилле.
Оногост.
Не спеть ли Кобзарю еще?Атилла.
Уж пел, довольно.Оногост.
Так есть заморские певцы: тот – норский скальд – седобородый, а помоложе Готский Зингер.Атилла.
Ну, пусть какой-нибудь один – и будет: пора уж нам…Ильдегонда.
Скорей бы! все равно…Атилла.
Спасибо, подарила словом!Оногост (подойдя к певцам). Ну… ты… Или ты… Нет, лучше ты… Ой, что я! Ты… (на другого). То есть ты…
Готский Зингер. Значит, оба!
Оногост. Нет-нет: один… сейчас скажу… (Зажмурив глаза, гадает на пальцах.) Тебе, старик. Идем. (Ведет Скальда к Атилле.)
Атилла (Скальду).
Что, можешь ты такую песню спеть, чтобы живой водой жену мне сбрызнуть, чтобы огонь в глазах, чтоб улыбнулась?Скальд.
Не знаю, улыбнется или нет… Попробую. Сейчас – вот только.Подтягивает струны на лютне. Руки дрожат.
Атилла. Что, выпил? Руки-то дрожат?
Скальд.
Старик я, уж прости… сейчас, сейчас…(Начинает речитативом.)
Однажды Вигурд пришел домой: ворота настежь, отравлен пес, стоит его дом неживой, немой. Атэвульф его Хильду к себе увез. Семь лет всюду Вигурд ее искал. Подъехал к Рейну. Тут змей подполз к нему навстречу из черных скал – услышал Вигурд железный голос…Атилла.
Ну, у тебя совсем он не железный: Сломается того гляди… Смелее пой, чего боишься?Скальд.
Схватил было Вигурд кинжал. «Оглянись», – сказал ему змей. Оглянулся: замок. Вбежал. Атэвульф там с Хильдой – с ней.Ильдегонда подняла голову, смотрит на Скальда.
Взглянула на Вигурда: нет, не узнала его она, поседел он за семь лет. Муж сказал ей: «Дай вина, пусть песню споет старик». Запел – и узнала: он…Ильдегонда оперлась на стол руками – видно: сейчас вскочит.
Вот крикнет… сдержала крик – и умолк вдруг лютни звон…Опустил лютню, замолк, руки у него дрожат, смотрит на Ильдегонду.
Атилла.
Ну дальше! Нас ты только раззадорил: вина понюхать дал, а выпить не дал.Голоса. Дальше! Дальше! Кончай!
Едекон. Бей римлян! Пустите, пустите меня – убью!
1-й Кметь. Чудак! Да где же тут римляне?
Атилла (Скальду). Ну что ж, кончай…
Скальд. Прости… я не… не могу… не держат ноги…
Атилла.
Ну, сядь. (Взглянув на Ильдегонду.) Да ты и в самом деле ее живой водою сбрызнул: румянец, солнце бьет из глаз!(Ильдегонде.)
Уж не прикажешь ли поверить, что ты не солгала в ту ночь, ты помнишь? в веже… ты сказала: «Тогда обниму тебя так, что ты»…Ильдегонда (глядя на Атиллу, медленно).
Так что ты… подожди немного… ты увидишь: обещанье свое сдержу…Атилла.
Ну, чудеса! (На Скальда.) Вина ему!
Чашник идет.
Нет, пусть хозяйка поднесет, пусть поднесет ему сама за то, что угодил ей песней.Ильдегонда (поднося).
Князь чашей вина тебя просит. Пей!Один из гостей.
Постой, молодая, обычай есть – Чтоб хозяйка вино сластила.Голоса. Верно! Верно! Так! Губы в губы!
Атилла (смеясь).
Он прав. Ильдегонда: есть обычай. Иль тебе старика целовать неохота? Нет, делать нечего: целуй!Смех, крики. Скальд пьет, затем целует Ильдегонду – долго, не отрываясь.
Голоса. Ай да старик! Горазд! Стар гриб, да корень свеж!
Скальд (Ильдегонде). Да, сладко твое вино. Чем же мне тебя отдарить? Хочешь лютню мою? (Дрожащей рукой протягивает лютню.) Бери.
Ильдегонда. Зачем она мне?
Скальд (рука у него дрожит все сильнее. Умоляюще). Бери (тихо). Там внутри ты найдешь… нож…
Ильдегонда хватает лютню. У Скальда от волнения ноги подкашиваются, опускается на скамью.
Атилла.
А гляжу я – квел ты, старик! (Чашнику.) Еще вина ему дай, чтобы ноги не протянул.Чашник подходит, наливает Скальду.
Ильдегонда.
И мне… (Скальду.) За лютню твою…(Пьет, подносит лютню к уху.)
Ты слышишь? Сама поет… Или это звенит во мне кровь? Я петь-плясать хочу!Голоса. Так… так! Эх ее… Буй!
Зыркон (Атилле). Эй, друг: ель не сосна, шумит неспроста.
Атилла. Придержи свои глумы до завтра!
Зыркон. Я говорю не глум, а ты бери на ум…
Атилла (Скальду).
Ну что ж, играй, старик. Пусть пляшет, любо мне!Голоса. Любо!.. Лепо!.. Лепо!.. Ладь!..
Скальд играет. Ильдегонда пляшет. Все жадно, молча смотрят, иные вскочили с мест, подошли ближе.
Керка (в стороне – Оногосту). Что с ней? Не она совсем. Молчит она – страшно мне. Весела – еще страшней…
В это время Камель, медленно подвигаясь, становится перед Атиллой, смотрит на него. Атилла увидел. В руках у него чаша, ударяет ею о стол – чаша вдребезги. Мгновенно все остановилось.
Голоса. Что там? Что? Что?
Тишина.
Атилла (Камелю). Ты опять? Что тебе надо?
Камель. Когда?
Исла. Дал слово, Атилла, не забудь!
Атилла молчит.
Ильдегонда (подойдя к Атилле).
Что? Или не нравится, как я пляшу?Атилла.
Пляшешь так хорошо… что боюсь – перестану Атиллой быть.Ильдегонда.
Так кто же проиграл игру? (Смеется.)Атилла.
Подожди, ты рано смеешься.Ильдегонда.
Так как же: я и Рим одно? (Смеется.)Едекон (очнулся, приподнял голову.) Б-бей римл… (Ему зажимают рот.)
Атилла (Ильдегонде).
Не к добру ты Рим помянула. Пожалеешь… смотри!Ильдегонда.
Не пришлось бы тебе пожалеть!Атилла.
Не успею… Эх, рубить, так уж сразу! Вина мне. (Наливает, он пьет.)(Камелю.)
Ты меня спросил: когда? Так вот тебе: завтра…Исла. Так, Атилла! Так!
Атилла.
Молчи. Эй, слушайте все теперь! Заснули? Довольно спать! Или забыли вы, как клялись, что Рим сокрушим в хрупь?Голоса. В хрупь! В хрупь!
Атилла.
Так завтра с зарей – в поход! Кто жилье не успел достроить – пусть сожжет, что начал, дотла. Кого руки дома обнимут, – пусть отрубит руки прочь. Завтра все – на коня!Голоса. Так, так! Бей полохом! Дыби!
Исла. Это ты – опять ты, Атилла!
Голоса. Арра, Атилла! Ты! Ты наш! Наш!
Атилла. Так до утра! Голоса. До утра! До утра!
Едекон (подняв голову, глядит на Атиллу). Про… прощай. Прощай! (Горько плачет.)
Неясный говор. Гости расходятся. Едекона свалил хмель – остается на скамье. Кроме него – Атилла, Керка, Ильдегонда, Исла, Оногост, Зыркон; Скальд хочет уйти.
Ильдегонда (Скальду – тихо).
Ты хочешь оставить меня одну?Скальд.
Я весь дрожу – ты видишь… Я сгублю и тебя и себя.Ильдегонда.
Так возьми свою лютню – иди!Скальд (колеблется. Потом). Я останусь…
Атилла (подходит к Ильдегонде). Пойдем, ночь коротка. Пора.
Ильдегонда.
Пора, говоришь? (Молча смотрит на Атиллу.) Хорошо, идем.(Оногосту.)
Мою лютню туда отнеси – положи ее на постель. Я песню сыграю мужу, такую песню, что он позабудет все на свете!Оногост берет лютню, идет. Керка хватает его за руку.
Атилла.
Если б только забыть одно слово: завтра.Керка (Оногосту). Нет.
Атилла (Оногосту). Ну, что ж ты стал? Неси.
Керка (цеплысь за Оногоста). Нет! Нет!
Атилла (Керке – сурово).
Я сказал, неси! Ты слышишь?
Керка (отпуская Оногоста, Атилле).
Прости… Что со мной – сама не знаю, но сердце так сжалось вдруг, что я… Иди, Оногост…Оногост уносит лютню. Керка подходит к Ильдегонде, смотрит ей в глаза, молча, долго.
Керка.
Ильдегонда, тебе я все прощу, как сестра я буду любить тебя, как рабыня я буду тебе служить, поклянись мне только в одном, что ты в сердце зла к нему не таишь, что собою ему украсишь жизнь, поклянись!Ильдегонда.
Мне жаль тебя Керка… Прости меня.Керка. А, не хочешь поклясться? Значит, ты…
Атилла (Керке). Уходи отсюда сейчас же!
Керка (торопливо).
Нет, нет… ведь ничего не сказала. Мне страшно, позволь мне остаться здесь – только б слышать: ты дышишь, или смеешься, или слово сказал, или…Атилла отходит от нее, она замолкает с протянутыми, руками. Девушки окружают Ильдегонду, чтобы вести ее в опочивальню.
Ильдегонда (Скальду).
Ну, что ж, старик… прощай… Не знаю – навек иль до утра?Скальд (делает движение к Ильдегонде, потом овладевает собой). Прощай!
Ильдегонда. Так ты будешь здесь – помни!
Скальд. Да!
Как мешок опускается на скамью. Ильдегонда уходит в опочивальню.
Атилла (Оногосту).
Приготовь мне к утру коня, Чтоб выкормлен был, подкован.Оногост. Коня?
Атилла.
Ты что на меня так смотришь? Побелел, как баба. Стыдись!Оногост. Коня? Вороного?
Атилла.
Да ты одурел или оглох? Вороного коня, да.Оногост отходит. Атилла один. Стоит хмуро, сгорбившись.
Зыркон (подходя к нему).
Отчего плечи согнулись? Что, друг, на плечах несешь?Атилла (медленно).
Атиллу… тяжел он… Ты знаешь…Зыркон. Знаю, друг, знаю… Неси…
Атилла (молчит. Потом).
Все равно! Что бы ни было завтра – Эта ночь до зари – моя!Керка (издали, протягивая руки, тихо). Остановись! Взгляни хоть раз!
Атилла не слышит, входит в опочивальню. Лязг задвигаемого засова.
Оногост (тушит часть светильников. Про себя). «Приготовь, говорит, коня»… А конь давно уже готов: вверх брюхом мертвый лежит… Эх! (Исае.) Идем.
Уходят. В палате полумрак, два-три светильника. В темном углу, скорчившись – Зыркон. Едекон – на скамье спит мертвым сном, обняв топор. Скальд и Керка с разных сторон на цыпочках подходят к двери опочивальни.
Керка. Зачем ты здесь, старик?
Скальд. Я… я жду…
Керка. Чего?
Скальд. Не того, что ты ждешь.
Керка. Ты болен? Тебя трясет.
Скальд. Остудился в пути…
В опочивальне слышен смех Атиллы.
Керка.
Ты слышишь? Он там смеется… Я помню, я знаю этот смех: так смеялся он тогда со мной… За окном дождь лил. Я сказала: «Потуши свет». Он рядом со мной лег… Темно… Одни белые зубы…Скальд.
А ты видела, как лежат, оскалив зубы навек – смеются все громче и громче, но никто уж не слышит, никто. Никто – понимаешь?Керка.
О чем ты? Я боюсь тебя.Слышны струны лютни.
Скальд (задыхаясь).
Там, кажется, лютня… (Хватает Керку за руку.) Скажи: ведь я не ошибся? Скажи: ты тоже слышишь?Керка.
Да, слышу, опять смеется. Сквозь стену вижу: вот теперь он одежду с нее снял… она грудь прикрыла…Скальд.
Замолчи! (Спохватывается.) Я, хоть и старик, правда… но когда поцелуй слышу… Постой… Затихли…Оба прислушиваются.
Вот лютня упала на пол… Сейчас… Слушай!Керка.
Ты сам упадешь, сядь!Скальд опускается на скамью. Пауза.
Скальд.
Скорей бы… Сил нет ждать… Убегу… закричу… все брошу!Керка (прильнув к дверям).
Знаю: сейчас она крикнет, она крикнет: больно…Скальд.
Нет, он крикнет – слышишь, он!В опочивальне голос Атиллы, лязг отодвигаемого засова.
Керка. Тесс… он!
Керка отбегает в дальний угол. Скальд бросается к двери. Из опочивальни выходит Атилла, грудь расстегнута, в руках лютня. Застигнутый его взглядом, Скальд застывает.
Атилла (ищет кого-то глазами, увидел Зыркона, подзывает его). Ты мне нужен… (Стиснув плечи Зыркона – тихо.)
Слушай: никому, никогда о том, что сейчас я тебе скажу…
Зыркон. Говори – буду молчать, как земля.
Атилла. Я не могу, понимаешь?
Зыркон. Что не можешь?
Атилла.
Не могу отдать ее на смерть, не могу, чтоб у нее посинели губы, не могу, чтоб закрылись ее глаза… Не могу!Зыркон. Не донес, надорвался? Эх, друг!
На полу – обнял, прижался к ногам Атиллы.
Атилла. Молчи! Никому…
Зыркон. А завтра? Что ж будет завтра?
Атилла. Не хочу, чтоб завтра было…
Зыркон. Хочешь – не хочешь, оно будет. От него никуда не уйдешь. Разве что… в землю: там не догонит. (Молчит, уткнувшись в ноги Атиллы.)
Атилла. Ну, будет… Иди, спи.
Зыркон, закрыв лицо руками, выходит из палаты.
Атилла (Скальду.) Поди сюда, старик. (Идет к столу, наливает вина, вглядывается в Скальда.)
Мне чем-то знакомы твои глаза… Ты раньше мне никогда не пел?Скальд (с трудом). Н-нет. Петь – не пел…
Атилла (распахивает грудь).
Как будто в злой полдень жарко мне, Иль это она зажгла всю кровь?(Залпом выпивает чашу.)
А зря хвалилась: играть не умеет. Просила, чтоб ты спел песню, чтоб было ей веселей. Скальд. Просила мне… мою лютню отдать?Атилла.
Просила, да. Что смотришь? Бери и сыграй такое, чтоб мне не слышать себя, забыть, что есть нынче и завтра, чтоб все на свете забыть! Ты понял? Играй.Уходит, опять лязг засова.
Скальд (в отчаянии бросает лютню наземь).
О, будь ты проклята! Все погибло… Конец…Керка (подбегает к нему радостно).
Он жив! Как камень с плеч! О, пусть он ляжет с ней, пусть он ее обнимает, пусть целует, мне легко – он жив… целует… слышишь?Скальд. Собака! Гунн!
Высоко подняв лютню, делает резкое движение к двери. Вдруг останавливается, встряхивает лютню возле своего уха, еще раз.
Скальд (восторженно).
Здесь нет, здесь нет ножа. Ты слышишь: он не звенит. Так, значит, взяла нож, Значит, нож у ней!Керка. Нож? Кто ты? Помогите…
Скальд зажимает ей рот, Керка схватила его за бороду, за волосы, он вырвался – борода и парик у руках у Керки. Мгновение оба растерянно смотрят друг на друга.
Керка. Вигила… Помогите!
Вигила опрометью выбегает в дверь. Керка хочет броситься за ним и останавливается. Из опочивальни слышится стон Атиллы, тяжкое падение тела.
Керка (кидаясь к дверям опочивальни). Помогите! Сюда! Скорее! (Бьется в двери опочивальни.) О, скорее! Сюда!
Подходит с трудом проснувшийся Едекон, вбегают Исла, Оногост, Зыркон, Камель и другие. Окружили Керку.
Голоса. Кого? Кто? Беда! Огней! (Керке). Где он?
Керка (задыхаясь). Убежал… (Показывает рукой на дверь.) Она там… (Показывает на опочивальню и стоит, почти теряя сознание, ее держат под руки.)
Оногост. За ним!
Несколько человек с Оногостом бросаются наружу в погоню за убежавшим. Остальные у дверей опочивальни.
Голоса. Плечом… Так! С маху! Бей! Вместе! Едекон (с поднятым топором). Сторонись… вы! С дороги, ну!
Быстро взламывает дверь топором. Открывается: Атилла ничком у порога и Ильдегонда с ножом возле постели. Все замерли.
Керка (бросается к телу Атиллы, обнимает его). Ты! Ты! Твоя кровь!
Тишина.
Ильдегонда (показывается в дверях, дико смотрит на всех). А где он? Где он?
Исла. Аррчь ее! (Ильдегонду схватили, держат). Кто он? Отвечай!
Ильдегонда молчит.
Оногост (вбегая вместе с остальными). Поймали!
Занавес
Африканский гость*
Невероятное происшествие в трех часах
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Малафей Ионыч, бывший дьякон, а ныне заведующий брачным столом в уездном городе для записи гражданского брака. Все еще никак не может привыкнуть к своему преображению, чувствует себя как Венера, вышедшая из воды, пытается прикрыть наготу куцыми полами пиджака и куцыми словечками.
Каптолина Пална, его супруга, бывшая дьяконица. Губы – как «архиерейский кусочек». Мозги – тоже куриные.
Люба, их дочь. С точки зрения наследственности – явление необычайное. Хороша так, что даже автор опасается пристально ее разглядывать и описывать. Пение предпочитает разговору.
Витька Жудра, рыж, быстр, вихраст и остр. В другие века из него бы вышел Тиль Уленшпигель, в наше время он будет неугомонным строителем, для чего, впрочем, ему надо поступать в Высшую Техническую Школу.
Доктор, громаден, все в нем неповоротливо и лениво, за исключением мозгов. Глаза у него – какого бы они ни были цвета – все равно голубые, как полагается у мечтателей.
Илья, сын своего отца – доктора – и приятель Жудры. Всегда и все говорит увесисто и серьезно, и потому, что бы он ни говорил – ему нельзя не верить.
Чупятов, уездная власть, бывший литейщик. Своего положения немного стесняется.
Казимир Казимирович Превосходный, его секретарь. Не стесняется.
Сосулин, из Москвы, поэт. Запряжен в огромные американские очки. Очки – главная часть его организма, все остальное мало заметно.
Дарья, геркулесиха, исполняющая обязанности домработницы у дьякона.
Унтер Иваныч, по паспорту Гунтер Иоганн, случайно застрявший в городке военнопленный. Обучает граждан музыке и сам обучается русскому языку.
Африканский гость, очень странный.
Час первый
Палисадник перед домом Малафея Ионыча – рядом с церковью. В доме открыты окна.
Малафей Ионыч (один за столиком под окном. Пьет квас и записывает документы в загсовую книгу). Мулюкин, Иван Петров… тридцати двух лет… И Окомелкина, Марья… лет… лет… девятнадцати. Первым браком. Сережечкин… Федор Матвеев… двадцати двух лет…
В церкви звон. Малафей Ионыч начинает креститься – услышал фырканье подошедшего Жудры, испуганно отдергивает руку.
Кто… кто это? А-а, это ты! Ну?
Жудра. Та-ак-с, Малафей Ионыч… Помоля Богу вас.
Малафей Ионыч. Стыдно! Стыдно! Да. Стыдно.
Жудра. Кому?
Малафей Ионыч. Тебе – Бога нет, пора бы знать – на двенадцатом году революции…
Жудра. Ловко обернул… отец дьякон!
Малафей Ионыч. Ты какое… ты какое имеешь право? Какой я тебе дьякон?
Жудра. Ну – бывший дьякон. Раньше в церкви венчали, а теперь – в загсе, только и всего.
Малафей Ионыч. Ты у меня… ты у меня… узнаешь! Я… я… я… тебя! (Сдерживаясь.) Ты зачем пришел? Нет, так скажи, зачем ты пришел? Ты чего потерял тут? Тебе чего надо?
Жудра. Люба ваша дома?
Малафей Ионыч. Нету.
Жудра. Я сейчас вернусь – передайте ей.
Малафей Ионыч. Передам… как же! Обязательно! Только у меня и делов.
Жудра уходит. Малафей Ионыч продолжает записывать.
Ч-черт рыжий… двадцати двух лет, Федор… Стерва! Храмихина, Татьяна, Тимофеевна – двадцати лет…
Входит Дарья.
(Ей). Ну, чего еще?
Дарья. Записка тебе какая-то.
Малафей Ионыч (берет, читает). Госп… Господи! Сам товарищ Чупятов! Да ты что же – ты что же мне раньше не дала? Тетеха!
Дарья. Да ты раньше-то после обеда два часа дрыхнул.
Малафей Ионыч. «Дрыхнул»! Деревенщина. Беги сейчас же к Унтеру Иванычу.
Дарья. Это – к пленному, что ли? К немцу?
Малафей Ионыч. Да, да. Скажи, что, мол, просят прийти – да скорее. Как ни можно скорее. Сию же минуту! Слышишь?
Дарья. Это что же: опять они с Любашей песни играть будут?
Малафей Ионыч. Да, да: песни… Иди, не разговаривай.
Дарья уходит, Малафей Ионыч еще раз перечитывает записку.
Господи… Капа! Капа! Капитолина!
Каптолина Пална (в окне с зеркалом, с щипцами – завивается). Ну? Чего?
Малафей Ионыч (задыхаясь). Капа… вот записка… от Чупятовского секретаря…
Каптолина Пална. Ой! От товарища Превосходного?
Завивка идет ударным темпом.
Малафей Ионыч. Да, да. Они сейчас придут к нам – Любу слушать. И товарищ Превосходный, и товарищ Чупятов… ты слышишь? В первый раз ко мне – сам товарищ Чупятов! Господи! И еще этот с ним… Московский… Сосулин…
Каптолина Пална. Который – стихи пишет?
Малафей Ионыч. Да… ты понимаешь? Ведь, может, нынче вечером – и Любкина, и наша судьба решится. Может, ведь биография нашей жизни – сразу вот этак… вот – вверх… фонтаном! Господи… Любка… Любке-то сказать. Где она?
Каптолина Пална. Вот-ще! Я почем знаю.
Малафей Ионыч. «Я почем знаю»… Вот ты за ней не глядишь, она с этим с рыжим – с Витькой – якшается. А разве ей Витька пара? Да ведь такая дочь, как Люба наша, – это от Бога нам данный капитал… Понимаешь? Капитал!
Каптолина Пална. Ну, да – это который Маркса, толстый. Я им молоко закрываю.
Малафей Ионыч. Дура! Да брось ты завиваться – мозги себе завей лучше. Тут надо скорей – всю программу, по пунктам, а она завивается.
Каптолина Пална. Какую еще – программу?
Малафей Ионыч. Насчет Любки – вот какую… Слушай. Товарищ Чупятов – человек женатый, тут уж – аминь, ныне и присно…
Каптолина Пална. Ну да.
Малафей Ионыч. Стало быть, первый пункт производственной программы – товарищ Превосходный. Секретарь – самого! Господи… Ты подумай… Нет… ты подумай!
Каптолина Пална. Ой… спалила! Вот теперь от меня будет курицей пахнуть.
Малафей Ионыч. Дальше: товарищ Сосулин, называемая свободная профессия, то есть им разрешено зарабатывать свободно хоть по тыще рублей в месяц. По тыще в месяц – понимаешь?
Каптолина Пална. Я месяц во сне видала – будто он с неба свалился – и прямо мне вот сюда, на живот. Холоднющий – страсть!
Малафей Ионыч. Ну как – ну как с тобой разговаривать? Дура, наказание Божие! Иди скорей стол накрывай. Сахар к чаю наколи кусочками помельче – советскими. И разных твоих вареньев и пирогов, – никаких чтобы этих предрассудков не было… Слышишь? Да Любку мне пошли – сейчас же.
Каптолина Пална уходит от окна. Слышен ее голос: «Любка, Любка! Тебя отец кличет».
Люба (входит). Зачем звали?
Малафей Ионыч. Вот что, Люба. Я – верный сын революции. Ты – моя дочь. Стало быть…
Люба. Стало быть, я – внучка революции.
Малафей Ионыч. Яс тобой говорю сурьезно. Я стою на прочной материалистической платформе и никакого идеализма у себя в доме не допущу – так и знай.
Люба. Какой там еще идеализм?
Малафей Ионыч. А очень простой. Ты – с твоей наружностью, с твоим голосом – интересуешься каким-то там Витькой. Это – глупый, нерасчетливый идеализм. Да.
Люба. Насчет Витьки можете не разоряться. Это мое частное дело.
Малафей Ионыч. Теперь частных делов нету – все общее. Поэтому – слушай. Сейчас сюда придут; т. Чупятов, т. Превосходный, т. Сосулин. Твоя ударная задача – т. Превосходный, не он, так – Сосулин. Но чтобы у меня этого Витьку – ты из головы выкинула. Слышишь?
Люба. Нет, не выкину – потому, что я… потому что он меня…
Малафей Ионыч. Вот-вот-вот! Я так и думал!
Люба. Ну и думайте – а мы уже обдумали. Мы осенью – вместе с ним в Москву поедем, я – в консерваторию, а он в инженерное…
Малафей Ионыч. Нет, ты с ним не поедешь.
Люба. А я говорю – поеду! Нынче не царский режим, запрещать не имеете права!
Малафей Ионыч. Да разве я запрещаю? Разве я запрещаю? Я только ставлю тебе голый факт. Например: деньги у тебя есть? Нету. Документы твои где? Вот они, у меня. Путевку в ВУЗ кто дает? Товарищ Превосходный. Вот я с ним поговорю – посмотрим, как он даст тебе или Витьке, посмотрим!
Люба. Это называется отец! Вы не отец, а наоборот.
Малафей Ионыч. Это что же такое означает? Даже непонятно.
Каптолина Пална (уже во всей красоте – из окна). Малафей Ионыч! Любка! Подите, стол расставьте.
Малафей Ионыч. А сама – что: не можешь? Руки отсохли?
Каптолина Пална. Вот-ще! Не видишь – я одета. Что ж мне – платье сымать?
Малафей Ионыч. Ах ты, Господи… Ну, идем, идем…
Малафей Ионыч и Люба уходят в дом. Каптолина Пална в окне с зеркалом. Входит Превосходный.
Каптолина Пална. Ах! Товарищ Превосходный!
Превосходный. Каптолина Пална… коханая! (Целует ей руку, держит не отпуская.) Ах, хорошо, знаете! Это же погода! (Пауза.)
Каптолина Пална. Ау нас нынче кошка окотилась.
Превосходный. Что – кошка! Вот вы это, действительно… (Гладит ее руку.)
Каптолина Пална. Скептик! Противный! (Превосходный целует ее руку около локтя.) Не смейте!
Превосходный. А почему вчера – можно было, а сегодня – не можно?
Каптолина Пална. Вот-ще! Не имеете права… Увидят.
Превосходный. Ну, тогда скажите: когда сегодня и где – так чтобы, знаете, приватнэ?
Каптолина Пална (вздыхая). Ах, не говорите вы мне таких низменностей!
Превосходный. Ну, я вас прошу!
Каптолина Пална. Ш-ш-ш… Идут, сюда к нам.
Превосходный. Так это мой Чупятов и доктор, ктурэ, знаете, завел про свою биологию, так что вы уже имеете доклад на час и можете спокойно не волноваться.
Каптолина Пална. Оставьте руку… нахал! Приходите на балкон – когда Люба запоет.
Исчезает. Выходит из-за угла Жудра; похоже, что он слышал конец сцены.
Превосходный. А-а, молодаяшмена, здравствуйте!
Жудра. Здрасте… (Пауза. Глядит в глаза Превосходному.) Та-ак, значит… Н-да…
Превосходный. То есть? Что вы хотите сказать?
Жудра. Я? Ничего. Значит – Любу пришли послушать?
Превосходный. А что такого? Я давно хотел. Это же, знаете, голос, который вы редко имеете даже в Москве.
Жудра. А вот насчет Москвы – это я к вам завтра зайду.
Превосходный. А скажите, дорогой мой товарищ, зачем?
Жудра. А вы мне путевку в ВУЗ напишете – вот зачем.
Превосходный. Ну, это, знаете, зависит. Там, знаете, в вашей анкеточке есть пунктик.
Жудра. Вы бросьте дегтем брызгаться! Я говорю: напишете.
Превосходный. Ну, хорошо, хорошо, напишу. Не волнуйтесь, шмена.
Жудра. Если смена – так не вам. (Уходит.)
Превосходный (один, вслед Жудре). Мальчишка! Лайдак! Жиб тебя дебли…
Сосулин (входит, очки в руках, протирает их шелковым платочком. Превосходному – щурясь). А-а, это вы? Ну, да: я слышал ваш голос – вы разговаривали с этим… с товарищем Превосходным. Очень рад, очень рад. Я давно хотел установить смычку… э-э-э… с молодежью от станка.
Превосходный фыркает, зажимает рот.
Сосулин. Мы, поэты, должны увидеть все происходящее, так сказать, через ваши молодые очки…
Превосходный. Я вам на то скажу – вы лучше себе наденьте свои очки.
Сосулин (надев очки). Фу… простите, Казимир Казимирыч. Вы знаете – когда я без очков… Я думал, что это опять он – эта рыжая шпана… Ну, я очень рад, очень рад. Я давно хотел с вами… а то прямо не с кем, кругом какие-то монстры, фантастика! Этот доктор – по-моему, сумасшедший. Эта Каптолина – как ее? – прямо кретинка…
Превосходный. Я извиняюсь! Позвольте! Кретинка?
Сосулин. То есть, конечно, условная… Понимаете – условная: если взять ваш высокий – я скажу, исключительный интеллект – и рядом ее…
Превосходный. Ну, да – я вас уже понимаю…
Сосулин. Или, например, ваш интеллект – и рядом Чупятова…
Превосходный. Чупятов! Это же бывший простой литейщик – что вы хотите? Я за него все пишу, он, знаете, без меня так, ровно без какого-нибудь органа. А ешьли между нами, приватнэ, так я вам сказку про него…
Входят Чупятов и доктор.
Превосходный (восторженно). И он – как раз здесь! А мы, тов. Чупятов, именно, знаете, о вас говорили. Я говорю: что делает с людьми наша революция! Давно ли на заводе вы отливали эти самые… опки…
Чупятов. Опоки! Опоки… неграмотный!
Превосходный. Ну да: поки. А теперь строите новую жизнь. Это же, знаете… цусь особливаго! Я давно хотел с вами, я счастлив!
Сосулин. Когда я вернусь в Москву – дорогой товарищ Чупятов – я буду писать о вас, как о выдающемся деятеле нашей провинции…
Чупятов. Да будет вам! Чего зря вола вертеть? Ну, какой я там выдающий… Вы лучше послушайте, что вот он говорит (на доктора). Так как, товарищ доктор, как ты это назвал-то?
Доктор. Биологический… ин-тер-нацио-нал. Интернационал, граждане, да!
Малафей Ионыч (выскочил из дома – подхватывает). «Это бу-удет после-едний…»
Чупятов. Да постой ты, Малафей Ионыч! Ну к чему же это – к чему? Надо время знать.
Малафей Ионыч. Товарищ… дорогой товарищ Чупятов! Извиняюсь: не могу! Как услышу – так душа сама автоматически…
Чупятов. Ну какая там – душа!
Малафей Ионыч. То есть нет… Товарищ Чупятов – это я только так… Вы же меня знаете… Господи! Я же с корнем отрекся – я же отрекся от всех предрассудков. Я же в кружке…
Чупятов. Да знаю, знаю! Погоди ты… (На доктора.) Дай ему сказать. Так в чем же дело, дело-то – ну-ка, ну?
Доктор. Дело – очень простое. С уничтожением национальных перегородок – человечество помолодеет, возродится – биологически возродится, да. И очень понятно – почему. До сих пор – за малыми исключениями – в браках соединялись особи одной и той же нации, одной и той же крови. И отсюда – вырождение. Меньшее, чем если брак происходит в пределах одного рода или одной семьи – но все-таки вырождение. А вот если нашу русскую кровь вкатить, скажем, в испанцев, а французов подогреть неграми, а англичан – японцами, – вот это пойдет поколение… Такие будут головы, такая будет энергия, что через двадцать лет все перевернут… Да, что там!
Во время этого биологического трактата входит Жудра, Превосходный, Малафей Ионыч и Сосулин – как собаки и в стойке: ждут, что скажет Чупятов.
Чупятов. Ишь ты! С виду оно – будто чепуховина…
Малафей Ионыч. Верно! Спасибо… Спасибо, тов. Чупятов!
Превосходный. Ну да: это же глупство!
Сосулин. Фантастика!
Чупятов. А вспоминаю я, как, бывало, в шихту к чугуну какого-нибудь там марганцу или силицию сыпанут – и выйдет сталь первый сорт…
Доктор. Так, так, Чупятов – ухватил самую суть!
Чупятов. Вот. И выходит не чепуха – а напротив.
Малафей Ионыч. Во! Именно: напротив. Спасибо, товарищ Чупятов!
Сосулин. Фантастически-гениально.
Превосходный. Ну, да – это же поворот!
Жудра (Превосходному). А вы железных петухов видели?
Превосходный. Что такое? Каких железных петухов?
Жудра. А на крышах – вот у них поворот на сто процентов: куда ветер дунет – туда и они.
Доктор. Вот. А если никаких предрассудков не пугаться – так надо сделать опыт, о котором я думаю уже десять лет. И я его – сделаю – лопну, а сделаю!
Чупятов. Ну-ка, ну, громыхни, тов. доктор! Какой опыт?
Доктор. Скрещение человека с обезьяной.
Все глядят на Чупятова, он начинает улыбаться все шире.
Малафей Ионыч. Ой, уморил! Хи-хи-хи!
Превосходный. Хе-хе-хе!
Сосулин. Ха-ха-ха! С обезьяной!
Жудра. Над кем, граждане, смеетесь?
Доктор. Ничего, пусть: наукой установлено, что от смеха для организма большая польза. Только тут смешного ничего нет. Англичанин Мак Грэгор уже составил словарь языка обезьян. Через год, а может и раньше, все поймут, что это – люди… (к группе, где Малафей Ионыч, Превосходный и Сосулин) такие же, как вы.
Превосходный. Извиняюсь!
Сосулин. Позвольте…
Чупятов. А может, и верно, а? Наука – она дойдет.
Превосходный. Ну, дойдет же, ясно как день!
Сосулин. Гениально! Я пишу на эту тему пьесу… в стихах… И посвящаю вам, тов. Чупятов – можно?
Чупятов. Да бросьте вы – при чем я?
Жудра. А вы свою обезьянью пьесу – лучше ему… или вот ему посвятите (на Малафея Ионыча и на Превосходного)…А то – самому себе: тоже подходяще…
Превосходный. Ну, знаете… як Пана Бога кохам – я вам это пшипомню!
Люба (выходит). Унтера Иваныча тут нету?
Чупятов. А, певунья, здравствуй! Ну, что ж, скоро? А то мы уже заждались.
Люба. Да вот, как только Унтер Иваныч… без него аккомпанировать некому.
Превосходный. Товарищ Люба – вашу лапочку!
Сосулин (пожимая руку Любе, декламирует). Конец Государственной Думе, Февраль сошел к нам с небес. На меня вы взглянули – я умер, Коснулись рукой – я воскрес… Я воскрес, да. Это из моих революционных стихов – вы, Люба, их читали?
Люба. Нет, я про покойников не люблю.
Чупятов (хохочет). Здорово! Как говорится: девка я-те-дам!
Превосходный. Да, это я вам скажу – не девушка, а прямо сахар-рафинад по первой категории.
Жудра. А может, вам этот сахар по пайку не полагается.
Чупятов. Ой, молодцы ребята! Ой, языкастые!
Хохочет. Сосулин и Малафей Ионыч подхохатывают.
Сосулин. «По пайку не полагается»… Гениально! Я это запишу – вы разрешите, тов. Чупятов?
Чупятов. А при чем тут я?
Превосходный. Ну да? Что тут смешного? И почему именно мне не полагается? (Жудре.) Вы думаете, что вам как раз полагается, да? Так азы сначала спросите так называемого отца.
Малафей Ионыч. Нет-нет-нет… я что! (На Чупятова.) Вот, можно сказать, в руки его передаю Любочку.
Чупятов. Да что это ты, Малафей Ионыч, «прикажет-прикажет»! Не в такое время живем. Кого девушка сама выберет – за того и отдавай.
Сосулин. Вот она, народная мудрость! Гениально!
Чупятов. А то вот доктора спроси – как по его надо, с точки биологии.
Доктор. Ну, если с этой точки зрения – так, конечно: соединять в пары людей одной национальности – грубая ошибка.
Малафей Ионыч. Спасибо, тов. доктор! Я всегда – в одну ногу с наукой.
Превосходный (Жудре). Что? Я же вам говорил, что вы ей не пара – и даже, знаете, научно.
Жудра. Ну, это без дураков! Мы с Любой осенью едем в Москву, а вы научно – катитесь ливерной, вот что.
Превосходный. Слушайте – это вы мне – ливерной?
Жудра. Вам – ливерной, да.
Превосходный. Ну, так я вам скажу, что вы не поедете.
Жудра. То есть, это как же? Вы же сами полчаса назад обещали мне путевку дать.
Превосходный. Ну, и что с этого? Это обещание надо понимать диалектически, да.
Малафей Ионыч. Спасибо, тов. Превосходный, спасибо.
Жудра. А по-нашему, по-комсомольски, этакие вот диалектики – называются трепачи.
Люба. Витя… Витя… Оставь… не связывайся.
Превосходный. Ах, та-ак? Я из-ви-ня-юсь! Малафей Ионыч!
Малафей Ионыч. Здесь! Слушаю, товарищ Превосходный!
Превосходный. Имейте в виду, что вы допускаете себе в дом…
Малафей Ионыч. Да… Слушаю…
Превосходный. …бывшего меньшевика, да.
Малафей Ионыч. Как, тов. Превосходный… Госп… да я…
Превосходный. Да. Согласно его собственноручной анкете во время февральской революции он записался в партию меньшевиков.
Чупятов. Да бу-дет вам! Ведь ему же тогда двенадцать годов было.
Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов, ваши слова для меня, как библ… как Бебеля, или, например, Лассаля…
Чупятов (конфузясь). А ну тебя… Что это ты в самом деле… Какой я… (Махнув рукой, закуривает, уходит за угол).
Малафей Ионыч. Нет, тут уже я – автоматически. Чтобы я в мою пролетарскую семью допустил гидру – нет, это аминь, ныне и присно и во веки веков!
Жудра. Благословите, отец дьякон.
Люба. Витя – не надо! Слышишь?
Малафей Ионыч (Жудре). Прошу вас, как бывшего социал-предателя… и нахала… оставить этот честный советский дом и больше сюда не возвращаться! Да-с!
Жудра. С удовольствием! Меня от вас тошнит.
Люба. Витя, постой… Как же я… как же мы…
Жудра. Не робей, Люба! Так или эдак, а мы с тобой… (тихо ей). Вечером, в саду – ладно?
Малафей Ионыч. Нет, насчет Любы – это теперь уж выкусите, вот… (Показывает фигу.) Да-с, гражданин гидра!
Жудра. Что-о?
Унтер Иваныч (входит. В восторге). Ну-у… Какой я ловил шюка! Вот: колоссаль! Я ее тасковал-тасковал… и потом эйн! Вы понимаете? (Молчанье. Оглядывается.) Что? Почему здесь такой… как это, – молчаление?
Жудра. Молчаление – именно! Молчалины – да! Хорошо сказал немец! (Уходит.)
Унтер Иваныч (растерянно). Боже ты моё… Что такой?
Малафей Ионыч. Ничего, ничего. Он ушел – и теперь все слава Бог… бок, ой!
Чупятов (подходя). Что это – что с тобой?
Малафей Ионыч. Бок… Ничего, прошло… Это… это у меня наследственное…
Чупятов. Скажи, пожалуйста! А-а, и Унтер Иваныч тут? Стало быть, все в сборе?
Малафей Ионыч. Все, все, тов. Чупятов. Сейчас, сейчас, сию минуту начнем. Пожалте. Тут у нас ступенечки – позвольте, я вам… (Поддерживает под локоть.)
Чупятов. А ну тебя! Что я – архиерей, что ли? (Уходит в дом.)
Малафей Ионыч. Тов. Превосходный… позвольте вам…
Превосходный. Э-э… спасибо, спасибо!
Малафей Ионыч. Так… Еще одна, еще… (Поддерживая, поднимает свою руку все выше.) Извиняюсь: вся рука вышла-с. Товарищ доктор!
Доктор (просыпаясь от биологических размышлений). Кто это? Ах, вы… Ну?
Малафей Ионыч. Вы что же не идете?
Доктор. Я – потом. Докурю вот.
Малафей Ионыч. Товарищ Сосулин. Люба!
Сосулин. Иду… (Ни с места – упорно смотрит на Любу.)
Люба. Ну? Чего уставились? Дайте пройти.
Сосулин (декларирует).
Товарищ, гляди зорко в оба: Враг прикинулся другом – не верь! Маруся, я твой до гроба – Открой мне сердце и дверь.Это из моего цикла «Привет революции и Марусе».
Люба. Протрите очки: я не Маруся (уходит в дом).
Сосулин. Все равно… Люба… Люба, постойте же! (Идет за ней.)
Жудра (входит с телеграммщиком). Ну, да: вот он здесь. Доктор, распишитесь: телеграмма вам.
Доктор. Ага! Спасибо…
Телеграммщик уходит. Доктор распечатывает телеграмму и держит ее, не читая – не в силах вырваться из объятий биологии.
Жудра. Ну, знаете… наклали вы мне с биологией с этой вашей.
Доктор. А что?
Жудра. А то, что я ее люблю – понимаете?
Доктор. Я тоже люблю. Вот именно: люблю.
Жудра. Как? Вы? Любу?
Доктор. Какую черт Любу! Биологию.
Жудра. Ая – Любу. И вы мне со своими фантазиями свинью подложили. Тоже… ляпнул: «соединять людей одной национальности – грубая ошибка»… Додумался!
Доктор. Да ведь это я так – теоретически.
Жудра. Да, вы – теоретически, а мне ваша теория вышла – дышлом.
Доктор. Фу, ч-черт… действительно – неладно получилось. Ты не сердись – ей-Богу, я тебя люблю не меньше, чем своего Илюшку. Может, как-нибудь уладится, а? Ты придумай, скажи мне – я все сделаю.
Жудра. Да уж будьте покойны – придумаю: у меня мячик работает… получше вашего.
Доктор. Ну так идем скорей – пока не начали.
Жудра. Ах ты… да я не могу туда!
Доктор. Почему?
Жудра. «Почему»! Потому что меня Малафей из дому выгнал – при вас же это было.
Доктор. Фу, черт… действительно! Ну, я один пойду… (Засовывает телеграмму в карман.)
Жудра. Ну… разявка биологическая! Да вы телеграмму-то прочтите.
Доктор. Да, верно: телеграмма. (Читает. Потом – задыхаясь.) Витька! Нынче какой день?
Жудра. Четверг.
Доктор. Четверг? Ой… Бежим сломя голову! Скорей!
Жудра. Куда?
Доктор. На вокзал… Ур-ра!
Жудра. Вы что… Это самое – окончательно?
Доктор. Что – окончательно?
Жудра. Свихнулись.
Доктор. Да ты пойми: это от Илюшки, от студента моего – заграничное плавание кончил, вечером здесь будет.
Жудра. Но-о? Илюшка? Это – в самый раз, кстати. Вы ему скажите – как только морду умоет, чтобы сейчас же он ко мне сюда бежал.
Доктор. Да не один он – вот дело в чем: не один!
Жудра. Как – не один?
Доктор. Ты слушай… черт рыжий – ты слушай! (Читает телеграмму.) «Встречай четверг приеду с африканским гостем… С Африканским гостем…» Ты по-ни-ма-ешь?
Жудра. Хоть убей – не понимаю.
Доктор (поет, приплясывая). С аф-ри-кан-ским гостем! С аф-ри-кан-ским гос-тем!
Малафей Ионыч (выбегая из дому). Товарищ доктор! Товарищ доктор!
Сосулин (выбегая). Что такое?
Превосходный (в окне). Он уже пляшет.
Каптолина Пална (в окне). Потеха! (Хохочет.)
Доктор. С аф-ри-кан-ским го-стем! С аф-ри-кан-ским го-стем!
Жудры около него уже нет – он нырнул за угол.
Малафей Ионыч (подбегает к доктору, хватает его). Доктор… доктор… Доктор. С аф-ри-кан…
Малафей Ионыч. Ш-ш-ш! Ради Хри… Ведь товарищ Чупятов – он не может… Да скажите же – что случилось – что с вами?
Доктор. Телеграмма – вот. Мой Илья приехал. И с ним – африканский гость… Бегу на вокзал. Прощайте. (Убегает. Пауза.)
Каптолина Пална. А я намедни сплю – и вдруг вижу, будто я паровоз родила.
Сосулин. Доктор – пляшет, какой-то африканский гость. Прямо, как во сне…
Превосходный (Малафею Ионычу). Что же это значит?
Малафей Ионыч. Это… можно-скать… сон – производственный.
Превосходный. Извиняюсь, я про доктора.
Малафей Ионыч. У него, изволите ли, сын – по корабельной части, так что у них летом плавание – как бы даже по заграничным местам.
Превосходный. Это, знаете, я уже знаю. Но что такое – африканский гость?
Малафей Ионыч. Не понимаю. Премудрость – или… ум за разум… В твердую почву – не могу вам сказать.
Сосулин. Фантастика!
Каптолина Пална (радостно). Ой… а может, они, которые в Африке, голые ходят?
Малафей Ионыч. Капа… Капа!
Превосходный. Поезд – уже через час, и тогда мы все сами увидим.
Каптолина Пална. А дети от них – тоже черные, или, может, какие пестренькие? Ой, вот интересно!
Малафей Ионыч. Капа! Капа!
Превосходный. Но это же у нас может быть событие! И даже – в масштабе!
Малафей Ионыч. Спасибо, товарищ Превосходный! Именно – в масштабе.
Превосходный. Ну да… (Из дома слышно: рояль и пение.) Уже. Слышите?
Сосулин. Это из «Аиды»… Тоже как раз африканская… Ш-ш-ш!
Идет в дом на цыпочках, за ним бежит Малафей Ионыч, Превосходный и Каптолина Пална – тоже уходят.
Занавес
Час второй
Столовая в доме Малафея Ионыча. Прямо – дверь в залу, там – пение. Другая, застекленная, дверь – на балкон, оттуда ступеньки вниз, в сад. Возле балкона – три дерева, под одним из них, скорчившись, сидит Жудра.
Дарья (выходит на балкон – стряхнуть скатерть, заслушалась пения и заводит сама):
Хорошо тому на свете жить, У кого нету стыда в глазах, У кого нету и совести. Хорошо тому на свете жить, У кого…Жудра (привстав). Это ты – правильно. А мне вот тут – сиди.
Дарья. Ой-ой! Кто-й-то? Кто-й-то?
Жудра. Ш-ш-ш, Даша, не кричи. Это я.
Дарья. Ой, Витька окаянный… Настращал – прямо не передохну. Да ты что же тут сидишь как воришка? В дом-то чего не идешь?
Жудра. С Малафеем разругался – вдрызг… Из-за Любы.
Дарья. Ах, батюшка ты мой! Так, может, Любе чего передать? Ты скажи, я для тебя все сделаю.
Жудра. Спасибо тебе, Дашенька: я знаю, ты все сделаешь, да вот я-то не знаю еще, что делать. Еще пока не продумал.
Дарья. Ну, сиди, думай.
Жудра. Эх, жизнь наша – копейка! А еще того хуже, когда и копейки в кармане нету. Были бы деньги, сели бы мы с Любой в поезд – и ищи ветра в поле.
Дарья (конфиденциально). А у дьякона – полено.
Жудра (удивленно). Какое полено?
Дарья. А такое – сберегательная касса: нутро пустое – и все деньгами набито: чтоб в случае обыска не нашли.
Жудра. Ну, так этих денет ты из него и поленом не вышибешь.
Дарья (вертя могучим кулаком). Я-то? Не вышибу? (Уходит.)
Илья (появляется около балкона. Приглядываясь, тихо). Витька, Витька!
Жудра. Илья! Ну, наконец-то! А папашка твой что же?
Илья. После придет.
Жудра хохочет.
Илья. Ты чего?
Жудра. Вспомнил, как папашка твой тут отплясывал, когда <телеграмма> твоя пришла… Потеха! Все выскочили… Да, кстати, про какого еще ты там африканского гостя в телеграмме писал? Как про него услыхали – так прямо у всех мозги набекрень: никто ничего не понимает, переполошились… Что это – негр, что ли?
Илья. А-а, зацепило! Я тебе сейчас про него расскажу. Иду я, понимаешь, в Порт-Саиде по набережной и вижу: толпа, в середине – негр, а с ним рядом…
Дверь из залы в столовую открывается, в столовую на цыпочках выходит Малафей Ионыч.
Малафей Ионыч (тихо). Дашка, Дашка! Жудра (Илье). Ш-ш-ш!
Малафей Ионыч. Ах ты, Господи! Ничего не готово! Да что ж это такое?
Илья (тихо – Жудре). Пойдем подальше – там я тебе доскажу. (Уходят.)
Малафей Ионыч. Дашка! Дашка!
Музыка в зале прекратилась, оттуда выходит Чупятов, за ним остальные.
Чупятов. Ну, спасибо, Любаша! Ай, молодец-девушка, ай, молодец! Ну, этакий клад тут нельзя держать, это – народное достояние. Обязательно ее в Москву учиться отправим.
Люба. Товарищ Чупятов, я хочу сказать… я не могу одна… я…
Малафей Ионыч (перебивает). Ты – не одна: я тут, можно-скать – на страже. Товарищ Чупятов… дорогой товарищ Чупятов! Позволю себе, что если бы это было в мрачные времена царизма, так я бы вам – прямо в ножки! Но так как мы избавились от этого наследия, то разрешите пожать вашу руку помощи.
Чупятов. Да ну тебя… При чем – я? Ты лучше Унтера Иваныча благодари – он ее обучал-то.
Малафей Ионыч. Дорогой германский товарищ, позвольте вас… (Лобызает.)
Унтер Иваныч. Данке. (Отплевывается, вытирается.) Но это – антигигиенише.
Чупятов (Унтеру Иванычу). Ну, еще-то чего нам споете?
Превосходный. Вот, например, ест композитор товарищ Глинкин: вы Глинкина можете?
Унтер Иваныч. О, да, я могу… Но я не могу, майнэ фрау – моя жена – в ожидании…
Чупятов. Ну? Опять – младенец?
Унтер Иваныч. Это – я, я. Она меня дома в ожидании, и я боюсь: у нее голос очень военный, как у валторн.
Чупятов. Ничего, обойдется. Поиграй, поиграй нам еще… В кои-то веки!
Малафей Ионыч. Унтер Иваныч, кто вас просит – кто вас просит-то, вы подумайте! Да если бы меня… да я бы не то что в валторну – в эту самую… в флейту бы влез бы…
Чупятов. Да будет тебе! Ну, что это, ей-Богу!
Идет в залу, Малафей Ионыч – за ним.
Люба (Сосулину). Ну? Чего вы на меня очки пялите? Что вы мне хотели сказать?
Сосулин. Только четыре строчки. Вы поймете… (Декламирует):
Вперед! За мною! Вперед! Передо мною ты одна, Пересохли губы и рот – Жажду выпить чашу до дна…Люба. Вы что – чаю хотите?
Сосулин (растерянно). Чаю? Да… то есть нет, что я! Нет!
Люба. Ну, так в чем дело, говорите… А то «да», «нет»… Терпеть не могу!
Сосулин. Я… тут мешают, я – потом… Когда вы еще споете – я буду вас ждать на балконе. Вы придете? Люба – я умоляю вас!
Подходит Превосходный – Сосулин тотчас же уходит в залу.
Превосходный. Люба, я еще не успел… я хотел бы сказать вам за ваше пенье – широкое русское мерси. И ежели между нами приватнэ, то вы ест единственное пьятно… э-э-э… в нашей дыре.
Люба. Пятно – в дыре? Благодарю вас… товарищ Глинкин.
Превосходный. Глинкин? А почему – Глинкин, когда я имею свое фамилие и даже очень хорошее, и оно пойдет к вам, як по выкройке.
Люба. Нет, мне ваша выкройка что-то не нравится. (Уходит.)
Каптолина Пална (подходит к Превосходному). Вы это чего же это, а?
Превосходный. Что – что же?
Каптолина Пална. Будто из товарищей, а поступаете, как буржуй!
Превосходный. Кто? Я?
Каптолина Пална. А то кто же? Я вам вот этак глазом сделала, чтобы вы на балкон шли, а вы как колода, ни с места.
Превосходный. Цо такое – колода? А ежели я не видел, как вы мне сделали тым глазэм.
Каптолина Пална. Вот-ще: не видел! Ну, так теперь глядите: как только Любка распоется – чтоб у меня сейчас на балкон шли!
Превосходный. Ну хорошо, хорошо… Не волнуйтесь. Я приду – як Бога кохам, приду.
Каптолина Пална. Ну, если только вы… (Увидев вошедшего Илью.) Ой, какой сурприз! Илюша!
Илья. Я. Здравствуйте.
Превосходный. А-а, пан студент! Вернулся?
Каптолина Пална. Илюша… да как же это вы? Из самой заграницы? И… и ничего?
Илья. Ничего, как видите.
Каптолина Пална. Ой, Малафей! Малафей! Товарищ Чупятов! Глядите, глядите! Тут – из заграницы… из настоящей!
Малафей Ионыч, Люба, Сосулин, Унтер Иваныч – выбегают из залы к Илье.
Люба. Илюша, голубчик!
Чупятов. А-а, мореплаватель!
Малафей Ионыч. Илья Петрович, наш дорогой красный студент!
Сосулин. Позвольте: это, значит, была ваша телеграмма – африканский гость и так далее?
Илья. Да, моя.
Превосходный. Ицо оно то есть – африканский… гощтъ?
Чупятов. Да, загнул загадку – ну-ка, разгадывай.
Малафей Ионыч. Спасибо, тов. Чупятов! Спасибо, тов. Превосходный.
Илья. Африканский гость? А вот сейчас увидите.
Превосходный. Как?
Сосулин. Где?
Илья. Он сейчас придет сюда.
Малафей Ионыч. Сюда?
Унтер Иваныч. Боже ты мое!
Сосулин. Фантастика!
Илья. Да… почти что.
Каптолина Пална. А он из товарищей – или настоящий кавалер?
Малафей Ионыч (тихо, но свирепо). Молчи… дура!
Сосулин. Позвольте: все-таки – кто же он?
Илья. Он? Да видите… как бы это сказать…
Превосходный. Я уже знаю: делегат.
Илья. Вроде.
Превосходный. Ну, ясно, как дзень. Неф – или какого-либо другого цвета.
Каптолина Пална. Негр? Ой, вот интересно!
Малафей Ионыч. И… и он – сюда, ко мне? Делегат? Ой, Госп… то есть, я хочу… Тов. Чупятов – делегат! Можно-скать, черная жертва империализма. Да это же… Капа! Капа!
Чупятов. Да постой, не лотоши. (Илье.) В чем дело?
Илья (Чупятову). Как раз по этому делу – мне надо вам два слова сказать… по секрету.
Чупятов. Ладно.
Превосходный (обиженно). Ну, ежели вы хочете приватнэ и не кладетесь на мой гонор – то я могу уйти.
Малафей Ионыч. Тов. Превосходный – извиняюсь! Товарищи, товарищи, позвольте вам – сюда!
Чупятов и Илья отходят в сторону. Остальные разговаривают взволнованным шепотом.
Малафей Ионыч. Тов. Превосходный… делегат, а? Да ведь этого негра прямо Бог послал… то есть – Бог, конечно, с маленькой буквы, с маленькой буквы…
Превосходный. Ну, хотя бы з маленькой, но з того может быть большой профит.
Малафей Ионыч. Ну да! Тов. Сосулин, если статейку в Москву – в «Известия», а? Что, мол, такого-то числа, состоялось чествование жертвы империализма в доме у бывшего… то есть у меня.
Сосулин. Сейчас, сейчас… Постойте (начинает декламировать):
Привет тебе от нас, как брату! Я тоже негром был когда-то, Теперь я стал…(Запнулся. К окружающим.)
Ну, скорей: кем? кем?
Каптолина Пална. Арапом?
Малафей Ионыч (ей). Молчи! Товарищи, я не могу… я волнуюсь. (Не в силах выдержать больше – на цыпочках подходит к Чупятову и Илье.) Товарищи…
Илья (к ним). Сейчас, сейчас. (Шепотом кончает свой разговор с Чупятовым.)
Малафей Ионыч. Тов. Чупятов… я не могу, я волнуюсь. Вы, можно-скать, отче наш… Может, какие-нибудь директивочки от вас, – как и что. Ведь случай-то, можно-скать, непредусмотренный… африканский… Ведь негр… товарищи.
Чупятов (неопределенно). Да… Это надо учитывать.
Превосходный. Я на то скажу вам: даже – в масштабе, ежели то ест делегат.
Илья. Да… Советую…
Малафей Ионыч. Да что, что советуете-то? Илья Петрович, дорогой – вы скажите: может, он что-нибудь любит эдакое… или вообще.
Илья (на Любу). Вот.
Малафей Ионыч (радостно). Ну-у? Так это мы…
Илья. То есть – пение, музыку. Так что, по-моему, продолжайте концерт. А потом чего-нибудь слегка – тут (показывает на стол) – вот и все.
Малафей Ионыч. Госп… да это я… да мы – в лепешку! Капа… Капа… Она сейчас тут приготовит…
Чупятов. Вот это хорошо, что у тебя жена работящая. А то у других – кухарки, горничные… ну, не глядел бы!
Малафей Ионыч. Истинно: прямо глядеть тошно! У нас, тов. Чупятов, этого и в заводе нету, мы – по-пролетарски… Ну, Унтер Иваныч, Люба – начинайте, начинайте, а то ведь он, гость-то, каждую минуту может, а мы тут стоим… Я не могу – я волнуюсь.
Чупятов. Постой, дай докурим. Вот студент нам еще что-нибудь расскажет.
Превосходный (Илье). Да, я вас прошу – провентилируйте нам в международном масштабе, як там у вас, в загранице.
Илья. События там – совершенно невероятные. Особенно в английских колониях, в Африке. Понимаете: в Гвинее – восстание негров…
Малафей Ионыч. Негров? Дак ведь гость-то наш как раз…
Илья. Да, и туземный батальон отказался стрелять…
Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов… ура! Я не могу… Резолюцию!
Сосулин. Товарищ Чупятов – я предлагаю – срочные стихи.
Превосходный. Нет, нет: резолюцию… Як пана Бога кохам.
Илья. Не торопитесь: самое замечательное дальше. Понимаете… Да нет: я лучше вам прямо из газеты переведу… (Вынимает английскую газету и делает вид, что переводит.) Вот… «отказались стрелять. И тогда против восставших английским губернатором были брошены до тех пор невиданные части…»
Превосходный. Слушайте, слушайте!
Сосулин. Я протестую – от лица…
Чупятов. Да погодите вы! Дайте кончить.
Илья (продолжает). «Это были прекрасно обученные и вооруженные карабинами… человекообразные обезьяны…»
Унтер Иваныч. Боже ты мое!
Илья (продолжает). «Но даже и они отказались и бросили оружие все, как один…»
Малафей Ионыч. Ура!
Превосходный. Ну да – ура.
Сосулин. Позвольте… что же это? Выходит – они совершенно, как люди… то есть как я?
Илья. Да, как вы.
Сосулин. Фантастика!
Илья. Пожалуйста – вот вам газета: вы же, наверное, английский знаете.
Сосулин. Отчасти… да… (Берет газету, растерянно смотрит.) Да, действительно…
Каптолина Пална (услышала шаги – кто-то поднимается из сада на балкон). Ой… идет! Идет!
Малафей Ионыч. Кто? Он? Африканский…
Кидается к балкону, свалка в дверях.
Сосулин. Пустите!.. пустите меня! Я – корреспондент.
Превосходный. Нет, извиняюсь, я! Как секретарь…
Каптолина Пална. Я – дама, а вы на меня прете… Тоже – кавалер!
Малафей Ионыч (увидел на балконе Дарью, торопливо закрывает дверь). Товарищи, это не он, это не он! Ей-Богу, не он! Это – не негр.
Чупятов. А кто же?
Малафей Ионыч. Это… так, одна… моя дальняя… то есть, вообще женщина…
Чупятов. А-а… ну, ладно… (Бросая папиросу.) Что ж, Унтер Иваныч, пора начинать. (Идет в залу.)
Малафей Ионыч (вслед). Истинно: пора… спасибо, тов. Чупятов (приоткрыв дверь на балкон, где Дарья начинает развешивать белье). Дашка, дура… спятила? Белье развешивать! Уходи отсюда… слышишь? (Закрыв дверь – сладко.) Тов. Превосходный… осмелюсь… Тов. Сосулин, дорогой наш поэт! Люба! Люба! Да что ж ты, что ж ты не идешь? Иди же. Я не могу – я волнуюсь… ведь он каждую минуту может… Люба!
Люба (Илья что-то шепчет ей). Да иду, иду.
Уходит в залу вместе с Ильей.
Малафей Ионыч. Капа, слушай: пока она петь будет – ты тут все приготовь… Да поскорее. Господи, ведь каждую минуту – каждую минуту может… Ведь делегат – понимаешь?
Каптолина Пална. Вот-ще: приготовь! Очень надо! А Дашка на что?
Малафей Ионыч. Дура! Ты слышала, что товарищ Чупятов про кухарок говорил? Да после этого Дашку обнаружить – разве это мысленное дело?
Каптолина Пална. А может, у меня свои дела – поважнее? Вот-ще! (Вильнув хвостом, уплывает в залу.)
Малафей Ионыч. Дура! Владычица! Что же теперь? Мать Пресвятая… Дарья! Дашка! Дашка! (Выбегает.)
Возле балкона появляются доктор и Жудра-с каким-то свертком в руках.
Доктор. Ну, ладно, жди пока тут. Я пойду туда. (Поднимается на балкон и в столовую.)
Жудра садится под балконом.
Илья (выйдя из залы навстречу доктору). Ты один? А что же – Африканский гость? Пожалует или раздумал?
Доктор. Придет, придет, только попозже, когда пение кончится.
Илья. Ага! Ну, стало быть – скоро: там уже Аида африканская при последнем издыхании, – слышишь? (Идут в залу.)
В столовую входит Малафей Ионыч вместе с Дарьей, опасливо прикрывает дверь в залу, тянет Дарью к балконной двери.
Малафей Ионыч (Дарье). Так – поняла? Ножи, вилки, которые попроще – кухонные.
Дарья. Кухонные – так кухонные: мне – наплевать, дело твое… (Хочет уйти.)
Малафей Ионыч. Да нет, ты постой. Понимаешь: гости… это самое… нынче – особенные. Надо, понимаешь, чтобы ты как-нибудь… не ты, а как бы… это самое…
Дарья. Ты – не ты… Говори уж, чего кругом ходишь, как кот.
Малафей Ионыч (как в воду). Ну… одним словом… ты мне – тетка.
Жудра фыркает.
Дарья. Тетка-а? Хто? Я? Тебе?
Малафей Ионыч. Ах, ты, Господи… Да некогда мне с тобой! Говорю – тетка, стало быть – тетка. Что я – даром тебе деньги-то плачу?
Дарья. Нашел дуру! Это чтобы я у тебя за десять целковых в месяц и в кухарках, и в тетках служила?
Малафей Ионыч. Дашка, Бог с тобой: какая же это служба тетка? Только одно уважение. Чай, например, подашь – и сама садись с нами, пей. И разговаривай – вообще, как тетке полагается. Да ты женщина умная, мне тебя не учить.
Дарья. Умная – умная, а все-таки в союз сбегаю, спрошу, почем в месяц за тетку полагается.
Малафей Ионыч. Дарья Матвеевна, голубушка, – да зачем же в союз? Я и сам давно тебе хотел прибавить… Ну, двенадцать целковых в месяц – по рукам, а?
Дарья. Не-ет, меньше, как за пять, в тетки не пойду… Сраму-то одного по нонешним временам: дьяконова тетка! (Уходит.)
Малафей Ионыч. Дарья Мат… Ах, ты чертова…
Открывается дверь из залы, высовывается тов. Чупятов.
Ой, товарищ Чупятов. Это я… волнуюсь…
Чупятов манит его пальцем.
Сейчас, сейчас, сейчас…
На цыпочках проходит в залу. Из залы выплывает Каптолина Пална, за нею Превосходный. Жудра быстро взбирается на дерево и дальнейшее наблюдает оттуда.
Превосходный (увлекая Каптолину Палну в неосвещенный угол балкона). Сюда! Сюда! Здесь будет удобнее.
Каптолина Пална. Ой, там темно!
Превосходный. То как раз ест удобно для личной жизни. И мы з вами, конечно, за свободную личную жизнь, ктура ест завоевание нашей революции – и никакой другой революции нам даже не надо.
Каптолина Пална. Ну, да! (Пауза.) А к нам нынче трубочист приходил.
Превосходный (удивленно). То ест… для чего вдруг – трубочист?
Каптолина Пална. Известно для чего: трубы чистить. Весь в саже. Вот бы ни за что не поцеловала!
Превосходный. А ежели не трубочист, а я – Казимир Превосходный – так что?
Каптолина Пална. Вот-ще! Очень мне надо вас целовать! Это не полагается, чтоб дама…
Превосходный. Але ведь я же не дама? И значит, я – могу? Да?
Каптолина Пална. Какой нахал! Конечно. (Поцелуй.) Ах, как я люблю с вами обращаться!
Превосходный. Ну, я прошу вас: еще один… як пана Бога кохам – один!
Каптолина Пална. Вот-ще! За кого вы меня принимаете? (Пауза.) А у меня вот тут – родинка.
Превосходный. Где? Здесь? Да… это знаете, родинка… это даже ест целая родина.
Жудра, не выдержав, фыркает.
Каптолина Пална. Ой… кто это, кто это там?
Превосходный (вскакивает, заглядывает через перила вниз, возвращается). Глупство! Никого… или кто-нибудь в виде птицы. (Возобновляет охоту за родинкой.) Извиняюсь… здесь? Нет?
Каптолина Пална. Ой… а если там есть кто-нибудь? Я же слышала! А если там Чупятов?
Превосходный. Пфе. Цо такое Чупятов?.. Извиняюсь: здесь, да? Некультурная личность, и ежели приватнэ – мне на подобных з высокого дерева плевать.
Каптолина Пална. Ш-ш-ш! Что вы, что вы?
Превосходный. Я же вам говорю, что – никого, и никто не может нас слушать.
Жудра (тихо, но очень раздельно). А вдруг?
Каптолина Пална. Ой! Ой!
Превосходный. Цо, цо такого? (Сбегает с балкона, ищет. Вернувшись.) Никого. То был какой-нибудь звук природы.
Каптолина Пална. Вот-ще – природы! Я же слышала: он сказал – «а вдруг». У меня даже пульс начался.
Превосходный. Извиняюсь, где? Тут?
Каптолина Пална. Нет-нет-нет! Пустите. Идемте отсюда, я боюсь.
Превосходный. А-а, дебли их везьмо! Хорошо, хорошо… Идем.
Уходят. В столовой во время этой сцены Дарья накрывает на стол. В зале – соло на рояле Унтера Иваныча. Люба входит в столовую. Жудра увидел – вскакивает с дерева через окно. Женщины вскрикивают.
Люба. Ой, Витька! Ой, Витька… ты?
Дарья. Черт окаянный! Ты меня до родимчика доведешь!
Люба. А мне Илья говорил… где же Африканский гость?
Жудра. Через пять минут тут будет. Ты смотри, в него не влюбись…
Люба. То есть это в кого – в него? (Хохочет.)
Из залы выскакивает Сосулин, от волнения, как всегда – снял и шелковым платочком протирает очки. Жудра присел сзади Дарьи, она прикрывает его платьем.
Сосулин. Любовь Малафеевна… Люба! Вы на балкон? Да?
Люба. Нет. Там у нас лягушки прыгают… противные. Да если вы еще…
Сосулин (бросив очки на стол, подходит к Любе, взял ее руку обеими своими). Люба, если вы… если вы не пойдете, я… я не знаю, что сделаю!
Люба. Я знаю; прочтете свои стихи…
Сосулин. Люба – я не шучу.
Жудра проскочил под столом и уже из-за спины Сосулина кивает Любе, чтобы она согласилась.
Люба. Да? Не шутите? Ну, хорошо, идите – я сейчас к вам выйду.
Жудра (из-под стола, хватает очки Сосулина).
Сосулин. Где… где мои очки? Где? Я же сейчас, сейчас их здесь бросил.
Люба. Да идите же скорей! Пока там играют… А то сейчас все выйдут.
Сосулин. А, черт, ну, все равно…
Выходит на балкон. Жудра выталкивает туда Дарью. Сам выскакивает через окно, взбирается опять на дерево и исчезает. Люба остается в столовой, у балконной двери.
Сосулин (вышедшей на балкон Дарье – шепотом). Наконец-то! Это – вы?
Дарья (тихо). Ну, я.
Сосулин. Я вас не вижу, но все равно: ваш голос все время звучит во мне… Да, да, во мне. У меня есть четыре строчки – вот:
Твой голос – голос восстаний, Кровь бунтует во мне, кипит. Революции день настанет – Ты будешь моей Лилит…Лилит-Лилит-Лилит! (На коленях.)
Дарья. Ой, да встань! Что это ты – что это ты… спятил?
Сосулин. Повтори, повтори еще! Боже мой… ты сказала мне «ты» – да?
Дарья. Ну, да: сказала.
Сосулин. Милая… ты-ты-ты! Ты не знала – ты не знала! А я давно не спускаю с тебя глаз – я слежу за каждым твоим движением… Что же ты молчишь? Милая, милая… что же ты молчишь? Ну, скажи: ведь ты согласна… Да? Да?
Дарья. Чево согласна-то?
Сосулин. Ну, конечно – быть моей женой… ты согласна, да?
Дарья. Да ну ладно, что ля…
Сосулин. Ты… Ты! (Обнимает Дарью – Люба задыхается от неслышного смеха.)
Люба (выходит на балкон). Ну, поздравляю вас, Сосулин, поздравляю. Я так за вас рада.
Сосулин. Кто это? Что такое? Где… где мои очки? Где очки?
Двери зала открываются, из зала входит Чупятов.
Люба. Товарищ Чупятов! Товарищ Чупятов! Подите сюда… скорей!
Чупятов. В чем дело?
Люба. Поздравьте их: он только что ей сделал предложение.
Чупятов. Но-о? (Сосулину.) Это, брат, здорово! Вот теперь вижу – ты действительно не на словах только. А то ведь нынче всяких много: строят из себя этакого… пролетарского, а сам шелковым платочком нос зажимает…
Сосулин (торопливо прячет платок). Где… где мои очки?
Люба. Вот… они на столе были, вы их под салфетку засунули.
Сосулин (надев очки, в ужасе смотрит на Дарью). Вы? Я… я… нет! Это же…
Чупятов. Ну, нечего, нечего конфузиться. Поздравляю. Это, брат, здорово!
Дарья (обнимает Сосулина). Ах ты… цыплок ты эдакий!
Чупятов. Вот это – да: это – поглядеть приятно! (Дарье.) Вас… как звать-то?
Дарья. Дарьей кличут.
Люба. Она у нас пятый год живет…
Чупятов. Так, так… Она – что же у вас: вроде…
Малафей Ионыч (подбегает). Это… это, товарищ Чупятов… э-э… моя тетя.
Чупятов. Но-о? А я думал…
Малафей Ионыч. Она… тётя, можно-скать, от сохи… от сохи – да. Она в деревне жила…
Дарья. Ну, кому – тетя, а кому…
Чупятов. А я думал – прислуга.
Малафей Ионыч. Нет, что вы, что вы, товарищ Чупятов, я не… не эксплоатирую… Она, конечно, помогает, то, се… но это, как говорится, для семейного удовольствия… А только она – тетя, ей-Богу, тетя! Тетя милая, что же ты ничего не скажешь?
Люба. Это она – с радости: замуж выходит. Вот товарищ Сосулин ей предложение сделал.
Превосходный, Каптолина Пална, Унтер Иваныч, доктор и Илья подходят.
Малафей Ионыч. Пре… предложение? Ей?
Каптолина Пална. Кому? Дашк… (Осеклась. Малафей Ионыч ее ущипнул.)
Превосходный. Кто? Товарищ Сосулин? Нет! Глупство!
Сосулин (умоляюще). Люба – вы же знаете… Вы же видели, как всё это…
Люба. Ну, да: конечно, видела – потому и говорю.
Чупятов. Да уж чего там: дело решенное, поздравляйте.
Переходит с балкона в столовую, за ним – остальные.
Малафей Ионыч. Спасибо, товарищ Чупятов! (Дарье.) Поздравляю, тетя дорогая – поздравляю!
Дарья. Тетя? Ну, насчет тети – это мы еще поговорим! Ты мне сперва…
Малафей Ионыч (перебивая). Это мы – потом, тетя, это мы потом… Поздравляю, поздравляю… Госп… товарищи! Поздравляйте! Капа! Капа!
Каптолина Пална. Вот-ще! Чтоб я…
Малафей Ионыч (тихо). Улыбайся, улыбайся, дура! Поздравляй! Ну?
Каптолина Пална. Поздравляю.
Превосходный. Ну, да: и я – тоже.
Сосулин (поздравляющим). Но позвольте… я… это же очки! Господа… это же… это же фантастика!
Илья. Привыкайте, привыкайте, ничего!
Голос за окном (не то птичий, не то еще какой-то). Уи! Уи! Уи!
Илья выглядывает за окно.
Унтер Иваныч (Сосулину). Моя жена – то же, как ваш – колоссаль. Я очень рад.
Малафей Ионыч (пожимая руки). Спасибо, спасибо. Все-таки знаете, тетя… С глубокого детства… она мне по матери…
Дарья. Кто? Я? Ты это что на меня… Да чтоб я…
Малафей Ионыч (перебивает). Тетя… тетя милая – еще раз! Ну – все, все поздравили?
Илья. Нет, еще не все… (Выглянув в окно.) Уи!
Голос за окном. Уи! Уи!
Африканский гость быстро входит в столовую. Это – антропоид, однако по всем видимостям не нынче – завтра он станет антропос-человек. На нем трусики, рыжие туфли, воротничок, галстук; остальное заменяет шерсть.
Каптолина Пална (вцеплясь в Превосходного). Ой! Ой! Ой!
Дарья. Ну и мырдишша!
Малафей Ионыч, Превосходный, Унтер Иваныч, Сосулин – онемели.
Доктор. Уважаемые товарищи! Честь имею вам представить Африканского гостя.
Занавес
Час третий
Балкон, три дерева. Дверь с балкона в столовую закрыта. Сквозь стекло видно: все – около Африканского гостя. Малафей Ионыч кланяется, приглашая его к столу, вдруг Африканский гость перескакивает через него и вылетает на балкон, за ним – Илья.
Африканский гость что-то бормочет невнятно, нагнувшись к Илье.
Илья. Так, так, так… Понимаю: вам жарко. Так чтобы здесь – на балконе… Еще что?
Африканский гость продолжает тихо бормотать что-то Илье.
Илья. Что? Клочок бумажки? Вот, ч-черт… Нету! (Высунувшемуся в дверь Малафею Ионычу.) Да уйдите вы!
Малафей Ионыч. Как – уйдите? Я – можно сказать – хозяин… Я не могу – я волнуюсь…
Илья. Да ему надо… ну, понимаете? Кусочка бумажки у вас нету?
Малафей Ионыч. Бумажки? Сию-сию-сию минуту! (Открывая двери.) Граждане… Бумажки им требуется кусочек… понимаете? Нашему дорогому гостю – бумажечки!
Сосулин. Вот… с моими стихами.
Превосходный. Ау меня – даже ничем не пачканная.
Малафей Ионыч (передавая Илье бумагу). Может, мне… вроде… помочь им? Так это я могу, с удовольствием!
Илья. Да уйдите вы! Ну как вы можете помочь?
Захлопывает дверь, передает Африканскому гостю карандаш. Африканский гость сбегает с балкона вниз, там пишет записку. На балкон выходит Каптолина Пална, Превосходный, Малафей Ионыч и доктор.
Малафей Ионыч. Ну, что, что? Где он?
Илья. А вон там – в кустиках.
Малафей Ионыч. Спасибо, Илья Петрович, спасибо! Мы на кустике табличку повесим, что, мол, здесь такого-то числа и года наш дорогой Африканский гость…
Илья. Это уж вы – завтра, а сейчас вот что: он просил, чтобы ужин здесь, на балконе.
Малафей Ионыч. Госп… да хоть на крыше! Сейчас, сейчас, сейчас… (Убегает в столовую.)
Превосходный. А почему – на балконе?
Илья. А он, понимаете, у себя там привык на воздухе. Он говорит, что в комнате долго не может.
Превосходный. То есть как это – «говорит»?
Доктор. Ну, вот – опять двадцать пять! Я же вам объяснял, что англичане их язык уже открыли.
Илья. Ну да. И я, пока с ним ехал, подучился – почти все понимаю.
Превосходный. Извиняюсь: а он по-русски может слышать… то есть понимать?
Каптолина Пална (тихо). Ой… Казимир Казимирыч… Я вам говорила!
Илья. Не-ет! По-русски он – ни папы, ни мамы. Это можете быть спокойны.
Превосходный (облегченно). Фу-у! Ну, вот это хорошо. То есть оно не хорошо, но принимая во внимание… э-э… например, случаи из личной жизни…
Илья (Каптолине Палне). Ну, идемте: я вам помогу сюда все перетащить…
Уходят: Илья, Каптолина Пална и доктор. Превосходный остается. На балкон вбегает Сосулин и минутой позже снизу поднимается Африканский гость.
Сосулин (на Африканского гостя). М-м-м… А он?
Превосходный. Ну, ешьли между нами, приватнэ – так это не обезьяна, и даже доктор только что научно подтвердил, что он по-русски ни отца, ни мать не понимает. (Подошедшему ближе Африканскому гостю.) Что, морда? Ну что, морда, тебе надо, ну? Брышь!
Африканский гость отбегает, садится на перила.
Сосулин. Смотрите! А вы сказали, что он по-русски не говорит?
Превосходный. Ну, ешьли я скажу кошке – брышь – так она, по-вашему, тоже по-русски говорит?
Сосулин. Ну, хорошо, слушайте: я хочу… То есть нет, нет – не хочу, ни за что не хочу на этой самой Дарье! Это же черт знает! Я – я – иду с ней в Москве по Тверской, или под руку с ней вхожу в ресторан… Скандал, фантастика! Что будут говорить – вы только подумайте, вы подумайте!
Превосходный. Ну… будут говорить, что вы – лицом к деревне. Это же для вас хорошо.
Сосулин. Позвольте, позвольте! Мои орудия производства – перо и бумага, на бумаге я готов – лицом к чему угодно, к кому угодно. Но тут, извините: тут уже не на бумаге, это я – не могу… Ни за что! Да я просто боюсь ее! Ну, спасите меня, ну, придумайте что-нибудь, я ничего не в состоянии – у меня сейчас голова совсем… без оков…
Превосходный. Ну, – хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Мое фамилие – Превосходный, и я за вас на все сто процентов – и вы можете спокойно не волноваться.
Сосулин. Спасибо, спасибо вам… Я сразу почувствовал в вас что-то такое… родное… Товарищ Превосходный, я… я… мне надо с вами скорей – по секрету, вдвоем…
Превосходный. Так мы же вдвоем.
Сосулин. Ну, да: я тоже жил в Москве три недели… Это же, знаете, город… Пф. (Уходят.)
Открывается дверь на балкон, Африканский гость сбегает вниз. Входит Илья, несет стулья.
Африканский гость (Илье). С-с-с!
Илья подходит, Африканский гость сует ему в руку записку и шепчет что-то на ухо.
Илья. Что? А-а, понял-понял: чтоб никто не видал! Ладно, будьте спокойны!
Малафей Ионыч и доктор вносят на балкон стол, Сосулин и Унтер Иваныч – с блюдами. Превосходный несет стаканчик.
Малафей Ионыч. Товарищ Превосходный… да что это, что это вы! Не утруждайтесь, как же это можно!
Превосходный. Нет, почему? Хотя моя специальность умственная, но я напротив физического труда не возражаю…
Дарья поднимается на балкон с веником.
Малафей Ионыч. Те… те-тя! Доктор. А-а! Товарищ невеста! Вон он, вон он, твой – вон стоит…
У Сосулина опускаются руки, блюдо – на пол, вдребезги.
Дарья. Да ты что же это, а? В очки, как в тарантас, запрегся, а под носом не видишь? Прибирай теперь за тобой! Ну, что молчишь, полтинники свои вытаращил?
Сосулин. Я… я больше не буду… Я сам приберу…
Дарья. Пус-сти, не суйся… родимец окаянный!
Малафей Ионыч. Тетя… тетя!
Унтер Иваныч. Какой голос, очень хороший! (Сосулину.) Поздравляю!
Чупятов (входит). Ну, Малафей Ионыч, уж постарайся – для гостя, покажи себя… в натуральную величину.
Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов, уж будьте спокойны: именно – в натуральную величину! Вот сейчас Любаша с Капой фонарики принесут, мы тут для нашего народного торжества фонарики развесим… Китайские, товарищ Чупятов… Можно сказать, против японского империализма… и вообще…
Снизу на балкон поднимается Африканский гость.
Малафей Ионыч. Ой… вот он, вот он – дорогой наш африканский… Пожалуйте, пожалуйте! Сделайте милость!
Кланяется Африканскому гостю, тот отвечает поклоном в пояс, Малафей Ионыч – тоже в пояс, Африканский гость – в ноги, Малафей Ионыч – тоже в ноги. Потом смущенно оглядывается на Чупятова.
Хи-хи-хи! Э… э… это мы… в смысле физкультуры.
Чупятов. Н-да! Физкультура – старинная.
Африканский гость. Ррмит… хлим аррэдуэк, ррэд… И'га!
Малафей Ионыч (Илье). Что-й-то… что-й-то он? А?
Илья. Он говорит, что очень доволен. Видал, говорит, таких, но редко…
Малафей Ионыч. Спасибо, дорогой наш… Как «спасибо» по-ихнему, Илья Петрович?
Илья. И'га.
Малафей Ионыч. Дорогой наш Африканский гость, позвольте вам от души и'га.
Входят Каптолина Пална и Люба с фонариками.
Люба. Ну, кто у вас тут дежурный фонарщик? Вешайте.
Африканский гость (Илье). Огог… н'зап, н'зап!
Тычет его в руку, в которой Илья держит записку.
Илья. Дай-ка, Люба, повешу… (Берет у ней фонари, сует ей в руку записку.)
Люба отходит в сторону.
Африканский гость (отвлекая от нее внимание остальных – Илье). Уи-ойо-эррс-хроа… Уэк! Уэк!
Красноречивыми жестами демонстрирует влезание на дерево.
Малафей Ионыч (Илье). Чего… чего это им желается? Вы нам только переведите, а мы все, все – с удовольствием!
Превосходный. Ну, да…
Илья. Он говорит, чтоб фонари на деревьях повесить. Они у себя на деревьях сажают светляков таких… тропических…
Чупятов. О-о, вот это красота будет!
Каптолина Пална. Вот-ще! Какой это дурак туда полезет?
Африканский гость. Дырр-уэк-фа… Пупусь! Пупусь! Пупусь! (Взяв фонарики у Ильи, сует один Превосходному, другой – Малафею Ионычу, третий – Сосулину.)
Превосходный. В чем дело? Я извиняюсь!
Илья (Превосходному, Малафею Ионычу и Сосулину). Он просит вас, вас и вас повесить их на деревьях.
Малафей Ионыч. Илья Петрович, Илья Петрович! Я… я боюсь! Нельзя ли как-нибудь… Увольте!
Доктор. Ну, вот. То говорил – «физкультура, физкультура», а теперь – «увольте»!
Илья. Вы, может, за умерщвление плоти – вместе с церковниками?
Малафей Ионыч. Нет, что вы, что вы! Я… я отрекся, я – против. Я полезу. (Уныло). С удовольствием.
Превосходный. Ну, а я так извиняюсь: я не полезу. Чтобы мне для какой-то паршивэй обезьяны на дерево влезать? Не-ет!
Доктор. Уж сразу и «паршивая обезьяна»! Я же говорил вам…
Превосходный. Извиняюсь: но это же нисшее существо. У него же шерсть… всюду.
Чупятов. Шерсть! Ты на шерсть не гляди: может, он под шерстью – не хуже кого другого. Этак и неф, что он весь черный, так тоже, по-твоему, нисшее?
Малафей Ионыч. Спасибо, товарищ Чупятов, спасибо. Верно! Ручку позвольте!
Превосходный. Товарищ Чупятов, я уже отмежевался от своих слов, и я согласен на дерево.
Илья (Сосулину). А вы?
Сосулин. Я… я…
Дарья (грозно). Ле-езь! Слышишь?
Сосулин (поспешно). Я – куда хотите… куда хотите…
Илья. Браво! Итак, открывается первая в нашем городе олимпиада. Товарищи атлеты – слушай команду! Раз… Два… Три!
Олимпиада началась, три атлета, кряхтя и охая, лезут на деревья.
Доктор. Так-так-так, граждане! Работай, работай!
Каптолина Пална. Ой… Казимир Казимирыч, там – гвоздь! Гвоздь! Напоретесь!
Дарья (Сосулину, у которого ничего не выходит). Лезь, лезь, паралик, лезь!
Сосулин (лезет снова, с отчаянием, опять сорвался, очки упали, он наступил на них ногой). Очки! Я… я теперь ничего не могу… Я пропал…
Малафей Ионыч. Ой… Ой… Госп… Ой!
Превосходный. А-а… жиб дьябли его взали…
Доктор. Вали-вали-вали! Немного осталось!
Малафей Ионыч (на верху дерева, нацепив фонарь). Ф-фу! (Крестится.)
Африканский гость (показывая на него). Ар-рру-ру-ру. (Хохочет по-обезьяньи.)
Доктор. Вот оно, когда выскочило настоящее-то! Ха-ха-ха!
Чупятов. Э-э, брат? Что же это ты? А?
Малафей Ионыч (сверху). Товарищ Чупятов… товарищ Чупятов… Я же это – антирелигиозно… ну, вот ей-Бо… Ой, бок прокололо! Товарищ Чупятов, это же я – для смеху, как бы в виде театра… Вот же… вот же… вы же смеетесь. И дорогой наш… африканский – смеется… Спасибо… спасибо… (Быстро спускается.)
Превосходный (тоже повесил фонарь, спускается, с опаской поглядывая вниз). Ой! (Задел за гвоздь, треск разорванной материи.) Что это такое? Вы слышали? Что это такое? (Соскакивает.)
Каптолина Пална. Я вам говорила: гвоздь… Вот штанами и пострадали.
Дарья. Располосовал-то! Батюшки!.. Ой! (Хохочет.)
Африканский гость. Уи! Уи! Уи! (Дергает оторванный лоскут.)
Превосходный. Нахал! Пш крев! Я тебя сейчас…
Илья. Перевести?
Превосходный. Нет-нет, это я – не для перевода, это я так – приватнэ… Не переводите.
Люба. Ой, я лопну от смеха – я не могу больше, я не могу.
Вытаскивает платок – вытереть глаза, из кармана выпадает записка, Превосходный ее поднимает.
(Тихо – ему.) Отдайте… отдайте сейчас же! Не смейте читать! Слышите?
Превосходный (быстро пробежав записку, тихо Любе). А-а… То вот как? (Прячет записку-) Ну, теперь он у меня уже тут… (Похлопывает себя по карману.)
Каптолина Пална (подводит). Ничего, ничего. Дайте я вам булавочкой заколю. Это даже хорошо: это к мальчику.
Превосходный. То есть как – к мальчику?
Каптолина Пална. Ну да: брюки разорвать – это, говорят, мальчик родится.
Люба. Казимир Казимирыч!
Каптолина Пална (занятая реконструкцией брюк, Любе). Вот-ще! Пусти! Уходи отсюда, слышишь?
Превосходный (Любе, ядовито). Мне даже неловко, знаете… Вы же девушка, а это – брюки… Вам лучше уйти.
Люба (проходя мимо Ильи). Илюша.
Спускается с балкона, Илья – за ней.
Илья. Ну, Люба? Что же ты молчишь? Что случилось?
Люба. Дура! Дура! Сама – своими руками!
Илья. Да что такое?
Люба. Записка…
Илья. Ну?
Люба. Я ее выронила… Превосходный… она у Превосходного. Он ее прочитал…
Илья. Эх, ты: все провалила! Теперь он нам покажет! Хоть бы успеть деньги из папаши твоего вытащить – на билет в Москву.
Люба. Да, как же, вытащишь из него!
Илья. А вот мы на этот счет с Дарьей поговорим. Пошли-ка ее ко мне… Не надо, не надо: вон она идет…
Дарья появляется с самоваром. На балконе в это время заканчиваются приготовления: зажигаются фонари, ставятся на стол блюда. Африканский гость всюду – первый активист.
Малафей Ионыч (с балкона). Люба! Илья Петрович! Да где же вы там? Идите.
Люба. Сейчас…
Поднимается на балкон, Илья что-то тихо говорит Дарье.
Малафей Ионыч. Унтер Иваныч! А вы – что же? Вот стульчик, стульчик для вас…
Унтер Иваныч. Нет-нет! Я – нет!
Малафей Ионыч. Что вы, что вы, Унтер Иваныч! Вы, можно сказать… музыкальный вождь – без вас никак нельзя.
Унтер Иваныч. Я поздный – боюсь. Моя жена сегодня очень неудобренная.
Малафей Ионыч. Как, как? Жена – неудобренная? Хи-хи-хи!
Превосходный. Хо-хо-хо!
Чупятов. Нехорошо, товарищи. Что это, в самом деле! Напали на немца…
Малафей Ионыч. Товарищи, стыдно! Да как же это можно, а? Это называется антисемитизм против немцев. Я протестую! Я…
Дарья приносит самовар.
Те… тетя дорогая! Вот спасибо! Ты садись с нами, тетя, садись. (Чупятову). Она – сядет, она сейчас сядет… Тетя!
Дарья. Тетя? Ну, это мы еще поглядим!
Малафей Ионыч. То есть… че… чего поглядим?
Дарья. Знаю я тебя! Наобещаешь, а потом… Вот как возьму сейчас при всех…
Малафей Ионыч (торопливо). Нет-нет, тетя… я сам возьму, ты не беспокойся. (Вскакивает). Товарищ Чупятов, – она, понимаете… У ней – это самое… нерв расстроен… Я – сейчас. Тетя – на минутку! (Гостям.) Я – сейчас, сейчас. (Сбегает с балкона.)
Дарья идет за ним, оба скрываются за углом дома. Каптолина Пална разливает чай.
Превосходный. Да-да-да, товарищ Любочка, да. Теперь вы у меня – тут! (Похлопывает себя по карману слева. Тихо). Но мы з вами можем сговориться, и ешьли, например, вы зайдете ко мне завтра домой… приватнэ…
Берет ее руку, Люба вырывает, вскакивает из-за стола.
Африканский гость (наблюдавший эту сцену, хватает со стула гитару, дает ее Илье). Тырр-мзэт-уи, мзэт-уи… Уэк!
Илья. Он – насчет музыки. Как, граждане?
Чупятов. Об чем речь? Работай!
Илья наигрывает и что-то тихо говорит Африканскому гостю. Из-за угла выходит Дарья, за нею – Малафей Ионыч.
Малафей Ионыч. Дарья… Дарья Матвеевна! Тетя дорогая, разве я отказываюсь? Господи…
Дарья. А не отказывайся – так плати мне сейчас за тетю за год вперед. По пять рублей в месяц – это выходит шестьдесят.
Малафей Ионыч. Шесть червонцев? Сейчас? Ах ты, мерзав…
Дарья. Ну, ладно! Ты у меня родишь ежа против шерсти! Вот как выложу сейчас при всех, как ты меня в тетки нанимал…
Малафей Ионыч. Те… тетя дорогая! Ради Хри… Тетя – я согласен.
Дарья. Ну, давай.
Малафей Ионыч (отсчитывает, дает Дарье деньги). Вот…
Дарья (взглянув). Три… Так. Еще три давай. Поживей, племянничек, поживей!
Малафей Ионыч. На! Сстер…
Дарья (грозно). Што-о!
Малафей Ионыч. Стер… Стерпеть все надо, все – стерпеть… Христос терпел – и нам велел. Дарья. Ну, то-то! Терпи!
Малафей Ионыч уходит на балкон. Дарья пересчитывает деньги.
Илья (с балкона). Тетя Даша, где же ты застряла? Тут без тебя жених соскучился… (Сбегает вниз к Дарье.)
Сосулин (вскакивает). Нет-нет. Я… я… не соскучился.
Дарья (сует деньги Илье). Выручила. На, отдай Витьке… Ой, была потеха!
Илья. Спасибо тебе, Дашенька. Век не забудем. (Идут на балкон.)
Чупятов (навстречу Малафею Ионычу). Что-й-то ты, Малафей Ионыч, будто расстроен чем-то, а?
Малафей Ионыч. Нет, что вы, что вы, товарищ Чупятов! Как можно… госп… Гости такие дорогие… семья. (Дарье, поднимающейся на балкон.) Тетя дорогая… (Свирепо.) Садись.
Дарья (усаживаясь рядом с Сосулиным). Спасибо, племяш драгоценный, спасибо. Ну-ка, положи мне варенья-то. Клади, клади еще – не стесняйся! Та-ак!
Сосулин, озираясь, тихонько отодвигает свой стул, чтобы удрать.
Африканский гость (вырастает перед ним). Огог… дррапа-дррап. Н'ун! Н'ун!
Дарья (Сосулину). Женишок! Куда? Куда ты?
Сосулин. Я в па… в пальто… Платок в пальто. У меня… н-насморк хронический…
Дарья (могучим объятием пригвождает его к стулу). Сиди, сиди, сопливенький ты мой! Я тебе нос утру, миленочек – я утру! (Ситцевым платком вытирает Сосулину нос.)
Илья. Счастливец!
Каптолина Пална. Казимир Казимирыч, а при социализме насморк будет или нет?
Малафей Ионыч (поспешно ее перебивая). Капа… Капа… Ты угощай, угощай лучше. Гость-то… гость-то наш дорогой африканский… Илья Петрович, да усадите вы его!
Африканский гость прыгает в кресло рядом с Любой, Малафей Ионыч – ему.
Ой! Хвостик свой не прищемите! Хвост… Хвост, говорю!
Африканский гость. Хх-вост… ррр-уик!
Малафей Ионыч (в восторге). Гос… граждане! Товарищ Чупятов! Доктор! Да он слова произносит! Наши! А? Так мы же его по-нашему выучим!
Доктор. И очень просто. Пройдет какой-нибудь год, два и все поймут.
Малафей Ионыч. Да нет, что – год! Мы – сейчас… Ну-ка? Х-вост. Ну? Х-вост.
Африканский гость. Ррр… ост.
Малафей Ионыч. Нет-нет: X!.. Х-вост.
Африканский гость. Ррр… х-вост. Пррхвост. Прррхвост.
Илья. Очень интересно выходит. Ну-ка еще попробуйте.
Малафей Ионыч. Нет, что уж их затруднять… пускай уж они покушают сперва… Товарищ Сосулин, будьте настолько… около вас рачки – передайте им.
Сосулин. Что? Ах, да… рак. Вот… (Передает.)
Африканский гость. Ррр-рак. Урр. Ддд… рак, уррддррак. Дурррррак. (Тычет рака Превосходному.)
Малафей Ионыч. Слышали? Слышали? Замечательно!
Превосходный. Ну, ешьли так, так уж довольно. Я скажу, что ничего замечательного нет, и я имею на то факт… Тут (похлопывая себя по карману слева, что в равной мере может быть отнесено как к спрятанной там записке, так и к Превосходному – его сердцу).
Малафей Ионыч. Товарищ Превосходный… что такое? Какой факт? Госп…
Превосходный (на Любу). То пока есть еще наша тайна, хотя, я разумею, мы с ней уже сговорились.
Малафей Ионыч. Так, значит, вы с ней… Госп… да я! Товарищ Превосходный… спасибо! Товарищ Превосходный, дорогой – век за вас буду… это самое…
Люба (Превосходному). Слушайте… Если только вы…
Превосходный. Для вас, товарищ Любочка, могу и подождать, ешьли вы имеете рыбку уже на крючке, то разве надо опешить?
Унтер Иваныч. О, да! Ман мус долго таско-вать, тасковать, а потом – эйн!
Превосходный. Ну, да. И ежели это такая превосходная рыбка… (На Любу.)
Люба молча вскакивает и бежит вниз с балкона.
Малафей Ионыч. Хи-хи-хи! Законфузилась! Ничего, привыкнет.
Африканский гость. Ллю… Ллю… Арр-уап! Уап! (Догнав Любу на ступеньках, хватает ее и несет ее на балкон.) Аррр-уап! Уап!
Чупятов. Малафей Ионыч, ты гляди, гляди.
Доктор. Темперамент – африканский, очень понятно.
Малафей Ионыч (поглядывая на Чупятова, неопределенно). Н-да… можно сказать действительно.
Сосулин (вскакивает). Я не могу! Я с ума сойду!
Дарья (сажает его). С чего хочешь сходи, а с места не сойдешь, не-ет!
Сосулин (Малафею Ионычу и Каптолине Палне). Как вы можете? Какая-то образина… обнимает вашу дочь, а вы…
Доктор. Позвольте: «образина»! Вы можете прочитать в последних английских работах…
Илья (потрясая газетой). Ну, да вот: вы же сами читали. А как нас в Одессе… Да что – в Одессе! Вот он завтра со мной в Москву поедет – по приглашению разных научных обществ.
Чупятов. А что же – и поедет. Это уж я ему устрою. Денег-то на билет хватит?
Илья. Да ему только захотеть – денег у него прямо… килограммы будут. Да, Малафей Ионыч: килограммы!
Унтер Иваныч. Боже ты мое! Малафей Ионыч. Так… так, значит, он… так это же выходит…
Африканский гость неожиданно обнимает и целует Любу.
Люба. Ой!
Доктор. Да, конечно, выходит – ты гляди, гляди. (На Любу и Африканского гостя.)
Малафей Ионыч. То есть, вы хотите сказать… это самое…
Доктор. Во-во-во! Это самое. А для науки-то… Да для науки тут, может, прямо революция будет!
Чупятов. Наука – это первое дело. Верно, товарищ доктор.
Илья. И вот что еще учтите: если вы, Малафей Ионыч, согласитесь – так ведь про вас вся Москва заговорит, вы сразу – взлетите!
Малафей Ионыч (охорашиваясь). Да уж… я бы это самое – конечно… в натуральную величину.
Доктор. Ну, так отдавай за него Любу – чего ж долго думать.
Малафей Ионыч (косясь на Чупятова). Да я… собственно…
Чупятов. А что, Малафей Ионыч, правда, а?
Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов, да если вы только… Да… Да я – с радостью! Для науки-то? Госп… Да наука для меня – вроде рели… ре… рельсы, по которым мы все, как один… до последней капли…
Чупятов. А особенно, если на этих рельсах – денег килограммы… а?
Малафей Ионыч (увлекшись). Да… килограммы. Килограммы… а?
Каптолина Пална. Ну, а я не согласна.
Малафей Ионыч. Капа… Капа!
Каптолина Пална. Вот-ще! Чтоб я свою дочь за какую-то…
Щипок Малафея Ионыча.
Я… я сама.
Доктор. Что – сама?
Каптолина Пална. Ну… для науки. Очень даже интересно.
Доктор. А это уж надо его опросить (на Африканского гостя), как он. Ну-ка, Илья!
Илья (Африканскому гостю). Арр-кап-тырр-лю… уэк? Уэк?
Африканский гость. Пакк-угн\ га! Пфу! Пфу! (Плюет.)
Каптолина Пална. Нахал животный! Казимир Казимирыч, какой же вы кавалер? Вашу даму всю обчихали, а вы – как колода!
Превосходный (встает). Ну, знаете, это уж слишком чересчур. Довольно. Гэть! Я вам сейчас, уважаемое собрание, все объясню… (Вытаскивает записку.) Вы имеете здесь докумэнт…
Чупятов. Да постой ты, секретарь. Документы – потом. Сядь! Сядь, говорю!
Превосходный (садится). Слушаюсь, товарищ Чупятов. Я могу и потом. И в самый последний момент – это, знаете, будет даже интересней – так, ровно как в театре. (Африканскому гостю.) Что на то скажете, молодой человек?
Африканский гость. Н'га! Барр-анга! Гррымз-обупфф-тырр… Уэк! Уэк-кх-пи!
Илья (Превосходному). Он очень благодарен и говорит, что у него был дядя, как две капли воды похожий на вас.
Африканский гость (на Любу). Ырр-уэп-ллю… их. Гог!
Илья. Он хочет, чтобы спросили Любу, как она сама – согласна за него или нет.
Малафей Ионыч (предостерегающе). Люба!
Люба. Ну, конечно…
Африканский гость дергает ее за рукав.
Конечно – не согласна. Я обещала Витьке… Жудре.
Малафей Ионыч. Ну, не-ет! Насчет Жудры – это уж позволю себе… нюанс из трех пальцев. (Показывает фигу.) Да-с!
Африканский гость (свирепо). Пррр-ембррр-уэк-ать! Ать!
Илья. Это он, извиняюсь, Витьку… последними обезьяньими словами кроет.
Малафей Ионыч (Любе). Вот видишь, видишь! И он тоже – как я – сразу раскусил, что это за птица такая – Жудра… Ну, Люба, я тебя прошу – для науки. Для науки, Любаша!
Дарья. Так, так, племяш! Проси, проси, кланяйся!
Сосулин. Нет! Нет! Люба!
Люба (Малафею Ионычу). Так ты настаиваешь, чтоб я согласилась?
Малафей Ионыч. Я тебя кратно прошу… можно сказать, как старший, отец.
Люба. Ну, хорошо: для науки – я согласна.
Африканский гость. Урр-уи! Уи! Уи!
Илья. Молодец, Люба! Выдержала экзамен!
Чупятов. Ну, Малафей Ионыч, куй железо, пока горячо. Загсовая книга у тебя, кажись, тут, дома?
Малафей Ионыч. Как же, как же, товарищ Чупятов, дома. Я и дома, можно-скать, сверхурочно… в поте лица своего, как заповедал нам Госп… наш вождь…
Чупятов. Какой вождь?
Малафей Ионыч. Э-э… как его…
Чупятов. Ладно, некогда – потом вспомнишь. Неси скорей книгу – сразу две пары и запишешь… по конвейеру.
Малафей Ионыч. Слушаюсь, товарищ Чупятов! Сейчас, сейчас, сейчас. (Уходит.)
Доктор. Вот это я понимаю! Это – ударная система! Ну, ребята, целуйтесь!
Люба и Африканский гость целуются.
Унтер Иваныч. Хип! Хип! Хип! Илья. Ур-ра-ра!
Превосходный. Ну, знаете, это ваше ура вы еще подождите, да. Еще неизвестно, ура или напротив не ура…
Доктор. Обе… обе пары! Товарищ Сосулин, поэт – вы что же нахохлились? Пора бы вам…
Сосулин (вскакивает). Да, пора! Довольно (Декламирует.)
Расправлю могучие плечи – Как Разин, как Пугачев…Дарья (чуть надавила – он плюхнулся на стул). Сиди уж… цыплок недосиженный. Туда-а же: Пугачев!
Сосулин. Товарищ Превосходный… товарищ Превосходный – вы же мне обещали!
Превосходный. Один момент – один момент, уважаемый – и, як Пана Бога кохам, вы увидите, что такое есть Казимир Прэвосходный. Моя бомбочка – еще тут. (На карман.)
Каптолина Пална (показывает на Африканского гостя). Ой, Казимир Казимирыч… как он на вас смотрит. У меня опять даже пульс начался.
Превосходный. Где… где – пульс?
Малафей Ионыч (входит с книгой. Служебным тоном). Прошу граждан соблюдать тишину… (Сосулину) и на столах не разлагаться… гражданин! Будьте любезны. Граждане, вступающие в брак, прошу предъявить ваши документы.
Чупятов. Да ну тебя! Ты еще у своей дочери будешь спрашивать – чья она дочь. Записывай, не трать время зря.
Малафей Ионыч. Слушаюсь, товарищ Чупятов. (Записывает.) Любовь Малафеевна… двадцати двух… дочь… м-м-м… Так. А-а… а как же у них-то? (На Африканского гостя.)
Превосходный. Да-да-да! Ваш докумэнт, пан, ваш докумэнт! Ага-а! То вам не по нраву?
Сосулин. Ага-а!
Люба. Илюша! Илюша! Скорей же… что-нибудь…
Пауза. Доктор и Илья совещаются шепотом.
Доктор. Я удостоверяю его личность.
Илья. Я – тоже.
Чупятов. Правильно! Закон! Удостоверения двух граждан по нашему закону довольно.
Малафей Ионыч. Спасибо, товарищ Чупятов! (Любе иАфриканскому гостю.) Бракосочетающиеся, распишитесь потом здесь. (Показывает место в книге.) Следующие! (Робко.) Те… тетя… (Чупятову) э… это тетя… я знаю, я знаю. (Торопливо записывает.) Дарья… Матвеевна… тридцати…
Дарья (быстро села на пол, разулась, извлекла из башмака документ – и на стол). Вот! На тебе!
Малафей Ионыч. Да нет, тетя… за… зачем же… Я и так… я и так…
Дарья. Чего там – так! Я не какая-нибудь половинкина дочь и не буржуйка, я не боюсь!
Чупятов (через плечо Малафея Ионыча взглянув на документы). Э-э! Расчетная книжка?
Малафей Ионыч (торопливо пряча книжку). Э… это, товарищ Чупятов, не по тете расчетная… это по ихней другой специальности… Я… я… уже записал, теперь вот их надо… (на Сосулина) они волнуются…
Илья (вместе с Африканским гостем держит вырывающегося Сосулина). Не волнуйтесь! Не волнуйтесь, товарищ!
Сосулин. Пус… Пустите!
Малафей Ионыч. Прошу соблюдать тишину. Ваш документ, гражданин.
Сосулин. Он… д-д-дома… Пустите!
Малафей Ионыч. Тогда будьте добры – устно… Ваше социальное положение? Родители?
Сосулин. Родители?
Малафей Ионыч. Да-да: родители у вас – кто были? Будьте добры.
Сосулин. Ро… родителей… не было.
Малафей Ионыч. То есть… как не было?
Сосулин. Не было! Не было! Ничего не было! Пус… пустите! Товарищ Превосходный!
У Превосходного в это время оживленный диалог шепотом с Каптолиной Палной, они переходят на другое место. Сосулин, вырвавшись, тычется в пустой угол, потом кидается к Чупятову.
Сосулин (Чупятову – тихо). Товарищ Превосходный… я не хочу! Вы же мне обещали! Я не хочу!
Чупятов. Что такое? Что – не хочу?
Сосулин. …На какой-то мужичке! Это же черт знает! Мой отец был в Сенате, а я… Нет, это же немыслимо! Фантастика, чепуха… тут все с ума сошли – вся Россия с ума сошла…
Чупятов. Вот ка-ак?
Сосулин. Только вам… только вам это говорю… вы же понимаете. Вы же мне обещали. Ведь вам только два слова сказать этому самому типу… Чупятову…
Чупятов. Ая этот самый тип и есть.
Сосулин (в ужасе). В-в-вы? Чу… Чу…
Чупятов. Я.
Сосулин. Э… это не вы.
Чупятов. Нет, я – это я. А вот вы – действительно не вы.
Сосулин. То есть… как?
Чупятов. Так. Хорош… революционный! Редиска ты – да еще и трухлявая. Нам, брат, таких не надо.
Сосулин. А-а-ай! (Присев, как заяц, опрометью убегает вниз с балкона, исчез.)
Дарья (вслед). Погоди, погоди… жених!
Илья. А-лля-ля-ля!
Африканский гость. Рру-рру-рру!
Унтер Иваныч (когда хохот затих – Чупятову). русский – странны. Варум – почему вы звал его рэдис. Рэдис – это вкусны, а он – невкусны.
Чупятов. Да уж, это верно, что невкусный.
Унтер Иваныч. О да! Пфуй!
Чупятов. Вот именно. Ну, одна пара еще осталась. Расписывайтесь скорей – и конец.
Доктор. Конец благополучный, вот это я люблю.
Превосходный. Ну, знаете – благополучный. Пхэ! Это мы еще посмотрим!
Каптолина Пална. Казимир Казимирыч… я боюсь, у меня пульс…
Илья. Товарищ Превосходный, да будет вам бузить.
Превосходный. Нет, извиняюсь: я должен сказать… Уважаемое собрание, это же все – фигли-мигли, это – комедия. И я имею документ, ктуры, я сейчас вам, наконец, объявлю… (Вынимает записку, секунду медлит, ухмыпяясь.)
Люба судорожно ухватилась за Илью.
Африканский гость (подойдя к Превосходному). Аррр-у… Аррр-у… А вдруг?
Превосходный (обалдев). Что?
Африканский гость (очень ясно). А вдруг? Чупятов. Ну, какой там еще документ! В чем дело?
Превосходный (растерянно). Я… я не знаю… Я – ничего…
Африканский гость подбегает к Малафею Ионычу, нагибается к нему – явно сейчас заговорит.
Каптолина Пална. Казимир Казимирыч… Казимир Казимирыч… Не надо!
Превосходный. Малафей Ионыч… я – ничего. Я – ничего. Як Пана Бога кохам, ничего!
Малафей Ионыч. Что – ничего? Дорогой товарищ Превосходный… Капа… Что такое?
Чупятов (Превосходному). Ну, давай, давай сюда документ твой.
Превосходный. Э-э-это не документ… Это бэ-бэ-белье…
Чупятов. Да что ты говоришь? Какое белье?
Превосходный. Это… это есть счет от прачки… Хе-хе-хе! Это я, извиняюсь, пошутил… як Пана Бога кохам.
Малафей Ионыч. Хи-хи-хи… Спасибо, товарищ Превосходный!
Люба. Ну, знаете, за такие шутки…
Превосходный. Хе-хе-хе… Товарищ Любочка… Это же я – для волнения, как в театре… И вы же все равно имеете благополучное окончание, вам же только расписаться вашим фамилием…
Малафей Ионыч. Пожалуйте, пожалуйте, граждане – прошу расписаться. Вот тут…
Люба расписывается.
А… а… как же они? (На Африканского гостя.) Могут… это самое?
Илья. О чем речь? Конечно – могут. Я же его научил.
Африканский гость. Н'га! Н'га! (Пожимает руку Илье, расписывается в книге и быстро ее захлопывает.)
Малафей Ионыч. Позвольте, позвольте…
Илья. Чего там! Готово! Музыку… Унтер Иваныч! Просим!
Унтер Иваныч. О да! Браутмарш. (Уходит. Слышен марш.)
Доктор. Ну, Малафей Ионыч, поздравляю: сделал – своими руками: это – зять, да! Это же – не какой-нибудь Жудра.
Малафей Ионыч. Жудра… Жудра – тьфу, вот что! Спасибо вам, товарищ доктор.
Африканский гость (тоже жмет руку доктору). Н-га! Н-га! Н-га!
Доктор. Не меня – его, его благодарите (на Чупятова).
Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов… отец родной… Не могу, волнуюсь.
Африканский гость (дергает за рукав Малафея Ионыча). Урр-барр-барра н-га! (Бросается на пол – два-три движения, – ползает на брюхе, вскакивает, опять дергает Малафея Ионыча.)
Илья (Малафею Ионычу). Это он вам объясняет, что у них так благодарят, он и вас просит…
Малафей Ионыч. Да я… да с удовольствием! Товарищ Чупятов… дорогой. (Ползет на брюхе к Чупятову.)
Доктор, Илья, Африканский гость умирают со смеху.
Дарья. Ой, батюшки мои, на брюхе пополз! Ой, сейчас лопну.
Африканский гость. Ха-ха-ха! Не могу больше! Ой! (Сбрасывает обезьянью голову: это оказывается, конечно, Жудра.)
Люба. Витька, ты негодяй, провокатор!
Чупятов (ползущему Малафею Ионычу). Тьфу, гадость какая! Да встань ты, ну? К черту!
Малафей Ионыч (вскакивает. Увидел Жудру). Госп… Господи! Что такое? Это – ты?
Жудра. Я.
Малафей Ионыч (тыча пальцем в обезьянью шкуру). А это самое… как же?
Илья. А так, очень просто. Я отцу для опытов африканского гостя – обезьяну вез, да только в Одессе не доглядел, она советского хлеба поела – и издохла. А вот, все-таки пригодилась… (Обнимает Любу.)
Малафей Ионыч. Это… это… это – нахальное жульничество! Вы, молодой человек, вы… вы – подлог, да!
Превосходный. Вот именно, подлог.
Жудра. Ну, уж коли так, так это не я, а вы, отец дьякон, живой подлог. И вы, гражданин Превосходный, тоже – подлог. И Сосулин… Ах, да: он удрал! Жалко…
Малафей Ионыч (кидается к Чупятову). Товарищ Чупятов!
Превосходный (тоже). Товарищ Чупятов! Товарищ Чупятов!
Малафей Ионыч. Да что же это? Вы же, можно сказать, отец… Вы же меня знаете… Товарищ Чупятов!
Чупятов. Да уж, теперь знаю – как свои пять пальцев! Подальше от меня, подальше! Ну?
Превосходный. Но ведь я же – не он (на Малафея Ионыча)…Я же ваш секретарь…
Чупятов (перебивает). Был – секретарь. Завтра за месяц вперед получишь – катись! А ты, Жудра, за командировкой зайди – для себя и для Любы. Спасибо тебе за веселый спектакль, и счастливого пути в Москву!
Занавес
1929–1930
Пещера*
В двух сценах
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Мартин Мартинович.
Маша – его жена.
Обертышев – хозяин соседней квартиры.
Селихов – председатель домового комитета.
Место действия – Петербург.
Время – 1920 год.
Сцена первая
Комната – когда-то, вероятно, была кабинетом. Рояль, письменный стол, книги. На рояле – утюг, пять очищенных картошек, ноты, топор, прикрытые книгами тарелки и банки. В этом же роде и письменный стол. Посредине комнаты – «буржуйка» с трубой, кровать. Рядом с кабинетом – маленькая передняя, там кухонный стол, деревянное корыто, ведра. Из передней – дверь, очевидно, на лестницу. Кабинет освещен только отблеском огня «буржуйки». Возле «буржуйки» – Мартин Мартинович; на кровати – закутанная Маша.
Маша. Я не могу, не могу дышать в этой темноте… Да когда же они наконец свет дадут…
Мартин Мартинович. Как обыкновенно – в десять. Теперь уже скоро.
Маша. Да, а ты сидишь у печки, как… как я не знаю кто – тебе все равно, что я задыхаюсь, что я…
Мартин Мартинович (горько, с упреком). Маша.
Пауза.
Маша. Март, милый, прости. Это потому, что я больна… это не я, это не я сейчас была… Прости…
Мартин Мартинович. Маша, не надо, не надо, я же понимаю.
Маша. Принеси еще дров.
Мартин Мартинович встает, делает два шага, возвращается, что-то хочет сказать, но, видимо, не хватает духу.
Маша. Ты говорил, что у нас там еще есть, в передней. Ну-ну, не скупись… Мне холодно.
Мартин Мартинович идет в переднюю, берет там два-три последних полена, колеблется мгновение, потом, махнув рукой, входит в кабинет, бросает дрова в печь – огонь становится ярче.
Маша. Вот теперь светлее… (Взглянув вверх.) А наверху все-таки темно… кажется, что над головой своды, как в пещере…
Мартин Мартинович (глядя в огонь). Да что ж, мы и правда в пещере. Двое пещерных людей у костра – вот мы кто…
Вспыхивает электрический свет.
Маша (облегченно). А-а.
Мартин Мартинович (продолжает). Ну, посмотри на меня: разве кто поверит, что это – я, что когда-то в огромной зале я сидел за роялем, люди аплодировали, бесились, кричали… Да я и сам не верю, я знаю: я пещерный человек, дикарь – и все мы. Что нам нужно теперь? Вот – костер, пища… На сегодня есть пять картошек – немороженых, свежих – и я счастлив… А завтра… Впрочем, какие темы «завтра»: только бы сегодня… Такие вещи, как «завтра», «послезавтра», люди научатся понимать еще через тысячу лет…
Пауза.
Маша. Март, а ведь ты, кажется, забыл, что завтра…
Мартин Мартинович. Завтра? А что такое? Постой… постой, сейчас…
Маша. Ну уж не старайся: я вижу – забыл. Ай, Март, Март… Как теперь все… Раньше ты никогда не забывал. Ведь завтра же двадцать девятое октября: Марии – мои именины, мой праздник.
Мартин Мартинович. Ну, Маша, прости, пожалуйста. Я не знаю теперь ни чисел, ни дней… да и зачем. Лучше бы ты не вспомнила.
Маша (привстав). Нет, подожди, подожди: мы сделаем… У нас будет завтра праздник – будет… ну, пожалуйста… Понимаешь, если бы ты завтра затопил с самого утра, чтобы хоть один день было по-настоящему тепло – чтобы без шубы… Ну вот – ну сколько еще у нас дров – там, в передней. Ну?
Мартин Мартинович (испуганно). Дров? Там?..
Маша. Ну да, ведь с полсажени еще есть. Правда?..
Мартин Мартинович. Нет… То есть… Там больше, чем полсажени… Да, конечно, больше…
Маша. Так вот, я говорю… Ты почему отворачиваешься…
Мартин Мартинович. Потому что… Просто… не могу смотреть на свет; мне при свете – труднее…
Маша (возбужденно). Так вот, если ты затопишь с утра, я даже попробую, может быть, – я встану, оденусь как следует, я буду совсем прежняя хоть один день… И ты – ты сядешь за рояль и сыграешь для меня, и мы будем… Март, потому что ведь в комнате будет совсем тепло… совсем тепло, ты подумай…
Мартин Мартинович. Да.
Маша. Нет, ты не понимаешь – вот, я же вижу, ты не понимаешь, что это для меня значит. Потому что… потому что ведь, может быть, завтра – это мои последние в жизни… это последний раз…
Мартин Мартинович (перебивает). Маша, молчи, не смей… Я сделаю… я сделаю все, что хочешь, только бы ты завтра была…
Маша. Я буду – буду… Я буду веселая – ты увидишь… только чтоб было тепло, хоть один день… ведь ты это обещаешь мне, да?.. Ну, пожалуйста… Это – последний раз, я больше ни о чем тебя не буду просить… Обещаешь?..
Мартин Мартинович (неуверенно). Да… (Твердо.) Да… Да…
Маша (снова ложится). Фу… как я устала вдруг. Как я теперь устаю от каждого… от каждого слова. (Лежит молча.) Я засну на минутку… пока ты сваришь картофель… Хорошо?..
Мартин Мартинович. Да, милая, спи.
Маша засыпает. Мартин Мартинович стоит, взявшись за голову. Стук в дверь. Мартин Мартинович идет в переднюю, открывает. Входит Обертышев.
Мартин Мартинович (Обертышеву). Тише…
Обертышев. Что, спит? Спит.
Мартин Мартинович. Да, заснула.
Обертышев (ставит на пол ведро). Ну, здрасте, Мартин Мартинович, здрасте, здрасте. Я к вам за водичкой: в третьем нумере под нами опять трубы заморозили, не топят, не топят. Хоть бы о других подумали, а то из-за них все без воды сидят. Нехорошо, нехорошо о других не думать, нехорошо.
Мартин Мартинович. А если им топить нечем. Вот я сегодня последние жгу… завтра тоже топить перестану.
Обертышев. Прискорбно, прискорбно… А вы бы этак стульчиками, шкафчиками… книги тоже: книги – ведь они к чему нынче, ни к чему, ни к чему…
Мартин Мартинович. Да ведь вы же знаете, что тут все вещи чужие, только один рояль мой. А главное – Маша очень плоха, я не хочу ее огорчить… не хочу, чтобы она знала…
Обертышев. Да-да-да-да, понимаю… Прискорбно, прискорбно, очень прискорбно… Можно? (Показывает на ведра с водой.)
Мартин Мартинович. Пожалуйста…
Обертышев переливает в свое ведро.
Алекс… Алексей Иваныч…
Обертышев. Слушаю, слушаю, слушаю… да…
Мартин Мартинович. Алексей Иваныч… я хотел у вас попросить…
Обертышев. Что вы, Мартин Мартиныч, что вы, что вы… У нас у самих… Конина – и то раз в день… то есть, что я… раз в неделю, говорю, конину едим. Да… Сами знаете, как теперь все, сами, сами знаете, сами знаете…
Мартин Мартинович. Да нет, Алексей Иваныч, я не то… Я хотел… нельзя ли у вас на завтра… хоть пять-шесть полен… Маша завтра именинница, а у нас, понимаете…
Обертышев. Нет уж, Мартин Мартиныч, вы меня не обижайте, у меня дети, двое детей, сами знаете – не могу же я их… Что вы, что вы! Какие у меня дрова, что вы!
Мартин Мартинович. Да я же нынче утром видел, как вы свой шкаф на лестнице открыли и там…
Обертышев. А вы… что же это, что ж это, что ж. это подглядываете? Нехорошо, нехорошо чужому завидовать, нехорошо, грех… Шкафчик… Мало ли что у меня в шкафчике… шкафчик у меня на замок заперт, на замок, да. А то ведь теперь все крадут, сами знаете, сами знаете…
Мартин Мартинович. Алексей Иваныч…
Обертышев. Нет уж, нет уж. Мартин Мартиныч, Господь с вами – вы меня не обижайте, не обижайте. За водичку спасибо. Жене кланяйтесь, когда проснется, кланяйтесь от меня непременно. Какая она у вас красавица была, приятно со стороны поглядеть было… приятно, приятно, очень приятно… Да…
Мартин Мартинович. Алексей Иваныч. Она скоро… она, может быть, последние дни…
Обертышев (продолжает). Очень приятно, да… кланяйтесь… ну, всего… (Быстро уходит.)
Мартин Мартинович возвращается в кабинет. Маша – во сне или в бреду – что-то бормочет. Мартин Мартинович минуту стоит над ней, стиснув руки. Думает. Вдруг решительно напяливает на себя сверх уже надетого летнего пальто еще одно пальто, засовывает в карман косырь, клещи. Уронил клещи, застывает в испуге.
Маша (проснувшись). Это ты, Март, ты куда?..
Мартин Мартинович. Только я на секунду… в домовой комитет… Я сейчас. (Незаметно поднимает клещи, держит за спиной.)
Маша. Только не забудь… не забудь, ключ возьми. А то мне встать… ты домой не попадешь.
Мартин Мартинович. Нет-нет… не забуду… Я сейчас… Ты не думай ничего особенного… Я сейчас… (Уходит.)
Маша одна. Лежит пластом. Потом немного приподнимается, пробует встать – не может, опять опускается на постель. Берет со столика ручное зеркало, смотрит на себя, с отвращением бросает зеркало. Мартин Мартинович, возбужденный, на цыпочках входит в переднюю, придерживает что-то под пальто. Останавливается, прислушивается.
Маша. Март… Ты…
Мартин Мартинович. Я…
Быстро, стараясь не стучать, вытаскивает из-под пальто поленья дров, кладет их на что-то мягкое. Входит в кабинет.
Маша. Как ты скоро… Почему ты молчишь? Ну, кого ты там видел?
Мартин Мартинович. Обер… Обертышева…
Маша. Что – Обертышева?..
Мартин Мартинович. Обертышев… Да… он… он просил… тебе кланяться.
Маша. Не выношу я этого… мне он противен, как крыса… как крыса… Дай мне термометр.
Мартин Мартинович. Где он? Ах, да… вот.
Маша. Впрочем, нет, возьми – не хочу. Все равно… завтра, я знаю, я буду чувствовать себя хорошо, я должна. И я встану. Непременно встану… с утра…
Мартин Мартинович (подойдя ближе). Маша, я хочу тебе сказать… я… (Замолкает.)
Маша. Что? Ты какой-то… что с тобой?..
Мартин Мартинович. Ничего… (Обнимает ее.) Я хочу сказать, что завтра у нас, во всяком случае, будет тепло – с самого утра.
Маша. Милый… спасибо… А ты мне сыграешь на рояле, как прежде, да?
Мартин Мартинович. Я… я попробую…
На сцене темно.
Сцена вторая
Та же комната. Зимний день. Окна в морозных узорах. Топится «буржуйка». На столике – скатерть, две восьмушки хлеба, какие-то черные, ужасного вида лепешки. Маша, одетая, сидит в обложенном подушками кресле возле рояля. За роялем – Мартин Мартинович: начинает играть прелюдию Скрябина, бросает. Начинает бравурную вещь – тотчас же обрывает, встает.
Мартин Мартинович. Нет, не могу… Маша. Ну еще… хоть как-нибудь, хоть немного… Ну, пожалуйста, ты же вчера обещал…
Мартин Мартинович опять начинает последнюю вещь. Глухой стук где-то внизу. Мартин Мартинович вскакивает.
Что с тобой? Чего ты испугался?
Мартин Мартинович. Нет, я не… Мне показалось: к нам стучат. Открыть…
Маша. Ты кого-нибудь ждешь?..
Мартин Мартинович. Нет… ни… никого… Постой… (Прислушивается. Облегченно.) Нет, это еще не… это не к нам…
Маша. Это рядом, у Обертышевых – колют дрова.
Мартин Мартинович. Дро… дрова. У Обертышевых.
Маша. Ну да. Почему ты так вдруг… Играй же…
Мартин Мартинович. Маша, милая… не надо… я не могу. Не могу.
Маша. А я так хотела… я думала… Нет – ничего: мне сегодня хорошо и так. Подложи еще дров.
Мартин Мартинович подкладывает.
Какое счастье, что у нас еще хоть дрова есть… Правда?..
Мартин Мартинович молчит.
Маша. А знаешь, Март, какой я чудный сон сегодня видела… Будто мы с тобой едем на юг, и какая-то станция, а на вывеске вместо названия станции – рука с указательным пальцем… ну знаешь, какие указывают: «Выход здесь». И палец прямо показывает на тебя, ты мечешься и пересаживаешься с места на место, а палец поворачивается за тобой, как стрелка…
Стук в дверь.
Мартин Мартинович. Это… это не к нам. Нет.
Стук повторяется.
Маша. Нет – к нам, слышишь?
Мартин Мартинович. Маша, я не могу… я не открою… Я не открою…
Маша. Я понимаю. Я бы тоже хотела вдвоем. Но неудобно же. Иди. Да иди же.
Мартин Мартинович идет в переднюю, секунду стоит около двери. Стук сильнее. Мартин Мартинович открывает, входит Селихов.
Селихов (в шубе). Ну, сударь мой, разодолжили. Сейчас ко мне в домовой комитет приходит Обертышев…
Мартин Мартинович (перебивает; торопливо, лихорадочно). Что? Да… (Громко.) Очень рад, очень рад вас видеть… У нас тепло… Понимаете, жена именинница, и я… Пожалуйста, снимайте шубу… у нас тепло… (Оставив Селихова одного, быстро проходит в кабинет. Маше, так же лихорадочно.) Сам председатель домового комитета… Он сейчас… он снимает шубу… я сказал, что тепло…
Маша. Зачем он?..
Мартин Мартинович. Я не знаю… то есть я сказал ему, что ты именинница… и он… я… я подложу еще дров, хочешь? (Торопливо сует в печь полено, другое – больше не влезает. Растерянно запихивает последние два полена под стул, садится на стул сам.)
Селихов (разделся, входит). Ну-с, сударыня, во-первых-во-вторых, вас с тезоименитством. Как же, как же… Мне Обертышев говорил, что ваш супруг именно по этому случаю…
Мартин Мартинович (вскакивая, Селихову). Чаю… Не хотите чаю? Я сейчас… У нас сегодня – настоящий. Понимаете – настоящий, но последняя ложечка – с прошлого года… Я сейчас… Я разыщу, он в письменном столе… я разыщу… (Отходит один шаг от стула, вспоминает; оглядывается, опять садится, стараясь прикрыть ногами дрова.)
Маша. У нас сегодня праздник, тепло.
Селихов. Нда… дров не пожалели… Тепло…
Маша. Март, правда, завари того чаю. Пусть уж настоящий праздник.
Мартин Мартинович. Сию минуту… сию минуту… (Селихову.) Пожалуйста, вот сюда… тут удобнее… (Предлагает Селихову кресло так, чтобы ему не были видны дрова.) Понимаете, событие – настоящий чай… может быть… может быть, последний раз… в жизни… (Открывает ящик письменного стола.)
Селихов (грея руки). Да… А на улице – собачий холод… (Что-то вспомнил, хохочет заразительно.)
Маша (улыбаясь). Чему вы?
Селихов. Да вспомнил… Вчера вечером домой иду – навстречу мне человек, в одном жилете бежит. «Что это вы», – говорю. «Да ничего, – говорит. – Вот раздели меня сейчас – домой тороплюсь, на Васильевский». Так, понимаете, обыкновенный разговорчик вроде: «Как поживаете?» – «Да ничего, благодарю вас». (Хохочет.)
Маша улыбается жалко.
Мартин Мартинович (изо всех сил старается смеяться). Еще… что-нибудь… пожалуйста… пожалуйста… ну, ради Бога… Вы замечательно… Чай… сейчас, сию минуту… (Из ящика письменного стола выкладывает связки писем, какие-то коробки, синий флакончик.)
Селихов. Да… А вот нынче за хлебом очередь отстоял, несу две восьмушки и вижу – на углу Кронверкского, против дома, где Горький живет, стоит девочка, плачет. Так, лет восьми-девяти. Я расчувствовался, подхожу к ней, думаю: «Если попросит, ей-Богу, корочку отломлю». – «Ты что, – говорю, – девочка, плачешь?» А она ко мне вдруг как повернется: «А в морду, – говорит, – хочешь?» Так я и присел. (Хохочет.)
Маша смеется.
Маша (перестав смеяться). И вот уж… вот уж… вот уж и голова закружилась… (Откинувшись на подушку, закрывает глаза.)
Селихов. Нда… Времена… По улицам надо ходить… Жалко, я не писатель, а то бы… (Машинально перебирает вытащенные Мартином Мартиновичем коробочки, берет флакончик, открывает, хочет понюхать.)
Мартин Мартинович (испуганно хватает его за руку. Тихо). Ради Бога… Что вы…
Селихов. В чем дело?
Мартин Мартинович. Там… там… у меня…
Селихов. Ага, понимаю. Безболезненное средство. Что ж, оно, конечно, по нынешним временам, на всякий случай. (Громче.) Нда. Ну, я пойду. Вы меня, Мартин Мартиныч, проводите: мне бы вам все-таки надо два слова.
Мартин Мартинович (подойдя к Маше). Маша… милая…
Маша. Ничего… вот уже и прошло. (Селихову.) Вы уходите?
Селихов. Да. Ну-с, именинница, чик. Маша. Что?..
Селихов. Как, не знаете? Честь имею кланяться. «Ч», «И», «К» – чик, по-ихнему… (Смеется.)
Уходит в переднюю, за ним – Мартин Мартинович.
Селихов (в передней, надевая шубу). Нда… Нда… Ну-с, во-первых-во-вторых, вы у Обертышева… так сказать… у-у… у-у…
Мартин Мартинович. Да, украл. (В отчаянии.) Я-я… украл… Да…
Селихов. Так вот – он освирепел, как собака. Хотел было сам к вам… Ну я уж взял на себя, потому что знаю – у вас жена и все такое… и главное: вы замок, замок-то взломали… Одним словом, он требует, чтобы вы ему немедленно все вернули до последнего полена, а иначе он сейчас же приведет к вам уголовный розыск… понимаете вы? И я знаю, знаю его, этот сукин сын способен, он сделает… Так уж вы, ради Бога, отдайте ему эти несчастные поленья.
Мартин Мартинович. Отдать. Я… я не могу. Я их сжег. Я не мог иначе… Я – для нее…
Селихов. Фу, черт. Ну что, ну что мне теперь с вами делать? Ведь он меня ждет – он сейчас же прибежит, я знаю… Он сейчас приведет к вам…
Мартин Мартинович (схватив Селихова за руку). Ради Бога.
Селихов. Ну что «ради Бога». Ну что я могу, когда у меня у самого ни одного полена… Натворили – кончайте, как знаете.
Мартин Мартинович (после паузы.) Я… Я, кажется… знаю.
Селихов. Тем лучше. Ну, на меня не пеняйте, я здесь ни при чем.
Мартин Мартинович (безжизненно). Нет. Я знаю.
Селихов. Прощайте.
Мартин Мартинович. Да. Прощайте.
Селихов уходит. Мартин Мартинович, натыкаясь на мебель, как слепой, возвращается в кабинет. В это время Маша в кабинете взяла пачку писем, вынутых Мартином Мартиновичем из стола, взволнованно читает одно письмо, другое, третье.
Маша (вошедшему Мартину Мартиновичу.) Мои письма – к тебе… Понимаешь, начала читать – и сердце, как сумасшедшее – и все так ясно, так ясно, как будто не пять лет, а только вчера…
Пауза.
Март, милый, ты помнишь тот вечер: моя синяя комната, и пианино в чехле, и на пианино пепельница – деревянный конек, Боже мой, до чего ясно… и я играла, а ты подошел сзади, взял мою голову и в первый раз… (Замолкает.)
Мартин Мартинович. Маша… лучше не надо…
Маша (не слушая его). А позже… помнишь? Открыто, открыто окно, апрель, зеленое небо и снизу, из другого, страшно-страшно далекого мира – шарманщик… А мы – совсем близко, и ты сказал мне: «Этого шарманщика вы никогда… ты никогда не забудешь» …Март, я не забыла…
Мартин Мартинович (стоит, закрыв рукой глаза). Да… Да.
Маша. А потом, через столько-то дней, на Елагином, на набережной… Ветки еще голые, закат, вода румяная, и мимо плывет последняя синяя льдина, похожая на гроб. И нам обоим от гроба только смешно, потому что ведь мы никогда не умрем, мы это знали, мы тогда знали… А теперь…
Мартин Мартинович (отнимая ладонь от глаз, про себя). Да, теперь… Теперь… иначе придут…
Маша. Что?..
Мартин Мартинович. Теперь – я уложу тебя, ты устала…
Маша. Да, хорошо… А ты?
Мартин Мартинович. А я…
Маша. Погоди… а ты не обещал настоящего чаю?
Мартин Мартинович. Да, я сначала сделаю чай, а потом… Там есть еще немного сахару, я положу тебе.
Маша. А ты с чем?
Мартин Мартинович. У меня там… есть. (Переносит Машу на кровать.)
Маша. Милый…
Мартин Мартинович. У тебя совсем… совсем прежний голос… Уж лучше бы… лучше не надо…
Маша (в кровати). Нет, пусть, как прежде. Только вот опять – опять больно… (Лежит, закрыв глаза.)
Мартин Мартинович заваривает чай, торопливо приготовляет два стакана, вынимает сахар – два тщательно завернутых куска. Потом, искоса взглянув на Машу, берет синий флакончик, встряхивает его, смотрит на свет, ставит. Идет, сгорбившись, спотыкаясь, к «буржуйке» – там стоит чайник, – опрокидывает на пути стул, какие-то тарелки, стоявшие на стуле.
Маша (открыв глаза). Ах, как ты гремишь. Ну как нарочно. Ты же знаешь – я не могу, не могу, не могу. Ты слышишь, что я тебе говорю?.. Что же ты молчишь? Ну…
Мартин Мартинович (себе). Да… так лучше… что ты не прежняя. Так легче… (Подбирает тарелки и опять роняет их.)
Маша. Ты нарочно. Уходи… Сейчас же… И никого мне, ничего, ничего не надо. Уходи. (Отворачивается к стене.)
Мартин Мартинович. Да… Сейчас уйду… Сейчас… не беспокойся… сейчас… (Кладет в «буржуйку» последние два полена. Потом берет чайник, идет к письменному столу, наливает один стакан и другой. В один бросает сахар, над другим держит флакончик, рука дрожит, откупоривает, высыпает что-то.)
Маша (просто, буднично). Скипел чай. Дай мне… (Поворачивается, увидела флакончик в руках у Мартина Мартиновича. В ужасе приподнимается.) Март… Март… Ты… ты хочешь…
Мартин Мартинович, нелепо улыбаясь, застыл с флакончиком в руках.
(Снова просто, буднично.) Март, милый… Март, дай это мне.
Мартин Мартинович. Но ты же знаешь: там только на одного.
Маша. Март, ведь меня все равно уже нет, ведь это уже не я – я себя, такую, ненавижу… Ведь все равно, я скоро… Март, ты же понимаешь… Март… А почему ты?
Мартин Мартинович. Я тебя… я тебя обманул… У нас не было дров… И я украл – я украл у Обертышева… понимаешь. Я взломал замок… я… Сейчас за мной придут из уголовного розыска… Я больше не могу, не могу…
Маша (быстро, задыхаясь). Март, если ты меня еще любишь… Ну, вспомни, как ты меня… вспомни шарманщика, льдину, все… Ну, Март, милый, ну если в тебе хоть капля жалости…
Мартин Мартинович (снова закрыв глаза ладонью). Опять этот твой прежний голос…
Маша. Дай мне… мне…
Мартин Мартинович. Нет…
Маша (с ласковым упреком). Ты опять только о себе думаешь. А я… когда тебя уведут… Дай же, слышишь!
Мартин Мартинович колеблется, потом подает Маше стакан.
(Сбросив с себя одеяло, садится на постели, берет стакан: смеется.) Ну вот… недаром мне снилось… что я куда-то еду… на юг… Вот и…
Мартин Мартинович. Ма… ша…
Маша. Ничего, ничего… Все равно мы… Все равно уже…
Мартин Мартинович растерянно оглядывается, потом берет связку писем.
Да, да, мои письма… Пусть они вместе со мной…
Мартин Мартинович бросает в огонь письма, потом в отчаянии, решительно выгребает из стола, не глядя, бумаги – и в печь. Берет с рояля ноты – тоже в печь. Огонь ярко вспыхивает.
Теперь… иди, погуляй немного. Не забудь, возьми ключ, а то захлопнешь, а открыть… а открыть некому…
Мартин Мартинович, сгорбившись, спотыкаясь, выбегает в переднюю, из передней – наружу. Маша со стаканом наготове прислушивается.
Занавес
История одного города*
ЛИЦА ВЕСЬМА ДЕЙСТВУЮЩИЕ
Князь Доисторический.
Брудастый, Великанов, Грустилов, Угрюм-Бурчеев – Князья исторические.
Ираидка, Амалька, Дунька-Толстопятая- Девки-самозванки.
ЛИЦА ДЕЙСТВУЮЩИЕ
Курицын-сын, в военном чине.
Предводитель.
Смотритель просвещения.
Доктор.
Казначей.
Казначейша.
Пфейферша.
Прочие дамы.
Анисьюшка
Миша-Возгрявый
Юродивые.
Квартальный.
Будочники.
Оловянные солдатики.
ЛИЦА,ПОДВЕРГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЮ
Садовая-Голова.
Чудак.
Часовых дел мастер Байбаков.
Крамольники.
Обоего пола Глуповцы.
Излюбленные старички.
Происшествие первое: доисторическое
Местность доисторическая. Вечевой колокол. Винная бочка, поставленная на попа. Три сосны. Издали – крики, гам. Вваливаются Головотяпы: бьются на кулачки, одни – стеной – пятятся, другие – стеной – наседают. За ними зеваки.
Головотяпы (бьют и крякают). Ать! – Ать! – Ать! Зеваки. Бей! – Лупи! – Так! – Так! Дозорный (с сосны – кричит). Па-хо-мыч! Ев-се-ич!
Они бегут на крик.
Евсеич. Опять они… Мать Пресвятая! (Звонит в колокол, бой утихает.)
Пахомыч (взобравшись на бочку). Опять, а? Ну, чего, чего по мордам-то друг дружку лупите?
Садовая-Голова (показывает горшок). А во – это самое… каша.
Пахомыч. Ну, каша – вижу: ну, дальше что?.. – садовая ты голова!
Садовая-Голова. Как что? Мы эту самую кашу в горшках варим, а они – в чугунках. Вот до чего разложились!
Пахомыч. Да ведь каша-то – одна?
Садовая-Голова. Мало бы что одна! Ну, стали мы им доказывать, они – нам. Троех убили да еще троех – и пошло… очень просто!
Пахомыч. Господа Головотяпы, ну как же это? Ведь если мы эдак головами друг об дружку тяпаться будем – так всех перетяпаем, и на развод не останется.
Головотяпы. Так! – Так!
Пахомыч. Уж сколько разов мы уговаривались, чтобы начать наново, миром жить…
Головотяпы. Так! – Так!
Пахомыч. Ну, да-к чего же? Уж время бы начинать-то…
Головотяпы. Так! – Так! – Время! Пахомыч. Ну вот, давно бы! (На Евсеича.) Мы с ним покурим пойдем, а вы начинайте – с Богом!
Уходят. Головотяпы стоят, чешут в затылках.
Чудак. Та-ак… А как же начинать-то?
Садовая-Голова. Чу-удак! Очень просто: бей горшки да чугунки – от них все пошло.
Головотяпы. Так! – Так! – Бей! – Лупи! (Бьют горшки. Перебили. Чешут в затылках.)
Чудак. Та-ак… А кашу-то теперь в чем делать будем?
Садовая-Голова. Эх, ты-ы! Очень просто: сыпь толокно прямо в реку. Реку толокном замесим – на весь мир хватит: ешь не хочу!
Головотяпы. Так. Садовая-Голова! – Так! Сыпь! – Сыпь веселей! (Тащат мешки, сыплют толокно.)
Садовая-Голова (распоряжается). Весла у кого? Веслами помешивай! Во, во, во! Сыпь еще, еще сыпь! Так, так, так! Готово?
Головотяпы. Готово!
Садовая-Голова. Ну-ка… черпаки сюда волоки – черпаками хлебать будем… очень просто!
Головотяпы. Так! – Так! (Волокут черпаки.)
Садовая-Голова. Пущай они – ложками, а мы – черпаками… Знай наших!
Головотяпы. Так! – Так! (Хлебают. Попробовали – чешутся.)
Садовая-Голова. Что стали? Ешь еще – не жалей: хватит!
Чудак. Да чего есть-то?
Садовая-Голова. Чуда-ак! Как чего? Кашу. Чудак. Да ее нету: все толокно водой унесло. Садовая-Голова. Унесло? Батюшки, как же это мы… Братцы, догоняй кашу! Чудак. Догонишь!
Головотяпы. Догоняй! – Держи кашуН – Лови!
Гам, крик. Бегут.
Дозорный (с сосны.) Пахо-мыч! Евсе-ич!
Появляются Пахомыч и Евсеич.
Евсеич. Мать Пресвятая… Опять! (Звонит в колокол.)
Головотяпы остановились, затихают.
Пахомыч (с бочки). Ну? Что? Начали?
Садовая-Голова. Начали. Горшки перебили, реку толокном замесили…
Пахомыч. Ну?
Садовая-Голова (почесываясь). А каша уплыла… очень просто!
Пахомыч. Эх… Господа Головотяпы, дело-то ведь не тово…
Головотяпы. Так! – Так! – Не тово!
Пахомыч. Как же это так: нет на свете народа нас храбрее и умнее…
Головотяпы. Так! – Так! – Нету!
Пахомыч. Головы у нас на плечах – крепкие растут, хоть кол на них теши…
Головотяпы. Так! – Так!
Пахомыч. А как ни верти – все у нас выходит согласно истории Иловайского…
Крамольник. Какого там Иловайского! Вместо Иловайского – нынче этот… как его…
Пахомыч. Крамольник… заткнись! Выходит, говорю, согласно истории: велика наша земля и обильна, а порядка в ней нет.
Головотяпы. Так! – Так!
Пахомыч. Одно нам осталось: князя себе завести. Он, батюшка, чиновников, солдатов у нас понаделает и острог с решеткой поставит… – заживем по-хорошему!
Головотяпы. Князя! – Так! – Так!
Крамольник. Дотакаетесь!
Другой крамольник. Волю протекаете!
Головотяпы. Крамольники, цыц! – Князя. Так!
Крамольники. Не так! – Не так!
Пахомыч. Эх… Ну, видно, делать нечего: открываю прения. Желающих прошу высказаться. Кто желает?
Садовая-Голова. Я! (Поплевав на руки, подходит к Крамольникам – начинает.) Ать! Ать!
Головотяпы. Ать! – Ать! – Ать! (Крякая, лупят Крамольников.)
Скоро Крамольники лежат недвижимо. Всё успокаивается.
Пахомыч. Благодарим покорно. Прения закончены. Кто теперь против князя? Никого. Ну, мир честной. Головотяпы: с князем вас, стало быть!
Евсеич крестится.
Головотяпы. С князем! – С князем!
Чудак. А где же его, князя, взять-то?
Садовая-Голова. Чудак! Мало их нонче безработных? Мне намедни один сапоги чистил. За князем дело не станет.
Дозорный (с сосны). Вон о-он! Сюды, сюды – к на-ам!
Головотяпы. Кто? – Кто? – Кто?
Дозорный (соскочив с сосны). Аграмадный!.. Усищи – во… сюды, к нам!
Головотяпы. Слышь: аграмадный… – Усы… – Уж не он ли самый?
Садовая-Голова. Он самый – князь… очень просто! Братцы, князь! Братцы, князь – сюды, к нам!
Головотяпы (подваливая к Пахомычу). Князь… – Князь! – Князь идет!
Евсеич (крестится). Мать Пресвятая… князь!
Пахомыч (с бочки). Братцы… тише, тише! Встретить его надо… встретить – как следует, честь честью… С хлебом-солью…
Чудак (почесываясь). А хлеб-то… он из сосновой коры… ничего?
Пахомыч. Ну, уж ты всегда не ко времени ляпнешь: «из коры, из коры…» Ну, тогда надо – с колокольным звоном.
Головотяпы. Так! – Так!
Садовая-Голова. Во все колокола – по всем трем – во всю ивановскую… эх, знай наших!
Пахомыч (ему). Беги, звони ты: лучше тебя никто не раззвонит… (Слезая с бочки.) Расступись, расступись, братцы, – дорогу расчисти! Мужики, бабы – посторонитесь, детям не видать! Ну, Садовая-Голова, – с Богом: начинай!
Начинается колокольный трезвон. Глуповцы заранее кланяются – не переставая. Появляется огромный рак. Вытаращив буркалы, поводит усищами. Все остолбенели. Рак фыркает, бьет хвостом – и, пятясь, уползает. Некоторое время народ безмолвствует, чешет в затылках.
Пахомыч (почесываясь). Выходит, это мы… рака с колокольным звоном встречали? Ведь это вроде… опять не тово…
Головотяпы. Так! – Так! – Не тово!
Пахомыч. Похоже, надо – согласно истории – за князем послов посылать…
Головотяпы. Так! – Так! – Пахомыча! – Евсеича!
Пахомыч и Евсеич кланяются.
Пахомыч. Благодарим покорно. Стало быть, мы с ним для мира потрудимся, а вы пока что – идите на кого-нибудь походом, потому нету на свете народа вас храбрее и мудрее…
Головотяпы. Так! – Так! – Бей! – Лупи!
Чудак. А… кого лупить-то?
Садовая-Голова. Чуда-ак. Окромя наших – всех лупи!
Музыка – лихой солдатский марш. За исключением лежащих Крамольников все уходят с пением:
Знают турки нас и шведы, И про нас известен свет, На сраженья, на победы Нас всегда сам царь ведет…Послы – Пахомыч и Евсеич – идут к трем соснам. Марш полутонит, сбивается – послы заблудились – марш оборвался.
Евсеич. Мать Пресвятая… в трех соснах заблудился… Па-хо-мыч! Ау!
Пахомыч. Ев-се-и-ич! Ау! Ты где-е? Евсеич. Ту-та-а! Пахомыч. Беги Сюды-ы!
Бегут, натыкаются лбами – один на одну сосну, другой на другую. Удар в оркестре – сосны валятся.
Евсеич (щупает голову). Целы?
Пахомыч. А то нет? Головы у нас, слава Богу, крепкие растут. Вот, две сосны сковырнули – уж теперь в одной не заблудимся…
Евсеич. Не-ет, не таковские!
Пахомыч. Уж теперь до князя дойдем! Евсеич. Дойде-ем!
Появляется Курицын-сын.
Пахомыч. Стой-гляди: вон – с ясными пуговицами идет…
Евсеич. Это – он самый, батюшка наш!
Пахомыч. Нет, мы сперва спросим… А то эдак одного с колоколами встретили… (Подходит к Курицыну-сыну.) Ваше высоко… вы… не он самый?
Курицын-сын. Я – потомственный Курицын-сын. Ослеп, что ли? Шапку долой!
Послы скидывают шапки.
Зачем сюда?
Пахомыч. Ваше курицсынство, нам бы… это… какого-нибудь князя безработного… Сделайте милость!
Курицын-сын. На биржу – на биржу иди! Порядков не знаешь?
Пахомыч. А где она, биржа-то?
Курицын-сын. Да у тебя – что: глаза-то на чем растут? Не тем местом глядишь – повернися!
За спиной у Пахомыча выросла петербургская Биржа, а на ней – сидит Доисторический Князь, с ружьем, с саблей, страшный…
Евсеич. Мать Пресвятая!
Курицын-сын (послам). Ну, идите – чего ж стали?
Пахомыч (не попадая зуб на зуб). Об… об… обрадовались очень… До… дозвольте оправиться…
Курицын-сын. Ну, ладно, оправляйтесь. А я пока пойду – им про вас доложу. (Идет к Князю, шепчет ему на ушко.)
Доисторический Князь (рычит). Чево-о?
Курицын-сын (громко). Драть, говорю, их завсегда очень свободно. Их пуще дерут – а они ура пуще орут: только и всего.
Доисторический Князь. А-а, это приятно! (Махнул Курицыну-сыну – тот уходит. Послам.) Ну-ка, сюда! Что вы за люди? И зачем ко мне?
Евсеич (трясется). Мы – Головотяпы…
Пахомыч (бодрится). Нет народа нас храбрее…
Князь палит из ружья. Послы – падают на колени, молчат.
Доисторический Князь. Ну-у? Дальше – да живо у меня!
Пахомыч. Иди, согласно истории, править и володеть нами…
Доист<орический> Князь. Гм… Что же – против истории – не попрешь: быть посему. Ну, слушайте: от моего корня произрастут у вас, как дубы, князья многие – и будете вы им платить дани многие. Когда они пойдут на войну – и вы, не пикнув, идите. А до прочего вам ни до чего дела нет. Поняли?
Пахомыч. Благодарим покорно…
Евсеич. Так…
Доист<орический>Князь. И тех из вас, кому ни до чего дела нет, они будут миловать, прочих же всех – казнить. Поняли?
Пахомыч. Благодарим покорно…
Евсеич. Та-ак…
Доист<оричесгий>Князь. А как вы, глупые, не умели по своей воле жить, то называться вам от сего дня впредь – глуповцами, и город вы себе построите – Глупов-город? Поняли?
Пахомыч. Благодарим покорно…
Евсеич. Так…
Доист<орический>Князь. А теперь – вот, получайте: будет это ваше священное знамя-хоругвь – на вечные времена… (Подымает над ними знамя: богатый, парадный кнут.)
Евсеич. То есть… это… как же?
Доист<орический>Князь. А вот как… (Охаживает послов кнутом.) Поняли?
Евсеич. Поняли! Ой – поняли!
Пахомыч. Ой! Благодарим покорно… ой!
Доист<орический>Князь. Прикладывайтесь! (Сует им знамя, они прикладываются. Евсеичу.) Держи… Так. Теперь идите домой и ждите моих наследников, а я свое дело сделал. Ну, чего стали? Пошли вон, дураки! (Исчезает.)
Пахомыч и Евсеич, глядя друг на друга, чешут в затылках.
Пахомыч. Та-ак… Евсеич. Та-ак…
Пахомыч. Ну, что же – пойдем наших… поздравим…
Евсеич. Пойдем.
Уныло идут со «знаменем». Музыка играет тот же марш «Знают турки, знают шведы», но так жалостно, что хоть плачь. Лежавшие Крамольники подымаются.
Крамольник. Что? Такали-такали – все протакали? ДругойКрамольник. Чеши затылок теперь! ТретийКрамольник. Получили знамя-то? Пахомыч. Да вы что это? Ах, крамольники! Евсеич. Ах, безбожники!
Пахомыч. Эй, сюды-ы! Братцы, учи крамольников!
Вваливаются Головотяпы.
Головотяпы. Бей! – Лупи! – Ать! – Ать! – Ать!
Происшествие второе: «органчик»
Город Глупов. Княжьи палаты – над крышей «знамя». С одного боку – острог, с другого – кабак. Растительность: полицейские будки и одна сосна, уцелевшая от времен доисторических. У открытого окна палат – прислушивающийся Курицын-сын, сзади него – цугом – Предводитель, Смотритель просвещения, Доктор и дамы.
Пахомыч (входит на цыпочках). Ваше куриц-сынство…
Курицын-сын машет рукой.
Ну только словечко одно: приехал?
Курицын-сын. Тсс… Приехал… Почивает. (Продолжает прислушиваться.)
Пахомыч (бежит, кличет.) Братцы! Сюды! Сюды! Приехал! Братцы…
Евсеич (входит). Приехал? Дожили… Слава те, Господи! (Крестится, плачет.)
Глуповцы (сбегаясь). Приехал? – Приехал! – С князем вас! – И вас также! – Воскресе! – Воистину! – Братцы, будочники-то… будочников-то сколько! – Острог-то… глядите! – Кабак-то! – Дожили, Господи! (Лобызаются, льют слезы, крестятся.)
Курицын-сын (у окна – трагическим шепотом). Встал… Встал!
Дверь в палатах медленно открывается.
Глуповцы. Выходит… – Идет! Курицын-сын (навытяжку. Оборачивается). Ш-шапки долой!
Предводитель (гаркает). Уррр…
Поперхнулся и застывает с открытым ртом: из двери выходит, ухмыляясь, девка-А малька, аза нею другая – Ираидка.
Курицын-сын. Тьфу ты!
Пахомыч. Да это наши, гулящие: немка-Амалька да Ираидка! Ах, чтоб тебе!
Евсеич (умиленно). Батюшка-то наш… двоех сразу, а? Милый ты мой…
Чудак громко фыркает, за ним – другие.
Курицын-сын (показывая на окно, свирепо). Тесс! Тесс!
Все затихают. В тишине явственно слышен загадочный звук: «Шшш… жжж… п-п-ппп…» – вроде испорченных часов, но куда страшнее. Кончилось – все переглядываются.
Чудак. Слыхал? Чудно чтой-то дело начинается! Евсеич. Это что же это, а? Мать Пресвятая! Курицын-сын (чиновным – растерянно). Господи… как… как это понять?
В окне с треском взвивается штора, Курицын-сын кидается туда. Все созерцают: у окна за столом сидит Брудастыйис невероятной быстротой пишет бумаги. Курицын-сын еле успевает подхватывать их и передавать Будочникам – Будочники летят с бумагами во все стороны.
Пахомыч (в восторге). Глядите: пи-шет! Глядите!
Глуповцы. Пишет… – Пишет! – Грамотный, а?
Евсеич (утирая слезы). Вот он, вот он, живень-кий… сам! Милый ты мой, пошли тебе Господи царствие небесное…
Квартальный. Но, т-ты! Спятил?
Брудастый вдруг встает. Помахав бумажкой перед носом у Курицына-сына и ткнув в нее пальцем, уходит вглубь.
Глуповцы. Встал! – Встал! – Пошел!
Евсеич (умиленно). Пешком… пешком уходит ножками! Голубчик ты наш!
Курицын-сын (пробежав бумажку, приосанился). Тсс… Осени себя крестным знамением, православный народ! Сейчас над тобою, согласно истории, воссияет заря новой жизни. А именно, батюшка наш и благодетель выйдет сам в полной парадной форме и по случаю открытия произнесет слово…
Чудак. Слово-о? Это какое же это слово?
Пахомыч. Чудак! Речь – речь скажет, понял?
Глуповцы. Речь! Братцы, речь… – Сейчас выйдет… – Сюды, сюды!
Квартальный. Которые публика – вперед, которые народ – назад. Ну, стали!
Курицын-сын. Эй, музыка! Музыка!
Музыка: камаринский марш. На крыльце показывается Брудастый в полной парадной форме.
Курицын-сын. Ш-шапки долой! (Брудастому.) Вашессство… Дозвольте сперва… (Показывая на чиновных.) Так сказать – столбы, выросшие… э-э… на почве родной природы… (Рекомендует.) Предводитель. Смотритель просвещения. Казначей. Доктор. И наши дамы… так сказать, на случай… природы…
Все проходят. Брудастый медленно обводит вокруг взглядом.
Казначейша (в тихом восторге). Ангел… Ангел! Пфейферша. Лоб… Лоб – как у Шекспира… посмотрите!
Брудастый отступил шаг назад, вытянул руку.
Курицын-сын. Тсссс!
Глуповцы. Тише… – Речь… – Речь… – Речь…
Брудастый (вращает глазами, раскрыл рот – и те же самые загадочные звуки). Жжж… ввв… ппп… Жжж… ппп… пплю! Жжж… ппп… пплю! Жжж…
Зажав рот, видимо, и сам испуганный, кидается назад в палаты. За ним – Курицын-сын. В окне падает штора. Все остолбенели.
Садовая-Голова. Вот это так ре-ечь! Евсеич. С нами крестная сила! Да, может, он, батюшка-то наш, и не человек даже!
Чудак. А кто же?
Евсеич. Аи сказать страшно – вот кто… Пахомыч. Братцы, пойдем от греха подальше…
Всем миром валят в кабак. Часовщик Байбаков – сзади всех. Чиновная группа все еще пребывает в остолбенении.
Предводитель (размышляя). Жжж… ппп… плю…
Казначей (перед ним). Жжж… ппп… пп…
Казначейша (Доктору). Боже мой, да что же – что же вы стоите? Ступайте скорее туда и спасайте его – ведь он же болен, это ясно! – у него здесь… (на горло) …ну, эта самая… которая прыгает…
Казначей. Ка… канарейка?
Казначейша. Да замолчи ты… (Доктору.) Ну… эта самая… жаба! Вы же слышали, как он хрипит? Идите же!
Остальные. Да, да! – Идите! – Идите!
Доктор идет к крыльцу. Навстречу ему выскакивает Курицын-сын, ищет кого-то растерянным взглядом.
Доктор. Меня? Иду…
Курицын-сын. Вас… как же! Нате вот, читайте… (Сует ему бумажку.) Часовых дел мастера туда… живо!
Квартальный и Будочники хватают и волокут Байбакова.
Байбаков (отбиваясь). Куда вы меня… д-дьяволы? Пустите! Пустите!
Курицын-сын (ему). Поговори у меня!
Байбакова вталкивают в палаты, захлопывают за ним дверь.
Доктор (кругом него остальные). Господа: собственноручная! (Читает.) «Немедля… мне… часовых дел мастера»…
Предводитель. Ко… ко… кого?
Смотритель (читает), «…часовых дел мастера…» Что же это – что же это у нас происходит? (Курицыну-сыну.) Что же это такое значит?
Курицын-сын. Не приставайте, ради Христа… Ничего не понимаю… Вот сейчас часовщик выйдет оттуда – и все объяснится…
Доктор. С научной точки – похоже, что-нибудь – тут… (На лоб.)
Курицын-сын. Тесс… Вы с ума сошли?
Из палат выходит Байбаков, в руках держит нечто, завернутое в салфетку.
Смотритель. Идет! Идет!
Казначейша. Смотрите, смотрите: у него что-то в руках… в салфетке…
Курицын-сын (Квартальному). Сюда его… пррохвоста!
Байбакова доставили.
(Ему.) Дружок… голубчик, послушай…
Казначейша. Товарищ, товарищ… слушайте…
Курицын-сын. …скажи, что это у тебя там?
Байбаков молчит.
Ты что это, милый, несешь, а? Да ты что – оглох, дьявол?
Казначейша. Товарищ, товарищ… вы же знаете: я всегда сочувствовала… мужчинам… Мне вы можете сказать – вы мне покажите, что у вас там…
Казначей (щупая салфетку). Ко… кочан?
Казначейша. Сами вы кочан! Да уйдите же – не мешайте!
Байбаков, вырвавшись, бежит во всю прыть.
Курицын-сын. Держи! Держи его! Держи!
Квартальный и Будочники убегают за Байбаковым.
Доктор. Вот те и объяснилось!
Смотритель. Позвольте… но, с другой стороны, – это, может быть, даже преступление… а мы тут стоим!
Предводитель. Ну да!
Смотритель. Может быть, он в салфетке такое унес, что даже и… не придумаешь…
Предводитель. Ну да!
Казначейша (Курицыну-сыну). Боже мой… Ну, что же вы? Идите, идите туда скорее – спасайте его!
Остальные. Идите! – Идите! – Скорее!
Курицын-сын. Господа… вы же понимаете: без приглашения…
Предводитель. Да идите… курицын вы сын! А то я сам пойду… штурмом… Урр… (Опомнившись.) Кто… кто это… кричит?
Курицын-сын, пожав плечами, входит в палаты.
Пфейферша (на коленях). Боже… спаси его! Спаси нас!
Все прислушиваются. Смотритель подползает к окну.
Казначейша (ему). Ну? Что?
Предводитель. Это самое… жжж… ппп?
Смотритель (шепотом). Нет… (Присматривается.) Шшш! (Таинственно.) Сморкается…
Казначейша. Кто? Он, ангел?
Смотритель. Нет… Наш… Стучит в дверь… Вошел… Ш-ш-ш… сейчас… Вот! Вот! (Застыл.)
Все. Что? – Что? – Что?
Из палат слышен голос Курицына-сына: «Ах!»
Пауза.
Курицын-сын (выбежал – в ужасе – кричит). Квартальный! Квартальный!
Квартальный подбегает – под козырек.
Под суд тебя! На Соловки! Ты где же был, чего смотрел, а? Пропали… пропали мы… пропали!
Все. Да что же? – Что? – Что случилось?
Курицын-сын (в отчаянии). Голова!
Все. Говорите же!
Курицын-сын. Не… не могу… Не поверите – невозможно поверить! Немыслимо, невероятно! Только подумать: голова… Нет!
Доктор. Ну, что – голова?
Курицын-сын. А, все равно: вот – смотрите сами… (Подходит к окну, поднимает штору.)
Все видят: Брудастый сидит перед столом, как сидел вначале, но… без головы: голова лежит перед ним на бумагах.
Все. А-ах! – Боже мой!
Предводитель. Как?
Курицын-сын. А так: голова их, изволите видеть, снята – и как пресс-папье, вон – на бумагах лежит.
Предводитель. А… а… То есть как же это – снята?
Казначей (пробует снять свою голову). А вот у меня – не сс… не сснимается…
Смотритель. Да вам, если угодно, и снимать не надо…
Курицын-сын. Господа, господа… позвольте, это не все: есть и похуже кое-что… Слушайте… (Понизив голос, оглядываясь.) Эта самая голова их… по осмотре оказалась… – совершенно пустая… Понимаете: пустая!
Доктор. Как? Никаких признаков… ну… этого самого… понимаете?
Курицын-сын. Никаких. Чисто…
Предводитель. Однако ж это… Была голова-голова… и вдруг – как картуз: здрассте! Как же это так?
Курицын-сын. Не приставайте: не знаю, не знаю, не знаю…
Предводитель. А… а… а кто же знает?
Курицын-сын. Кто знает? Один только этот злодей Байбаков – больше никто. (Квартальному.) А ты – ты его упустил! Под суд тебя! В Соловки!
Квартальный. Ваше курицсынство… вот перед Богом: я не я буду, если вам его не доставлю! Со дна морского достану!
Курицын-сын. Ну, смотри у меня: если не достанешь – я т-тебя… (Бежит к окну.) А теперь… вот! (Опускает штору.) И чтобы у меня – ни слова никто! Государственная тайна… понимаете? Избави Бог, народ узнает, что голова… пустая… Такое начнется!
Пфейферша. Спаси… спаси… спаси нас!
Казначейша. Боже мой… Что же делать? Что нам делать?
Курицын-сын. Вам делать больше нечего: ваша роль кончена.
Казначейша. Ну, это еще по-смо-трим! Я к самому Мейерхольду пойду!
Курицын-сын. Идите… куда хотите!
Дамы уходят.
Господа, пока мы одни… скорее! Ведь надо же что-нибудь решить, придумать! У меня просто мозги раскорячились! Что ж это такое выходит? Власть – от Бога, и вдруг – не угодно ли: от Бога… пуста<я> голова – фига! Просто фига!
Смотритель. Позвольте: если угодно, из Ветхого завета мы знаем…
Курицын-сын. Да поймите вы: то Ветхий завет, а то – сейчас, сию минуту… разве это возможно?
Смотритель. Сейчас? – что вы, что вы! Ну, разве только в виде исключения… или, если угодно, легкой игры природы…
Курицын-сын. Благодарю вас покорно за этакую игру! Этак мы доиграемся. Ведь если узнают… (Издали шум, крики.) Тесс… Постойте, постойте… (В испуге.) Это – они… на-на-народ… Господа… начинается!
Предводитель (со шпагой). Уррраа! (Нагнув голову, как бык, кидается вперед.)
Квартальный, Будочники (врываются с торжествующим криком). Вот а-ан! Вот а-ан! (Волокут часовщика Байбакова.)
Предводитель (ничего не разбирая, на них). Уррраа!
Курицын-сын. Да это наши! (На Предводителя.) Остановите, остановите его! Батюшки, да он всех перекрошит… Пожарный, заливай, заливай его… скорее!
Пожарные сзади окатывают Предводителя.
Предводитель. Уррраа! (Очнувшись.) А? Кто… кто это кричит?
Курицын-сын. Хорош! (Квартальному.) Да и ты тоже… Спятил? Чего орете? Ну?
Квартальный. Ваше курицсынство… да как же? Ведь поймали – часовщика-то!
Курицын-сын. Так чего же ты молчишь, такой-сякой?
Квартальный. Я, ваше куриц-ство, не молчу – я докладаю…
Курицын-сын. Поговори у меня! Давай его сюда… живо! (Чиновным.) Господа, господа, прошу занять места… Сейчас – самый решительный момент сейчас мы наконец все узнаем… (Подошедшему Байбакову.) Что-о? Попался, голубчик? Ну… звать как?
Байбаков. Васька… Василий… Байбаков.
Курицын-сын (Смотрителю). Записывайте. (Байбакову.) Происхождение? Родители?
Байбаков. Ро… родителей не было. Я вроде – самопроизвольно.
Курицын-сын. Самопроизвольно? Да как же ты смел?
Байбаков хочет сказать что-то.
Поговори у меня! По какому делу сюда приведен? Ну? Байбаков. Ая знаю?
Курицын-сын. По го-су-дар-ствен-ному делу… понял? По делу о снятии головы с высокой особы. Ну, говори, да чистую правду, а то я с тебя голову сниму!
Предводитель. Уррраа…
Курицын-сын. Да опомнитесь вы! Уймите его… (Байбакову.) Ну?
Байбаков. Ну… чего же… Ухватили меня давеча за шиворот, по зубам дали и пхнули вон в энту дверь…
Курицын-сын (Смотрителю). Запишите: «Будучи приглашен»… и так далее… Вообще – средактируйте… (Байбакову.) Ну?
Байбаков. Ну, свалился я – и вижу: он сидить, глаза вытаращил и головой вот этак вот – вроде как бык – мотает. Ну, думаю, пропал Васька: сейчас опять в зубы… Ан нет! Вижу, сует мне бумажку, а <на> ней писано: «Не удивляйся, но попорченное исправь»…
Курицын-сын. Ну? Ну? Ну?
Байбаков. Потом, значит, вот этак вот – сгреб себя за голову, снял ее…
Курицын-сын. Как – снял?
Байбаков. А я знаю? Ну, снял – и тычет ее мне в руки. Я ее туды-сюды… Гляжу: вот тут у ей пружиночка. (Находит соответствующее место на голове у Казначея, тот ежится.)
Курицын-сын (Казначею). Да сидите вы!
Байбаков. Я вот этак вот нажал… потом покрепче…
Казначей. Ой!
Байбаков. Она – трык! – и открылась. И гляжу – там, стало быть, это самое…
Все. Да что? Что?
Байбаков. Сичас…
Не спеша разворачивает салфетку, все смотрят. Из-за острога показываются Крамольники, слушают.
Курицын-сын. Что это? Да говори же… ччерт!
Байбаков. А это, значит, вроде как в трактире…
Курицын-сын. Да как ты смеешь! Что такое, – в трактире?
Байбаков. …в трактире, говорю, по праздникам орган играеть, разную музыку. Ну, и это вроде махонький органчик, а только вместо музыки – слова… Валики вот эти самые – на них слова и есть…
Курицын-сын (берет валики, читает). «Не потерплю»… «Раз-зо-рю»… Как? Только два?
Байбаков. Два, только всего… Ну, в дороге-то, стало быть, голова маленько отсырела, шпенечки вот эти вот выскочили, оно и выходить – с пропусками пп-пп-пп-плю. Ну, и весь фокус тут.
Предводитель. Это… это не может быть! Что же я – какой-то пишущей машинке присягал!
Один из Крамольников, не выдержав, фыркает – Крамольники скрываются.
Курицын-сын. Вы спятили? (На Байбакова.) При нем!
Байбаков взял с валика какую-то бумажку, поплевал на нее, снова пришлепнул на валик.
Ты что это, грубиян, плюешь тут? Как ты смеешь?
Байбаков. Да ежели он отклеился? Это ярлычок фабричный…
Курицын-сын. Дай сюда! (Выхватил, читает.) «Система Помпадур. Придворный поставщик Павел Буре, Петербург». (Байбакову.) Ну, голубчик, ты у меня этот механизм починишь… а то я тебя так починю.
Байбаков. Для че не починить? Механизм – пустяшный!
Курицын-сын. Ну, поговори у меня! (Смотрителю.) Средактировали? Читайте. (Байбакову.) Ты – слушай!
Смотритель (читает). «Показания самопроизвольно родившегося Василия Байбакова. Будучи приглашен к высокой особе, я вошел и увидел их…»
Байбаков (изображает). Вот этак вот: как бык!
Смотритель. «…увидел их в глубоком размышлении о… о рогатом скоте. По окончании означенного размышления я получил от них собственноручный приказ касательно исправления… ммм… испорченной идеологии…»
Курицын-сын. Так! Так! Очень удачно!
Смотритель. «.. причем они отделили от себя… ммм… идеологическое украшение организма и вручили оное мне. По исследовании таковое ока<залось> весьма подмоченным. Я, нижеподписавшийся, сим обещаю и клянусь, что заказ исполню в течение…» Какой срок записать?
Курицын-сын (Байбакову). Чтоб мне… через четверть часа было готово!
Байбаков. Ваше благоро…
Курицын-сын (Квартальному). Запереть его – туда! (На палаты.) И если в срок не кончит – дать ему защиту в высшей мере!
Байбаков. Ваше бла…
Его сопровождают в палаты и запирают.
Курицын-сын (садится, обессиленный). Ф-фу! Господа, что же это такое? Час от часу не легче! Может, просто – страшный сон приснился? (Подошедшему Квартальному.) Ну-ка, любезный, ущипни меня…
Квартальный щиплет.
Ой! А ты уж, дурак, и обрадовался… изо всей силы… Пошел вон! Стой: поди, узнай, как там… народ… живее! (Растирая ущипнутое место.) Нет, не сон… дурак этакий! (Вскакивает.) Господа… а вдруг этот прохвост Байбаков ничего не сделает?
Смотритель. Это еще что! А вдруг он злонамеренно в голову такое словечко вставит, что у нас вся публика так отсюда и брызнет…
Курицын-сын (опять садится). Ф-фу! Да что ж нам делать-то, наконец?
Доктор. Как – что? (Берет ярлычок.) Вот. Немедля послать Павлу Буре телеграмму-молнию, чтоб на всякий случай сейчас же выслал нам дубликат своей работы системы Помпадур.
Курицын-сын. А что, господа, – ведь верно! (Доктору.) С Богом – идите, посылайте… скорее!
Доктор уходит.
Смотритель. Да, знаете, оно – конечно… Но с другой стороны…
Курицын-сын. Ну, что, что еще, что?
Смотритель. Да ведь, согласно истории, телеграф-то еще только лет через сто выдумают!
Курицын-сын. Что же нам, по-вашему, сидеть – ждать, пока его выдумают? То-оже, сказал! Да, может, вас всех через пять минут…
Квартальный (вбегает, запыхавшись). Ваше курсынство… Сволочи…
Курицын-сын. Ка-ак? Ты это – что?
Квартальный. Крамольники… Узнали… Все узнали! Вон – слышите?
Издали – крик, топот.
Народ… сюда бегут…
Курицын-сын. Народ… впе… вперед…
Предводитель (выхватив шпагу). Урррэп…
Курицын-сын (затыкает ему рот и тянет его за собой.) Впе… впе… ред…
Пятится назад – все остальные тоже.
Глуповцы (предводимые Крамольниками, врываются с дрючками, кольями). Доло-ой! – Доло-ой! – Доло-ой!
Садовая-Голова (ухватив Курицына-сына за шиворот). Лиходеи! Где он, батюшка наш? Подавай его сюда! Жалаим его!
Крамольник (хватаясь за голову). Что он говорит! Что он говорит! (К народу.) Братцы, да ведь голова-то…
Глуповцы (не слушая его). Так! – Так! – Жалаим его! – Жалаим!
Курицын-сын (стуча зубами). Ос-с-сени себя кр-р-р-рестным з-знамением, православный н-н-народ…
Садовая-Голова. Я те осеню! Глуповцы. Бей! – Бей!
Пахомыч (унимая). Братцы… братцы… Пущай скажет… Сё-таки Курицын-сын… Пущай…
Толпа затихает.
Курицын-сын. Православные… батюшка наш пребывает в полной сохранности и совершенном нетлении…
Евсеич. Мать Пресвятая… мощи! Братцы: мощи, – слышите?
Садовая-Голова. Подавай сюда мощи!
Глуповцы. Мощи! – Мощи жалаим! – Жалаим!
Крамольник (в отчаянии). Что они говорят! Что ж это? Что ж это?
Курицын-сын. И для освидетельствования нами приглашен ваш депутат – уважаемый товарищ Байбаков, который сейчас находится – там… (Указывает на палаты.)
Крамольник. Депутат? А под замком он зачем?
Курицын-сын. Для… для неприкосновенности личности… Он там… он работает – он сейчас кончит… Вот ей-Богу же: сейчас кончит…
Крамольник. Не слушайте его – ломай замок!
Другой Крамольник. Выпускай на волю!
Глуповцы. Так! – Так! – Ломай! – На волю!
Курицын-сын (своим). Ну – конец… Господа… конец… конец…
Доктор (вбегает, высоко подняв телеграмму). Вот она! Есть! Есть!
Толпа затихает.
Курицын-сын (схватил телеграмму, прочел. Крестится). Стойте! Православные, слушайте!
Крамольник. Не слуш…
Садовая-Голова (ткнув его в бок). Молчи!
Курицын-сын. Вот телеграмма – из самого из Петербурга: «Дубликат экспрессом пять минут у вас Павел Буре Главлит шестьсот семь тираж один»… Поняли?
Глуповцы переглядываются.
Ну, как же? До пяти считать-то умеете? Ну, вот и все. Ведь только вот этаких вот пять минуточек вам подождать – и готово…
Крамольник. Не слуш…
Садовая-Голова. Ать!
Крамольник валится.
Курицын-сын. …И готово! И все уладим! (Своим.) Что будет? Господа, что же это будет… а?
Смотритель (шепотом). Байбакова… пока не поздно…
Курицын-сын (народу). Вот, глядите: сейчас ваш депутат… (Подбегает к двери, стучит.) Товарищ Байбаков! Уважаемый товарищ!
Байбаков (изнутри). Готово. Отпирайте!
Курицын-сын (ободрившись). Готово – слыхали? Сейчас выйдет… Он вам… Поговори у меня. Шшшап-ки долой!
Глуповцы, пятясь, скидывают шапки. Курицын-сын отпер висячий замок, снимает его. Вдруг издали – камаринский марш. Снятый замок выпадает из рук у Курицына-сына, он застывает, все тоже. Появляется отряд Будочников – и затем, грозно вращая глазами, Дубликат – точная копия Брудастого. Дубликат, при общем молчании, подымается на ступени палат.
Курицын-сын (отступая от двери – Дубликату). Ваше… ссство…
Тотчас же распахивается дверь, и оттуда выходит подлинный Брудастый и сзади него – Байбаков.
Курицын-сын (Брудастому). Ваше… ссство… (Дубликату.) Ваше… ссство… (В ужасе мечется между ними.) Ваше… ссство… Ваше… ссство…
Брудастый и Дубликат медленно и грозно наступают друг на друга. Народ безмолвствует.
Байбаков (один – показывая пальцем). Ха-ха-ха! (Вдруг огляделся кругом, оробел, замолк.)
В тишине – Брудастый и Дубликат сошлись, остановились, впились друг в друга глазами.
Дубликат. Жжж… шшш… Нне-ппа-терр-ппплю!
Брудастый. Жжж… шшш… Нне-ппа-терр-ппплю!
Кинулись, схватили друг друга за головы – обе головы уже оборваны и катятся по земле. Брудастый и Дубликат стоят без голов. Пауза.
Курицын-сын (хватаясь за голову). Пропали! Пропали!
Кидается наутек, за ним остальные чиновные.
Евсеич. С нами крестная сила… Братцы, беги!
Бегут в другую сторону. Остаются – неподвижные – Брудастый и Дубликат. – Тьма.
Приложение 1 <Черновая редакция актов 3–6>
Происшествие третье: «девки»
Город Глупов. Ночь. На погребальной колеснице – стоят две стеклянные банки, а в них – тела Брудастого и Дубликата. Возле банок – Доктор, с четвертной бутылью спирта. Внизу – Курицы н-с ын, Смотритель, Предводитель, Казначей, Квартальный. Доктор откупорил, нюхает, пробует.
Курицын-сын. Да лейте же вы, лейте скорее! Доктор. А может… не надо?
Курицын-сын настаивает: ведь когда-нибудь начальство явится, а без вещественных доказательств разве оно нам поверит? Доктор льет спирт, закупоривает банки. Смотритель произносит краткое, но трогательное слово о высоком уме и талантах почившего…
Куриц<ын>-сын. Почивших! Смотритель. И да будет вам земля… Кури ц<ы н>-с ы н. Банка! Банка! Смотритель. И да будет вам банка пухом!
Рыдания. Похоронный марш. Колесница – в нее впряжен Предводитель – отъезжает… Похоронный марш переходит в фокстрот. Втанцовывает девка-А малька с тремя унтерами-Б удочниками.
1-й унтер. Амалька! Ты подумай: после кого мы с тобой будем… Ведь ты, можно сказать, собственноручная!
2-й унтер. Ничего она, толстомясая, не понимает…
Амалька говорит, что не только понимает, но такое им сейчас скажет, что они ей в ноги бухнутся. На этот предмет все четверо идут в кабак. Появляются осиротевшие, тоскующие без начальства Глуповцы. Пока они скорбят, Амалька подпоила своих унтеров и выходит с ними. Пьяные унтера кричат: «Вот она, матушка наша, Амалия Карловна!»
Чудак. Да это расхожая девка – какая же она матушка?
Унтера. Мяса, мяса-то у ней, гляньте, какие! Винищем-то поит как!
Глуповцы все еще не сдаются. Амалька спрашивает: а видали, как утром она от него, батюшки, выходила? Не понимают разве, что он ее собственноручно удостоил? Так как же не матушка! А водки желаете?
Глуповцы. Жалаим! Амальку! Водку! Амалия Карловна – матушка наша! Красавица наша!
Амалька приказывает выкатить им бочку русской горькой. С торжеством провожают Амальку в княжьи палаты. Одного унтера, обнявши, она уводит с собою, а двух других оставляет на крыльце – ждать, пока придет их черед, – дает им билетики с номерами. Народ идет к бочке. Входят Курицын-сыни остальные. Унтера сидят на крыльце, курят цигарки и никакого почтения не оказывают.
Предводитель. Урра!
Кидается на крыльцо. Унтера хватают его: «А у тебя билет есть?» Предводитель опешил. Амалька на шум выходит и приказывает привести к ней чиновных. Стоит на крыльце, обнявшись с унтером, и допрашивает чиновных: признают ли они ее матушкой? Все отказываются, кроме Смотрителя: этот очень ловко вывертывается – и как будто матушкой признает, и как будто по матушке обложил. Но Амалька и этим удовлетворена. Смотритель остается на свободе, прочих же унтера запирают в полицейской будке – впредь до радостного утра, когда им головы с плеч снесут. Из окошечка будки Кур<ицын>-сын и другие стыдят Смотрителя. Смотритель развивает теорию, что голова для человека интеллигентного – предмет необходимый (без головы – как же, например, зубы чистить?), а стыд – как известно, не дым и глаза не выест. От бесстыдства же проистекает большая польза, и пока вот они, скажем, под замком будут сидеть, он под Амальку мину подведет, а какую – это секрет. С тем и уходит. Вваливаются подвыпившие Глуповцы – с гармошками. Садовая-Голова от благодарного народа преподносит Амальке скипетр – подозрительно-фаллического вида; когда скипетр взят в руки – табакерочная музыка в нем играет «чижика». Амалька восхищена и производит Садовую-Голову, во-первых, в унтеры, а во-вторых – в маркизы. Часовщик Байбаков во время церемонии помирает со смеху. Когда Амалька узнает, что он-то и сделал скипетр, она хочет его тоже произвести в маркизы. Байбаков, захлебываясь от смеха, говорит, что он этот инструмент для потехи сделал. Амалька ссылает его в Стрелецкую слободу – Байбакову еще смешнее: да ведь он там и всегда живет. Казначейша, прикрикнув на Казначея, велит ему немедля признать Амальку, что Казначей и делает – из окошечка будки. Казначея выпускают и производят в маркизы Бланманже. Издали – крики: появляется Смотритель с Ираидкой и ее четырьмя унтерами, Ираидкины унтеры провозглашают: «Вот она – настоящая, природная матушка наша, Ираида Лукинишна!» Глуповцы сперва и слышать не хотят, но Смотритель приводит резоны: «А как она утром от батюшки нашего выходила – все видели? Ну, стало быть, и она тем же миром мазана, как и Амалька. А только Амалька – колбасница, немка, а та – наша, природная…» Глуповцы почесываются. Ираидка кидает в толпу горсть медных пятаков. Глуповцы кидаются, подбирают, кричат: «Ираида Лукинишна, матушка наша!» Амалька выходит на крыльцо. Краткий словесный бой между нею и Ираидкой скоро переходит в военные действия: Амалька со своими унтерами и маркизами – на крыльце палат. Ираидка – со своими – на крыльце кабака или острога. Глуповцы тоже разделились – уже засучили рукава и сейчас пойдут стена на стену. Маркиз Садовая-Голова не выдержал – тоже засучил рукава и, бросив Амальку, идет биться на кулачки – его зазывает к себе и та и другая стена. Пахомыч уговаривает Глуповцев, чтобы унялись – хотя бы на развод-то оставили. Не действует: сейчас начнется сражение… Вбегает часовщик Байбаков: хохочет, за живот держится: «Дунька-то… Дунька-то Толстопятая…»
Глуповцы. Что Дунька?
Байб<аков>. У Амальки сколько унтеров? Трое? У Ираидки? Четверо? А у Дуньки – все, никому отказу нету, наши слободские к ней валом валят, объявили ее матушкой… Ну-ка, за кого вы теперь?
Новый вестник – перебежчик с Дунькиной стороны – сообщает, что Дунька выпустила на Глуповцев большой клоповный завод: тучей сюда ползут. Смотритель призывает объединиться по случаю империалистической опасности, грозящей со стороны третьей силы – Дуньки. Глуповцы хватают обеих – и Амальку, и Ираидку – и сажают их в клетку. Унтеров ведут окунать в реку. Спорят, как быть с Казначеем: тоже окунать – или его нельзя, как он есть маркиз? Появляется клоповное войско Дуньки: ползут… Некий безумный храбрец из Глуповцев кидается на клопа с кулаками – и нету: съеден во мгновение ока. Глуповцы в страхе пятятся. Из будки Курицын-сын и другие кричат, молят, чтобы их выпустили… Вдруг – слышен камаринский марш, быстро входит отряд Оловянныхсолдатиков с пушкой, и на белом деревянном коне въезжает новый князь – Великанов. Он командует «Пли!» – и палит из пушечки горохом. Кучка Глуповцев падает – убиты.
Остальные. Вот это так палит! Вот это настоящий! Слава тебе, Господи: дожили!
Из будки – крик: «Уррраа-а!» Предводитель высадил дверь и вываливается наружу, за ним остальные. Великанов поворачивает пушечку на занимавшее позиции клоповное войско: «Пли!» Клоповное войско ползет назад. Курицын-сын рапортует: «Честь имею доложить вашему… ссству, что в городе все благополучно, утоплено семеро унтеров, налицо состоят самозванки – Амалька, Ираидка да Толстопятая Дунька…»
Великанов. Подать сюда Дуньку!
За сценой визг. Квартальный докладывает, что отступившие клопы накинулись на Дуньку и съели ее без остатка.
Великанов. Подать сюда Ираидку с Амалькой!
Снимает веретье, каким была покрыта клетка с Ираидкой и Амалькой: их там нету.
Великанов. Это что же значит, а?
Доктор производит осмотр и докладывает, что обе они съели друг друга – остались одни косточки.
Конец происшествия третьего:
Предводитель кричит: «Урра-а!» Глуповцы следом за ним: «Урра-а!»
Великанов. Сто-ой! Смиррнаа!
Курицын-сын. Тесс… Тесс…
Великанов (читает). «Приказ № 1: а) объявляется всеобщая цивилизация, б) предписывается сеяние и употребление в пищу горлицы и лаврового листа, в) воспрещается сеяние нецивилизованных злаков, как-то ржи, картошки, гороху и прочее». (Гпуповцам.) Поняли?
Глуповцы – переглядываются, почесываясь.
Великанов. Пли!
Пушка палит горохом.
Глуповцы (поспешно). Поняли! Поняли! Поняли!
Пятятся назад – Великанов наседает на них белым конем.
Происшествие четвертое: «цивилизация»
Площадь. Достопримечательности: колокольня и неоконченный монумент. Монумент изображает собою поднятого на дыбы огромного белого коня – всадника еще нет. Входят Пахомыч и Евсеич, за ними несколько Глуповцев.
Пахомыч. Да отстаньте вы от меня! Ну его, чего еще надо!
Глуповцы. Жрать! – Жрать хоцца! – Горчицу не жалаим. Лавровый лист не жалаим!
Евсеич. Братцы, потерпите! На том свете вам и ситный, и убоина – все будет…
Глуповцы. Не жалаим!
Пахомыч. Да вы что ж это: против него самого – против батюшки нашего слова говорите?
Глуповцы (оробели). Да нешто можно! – Да избавь Бог! Да мы ничего…
Пахомыч. Ну, то-то… (Уходит.)
Крамольники (Глуповцам). Эх, вы! – Так вы и будете терпеть – пока не сдохнете?
Глуповцы. Бей Крамольников!
Крамольники (отбежав в сторону). Пропащее наше дело! – Ничем их не проймешь!
Байбаков возле них, прислушивается – вдруг что-то придумал, хохочет.
Крамольники. Ты чего?
Байб<аков>. Скидывай сапоги!
Крам<ольники>. Зачем?
Байб<аков>.А мы из сапогов щи сварим: как щи увидят – все за вами побегут… Я их знаю!
Зажигают примус, сейчас будут варить щи. Появляется под руку разряженная пара, кавалер в удивительной треуголке с перьями. Вся компания всполошилась. Вдруг Байбаков гогочет: «Да это наш Садовая-Голова с Садовихой! Эй, Садовая-Голова, подь сюды!»
Садовиха. Заткни хайло-то! Я тебе не Садовиха: я – маркиза… Маркиз, Митька, пойдем…
Казначей с Казначейшей – идут навстречу.
Садовиха (к ним). Ах, здрасьте-здрасьте! Маркиз, Митька, – шляпу скинь!
Входят: Курицын-сын, Смотритель просвещения, Предводитель, Доктор, Квартальный, Крамольники и Байбаков-с примусом, с горшком, – прячутся внутри коня-монумента. Куриц<ын>-сын приказывает Квартальному согнать народ: сейчас начинается. От него допытываются: что начинается?
Кур<ицын>-сын. Не уполномочен сообщить… Одно скажу: нечто на предмет цивилизации…
Бегут Глуповцы, сгоняемые Квартальным и Будочниками. Кур<ицын>-сын объявляет им, что сейчас начнется, а пока что – Квартальный производит сбор добровольных пожертвований на окончание монумента.
Глуповцы (почесываясь). Та-ак…
Квартальный подходит с тарелочкой для сбора к Чудаку.
Чудак. А если я, например, не желаю?
Кварт<альный>. А не желаешь – в кутузку сядешь.
Чудак. Да ведь сказано – добровольно?
Кварт<альный>. Чуда-ак! А как же не добровольно? Выбирай сам что хочешь: хочешь – жертвуй, хочешь – в кутузку…
Чудак и другие Глуповцы, почесываясь, жертвуют. В это время наверху, над колокольней, показывается летающий Великанов: летает, приветствуя ручкой.
Кури<цын>-сын. Шапки долой! Глуповцы. Да где же он? – Где батюшка наш?
Кур<ицын>-сын воздевает руки к небу. Все увидели – всеобщее изумление.
Евсеич (умиленно). Глядите, глядите… Батюшка-то наш… херувимчик!
Маркиза-Бланманже-Казначейша. Ангел! Павильон!
Маркиза-Садовиха. Маркиз, Митька, да куды ты рыло воротишь – вон он – вон он!
Вдруг Великанов фалдой сюртука зацепился за крест колокольни и повис. Смятение. Дамы в отчаянии, Кур<ицын>-сын и остальные растерялись.
Маркиз-Садовая-Голова. Очень просто: колокольню свалить… Это – плевое дело!
Предводитель. Урраа!
Оба сейчас кинутся на колокольню.
Кур<ицын>-сын. С ума спятили? Стойте! Где Байбаков? Байбаков! Байбаков!
Байбаков высунулся из коня – с ложкой в руке – опять спрятался. Часть Глуповцев увидела его: «Да он там чегой-то лопает! Айда к нему!» Но Великанов уже отцепился от колокольни, под музыку плавно опускается вниз и усаживается на монументе – на коне. Усевшись, спрашивает: «Ну, поняли?» Глуповцы почесываются.
Великанов. Да как же вы смеете не понимать, когда я собственным примером показываю вам цивилизацию в виде летания?
Чудак. …от хорошей жизни не полетишь…
Великанов. Что-о?
Пахомыч. Он говорит, что жизнь-де наша хорошая, и так всем довольны. Благодарим покорно…
Великанов. То-то! (Курицыну-сыну.) Цивилизацию исполняют?
Кур<ицын>-сын. Как же, вашесство! Все – как приказано… Горчица… лавровый лист…
Великанов. Мореходство у вас есть?
Кур<ицын>-сын. Ни-никак нет, вашесство…
Велик<анов>. Эт-то почему такое?
Кур<ицын>-сын. Потому, вашесство… моря никакого нету…
Велик<анов>.Не возражать! Завтра же начать постройку Ноева ковчега!
Кур<ицын>-сын. Слушсс… вашесство.
Велик<анов>.Промышленность есть?
Кур<ицын>-сын. Как же, вашесство… Это самое, ла… лапти, например… (Толкает в бок Смотрителя.)
Смотритель. Часовщик у нас, вашесство, есть… Байбаков!..
Велик<анов>. Ну?
Смотритель. Часы изобрел: за одни сутки – двое суток показывают…
Велик<анов>. Молодец! Выдать ему… горчицы!
Предводитель. Урраа!
Велик<анов>.Спасибо. (Предводителю.) Подойди поближе. Где воспитание получил?
Предв<одитель> (так же, как отвечают «Здравия желаю»), В заведении искусственных минеральных вод, вашесство!
Велик<анов>. А-а… это промышленность, которая… ну… шипит?
Предв<одитель>.Так точно, шипит, вашесство!
Слышится громкое шипение – и у коня из-под хвоста вырывается струя пара.
Велик<анов>. Эт-то что такое?
Предв<одитель> (растерянно). Ши-шипит… (Пробует заткнуть рукою – обжег.) Ой!
Все кидаются к коню и стараются прекратить ужасное шипение.
Доктор. С научной точки – это изнутри, вашесство! Великанов. Открыть нутро!
Открывают. Оттуда – навстречу нескольким Глуповцам – высовывается с горшком щей Байбаков: «Щи, ребята, готовы! Кто щей хочет?»
Кур<ицын>-сын. Взять его! Взять их!
Глуповцы окружили Байбакова и Крамольников – хватают у них ложки, хлебают щи.
Великанов. Эт-то что такое?
Глуповцы. Щи… – Щи из сапогов…
Великанов. Горчицы не хотите? Лаврового листку не желаете?
Глуповцы все, как один, бухаются на колени, молчат.
Велик<анов>.Ну-у?
Глуповцы. Уволь от горчицы… – Невмоготу больше… – Не жалаим! – Потуда с коленей не встанем, покуда не уволишь…
Великанов. Ка-ак? Бунтовать… на коленях? Да я васс… Эй, артиллерия! (Глуповцам – разъяряясь все больше.) А-а, бу-унт? Бу-бу-бууннт? Бу-бу-бууу…
Щеки у Великанова от ярости надуваются, и сам он – на глазах у всех – заметно увеличивается в объеме.
Евсеич. Глядите, глядите: гневается-то как – инда раздулся! Мать Пресвятая… что ж это будет?
Входят Оловянные солдатики с артиллерией, впереди – горнист. Великанов выхватывает у него трубу, трубит сигнал – раздувается еще больше.
Курицын-сын (Глуповцам). После третьей трубы – палить будет… Сдавайтесь!
Глуповцы молчат. Великанов трубит еще раз.
Кур<ицын>-сын. Да вы что – ослепли? Не видите: на него глядеть страшно… Сдавайтесь!
Пахомыч. Братцы, ай и правда – сдаться?
Чудак. Все одно подыхать-то…
Глуповцы. Так! Так! Пущай палит!
Великанов в третий раз подносит трубу ко рту – сейчас протрубит последний раз… Пока все это происходит – появляется Неизвестный молодой человек в очках, с портфелем и записной книжкой, тихо что-то говорит Смотрителю просвещения. Смотритель сломя голову кидается к Великанову и в ужасе кричит ему: «Вашесство… Открыли… Нас – открыли!»
Великанов. Как?
Смотритель. А так, что ввиду сверхурочной цивилизации нам даже, если угодно, и рапортов писать некогда было, про нас и забыли, а теперь – вот он…
Великанов. Кто?
Смотритель (берет у Неизвестного молодого человека документ и читает). «Корреспондент газет и эксперт наук для открытия удивительных явлений природы».
Великанов (свирепея и раздуваясь до невероятной толщины). В га-зе-ты?
Неизв<естный> молодой человек. Так точно.
Великанов. Прро на-ас?
Неизв<естный> молодой человек. Про вас.
Великанов. Прро меня-а-а?
Неизвестн<ый> молодой человек. Именно.
Великанов, указывая артиллерии на Молодого человека, подносит к губам трубу, надувает щеки, раздувается весь до последних пределов… и вдруг – лопается с треском и падает…
Евсеич. Гос-споди, Никола-Угодник! Чиновные. Что? Что это?
Доктор – нагибается, глядит и провозглашает: «От чрезмерной ярости – лопнул»…
Происшествие пятое: «грехопадение и покаяние»
Княжьи палаты, острог, кабак. Но острог теперь украшен нежно-алыми розами, а кабак – белыми лилиями. Цветами увенчана также и полицейская будка. Кроме того, сооружен из цветов грот с будуарным фонтанчиком и соблазнительной кушеткой. Ночь, окна в палатах освещены, оттуда слышна музыка. У входа – Квартальный и несколько Будочников. Поодаль группа глазеющих Глуповцев – с Пахомычем и Евсеичем. Дверь в палатах распахивается, оттуда выбегают одетые в маскарадные – очень вольные – костюмы, проносятся со смехом и криками, снова скрываются в палаты. Снаружи остаются: Казначей с Казначейшей, Садовая-Голова с Садовихой, Курицын-сын. Казначейша – одета по Ватто, костюм к ней очень идет. Казначей – Меркурием, с фиговым листком, с крыльями на пятках, в одной руке жезл, другой рукой – стыдливо прикрывает фиговый листок.
Казначейша (Казначею). Мучитель мой… опять он! Ну, кто, кто ты?
Казначей. Ка-казначей…
Казначейша. Боже мой… да запомни же: ты, идиот, – Меркурий.
Казначей. Я… я идиот Меркурий…
Казначейша. Так как же ты стоишь… ну?
Казначей становится на одну ногу – в позе Меркурия.
Казначейша. Вот… станешь перед ним так и скажешь ему…
Казначей. Ко… кому?
Казначейша. Ему – самому… нашему ангелу… Скажешь, что маркиза – сгорает и что только он может залить пожар.
Казначей. Пожар… Слушаю, матушка… (Уходит.)
На освещенном месте появляются Курицын-сын, Садовая-Голова и Садовиха. Садовая-Голова – во фраке с чужого плеча, рукава коротки. Садовиха – в современном, коротком – выше колен – платье.
Кур<ицын>-сын (Садовой-Голове). Поздравляю. Вы заметили, как он сам, батюшка наш, благосклонно смотрел на вашу супругу?
Садовая-Голова (Садовихе). Ну, если ты будешь еще перед ним голыми титьками трясти, я тебе… во! (Кулак.) Очень просто!
Садовиха. Маркиз… Митька, пользы ты своей не понимаешь.
Куриц<ын>-сын (Садовой-Голове). Да… Любовь к отечеству…
Садова я-Голова. Не тем местом она любит!
Курицын-сын. А каким же, по-вашему, любить?
Садова я-Голова. Я ей покажу, каким…
Курицын-сын. Тесс! (Уводит обоих.)
Пахомыч. Ну, братцы, до-ожили! При новом-то при батюшке – каждый день масленица!
Крамольник. Погоди: будет и великий пост. Вон: слышишь?
Издали – чуть слышна барабанная дробь.
Пахомыч. Это… что же такое?
Крамольник. А вот как придет – тогда узнаешь, что такое…
Пахомыч. Да ты что стращаешь, что каркаешь? Крамольник!
Глуповцы. Бей Кррамо…
Куриц<ын>-сын (подбегает). Тсс… Вы, Головотяпы!
Пахомыч. Ваше курицсынство… да это не мы, это – Крамольники…
Курицын-сын. Как, опять они? Ну, чего, чего им, подлецам, еще надо? (Квартальному.) Если сам выйдет – береги его, ни на шаг от него не отходи… слышишь? Избави Бог что случится – ты в ответе…
Кварт<альный>.Слушссс…
Грустилов – выходит из палат с Пфейфершей; сзади у него, на мундире, крылья – не то ангельские, не то петушиные – и хвост.
Глуповцы. Сам… – Глядите: сам, сам… – Батюшка наш… – С крылышками…
Байбаков (мимо которого проходит Грустилов). А-а… Пахнет-то от него как… Видать – пищу легкую принимает.
Крамольники громко фыркают.
Куриц<ын>-сын (кидаясь к Глуповцам). Вон… вон отсюда… все!., пока целы…
Глуповцы уходят. Курицын-сын и остальные исчезают в неосвещенных углах, дабы не мешать самому. Один только Квартальный, непрестанно отдавая честь, на цыпочках идет сзади Грустилова.
Грустилов. Какая поэзия! Что за ночь, что за луна… с правой стороны… (Цитирует нечто высоко-поэтическое из Вертинского.) Какое неземное благоухание! (Наклоняется к корсажу Пфейферши.)
Пфейферша. Это – лориган. Я – грешница – я обожаю духи, цветы… и митрополита Введенского…
Грустило в. Цветы – дети земли… Я хочу подарить вам хотя бы такое дитя… (Нагибается за цветком.)
Квартальный – немедля кидается, срывает цветок и подает его.
Груст<илов> (Квартальному – с ласковым бешенством).Mon sieur agent, в ночное время вы можете не утруждать себя исполнением служебных обязанностей…
Кварт<альный>. Слушшссс… вашесство… (Отходит.)
Казначейша (подлетая к Квартальному). Ты что же – погубить его хочешь? Тебе это приказано? Чтобы ни на минуту не оставлял его!
Кварт<альный>. Слушшссс… (Снова следует за Грустиловым.)
Груст<илов> прикалывает цветок к корсажу Пфейферши.
Пфейферша. Нет, нет… оставьте меня… Я мечтаю только об одном: об уединенной келье…
Груст<илов>. Келья… Кель… Ке-ке-ке-ко-ко… (Распустив крылья и хвост, по-петушиному кружит около Пфейферши, загоняя ее в грот.)
Квартальный, улучив момент, кидается в грот и прячется там за кушеткой.
Пфейферша (Грустилову – в гроте). Что вы делаете… что вы делаете? Скорее… ради Бога, скорее…
У Грустилова, продолжающего петушиное действо, вдруг отваливается хвост. Квартальный, не выдержав, поднимает его и подает: «Вашесство… Хво… Хвостик ваш…» Пфейферша: «Ах» – и убегает.
Грустилов (бешено). Русским языком тебе, прро-хвост, говорю: не сметь подстерегать меня… Ввон, мерзавец!
Грустилов, разгневанный, выходит из грота. Казначейша толкает в спину Казначея, тот становится перед Грустиловым в позу Меркурия, но от страха сказать ничего не может, кроме: «Ва-ва-ва…» Потом обгоняет Грустилова еще раз и наконец выпаливает: «Ва-вашесство… П-п-по… пожар!»
Грустилов. Где? Что? Сюда! Сюда! Пожар!
Куриц<ын>-сын (выскакивает). Вашесство… я здесь. Осмелюсь доложить: пожар, так сказать, символический…
Груст<илов>. Как?
Куриц<ын>-сын (показывая на появляющуюся из тени Казначейшу). А вот она вам объяснит.
Грустилов (расцветая). Маркиза… вы? Что за ночь, что за луна с правой стороны… Лампада, келья… ке-ке-ке…
Казначейша. Ну да! Пошли…
Идут к гроту. Грустилов кружит около Казначейши по-петушиному.
Казначейша (мужу – шепотом.) Стой, идиот, у входа, стереги, чтобы никто… Слышишь?
Казначей в позе Меркурия становится на страже. Грустилов, войдя в грот, опускает занавеску, на освещенной изнутри занавеске – видна весьма увлекательная игра теней.
Пфейферша (созерцая все это). Нет… нет! Боже мой, ты поможешь мне – чтобы от меня… меня…
Перед нею появляется Миша-Возгрявый, сморкается натуральным способом, потом сует ей руку: «Цалуй!»
Пфейф<ерша>.Кто… кто вы? Миша. Не узнала? Я те, милка, покажу-у, хто я… (Тащит ее в полицейскую будку.)
Снова распахивается дверь в палатах, музыка – слышнее. Выходят замаскированные и танцуют танго. Из полицейской будки выходят Миша-Возгрявый и Пфейферша.
Миша. Ну, што, милка, поняла?
Пфейферша (на коленях). Да, да, да… Спаситель мой, божество… божествецо мое… алмазик…
Миша (дает ей крест и сверток). На… Бери, делай…
Пфейферша переодевается в монашеское платье. Из грота выходят Казначейша и Грустилов. Навстречу – Квартальный.
Груст<илов> (ему). А-а… Это ты, братец! Ну… что?
Квартальный трепещет.
А-а… Скажи, братец, что, например… тетерева у вас водятся?
Кварт<альный>. Рад стараться, вашесство!
Груст<илов>.Я, братец, знаешь, люблю иногда… Хорошо иногда посмотреть: как весною тетерева… это самое… понимаешь?
Кварт<альный>.Рад стараться, вашесство!
Садовиха – появляется из тени, Грустилов кидается к ней, распустив крылья, не успевает сделать и одного петушиного круга – останавливается как вкопанный, на пути у него – крест, воткнутый в землю Пфейфершей.
Грустилов. Что… что это?
На верху креста загорается лампочка.
Что это такое? Сю… сюда! Скорее!
Подбегает Курицын-сын и остальные – в масках.
Голоса. Знамение… – Крест… – Загорелось… Горит – смотрите! – Чудо!
Доктор (осмотрев лампочку). Гм… «Осрам», полуваттная.
Голоса. Полуваттная… – Слышите? Полуваттное… знамение…
Грустилов (увидел монахиню-Пфейфершу). Кто… кто вы? Не смотрите на меня так!
Пфейферша. Покайся… несчастный!
Груст<илов>.Но право же… я… как будто…
Пфейф<ерша>.Покайся! Иначе тебя ждет (на крест) – вот это!
Груст<илов>. Но… но за что же?
Пфейф<ерша> (показывая на грот). А там – что было?
Груст<илов>. Боже мой… она все, все знает… все видит!
Пфейф<ерша>. Да, я все вижу! Ты передо мною – ой одежд, голый… И вы все – голые…
Дамы сконфуженно ежатся. Казначей прикрывает свой фиговый листок.
И я вижу ваши тела на улицах – как падаль…
Груст<илов>.Замолчите! (В тишине – слышна жуткая барабанная дробь.) Что это? (Молчание.) Господа… Я чувствую – действительно близко что-то… я не знаю что… Может быть – в самом деле покаяться… на всякий случай?
Казначейша. Да, да… ангел! Покаемся вместе… идем!
Садовиха щиплет ее.
Ай!
Груст<илов>.Господа… Забудем все, что было… (Цитирует Вертинского.) Дайте… Дайте мне вериги. (Ему подают подтяжки, он надевает их.) Господа, завтра мы раздерем на себе одежды…
Казначейша. Я – согласна!
Груст<илов>. Мы будем жить в шатрах и питаться только акридами и дикими… устрицами. (Курицыну-сыну.) Пожалуйста, распорядитесь, чтобы с нами поехал Simon от Кюба – он делает такие устрицы a la Monico, что… (Повернувшись к Пфейферше и все больше воодушевляясь.) И если еще к этому бутылочку… (Втягивает ноздрями воздух, наклоняется, обнюхивает Пфейфер-шу.) Зна… знакомый запах! Какая поэзия!.. Что за ночь…
Пфейферша. Прими руки, несчастный! Ты кощунствуешь!
Груст<илов>. Ах, да… я, кажется, в самом деле…
Пфейф<ерша>. После него – никто не смеет касаться меня!
Груст<илов>. После… кого?
Пфейф<ерша>. После того, кто послан спасти тебя и всех нас. Иди за мною – и ты сподобишься увидеть его…
Снова слышна барабанная дробь.
Груст<илов> (прислушиваясь). Постойте: опять? (Пфейферше.) Я – согласен. Ведите, скорее – ведите нас! Господа… идемте!
Все идут за Пфейфершей к полицейской будке.
Пфейферша (к будке). Божество… божестве-цо мое… алмазик… это я!
Из будки слышно: втягивает носом, отхаркивается, плюет.
Пфейф<ерша> (восторженно). Он… он! Вы слышите? (К будке.) Еще… еще скажи нам что-нибудь… Слушайте… Слушайте – сейчас…
Миша-Возгрявый (из будки, диким голосом). Без працы-ы… не бенды-ы… коломацы-ы-ы…
Пфейф<ерша>. Вы слышите? На колени!
Все – на коленях. Миша-Возгрявый – выползает из будки, глядит на всех, сморкается – как в первый раз.
Пфейф<ерша>. Дай-дай-дай причаститься мне! (Лобызает Мишины пальцы. Грустилову.) Причащайся… причащайся!
Грустилов (подползает на коленж, вдруг отворачивается). Ф-фу… как пахнет!
Пфейф<ерша>. Несчастный! Ты забыл… что ждет тебя? Смирись!
Груст<илов>. Я… я смирился… (Целует Мишины пальцы.)
Миша встает.
Пфейф<ерша> (шепотом). Вставайте… вставайте… можно…
Миша (медленно развязывает полотенце, которым подпоясан. Уставившись в Казначейшу и ткнув ее в живот, произносит). Бе-ло-бо-ки камушки, бе-ло-пу-пы дамочки… Белобоки камушки – белопупы дамочки, белобоки камушки – белопупы дамочки…
Повторяя священные слова быстрее и хлеща себя полотенцем, Миша-Возгрявый начинает кружиться, за ним – Пфейферша, потом Казначейша, Грустилов и остальные. Только Доктор и Курицын-сын стоят в стороне.
Куриц<ын>-сын. Позвольте… что ж это… что ж это…
Снова барабанная дробь – все ближе, но никто ее не слышит: неистовое кружение, взвизги, всхлипы. Предшествуемый барабанщиками, внезапно появляется Угрюм-Бурчеев, идет по прямой линии, против крыльца поворачивается под прямым углом и скрывается в палатах. Никто не видит его, кроме Курицына-сына, который вращается за Угрюм-Бурчеевым, как компасная стрелка, входит следом за ним в палаты – и через секунду вылетает обратно с бумагой в руке.
Куриц<ын>-сын. Господа! Господа… последнее происшествие!
Все мгновенно останавливаются.
Куриц<ын>-сын. Господа… вот… бумага: прибыл и водворился новый наш батюшка… Угрюм-Бурчеев…
Предводитель. Урр… эп… (Спохватившись.) А… а… а как же прежний?
Остальные. Да, а как же это? – Позвольте: да где же он? – Господа, где же он?
Куриц<ын>-сын. Да, где же он, в самом деле?
Ищут. Грустилов исчез.
Что же это? Ведь только сейчас он был тут…
Садова я-Голова. А может, его вовсе даже и не было?
Куриц<ын>-сын. Позвольте… что же это? Во сне все… или я спятил?
Из палат слышна барабанная дробь, все застывают, вытянув руки по швам.
Пфейферша. Кайтесь! кайтесь! Скорее! Настали последние времена!
Происшествие шестое: «последние времена»
Улица. Задний фасад острога, перед ним – полукруглая клумба с цветами. В клумбе – полицейская будка, украшенная огромным расписанием. Несколько глуповских изб. Ни живой души: пусто. Слышна барабанная дробь. Входит Барабанщик, за ним – Угрюм-Бурчеев.
Угрюм-Бурчеев (командует самому себе и сам же исполняет команду). Ра-авнение налево… шагом… аррш! Левой, правой… левой, правой… Стой! На первый-второй рас-считайсь! (Разными голосами.) Первый! Второй! Первый! Второй! Первый! Второй… Смиррнна! Ряды вздвой! (Вздваивает.) Прямо-о… шагом… аррш!
Идет на клумбу. В конце упражнений Угрюм-Бурчеева входят Курицын-сын и несколько Будочников.
Угрюм-Бурч<еев> (прет прямо на клумбу, по цветам. Вдруг взглянул под ноги – и). Стой! (Показывая Курицыну-сыну на клумбу, бесстрастно.) Зачем?
Куриц<ын>-сын. Цветы-с… Растут-с…
Угрюм-Б<урчеев>. Зачем?
Куриц<ын>-сын. Н-не… не могу знать, вашесство… Как будучи при вашем предшественнике… так сказать, наследие прошлого…
Угрюм-Б<урчеев>. Ни прошлого, ни будущего нет. Летоисчисление упразднить.
Курицын-сын. Слушшсс… вашессство!
Угрюм-Б<урчеев> (нагнувшись, командует цветам). Смирна-а! На первый-второй рассчи-тайсь! (Ждет. Потом – Курицыну-сыну.) Почему не исполняют?
Куриц<ын>-сын. Вашесство, осмелюсь доложить… они… не могут… Будучи, так сказать, природная, неразумная стихия…
Угрюм-Б<урчеев> (тупо глядит на цветы. Потом). Не могут? Истребить!
Куриц<ын>-сын и Будочники кидаются на цветы, истребляют. С разных сторон – барабанная дробь, входят три роты Глуповцев. В 1 – й роте – Смотритель просвещения, Предводитель, Доктор, Казначей, Казначейша, Пфейферша и другие; среди них – Наблюдающий за течением мыслей – с записной книжкой; во 2-й роте видны Пахомыч, Евсеич, Байбаков, Чудак, Крамольники и свой Наблюдающий с записной книжечкой. Все одеты в одинаковые серые казакины.
Угрюм-Б<урчеев> (ротам). Стой! (Подходит к расписанию на полицейской будке.) Сегодняшнее расписание… (Читает.) «6 часов – утренний звонок. От 6 1/4 до 6 1/2 – очищение зубов и других частей тела согласно инвентарному списку. От 6 1/2 до 6 3/4 – возглашение ура. От 6 3/4 до 7 принятие хлеба и дистиллированной воды. В 7 явка на занятия поротно…» Все явились?
Командир 2-й роты. Честь имею доложить: во вверенной мне 2-й роте № 13 не явился.
Угрюм-Б<урчеев>. Почему?
Командир 2-й роты (робея). Он… извините… скончался…
Угрюм-Б<урчеев>. Без разрешения? (Кури-цыну-сыну.) Арестовать его!
Куриц<ын>-сын. То есть… как?
Угрюм-Б<урчеев>. Арестовать!
Куриц<ын>-сын. Слушшсс…
Угрюм-Б<урчеев> (глядя в расписание). Занятия: 1-я рота – словесные испытания, 2-я рота – истребление гор и прочих беззаконий природы, 3-я рота – истребление несъедобных животных и птиц… 2-я рота, левое плечо вперед… шагом… арш! 3-я рота, правое плечо вперед, шагом… арш! 1 – я рота, на месте… шагом… арш!
Барабанный бой, роты расходятся, остается 1-я… шаг на месте.
Стой!
1-я рота останавливается.
Угрюм-Б<урчеев> (водит взглядом, выбирает жертву. Смотрителю просвещения.) Три шага вперед. Марш!
Смотритель выходит.
Угрюм-Б<урчеев>. Что есть наш город?
Смотр<итель> (чеканит). Наш город есть пять полков. Полк есть пять рот. Рота есть пять взводов или, иначе, домов. Во главе каждого полка, роты и взвода – командир и Наблюдающий за течением мыслей. Во главе же всего – батюшка наш господин Угрюм-Бурчеев, ура.
Угрюм-Б<урчеев>. Что есть дом?
Смотритель. Дом есть поселенная единица, имеющая своего командира и своего Наблюдающего за течением мыслей. В каждом доме находится по одному экземпляру каждого полезного животного мужского и женского пола, которыя обязаны: а) производить работы согласно расписанию и б) размножаться.
Угрюм-Б<урчеев>. Как необходимо б) размножаться?
Смотритель. б) размножаться необходимо согласно таблице размножения, соединяющей экземпляры мужского и женского пола по росту и прочим племенным качествам.
Угрюм-Б<урчеев>. Без ошибки. Без единой ошибки. Ты достоин награды. Назначаю тебя Наблюдающим… за мной.
Смотр<итель>. Как?
Угрюм-Б<урчеев>. Хотя неправильное течение моих мыслей и маловероятно, но если бы таковое возникло, ты обязан донести.
Смотр<итель>. Кому?
Угрюм-Б<урчеев>. Мне.
Смотр<итель> (трепеща). Вашессство…
Угрюм-Б<урчеев> (твердо). Мне. (Куриц<ыну-Сыну.) Выдать ему установленную записную книжку… (Выбирает новую жертву. Казначею.) Три шага вперед… аррш!
Казначей – с подгибающимися коленями – выходит.
Угрюм-Б<урчеев>. В каком городе ты живешь?
Казначей. Я… я… я… – в Глупове.
Угрюм-Б<урчеев>. Не знаешь? Забыл, что мною город переименован и называется… ну?
Казначей молчит.
Угрюм-Б<урчеев> (Смотрителю). Ты!
Смотр<итель>. Не-пре-клонск, вашесство, – в честь непреклонных качеств вашесства!
Угрюм-Б<урчеев> (Казначею). Каким ты обязан быть?
Казначей – делает за спиною знаки роте, чтобы подсказали.
Казначейша (сердитым шепотом). Иди-от! Казначей. Иди… идиотом… Угрюм-Б<урчеев>. Ты не знаешь даже того, что ты обязан быть счастливым! Я тебя научу… Арестовать его!
Тишина и всеобщий трепет. Барабанная дробь: под барабан уходит арестованный Казначей и возвращаются с работ 2-я и 3-я роты.
Угрюм-Б<урчеев> (им). 1-я, 2-я, 3-я роты, на место… шагом… аррш! Стой! Ротам – стоять вольно, оправиться! Каждый десятый получает установленный инвентарь и командируется для отправления естественных надобностей.
Уходит, за ним – Смотритель с записной книжкой и собственный его выс-тва Барабанщик. В ротах – движение. Шныряют Наблюдающие с книжками. Выходят – десятые, получают инвентарь. Во 2-й роте в числе прочих выталкивают Чудака.
Чудак (артачится). Вот чудно… А если мне, например, не хочется?
Пахомыч. Чудак! Коли велено…
Чудак. Мало бы что велено, а если я – не могу?
Пахомыч (показывая на Наблюдающего). Тише ты… иди, а то – вон он… запишет…
Чудак – вздыхает, идет. В 1-й роте в числе десятых – Садовая-Голова. Вышел, получил инвентарь, подтягивает штаны: «Эх… тесны! Посвободнее мне бы штаны-то…»
Садовиха. Маркиз… Митька! Молчи! Ну… пропал…
Наблюдающий уже около Садовой-Головы что-то записывает в книжечку. Все десятые выстраиваются и уходят. Наблюдающий шнырнул следом за Садовой-Головой.
Предв<одитель> (вытирая пот). Фф-у! Да-а…
Куриц<ын>-сын (подбегая). Господа… что же это? Что же это такое? Всякое бывало, и органчик, и расхожие девки, и горчица с лавровым листом, и вертячка, но такого – еще не было…
Пфейферша. Покайтесь! Это – последние времена!
Доктор. С научной точки – полагаю, что… (Стучит себя по лбу.)
Куриц<ын>-сын. Да это просто какой-то…
Подходит Наблюдающий.
…просто какой-то… гений! Да, Господи, именно – гений!
Казначейша. Ангел!
Предв<одитель> (уньто). Ура…
Наблюдающий (Предводителю). Вы займете в роте место бывшего маркиза Садовой-Головы.
Предв<одитель>. А-а-а… где же он?
Наблюд<ающий>. Арестован. Он требовал конституции и свободных…
Садовиха. Штанов! Свободных штанов… (Наблюдающему.) Голубчик мой… Штанов же ведь – больше ничего!
Наблюдающий. Знаем мы эти штаны! Может быть, у кого-нибудь есть сомнения? Пожалуйста, господа, – не стесняйтесь, высказывайтесь… (Держит наготове записную книжку.)
1-я рота молчит. Наблюдающий 2-й роты, что-то настрочив в книжечке, уходит. К роте подбегают вернувшиеся из командировки десятые.
Один из десятых. Братцы… Чудак-то наш… ау! 2-я рота. Как? – За что?
Один из десятых. Да сел он… все как следует. А потом: «Не могу, говорит, что хошь со мной делай – не могу». Ну, его и увели…
Пахомыч. Ну, до-ожили! Ведь это, братцы, выходит… не тово!
2-я рота. Не тово! Не тово!
Крамольник. Что? Дотакались?
Другой Крамольник. Князя хотели – получили?
Третий Крамольник. Ну, бейте нас – чего же стоите? Ну?
2-я рота молчит, почесывается. Крамольники отходят в сторону.
Крамольник. А ведь не бьют!
Другой Крамольник. Не бьют!
Третий Крам<ольник>. Похоже – пора начинать.
Крамольник. Пора… Где Байбаков? Байбаков!
Байбаков. Я тута.
Крамольник. Ну, брат, ты башковитый – придумывай.
Байбаков думает.
Да живее – а то он всех пересажает…
Байбаков. Стой! Во! Это самое! Всех! Ха-ха-ха!
Крамольники. Да что? Что ты?
Байбаков. Всех не всех, а… Ха-ха-ха!
Крамольник. Да будет ржать: говори! Ну?
Байб<аков>.Ну? Чего у нас сейчас по расписанию положено?
Крамольник. 11 часов и 1/2 – принятие жиров.
Байб<аков>. Это самое и есть.
Крам<ольник>. Да ты что: белены ему подложить хочешь?
Байб<аков>. Не-е! Он и так белены объелся – никакой беленой его не проймешь…
Крам<ольник>. Так чего же?
Байб<аков>. А вот маленько погодите – увидите… (Фыркает. Бежит к 1-й роте.) Эй! Господин Доктор! У меня в носе свербит – погляди-ка, что там…
Доктор подходит, глядит в нос Байбакову, Байбаков что-то шепчет ему на ухо. Доктор оглядывается кругом, кивает. В это время – барабанная дробь, появляется – с Барабанщиком и Смотрителем – Угрюм-Бурчеев.
Угрюм-Б<урчеев>. Смиррна-а! (Читает расписание.) «11 часов и 1/2 – принятие жиров…» Доктор – три шага вперед… аррш!
Доктор подходит с ящичком, вынимает из ящичка пузырек и с поклоном вручает его Угрюм-Бурчееву, который выпивает содержимое. Доктор с ящичком обходит роты, раздает пузырьки, все пьют. Байб<аков>, подталкивая Крамольников и показывая на Угрюм-Бурчеева, фыркает, зажимает себе рот. Угрюм-Б<урчеев> подходит к глуповским избам, смотрит на них, чертит в воздухе квадрат, размышляет.
Куриц<ын>-сын. Ну, чего, чего он там еще придумывает?.. Господи, спаси и помилуй!
Угрюм-Б<урчеев> (подойдя к расписанию, читает). «От 1 1/2 до 12 – экстренные мероприятия»…
Вдруг темнеет.
Угрюм-Б<урчеев> (Курицыну-сыну, указывая вверх.) Что это?
Куриц<ын>-сын. Со… солнце-с.
Угрюм-Б<урчеев>. Обязано светить. Почему не светит?
Куриц<ын>-сын (растерянно). Оно… извиняюсь… за тучку зашло-с…
Угрюм-Б<урчеев>. Арестовать!
Куриц<ын>-сын. То есть… к-как?
Угрюм-Б<урчеев> (твердо). Арестовать! Тучи упразднить!
Куриц<ын>-сын. Вашесство… осмелюсь доложить…
Угрюм-Б<урчеев>. Упразднить навсегда!
Куриц<ын>-сын. С-с-слушссс…
Ропот в ротах.
Угрюм-Б<урчеев> (возле расписания – всем). Смиррнаа! (Куриц<ыну>-сыну.) Войска!
Куриц<ын>-сын подает знак, быстро входят и выстраиваются Оловянные солдатики с ружьями.
Угрюм-Б<урчеев> (Солдатикам.) Стой! Смир-рна! (Пауза). Сегодня величайший день в истории города бывшего Глупова. И – последний его день. К вечеру города не будет.
В ротах – движение ужаса.
Смиррна-а! Почему избы стоят так? (Рукою – полукруг в воздухе.) Почему – улицы – так? (Тот же самый жест.) Все должно быть – так (прямая – в воздухе)…и так. (Квадрат в воздухе.) Эта будка – есть центр земли. От нее – во все стороны – по прямым – пойдут улицы, иначе – роты. Дома – будут квадраты, четыре сажени на четыре. Всюду – три окна. Перед окнами – палисадник, в коем растут – царские кудри и барская спе… спе… спесь… (Вдруг замолкает, хватается за живот.)
Байбаков, зажимая рот, фыркает.
Крамольн<ик>. Чего ты?
Байб<аков>. Действует!.. Доктор-то ведь касторки ему вкатил…
Курицын-сын, Смотр<итель> (бросаются к Угрюм-Бурчееву). Вашесство… Что с вами?
Угрюм-Б<урчеев>. Смиррна-а! (Оправившись, твердо.)…только – прямые и соединение прямых, именуемое – квадрат. Прочее – упразднить. Упра-зднить! Все избы, весь город, все – сломать! Чтобы к вечеру – ничего! Дотла! Конец! Получай инвентарь – поротно-о – шагом… арш.
Во 2-й роте волнение.
Евсеич. С нами крестная сила… Пахомыч. Братцы, что же это, а? Неужли пойдем?
Голоса. Не пойдем… Не пойдем!
Нестройный гомон.
Угрюм-Б<урчеев> (изумленно). Они… что такое? (Оловянным солдатикам.) К бою… товсь!
Олов<янные>солдатики (не двигаясь, нестройно, угрожающе мычат). М-м-м-ы-ы-ы…
Угрюм-Б<урчеев> (еще изумленней). Они… тоже? Почему? (Курицыну-сыну, показывая на Солдатиков.) Арестовать!
Куриц<ын>-сын. Вашесство… вашесство, осмелюсь доложить… Они – только так… они – сейчас… (Солдатикам.) Братцы… братцы… Честью прошу вас… Христом-Богом…
Олов<янные> солд<атики>, продолжая мычать, все же вскидывают ружья и прицеливаются в толпу, в толпе – пригибаются, втягивают головы в плечи.
Угрюм-Б<урчеев>. Получай инвентарь – поротно – бегом… арш!
Роты бегут, вооружаются топорами, снова выстраиваются.
Угрюм-Б<урчеев> (подняв топор). Я пойду – первый. Всякий, кто остановится, будет арестован. Все… шаг-ом… аррш!
Барабанная дробь. Угрюм-Б<урчеев> – за ним роты – трогаются. Вдруг Угрюм-Б<урчеев> замедляет шаг, хватаясь за живот.
Куриц<ын>-сын. Вашесство… Что – что с вами?
Угрюм-Б<урчеев>. Ни… ничего… (Твердо.) Ничего. Со мною ничего не может быть. (Ротам.) Пряма-а-а!
Еще несколько шагов – Угрюм-Б<урчеев>, скорчившись, во всю прыть бежит за угол, за ним – собственный его Барабанщик. Все останавливаются, смятение.
Евсеич. Мать Пресвятая!.. Пахомыч. Братцы… братцы…
Куриц<ын>-сын. Вперед! Вперед! Голоса. Стой! Стой!
Байбаков (умирая от хохота). Ребята… касторка-то… Действует! Доктор касторки ему…
В ротах – хохот.
Куриц<ын>-сын. Тише! Идет… Назад идет…
Барабанная дробь. Предшествуемый Барабанщиком, Угрюм-Б<урчеев> возвращается.
Смотритель (трепеща, подходит к нему с книжкой – протягивает). Ва-вашесство… Вот…
Угрюм-Б<урчеев>. Что?
Смотр<итель>. Я… я… если угодно… я – согласно приказу вашесства…
Угрюм-Б<урчеев>. Ну?
Смотр<итель>. Я… я записал… кто остановился…
Угрюм-Б<урчеев>. Кто?
Смотр<итель> (не попадая зуб на зуб). В-в-вы, в-ва-шесство…
Угрюм-Б<урчеев> (Курицыну<ыну). Арресто-вать! (Хватаясь за голову.) То есть… ко… кого? Меня?
Куриц<ын>-сын. Ва-вашесство… осме… осмелюсь…
Угрюм-Б<урчеев>. Аррестовать!
Куриц<ын>-сын, трепеща, хватает Угрюм-Бурчеева, связывает ему руки.
Все оцепенели.
Крамольник. Ребята – да связан же он, связан, готов!
Байбаков (хохочет). Ой… ха-ха-ха! Сам себя… Ха-ха-ха!
Крамольник. Ребята… в речку его! Конец ему – конец князьям! Воля!
Глуповцы – все еще не верят, стоят молча. Куриц<ын>-сын и другие чиновные удирают во все лопатки.
Крамольник. Да глядите же, глядите! Воля – говорю вам! Ура-а!
Народ. Ура-а! Ура-а! Во-оля! Во-оля!
Обнимаются, шапки летят вверх.
Крамольник. Байбакова… Байбакова качай!
Народ. Ура-а! Ура-а! Воля-а! Ура-а! Ура, Байбаков!
Качают Байбакова. Другие – тащат куда-то онемевшего Угрюм-Бурчеева, третьи ломают острог.
Рождение Ивана*
Пьеса в 7 картинах
Пьеса эта – типа «пьес-биографий» с большими временными промежутками между отдельными картинами. Она показывает судьбу самого обычного, среднего русского крестьянина «Ивана», каких – тысячи. В пьесе – в большом объеме использован материал русских народных обрядов и песен.
Картина первая
Крестьянская изба. Несколько женщин топят печь, греют воду. Слышны стоны матери Ивана: у нее только что родился младенец. Бабка-повитуха, она же знахарка, поднимает младенца, показывает его: это – мальчик, Иван. Обряды, сопровождающие рождение младенца. Родильница истекает кровью. Знахарка «заговаривает кровь» и выходит из избы. Мать, чувствуя, что близок ее конец, просит дать ей младенца, чтобы хоть раз почувствовать, как он сосет ее грудь. Когда возвращается знахарка, она видит, что женщина уже умерла, и младенец сосет грудь у мертвой. Знахарка – в ужасе: плохая примета, если младенец «мертвое молоко» сосал.
– Ну, если так – похоже, что все мы на Руси мертвое молоко сосем, – возражает отец Ивана.
Он остается один с мертвой и с младенцем, берет его на руки и с горечью спрашивает:
– Какая же у тебя, Иван, жизнь будет, а?
Картина вторая
В той же избе. Отец Ивана строгает доски для гроба: ему пришлось украсть для этого дерево в помещичьем лесу. Входят соседки, знахарка, начинаются похоронные обряды и причитания. Обряды прерываются появлением помещичьего приказчика, которому донесли, что отец Ивана украл дерево. Он находит в подпечье свежие доски – улика налицо, берет доску с собой. Отец Ивана в ярости бросается за ним следом. Одна из соседок вбегает и рассказывает, что отец Ивана избил приказчика, его арестовали. Ивана берет к себе одна из сердобольных соседок.
Картина третья
Лето, вечер. Возле избы знахарки сидят, ждут ее бабы. Передают друг другу какие-то темные, тревожные слухи: говорят, зимою в Питере царь из пушек в народ стрелял; говорят, какой-то «конный» по деревням ездит с приказом – господ уничтожать… Что будет – неизвестно.
Входит мать Марьи: в ее избе рос Иван, они вместе с Марьей играли; теперь оба выросли – пошла у них другая игра, а Марьин отец, богатый лавочник, ни за что не хочет выдать дочь замуж за Ивана, бедняка. Мать Марьи просит поэтому знахарку «нашептать ей воду против любовной присухи». Знахарка приглашает женщину войти в избу.
Эта сцена идет под хороводное пение вдали. Вбегают Иван и Марья – любовная сцена между ними. Через открытое окно слышно, как знахарка читает «заговор против любви», а Иван и Марья слушают, хохочут и целуются. Появляются другие девки и парни, начинаются хороводные игры – выбор невесты, Иван выбирает Марью.
Вдруг доносится набат, видно зарево. Оказывается, подожгли помещичий дом и больше того – убили приказчика, сюда скачут казаки…
Появляется несколько казаков и с ними урядник. Вызывают Ивана и спрашивают его, где его отец – это он убил приказчика, все знают – с приказчиком у него давно были нелады. Иван отвечает очень дерзко, его забирают и увозят в город – в тюрьму. Отец Марьи злорадствует, но Марья кричит вслед Ивану, что все равно она замуж ни за кого не выйдет, будет его ждать – хоть три года, хоть пять лет…
Зарево – все сильнее, набат все громче…
Картина четвертая
Через несколько лет Иван вернулся из административной высылки, и сегодня должна, наконец, состояться его свадьба с Марьей. Подруги одевают Марью к венцу, торопятся, чтобы успеть до дождя: уже вдали гремит гром. Свадебные обряды и песни, больше все – печальные, но Марья – весела. Знахарка ворчит: Марья выходит замуж против воли отца, в ее время так не делали.
– Ну и что ж – счастливей были? – спрашивает Марья.
– Конечно, счастливей, – ворчит старуха. – Вот я замуж за вдовца шла, ревмя ревела…
Марья хохочет, старуха кончает:
– А потом ничего, привыкла…
Стук в дверь, голос Ивана. Его не пускают: жениху тут не полагается быть. Но он настаивает. Входит, бледный: беда – объявили войну с немцами, завтра мобилизация. После свадьбы – ему пробыть только одну ночь дома, а потом – идти на войну.
Свадебные обряды прерваны. Все молчат. Льет за окном дождь.
Картина пятая
Сельская площадь перед «волостным правлением». Телеги; на одной сидит женщина с ребенком, на другой – слепая старуха. Официально продажа водки запрещена, но лавочник – Марьин отец – продает водку тайком. Слышны полупьяные, отчаянные песни мобилизованных, звуки гармошки. Появляются Иван и Марья, повенчанные вчера. Иван допивает до дна бутылку и разбивает ее об земь:
– Эх, так бы вот разбил сейчас все, как эту бутылку!
Другой молодой солдат, муж женщины с ребенком, держится героем. Женщина сует ему ребенка, он взглянул – и вдруг все геройство слетело с него, он уткнулся в колени жены и плачет, как ребенок… Возле слепой старухи на телеге – ее внук, тоже солдат. Слепая просит его:
– Миша, дай мне личико твое, я хоть руками его запомню – на случай, если… – кончить она не может.
Вваливается с песнями, с гармошкой вся толпа мобилизованных. На крыльце «волостного правления» – лавочник, отец Марьи. Он произносит сумбурную патриотическую речь и ставит солдатам ведро водки, солдаты кричат: «Ура!» Иван бросается на крыльцо, отталкивает лавочника и кричит:
– Это вы за него кровь идете проливать, а он вам за кровь – водку, а вы ему – ура? Дурачье! – ударом ноги опрокидывает ведро.
Все смешивается: шум, крик, звуки гармошки, причитания, баб, мелькают в свалке кулаки, слышен крик слепой старухи:
– Миша-а! Миша-а!
Картина шестая
Блиндаж, там – солдаты, Иван. Скучная окопная жизнь. Немцы – совсем где-то близко, прислушаться – слышны их голоса. Говорят, они подводят мину, того и гляди взорвут – разыскивай потом: голова – костромская, кишки – новгородские… Разговоры о земле, слухи об измене царя, о Распутине. Солдат с Георгиевским крестом – за войну до победы; Иван – спорит. Выстрел наверху – все насторожились. Нет: опять тихо.
От скуки солдаты играют «в муху»: пьют чай и ждут, к кому первому попадет муха в чай – тот выиграл. Хохот. Вдруг наверху – частые выстрелы, крик: «Немцы!» Схватив винтовки, все бегут наверх. Некоторое время блиндаж пуст, доносятся только взрывы ручных гранат, крики сверху.
Потом солдаты возвращаются, ведут пленного раненого немца, кладут его на шинель. Его проткнул штыком Иван, как это вышло – он и сам теперь не может понять. Раненый немец хочет что-то объяснить нагнувшемуся над ним Ивану, протягивает ему фотографию, бормочет: «Ма-риа, Мариа…» Иван видит на фотографии женщину с ребенком, он понял: у немца – осталась жена Мария, Марья – как у него самого! Они – одинаковые, они – люди, а он его – штыком!
Немец бормочет: «Камарадэ, камарадэ…», берет Ивана за руку.
– Это он тебя называет «товарищ», – поясняет один из солдат.
Рука немца слабеет, выпадает из руки Ивана: он – умер. Иван еще минуту сидит молча, потом вскакивает, кричит:
– Не хочу больше! – и, захватив винтовку, идет.
Его спрашивают:
– Куда ты?
– Домой! – отвечает он.
Большая часть уходит за ним, оставшиеся покрывают немца шинелью, молчат угрюмо.
Дверь блиндажа остается открытой. Падает ракета, освещает все красным светом.
Картина седьмая
Обросший щетиной, дикий – Иван в своей избе, дома. Всего только два дня, как он вернулся и скрывается здесь. Марья сообщает, что ее отец как-то узнал об этом, по злобе на Ивана он может донести на него – лучше Ивану уйти. Иван отказывается: он не в силах больше вести волчью жизнь дезертира.
Стук в дверь. Марья прячет Ивана за занавеску. Входит сотский, говорит, что приехали из города какие-то солдаты, требуют Ивана в волостное. Какие солдаты, зачем требуют – он не знает: его дело – передать приказ, а не придет Иван – они сами сюда придут.
Марья умоляет Ивана уйти в лес: пусть только поест щей, она нарочно для него варила. Иван мрачно укладывает свою котомку, вытаскивает винтовку, принесенную с фронта.
Опять стук в дверь, грубые голоса: «Открывай живее!»
Марья в отчаянии: она сама погубила мужа – ей непременно хотелось накормить его последний раз… Она вталкивает его за занавеску, он берет с собой винтовку и говорит, что живым все равно не дастся.
Входят два солдата. Марья сначала пытается отрицать, что Иван здесь, но один из солдат уже увидел котомку Ивана. Тогда Марья говорит, что он ушел. Но на столе – горячие щи: значит, хозяин скоро вернется… А хорошо пахнут щи! Дрожа от страха, Марья угощает солдат щами. Один, поевши, развалился на лавке, потянул случайно занавеску, она оборвалась, увидали прижавшегося, как зверь, в углу Ивана с винтовкой.
Секундная пауза. Схватив винтовку, Иван бросается к двери. Короткая схватка, он обезоружен. Он кричит солдатам:
– Эх вы, мужики, – за своим же братом, мужиком, охотитесь! Ну, что ж: ведите меня, расстреливайте!
Солдаты хохочут, Иван им:
– Еще смеетесь… сволочи! Постыдились бы: поглядите – баба от слез надрывается, а вы – смеетесь!
Солдаты хохочут еще пуще и наконец объясняют Ивану, что пришли они вовсе не за тем, чтобы его расстреливать: он ничего и не знает, а в городе – революция, царя уж нет, и мужики Ивана в комитет выбрали.
– Значит… никуда мне идти не надо? – радостно говорит Иван.
– В комитет иди!
– Значит… войне – конец? – спрашивает Иван, все еще не веря.
Но уже изба наполняется, приходят еще мужики, и большую часть их – тоже зовут Иванами. Идет перекличка Иванов, их все больше, они – новые, торжественные, они – народ, они – власть…
Приложение
Житие Блохи*
Предисловие
«Житие Блохи» – шуточный рассказ, написанный для вечера пародий, который был устроен в начале декабря 1926 года – вскоре после первого представления «Блохи» в Ленинградском Большом Драматическом Театре. Автор декораций и костюмов для московской и ленинградской постановок «Блохи», Б. М. Кустодиев, набросал несколько рисунков к рассказу. Работа эта не была доведена до конца – рисунков было задумано больше, они должны были иллюстрировать все главные происшествия «Жития Блохи». Иллюстрации (как и текст «Жития») предназначались только для небольшого круга друзей; рисунки сделаны были шутя, играючи – но может быть именно потому они вышли такими выразительными, легкими, остроумными. Это была одна из последних графических работ покойного Б. М. Кустодиева – и одна из лучших его работ в области графики. Именно это и побудило опубликовать рисунки, вместе с текстом рассказа, в настоящем издании.
Текст рассказа сплетен из намеков на целый ряд лиц и обстоятельств, связанных с московской и ленинградской постановками «Блохи». В примечаниях даны комментарии, раскрывающие для читателя все эти намеки.
Житие блохи
Возлюбленные братья! Эта краткая повесть о неких необычайных происшествиях написана в назидание вам, дабы вы знали, что враг рода человеческого не дремлет и что для вящего соблазна он охотно принимает прелестный женский вид.
Вратами, чрез которые в эту повесть входит диавольское наваждение, был инок Замутий1. Инок Замутий долгие годы известен был своими благочестивыми писаниями и праведной жизнью. Говорили даже, что по молитвам его бывали исцеления – особенно от неплодия. И, может быть, жизнь инока Замутия – кончилась бы прославлением его мощей, если бы не вмешался диавол.
В весенние дни, когда все набухает соками и растет неудержимо, в том фигийском2 городе, где жил Замутий, появился некий буйный и дикий человек. Имени его никто не знал, и когда он шел по улицам, овевая всех жарким винным благоуханием, все сторонились поспешно, говоря: «Дикий! Дикий! Смотрите – вот он!» А Дикий3, подобно кораблю покачиваясь гордо на невидимых волнах, шел в келью инока Замутия. И все думали, что он шел туда как в тихую обитель, чтобы омыть душу покаянием, но, увы, вскоре обнаружилась иная – и горькая – истина…
Инок Замутий, дотоле вида иссохшего – как и подобает праведнику, вдруг начал день ото дня все приметнее пухнуть. Иноки и старцы фигийские собирались на площади перед его кельей и непрестанно служили молебны о здравии Замутия, полагая, что он заболел тяжкой щеголевой болезнью. Жены, исцеленные Замутием от неплодия, рыданием заглушали молитвенное пение.
Так прошло три недели. И ровно на двадцать первый день, когда солнце вечерней кровью оросило небо, из кельи инока Замутия послышались раздирающие крики, и они становились все неистовей и сопровождались народными фигийскими словами, так что женщины, зажав уши, разбежались. Старцы же, осенив себя крестным знамением, со страхом вошли в келью Замутия. И здесь увидели его истекающим кровью на ложе, а в руках у него нечто, окрашенное его кровью, размером не более вершка. Когда один из старцев нагнулся, чтобы взять от Замутия это нечто, оно прыгнуло к нагнувшемуся за пазуху и, найдя самое нежное место, укусило его. Старец крикнул: «блоха!» и, дрожащими руками схватив это нечто, укусившее его, поднес к светильнику. И тогда он и все кругом увидали, что это было существо преимущественно женского пола, с растением черных волос всюду, где надлежит, и с острыми, наподобие мышиных, зубами. «Что это? Откуда?» – в страхе спросил старец. – Отсюда, – ответил Замутий, указав на свое опустевшее чрево. Поняли старцы, что в келье этой явлено чудо от диавола, и, напинаясь друг на друга, ринулись вон.
Так, вопреки законам естества, произошло от инока Замутия то исчадие, и со слов старца все называли это порождение Блохой. Иные сведущие люди говорили, что раз слоновый приплод во чреве, как известно, пребывает три года, то Блохе так и надлежало родиться через три недели. Но и росла Блоха с той же неестественной быстротой. Так что когда, по истечении еще нескольких недель, любопытные фигийские граждане осмелились подойти к келье Замутия, то в окно они увидели прелестную чернявую девицу, уже созревшую как некий чудесный плод. Девица эта, подмигнув одному из граждан, сказала сладко: «Пойдем обожаться»4. Почтенный тот гражданин, всю жизнь служивший Кустодией5 при храме, забыв все, бросился в келью Замутия – и там обожался. А Замутий, высунувшись в окошко, вместо обычного благословения, осенил ужаснувшихся граждан знамением фиги. И еще более они ужаснулись, когда вечером, придя в храм, они нашли его темным и запертым, и не было, как всегда, при дверях Кус-тодии: соблазненный Блохою, этот муж остался возле нее в келье Замутия.
С того дня – как фиговый листок отпало от Замутия и от Кустодии прежнее их благочестие, и они предались винопитию и распутству, вовлекая в грех многих фигийских граждан. А когда черную, как их грехи, землю покрыл снег, то узнали о них фигийские граждане и еще нечто худшее: инок Замутий и с ним Кустодия, уехавши в город МХАТов,6 там торгуют красотою Блохи. И граждане там стекаются на позорище и гоготанием тешат диавола, а когда, улыбаясь, Блоха призывает их обожаться, они с неистовством обнимают женщин – и размножаются с такой быстротой, что им уже негде жить: у них заселены людьми не только дома, но и шкафы, сундуки, умывальники, подоконники. Фигийские граждане только радовались и благодарили бога, что Замутий и все происходящее от него зло – далеко от них. Но радость их была преждевременна.
Среди фигийских граждан издавна жил род неких Аков.7 Аки известны были своим долголетием: иным из них было до 200 лет. Те же из них, кому было менее 100 или 50, или даже 20, – из почтения были как бы тоже двухсотлетними. И вот однажды узнали изумленные фигийцы, что этим почтенным Акам бывший инок Замутий продал Блоху8.
Войдя в дом Аков, Блоха, улыбаясь, сказала: «Ну, здрасте, что ли!»9, но Аки молчали. Тогда Блоха, соблазнительно шевельнув естеством, сказала: «Пойдем обожаться!» – и ждала, не восстанут ли уснувшие двухсотлетние страсти. Старцы Аков, дрожа от нетерпения, бросились к Блохе, и гладили, и обнимали ее, но увы: уже не было у них надлежащей крепости и силы. И старший из них сказал Блохе: «Excusez»10 – и они все отошли от нее, и совещались долго. И на совете, дабы отмстить ей за посрамление, решили заключить ее в страшную Аковскую темницу. Там, закованная в цепи, без пищи пробыла она год11, пока не проржавели цепи. Тогда Блоха, ухищрениями диавола пройдя сквозь стены, пробежала по улицам города и бросилась в бурные воды Фонтанки, чтобы там покончить свою греховную и полную соблазна жизнь.
Но Бог, видимо, не хотел еще смерти юной и прекрасной грешницы. На берегу этих вод стояла обитель неких Монахов12, и один из Монахов, услышав крики тонувшей Блохи, с опасностью для жизни спас ее из бурных вод. Прижав к груди ее обвитое влажной тканью и почти нагое тело, один из Монахов принес ее в обитель. И этого краткого объятия довольно было, чтобы ее диавольская сила соблазнила его и прочих живших в этой обители. И снова, как в стране МХАТов, в этой обители по ночам сияли огни, граждане стекались туда отовсюду и предавались неистовому диавольскому веселью.
Так шло, пока не явился некий известный своим умом гражданин, знавший и жизнь и искусство, но помимо жизни и искусства, к несчастью, знавший также многие науки13. Увидев Блоху, он спросил: «Почему она говорит о многом, но не говорит об астрономии? Разве я ошибаюсь, утверждая, что астрономия необходима?» И Монахи, устыженные, молчали. Известный умом гражданин продолжал: «Почему она не говорит о медицине? Разве я не прав, говоря, что медицина нужна?» И снова Монахи молчали. И гражданин сказал: «А почему не говорит она о земледелии? Неужели будете вы отрицать, что земледелие полезно?» Монахи молчали. Гражданин же сказал: «Отдайте мне Блоху. Я должен научить ее проповедывать все науки».
И со скорбью Монахи отдали ему Блоху. Всю ночь ждали они у врат своей обители. Когда солнце утренней кровью оросило небо, вышел тот гражданин и сказал: «Готово. Я научил». Монахи вошли внутрь и увидели: Блоха лежала мертвой.
Так благочестие и разум победили диавольский соблазн. Так кончилось многогрешное и обильное приключениями житие Блохи.
1 «Инок Замутий» – Евг. Замятин, автор «Блохи». В шуточном литературном обществе «Обезьянья Палата» (общество учреждено было писателем А. М. Ремизовым) Евг. Замятин имел титул «Замутия, епископа Обезьянского». Первый из серии рисунков представляет собою его пародийный портрет.
2 Зимою 1926–1927 года в Ленинграде, при Доме Искусств, существовала «Физио-Геоцентрическая Ассоциация» – или сокращенно: ФИГА. Ассоциация устроила несколько вечеров пародий (в том числе вечер, посвященный «Блохе»).
3 Имеется в виду А. Д. Дикий, режиссер МХАТа 2-го. Верною 1924 года МХАТ 2-й приезжал на гастроли в Ленинград. Режиссеру А. Д. Дикому принадлежит мысль сделать пьесу на тему рассказа Н. С. Лескова «Левша» – мысль, осуществленная Евг. Замятиным в «Блохе». Третий рисунок дает пародийный портрет А. Д. Дикого в роли Платова из «Блохи».
4 Цитата из 2-го акта «Блохи».
5 «Кустодия» – Б. М. Кустодиев. Город МХАТов – Москва.
7 «Аки» – довольно распространенное сокращение вместо «Академические театры» (имеются в виду Ак. театры в Ленинграде).
8 «Блоха», поставленная в Ленинграде Большим Драматическим Театром, была сначала отдана для постановки в Ленинградский театр Акдрамы – б. Александрийский.
9 Цитата из 1-го акта «Блохи».
10 Намек на И. В. Экскузовича, бывшего директора Академических театров.
11 Принятая к постановке бывш. Александрийским Театром, «Блоха» пролежала там около года, после чего была взята автором и передана в Большой Драматический Театр.
12 Имеется в виду Большой Драматический Театр, одним из руководителей которого является известный артист Н. Ф. Монахов. Театр – на набережной Фонтанки. Рисунок на стр. 554-й дает пародийный портрет Н. Ф. Монахова.
13 Намек на рецензию о «Блохе» Гр. Авлова в журнале «Жизнь Искусства». Автор рецензии указывал на «легковесность содержания» «Блохи» и неудачно пытался связать «Блоху» с вопросами индустриализации страны.
Комментарии
В настоящий том включены произведения в жанре литературного портрета и воспоминаний, которые главным образом составили посмертный сборник Замятина «Лица», выпущенный нью-йоркским «Издательством им. Чехова» в 1955 году.
В небольшом издательском предисловии сообщалось, что Замятин еще до отъезда из Советского Союза собирался выпустить сборник статей, посвященных встречам с писателями, художниками или же написанными на общие литературные темы. К этому сборнику, добавляли издатели, Замятин даже написал небольшое предисловие. Так что получалось, что якобы издательство реализовало замысел писателя. Однако тогда непонятно, почему это предисловие оказалось в середине текста книги «Лица». Ни один из исследователей не приводит доказательств того, что маленькая заметка «Для сборника о книге» была написана в качестве предисловия именно для сборника «Лица». Нью-йоркский сборник включал в себя главным образом работы, написанные на Родине и опубликованные вскоре после написания, и некоторые воспоминания, опубликованные уже за рубежом. Кроме того, здесь приводится не публиковавшееся ранее письмо Сталину (оно вошло в состав второго тома настоящего Собрания сочинений).
Издатели были уверены, что «„Лица“ Замятина делают понятным, почему он больше известен эмигрантским, чем советским читателям. Замятин, один из зачинателей советского периода русской литературы, стал одним из первых борцов за свободу и независимость творчества» (Замятин Евг. Лица. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 11).
В настоящем томе, сохраняя общую структуру, предложенную нью-йоркским издательством, составители дополнили раздел «Лица» работами Замятина, близкими по содержанию, но не включенными в издание 1955 года.
В состав тома также входят произведения писателя, созданные для театра, некоторые из них в России публикуются впервые.
Автобиография*
Впервые: Странник. 1991. № 1. С. 12–14. (Публикация А. Ю. Галушкина). Печатается по данному изданию.
Фрагмент ранее публиковался в журнале «В мире книг», 1988, № 9.
Рукопись хранится в ИМЛИ (Ф.74. Оп. 2. Ед. хр. 4).
Автобиография была написана в апреле-мае 1931 года для «Словаря драматургов» (составитель А. С. Балагин), который предполагало выпустить издательство «Федерация». Однако словарь издан не был. Направленностью издания объясняется и содержание автобиографии, основное внимание в которой уделено драматургической деятельности автора.
…с латинскими и греческими «экстэмпорале». – «Экстэмпорале» – классная работа без подготовки.
«Моей almae matri»… – Almae mater (лат.) – букв, «кормящая мать»; у римских поэтов название богинь, покровительствующих людям (Цереры и др.); в переносном смысле – университет и вообще высшее учебное заведение (снабжающее духовной пищей).
П. Е. Щеголев – Щеголев Павел Елисеевич (18771931) – историк, литературовед; автор известной работы «Дуэль и смерть Пушкина»; в 1899 г. дважды подвергался аресту за революционную деятельность (в ссылке находился вместе с А. М. Ремизовым).
…знаменитым капитаном Красной гвардии – Коком. – Кок (Кокк) Йохан (1861–1915) – активный участник революции 1905–1907 гг. в Финляндии, начальник созданной финскими рабочими Красной гвардии. После окончания рижского военного училища служил офицером в Выборге, в 1896 г. вышел в отставку в чине капитана. Во время всеобщей октябрьской забастовки Красная гвардия под руководством Кока удерживала власть в Хельсинки в течение недели, Таммерфорсе и других городах. После подавления Свеаборгского восстания 1906 г. Кок эмигрировал.
Отправил его в «Образование», которое редактировал Острогорский; беллетристикой ведал Арцыбашев. – В журнале «Образование» был опубликован рассказ Замятина «Один» (1908, № И). Острогорский Александр Яковлевич (18681908) – педагог, редактор журнала «Образование». Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) – прозаик, драматург, публицист; автор нашумевшего романа «Санин» (1907); редактор альманаха «Грядущий день», лит. сборников «Земля» и др.
После «Уездного» – сближение с группой «Заветов», Ремизовым, Пришвиным, Ивановым-Разумником. – В журнале «Заветы» были опубликованы повести Замятина: «Уездное» (1913), «На куличках» (1914) и некоторые другие произведения.
Иванов-Разумник (наст, имя и фам.: Разумник Васильевич Иванов; 1878–1946) – критик, публицист, историк литературы и общественной мысли, мемуарист.
Я писал «Островитян». – Эта повесть Замятина опубликована в 1918 г.
Всяческие всемирные затеи: издать всех классиков всех времен и народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. – Имеются в виду издательство «Всемирная литература», основанное М. Горьким в 1918 г., Союз деятелей художественной литературы (1918–1919) и Секция исторических картин при Петроградском театральном отделе Наркомпроса, созданная по инициативе Горького.
…курс техники художественной прозы в студии Дома искусств… – Дом искусств – Петроградская организация работников искусств (1919–1923) и здание, где находилась эта организация и жили многие литераторы, актеры, художники. Дому искусств посвящен роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль» (1931).
«Серапионовы братья» – литературная группа, образовавшаяся в литературной студии Дома искусств (Л. Лунц, М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин, Н. Тихонов и др.), признанным руководителем которой считался Замятин.
…работа в Правлении Всероссийского Союза писателей, в Комитете Дома литераторов… – Всероссийский союз писателей (1920–1932), Дом литераторов (1918–1922) – объединения писателей.
…Редактирование журналов «Дом искусств», «Современный Запад», «Русский Современник». – Журналы «Дом искусств», «Современный Запад» и «Русский Современник» выходили в 1921–1924 гг. под редакцией Замятина.
В эти годы – роман <Мы>… – Роман «Мы» был закончен во второй половине 1921 г.
…пьеса Чапыгина об удельно-вечевой эпохе. – Речь идет о пьесе А. П. Чапыгина «Гориславич».
…Блок дал «Рамзеса», Гумилев – пьесу об изобретении огня. – И. Гумилев написал пьесу «Охота на носорога».
…условность была подчеркнута «раскрытием приема»… – Имеется в виду принцип «обнажение приема» (термин теоретиков формальной школы в литературоведении).
…А. Коутс будет дирижировать… – Коутс А. (1882–1953) – английский дирижер; несколько лет работал в России, впоследствии неоднократно гастролировал в СССР.
…«Блоха»… переделана для американской сцены… – «Блоха» в США так и не была поставлена.
…четвертая у меня пьеса – «Атилла»… – Такое авторское написание этого имени сохраняется во всех изданиях пьесы и романа «Бич Божий».
…чередование прозы сvers litre… – Vers libre – свободный стих (фр.), верлибр.
С …пьеса… до зрителя не дошла. – После включения в репертуар и начала репетиций в мае 1928 г. решением областного реперткома пьеса была запрещена как «недостаточно идеологически выдержанная».
…заказ театра Мейерхольда… – Работа над пьесой шла в 1927 году.
…пьеса «Сенсация»… – Пьеса, написанная Б. Хектом и Ч. Макартуром, была переведена на русский язык 3. А. Венгеровой.
…этот сатирический фарс из советской жизни… – Пьеса была впервые опубликована в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1963. № 73).
Воспоминания о Блоке*
Впервые: Путь. Гельсингфорс, 1921. 4 дек. (Под заглавием: Воспоминания о Блоке: Письмо из Петрограда).
Лица. С. 13–28, под заглавием «Александр Блок».
Печатается по: Русский современник. 1924. № 3. С. 187–194.
Смешные в снаряде затеи: «Всемирная Литература», Союз Деятелей Художественного Слова, Союз Писателей, Театр… – Союз Деятелей Художественного Слова – имеется в виду Профессиональный Союз Деятелей Художественной Литературы, существовавший в Петрограде в 1913–1919 гг. Союз Писателей – имеется в виду Всероссийский Союз Писателей, организованный в 1918 г. (с 1929 по 1932 г. – Всероссийский Союз Советских Писателей). Театр – имеется в виду Большой Драматический театр, в организации которого в Петрограде в 1919 г. Блок принимал непосредственное участие, а 27 апреля был назначен председателем Управления БДТ.
…рядом Горький и Мережковский, Блок и Куприн, Муйжель и Гумилев, Чуковский и Волынский. – Замятин упоминает многочисленные литературные организации, возникшие в послеоктябрьский период, и называет несколько имен писателей, которые в той или иной мере состояли и работали в этих организациях. Муйжель Виктор Васильевич (1880–1924), автор многочисленных произведений из крестьянской жизни; в описываемое время – председатель Профессионального Союза Деятелей Художественной Литературы. Волынский Аким Львович (наст, имя и фам. Хаим Лейбович Флексер; 18611926) – критик, историк и теоретик искусства; в описываемое время – руководитель одной из секций издательства «Всемирная литература».
…Слышен каждый слог: «Николай Степанович!» – «Федор Дмитриевич!» – «Алексей Максимович!» – Имеются в виду Гумилев; Батюшков Федор Дмитриевич (1857–1920), филолог, критик, переводчик, член Коллегии «Всемирной литературы»; и Горький – руководитель издательства.
Горький был тогда влюблен в Блока… – В письме А. Тихонову 23 октября 1924 г. Горький возражал против подобной оценки своего отношения к Блоку: «Хотя я и считаю Блока очень интересным человеком и многому удивлялся в нем, но любить его не мог. Это совершенно ясно» (цит. по: Горьковские чтения. 1953–1957. М., 1959. С. 49).
…заседание на частной квартире. Горький, Батюшков, Браун, Гумилев, Ремизов. Гизетти, Ольденбург, Чуковский, Волынский, Иванов-Разумник, Левинсон, Тихонов… – Браун Федор (Фридрих) Александрович (1862–1942) – филолог-германист; в 1905–1920 гг. декан и профессор историко-филологического факультета Петербургского университета; член Коллегии «Всемирной литературы». В 1920-м командирован в Германию. Остался за границей; с 1926-го – иностранный член Шведской АН; с 1927-го – член-корр. АН СССР. Умер в Лейпциге. Гизетти Александр Алексеевич (1888–1938) – критик, публицист, социолог; расстрелян. Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) – востоковед-индолог; академик с 1901 г. Левинсон Андрей Яковлевич (1873–1933) – литературный, театральный и художественный критик, искусствовед, историк балета, журналист, переводчик, мемуарист; с конца 1918 г. член редколлегии издательства «Всемирная литература». Приват-доцент французского языка и литературы Петроградского университета. С 1920-го профессор истории нового балета в Петроградском Институте истории искусств. В конце апреля 1921 г. командирован в Берлин. Вскоре поселился в Париже, преподавал на русском отделении Сорбонны. Умер в Париже. Тихонов (псевд. А. Серебров) Александр Николаевич (18801956) – писатель, издательский деятель.
Доклад Блока о кризисе гуманизма. – Имеется в виду доклад «Крушение гуманизма», с которым Блок выступил 9 апреля 1919 г. в издательстве «Всемирная литература», в докладе еще сохраняется романтическое восприятие революции, хотя он и проникнут трагическим духом.
Работал он над Гейне… – Блок редактировал переводы произведений Гейне, выполненные для издательства Вильгельмом Зоргенфреем.
Составилась редакция: Блок, Горький, Куприн, Шишков, Слезкин, Муйжель, Мережковский, Чуковский и я. – Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945) – писатель, автор эпопеи «Угрюм-река» и исторического романа «Емельян Пугачев». Слезкин Юрий Львович (1885–1947) – прозаик, драматург; перед революцией шумным успехом пользовался его роман «Ольга Орг», после революции написал несколько блестящих произведений («Шахматный ход», «Столовая гора», «Разными глазами», трилогия «Отречение»).
Решили устроить журнал. Он должен был. называться «Завтра». – Замысел остался неосуществленным. Но статья-манифест была Замятиным написана.
Образовалась Секция исторических картин… Придумал это Гэрький… из других – Щуко и Лаврентьев. – Лаврентьев Андрей Николаевич (1885–1935) – артист и режиссер петроградского Большого Драматического театра.
И сценарий куда-то был спрятан Блоком. – Сохранился «План представления» из истории Франции XII в., составленный Блоком весной 1919 г.
Делали какие-то замечания о «Рамзесе», Блок отшучивался:
– Да ведь это я только переложил Масперо. – Имеется в виду французский историк, египтолог Гастон Масперо (1846–1916), сделавший массу открытий на раскопках в Египте. Его главные книги были переведены на русский язык: «Древняя история народов Востока» (М., 1911. 2-е изд.) и «Египет» (М., 1915).
Мне пришлось тогда вместе с ним работать над текстом и постановкой «Лира» в Большом Драматическом театре. – В мае-сентябре 1920 г. Блок и Замятин редактировали перевод А. Дружинина, и 21 сентября состоялась премьера «Короля Лира» на сцене БДТ.
Он усмехнулся. – Далее в рукописи идут слова Блока: «Я не очень польщен».
…он только что прочитал заграничную «Русскую мысль» Струве… – Имеется в виду Петр Бернгардович Струве (18701944), экономист, философ, историк, публицист, литературный критик, полит, деятель, эмигрант с 1920 г. В 1921-м он возобновляет издание журнала «Русская мысль» (1880–1918), редактором которого был последние годы в России. Журнал издавался в Софии, Праге, Берлине, последний номер вышел в Париже в 1927 г. Здесь, очевидно, имеется в виду первый зарубежный номер журнала (в разделе критики в нем напечатана статья П. Струве о поэме Блока «Двенадцать»), В «Обращении к старым и новым читателям», которым открывался журнал, указывались его задачи: «Осознать, осмыслить обрушившиеся на нашу страну несчастья и катастрофы», понять революцию «как великую стихию». Определить пути «воскресения России – задача русской мысли и нашего журнала», заявляла редакция. Разумеется, Блок был во многом справедлив в своей оценке деятельности эмигрантских публицистов.
И написал об этом очень резкую статью для не вышедшей «Литературной газеты»… – Впоследствии статья была напечатана под заглавием «Отрывок статьи об эмигрантской печати».
Это было в апреле 1921 года – перед последней его поездкой в Москву. – Последний раз в Москве Блок был со 2 по 11 мая 1921 г.
Последний его печальный триумф… в белую апрельскую ночь. – Вечер прошел 25 апреля 1921 г. в БДТ.
…Москва – ему чужая, и он Москве – чужой. – В статье «Умер Александр Блок», опубликованной 10 августа 1921 г., Маяковский писал: «Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, – дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла».
Телефонный звонок – «Алконост» (Алянский): скончался Александр Александрович. – Самуил Миронович Алянский (1891–1974) – основатель издательства «Алконост» (1918–1923). (Замятин был членом правления этого издательства.) Алянский написал книгу «Встречи с Александром Блоком» (М., 1972).
Белая любовь*
Впервые: Современная литература. Л., 1925. С. 76–81. Лица. С. 29–37, под заглавием «Федор Сологуб». Печатается по первой публикации.
В основе статьи – речь Замятина на юбилее Ф. Сологуба.
Рукопись под заглавием «Morbus rassica» («Болезнь русская» – лат.), написанная к 40-летию литературной деятельности Сологуба, датирована январем 1924 г. (ИМЛИ. Ф. 47. 1. 188). Празднование юбилея намечалось провести 28 января, но из-за траура, вызванного смертью Ленина, было перенесено на 11 февраля. Торжественный вечер состоялся в бывш. Александрийском театре, где выступили Аким Волынский, Анна Ахматова, литературовед Борис Эйхенбаум (1886–1959), Замятин и другие. Вечер был организован общественными организациями, на что обратил особое внимание Замятин в своем письме к Максимилиану Волошину 20 февраля 1924 г.: «Отпраздновали недавно юбилей Сологуба – очень помпезно, в Александринке. Отчасти это было – назло надменному соседу – Брюсову. Устраивали только общественные организации: Союз писателей, Вольфила, Институт истории искусств, Институт живого слова и др. Казна никакого участия не принимала – ни единым словом» (Волошин М. Избранное. Минск, 1993. С. 412 – в книге дается неточная датировка письма – 20 ноября). (50-летний юбилей В. Брюсова отмечался официально в Москве в декабре 1923 г.)
Речь на похоронах Ф. Сологуба*
Впервые: Замятин Е. Сочинения / Сост. Т. В. Громова, М. О. Чудакова; Послеслов. М. О. Чудаковой; Коммент. Е. В. Ба-рабанова. М., 1988. С. 555. (Публикация Е. В. Барабанова).
Печатается по: Замятин Е. Я боюсь. М.: Наследие, 1999. С 146–147.
…такой же день, как 8-е августа 1921 года… – Здесь неточность: Блок умер 7 августа.
Чехов*
Впервые: Лица. С. 41–49. Печатается по этой публикации.
В основе статьи – речь на вечере, посвященном Чехову, которую Замятин произнес в феврале 1925 г. в Московском Художественном театре. При подготовке речи Замятин использовал текст своего предисловия к «Избранным произведениям» А. П. Чехова (см.: настоящее издание. Т. 2. С. 474–494).
…не задумываясь начал работать, в реакционном «Новом времени». Теперь Чехов уже говорит о ново-временских публицистах, Буренине и Жителе: «Они мне просто гадки…» – «Новое время» – газета, выходившая в 1868–1917 гг., отражала интересы дворянско-чиновничьих кругов. Ее владельцем с 1876 г. был публицист и драматург Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912). Стремясь к достижению высокого литературно-художественного уровня, он привлекал в газету известных писателей, публицистов, художников (в частности, Чехова, В. В. Розанова и др.). Виктор Петрович Буренин (1841–1926) – критик, драматург, публицист. Житель – псевдоним публициста и очеркиста Александра Александровича Дьякова.
…писал он уже совсем незадолго до смерти в 1903 году (рассказ «Невеста»). – Цитата из рассказа приведена неточно. Неточно и утверждение о том, что Чехов писал рассказ «совсем незадолго до смерти»: рассказ был закончен 27 февраля 1903 г., почти за полтора года до смерти писателя.
У Чехова учились Иван Бунин, Шмелев, Тренев и другие писатели младшего поколения. – О влиянии Чехова на писателей XX в. свидетельствуют не только их произведения, но и, в частности, их личное отношение. Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) посвятил ему книгу «О Чехове» (1953). Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – прозаик и публицист, в 1934 г. опубликовал очерк «Как я встречался с Чеховым», в котором отметил роль Чехова в побуждении его к творчеству. Тренев Константин Андреевич (1876–1945) – прозаик и драматург.
Л. Андреев*
Впервые: Книга о Леониде Андрееве. Пб.; Берлин, 1922. С. 107–109.
Печатается по: Лица. С. 51–58.
Воспоминания написаны в октябре 1919 г., вскоре после смерти Леонида Николаевича Андреева в г. Нейвала в Финляндии (12 сентября 1919 г.). Хранящийся в ИМЛИ вариант под заголовком «В Гельсингфорсе» датирован 11 октября 1919 г. 8 ноября Замятин прочитал воспоминания на вечере памяти Л. Н. Андреева в Тенишевском училище. Корней Чуковский в своем дневнике записал: «…Выступил Замятин и прелестно прочитал свой анекдот об Андрееве и зонтике. Все тепло смеялись…» (Чуковский К. Дневник. 1921–1929. М., 1991. С. 122).
И вот однажды вечером газеты привезли телеграмму: «Дума разогнана». – Указ Николая II о роспуске I Государственной Думы был обнародован 9 июля 1906 г.
Все связывали Леонида Андреева с «Мыслью», с «Василием Фивейским»… – Имеются в виду рассказ «Мысль» (1902) и повесть «Жизнь Василия Фивейского» (1903) – произведения, в которых Андреев исследовал разум как источник индивидуального безумия; в «Жизни Василия Фивейского» особенно ярко звучали богоборческие мотивы.
…член Думы Михайличенко… – Вождь рабочей группы в I Государственной Думе Н. И. Михайличенко, будучи избранным в Думу по списку партии кадетов, объявил себя социал-демократом и всю рабочую группу – социал-демократической.
Встречи с Б. М. Кустодиевым*
Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк, 1951. № 26. С. 183–192. Печатается по тексту журнала.
Воспоминания написаны во второй половине 1927 – начале 1928 г. по заказу Комитета популяризации художественных знаний при Государственном академическом институте материальной культуры, который предполагал выпустить сборник статей и воспоминаний о Кустодиеве.
…это было еще в Петербурге, на одной из выставок «Мира Искусства». – Здесь имеется в виду общество художников «Мир Искусства», существовавшее в 18981904 гг. и возродившееся в Петербурге в 1910 г. В числе его учредителей (наряду с Л. С. Бакстом, А. И. Бенуа, И. Э. Грабарем, Н. К. Рерихом и др.) был и Б. М. Кустодиев. Общество устраивало коллективные выставки в Петербурге, Москве и Киеве. Последняя выставка – в Ленинграде (1924) и в Париже (1927).
Судя по описанию картины, данному ниже, имеется в виду «Масленица» (1916).
…с художником Кустодиевым я встретился в общей нашей книге «Русь»… – Имеется в виду книга: Русь: Русские типы Б. М. Кустодиева. Слово Евг. Замятина. Пб.: Аквилон, 1923. Книга состояла из 28 страниц иллюстраций и рассказа Замятина «Русь» (см. настоящее издание, т. 2, с. 47–59).
А человек, который… заставилжить всеэти полотна… сидел… в кресле на колесах… – Кустодиев хронически болел с 1909 г., а с 1916-го у него была парализована нижняя часть тела.
…серия эротических рисунков Кустодиева – иллюстраций к моему рассказу «О том, как исцелен был отрок Еразм». – Здесь некоторая неточность в названии. Полное название рассказа (написанного в жанре «чуда») – «О блаженном старце Памве Нересте, о нарочитой премудрости его, о многих происшедших чудесных знамениях и о том, как исцелен инок Еразм». Книга с иллюстрациями Кустодиева вышла в Берлине в 1922 г.
…как бы он смеялся, если бы ему удалось прочесть… статью московского критика Фриче… – Рецензия на сборник Замятина «Нечестивые рассказы» (куда вошли и «Русь», и «Как исцелен был инок Еразм») была напечатана в газете «Правда» 5 июня 1927 г. Кустодиев скончался 26 мая 1927 г. Автором рецензии был Владимир Максимович Фриче (1870–1929) – критик и эстетик, придерживавшийся вульгарно-социологических взглядов на искусство.
…стараюсь собрать деньги на поездку, денег не платят… – Цитируется письмо Кустодиева Замятину от 29 июля 1926 г. (ИМЛИ. 47. 3. 114).
…Борис Михайлович захотел сделать мой портрет… – Портрет Замятина работы Кустодиева был помещен в первом томе настоящего издании с любезного разрешения французского слависта и коллекционера Рэне Герра, в чьем собрании этот портрет сегодня находится.
Однажды утром с режиссером «Блохи» – Диким… – Алексей Денисович Дикий (1889–1955), актер и режиссер, народный артист СССР, поставил «Блоху» во МХАТе 2-м; премьера состоялась 11 февраля 1925 г.
Андрей Белый*
Впервые: на немецком языке: Andrey Belyi (1880–1934) // Slavische Rundschau. Bd. 6. № 2. S. 108–111; на русском языке; Лица. С. 73–80.
Печатается по первой русской публикации.
Кто это? Профессор математики? – А. Белый в 1899–1903 гг. учился на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета, а в 1904–1906 гг. посещал лекции на историко-филологическом факультете.
…этот человек – с долотом и молотком в руках, на подмостках в полутемном куполе какого-то храма… – В 1912 г. Белый познакомился с немецким философом, основателем антропософии – оккультно-мистического учения о сверхчувственном познании, космической миссии человека Рудольфом Штейнером, стал его последователем и с марта 1914 до августа 1916 г. принимал участие в строительстве Антропософского центра, храма-театра Гётеанума в Дорнахе близ Базеля.
…из вчерашнего математика и музыканта Андрея Бугаева (настоящее его имя)… – Здесь очевидная описка автора: настоящее имя и фамилия Белого – Борис Бугаев.
…женщина, которую он любил, оставила его, чтобы быть около д-ра Штейнера… – Неточность: в 1921 г. жена А. Белого Анна Алексеевна Тургенева (Ася) ушла к поэту Александру Борисовичу Кусикову (1896–1977), с которым познакомилась в Берлине.
С антропософских высот он бросился вниз – в фокстрот… – Многие русские современники, оказавшиеся в Берлине в одно время с Белым (конец 1921 – октябрь 1923 г.), в своих воспоминаниях пишут о многочасовых танцах Белого в различных дансингах (Марина Цветаева, Ирина Одоевцева, Александр Бахрах, Владимир Сосинский и др.). Согласно их свидетельству Белый пытался ввести фокстрот в систему своих философских воззрений.
М. Горький*
Впервые на французском языке: Maxime Gorki. La Revue de France. Paris, 1936. Vol. IV. № 15. P. 509–526; на русском языке: Новоселье, 1942. № 1. С. 39–40 (в сокращении); полностью: Лица. С. 81–98.
Печатается по тексту сборника «Лица».
Менее чем через месяц после смерти М. Горького в письме М. Булгакову от 14 июля 1936 г. Л. Н. Замятина сообщала о своем муже: «На днях выйдет в одном французском журнале большая его статья о Горьком. Она же будет напечатана по-английски и на голландском языке. С отрывками из этой статьи он выступал на „Une Manifestation litteraire a la memoire de Maxime Gorki…“» (Цит. по: Примочкина H. M. Горький и E. Замятин. К истории литературных взаимоотношений // Русская литература. 1987. № 4. С. 160).
Горького и Замятина связывали сложные, противоречивые взаимоотношения.
Горький приветствовал появление первой повести Замятина «Уездное» и до конца жизни считал ее лучшим произведением писателя; он не принимал его поисков новой выразительности, а относительно «Рассказа о самом главном» заявил, что его вряд ли поймут даже крупнейшие ученые-физики.
Однако в первые годы после революции отношения двух писателей были весьма близкими, особенно во время работы в издательстве «Всемирная литература». И в дальнейшем Горький продолжал следить за публикациями Замятина. Об этом свидетельствуют его оценки, пусть и негативные, произведений Замятина, которые он нередко давал в письмах к разным писателям. Так, 1 июля 1924 г. Горький писал В. Ходасевичу: «Е. Замятину избыток ума мешает правильно оценить размеры своего таланта. Явно остерегаясь чувствовать, он умствует. От его рассказов всегда пахнет потом, в каждой его фразе чувствуется усилие, с которым она сделана, в его искусстве холодно блестит искусственность» (Архив А. М. Горького. Т. XII. С. 360).
…политика террора была одной из главных причин… его отъезда за границу. – Придерживаясь последовательно апологетики советской власти, Горький первоначально отвергал средства ее утверждения – террор, насилие. Летом 1922 г. он писал А. И. Рыкову в связи с процессом над эсерами: «…я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране». И это отвержение политики большевиков, несомненно, послужило одним из главных поводов отъезда за рубеж. Однако он продолжал сотрудничать со многими издательствами в России и переписывался с государственными и политическими деятелями, в том числе с Лениным.
За границу он выехал в октябре 1921 г., с ноября 1921 по ноябрь 1923 г. – жил в Германии, с ноября 1923 по апрель 1924 г. – в Чехословакии; в апреле 1924-го поселился в Италии, где жил до мая 1933 г. За это время четырежды приезжал в СССР на длительные сроки: май – октябрь 1928 г., май – октябрь 1929 г., май – октябрь 1931 г., апрель – октябрь 1932 г. Окончательно вернулся в мае 1933 г.
Анатоль Франс (Некролог)*
Впервые: Современный Запад. 1924. № 2. Печатается по сборнику «Лица». С. 99–102.
Герберт Уэллс*
Впервые: Герберт Уэллс. Пб.: Эпоха, 1922. (Отдельная книга). Лица. С. 103–146.
Печатается по первому изданию.
…Уэллс написал еще ряд социально-политических… книг… «Россия в сумерках»… – Эта книга, написанная после посещения Советской России в 1920 г. (6 октября он беседовал с В. И. Лениным), известна сегодня под названием «Россия во мгле». Далее Замятин приводит еще один вариант перевода ее заглавия: «Россия в тени». Английское название книги: «Russia in the Shadows».
Незадолго до войны Уэллс был в России… – Уэллс побывал в России в начале лета 1914 г.
О'Генри*
Впервые: О. Генри. Рассказы. Пб.: Всемирная литература. 1923. С. 7–12.
Печатается по этому изданию.
Статья была написана как предисловие к сборнику рассказов О'Генри, который был подготовлен и выпущен издательством «Всемирная литература».
Это сумел сделать О'Генри (Уильям Сидней Портер, 1862–1911). – Действительная дата смерти О'Генри (или, как сейчас у нас пишется его имя, – О. Генри) – 6 июня 1910 г.
…умрет мужественно, как «фаустовский человек» Шпенглера. – Согласно концепции немецкого философа, историка и социолога Освальда Шпенглера (1880–1936), автора двухтомного труда «Закат Европы» (1918–1922), европейской цивилизации начала XX века, цивилизации «фаустовского» человека, наделенного сознанием беспредельности мира, вполне закономерно угрожает гибель, и на смену ей придет новая, рождающаяся в муках цивилизация «российско-сибирская».
…О'Генри – три года в тюрьме, и после тюрьмы не «Редингская баллада», а веселые, легкие, обрызганные смехом рассказы. – В 1898 г. О'Генри был осужден за растрату, якобы совершенную им, когда он работал в конце 1880-х годов кассиром в небольшом банке. Доказательств убедительных не было, и все же его приговорили за растрату 800 долларов к шести годам заключения; выпустили его досрочно – через три года. Замятин сопоставляет его злоключения с судьбой Оскара Уайльда (18541900), замечательного английского писателя, осужденного в 1895 г. на два года тюрьмы «за оскорбление общественной нравственности». В 1898 г., уже после освобождения, Уайльд написал одно из самых ярких и трагических произведений – «Балладу Редингской тюрьмы», посвященную зловещей тюремной обстановке и узникам.
Завтра*
Впервые: однодневная газета «В защиту человека». Пб., 1919.
Печатается по: Лица. С. 171–174.
Статья была написана в качестве редакционного манифеста для журнала, который предполагалось издавать. Об этом Замятин позже писал в «Воспоминаниях о Блоке». Однако журнал так и не вышел.
…мы переживаем эпоху подавления личности во имя масс… Война империалистическая и война гражданская – обратили человека… в нумер, цифру. – Здесь мы видим констатацию того положения в современном Замятину обществе, какое в романе «Мы» перенесено на несколько веков вперед, в будущее. Здесь же употребляется термин «нумер» для обозначения обезличенного человека, какими становятся герои романа «Мы».
Человек забыт – ради субботы: мы хотим напомнить другое – суббота для человека. – Здесь Замятин почти дословно цитирует высказывание Иисуса Христа, приводимое в Евангелии от Марка: «И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2, 27). Смысл этого высказывания в том, что люди имеют право нарушать любые предписания закона, если делается это во благо человека.
Цель*
Впервые: Лица. С. 175–181. Печатается по этой публикации.
«Искусство всегда служило командующим классам…» – Здесь Замятин приводит расхожую фразу марксистской эстетики. Близкие по смыслу выражения можно встретить у Маркса, Энгельса, Ленина. В противоположность такому положению вещей марксизм выдвигал идею служения искусства всему обществу. Однако вульгаризаторы марксизма интерпретировали эту мысль так: искусство должно служить победившему классу (т. е. пролетариату).
…услаждаться этим могут только такие типичные продукты переходной эпохи – как Горбачев или Лелевич, да, пожалуй, и такие, как Авербах, от них недалеко. – Замятин называет имена влиятельных литературных критиков, представителей так называемой пролетарской литературы, которые подходили к литературным произведениям с вульгарно-классовых позиций, пытались навязывать свои нормы писателям, диктовать законы создания литературных произведений. Возомнив себя вершителями писательских судеб, они нанесли огромный урон русской литературе, но и сами, попав под каток репрессий, были расстреляны как враги народа именно за то, что навешивали ярлыки врагов народа на писателей уже признанных и оказавшихся вне досягаемости их разящего меча: Горбачев Григорий (Георгий) Ефимович (1897–1937), Лелевич (псевд. Лабория Гиллелевича Кальмансона, 1902–1937), Авербах Леопольд Леонидович (1903–1938), один из руководителей Российской Ассоциации Пролетарских Писателей.
…опыты Каррлея и Воронова… – Имеются в виду французский хирург и биолог Каррель А. (1873–1944), лауреат Нобелевской премии по медицине (1912), и русско-французский хирург Воронов С. А. (1866–1951), который постоянно жил и работал во Франции, был известен опытами по пересадке половых желез.
Я боюсь*
Впервые: Дом Искусств. Сб. № 1. Пб., 1921. С. 43–45; перепеч.: Лица. С. 183–190.
Печатается по тексту журнала.
В 1919–1921 гг. на страницах советской прессы развернулась широкая дискуссия о будущем русской литературы. Включаясь в дискуссию, Замятин еще и еще раз подчеркивал, что литература не должна быть в услужении у власти, в противном случае будущее русской литературы – ее прошлое (эта мысль появилась в его записных книжках задолго до написания статьи).
Статья вызвала прямо противоположные отклики: от восторженных до резко отрицательных.
А. К. Воронский, не принимая выступления Замятина в поддержку еретиков, тех, кто проповедует новое вопреки общей тенденции, писал: «Наши еретики… наши бунтари! Против кого они сейчас бунтуют? Мы имеем дело с безумцами особого рода. Это – не безумство храбрых – это безумие ненависти, злобы, бессилия» (Воронский А. Об отшельниках, безумцах и бунтарях // Красная новь. 1921. № 1. С. 294). Критик А. Евгеньев (А. Е. Кауфман), напротив, с одобрением отмечал: «превосходно написанная, остроумная» статья (Дом искусств – в кавычках // Вестник литературы. 1921. № 3. С. 5). К. Федин возражал Замятину (Книга и революция. № 8–9. С. 85–86), указывая, что «понятие „подлинная литература“ – условно», и призывая назвать, какой же будет утопия. При этом он полагал важным то, что «статья эта – единственная, в которой затронут общественно-интересный вопрос…». Ответ Замятина на критику Федина был опубликован лишь в 1987 г. (статья «О зеркалах»).
В то же время Корней Чуковский, отражая мнения многих читателей, записывал в дневнике: «…статья Замятина „Я боюсь“ пользуется общим фавором» (Чуковский К. Дневники. 1901–1929. М., 1991. С. 161).
В 1794 году 11 мессидора Пайан… издал декрет… – Пайан Клод Франсуа (1766–1794) – член Парижской коммуны, судья Революционного трибунала, один из соратников М. Робеспьера. 11 мессидора соответствует 29 июня.
…юрких авторов, знающих., когда петь сретенье царя и когда молот и серп… – Имеется в виду Сергей Митрофанович Городецкий (1884–1967), опубликовавший в начале I Мировой войны верноподданническое стихотворение «Сретение царя», а впоследствии резко перешедший на сторону большевиков (уже в 1916 году).
…Эдисон тоже усовершенствовал изобретение Грэхема Белля… – Белл Александер Грэхем (1847–1922), шотландец, переехавший в 1871 г. в США, инженер, один из изобретателей телефона; в 1876 г. получил патент на 1-й практически пригодный телефон. Эдисон Томас Алва (18471931) – американский изобретатель и предприниматель; автор более 1000 изобретений; усовершенствовал телеграф, телефон, лампу накаливания.
…еще в эпоху Серафино… – Серафино Аквилиано (наст, фам. Чиминелли, 1466–1500) – итальянский поэт.
…из письма Пиетро Аретино к герцогине Урбинской… – Аретино Пьетро (1492–1556) – итальянский поэт, прозаик, драматург, памфлетист. С некоторыми неточностями Замятин здесь цитирует его письмо к супруге герцога Гвидо де Монте-фельтро (своего покровителя) герцогине Урбинской Елизавете Гонзага.
Так же мимолетно проторжествовал Клюев… – Имеются в виду стихотворения Николая Алексеевича Клюева (1884–1937) «Беседный наигрыш» (в кн.: Мирские думы. Пг., 1916), «Ленин» (1918) и «Пулемет» (1918) (оба произведения напечатаны в его кн.: Песнослов. Кн. 2. Пг., 1919).
…жалуется там Андрей Белый… – Замятин цитирует статью А. Белого «Вместо предисловия» // Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 11–12.
…работа Брешко-Брешковского… – Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874–1943) – русский прозаик, журналист, литературный и художественный критик, мемуарист, киносценарист; автор многочисленных романов, рассчитанных на невзыскательного читателя; с 1920 г. – в эмиграции. Его имя стало синонимом писателя-ремесленника, для которого главное – количество изделий, а не качество. Между тем А. И. Куприн положительно отзывался о некоторых его произведениях.
…не боялся и жестоких бичей Аристофана… – Аристофан (ок. 445 – ок. 385 до н. э.) – древнегреческий поэт-комедиограф; его комедии переполнены резкими, порой злыми откликами на актуальные события в различных сферах жизни – в политике, внутренней и внешней, в философии, литературе, в области нравов.
…невиннейший «Работяга Словотеков» Горького снимается… – Сатирическая пьеса Горького «Работяга Словотеков» была поставлена в петроградском Театре народной комедии С. Э. Радлова 16 июня 1920 г. и через неделю снята с репертуара по указанию Г. Е. Зиновьева, тогдашнего председателя петроградской коммуны, – именно против него пьеса была направлена, именно он являлся прототипом главного героя.
…охранить от соблазна… демос российский). – Далее в рукописи шло: «Настоящая литература может быть только там, где она ходит не по прямым, предписанным рельсам…Мэтью Арнольд говорил: литература – это критика жизни. Именно такой – она и должна быть. Настоящая литература всегда должна идти впереди жизни, и это непременно определяет ее критическое отношение к сегодняшнему – критическое не во имя мертвого вчера, а во имя вечно живого завтра. Живая литература не может быть ортодоксальной, католической; она должна быть отрицанием догмы, ересью» (цит. по: Замятин Е. Я боюсь. М., 1999. С. 299).
Новая русская проза*
Впервые: Русское искусство. 1928. № 2/3. С. 56–67. Лица. С. 192–210.
Печатается по журнальной публикации.
Написанная специально для журнала «Русское искусство», статья была напечатана в номере, вышедшем в середине августа 1923 г. (это ясно из письма Замятина жене от 12 августа).
Текст статьи включает в переработанном виде опубликованную в журнале «Россия» (1923. № 8) статью «Эренбург».
Статья вызвала резонанс и в печати, и в переписке писателей. Высоко оценил статью Горький: «Я хотел бы, – писал он В. Каверину 18 декабря 1923 г., – чтоб всех вас уязвила зависть к „прежним“ – Сергееву-Ценскому, М. Пришвину, Замятину, людям, которые становятся все богаче словом, я имею в виду „Преображение“ Ценского и „Кащееву цепь“ Пришвина, и Замятина – статью в „Русском искусстве“, статью, в которой он сказал о вас много верного» (Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 178). Максимилиан Волошин в письме от 7 января 1924 г. сообщал Замятину свое мнение не только о статье, но и о раннем творчестве Замятина: «Прочел „Уездное“. Очень хорошо. Крепкая фольклорная мозаика. Но больше радуюсь теперешним Вашим путям. С большим интересом прочел Вашу статью о современной прозе (в „Современном искусстве“). Очень хорошая и крепкая манера определений совсем не критическая. Это-то и прекрасно. Кое с чем не согласен. Но очень свежо и сочно» (Волошин М. Избранное / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. 3. Давыдова и В. Купченко. Минск, 1993. С. 410).
…Литер Шлемиль, потерявший свою тень… – Имеется в виду герой повести-сказки немецкого поэта-романтика Адальберта фон Шамиссо (1781–1838) «Удивительная история Петера Шлемиля» (1814) о человеке, продавшем свою тень. В начале XX века книга Шамиссо вышла в России в прекрасном переводе Петра Потемкина.
…создавали искусственно пролетарскую литературу, организуя пролеткульты… – Пролеткульт (Пролетарская культура) – культурно-просветительная и литературно-художественная добровольная организация (1917–1932) пролетарской самодеятельности в области искусства, литературы, театра и т. п. Для теоретиков Пролеткульта было характерно нигилистическое отношение к прошлой культуре.
…в московской «Кузнице» и «Горне» выковалось несколько несомненных поэтов (Казин, Обрадович, Александровский). – «Кузница» – литературная группа, основанная в 1920 г. поэтами, вышедшими из Пролеткульта; в 1931 г. влилась в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей). Казин Василий Васильевич (1898–1981) – поэт, в 1918 – член литературной студии Московского Пролеткульта. Обрадович Сергей Александрович (1892–1956) – поэт, член Пролеткульта, один из основателей группы «Кузница», в 19221927 гг. заведовал литературным отделом газеты «Правда». Александровский В. Д. – поэт; ориентированный на деревенскую поэзию. «Горн» (1918–1923) – литературно-художественный журнал, орган Пролеткульта.
Написать… прозой – труднее, чем стихом. – Неточная цитата из статьи Андрея Белого «О художественной прозе» (Горн. 1919. № 2/3. С. 52).
Чрезвычайно шумливая компания «космистов»… – В литературную группу «космистов», существовавшую в Петрограде в 1922–1924 гг., входили поэты, прозаики и критики: С. Семеко, А. Крайский, И. Садофьев, П. Арский, Б. Четвериков, Е. Панфилов, И. Оксенов, А. Свентицкий и др. Их творческие позиции во многом совпадали с позициями «Кузницы».
…больше всего дружеских векселей было выдано на имя автора книжечки «Голод»… – Автором романа «Голод» был Сергей Александрович Семенов (1893–1942); книга вышла в 1922 г. в Петроградском отделении ГИЗа, вскоре была переведена на болгарский и немецкий языки.
…в соответствии с вербицкой эстетикой… – Замятин образует понятие «вербицкая эстетика» от фамилии писательницы Анастасии Алексеевны Вербицкой (1861–1928), чьи многочисленные любовные романы были рассчитаны на широкого, невзыскательного читателя. В то же время в некоторых произведениях писательница затрагивала актуальные проблемы.
Крепче, настоящей – некоторые московские писатели-коммунисты: Аросев, Неверов, Либединский. – Аросев Александр Яковлевич (1890–1938) – писатель, партийный и государственный деятель. В начале 1920-х годов находился на дипломатической работе за рубежом. Неверов А. (наст, фамилия, имя и отчество Скобелев Александр Сергеевич; 1886–1923) – прозаик, драматург; участник группы «Кузница»; самым известным его произведением стала повесть «Ташкент – город хлебный» (1923). Либединский Юрий Николаевич (1898–1959) – прозаик; участник Гражданской войны в Сибири и на Урале. Его первая повесть «Неделя» (1922) была переведена на множество иностранных языков.
…от Асеева – к Авсеенке: рассказ Брика «Не попутчица». – Асеев Николай Николаевич (1889–1963) – поэт. Авсеенко В. Г. (1842–1913) – автор повестей и романов из жизни светского общества. Брик Осип Максимович (1888–1945) – писатель, литературовед, соредактор журналов «Леф» и «Реф».
Кто-то назвал его даже «новым Горьким»… – Так назвал Всеволода Иванова критик В. Львов-Рогачевский (наст, имя Василий Львович Рогачевский, 1873/1874-1930) в статье «Новый Горький» (Современник, 1922. № 1).
…если каким-нибудь литературным Введенским была устроена «общая исповедь». – Имеется в виду Александр Иванович Введенский (1888–1946) – один из лидеров обновленческого движения в православии, возникшего в 1922 г. и называвшего себя «Живой церковью».
Такое… мастерство всегда заставляет бояться, что автор нашел для себя ип petit uerre. – Un petit verre (фр.) – маленький бокал. Здесь подразумевается афоризм А. де Мюссе: «Мой бокал мал, но я пью из своего бокала». Высказанное гв этой фразе опасение в отношении творческих возможностей Зощенко Замятин тут же опровергает. И, как показала дальнейшая литературная работа Зощенко, его творчество отнюдь не ограничивалось юмористическими рассказами; повести «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца» демонстрируют глубину его философского осмысления жизни.
В активе у Федина – до странности зрелый рассказ «Сад»… дальнейший сдвиг – в незаконченном его романе. – Федин со своим рассказом «Сад» занял 1-е место на конкурсе для начинающих, объявленном Домом литераторов в 1921 г. Говоря о незаконченном романе, Замятин имеет в виду роман «Города и годы», выпущенный отдельным изданием в 1924 г.
…там есть место еще для многих. Из петербуржцев, конечно, для Ольги Форш… Из москвичей, конечно, для Пастернака, Леонова, Буданцева, Огнева, Малышкина. – Ольга Дмитриевна Форш (1873–1961) – прозаик, драматург. В отзыве на драматический этюд «Смерть Коперника» (1919) А. Блок отметил «действительное многообразие и недюжинность» ее замыслов, увидел автора «очень значительных произведений». Сергей Федорович Буданцев (1896–1949) – прозаик, драматург, критик, публицист. Выступив с первых своих литературных шагов как сторонник социальной революции и борьбы за нового человека, писатель всегда оставался верен идее свободы личности, ее самоценности. В 1938 г. был арестован, умер в заключении. Огнев Николай (наст, имя, отчество и фамилия Михаил Григорьевич Розанов, 1888–1938) – прозаик, драматург. Как прозаик дебютировал в 1923 г. рассказами «Евразия», «Павел Великий», «Щи республики»; его произведения отличали преданность реализму, требовательность к слову, художественному уровню, крайний драматизм. Позже прославился повестью «Дневник Кости Рябцева» (отд. издание в 1927 г.), переведенной на многие языки. Александр Георгиевич Малышкин (1892–1938) – прозаик; он создал одно из ярчайших произведений о Гражданской войне, участником которой являлся, – повесть «Падение Дайра» (1923).
«Ремизову – мастеру, у которого я был подмастерьем». – С этим посвящением вышла повесть Б. Пильняка «Третья столица» (1923).
…задача, параллельная Толлеровскому «Masse Mensch». – Эрнст Толлер (1893–1939) – немецкий писатель-экспрессионист. В драме «Masse Mensch» («Человек – масса». 1921. Рус. перев. 1923) героиня стремится отстоять идею революции без насилия и погибает.
…Сергеев-Ценский… закончил… роман «Преображение»… – Какой здесь имеется в виду роман, неизвестно. Первоначально так был назван роман «Валя» (1913). Впоследствии Сергеев-Ценский дал название «Преображение России» циклу романов, которые создавал в разные годы.
У Пришвина повесть «Раб обезьяний»… – Лишь в 1979 г. в журнале «Север», № 8, была опубликована повесть Пришвина «Мирская чаша», одна из глав которой названа «Раб обезьяний».
…последними Шварцами были Лрцыбашев и Вин-ниченко. – Согласно преданию монах францисканского ордена Бертольд Шварц около 1330 г. изобрел порох. М. Арцыбашева, автора нашумевшего романа «Санин», и Владимира Кирилловича Винниченко (1880–1951) Замятин здесь называет постольку, поскольку многие их произведения были посвящены так называемым «проблемам пола».
…у «Аэлиты» – много… родственников, начиная от Уэллса и Жулавского. – Многие фантастические произведения польского писателя Ю. Жулавского («На серебряном шаре». Рус. перев. 1911; «Победитель». Рус. перев. 1914; и др.) были хорошо известны в России начала XX в.
…Аэлита читала в штейнеровской «Хронике Акаши». – Книга немецкого философа-мистика, антропософа Рудольфа Штейнера (1861–1925) «Акаша – хроника: Историческое происхождение мира и человека» вышла в русском переводе в 1912 г.
…«всякую осуществленную форму созерцать в ее движении, то есть как нечто преходящее» (Маркс). – Замятин цитирует «Послесловие ко второму изданию» «Капитала» (1873).
На Западе сейчас десятки авторов – в фантастике… Гъральд Бергштедт, Огэ Маделунд… – Замятин перечисляет имена зарубежных писателей (не всегда в принятой транскрипции), создавших ряд произведений в жанре фантастики. К ряду их романов Замятин написал предисловия, а некоторые переводы вышли под его редакцией: вступительная заметка им написана к переводу рассказа австрийского писателя Густава Мейринка (1868–1932) «Игра цикад» (Современный Запад. 1922. № 1. Подп.: Е. 3.), наиболее известный его роман «Голем» (1915) вышел в русск. перев. в 1922 г.; роман Пьера Бенуа (1886–1962) «Дорога гигантов» (1922) вышел в русском переводе под ред. Замятина в 1923 г.; его приключенческие романы, действие которых происходит в экзотических странах, пользовались большой популярностью в России; в 1922 г. отрывок из драматической пенталогии Бернарда Шоу «Назад к Мафусаилу» (1918–1920) был напечатан со вступительной заметкой Замятина (подп.: Е. 3.) в журнале «Современный Запад» (№ 2) под заглавием «Начинается».
О сегодняшнем и о современном*
Впервые: Русский современник. 1924. № 2. С. 263–272. Лица. С. 211–230.
Печатается по первой публикации с уточнениями по рукописям, сделанными А. Галушкиным (см.: Я боюсь. С. 101–112).
Журнал «Русский современник», появившийся весной 1924 г., был закрыт после выхода 4-го номера. Больше всего нападкам со стороны вапповских критиков подверглась статья Замятина, в которой он сделал острый обзор литературных альманахов. «Волчий оскал журнала против революции яснее всего обнаруживается во второй книге журнала, в статье Замятина „О сегодняшнем и о современном“, – писал критик Г. Горбачев в статье „Единый фронт буржуазной реакции“, опубликованной в журнале „Звезда“ (1924. № 6. С. 248–249). – Великий политический пафос нашего времени здесь прямо приравнен к казенно-патриотическому „пафосу самодержавной государственности“; наше время провозглашено временем, когда „лопухом лезет изо всех щелей мещанин, заглушая человека“. В этой статье выявлено вполне определенное враждебно-презрительное отношение к литературе, коль скоро она рассматривает себя „как новый вид оружия“ в классовой борьбе, как проводник революционных идей и настроений». Столь же отрицательно отнесся к статье Л. Авербах в своих «Полемических заметках» (Прожектор. 1924. № 22. С. 26).
Ответ Замятина своим критикам был напечатан в последнем номере журнала под заглавием: «Перегудам. От редакции „Русского Современника“» (см. настоящий том, с. 154–163).
«Недра» – в явном родстве с прежней «Землей». – Литературно-художественные сборники «Земля» выходили под редакцией М. Арцыбашева в 1908–1917 г.; в числе публикуемых авторов были А. И. Куприн, Ф. Сологуб, Е. Н. Чириков, В. К. Винниченко, А. С. Серафимович и др.
Этому вполне удовлетворяло «В тупике» Вересаева, этому удовлетворяет и «Железный поток» Серафимовича… – В романе «В тупике» (1920–1923) В. В. Вересаевым (18671945) описано массовое уничтожение людей в Крыму во время Гражданской войны; автор предупреждает об опасных последствиях исчезновения из жизни духовности, демократии, гуманизма.
Роман А. С. Серафимовича (1863–1949) «Железный поток» (1924) – плодотворная попытка показать превращение разнородной людской массы в монолитный коллектив. Критические замечания в адрес Серафимовича объясняются высокой требовательностью Замятина к художественной форме, к точности и ясности языка.
…стихи Кириллова, Полонской, Орешина – одинаковы, как гривенники… – Владимир Тимофеевич Кириллов (1889–1943) – поэт «Кузницы». О Полонской см. наст, изд., т. 2, с. 588. Как и в ряде других оценок, Замятин весьма субъективен. В частности, он недооценивал поэзию Петра Васильевича Орешина (1887–1938), одного из наиболее ярких поэтов есенинского окружения. Между тем взгляды Орешина и Замятина на литературу во многом совпадали. Так, он уже в начале 1920-х годов показал не только созидательную, но и разрушительную силу революции:
Божьи храмы навозом да плесенью Расписал бусурман-богомаз. Не видать тебе вздохов и песен, Над часовней оплеванный Спас! Не затеплится в поле лампадка, Перед Спасом – кадильный огонь. Ой, гремит по Заволжью двухрядка, Большевистская сука – гармонь!Как и Замятин, Орешин считал, что без живого человеческого сердца «немыслимо никакое настоящее творчество» (РГАЛИ. Ф. 1563. Оп. 2. Ед. хр. 12).
…не фальшивая Мейерхольдовская, а настоящая «земля дыбом»… – В 1923 г. для Театра Вс. Мейерхольда поэт и драматург Сергей Михайлович Третьяков (1892–1939) осуществил по пьесе М. Мартине «Ночь» свою переделку под названием «Земля дыбом», которая была в том же году поставлена.
Изжога остается от Ляшко – «Стремена». – Николай Николаевич Ляшко (наст. фам. Лященко, 1884–1953) – пролетарский писатель прозаик; явился одним из родоначальников «производственного романа».
Этот художник – явно – из АХРР. – АХРР (Ассоциация художников революционной России, с 1928 г. – АХР – Ассоциация художников революции) – объединение художников, существовавшее в 1922–1932 гг.
…быть литературным Кювье… – Имеется в виду знаменитый французский зоолог, реформатор сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных Жорж Кювье (1769–1832), который установил принцип корреляции, соотношения органов, на основе которого реконструировал строение многих вымерших животных.
…Луначарский взял под высокую руку некоего Островского. – Имеется в виду статья А. Луначарского «Об Александре Николаевиче Островском и по поводу его» (Известия. 1923. 12–13 апреля).
Перегудам. От редакции «Русского Современника»*
Впервые: Русский современник. 1924. № 4. С. 236–240.
Печатается по: Замятин Е. Я боюсь. С. 123–131.
Статья написана в ответ на критику журнала «Русский современник» и, в частности, статьи Замятина «О сегодняшнем и современном».
Материалы журнала, в создании и редактировании которого велика роль Замятина, подвергались ожесточенным нападкам со стороны критиков, стоявших, как они полагали, на пролетарской платформе. Так, 5 ноября 1924 г. в «Правде» была помещена статья К. Розенталя о 1–3 номерах «Русского современника» со следующим пассажем: «нэпман с Ильинки, кандидат в Нарым и буржуазный интеллигент, тоскующий по „ценностям“ буржуазного мира и мечтающий об их возвращении, нашли в „Русском современнике“ свое сегодняшнее выражение».
В написании статьи «Перегудам» принимал участие К. Чуковский. 24 ноября 1924 г. он записал в дневнике: «…мы с Замятиным написали отповедь нашим ругателям. Идея статьи моя. Я предложил взять стихотворение Пушкина и раскритиковать его на манер Родова, предложил взять лесковского Перегуда из „Заячьего ремиза“, я сильно переделал то, что написано Замятиным, но он ведет себя так, словно статья написана им одним» (Чуковский К. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 292). После дополнительной замятинской доработки статья была отправлена в цензуру, где встретила сильное сопротивление. В связи с этим, как свидетельствует К. Чуковский, авторами было решено снять окончание статьи. В результате в журнале были напечатаны лишь первые две ее главки.
В настоящем издании статья печатается полностью по публикации А. Ю. Галушкина, в которой 3 и 4 главки воспроизводятся по автографу Замятина, хранящемуся в ИМЛИ (47. I. 195).
В связи с тем что сохранившееся в «Чуккокале» и опубликованное Е. Ц. Чуковской окончание статьи (Книжное обозрение. 1989. 5 мая) содержит существенные разночтения с главками из замятинского архива, приводим этот вариант:
«Впрочем, довольно шутить. Когда этакие вот армянские анекдоты о себе читают Ахматова, Пильняк, Пастернак, Сологуб, Замятин, Шкловский, Эфрос – им, вероятно, только смешно. Но молодой поэт из „Перевала“ полез от такой критики в петлю.
В письме группы писателей, оглашенном на летнем Литературном Совещании, справедливо было сказано, что такая критика „не достойна ни литературы, ни революции“. И не менее справедливы слова председателя Совещания тов. Я. Яковлева: „Наша критика не только не выдержана, она отсутствует… У нас печатаются рецензии по дружбе, по знакомству. Это иначе, как разложением, назвать нельзя“.
Да, иначе, как разложением, это назвать нельзя. И микроб, вызывающий его разложение, – многоименный Перегуд. Пора же наконец понять, что услужливые друзья-перегуды для революции опаснее врагов. Опасны они не только потому, что на огромных страницах нашей эпохи пишут скверные анекдоты, но еще и потому, что большие идеи снижают до безграмотно-мещанского уровня.
Все знают этот случай: однажды Ленину попался на глаза плакат с надписью – „Царствию рабочих и крестьян не будет конца“, и Ленин распорядился, чтобы этот безграмотный плакат тотчас же и подальше убрали. Если этот плакат не был написан, скажем, Розенталем, то это вышло совершенно случайно: в мировоззрении любого Перегуда столько же квадратных вершков, сколько их в этом плакате, и этими вершками измеряется кругозор нового мещанина.
Мещанство в мире создано было в седьмой день, – в тот самый день, когда господь бог, обозрев вселенную, нашел, что все „добро зело“, и… почил от дел своих. Это – миф о бессмертном мещанине всех времен и народов. Розентали, Лелевичи, Родовы, Садки – все они живут в седьмой день, дальше семи они не умеют считать: восьмого, тысячного дня впереди – они не видят. И если Ленину было ясно, что сегодняшнее – это только переходный период, за которым безгосударственный и бесклассовый строй, то Перегудам ясно, что переходный период – это седьмой день, что он хоть и переходный – но не преходящий. Потому-то Перегуд-Розенталь и торопится записать в свой синодик, что для „Русского Современника“ сегодняшнее – это „преходящее, как преходящ сегодняшний день, и так же покрывается современностью, как сегодняшний день эпохой“.
Для мещанина, конечно, нет большего преступления, чем думать о великом завтра, какое ждет человека: еще бы, ведь это нарушает самодовольный покой седьмого дня! В этом преступлении „Русский Современник“ охотно сознается: у нас есть вера в то, что человеческое завтра будет прекрасно, что оно будет лучше, чем сегодня, что – конечно – будет непохоже на вчера. В это мы верим и думаем, что тут диалектически мыслящие коммунисты едва ли окажутся на стороне Перегуда, воображающего себя Иисусом Навином и готового воскликнуть: „Солнце, стой!“ Мы склонны думать, что солнца остановить нельзя, и что это завтра, когда будет сделан „прыжок из царства необходимости в царство свободы“, – придет неминуемо.
Смешно было бы здесь заявлять: мы знаем, что дважды два четыре, мы знаем, что между вчера и завтра должно быть сегодня, что мы принимаем революцию. Одинаково наивно сказать солнцу „стой“ или сказать ему „вернись обратно“. В „Русском Современнике“ таких наивных людей нет. Писателю, художнику, может быть, больше, чем кому-нибудь, ясно: нет путей назад, и, чтобы делать большое дело, чтобы идти с большой эпохой, – литературе органически необходимо дышать большим воздухом революции – дышать глубоко, полно, свободно.
Но буря не только несет свежий воздух: она подымает вверх завалявшиеся бумажки и мусор, она гонит перед собой серые столбы пыли. Перегуды уверены, что это-то и есть в революции самое главное, и что всякий, кто хочет защитить глаза и дыханье от пыли, – тот враг. Да, враг – но кому?
И вот – черным по белому, чтобы раз навсегда положить конец всем анекдотам: людей, враждебных революции, в „Русском Современнике“ нет, но здесь есть люди, враждебные этой отрыжке вчерашнего – угодничеству, самодовольству, правдобоязни, враждебные мусору и пыли. На русской литературе густо оседает сейчас эта серая пыль нового мещанства – и с ним мы боремся».
Н. С Лесков в своем «Заячьем Ремизе»… – Повесть Лескова, законченная в декабре 1894 г., была впервые опубликована лишь 22 года спустя после смерти автора в № 3437 журнала «Нива» за 1917 г. Царской цензурой она была запрещена в связи с яркой антимонархической (и антицерковной) направленностью.
В образе Оноприя Опанасовича Перегуда Лесков создает тип добровольного доносчика, занятого повседневными поисками врагов существующего строя, «потрясователей основ» государства.
Насколько живучим оказался этот тип и насколько проницательным был Лесков, свидетельствовала советская история, когда из-за добровольных перегудов тысячи невинных людей были объявлены врагами народа.
…свое… имя… заменяет подписями скромными… Розенталь, Лелевич, Родов… – Родов Семен Абрамович (18931968) – участник группы «Кузница», один из редакторов журнала «На посту», критик и поэт.
…выступает на известном летнем Литературном Совещании… – Имеется в виду совещание по вопросам политики партии в области художественной литературы, состоявшееся 9-10 мая 1924 г. при Отделе печати ЦК РКП (б).
За «Русским Современником» стоят Эфрос и заграничный капитал… – Эфрос Абрам Маркович (1888–1954) – литературовед, искусствовед, переводчик, член редколлегии «Русского Современника».
…когда власть была в руках Милюкова… – Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – политический деятель, историк, публицист, один из организаторов партии кадетов; в 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства. После Октябрьской революции – эмигрант.
…мечты… о Дарданеллах. – Во время I Мировой войны неоднократно поднимался вопрос захвата Дарданелл, пролива в Турции между Европой и Азией. Он контролировался Турцией и германскими войсками. Милюков выступал за овладение Дарданелльским проливом для осуществления свободного судоходства, за что был прозван Милюковым-Дарда-нелльским. Англо-французская операция по захвату Дарданелл в 1915–1916 гг. окончилась провалом.
…молодой поэт из «Перевала» Кузнецов полез от такой критики в петлю. – «Перевал» – литературная группа (1923–1932), возникшая при журнале «Красная новь»; для эстетики и художественной практики группы характерны переосмысление принципов интуитивизма и самовыражения писателя. Кузнецов Николай Андрианович (1904–1924) – поэт, один из организаторов группы рабочих поэтов и писателей «Рабочая Весна». 20 сентября 1924 г. покончил жизнь самоубийством.
В письме группы писателей.. – На упомянутом выше совещании было зачитано письмо 36 писателей, возмущенных политическими оценками их произведений напостовцами и рапповцами.
О синтетизме*
Впервые в кн.: Анненков Ю. Портреты. Пб., 1922. С. 19–40.
Печатается по первой публикации. Лица. С. 232–243.
В статье Замятин излагает свою концепцию неореализма, в которой пытается сформулировать основные атрибуты современного искусства. Статья вызвала разноречивые отклики в России и за рубежом.
Замятин рассматривал развитие искусства как диалектику, как отрицание отрицания, как восхождение по спирали.
Он видит, что искусство движется от грубого реализма к утопическому символизму, а затем к синтезу – неореализму. И каждому этапу в развитии искусства, согласно Замятину, соответствуют свои философские направления. Реализму – такие представители вульгарного материализма, как немецкий естествоиспытатель Людвиг Бюхнер (1824–1899), полагавший, что сознание лишь зеркально отражает действительность, и немецкий физиолог Якоб Молешотт (1822–1893), который видел в мышлении лишь физиологический механизм.
Символизм Замятин соединяет с иррационалистическим идеализмом немецкого философа Артура Шопенгауэра (17881860), а современному искусству, по мнению Замятина, больше всего соответствует волюнтаристическая «философия жизни» последователя Шопенгауэра Фридриха Ницше (1844–1900).
Гинденбург искусства дал им задание бесчеловечное… – Здесь имеется в виду Пауль фон Гинденбург (18471934), немецкий генерал-фельдмаршал, в I Мировой войне командующий войсками Восточного фронта с ноября 1914 г., а с августа 1916-го – начальник Генштаба, главнокомандующий. В 1925–1933 гг. – президент Германии.
…тот самый сплав, тайну которого так хорошо знали Иероним Босх и «адский» Питер Брейгель. – Нидерландские художники Хиеронимус Босх (ок. 1460–1516) и Питер Брейгель Старший (между 1525 и 1530–1569) в своем творчестве синтезировали фольклор, фантастику, сатиру, лиричность, юмор, реалистические наблюдения и стремились найти новые формы выражения, использовали неожиданный колорит и т. п.
…не realia – да, но realiora. – Термины из эстетики поэта и философа Вячеслава Ивановича Иванова (1866–1949), утверждавшего, что искусство, изображая внешнюю действительность (realia), должно провидеть за ней высшую, внутреннюю действительность (realiora)(Иванов В. Борозды и межи. М., 1916. С. 134).
…«Лулу» Ведекинда. – Ведекинд Франк (1864–1918) – немецкий драматург и актер, предшественник экспрессионизма. В начале XX века его пьесы с успехом шли на русской сцене.
…кофта Серафимы Павловны… – Серафима Павловна Довгелло-Ремизова (1876–1943) – жена Алексея Михайловича Ремизова, палеограф.
Такие его портреты, как Ахматовой, Альтмана – это японские четырехстрочные танки… – Натан Исаевич Альтман (1889–1970) – живописец, скульптор и график, театральный художник, известен своими зарисовками с натуры и скульптурным портретом В. И. Ленина. Танка – жанр японской поэзии, нерифмованное пятистишие (у Замятина неточность) из 31 слога.
О литературе, революции, энтропии и о прочем*
Впервые: Писатели об искусстве и о себе. Сб. статей. М., Л., 1924. С. 65–75.
Лица (под заглавием «О литературе, революции и энтропии»). С. 245–256.
Печатается по первой публикации.
Написано в октябре 1923 г.
Ответят луи-каторзно: революция – это мы… – Людовик XIV (Луи Каторз) (1638–1715) – французский король с 1643 г. Легенда ему приписывает фразу: «Государство – это я» (абсолютизм при нем достиг высшей степени).
…закон революции… универсальный закон… – Здесь Замятин высказывает важнейшее положение философской диалектики, о которой сегодня многие в недалеком прошлом философы-марксисты стыдливо умалчивают: революция наряду с эволюцией – важнейшая составляющая в развитии природы, общества, сознания, без революции в конечном счете наступает застой и смерть.
…вместо трагического Галилеева «А все-таки она вертится»… – Галилео Галилей (1564–1642) – итальянский естествоиспытатель; построил первый телескоп; защищал гелиоцентрическую систему мира. Подвергнутый в 1633 г. суду инквизиции, вынужден был под угрозой смерти отречься от учения Н. Коперника. Однако, выйдя из помещения суда, где признал догму о неподвижности земли (за что был оправдан), воскликнул: «А все-таки она вертится…»
Бабефу в 1797 году справедливо отрубили голову… – Бабеф Гракх (наст, имя Франсуа Ноэль; 1760–1797) – французский коммунист-утопист; во время Великой французской революции отстаивал интересы неимущих; один из руководителей движения «Во имя равенства»; возглавил в 1796 г. Тайную повстанческую директорию; был казнен.
Ну, а двуперстники, Аввакумы? – Аввакум Петрович (1620 или 1621–1682) – протопоп, идеолог русского раскола, писатель; выступал против реформ патриарха Никона. Неоднократно подвергался ссылке. По царскому указу был сожжен. Одним из культовых новшеств, против которых выступал Аввакум, было введение трехперстного крестного знамения вместо существовавшего до сих пор двуперстного (которого старообрядцы придерживаются до сих пор).
…после Дарвина – мутации, вейсманизм, неоламаркизм. – Вейсманизм (или неодарвинизм) – дальнейшее развитие эволюционного учения Дарвина, предпринятое его последователем немецким зоологом Августом Вейсманом (1834–1914); Вейсман предвосхитил современные представления о дискретности генов, их локализации в хромосомах и роли в онтогенезе.
Неоламаркизм – совокупность различных направлений в эволюционном учении, возникших во второй половине XIX в. в связи с развитием некоторых положений ламаркизма – первого целостного эволюционного учения, созданного французским естествоиспытателем Жаном Батистом Ламарком (1744–1829).
…можно… поставить к… кабестану… – Кабестан – лебедка с барабаном на вертикальном валу для выбирания судовых якорей или для швартовки.
Очень уютен Вересаевский тупик… – Явный намек на роман Вересаева «В тупике», причем, конечно же, относящийся к его сугубо реалистической форме образца XIX века.
Серапионовы братья*
Впервые: Литературные записки. 1922. № 1. С. 7–8. Печатается по тексту журнала.
Статья представляет собой рецензию на книгу: Серапионовы братья: Альманах первый. Пг., 1922.
Многие из членов группы «Серапионовы братья» занимались в литературной студии петроградского Дома Искусств и слушали лекции Замятина по технике художественной прозы.
После смерти Замятина его вдова Людмила Николаевна переписала эти лекции и конспекты к ним; их копии вернулись на родину благодаря содействию Наталии Борисовны Соллогуб (дочери Б. К. Зайцева) и были опубликованы в «Литературной учебе», 1988, № 5–6 (см. настоящее издание, т. 4).
А. К. Воронский в своем портрете Замятина (впервые в журнале «Красная новь», 1922, № 6) отмечал: «…Замятин определил во многом характер и направление кружка „Серапионовых братьев“. И хотя „серапионы“ утверждают, что они собрались просто по принципу содружества, что у них и в помине нет единства художественных приемов и, кажется, также они „не имеют отношения к Замятину“, – в этом все-таки позволительно усомниться. От Замятина у них слово-поклонничество, увлечение мастерством, формой; по Замятину, вещи не пишутся, а делаются. От Замятина – стилизация, эксперимент, доведенный до крайности, увлечение сказом, напряженность образов, полуимажинизм их. От Замятина – подход к революции созерцательный, внешний. <…> И если среди „серапионов“ есть течение, что художник, подобно Иегове библейскому, творит для себя, – а такие мнения среди „серапионов“ совсем не случайны, – это тоже от Замятина».
Для сборника о книге*
Впервые: Лица. С. 257.
Печатается по данной публикации с исправлениями по рукописи, хранящейся в Парижском архиве.
Закулисы*
Впервые: Как мы пишем. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. С. 29–44 (без заглавия). Лица. С. 259–274. Печатается по первой публикации.
Статья написана для сборника «Как мы пишем», который, очевидно, был задуман самим Замятиным, наметившим и состав авторов сборника. Для участия в нем было приглашено тридцать известных писателей того времени, им были разосланы анкеты с просьбой ответить на вопросы, связанные главным образом с технологией и в незначительной мере психологией их творческой работы. Например: составляется ли предварительный план и как он меняется? ставите ли себе какие-нибудь музыкальные, ритмические требования? какие ощущения связаны у вас с окончанием работы, и т. п.
Издательство разослало писателям приглашения. О своем участии в этом предприятии, в частности, Замятин сообщил в письме Андрею Белому 12 июля 1929 г.: «Сборник, о котором Вам пишет издательство, – моя затея» (цит. по: Замятин Е. Сочинения / Сост. Т. В. Громова, М. О. Чудако-ва; Послесл. М. О. Чудаковой; Коммент. Е. В. Барабанова. М., 1988. С. 572).
А. Ю. Галушкин в комментарии к своей публикации статьи в сборнике «Я боюсь» указывает на источники, подтверждающие участие Замятина в формировании состава сборника (с. 319).
В связи с усилившейся в конце 1920-х – начале 1930-х годов кампанией поисков классовых врагов во всех сферах общественной жизни (такими врагами в области литературы были названы Б. Пильняк, П. Романов, многие другие) ретивые критики не могли обойти своим вниманием и сборник «Как мы пишем», хотя, казалось бы, он был посвящен проблемам литературного труда, но отнюдь не политики или идеологии. Больше всего досталось в очередной раз Замятину, которого напостовские и рапповские деятели давно уже облюбовали как удобную мишень.
Достаточно привести весьма типичный отзыв Г. Бояджиева: «Разве тут не видна бессильная злоба классового врага, который, разыгрывая из себя высокого жреца искусства и великого мастера, презрительно поплевывает на марксистскую критику да и вообще на всю общественность. <…> Замятин – до конца проявившийся классовый враг, борьба с ним, с влиянием его произведений и главным образом с распространением его метода должна занимать главенствующее место на общем фронте борьбы с буржуазной литературой, а борьба эта неизбежно заострится в связи с резкой дифференциацией „попутчиков“ на союзников и врагов» (Союзник или враг // На подъеме. Ростов-на-Дону, 1931. № 6. С. 167).
…чаще мы – андрогины… – Андрогин – то же, что гермафродит, то есть существо, в котором соединены мужские и женские половые органы. Здесь, разумеется, Замятин употребляет это понятие в переносном смысле, имея в виду способность художника творить без внешнего толчка, как бы из самого себя. На эту особенность творческого процесса обращали внимание многие писатели, композиторы, живописцы (значительное место уделил этой творческой способности Пантелеймон Романов в своей неопубликованной книге «Наука зрения» и в дневниках), что подтверждает некоторые общие принципы процесса художественного творчества.
…пьесы Гоцци и кое-что из Гольдони… книги Росинского. – Карло Гоцци (1720–1806) – итальянский драматург, автор пьес-сказок, в которых использованы фольклорные мотивы и принципы комедии дель арте (комедии масок), с типажами, переходящими из пьесы в пьесу, с наличием импровизации. Наиболее известные пьесы: «Любовь к трем апельсинам» (1761), «Король-олень» (1762), «Турандот» (1762).
Карло Гольдони (1707–1793) – признанный создатель итальянской национальной комедии; автор 267 пьес, наиболее известны: «Слуга двух господ» (1745), «Хитрая вдова» (1748), «Трактирщица» (1753).
Дмитрий Александрович Ровинский (1824–1895) – русский государственный деятель, юрист, историк искусства; один из инициаторов введения мирового суда и суда присяжных. Автор многочисленных книг по отечественному искусству: «Русские народные картины» в 5 томах, атлас с 1780 картинами, «Подробный словарь русских гравированных портретов» в 4 томах (700 портретов) и др.
Чтобы войти в эпоху Атиллы… – Аттила (именно таково традиционное написание имени предводителя гуннов) возглавлял союз племени гуннов с 434 г. (умер в 453 г.). Совершил опустошительные походы в Восточную Римскую империю (443, 447–448), Галлию (451). При нем гуннский союз племен достиг наивысшего могущества.
Несколько исказив принятое написание имени предводителя гуннов, Замятин, видимо, стремился к тому, чтобы его героя не отождествляли полностью с историческим лицом.
…мой товарищ по студенческим годам Я. П. Гв. – Имеется в виду Яков Петрович Гребенщиков (см. о нем настоящ. издание, т. 1, с. 601).
…отсюда его болезнь – хронический анапестит… – Анапест – в силлаботоническом стихосложении – трехсложная стопа, в которой за двумя неударными слогами следует ударный слог. Замятин имеет в виду то, что некоторые произведения Белого написаны ритмической прозой с использованием принципа анапеста.
Он стал прежним, таким знакомым Кемблу. – В комментарии Е. В. Барабанова (Замятин Е. Соч. М., 1988. С. 575) приводятся два фрагмента из рукописи, которые не вошли в опубликованный текст статьи:
«За дверью комнаты – шаги, возня, я просыпаюсь. Еще темно, через щель под дверью – свет, острый, как нож. Я слышу железный лязг ключа в замке. И от этого лязга, мгновенно перескакивая через несколько ступеней на последнюю, – отвратительное ощущение холодного, острого железа на шее: топор. Затем тотчас же, с мельчайшими подробностями, весь длинный вчерашний день, коридор, погоня, мальчик, который бежал впереди меня – в картузе с разорванным поперек козырьком. Я вспомнил все, мне ясно: она уже пришли за мной и сейчас меня поведут… Но почему же – топор? Разве теперь бывает – чтобы топором? Это явная чепуха, это похоже на сон…
Как только я понимаю, что это сон, – я просыпаюсь. Шею мне холодит пуговица от рубашки. Прикосновение этой пуговицы пустило в ход всю машину фантазии, уже начал строиться рассказ, повесть, сон, но стоило только включить сознание, и все кончилось, все исчезло, и умер секунду назад еще живой мальчик в картузе с рваным козырьком.
Этого мальчика, и камеру, и коридор – я мог бы увидеть не ночью, а вот сейчас, на бумаге, но если бы и попробовал полностью включить сознание – все непременно бы исчезло, как сон. Потому что когда я пишу (должно быть даже – когда мы пишем) – это похоже на состояние сна».
«Комната, где стоит мой письменный стол, подметается каждый день, и все-таки, если сдвинуть с места книжные полки – в каких-то укромных углах, наверное, найдутся пыльные гнезда, серые, лохматые, может быть, даже живые комки, оттуда выскочит и побежит по стене паук.
Такие укромные углы есть в душе у каждого из нас. Я (бессознательно) вытаскиваю оттуда еле заметных пауков, откармливаю их, и они постепенно вырастают в моих мистеров Краггсов, Азанчеевых, викариев Дьюли, строителей Д-503. Это – нечто вроде фрейдовского метода лечения, когда врач заставляет пациента исповедоваться, выбрасывать из себя все „задержанные эмоции“. Думаю, именно этим объясняется, что у большинства из нас – и у меня в том числе – гораздо больше так называемых „отрицательных типов“».
Огни Св. Доминика*
Впервые: Литературная мысль. 1922. Сб. 1. С. 37–81.
Печатается по: Замятин Е. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.
Как сообщает сам Замятин в автобиографии, эта пьеса явилась первым его драматургическим опытом и написана по предложению Секции исторических картин издательства «Всемирная литература».
Выбор темы, конечно же, не был случайным, поскольку Замятин, обращаясь к эпохе разгула инквизиции, одной из самых мрачных страниц в истории католицизма, мог здесь высказывать свои соображения об еретиках, о духовной свободе, о борьбе против единомыслия, которые звучали и в его публицистике, и в романе, над которым он работал, – «Мы». Так что пьеса, казалось бы, о далеком (и отдаленном по расстоянию) прошлом была вполне актуальной не только в начале 1920-х годов, но и сохраняет ее по сей день.
Кабальеро и дамы. Ллгуасилы. – Алгуасил (исп. alguacil) – стражник, полицейский в старой Испании.
Разве не Бог приказал Моисею истребить смертью четыреста поклонников Ваала? – Здесь некоторая неточность. В 3-й Книге Царств говорится об истреблении 450 пророков Ваала по указанию Бога пророком Илией: «И сказал им (народу. – Сост.) Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там» (3 Цар., 18, 40).
…как благородный… меч… в руках Сида Кампеадора… – Сид Кампеадор (Рюи или Родриго Диас де Винар) – испанский национальный герой (1040–1099), воевал с маврами, у которых в 1094 г. отнял Валенсию; Сид (по-арабски «господин») – прозвище, полученное им от мавров; Кампеадор (исп.) – воитель, герой. Его жизнь и подвиги стали сюжетами сказаний, поэтических преданий, литературных произведений.
…это Новый Завет по-кастильски… – В католицизме каноническими были первоначально признаны евангелия, написанные по-гречески, а впоследствии и переведенные на латынь. Перевод на национальные языки считался кощунством, ересью и преследовался инквизицией.
Входит Доминиканец… – Учрежденное папами в XII в. духовное судилище – инквизиция для преследования еретиков в XIII в. папой Григорием IX было передано в исключительное ведение монашеского ордена доминиканцев, причем основатель этого ордена Св. Доминик был первым генерал-инквизитором. За время существования инквизиции ею были замучены и сожжены сотни тысяч еретиков. Официально инквизиция была отменена лишь в 1965 г.
…насвистывает Te-Deum (лат.). – начальные слова католической молитвы «Тебя Бога славим».
Vade retro! – Изыди! Сгинь! (лат.)
…как тот суккуб… – Суккуб – демон, ведьма в человеческом облике.
Ergo… – Следовательно… (лат.)
Общество Почетных Звонарей*
Впервые: Общество Почетных Звонарей: Трагикомедия в 4 д. Л.: Мысль, 1926.
Печатается по этому изданию.
Инсценировка повести «Островитяне», написанная в 1924 г., в ноябре 1925 г. была поставлена в Ленинграде в Михайловском театре. Музыку к спектаклю написал Михаил Кузмин.
Блоха*
Впервые: Блоха: Игра в 4 д. Л.: Мысль, 1926.
Печатается по: Собр. соч. М.: Федерация, 1929. Т. 1.
В авторском предисловии к пьесе лаконично изложена история написания и постановки пьесы.
Здесь, правда, не упомянуто, что первоначально выдающийся актер и режиссер Алексей Денисович Дикий (1889–1955) обратился с предложением сделать инсценировку «Левши» Н. Лескова к Алексею Толстому. Толстой предложения не принял, ответив, что инсценировать «Левшу» невозможно. Замятин же, дав режиссеру согласие, показал, что такое вполне возможно, более того, взяв за основу рассказ Лескова, он обогатил его содержание и, по существу, создал самостоятельное произведение. Постановка «Блохи» в Москве и в Ленинграде имела оглушительный успех.
Пьеса стала бесспорной удачей Замятина как драматурга. Неуспех, по сути, провал постановок «Блохи» на Западе подчеркнул лишь тот факт, что реалии пьесы, язык ее персонажей, само действо настолько национальны, настолько рассчитаны на психологию именно русского зрителя, что зарубежный зритель просто не в состоянии постигнуть все нюансы, все тонкости этой «народной игры», как назвал ее автор.
Атилла*
Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк, 1950, № 24. С. 7–70. Печатается по: Сочинения. Т. 2.
Пьеса, над которой Замятин работал долгое время, несмотря на положительные отзывы при обсуждении на различных художественных советах и общественных читках, так и не была поставлена. В письме к Сталину Замятин приводит и отзыв М. Горького, который считает пьесу «высокоценной и литературно, и общественно» и полагает, что «героический тон пьесы и героический ее сюжет как нельзя более полезны для наших дней».
Законченная в 1928 году, так и не увидевшая огней рампы (хотя она уже была объявлена в афишах Большого Драматического театра в Ленинграде), пьеса была впервые опубликована лишь спустя 13 лет после смерти автора.
На родине впервые трагедия была напечатана в журнале «Современная драматургия» в 1990 году (№ 1. С. 205–227).
Африканский гость*
Впервые: Новый журнал. 1963. № 73.
Печатается по: Сочинения. Т. 2. С. 449–499 (с исправлениями по рукописи, хранящейся в Бахметевском архиве Колумбийского университета, Нью-Йорк).
Пьеса «Африканский госты», написанная в 1929–1930 гг., – одно из последних произведений, созданных Замятиным на родине. Разумеется, о постановке этой искрометной комедии, высмеивающей не только некоторые черты советского быта, но и присущее, к сожалению, до сих пор преклонение русского человека перед всем заграничным, и мечтать было нельзя. Поэтому вполне закономерно, что даже публикация за рубежом состоялась только спустя 26 лет после смерти автора. На родине пьеса была напечатана в журнале «Лепта» в 1994 г. (№ 18. С. 108–138. Публикация А. Тюрина).
Пещера*
Впервые: Современная драматургия. М., 1991, № 2. С. 216–221. (Предисловие и публикация А. П. Стрижева). Печатается по данной публикации.
В 1927 году Замятин по заказу Совкино написал инсценировку своего рассказа «Пещера», ее затем переделал Б. Леонидов, и в 1928 г. по этому сценарию режиссером Ф. Эрмлером был снят и выпущен фильм «Дом в сугробах».
В то же время написанная Замятиным пьеса по рассказу «Пещера» не была нигде поставлена. Ее рукопись сохранилась в архиве петербургского артиста, переводчика и драматурга Константина Павловича Ларина. Публикация А. Стрижева и явилась первым обнародованием пьесы Замятина.
История одного города*
Впервые: Странник: Литература. Искусство. Политика. М., 1991. Вып. 1. С. 16–28. (Публикация, вступительная заметка, комментарии и послесловие А. Галушкина).
Печатается по данной публикации.
Над пьесой по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» Замятин начал работать весной 1927 года.
Из переписки Р. В. Иванова-Разумника (псевдоним: В. Холм-ский) и Замятина явствует, что пьесу они были должны написать вдвоем для Государственного театра имени В. Э. Мейерхольда. Замятин и Иванов-Разумник вели с Мейерхольдом переговоры; в ленинградском журнале «Жизнь и искусство» появилось краткое сообщение о включении в репертуар театра Мейерхольда пьесы по «Истории одного города» в переработке В. Холмского и Е. Замятина; в письме Н. Р. Эрдману от 26 мая 1927 г. Мейерхольд, предполагая осуществить постановку пьесы в сезоне 1927/28 года, сетует на то, что «Щедрин будет готов, как нам сообщает Замятин, только в сентябре» (М е й – ерхольд В. Э. Переписка. 1896–1939. М., 1976. С. 266).
Однако пьеса так и не была окончательно завершена и поставлена, поскольку Замятин одновременно занимался вопросами постановки «Атиллы». Кроме того, очевидно, Замятин не был вполне уверен в том, что Мейерхольд вполне осуществит авторский замысел, поскольку зачастую далеко уходит от оригинала при постановке. Интерес к еще не написанной пьесе проявил и Театр им. Евг. Вахтангова.
В архиве писателя сохранился конспект первых двух действий (происшествий) пьесы, которая должна была состоять из семи происшествий, и самая общая характеристики замысла: «Пьеса в фантастической гротескной форме представляет собою пародию на историю России от ее начала до наших дней. Построена пьеса частью на материале, взятом из сочинений классика русской сатиры Салтыкова-Щедрина. По форме своей пьеса дает очень широкое поле для режиссерской фантазии».
Рождение Ивана*
Публикуется впервые по рукописи.
Вероятно, эта мини-пьеса – лишь предварительный набросок, представляющий собой концентрированное содержание более крупного произведения, так и неосуществленного.
Житие Блохи*
Записанное Евгением Замятиным Житие Блохи от дня чудесного ее рождения и до дня прискорбной кончины, а также своеручное Б. М. Кустодиева изображение многих происшествий и лиц.
Впервые: Л.: Книгоиздательство Писателей в Ленинграде, 1929.
Печатается по данному изданию. Комментарии – Е. И. Замятина.
Шумный успех постановки «Блохи», та дружественная атмосфера, в которой работали автор пьесы Замятин, режиссер А. Дикий, художник Б. Кустодиев, актеры и весь постановочный коллектив, побудили Замятина написать эту шуточную историю, а Кустодиева – иллюстрировать ее.
Любопытное совпадение: примерно в то самое время, когда Е. Замятин и Б. Кустодиев работали над этой книжечкой, Михаил Осоргин в Париже в газете «Последние новости» (4 декабря 1928 г.) опубликовал заметку «О степени интереса», в которой среди других старинных книг посвятил несколько абзацев книжке, вышедшей в Москве в 1839 г. Вот ее название:
«История блохи, содержащая в себе весьма любопытные наблюдения над сим насекомым. Сочинение Г. Бертолотто, известного своею редкою коллекциею ученых блох».
Интересно, не были ли Е. Замятин и Б. Кустодиев знакомы с этой старинной книжицей?
Выходные данные
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН
Собрание сочинений в пяти томах
Том 3 ЛИЦА
Федеральная программа книгоиздания России
Руководитель проекта Михаил Ненашев
Редакционный совет: В. П. Лысенко, А. Н. Николюкин, Ст. С. Никоненко, М. И. Попова, А. Н. Стрижев, А. Н. Тюрин, Ж. Шерон
Составление, подготовка текста, комментарии Ст. Никоненко и А. Тюрина
Художники И. Шиляев и С. Латышев
Редактор Т. И. Киреева
Художественный редактор Е. В. Поляков
Технический редактор И. В. Филимонов
Корректор Н. Д Бучарова
Компьютерный набор Г. Н. Злотникова, В. В. Степанова
Компьютерная верстка Е. Г. Метченко
Подписано в печать с готовых пленок 11.07.03. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Корина. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,92 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч. – изд. л. 33,41 (в т. ч. вкл. 0,04).
Тираж 2000 экз. С-24. Заказ № 6508.
Издательство «Русская книга» Федерального агентства Российской Федерации по делам печати и средств массовых коммуникаций
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати – ВЯТКА»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Примечания
1
«Революция в России», «Отречение русского царя» (англ.).
(обратно)2
Здесь: «На первой странице» (англ.).
(обратно)3
милосердие (лат.).
(обратно)4
человек прямостоящий (лат.).
(обратно)5
Я представляю себе, например, как бы он смеялся, если бы ему удалось прочесть напечатанную в «Известиях» статью московского критика Фриче, где Фриче пишет о Кустодиеве и обо мне: Фриче противопоставляет добродетельного Кустодиева недобродетельному мне, в невинности своей совершенно не подозревая, что Кустодиев делал рисунки к моему рассказу «О том, как исцелен был отрок Еразм», что «Русы» написана как текст к картинам Кустодиева.
Мне жаль, что Борису Михайловичу не пришлось лишний раз в жизни хорошо посмеяться.
(обратно)6
человек, сам себя сделавший (англ.).
(обратно)7
Патриарх советской литературы (фр.).
(обратно)8
Кроме перечисленных 29-ти романов, четырех томов фантастических рассказов и нескольких детских книг, Уэллс написал еще ряд социально-политических, научных и философских книг: «Предвидения», «Созидание человечества», «Новые миры для старого», «Взгляды англичанина на мир», «Что впереди?», «Будущее Америки», «Социализм и семья», «Первое и последнее», «Спасение цивилизации», «Бог – Невидимый Владыка», «Россия в сумерках», «Очерк всемирной истории» и др.
(обратно)9
следовательно (лат.).
(обратно)10
жест, предохраняющий от «сглаза» (ит.).
(обратно)11
жаргон (фр.).
(обратно)12
«Меня зовут Плотником» (англ.).
(обратно)13
страх пустоты (лат.).
(обратно)14
Общество борьбы с пороками (англ.).
(обратно)15
доведение до абсурда (лат.).
(обратно)16
спальный вагон (англ.).
(обратно)17
В повести м-ра Стюарда нет: из м-ра Стюарда вместе с пастором Чези образовалось одно лицо – викарий Дьюли. Пасторша Чези – конечно, миссис Дьюли в повести.
(обратно)18
Гопкинс – в повести переменил свое имя на О'Келли.
(обратно)19
Пенсне.
(обратно)20
Королевские Панч и Джуди (персонажи ярмарочного балагана) (англ.).
(обратно)21
О, я невинна (англ.).
(обратно)22
Ужин (англ.).
(обратно)23
Морской курорт (англ.).
(обратно)24
Дорогой сэр (англ.).
(обратно)25
«Молись за нас» (лат.).
(обратно)26
Для упрощения постановки сцена Мак-Интош – Бобби может быть опущена.
(обратно)



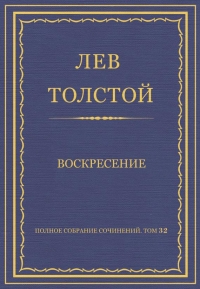
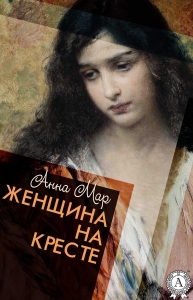
Комментарии к книге «Том 3. Лица», Евгений Иванович Замятин
Всего 0 комментариев