Иван Григорьевич Истомин Первые ласточки Том 2
ВСТАНЬ-ТРАВА Роман
Глава 1 Весть
1
Приполярье.
Лунная ночь.
Тускло светятся звезды.
Завывает лютый северный ветер.
— Кыш-ш! Кыш-ш… — каюр[1] сипло кричал на шестерку оленей, отгоняя тягучий сон.
Олени едва трусили, поводя боками, выпучив глаза и высунув языки чуть не до снега — отмахали без остановок около двухсот верст из Обдорска в село Мужи. Немного осталось до селения — в морозном, густом тумане вроде завиднелись огни.
Каюр в малице[2] и поверх нее в гусе[3] шерстью наружу, обут в тройные кисы — пимы из оленьего меха. И весь закуржавел, не видно лица, отороченного пухлой снежной бахромой. Продрог он до мозга костей на пронизывающем насквозь студеном ветру. И хочется ему спать. Но нужно увидеть хоть одного человека из села и доложить, а потом…
— Кыш-ш!.. — Каюр затянул бессловесную мелодию то ли по-зырянски, то ли по-хантыйски, то ли по-ненецки. Такую печальную, что сам заплакал и долго всхлипывал, смахивая слезы меховой рукавицей. Уже стало видно село, менее затуманенное, освещенное луной. Олени шли кое-как шагом, то и дело спотыкаясь. И наконец остановились. Два оленя осели в снег. Каюр тыкая их хореем,[4] шикал, но ничего не смог добиться. Решил отдых дать хоть недолгий. Потом снова вся упряжка потянула тяжким шагом. Каюр не гнал их — дотащат.
2
В полутемной комнате горит увернутая лампа.
— Пи-ить…
Илька раскидался в жару. На лбу высохшая тряпка. Дышит часто. Бредит. И видит Илька, будто стал здоровым — руки и ноги двигаются, не опутаны хворью. И снится, что он летает. Не ходит — не помнит, как ходить, с трех лет отказали ему ноги. Он летает, летает легко, словно обская чайка. Как весело и радостно! Только хочется пить, но он не может сделать и глотка, хотя кругом вода…
— Пи-ить… — просит Илька неслышным голосом и видит себя среди цветов, мокрых от росы. Вспомнился Вотся-Горт, когда мама купала его в росе. Приговаривала ласково: «Еще, еще, мой заинька, мой маленький сыночек! Роса — травяная слеза. Чистая, радостная. Самая для тебя, для несчастного, пользительная. Особливо со цветочков душистых-запашистых. Вон сколько их, ясных слезинок-бусинок, в синих колокольчиках! Все их выльем-вытрясем на тебя!» Илька видит мокрые цветы, но лишь облизывает губы — сном не утолишь жажду. Ох, как пить хочется! Ну, мама же! Почему ты не слышишь?
И Илька плачет вслух, громче:
— Пи-ить!.. Пить!..
Елення испуганно вскакивает с кровати, прибавляет огонь в лампе, берет со стола кружку и спешит к Ильке, поит его.
— Родной мой. Долго звал, поди… И весь раскрылся…
Она поправила одеяло, пощупала тряпку — совсем сухая.
А Илька со слезами:
— Я звал, звал тебя снять меня с крыши, а ты не идешь. Почему есть лестницы лазить вверх, а спуститься — нет? Гы-ы-ы…
— Вот беда-то, — мать приложила мокрую тряпку. — Жар-то какой…
3
В эту лунную, трескучую морозную ночь по безлюдной улице спешил куда-то человек в толстой малице и подшитых валенках, а не в обычных для этого края мягких меховых кисах. «Вжик-скрип, скрип-вжик…» — раздавалось в студеном воздухе. Он, как пьяный, шатался и что-то бормотал неясное и темное.
Вжик-скрип, скрип-вжик — морозно взвизгивает снег под его валенками. Временами председатель сельсовета Роман Иванович прикладывает к щеке теплую рукавицу и смахивает слезы. Он прозван в народе Куш-Юром, Гологоловым, за голую, как яйцо, голову, обожженную на барже смерти. Сгорели в полыхающей барже его друзья-товарищи, пали под свинцовым дождем те, кто бросился в реку, а Куш-Юр спасся. В кандалах, обезумевший от бессилия, бросился Роман в студеную осеннюю Обь и, уцепившись за корягу, доплыл до берега. И с той кровавой ночи не угасает в его сердце ненависть к врагам трудового народа и вера в свое революционное дело. А то, что Куш-Юром зовут, не велика беда, здесь у каждого зырянина прозвище. Куш-Юром прозвали, стало быть, признали своим.
Куш-Юр повернул к крыльцу Варов-Гриша — Гриша-Балагура, — отряхнул от снега валенки и отворил дверь.
— Гм, гм! — кашлянув, Куш-Юр перешагнул высокий порог. В тусклом свете различил лежащих на полу людей, видно, проезжих. Потоптался и осторожно, чтобы не наступить на спящих, прошел возле печи. «Спят!» — тихо пробормотал Куш-Юр, и половица под ним громко и протяжно застонала.
За пологом резко скрипнула кровать.
— Это я, Роман, председатель. Срочно надо Григория… Да и всех вас тоже… — Он прошагнул в комнату и, шумно передвинув стул, присел. От скрипа завозились ребятишки. «Разбудил!» — упрекнул себя Куш-Юр и негромко позвал: — Вставай, Григорий.
Заспанный Гриш высунулся из-за полога. Куш-Юр, стряхнув ладонью пот с лица, извлек из-под малицы листок бумаги.
— Здравствуй… Что стряслось-случилось?.. — хрипло спросил Гриш.
— Умер!.. — сдавленно выкрикнул Куш-Юр.
— Кто, что?! — Босой Гриш рывком сел на лавку. — Кто такой умер?
— Ленин умер, — проглотил слезы Куш-Юр. — Вчера вечером. — Куш-Юр шелестнул бумагой. — В шесть часов пятьдесят минут…
У Гриша в глазах потекло лицо Куш-Юра, как отражение в неспокойной воде…
Зашевелились люди в соседней комнате. Куш-Юр, сгорбившись, беззвучно плакал.
Встала с лавки не спящая Елення, в сарафане, в баба-юре — кокошнике и кисах. Тихо поздоровалась, прибавила огонь в лампе и занялась ребятишками, успокаивая их. Елення не узнавала прежнего Куш-Юра и, все-таки угадав, что это он, поразилась перемене в его лице… И Елення испугалась, в нее вошла томительная тревога, предчувствие страшной беды, такой страшной, от которой и смялось лицо Куш-Юра, лицо председателя Советской власти, стало оно потерянным, будто след, засыпанный снегом.
— Ну-ка. — Гриш дрожащими руками взял бумагу и долго читал, шевеля губами, хотя написано было немного. Потом отдал листок, спросил растерянно и горестно: — Как так? Как же так? Может быть, ошибка-путаница?
— Бумагу из Обдорска доставил каюр, — после долгой паузы заговорил Куш-Юр. — Надо, Григорий, делать древко. Для траурного флага.
— Как же так? А? Ленин умер, — не слушая его, отрешенно повторял Варов-Гриш.
— Для древка возьми подлиннее палку, чтоб всем был виден траурный флаг, — скорбно склонил голову председатель.
Елення, словно впервые увидела его голову в шрамах и рубцах, заплакала тихо и жалостливо. Слышались всхлипывания и во второй комнате, все еще не освещенной. У Ильки жар заметно спал, и он, лежа на боку, различал в полумраке Куш-Юра, собравшегося уходить.
— Кто помер, мама?
— Ленин… — Елення вытирала слезы передником. — Дед он тебе…
— Владимир Ильич, — добавил Куш-Юр.
Для Ильки Ленин был не дедом, а добрым, всемогущим богатырем из далеких и близких сказок — «Ленин дал!», «Ленин сделал!», «Ленин помог, не дал погибнуть!», «Отец… вождь… друг!». И то, что он умер, то, что он ушел навсегда, отнимало всю надежду на сказку.
И Илька заплакал горько и безутешно:
— Ленин… умер… Ой-о-о!
Куш-Юр взглянул на него:
— Два раза сказывал ему. И запомнил! — удивился Куш-Юр.
— Болеет вот… — Гриш натянул верхнюю рубаху и принялся обуваться. — Выживет ли, нет ли… кругом беда!..
— Да-а, плохо у нас — до сих пор нет фельдшера. — Думая о чем-то другом, Куш-Юр спрятал бумагу в рукавицу. — Многого у нас пока нету, Григорий. Но есть у нас Советская власть. Народ-ная, — повысил голос Куш-Юр. — И Ленин будет вечно жить в этой власти! Вечно!
— Он, Ленин, ранен был? — спросила негромко Елення.
— Был, — выдохнул Куш-Юр. — Отравленными пулями был изранен! Да… Надо другим передать эту горькую весть. Всем надо знать. В десять утра соберемся в Нардоме.
— Как людям сказать о такой беде? — Гриш одним взмахом набросил на себя малицу и вышел вслед за Куш-Юром.
На западной, уральской стороне в морозном тумане высоко светилась предутренняя луна. Она странно пульсировала: то раздвигалась, то вдруг обретала привычные очертания. И тогда мир являлся перед Гришем то в густом сумраке, то в ярком свете с резкими тенями. Гриш вытер рукавом мокрые глаза.
Над селом стояла хрусткая безголосая тишина, лишь ветер да шорох снега нарушали ее. И от этого душу захватила такая тоска и маета, обдало таким холодом, что Гриш, проваливаясь в снегу, заметался по двору.
— Что-то надо делать! Что-то надо делать! — лихорадочно проносилось в голове. Ему казалось: если сейчас он займется каким-то делом, то отодвинется от сердца, уйдет, может быть, надолго эта жгучая тягость. Он бесцельно метался по двору, пока не наткнулся на припорошенную снегом кучу жердей. Остановился. «Да. Древко. Нужно крепкое, высокое древко».
Имя «Ленин» Гриш впервые услышал в германскую войну. Оно неожиданно возникло в солдатских окопах в самые пропащие, паскудные времена, и тех людей, что говорили гордо: «Ленин!», хватали, заламывали руки и куда-то уводили. Они не возвращались. Гриш побывал в австрийском плену, но «убёг»… он знал, что такое плен, что такое неволя… тем более для гордого коми-зырянина.
Сбросили царя с недоступного престола. Ой-ой как… грохнул-охнул, какой гром-звон, вздрогнула, застонала земля, плач и смех раздался. Народы радовались, богатеи темнели душой и стервенели. «Ленин дал волю! — говорили люди. — Ленин дал мир… Ленин дал землю!» Землю? — этого Гриш тоже не понимал… Ему не земля нужна, а угодья рыбные, угодья зверовые… а земля — что? Он часто слышал имя Ленина в партизанском отряде, когда они выкуривали из урманов колчаковские и кулацкие банды. Гриш уже знал, за что боролся — за реку, за тайгу, за небо над ними. Но сомневался Гриш, сомневался страшно, что такая голытьба, как он, действительно способна удержать власть в своих руках. Бедные. Драные. Голодные. Неграмотные. А рядом? Рядом все еще живут богатеи, у которых в руках и скот, и кони, и товары, и сети, и порох-дробь, а главное — уверенность в том, что они никуда не уйдут, О-ни не уй-дут! Да, наверное, они не уйдут…
Однажды у ночного костра, после горячей стычки с бандой, когда их со всех сторон обступила темнота и неизвестность, Роман Иванович Иванов, год назад выбранный председателем Мужевского сельсовета, поведал партизанам о Владимире Ильиче Ленине. И тогда Гриш услышал: Ленин — это человек, за которым стоит вся партия большевиков и трудящиеся всей земли. Ленин — вождь всех бедных, вождь всех угнетенных. Мир — чумам, война — хоромам! Ленин сказал: все люди — братья. И зырянин брат вогулу, брат остяку, и остяк — брат ненцу-ярану. Нет диких народов, есть дикие хозяева. Дикие, как волки. Волк берет не кусочек шкуры, а жизнь. Так и хозяин — вынимает у бедного душу. И вот Ленин против всех диких.
— Если уже поднялся весь народ, — говорил Куш-Юр, — то его нельзя победить никаким выродкам!
В самые трудные дни Гриш обретал веру в смысл жизни. Нет, прежде всего он верил в себя, и он не терял своей веры даже тогда, когда развалилась первая коммуна-парма, в которую он вложил свою душу, свой труд. Что ж, в чужие головы свои думы не вложишь! Не поняли еще люди преимущества общего труда — завтра поймут! Да и перехватили малость тогда, обобщив даже домашнюю утварь… горшки, черепки, петли-капканы. Это тоже надо понимать… В следующий раз уже нельзя делать таких ошибок! А кто поможет?
«Умер, умер он, Владимир Ильич, — опять застучало в висках Гриша. — Отлучились от страха, неужели в страх войдем? Надо развести великие костры, чтобы пламя небо доставало… звезды и луну. Чтобы на огонь пришли люди разных земель, люди разных лиц и обычаев… И все вместе думать стали, как дальше жить…»
4
Луна опустилась к горизонту за угрюмую стену лесистых увалов. Не слабеет северный ветер — резкий, жгучий. Медленно поднимается позднее утро. Льдистый ветер скоблит широкую улицу, раскачивает кедры, тоскливо гудит в печных трубах. Зря не выйдешь. Ох, как не хотелось Сеньке Германцу выходить во двор. Жеребенок что ребенок — пить давай, коли время тому пришло. Набросил Сенька на себя худенькую малицу, затянулся ремнем, как веник-голик, и натянул капюшон на брови. Прорубь на реке крепко затянуло льдом — никто, видно, еще не ходил сюда. Пробовал разбить — не мог, а с собой ничего не взял. Чертыхаясь, поплелся он с жеребцом по ровному, укатанному полю на север, к другой проруби. Ветер встречный, лютый, режет лицо, выжигает слезу. Пока шел, отморозил добела нос и щеки, но не почувствовал. Прорубь открыто парит. Напоил коня, маленько подумал, куда идти — назад ли по полю или между домами и по улице налево. «Да по ветру почти до самой избушки», — решил Сенька и тут почуял, что продрог до костей.
Озыр-Митька — Богатый Митька, — одетый в новую малицу и добрые кисы, внимательно разглядывал, правильно ли, прочно ли заложен фундамент двухэтажного дома. Озыр-Митька ставил его рядом со своей многокомнатной избой. Эту ночь он спал беспокойно, видел почему-то во сне черные флаги, людей в черных малицах, людей с темными лицами. Даже в такой мороз вышел проверить-прикинуть — не зряшная ли такая работа в смутную пору, когда не знаешь, куда и как повернет будущее.
Пока смотрел сруб, проверяя крепость венцов, услышал новость — умер Ленин. Да-да! Ночью из Обдорска прибыл нарочный, весть донес, что Ленина нет в живых. Эгрунька, сестра Озыр-Митьки, слышала от кого-то. Сейчас зять — ненец Яран-Яшка пошел к Варов-Гришу — узнает что-нибудь.
Сенька, низенький, маленький и щупленький, легко подгоняемый ветром, семенил с жеребцом по улице. Озыр-Митька, защищаясь от стужи, удивился, увидев его:
— Ты как попал в наш край?! Погода-то — ядрена палка! Может, прогуливаешься? Невесту ищешь, чтоб на жеребце прокатить, а? — захихикал он женским голосом.
Сенькину беду он знал. Сенька теперь один, без жены своей, без Парасси. Снюхалась она в Вотся-Горте с Мишкой-Караванщиком — «у них в коммуне все общее, всякая баба на всех!» — и, вернувшись в Мужи, в первое же лето уехала с ним на низ, за Обдорск. Всех троих сыновей забрала с собой, а троих дочерей, три пасти ненасытных, оставила Сеньке-придурку. Вот так-то! Корову заставила продать, а деньги — пополам. «Вот она, социализма, — хихикал Озыр-Митька. — Бабе волю дали, сравняли под мужика». Мишка, конечно, науськал ее. Своих-то, вылитых двух близнецов, рыжих Зинку-Зиновея и Минку-Миновея, жалко было оставлять без пая. А на Сандру, на законную жену свою, Мишке наплевать. Пришлось Сеньке Германцу под осень приобрести годовалого жеребенка, надеясь на будущего коня. Никакой другой живности нету при ветхой избушке. Вот и забота — утром и вечером водить жеребца на водопой.
— Чего молчишь? Невесту ищешь? — хихикая, говорил Озыр-Митька.
— Нет. Там стыло. Водил сюда, — лепетнул Сенька, потому что язык у него был «гнилой» — неповоротливый язык. И оттого слова у него неясные, мутные, ползут, как грязь на дороге.
— А-а… Постой-ка… — подозвал Озыр-Митька.
— Некогда…
— Да погоди, говорю. Есть вопрос.
— Какой вопрос? — Сенька остановился.
— Иди поближе… — подманивал Озыр-Митька, широко расставив ноги. Сенька подошел, ведя за собой жеребца.
— Говорят, умер Ленин, — прищурился Озыр-Митька.
— Какой Ленин? — не понял Сенька. — Какой такой?
— Он — один. Ленин-то…
— Не может быть!.. — Сенька испуганно отступил на шаг.
— Почему не может быть? Человек же он. Жил-жил да умер. Нахозяйничался… — Митька хихикнул.
— Вот беда-то… — съежился Сенька. — Как же мы жить будем?
— Как? По старинке, думаю… Вон Яшка идет. Сейчас узнаем. По старинке, чтобы богатые, крепкие разумом люди правили. А не рвань. Ну что, Яшка?
Яран-Яшка улыбался во все широкое лицо, бегло бросил на Сеньку взгляд и сказал:
— Правда, правда! Гришка палку для флага кончает делать. Длинную! Все плакают. О Ленине только и говорят. Не знают, как жить станут! Жалеют шибко…
— Вот видишь, Сенька Германец? А ты не верил. «Не может быть!» — передразнил Озыр-Митька. Он сразу заметил, что нос и щеки у Сеньки побелели, но ничего не сказал. Яшке и пробегающей мимо из дому белокурой красавице Эгруни кивнул и прищелкнул языком — пусть, мол, помучается ради праздника. Но Эгрунь не вытерпела, засмеялась громко:
— Заживет до новой Парасси!..
Сенька поморгал длинными закуржавелыми ресницами и, ничего не поняв, пожал плечами.
— Зачем Парасси? Горе случилось. — И печальный, скомканный, быстро повел жеребца.
Навстречу ему из-за угла соседнего дома вышел высокий, плечистый мужчина в малице с откинутым капюшоном. Угольно-черные кудрявые волосы закрывали уши. Гажа-Эль — Алексей-Гуляка — шел по улице, принюхиваясь и вглядываясь в окна. Сегодня, видать, не успел еще выпить — трезвый. Поздоровались, Гажа-Эль сразу же увидел обмороженное лицо Сеньки.
— Ты, Сенька, белый, как береста. Сгибнешь… Давай натирай!
Тот пощупал опухшие щеки и нос, посмотрел сердито на Озыр-Митьку и Яшку, принялся тереть лицо снегом. Эль свирепо взглянул на них, пострашал тяжелым, как кувалда, кулаком. Сенька начал говорить Гажа-Элю что-то очень важное.
— Якуня-макуня… — донеслась к Озыр-Митьке поговорка Гажа-Эля. — Умер?.. Ленин умер?!
Митька увидел, как Сенька и Эль посмотрели на него недобрым взглядом и свернули направо, между избами. Знать, к Варов-Гришу.
— Нашлись хозяева, голодранцы. — Озыр-Митька выругался негромко. — Мы — хозяева! Были и будем!..
5
К десяти часам утра не потеплело, хотя ветер приутих. Наоборот, мороз стал еще злее, сгустив воздух в зыбкий туман, в котором низкое солнце походило на луну. Солнце было без лучей. Солнце было холодным. Солнце было серым, ни одна живая краска не трепетала ни на небе, ни на земле. Только высоко над Нардомом кроваво-черно стекал по древку траурный кумач.
Люди, оповещенные с ночи, шли к Нардому, и еще никогда на улице поселка не было так много людей и никогда не было так тихо. Люди смотрели на траурный флаг и опускали глаза. И частицы их печали сливались воедино, становились такой огромной и нестерпимой скорбью, что каждый из этих людей бессознательно старался нащупать локтем локоть другого.
Люди стекались к Нардому, но почему-то не решались войти. Они плотной и молчаливой толпой обступали высокое крыльцо и замирали в нетерпеливом и тоскливом ожидании.
Чужеродно заскрипела в тишине дверь. На крыльцо вышел Куш-Юр. И тишина стала еще плотнее — такой плотной, что трудно стало дышать. Председатель сельсовета был без шапки. И люди, увидев его бескровное лицо, неузнаваемое от страдания, повинуясь какому-то единому побуждению, тоже обнажили головы.
Горячечные глаза Куш-Юра вглядывались в лица, в глаза тех, кто стоял перед ним. Увидел он комсорга Вечку, его помощника Халей-Ваньку и Пызесь-Мишку. Он судорожно сглотнул раздирающий горло плач и сказал совсем не то, что намеревался, ступая на крыльцо:
— Вот… Остались одни… Без Ленина…
И вдруг женское рыдание навылет прожгло сердца. Сдерживаемое всхлипывание пробежало по рядам, и Куш-Юру на миг показалось, что он не выдержит горя, и сердце его разорвется, и так будет лучше и легче. Но он овладел собой.
— Без Ленина… Он был нам вождем и отцом. Как отец, он хотел для нас счастливой жизни. И как вождь он вел нас к ней… Он дал нам силу в борьбе за нее. И теперь никакой богатей с черным сердцем не смеет поднять руку на то, что принадлежит нам!..
— Гм… — хмыкнул Степка сзади, в последнем ряду, возле своих молодчиков, подосланных отцами послушать, что болтает Куш-Юр. — Как не так…
— Колотранцы, — поддержал его и Яран-Яшка.
Куш-Юр не слышал. Голос его креп от слова к слову. Светлело лицо. Во взгляде прежняя непримиримая твердость.
— Все, что дал нам Владимир Ильич Ленин, никогда не умрет, и старое никогда не вернется! И пока бьются наши сердца, он будет жить в них! Он будет жить в сердцах сыновей, а потом и внуков. Он хотел для нас счастья — и мы будем счастливы. Сегодня у нас огромное горе. Умер Ленин. Но есть на земле мы… И каждый шаг наш к общему счастью — частица его, ленинского, дела! И это бессмертно!
Морозный туман густел над селом. Каменела тишина. И люди стояли неподвижно. Стекало на них алое зарево от склоненного знамени. И огонь этот был негасим.
Глава 2 В Урмане
1
В феврале Варов-Гриш, изгнав из души печальные заботы, встал на лыжи, позвал собаку и собрался в лес — глухаря добыть да хоть того же косача. Опоясался патронташем, на поясе — нож, за поясом — топор.
— Побегли! — Он приласкал собаку, а та уже рванулась к темнеющему кедрачу, тоненько поскуливая, переполненная нетерпением и азартом охоты. Казалось, Мужи потонули в кондовой тайге,[5] в кедрачах, в сосновых борах и ельниках, непроходимых урманах,[6] но это на взгляд нездешнего, пришлого человека. Вокруг села клубились, переплетались, впадали одна в другую звериные и людские тропы, петляли вокруг болот и уводили в охотничьи угодья местных остяков. Крупную боровую дичь, глухаря да косача, пришлые охотники распугали, выбили за многие годы: и петли ставили, и слопцы. Но рябчик посвистывал в таежных ольховниках, да куропатка квохтала по моховым клюквенным болотам. Зайцы истоптали тальники мелких речушек.
Не раз пересекал Варов-Гриш то лисий след, то мелкий стежок горностая, то беличью тонкую цепочку. Давно он не ходил в урман, и сейчас ему бежалось легко, лыжи словно сами тянули в заснеженную зачарованность леса.
День оказался удачным. Гриш снял трех косачей и добыл глухаря да пяток куропаток. Он уже собрался повернуть домой и спустился в неглубокий распадок, и тут лайка насторожилась, забеспокоилась. Варов-Гриш, всматриваясь в синеватые сумерки, различил в устьице распадка невысокий, словно потаенный, костерок. У костерка стояли люди, держали под уздцы коней, и, приближаясь к ним, Варов-Гриш понял, что те кого-то ждали, перебрасываясь короткими фразами, в которых слышалось нетерпение. Одного Варов-Гриш узнал, то был Яран-Яшка, двое других были незнакомыми. Он решил не выходить на костер и прислонился к кряжистой сосне. Вскоре на тропе появилась третья подвода, из нее выпрыгнул Озыр-Митька в толстой малице и с винтовкой за спиной.
— Что долго? — грубым голосом спросил один.
— Путь не близкий… Куш-Юр возле дома крутился, — ответил Озыр-Митька. — Нюхает. Два глаза, а хочет видеть как десять…
— Пуганите его, — резко перебил грубый голос. — Скоро он вас как щенят передавит…
— Не передавит! — захохотал Яран-Яшка и тронул лошадь. Маленький обоз свернул на проторенную тропу, что обегала ельник, и вскоре исчез, словно его и не было.
«Снова грудятся! — подумал Варов-Гриш. — Богатеи так и сбиваются в стаю. Выбили банды из лесов, так они опять на какое-то темное дело собираются. Может, яму с осетром где вскроют… А может, остяков ограбят? Нужно сказать Куш-Юру…»
Не догнать ему маленький караван. Варов-Гриш и не думал идти по следу, но его насторожила деловитая собранность этих людей и властность человека с грубым голосом. Такой голос был у волостного начальника, но того давно выкинули. Их, тех прежних, многих выкинули, да они возвращались, как оборотни.
Варов-Гриш осторожно приблизился к затухающему костру. Ведь стоянка, пусть короткая, может многое поведать. Двое были в валенках — эти, наверно, русские. Здесь наследил Яран-Яшка, он приволок сухару и суетился, раскидывая костер, а вот здесь, под елью, стоял в кованых сапожищах грубоголосый. Видать, вовсе не из этих мест, но почему-то не хоронится, в таких сапогах он каждому приметен. Водку наскоро выпили, стоя, бутылка горлышком торчала из сугроба, у костра маленько насорили осетровой шкуркой. И больше ничего… А почему таятся? Куда пошли-поехали, чего задумали? Однако в каждом опасность угадывать, ходить в лес да оглядываться? Нет. Подохнуть можно от такой жизни.
«Но вызнать их следует, — решил Варов-Гриш и позвал собаку, что шарила по кустам. — Домой пора… Елення поди заждалась. Да Илька просил беличий хвостик. Эх ты, Илька, родимая душа! Неужели не суждено тебе ходить на охоту?»
И незаметно со всех сторон набежали думы… думы… думы…
2
С двумя братьями, Петул-Васем и Пранэ, выехал он рыбачить тем летом верст за пятнадцать от Мужей в Васяхово. Началась путина, и торопился Гриш запастись рыбой на долгую зиму. Ильке минуло тогда три года — крепенький, подвижный, смышленый поднимался мальчонка, дружелюбный и доверчивый, и оттого знали его не только в селе, но и окрестные остяки, что по делам наведывались в Мужи. Тянулся он к людям, юркий и веселый, как бурундучок — посвистывал дроздом, кричал кукушей-кеня, ухал, словно филин-сюзь. Пел непереводимые птичьи песни, и за легкость звенящего смеха его одаривали люди кедровой шишкой, манком на рябчика, обломанной блесенкой на щуку, лебединым пером или беличьим хвостиком на забаву.
Но случилась беда, подстерегла росомахой. Собралась мать Елення на рыбацкий стан к Гришу, а Илька намертво вцепился в нее — «бери к отцу». Так и этак билась с ним Елення — как смоляной прилип. Не выдержала, взяла.
Заштормовала Обь, забилась волна в борта лодки-калданки,[7] северный ветер просквозил, выстудил мальчонку, и заледенел Илька хрупкой веточкой — руки-ноги ломала мерзлота изнутри. Заметался отец, ударилась в слезы Елення. К полудню голову мальчика свело набок, руки и ноги скрючило судорогой. Он впал в беспамятство. Елення не находила себе места, не выдержал и Гриш: обхватил голову руками, заплакал. Полгода кормили сына с ложечки. Постепенно голова выпрямилась, возвратилась речь, а ноги не действовали и стали сохнуть.
Дядька Петул-Вась, что служил в армии санитаром-ветеринаром, осмотрел Ильку и заявил сурово:
— Паралич.
Всех окрестных бабок и гадалок обегала Елення. Она дала обет: если сын поправится, пешком сходить в Абалакский монастырь, что возле Тобольска, за полторы тысячи верст. Елення впустила в себя чувство неискупимой виноватости перед сыном, впустила и принялась выращивать в себе то истовое страдание, что называется беззаветной материнской любовью. Как это — бегать, прыгать, залезать бельчонком в кроны кедров — и вдруг! Вдруг после трехлетней жизни, что начинала раскрывать свои маленькие чудеса и тайны, что ревела бурей над лесом и шептала шорохом звезд, кедровой хвоинкой и хрустким треском растущего гриба, вновь учиться ползать, распластавшись по земле.
По совету Петул-Вася Ильку каждый вечер сажали в деревянное корыто с горячей водой, сдобренной муравьиными настоями, укрывали с головой покрывалом. Мальчик задыхался, ревел, но его парили и парили, приговаривали:
— Коньэр ты наш! Потерпи чуток… Потерпи, коньэр-калека!
Началась бесконечная, изо дня в день, из часа в час, борьба за маленькое существо. И не только Елення — мать, терпеливая мать, принявшая на себя виновность, но и отец — Гриш, и дядьки, и тетки, и все село Мужи пыталось спасти ребенка. Сбереги его, Земля! Дай силы ему, Земля!
Илька полз по грани жизни и гибели. Выздоровеет, но поднимется ли на ноги? Хватит ли души взнуздать себя и прийти к людям, не вызывая у них жалости?
— Не горюй, детка, — жалеет бабушка Анн. — В твоем роду по дедушке-бабушке и певуны, и плясуны бывали. Даже иконы малевал один. Тоже был калека-коньэр. Аристархом звали. Авось Бог пожалеет — и тебя одарит уменьем к чему-нибудь. А сейчас слушай!
И добрая бабушка Анн пела ему песни, что придумывала на ходу. И песни ее были все время разными, редко они повторялись. Илька тоненьким голоском подпевал бабушке.
— Не горюй, детка! — ласковой ладошкой прикасалась бабушка к его головке. — Бог и тебя одарит каким-то уменьем, только ни ты, ни я еще не знаем. Крепись…
3
В голубовато-серебристом свете зимней луны Варов-Гриш пересек речку Юган и быстро поднялся на взгорок к селу. В окнах тепло желтели огоньки, а над каждой крышей повисал легонький столбик синеватого дыма. Пахнуло березовым угольком, смоляной чуркой, потянуло запахом ухи и едва уловимым теплом хлеба. И серебристую эту тишину совсем не разрушали ленивый покойный брех собак, всхрап коней и позвенькивание уздечки, мирный вздох коровы и помекивание овец. Тихо… мирно, но в каждой избе живет и не уходит своя забота.
Варов-Гриш распахнул дверь и первым, кого он увидел, был Илька. Он сидел на полу, на оленьей шкуре среди деревянных коней и оленьих бабок — костей от студня. Прутиком-кнутиком собирал он их в табун. Кони откатывались на колесиках, а олени падали в густую шерсть шкуры.
— Ах! Папка! — протянул ручонки Илька. — Из урмана пришел! Кого ты видел в лесу, айэ! Ты видел зайку?
— Видел, видел, Илька! Он тебе куропатку прислал, — ответил Гриш, доставая из котомки птицу.
— Ты, айэ, видел в лесу и лисенка? — зажглись у Ильки глазенки, и он бочком-бочком, перебирая руками, подполз к отцу.
Елення отряхнула с отца снег, приняла ружье и патронташ, а Гриш присел на лавку и вынул из котомки чернущего косача с фигурным, изогнутым хвостом.
— Лисенок тебе косачонка послал! Как же! И лисенка видел!
— М-не?! Это он м-не коса-чонка?! — захлебнулся от радости Илька и принял в ладошку косача. — Он знает обо мне, лисенок!
— О тебе спрашивал и волчонок, — ответил отец. Он черпанул ковшиком воды и, не переводя дыхания, выпил до дна. — Волчонок кланяется тебе глухаренком.
— О-ой-ей-о! — зазвенел смехом Илька. — Это, айэ, не глухаренок, это же глухарище! — Илька пытался поднять над полом огромную птицу, но не хватило силенок. — Какие у него огненные брови, смотрите, какой у него клюв. Он, наверное, у него железный?
Илька крутился на шкуре вокруг птиц, забыл про оленьи бабки и разглядывал отливающие синевой перья, и мощные крылья, и сильные когтистые лапы. Но больше всего он обрадовался белке, гладил ее дымчатую шубку.
— Скоро приду! — кивнул Гриш Еленне и направился к Куш-Юру.
Тот сидел возле коптящей лампы и проваренной дратвой подшивал валенки. Он квартировал у Абезихи в маленькой комнатенке. Тут же жил и маленький сын Абезихи. Гриш плотно закрыл дверь и стал рассказывать полушепотом о виденном в урмане.
— То, что Озыр-Митька враг и контра, за версту видно, — не торопясь ответил Куш-Юр. Он обрадовался тому, что Варов-Гриш не пропустил эту странную встречу, а вдумался в нее серьезно и настороженно. Надежный человек Варов-Гриш, можно опереться на него. Здорово, что Варов-Гриш, никому ничего не говоря, сразу пришел к нему, к Советской власти. Умница Гриш!
— А Яран-Яшку Митька совсем прибрал к рукам, собакой своей сделал. Чужих, посторонних людей в селе тоже не видел? Они заранее встречу свою обговорили. Что задумали, нечистая сила, даже представить не могу. Гнаться за ними, ты прав, Григорий, не по закону — на промысел, мол, направились. Что за промысел? Их, брат, надо за руку ловить.
— Ну, гляди! — согласился Гриш. — Тебя упредил, так будь насторожен. А может, Озыр-Митьку прижмешь, глядишь — расколется!
— Ну, Григорий, не ожидал от тебя, — развел руками Куш-Юр. — За что же его прикажешь прижимать? Ну?! То, что тайком, в сумерках, в лесу собрались? А для чего они собрались? Может, в стадо на Урал направились, а? У Озыр-Митьки ведь есть олени. Может, менять что-нибудь у остяков? Как прижмешь, ежели он к родственникам направился? Нету у меня такого закону, чтобы по подозрению человека забирать.
— Ладно! — решил Гриш. — Будем ждать.
Озыр-Митька и Яран-Яшка появились в Мужах на третий день, с тяжело нагруженными санями. Кони с трудом тянули литые, длинные и ровные, как хореи, лиственницы, что в обилии поднимаются в верховьях Сыни-реки. Не за листвянкой же они ходили? Наверное, перевалили на Хулга-реку и спустились до Саранпауля, к местным зырянам.
А через две недели остяки принесли весть, что русские и зыряне из Мужей от имени Советской власти захватили два стада оленей и погнали за Урал. Один пастух шибко сопротивлялся, так его стукнули по голове, и тот сразу же и помер.
Глава 3 Мартовский партактив
1
Куш-Юру почтой доставили извещение из Обдорского райкома партии — в середине марта созывается партийный актив. Он как парторг и председатель сельсовета в Мужах обязан прибыть в Обдорск без опозданий. Вопрос повестки один: «Без Ленина по ленинскому пути».
Куш-Юр обрадовался бумаге — побывает в райцентре, повидается с руководством, может, увидит кого из старых друзей. Может, кое-что из продуктов достанет для Мужей и окрестных юрт-чумов.
Куш-Юр принялся искать попутную подводу, но ее не оказалось. Время такое — все мужчины пропадают в лесу, заранее готовят дрова, чтобы вывезти еще по снегу, начнется путина, пойдет рыба — знай поворачивайся… Не до дров тогда!
— Попросить разве Варов-Гриша, если он еще дома, — решил Куш-Юр. — Прокатаемся недельку — подождут дрова. Не бесплатно же. Уплачу.
— О, Роман Иванович пожаловал к нам! — Гриш обледенелой черпалкой наливал воду из бочки в ушат, разогрелся, откинул капюшон малицы. — Вуся! Где ты ходишь, пропадаешь? Давно не виделись!..
— Давно! Здравствуйте! — Куш-Юр в распахнутом овчинном полушубке и валенках — никак он кисы не обувает. На голове ушанка. — Ну, застал тебя, нечистая сила. Боялся — ты на дровозаготовках.
— Собираюсь поехать, — ответил Гриш. — А что у тебя случилось?
— Пожалуйста, свози меня в Обдорск. Заплачу тебе — понимаешь, срочно вызывают.
Гриш почесал висок. Заманчиво! Можно съездить! Тем более заплатят, деньги пригодятся. Карько повезет помаленьку. А бревна потерпят…
— Как без лошади? Скотина без сена, на чем возить? — затревожилась Елення.
Гриш кивнул на дом братовей — у них, мол, попросишь коня.
— Верно, — обрадовался Куш-Юр. — А когда? Я не могу ждать…
— Послезавтра, — решил Варов-Гриш.
Когда ушел Куш-Юр, рассмеялся:
— Правильно я сделал, что еду с Романом. Раньше всех мужевских услышу новости. Верно, жена?..
Утром на водопое у морозно парящей проруби Гриш встретил брата Петул-Вася с конем и разговорился-расхвастался: повезет в Обдорск на актив Куш-Юра. Все лично узнает — куда, в какую сторону накренилась жизнь? Петул-Вась оживился: у него как раз изготовлено письмо-заявка начальнику райкооперации.
— Доставь! — внушительно то ли попросил, то ли приказал Петул-Вась. — Адрес обозначен на конверте. Скажи ему: «Просит заведующий мир-лавкой из Мужей послать ему остальные две бочки керосину». Две бочки! Все!
— Пожалуйста! — хохотнул Гриш. — Вернусь с грузом, заплатишь, как заведующий.
— По закону, — солидно ответил Петул-Вась, заведующий мир-лавкой. — Согласно калькуляции и прейскуранту цен.
— Ага! — задумался Варов-Гриш. — По прейскуранту? Это как?
— А вот узнаешь, — улыбнулся старший брат, дернул повод и увел своего коня.
Куш-Юр с Гришем выехали на Карьке вечером. Было тихо и морозно, но снег уже не визжал под полозом как в январе — феврале, в заветрии солнышко хоть и не припекало, а уже ласково грело. В розвальни Гриш кинул две охапки грубого сена — «разживемся по дороге». Оделись тепло, натянули гуси-парки. Это было зябкое предвесенье — зима еще крепка.
Карько, словно почуяв дальний путь, трусил ровной рысью по твердому насту, чутьем выбирая запрятанную под снежком дорогу. Куш-Юр, закручивая цигарку, удобно вытянул ноги, локтями нащупал ложе ружья, что пряталось под рогожей и оленьей шкурой.
— Вооружился? — усмехнулся Куш-Юр. — Предусмотрительный ты!
— А что?! — серьезно ответил Гриш. — Тебя везти надо, председатель Советской власти, и беречь тебя надо. Да и я не один — у меня ребятишки и Елення… Вдруг какой-такой шляется по лесу с обрезом? А если волки?
— «Волки», — думая о своем, буркнул Куш-Юр иронично.
— Да, волки. У них самое стайное время. Самый непрокорм. Чем думаешь от них оборониться? — хитро прищурился Гриш.
Куш-Юр похлопал себя по гусю, под ним — наган.
— Ну вот, — удовлетворенно хмыкнул Гриш. — Теперь мы самые храбрые…
Карько бежал ровно. Куш-Юр много раз одолевал этот путь, и дорога была ему известна, хотя он не помнил ее в таких мелочах, как Варов-Гриш. Но всякий раз в душу входила не монотонность, не равнинное однообразие, а ощущение бескрайности, безграничности. Луна побледнела, чуточку позеленела, утончилась, легонько цедила голубоватый свет, и в этом полузыбком свете мохнатились крупные звезды, и те отдавали немного света, и все это сияние падало на темнеющий слева угрюмый лес и на тальники в просторной пойме. А кругом и с востока, и с запада, с юга на север раскинулись-распахнулись снега…
— При луне-то веселей, — очнулся от дремоты Куш-Юр, выпрыгнул из саней, пробежался немного, хлопая себя по бокам, и повалился в розвальни.
— Ну, Роман Иваныч, угощай табаком!
— На актив не опоздаем? — осведомился Куш-Юр. Гриш уверенно хмыкнул, и председатель успокоился.
— Я вот думаю домишко построить, пока есть силы, — поведал Гриш, затягиваясь дымком. — Нельзя ждать — рухнет старье на голову. Оттого и везу тебя не бесплатно. Не от жадности, а от нужды. Обратным путем керосин привезу Петул-Васю. Деньги нужны.
— Это хорошо, что ты собрался строиться, — одобрил Куш-Юр. — Значит, веришь в твердость власти.
— Но ты скажи мне, председатель, почему такой огромный дом строит Озыр-Митька, когда сам пискливый, как баба. Он-то во что верит? Кого хочет приютить в своем гнездовье?
— Да, поворот у тебя, Григорий! — растерянно протянул Куш-Юр. — Ты строиться собрался, это меня очень греет. Очень, понимаешь, греет, когда трудящийся человек устраивает свою жизнь… Но… — Куш-Юр заговорил медленно, раздумывая. — Озыр-Митька — крепкий хозяин, и мы попытаемся завлечь его на нашу сторону.
— Чудной ты! — дернул вожжи Гриш. — Как это его завлечь? Вот я так понимаю — охотник сам зверя бьет, рыбак сам сети ставит, плотник избу рубит. Пусть они разбогатели на своем ремесле — ночами не спали, через силу работали и стали крепкими хозяевами. А этот Озыр-Митька? Какой секрет его богатства? На охоту бегает? Сети тянет? Нет! Обманывает народ в трудное время. Так зачем он новой власти?
Куш-Юр промолчал. Варов-Гриш своим классовым чутьем угадывал в Озыр-Митьке, в Оське Шестипалом, в Ма-Муувеме врагов, и как бедняк не верил им ни в чем. Это с одной стороны. А с другой — как посмотрит партия, если Куш-Юр разгромит богатеев начисто? Ведь в стране еще продолжается нэп. Нет, Куш-Юр должен все выяснить на партийном активе, все до маленькой мелочи. Очень кстати спросил его Гриш.
И ушел дальше мыслями председатель.
— А ты, значит, жениться собрался! — вдруг брякнул Варов-Гриш. — Чурка-Сандра хорошая баба! Самая баба по тебе, да!
— Не думал, Григорий, — как-то неуверенно заговорил Куш-Юр. — Не думал, что ты слушаешь всякие непроверенные слухи. Кто тебе сказал?
— На-се-ле-ние! — громко и торжествующе ответил Варов-Гриш.
Карько, утопая в снегу по брюхо, шел шагом. Гриш стегнул его вожжой — не любил хозяин кнута. Оглянулся Гриш, вгляделся в далекий правый берег Малой Оби и протянул задумчиво:
— Второго такого Ленина больше не найти, только его и надо слушать. Жить, как он учил… И людям надо это говорить.
— Во-во, по-ленински… — поддакивает Куш-Юр.
Карько не останавливался, тянул и тянул розвальни, словно понимая, что хозяин торопится. Прямо на них выскочила лисица, Варов-Гриш достал дробовик, но опоздал. Вскоре подбил куропатку.
— Вот тебе и ужин, — довольно сказал Гриш.
— В Васяхово-то будем останавливаться? — спросил Куш-Юр.
— Почаевничаем, Роман Иванович. Теперь есть что пожевать. Жизнь пошла хорошо. — Варов-Гриш тронул вожжей коня. — Хлеб-мука без нормы, соль, сахар… Чай, даже сушки-крендели. Чего еще надо!
— А сети?! Пищали, патроны, порох-дробь, капканы?! — добавил Куш-Юр. — Все мир-лавка дает. В кредит дает, под запись. И будет еще давать недостающие товары — мануфактуру, топоры-лопаты, посуду разную. Да, — загорелся Куш-Юр, словно оглянулся на последние годы и удивился уже сделанному, вошедшему в жизнь. — Охотникам даны ружья с охотничьим припасом — добывай пушнину! Стране нужна пушнина. Машины на нее купим. И гляди, Григорий, ведь все народы Севера, а их великое множество, освобождены от уплаты налогов, сборов… пошлин. Отменена арендная плата на рыбные и пушные угодья. Си-ла, а?
— Сила! — согласился Гриш.
— Вот сотворим новую жизнь, будем строить и открывать школы, училища, всех людей сделаем грамотными.
— Всех?! — удивился Варов-Гриш. — Всех нельзя! Грамоту всем дашь — некому работать станет. Все в начальство пойдут, как Филя-писарь.
— Грамота — это еще мало… — начал Куш-Юр.
— Ма-ло?! — ахнул Гриш. — Да если хоть малую грамоту да к уму, ой-ой-ой, что сотворить можно. Но вот зачем охотнику, кто зверя лесовать ходит, зачем ему большая грамота? Или рыбаку, как мне, зачем большая грамота?! — И грустно заключил: — А у меня грамоты совсем маловато. Долго не поймут люди друг друга даже с большой грамотой. Вот скажи, почему до сих пор остались мироеды: Озыр-Митька, Квайтчуня-Эська, Ма-Муувем, ведь ждут они возврата к старому?
— Как бы не так. — Куш-Юр посуровел. — Они, Григорий, надеются на нэп крепко. Но эта политика кончается.
Давно, с той скорбной январской ночи, вот так Гриш не говорил с Куш-Юром. Варов-Гриш видел, каким теплом светились глаза русского большевика Романа, когда он говорил о той необъятной, нескончаемой работе, которую ждут северные окраины. И Роман Иванович показывает себя стойким сыном партии, настоящим другом всех бедняков, неважно какой они национальности. Таким и должен быть председатель, ленинец. И чувствовал Гриш, что этому человеку он верит безраздельно, как брату.
В Васяхово дали отдохнуть Карько, раздобыли немного сена, и Гриш заботливо обтер вспотевшего коня, прикрыл его рогожей. Пока варилась похлебка из куропатки, долго, со вкусом чаевничали. К хозяину подходили соседи, присаживались и осторожно расспрашивали — что слышно о кооперации, какие товары у них в Мужах держит мир-лавка, кто угнал у оленеводов два стада. Эта весть уже обежала поселки и юрты по Оби и тревожила людей. Куш-Юр твердо отвечал, что это поганое дело — провокация, сотворили этот разбой пришлые люди.
— Кто они? — требовали ясности васяховские мужики. — Ты ловил их, глядел им в лицо, знаешь их имя?
Варов-Гриш горячо заступался за мужевских, но слухи брали свое.
— У нас тоже маленько шалят, — сообщил хозяин. — У остяков три упряжки отняли, а самих избили до полусмерти. Следы на Большую Обь идут, а кто знает, что за люди?
— Тут, недели две, мужик чернобородый приезжал с помощником, — потупясь, сказал один из васяховских. — Остановились у меня почаевничать. Важный человек, в очках, на жилете цепочка от часов золотая. Так вот он что говорил — Ленин, мол, умер, а завещания не оставил. Никакого… Раз нет завещания, нет наследника, нет продолжателя. Вот что ты на это скажешь, Роман Иваныч?
— А то скажу, что партия всегда едина, и не будет в ней распрей! Враки это. Хотят ослабить нас, с пути сбить!
— Хорошо говоришь, — кивнул васяховский. — Да только как теперь получится? Был Ленин, все было понятно, а теперь?
— Кто он? — шепотом спросил Гриш у хозяина. — Больно дотошный…
— Агентом по скупке пушнины числится… Ездит туда-сюда. Капитал имеет…
— Пора, Роман Иваныч! — позвал Гриш и вышел запрягать Карько — до Обдорска еще две таких остановки.
Чуть светало… Куш-Юр завалился спать, а Гриш, подмяв под себя сено, правил конем. Вскоре они выбрались на дорогу-вэргу, указанную оленеводами, и Карько бодро пошел рысью.
Потянулась однообразная дорога, то по льду реки, то пересекая протоку или неширокое озерко. Снег осел, оплавился в следах копыт и волчьих лап. Гриша убаюкивало, и мысли его были неторопливы и тягучи.
«Везде одно, — размышлял Гриш, укладываясь поудобнее, чтобы видеть Карько хоть одним глазом, — день глазаст, а ночь ушаста. — Везде у мужиков тревога… Как, куда направится жизнь… Чего принесет? Больно далеко живем от большого мира. Да, Куш-Юр вот много услышит на партийном активе, а я… Эх, грамотешки маловато… Да и возьмут ли меня в партию? Чего я для нее сделал?» — Гриш принялся вспоминать, перебирая в памяти… и уснул.
2
Солнце поднялось высоко, и подняло безоблачное небо, и раздвинуло дали, и лес, к которому вела дорога, казалось, повис в воздухе. В реденьком сосняке позванивали синицы, бил дятел, на придорожные кусты, тоненько посвистывая, осыпались снегири, заквохтала сердито куропатка. Подвода подошла к Лор-Вожу — устью озера и остановилась. Карько словно задумался — подниматься ему к юрте или трусить дальше? Залаяли, забрехали собаки. Куш-Юр открыл глаза — о, светло! Солнце сияет! Лошадь стоит, а друг, видать, спит.
— Вставай, засоня! — подтолкнул Куш-Юр. — Приехали в Обдорск, а ты дрыхнешь!..
— Как в Обдорск?.. — Гриш спросонья стал оглядываться, буркнул: — В Лор-Вож!.. Вон белеют Уральские горы!..
Куш-Юр засмеялся:
— Вот как везешь ты! Вся надежда на Карько!..
Решили не останавливаться — в Катра-Воже отдохнут, а там уже и Обдорск…
— Хороший денек обещает быть сегодня — вон как палит светило. — Куш-Юр смотрел на солнце и радовался.
— Еще раскиснет днем дорога. Парки снимем даже. — Гриш стеганул лошадь: — А ну-у!..
Карько прибавил ход, а председатель заулыбался:
— Во, доедем быстрее… Мне уже охота ходить по Обдорску, улицы его видеть.
— Тебе придется сидеть на активе. Это мне шататься по Обдорску…
— Тебе надо готовиться в партию!
— Рано еще — грамотешки мало, а душой я бы готов… — ответил Гриш скромно, но глаза его сияли. Угадал председатель его мысли…
— Правильно, — Куш-Юр, похлопал Гриша по плечу. — Сейчас самое главное, чтобы в партии были честные и преданные, как ты, люди. Грамотность — дело наживное. Вера в дело — вот что главное. Мы тут с тобой единомышленники…
— Постой-ка, вон катит кто-то навстречу…
Председатель взглянул — верно.
Поравнялись. В розвальнях виднелась сзади большая железная бочка. Возчик, молодой белобрысый паренек, одетый в парку, видя двух курящих мужчин, испуганно вскинул белые ресницы.
— У меня керосин! Курить нельзя!.. — послышался звонкий мальчишеский голос, и парнишка тронул коня.
— Стой! Не будем курить! — Гриш выбросил окурок в снег. — Далеко?!
— В Мужи!..
— Подожди!.. — закричал Гриш и начат поворачивать Карько.
Остановились. Гриш выпрыгнул в снег, поздоровался, начал объяснять, что за керосином для Мужевской мир-лавки едет он. И надо две бочки, а не одну.
— Да-да, надо не одну. — Куш-Юр поздоровался, но не вылез из своих саней. — Сельсовет я…
— Ничего не знаю! — насупился парень, развалясь на передке. — Мне дали одну бочку, я и везу… Вообще-то нету керосину. К чему теперь керосин — наступает весна…
— А у нас еще темно. — Гриш глазом измерил емкость железной бочки. — Вот, лешак, маловато. Ты бывал в нашем селе?.. Как звать тебя?..
— Канев Данька. — Паренек грыз соломинку и в нетерпении перебирал вожжи. — Нет, я не бывал. Отец был осенью. Понравилось ему. Найду-у… Ну, мне ехать надо…
Став на колени, он шевельнул вожжи. Конь, лохматый, небольшой, тряхнул серой заиндевелой гривой, и сани тронулись. Данька даже не попрощался.
— Не заблудился бы, не попал куда не следует, — тревожился Куш-Юр. — Оставит Мужи без керосина, нечистая сила…
— Вот именно. — Гриш стоял на передке розвальней и поворачивал лошадь на север. — И всего одна бочка. Не-ет, я еще добуду бочку у кооператоров. Скажу — не видели мы никакого Даньки-Маньки. Вот бумага, и давай рассчитывайся за недоданный керосин. Хотя бы одну бочку… Ха-ха-ха!.. Карько, шевелись живей!.. А что? Ей-богу, вырву!.. — И запел, легонько постегивая Карько, русскую песню, которой когда-то научил его Роман:
Далеко, в стране Иркутской, Между двух огромных скал, Обнесен стеной высокой Александровский централ…Куш-Юр стал подпевать.
Они решили задержаться в Катра-Воже — надо передохнуть Карько и самим пора чаевать. До Обдорска двадцать пять верст, значит, приедут вовремя, накануне актива, ночью, почти белой уже в эту пору…
Пока ожидали налимью уху да чаевали вместе с хозяевами, стала портиться погода, жестко по насту заскребла поземка. Поднимется пурга — не перевалить через Большую Обь.
Гриш, торопясь, запряг лошадь, а Куш-Юр взял у хозяев охапку сена, и они вскачь вылетели на дорогу. Вот и Большая Обь — широченная, не достает глаз до того берега. Клубит-дымится на просторе сухой колючий снег. Все ниже и ниже опускается небо, посерело оно волчьей шкурой и ожило-задвигалось.
— Ну, Карько! Давай дуй! Проскочи эту ширь, мать родная!
— Вот нечистая сила! — затревожился Куш-Юр. — Опоздаю из-за бурана! Гони!
— Не бои-ись! — обнажил Гриш белые зубы. — Не боись! Это еще не буран… Дуй, Карько!
Конь, выгнув шею, опустив голову и фыркая, несся вскачь.
Белые космы теперь сплошной пеленой заносили едва видимый след, и вскоре тот совсем исчез под снежной наволокой. Карько пытался побороть гудящий, взвизгивающий ветер, но тот был сильнее коня. Буран сбивал его с пути, относил правее и правее.
Долго Гриш и Куш-Юр пересекали Большую Обь, но все же проскочили эту ширь. Только попали они не в Люймас, к Повар-Ваське, как думали, а в заросли густого тальника. Карько тяжело дышал, шерсть забилась снегом, и мелко дрожали ноги.
— Наконец-то. — Гриш остановил заиндевелого коня. — Пусть теперь бесится буран. Мы, считай, в Обдорске — во-он огни…
— Не опоздал я все же, — радовался председатель. — Спасибо, Карько. — И вдруг вспомнил: — А этот… как его… Канев Данька-Манька, как он сейчас? Может попасть в буран и уйдет не по той дороге. В Питляр, например…
Гриш засмеялся:
— Ты что? Данька уже дальше Лор-Вожа. Давно проехал развилку дорог на Питляр.
Он поднялся на ноги и стал отряхивать с парки снег.
Карько вдруг двинулся через сугроб к раскидистому талу.
— Не хочет стоять на ветру. — Куш-Юр тоже принялся стряхивать с себя снег.
— Есть, наверно, хочет, — добавил Гриш. — Сейчас…
Он слез с розвальней, увязая в сугробе чуть не по пояс, взял охапку сена, положил под морду коню и отстегнул уздечку.
А председатель стоял и смотрел в сторону Обдорска.
— Вот я и на месте почти. Как раз успел! Что это так видны яркие огни? Посмотри-ка. Электричество, наверно. Богатые. Жгут даже светлой ночью, нечистая сила.
Гриш повернулся — точно: жгут почем зря!
— А им, понимаешь, жалко одну бочку керосина. На весь поселок!
3
Утром, позавтракав у старого знакомого Сирпи-Яка, где остановились, Куш-Юр пошел в райком, а Гриш отправился искать райторг. Потеплело, падал редкий мохнатый снег, как будто ночью и не буранило. Райторг Гриш нашел легко, но председателя не оказалось — ушел на партактив. Он отправился к заместителю:
— Здравствуйте. Вот письмо от Петул-Вася, заведующего мир-лавкой в Мужах. Вы должны две бочки керосину. Много других товаров. Прибыл забрать. Сейчас мужики в лесу, а в мае рухнет дорога. Давай, последний ход в Мужи!
— Но мы же отправили вам на днях керосин? — Голова заместителя сверкала на солнце — он был брит наголо. — Парнишка Канев Данька увез, да. Правда, одну бочку, четырестафунтовую. Однако больше керосину нету. Не встретили, что ль?
— Какого Даньку-Маньку? Никого я не встретил! Пустая, безлюдная дорога. Ночью приехал! — Гриш нарочно сделался сердитым и даже встал со стула. — Гоните две бочки! Я ничего не знаю! И что там по письму-заявке положено.
— Гм, — хмыкнул заместитель. — Не кипятись. Садись… Куда же девался Данька? Неужели дома еще? Отец-то больной, что смотрит? Еще спалит кого-нибудь — керосин ведь… — Заместитель крупный, широкий, с двойным подбородком, а по глазам видно: человек душевный и добрый…
Гриш еле удержался, чтоб не проболтаться про осторожного Даньку, который, верно, уже в Мужах. Буркнул, не садясь:
— Конечно, спалит кого-нибудь, и мы без керосина останемся. Или от развилки в Питляр повернет. У нас же темно еще. Гоните долг! Хотя бы одну бочку!.. Нельзя нам без керосина вернуться!
— Ладно, посмотрим, — заместитель погладил сверкающую голову. — Понаведаться надо сперва к Каневым. Вы идите, отдыхайте пока…
— Не-ет! Я доложен получить керосин и ехать сразу обратно, — сказал Гриш и вдруг осенило его: — Нечем кормить коня! Еле терпит. И овса нету…
— Знаю, была большая вода, корм пропал, — вздохнул заместитель. — А овса немного можете купить у нас в магазине. Знаете где? — Он написал записку продавцу. — Вот, на пятьдесят фунтов.
— О, это маленько-пригоженько хорошо! — Гриш переменил тон разговора. — Тогда надо бежать за овсом сперва. А потом прибегу за керосином.
Выйдя в коридор, Гриш встретил знакомого человека — Уля-Ваня, пожилого мужика. В толстой малице и кисах, с пустым мешком в руке Уля-Вань считал деньги у двери с надписью: «Бухгалтерия».
— О-о, кого я вижу! — кинулись друг к другу приятели и разговорились — кто да как живет, как поживает.
Гриш рассказал, что председателя сельского Совета Куш-Юра привез на партактив и обратным путем поручил ему Петул-Вась, родной брат из мир-лавки, прихватить керосин.
— А тут вот ерунда получается — не дают пока…
— Дак в Мужи отправили керосин с Каневым Данькой, парнишкой, — сказал Уля-Вань. — Знаю, работаю сторожем на складе райторга. Иду со службы и зашел получить аванс.
Гриш обрадовался:
— Значит, ты все знаешь? Есть там еще хоть одна бочка?
Уля-Вань ответил, что есть еще несколько бочек, но берегут — мало ли что, когда-нибудь понадобится.
— Когда-нибудь! Нам сейчас нужно. Вырву я керосин… — Гриш посмотрел сторожко вокруг, засмеялся. — Ей-богу!.. Да-а, а ты не дашь мне мешок купить овса в мир-лавке, а? У меня есть бумага. И денег немного давай — не прихватил с собой. Верну сегодня же.
Уля-Вань помялся, повздыхал, но дал немного денег и мешок, что свисал у него с руки.
Выйдя из райторга, Гриш улыбался:
— Начало есть. Все будет в порядке.
4
У Романа Ивановича день был насыщен до предела, но напряженность почти не утомила его. Он был возбужден, его захлестнуло нетерпение, хотя не суетился и сдерживал себя. Только сейчас, подходя к райкому, почувствовал, как далеко он отброшен от своих товарищей. Даже не расстоянием — подумаешь, каких-то двести верст бездорожья, — нет, он отброшен работой, в которой трудно различить, что важное, что — мелочь.
Куш-Юр нетерпеливо взбежал на крыльцо, над которым в безветрии свисал красный флаг с траурной каймой, быстро подошел к столу, где вставали на учет. В райкоме что-то неуловимо изменилось — то ли портрет вождя в скорбном траурном убранстве, то ли потемнели стены. Солнце процеживалось сквозь кумачовые шторы, и на желтом полу колыхались багровые тени… Что-то изменилось в райкоме. И это не осознанное, не понятое хлынуло в Куш-Юра, и он затревожился, заволновался, не угадывая пока причин. Здоровался со знакомыми, малознакомыми людьми, кому-то приветно жал руки, кто-то окликал его по имени, кто-то похлопывал по плечу и что-то напоминал, и Куш-Юр смеясь отвечал, но никак не мог отрешиться от заползшей в него тревоги.
Несколько обдорян, два-три активиста из Аксарки, пуйковские и ярсалинцы — все из ближних мест собрались в большой комнате, дожидаясь коммунистов из Хальмер-Седэ, с Полуя и Лаборовой. Но решили начать без них — оленям долго не стерпеть, стоят голодные.
Партийный актив открыл первый секретарь райкома, крупный, тяжелый, как медведь. Он стоял за столом, грузный от силы, и тужурка туго облегала широкую грудь. Куш-Юру он понравился.
Секретарь попросил всех встать и почтить память Владимира Ильича. Все встали — и русские в потертых пиджаках и косоворотках, и коми-зыряне в суконных куртках, и ненцы, так и не сбросившие легких малиц, длинноволосые и широколицые, и остяки с двумя косичками, в высоких тобоках,[8] с подвязками из красных лент. Глубоким молчанием, уйдя в себя, почтили память вождя, вот здесь-то Романа резануло по сердцу. Вот откуда тревога, вот почему ему было так не по себе — он не видел, да, он не увидел никого из прежних верных своих друзей, ссыльных большевиков, партийцев с дореволюционным стажем. Нету! Разметала жизнь, разметала по всем краям — многие уехали по указу партии туда, где наиболее трудно.
Роман ушел в думы, а слух наполнял уверенный, твердый голос:
— Мы, коммунисты Севера, — это говорил новый секретарь, — мы должны дойти до сердца каждого трудящегося человека, вселить и укрепить в нем веру в наше дело. «После Ленина — по ленинскому пути» — этот лозунг, товарищи, не на один этап, не на сегодняшний отрезок времени, он на всю нашу жизнь!
Доходчиво и горячо говорил секретарь, говорил о хлебе, угле, чугуне, о заводах и шахтах, о союзе рабочих и крестьян, о Сталине, о Кирове, о Серго Орджоникидзе — видно, он хорошо знал, что происходит на Большой земле. Но ни слова не сказал секретарь о рыбе, о рыбаках, которые жизнь свою черпают и вытягивают сейчас из реки, ничего не сказал секретарь об охотниках, что всю зиму не выходят из урманов, из глубоких снегов, добывая пушнину. Ненцы словно окаменели в своих малицах, сидели неподвижно, чутко вслушиваясь в голос секретаря, но тот ничего не говорил об оленях.
— Я человек здесь новый, товарищи, — словно угадав мысли Романа, сказал секретарь. — И пока что заменяю тяжело заболевшего секретаря. Многое из того, что происходит в районе, мне неизвестно. Я понимаю, что трудно принимать чужого, — он по-доброму усмехнулся, — пришлого человека. Но дело не терпит, в области не стали ждать конференции и назначили меня к вам. Поэтому, товарищи, прошу вас честно, по-партийному, по-ленински рассказать о трудностях, о положении дел в ваших организациях.
Недолго мялись активисты. Роман Иванович не стал подниматься на трибуну, просто вышел к столу и, одернув пиджак, волнуясь, перебегая от одного к другому, заговорил о наболевшем. Он поведал о большом своем селе, о Мужах, что издавна было центром зырян на Оби. Роман не жаловался и не прибеднялся, когда говорил о рыбе, о рыбных угодьях, о пушном промысле, о малосильности хозяйства, о бескормице. Говорил открыто и жестко — все как есть. Нет школы, вовсе нет, та, что была при церкви, закрыта. И совсем мало грамотных, а в темноте как строить новую жизнь? Ходишь, будто по лесу в темную ночь. Нет больницы, да какой там больницы, медпункта нет, до сих пор к больному ведут бабку, знахарку. Если царская власть держала людей в темноте, то мы, коммунисты, должны дать школу. Мы должны дать им врача и фельдшера, мы должны беречь здоровье и жизнь людей. И перед Романом вставал ползущий на коленках, весь скрюченный, как корешок, голубоглазый Илька, и похудевшая, с горящим лицом, тающая на глазах Сандра, и простуженный Сенька Германец, и чесоточные ребятишки, и медленно угасающие старики. А сколько умирает остяков — от трахомы, от чахотки, от всяческой заразы? Доктор нужен — лечить, учитель нужен — осветить темноту жизни.
— Не станет жизнь новой, если продолжать все по-старому, — так сказал Роман Иванович и увидел, что секретарь быстро пишет в свой блокнот. — Не станет она новой у малограмотных, которые не могут прочитать газету, не станет новой, пока в ней знахари и знахарки, шаманы и бабки-повитухи и костоправы-коновалы.
Один из обдорян, израненный колчаковскими шашками, едва выживший, с горячими незатухающими глазами и хриплым голосом, задыхаясь от ненависти, прервал Романа:
— Брось! Ты это брось, Роман Иваныч. Лекари тебе и пекари, учителя тебе и няньки! Брось, не время еще — нужно контр-ру, — он зарычал и заскрежетал зубами, — контр-рру, рас-падли-нуу выдирать. Выжигать… Огнем… огнем… железом… Забыл, что горел в барже смерти… Забыл, что стал Куш-Юром…
Впервые Романа Ивановича при всех назвали Гологоловым, но не дразня, а напоминая, что остались еще враги.
— Да! Да! — шевельнулись ненцы в малицах, приподняли веки, ожили у них лица. — У нас в стойбищах, в юртах много дурных людей. Старшины живы, шаманы камлают, да! Хозяева работников, батраков держат… Стада свои прячут.
— Знаете, где прячут? — резко спросил секретарь.
— Не знаем! — ответили ненцы. — Ничего мы не знаем. А если узнаем, то нельзя сказать — жизнь возьмут.
— Во-от! — задрожал от ярости обдорянин. — Вот она — правда! Знает, а не скажет! Боится? Нет, не боится, а против законов своих не пойдет! Они хоть и активисты райкомовские, но в своих обычаях живут. Вот что дурно! Вот что надо под корень!
Роман Иванович вспомнил первую конференцию племен Полярного Севера, что собиралась в Самарово летом двадцать второго года, где много говорилось о приобщении туземных племен — самоедов, остяков, вогулов, зырян, селькупов — к социализму.
Подчеркивалось тогда, что нужны деликатные, осторожные меры к беззащитному туземцу Севера. И забота. Шли споры об административном управлении туземцев, а Волков, начальник Обдорской радиостанции, представил проект об отделении Севера от центральных губерний и организации автономной «Полярной Федерации». Вот к чему привели споры, противоречия и разные мнения — самоедам и туземцам своя «Полярная Федерация», и ведь подписались под этими проектами своими крестиками, значками своими родовыми и Вануйто, и Тайшин, и Хороля. Господи ты Боже мой, решили отделиться от страны России, от фабрик и заводов, от крестьянских пашен. И как бы жила та федерация — неграмотная, темная, без врача, без фельдшера, без учителя?
И сейчас, как только коснулись управления, заговорили, загомонили все, перебивая друг друга, размахивая руками, — видно, острый, больной вопрос.
А секретарь внимательно слушал и заносил все в блокнот, задавал путные вопросы, и Роман Иванович понял, что Федор Васильевич мужик толковый, выдержанный и крепкий. Обрадовался тому Роман и обратился к секретарю:
— Федор Васильевич, приезжай в Мужи, оглядись. Осмотрись и поймешь сам, как нужна нам школа. Нужно такое нам, чтобы люди поняли — вот это власть! Вот это она нам дала. Мир-лавка одно — есть в ней много всякого, но ведь она дает в кредит, в долг, и люди берут как бы свое. А здесь — когда школа или медпункт — дало государство!
— Верно! — согласился секретарь. — Будем искать тебе и врача, и учителя. Будем! А ты, Роман Иванович, подумай, кого можно принять в партию из сознательных рыбаков и охотников?
— У нас можно принять Вечку, Халей-Ваньку, Пызесь-Мишку, — выпалил Роман Иванович, а Федор Васильевич громко рассмеялся.
— Чего? — не понял Роман.
— Да ты, Роман Иванович, все какие-то клички даешь, — грохочет секретарь.
— Да, да, — поправился Роман Иванович. — Это по привычке… извини. Вот их можно. И еще Григория не мешало бы, да у него грамотешки маловато.
— Ну, гляди сам. Однако без актива, без опоры пропадешь!
Плотно окружили активисты секретаря и принялись рассказывать о дележе ягельных пастбищ, о каслании оленей, о худых чумах, о рваной одежде… Ох ты, насколько же ты бедна, северная окраина. Дыра сплошная, заплатку некуда поставить. «Да зачем заплату, — встрепенулся Роман, — все нужно по-новому. Все! Сызнова! С самого что есть начала!»
…Поздним, но светлым вечером Куш-Юр возвращался с партийного актива. Он нес в руке свернутую трубкой брошюру и чуть грустно улыбался — есть теперь у него биография Ленина. Брошюру раздали каждому участнику актива, многое из жизни и деятельности вождя узнавалось впервые.
И Роман чувствовал вину — почему о том он не знал ранее? Почему не искал об этом книг? Всю свою жизнь он старался строить по-ленински, но не всегда знал, правильно ли думает? В ссылке и в первые годы революции, да и в гражданскую было легче. Ему давали конкретное задание, подсказывали, как его можно выполнить, и Роман выполнял. И товарищи никогда не сомневались в том, что Роман выполнит задание. А теперь… теперь ему приходится не выполнять, а решать все самому, почти одному. Решать — это брать на себя ответственность! И он брал, но порой ценой таких сомнений и колебаний!
Роман пошел на кладбище, пошел к своим товарищам по ссылке, к тем, кто остался навечно в этой насквозь промерзшей земле, что не рождает хлеба, одни лишь мхи и ползучую березку. Он постоял и перед свежими могилами тех, кто ушел недавно, обнажил голову и поклонился Прохору и Акиму, верным друзьям своим.
«Не сомневайтесь, друзья-товарищи, — мысли его были ясны и не разорваны, не смяты скорбью. — Нас станет много, год из года мы будем расти. Перед нами огромная работа, и, кроме нас, никто не сделает ее… Не сомневайтесь, дорогие товарищи!
Нужно принять в партию Вечку, Халей-Ваньку, Пызесь-Мишку… И Варов-Гриша… — И вдруг ускорил шаги: — О, Григорий уже бочку керосину достал! О, овсом никак кормит коня…»
— Эй, Гриш! Ты уже разбогател, видать? — крикнул Куш-Юр. — Керосин и овес достал?! Ловко!..
— А что ты так поздно идешь? Не могу дождаться вестей. Кто вместо Ленина?
— Сталин! — ответил Куш-Юр и коротко рассказал о партактиве, жестикулируя свернутой в трубочку брошюрой. — Биография Ленина, Владимира Ильича. Во, смотри!
— По дороге почитаем, — тряхнул головой Гриш и радостно поведал о своем удачном походе в райторг, о встрече с Уля-Ванем: — Вот он и помог «разбогатеть»…
5
Через два дня вечером, успев сделать все, что намечали, Гриш и Куш-Юр тронулись в обратный путь. Было тепло — не надевали парки-гуси, сидели в одних малицах. Скрылось солнце, и на западе, над синими хребтами Урала, поднималось золотистое небо без единой тучки. Карько шел неторпко, волоча нагруженные розвальни.
— Смотри, председатель, не забывай, на чем лежишь. — Гриш, пряча улыбку, посмотрел через плечо. — Растянулся, как барин, и куришь. Взлетим на воздух — поминай как звали…
Куш-Юр, лежа на парке, хмыкнул:
— Испугался? Я на гусе и могу курить. — Но, затянувшись несколько раз, бросил окурок в снег. — Ты, Григорий, наверное, трусишь, как этот… Данька-Манька…
— Эй! Забыли-запамятовали спросить у хозяина про Даньку-Маньку. Может, тот дома уже? — вдруг вспомнил Гриш.
— Верно ведь! — Председатель даже сел. — Поздно — вон где мы… А не поехал ли он к Питляру в буран? Вот нечистая сила!..
— Не должон… А ну, Карько, прибавь ходу! — Гриш шевельнул вожжами, как будто бы от этого ускорялась встреча с Данькой-Манькой. — Похвастаемся — есть еще одна бочка керосину. Так ведь, Роман Иванович?
Но тот не ответил. Он смотрел назад, на затянутый маревом Обдорск. Ехали уже по Оби к Катра-Вожу, хоть взглянуть на прощание — когда еще придется побывать. И Куш-Юр вновь увидел высоко над Обдорском светлую точку — горящую лучистую лампочку.
— Что за ерунда. Кругом светло, а лампочка горит над селом. Смотри!.. — кивнул Куш-Юр.
— Высоченная мачта, я видел, — ответил Гриш, оглядываясь. — Сами пользуются телеграфом, а весть нарочным…
— Верно ведь, телеграф… Да, оторвались Мужи от всей страны, от Москвы. Сколько печальная весть шла до Обдорска? Нельзя жить в таком отрыве. Нельзя. — Председатель сидел, навалившись спиной на керосиновую бочку. — Мы много судили об этом на партактиве, но ничего толком не могли придумать. Хорошо, что хоть есть телеграф в Березовом и Обдорске.
— Да, — вздохнул Гриш, думая о своем. — Значит, все сделал: свозил я тебя в Обдорск, получил бочку керосину Петул-Васю, купил пять фунтов березового трута для него и огниво. Вот обрадуется — спичек-то ведь нет у нас. Пусть торгует. А еще я купил подковы и немного гвоздей. Это себе. Уплатил я долг Уля-Ваню. А еще — достал три платка красивых, матери, жене и дочери, а парнишке — бумаги. Пусть Илька учится рисовать.
Приближались к Катра-Вожу. Навстречу попадались оленеводы, пролетали упряжки, но Гриш не останавливал лошадь. Наконец Катра-Вож. Уже была сумеречная ночь. Наскоро закусили чаем в ямской избе и в путь. Никакого Даньку, проезжающего обратно в Обдорск, здесь не видели. Значит, он еще в Мужах или попадется в дороге.
Но сколько ни ехали, сколько ни встречали людей, конных и оленеводов, никто не видел парня. И питлярские не слыхали о таком. Уже проехали Лор-Вож и Васяхово, а его нет и нет. Председатель и Гриш не на шутку стали тревожиться — пропал парень. И керосин тоже пропал…
Вдруг навстречу, не доезжая Мужей, показалась из-за поворота небольшая лошаденка с розвальнями, а седока не видно. Слышно только — поет кто-то детским звонким голосом по-зырянски песню про двух товарищей, служивших в одном полку.
— Мать родная! Канев Данька, кажется, — обрадовался Гриш, останавливая своего коня.
Куш-Юр поддакнул:
— Ну конечно он. По лошадке вижу. Вот нечистая сила!
Пение смолкло, и высунулся из-за лошади Данька-Манька.
— Тпру-у! Знакомые, что ли?.. — удивился Данька и остановился.
— Вуся! — крикнули разом Гриш и Куш-Юр.
— Здравствуйте, — заулыбался Данька Канев. — Вы все еще едете из Обдорска?
— А куда ты девался? — набросился на него Куш-Юр. — Где ты шлялся-пропадал? Мы тревожились не в шутку — пропал, думаем, в буран. Заблудился и замерз где-нибудь по дороге к Питляру…
— И-и… — звонко засмеялся парнишка. — Не заплутал! Привез вам керосин. Пользуйтесь на здоровье. А теперь везу почту… Вон мешки в розвальне…
— Хорошо, что довез керосин, — улыбался Гриш. — А мы еще достали бочку из райторга. Покажи-ка, Роман…
Куш-Юр, куря, как обычно, цигарку, повернулся назад и откинул парку, под которой была бочка с керосином.
— Вот, пожалуйста. Мы умеем доставать…
— Ну и ну! — тряхнул головой Канев Данька. Он увидел горящую цигарку и стегнул свою лошадь.
— До свидания надо говорить! — засмеялся Гриш. — Испугался!
— Прощайте!.. — Данька, отвернувшись, помахал им рукой. — Взлетите!..
— Не взлетим!.. — смеясь, ответил Куш-Юр и, поправив парку на бочке, снова лег. — Молодец! Сызмальства помогает родителям.
Через несколько дней после возвращения в Мужи созвал Куш-Юр в Нардом селян на сходку. Рассказал о своей поездке в Обдорск на партактив, сообщил, что теперь во главе народа Сталин. Объявил, как парторг села, о ленинском приеме в партию. Захотели вступить комсорг Вечка, его помощник Халей-Ванька и кладовщик Пызесь-Мишка. Но Варов-Гриша на сходке не было — он возил из лесу бревна для новой избы.
Глава 4 Югыд-би
1
Ох и трудная весна выдалась нынче. Ребятишки болели оспой почти до белых ночей. Некоторые умерли, но Илька с братьями и сестрами выжили. Помог, видимо, способ Петул-Вася — детям давали откусывать кусанный больным кусок хлеба.
В прошлое лето все пойменные покосы затопило, вода стояла до осени, и сена запасли совсем мало. Пришлось подкармливать скотину, коров и лошадей щучками-щурогайками, благо их народилось тьма. А коровам еще давали кору молодого тала да ольхи. Заготовкой коры занимались все, кто умел держать нож. И Илька тоже, как только выздоровел после оспы. Натащат охапками таловых, ольховых прутьев, и работай: кору в таз, а палки высушат — и на топливо. И нынче этим же занимались.
— Фу-у, даже устала! — пожаловалась двенадцатилетняя Февра, сестра Ильки и Федюньки, бросая ножик в сторону. — А меня подруги ждут. Играют вон на улице…
Доставалось и Гришу — он с раннего утра до ночи возил из тайги лес.
— Старый дом весь ушел в землю. Вот-вот потолок обвалится. Надо, край как надо, пока не поздно, строиться.
Лес хороший, бревна ровные, будто свечки. Весной, когда немного оттаяла земля, чуть южнее дома братьев заложил Гриш первый венец.
Вскрылись реки, прошел ледоход, чуть спала вода, и отправился Гриш на лов весенней рыбы вниз, за Обдорск — взяла рыбаков шхуна-парусник, идущая из Тобольска, они ехали со своими лодками, привязанными сзади вереницей. Рыбаков снабдили сетями, мережей и продуктами на дорогу.
Не получилось только с начальством, Госрыбой — Куш-Юр хотел поставить Гриша главным над всеми бригадами, но из Обдорска прислали более грамотного человека.
— С меня одного бригадирства хватит, — заявил он, прощаясь с Куш-Юром на шхуне. — А потом изба ждет не дождется.
— Да-а, — согласился председатель. — Но строишь уж больно маленький домик.
— Зато сделаю красивым-раскрасивым! Терем-теремок! — смеясь, ответил Гриш. — Так задумано — для детей сказка.
А Елення, пока муж был на путине, делала кирпичи, заготавливала мох для избы, сено для скота — как могла, не жалея сил.
Наступило лето. Раздетый выбрался Илька ползком на улицу, за ним выскочила сестра Февра и четырехлетний брат Федюнька. Тепло, солнечно, безветренно. Высыпали во двор из соседнего дома их сверстники, двоюродные братишки и сестренки. Шуму стало — не разберешь. Взрослые кирпичи делать собрались — земля оттаяла глубоко. Для замеса глины приготовили место — настелили доски возле забора. Ребята сразу же давай играть на этих досках, пока нет женщин. Играют в круг, вертятся, шалят. И Белька, лайка, с ними. Только Илька остался один на деревянном настиле между домами, сидел и тяжело вздыхал.
Вышла из дома старая бабушка Анн с внучкой на руках, годовалой Груней.
— Охо-хо, — сказала бабушка. — Вот где весело-то! А Илька, коньэр, не может играть. Сидит один. — Она опустилась на крыльцо. — Иди ко мне, Иленька!
Илька обрадовался бабушке. Он торопливо, будто боялся, что она уйдет обратно в дом, двинулся с места. Опираясь о настил левой рукой и отталкиваясь правой ногой, подполз к бабушке.
— Как я люблю тебя, бабуня! — Илька обхватил ее за колени и прижался к ногам, обутым в меховые туфли-тюфни.
Бабушка погладила Ильку по темным волнистым волосам.
— Спасибо, родной. Я тоже люблю тебя, — и вздохнула: — Охо-хо! А вот другие тебя забывают… — Она усадила внучку Груню на колени и, качая, приговаривала:
Топ, топ, топаем, Топаем да думаем: Шум и гам — на все село, А Иленьке невесело…— Бабушка вышла! — закричал девятилетний босоногий Петрук. — Поет что-то.
— Ага, вспомнили — человек остался тут. — Бабушка перестала качать ребенка. — Ильку-то бросили? Эх, вы-ы!..
Ребята принялись оправдываться, перебивая друг друга.
— Ладно, сейчас мы его развеселим. — И, хитро моргнув глазами, бабушка начала:
Никэн-Вась, Никэн-Вась, Шел за зайцем, торопясь, Через гору, через пруд, А зайчишки — тут как тут. Спохватился: «Белый свет! Есть пищаль — патронов нет!» А зайчишки: «Ха-ха-ха!..» — И взялися за бока! Шел баран, заблеял: «Бе-э! Ну, охотник! Тьфу тебе-э!»Засмеялись дети звонко, словно зазвенели-заплескались весенние ручейки о льдистый бережок.
Голосистая Лиза, четырехлетняя дочка дядюшки Пранэ и тетки Малань, удивленно крикнула:
— Эй-эй?! Бараны да овцы зашли! Чужие!! Травку у нас помнут…
— Где? — встрепенулась бабушка Анн.
— Во-он! Возле начатой избы.
Петрук и девчонки с криком бросились к овцам, хотя сами топтали почем зря зеленую травку…
— Много овечек-то? Я плохо вижу, — бабушка Анн посмотрела из-под ладони…
— Пять овечек, — сказал Илька. — Две черных… Нестриженые они, косматые.
— Ну, это Кузь-Матрены овцы, — безошибочно заключила бабушка. — Наши-то на поскотине с коровами, зелень-травки небось со цветочками щиплют. А эти — срамота! Два шага шагнули и — рады.
Ребятишки смолкли вдруг, видно, кого-то увидели.
Из-за старого дома выступила сама Кузь-Матрена. Длинная Матрена. Престарелая соседка, живет наискосок к Югану, возле старого кладбища. Глухая она, но чрезмерно осведомленная обо всем.
— Кузь-Матрена идет, — шепнул бабушке Илька.
— Ну, легка на помине. — Бабушка прижмурила глаза, вгляделась в длинную, как жердь, соседку.
Кузь-Матрена шла осторожно, щупая посохом землю, боясь промочить ноги в меховых туфлях. Вышли из старого дома женщины — целая орава, видно, чаевали.
— Вот и мамы! Вот и мамы!.. — загалдели ребята, идя следом за Кузь-Матреной. — Сейчас будет глина! Айдате скорей!..
Елення, подпоясанная, как и все женщины, кушаком и в башмаках на голых ногах, взяла Ильку на руки.
— Оп-па! Тяжелый ты стал… — И обратилась к матушке: — Мы пойдем за амбар копать глину.
— Идите, идите! Веселей будет ему, — ответила матушка.
— Вуся, Анн, — приветствовала соседку Кузь-Матрена старческим дрожащим голосом.
— Вуся! Привет!
— Мужики на рыбалке, а бабы кирпичи собираются делать, — кивнула Кузь-Матрена на женщин. — Ватагой дело спорится. Так жизнь и идет. Так и идет.
— Идет жизнь, — ответила Анн и указала место рядом с собой. — Садись да расскажи, как живешь-поживаешь.
— Не слышу!.. — Кузь-Матрена приложила руку к уху.
— Садись, говорю, тогда услышишь. — Старуха Анн прибавила голос. — Как живешь-здравствуешь?
— Верно говоришь, солнышко теплое, — улыбнулась Кузь-Матрена.
На ней пусто, как на жердине, до самой земли повисал выцветший сарафан. Поверх кокошника — синий платок в белую горошину. Лицо вытянутое, сморщенное, словно подгоревшая шаньга, безбровое, с маленькими смешливыми глазками, с мясистым носом и выдвинутым подбородком. Она долго приноравливалась, чтобы присесть на низкое крыльцо. Наконец присела, как угнездилась.
— Вот теперь хорошо! — И подставила ухо: — Что говоришь?
— Как живешь-здравствуешь?
— Живу, слава Богу! — ответила Кузь-Матрена. — Вот только слышу немного слабо. Да глаза уже не те. И ноги тянет войтээ, северный ветер, рематизм называется. И зубов некоторых нету. А про внутренности лучше и не говорить — все дрянь. Даже память теряю…
— Охо-хо! Худо дело!..
— Худо, худо, — качала головой Кузь-Матрена. — А так остальное — хорошо, здорова…
Старуха Анн хохотнула:
— Остальное!.. Ну ты скажешь! А как живет муж твой, Эндрей?! Что-то давно не видела кума…
— Болеет. Лежит, не встает. А может, уже выживает из ума — древний стал. — Кузь-Матрена вздохнула. — Пора — девятый десяток подходит. Сегодня говорит: «Вот беда! Овечки-то наши давно потерялись. Надо искать. Пойду сам». А сам даже не встает. А овечки в ограде. Потом, верно, сюда подались.
— Да-а, — посочувствовала старая Анн. — А овечки-то ваши, верно, были здесь!
— Знаю, знаю, — закивала Кузь-Матрена, — я потому и пришла. Время стричь их. Тепло стало. Пускай пока травку щиплют, а мы поболтаем немного. Ты все возишься-нянчишься?
— Вожусь, нянчусь!.. О-о-о! — Старуха Анн, смеясь, быстро взяла внучку на руки. — Вот тебе и раз! Проговорила с тобой! Новые чулочки на нее надела, а она… молчком…
Кузь-Матрена засмеялась:
— Это у них в обычае… Кажись, Груней зовут?
— Груней! Вот так и живу — вожусь, нянчусь, старею! Что мне делать больше! А кум, говоришь, древним стал, ум за разум заходит?
— Ум за разум, — вздохнула Кузь-Матрена. — На днях разговор завел про Ухту. В Ухте ведь он родился и вырос, а я сама-то из села Усть-Ухта. Молодость там прошла, встретились там и поженились. Потом сюда, за Камень пришли. Нужда заставила. Так вот до женитьбы-то он в Ухте работал, соль добывал. А помимо соли-то горящую воду, непть называется… Красивый Эндрей-то был. И я тоже ничего.
— Ты, оказывается, хорошо помнишь?
Кузь-Матрена, довольная, усмехнулась:
— Когда как… А про что мы говорили-то?
— Вспоминала молодость, — подсказала Анн.
— Да! Да-да, — закивала Кузь-Матрена.
— А что это он разговор-то про Ухту завел?!
— Эндрей-то? — Кузь-Матрена приставила левую руку к уху. — Вспомнил свою молодость ухтинскую. Никогда не вспоминал, а тут вдруг вспомнил. Меня-то, говорит, в Ухте вспоминают, ждут, наверно. Придется съездить в Ухту, привезти соль и горящую воду. За Камнем-Горой-то, в Мужах али Березовом, нету в помине соли и непти. Сказывает, съезжу, пожалуй, непременно. Девок хоть увижу. Вот лешак-старик. Тьфу!.. — И обе засмеялись.
— Ой, мне ведь идти пора, — спохватилась Кузь-Матрена. — Овечки-то мои убегут от стрижки. Я про них и забыла. — Она с великим трудом поднялась на ноги, опираясь о посох.
Из-за амбара вышла шумная ватага. Взрослые несли на носилках глину, дети баловались. Илька был на руках у Еленни.
2
— Вот и осень пришла-пожаловала. — Гриш стряхивал у порога снег с меховой обуви. — Река стала насовсем. Хорошо, что успели привезти сена на распутицу. Теперь можно и терем-теремок достраивать помаленьку. А там гимги-морды[9] поставлю и — на лыжи, лесовать-охотиться. Нельзя мне бросать это дело сейчас — каждый рубль-копейка пригодится…
— Пригодится. — Радостная Елення стояла у печи, помешивая в небольшом чугунке кашу. Засмеялась: — Заварил кашу — доваривай…
Гриш вернулся с путины с неплохим заработком — от сдачи рыбы рыбтресту получил больше двухсот рублей. К его приезду Елення и мох приготовила, и кирпичи сделала, и сено поставила. Все как надо. И ребятишки живы-здоровы. Февра уже ходит третий год в крохотную школу, а Илька целыми днями корпит над «писаниной» — научился держать пятерней огрызок карандаша и рисует на клочках бумаги «гуренек» — домовых и банных.
После завтрака Гриш, одетый по-рабочему, взял топор и нетерпеливо направился к заветному дому — будущему терем-теремку. Словно впервые внимательно осмотрел венец. Походил, полюбовался, задумался. И вдруг понял — прав был Куш-Юр — мала избенка.
«Ну что это? Одна комнатушка, — размышлял Гриш. — Пока дети растут — терпимо. А больше станут — каждому постель нужна. Илька больной, — ему покой надобен. Как же это я не догадался раньше? Надо сразу строить избу из двух комнат. Материалу, что ль, нет? В тайге живем-здравствуем. И место позволяет — можно удлинить сруб. Сейчас же, пока земля совсем не застыла…»
И, не откладывая, тут же начал копать ямки. Елення, увидев в окошко непонятную его работу, подошла, и Гриш объяснил. Елення задумалась — лишние расходы, а потом согласилась — пусть делает как хочет. Она свое обещание выполнила — мха заготовила больше, будто знала. И кирпичи готовы.
Гриш за десять дней сумел уложить в ямки поперечные чурки, построить вторую половину венца и поднять несколько рядов до окошек. Изба получилась длинная, немного на лодку смахивает, — зато из двух комнат.
Тут подошло время ставить гимги-морды. Эта работа артельная, мужчины работали ватагой.
Есть на берегу Малой Оби, южнее села Мужи, за три версты, приметное место — Кедровое. По этому месту издревле строили по первопутку подводную изгородь поперек реки — перегораживали и ловили рыбу гимгами. Много требовалось жердей, чтобы перебросить редкий тын от берега до берега. С января уже не ловили — начиналась порча воды, загар. Весной в ледоход весь лес уносило в море, и каждую осень начинали сызнова. Но лошади, чтобы вывозить жерди, были не у всех, даже гимги не у каждого. Зимой рыба свежая, даже выпрямиться не успеет на снегу, так полукалачиком и застывает. Поневоле приходилось объединяться — бери, безлошадный, коня и вези к Кедру толстые и длинные жерди на себя и на хозяина коня, если он того хочет. Потом, сообща, все разом долбят лунки и загораживают реку неплотно стоящими жердями. После этого тянут жребий — кому в каком месте ставить гимги. Прорубь для них вырубают с напарником и проверять ездят вместе.
Гриш не беспокоился — гимги есть, две, большие, высокие, не влазят в дверь. Съездил за жердями, нашел напарника — Сеньку Германца, у того жеребец-жеребенок, дал Гриш ему коня привезти жердей. Сенька ленивый, зато Гриш пронырливый, бойкий, приучит он шевелиться Сеньку мало-мальски. Никто не берет Сеньку в напарники, даже Гажа-Эль, гуляка.
Загородили Обь, вытащил Гриш жребий на свой пай с Сенькой и поставили гимги, условились просматривать по воскресеньям.
А потом пришло время охотничать до марта. Попутно с охоты дровишки да бревна для избы возить.
3
Прошла зима. Опять, как и в прошлом году, в апреле собиралась в Нардоме сходка-митинг в память Ленина. Распахнулись над Мужами белые ночи. Лед на окнах растаял, через них с южной стороны гляделась церковь, а с западной — низкое солнце, то и дело заслоняемое входящими людьми. Голландская печь не топилась, на сцене стояла незажженная лампа — без них тепло и светло. В глубине сцены, в простенке между окнами, большой портрет Ленина. Над ним кумачовый лозунг: «Мы наш, мы новый мир построим».
Сельчан пришло много — битком набит Нардом, пришли послушать о Ленине, ведь многие в прошлом году из-за оспы ничего не слышали. Куш-Юр к тому же сулил показать большой портрет Ленина, присланный из Обдорска. Даже бабы пришли — вон у нетопящейся печи сидят Елення, Сандра, другие женщины. Сандра совсем выздоровела, побелела, румянец на лице, глаза блестят. А Варов-Гриш, Сенька Германец и Гажа-Эль в другой стороне, на одной лавке. Гурьбой пришли недавние богачи Озыр-Митька и Квайтчуня-Эська с дружками, чтоб показать они отныне за новую власть. Но подмигивали друг дружке усердно, корчили рожи и усмехались. И Эгрунька с Яшкой с ними. Она нет-нет, да ревниво следила за Сандрой. «Выздоровела, холера. Теперь крутит, наверное, с Романом. Видела, шли вместе…» — чуть вслух не произнесла Эгрунька.
Из внутренней двери вышел Куш-Юр. Улыбнулся, направился к сцене, держа знакомую Варов-Гришу брошюру и листки бумаги.
Куш-Юр уже давно не брил голову, отросли русые волнистые волосы и закрыли шрамы. Но все равно его зовут за глаза Куш-Юром, Гологоловым. Он чисто побрит и празднично одет — в черном костюме, коричневатом свитере и серых валенках.
Восхищенно ахнула Эгрунька, а Сандра зарделась. По рядам прошел шумок.
— Успокоились? — Голос Куш-Юра звучал приподнято и упруго. — Вуся! О-о, народу-то сколько пришло! Очень рад за вас! Побеседуем. Ведь завтра день рождения Ильича. Пятьдесят пять лет ему бы исполнилось. А на днях прислали нам из Обдорска большой портрет Ленина. Вот, смотрите!.. — Куш-Юр отошел немного в сторону и вгляделся в зал, тепло улыбнулся молодым партийцам — комсоргу Вечке, Халей-Ваньке и Пызесь-Мишке.
— Хороший портрет, — сказал кто-то в зале. — На зырянина похож. Хороший портрет.
— Хороший, — подтвердил Куш-Юр и увидел возле печи Сандру. Это его так обрадовало и согрело, по-доброму затревожило, что он потерял приготовленные слова и начал беседу немного не так, как задумал. Но в зале никто не заметил — все слушали.
Куш-Юр на зырянском языке заговорил о жизни и деятельности Ильича, и это казалось всем сидящим в зале куда понятней, чем на русском. Вот ведь как научился говорить по-зырянски. И Куш-Юр почувствовал, что люди как бы приблизились к нему, нет, наверное, это он приблизился к ним. Правда, редко-редко затруднялся сказать то или другое слово и что-то неправильно произносил, но это не вызывало усмешки. Больше часа говорил председатель. О том, как заветы Ленина претворяются в жизнь России и в жизнь отдельных народов Крайнего Севера. Куш-Юр привел местные примеры, близкие и понятные мужевцам. Поведал об Обдорском районе, что возник вместо Обдорской волости. Отметил, что Тобольский окрисполком скоро примет Положение о родовых Советах. Рассказал о том, что Комитет Севера ВЦИК под руководством Смидовича разрабатывает программу по оленеводству и ветеринарии. И про многое другое, что было близко, понятно и дорого собравшимся, про лампочки Ильича, что вспыхивают по стране.
Потом председатель отвечал на вопросы. Все были довольны беседой.
— Ну что — нет больше вопросов? — спросил Куш-Юр.
— Нет! Спасибо! — И стали расходиться.
Но тут Варов-Гриш задал Куш-Юру вопрос по-русски:
— А почему, Роман Иваныч, у нас в селе Мужи досей поры-времени нету югыд-би? Нет светлого огня, электричества? В Обдорске, в Березовом есть! Мы видели с тобой, помнишь? А у нас — по старинке, керосиновой лампой живем. Куда это годится? Нам тоже лампочки Ильича надо…
— Товарищи! Постойте, товарищи! Садитесь, миряне-зыряне, — останавливал Куш-Юр людей. — Тут спрашивают про югыд-би, про светлый огонь…
— Югыд-би?.. В белые-то ночи?.. Ха-ха-ха! — раздался смех, прокатился хохоток, кто-то свистнул, но остановились, грудясь у двери.
— Да не в белые ночи, а в темные! — уточняя, выкрикнул Варов-Гриш. — Есть задумка одна…
— О-о, это надо послушать!.. — И стали снова рассаживаться, кто где угадал. — Послушаем, что Гриш набалагурит? Какую новую парму-артель придумал? Какую социализму?
Из женщин оставалась лишь Эгрунька, чтобы послушать про мужскую задумку, про югыд-би. Куш-Юр, не увидев Сандры, немного потускнел, но взял себя в руки.
— Продолжим сходку. — Куш-Юр поднял руку, потребовал тишины. — Кажись, Григория был голос…
— Да, я спросил! — твердо ответил Гриш.
— А курить-то можно? — взмолился голос.
— Курите, курите! Недолго задержимся! — разрешил председатель. — Ты спрашиваешь, Гриш, почему до сих пор в Мужах нет югыд-би? Потому что нету у нас электростанции, нету такой электростанции, как в Обдорске или в Березовом. Задумка-то у тебя какая?
— Хорошая. Если подумать-покумекать, то можно и нам завести свою электростанцию, — запальчиво ответил Варов-Гриш и пригладил ладонью усы.
— Ну-ка, ну-ка! Иди-ка на сцену! Отсюда говори!.. — Куш-Юр сел за стол и вынул из кармана кисет.
— А что? Могу сказать и оттуда. — Варов-Гриш встал и начал пробираться к сиене.
Вокруг опять оживились:
— Во! Сидел бы лучше на своем месте! Не выдумывал!..
Озыр-Митька тонким голосом мстительно добавил:
— Не рыпался бы. Югыд-би хочет придумать. Тьфу! Коммуния-то ведь развалилась, нету ее! И югыд-би развалится. Дом строит ведь курам на смех — длинный, как гроб. Строи-тель… Ну, де-ла-а!..
Гриш широко и уверенно шагнул на низенькую сцену, повернулся, пристально посмотрел в зал на Озыр-Митьку. Он был зол и спокоен.
— Да-а, и придумаю! — начал он. — А ты про коммуну-то не говори — не злобствуй, наговорились! И про дом молчал бы! Сделаю — увидим! Может, твой двухэтажный хором станет кому гробом! Лучше скажи, почему вдруг вы друзьями захотели стать, зачем пришли послушать беседу о Ленине? Не верится, чтобы волчица с важенкой подружилась!
— Что-о! — в один голос крикнули Озыр-Митька и Квайтчуня-Эська. И угрозно встали.
Кто-то дернул их за малицы, и они сели.
— Да, не верю! Волки оленям не друзья, — отрубил Варов-Гриш и бросил взгляд на председателя. — Я начну говорить издалека.
— Давай-давай! — весело крикнули из зала. — Издалека лучше — хватит на сутки болтать! Вокруг нечего с пустым мешком бегать. Давай, Варов-Гриш, тащи воду в решете.
— Вот лешаки-дьяволы! — улыбнулся Гриш. — Еще и подсмеиваются. Ладно, начну с осени, с подледного лова…
— Конечно! — послышался тот же неунывающий голос. — Позже начнешь — какой толк!
В зале засмеялись. Варов-Гриш тряхнул черной, кудлатой головой.
— Лешаки-дьяволы и есть!.. Мы-то как промышляем? А вот как — при подледном лове поневоле приходится работать ватагой, кол-лек-тив-но, — с трудом произнес Гриш еще не прижившееся слово.
— Это мы знаем, якуня-макуня, — отмахнулся Гажа-Эль. — Про югыд-би калякай!
— Во-во!.. — поддакнули в зале. — Тебя для чего к столу пустили? Сходка кончилась, а ты людей держишь!
— Вот именно! — распалился Варов-Гриш. — Это же артельно, добровольно, кто сколько сможет! Мы можем все сделать! — горячо и убежденно говорил Гриш. — И лес подвезем, чтобы построить тот дом, откуда будут делать югыд-би! Столбы подвезем — у нас хватит лесу. А в остальном помогут нам обдорские али березовские люди. Мы, фронтовики, видели в стране в разных местах югыд-би, знаем, ведаем. И сделаем для себя — для жизни. Али мы хуже? А, Роман Иванович?
— Да-да, да!.. — Куш-Юр встал с места и взволнованно заходил по сцене. — Над этим коллективизмом подледной рыбалки я даже и не думал. А ты, Гриш, заметил. Это здорово! Ей-богу, здорово! Тут и телеграф можно — электричество же! Мать честная!..
— Все вместе можно придумать! — уверенно заключил Варов-Гриш. — Артельно, добровольно, для обчества даже можно выложить дороги из бревен! Пять оврагов в селе! Мосты нужны. — Он сказал это, помня больного Ильку, который вскоре должен ползком добираться в школу.
Но Варов-Гриша не все поддержали.
— Это уж совсем зря, — крикнул кто-то. — Мостки из плах на дорожки — и ладно!
— И вообче — что тут болтать? Чего языки трепать? Один сказки бает, остальные уши развесили. Какая может быть югыд-би? Это же немыслимое дело! Пойдемте лучше домой — здесь душно. — Озыр-Митька брезгливо фыркнул и встал.
— Пойдемте, молодежь! — поднялся Квайтчуня-Эська. — Бог у них, видать, разум отнял. — И неторопливо вышел.
— Куда вы? — Куш-Юр хотел остановить, но увидел, что молодые остались, даже Яран-Яшка с Эгрунькой, успокоился. — Э-э, ладно…
— Задержать надо было, заставить голосовать! — протестовал Гриш. — Кони у них сытые — по пять-шесть голов.
— Ничего, подчинятся большинству. Проголосуем, и… — Куш-Юр собрался что-то сказать, но тут вдруг вскочила на ноги Эгрунь.
— Ой, я ведь забыла кормить ребенка! И ты, Яков, коней-то забыл поить! Вот дурные мы! Пошли! — И вместе с мужем начали пробираться к выходу. За ними и другие из их ватаги поспешили удалиться.
— Кони-то ведь, верно, не поены, — говорил кто-то из них.
— Куда?! — закричал Куш-Юр. — Задержитесь — успеете поить коней.
— Испугались голосовать, якуня-макуня! — засмеялся Гажа-Эль.
— Заставим делать, как большинство! — Куш-Юр выступил вперед. — Варов-Гриш здорово придумал — самим завести электричество и телеграф! Радиотелеграф — вот ведь что! В прошлом году не могли придумать ни в Обдорске, ни в Мужах, а нынче, — повысил голос Куш-Юр, — нынче додумался Гриш. Поддерживаем его — артельно, общественно заведем электричество и телеграф! Не прожить нам без этого!
— И мосты через овраги! — добавил Гриш.
— Молодец ты, Гриш, молодец! Хорошо придумал — помочь сходкой в доставке леса, а в главном — Обдорск поможет! Хорошо отметили рождение Ильича!
Сидящие в зале шевельнулись, скрипнули лавками, заговорили:
— А ведь верно — сходкой лучше решать!
— Югыд-би, якуня-макуня! Лампочка Ильича!
— Записать бы холосо было!..
— Правильно! Крепко записать и отправить бумагу-документ в Обдорский райком или райисполком! Пусть знают-ведают — мужевские люди ни за что не хотят жить по старинке! Надо помочь им завести югыд-би! Все, конец! — Варов-Гриш сел на край сцены, достал кисет и стал закуривать.
Куш-Юр позвал Писаря-Филя, чтоб было честь по чести официально и документально. Писарь-Филь зажег лампу и, склонив набок голову, стал писать под диктовку Куш-Юра:
1. Просить Обдорский районный исполнительный комитет оказать сходке села Мужи, посвященной пятидесятипятилетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, помочь в следующем:
а) в постройке электрической станции, чтоб был югыд-би — светлый огонь;
б) в установке радиотелеграфной мачты, как в Обдорске;
в) в посылке для этого в Мужи нужных мастеров-умельцев;
г) строительный лес и подвозку его к указанному месту в нужном количестве берем на себя, то есть на жителей села Мужи. Без-воз-мезд-но! И свое-врем-менно!
2. Построить также своими силами пять мостов через овраги в с. Мужи. А также уложить деревянные тротуары.
Писарь-Филь старался, брызгало чернилами перо царапая бумагу.
Стали голосовать — кто «за», кто «против», и тут подняли шум — ничего не разобрать.
— Тихо! — призывал Куш-Юр. — Говорите по порядку… Вот ты почему против?
— Я не супротив югыд-би али радиво, — отвечал мужик со второго ряда. — Я противу энтого… как его… чтоб безвозмездно. Платить нам надо! Жизнь на бесплатно не держится.
— Писать? — спросил Писарь-Филь. — Прения писать?
— Так я же говорил — тогда не дадут ничего строить! — повторил Куш-Юр. — Ответят — в лесу живут, а лесу пожалели на дом и на мачту! Куда это годится, миряне-зыряне. Ведь лес — это наша за-бо-та, товарищи!
— Ладно! — слышался чей-то голос. — Это, положим, можно, коли будет лошадь. А мосты-то на что? Я у воды живу!
— А ежели в конец села пойти? Не-эт… Скажи лучше — мачту чтобы покороче сделали. Упадет ведь! Раздавит!
— Э-э, якуня-макуня! Мне вот избу надо построить, лес возить! А тут — нате!.. — разводил руками Гажа-Эль.
Сенька Германец тоже лепетнул:
— Вот беда-то! Желебец — не лошадь! Не успею возить лес!..
Все засмеялись — ждать еще решения Обдорска, не сразу ведь начинать.
— К тому времени будет как раз конь! — ответил Варов-Гриш, сидя на краю сцены. — Придет обязательно ответ! А Гажа-Элю мы поможем избу поставить.
Еще раз пришлось голосовать за резолюцию — единогласно. Только Озыр-Митьки да Квайтчуня-Эськи с дружками не было. Выскользнули, как налимы между жердями тына.
— Советская власть заставит их подчиниться решению мирян! — твердо заявил Куш-Юр.
Глава 5 «Чайная» вода
1
Неделю на селе никто не работал: Пасха.
Гриш решил передохнуть денек. Одетый, лежал он поверх одеяла и лениво размышлял: «Какой к черту праздник насухую? Даже браги нет. Однако нет худа без добра: голова не болит назавтра. Вот только заняться нечем, а спать неохота. Нагрянет вот поп, спросит, почему не бываю в церкви. Лучше пойти куда-нибудь. Пускай принимает Елення. Она причащалась. Уйду-смотаюсь, однако».
— Схожу проветрюсь, — сказал Гриш жене, уходя из дому.
Елення засмеялась:
— Еще мало проветрился! Черным стал от солнца… Скоро придет батюшка…
— Э-э, — махнул рукой Гриш и вышел из избы.
Было солнечно и безветренно — на малице шерстинка не шелохнется. Колокольный звон весело метался над селом: звонарь Тихэн-дурачок старается вовсю.
— Ишь, каналья, — усмехнулся Гриш, — вроде «Барыню» наяривает на колоколах! Никакой благости…
«А не прокатиться ли до Живун-озера? — подумал он. — Там вода живая из родников-живунов и окуни водятся. У зимы глотка прорва — неча есть стало. Ей-богу, должны там быть рыбаки! Партийцы да комсомольцы наверняка рыбачат — им Пасху не справлять. Помогу закинуть под лед невод и буду с рыбой на варево». — И Гриш пошел запрягать коня.
Дороги, похоже, были из конского навоза. Нарта-сани тащились тяжело, будто из полозьев торчали гвозди. На обочине дороги лежал изъеденный солнцем снег, хлюпала вода.
На околице села Гриш остановил коня:
— Ну, хватит, детки, кататься. Хорошего-пригожего, говорят, помаленьку-потихоньку.
Февра и Федюнька нехотя слезли с нарты, а Илька, довольный, остался сидеть.
— Потом, Илька, расскажи все-все, что видел! — попросила сестра.
— Конечно, расскажу, — засмеялся Илька.
Гриш тронул вожжи, но тут навзрыд зарыдал Федюнька:
— Возьми меня, папочка. Возьми, долегой!..
— Тпру-у! — Гриш остановил Карько и вздохнул: — Надо взять. Иди!
— Иди скорее! — обрадовался Илька.
Дорога тянулась на север до самого поворота Малой Оби и пересекала ее по льду, выходя на правый берег. Проехали по извилистой протоке и выбрались наконец на озеро. На середине озера виднелись люди и несколько лошадей.
— Есть народ! Стараются-копошатся! — Гриш расплылся в улыбке.
— Хорошо! — воскликнул Илька.
— Холесо! — лепетнул и Федюнька.
— …Ага, попались! Нарушаете Пасху! Арестовать — конфисковать рыбу в мою пользу!
— О, Варов-Гриша лешак привел! — оторвался от лунки Куш-Юр. — Вот тебя надо арестовать, бездельника! Вуся!
— Вуся! Осенью — осетра не хотим, а весной рады окуню.
— Не наш это праздник! — горячо заговорил комсомольский вожак Вечка. — Мы — работники всемирной великой армии труда! Скидывай быстрее малицу! Помогай!..
На льду лежала большая куча ханжанг-хула — разрисованной рыбы, окуней.
Собирались сделать новую тонь. Варов-Гриш радовался:
— Еду и думаю-гадаю: не напрасно ли? Ан нет, повезло… Федюнька, иди сюда! Возьми ханжанг-хул, отнеси Ильке, ему веселее будет!..
Федюнька подошел, но рыбу не взял — живая, шевелится.
— Кусается…
— Эх ты, чудак-рыбак… — Гриш положил ему несколько окуней в подол малицы. — Неси!..
— Чудак-рыбак! Рыбу ловит, но не ест, а сдает ее в рыбтрест! — улыбнулся Евдок, двенадцатилетний сынишка хозяйки Куш-Юра.
— Вон чо знает!.. — засмеялись рыбаки.
— Сам, что ли, сочинил? — удивился Куш-Юр.
— Сам… А почему ты, дядя Гриш, не пошел работать в рыбтрест? Был бы начальником.
— Я-то? Да ведь рыбтрест только летом. Да и не тянет в начальники. Вот начнем строить югыд-би — пойду туда рабочим.
— О-о, югыд-би! Это ты, Варов-Гриш, здорово придумал, — откровенно позавидовал Вечка.
Илька и Федюнька рассматривали окуней, брошенных возле саней-нарты.
— Смотли — живые, — удивлялся Федюнька.
— Папа говорил — икряные, — разглядывал окуней Илька.
— Ну да, икляные.
— Икр-ряные надо говорить. Кррр!..
— Карр! Карр! Карр!.. — вдруг раздалось над их головами.
Оба увидели пролетавшую ворону.
— Карр! Карр!.. — наперебой принялись передразнивать птицу.
— Карр! — сердито оглянулась ворона и, взъерошенная, села.
И вдруг крикнул Федюнька:
— Ой!.. Каррр — получается!!
— Получается! Получается! — хвалил Илька. — Ну-ка, говори — каррр!
— Каррр!.. Каррр!.. — повторял Федюнька, испуганно тараща глазенки и не веря, что преодолел то непонятное, на чем так долго спотыкался. — Каррр, — прокатывалось горошком в его горлышке.
— Ура-а-а! — ликовал брат.
— Уррра-а-а! Каррр! Каррр!.. — наслаждался Федюнька. Он кинулся к отцу, беспрерывно повторяя: «Урра, карр».
Варов-Гриш, услышав Федюньку, изумился:
— Ты что кричишь?
— Карр! Уррра! Каррр!..
— Карр? Мать родная!.. — Гриш бросил невод. — Посмотрите-полюбуйтесь! Выговаривает!
— Каррр! Уррра-а-а!.. — ворковал Федюнька.
— Как научился?
— Летела ворона и гаррркнула, а Илька как ррраз дррразнил меня «гнилым языком»!
— А скажи-ка — «рыба».
— Рррыба.
— «Варов».
— Варрров.
— Скажи — «Гриш», — попросил Вечка.
— Грриш… Варрров-Гррриш…
— Ну дела! Помогла ворона! — хохотали все.
…Когда Гриш ехал обратно, все трое вспомнили как ворона выучила Федюньку.
— Папа, там кто-то идет, — показал Илька. — Во-он, видишь?
— Вижу. Кто же это идет-бредет пешком в такую даль?
Федюнька тоже вытянул шею, вглядываясь.
— Это Сенька-Герррманец, — остреньким взглядом узнал Федюнька.
— Германец! — подтвердил брат.
— Ты это куда отправился пешком? — Гриш остановил коня.
— Ба!.. Здлавствуйте!.. Далеко ездили? — заморгал Сенька.
— Везем ханжанг-хул. И ты, видать, тоже за этим, — Гриш кивнул на пустой мешок в руках Сеньки.
— Конесно. Дай, думаю, схозу-ка напоследок за хандзанг-хулом. Мозет, кто-нибудь неводит из палтейцев. Лыбки залаботаю…
— Ррыбки зарработаю, — поправил Федюнька. — У тебя не выходит…
Гриш и Илька засмеялись, а Сенька часто-часто заморгал ресницами.
— Вот здолово! Где это ты научился так говолить?
— Там! На озерре… У ворроны!
— Значит, есть лыбаки? Не зля иду? — с надеждой спросил Сенька.
— Есть, Куш-Юр там. А ты, пожалуй, не ходи в такую даль. Возьми у меня окуней. Хватит, еще останется! Садись, Сенька, в нарту.
2
Прилетели трясогузки — ноги тонки, да лед ломают. Значит, приближалась «чайная» вода, годная для питья после тухлятины-загара. Люди радовались — теперь можно вдоволь пить чай и варить любое варево. Все высыпали на берег посмотреть появление «чайной» воды. Она показалась по эту сторону верхнего мыса, свободного от ледохода. Все больше и больше ширилась она, ярко сверкая во всю Малую Обь.
— Вот и «чайная» идет. — Елення, в легкой малице и бахилах, подтащила на нарточке Ильку повыше, за крайний амбар, оттуда видно было хорошо. — Наконец-то!
— «Чайная»! «Чайная»!.. — повторяли шумно и Илька, и Февра, и Федюнька, а Белька только виляла хвостом. Февра была с ведром, чтоб дождаться чистой воды и зачерпнуть ее для самовара.
Елення предупредила:
— Еще, поди, ждать долго. Посмотрим хоть на ледоход…
А ледоход шел вовсю. Уже давно минули Мужи зимние речные загородки, разделенные пополам длинным и узким островком, что был против села. Местами лед дыбился, льдина наползала на льдину. А вверху то и дело летели на север лебеди, гуси, утки, чайки… Освещенные вечерним низким солнцем, они казались то розовыми, то бронзовыми и чуть не задевали людей на берегу. Ребятишки махали им, возбужденно шумели, а кое-кто из мужчин вышел на берег с пищалем-ружьишком. Только, пожалуй, не добыл никто — нету заберегов, все загромоздило льдом до самой горы, а стреляли бесполезно — не добраться до птицы.
«Папа бы добрался или Бельку послал бы», — подумал Илька, жадно глядя на вереницу низко летящих уток.
А Варов-Гриш в этот поздний, но светлый час строил избушку. Сенька Германец помогал пилить тес и плахи. Торопились покрыть крышу, потолок и пол настелить, а уж осенью после путины вставить рамы и сложить печь. И — новоселье.
— Гажа-Эль, чай, тоже пыжится-старается. — Гриш, то замедляя, то убыстряя ход продольной пилой, стоял внизу козел. — Но что-то не тюкает, не слышно. Видно, кончил на сегодня.
— Мозет быть, — лепетнул Сенька, стоя вверху на двух бревнах. — Выпимши, поди.
— Подпрыгни-погляди!.. Нет, он теперь не пьет, не пил даже в Пасху. И правильно — надо беречь копейку. Петул-Вась говорил — при первом пароходе откроется в Мужах хлебозапасная мир-лавка. Все будет там, что душе угодно. Эль уже спрашивал у него в долг на еду, пока строится. Обещает Василий.
— Вот мне бы тоже поплосить в долг, — вздохнул Сенька. Он в старой коротенькой малице, в поношенных бахилах. — Не даст, навелно.
— Тебе дадут без разговора. — Гриш без шапки, в одной рубахе и броднях. — Ты нынче поедешь на весенний лов рыбы?
Сенька тряхнул головой отрицательно:
— Нет. Девчонки дулные какие-то. Нельзя оставлять одних.
— М-да, — вздохнул Гриш. — А почему ты не женишься?
— Ищу богатую невесту, — засмеялся Сенька и предложил: — Пелекул!..
— Ну, перекур дак перекур. — Гриш бросил ручку пилы. Сенька сел и опустил ноги вниз. Начал шарить в карманах.
— Да-а! Воды нет холосей. Хочу пить. «Чайную» бы воду сейчас. У-у!..
— Не мешало бы. — Гриш опустился на бревна рядом со штабелями плах и досок. — Что-то долго не идут наши посланцы за «чайной» водой. Поди, застрял лед, а мы умираем без «чайной» воды. — Он полез в карман за кисетом.
— И мои, навелно, ушли на белег за «чайной»… Во-он летят гуси!..
— Их сегодня много. — Гриш вертел цигарку. — Руки зудятся палить по ним. Не могу! Избенка!
3
На берегу Оби людей становилось все больше, несмотря на поздний вечер — уже десять часов. Но солнце катилось над увалами и светило вовсю — «кукушкины» ночи светлые. Лед уже миновал Мужи и стал помаленьку приближаться к северному мысу, чтоб обогнуть его и скрыться за поворотом. И за островом ушел лед — там быстрое течение. Вдоль по берегам остались выплывшие осеньчики и вышвырнутые ледоходом на сушу льдины. Но они уплывут или растают к утру.
— Вот и «чайная», чистая вода — пользуйтесь, люди!
— Спущусь вниз, зачерпну, — сказала Елення Ильке, оставляя его одного на нарточке за амбаром. Февра и Федюнька с Белькой давно на берегу, загроможденном старыми рыхлыми льдами.
— Иди быстрее, мама! Хочу «чайную» воду. — Илька нетерпеливо дергал веревку от нарточки, будто ехал. — Эх, какая чистая вода стала на реке! Все-все видно! Даже тени от птиц!..
Елення по взвозу спустилась вниз, взяла ведро из рук Февры, но никак не могла вступить на льдину — скользили бахилы. Лед был старый-старый, чуть заденешь — осыплются льдинки, длинные, как ножи.
— Вот тебе, и не зачерпнешь воды-то, — смеялась Елення. — Как же быть-то?
Февра спросила у матери:
— Почему ты мне не велишь? А я легкая.
— И я бы зачеррпнул. — Федюнька кидал камешки, но они долетали только до льдины.
— Нельзя! Утонете. — Елення все же взобралась на льдину и остановилась. — Вот я и здесь…
— Бельку зови, мама! — крикнул с горки Илька. — Пускай сперва проверит она.
А Белька будто поняла — прыг на льдину и побежала вперед к кромке льда.
— Она прросит ведрро! — воскликнул Федюнька.
Елення было двинулась за Белькой, но вдруг под собакой лед рассыпался, хрустя и звеня, и собака оказалась в воде.
— Ой!.. Ой… — Елення повернула обратно, но в тот же миг провалилась до середины бахил.
Ребята испугались, а потом давай хохотать, видя, что Елення угадала провалиться недалеко, возле самого берега. А Белька, как вышла на галечный берег, шумно стряхнулась, будто плавала за уткой.
— Вот и «чайная» вода, — засмеялась Елення, вертя в руке пустое ведро. — Не зачерпнуть пока…
— Я тебе зачерпну!.. — Гажа-Эль аршинными шагами спускался по взвозу, и, видать, выпивший. — Дай ведро…
— Но, Элексей?!. Опять пьян. Ай-я-яй!.. — закивала Елення, а ребятишки отступили назад. — Не выполняешь слово — опять споткнулся…
— Э-э, — махнул рукой Гажа-Эль. — Угостил один друг на именинах… Давай ведро!..
— Нет, не дам. — Елення отступила на шаг. — Пьян же ты! Да и гнилой лед — не пройдешь до воды. Я чуть не утонула. Видишь? — она кивнула на льдину. — Провалишься, утопишь ведро.
— Не провалюсь, — подмигнул Гажа-Эль и взял ведро. Он был без шапки, в ватнике и сапогах-«кандалах». Только вступил на льдину, сразу же под общий смех провалился.
— Вот видишь? — сказала Елення.
— Ничего, якуня-макуня. — Гажа-Эль, хрустя «кандалами» и брякая пустым ведром, вышел на берег. Покачиваясь, он стал высматривать льдины, но они были все почерневшие, готовые вот-вот рассыпаться и исчезнуть.
Люди наперебой предлагали то одну, то другую льдину. Но Гажа-Эль выбрал самую большую, как раз напротив Ильки. Ребята переместились в эту сторону.
— Вот где надо черпать воду, а не там. — Гажа-Эль шел уверенно к воде, играя пустым ведром. Потом постоял, ощупал ногами льдину. Подошел к кромке, зачерпнул и расплылся в улыбке, довольный:
— Есть «чайная»…
Но тут послышался хруст, треск, и обломок льдины с Гажа-Элем потихоньку начал отплывать от берега.
— Ой, утонет!.. — завопил народ.
— Якуня-макуня!.. — Гажа-Эль вмиг, выплескивая воду из ведра, оказался над разрывом. Но перескочить не успел — лед качнулся, и он бултыхнулся в воду по пояс. Закричал, поднимая вверх ведро: — У-уххх!.. Холодная вода!..
На берегу и на пригорке вовсю стали хохотать — вот так помощник! Не хвастался бы! Гажа — гажа[10] и есть! Прольет из ведра остальную воду…
— М-му-у, — мычал в воде Гажа-Эль и, поставив ведро на обломок льдины, попробовал вылезти, но не смог, осыпались края льдины иглами. Захватив ведро и мыча, он начал пробираться вброд, ломая «кандалами» ветхие льдины. Поставил ведро на гальку и выдохнул: — Получайте, якуня-макуня…
— Спасибо, Гажа… дядя Эль, — сказала Февра, краснея.
— Мама, скоррей! Есть «чайная»! — звал Федюнька.
Елення, ухмыляясь, взяла ведро.
— Спасибо, Элексей! Значит, есть «чайная»!
— Поставь скорей самовар, — покачал головой Гажа-Эль. — Может, я зайду. — И он стал снимать «кандалы», чтоб вылить воду.
— Приходи, Элексей! — ответила Елення.
Глава 6 Надежды
1
Эта июльская ночь была тихой и комариной. С вечера небо заволокло тучами, но спокойная вода так и манила порыбачить.
— Дядя Роман, заскочим на сор,[11] — упрашивал Куш-Юра Евдок. Они возвращались на лодке-калданке из долгой поездки по рыбацким станам. — Свежей рыбы добудем! — уговаривал парнишка.
Куш-Юр не сразу ответил, все еще поглощенный увиденным в поездке. Власть родовых старшин слабела на глазах. Беднота, подпирая друг друга, вставала на ноги. Рыбаки стремились продать улов рыбтресту, а не перекупщикам. И это было доброй и важной приметой времени.
— Порыбачить? — переспросил наконец Куш-Юр, очнувшись от своих мыслей. — Не поздновато? И небо вон какое хмурое.
Евдок перестал грести:
— Не поздно! А дождь не помешает.
— Ладно, — согласился Куш-Юр.
Волоком перетащили лодку через невысокую узкую гривку, выехали на сор.
— Посмотрю, как вы будете ставить сети!
— Я ведь не сильно мастак… Однако поглядим. А почему ты первым не хочешь ставить? — улыбнулся Куш-Юр.
— Нет, нет! Я еще молодой. Со старшего надо начинать, с начальника.
— Ну, с начальника так с начальника…
Когда Куш-Юр закончил возиться с сетью, верхняя тетива ее была ровно натянута между кольев.
— Ну как? Сойдет?
— Сойдет!
Стал накрапывать дождь, потом зачастил, и водная гладь стала походить на огромную раскинутую сеть.
— Пожалуй, промокнем.
— Во-он, кажись, на покосе дым, — показал Евдок.
— Верно. Давай туда. Чайком побалуемся, угостимся малосолкой. И косарей угостим.
В одной сети затрепыхалась рыба, и они быстро выбрали ее. Когда подъехали к берегу, у костра не было ни души, а над огнем закипал большой медный чайник.
— Эге-гей, кто есть живой? — крикнул Куш-Юр. В шалаше завозились, и оттуда показалось загорелое до черноты женское лицо.
— К нам, оказывается, гости пожаловали! Улька, вставай, пора. И дождь перестает…
— Вуся, здравствуйте! Можно к вам почаевничать?
— Вуся, вуся! Как нельзя! Можно. А кажись, свой человек? Здравствуй, Роман Иванович… А это твой заместитель?
— Заместитель, — с улыбкой подтвердил Куш-Юр. — Зовут Евдоком. Познакомься.
— Знаю, что Евдоком, — улыбнулась Васення. — Улька! Уля! У нас гости. Вставай…
Из шалаша вышла девушка-подросток, увидела Куш-Юра и Евдока и смущенно зарделась. Поздоровалась негромко и бегом пошла к своей лодке.
Куш-Юр посмотрел на Евдока.
— А ты чего не поздоровался?
— Не успел, — Евдок смутился еще сильнее Ули.
— Ого! — не удержался Куш-Юр, а Васення лукаво улыбнулась:
— Они ведь, Роман Иванович, как иголка и нитка.
— Разве?
— Жених и невеста, — засмеялась Васення, кроша в чайник сухие листья смородины.
— Женихаться да невеститься еще рано. А дружить можно и нужно… Постой, ты чего это крошишь листья в чайник?! У нас есть чай.
— Чай?! А у нас вышел весь, вот и завариваем смородину.
2
Дождь перестал, и завтракали у костра.
— Ах, хороша уха! — восхищалась Васення. — Дай Бог вам здоровья. И чай какой!
— Это Евдоку надо говорить спасибо, — Куш-Юр посмотрел на своего «заместителя». — Он постарался добыть сырка свеженького.
— А вы тут давно промышляете? Рыба-то у вас есть и малосольная.
— Нет, мы тут проездом, — Евдок посмотрел исподлобья на Улю. — Кругом все объехали. Даже грести устал.
Уля недоверчиво взглянула на него.
— У всех рыбаков побывали, — подтвердил Куш-Юр и стал рассказывать о поездке: — Нынче поехали не сверху вниз, а наоборот — снизу вверх, на Ханты — Мужи, Васяхово, Усть-Войкары, Лор-Вож, через Большую Обь и Питляр. А потом стали подниматься против течения до самого Каша-Вожа. Вот какую петлю завязали веслами. И не зря: хоть своими глазами убедились — не хозяйничает Ма-Муувем. Сколько ни искали, не нашли и следов его стоянки. Будто провалились сквозь землю и он, и его батраки. Знать, уехали всей гурьбой промышлять вниз, за Обдорск, как Озыр-Митька и Квайтчуня-Эська. А может, поднялся выше к Березову, чтобы мужевские не тревожили. В общем, не нашли. Стали переваливать Большую Обь, хотели до шторма проскочить. Но шторм все-таки настиг нас на самой середине реки, едва не утонули. И все из-за Ма-Муувема, нечистая сила! — Куш-Юр взял кусок малосолки. — Хотелось убедиться, не обижает ли он людей.
— Да-а, видел я бурю обскую, — без всякой хвастливости сказал Евдок. — Век не забуду…
Он посмотрел на Улю серьезно и внимательно. Девушка вздохнула и опустила глаза.
— Ой, беда-беда, — сочувственно покачала головой Васення. Потом глянула на небо: — Слава Богу, вроде проясняется погода. Управиться бы со стогами — и домой.
— А мы подсобим вам, — предложил Куш-Юр. Евдок расцвел. Председатель поинтересовался: — В Мужах-то какие новости?
— Да какие? Мы не бываем дома — все на покосе да на покосе. Умерших вроде нет. Поправляющиеся есть.
— Кто же?
— А ты будто не знаешь? Сандра, например. Она совсем стала здоровая. Хоть замуж выдавай. Мишка-то, кобель, не вернется уж. Не-ет, не вернется! Да она и не примет…
— Во, что я говорил?! — встрепенулся Евдок.
Тут смутился Куш-Юр:
— Хватит тебе… А ты, Васення, не слышала, получил Писарь-Филь ответ из Обдорска насчет строительства электростанции?
— Получил, — ответила Уля. — Сама слышала, как Писарь-Филь хвастал, будто в сельсовет пришло письмо из Обдорска и туда вызывают председателя.
Куш-Юр даже подпрыгнул на месте:
— А давно это было?
Уля и Васення переглянулись.
— Да недели полторы уже, — сказала женщина.
— Больше, — поправила девушка.
— Вот нечистая сила! А я езжу и не знаю ничего!
Куш-Юра словно подменили: куда и делся усталый вид. Он быстро заходил взад-вперед по тернистой поляне возле шалаша:
— Так, так… Значит, вызывают… Ага! Поеду. На первом же пароходе… Да, а пароход сверху давно был?
— Давно.
Васення уточнила:
— Сегодня должен быть снова. Потому и уехали некоторые с покоса, чтобы на пристани поторговать.
— Мать честная! Вот тебе раз!.. А тут все точно? И ответ, и пароход?
— Все точно.
— Тогда надо спешить в Мужи… Эх, помочь бы вам, да не выходит!
Васення замахала руками:
— Поезжайте, поезжайте! Сами справимся. В другой раз.
— В другой так в другой… — Куш-Юр кивнул Евдоку: — Поторапливайся…
— Дядя Роман! У нас же малосольной рыбы еще много, оставим малость?
— Конечно. Ты отложи побольше.
3
Они быстренько выбрали сети и поднажали на весла. Спеша переволокли калданку через гривку — из сора на реку, запаленно дыша, опять взялись за весла. Евдок греб механически. Он ни о чем не думал, только позевывал. Глядя на него, зевнул и Куш-Юр.
— Раззевались мы что-то с тобой… Как бы пароход не прозевать.
— Ну да! Успеть надо. Успеть…
«Жалко парнишку — мучаю его столько времени, — думал Куш-Юр. — Месяц таскаю за собой. Вон как клюет носом. Здесь рано приучаются к работе. Вон Уля косит, встает рано-ранешенько. Недосыпает. А они, видать, тянутся друг к дружке. Что ж — пусть. Повзрослеют — может, верно, станут женихом и невестой…»
А Евдок сожалел, что так быстро уехали от уютного костра, от Ули. И тут же радовался скорой встрече с матерью.
Последний мыс проехали. Отсюда совсем немного осталось. «Вовремя приедем, — думал Евдок. — Мама, поди, ждет не дождется. А я тут как тут. Привезу рыбки… Ох и спать буду!.. Полные сутки…»
Куш-Юр увидел окраинные строения села. Вот и приехали раньше парохода! «Интересно, что пишут из Обдорска, почему вызывают?.. А из Обдорска близко к Мишке-Караванщику. Надо узнать, где он именно, и написать ему, что мы поженимся с Сандрой. Все кончено тут для него. А для нас с Сандрой только начинается! И впереди — все самое хорошее в жизни!»
4
С того времени, как Куш-Юр был здесь последний раз, Обдорск не изменился. Те же деревянные купеческие дома, изредка двухэтажные, две церкви — деревянная и каменная. Братская могила на горе у пристани. Два-три чахлых деревца в центре. Все по-старому. Но перемены все же были: в магазинах появились продукты и промтовары, народ повеселел.
Куш-Юр, как всегда, остановился у Сирпи-Яка, знакомого по ссылке.
Засиделись за полночь. Но Куш-Юр встал пораньше, чтобы застать начальство свеженьким, не задерганным всякой текучкой.
День начинался благодатный, совсем летний. Далеко за Обью просматривались снежные вершины Полярного Урала. Припекало солнышко, и Куш-Юр снял пиджак. Близ райисполкома Куш-Юр встретился со старым знакомым, что когда-то работал инструктором Березовского укома. По дороге выяснилось, что инструктор теперь работает здесь заместителем председателя райисполкома и занимался письмом мужевцев об электростанции.
— Вот это встреча! Вот это разговор! — обрадовался Куш-Юр.
— Ну, это только начало. Сколько впереди работы. Но заверяю — поддержим вас. Поможем посильно.
В один день со всеми делами управиться не удалось, но главное прояснилось — райисполком одобрил решение сходки. Теперь дело за мужевцами. Нужно заготовлять лес для здания электростанции, для столбов, готовить пиломатериалы. Специалистами район поможет. Главный из них, Будилов, уже «сосватан» на это дело.
С Будиловым Куш-Юр встретился не сразу. Пришел на электростанцию, а тот на пристани — принимает с парохода какое-то оборудование. Отправился на пристань, а тот на ремонте линии. Два дня гонялся Куш-Юр за Будиловым. Наконец счастливый случай свел их в райисполкоме.
Будилову лет сорок, мужчина рослый и кряжистый, совершенно невозмутимый.
— Я думал, не застану, — поздоровался Куш-Юр.
— Почему? — пробасил Будилов.
— Да на ногу легок — не поймаешь.
— Время горячее, готовимся к зиме. Погода-то вон какая стала…
Погода резко переменилась. Еще вчера было тихо и солнечно, а сегодня студеный северный ветер гонит низкие тучи и пронизывает насквозь — хоть надевай малицу. И это — начало августа. Но удивляться нечему — как-никак Полярный круг.
— Я думал — написали и забыли, — басил Будилов, изучающе глядя на собеседника. — Не раздумали?
— Не-ет, что вы! — горячо заверил Куш-Юр. — Не пойдем на попятный.
— Давай потолкуем, — перешел Будилов на «ты». — Впрочем, что толковать? Пойдем к нам на электростанцию. Там все увидишь, поймешь, какое дело вы затеяли.
Два дня Куш-Юр не расставался с Будиловым. Облазил электростанцию, расспрашивал — что, зачем и почему; полдня провел на телеграфе, а потом потащил Будилова к радиомачте, что вздымалась над Обдорском на пятьдесят метров.
— Любознательный мужик! — смеялся Будилов. — Зачем тебе такие детали?
— Во-первых, интересно, — отвечал Куш-Юр. — Я ведь, как в ссылку попал, с тех пор не видел никакой механики, честное слово. Во-вторых, председателю надо знать все, с чем сталкиваешься…
На прощание Будилов дал Куш-Юру электрическую лампочку:
— Хоть и нет у вас электричества, все-таки покажи землякам лампочку Ильича. Помогать строительству будут лучше. А я подъеду скоро.
Итак, все дела сделаны. Оставалось еще одно, но оно не касалось его должностной командировки, — найти Мишку-Караванщика. Он выколотит из Мишки развод. Тот, говорят, обосновался с Парассей на Нижних песках. Дней за пять можно обернуться туда-сюда. Разрешат ли в райисполкоме?
— Личная просьба… — начал Куш-Юр.
— Выкладывай! — зампредседателя похлопал ладонью по столу.
— Отлучиться мне надо дней на пять. — И Куш-Юр чистосердечно поведал ему, как перепутала жизнь его судьбу с судьбой Сандры, с судьбой Мишки-Караванщика. Зампредседателя слушал внимательно.
— Ну что ж, поезжай. Возле Аксарки, говоришь, Караванщик?
— Там. Зимой на конференции сказала мне одна делегатка.
— Поезжай… — разрешил зампредседателя, и не успел Куш-Юр выйти, как в дверь постучали, и в кабинет вошла невысокая полная женщина.
— А вот и глава женотдела! Когда приехала, Варвара Ивановна?
— Ночью, на катере. Измучилась!..
— Она! — воскликнул Куш-Юр. — Она про Мишку-Караванщика говорила мне.
Женщина вгляделась в Куш-Юра, узнала его.
— Я нехорошую весть привезла мужевским…
— Какую весть?
И Варвара Ивановна рассказала, что еще в Аксарке слышала: один мужевский, Мишка-Караванщик, утонул. Опрокинуло волной лодку на промысле.
— Нечистая сила! Дела-а-а, — растерянно протянул Куш-Юр. — А откуда известно, что именно Мишка, что он мужевский?
— От жены его, от Парасси. С зобом она. Трое детей у нее, и ждет четвертого.
— А с кем был на салме[12] Михаил?
— Как его… Кажись, Озыр… Озыр…
— Озыр-Митька… — подсказал Куш-Юр. — Богатый Митька…
— Точно, Озыр-Митька с друзьями.
— Все за богатеями тянулся. Вот и получил богатство. А ведь был партизаном, бился с беляками, с мироедами. Не пойму…
— А что теперь понимать? Был — и нет. И памяти доброй не осталось, — ответила Варвара Ивановна. — Вот семье надо помочь.
— Семью мы не бросим. Я все равно поеду, поговорю с Парассей: может, вернется домой, в Мужи. Говорят, в своем доме и стены помогают.
…Много горя Мишка принес Сандре, Парассе и ему. Куш-Юру. Куш-Юр не чувствовал особой жалости и застыдился такого противоестественного равнодушия. Не исключено, что и он, коммунист, повинен, что сломалась человеческая судьба. Без сомнения — повинен, потому что в своем горе, в ревности, он перестал видеть в Мишке-Караванщике одного из тех, ради которых сам же боролся.
Горечь и боль оседали в сердце. И Куш-Юр знал — надолго останется с ним эта тяжесть. И он еще прочнее и резче осознавал ответственность за каждого человека, самую главную ответственность, которую возложила на него Советская власть.
Глава 7 Илька
Илька подрастал, и мир раздвигал перед ним свои горизонты. Сверстники играли с ним, но здоровые и резвые ноги уносили их далеко, и Илька оставался один на тихой улице.
Он завидовал ребятишкам, но уже научился не обижаться на них, что-то подсказывало ему, что так будет всегда, что одиночество временами будет плотно обступать его. И если горевать и обижаться — не хватит сердца.
Вот и сейчас… Только что веселая ватага во главе с Петруком катала его во дворе на лужайке в ящике из-под рыбы. Можно было и в нарточке, но в ящике намного интереснее. Катали-катали и убежали все на Обь — купаться.
Илька сидит, пригретый ярким добрым солнцем, мечтает. Найдет он однажды волшебную встань-траву и станет здоровым и сильным. Далеко-далеко пойдет по земле на упругих ногах, чтобы увидеть те края, откуда приходят пароходы.
Он не загадывал, кем будет, когда вырастет. Он всегда воображал себя только здоровым, сильным, несущим волшебную встань-траву всем несчастным…
И еще мечтал Илька вот так же легко и весело, как и бабушка Анн, складывать песни и сказки, чтобы все заслушались — и дети, и взрослые. И еще он хотел, чтобы ожили смешные зверята и птицы, которых он лепил из глины в часы задумчивого одиночества…
— А Илька опять один… — подошла двоюродная сестренка Лиза.
— А ты не пошла купаться?
— Да тебе скучно одному. Бабушка что говорила?
— Я, может, тоже пойду… погляжу хоть с горки…
— Что ты, Илька?
— Как-нибудь доползу.
— Сам?
— А что? — Илька двинулся с места.
Лиза побежала вперед по тротуару до соседней бани:
— Не пройти тебе здесь: грязно.
— Грязь теперь теплая. Как-нибудь! Отсохнет потом, отвалится.
— Стой, стой!.. — крикнула Лиза. — Я придумала!
Она приволокла доску и положила ее перед Илькой.
— Перебирайся!
Илька вполз на доску.
— Теперь бы еще одну. Я перелезу на нее, а эту передвинешь ты вперед.
— И правда! — обрадовалась Лиза.
Они вымазались, как чертенята, но все-таки добрались до взвоза.
В безветрии река слепила глаза, как зеркало, в которое заглянуло солнце. Возле берега плескалась ребятня. Сколько шуму, гаму, визгу! Как кулики — уже семь раз искупались, наверно.
Лиза в нерешительности потопталась возле Ильки и полувопросительно сказала:
— Ну, я пойду…
— Валяй, — вздохнул Илька.
И она поспешила вниз, на берег.
Словно нехотя чайки скользили над рекой, и отражение их лениво проплывало в голубой воде. «Вот здорово было бы, если бы рыбы отражались в небе!» — подумал Илька.
— А-а, ты тоже пришла… — Петрук заметил Лизу.
— Я не одна…
— Илька?! Кто его сюда притащил?
— Мы сами дошли. Передвигали доски и дошли.
— Мать честная!.. Сюда приволочь парнишку?!
Лиза встрепенулась:
— Февра идет…
— Ну, теперь вам обоим попадет.
— Ты как сюда попал? — изумилась Февра.
— Мы сперва играли у дома, а потом пришли сюда, — ответил Илька.
— Кто это — мы?.. Петрук еще, что ль?
— Нет… Мы… я пришел… один…
— Один? По такой грязи? — не поверила Февра. — Теперь попадет от мамы, что не уберегла тебя…
— Что, влетело? — подходя, добродушно усмехнулся Петрук.
— Тебе бы тоже надо… — сердито откликнулась Февра. — Оставили одного. Смотри, как извозился — лица не видно. Опять мама будет ругать.
Если бы Февра успела распалиться, представляя себе, какую нахлобучку получит от матери, то Ильке, возможно, достался бы и шлепок, но тут кто-то закричал:
— Пароход идет! Биа-пыж! Биа-пыж!.. Пароход!
Детей как ветром сдуло с яра. Все бросились к реке. А Илька остался. У него защемило в горле и навернулись слезы. Хорошо им, здоровым. Куда хотят — туда и бегут. А тут до взвоза добрался — и то ругаются…
Пароходы ходили редко и нерегулярно, и прибытие каждого из них было событием для всего села. Ильке повезло, что он оказался у реки. Он любил смотреть на пароходы. Ветер доносил от них запахи неведомых краев. Сердитые матросы вытаскивали на берег мешки с мукой и чудесным сладким сахаром, похожим на чуть желтоватый и крупный прибрежный песок. Обидно, очень обидно, что ему не видать, как подходит долгожданный пароход.
Февра бродила в воде возле берега. Вдруг она посмотрела вверх на Ильку и быстро поднялась по взвозу:
— Тебе, наверно, не видно?
— Не видно, — вздрагивающим голосом ответил Илька.
Февра подхватила брата под мышки и потащила на самый берег.
— О, пришел Илька! — загалдели ребята. — Смотри, вон где пароход! С баржами идет!
Илька смотрел во все глаза.
Пароход только что вышел из-за поворота, но можно было различить, что он ведет на буксире две спаренные баржи. Пароход и баржи медленно меняли очертания. Они то удлинялись, то укорачивались, а временами казалось, что они удаляются и скоро скроются за поворотом.
На воде все выглядит иначе. Вон лодка, что плывет сюда, — кажется, что встала на дыбы. Вроде столбик какой-то торчит из воды. С яра другой берег хорошо видать, а отсюда — только вершины тальника. А если наклониться пониже, то и вовсе покажется, что нет никакого берега и даже воды, а будто есть на свете одно сплошное небо, летать хочется!
— Петрук, кинь камешек в небо!
— Куда? — не понял Петрук.
— В небо! — засмеялся Илька. — В воду кинь!
Петрук поднял гальку и швырнул ее над самой водой. «Чик-чик-чик»… — зарикошетила она, едва прикасаясь к воде.
Пароход между тем приближался.
— «Красная звезда»! «Красная звезда»!.. — узнали ребята.
Живя у реки, они все пароходы знали наперечет и могли по одному гудку угадать, который из них подошел.
На берегу стали собираться взрослые.
Биа-пыж загудел так громко и пронзительно, что и дети, и взрослые зажали уши.
Он подходил к берегу. А Ильке казалось, что он сам плывет навстречу неведомым городам и людям…
Глава 8 Ма-Муувем
1
Дождь перестал хлестать по мокрым окнам, ставням и стенам, но по-прежнему дул ветер. Небо только-только прояснилось над западными игольчатыми увалами. Был полдень, и на влажных тротуарах и мостовых все чаще раздавались шаги прохожих — не работали: Ильин день. Во двор Варов-Гриша зашли мужчина и женщина, оба, видать, хмельные. Плотный мужик в красной суконной парке и броднях, а женщина, намного моложе, в суконной зеленой ягушке. На голову женщины накинут цветастый платок с длинной бахромой из льняных ниток, а на ногах нюки-ваи — сшитая из замши обувь. Они сильно спешили, не вытерли ноги и зашли в избу Варов-Гриша, долго шаря входную дверь.
— Батюшки! Ма-Муувем и Туня!.. — Елення, не трогая самовар, убирала со стола после еды. — Смотри, Сандра, кто да кто пришел. Вуся!
Но Ма-Муувем, ничего не соображая и брызгая слюной, сразу же пошел вперед.
— Где хозяин? Мой лодка потерялся! Везде искал, не нашел. Вы взяли!
— Что такое?! — удивилась Елення. — Мы не трогаем чужое! И хозяина нету — промышляет на Нижних песках.
— Не в обычае это — лодки терять, — добавила Сандра. Она пришла поздравить именинника Ильку.
— Твое дело нету! — махнул рукой бывший остяцкий старшина и тупо уставился на хозяйку. — Елення? Вот лешак — Кришу попал. Тьфу! Но все равно лодку найти надо! Обратно-то как поеду, а?.. Винка тама. Гы-ы… — Он, словно маленький, заплакал, упал на табуретку возле стола. А Туня опустилась на пол недалеко от входа, размазывая с нюки-ваев грязь.
— Наследили — ужас! — Елення, забирая кринку с молоком и деревянную ложку-черпалку, хотела было унести, чтоб гости не задумали чаевать, но что-то вспомнила и кивнула Сандре. Та накинула еще влажную от дождя кофту, полушалок и быстро вышла из избы. А Елення сделалась гостеприимной и вежливой, поставила на стол кринку и спросила: — Чаевать будете?
— А?! — словно испугавшись, поднял голову Ма-Муувем и вытер рукавом пьяные слезы. — А-а… Ладно. Шаньги скорей тащи! Праздновать будем. Сегодня праздник. — И, опустив капюшон, окликнул Туню по-хантыйски: — Сяем ензя! Чай пей.
— Праздник, а ты не додумался рыбки захватить с собой. — Елення поставила на стол шаньги и чашки. — Илькины именины, а ты пустой. Ай-я-яй!
Но гости, казалось, не слышали ничего. Туня, чернобровая и румяная, шатаясь, подошла к столу, оставляя на полу грязные следы. Ма-Муувем, качая подстриженной под горшок головой, сокрушался:
— Вот педа! Вот педа!..
А беда случилась утром — потерялась лодка-калданка с веслом и гребью, а главное, с бутылкой спирта, запрятанной на корме. Потерялась лодка — была опрокинута на берегу против амбара Озыр-Митьки, и теперь нет ее. Весь берег обыскали — нету. Вымокли оба. Потом сказала одна женщина — увели лодку против ветра двое мужчин к Югану. Ма-Муувем и Туня давай бегать по берегу, обогнули село, к Югану вышли, каждую калданку осмотрели — нет! Плюнули и пошли на гору, в село.
— Каждый избушка заходил. Даже сюда попал. Лодка нигде нету!.. — Ма-Муувем заплакал опять.
— Антом, антом! Нету, нету! — пропитым голосом повторяла Туня, проливая на стол почти остывший чай.
Вдруг выглянуло солнце, озарило ярким светом избу.
— Ура-а! — ребятишки кинулись к окошку.
А солнце, немного уйдя на запад, снова скрылось.
— Все!.. — горестно вздохнули ребята.
— Все, — шмыгнул носом Ма-Муувем. — Педа!..
2
— Здравствуйте! — Куш-Юр торопливо вытирал сапоги у порога. — Вуся!
— Вуся, вуся! Будешь гостем! — Елення подмигнула ему, показывая на гостей.
Ма-Муувем и Туня, слыша мужской голос, оглянулись.
— А-а, так у тебя гости! — будто не зная, заулыбался Куш-Юр. — Вот мне как раз тебя и надо, Ма-Муувем!
Бывший старшина испуганно вскинул темные брови и некоторое время сидел, разинув усатый рот. Потом, заикаясь, выговорил:
— А… а… а ты как быстро… приехал?..
— Как быстро? Я уже после того побывал в Обдорске. Месяц целый по рекам петлял, а тебя нет нигде. — Куш-Юр бегло поздоровался с ними, снял кепку и положил на верстак в углу. — Где ты был?
— Тама… — Ма-Муувем кивнул на юг, приподнялся, собираясь уйти.
— Сиди, сиди. Я тоже сяду. Надо поговорить. — Председатель сел на лавку так, что закрыл Ма-Муувему дорогу. Он расстегнул пиджак и вынул из кармана кулек. — Елення, позови Илю!
А Илька уже тут как тут — сидит на полу и улыбается. Приполз ближе.
— Ну, с днем рождения тебя! Сколько стукнуло лет?
— Восемь.
— О, да ты большой! Вот тебе нынешние орехи. Щелкай и поправляйся.
— Спасибо, — Илька, осторожно прижимая рукой к груди заветный кулек, быстро отполз в угол.
Председатель увидел, что Ма-Муувем дымит трубкой, печально задумавшись, и самому захотелось курить. Закуривая цигарку, обратился к бывшему старшине:
— Так где, говоришь, ты был, когда мы искали тебя кругом?
— Тама… — Ма-Муувем, заметно отрезвев, опять кивнул на юг.
— Где «тама»? Ты точно говори. — Председатель готов был рассердиться. — Будто канули в воду. Думали — уехали на север или в Березовский край. А ты здесь…
Ма-Муувем зашевелился, встал.
— Я маленько пьяный. Не терпит говорить. — И сказал по-хантыйски жене, что пора выйти отсюда.
— Нет, нет! Ишь ты! Я теперь понимаю по-вашему. Да и не надо тебе, Ма-Муувем, притворяться — сам знаешь по-русски, да и по-зырянски. И я знаю. Не мудри, а то… будет плохо. Откуда приехали?
Ма-Муувем рассердился, даже почернел.
— Где были, там нету! — крикнул он по-зырянски, изо всей силы застучал трубкой по подоконнику.
— Вот нечистая сила! — заругался Куш-Юр и спросил Туню по-хантыйски, думая, что она знает только свой язык: — Хода усан?
Но Туня ответила по-русски:
— Я не знаю, откуда. Совсем незнакомое место.
— Да мы что сегодня? — рассердился Куш-Юр — Три человека одинаково знают по три языка и не могут объясниться — откуда приехали двое? Смешно! — Куш-Юр спросил более спокойно: — Давно в Мужах?
— В Мужах недавно, та вот пета случился. — Ма-Муувем, посасывая костяную трубку, мало-мальски остыл, заговорил по-русски. — Лотка потерялся. Всюту искали — нету…
— Не может быть…
— Правта, правта, — подтвердила Туня. — Как теперь поетем в Овгорт… — и вдруг спохватилась: выболтала.
— В Овгорт?! Так вы приехали из Овгорта? — обрадовался, председатель и даже привстал: — Та-ак!
— Кы-ыш!.. — встал Ма-Муувем и, глядя на жену, выругался.
Туня, покраснев, испуганно вскочила и кинулась к порогу, а Куш-Юр торжествовал:
— Вот откуда приехали! А говорила: «Не знаю, незнакомое место». А тут под боком, на реке Сыне. И как я забыл заглянуть туда из Азова? Думал, там нет никого. А ты — в Овгорте.
— Вот так-то, — Ма-Муувем перешагнул через лавку, вовсю дымя. — Земля большой…
— Ничего. Обязательно побываю у вас. Посмотрю, как вы промышляете, как живете… — Куш-Юр, чтобы проветрить комнатку от табачного дыма, раскрыл окно и легко вздохнул: — Уфф! Погода-то поправилась — нет дождя и светит солнце! Красота!
— Приезжай не приезжай — нам все равно, — махнул рукой Ма-Муувем и повернулся к председателю. — Лодка-то как быть? Маленько помоги. Вор надо найти!
— Нет тут воров, — ответил Куш-Юр, не отходя от окошка. — Может, прятали так, что сам бес не найдет. А потом пьянствовали и забыли. Почему пьянствуете? Где берете «винку»?
Но Ма-Муувем и Туня молча смотрели друг на дружку, что-то вспоминая.
Куш-Юр бросил взгляд во двор и увидел Эгрунь, выходящую из дома Петул-Вася. На руках она несла закутанного двухлетнего ребенка. В раскрытом окне увидела председателя, улыбнулась, кивнула, здороваясь. Куш-Юр вспомнил: у них, у Озыр-Митьки, всегда останавливается Ма-Муувем.
— Эгрунь! Иди-ка сюда! — поманил председатель. Та подошла, и Куш-Юр показал на Ма-Муувем и Туню: — У вас останавливались?
Эгрунь, подойдя ближе, взглянула.
— Конечно, — сказала она. — А вчера где-то запропастились. Лешак носит их.
— А-а, ты? — узнав по голосу Эгрунь, повернулся Ма-Муувем.
— Понимаешь, Эгрунь, потерялась лодка, нигде не могут найти.
— Вот дураки-то! — громко засмеялась Эгрунь. — Лодка лежит, а они ищут.
— Кте лежит? — Ма-Муувем кинулся к окошку.
— На берегу, под нашим амбаром. Сами спрятали, чтоб надежней…
— Тьфу ты!.. — Ма-Муувем, ругаясь, ринулся за дверь, и Туня за ним, забыв попрощаться.
Куш-Юр и Эгрунь весело хохотали. Подошла Елення, поздоровалась, полюбопытствовала — не у фельдшера ли была, что с ребенком. Оказалось, прорезывается зубик, ничего страшного. Дочка Оленька — вылитая мать: небесные глаза и льняные курчавые волосы.
Вдруг Федюнька с криком побежал на улицу:
— Ма-Муувем — жадина! Вылакает целую сулею![13] Нам не оставит… — Наверное, от матери такое услышал.
— У Ма-Муувема есть вино? — удивился председатель, но тут вошла в ограду Сандра. Она на миг остановилась изумленно, узнала по нарядной одежде Эгрунь, решительно пошла вперед и, замедлив шаг возле Эгруни, пропела ехидно:
— Секретничаете?
Эгрунь круто повернулась, а Куш-Юр, улыбаясь, ответил:
— Ма-Муувема разбираем, нечистая сила! Ушли только что…
Эгрунь, переложив дочурку на другую руку, вздохнула:
— Да-а, повезло вам с Караванщиком. Теперь уже все — поженитесь, если еще не женаты, — и хихикнула.
— Нет уж! — твердо сказала Сандра.
— Мы поженимся, когда народ вернется с промысла. — Куш-Юр, улыбаясь, смотрел на Сандру.
— Везет, — вздохнула Эгрунь. — Но ничего… — Попрощавшись, она пошла по высохшему, залитому солнцем тротуару, настукивая каблуками модных ботинок.
3
Тихое, солнечное утро. Петул-Вась только что открыл дверь мир-лавки. Не успел зайти в дверь, как увидел Ма-Муувема, что торопился в магазин с небольшим пустым мешком. Он был без суконной парки, без шапки, в броднях. Рубаха ярко-желтого цвета, длинная, чуть не до колен, а жилет темный, в жирных пятнах. Лицо больное, испитое. И сейчас, видать, пьян.
— Ты все еще здесь околачиваешься? — спросил Вась, здороваясь. — Вижу, почти неделю болтаешься, а в мир-лавку не заходишь. Богат!
— Э-э… — махнул рукой старшина. — Какой погат? Погат теперь нету. Вот куляем, и все. Скоро поедем. Шена в лодке сидит, караулит. Тут, внизу. А я в мир-лавку побежал. Надо маленько купить. У тебя хоть что-нибудь есть? С весны в мир-лавке не был.
— Что-нибудь, может быть, и есть, — Вась ухмыльнулся в светлые усы и решительно шагнул через порог в лавку.
Мир-лавка помещалась в доме на горе у Оби, напротив церкви. Дом имел два крыльца — парадное, с улицы, и обычное, в другом конце дома, со двора. Петул-Вась, в отличие от Гриша и Пранэ, светловолос и синеглаз, с редкими вьющимися кудрями, с пышными усами. Говорили, он похож на покойного отца, такой же нос с горбинкой, только выше ростом. Петул-Вась любит порядок, чистоту и аккуратность. Вот и сейчас, в темном сатиновом халате поверх пиджака и брюк, заправленных в сапоги, он придирчиво проверял, как чисто вытерла пыль уборщица. Он зашел за прилавок, оглядел зорко полки во всю стену — окна изнутри закрыты ставнями, а на полках чего только нет: и разные материалы для шитья, и сукна, и ленты, и бусы, и нитки в юрках,[14] и иголки, и наперстки, и сети, и ружья с припасами, и медные чайники, и котлы, и чашки. С деревянных штырей свисали сушки, калачи, нанизанные на шпагат. Заглянул под прилавок — там в мешках хранились мука, крупы, соль. Были здесь и сахар, и масло, и плиточный чай. Все-все было, что душе угодно.
— Ой-ой-ой! — у Ма-Муувема разбежались глаза. — Неужели мир-лавка такой погатой стала?
— Как видишь, — улыбнулся Вась. — А ты избегал.
— Я тумал — еще не привез пароход, а тут вон что… — Ма-Муувем вынул из кармана трубку и хотел было закурить, но Вась сурово одернул — богатства можно спалить. — Ну-у, найдем тебе другое — табак за губу класть, — и полез за табакеркой и вотленом — древесной ваткой, чтоб прикрыть табак за губой.
Забежал в лавку чернокудрый босоногий Энька.
— Удочку мне! — крикнул Энька издали. — Тороплюсь! Щучки уже во какие!
— Давай… — Вась выставил перед мальчишкой три небольших коробки. — Выбирай.
Энька, приподнявшись на цыпочки, стал быстро водить глазами с одной коробки на другую и растерялся, не зная, какую выбрать.
— Эту, наверно, — Энька показал пальцем.
— Нет, пожалуй, эту. Сейчас щучки еще мелкие. — Вась закрыл остальные коробки. — Сколько тебе удочек?
Энька готов забрать целиком всю коробку.
— Пять.
— Пять так пять. — Вась завернул удочки в бумагу и вручил Эньке. Тот радостно схватил и было рванулся, но Вась остановил его: — Постой-ка! А тити-мити?..
Мальчик вдруг спохватился, покраснел, медленно вернулся назад и, протягивая издали завернутые в бумажку удочки, виновато прошептал:
— Я забыл, денег нет у нас…
Вась вспомнил: Сера-Марья, жена Гажа-Эля и мать Эньки, недавно брала муку и еще кое-что в долг — ведь строятся.
— А-а… Ну, тогда бери. Прибавлю грошей Гажа-Элю, он мне должен, — сказал продавец. — Бери, бери!
Энька посмотрел с благодарностью на продавца, улыбнулся и пошел к выходу, несколько раз поворачиваясь, не раздумает ли.
— Спасибо! До свидания! — крикнул он и, вылетев в распахнутую настежь дверь, пустился бежать.
Ма-Муувем, досыта наглядевшись на богатства мир-лавки и жалкуя, что это все не его, крикнул:
— Эх, погатство тут! Так бы все и забрал, та лодка мала — калданка…
— Калданка мала? Ишь ты! Хватит твоей семье и останется. — Вась записал в тетрадь пять удочек Элю. — Ну как? Выбрал?
— Денька мало. Рыбы еще не сдавал, — горевал Ма-Муувем. — Придется в долг брать…
— Как — в долг? — не понял Вась.
— Ну, в долг. Потом платить буду, как… Кажа-Эль, как этот парнишка, как другие. Ты же записал? У тебя целая книжка есть.
— О, нет. Не выйдет это дело. Ма-Муувем, хантыйский старшина, и Гажа-Эль, голодранец, — не одно и то же. Подумай-ка!
— Зачем тумать? — Ма-Муувем начал волноваться. — Один закон — ханты ли, зырянин ли, русский ли. Теперь все равны. Нужта есть — пери в долг. Как у меня нужта — деньги нет, рыба не сдал. Как быть? Выручай — пиши в долг.
Петул-Вась стоял на своем.
— Не могу. Нет прав.
— Гм, — недовольно дернулся Ма-Муувем. — Значит, новый закон — зырянский закон? А хантыйский закон нету?
— Есть. Один закон. Гажа-Эль ли, зырянин, или Ермилка — остяк, — одно дело. Ермилке поможем всегда, дадим в долг, что хочет. И другим тоже дадим. А тебе нет — ты был богатый. И теперь богач. Вон неделю гуляешь, а не заходишь. Богач! И Озыр-Митька да Квайтчуня-Эська, зыряне, — тоже богачи. И вам не дадим. Платите денежки или рыбу сдайте, а может, и пушнину. Понятно? — Вась погладил пышные усы.
Ма-Муувем вспылил.
— Нет, не понятно! Тут можно ой-ой сколько купить, а ты не даешь. Тьфу!.. — И взяв заскорузлым пальцем табак из-за губы, бросил тут же у прилавка, Петул-Вась нахмурился и сердито покачал головой.
— Ну, что хочешь-то? — спросил он и кивнул на окошко: — Вон идут покупатели, некогда мне. Сказывай скорее.
— Они подождут. Местные. — Ма-Муувем посмотрел, кто заходит. Может, знакомый кто? Но таких не оказалось. — Меня первым делом обслужить надо. Я приезжий…
— Ты приезжий, только давно уже, неделю. Пьянствовал, а не зашел, — проворчал Вась и обратился к подошедшей старухе: — Что надо, мамаша?
Старуха поздоровалась и сказала, что нужен чай, полплитки, а также полфунта коровьего масла.
— Коровы-то нет теперь — съел медведь, — вздохнула она.
Вась собрался было отпускать ей, но тут опять привязался Ма-Муувем — разогнал всех от прилавка, размахивая пустым мешком. Стал требовать, чтоб вначале обслужили его.
— Меня надо перед! — орал он и вдруг увидел Куш-Юра, вошедшего в мир-лавку.
— Неделю пьянствовал, а теперь требует отпустить в долг, — обратился Петул-Вась к Куш-Юру.
— Ну, нечистая сила! — Куш-Юр ненадолго снял с головы кепку, снова надел. — На что ты пьешь? Почему не рыбачишь в такую погоду? Забрать надо тебя и посадить!
Ма-Муувем испугался.
— Ой, не надо! Посадить не надо! Я все скажу… — Он выложил председателю, что приехал в Мужи к приходу парохода, сумел достать «винки», истратил все деньги. Вот и пьянствовал маленько. А когда отгулял — денег нет, и «винки» нет, и не куплено ничего. Вот и пришлось ему просить в долг. — Помоги, а? Расплачусь.
— Нет! — отрубил председатель и кивнул на продавца: — Правильно он говорит — нельзя тебе сравняться с бедняками…
— Гажа-Эль — какой педняк? Пьяница! — Ма-Муувем сунул в рот табак и древесную ватку.
Но Вась строго предупредил:
— Опять бросишь под ноги к прилавку? Смотри у меня.
— Вот видишь? Безобразие это, — сказал Куш-Юр стоящему у прилавка в стороне Ма-Муувему. — А еще просишь помочь. Гажа-Эль, конечно, пьяница да не такой, как ты. Он старается, и ему надо помочь.
— Э-э!.. — тяжело вздохнул Ма-Муувем и, ворча что-то под нос, повернулся и вышел из магазина
Глава 9 Поторопился
1
Куш-Юр тогда не застал Парассю в Аксарке — она с сыновьями поехала на песок-салму, не верила в гибель Мишки. Дом остался запертый. Подождал Куш-Юр два дня и уехал.
Вернулся Куш-Юр в Мужи и пошел к Сеньке Германцу рассказать о несчастье Парасси — может, примет ее, если та захочет вернуться? А у Сеньки тоже закрыто. Он, сообщили соседи, неделю назад женился и уехал с женой на покос и рыбалку. С собой захватили девчонок. Жену зовут Верка, она девка-сиротка, такая ленивая и непутевая, как сам Сенька, прозванная сельчанами сразу же Ичмонь — Молодуха.
— Вот нечистая сила! — заскреб Куш-Юр голову. — Поторопился…
Но ждать Сеньку не стал, поехал вслед за Ма-Муувемом в Овгорт, верст за сто. Два дня добирался туда, только Ма-Муувема с сородичами не застал. Местные остяки сказали, что старшина уехал обратно два-три дня назад.
«Удрал, — сокрушался в душе Куш-Юр. — Удрал, конечно, за Большую Обь. Там и сдадут рыбу рыбтресту. А выгода Ма-Муувему — никто не видел, как он эксплуатирует сородичей. Вот нечистая сила!»
Пожил Куш-Юр на Сыне неделю, ездил по разным селениям-юртам. Посмотрел, как живет народ, как промышляет. И вернулся в Мужи.
Тут он встретил рыбаков, приехавших снизу, где нерест идет, — с вонзевого лова. И с ними Парассю из Аксарки.
— Ну вот, так и думал — приедет она, а Сенька женат, — качал головой Куш-Юр. — И будет у Сеньки две жены. Первый, поди, среди зырян двоеженец. Свой Ма-Муувем.
2
Возвращаясь из сельсовета, Куш-Юр навестил Парассю. Сенькина избенка маленькая, одна комнатушка с кухней, с двумя окошками, низенькая, кособокая, у входа две слеги подпирали стену. Пустой хлев с амбарчиком низенькие и ветхие.
— Здравствуйте, — поздоровался председатель, задевая головой за притолоку.
Парасся лежала на старой деревянной кровати у входа лицом к стене и, видно, дремала, а трое парнишек играли на полу. На его голос Парасся повернула лицо, вытянутое зобом, — отчего и кличка Гаддя-Парасся — Зобастая Парасковья, поморгала и узнала председателя.
— Ой… — она спустила босые ноги с кровати, тяжело села. — Вуся… как тебя… Роман Иванович… Пройди, — и попыталась встать.
— Сиди, сиди, — председатель увидел, что Парасся действительно «грузная». — Я пройду… — Он, остерегаясь, чтоб не стукнуться головой, обтер сапоги об тряпку и шагнул три раза — вся тебе изба.
Ребятишки перестали играть и подались к матери. Старший, лет пяти, по всему видать — Сенькин, а двое меньших, двухлетних, одинаковых — рыжие, в Мишку. Все трое сразу же забрались на кровать.
— Испугал ребятишек. — Председатель занял чуть не половину избушки. — Зашел проведать вас в горе, как узнал, а в Аксарке не застал.
— Да, да. Ездили мы на салму к Озыр-Митьке, да не доехали, — закивала головой Парасся. — Встретили в Пуйко мужевских рыбаков, Варов-Гриш был там. Они и подтвердили, что Миши нет в живых. Я и не поехала дальше… Ой, несчастье негаданное!.. — Она повалилась на подушку, стала рыдать-причитать. Сыновья прикусили губы, чтобы не заплакать.
Куш-Юр снял наконец кепку и опустился на скамейку возле стола. Тоже загоревал, вздохнул, барабаня пальцем по столу. Когда Парасся успокоилась, он поднялся.
— Да-а, теперь уж все. Хорошо, что приехала. Гриш, наверное, помог тебе перебраться из Аксарки.
— Он. — Парасся вытирала слезы уголком подушки. — Спасибо ему, а то не знала, как и быть — были ведь две лошади и телка. Продали, здесь можно купить животное. Было бы на что…
— Правильно… Вот нечистая сила — поторопился… — Куш-Юр, не докончив, вопросительно взглянул на Парассю.
— Знаю, — фыркнула та. — Сенька да Верка — два сапога пара. По одной колодке сшиты — ленивые!.. Ичмонь!.. Тьфу! Знала — не ехала бы лучше! Как будем жить-то?..
— Ничего, — успокаивал Куш-Юр, но сам не знал — действительно, как будут жить? Парасся считает эту избенку своей — живут в ней три дочери. Да Сенька-то хозяин избушки — не захочет выйти, мыкаться квартирантом. К тому же виновата во всем Парасся — она заварила кашу. Сенька и так два года терпел, а сейчас нашел Верку, девку намного моложе Парасси.
Куш-Юр переменил разговор, стал расспрашивать об Озыр-Митьке да Квайтчуня-Эське — Мишка-то заработал, наверное, за пол-лета.
— Конечно. Но они еще на салме, — голос Парасси опять вздрогнул.
— Получишь, когда приедут. — Куш-Юр ходил по избе из угла в угол. Удивлялся, как будут жить в такой тесноте — поставить можно только одну кровать, а семья вся будет самое меньшее десять душ. На печке, на полати, на полу придется спать. — Да-а, тесновато. Что-то надо придумать… Ну, я пошел!
Но тут зашел Сенька в рыбацкой одежде. Увидев Куш-Юра и свою Парассю, беременную, в окружении сыновей, вытаращил глаза, заморгал ресницами.
— Э… э… это что такое?!. — насилу выговорил Сенька, держась за скобу двери. — Избушка-то была на замке?
— Открыли, — отступая назад, сказал Куш-Юр. — Проходи. — И сел на лавку около стола.
Сенька неотрывно смотрел на Парассю, которая плакала навзрыд.
— Ничего не понимаю… — Сенька отпустил скобу двери. — Ты-то, собака, зачем здесь? — закричал он на бывшую жену. — Дождалась? Проваливай! Не нуждаюсь в тебе — есть Верення, Ичмонь.
Председатель шагнул к Сеньке и оттащил в сторону.
— Тихо, тихо… — призывал Куш-Юр. — Несчастье случилось у Парасси.
Сенька вначале не слушал, порывался проучить Парассю, вокруг которой на кровати голосили ребятишки. Но потом разинув рот слушал Куш-Юра, искоса поглядывая на рыдающую женщину. Мало-помалу начал понимать ее горе.
— Все равно пускай уходит! Не надо мне ее! — твердил Сенька, но сидел спокойно.
— Уйдет, уйдет она. Я сегодня же найду ей место. — Куш-Юр мял в руках кепку. — Ничего, она проживет. Есть у нее деньги. Продала две лошади и телку. Получит еще заработанные Мишкой.
Сенька вдруг сообразил — Парасся, оказывается, денежная, а у него вечно нехватка. Но ответил сдержанно, чтобы не спугнуть:
— Подумаешь, есть деньги да еще получит… — И встал с места. — Опять беременная, еще один рыжий будет… — Он бросил злой взгляд на Зиновея и Миновея, а своему сыну Галу улыбнулся.
Зашли дочь Анка, старшая, и Ичмонь-Верка в полушалке поверх баба-юра, одетая в старенькую кофту с подпоясанным сарафаном, белобрысая, сероглазая, с вечно выставленными вперед зубами.
— Мама приехала! — воскликнула Анка и кинулась к ней, а Верка отступила назад, широко раскрыв рот.
— Вуся, — Куш-Юр улыбнулся, глядя на Ичмонь-Верку.
Та густо покраснела и кивнула головой, ничего не понимая.
— Тут такое дело — она приехала, — Сенька ткнул рукой в сторону Парасси, обращаясь к Ичмонь. — Стряслась беда — Мишка сдох… А кого вы оставили караулить рыбу?
— Нюрку да Нюську, — ответила Ичмонь. — А как же теперь мы будем… жить?
Глава 10 Не будет венчания!
1
Гриш не нарадовался — будет в Мужах югыд-би, а к тому времени докончит избу и справит новоселье. Он временно перешел из ветхого дома на квартиру брата Пранэ, пока тот промышляет с Микулкой да Петруком, Перенес рамы из старого дома в новую избу — семь пар, со стеклами. А потом складывал печь, строил сени, крыльцо, засыпал глиной и опилом потолок. Все это заняло больше двух недель.
— Ну, завтра мать приедет с покоса на воскресенье и — новоселье! — ликовал Гриш, хвастаясь перед ребятишками.
— Ура-а-а!.. — кричали они, шумно носясь по пустому дому.
Вечером приехала Елення с покоса, обрадовалась — можно перебираться.
Назавтра, в ветреный день, Гриш, Елення, Февра и бабушка Анн взялись ошпаривать кипятком каждую деревянную вещь. Многоведерный самовар достался Гришу при дележке отцова наследства. Раньше ставили его для большой семьи. Гриш им почти не пользовался, но сегодня пригодился — кипятят самовар прямо на улице и ошпаривают, чтоб не занести ненароком в новую избу клопов и тараканов. Вытрясли постели и одежду. Перебрались. Кровать родителей поставили в горницу, там же и кроватку двухместную сыновей, а для Февры в прихожей Гриш устроил что-то вроде дивана.
Под вечер пришел Куш-Юр.
— С новосельем надо вас поздравить. — Он особенно старательно вытирал сапоги.
— Милости просим, заходите! — Гриш приколачивал вешалку.
— Полено-то где? — спросила Елення.
— Какое полено? — удивился Куш-Юр.
— Э-э, точно — неси-ка полешко али щепки, — и Гриш пояснил, что в новую избу, в первый раз нельзя входить в пустыми руками. — Бери побольше, чтоб на неделю хватило Еленне топить печку.
— Ладно. В следующий раз. Сапоги вытер уж. — Куш-Юр вошел осматривать обе комнаты. — Так, так, так… А у меня к вам обоим просьба.
— Какая? — усмехнулся Гриш. — Не думаешь ли занять с Сандрой горницу распригожую? А?
— Не-ет, мне и на старом месте будет хорошо. — Куш-Юр сел на скамейку возле печи, как раз посредине избы. — Понимаете, Гаддю-Парассю надо устроить где-то жить, нечистая сила. Тесно у Сеньки Германца, да и неудобно — получается две жены…
— Гаддю-Парассю? — Гриш посмотрел через плечо. — Интересно…
Елення выскочила из кухни, вытирая руки передником.
— Ой беда-беда! Гаддю-Парассю-то зачем к нам?
— Никто не хочет взять ее на квартиру, — пожал плечами Куш-Юр. — Ни в какую. Детей своих полно.
— И мне близко не надо, — Елення заметно расстроилась. — Что же это такое? Ждала-ждала новоселья, а тут…
— Ненадолго, — сказал Куш-Юр. — Как найду квартиру, так и…
— Не надо мне, Роман Иванович, никакой Парасси! Не надо! — плакала Елення. — Не успела зайти — и вот… Только этого и ожидала! Не зря, видать, увеличивали половину избы, пригодилась. А у других-то небось пустуют хоромы, а их не трогают. Идут к Гришу — он примет всех. А жить-то ведь мне. Его вечно нет дома. Ой, господи! Это же наказание! Мне и так нелегко… Нелегко ведь!.. — закончила она. Рыдая, ушла на кухню.
Илька сидел у стола между двумя окнами и что-то рисовал. Он вдруг понял — из-за него нелегко матери. Он прикусил губу, чтобы не заплакать. А Федюнька сорвался с кровати, настороженно поглядывая на Куш-Юра, побежал к матери.
— Ну-у, нечистая сила! Расстроилась… — председатель поморщился. — Я ведь заикнулся только, что Парассю негде устроить. А тут… Да живите! Не буду трогать! У вас и верно больной, — он посмотрел на Ильку, сидящего к нему спиной.
— М-да, — Гриш слушал, как всхлипывает Елення, уткнув лицо в передник. — Не плачь, не будут трогать, слышь?.. А хоромы-то, верно, есть ведь у Озыр-Митьки да Квайтчуня-Эськи. Митька даже строит двухэтажный дом, а жить некому, кроме Эгруньки и Яшки… Ты бы, Роман, взялся за них, а?
— Вообще-то правильно, надо взяться за них, хватит им шиковать. Да боязно — квартирантов-то, не успеешь обернуться, закабалят или выгонят с треском…
— Есть сельсовет, — Елення уже не плакала.
— Точно, — Гриш, подойдя к стоящей у стены деревянной вешалке, опять взялся стучать.
— Сельсовет-то сам ютится в уголочке. — Кухня еще не была отгорожена, и Куш-Юр посмотрел на Еленню. Она возилась как ни в чем не бывало у жаркой печи. — Вот так-то, друзья. А тут надо устроить Парассю — у ней есть немного денег — Мишкой сбережены. Если Парасся попадет к Митьке или Эське — плакали денежки. Они ведь такие, нечистая сила…
2
— Мамэ, — прошептала Февра, глядя через кухонное окно. — Германец и Ичмонь зашли в сени. С «подарками»…
Открылась дверь, вошли Верка и Сенька. Оба не с пустыми руками — Ичмонь с ворохом щепок, а Германец нес два полена.
— С новосельем!.. Вуся!.. — сказали оба и вывалили «подарки» возле таза, а потом стали обтирать ноги.
— Вуся! — воскликнул Куш-Юр. — С поленьями и шелками? А я не догадался сперва.
— «Не догадался»… — засмеялся Гриш. — Милости просим!
— Принесли долг хозяйке, а вас нет и в помине. В сталом доме — окна выставлены, гуляет ветел, — лепетал Сенька необычно многословно, все еще обтирая ноги. — Посмотлели, а окна в этой избе и дым валит. Вот и плишли… Долг, говолят, платежом класен. Блали пли женитьбе на сулею, а сегодня можем платить — стали богатыми, — и Сенька засмеялся.
— Ага! — Верка хохотала, выставив зубы. Не закрывая рот, торопливо порылась в кармане старой кофты и протянула Еленне долг. — Спасибо, выручила. А то Семэ и я просто не знали, где и взять на сулею.
— Пожалуйста, пожалуйста, хоть со стройкой и туго. — Елення взяла долг и пододвинула скамейку, улыбаясь. — Садись, Ичмонь! Ты ведь теперь Ичмонь, не так ли?
— Так, так, — Верка, довольная, села.
— Ты, Семен, поди, рыбу сдал рыбтресту и стал богатым, а? — спросил Куш-Юр, подмигнув Гришу.
— Нет, тут длугое… — Сенька кончил обтирать бахилы и пошел смотреть горницу. — Ах, как класиво! — воскликнул он, хотя стены были голые, из пазов свисал мох. Только в углах горницы висели образа.
Илька повернулся к нему.
— Иди сюда, дядя Сем. Посмотри, как я рисую. Цветочки в горшочках! У нас однажды в горшке были цветы. Большие! Зимние! Но зимой все равно замерзли. А эти — на бумаге! Повесим — фию-у!..
— Точно, сынок, — похвалил Гриш. — Все сделаем-смастерим помаленьку-потихоньку. Сюда, начальство большое и малое!
Сенька и Куш-Юр зашли в комнату, подошли к Ильке.
— Ну-ка, покажи, как ты рисуешь, — председатель вгляделся в рисунок. — О, так ты художник?!.
— А что такое… художник? — изумился Илька.
— Ну, художник — это кто рисует хорошо, делает красиво. — Куш-Юр взял листок. — Смотри-ка! Цветочки в горшочках!
— Только бумажки маленькие. И не намалеваны — плостой каландаш, — заметил Сенька.
— Да-а, раскрасить — было бы хорошо. И покрупнее.
— У меня нечем. И бумажки маленькие, — вздохнув, пожаловался Илька.
— Найдем. У меня есть карандаши — красный и синий. И бумага большая. Принесу. — Куш-Юр все еще любовался рисунками.
— Красный и синий?! И бумага есть?! — воскликнул Илька. — Айэ, дядя Роман хочет подарить мне красный и синий карандаши и бумагу большую-большую!.. — Он, слезая со стула, бухнулся на пол.
— Хорошо, прекрасно, — промычал Гриш, прибивая к стене гвоздь над кроватью, на которой стояла тальянка. Он держал гвозди во рту. — А спасибо?..
— Спасибо, дядя Роман Иванович! — сказал Илька через плечо и двинулся на кухню, чтобы обрадовать мать.
— Потом будешь благодарить. — Куш-Юр продолжал рассматривать рисунки, еле различимые в вечернем сумраке.
— Аххх!.. — затряс рукою Гриш, угадав по пальцу молотком.
— Кончай, Глиш, отдохни. — Сенька сел на стул, не снимая шапки, будто хотел казаться выше. Вытащил трубку. — Покулим…
— Правильно. — Куш-Юр сел возле окошка. — Здесь, наверное, еще не курили.
Гриш затряс кудрями:
— Не-не-не! Нельзя в новом доме дымить!..
— Вот нечистая сила! — хмыкнул Куш-Юр.
— Тогда тлубку плидется сосать.
— И сосать тоже нельзя! — рявкнул Гриш, а потом повернулся лицом к ним и захохотал: — Ага, испугались? Курите! Но лучше пойдемте во двор, на вольный воздух. Сумрачно стало в избе.
— Можно и во двор. — Куш-Юр первый двинулся к выходу.
— Бели галмошку, — предложил Сенька, — будет веселей…
3
Было еще светло. Расположились на крыльце. Гриш положил гармошку рядом, стал вертеть цигарку.
— Посидим на воле. Мне как раз надо с тобой, Семен, поговорить. — Куш-Юр, садясь, надел кепку.
— Валяй, Сенька сел рядом, ухмыляясь.
— Значит — ты стал богатым? Это хорошо, — начал председатель. — Но такое дело — Парассю никто не хочет пустить на квартиру.
— И не надо, — решительно ответил Сенька с тем же выражением на лице.
— Как не надо? Она вот-вот родит, а у тебя и так тесно. Она теперь не твоя, нечистая сила. Твоя-то вон, — Куш-Юр кивнул на кухонное окошко.
— Мы договорились, — Сенька опять улыбался.
— Ты что все ухмыляешься, Семен? — сказал Гриш. — У попа, что ли, обедал?
И Сенька выложил — Парасся не уйдет никуда, а за это она дает деньги на покупку коровы и лошади. Сенька и Верка будут ухаживать за скотиной, а Парасся делать домашнее дело, следить за всеми детьми. Против совместного житья Верки с Сенькой она не может иметь ничего — сама виновата. Она дала деньги за сулею, выпитую при женитьбе Сеньки. А спят молодожены пока в амбарчике.
— Вот так надо жить! — Сенька подмигнул Куш-Юру.
Председатель и Гриш переглянулись.
— Вот нечистая сила! — Куш-Юр встал. — Зря я, выходит, старался. Еленню до слез довел — сюда хотел Парассю на время. А вы… Тьфу!.. Надо было мне зайти сперва к Парассе.
— Надо было, — качнул головой Гриш. — А Сенька оказался хитрец — будет с конем и коровой. И жеребец наготове. Полное хозяйство — елки-моталки!
Сенька расцвел:
— А ты думал?.. Ты думал, я совсем глупый? Тепель вот только заготовить сено. Но ничего. Деньги мало-мало есть. Можно купить сено…
— Гм, — хмыкнул Куш-Юр. — Можно купить… Ты бы хоть за своей избушкой-то следил — вся перекосилась. И надо расширить хотя бы немного.
— Во, во. Сразу же квартиранта найдет сельсовет, — Гриш взглянул на Куш-Юра, пряча улыбку в темных усах.
— Ну, это ты брось, — ответил председатель — Мало ли — бывают ошибки. Семену нужно расширить квартиру.
— Вот дал бы Глиш мне сталый дом. Может, соблал бы тли стены, чтобы добавить, — пролепетал Сенька.
— Мать родная! — воскликнул Гриш и встал. — Верно ведь! Из этого дома… — он пошел вперед и стал заглядывать внутрь через пустой проем, — вполне можно собрать хотя бы три стены. Вот вернусь с осеннего лова и помогу тебе, Семэ, разобрать и поставить горницу. Пойдет?
— Пойдет! — невозмутимо ответил Сенька, попыхивая трубкой.
— Когда едешь? — настороженно спросил Куш-Юр.
— Послезавтра.
— Фи-ю-у… — свистнул Куш-Юр. — Вот нечистая сила! А я хотел свадьбу справить. Теперь вроде ждать нечего. Надоело уже.
— Давай, давай… — возбужденно вскочил Сенька.
— Чудесно-расчудесно! — потирал руки Гриш, придвигая гармошку. — Завтра, а то некогда… И мне бы тоже надо справить небольшое новоселье.
— А что? — обрадовался Куш-Юр. — У меня тоже свадьба-то небольшая. Соберемся здесь и — дело с концом. Сулея-то, наверно, у тебя есть?
— Есть! Брал на пароходе. — Гриш взял в руки тальянку.
— И у меня есть, даже не одна…
Сенька понял, что праздновать придется единожды, и заскучал, зевнул даже.
— Елення, идите сюда! Быстро-быстренько! — позвал Гриш и начал легонько наигрывать.
Сразу появился Илька, а за ним Елення и Ичмонь.
— Завтра новоселье и свадьба Романа с Сандрой за одним столом! Каково?!
— Ой, беда-беда! — хлопнула Елення себя по бокам. — Новоселье и свадьба? А венчались?
— Нет, не будет венчания! Сандра согласна! — отрубил Куш-Юр, улыбаясь.
— Вот это да-а!.. — засмеялась Елення. — Совсем по-новому!..
— Мы тоже по-новому, — похвасталась Ичмонь-Верка. — Ведь по-новому, Семэ?
— Пойду скажу, чтоб готовилась Сандра к свадьбе. У нас есть чем угостить.
— И нам не надо готовиться — с вонзевого лова привез осетрины, балыка и прочего разного. Только испечь разве шаньги. — Гриш заиграл громче, а у ног его сидел Илька и затаенно слушал, глядя на отца.
Куш-Юр, попрощавшись, пошел из ограды. За ним, только в другую сторону, потянулись Германец и Ичмонь, взявшись за руки. Гриш крикнул им вслед:
— Погодите немного, в решете сур вынесу! — и засмеялся. Засмеялись и другие.
Елення засуетилась. А Гриш уселся на ступеньку крыльца и заиграл вовсю, с прибаутками, веселя ребят.
Назавтра состоялось новоселье со свадьбой.
4
Гриш вернулся с осеннего лова и, управясь мало-мальски с домашними делами, собрался было разобрать старый дом, чтобы пристроить три стены к Сенькиной избенке. Но Сенька раздумал.
— Нет, это елунда, — лепетал он, сидя на крыльце Гриша. — Заводить так заводить новый дом, как у тебя. Куплю лошадь и буду возить себе лес. Избенка еще телпит год. Сколо зима, подделжат слеги. Есть деньги. Вот только найти коня холошего. Гажа-Эль, помнишь, сказал на свадьбе Куш-Юла и Сандлы: «Я отказался от этой тлухлятины, а ты залишься на нее. Купи коня, пока дает деньги Паласся. Вози лес, а желебца продай. И будет новый дом…»
— Что-то я не слышал на новоселье-свадьбе такие слова. — Гриш стоял перед старым, ушедшим в землю домом.
— Конечно, не слышал, — хмыкнул Сенька. — Ты только кличал: «Голько! Голько!», а мы лазговаливали да дули вино…
— Ну смотри, тебе жить. Верно, трухлятина…
А перегораживать Обь и ловить рыбу до загара Сенька согласился. Возили на Карьке жерди и ждали, когда встанет Обь.
В один из дней, ранним солнечным утром, лежа в кровати, Сандра прошептала мужу, что она, кажется, беременная. Вот тут шевелится, мол. Куш-Юр пощупал — верно. Оба обрадовались — значит, Сандра не хабторка, как при Мишке-Караванщике, нашла себе настоящего, любящего друга, Романа. Дочку или сына родит — все равно. Сандра будет матерью. Вот вам и наказание от Бога за житье с неверующим человеком.
Узнала об этом хозяйка квартиры Марпа. И Елення. Пошел по селу слух, что Сандра беременная. А Куш-Юр ходил, счастливо улыбаясь.
Глава 11 Костер
Варов-Гриш, Гажа-Эль, Сенька Германец и другие селяне, одетые в малицы и кисы, но без ремня, стало быть, не по-рабочему, столпились на южной окраине села. Велел Куш-Юр собраться именно здесь. Это место, самое высокое в Мужах, в стороне от домов, выбрал обдорский человек Будилов для установки радиомачты, для строительства каменной моторки и почты.
— Место подходящее. — Варов-Гриш стоял на высоком яру, над застывшей Обью, освещенной слабым солнцем. — Во-он видно все! Как вы думаете-гадаете?
— Никак не думаем. — Гажа-Эль стоял рядом с ним. — О, сельсовет идет!..
Куш-Юр неторопливо поднимался по отлогому склону, внимательно разглядывая гору: крупные горбатые кочки, словно бородавки на ровной плоскотинке, взъерошенные кусты, невысокие елки и редкие кедры…
— Привет, миряне-зыряне! — Куш-Юр издали махнул рукой.
— Вуся… Привет!.. — ответили вразнобой.
— Ждешь, ждешь его, — добродушно заговорил Варов-Гриш, — а он возле молодой жены и в ус не дует…
— Ничего подобного. Я встал рано, да заходил в сельсовет. — Куш-Юр, подходя, откинул на затылок пыжиковую шапку. — Фу-у, торопился, думал — уйдете… Ну как? Хорошее место?
— Плохое, — Гажа-Эль сморщил лицо. — Никуда не годится, якуня-макуня. Лучше поставить мачту ко мне во двор…
— Ага, нечистая сила! Понравилось? — Куш-Юр зашагал вперед. — Лучшее место не найти! Будилов — молодец! Вот сюда, направо, поставим каменный домик-моторку. Кирпичи каленые, на пристани пока, перебросим на лошадях… Вот здесь, налево, к яру ближе — почта и телеграф. А вот туда, южнее — радиомачту. Все будет вместе.
— Хорошо!.. — единогласно одобрили мужевцы.
Куш-Юр потребовал, чтобы к новому, 1926 году к приезду Будилова это место очистить, убрать елки, кедры и кусты, снести кочки и выровнять.
— Значит, первым делом надо приготовить место, а потом уже загородить, как водится, Обь и возить лес. — Оглядевшись, Куш-Юр удивился: — Почему я опять не вижу ни Озыр-Митьки, ни Квайтчуня-Эськи? Вот нечистая сила! Яран-Яшка ведь должен был сказать вчера.
— Во-он идут Яшка и Терка, — кивнул Сенька Германец. — Остановились что-то.
— Идите сюда!.. — Куш-Юр увидел у них в руках топоры. — Вот здорово — как раз надо расчистить площадку. Чего же тянетесь-то? А Озыр-Митька да Эська где?
— Юнгу! Нету! — затряс головой Яран-Яшка.
На них были подпоясанные рабочие малицы, а на ногах тобоки.
— И мы тоже работали, да пришлось идти, — буркнул Терка, не глядя ни на кого. — Ну, где расчищать-то? А то уйдем…
— Нет, не уйдете. Сегодня надо расчистить все это место, — указал Куш-Юр.
— А пошто ни у кого топоров нету? И без пояса? И в кисах, а не тобоках? Э-э, так не пойдет, — Яран-Яшка собрался уйти.
— Куда! — закричал Куш-Юр. — Взять топоры нетрудно и переобуться тоже. — Он обратился к народу: — Ну-ка, живо сбегайте за топорами! И переоденьтесь, а то пришли, как на именины.
Все засмеялись, окидывая взглядом друг друга. Но сбегать быстренько не смогут, некоторые живут далеко, да и время подходит что-нибудь похлебать. Могут после обеда расчистить это место.
А когда после обеда собрались сызнова на расчистку, то никого не было от Озыр-Митьки и Квайтчуня-Эськи.
Мелкие кедры, ели и кусты срубили, стащили в одно место и подожгли. Далеко виден костер, в вечерних сумерках он освещал открытую площадку, на которой должна подниматься радиомачта и здание югыд-би.
Глава 12 Пеганка-Поганка
1
Гриш стегнул коня вожжой — ехал он перед Новым годом за последним бревном, обещанным для югыд-би. Карько тянул порожние сани не так резво, угадала теплынь — конец декабря, а прилипают сани, вот и приходится легонько постегивать.
На высоком кедре шевельнулось что-то живое. Видно, белка вышла жировать.
«Ах, не взял пищаль, — подумал Гриш. — И нет Бельки. Вот несчастье-то стряслось у меня…»
Случилось это перед выходом на зимний промысел, поздней осенью. Уже место расчищено для электростанции, и Обь перегорожена, и добыты первые налимы да нельмушки, и подступила пора охоты. Встал Гриш на лыжи, а Бельки нету дома. Он кричать, звать ее. Услышал голос Иуда-Пашки, своего соседа с южной стороны. Тот стоял на своей конюшке, рядом. «Твоя собака сдохла. Валяется у меня в ограде за амбаром. Я собрался на охоту, приманку приготовил для лисиц со стрихнином, вынес на улицу, чтоб заморозить. А ночью сорока-воровка взяла да и уронила. Собака твоя съела дохлую рыбу и сама сдохла. И сорока сдохла тоже. Убери собаку и сороку заодно…»
Иуда-Пашка, черноволосый, черноликий и угрюмый от нелюдимости, был ровесник Петул-Вася. Домина у него громадная, домина-усадьба — с высоченной оградой, крепким тыном. Он считался старовером и боялся, чтоб ненароком не осквернили, не опоганили его веру. Иуда — это не прозвище и не кличка, а имя покойного отца. Иуда-Пашка — значит Павел Иудович. Но в селе большинство людей считали — его зовут Иуда потому, что он иной веры, черный человек, предатель, и остерегались. А Иуде того и надо — не зря построил нераскрываемые, как секретный замок, ограды.
Гриш на чем свет проклинал Иуда-Пашку. Собирался привлечь к суду за убийство Бельки, но остановился — охотникам разрешено было пользоваться ядом.
«Вот несчастье-то, — вздыхал Гриш. — Пропала собака. И умная была — не говорила только». Похоронил он Бельку, даже шкуру не снял — кто с друга шкуру снимает. Надо заводить новую собаку!
Впереди, на дороге, в светлеющем сумраке увидел Гриш здоровенную лошадь. В порожних санях маячила маленькая фигурка ездока. Кто-то усиленно махал вожжами и кнутом, но лошадь не трогалась.
«Однако, Сенька Германец, — догадался Гриш. — Ну да, он».
Накануне Сенька был у Гриша и хвастался, что наконец-то купил здоровенную лошадь. Грива и хвост черные, ноги снизу тоже черные, но сама пегая, оттого и кличут Пеганкой. Нездешняя лошадь, Ма-Муувема, а тому досталась из Каша-Вожа. Но он, Ма-Муувем, согласен обменять Пеганку на его, Сенькиного, жеребца. Ма-Муувему срочно, к Рождеству, нужен жеребец. На айбарць — на махан[15] надо, а для того остякам нужен неезженый конь.
— Целиком, в сблуе, в санях отдаю, говолит, за твоего желебца, — лепетал Сенька. — Вот и купил коня здоловенного. Даже деньги отвалил. Избушке надо тепло. А тепло-то откуда? Вот и надо коня. Пойдем, посмотлим на Пеганку.
— Завтра. Надо вечером докончить, — Гриш пилил доску лобзиком, вырезая из доски деревянное кружево. — Не уйдет Пеганка. Только ты зря связался с Ма-Муувемом — как бы не обдул тебя.
— Не-ет, — уверенно махнул рукой Сенька. — Меня-то… Ого-го!
И вот увиделись в лесу, на узкой дорожке. Пеганка, верно, здоровенная коняга. Стоит, повесила голову. А Сенька, щупленький, как оголодавший ершишко, стоя на коленях, хлещет-нахлестывает Пеганку вожжой, неистово ругаясь.
— Тпру-у, — Гриш остановил Карько. — Что случилось-стряслось?
Сенька повернулся к нему.
— О, ты? — И сел, отбросив вожжи. — Вот холела! Не идет, и все! Я уж устал стегать, а он стоит и стоит…
Гриш встал с саней, забрал у Сеньки вожжи.
— А ну… как тебя… Пеганка…
Но Пеганка как стояла, так и стоит. Гриш посмотрел под санями — не зацепилось ли обо что-нибудь. Нет, свободно.
— Что за лешак! — начал сердиться Гриш. — А ну, пошел! — он стеганул коня вожжой. Но конь ни с места, как вкопанный. Гриш, сердясь, хлестанул изо всей силы. Ничего не добившись, взял за узду.
— Ну-у!.. — закричали они. — П-шел!.. П-шел!..
Но конь стоял на месте.
— Не Пеганка, а Поганка твоя кличка, — вырвалось у Гриша. — Я говорил тебе, Семен, — сунет Ма-Муувем поганую лошадь. Конь здоровый, а не идет.
— Почему не идет-то? — горевал Сенька. — Когда покупал, плиехали ко мне в огладу Озыл-Митька на своем коне и Ма-Муувем на Пеганке, — объяснял Сенька. — Откуда-то ехали, видать. Видимо, Митька сказал остяку, что я ищу коня.
— Фию-у! Понятно — объегорили тебя. Ма-Муувем решил избавиться от этой Пеганки-Поганки. Хотел ты большой барыш, а получил ястреб-варыш. — Гриш еще раз попытался сдвинуть с места упрямого коня, но не смог. Было уже светло. На сегодня угадал самый короткий день в году. — Я пошел-поехал, а ты как хочешь…
— Ну, что это такое… — Сенька отошел к своим саням, давая дорогу Гришу. Тот сел в розвальни и погнал Карька вперед, но как только сани Гриша оказались под мордой Пеганки, та сразу же двинулась с места и пошла. Сенька чуть не отстал и едва успел повалиться на сено. — Ой, идет!
Гриш оглянулся назад, поразился:
— Идет ведь… — Он остановил Карька. Пеганка враз вкопанно остановилась. Гриш снова погнал Карька рысью, и Пеганка невозмутимо зарысила. — Вот это да! Любит ходить за поводырем. Слышишь, Семэ?
— Слышу! — лепетнул изумленный Сенька, заливаясь в смехе. — Вот едлена матлена! А мы не знали — засчитали Поганкой! Не-ет, она настоящая Пеганка! — И Семен запел бессловесную, как детский лепет, песню.
— Это ты зря, — Гриш посуровел и остановил коня. — Я тебе не могу стать поводырем… Ты и так дуришком живешь, — жестко отрубил Варов-Гриш. — До каких пор?..
— Пошто поводылем? Исплавится Пеганка, — растерялся Сенька. — Гони коней, а я полежу. Так я устал малосильный…
Гриша возмутило, может быть, впервые он вгляделся в Сеньку — он ведь совсем непрост.
— Смотри-ка, устал!.. Еще не работал, а устал! Так дуриком и проживешь, — плюнул Гриш. Он тронул коня, Пеганка потянулась следом, с дороги свернули направо. Здесь снег глубокий, не стоптанный. Деревья все гуще и выше, разлапистые — кедрач и пихта, занесенные толстым снегом кусты. Было тихо, лишь изредка из глубоких сугробов вырывались куропатки. Лес стал таким густым, что сделалось сумрачно.
— Эй, Семен, пора нам делать развод. — Гриш оглянулся, Пеганка отстала немного, утопая по брюхо. — Спит, что ли? Эй, Германец! Проснись! Убежала Пеганка!..
Сенька поднял голову.
— Как убежал?.. О-о, стало темно. Все еще едем? Вот это здолово… — и зевнул.
— Эх ты, засоня! — укорил Гриш. — Пора разъезжаться. — Он остановил Карька возле высокой и толстой сосны, стал надевать лыжи, лежавшие под ним на санях.
Сенька пытался повернуть Пеганку налево, но та дошла до Карькиных саней и остановилась.
— Вот тебе и раз. — Сенька выпрыгнул из саней и утонул в снегу по пояс.
В этот день Сенька принес Гришу уйму забот, и все из-за Пеганки-Поганки. Здоровенный конь, а дурной. Пришлось подстраиваться так, чтобы впереди был Карько. Ну, уж достался Пеганке воз так воз — из трех здоровенных бревен, а Карьке — одно. Пеганка потащила бы и больше, да боялись — не выдержат сани.
— Все! С меня хватит на стройку. — Гриш подъехал к штабелю бревен, занесенных снегом, и слез с саней.
— А я только начал, — ответил Сенька. — Но ничего — еще лаз съезжу, и готово… А почему сегодня никто не пливез блевен?
— Надеются, наверно, на Пеганку. — Гриш свалил бревно и решил помочь Сеньке. — От церкви поедем по разным сторонам — ты направо, а я налево. Имей это в виду.
— Знаю. — Сенька сел на сани и тронул коня. И конь пошел. — Вот видишь? — улыбнулся Сенька.
— Ничего не понимаю. — Гриш тоже сел на сани, и на этот раз Карько пошел за Пеганкой.
Доехали до церкви и расстались.
«Хоть бы хны. — Гриш следил за Сенькой, пока тот не скрылся за домом. — Может, исправится норов у Пеганки-Поганки. О-о, тогда бы Германец ожил!»
По пути к дому встретил Сандру и Куш-Юра. Гриш сообщил председателю, что привез последнее бревно на стройку, а Сенька Германец на Пеганке сразу три бревна.
— Ого! — удивился Куш-Юр. — Что за Пеганка? Купил, что ли?
— Купил у Ма-Муувема, — ответил Гриш.
— У Ма-Муувема? — встрепенулась Сандра и вздохнула, поведала, что года три назад во время поездки из Вотся-Горта в Мужи она видела у Ма-Муувема здоровенную лошадь, вроде Пеганкой кликали.
— А-а, точно, — кивнул Куш-Юр. — Я видел в конюшне — здоровенный конь.
— Дурной конь, — засмеялся Гриш.
Когда Гриш упомянул про Озыр-Митьку, подсоблявшему Ма-Муувему подсунуть коня Сеньке Германцу, то Куш-Юр вдруг вспомнил:
— Да, а свежие, незапорошенные бревна на стройке есть? Озыр-Митька да Квайтчуня-Эська до сих пор тянут, не возят.
— Все кругом бело. — Гриш подходил к своей ограде. — Не скоро дождешься от них.
— Заставим! — пообещал Куш-Юр.
2
Воскресенье — день осмотра ловушек. В эту пору в утренних сумерках всегда появлялся к Варов-Гришу Сенька Германец с пешней, зюзьгой и нежи — острым багром. А сегодня Сеньки нет, у него есть Пеганка, он сам может поехать к кедру.
Все же Гриш заехал к Сеньке — конь у него с норовом. Он застал Сеньку в постели.
— Мать родная! — удивился Гриш. — Ты почему так долго канителишься?
— А что стряслось? — удивился Сенька, протирая глаза и зевая. Он лежал на кровати под одеялом, укрытый сверху малицей, а жены хлопотали возле оравы ребятишек.
— Как что? Поехали к кедру — сегодня воскресенье. — Гриш стоял у двери, не выпуская скобу из рук.
Женщины заойкали, заохали:
— Ой, беда-беда!.. А мы думали, завтра… Вставай, лешак тебя возьми!.. Рыба будет, рыба!..
Сенька вмиг откинул одеяло и малицу, оказался лежащим в верхней рубашке и штанах, а на ногах — с заплатами меховые чулки.
— Едлена матлена! — Сенька потянулся до хруста в теле. — Надо толопиться! Но Пеганка еще не поен и сам не пил чай, — он посмотрел на измятый самовар.
— Фию-у! Долго ждать… А как вчера доехал на Пеганке-Поганке?
— Холошо, — Сенька надевал тобоки, поданные Ичмонью. Она стояла перед ним растрепанная, выставив тугой живот. — Доехал без помощи. Водил на водопой — слушается.
Гриш улыбнулся в усы.
— Добро, коли так. Не тяни с чаепитием, сразу же за мной. Ну, я пошел-поехал.
Гриш ехал к кедру по заснеженному берегу, и туда уже торопились люди. День такой — надо запастись на неделю рыбой. Гриш догнал младшего брата Пранэ с племянниками Миколой и Петруком.
— А напарника-то нет? — Миколка, светло-русый и голубоглазый, кивнул на нарту-сани Гриша.
— Верно, — удивился Пранэ. — Ты куда девал такого отменного помощника?
— Отменный помощник стал лошадным, — Гриш оглянулся назад, не едет ли Сенька, и рассказал, как Сенька сделался хозяином здоровенного коня Пеганки и что тот вытворял вчера в лесу. — А Сеньку застал спящим — перепутал дни. — Гриш оглянулся назад, но Сенькиной здоровенной лошади не было видно.
— Не приедет. Опять лег спать, — фыркнул Петрук.
— Или задурила Пеганка-Поганка, — вторил ему Колька.
— Да-а, не везет тебе, Гриш, — покачал головой Пранэ. — Сенька лодырь, а не козырь.
— Ничего, — ответил Гриш. — Я сделаю из него человека…
3
Сенька так и не приехал. Досталось Гришу в этот день — надо было прорубить большие лунки над двумя гимгами и черпать лед зюзьгой.[16] Хотел оставить одну из них, но ведь что ни день, то толще лед. И пришлось долбить пешней, потом зюзьгой вычерпывать, затем поднимать гимгу из воды и вытаскивать рыбин через «окошко» гимги наружу, на лед. После того как весь улов вытащен, гимги снова опускать в прорубь.
— А ты, оказывается, один? — Куш-Юр тронул Гриша за плечо. — Где Сенька?
— Сегодня я один… Подвел, недотепа.
— Вот нечистая сила!.. — он посмотрел в сторону Мужей. — Неужто не придет? Надо помочь тебе…
— Давай, — согласился Гриш. — А потом, если нужно, я вам помогу.
Но помощь им не требовалась — Куш-Юр и Евдок приехали с Вечкой рано-ранешенько и уже кончали работу.
Куш-Юр сходил за пешней и зюзьгой, подъехали Вечка и Евдок, закипела работа. Вскоре закончили.
— Садись со мной, Роман Иванович, я один, — Гриш тронул коня.
Разговор про Пеганку распространился вмиг — все хохотали, даже Озыр-Митька, промышляющий с Яран-Яшкой ближе к берегу. Митька, услышав, взвизгнул бабьим голосом:
— Германец купил коня? Не может быть… — Он подмигнул Яшке, вынимавшему из ловушки здоровенного налима.
— Как не может быть? — Варов-Гриш проезжал мимо Озыр-Митьки. — Ты же сам с Ма-Муувемом продал коня Германцу.
Озыр-Митька круто повернулся.
— А-а… ты?.. — Он сердито бросил налима на груду рыбы.
— Ну, нечистая сила! — заругался председатель. — Все время врет. Сбыли с рук Ма-Муувема Пеганку-Поганку, а говорит: «не может быть»…
— Ну, сказал. Что ж тут такого… — огрызнулся Озыр-Митька.
— А то, что Пеганка — поганка и есть, — вставил Гриш. — Сеньки нет до сей поры — мучается. Вчера в лесу сколько бились. Правда, три длинных и здоровенных бревна сразу на один воз.
— Вы до сих пор не привезли ни одного бревна, — возмущался Куш-Юр. — Осенью отказались расчистить площадку, так теперь бревна везите!
Озыр-Митька хмыкнул:
— Везти… Сказать легко…
— Да-а, заставим подчиниться решению сходки. — Вечка тоже вступил в спор. — Ишь вы!..
— Может, совсем не будут строить, а вози, — огрызнулся Яшка.
— Будем строить, — заявил Куш-Юр. — Приедет Будилов, и начнем.
4
Гажа-Эль шел мимо Сенькиного двора, услышал смех людей и свернул в ограду Германца.
— О, якуня-макуня! Целая компания! Не выпиваете ли? — Он был трезвый, хотя было воскресенье и приближался вечер. — Подайте и мне — я гимги проверил еще вчера, а сегодня весь день ищу сур…
— И не найдешь. — Вечка стоял возле своего коня и не выпускал вожжу. — Мы поработали хорошо… А смеемся над Сенькой…
— Недотепой, — хохотал Евдок.
Оказалось, Сенька все еще возился с Пеганкой — она сдурела и не идет ни туда и ни сюда. Так и прошел день. Германец привязал коня за стайку и давай стегать сзади. А тот как лягнет обеими ногами. Сенька и упал далеко на снег. Хорошо, что угадал не в лоб. Сидит в снегу и матерится.
— Эх, ты-ы, горе-гореванное. — Гажа-Эль взял Сеньку на руки, будто охапку сена, и перенес на пустые сани. — Сиди здесь, а не там, возле коня.
— Ты лучше побей Пеганку-Поганку, как своего Гнедка, — слезливо попросил Сенька. — Спусти шкулу холеле…
— Э-э, не пойдет так. — Гажа-Эль посмотрел на Сенькиного коня. — Я, сам знаешь, не трогаю никого. А Гнедка — другое дело: и бью, бывает, а потом обнимаемся и плачем… А что это за конь? Какой здоровенный!.. — Но только Гажа-Эль приблизился к коню, тот лягнул, едва не угадал в Эля и начал рвать узду — вот-вот выдернет ветхое бревнышко. — Ишь ты, дьявол! Конь с придурью! Выдернет бревешко, и развалится стайка, погубит коровенку…
— С норовистым конем без вожжей не сладить, нечистая сила. — Куш-Юр подошел к Элю. Гажа-Эль все же отвязал узду, освободил коня от привязи, ласково похлопал по передней лопатке.
— Конь как конь, вовсе не холера. — Гажа-Эль отпустил Пеганку. — Любить надо коня…
— Ну да… Невезучий пелед всеми виноват… — Сенька стонал и кряхтел. — Сегодня даже за лыбой не ездил.
— Надо придумать что-то, — предложил Гриш. — Пошли делить улов!..
— Да?! — Сенька встал и, посасывая кровь из рассеченной копытом руки, пошел к нарте Гриша. — О-о, есть лыба… Эй, выйдите кто-нибудь сюда! Лыба, лыба на мой пай!..
В тот же миг выбежали из избы без малиц Анка, Нюрка, Нюська, Верка-Ичмонь и Парасся. Варов-Гриш делил добычу, стараясь сделать доли равными.
— Выбирай, Семен, и я пойду, — сказал Гриш.
Сенька не знал, которую взять долю. Подсказала Нюська:
— Эту, эту. Белые рыбы тут…
Глава 13 Встань-трава
1
Однажды в начале зимы, вскоре после расчистки площадки, Илька вздохнул и обратился к отцу:
— Айэ, а ты обманщик все-таки. — Он видел вечером, как отец умело вырезает крупным лобзиком волнистые кружева из длинной доски шириной в четверть. У Гриша уже сотворено немало таких досок, чтоб разукрасить избу снаружи — сделать дом терем-теремком. — Обманщик и есть!
— Почему же? — Гриш удивленно посмотрел на сына.
— Ты так красиво делаешь, даже маленькой пилой, а не хочешь помочь мне…
— В чем? — засмеялся Гриш.
— Ты все обещаешь сходить к безногому Коктэм-Ваню, а все не идешь. Мне ой как хочется попробовать на костыли встать.
Гриш перестал пилить.
— Мать родная! Сегодня собирался сходить к Коктэм-Ваню, а доска попалась на глаза — и забыл. — Гриш немедля встал. — Надо сходить. Сейчас же!
Елення возилась на кухне.
— Конечно, — сказала она. — Тальниковые палки приготовлены давно, уже высохли, а сделать никак не соберешься. Сходи успокой парнишку.
Гриш, перед тем как выйти из дома, заглянул в горницу.
— Не трогайте лобзик. Я вернусь скоро. — И ушел.
Его долго не было. Наконец вернулся и притащил с собой большой деревянный костыль, тальниковые палки и толстую дощечку. Ребята уставились на костыль.
— А как Коктэм-Вань будет, Гришэ, без костыля-то? — выглянула Елення из кухни.
Гриш сообщил: Коктэм-Вань придумал себе деревянную ногу, будет ходить на большой рогатке, благо что после ранения на войне нога ампутирована ниже колена. Вот и уступил один костыль посмотреть.
— А здорово он ходит на деревяшке. — Гриш садился ужинать. — Культя обута в меховой чулок, изогнутая, колено на подушечке, а рогатки привязаны ремнями. Тебе бы, Илька, такую штуковину… — Он наклонился и посмотрел на Илькину искалеченную ногу в шерстяном чулке.
— На костыли хоть бы встал. — Елення принесла в чашке нарезанную малосольную рыбу. Пыхтел небольшой самовар.
— Это я смастерю. Два костыля — ерунда. — Гриш взял кусок рыбы. — Надо только научиться вставать и ходить.
После ужина Гриш взялся мастерить костыли.
— Спать пора! Я еще не скоро кончу. А завтра некогда, — сказал Гриш сыну.
Илька зевнул.
— Я полежу только, а спать не буду. Буду следить за тобой, чтоб все сделал как надо. — Он дополз до кровати, залез в постель рядом с братишкой, а мать укрыла его.
— Вот смотри на отца, только не шуми. — Елення приложила палец к губам.
— Хорошо, — прошептал Илька и… уснул.
2
Разбудила его Лиза. Она была в малице и касалась его руки холодной рукавичкой.
— Проснулся? — улыбнулась Лиза и махнула рукой. — Тетя Еля, ты можешь идти доить! Ой! — кивнула Лиза на новенькие костыли. — Это откуда?
Илька посмотрел и вдруг вспомнил.
— Отец сделал! — Он шумно сбросил одеяло и разбудил Федюньку. — Вот здорово смастерил!..
— Это ведь тебе! — Лиза тронула костыли. Илька громко закричал:
— Нельзя! Я еще сам не трогал.
— Так тронь, — предложила Лиза и чуть-чуть отступила.
Федюнька соскочил с кроватки на пол и, протирая глаза, уставился на костыли.
Илька взял один, затем другой.
— А как ходить? — уставился он на Лизу.
— Сейчас. — Лиза сняла малицу и оказалась в сарафанчике и кисах. — Дай сюда.
— И мне… — Федюнька тоже захотел попробовать.
Илька отдал костыли, но они оказались длинными для малышей.
— А-а… Больно… Давят под мышками. — Ну!.. Бер-ри костыли!..
Илька вздохнул, взял костыли, но не вставал.
— Боюсь…
Долго его уговаривали, наконец Илька поднялся, держа широко расставленные костыли, но тут же сел обратно.
— Не могу, — Илька чуть не плакал.
— Ну как? Ходит? — вошла с подойником Елення.
— Дело др-рянь, — качнул головой Федюнька.
— Не выходит ничего, — добавила Лиза.
— Не могу… Подгибается нога-а-а… — заплакал Илька и бухнулся на пол.
— Вот беда-то, — вздохнула Елення. — Не огорчайся, крепись, сынок, научишься.
3
Прошло полтора месяца. Нет, не выходило у Ильки ничего. Встанет, а правая нога, на которую опирается, не выдерживает тяжести тела, подгибается. Правая рука не выпрямляется тоже. Пришлось на одном костыле переставить ручку. Дело худо — не может Илька ходить.
«Да-а, плохо дело, даже не могу ходить на палках, не то что Коктэм-Вань на рогатке», — задумался однажды Илька. Он проснулся засветло и сразу же увидел костыли. Накануне вечером Илька старался хоть шаг шагнуть, но боялся — грохнется и испугает всех. Уже и так был весь в синяках. А если попробовать ходить, когда в доме ни души? О, тогда хоть сколько падай.
Илька прислушался. На кухне никого не слышно. Февра в школе, отец возит бревна.
Илька вмиг сполз с кровати, добрался до сундука и залез на него. Взял костыли и встал на них, весь дрожа. Напрягся и сделал небольшой шаг к кроватке. Потом еще. Еще и… упал. Посидел и, держа костыли, полез на кроватку, сел. Сердце билось так, что готово было выскочить. Четыре раза шагнул!
— Ма-мэ! Мам-ка-а! — закричал Илька. — Я хожу-у! Хожу-у-у!
Но мать не слышала. Илька, собравшись с духом, снова зашагал мелкими шажками и дошел до сундука.
— Мамэ-э!!! — заорал он. — Я хожу-у-у!!!
Повернулся, стал добираться к окошку. Нога устала, под мышками больно, но так сильно хотелось ходить! Илька снова встал на костыли, пошел вперед, широко расставляя палки. И тут зашла Елення.
— Мамэ-э! Иди-ка сюда-а! Скоре-ей!.. — закричал Илька.
— Что случилось?! Ба-а!.. — сказала Елення и уронила под ноги несколько полешек. — Ой, Илька! Миленький! Ты встал!.. — Она, бросив дрова, кинулась к сыну, усадила его на сундук и принялась целовать, приговаривать сквозь слезы: — Вот и дождались! Вот и дождались!..
— Я кричал, а ты не слышала. — Илька вертел головой, уклоняясь от поцелуев. — Только я хожу не совсем…
— Ничего! Раз встал — будешь ходить. — Елення вытирала глаза. — А как ты, миленький, решился?
— Никого не было, и решился, — ответил Илька.
В сенях послышался шорох, дверь открылась, и в избу ввалились Федюнька и Лиза, оба в снегу.
— Вот и мы! — сказали они. — А Илька проснулся?
— Проснулся! Иленька ведь ходит! Вот счастье-то! — доложила Елення.
Федюнька и Лиза уставились на Ильку.
Илька ковылял к окошку. И почти дошел, но костыль поскользнулся, и он грохнулся на пол. Елення, Лиза и Федюнька кинулись к нему. Но Илька, морщась от боли и потирая ушибленную левую ногу, проговорил:
— Ничего… — Он стал подниматься на стул.
— Надо осторожней. — Елення подала Ильке костыли.
— Ничего, — твердил Илька и посмотрел на кроватку. — Я даже пойду туда…
— Туда?! — изумились все.
— А что? — Илька заковылял осторожно, потому что нестерпимо саднило под мышками. Елення стояла наготове, раскинув руки. А Илька все шел, шел и дошел — бухнулся на край кроватки.
— Ура-а-а!!! — закричали Федюнька и Лиза.
— Пойду на улицу! — решил Илька. Он выбрался из дому ползком, а мать вынесла костыли. В малице удобнее было стоять на костылях — не резало под мышками. Но зато до ручек труднее достать рукавицами. Илька сделал шаг, расставив палки пошире, — не скользят. Потом еще раз шагнул и пошел.
— Я пойду к бабушке, — заявил Илька.
— Давай, — сказала мать.
Федюнька и Лиза пошли обследовать в снегу дорогу до соседнего крыльца. А Илька шел и с трудом переставлял костыли, тонущие в снегу.
— Отдохни. — Елення посмотрела на соседние окошки. — Ведь идти далеко.
Лиза торопливо поднялась на ступеньки крыльца, а навстречу ей бабушка Анн, в малице и кисах. В руках держит одетую тепло Эгруньку.
— Бабушка! — закричал Илька. — Я хожу на костылях!.. Хожу!..
— Батюшки! — воскликнула она и опустила внучку на ноги. — Ходишь?!
Елення, не сдерживая слез, радовалась:
— Илька ходит! Ходит ведь Иленька!..
4
Вечером того дня, при лампе, при пышущей железной печке Гриш точил на бруске топор. Илька, счастливый и радостный, что отныне он нашел встань-траву и может вырасти каким-нибудь полезным человеком, разлегся около него на оленьей шкуре, положа костыли рядышком и обняв их. Февра и Федюнька ушли к бабушке Анн, Елення хлопотала на кухне.
— Хорошо жить, когда есть костыли, — вздохнул Илька, улыбаясь и глядя куда-то в потолок. — Искал, искал я тогда в Вотся-Горте эту встань-траву, да не нашел. А приехал сюда, пожили немного, и она тут как тут. Оказывается, встань-трава-то — в костылях. О-о, теперь не буду рвать штанов. Пароходы придут — сам дойду до пристани. Удить буду, а осенью пойду в школу. Правда, айэ? — и он повернулся лицом к отцу.
— М-да, — тяжело вздохнул Гриш, проверяя ногтем заблестевшее лезвие. — Конечно, так. От оленя, говорят, остаются рога, а от человека — имя. Пойдешь в школу непременно.
Зашел Куш-Юр, поздоровался с Еленней.
— Соскучился? — заулыбался Гриш.
— А ты все работаешь? Дай хоть роздых себе…
— Гм! А кто будет строить-мастерить почту? Вот и готовлюсь заранее к приезду Будилова.
— Так, так. — Куш-Юр кивнул Ильке. — А у тебя как дело? Ходишь?
— Хожу. Показать? — Он заковылял осторожно, боясь задеть оленью шкуру.
— Молодец! — похвалил Куш-Юр и обратился к Гришу: — Я к тебе по делу… Опять я убедился сегодня — ты душевный человек. Все отдаешь, помогаешь любому, даже Сеньке Германцу. И понимаешь правильно нашу политику. Давай вступай наконец в партию. Чего тянуть?
Гриш повернулся к нему.
— О, ты вон что! Опять сватать меня. Да говорю — не дорос я. Куда мне с одним классом! Каждая птица свою высоту знает.
— Это ерунда, — махнул рукой Куш-Юр. — Выучим! Ты — толковый, я понял это давным-давно. Главное, что политику Советской власти понимаешь.
— Советская власть — наша власть. Это понимают все.
— Нет, не все.
— Ну, есть некоторые…
Гриш проверил лезвие топора — не готово ли.
— То-то и оно. Из тебя может выйти, как Вечка, хороший пропагандист новой власти.
— Про-па-ган-дист… — засмеялся Гриш. — Слово-то какое… Старшего брата, Петул-Вася надо принимать в партийцы. Он грамотей, читальщик. А потом уж меня.
— Петул-Вася мы знаем, имеем в виду, — ответил Куш-Юр. — Но Вась пусть пока в профсоюзе постоит. Не он ведь предложил югыд-би, а ты…
— О, югыд-би! Я тоже вступлю в профсоюз. Рабочий.
Илька не вытерпел, спросил отца:
— И можешь красный флаг повесить на дом? Дядя Вась ведь повесил.
— Обязательно.
— Ну, так как? Вступишь в партию? — Куш-Юр встал и подошел к Гришу.
— Не знаю. Да и жену надо спросить — как она смотрит на это. Партийцам ведь нельзя держать иконы…
— Про что это?.. — спросила Елення. Сзади вдруг послышалась возня, и, пыхтя, вошел Вань, принес полено.
— Хозяин дома?
— Дома, дома. Проходи.
— Вуся, — поздоровался Коктэм-Вань, здоровенный мужик, опираясь о косяк, а левую руку держа на деревянной ноге. — Впервые пришел в твой новый дом.
— Вуся! Проходи, будешь гостем!..
Илька расширил глаза и, чуть покраснев, испытующе смотрел на Коктэм-Ваня. Мальчик впервые видел его так близко, да еще на деревянной ноге. Коктэм-Вань проковылял до скамейки и сел как раз напротив Ильки, выставив вперед деревяшку с обледенелым концом внизу.
«А ему ведь тоже плохо». — Илька вспомнил, как оба его костыля обледенели.
— Ты, наверно, пришел за костылем? — спросил Гриш. — Никак не соберусь занести, мать родная!
— Нет, не затем. — Кареглазый Коктэм-Вань опустил капюшон, и рассыпались по плечам красивые кудрявые волосы цвета сливочного масла. Его лицо, гладко бритое, чисто блестело. — Заходил к брату и вспомнил: надо зайти попутно и к Варов-Гришу, поздравить с новосельем, а заодно и похвастаться… — И он показал на внутреннюю сторону деревяшки.
— Нечистая сила! — удивился Куш-Юр. — Какое-то железо посажено.
Гриш тоже придвинулся вплотную.
— Верно. Похож на наконечник от стрелы. Большой, в кулак.
— Наконечник и есть, — подтвердил Коктэм-Вань.
Когда стало возможным переехать Большую Обь, Коктэм-Вань поехал на лошади в Каша-Вож, что недалеко от Вотся-Горта. Это место он выбрал потому, что там легче достать сено, там дикая тайга, много белки и соболя. Он нашел в Каша-Воже сено и стал промышлять. Ездил в санях — на деревяшке уйдешь недалеко. Ночевал в пустом, из двух избушек, Вотся-Горте. Забрался как-то слишком далеко, по брюхо коню. Коктэм-Вань остановил его, надел лыжи, одна была мало-мальски приспособлена к деревяшке, только сделал два-три шага, как ударило что-то, и он чуть не упал с деревянной ноги. Смотрит — стрела в деревянной ноге! Похолодел: зашел на самострел. Хорошо, что шагнул деревяшкой, лишился бы здоровой ноги. Вань отошел назад, давай выдергивать, а она намертво впилась, из лиственницы сделана, с железным наконечником. Коктэм-Вань так и эдак, ничего не может. И шагать нельзя. Тогда стрелу он сломал, а наконечник так и остался торчать в деревяшке. Если бы на коне ехал, все — пропал бы конь. На лося нацелен был самострел.
— Вот и пришел похвастаться — выручила деревяшка. Пусть торчит наконечник.
— Могло ведь угробить стрелой, — горевал председатель. — А чей самострел?
— Не говорят. Видать, давнишний, заржавленный, — ответил Коктэм-Вань.
— Главное, что ты не пострадал. Вот лешак-дьявол!.. — Гриш принялся затачивать топор. — Ну-ка, Иля, покажи дяде Ване, как ты ходишь.
Илька уверенно прошел на костылях до своей кроватки и сел на нее.
— Добро! Помаленьку совсем научишься, — похвалил Коктэм-Вань.
Глава 14 Ревность, горе и смех
1
Как-то вечером Сандра зашла в сельсовет за Романом, тот задержался — разговаривал с приезжими из чума. Она не стала ждать, вышла на улицу под оглушительный колокольный звон — звала в себя церковь. Тихэн призывал молиться Богу.
По дороге Сандре встретилась Эгрунь, веселая, нарядная, красивая — торопится в церковь. А Сандра перед ней — серенькая, как рябчик, в обыкновенной малице и кисах, пузатая. Она молча прошла мимо, но Эгрунь остановила ее:
— Стой-ка! Почему не идешь в церковь отмаливать грехи?
Строго посмотрела на нее Сандра:
— Мне бояться нечего — я чистая. Убили во мне веру Мишка с Парассей. Мы — безбожники и безбожницы!..
— И я безбожница! Но для приличия все-таки надо отмаливать! — Эгрунь звонко хихикнула и вдруг вспомнила: — Да-а, когда-то я вовсю крутила с Романом. Ты тогда жила в Вотся-Горте. Куш-Юр целуется ох как! Так горячо — чуть не выжимал мне душу. Вовек не забуду! Поманю — и придет! Соперницей буду тебе. Ха-ха-ха!.. — долго на улице раздавался звонкий смех Эгруньки.
Как по голове ударили Сандре, она словно онемела — Роман целовался с Эгрунькой? Даже прижимал ее к себе? И молчал?
Сандра чуть было не рванулась в сельсовет, но сдержала себя и, ничего не видя, побежала домой.
— Что с тобой? — спросила Марпа, увидев ее в слезах.
Не снимая малицы, Сандра захлопнула дверь в комнатушку и бросилась на кровать.
«Что же это такое? — думала она, и крупные слезы катились по ее лицу. — Эгрунь ведь заманит любого мужика. И ты, Роман, туда же, целовался и обнимался с ней. И теперь грозится заманить тебя. Ты ведь сельсовет, позору сколько». — И она зарыдала.
Хозяйка забеспокоилась — что случилось, почему плачет? Али с Романом Иванычем стряслось что?
Марпа открыла дверь и заглянула в темную комнатку. Сандра рыдала, лежа на кровати в малице.
— Что случилось с Романом Иванычем? — спросила хозяйка.
— Ничего… Закрой дверь…
Марпа пожала плечами, отошла к лампе на кухне.
Через некоторое время пришли Евдок и Куш-Юр.
— Вот и мы! — Евдок обнял мать. — Почему темно в комнате у Романа Ивановича? Не пришла еще Сандра?
— И малицы ее нет на месте, — добавил Куш-Юр.
— Пришла, — кивнула головой Марпа. — Лежит в малице, плачет. Не зажигает огня…
— Плачет?! — Роман ринулся к двери и исчез за ней.
Мать и сын прислушались к глухим голосам. Слышно стало, как засмеялся Роман Иваныч, за ним вскоре и Сандра. Чиркнули спичкой — зажигали, видно, лампу. Поминали Эгруньку, обзывали ее всякими словами.
— Богомолка нашлась, дура. — Куш-Юр, выходя из комнатки, на ходу расстегивал полушубок.
— Дура и есть. — Сандра вышла за ним, стала снимать малицу.
— Про кого это вы? — спросила Марпа.
— Про Эгруньку, нечистая сила! Ходит, баламутит людей, — пробурчал Куш-Юр.
— В церковь зовет меня отмаливать грехи… — слабо усмехнулась Сандра. — Еще хвастается, что целовала Романа и обещает стать соперницей мне…
— Нашла, холера бесстыдная. — Куш-Юр повесил малицу Сандры, вспомнил былую игру Эгруньки, она чуть не стреножила его. — У меня есть Сандра, любимая, дорогая. Дай-ка я поцелую тебя… ревнивую…
Сандра улыбнулась, но отстранила его:
— Ревнивая и есть. Погоди… Вон Евдок что-то хочет сказать…
— Я буду охранять Романа Ивановича, — сказал мальчик. — Каждый раз вечером начну сопровождать его домой. Не дадим ходу классовому врагу.
— Вот это да! — захохотал Куш-Юр. — Не дадим ходу!!
2
Илька с Федюнькой вышли во двор и увидели перед крыльцом дядюшкиного дома оленью упряжку. Илька присел на крыльцо, а Федюнька побежал к оленям. Вскоре из дядюшкиного дома вышли оленевод — высокий седой старик Елисей и его дочь — тетка Малань. Старик Елисей был сильно расстроен и без конца жаловался. Тетка Малань вытирала слезы.
— Ой-е-ей! — сокрушался старик Елисей. — Убежать дочери Ирке с остяком Микулем! Кормил его, сироту, сызмальства, а он… угнал дочь на оленях. Опозорили! Дочь связалась с остяком. Куда убежали — не знаем. Не видно следов. Тьфу!.. — Елисей выругался и застонал.
— Ой, беда-беда!.. — плакала тетка Малань. — Убежала сестра с остяком! Голову сняли, окаянные!..
— О Господи, такой позор… — Старик взял хорей и отошел с упряжкой к амбару. Сзади нарты лежала туша мяса. Елисей развязал тушу, и они вдвоем с Малань заволокли ее в амбар.
Выглянула из избы раздетая Елення: почему сидишь, мол, Иленька, и увидела упряжку и старика Елисея.
— Ох, несчастье! — сокрушенно стонал старик, подходя к нарте. — Паршивец и есть этот Микуль. Украсть дочку Ирку…
— Батюшки!.. — Елення приложила к губам передник. — Ирка убежала с остяком! — И скрылась в избе.
Малань заперла амбар и, все еще плача, постояла возле отца, а тот на чем свет проклинал непутевую дочь и остяка.
А Елення дома смеялась: «Вот так новость — зырянка убежала с остяком! Был бы он яран — куда ни шло, это у оленеводов случается. Взять Эгруньку и Яран-Яшку. Но с остяком… не бывало. Надо сходить узнать».
Она только накинула шаль, как зашла Наста, жена Петул-Вася. Наста красивее всех троих снох — черноволосая, чернобровая, черноглазая зырянка с приятным овальным лицом.
— Ты новость слыхала? — с порога начала Наста. — У Елисея Ирка убежала с остяком!..
— Слыхала, слыхала! Собралась пойти к вам… — Елення отложила шаль. — Что такое! Не видано, не слыхано!..
И они стали рядить да судить, то смеясь, то негодуя. Подумать только — с остяком связалась. Первый раз зырянка выходит за остяка.
— Наверно, поженились, коли убежали от глаз. — Наста засмеялась.
— Конечно. Вот ведь непутевые…
С внучкой на руках пришла старуха Анн.
— Ох!.. — вздохнула она, отпуская внучку, вылитую Насту. — Что же это такое творится? Без ножа зарезали, срамота на все село! — Она опустилась на скамейку, моргая заплаканными глазами.
— Ой, не говори, матушка! — Елення принялась раздевать ребенка. — Что же делать!..
— Мы уже тут горевали, горевали. — Наста так и не села. — Будут теребить на все село — родня убежала с остяком…
— Вот то-то и оно. — Старуха Анн никак не могла успокоиться. — Ой, беда-беда!..
Вечером пришли с работы Вась, Гриш и Пранэ, и когда собрались в доме и выслушали старика Елисея, то выяснилось, что никакой беды-то и нету.
— Микуль — остяк, верно. Но вырос-то он у тебя, в чуме оленевода, а не в юрте-землянке, — возразил Вась старику. — И притом юрта-землянка-то ничего не значит. В избе ли, в юрте ли, в чуме ли — от хозяйки зависит чистота! А тут еще любовь — к остяку ли, к ярану ли, к зырянину ли, к русскому ли… Это ноне нарушать нельзя! Нет, нельзя! Любовь — все! Никаких гвоздей!
Гриш поддержал:
— Верно. Куш-Юр любит Сандру, а Сандра — его. Поженились. Я, примерно, люблю Еленню… — Он посмотрел на нее, выглядывающую из-за косяка. — И она меня. Попробуйте запретить нам любить друг дружку. Ого!..
— Точно! — сказал Вась. — На свадьбе была драка из-за Еленни…
— Ну, хватит про меня, — возразила Елення. — Про Ирку да Микуля надо говорить.
— Так вот я и говорю, — продолжил Гриш, — что Ирка любит остяка Микуля. Ну и что ж? Микуль сам увез ее подале, чтоб не видели их в первую ночь. Так ведь?
— Так, — ответил Пранэ. — Мы с Малань тоже любим друг друга. Я бы тоже пошел в оленеводы. Но не умею караулить животных — растеряю оленей. Мне вообще-то не везет, даже на рыболовство. И дети умирают. Вот Лизка заболела скарлатиной — уже лежит, не может говорить. Конечно, умрет, — он тяжело вздохнул. — Тебе, тесть, надо помириться — остяк дак остяк. Не все ли равно. Главное, чтоб друг друга любили.
— Но где их искать? — сокрушался старик.
— Найдем, — Пранэ встал. — Может быть, уже приехали обратно. С повинной головой.
— Может быть, — вздохнул Елисей.
— Смех и горе. — Старая Анн, держа на руках младенца, тяжело поднялась на ноги и хотела идти в комнату к больной Лизе. Но Петул-Вась остановил ее.
— Лечил бы чем-нибудь, — сказала старая мать. — Погибнет…
— Не знаю, чем лечить. Я не врач, даже не фельдшер. Говорят, хороший лекарь наконец-то едет к нам в Мужи. Вот он-то, может, и вылечит скарлатину.
— Хороший лекарь?.. Фельдшер?.. К нам в Мужи?.. О-о-о! — заговорили кругом.
Старая Анн тяжело вздохнула и пошла в комнату к больной Лизе.
3
Лиза болела около недели и умерла — задушила ее скарлатина. Утром Илька услышал об этом от матери. Он не заплакал, а вытаращил глаза — ее же схоронят? Стал проситься к Лизе. Но мать и отец запретили — девочка умерла от скарлатины. Илька ничего не понял.
В этот же день Пранэ выкопал могилу, а Гриш сделал гроб и крест. Схоронили назавтра, в воскресенье, под вечер. Угадал холодный день, но провожать Лизу вышли все ребята. Они остановились поодаль, и Илька на нарточке вместе с ними. Пранэ запряг Воронка. Надо отвезти покойную в церковь, чтобы отслужить молебен, а потом на кладбище. Заплаканная Малань села возле гроба, рядом усадили старуху Анн.
— Охо-хо, — старуха Анн поискала слепыми глазами. — А Илька-то где? Иди-ка сюда, Иленька! Попрощайся с Лизой…
— Лиза тебе, Илька, помогала передвигаться. А теперь… — Малань уткнулась в гроб.
Илька силился взглянуть на лицо Лизы, но не мог — мешала покатая оглобля.
— Не вижу Лизы…
Гриш взял на руки Ильку, поднял, и мальчик увидел посинелое, похудевшее личико Лизы. Ему стало не по себе, что-то напугало его в облике Лизы, и он тихо заплакал. Гриш хотел усадить его на нарточку, но он забрыкал ногой.
— Хочу проводить Лизу вместе с бабушкой, — громко плакал Илька.
Елення проверила одежду на сыне, и Гриш привязал сзади саней нарточку с Илькой.
Свежая могила вырыта рядом с другой, с сестриной, занесенной сейчас толстым снегом и заметной лишь по детскому кресту. Вокруг множество других крестов, свежих и старых, уже перекосившихся, занесенных снегом до половины. Илька внимательно следил за мужиками. Они заколотили крышку гроба и понесли к вырытой яме, потихоньку опустили вниз. Все начали кидать и яму комочки мерзлой земли.
— И за тебя тоже, Илья, — крикнула Елення и бросила комочек земли.
Мужчины засыпали могилу. Ушла, навсегда под землю ушла Лиза, и нет оттуда возврата. Не выдержал Илька — залился слезами, да так громко, будто его режут.
— А-а-а!.. Ой-е-ей!..
4
Сенька Германец поехал за сеном, добрался, отгреб, наложил воз, сколько мог, и тронулся обратно. Только залез на воз — Пеганка зашагала. Сама по брюхо в снегу, а везет легко: Сенькин воз — не воз для коня, будто копна. Так и не тронул Семен вожжами.
«Умная лошадь, хоть как ни говори, — размышлял Сенька, лежа на животе. — Везет и в ус не дует. Но почему иногда дурит, хоть плачь? Может, я виноват? Не натирает ли где хомут али шлея? Или конь издевается надо мной? Но тогда бы он не пошел за возом, будто привязанный. Нич-чего не понимаю…»
Выбрались на ровную дорогу. Сенька стегнул Пеганку кнутом со множеством узлов. Пеганка остановилась.
— Но-о, по-шел!.. — и добавил еще. Конь не двинулся и понурил голову. — Неужели не любит битье?! — Сенька торопливо слез с воза.
— Пеганка, Пеганочка, — лепетал Сенька, привстав на цыпочках и дотрагиваясь до ее морды, а Пеганка испуганно косилась на кнут. — Это ведь не живой, кнут всего. Гляди! — И Сенька закинул кнут в придорожный сугроб. Пеганка вдруг отпрянула назад, затем рванулась вперед, тараща глаза в сторону, куда упал кнут, и бросилась вскачь. Германец упал, откинутый возом. А лошадь бежит, будто и не воз тащит. И Сенька стал отставать, бежал, пока хватало сил, а лошадь едва видна.
Проклиная себя и коня, Сенька долго брел, пока не догнал Пеганку-Поганку — все же она остановилась, не дойдя до въезда в село. Сенька кое-как залез на воз и упал на спину лицом кверху — будь что будет. Пеганка подождала и степенно вошла в село.
Назавтра Сенька Германец появился среди рабочих, плотников и пильщиков, на своей лошади — вылечилась Пеганка. Он рассказал, как это случилось. Люди верили и не верили.
— А что? — задумался Варов-Гриш. — Я даже не имею кнута. А Сенька сделал специальный кнут с узлами, чтоб бить коня. Сам виноват.
— Конечно, сам, — кивнул Германец.
Гажа-Эль, прервав пиление, подошел к Пеганке.
— Вот якуня-макуня! Дай-ка сюда вожжи, лекарь-пекарь, — и легонечко тронул коня. Конь пошел. — Смотри-ка, идет ведь. Значит, виноват кнут. А ну-ка, испробуем сильнее… — Гажа-Эль хлестнул вожжой изо всей мочи.
Лошадь остановилась. Все засмеялись, а Гажа-Эль, бросив Сеньке вожжи, хохотал:
— Вот тебе и вылечился! Нет, мой Гнедко лучше Пеганки-Поганки!
Сенька захныкал:
— Исполтил лошадь, холела! Как теперь буду лаботать-кататься?.. — Он слез с саней, подошел к морде Пеганки, стал говорить-уговаривать коня. Конь послушал, шевельнул ушами и поддался ему — повернулся мордой к покатой дорожке вниз и сделал шаг. Сенька быстренько сел на сани и захихикал: — Идет, лодненький!.. — И показал кулак Гажа-Элю, лепеча: Ты смотли у меня! Не исполти, холела, лошадь!..
— Вот лешак — стращает еще! — хмыкнул Гажа-Эль.
— Пускай дурачится, — крикнул Гриш. — Пошли работать!..
— Пошли, — ответил Вечка и тихонько спросил: — Ну как? Надумал вступать в партию?
Тот кивнул головой:
— Скоро, скоро…
Глава 15 Терем-теремок
1
Будилов приехал в Мужи в новом, 1926 году, приехал один, не с семьей, как ожидал Куш-Юр. Жить устроился в доме недалеко от будущей почты. Мужевские селяне к тому времени закончили зимний лов рыбы и привезли гимги на свои дворы. Перегородку поперек реки оставили — весной унесет ледоходом. Большинству людей делать было нечего.
Будилов был доволен, что площадка для стройки приготовлена и лес почти весь на месте. Куш-Юр по-хозяйски шагал между бревен, занесенных снегом.
— Все-таки не все привезли, черти. Не верят, что будем строить. До последнего момента ждут.
— Ничего, — ответил простуженным голосом басовитый Александр Петрович. — Соберем собрание или сходку, как ты говоришь. Я им расскажу, что такое электричество, чтоб нас заслушались! Ленин говорил: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны».
Слова Будилова, да еще по-русски, звучали не совсем понятно, но зыряне слушали затаенно, иные раскрыв рот. Большинство сидящих впервые видели его — светловолосого, без усов и бороды, с чуточку уставшим, озабоченным лицом.
— Советскую власть мы держим уже девятый год и бесповоротно! А вот электрификацию нам надо начинать и развивать всемерно. Что такое электричество?
И он рассказал сперва об электрическом токе, как тот образуется. Нарвал бумажки на столе, вынул из кармана костяную расческу, старательно расчесался и только хотел приложить ее к бумажкам, как они сами оторвались от стола и прилипли к зубьям. — Видали?
— О-о-о!.. — загудел зал. — Шаман!.. Шаман!..
Будилов дошел до описания лампочки и вынул ее, небольшую, из гофрированной бумажной коробки.
— Знаем, видели на прошлой сходке, — махнули из публики. — Большую… Только не горела…
— Разбили тогда — уронили на пол, нечистая сила. — Куш-Юр смеялся, сидя тут же на сцене, за столом.
— Я заставлю гореть даже маленькую. — Александр Петрович, улыбаясь, прикоснулся к чему-то похожему на ящик. В тот же миг стало светло-светло, а света от настольной керосиновой лампы не видно почти совсем.
— Ой!.. — закричали в зале, не зная, куда девать глаза, вскочили, радуясь и ликуя: — Вот это да-а!.. Югыд-би!.. Сияет маленькое солнце!..
— Солнце и есть! Ильичево солнце! — продолжал Будилов. — Вот что значит электричество!..
И каждый представлял себе свою избушку вот с таким светом — югыд-би. Так ярко от маленького пузырька, а если лампочку с кулак — фию-у! Сразу полезут в глаза тенеты и пыль. Всех тараканов по углам разглядишь! Вот будет забота!
2
В мартовских светлых сумерках Гриш стоял на лесенке, прибивал искусно вырезанную кружевную доску на лицевую сторону карниза. Изба вся разукрашена сверху чуть не до окон деревянными кружевами. Осталось изукрасить наличники и — готово. Терем-теремок!
За забором раздался громогласный бас Будилова:
— А ты все работаешь?.. О-о, терем-теремок! Ты, Григорий, мастер — из рук золото сыплется! — Он шагнул, увязая в сугробе. Стряхнул снег с забора и удобно облокотился на него.
Гриш повернулся:
— Александр Петрович?.. Да вот делаю-мудрю. — И забил последний гвоздь.
— Так, так… — продолжал Будилов. — Мудришь? А ведь здорово! Терем-теремок!..
Гриш слез с лестницы, довольный работой и похвалой.
— Заходите сюда! Посмотрите кругом дом-избу…
— Пожалуй, стоит заглянуть. — Будилов направился к калитке.
Они не торопясь осмотрели все кругом.
— Да!.. — удовлетворенно хмыкнул Александр Петрович. — Только тын с южной стороны свет загораживает!
— Да. Сосед такой, Иуда-Пашка. Вредный мужик, старовер. Ненароком погубил-отравил собаку мою. Неладно делает Иуда-Пашка…
— Ясное дело! — согласился Будилов. — А изба у тебя — на диво. Красивей, поди, всех в селе.
— Красивей-то красивей, может быть, да вот беда… — Гриш показал, что изба получилась чуток длинноватая, на стыках бревен немного ненадежная. — Закрепить бы надо чем-нибудь, да крупных гвоздей-костылей нет али скобок.
— Тут нужны не костыли или скобы, а здоровенные болты, — уточнил Александр Петрович. — Четыре штуки надо — два на эту сторону и два на ту. Вверху и внизу. И сплошные деревянные стойки с двух сторон — никуда не разойдутся стыки.
Гриш криво ухмыльнулся:
— А где их взять-заиметь, болтов-то?
— У меня, — предложил Будилов. — Мы же будем строить радиомачту — значит, без болтов не обойдемся. Только тебе нужно выбрать, какой длины взять болт. Для этого определи толщину бревен в избе и прибавь еще столько же на стойки, понял?
— Мать родная! — Гриш бросился обнимать Будилова, будто давнего знакомого. — Спасибо, спасибо!.. — Он крепко тряс ему руку. — Зайдите в дом!
— Ну что ж! — Будилов поднялся вслед за Гришем на крыльцо. — Здравствуйте! — рявкнул Будилов и снял шапку.
— Здравствуйте, здравствуйте, — ответила Елення по-русски.
— Мой начальник! Будилов Александр Петрович, — представил Гриш. — А это — моя супруга, Елення. Там — дети. Раздевайтесь…
Гость разделся, повесил одежду, поправил волосы.
— Ну что ж, пойдем посмотрим, как вы живете, — загудел Будилов, как в пустую бочку, оглядываясь туда-сюда. — О-о, ты устроился хорошо. — И ласково-добродушно поздоровался с ребятишками.
Они вразнобой ответили ему по-зырянски, а Февра по-русски и ушла с Федюнькой за матерью. Илька с костылями остался сидеть на ящике.
— Видите, — вздохнул Гриш и кивнул на Ильку. — Рассказывал я вам… Садитесь к огню, вот сюда…
Будилов, в простой зеленой рубахе, плотно обтягивающей широкие плечи, сел напротив Ильки возле окошка.
— М-да, — сказал он, — ничего не поделаешь. Иля, кажется, звать. Свозите в Обдорск, покажите хорошим лекарям. Может, помогут.
— Нет, не помогут, наверно, — засомневался Гриш. — Полтора года назад летом проходило мимо судно с врачом, и Елення показала Ильку доктору. Но лекарь сказал, что помочь он не может и едва ли другие помогут.
— Я помню это, — вдруг осмелел Илька, уловив смысл, и заговорил по-зырянски: — Доктор был в очках, которые все время падали из глаз. Сказал, что я калека и так буду жить. А вот и нет… — И Илька тронул костыли.
Будилов, понимающий мало-мальски по-зырянски, согласно кивнул головой.
В прихожей стало светло, Елення зажгла трехлинейную лампу на стене и стала растоплять железную печку.
— Скоро, скоро будет югыд-би, как вы говорите, — басил Александр Петрович, оглядывая комнату с иконами по углам. — Ты первый додумался.
Гриш вздохнул:
— Первый-то первый, а теперь вот партийцы не дают проходу — тянут меня к себе, в коммунисты.
— И правильно делают, — одобрил Будилов. — Я тоже «за».
Елення вышла из кухни, вытирая передником руки.
— Александр Петрович говорит, пора мне вступить в партию. — Гриш положил руку на плечо жене и посмотрел на гостя.
— Так, так, — забасил Будилов.
Елення оглянулась на иконы и вздохнула:
— Ну что же — вступай в партийцы…
Гриш, не совладав с собой, просиял и поцеловал жену.
— Кушаешь, Александр Петрович, рыбью строганину? — спросил он, пересиливая волнение.
— С удовольствием! Давно я такого не ел, — ответил тот.
Гриш быстро сходил в амбар, принес кариши, нельмушек, вывалил на столик в прихожей и начал разделывать.
— Вот и все! Ужин готов. — Гриш вытер руки. — Строганина не терпит мешкать…
— Ах, хороша! — Будилов не знал, который кусок взять. — Просто разбегаются глаза!..
3
Подошла Масленица.
Илька помнил, что в этот день он когда-то падал в окошко и глубоко порезал лицо. Вылечил дядя Вась — привязал челюсти лентой и зашил порезы шелковыми нитками, что выдернул из праздничного платка Еленни. С тех пор на левой щеке поблескивают едва заметные шрамы.
— Ай-э! — позвал Илька, ощупывая метинки на щеке и глядя в окошко. — Вон как катаются на лошади… Даже на двух. — Он посмотрел на отца. Гриш, как всегда, был занят — вырезал из блестящей жести украшения для хомута. — Ты делай быстрей. Охота кататься. Масленица, слышь?
— Слышу! Понимаю, — вздохнул Гриш, чикая ножницами треугольнички, кругляшки, ромбики. — Масленицу-то забыл-запамятовал, поди?
— Э-э, — махнул рукой Илька. — Не стоит поминать… — Он повернулся снова к окну. — Вон опять… на оленьей нарте… и на лошади… Ну папка же! Скорей!..
— Сейчас-сейчас, — тряхнул головой отец. — Все же надо, чтоб и Карько праздновал-щеголял.
— Пока мы возимся — пройдет Масленица. Мамэ пусть печет блины, а мы прокатимся несколько раз на Карьке. Только ты запряги в нарту, а не в розвальни.
— Наоборот. Помнишь, в прошлом году Пранэ запряг в нарту и чуть не растерял ребят.
Вошла Елення с подойником и Федюнька да Февра.
— Скоро, айэ? — заговорили дети.
— Сейчас, сейчас…
Наконец Гриш закончил возню с хомутом, сделал его нарядным, праздничным. Он наказал Еленне побольше испечь блинов, чтоб поесть со сметаной и с маслом.
А на улицах — гулянье, шум, гам. Всем весело! И солнышко! Как большой масляный блин!
Варов-Гриш сделал полный оборот по праздничной дороге и решил еще раз прокатиться. Он полюбовался на свою избу — терем-теремок. А вот проезд напротив узковат — двое нешироких саней едва могут протиснуться рядышком. Мешает высунувшийся вперед амбар соседа. Это место нужно быстро проехать.
— Эх, хорошо бежит Карько — быстро! — воскликнул Илька и предложил отцу: — Давай, папа, так ехать!..
— Давай, только по ровному месту… — Гриш стегнул вожжой коня, и они проехали до самого поворота, не отставая от других.
— И-и-их!.. — засмеялись ребята. — Вот хорошо-то!
А кругом летели сани, мчались кони. Слышались крики, гиканье разудалых ездоков. Шум и гам не утихали до позднего вечера — Масленица!
Глава 16 Игрушки и помощник
1
К Ильке, запыхавшись, подбежал Петрук, двоюродный брат.
— Илька, у тебя ведь есть деревянные игрушки? — Петрук не отряхнул кисы от снега и в толстой малице прошел в горницу.
— А зачем?
— Надо до зарезу! — Петрук меховой рукавицей провел по горлу. — Мы в школе организуем выставку. Покажем, что умеем делать. Грамотный — зрячий, неграмотный — слепой, говорит мой отец. А я еще и могу мастерить из дерева. Но у меня куда-то все потерялось. Вспомнил — и бегом сюда. У тебя же были игрушки? — Петрук говорил торопливо, съедая слова.
— И теперь есть, папка сделал, они все на старой вышке. — Илька оторвался от окошка и повернулся к нему лицом.
— Живем! — Петрук обнял братана.
Но Илька затряс головой.
— Нет, не отдам. Я тоже пойду нынче в школу. Пригодятся.
— Э-э, жадина! — рассердился Петрук. Вдруг он заметил пустые углы без икон. — Это что такое?
— Отец вступил в партию! Осталась икона только в прихожей.
— Фию-у!.. — свистнул Петрук и стал наседать на него: — Жадина ты! Я ведь прошу-то не даром. Дам бумаги, большие листы. И возьму не все игрушки.
«Это можно, если большие листы», — промелькнуло в голове у Ильки, но он буркнул:
— Нет, не пойдет.
— А букварь хочешь? — не отступал Петрук. — Для взрослых! А?
— Букварь?! Для взрослых?! — Он впервые услышал о таком букваре. Для детей есть, но чтоб для взрослых?! — Ой врешь ты, Петрук!
— Ей-богу! — перекрестился братан. — Называется «Мы — не рабы». Тонкий, а бумага толстая. С осени у меня валяется.
— Так дай мне, — взмолился Илька. — Я хочу научиться читать, а у меня нет ничего, кроме Февриных книжек. Они непонятны.
— Пож-жалуйста! — обрадовался Петрук. — Так, говоришь, на вышке игрушки? Тут?
— Я же сказал — на старой. Бери и тащи сюда все, а здесь разберем…
«А это здорово — букварь! Да еще для взрослых! — думал Илька. — Февра сказывает — не хватает букварей ребятишкам. Вот научусь по нему читать и писать — это да-а! — размечтался Илька. — В нулевом классе не буду сидеть — сразу в первый… А вдруг в нем мелкие-мелкие буковки? Надо было спросить Петрука». Илька прислушался, не идет ли Петрук. Тот вернулся, сказал:
— Ты тоже иди! Будешь на крыльце помогать мне выбирать игрушки. — Петрук надел малицу на Ильку, вышли на крыльцо. Петрук исчез на вышке старого дома.
Илька сидел на крыльце и думал о букваре. «Я ведь буду хозяином букваря, — размышлял он. — Начну читать день и ночь, наизусть выучу. Февра не хочет учить меня читать и писать, я сам собой научусь…»
Петрук наконец вышел, вынес кучу всевозможных игрушек.
— Ох, Илька, и игрушек у тебя — ужас! — смеялся Петрук, вываливая на крыльцо лодку, гимгу, нарту, пароход и много других поделок. — Еще пойду, принесу, сразу все не взять.
Илька обрадовался игрушкам — вот и снова встретился со старыми друзьями.
Петрук появился с чучелом оленя-пыжика и коня. И третий раз сходил Петрук и приволок чучело огромного орла с распростертыми крыльями, свисающей головой и одиноким стеклянным глазом. Принес еще падко — небольшую меховую сумочку, чем-то заполненную.
— Во сколько притащил! — Петрук вспотел, откинул капюшон малицы. — Чего тут только нет! Сейчас разберем, что мне, а что тебе.
— А орел-то не игрушка, — серьезно сказал Илька. — Висел он вверху, в комнате. Ты бы еще манчики[17] приволок.
— Нет, манчики там! — Петрук показал на вышку нового дома. — Видел — трогать нельзя! А вот орел со сломанной головой как раз то, что надо мне. Во какие крылья! И хвост есть. А голову и глаз я сделаю. И возьму себе еще лодку, и гимгу, и баржу. А вот оленя и коня — не знаю, — задумался Петрук. — Который лучше? А может, оба?
— Не дам ничего! — закричал Илька, трогая то лодку, то баржу, то коня, стоящего на подставке с колесиками. — Уходи отсюда!
— Здрасте-пожалте! — качнул головой Петрук. — Я старался, даже вспотел совсем, пока тащил такую уйму. И — нате! Я должен пойти, а ты останешься играть. Не выйдет! И потом — я уже говорил тебе: и бумагу, и букварь дам для взрослых. И еще что-нибудь найду…
Упоминание о букваре урезонило Ильку. Он сказал:
— Какой навязчивый! Но ты умолчал — с какими буковками букварь, а?
— Огромными! — засмеялся Петрук и хотел еще что-то добавить, но тут зашли в ограду Федюнька с матерью.
— Мамэ! Сколько игрушек! — Федюнька ринулся к игрушкам.
Елення хлопнула руками по бокам.
— Пресвятая Богородица! Что это такое? Даже орел и олень с конем…
— Мы, тетя Еля, разбираем игрушки. Нужно мне срочно, — Петрук снова чиркнул по горлу, — нести в школу на выставку…
— А Петрук дает мне букварь для взрослых. «Мы — не рабы», — добавил Илька.
— Букварь?! — удивилась Елення. — А где он?
— Петрук обещает, но не дал еще. — Илька посмотрел на братана.
— Я сейчас!.. — Петрук побежал домой.
Через каких-нибудь десять минут он вернулся, принес два больших листа коричневой бумаги с таблицей умножения на обороте и букварь.
— Принимай и не жалуйся! — Петрук положил все это на колени Ильке.
Илька готов был взлететь от радости, Елення наклонилась, чтоб посмотреть букварь. И Федюнька туда же подсунул голову.
— Мы… не… ра… бы… — с трудом прочитала по слогам Елення. — Хорошая книга. Учеба — как голодному пища. А это столько бумаги? Вот хорошо-то!.. — Она поцеловала Петрука в лоб, но Петрук отстранился.
— Пахнет суром, — сказал он.
— На именинах пробовала сур, — засмеялась Елення.
А Илька торжествовал:
— Какие буквы здоровенные! Ура-а! Я буду читать!..
— Читай, читай. — Петрук припал на колени возле игрушек, пытался поставить на место голову орла, но она упорно сваливалась набок. — Вот черт! Не поставить ведь…
— Это не игрушка, — Елення кивнула головой на орла. — Зачем тебе, Петрук?
Он сказал, что нужно для выставки, даже орел. Но он добрый и жалеет Ильку — оставит и ему половину.
— Половину? — Федюнька тоже ползал вокруг игрушек. — Разве нет у тебя, Петрук, своих игрушек?
— Нету, собаки съели, — захохотал Петрук. — У Ильки больше всех игрушек на свете.
— Это все сделал отец. И оленя, и коня тоже. — Илька посмотрел через плечо, не переставая любоваться букварем.
— Папа, папа смастерил… — Елення вдруг вспомнила, что надо растопить железную печку и согреть обед для семьи, и пошла в избу.
Петрук вскочил на ноги, посмотрел на солнце.
— Уже шесть часов? Опоздал… Что же делать?
— Надо подождать папу. — Илька повернулся к игрушкам, не выпуская из рук бумагу и букварь. — Он подскажет, что взять, а что оставить…
2
Гриш пришел уставший, с засунутым за пояс тасму — топором.
— Мать родная! — обрадованно ахнул Гриш, увидев на крыльце игрушки. — Все притащили-приволокли сюда с вышки? Зачем?
Ребята объяснили, перебивая друг друга.
— А-а — задумался Гриш. — Раньше грамотой была — лишь топор да пила. А теперь в школе — выставка? Дельно задумано! А ты, Петрук, подарил за игрушки Ильке бумагу и букварь?.. О-о, замечательный букварь! «Мы — не рабы!» Точно — не рабы и есть! — И он чмокнул Ильку в лоб.
Петрук сурово и деловито заявил:
— Не можем игрушки разделить поровну! Тебя, дядя Гриш, ожидали. Дели! Честно!
Решили отдать Петруку оленя. Петрук настороженно, зорко и ревниво следил за ребятами. Их у крыльца собиралось все больше, подошла Февра с подругами, и все хотели подержать в руках игрушки, а Петрук еще не понимал, что они уже не достанутся ему.
— А в руках что у тебя, Илька? Букварь? — Февра взяла букварь и начала с подругами разглядывать картинки, ахая и охая.
— Откуда букварь и бумага? — удивились девочки.
Гриш взял игрушечную баржу. Она сделана из остова решета как раз в тот год, когда Ильку разбил паралич. Она точь-в-точь похожа на настоящую, спаренная и стянутая в двух местах суровыми нитками, дно и палуба! А на палубе все что полагается — от руля и до кают, над каютами поперек перила, мачта. Даже уборная на корме, а на носу крохотный якорь из крючка-тройника.
— Нельзя отдавать баржу. — Гриш вертел в руках покрытый варом остов баржи, легонько барабаня пальцем. — И вверху все сохранилось, кроме снастей. Придет лето — будете играть.
Петрук захныкал:
— А мне же кроме оленя что-то нужно еще взять. Лодку и гимгу возьму, вот что… — и Петрук отложил их к оленю.
Илька закивал:
— Правильно, Петрук. Остальное бери все, даже сумочку-падко.
— Падко?! — воскликнула Февра. — Потеряла я наперсток, а он, наверно, в сумке. Вот хорошо-то что нашлось падко…
— Э-э… — начал было Петрук, но тут Февра дернула за замшевую тесемочку возле горлышка сумочки и вывалила на крыльцо все содержимое падко. И наперсток тут как тут.
— Ой! — воскликнула Февра. — Нашелся наперсток! И акани-куклы целые! Можно играть!
А акани — каких только не было! И, как у северян, разноцветные одежды с перьями и клювами уток.
— Мы тоже устроим выставку аканей-игрушек, — заявила Февра. — Ага ведь, девочки?
Подруги обрадовались.
В ограду вошел Куш-Юр и остановился перед крыльцом.
— Нечистая сила! — удивился он, видя Гриша и ребят в куче игрушек. — Я иду к тебе, Гриш, с просьбой — смастерить мне игрушку, а у тебя, наверно, уже готово! Да тут целая выставка!
— Тебе нужна игрушка?! — изумился Гриш. — Ведь Сандра еще не родила… Но пож-жалуйста! Я еще не все продал-раздал. Вот есть орел… только голова на боку… — Он, смеясь, поднял над собой орла-иера.
— Орла не нужно. — Куш-Юр с удовольствием разглядывал игрушки, и лицо его теплело. — Мне нужно для сельсовета свистульку, чтоб урезонивать кое-кого. Знаешь, как милиционер. Собираюсь съездить к оленеводам, а патронов к нагану нету. И сделать свисток не умею. Есть тут свистулька?
— Есть. — Петрук быстро нашел деревянную свистульку. Раздался тонкий пронзительный свист, хоть уши затыкай.
— Пойдет, — засмеялся Куш-Юр и забрал свистульку. — Первый раз вижу такие живые игрушки — оленя и коня. И баржу. И гимгу. И лодку. Все как настоящее… Гриш, ты великий мастер! — восхищался Куш-Юр. — Это же нужное для жизни рукоделие…
— Да ну уж, — засмущался Гриш. — Просто игра для души… Когда маленько возвращается детство.
— Это не детство возвращается, — задумчиво, будто погружаясь в себя, ответил Куш-Юр. — Это пробуждается красота…
3
Было солнечно, пригревало — начался апрель. Школа стояла наискосок, метрах в двухстах, возле самой горы, над Обью. Говорили, что хозяин этого дома не успел достроить его и скончался перед Октябрем. А сам он жил во втором трехкомнатном доме с мансардой, обшитом тесом, со ставнями в нижнем этаже. Новая власть достроила новый дом и сдала под школу…
Федюнька и Венька, сосед, подвезли Ильку к школе на нарточке и остановились.
— Окон-то сколь! — Илька начал считать их, получилось восемь.
В крайнем окошке Илька увидел Петрука. Он что-то сигналил, показывая рукой в другую сторону, к крыльцу.
— Наверно, зовет туда. — Венька посмотрел на Ильку. — Айдате!..
Венька и Федюнька, обойдя дом, потянули нарточки к крыльцу. Сени были высокие, длинные, с распахнутыми настежь дверями. Остановили нарточку как раз против дверей.
— Вот так школа! — Федюнька засмеялся. Он бросил веревку, поднялся по ступенькам и заглянул внутрь.
Илька и Венька молчали и переглядывались, прислушивались.
В школе было тихо. Наверное, еще не кончился урок или только начался.
— Зайдем, Венька, посмотрим? — предложил Федюнька.
Венька отрицательно покачал головой и даже отступил на шаг.
Федюнька махнул рукой и пошел внутрь, и слышно стало, как тяжело проскрипела дверь.
— Смелый — не боится, — негромко сказал Венька.
— Он маленький, да удаленький, — улыбнулся Илька.
Вдруг внутри школы зазвенел звонок. Не понимая, что это значит, Венька переглянулся с Илькой. В этот момент резко распахнулась школьная дверь, ученики выбежали на улицу. Ребята были без малиц. Все они толкались, прыгали, кричали и смеялись. И Петрук среди них в пионерском галстуке.
— Э-э, незваные гости приехали! — закричал он и швырнул снежок.
— Незваные гости! Незваные гости!.. — ринулись ребята к нарточке.
— А Федюнька где? — Петрук взял веревку и покатил нарточку.
Илька махнул на двери:
— Федюнька там… — И чуть не упал, потому что нарточка помчалась вперед с такой быстротой и легкостью — только держись. А Венька остался, не зная, что делать — идти ли за ребятами или дожидаться Федюньки.
Ребята с шумом, гамом принялись катать Ильку вокруг школы. На повороте нарточка перевернулась. Илька отлетел кувырком в снег, а костыли разлетелись в разные стороны.
— Фу-ты ну-ты! — выругался Петрук, падая.
Остальные вопили дурными голосами, хохотали, переворачивали обратно нарточку и подбирали костыли.
— Бешеные!.. — Илька, сидя в сугробе, стряхивал снег с себя. — Я не просил катать меня…
— Ничего! — Петрук подтащил к нему нарточку. — Садись!..
— А второй костыль где? — спросил Илька.
А второй был уже далеко — на нем ковылял, согнувшись и кривляясь, рослый длинный ученик. Вокруг него хохотала толпа.
— Куда ты, Квайтчуня-Верзила! — крикнул Петрук и побежал вдогонку. — Отдай! Сломаешь костыль!..
Костыль действительно сломался, увязнув в сугробе.
Раздался звонок. Ребята сломя голову кинулись в школу. Петрук изо всех сил ругал Верзилу. Он быстренько принес половинки костыля, усадил Ильку на нарточку, и тут подошли Федюнька и Венька.
Илька чуть не плакал.
— Как теперь стану ходить?
— Папка, наверное, сделает. Он мастер, — тихонько и робко сказал Федюнька.
Илька вздохнул: отец сделает, но все же нехорошо сломать костыль. Вышли ненадолго из ограды, решили посмотреть школу и — нате. Верзила вздумал играть, а когда начнет Илька учиться? Тогда — беда, хоть не ходи на костылях.
— Как тут учиться? — пригорюнился Илька.
— Ничего! — откликнулся Федюнька. — А я был у Февры. Она даже посадила за парту к себе, а потом были в другом классе. Нулевой зовется. А ученики совсем маленькие, даже есть не больше меня. Там две длинные-длинные парты. А остальные короткие.
Глава 17 Делегатки
1
Мужевские зырянки чуть не посходили с ума — Великий пост, а сельсовет заставляет их собраться в Нардоме, да еще рядом с церковью! Из Обдорска приехала заведующая женотделом исполкома Канева Варвара Ивановна, и желает она поговорить с женщинами по женским вопросам. Нашла время! Наверное, нарочно — чтобы все видели при апрельском, незакатном солнце собирающихся баб. Поп-батюшка супротив делегатских собраний, так и возгласил — «дьяволица прискакала!». Канева уже несколько дней в Мужах, только еще не прибыл из стойбищ председатель Роман Иванович и фельдшер. И пока Варвара Ивановна — Вань-Варэ — ходит по избам, толкует с бабами о разных женских делах, агитирует бывать в Нардоме. Не надо подчиняться церкви, церковь — тьма, угар и дурман.
Вчера Сандра и Вань-Варэ были у Еленни. Оказывается, прибыли Куш-Юр и Ярасим. Обрадовались Варваре Ивановне и привезли из стойбища кучу новостей. Но пришли-то к Еленне не затем, чтоб сообщать новости. Пришли посмотреть, как Елення живет при партийце-муже, висят ли в доме, как прежде, иконы, учатся ли дети, здоровы ли, согласна ли она быть делегаткой. Завтра вечером будет собрание всех мужевских женщин, надо прийти. И Вань-Варэ рассказывала, кто такие делегатки.
Когда гости ушли, Илька стал проситься, чтоб пойти с матерью в Нардом, где он ни разу не был.
Нардом оказался закрытым, но в окне виднелись люди.
— Опоздали, — сокрушалась Елення. — Задержались с хозяйством.
Илька захныкал. Но тут распахнулась дверь.
— Пожалуйста, — пригласила женщина в русской одежде, но чисто по-зырянски. Елення узнала Вань-Варэ. — Только хотела открывать. Проходите — вы первые.
Елення помогла Ильке встать на костыли, а нарточку подсунула под крыльцо, чтоб не трогали ребятишки.
Илька в Нардоме в первый раз и жадно смотрел кругом. Высокий потолок, стены украшены кумачом, плакатами, мягкими пихтовыми лапами.
Народ помаленьку прибавлялся. Вон у Сеньки Германца пришла одна жена — Ичмонь-Верка и привела с собой Зиновея и Миновея, а Парасся почему-то не пришла.
«Зоб у нее, — подумал Илька. — Стесняется, наверно. А куда подевалась Канева? — размышлял Илька и искал ее глазами. — Обманщица! Обещала показать картинки. Может, ушла в двухстворчатую дверь?»
И точно, вскоре дверь открылась, с кучей бумаг появилась Канева. За нею, тоже в русской одежде, учительница школы Любовь Даниловна, жена Вечки, потом Сандра, а вслед Куш-Юр. Сандра добралась до Еленни, а Канева, Любовь Даниловна и Куш-Юр вышли на сцену.
Белокурая, стройная Любовь Даниловна, быстроглазая и голосистая, еще в прошлом году вслед за мужем Вечкой вступила в партию. Она и открыла собрание-сходку женщин села. Правда, пришли не все, побоялись, видно, — рядом церковь, однако собрался полный зал. Любовь Даниловна чистым голосом, разделяя слова, сказала:
— Для ведения собрания необходимо выбрать президиум, — и пояснила, что такое президиум.
В зале стали смотреть друг на друга.
— Еленню! Выбрать жену Варов-Гриша, — подала голос Сандра и смущенно подтолкнула подругу.
— Ой, беда-беда! — встрепенулась Елення. — Ты сдурела, что ли? Я сроду не бывала начальницей!
Зал заволновался, прозвенел женским легким смехом. И сквозь шорохи, приглушенный шепоток и говорок различались голоса:
— Мы тоже не бывали!.. Кому-то надобно сидеть!.. Ты ведь жена партийца!.. Правильно!..
А Илька не понимал — радоваться ему или плакать. Но рядом смеялись глаза Сандры, на сцене улыбалась Вань-Варэ, и Илька успокоился.
Избрали Еленню и еще маленькую, чернявую, подвижную, как мышка, женщину.
Варвара Ивановна горячо и понятно заговорила по-зырянски о прежнем бесправии, забитости, темноте, суевериях, болезнях, о пьянстве мужиков, о драках, незаслуженных побоях и ругани. Но Ильке это было непонятно, он сразу же, как только мать и тетка взошли на сцену, стал следить за ними. Почему Елення не взяла его с собой на возвышение?
— Я пойду туда, — дрожащим от волнения голосом шепнул Илька Сандре.
— Куда «туда»?
— К маме.
— Нельзя, что ты… Президиум ведь…
Но Илька все-таки заковылял на костылях.
— Царь и богатеи нарочно держали народы в темноте, они боялись прозрения. Нам надо учиться! — Варвара Ивановна говорила проникновенно и просто. — Есть такая книга: «Долой неграмотность». Вот она, видите? Она напечатана всего на четырех страницах. Уж несколько лет назад она попала к нам, на Север. «Мы — не рабы» — это азбука для свободных людей. По этой книжке в Мужах отдельные взрослые уже пробуют учиться. Но книжек мало — всего несколько штук. Тот, кто научится читать и писать, должен научить другого, грамотные дети — безграмотных родителей. Книг мало, и надо собираться в Нардоме и учиться сообща, коллективно.
— У меня есть — я тоже учу. Самостоятельно! — сказал Илька, дойдя до сцены.
— Ой, — вскрикнула Елення. — Ты почему здесь?
— К тебе иду, мамэ! — серьезно, по-взрослому ответил Илька и упрямо шагнул.
Все засмеялись.
— Нельзя, маленький, нельзя мешать нам, — остановила его Канева. — Иди-ка туда лучше, в сельсовет. Там есть картинки.
— Правильно! — Куш-Юр встал и спустился со сцены. — Ну-ка, Иля, пошли со мной. И все ребятишки, — крикнул он в зал. — У меня есть картинки…
Все ребята, что жались к матерям, отлепились от них и потянулись в сельсовет смотреть картинки.
А Канева от грамоты незаметно и деловито перешла к медицине и гигиене.
— Как раз идет фельдшер, — кивнула Варвара Ивановна на дверь. — Он объяснит лучше меня, а я покажу снимки, которые прислал вам врач из Обдорска. Пожалуйста, Ярасим…
Фельдшер снял пыжиковый треух, но остался в пальто, поднялся на сцену со своей лекарской баулкой. Он долго и старательно рассказывал о различных болезнях, о том, чего надо особенно остерегаться, о чистоте и опрятности, и от его голоса, к которому еще не привыкли, болезни казались страшнее, а Канева, спустясь со сцены в зал, показывала картинки женщинам.
Это была первая лекция о гигиене, о здоровье. Она касалась всех.
Потом заговорили о делегатках. Делегатками, по словам Вань-Варэ, могут быть самые уважаемые в селе женщины, передовые люди, трудящиеся, у кого муж не пьяница и дети учатся хорошо. И дома все ладно.
— Каждой делегатке, — сказала Канева, — выдадут кумачовую косынку, чтоб всегда отличалась от других.
— Кумач на голову? — зашумел зал. — Мы же не остяки! Как на баба-юр надеть-то?
— Ой, беда-беда! — смеялись другие. — Вот так невидаль!
Но в конце концов все же согласились с Каневой — кумач беречь для всенародного признания, как частицу нашего знамени.
2
Одиннадцатый час. Солнце скрылось за увалами, но небо не темнело. Илька сидел на нарточке, а Елення и Малань тянули ее, не поворачиваясь, и оживленно обсуждали сходку. Илька держал в руках подарок Куш-Юра — журналы «Крокодил» и «Безбожник».
Малань говорила, смеясь:
— Интересно-то как в Нардоме! Я ведь в первый раз.
— Не в Нардоме, а в избе-читальне, так Канева велела называть, — поправила Елення. — В ней будем брать книги и станем учиться читать-писать.
— Завтра непременно пойду на представление, — возбужденно говорила Малань. — Ты тоже пойдешь?
— Приходится, коли выбрали делегаткой! — Елення, улыбаясь, посмотрела на Малань.
— Мамэ, тебя опять кем-то выбрали? — подал голос Илька.
— Делегаткой! — ответила Елення. — И меня, и Сандру, и других, тридцать человек всего.
— А что такое «делегатка»? — удивился Илька новому странному слову.
— Ну… расскажу потом, — замялась с ответом Елення. — Мы еще не получили кумачовые платочки! Делегатки те, у кого на голове кумачовые платочки. Вот привязались, дьяволицы, чтоб избрать. У тебя, говорят, муж партиец и икон в горнице нету. Избрали, еще одна мне забота.
— Значит, завтра пойдем на представление? — допытывалась Малань.
— Не представление, а художественное обслуживание, — опять уточнила Елення. — Будут песни, будут пляски и лицедейство. Хотели сегодня, но поздно.
— Хорошо, что завтра. — Илька прижал к груди журналы. — Сегодня некогда — буду читать.
3
На следующий день с утра Куш-Юр решил помочь женщинам быстренько вымыть полы. Куш-Юр оберегал Сандру, да и Марпа часто жалуется на сердце. Он надел старые калоши, засучил по локоть рукава, вооружился ведром с теплой водой, взял тряпку и пошел шуровать. Вымыл пол в своей комнатке, в прихожей и решил вымыть на кухне. За небольшим столиком на полу у стены стояли стекла. Куш-Юр их не видел, провел рукой изо всей силы, чтобы везде было чисто, и так задел стекла, что они звякнули и раскололись. Правую руку Куш-Юра словно обожгло.
— Что такое?! — Куш-Юр заглянул вниз, за столик, прижимая пальцы. — Да тут стекла стоят с лета, запылились… — Он посмотрел на пальцы, с них стекала кровь. — Вот наделал я дел!..
Услышав Куш-Юра, прибежали обе женщины, увидели кровь и переполошились.
— Ой, беда-беда!.. Порезался!..
— Стеклами, нечистая сила!.. — Куш-Юр наклонялся над ведром, куда тяжело капала густая кровь. — Да тут не порезал — почти совсем чикнул три пальца на концах! Висят на волоске… Йоду скорее!..
Женщины, ойкая, кинулись искать йод или ватку, но ничего не было в избе.
— Ярасима надо вызвать! Еще заражение будет! — Сандра заплакала.
— Это я виновата! Оставила стекла ненужные! — тужила Марпа. — Бегу за лекарем…
— Не надо! Я сам пойду… — Куш-Юр, морщась, пытался прилепить почти отрезанные кончики пальцев. — Давай скорее что-нибудь забинтовать руку. И одеться помоги…
Куш-Юр задержался у Ярасима. Никак не переставала идти кровь, хотя фельдшер истратил целый флакончик. Наконец утихомирил, забинтовал марлей — сперва отдельно каждый палец, а потом все три вместе. Свободными остались большой палец и мизинец.
— Я приду, проверю, как срослось, — пообещал Ярасим и дал немного йоду. — Да… Тут перед тобой заходил Йогор-Вань. Благодарил за жену, здорова теперь. Выпивший опять — Кэсэй-Дуня, что ли, угостила.
— Йогор-Вань? Вот пьяница!..
Ночью у Куш-Юра начала пухнуть поврежденная рука — колет три пальца, хоть плачь. Встал и начал баюкать руку, держа на весу.
— Ой, беда-беда! Пухнет, что ль? — заворочалась на постели Сандра.
— Ты спи…
Сон ушел от Куш-Юра, оставалась ноющая, тягучая боль и невеселые мысли.
«Не пришли вчера Озыр-Митька и Квайтчуня-Эська, — размышлял он. — Ждал целый день. Снова обманули. Ну Митька понятно — траур по брату-оленеводу. А Эська-то?..»
А Озыр-Митька и Квайтчуня-Эська и потом не были в сельсовете. У Куш-Юра настроение вовсе испортилось, и у Ярасима тоже. Фельдшер ругался, что не уберег Роман Иванович пальцы. Теперь могут ампутировать самое меньшее три пальца, а для этого придется ехать в Обдорск по распутице.
В этот день, в субботу, Куш-Юр оставил за себя Писарь-Филя, ушел домой с невеселыми думами — надо ехать в Обдорск. Но дома его встретила новость — у Сандры начались роды. Не успела Сандра дойти до Гришиной бани или позвать Ярасима. Куш-Юр был изгнан из комнаты Марпой, от которой получил приказ — приготовить теплую воду из самовара.
— Ба-а! Сашенька рожает! Сашенька, делегатка моя! — обрадовался безмерно Куш-Юр. — А кого — сына или дочь? Рыбак или ягодница? — Он метался возле закрытой двери и отчетливо слышал стоны Сандры. — Чем же помочь?!
— О-о… — стонала Сандра.
Наконец Марпа облегченно выдохнула:
— Сын! Большой! Весь в Романа!
Куш-Юр услышал тоненький скулящий голосок.
— Сын! Сын! — запрыгал Куш-Юр.
— Неси воды! — позвала Марпа. — Скорей!..
Куш-Юр ринулся на кухню, налил из самовара дымящуюся воду в таз, развел холодной и понес.
С того дня у Куш-Юра почему-то улучшилась поврежденная рука. Удивительно легко себя почувствовал, а через неделю совсем выздоровел. Радость его исцелила. Только заметно, что кончики пальцев белесые и приклеены немного косо.
— Ну, как новорожденный? — спросил Ярасим, заглядывая к Сандре. — Выбрали ему имя?
— Выбрали наконец-то. Сегодня регистрировал в сельсовете — Ким, Коммунистический Интернационал Молодежи. Совсем новое для Севера имя. — Куш-Юр наклонился к сыну.
— Верно. Лучше не придумаешь — Ким, а не Клим, — поддакнула Сандра и чмокнула сына в пухленькую щечку. — Весь в папку!
— Точно. Ким. Коммунистический Интернационал Молодежи. Пусть завидуют все, — широко улыбался Ярасим.
4
Озыр-Митька и Квайтчуня-Эська залетели-таки в сельсовет и долго пробыли на приеме у Куш-Юра. Председатель требовал от них оказать помощь Сеньке Германцу — негде спать в лачужке, надо потесниться многокомнатным богатеям.
Но они подняли такой гвалт, что затыкай уши.
— Не для них, грязнуль-голодранцев, построены наши дома! — орал бабьим голосом Митька.
А Эська, мужик поумнее и повыдержаннее, резонно рассуждал:
— Пусть притесняются другие, тоже не бедняки! Например, у джагалко, покойного Иуда-Пашки, тоже немалый дом…
— Гм! — хмыкнул Куш-Юр. — Это, пожалуй, верно. Даже будет удобнее: близко от хибарки и от стайки-конюшни.
Куш-Юр зашел попутно к Арсеню, старшему сыну хозяйки, поговорил с ними насчет Сеньки Германца или Гаддя-Парасси. Хозяйка ничего не сказала, только прослезилась.
— Пускай решает Арсень, — только и прошептала она, всхлипывая.
Подошел Арсений ближе и сказал председателю:
— Никто не пойдет к нам! Староверы были мы… вераса.
Вечером Куш-Юр сообщил Сандре, что нашел квартиру для Парасси или Сеньки. Только надо завтра сходить и предупредить Германца.
— У Арсени? Это у джагалко-то? — Сандра кормила грудью ребенка. — Хотя… Семья-то ни при чем? Германец согласится. А вот Парассю-то не надо и близко пускать!
— А ты злопамятная, Сашенька. — Куш-Юр убирал посуду после ужина. — Нельзя так! Не следует тебе сердиться на Парассю. Ты сейчас делегатка, агитируй ее в светлую сторону. Помогай советом отлучать людей от церкви. — Куш-Юр ласково погладил темные волосы Сандры.
— Ты правильно заметил, Рома, — Сандра посмотрела на него любящими глазами. — Я делегатка и буду подсоблять тебе. Хорошо, что Парасся Мишку увела от меня. А я стану наоборот приманивать ее к себе. Завтра же пойду к Парассе. Я еще не видела, как Германец живет. И сыночка возьму с собой — к Ярасиму на прием.
В семь часов утра Сандра и Куш-Юр с Кимом на руках зашли к Сеньке во двор. Сенька, без малицы, колол дрова, а Пеганка дремала у стайки.
— Привет Семену да Мартыновичу! — громко поздоровался председатель.
Сенька опустил колун, заморгал глазами.
— О, пледседатель и Сандла! Вуся! — заулыбался, залепетал Германец, шурша бахилами о грязный снег. — Нянчитесь? А у меня кавалдак — не дай Бог. Как звать-то мужика?
— Ким! — хором ответили Куш-Юр и Сандра.
— Лазве бывает такое имя? — хмыкнул Сенька. — Клим, навелно?
— Нет, Ким — Коммунистический Интернационал Молодежи. Новое имя. — Куш-Юр чуть открыл край тонкого одеяла над лицом сынишки и улыбнулся.
— Слыхал? Вот как… — Сандра сияла.
Председатель сказал:
— Мы принесли тебе радостную весть — нашел вам квартиру…
— Да-а?!. Я сейчас, только занесу… — Сенька схватил охапку дров и побежал в избушку.
— Может, я зайду? Посмотрю на Сенькино житье-бытье сперва? — Сандра вопросительно взглянула на мужа.
— Подожди, вот смотри на Пеганку, — отвечал муж. — Семену удобно будет квартировать у Арсени — конь близко.
Долго не было Германца. Наконец дверь распахнулась, вышел Семен с малицей в руках. Следом за ним Ичмонь с шалью на голове, в сарафане, кисах, Анка, тоже в стираном сарафане и старых больших калошах, а Парасся выглядывала из-за приоткрытой двери.
— Ким, Ким где? — лепетал Сенька, улыбаясь и обращаясь к Ивановым. — Новое имя — Ким? Показывайте!..
— Нельзя, маленький еще. Нашел квартиру — вон, рядом, у Арсени. И скотина близко.
— У Алсени? Неужто впустит жить? — Сенька вышел из ограды и всмотрелся в дом Иуда-Пашки. — Холошо жить в этом доме!
Но Ичмонь-Верка заойкала:
— Джагалко жил там! Боюсь, не хочу! И ты, Семен, не смей! Нет и нет!..
Гаддя-Парасся, выйдя в сени в меховых туфлях и закрыв дверь, пожаловалась председателю:
— Житья не стало из-за ребятишек, лешак возьми! Я бы пошла со своей оравой куда-нибудь. Даже к джагалке в дом. Помоги же наконец, Роман Иванович… — Она заплакала.
Сандра обрадовалась:
— Правильно, не надо бояться…
— Тебя не спрашивают… — Парасся сердито повернулась к Сандре. — Люби своего… как его… Кима и не суйся…
— Ну почему же. — Куш-Юр сделал шаг ближе к Парассе. — Она хочет помочь. Хватит, думаю дуться друг на дружку. Нельзя так жить…
— Нельзя, хоть и не была у вас ни разу. — Сандра приблизилась к женщинам. — Зайдемте, посмотрим…
— Во-во, а я тут побуду с Кимом, — сказал Куш-Юр.
Жены Германца поморщились, но ничего не ответили и зашли в избушку. И Сандра за ними.
Рев трех младенцев и шум-возня остальных ребят чуть не оглушили Сандру.
— Тесно у вас, как в норе. — Сандра, оглядываясь, стояла у входа. — Надо разгрузиться вам…
— Только я не пойду к джагалке, нет-нет! — Верка взяла дочку и села на скамью. — И Сеньку не пущу уходить…
— А мне с оравой придется… — Парасся опустилась на кровать.
Сандра сменила разговор:
— Между нами отныне мир! Пусть растут наши дети здоровыми. Зину и Мину я знаю, только путаю. А как звать новых?
— У меня дочурка без имени, и у ней тоже, — заговорила Верка. — Все собираемся крестить, да Сеньке некогда и крестных нету…
— Имена найдет Роман Иванович, — предложила Сандра. — И в церковь не надо ходить. Не-ет!
— Хорошо! — послышался голос Ичмони. — Сам Роман придумает имя для девочек.
— Правильно, я делегатка. И вы, женщины, будете делегатками, — сказала Сандра. — Ей-ей! Ну, я пошла. В норе живете — надо разгрузиться… — повторила она слова Куш-Юра.
Но не вышло дело с Арсением. Вся семья наотрез отказалась впустить на квартиру Гаддю-Парассю — детей у ней много, все равно будут ходить дочери к ней. И Сеньку Германца с Ичмонь-Веркой не надо — ленивые и неряхи. Да и Верка к тому же боится джагалки…
— Что же делать, нечистая сила! — выйдя от Арсени, тужил Куш-Юр на улице. Он все еще держал Кима на руках.
— Ничего! Добьемся все равно — найдем квартиру Парассе. — Сандра шагала позади него, придерживая подол длинной малицы, чтоб не запачкать раскисшим снегом. — Я же помощница тебе отныне…
— Стоп! Микиткина избушка-то стоит с заколоченными окошками. — Куш-Юр остановился, показал рукой направо от сельсовета. — Смотри! Значит, он выехал с семьей в Васяхово. Ночью, видать, а меня не предупредил. Микитка давно собирался переселиться туда.
— Точно! — засияла Сандра.
В этот же день Парасся с гурьбой ребятишек перешла на новую квартиру — чуть-чуть больше Сенькиной, в три окошка. И недалеко — со скотиной удобно.
— Лучше не надо пока! — плакала от радости Парасся. — Спасибо Роману Ивановичу и Сандре! Вовек не забуду…
Вечером, дома уже, Куш-Юр сообщил Сандре и Марпе с Евдоком, что всех младенцев у Парасси и Верки он зарегистрировал, только не новыми именами. Клим, Люба и Люда назвал. И не надо ходить в церковь.
— А Ким, Коммунистический Интернационал Молодежи, пусть тоже растет счастливым, крепким! — Роман Иванович, смеясь, взял сына из рук матери и высоко поднял над собой.
Глава 18 Багульник
1
Прошла весна. Был теплый день. Иногда облака грудились, заслоняли солнце, и тогда по земле скользили легкие тени. На старом кладбище появилась свежая невысокая, но густая зелень. Только отдельные травинки торчали длинными усами и покачивали белыми пушинками.
Самым ближним к избе Кузь-Матрены был похоронен Як-Петул, муж старухи Анн, отец Петул-Вася, Гриша и Пранэ. Як-Петул скончался из-за грыжи в пятьдесят четыре года и был похоронен одним из самых последних на этом кладбище лет семнадцать назад. Многие могилы не сохранились, но эта еще имела покосившийся крест, и Анн в воскресенье пришла сюда молиться. Потом с Кузь-Матреной вместе пошли на другое, новое кладбище через все село.
Крестясь и тихо плача, они обошли знакомые могилы. Старуха Анн над могилой Лизы вспомнила Ильку. Наверное, внук уже забыл ее. Вглядываясь в зеленые кусты, она нарвала багульник с мелкими белыми цветочками — показать букетик внуку. Пусть он вспомнит Лизу.
Немного побыв, старухи направились домой.
Вдруг Кузь-Матрена остановилась, приложила руку козырьком к глазам, стала смотреть куда-то далеко на Обь.
— На горе-то, подруженька, к реке, строится большой дом. — Кузь-Матрена показала посохом. — Говорят, будет югыд-би…
— Где? — старуха Анн, страдая глазами, долго всматривалась. — А-а, вижу, строится дом. Мои сыновья тоже мастерят там. Будет югыд-би…
— А это что такое?.. Ой-ей-ей!.. — Кузь-Матрена смотрела вверх. — Мачта!.. Вы-со-кая!.. Выше колокольни!..
Но старуха Анн, сколько ни старалась, не видела мачту.
— Совсем стала слепая. Охо-хо! Вот бы посмотреть, на том свете хоть расскажем — видели мачту до неба…
— Сходим, посмотрим поближе, — сказала Кузь-Матрена и пошла наискосок, меся бахилами грязь.
Старуха Анн, смеясь в душе, только покачала головой и двинулась за Длинной Матреной.
2
Будилов в воскресенье пошел на стройку. Надо еще раз подумать, оценить — где и что использовать из запаса строительного материала. Радиомачту, можно сказать, построили. Осталось зацементировать площадку, но цемента нет еще и не будет до баржи. Сложили каменную моторку, маленький домик, но покрыть крышу не хватило листового железа. И здание под почту и телеграф тоже не готово — нет стекол. И еще следует поставить столбы по всему селу, протянуть провода, освоить оборудование. Хватит дел, считай, на весь год! Хоть бы успеть к десятилетию Октября. Нужно торопиться, на лето осталось мало людей — все на рыбном промысле, кроме Варов-Гриша, Сеньки Германца и еще кое-кого. Днем они помогают Будилову, а вечером рыбачат недалеко.
Будилов, грузный и широкий, в расстегнутой белой косоворотке, в сапогах, без кепки, задрав голову, смотрел вверх. Любовался радиомачтой, кажущейся хореем на тридцатипятиметровой высоте. Она будто падала на него с высоты, задевая облака. Он смотрел и улыбался.
Между каменной моторкой и неоконченной почтой возникли Кузь-Матрена и Анн, запыхались, запалились на подъеме, увидели чужого человека и остановились — боязно сослепу. А тот услыхал вздохи старух, оглянулся и шагнул навстречу.
— Вы что, мамаши? Хотите посмотреть, как мы строим? — пробасил Будилов. — Во-от мы какую радиомачту сварганили — выше колокольни!..
— Выше!.. Ой выше! — Кузь-Матрена услышала громкий голос и ответила по-русски: — Сичас посмотрим…
— Югыд-би… — сказала по-зырянски Анн. — Я не вижу далеко, потому и пришла ближе…
Однако Будилов понял ее.
— Вы туда, туда идите, где я стоял, — он готов был подталкивать робко идущих старух. — Во-он видите вверху? Тоненький, будто хорей, а ведь целое бревно в натуре…
Старухи задрали головы вверх, молча смотрели с минуту и вдруг заорали-завопили!
— О-о-ой!.. Па-адает!.. — И кинулись бежать в разные стороны. Кузь-Матрена, бросив посох, неслась аршинными шагами, будто и век не пользовалась палкой.
— Куда, мамаши?!. — Будилов не знал, за кем бежать. — Не бойтесь! Не упадет мачта!..
Но старухи были далеко внизу. Они все бежали и бежали по кочкам, по грязи, устали наконец и остановились, тяжело дыша.
«Испугал я старушек — одна даже кинула посох. Черт дернул меня сказать, чтоб смотрели на конец мачты», — подумал Будилов.
— Вот посох-то жалко, — заговорила Кузь-Матрена чуть не плача. — Не знала и век не хочу знать, как делают югыд-би али это… как его… радиво… Без них проживу…
Анн вздохнула и заметила в руке цветущий багульник, почти совсем несмятый, в нежных цветах.
— Но багульник-то сохранила я… Охо-хо!.. — И, остерегаясь, обходя лужи, пошла к ближней завалинке, чтоб отдохнуть.
Кузь-Матрена, ворча, поплелась за ней, но увидела тын-изгородь и выдернула из него палку. Испытав посох, заулыбалась:
— Этот даже лучше…
— И багульник сохранен у меня… Еще целый, смотри… Но сильно нюхать нельзя… голова болит…
— Ничего. Пусть поболит сладко, как в молодости. Эх, девка! — засмеялась Кузь-Матрена, и они попеременно склонялись к багульнику, будто в первый раз видели его.
А ребята в это время, подражая взрослым, тоже строили во дворе радиомачту. Шуму было — не разбери-поймешь! Руководил стройкой Петрук, а Илька смотрел со стороны и подсказывал:
— Не так, не так! Криво ставите мачту! Упадет — окно разобьет!..
Мачта была собрана из трех частей: внизу — оглобля, повыше — старый, обломанный хорей и еще выше — удилище. Делали как настоящую, как видели на стройке. Петрук, оставив ребят держать мачту, отошел в сторону посмотреть.
— Верно, криво стоит! Илька прав. Надо прямо. — Он взялся отпускать одну из трех веревок-растяжек.
— Охо-хо… — В калитке появилась бабушка Анн и остановилась. — Батюшки-и!.. Что вы делаете! И здесь мачта! Ой, беда-беда! — Она отошла немного назад, оставив раскрытой калитку.
— Иди, бабуня, не бойся! — Петрук придерживал мачту. — Проскочи под веревками!
— Нет, нет… — твердила старуха. — И разобьете окна, если упадет…
— Не разобьем, — смеялся Петрук, ослабляя веревку. — Будет как штык стоять!..
— Будет югыд-би! — вторили ребята.
Илька подправил:
— Радио!..
— Р-радиво!.. — закричал Федюнька.
— Ой, беда-беда!.. — взволновалась опять бабушка Анн, не зная, что делать. Кинулась вперед, горбясь и переваливаясь с боку на бок, и быстро проскочила под веревками. Оглянулась, вздохнула облегченно и подошла к Ильке…
Илька обрадовался:
— Бабушка пришла!.. Бабушка с багульником…
— Пришла… — облегченно вздохнула старуха и опустилась рядом с внуком.
Она поведала, как была на старом кладбище, на могиле деда, а потом вместе с Кузь-Матреной пошли на новое кладбище и их дернуло посмотреть, где делают югыд-би, и что из того вышло.
— А пришла сюда — то же самое, тоже делаете югыд-би… — жаловалась бабушка.
— Правда, бабуня, большая мачта падала на вас?
— Истинно! Вот те крест!.. — Старуха перекрестилась.
Петрук загоготал:
— Брехня! Вон стоит большая мачта! Я вижу отсюда. Никогда не упадет. Это только кажется, если смотреть снизу на самый верхний кончик, а вверху бегут облака. Вот установим нашу мачту — тоже будет падать.
— Ой, надо удирать!.. — Старуха Анн, пыхтя, встала с места и повернулась к Ильке. — На, бери багульник. Только не нюхайте — голова заболит. Лиза тебе прислала с кладбища. Али ты стал забывать ее?
— Не-ет, — рассеянно ответил Илька, беря багульник с белыми пахнущими цветочками.
Ребята, смеясь, понюхали багульник и отошли к мачте, а Илька задумался — вспомнил Лизу.
«Вот была бы Лиза живая, она бы первая увидела, как я сам добыл ерша, — размышлял Илька. — Сам. Удочкой. Весной еще. Вот радость-то была у меня! Сразу пошел домой — похвастаться. И про Лизу не вспомнил. А про нее ведь нельзя забывать — она первая показала мне дорогу к реке…» — И Илька тяжело вздохнул, согревая в руках багульник.
Глава 19 Самодельный букварь
1
Сторожиха Силовна была незамужней и жила при школе с детьми, имела корову. Силовна на селе слыла доброй женщиной. Среднего роста, плотная, спокойная и какая-то мягкая с людьми. Она не ссорилась с учениками, хотя они порою и досаждали ей.
Гриш и Елення присмотрели Силовну в помощники себе, готовясь к Илькиному поступлению в школу. Ильку надо раздеть в школе — снять с него малицу, куда-то верно положить, чтоб потом не искать. Обледенелые костыли прибрать зимой, да мало ли чего не понадобится при положении Ильки.
Якова Владимировича, своего первого учителя, видел случайно Илька летом — Илька удил с лодки, а тот проезжал на калданке мимо.
— Здравствуйте, Яков Владимирович! — Петрук удил с соседней лодки щуругаев — мелких щучек.
— Привет, — коротко ответил тот, работая двумя веслами.
А Илька ничего не сказал, но подумал: «Вот ты какой, Яков Владимирович! Темно-русый, волосы курчавые. По лицу — чистый зырянин…»
Осень стояла ясная, золотая, в звонких морозных утренниках. Река — как зеркало, манит к себе ребятишек, не отдерешь их от берега. Но вот настал наконец день поступления Ильки в школу. Первый раз учиться Илька пришел в сопровождении Еленни и шестилетнего Федюньки. Елення нарочно не поехала за сеном с мужем и Феврой — надо устроить Ильку. Ведь первый раз в школу!
Елення раздела сына, еще раз обговорила с Силовной — что и как помочь ему в раздевалке. Какой-то девичий, молодой румянец полыхал на ее щеках, и казалась она такой молодой, какой Иля никогда ее не знал — ведь сейчас она была им, Илькой, а может быть, еще трепетней и застенчивей, чем он. Здесь были и другие взрослые, которые привели ребятишек учиться. Но они казались спокойнее, чем Елення, не звенел в них страх. Все уставились на Ильку, робко переступающего на костылях. Наконец они выбрали свободное место за партой спереди и расположились как сумели.
— Ты, Иля, не обращай на них внимания, — жарко шепнула Елення. — Поглазеют и перестанут.
Звонко рассыпался медный колокольчик.
Шел от двери, уверенно поскрипывая ботинками, пожилой, в очках, стройный мужчина. Он был с бородкой и нос горбатый. За ним следовал знакомый Яков Владимирович с портфелем. Остановились возле учительского стола и стула напротив школьной доски.
— Встать! — сказали оба.
Все стали смотреть друг на дружку, не разумея, зачем. И Илька с Федюнькой тоже, а Елення и другие взрослые, уже приводившие на запись ребятишек, поднялись.
— Вуся! — добавил Яков Владимирович по-зырянски, кладя на стол портфель, и продолжил по-своему: — Учителей приветствуют стоя. Так принято…
— Вуся!.. — последовал недружный ответ, и встала только половина — некоторые из-за тесноты не могли шевельнуться, а Илька не успел достать костыли, которые были у него сзади.
— Помните, когда в класс входит учитель, все встают. Все!.. Садитесь!.. — Голос у очкастого был каким-то отрывистым, но четким и властным. — Зовут меня Сергей Сергеевич Сергеев, ваш заведующий школой. Сюда послали меня по мандату из Обдорска. Прошу любить и жаловать… — При последних словах Сергей Сергеевич тронул с улыбкой свою седеющую бородку и заметил сквозь очки близко сидящего Ильку, смотрящего на него во все глазенки. — Да у вас, Яков Владимирович, будет учиться инвалид? Вон костыли вижу.
— Да.
Илька нахмурился, вспомнил: вчера Петрук долбил — приехали, мол, из Обдорска учителя, муж и жена. Он будет заведующим школой взамен уехавшего по болезни нынче весной на юг Ивана Иваныча. Наверное, злой, линейкой начнет хлестать провинившихся учеников…
— Запишитесь, ребятки, в нулевой класс, а вскоре проведем общее собрание и начнем новый учебный год. — Очкастый говорил чуть басовито и отрывисто. — Познакомьтесь попутно с учительницами — Елизаветой Даниловной, моей супругой, и Любовью Даниловной. Объясните, Яков Владимирович, по-своему, по-зырянски, о порядках школы. Обязательно! Ну, до свидания! — Он попрощался с ребятишками и взрослыми и покинул класс.
Те опять ответили вразнобой, кто вставая, а кто нет.
Учитель начал говорить по-зырянски о порядках школы, сообщал долго, а потом стал знакомиться с ребятами. Дошла очередь Ильки.
— Первым делом посмотрим, как ты читаешь. — Яков Владимирович достал из портфеля букварь и положил перед Илькой.
Илька взглянул и сразу угадал по рисунку — знакомый букварь. Петрук и Февра учились по такому грамоте и учили Ильку. Он посмотрел на мать, та ободряюще улыбнулась, и он начал читать, немного спотыкаясь и заглатывая слова. Учитель переменил страницу, потом еще и еще и сказал:
— Достаточно, Иля. Перейдем к письму. — Яков Владимирович принес и положил перед Илькой листок бумаги и карандаш. — Можешь писать?
— Могу, — тихо прошептал Илька, пятерней взял карандаш и, поерзав на парте, приготовился писать.
— Пиши — Ми-ша.
— Но меня ведь зовут Иля.
— Ну, тогда пиши — Иля, — улыбнулся учитель.
Мальчик старательно написал и поставил точку.
— Хорошо! — сказал Яков Владимирович. — А теперь напиши — Ми-ша!
Илька написал, даже ровнее и лучше. И опять его похвалил учитель.
Елення радостно сообщила:
— Он ведь может писать целые строчки. И все понимает по-русски. Вот только говорить стесняется.
— Очень хорошо! — одобрительно сказал учитель и сел за свой стол. — Куда же тебя, Иля, записать? По всему ты подходишь в первый класс. Но слова по-русски боишься переводить. А у нас учебники только по-русски. Что же делать?
Илька хотел сказать, что ему охота учиться в нулевом классе, но его опередила мать.
— Ильке надо учиться в нулевом классе. Пусть привыкает к ребятам — он ведь мало их видел. А то, что читает и пишет, — ничего. К тому же Ильке будет нелегко… — И мать выложила все, даже о помощи Силовны.
— А это кто, еще сын у вас? — спросил учитель, заглядывая за спину Еленни. — Сколько ему лет?
Но Федюнька высунулся из-за матери и, тараща голубые глаза, выпалил:
— Зимой у меня была именина! Исполнилось ровно шесть с половиной лет. Я большой! И мне надо в школу!
В классе засмеялись, а Елення ласково пояснила:
— Это — Федюнька! Верно, шесть с половиной лет ему. Только теперь, а не когда «именина была»!
— Хочешь учиться, Федюнь? — спросил Яков Владимирович то ли шутя, то ли всерьез. — Дам тебе бумаги, рисуй. Остерегай, карауль Илю. Будешь ему адъютантом. — Он повернулся к Еленне. — А, Елення? Как думаешь? Можно взять Федюнь с Илей в нулевой класс?
Елення так обрадовалась, что даже встала с места и принялась благодарить Якова Владимировича. А Федюнька от неожиданности, что принят в школу и будет остерегать Ильку, только недоуменно озирался вокруг, раскрыв рот.
2
Через несколько дней Илька и Федюнька пошли в школу. У них одна сумка, пока пустая, ее сшила из парусины Февра. Она учится во вторую смену, как и Петрук. Еленни и Гриша не было дома — уехали спозаранку за сеном на лодке.
В школе Силовна помогла Ильке раздеться, вытерла костыли от грязи и прибрала одежду.
Пришел Яков Владимирович и начал рассаживать учеников за парты. Две последние длинные парты отводились для девочек — они более послушные. Но мальчиков оказалось больше, и Яков Владимирович несколько мальчишек посадил вперемежку с девочками.
Яков Владимирович увидел Веньку, спросил его, кто он и сколько лет ему, почему раньше не учился, вздохнул и записал в тетрадь. Потом посмотрел на Федюньку, качнул головой:
— Вам втроем не тесно?
— Не-ет, — ответили они хором.
3
У Ильки с Федюнькой и Венькой был один букварь на троих. Да и остальным не хватало учебников. Но Илька не нуждался в букваре — в первый же день прочел его целиком.
Он пробовал срисовывать с него картинки. И ничего — получилось. Только бумага была неважной — обыкновенная тетрадка в косую линейку.
Вскоре учитель Яков Владимирович на уроке рисования раздал им чистые листочки, да такие — любо посмотреть. Гладкие, чуть-чуть голубоватые немного просвечивающие! Одно удовольствие!
— Вот это да-а… — Илька пришел в восторг и неожиданно вздохнул: — Мне бы такую бумагу — дома рисовать!
— Понравилось? — улыбнулся учитель. — А такая бумага целыми листами есть в лавке. Попроси отца — купит.
Илька был готов кинуться за бумагой сейчас же! Нет, лучше послать Федюньку. «Он попросит у мамы денег и побежит к дяде Васе, — промелькнуло в голове у Ильки, но вдруг раздумал: — Дядя Вась, поди, приберег такую отличную бумагу. Да и Яков Владимирович не отпустит Федюньку…»
Илька долго вертел в руках листочек, думая, что нарисовать. Потом взялся и не торопясь, по памяти воспроизвел карандашом рабочего с засученными рукавами, в переднике, с молотом в руке, кующим на наковальне железо, от которого брызгали искры. Такой рисунок, слегка выпуклый, он видел на светлой, круглой монете среди других, меньших монет, когда отец принес зарплату за стройку югыд-би.
— В-во! — восхитился Федюнька и встал на ноги, чтобы показать всему классу рисунок брата. — Смотрите, как Илька здорово нарисовал!
Все смотрели, а учитель похвалил:
— Молодец! Изобразил рабочий класс!
— Я еще не то нарисую, если будет бумага листами, — сказал Илька. — Сейчас пойдем в лавку и узнаем…
Когда кончились занятия, Илька, Федюнька и Венька сразу же кинулись к нарточке — Илька решил домой не заезжать, а прямо в мир-лавку к дяде Васе. Может, уже не застать бумаги.
— Скорей! — торопил он Веньку и Федюньку.
Ребята дотащили нарточку до мир-лавки, забежали в нее. Их долго не было, Илька нетерпеливо поджидал.
Наконец появился Венька.
— Ну как? Есть бумага? — спросил Илька.
— Э-э… — махнул Венька рукой. — Полно народу, не пробьешься. И не видно никакой бумаги. Поехали!
Илька запротестовал:
— Не поеду! Зайду сам…
Он встал на костыли и заковылял в лавку.
— Ничего не видно отсюда, — пожаловался Венька.
Илька вытягивал шею и заметил в просвете дядю Васю.
— Дядя Вась! — закричал Илька что было силы. — Бумага есть? Листами! Хорошая!..
Все оглянулись. Петул-Вась вытянул шею.
— Кто там кричит? Илька?.. Кажется, есть. Немного погоди. — Он стал отпускать товар.
— Есть есть бумага! — ликовал Илька. — Иди, Федюнька, к маме! Скажи, чтобы шла скорее сюда…
Пришла вскоре Елення. Илька поведал о бумаге, которую раздал на уроке рисования учитель. Он же надоумил обратиться к Петул-Васю.
— Погоди, мамэ, покупать кастрюлю, — не терпелось Ильке. — Бумагу надо сперва, бумагу!..
Бумага оказалась в другом отделе, и Петул-Вась отпустил Еленне кастрюлю и чайную чашку, а потом сходил за бумагой.
— Вот такие листы, гладкие, чуточку просвечивают. — Петул-Вась положил несколько листов перед Илькой. — Годится?
— Еще бы! — Илька опять понюхал и зажмурился. — Ах какие листы!
Елення, щупая бумагу, тоже похвалила.
Вечером Гриш увидел дома бумагу, свернутую в рулоны.
— О, какая гладкая скользкая бумага! — Гриш щупал листы.
Февра улыбнулась:
— Теперь намалюешь что-нибудь…
— А что? Нарисую обязательно. Надо только подумать хорошенько.
Потом все вышли куда-то, а Илька, развернув бумажный лист, начал размышлять:
«Что же делать? Что же делать? Хочется мне ой как рисовать. Надо сперва отрезать кусок».
Он заковылял к столику, взял ножницы и вернулся на место.
Зашел Венька с букварем.
— Иди, иди сюда, — заторопил его Илька. — Помоги мне отрезать ровнее кусок. Не терпится рисовать.
— О-о, сколько бумаги у тебя! — Венька, не раздеваясь, подошел к нему, положил букварь перед ним на стол и отчеканил: — Домашнее задание выполнено!
— Молодчина! — ответил Илька и вдруг радостно воскликнул: — Мама дорогая! У нас же не хватает букварей! Сделаю букварь, а эту… — он стукнул по всамделишному букварю, — отдадим кому-нибудь. А?
— Как сделаешь? — не понял Венька.
— Срисую, и все! На этой бумаге! Вот будет здорово! Самодельный букварь!
Возились долго и разрезали все листы. Сложили вместе, в виде тетрадки. Они убрали два лишних листочка, и один достался Веньке.
— Спасибо, — радовался друг. — Я тоже буду что-нибудь чертить.
— Ты же чертежник, а я — художник, — смеялся Илька. — Сшить бы листочки тетрадкой, и можно рисовать…
Пришли домой Федюнька и Февра. Оба в снегу, с прилипшими к одежде былинками сена.
— Вот тебя и надо, — Илька повернулся к сестре. — Быстренько сшей листочки, как тетрадку.
— Зачем в тетрадку? — изумилась Февра. — Не хватает, что ли, тетрадок?
Илька и Венька рассказали про самодельный букварь.
— Правильно, — ликовал Федюнька. — А этот букварь отдадим учителю.
Февра нашла у матери иголку с оленьими жилами и сшила тетрадку.
— Пойдет! — одобрил Илька.
— Крепко сшитая — жилами! — затараторил Федюнька.
Когда пришла в избу мать, засмеялась, рассматривая тетрадку.
— Надо было взять нитки, а не жилы. Эх ты, Феврення!.. Ну да сойдет как-нибудь. Рисуй, увидим!..
Илька успел вечером списать и срисовать только две страницы. Уже все спали, кроме мамы, а он еще корпел и чуть не опоздал в школу.
На первом уроке решали на классных счетах, складывали и отнимали единицы, двойки, тройки, записывали на доске и в тетрадках. Но Ильке не сиделось — он вынул из сумки самодельный букварь. Нет-нет да шуршал им, чтоб обратить внимание Якова Владимировича. Федюнька шепчет рядом: «Подними выше…» Илька поднимал выше, а учитель не видит все равно. Возится с непослушной Мотькой — она никак не понимает по-русски «два» и «три». Пришлось учителю объяснять по-зырянски. Девочка поняла, обрадовалась и записала на доске: 2 + 3 = 5.
— Иди, запиши в тетради, — сказал учитель.
— А почему Илька… Почему Иля дразнится все время? — морщилась девочка. — Показывает какую-то бумагу, а мне мешает думать.
— Какую бумагу? — учитель строго посмотрел на Ильку.
Тот наклонил ниже голову, убрал самоделку под тетрадку.
— Нельзя мешать другим, да еще дразниться. — Яков Владимирович сказал это внушительно, а потом кивнул на соседа Ильки: — Пойдет к счетам Веня.
Венька знал счет хорошо, десятками, как Илька, видно, научил его покойный отец, Иуда-Пашка. Смуглый, но светловолосый, с курчавыми прядями, будто в шапке из овчины, Венька русским языком владел плохо — долго просидел взаперти.
Яков Владимирович улыбнулся:
— Ты, Веня, как Пушкин в детстве. — Учитель обратился к классу: — О Пушкине слыхали, нет? Пушкин — великий русский поэт и писатель. Скоро будем учить его сказки.
— Венька — Пуш-кин… — хихикнули вокруг.
Илька читал в «Безбожнике» про Пушкина и запомнил эту фамилию. Но какие у него сказки, он не знал. Однако, наверно, не лучше, чем рассказывает бабушка Анн.
…Когда урок кончился, Илька все-таки решил похвастаться учителю, что купил в лавке пять листов бумаги, разрезал их, сшил в тетрадку и начал рисовать самодельный букварь.
— А-а, вон что… — заинтересовался учитель и взял самоделку. — Да-а, смотрите-ка! Получается вроде. Только карандашом…
— И жилами сшит, — сказал Венька.
— Я нарисую всю первую половину, а букварь отдадим кому-нибудь, — заявил Илька.
— Мне-э!.. — послышались вокруг них ребячьи голоса.
— Тихо, тихо, — унимал Яков Владимирович и отправился в учительскую, чтоб показать самодельный букварь. Когда кончилась перемена, Яков Владимирович пришел в класс с самоделкой. Перед тем как начать учить буквы дальше, сказал ребятам:
— Вот, похвалили учителя. На, бери, Иля, но рисуй только дома…
— Я быстро, — радовался Илька.
— Не торопись, а то испортишь. — Учитель продолжил урок.
Через несколько дней Илька принес в школу самодельный букварь. Учитель и ребята хвалили Ильку, хотя учебник далеко не был таким, как всамделишный. А букварь Илька, Венька и Федюнька отдали учителю.
— Мне-э!.. — послышались опять голоса ребятишек.
А кто-то даже воскликнул:
— Лучше разрисованную!..
— Шиш! — ответили Илька и Венька. И Федюнька хотел что-то добавить, но осекся — услышал строгий голос учителя:
— Тихо!.. Бери, Мотя, букварь. Ты живешь дальше всех… Молодец, Илька!
Глава 20 Новый ученик
1
Утром начался буран, но Илька все равно собрался в школу — на нарточках его повезли Петрук, Венька и Федюнька. Ветер со снегом встречный, но ребята добрались быстро.
На первом уроке знакомились с новой буквой. Яков Владимирович показывал картинку — красивая ухоженная кошка с белой шерстью, коричневой головкой, с огромными зелеными глазами и синим бантиком на шее.
— Кто тут нарисован? — спросил учитель.
Класс сразу же поднял руки, а Федюнька обе:
— Кань!..
— Правильно. Но это по-зырянски. А по-русски?
— Киска!.. — ответили хором.
«Кошка», — хотел сказать Илька, да учитель опередил.
— Кот или кошка! А не просто киска, — уточнил он. — Давайте будем называть «кошка». — Яков Владимирович поворачивался то в одну сторону, то в другую. — Значит — «кошка»! Какой же звук слышится в самом начале? К-ошка, к-ошка…
Разом, как мелкий лес, поднялись руки.
Учитель кивнул головой.
— Скажи ты, Дима.
— Кэ, — быстро ответил белобрысый мальчик, чуть-чуть привстав.
— Верно. Только надо говорить не «кэ», а «к», — поправил Яков Владимирович. — Слышится звук «к». А пишется он вот так… — Учитель взял из разрезной азбуки букву и показал.
А Ильке было неинтересно — он уже давным-давно знал все это. Даже рисовал ту самую кошку, но у Якова Владимировича раскрашено чудесно, а у Ильки лишь простым карандашом.
В перемену Илька не ходил никуда, сидел за своей партой. Федюнька и Венька выбежали во двор и вскоре прибежали покрасневшие, облепленные снегом.
— У-ух-х!.. — дрожали они. — Буран стал еще сильнее.
— Приехали зачем-то оленеводы, — добавил Федюнька. — Целых три нарты.
Пришел учитель и привел еще одного ученика — крупного паренька в черных тобоках, подстриженного «под горшок».
— В классе у нас будет еще один ученик. Зовут его Федей… — Учитель держал мальчика за плечи. Но тот тихо поправил: «Зовут Педей». — Как, как? Педей? А-а, не Федей, а Педей. Он сын оленевода, поэтому опоздал. А привел его отец вместе с Романом Ивановичем… Куда же я посажу тебя, Педя?.. Вот сюда, пожалуй. Потеснятся двое — ничего. — И посадил Педю за парту перед Венькой. Дал ему тетрадь в клетку и карандаш. Мальчик удивленно вскинул черные густые брови и стал в руках вертеть карандаш.
Все в классе уставились на новичка, на его волосы, на тобоки, на плотную спину, обтянутую голубой рубахой без пояса.
— Педя… Педька… — прыскали вокруг ребята.
Маленький Федюнька теребил Ильку:
— Мне совсем не видно учителя.
— Тихо, тихо. — Яков Владимирович заметил, как осторожно открывается дверь. — Кто там?
Ученики повернулись назад. Дверь приоткрылась, и в класс просунулась голова без капюшона. Она походила на Педькину, а ниже еще одна голова, только в капюшоне и, видать, женская.
— Педька, ты живой? Где ты? — сказал мужчина и удивился. — О-о, ребятишек-то сколь!..
— Я здесь! Учусь!.. — дрожащим голосом ответил Педька и встал, потом увидел мать, сел и захныкал.
Женщина за дверями простонала:
— Пропадешь ведь!
Весь класс засмеялся, а Яков Владимирович, чуть улыбнувшись, строго сказал:
— Не пропадет? Закройте дверь, не мешайте…
Педька оказался смышленым — стал писать ровнее и называть правильно буквы. Тогда Яков Владимирович вызвал его для счета. Учитель объяснил принцип счета и велел отложить единицу. Он отложил быстро. Потом Педька записал мелом единицу на доске.
— Молодец, — сказал учитель и попросил мальчика найти на счетах «два» — «кык» и тоже записать.
Педька нашел двойку быстро, но не мог записать — не запомнил. Тогда Яков Владимирович подал ему его тетрадку и велел посмотреть. Он нашел и записал цифру два, потом три, и четыре, и пять — до семи, сколько успели выучить. И опять Педьку похвалил учитель.
— У меня был дедушка Озыр-Як, — тихо начал Педька, свесив голову. — Совсем неграмотный старик…
— Громче! — крикнули с задней парты.
Педька прибавил голос:
— Бывало, разуется у очага-костра и заставляет нас разуться. Считает оленей по пальцам рук и ног. Помнил каждую голову. Две тысячи голов…
— Фию-у!.. — свистнул кто-то, а учитель удивился такому счету.
Педька заявил, что счет он мало-мало знает, так что учиться ему незачем…
Учитель, однако, не согласился с ним — не годится по дедушкиному методу по пальцам считать оленей. Но Педька дернул плечом и заговорил, хныча:
— Дедушка Озыр-Як был умный человек. А потом напали бандиты из-за Камня-Урала. Они украли половину стада и дедушку убили. Похоронен он тут на кладбище… — И пошел на место, рыдая.
— А-а… — пораженно протянул класс. — Дедушку бандиты убили!
Учитель стал успокаивать Педьку.
На переменке Федюнька пожаловался Якову Владимировичу: он маленький ростом, и видеть учителя мешает Педька. Федюньку пересадили на место Педьки, а тот сел с Венькой и с Илькой. Все равно близко к общей сумке.
Следующим уроком было рисование. Яков Владимирович принес разноцветные обложки от тетрадей — голубые, розовые, желтые. Объяснил — рисовать должны то, что он покажет на доске, и раздал каждому по листочку. Пока Яков Владимирович чинил ученикам карандаши, Педька начал что-то черкать на бумаге.
— Ты что делаешь? — учитель коснулся его. — Рано еще…
— Во, смотри, что получается у меня. — Педька оторвался от бумаги и повернулся к учителю.
— Надо говорить не «смотри», а «смотрите». — Яков Владимирович взял розовый листок. — О, чум! Олени! Нарты! Люди! Где научился?
— Дома, — ответил Педька. — Черкаю хореем по снегу, а в чуме углем по мездре оленьей шкуры.
— Рисуешь хорошо! — Яков Владимирович показал рисунок всему классу.
А потом Яков Владимирович начертил мелом на доске две линии — выпуклую и вогнутую. Линии плавно перекрещивались на одном конце. Несколько штрихов, и появилась знакомая фигура.
— Узнаете?
— Рыба!.. — хором ответил класс, и все принялись, как велел учитель, срисовывать рыбу.
Затем Яков Владимирович нарисовал новую фигуру.
— Утка! — ответил класс хором.
На дом учитель задал нарисовать самостоятельно рыбу, утку и кошку. И хотел отпустить ребят, да вспомнил — с кем же будет заниматься новичок по чтению?
— Иля, пусть с вами будет Педя, — предложил учитель. — Никого нет ближе.
— У меня же самодельный букварь, — возразил Илька. — Бумага тонкая. И вообще… — Он нахмурил брови.
Яков Владимирович успокоил Ильку:
— Ну что ж, что самодельный. Самодельный, да не бездельный. А иначе как же? Он отстал, вам надо выручать…
Педька удивился: «Илька сам сделал приспособление для чтения? И называется — бук-ва-рем? Интересно…»
— Сам, что ли, сделал этот… букварь? — спросил он Ильку, заглядывая в его зеленоватые глаза.
— Сам, — подтвердил Венька и кивнул Ильке: — Покажи!
Илька пошарил в сумке и вытащил букварь, но не выпускал из рук.
— Дай, не съем! — Педька вырвал букварь.
И тут послышался голос его отца, приоткрывшего дверь:
— Педька! Не задерживайся! Олени ждут! Вот малица твоя!..
— Айэ! — сын кинулся к нему с самодельным букварем и карандашом в руке, забыв взять рисунок и тетрадь с домашними заданиями.
— Куда?! — учитель чуть не бросился догонять его. — Какой непослушный!
Педька распахнул дверь и вышел с отцом из школы, надевая малицу на ходу.
…В снежной кутерьме, падая и вставая, Венька и Федюнька дотащили нарточку с Илькой до дому. Нехорошо у них на душе — букваря-то нет, и новый ученик не поймешь какой. К нему не попадешь в ограду — не пустят взять домашнее задание, букварь, не пустят отдать тетрадку и листок с рисунком. Запираться от людей привыкли. Да и неприятность будет от родителей — дружите, мол, с этим Педькой-Федькой.
Елення тоже тужила.
Но когда Гриш узнал о беспокойстве ребят, то, подумав, ответил:
— Ничего, подождем-посмотрим, какие они приятели…
2
За ночь пурга улеглась, утро безветренное, потеплело. Но Илька поехал в школу на нарточке. Во-первых, трудно идти на костылях по сугробам, а во-вторых, из-за Федюньки — проспал тот, не хотел вставать, даже ревел. А вся причина — Педька-Федька. Не попали вчера Федюнька и Венька к Педьке, поздно вечером их и вправду не впустили в ограду Озыр-Митьки. Зря только мерзли в буран. Из-за этого и Илька не мог уснуть долго. Может, Педьки уже и нету — уехал в тундру. Что им стоит ринуться в метель? Они выросли, по-зырянски говоря, словно блохи на снегу. Ведь вот какой вредный — увез самодельный букварь!
На первом же уроке узнали — Педьки нет в школе.
— Жалко самодельный букварь, — затужил Илька.
Педька не пришел и на второй урок, и на третий. Яков Владимирович нахмурился:
— Придется, Иля, кому-то из вас сходить к Педе. Я не могу сейчас отлучиться. Погода-то ночью исправилась, стало теплее. Может, верно — уехали в тундру.
После школы Илька и Федюнька с Венькой поехали к дому Озыр-Митьки. Высокий, единственный в селе двухэтажный «хором» и одноэтажные постройки стояли недалеко от школы, за мосточком. Они были обнесены вокруг тесовой высокой оградой.
Ворота Озыр-Митьки были закрыты, а калитка отворилась легко. Венька, Федюнька и Илька на нарточке оказались внутри ограды. Какая она просторная! Слева впереди у амбара люди и собаки. Псы залаяли, но не бросились к ребятам. Люди только что забили оленя, и собаки ждали подачки. Направо у двухэтажного, не застекленного хорома, три оленьих упряжки.
«Оленеводы еще не уехали», — обрадовался Илька и облегченно вздохнул.
Людей у амбара трое — высокий, тонкий мужчина и низенькая, кругая женщина. А третьего, наклонившегося над забитым оленем, видно плохо.
— К тебе, наверно, пришли, Педька… — сказал высокий.
Тот поднял голову с откинутым назад капюшоном.
— А-а!.. — промычал он. — Вчера, что ли, не могли прийти!..
— Мы приходили с Венькой, да не впустили в ограду, — затараторил Федюнька. — Чуть не замерзли.
— А-а… — опять промычал Педька. — Идите сюда!.. Пошла-а!.. — Он замахнулся на пеструю собаку и принялся узким, острым ножом быстро отделять шкуру.
— Кыш-ш!.. — отец пугнул собак.
А мать стояла чуть поодаль и любовно смотрела на сына, умеючи, ловко снимающего с оленя шкуру.
— Пошли. — Илька шевельнул под собой нарточку. — Дай букварь! — крикнул он резко и властно.
— Погоди, заняты руки. — И Педька, не прерывая работы, сообщил родителям, что у него, у Ильки, руки — больные, а он еще рисует. Добавил:
— Самодельный-то букварь сделал он…
— О-о! — удивились мать и отец. — Мас-тер!
Ильке не терпелось получить букварь. Но тут из приземистого дома вышла Эгрунь с дочкой.
— Ну что — забили? — Эгрунь покачала головой. — Эх вы! Значит, остается Педька?..
— Остаюсь, тетя Груня! — быстро ответил Педька. — Дядя Митя перед поездкой за дровами еще раз велел учиться. Говорит, ноне неученье — тьма!
— Может, и верно, — добавил отец Педьки, отложил в сторону топор и стал кулаком отделять шкуру от туши. — Вот и забили.
— Пускай сынок ест на здоровье, хоть и жалко оленя, — вздохнула мать. — Только чтоб учился…
Эгрунь хмыкнула, поморщилась:
— А посторонние-то зачем тут?
Педька пояснил, что пришли по делу — взять букварь, а руки у Педьки сейчас заняты.
— Это самодельный-то, что ль? — Эгрунь смотрела на Ильку. — Э-э, да Педька уже исчеркал букварь. И Оленька сейчас порвала листочки…
— Как?!. — изумились Илька и Педька, а Венька с Федюнькой растерялись и застыли на месте. Илька захныкал, а Педька, ругаясь, с ножом в руке кинулся в дом, будто за кем-то гнался.
А через минуту выбежал обратно, спускаясь с крыльца, второпях рассматривал букварь, не выпуская из рук ножа.
— Тетя, почему говоришь — исчеркал? Наоборот — яснее видно! А Оленька измяла листочки и даже порвала в одном месте…
Илька выхватил букварь и спрятал в сумку.
— Поехали отсюда!.. — Венька потащил нарточку за веревку.
— Ну и проваливайте!.. — выкрикнул Педька.
Глава 21 Гнедко и Пеганка
1
Будилов поехал в Березово, чтобы привезти оттуда мотор, оборудование, мотки тяжелых проводов для электростанции и радиоузла. Они были оставлены там последним пароходом — не успел доставить в Мужи, закрылась навигация. Но Будилов о том не знал, а пока переписывался, выяснял, наступил новый, 1927 год. Пришлось Будилову организовывать подводы, и вспомнил он, что у Сеньки Германца лошадь-тяжеловоз. Нагрузить — повезет, потащит помаленьку. Надо, однако, еще одного коня.
Сенька согласился с радостью, но сказал — силенки, мол, мало.
— Вот надо взять Гажа-Эля, — залепетал Сенька. — Он самый изо всех сильный!
Эль согласился прогуляться до Березова на Гнедке. Подледный лов закончили — можно отлучиться, подзаработать. Правда, изба у Эля все еще не готова, но осталось немного — эта недельная поездка не повредит.
И они поехали.
— Как вы медленно топаете, якуня-макуня, — крикнул Эль едущим впереди седокам. — Не Пеганка, а Поганка у Сеньки. Замерз даже я, пока спал. Бр-р-р!..
— Ничего, — послышался голос Будилова с передних розвальней. — Тихо едем — дальше будем…
— Сколо Азовы, — лепетнул Сенькин дребезжащий голос. Видно, замерз, из троих хуже всех одет, хоть и крепится. — Немного отдохнем, попьем чайку и дальше топаем с Пеганкой. — Хотел стегнуть коня-тяжеловоза, да вдруг остановился — задурит.
«Мучает коня Германец, — попыхивал цигаркой Эль. — Не дает идти тяжеловозу. Не-ет, у меня бы не так топал. Если сложить силу Пеганки да мою — мы гору свернем, якуня-макуня! Жалко, Гнедка потеряю, если Сеньке отдам. Гнедко привык ко мне, знает меня».
Через час были в Азовах, попили чай у ямщика, и Сенька пошел поить из проруби лошадей, а Будилов и Эль затеяли разговор об электричестве — о югыд-би. Сенька повел коней на водопой в том порядке, в каком шли они до Азова, — сперва Пеганка, а потом Гнедко. Но тут Пеганка задурела. Сенька и так и этак, а конь стоит недвижимо. Собирался позвать товарищей, да раздумал — что, если первым пойдет Гнедко? И верно — оба коня двинулись.
Сенька выругался, он не выпускал из рук Гнедка, спускаясь к проруби на Малой Оби. Пеганка пошла за ним быстрее.
Выглянула луна из-за густого леса, и все стало видно, особенно у конской проруби. Сенька палкой пробил лунки в застывшем льду, получше закинул на шеи коней узды и отпустил их пить. А сам думал:
«Нич-чего не понимаю. И кони молчат. Вот бы мне послушную лошадь завести. Обязательно променяю коня. Ну его к черту! Мне не грузы возить — сено-дрова привезу, и ладно. Вот был бы у меня Гнедко! Но Гажа-Эль не променяет. Не-ет. Променяю-ка коня в Березовом. Но тогда не будет у нас тяжеловоза. А мне нравится Гнедко. Надо подумать хорошенько, пусть Гажа-Эль попробует управлять Пеганкой».
— Дело сделано — поил коней! — лепетнул Сенька и сбивчиво заговорил: — Эль, мне сильно понлавился Гнедко. Хочу менять с тобой баш на баш… своего Пеганку на твоего Гнедка.
— Да-а?! — удивился Эль.
— А что? — пробасил Будилов. — Верно — можно менять запросто! У Семена голос… детский, а на Пеганку нужно вроде моего баса. Но мне некуда ездить. Пеганка и Алексей — вот пара. Горы свернут…
— Горы-то горы, да будет ли тяжеловоз слушаться меня. — Эль перестал смеяться. — И Гнедка жалко…
— Знаем… плачете оба, когда ты, Гажа, бьешь его… — Сенька опустил капюшон и сел на лавку. — Поплобуй-ка с Пеганкой меляться силой.
Эль кивнул головой — точно, у него уже промелькнула такая мысль.
Вышли во двор. Сияла полная луна над вершинами кедров и елей, отражая-отбрасывая черные их тени на белизну искристого снега. На небе приветливо мигали звезды, словно спелые морошки. Запрягли коней и поехали дальше. Эль занял Сенькино место, нарочно затрубил голос и стеганул Пеганку так, что она вздрогнула, рванулась вперед и понеслась крупной рысью. Эль и Будилов едва удержались на месте. И Сенька сзади на Гнедке радостно завизжал, как ребенок, видя, что конь у него бежит вовсю.
— Вот что значит хозяин сильный. — Александр Петрович все еще смеялся. — Будет толк, Алексей! А Сенька пусть берет твоего коня…
Так и ехали крупной рысью до Березова, сделав еще две остановки в ямских домишках. Всего пути от Мужей чуть больше полутора суток.
2
В Березовом остановились у сторожа пристани, которому было поручено охранять мужевский груз. В избе горел югыд-би, как во многих домах, что поразило Сеньку Германца. Александр Петрович за два дня получил все, что надо, и стал помогать грузить Элю и Сеньке. Эль вздыхал о выпивке. И Сенька не пил — у них просто не было денег, аванс у Будилова еще не получали.
На третьи сутки решили отдохнуть, пошататься по кару — городу. Но в карманах пока пусто — и в каре скучно. Накануне вечером ударил крепкий мороз. Сенька был неважно одет и боялся замерзнуть. Так и коротали время до вечера, играли в дурачка.
— Завтра поедем, хоть и в стужу, — сказал Будилов, раздавая карты. — Кони отдохнули за три дня, и нам пора.
— Мы-то с тобой можем, а Сенька-то как, якуня-макуня! Замерзнет ведь. — Эль посмотрел на обувь Германца.
— Точно, — согласился Александр Петрович. — А как договорились — меняете коней баш на баш?
— Меняем… — ответили вместе.
Будилов решил — если будет стужа, то они с Элем поедут на Пеганке, а Семен подождет и выедет на Гнедке, когда будет теплее.
Вдруг электрическая лампочка на потолке погасла, стало темно.
Александр Петрович недовольно пробубнил:
— Ну вот и в темноте остались. Еще рано, нет восьми часов. Только ушел на дежурство хозяин. Часто так бывает, мамаша?
— Часто, — сказала она. — Сейчас зажгу керосиновую лампу.
Сенька похвастался в темноте:
— А у нас не будет так! Я сам стлою югыд-би. И ладиво привезем в Мужи…
Старушка принесла горящую лампу, и Александр Петрович стал собираться к другу-связисту.
— А аванс? — спросили друзья.
— Да-а, забыл… — хмыкнул Будилов. — Только не выпивать. Вы завтра купите своим женам и детям подарки. — И дал им деньги, потом надел непродуваемую малицу и ушел, гаркнув: — Пока!..
— Ну начальник у вас громогласный. Хоть уши закрывай, — засмеялась хозяйка, когда он вышел.
Эль и Сенька стали думать, нельзя ли выпить.
— Тут в каре есть сур, мамаша? — спросил Эль. — А то некуда девать деньги…
— Они пищат, — ухмыльнулся Сенька.
Она вначале удивилась, что прибывшие из Мужей вроде тоже выпивают, как везде. «Вдруг они нехорошие в пьяном виде. Еще начнут дебоширить, а старика нет», — подумала хозяйка. Но потом сравнила по виду Эля и Сеньку, маленького, и сказала:
— Вообще-то есть самогон, даже рядом, токо ни-ни. Боятся милиционера…
— Мы плиезжие, — успокоил Сенька.
Старуха оделась, сходила недалеко и принесла бутыль с какой-то белесой жидкостью. Понюхали — самогон. И начали понемногу тянуть его. Угостили чуточку и хозяйку. Она подала им закусить сырой недосоленной «сись чери» — гнилой рыбой — вкусной и специфически пахнущей. К тому же рыба была мерзлой — во рту таяла, будто сахар.
Пили, затянули зырянскую песню «Ой ты, солнышко мое…».
Вдруг у Гажа-Эля возникло желание в последний раз попрощаться с Гнедком. Избить его от души, а потом обнять его и реветь-скулить, изливая всю неудавшуюся жизнь.
— Не смей моего Гнедка тлогать! — лепетнул, вскочил с места Германец, уже пьяный, и замахнулся на Эля.
А Гажа-Эль вышел, преспокойно привязал Гнедка уздой за бревно. Конь, нервно вздрагивая, играл мускулами и негромко ржал. Эль, перекрестясь и плюнув в ладонь, начал стегать коня изо всей силы, приговаривая:
— Это за все мои грехи!.. За знакомство со мною, Гажа-Элем! За службу верную от меня, дурака!..
Пеганка отошла в сторону. А Сенька плакал на коленях.
3
Назавтра Гажа-Эль с Будиловым собрались ехать на Пеганке в Мужи, а Сенька решил остаться с Гнедком — по-прежнему была стужа. К тому же Сенька, нализавшись допьяна, на «прощании» Эля с Гнедком чуть не отморозил ноги и даже захромал. Будилов ругал крепко обоих за учиненную пьянку и не дал им опохмелиться. Но Гажа-Эль днем, еще раз сводив лошадей на водопой, все же ухитрился где-то выпить.
— Безобразие! — сердился Александр Петрович. — Надо ехать сейчас же!
Он дал Семену деньги, чтоб прожить несколько дней, рассчитался с хозяевами, и к вечеру они выехали из Березова. Поехали легкой рысью, хотя розвальни до отказа нагружены тяжелым мотором, мотками проводов, покрытых сверху брезентом. Оставалось место сидеть на возу только спереди и сзади.
«Вот уже и огни зажглись кое-где, — думал Будилов, глядя на еле видимый из-за морозного тумана город, закрывая лицо рукавом от сердитого ветра. — Ничего, в Мужах тоже будет югыд-би. Без канители: то погаснет, то зажжется. Проведем радио, у нас уже стоит мачта, оборудуем радиоузел. Вот привезем, натянем провода — и слушай Москву… Правильно толкует начальник электростанции — мне надо заранее готовить заместителя…» — Но тут лиственницы и кедры заслонили Березово, и он отвлекся, приглядываясь к коню. Гажа-Эль даже не гнал особо Пеганку, но она сама шла резвее, будто играла. Да и Будилову и Элю хотелось быстрее попасть в ямскую избушку, чтобы не мерзнуть зря. Отдыхали дольше, а в Азовах совсем стало тепло. Сенька, наверно, мчится вовсю на Гнедке, чтоб догнать тяжеловоза. Вон и лошадь с той стороны.
Но когда подвода прибыла в Азовы, то оказалось, что это ямщик, везет пассажирку в Обдорск. Она и сказала, что слышала, будто приезжий из Мужей потерял коня и ищет, не может найти.
— Якуня-макуня! — сразу догадался Гажа-Эль. — Гнедко погнался за мной. Любит-то меня, дурака.
— Значит, бежит сюда. А может, пробежал мимо нас, когда мы отдыхали, — пробасил Будилов. — Вот несчастье-то Сеньке, да и мне, главное…
Но в Мужах не оказалось Гнедка — ни во дворе Эля, ни у Сеньки. Гажа-Эль и Будилов долго и много доказывали Ичмонь-Верке и отдельно Гаддя-Парассе, что Сенька в Березовом остался из-за них, женщин, а они свое — отдай Пеганку, отдавай. Но у Пеганки новый хозяин — Гажа-Эль, и он не даст.
Насилу уговорили жен беспутного Германца. А Марья у Эля согласилась сразу — правильно, что променял на тяжеловоза, хотя Гнедка жалко.
Неделю ждали Сеньку, а его все нет и нет. Эль утром и вечером навещал женщин. Будилов тоже заходил к ним ежедневно, но все безрезультатно. Александр Петрович караулил почту сверху — не расскажет ли кто-нибудь из приезжих о пропавшем Сеньке.
И вот наконец узнали от проезжающего, что мужевский человек, вроде зовут его Семен, застрял с грузом в городе — ему надо в Мужи, а конь удрал, но потом нашелся — мертвый…
— Как — мертвый? — удивился Будилов.
— Не знаю, — ответил тот. — Хозяин плачет, не знает, как ехать…
Начали думать с Куш-Юром. Надо кого-то отправлять на выручку беспутного Сеньки. И Гнедко мертвый, если не врет проезжий.
Решили обратиться к Варов-Гришу, потому что у Эля еще изба не готова. Гриш мялся вначале, ругал Германца и его жен, но согласился съездить.
На полдороге к Азовам встретил он воз с грузом и двумя седоками. Остановились.
— Мать родная! Сенька-Семен!.. — воскликнул Гриш, увидев съежившегося на задке Германца. Он сидел в облезлом гусе поверх малицы и держал руки за пазухой.
— А я поехал за тобой. Вот хорошо-то — сам ползешь-едешь до Мужей. А Гнедко где? — Он смотрел на незнакомую черную лошаденку и на ее кучера.
— Пропал конь! — ответил тот. — Оставили пока под навесом у сторожа пристани…
А Сенька, услышав Гриша, заерзал, обрадовался, а потом захныкал:
— Нету, нету Гнедка! Погиб! Вот я и не мог выехать, когда стало тепло…
…Сенька решил сводить Гнедка на водопой. Уже вечером, после отъезда Будилова. И тут Гнедко выкинул номер — удрал от Сеньки, поскакал не на юг или куда-нибудь по городу, а прямо на север вслед Гажа-Элю. Гнедко пошел вскачь по дороге, а потом свернул в сугроб, напрямик через кусты, по брюхо в снегу, стараясь догнать Гажа-Эля, своего вековечного мучителя. Сенька попытался бежать за ним и остановить, но конь уходил в лунную ночь. И Сенька замерз и остался без коня.
А через два дня слух пошел по кару — охотник видел недалеко в урмане околевшую лошадь, почему-то стоящую. Видно, на что-нибудь напоролась, не смогла сломать дерево и стоит околевшая.
Сенька догадался, что это Гнедко. Так и есть — ему навылет проколола горло лесина, расщепленная молнией, невидимая в сугробе, острая, как сабля.
Гриш схватился, взялся за голову — Гнедко погиб так глупо.
— Будилов виноват, — залепетал Сенька, съежившись, едва выговаривая слова. Он готов был винить его во всем — почему Александр Петрович не остановил его от обмена баш на баш. Сам он, Сенька, не заработал ничего, даже понес убыток. И нет Гнедка — Сенька опять безлошадный. А у Гажа-Эля — Пеганка, тяжеловоз. Эль заработал и будет зарабатывать.
Сенька всхлипнул.
— Ну, разберетесь сами. — Гриш не любил, когда взрослые плачут. — Ты, Семен, совсем заколел. Поезжайте. А я — в Березово за Гнедком, раз так случилось-получилось…
Глава 22 Ловушка
В школе во время большой перемены ученики завтракали тем, что брали из дома: хлеб, оладьи, шаньги.
Но Яков Владимирович, вопреки заведующему школой, придирчивому, строгому, не привыкшему до сих пор к еде северян русскому Сергею Сергеевичу, дозволил есть мерзлую рыбу и мясо, только обязательно убрать за собой. Он как зырянин понимал, что учащимся трудно отвыкать от северной, многовековой привычки.
Ребята возликовали, особенно те, у кого были нельмушки, щучки, налимчики и кариши — мелкие осетры и стерлядки. Хранили рыбу на улице, на вышке, и с нетерпением ждали большой перемены. С шумом доставали, располагались в классе на полу, расстелив малицы. И начинали айбарць — ели мерзлую рыбу или мясо.
— Эх, будем есть кариши! — Илька ликовал, спустясь на пол возле кучи рыбы. — Федюнька! Венька! Живее! Берите ножички!..
Но это было вчера, а сегодня у них не оказалось ни крошки с собою. Вот что случилось — Варов-Гриш из Березово привез часы-ходики и повесил в горнице. И все ахнули — тикают. Идут и тикают. И красивые — выпуклый циферблат, есть две стрелки, а вокруг по блестящей жести нарисованы всевозможные цветы. Внизу похожи часы на паньзи, на игрушку, на легкую деревянную лопаточку с черенком и зарубиной над ней, спускаемой с помощью шпагата вверх — называется это маятником. Маятник ходит взад-вперед, и свисает откуда-то изнутри тяжелая гиря на длинной цепочке. Сзади часов — деревянная коробка и петелька, чтоб вешать на стену. Теперь не опоздаешь на уроки или куда-нибудь — есть ходики-часы. Слышно их на всю избу. Венька даже ночевал у Гриша — спал с Федюнькой на детской кроватке, а Илька на полу под ходиками, завернувшись в меха. Слушали долго, как ходят и тикают часы. Но не могли уснуть — с непривычки, видно. В избе ночью тихо, а тут будто кузнечик стрекочет, не дает спать. Стали уже поворачиваться с боку на бок. Наконец уснули ребята. Но Гриш до утра не мог вздремнуть — тикают и тикают ходики. Не вытерпел — встал и остановил маятник. Кое-как уснул.
А когда проснулись ребята — видят-слышат: ходики стоят. Солнце пошло на юг — светит вовсю, и на улице народ.
Что тут сделалось! Ребятишки — в слезы. Проснулся Гриш — мать родная! Ругает и себя, и часы. Мальчики быстренько оделись, не поели, ничего не взяли с собой, бросились в школу и, конечно, опоздали.
Яков Владимирович нахмурился, а ученики стали дразниться.
— Больше так не будет, — обещал Илька на перемене.
Федюнька захныкал:
— Я хочу есть. Большая перемена, а Педька, жаднюга, не дает кусочек мяса. Забыл, как ел у нас в Рождество. Ухх!..
— А не сходить ли нам домой? Живем рядом, и нарточки внизу, — предложил Илька.
Вскоре они были на улице, падал легкий снег. Добрались до дому. Венька хотел перемахнуть через свою ограду, но Илька предложил остаться, похлебать простокваши с лепешками и — обратно. Они ввалились в избу.
— Вот подвели вас ходики, — сказала Елення из кухни. — Раздевайтесь. У меня суп почти готовый. Простокваши нету, и молоко кончилось — корова-то стельная…
Ребята сняли малицы, сели за столик. Елення налила в общую деревянную чашку суп-бульон, еще не сдобренный мукой, а в отдельной тарелке — мясо с костями. Похлебали бульон деревянными ложками, попробовали мясо, но оно не доварилось — долго возились с едой.
А в горнице ходики тикают — тик-так, тик-так…
— Во, часы ходят! Надо посмотреть, когда кончим… — сказал Федюнька.
Потом пили чай с сахаром. Потом пошли в горницу, а там Февра сидит на ящике, читает книжку, она скоро кончает ученье-мученье. Целых три года она проучилась и еще нулевой класс! Ходит давно во вторую смену.
— Вон тикают! — Федюнька подошел вплотную к ходикам, задел свисающую цепочку с гирей.
— Не трогайте! Папа не велел задевать! — строго сказала Февра.
Ребята чуть-чуть отошли от часов и принялись обсуждать ходики. Один говорит: гвоздь идет до конца, чтоб вешать на него маятник и гирю, другой — три гвоздя, чтоб было крепче.
Шум подняли — чуть не дерутся, а время идет — уже одиннадцать часов.
Венька не сдается, подойдя к стене, заглядывает снизу — не видны ли в часах блестящие желтые зубчики?
— Зубчики, зубчики видно!.. — заорал он и хотел выпрямиться, но задел головой гирю, и тиканье постепенно остановилось — маятник не хотел идти.
— Ой!.. Ой! — Венька, морщась, ухватился за голову.
— Испортил ходики! — завопила Февра. — Вот теперь попадет от папки!..
Венька толкнул маятник, и ходики снова затикали.
— Марш, марш! — воскликнула Елення из кухни. — На улице-то тепло, хоть снег валит, а вы спрятались вроде…
Тут спохватились ребята — опять попадет от учителя.
Они суматошно надели малицы на себя — и на улицу. А там снег валит хлопьями вовсю. Даже ограды не видно.
Ничего не говоря, побежали к школе. Что-то ожидает их, оставит Яков Владимирович после уроков без обеда.
«Ну, мы малость позавтракали и пообедали уже. Можем и остаться…» — подумал Илька.
Открыли дверь, слышат — в их классе поют. Сегодня суббота — всего три урока. Вот беда!
Они пуще расстроились, разделись, а в классе разноголосо тянули известную зырянскую песню «Ай, люли-люли».
Венька приоткрыл дверь и просунул голову. Яков Владимирович дирижировал и казался почему-то сердитым.
Допели песенку, учитель увидел Веньку.
— Та-ак, пришли наконец!.. Безобразие!.. Опаздываете целый день!.. Садитесь все! Из класса ни с места! Проведем небольшое собрание.
Илька, торопясь, дополз до парты, сел.
Яков Владимирович, волнуясь и хмурясь, заговорил, что класс сегодня вел себя негодно. Ему попало от заведующего школой Сергея Сергеевича.
«Ах, вон почему учитель не в духе», — подумал Илька.
Учитель продолжал: во время большой перемены заведующий заглянул в нулевой класс и ужаснулся — ученики едят мерзлую рыбу и мясо! И на полу, на малице! Срам какой! То-то, мол, он наблюдал с зимы возле школы ораву собак и видел отбросы. Даже спрашивал у Силовны — откуда столько объедков? У вас же нет псов?
— Был он тут? — спросил Яков Владимирович хмуро.
— Был!.. А мы и не знали… — хором ответил класс.
— Вот как вы подвели меня, — учитель качал головой. Он начал говорить, что разрешил заменять завтраки мерзлой едой, зная их как детей исконных рыбаков и оленеводов, а они?.. Как попало убирают отбросы. Помойная яма возле школы. Нек-ра-си-во!
— Получил выговор, — сказал Яков Владимирович.
— А что такое «выговор»? — спросил Илька.
— Узнаешь, когда вырастешь… — Учитель верно был сильно сердит.
Долго беседовали, Яков Владимирович все-таки запретил есть в классе мерзлую рыбу и мясо.
— Ты, Иля, любознательный. Хорошо, — одобрил учитель и отпустил ребят домой.
— Ой, чернильницу забыл в парте, — крикнул Венька на пороге Ильке и Федюньке. — Вы спускайтесь, а я мигом…
На улице Илька, стоя на костылях, внимательно и напряженно смотрел на конек входной вышки. И Федюнька тоже. А Педька хохотал, глядя вверх.
Венька сбежал по лестнице и остановился на крыльце в том месте, куда поглядывали ребята.
— Что вы смотрите вверх? — спросил Венька.
— Быстрее к нам!.. — заорали все трое.
— Нарточка моя вон где! Свесилась!.. Грохнется кому-нибудь на голову!.. — волновался Илька.
Венька оторопел, согнулся, проскочил к ним, задрал голову.
— Кто-то сделал ловушку? Упадет, может ушибить…
— Не знаем… — Федюнька тоже морщил лицо. — По слуховому окошку залезли. Вон! Следы на крыше!..
— Нарточку жалко… — пожаловался Илька. — Как достанешь?
— Вернусь, может, застану Якова Владимировича. — Венька посмотрел вверх и шмыгнул в дверь.
Учитель уже собирался уходить, как в дверях появился Венька и доложил:
— Илькина нарточка висит на самом коньке вышки. Висит над входом и может ушибить кого-нибудь. Она свесилась уже — сделал кто-то ловушку…
— Да?! — сердито удивился учитель. — Может убить с такой высоты на самом деле!
Вдруг послышался треск у входа в школу и голоса. Учитель и Венька ринулись из школы. А нарточка, верно, с треском упала на крыльцо, ударилась о ступеньки и отлетела в сторону, к Ильке. Когда же Педька перевернул ее, обнаружилось, что правый полоз до копыльев треснул и веревка отрезана целиком.
Илька заплакал.
— Квайтчуня-Верзила устроил ловушку! Учитель говорит… — крикнул Венька.
— Он, он, думаю… — подтвердил учитель.
— Сломал нарточку Верзила… — канючил Илька.
— И веревка отрезана. Во, смотрите… — показал Педька.
Учитель вдруг повернулся назад и крикнул:
— Стой, стой! Вон ты где? На вышке! Слезай сейчас же!.. — И шагнул в сени.
Верзила слез, улыбаясь криво, но вдруг ойкнул — учитель потрепал за уши и выгнал на улицу.
Верзила, держась за уши, побежал быстро, как стрела из лука.
— Вот холера! — Яков Владимирович впервые выругался при учениках и покраснел. — Я тебе дам!..
Вдруг навстречу Квайтчуня-Верзиле вышел из-за угла школы Куш-Юр и нечаянно столкнулся с ним так, что Верзила упал в снег.
— Куда ты бежишь? Едва меня не сшиб… — сказал председатель. — А-а, уши надраил кто-то… — и посмотрел на ребят, увидев Якова Владимировича. — Что случилось?!
— Нахулиганил!.. — ответил учитель.
— Постой! Пойдем-ка, узнаем, что ты наделал! — Куш-Юр схватил мальчика и повел к крыльцу школы.
— Сделал ловушку! Вон там, на коньке! — волнуясь, заговорил Яков Владимирович. — Можно же убить или испугать человека… Вуся, Роман Иванович!
Подошла учительница Елизавета Даниловна, небольшого роста и совершенно седая. Она преподает во втором классе, где еще занятия не начались. Была она в теплом пальто, на ногах валенки. Под мышкой держала старенький, пухленький портфель.
— Здравствуйте! О чем это вы тут так громко разговариваете?
Яков Владимирович, по-прежнему волнуясь, начал объяснять, то и дело показывая на конек и на сломанную нарточку.
— Ой-е-ой! — заойкала Елизавета Даниловна и даже отступила назад, глядя сердито на виновника. — Ушибить ведь ты мог! Даже убить кого-нибудь! Что же ты, бессовестный, делаешь? Не учишься, говорят? За такие дела раньше ой как били! Как наказывали! Да-а!..
— Я уши ему надрал, — признался Яков Владимирович.
— Мало… Да что теперь… Э-э… — Учительница быстро поднялась на крыльцо.
Илька пожаловался председателю:
— Сломал нарточку…
— Вот нечистая сила! — рассердился и Куш-Юр, не выпуская все еще Верзилу. Сказал: — Приведешь родителей в сельсовет. Понял?
Глава 23 Были-небылицы
1
Весной, как раз в Ленинские дни, Куш-Юра выбрали в члены райкома, и он с семьей уехал в Обдорск. Сандра перед отъездом прощалась с подругами, даже поплакала. Но радость, гордость за Романа переполняли ее душу. И если глаза то и дело блестели от слез — это были счастливые слезы.
Теперь Елення, как делегатка, уже без Сандры шефствовала над семьей Сеньки Германца. Гаддя-Парасся вновь жила на старом месте, у Сеньки. Она ждала приезда нового председателя Биасин-Гала, чтобы получить квартиру. У Германца полон дом жильцов — взрослых и детей. Елення навестила их несколько раз, но без председателя не могла придумать ничего.
Настала пора сенокоса, и Елення пропадала весь день на покосе. И Сенька ставил сено, забрав в лодчонку трех дочерей — Анку, Нюрку и Нюську и, конечно, Верку-Ичмонь.
— Вот беда еще с этим Германцем. — Елення спускалась по взвозу, несла гребь на плече и лукошко с дневным пропитанием. Все остальное у них находилось на покосе — и косы-горбушки, и вилы-грабли, и чайник-котел, и кружки-ложки — все спрятано под сеном.
Елення казалась ниже ростом, одетая, как и все косари, в замотанную вокруг головы шаль, в кофту с подкладом, в подпоясанный многослойный сарафан и в бахилы. Она шла ровным шагом, а мысли ее были сбивчивые, беспокойные, приходится думать о людях, заботиться. Ей доверено многое, и она это понимает.
— Что делать с той семейкой? Бегай-беспокойся за Парассю…
Марьэ, старшая дочь Насты, русоволосая и круглолицая, сказала:
— Нянчиться нечего… — И зевнула. Она не выспалась.
— Усни, доченька, пока едем в лодке, — Наста завершала шествие.
— Поспи, племянница. Ты настоящая помощница, — вздохнула Елення. — А моя Февра в тундру уехала! Беспокоюсь за нее.
— Сами отпустили. Сейчас косили бы с ней вместе, — улыбнулась племянница и снова зевнула.
— Не беспокойся, Елення! Племянница вернется жива-здорова! Выручили маму мою, Эдэ. — Малань, приложив руку козырьком, засмотрелась вдаль на тихую, чуть туманную Обь, над которой только-только начало всходить солнце.
Конец августа. Заметно укоротились дни, ночи почти темны и прохладны, а утра туманны. Участились утренники, лужицы подергивались звонким ледком. Цветы пожухли, но сенокос еще не кончился.
Каждый день в раннюю утреннюю пору отплывали от села вверх и вниз порожние лодки, а поздно вечером, груженные зеленой травой или свежим сеном, возвращались обратно. Так устроена жизнь — надо торопиться, чтобы запастись кормом для скота, пока не появились «белые комары».
Наста, Елення и Малань отчалили от берега и направились вниз, наискосок за Малую Обь, а там пешком по грязи перевалить около версты ко второй лодке и переправиться на покос через речку Аспуг-Обь. Она неширокая, но богатая в эту пору скатывающейся рыбой — промышляют там сетями-важанами. Наста и Елення гребут, Малань правит лодкой, все клюют носами, а Марьэ устроилась на дне лодки и спит.
Спали в эту рань и оставшиеся домовничать старушки Анн и Эдэ. Она приехала из чума к Ярасиму и осталась летовать.
Когда стало светло, они поднялись — им хватало забот и хлопот управляться с ребятишками и скотом. Целыми днями, особенно дождливыми, стоит шум и рев ребятишек. В такую погоду приходилось детей постарше выгонять в соседнюю Еленнину избу, чтобы малыши могли спокойно поспать…
А сегодня день хороший, солнечный и даже теплый, не будут дома ребятишки — разбегутся туда-сюда.
Дождавшись, когда встали все дети и поели, Эдэ сказала старшим:
— Сходите по ягоды. Я соскучилась по голубике да бруснике. И морошки можно. Они поспели уже давно. А нам, старушкам, недосуг. Да и старый человек, что заезженный олень. Толку-то от нас…
— Во-во. Возьмите лукошки али банки и айдате. — Анн кормила двухлетнего внука Федула молоком, в котором размочены кусочки хлеба. — Слава Богу, день сегодня ладный.
— Я пойду по ягоды и грибы, — изъявил желание Федюнька.
— И мы тоже!.. — послышались девчоночьи голоса. Девочки ринулись гурьбой искать лукошки.
А Илька запечалился — ему теперь не подойти на костылях к Югану — грязь кругом. Надо, выходит, опять ловить удочкой щуругаев.
— Придется ловить! — вздохнул Илька, сидя на скамье напротив бабушки Анн. — Но не сейчас — надо сначала придумать хорошую приманку для щучек.
Старуха Анн тоже вздохнула:
— Ох-хо-хо! Тебе, коньэрэй, что остается делать? Ловить хоть щуругаев. И кошки будут сыты, и мы изжарим для себя.
— Хоть рыбки поедим, коли нет оленины, — сказала Эдэ, тоже кормя Груню молоком с хлебом из кружки.
2
К полудню, когда ребята разошлись из дому, старухи решили выйти на улицу и посидеть-погреться на солнышке. Малышей одели в легкие малицы, чтоб взять с собой.
— Мы пойдем на ульку? — спросила малышка Груня бабушку.
— Конечно, на улицу. — Эдэ накинула шаль. — Ты хорошо стала говорить.
— А вот у меня внук Федул и чуть старше Груни, а не говорит ведь до сей поры. — Старуха Анн неторопливо одевала внука. — Все понимает, а говорит только: вав, вав… Вавлё, что ль, хочет сказать, — она засмеялась.
Эдэ удивленно посмотрела на Анн:
— Вавлё?! Он разве известен и здесь? Вот чудеса! Мы думали, рассказывают лишь пастухи за Камнем о Вавлё.
— Да ведь Вавлё-то был схвачен в Обдорске, — отвечала Анн. — Давно это было… Ну, пошлите на улицу, там наговоримся…
Старушки вышли и сели на завалинке старого дома на солнечной стороне. А малыши увидели возле крыльца густую, еще зеленую травку и кинулись к ней.
— Петул-Вась ведь лекарь. Почему до сих пор не лечит сына Федула? — спросила Эдэ.
— Говорит, ребенок слышит все, значит, и разговор появится. Это, мол, бывает, — ответила Анн. Она посмотрела на солнце, зажмурилась:
— А Вавлё-то точно в Обдорске был схвачен…
И две старушки, посматривая иногда на малышей, заговорили о Вавлё.
Илька, сидя на полу в сенях у распахнутой двери, сперва не слушал их голоса, погруженный в какую-то думу. Но потом вдруг до его слуха дошло: «Вавлё».
«Может, Вавлё-Максим? — подумал Илька. — Наверно, бабушка Анн рассказывает про его чудачества».
— Бабушка Анн! Ты говоришь про Вавлё-Максима? — крикнул Илька.
— Не-ет, — ответила старушка Анн. — Мы вспоминаем настоящего Вавлё…
— О-о, надо послушать. — Илька быстро перелез через порог на крыльцо, взял костыли, подошел к бабушкам, сел на край толстущего лиственничного пня. Ноги его были обуты в чурки-тюфни из старой кожи с длинными, до колен, чулками, как и у всех ребятишек в эту пору.
Бабушка Анн уставилась на внука:
— Мы толкуем про Вавлё настоящего, а не про Вавлё-Максима. Давно это было. Ты, Иленька, еще и в помине не был. Ну да, расскажу вроде сказки о Вавлё и его племяннике. Может, вспомню али придумаю сама…
— Давай, давай, бабушка, — обрадовался мальчик и сел поудобнее. — Люблю слушать сказки…
Бабушка Анн шевельнулась на месте, причмокнула губами и языком, видимо готовясь к началу сказки. Подперев рукой впалую щеку и качаясь из стороны в сторону, бабушка запела чуть дрожащим голосом:
На далеком Севере у моря-океана, У моря-океана да Обдорска, считай, Родился мальчик у яранов в чуме, Родился в чуме, и назвали его Вавлё…— В малице родившийся… — Эдэ вспомнила эту подробность.
— Во-во, — поддакнула старуха Анн и продолжила сказку.
Но тут Илька спросил:
— Как это родился в малице? В животе у мамки, что ли, был так?
Бабушка Анн ласково сказала:
— Ты слушай, а не мешай. Ладно? А то могу ведь и запутаться… Так вот, слушайте:
…Вавлём назвали его, Вавлём стали звать. Рос Вавлё у яранов да у бедняков. И большой вырос и справедливый: У оленщиков отбирал лишних оленей Да раздавал беднякам безоленным. Вот за это Вавлю и ненавидели, Ненавидели в тундре оленщики… Вот позвал Вавлё однажды племянничка: — Иди-ка ко мне, мой племянничек, Разговор с тобой есть очень важный, Очень важный да нужный и большой — Десять лет мы уже не бывали в Обдорске, В Обдорске да в домах-избах. Хлеб мы едим — один затхлый остаток. В Большой Обдорск надо съездить, однако. Еду всякую да прочие товары привезти… Согласился племянник, стали готовиться: Песцовые шкурки они складывают на одну нарту; Лисьи шкурки они складывают на другую нарту; Десять нарт-вандеев таких набралось…— А богато живут — шкурок-то сколько! — добавила Эдэ и, вспомнив наказ Анн, закрыла рот.
Илька зашикал — нельзя мешать бабушке.
— Ничего, — сказала она. — Теперь можно. Вспомнила наконец.
Вот поехали в путь-дорогу дальнюю, В путь-дорогу дальнюю да на оленях. Едут и едут по снежному полю, К Ларьях-озеру уже подъехали. Кто-то один из них заметил-крикнул: — Семь гусей летят, семь гусей! Это в зимнюю-то пору, морозную?! Что бы это значило, что значило?.. И племянничек тоже удивляется: — Видно, это дурной знак! Видно, дурной! Смотрите, смотрите — один-то гусь Совеем опускает левое крыло! Дядя, дядя! Видно, это дурной знак! А Вавлё усмехается, говорит племяннику: — Пустое это! Что может знать крылатый гусь?.. — Нет, он знает, — говорит племянник. — Крылатый гусь летает везде!.. — Это пустая примета древних стариков, — Отвечает опять дядя Вавлё. — Пустую примету они придумали… Только не сдается его племянник: — Дядя, дядя! Давай-ка отнесем амдер, Отнесем амдер на берег озера! Выставим вместо знака-паса! В сухую оленью шкуру-амдер Пустим-выстрелим стрелу из лука! Что-нибудь она да покажет нам! Дядя, дядя! Амдер дай мне, амдер дай! Вавлё дал амдер своему племяннику. Племянник тот амдер поставил стоя. Вавлё взял и пустил стрелу, Стрелу из лука, будто играючи. Видно, попал Вавлё в цель-отметину — Показалось на оленьей шкуре Пятнышко крови, как будто свежей. И племянник тоже пустил стрелу из лука, По сухой оленьей шкуре выстрелил, Выстрелил и тоже попал в цель. Он взял шкуру — шкуру оленью, сухую, И понес показывать пастухам-оленщикам. Те смотрят — верно, ведь выступила, Выступила кровь, как стрельнул Вавлё. А племянник говорит, а племянник тревожится: — От моей стрелы не выступила кровь, Не вышла кровь на сухую шкуру! Дядя, дядя! Вернемся назад скорее! Видно, это плохой, дурном знак! На сухой оленьей шкуре-амдере Кровь не должна выступить, не должна!.. — Пустое это, — говорит опять Вавлё. — Одна жилка на шкуре не просохла. Моя стрела попала как раз в нее. Оттого и пятно крови выступило. Пустая примета — стрельба по оленьей шкуре. Выдумка древних, седых стариков. Поехали дальше — надо спешить нам. В Большой Обдорск, в Большой Обдорск!.. Вот отъехали от озера и видят — Приближается навстречу белая упряжка. Повстречались они да и поздоровались. Встречный мужчина и говорит-жалуется: — Уж так долго не наведывались, Вавлё! Тебя ведь хотят избрать из яранов Вместо остяцкого князя Тайшина! Меня отправили на поиски тебя, А ты сам, Вавлё, явился! Молодец! Поехали вместе с твоим аргишом.[18] С твоим аргишом да не очень большим!.. Вот опять тронулись с места, поехали: Белая упряжка впереди как ведущая; Вторая упряжка, конечно, у Вавлё; Остальные сзади аргишом-караваном. Едут и едут, едут и едут. Вон уже показался Большой Обдорск. Где-то находится изба князя Тайшина. К избе князя Тайшина подъехали. Помощник князя вышел навстречу: — Скиньте парки! Снег отряхните! Заходите, заходите в избу князя, В избу князя как большие гости!.. В избе было наготовлено питья-еды, Питья-еды да сколько пожелаешь. Вавлё и племянника усадили за стол, Усадили за стол да в отдельной комнате, Вавлё посадили в красный угол, В красный угол да самый почетный. И племянника тоже хотят усадить, Хотят усадить возле своего дяди. Но племянник отказывается от красного угла, От красного угла отказывается он. Вавлё подносят большую кружку водки, Большую кружку водки да полную. И племяннику тоже полную поставили, Поставили перед ним, молодым-юным. Он лишь пригубляет, пригубляет только. Глядит, а Вавлё пьет, дядя Вавлё пьет, Будто никогда не видывал водки. Всю полную большую кружку опорожнил… Вдруг свет погас, погас свет вдруг. Потом обратно стало светло как днем. А дядю Вавлё, оказывается, схватили, Схватили да скрутили у стола. Видит племянник — вяжут дядю Вавлё, Вяжут дядю Вавлё проволокой. И на него, на племянника, накинулись. Племянник рукой взмахнул, отпрыгнул, Отпрыгнул в сторону и хотел выскочить, Хотел выскочить на улицу — дверь за запоре. Тогда кинулся он к окошку обледенелому, Хотел выпрыгнуть, да не мог — решетка, Железная решетка ведь на окошке. На шесток вскочил удалой племянник, Глянул через трубу — небо виднеется, Небо виднеется, и подтянулся тут. Подтянулся тут и плечами двинул, Плечами двинул — треснула печь напополам. Наверх взобрался — небесный свет увидел, Небесный свет увидел — сказал, как заклинание: — Когда-нибудь дядю Вавлю проведаю, Проведаю дядю Вавлю, в гости явлюсь к нему. Отыщу его голову, дядину голову буйную, В Большой Обдорск явлюсь в гости, Явлюсь в гости в Большой Обдорск!..[19]Ну вот и все. Вся песня-сказка.
— Хорошая!.. — в один голос сказали Илька и Эдэ, которая даже встала и стояла теперь спиной к малышам.
— То-то же, — заговорила уже другим тоном старуха Анн. — А ты, Иленька, думал — мы беседуем про Вавлё-Максима? Был когда-то мой деверь с таким именем. Прозвали уже здесь, в Мужах, в честь Вавлё — Вавлё-Максимом. Стоял, как Вавлё, за бедняков. Мужевские-то бедные люди знали от обдорян про Вавлё. А Озыр-Макко да Квайтчуня-Епко ненавидели Вавлё-Максима. Они даже не хотели слышать слово «Вавлё». Угрожали Максиму расправиться с ним. Он и уехал обратно за Камень. Холостой еще был…
— Эй вы, бабушки! Прозевали малышей! — засмеялся Илька и кивнул головой на настил между домами. — Детей-то не видать!
Старушки всполошились. Эдэ, стоявшая спиной, повернулась и быстро пошла искать ребятишек. Поднялась с завалинки бабушка Анн, переваливаясь с боку на бок, засеменила за Эдэ.
— Груня! Федул! Где вы?.. — звала Эдэ с настила. — И здесь не видать! Ой, беда-беда!
И старуха Анн тревожилась, подслеповато заглядывая туда-сюда, звала малышей.
Малышей нигде не было, и две старухи пошли-побежали на своих просмоленных тюфнях вокруг старого дома, надеясь догнать их. Обошли кругом, окликая детей, а их и здесь не оказалось. Бабушки не на шутку испугались.
Илька встал на костыли и поднялся на настил. Сделал несколько шагов и остановился перед пустующими сенями. Они были наполовину закрыты ветхой дощатой стеной, а дверь посередине открывалась внутрь сеней. Весной Федюнька, любящий коней, решил держать в них заблудшего жеребенка и натащил сена. Но хозяин жеребца сразу же узнал потерю и, смеясь, отобрал Федюнькиного «коня». С тех пор лежит там это сено. Не туда ли они зашли?
— Точно! — закричал Илька, заглядывая в дверь. — Малыши тут, спят на сене! Ха-ха-ха!..
Старушки обрадовались:
— Наконец-то!.. Вот они где!..
Детишки лежали на сене спиной друг к дружке и держали в ручонках по пучку зеленой травки. Наверное, хотели похвастаться перед бабушками, да уснули на вольном воздухе.
— Слава те Господи! — бабушка Анн заговорила тихо, чтоб не разбудить детей. — Пускай поспят немного. Отойдемте. — И опустилась напротив на крыльцо своего дома.
Илька сел рядом с ней, а Эдэ пошла к стойке и стала подниматься по взвозу на сеновал, чтобы взять белье. Оно развешано на веревке между двумя жердями недалеко от распахнутых ворот сеновала. Эдэ прощупывать стала белье, но вдруг испуганно закричала:
— Ой, леший! Спасите!.. — И ринулась вниз по взвозу, оглянулась назад, приложив руку к сердцу. — Там кто-то есть! Глаза горят красным цветом. Боюсь!..
— Это кошка забралась в сеновал, — засмеялся Илька и крикнул что было мочи: — Кис-с, кис-с, кис-с!..
Кошка появилась на пороге сеновала, быстро прибежала к людям, стала ластиться к хозяину.
Эдэ облегченно вздохнула:
— Ну, надо же!! Как испугалась я! Никогда не знала, что глаза у кошки могут гореть! В чуме у нас нет кошек. Подумала — леший, Вэрса. Он забрал двух оленей у нас…
— Вэрса? — Старуха Анн перекрестилась. — Про Яг-морта, Лесного человека, слыхали, а это — впервые…
— Не говори. — Эдэ тоже перекрестилась и села рядом с Илькой. — Даже не хочется вспоминать его. Жалко двух оленей. Не просто Вэрса, а Ыджыд-Вэрса — Главный леший ведь был…
И Эдэ рассказала, стараясь говорить приглушенно, чтоб не накликать Ыджыд-Вэрса. Илька слушал, разинув рот и лаская на коленях кота Ваську.
…Было это давно — только что поженились они с Елисеем. Он после смерти родителей, их убило молнией возле чума, остался хозяином маленького стада — десять голов оленей всего. Начал искать жену и нашел сиротку Эдэ в соседнем чуме. Поженились. Откочевали на эту сторону Камня-Урала — место между Войкаром и Сыней. Год угадал трудный, от копытки гибли олени, и каслать стало нечем. Елисей и Эдэ решили не кочевать весной с остатком стада за Камень, а обойтись где-нибудь здесь возле речки Сыни. У оленеводов гнездо, как у кукушки — сегодня здесь, завтра там. Но тут пришлось сидеть в одном месте.
— Вот тут мы с Елисеем и видели тогда Ыджыд-Вэрса и потеряли двух оленей из оставшегося стада, — рассказывала Эдэ, приглушая голос. — Высокий-высокий он! Выше доброй сосны! И сильный-сильный! Одного быка-оленя хвать под мышку, а другого — на плечо!..
— Это Яг-морт. — Анн тоже шептала вполголоса, нежно касаясь плеча Ильки. — Он все лето наших коров охраняет. Видела его с лодки несколько раз — высокий-высокий, выше елей. Вот и взял он двух оленей, коли нечего у вас охранять. Потом возвратит обратно…
И Илька закивал головой — верно, мол, мать сколько раз сообщала им, ребятишкам, что видели Яг-морта с лодки.
— Да не то! Яг-морта знаем. Он человек добрый, на нас похожий, — упорствовала Эдэ. — А это другой — дикий человек, Ыджыд-Вэрса. Потеряли мы двух оленей. Не вернулись они больше. Мы с Елисеем пастушили ночью… было ведь светло как днем. Вдруг олени в небольшом нашем стаде забеспокоились. Откуда-то чудовище появилось сзади над оленями. Высокий-высокий человечина, выше хорея. Глаза горят, как угли, темно-красным цветом. Хорошо видим — покрыт длинной белесой шерстью. Одежды никакой. Наклонился он, взял в одну руку наобхват быка-оленя, а второй рукой забросил на плечо другого. «Куда ты тащишь оленей?!» — закричал ему Елисей. «Куда ты тащишь оленей?!» — загоготал пронзительно дикий человек, прыгнул через порожистую речку Сыню и был таков. Ой, беда-беда! Что такое? Страшно делалось нам с Елисеем. Может, еще придет за оленями? И нас сожрет. Решили в чуме спрятаться. Я была тогда беременная — Малань родилась потом. Беда! В чум не могу бежать. Спряталась кое-как, а собаку отогнала — пускай лает, отпугивает его. Хорошо помню — мои мозги сорока не выклевала еще. Вот вам крест…
— Страсти-то какие. — Бабушка Анн убрала руку с плеча внука и вздохнула: — Ох-хо-хо!..
— Ну и ну! Как интересно!.. — прошептал Илька.
— Мы до утра не решались выйти из чума — пищалей-то не было в тундре, — продолжала рассказывать Эдэ. — Без пищаля, что против дикаря? Караулили, выглядывали в щели. Наконец с Елисеем вышли, смотрим кругом — вроде нет страшилища. Ушел, наверное, куда-то и быков-оленей унес с собой. А маленькое стадо как будто бы и не тревожилось из-за чудовища. Охота взять оленей-быков, да идти страшно — порожистая Сыня, не попадешь на тот берег. Плюнули — откочевать лучше от Сыни. Решили посмотреть место у лиственницы, где возник он над оленями. Следы большие-большие, плоские, как у медведя. Пальцы расставлены в стороны. Пятки востроватые. Мы взяли да стоптали следы почти до Сыни. Чтоб никто не знал о диком человеке. И откочевали в сторону Саран-Туя. Вот до сей поры и молчала я. Даже и Малань, и Ирка, и Микуль не знали о виденном диком человеке. А тут вон из-за кота даже рассказала сама…
— Правильно, бабушка Эдэ. — Илька ласкал кошку, и вдруг хитро улыбнулся: — А ты не врешь случайно?
— Что ты, что ты! — заторопилась Эдэ, а затем вспомнила о данном Елисею слове ничего не говорить о встрече дикого человека и заулыбалась: — Вру, вру я. Хотела тебя, Илька, позабавить…
Старуха Анн высоко вскинула брови:
— Почему не могло быть? Очень даже могло. Сейчас только вспомнила — слышала я даже подобный случай от остяка Орымко. Голова у него была — на голой макушке волдырь — ударил кто-то во время пьянки дном бутылки и оставил «печать», — Анн засмеялась. — Так этот Орымко рассказывал — он видел сам двух кулей, чертей. Известно, остяки неохотно рассказывают о виденном куле-черте. Но Орымко был под хмельком — мы ехали на каюке по Горной Оби в Лор-Вож — и рассказал о случае в Устье-Войкарах. Как раз мы проезжали это место. Дело было, говорил он, зимой. С ним были две лайки — обе рыжие. Они ощерились, залаяли и бросились вперед. Потом вернулись, потом опять убежали вперед, и опять вернулись. Боязливо, говорит, прижались ко мне и больше не лаяли. И сразу же, дескать, вышли из леса два куля-черта. Тоже рыжие. Один высокий-высокий, выше, наверное, говорит, трех аршин, а другой пониже. Испугался, говорит. Глаза у них даже днем горят красным светом. Они шли, дескать, мне навстречу. Поравнялись со мной и вдруг посмотрели на меня, только глаза сверкнули. Одежды, говорит, совсем не было у них…
— Не было, не было. У нашего белесого тоже, — добавила Эдэ и покраснела — встретилась с глазами Ильки.
А Анн продолжала:
— На теле шерсть длинная и густая-густая. Лицо, как морда, вытянуто вперед. Руки длинные, намного длиннее, чем у человека. Походка не такая, как у людей. Они, дескать, выворачивали ноги при ходьбе. Кричали с выдыханием: «Ур, ур, ур».
— А наш белесый повторял вопрос Елисея, загоготал диким голосом: «Куда ты тащишь оленей?» — опять сказала Эдэ. — А тут только «ур, ур, ур…», говоришь ты?
— Ага, — сказала Анн. — Когда кули-черти прошли, собаки сразу же бросились в юрты…
— Ну-ка, ну-ка! Кули-черти, говоришь? — вдруг неожиданно послышался сзади голос Коктэм-Ваня. Он вошел со стороны калитки и ковыляет на деревяшке к брату Самуилу. Коктэм-Вань без шапки, но в фуфайке и в сапоге, нес на плечах мокрую сеть-важан и мешок с уловом — из мешка торчал хвост огромной стерляди. Остановился: — Вуся!..
— Вуся!.. — ответили ему, а кот почуял свежую рыбу, спрыгнул с колен Ильки и уставился на Коктэм-Ваня снизу вверх.
Старуха Анн покачала головой:
— И Вань пришел послушать про кулей-чертей. Опоздал!..
— Нет, не опоздал я! У меня ведь тоже есть рассказывать что. Например, про тунгу! — улыбаясь, заявил Вань.
— Про какого тунгу? — удивилась Эдэ. — Мы толковали здесь про диких людей…
— Вот дикие люди и есть по-зырянски Ыджыд-Вэрса, по-остяцки кули-черти, а по-ярански — тунгу. — Вань, опираясь на деревяшку, свободной рукой поправил волосы цвета сливочного масла. — Тунгу, а не тунгусы или другие какие северные люди. Старый и бывалый знает — я видел их когда-то перед германской войной, когда еще на двух ногах ходил. Это было около Ныды, почти в Обской губе. Тунгу встречаются осенью, когда темнеет в тундре. Мы промышляли с остяками и яранами на купца, и я видел троих тунгу. Наши чумы окружал высокий трехаршинный тальник. Так вот ночью часто лаяли собаки. Однажды этот лай стал особенно остервенелым. Я спросил у знакомого ярана. «Не все собаки лают, а только черной шерсти. Их у нас в своре три. Выйдем — покажу, на кого они лают. Только смотри не на собак, а на них осторожно, сквозь пальцы». И вот в полночь мы вышли из чума. Уже висела луна — большая, красная. Вдруг снова раздался лай трех черных собак. В нескольких десятках аршин я увидел высокого-высокого человека, а сзади, чуть поменьше двоих. Всего их трое. Смотрю сквозь пальцы. Головы и плечи диких людей выше тальников. Они шагали очень быстро, аршинными шагами, напролом через заросли. Глаза у них горели красным углем. Шерсть черная, густая. Таких страшных и таких высоких людей я никогда не встречал ни раньше, ни позже. Страшилища быстро удалились, даже не посмотрели на нас. Я старика-ярана спросил, мол, что это — лешие? А он испуганно прошептал: «Не смей говорить этих слов. Ты накличешь их. Зови просто „тунгу“. Они приходят сюда каждый год. Живут в лесу под корягой. Разговаривать не умеют, только страшно свистят и кричат: „Ру, ру, ру“».
— А Орымко рассказывал: «Ур, ур, ур!», — добавила Анн в полный голос, забыв про малышей.
И Эдэ тоже сказала громко про белесого — повторяет, мол, все, что слышит.
Коктэм-Вань махнул рукой:
— Не поймешь их. Иногда тунгу подходят к чумам или юртам украсть девушек, а может, и баб…
— Ой, беда, беда!.. — враз произнесли старушки так сильно, что разбудили детей — послышался визг. Эдэ, заворчав, встала и пошла к малышам, а Анн сказала: — Мы и забыли про детей — в сенях ведь спали они…
— На сене, — засмеялся Илька. — А мы заслушались былей-небылиц!
— Былей-небылиц! Верно, Илька, — кивнул Коктэм-Вань, — это ведь было давным-давно. Теперь вроде не встречаются тунгу, или куль, или вэрса. Поди, вымерли все черти, а может, убежали куда-нибудь. Вот вспомнил только, что дикие люди бывали на земле… Ну, надо отнести брату важан. Он тоже хочет важанить ночью. — Коктэм-Вань поправил на плечах сеть и мешок с уловом.
Анн полюбопытствовала:
— Видать, стерлядка здоровенная попалась…
Вань пообещал, что в следующий раз поймает осетра и, поддерживая ногу-деревяшку рукой, кивнул:
— Пока!..
— До свиданья!.. — ответили хозяева.
Илька смотрел внимательно, как удаляется Коктэм-Вань на деревяшке, и вздохнул: «Молодец Вань! Кормит семью, хоть и без ноги. Вот мне бы так хотелось когда-нибудь!..»
Глава 24 Елення
1
У Сеньки Германца стряслась беда — ночью во время сна рухнула полать. Едва не ушиблись спящие на полати мальчуганы Гаддя-Парасси. Она испугалась очень — могли ведь искалечиться. Доски полати выскочили из пазов планки, потому что стена отходит в наружную сторону, и все рухнуло вниз. Щербатая лампа, как на грех, пустовала без керосина с весны.
Рано, как только начал брезжить рассвет, Гаддя-Парасся, оставив ревущих детей, пришла к Еленне. Плача и проклиная председателя, сообщила про их беду — рухнула полать. Парнишек чуть не убило.
— Горе-то какое! — кричала она на крыльце избы Еленни.
Елення зашикала — разбудит весь народ. Сказала, что сегодня же добьется от Биасин-Гала конкретного ответа. Пусть Парасся успокоится, идет к своим детям, а Елення сейчас же пойдет к Биасину.
Парасся, всхлипывая, ушла, а Елення не смогла уснуть — чувствовала свое бессилие, не может она никак убедить Биасин-Гала помочь многодетной Парассе. Она встала, начала брякать подойником, несколько раз выходила к корове. Увидела свою матушку Анн и поведала — пусть снохи подождут ее у берега, если она задержится.
Матушка покачала головой:
— Ох-хо-хо! И зачем тебе это дело! Избрали куда-то делегаткой, ну и пускай разбираются сами!..
Елення добиралась до председателя долго — он жил на северной окраине села. Пока шла, все думала, как бы покрепче поругать Биасин-Гала. Народ уже встал, даже обратил на нее внимание, чуть не бегущую куда-то, но она ничего этого не замечала. Гала она застала дома. Он удивился:
— Елення? Что так рано? Что-нибудь случилось у тебя?
— Не у меня, а у Сеньки Германца. Рухнула полать ночью, — сообщила Елення. — Надо делать что-то. Разваливается избушка, вот-вот упадет, слеги не спасают снаружи, а дом Озыров пустует. Куда это годится? Сегодня непременно надо вселить семейство Германца в дом Озыров. Хотя бы дать им пару комнат.
Гал сказал, что вместе надо сходить к Парассе. Может, она врет, что рухнула полать. Велел Еленне подождать его, пока он одевается.
И пришлось Еленне вместе с Биасин-Галом шествовать к Парассе, а не идти по берегу к снохам. Гал и Елення осмотрели снаружи слеги по бокам крылечка и заметили, что они ушли еще больше в землю, верхние бревна совсем высунулись наружу. Зашли в домишко — нету полати. Вместо нее одно бревно висит, доски на полу — кучей, а напротив около единственного окошка стена подалась внутрь. Вот-вот рухнет потолок у входа. Гал наклонился, чтоб не задеть бревно, сказал:
— Сегодня перейдете к Озырам в дом. — И Еленне: — Ты можешь ехать на покос…
— Наконец-то! — Елення подошла к Парассе, чмокнула в щеку и воскликнула: — Вот и все! Мы с тобой, Парасся, победили! Вселяйтесь и живите, а я когда-нибудь забегу! Посмотрю, как вам живется у соседей-Озыров!.. Уехали в Тобольск. Не вернутся.
И Елення побежала на берег.
2
Прошло несколько дней. Сенька Германец с двумя женами и оравой детей жил в доме Озыров. Все любопытные — взрослые и малыши, а также Елення со снохами, их ребята, даже старушки Анн и Эдэ, навестили Германца, потому что никогда не видели богатый дом. Но Сенька-то был из самых бедных бедняков, к тому же не приученный жить в чистоте и опрятности.
— Живут в хоромах, а зайдешь — конюшня, — говорила Елення про житье Германца на новом месте, гребя со снохой Настой и Марьэй на Аспуг-Оби. — Придется учить их соблюдать чистоту…
— Грязнули, не научишь. — Малань правила лодкой, наверное, в последний раз — должна вот-вот родить. В середине лодки лежали вязанки сена и травы — они ехали домой. Легкий ветер с севера рябил воду на неширокой Аспуг-Оби. Направо от гребцов виднелись сидящие на настилах важанящие люди.
— Не догадается ведь кто-нибудь из рыбаков оглушить осетра, а потом выронить в воду. Мы бы ехали и поймали оглушенную рыбу. — Елення смеялась своей выдумке, работая гребью.
Мать с дочерью улыбнулись, а Малань вдруг воскликнула:
— Стойте, стойте! Не гребите! Вроде плывет большущая нельма брюхом вверх! Ей-богу!.. Проехали уже! Гребите обратно! Быстрее!..
— Неужели?!. Вот повезло-то!.. — засмеялись гребцы и принялись грести обратно. Остановились, бросили в уключинах греби, кинулись с двух бортов искать на воде рыбину. — Где нельма?!. Не вижу!..
Лодка, потеряв управление, вертясь-крутясь на месте, качалась из стороны в сторону и плыла помаленьку к устью Аспуг-Оби. Вязанка сена свалилась на воду, и греби выскочили с уключины и поплыли тоже.
— Малань, поймай веслом! Поймай!..
— Не достает, Елення! Лови ты!..
— Мама, я вижу рыбу! Какая большая!..
— И я вижу!..
Наконец торжественный возглас на корме:
— Есть! Угадала мизинцем под жабры! Сейчас затащу в лодку! — Малань умирала от смеха. — Ух, какая большая!.. Вот это добыча!.. — Она показала голову нельмы: — Смотрите, какая башка! Насилу подняла за жабры! Хвост на дне лодки, а голова — мне до плеч.
Елення хохотала:
— Только ворожила я — и тут как тут!..
— Нам с мамой тоже пай! — заявила Марьэ.
— Тоже, тоже! Всем нам по паю, всем! — смеялась Малань и опустила нельму на дно лодки. — Давайте ловить потерянные вещи! Ой, беда, беда! Чуть не утонули!..
— Глубже воды не утонем! — хохотнула Елення, загребая доской ближе к плывущим гребням.
3
Караван судов, состоящий из каюка[20] и привязанных вереницей трех калданок, шел из Пырысь-Горта. Это километрах в сорока ниже Мужей по извилистой в этих местах Малой Оби. Шли против течения Петул-Вась с сыновьями Колькой и Петруком, Варов-Гриш, работавший летом рыбоприемщиком и сдавший рыбу на пароход, и Пранэ. Выехали сегодня утром и сейчас в наступающих сумерках завернули в протоку у Ханты-Мужей, чтобы не делать лишнего хода и не огибать последнюю кривизну до села. Протока, называемая Ыджыд — Большая, была осенью неширокой и тихой. В каюке, оставшемся после сдачи Гришу, виднелись бочки и ящики с запасенной соленой рыбой. Тут же вокруг мачты были гимги, одежда, дорожные вещи и утварь. Собаки находились в калданках среди мешков с узлами сетей и длинных кольев. День угадал почти безветренный, и ехали без паруса, который был приготовлен у мачты. У руля стоял Петрук и распевал песни, зырянские и русские. Голос у него звонкий и слышался далеко-далеко.
— Хороший голос, сильный, — похвалил Гриш племянника. Гриш, как и братья, оброс волосами и щетинкой. — Вырастет — будет певцом-молодцом. А что? Как Шаляпин. Слыхали, поди?
— Слыхали, — сказал Вась. — Он может стать и художником, и даже поэтом или писателем. Да-да, я знаю. Учиться только надо. Слышишь, Петрук?
— А? — мальчик перестал петь. — Да, надо учиться. О, через два дня начнется новый учебный год! Я буду в третьем классе. А потом, наверное, поеду учиться в Обдорск. Да, айэ?
— Конечно. А Колька пусть останется с двухклассным образованием, — ответил отец и продекламировал: — «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…»
— И читальщиком стал ты, — засмеялся Колька. Он очень похож на отца — голубые глаза и нос с горбинкой.
Пранэ усмехнулся:
— Читальщик, а не рассчитал. Прозевал ведь ты, Вась, отпуск!..
— Да-да, — закивали все остальные, а Вась посуровел.
— И как так получилось? Отпуск кончился давно, я опоздал выйти на работу, — тужил Вась. — Правда, немного — три дня с добавкой. Рыба уж больно хорошо ловилась в последние дни. Попадет, наверное от Биасин-Гала.
— Э-э, слушаться его, Биасина. — Колька устало шевелил гребью.
— Но, но, — Вась посмотрел строго на сына гребя рядом.
Вдруг Петрук воскликнул:
— Вот и начало протоки! Выходим на Обь! Сколько лодок с сеном! Все спешат домой с покоса…
Гребцы перестали грести, заулыбались.
— Наши-то, поди, тоже там. — Гриш смотрел на лодки.
Вась и сыновья стали искать своих людей. А Пранэ махнул рукой, улыбаясь:
— Моя Малань сейчас дома с новорожденным. По моему расчету получается так, хотя я и не «читальщик». Опять, наверное, дочка. Кого же больше принесет моя Малань…
Но тут в одной лодке, самой ближней к берегу, чуть впереди, послышался крик младенца. Потом еще. На корме той лодки никого не было, виднелась только согнутая спина, а в носовой части лодки гребли двое потихоньку.
Пранэ крикнул, положив руки рупором:
— Эй-эй! Это мы, из Пырысь-Горта! Как Малань?..
В лодке с сеном услышали, обрадовались, раздались голоса:
— Это вы?.. Ой как хорошо!.. Малань родила сына!.. У нас есть нельма! Большая-большая!.. Ворожила тетя Еля!..
— Сына? Вот это здорово! — возликовал Пранэ так, что едва не свалился в воду. — Поехали догонять их! Я сам сяду к рулю, а вы гребите!
Глава 25 Незабываемая осень
1
Пришла осень, заморозила землю, запорошила. Малая Обь начала застывать. Илька, Венька и Федюнька учились в первом классе. Только троих не перевели весной — белобрысый Димка болел долго и пропустил много, а также Анка и Нюська с «гнилыми языками», дочери Сеньки Германца, так и не научились выговаривать «р», и вообще бестолковые какие-то — не смогли за две зимы выучить счет до десяти. И Педька не приехал до сих пор из тундры. Яков Владимирович не знает, перевести ли его в другой класс. Зато в первом классе учеников прибавилось — четверо второгодников. И кроме них еще новая ученица — русская, Люська, прибывшая из Тобольска к тете, учительнице Любови Даниловне, жене Вечки. Любовь Даниловна в этом году вместо Якова Владимировича, который остался в нулевом классе, потому что знает зырянский язык.
Нулевой и первый класс занимались попеременно в одной комнате, в две смены. Остальные комнаты днем почти пустовали — из них, убрав перегородки, сделали клуб для работы вечерами и в выходные дни. Старшие ученики Мужевской трехклассной школы занимались теперь в доме, где раньше помещался сельский Совет и Нардом. Сельсовет и женотдел сейчас в бывшей двухклассной церковноприходской школе.
Однажды перед 7 ноября, перед десятилетием Октября, Любовь Даниловна задержала учеников после уроков. Смеркалось, и горели только что зажженные керосиновые лампы, а с потолка свисали несколько электрических патронов.
— Вот видите — югыд-би будет на днях! Обязательно будет! — учительница кивнула на патроны.
Она начала говорить о том, что за эту большую отеческую заботу о северянах, за югыд-би надо благодарить нашу Советскую власть, нашу большевистскую партию, нашего дорогого Ильича, по заветам которого мы строим социализм. Нужно вступить в пионеры, стать юными ленинцами.
— Я желаю вступить! — Федюнька готовно вскочил с места.
Все засмеялись — Федюнька был самый маленький по возрасту и не подходил в пионеры. Он принят в школу «адъютантом» из-за Ильки. А Илька вытаращил глаза — ему можно, оказывается, вступить в пионеры, носить красный галстук, как и Петруку.
— Но в пионеры не всех берут! Надо заслужить. — Любовь Даниловна стала перечислять, каким должен быть пионер, стоя между партами нарядная — в клетчатой юбке, голубой кофточке, кудрявая блондинка с черными глазами.
Слушали ее внимательно, потом стали переглядываться и шептаться. Годных в пионеры много, но и плохих тоже немало, особенно нарушителей дисциплины и прогульщиков. Решили считать вполне подходящими вместе с русской Люсей еще семь учеников, среди них Илька и Венька.
Любовь Даниловна сказала, что завтра после уроков она и пионервожатый Евдок начнут учить с будущими пионерами торжественное обещание.
Когда вышли на улицу, то было почти темно. Илька без конца делился радостью с Венькой и Федюнькой — он вступает в пионеры.
Вдруг они услышали, что сзади кто-то идет-пыхтит. Остановились, подождали. А это тот самый рослый мальчик, юноша Квайтчуня-Верзила Самко, который сломал костыль у Ильки, а потом устроил ловушку. У него отец, Квайтчуня-Эська, богатый, и сын лентяйничает, дурит, год учится, а год — нет. Теперь, слышно, посещает третий класс, последний.
— А я знаю! А я знаю!.. — завопил ломким переходным голосом Квайтчуня-Верзила, остерегаясь ребят и приподняв на плечо сзади подол малицы, чтоб бежать. — Был только что в клубе! Вас принимают в пионеры! Ха-ха-ха! — И он запел по-русски с зырянским акцентом:
Пионеры юные, Головы чугунные, Сами оловянные, Ноги деревянные…— Уходи отсюда!.. — закричали ребята враз.
Квайтчуня-Верзила, увидев, как Федюнька и Венька наклонились, чтобы взять конские голяши и закидать его, быстро юркнул мимо них.
— «Ноги деревянные…» Это про меня… — вздохнул Илька. — Ну и пускай! Мы еще посмотрим!..
Отец и мать Ильку похвалили — будет пионер в семье. А Февра большая уже, в комсомол приняли. Вот-вот должна прибыть она в Мужи — хватит уж ей странствовать, теперь выучилась — вожатой будет; Федюнька сожалел, что не дорос еще, а то бы тоже вступил в пионеры. Илька сказал о торжественном обещании пионеров — вдруг да оно окажется трудным. И вспомнил еще про Квайтчуня-Верзилу — ноги деревянные, мол…
Родители хмыкнули.
— Да ну его! Дурак — дурак и есть! Ломал костыли и нарточку! — Гриш достал из-под футляра швейной машины три небольших гофрированных коробки, открытых по торцам, и принес осторожно на стол. Посмотрел на висящий с потолка шнур с патроном. — Скоро кончим канителиться с керосином. Будет югыд-би! Вот тогда и выучишь назубок торжественное обещание. Видели такие пузырьки? Сегодня получил у Будилова. — Он, улыбаясь, вынул осторожно из одной коробки прозрачный, продолговатый пузырек с пуповиной на круглом конце, внутри стекла что-то непонятное, вроде проволочки, а другой конец — металлический, чтобы ввинчивать в патроны.
Ребятишки обрадовались:
— Ур-ра-а!.. У нас тоже скоро будет югыд-би!.. Быстрее ввинти, айэ!..
Но отец и мать сказали — рано еще. Можно, в крайнем случае, один пузырек в горницу и ждать, когда дадут югыд-би.
2
— Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду твердо и неуклонно стоять за дело Ленина, за законы и обычаи юных пионеров, — зачитал текст пионервожатый Евдок пятерым ученикам: из желающих вступить в пионеры накануне двое отказались и ушли домой — не разрешили родители.
— Понятный текст? — Любовь Даниловна, раздав листочки ученикам, чтоб записали обещание, отошла от ребят к длинным партам, где сидел Федюнька, ожидающий Ильку. Она тоже дала ему листок черкаться, если хочет.
— Понятно, — ответили ученики, а Илька добавил: — Совсем немного, а я думал, длинное…
Горели керосиновые лампы, но были уже включены и электрические пузырьки в свисающие сверху патроны. Вот-вот должны разгореться. Федюнька то и дело поглядывал на пузырьки, думая о своей избе — вот обрадуются родители.
— Я буду писать на доске этот текст, а вы списывайте на листочки. Потом выучите хорошенько… — Евдок только взял мел, как вспыхнуло электричество! Все даже пригнулись, заморгали.
— Югыд-би! Югыд-би!.. — закричали ребята. — Вот и дождались. Какое яркое!..
— Все! Теперь можно попрощаться с керосиновой лампой! — Любовь Даниловна еще краше, чем вчера, от нового света.
Открылась дверь, заглянула сторожиха Силовна.
— И у вас югыд-би? — засмеялась она. — Конец лампам! Отмучилась все же я!..
Вдруг электричество погасло, и стало сумрачно.
— О-о, темно!.. — захныкали ребята.
А учительница сказала:
— Вот так здорово!.. Силовна! Спички давай!..
Силовна, ругаясь и смеясь над своей оплошностью, быстро принесла спички.
Федюнька вдруг закричал:
— Смотрите, смотрите! Югыд-би начинается! Чуть-чуть… Давай, давай!.. — Он встал с места, протягивая руки к электричеству.
— Югыд-би! Югыд-би!.. — завопили радостно ребята.
Электричество зажглось как надо. Но взрослые и Люська не стали так радоваться — опять, может, погаснет югыд-би — светлый огонь. Силовна зажгла лампы — пусть горят. Евдок начал писать на доске торжественное обещание, а Любовь Даниловна проверять, правильно ли списывают ребята. За все время гасло еще несколько раз, но не прекращали работу — горели керосиновые лампы. А Федюнька думал: «Вот интересно-то: зажжется — погаснет, зажжется — погаснет. Играют, что ли?..»
Закончили списывать с доски, пионервожатый еще раз прочитал торжественное обещание и велел выучить текст назубок. Потом будет проверять перед самым праздником и завяжет красные галстуки.
Идя домой в темноте. Илька несколько раз чуть не упал — было скользко. Только открыли калитку, видят — две нарты стоят в ограде между избами. Наверное, Февра приехала.
Но тут вдруг погас яркий огонь, и они ввалились в свою избу при свете керосиновой лампы.
— Вот и ребята пришли из школы. — сказал Гриш, собравшись надеть малицу. — И мне пора на спевку в клуб…
— Февра приехала! — радовалась Елення. — Дождались наконец! Только нету ее — вышла показать новую малицу соседям. Выросла!..
Сыновья пожалели и стали расспрашивать про югыд-би.
— Югыд-би! То зажжется, то погаснет! — Смеясь, Гриш надел малицу и хотел выйти, но тут электричество снова зажглось и больше не мигало. — Вот! Будилов играет в жмурки, а мы не знали. Погасили сперва керосинки. Смотрите, не трогайте пузырек. Ну, я пошел петь. — И вышел за дверь.
А ребятишки, не раздеваясь, зашли в горницу и уставились на яркий пузырек.
— Не смотрите так на югыд-би — ослепнете. — Елення взяла тряпичный узелок. — Вот вам подарок от Февренни — сера жвачная, кедровая.
Они разделись, набросились на серу.
— А кос-яй, копченое мясо не привезли? — Илька уже жевал жвачку со щелканьем, что считалось особым умением. — Я хочу сильно копченого мяса…
— И я тоже, — не отставал Федюнька.
Мать сказала, что сестра кос-яй привезла, но немного, и надо подождать всех, чтоб попробовать.
— Февра привела свою Авку. Я вам рассказывала о ручном олененке, Февре подарил Елисей за хорошую помощь, — улыбнулась Елення. — Теперь подрос. Сзади нарты Февриной стоит на привязи. Увидите вот завтра…
— Мы ведь писали торжественное обещание, — сказал Илька. — Ну-ка, Федюнька, быстренько мне сумку…
3
Гриш, выйдя из избы и направляясь к калитке, полюбовался еще раз, с белой звездочкой на лбу, еще заметной в темноте. Все олени лежали, поскрипывали зубами, а Авка стояла, ожидая, видно, чего-то. Может быть, хлебца от Февры.
«Надо было мне захватить с собой, — подумал Гриш и потрогал олешка за молодые рога. — Расти, Авка, набирайся силы-мощи. Станешь настоящим оленем…» — Он стал переходить в обход упряжек к забору, да запнулся о валяющиеся хореи, чуть не упал — Февра управляла оленями и ездила вовсю.
— Вот черти. Не догадались приставить хореи наклонно, — вслух сказал Гриш.
Он забрал хореи и поставил их на забор, да вдруг задел нижний провод. Загудело чуточку, посыпался иней, но югыд-би не погас. Как ни в чем не бывало, Гриш вышел за калитку и пошел по направлению к клубу.
Когда-то он считался в селе хорошим певцом — пел густым баритоном. Он даже в германскую войну одно время служил в музыкальном взводе барабанщиком, и напарником у него был Бобыль-Антон, пел басом, здешний, мужевский. Он и сейчас живой, только поет редко — болеет после ранения. И Гриш стал тоже редко петь — годы, видимо. Да и работа, семья, прохлаждаться некогда. Молодые растут, у Петрука сильный голос, и Февра поет ничего. Но сейчас, во время подготовки к большому празднику — десятилетию Октября и появлению югыд-би, он по приглашению клуба посещает спевки и разучивает новые песни. Приходят на спевки и другие, даже Бобыль-Антон. Есть и тенор. Как запоют все хором — только держись.
Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе! В царство свободы дорогу Грудью проложим себе!.. —начал петь он негромко, заложив руки за спину.
А Елисей, Эдэ и Февра, смеясь над югыд-би, вышли во двор.
И Февра тоже подошла к оленям и несла хлебец Авке.
Февра казалась выше ростом, подросла за полгода, а старик и старуха стали вроде ниже, почти вровень с ней.
— Но кому-то, видно, помешали наши хореи. К забору приставил их рядышком. Ишь ты! Сейчас мы уберем их — переведем упряжки к амбару. Надо было давеча оставить там… — Елисей взялся за длинные и тонкие жерди-хореи и хотел откинуть их назад, но вдруг как загудит и сверкнет что-то сверху, старик упал, и хореи свалились рядом. Закричал:
— Ой-е-ей!..
Олени вздрогнули, вскочили на ноги и заметались вместе с Авкой. Эдэ и Февра тоже крикнули, отскочили в сторону, а потом девочка заметила, что в ее избе погас светлый огонь.
— Что ты наделал, дедушка! — захныкала она. — Повредил у нас электричество! Вот у них горит, а тут нет. Наверно, хореями задел провода. Вон гудят еще…
Елисей выругался и стал вставать.
А Эдэ сказала:
— Вот беда-то — испортил Гришу югыд-би.
— Он, что ли, идет по проводам?.. — Старик посмотрел вверх, в темноту, но ничего не узнал и уставился на дом Гриша. — Верно, не горит у него югыд-би. Что делать?..
Из избы выбежали Федюнька, держа в руках малицу, и Елення, раздетая.
— Кто тут дурит? У нас погас югыд-би, а рядом — горит! А-а, это вроде Февра и дедушка с бабушкой… — Федюнька заулыбался, стал быстренько надевать малицу.
— Почему так? — спросила Елення. — И гудело долго…
— Я, я виноват, наверно. Извиняюсь перед Гришем… — Елисей держал в одной руке хорей, а в другой отстегнутую от копыла нарты вожжу передового оленя.
— Гриша-то нет — он на спевке в клубе! — крикнула им Елення. — Гриш, поди, и приставил к забору хореи! Вот так помощь!.. Феврення, не задерживайся зря, дома ждет Илька! Не терпится посмотреть на тебя!.. — И зашла в избу.
А Федюнька кинулся к сестре:
— Испортили югыд-би! Вот уж вам задаст жару папа!..
— Здравствуй, здравствуй, Федюнька! Почему не здороваешься? Эх ты, ученик-мученик… — Февра ласково обняла братишку.
Тот заулыбался:
— Вуся, вуся!.. О, ты высокая стала!.. А я уже твой подарок жую. А Авка? Молоденький еще. А рога есть…
— Конечно. У собак никогда не растут рога, а у олешка — вот. И белая звездочка на лбу, только плохо видно в темноте. Вырастет — будет олень, приданое мне… — Февра поцеловала оленя в лоб, а потом сказала, беря в руки хорей и вожжу: — А ты, Федюнька, тоже чуточку подрос… Садись, прокачу…
Федюнька обрадовался и сел на оленью шкуру-амдер.
Февра, как заправская оленеводка, хорошо владела хореем и вожжой, стала гонять упряжку вокруг старого дома, чтоб брату подольше ехать.
А Елисей и Эдэ, слышно, крикнули: «Стой, куда!» — но потом заулыбались:
— Мы уж думали, дочка, ты повезла брата по старой дороге в чум.
— Неладно получилось с Гришем — югыд-би-то не горит у него… — вздохнул старик.
Но назавтра монтер все исправил — соединил оборванное место на белом изоляторе и не велел трогать провода, а то может поразить, как молния. С электричеством шутить нельзя!
4
Вот и подошел праздник — десятилетие Октября. В селе Мужи встречали этот день как Рождество или Пасху. Даже лучше. Подумать только — с 1917 года прошло всего десять лет, а в избах селян по примеру Березово и Обдорска засиял яркий огонь — югыд-би. И с помощью высокой мачты можно разговаривать с райцентром. Да и жизнь переменилась: русский или зырянин, остяк или яран — все стали равными. Есть мир-лавка — кооперация, Уралпушнина, фельдшерский пункт, школа… Исчезли голод и заразные болезни, ликвидировали эксплуататоров. Не узнать Мужей.
В первом классе занятия отменили — готовились к встрече этого большого дня. Повесили над школьной доской красный лозунг: «Ленин сказал — надо учиться, учиться и учиться». Кто-то склеивал разноцветные бумажные флажки и гирлянды и развешивал их по комнате, не задевая электрических лампочек. Югыд-би стал гореть хорошо утром и вечером. Комсомольцы украсили клуб, повесили большой портрет Ленина в рамочке под стеклом. Осветили электрическим светом сзади и по бокам — называется иллюминацией. Принесли лозунг на красном материале «Да здравствует Советская власть» и прибили над портретом. А по сторонам и внизу повесили зеленые ветки кедра. По углам здания и вверху на крыше — красные флаги.
Такими же флагами украсились и сельсовет, и мир-лавка, и вторая школа, и фельдшерский пункт, и почта-телеграф, а также отдельные дома, где живут партийцы или члены профсоюза, в том числе и избы Варов-Гриша и Петул-Вася.
Вечером, накануне праздника, доклад о десятилетии Октября делал Биасин-Гал. Он говорил со сцены на зырянском языке и так быстро, что съедал отдельные слова. Был он в темном пиджаке с коричневой гимнастеркой и без усов, отчего казался моложе.
— Ровно десять лет назад, — сказал он, — в 1917 году, мы, трудовой народ, под руководством Ленина свергли власть помещиков и буржуазии, установили новую власть — Советскую…
Он напомнил, какие трудности пришлось преодолеть всем, особенно северянам — коми-зырянам, остякам-хантам, самоедам-ненцам. Он говорил сперва о разрухе и голоде, о болезнях и суевериях, о церкви и шаманстве, о сплошной неграмотности и сопротивлении богатеев.
В зале было жарко и душно. Некоторые мужики даже сняли малицы и подложили под себя, и, вслед за ними, слушающие доклад ребята. Женщины не снимали малиц и сидели потные, красные. Илька и Федюнька были раздетыми и протискались между отцом и матерью. Они нет-нет да шептались и трогали алый галстук на груди Ильки, только что надетый. Илька сам на костылях пошел на сцену в числе будущих пионеров, и перед докладом вожатый Евдок под звуки барабана и горна завязал им галстуки.
А Биасин-Гал все говорил и говорил, теперь уже об ином — о югыд-би и телеграфе.
5
Утром, ясным и солнечным, с морозцем, все село начало собираться к клубу. Малая Обь была уже затянута льдом, лишь кое-где виднелись полыньи.
Отсюда, от клуба, демонстрация должна шествовать по улице прямо на юг до сельсовета, а потом свернуть направо и идти до братских могил перед церковью. Распоряжался Вечка, коммунист, начальник милиции, ответственный за порядок в селе. Он был в шапке, в полушубке, с портупеей на боку и в валенках. Ему помогал Устин Вылка, озырянившийся ненец, приехавший по путевке комсомола из Обдорска, заведующий клубом и комсорг, одетый в малицу и кисы.
Они первым долгом поставили во главе демонстрации коммунистов, в том числе и Варов-Гриша, потом членов профсоюза с делегатками и подопечными им женщинами, затем комсомольцев с молодежью, наконец, пионеров и школьников, а сзади всех остальных. Тут были на конях с розвальнями, в том числе и Гажа-Эль с сыном. На лошади приехали Пронька с Туней и Ермилка из Айрусь-Горта, а также оленеводы с упряжками.
Набралась длинная колонна — до самой ограды усадьбы Озыр-Митьки. Кругом кумачовые флаги.
— Вот это да-а!.. — Сенька Германец стоял в распахнутых воротах, уперев руки в бока.
— Эй, Сенька! — окликнул его Биасин-Гал из ведущей колонны. — Ты почему не идешь к народу?
— Успею! — лепетнул тот. Он в новой малице, только без сорочки. — Все одно не дадите быть главным!..
В колонне засмеялись. Весь обширный двор Озыр-Митьки был сейчас у Сеньки Германца. Жаль только, нет коня и коровенка старая. Но ничего — зато дров много, пока не начал достраивать сельсовет двухэтажку, можно найти во дворе, чем отапливать печи. И свою хибарку употребит на дрова. Они теперь живут в отдельных комнатах — есть где развернуться. Правда, порядок трудно соблюдать — нет-нет да не моют полы бабы. Но Елення добьется своего — вон рядом с ней Парасся. Никогда не ходила на демонстрацию, а тут пошла. И Верка тоже хочет быть с ней рядышком, да ее очередь доить корову.
Варов-Гриш, встав в колонне ведущих демонстрантов, посматривал назад — он беспокоился за Ильку, оставленного на попечение Петруку, Федюньке и Веньке.
«Наверно, не видать отсюда. Должны быть в колонне пионеров и школьников», — мелькнуло у него в голове.
Увидел недалеко Еленню с Настой и Гаддя-Парассей, пришли уже. И Февра с Марьэй, конечно, уже здесь, с молодежью.
Гриш посмотрел на алое полотнище, как треплет его ветер. Надо держать крепко, когда они начнут шагать и будут петь. Вчера после торжественного заседания хорошо спели «Интернационал».
А Илька сидел на нарточке в колонне пионеров — готовились тащить его целой оравой. Люська была одета по-русски, в стеганое пальто, оно было распахнуто, и на груди ее виднелся красный галстук. Остальные все в малицах и поневоле спрятали галстуки.
Вечка и Вылка ходили деловито от колонны к колонне, урезонивая непослушных ребят, и наконец догадались — позвали Сергея Сергеевича из ведущей группы и успокоились. Пошли, чтобы доложить парторгу Будилову и председателю Биасин-Галу, что можно начинать.
— К демонстрации готовы! — отчеканил Вечка и, получив разрешение, выстрелил вверх холостыми из нагана.
Только этого и ожидал хитрый Вылка — у него с комсомольцами был приготовлен сюрприз. Не успели сделать шаг вперед из первой колонны, как раздались выстрелы за стайкой Сеньки Германца. Потом еще и еще…
Что тут началось! Народ вздрогнул, заволновался, а Сенька отпрянул от ворот и стал испуганно смотреть назад.
— Что такое?! — рявкнул Будилов, одетый по-русски.
— Кто стреляет?! — закричал и Биасин-Гал.
Вылка, улыбаясь, пояснил:
— Это мы, комсомольцы, сварганили! Вон как палят в честь Октября! Холостыми!.. А что — нельзя разве?
— С ума сошли!.. — Будилов был готов ринуться к стреляющим. — Остановить!..
— Может, кто в стайке!..
Биасин-Гал даже сделал шаг вперед.
— Стойте! Не стреляйте! — Вылка побежал к палящим из ружей, обходя с левой стороны ограду.
Варов-Гриш и народ хохотали:
— Во-он один!.. Пригнулся, перебегает с ружьем!.. Торопится к следующей стайке!.. О, в ограду глядите! Ичмонь-Верка выбежала из стайки… Сюда бежит с пустым подойником! Ха-ха-ха!..
Прекратив пальбу и угомонясь постепенно, двинулись вперед по улице все колонны.
Революционных песен не было у коми-зырянского народа, как и у хантов и у ненцев, поэтому пели на русском языке — «Смело, товарищи, в ногу…», «Варшавянку», «Мы — кузнецы», «Мы, молодая гвардия…», «Эх, картошка…».
Песен было много. Конечно, далеко не все знали слова. А петь хотелось всем. Некоторые просто подтягивали мелодию.
А коммунисты пели вдохновенно.
Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе!.. —пел Варов-Гриш, высоко вздымая реющий красный флаг, а рядом громогласно тянули Будилов, мужчины, женщины…
А дальше в следующей колонне пели молодые голоса:
Как родная мать меня Провожала! Как тут вся моя родня Набежала…И в третьей колонне пионеров и школьников раздавалось чистое, звонкое пение:
Взвейтесь кострами, Синие ночи!..Такое веселье, гул стоит вокруг колонн, украшенных красными флагами и флажками, — не рассказать.
Илька пел, сидя на нарточке и медленно, шагом продвигаясь вперед. Песни пионерские он знал хорошо — выучил назубок. Даже пел с отцом песню «Мы — кузнецы», хотя Гриш не был вообще-то кузнецом. Довольно легкая песня, особенно припев: «Стучи, стучи, стучи», выучил и Федюнька.
Но в заключительной колонне Гажа-Эль, совершенно трезвый, затянул зырянскую песню «Ох ты, солнышко мое…».
Ох ты, солнышко мое, Молодое ты житье! Молодое ты житье, Эх, веселое бытье! Я к пятнадцати годам Уж работал тут и там. А двадцатый год минул — Я в семье уж утонул. Я в семье-то утонул, — Туже пояс затянул. Стал трудиться день-деньской: Лес валил в тайге глухой. На замерзшем хлебе жил, Вечно рваный я ходил, Спал под елкой на снегу, А все время был в долгу…Голос у Гажа-Эля тоже хороший, да его немногие поддержали — это, мол, про старое житье. Тогда он запел «Доли-шели, ноли-шели». Его поддержали, стали петь оленеводы, но немного погодя остановились — песня-то про любовь, а не революционная.
— Не-ет, это не пойдет, якуня-макуня! — Гажа-Эль хохотал, развалясь в розвальнях, а сын правил конем-тяжеловозом, вернее, нисколько не шевелил вожжами. — Надо русскую песню…
— «Интернационал», — подсказал сын и вспомнил: вчера пели Варов-Гриш и другие.
А демонстрация шла и шла вперед, оглашая воздух разноголосым пением и шелестом красных стягов и плакатов. От сельсовета свернула направо и стала приближаться к братским могилам перед церковью.
6
Заметно потеплело, даже местами таяло под ногами, но приехавшие на праздник в Мужи не беспокоились — все равно застынет рано или поздно. Громогласный Будилов, сняв шапку, говорил с небольшой временной трибуны, и его голос был слышен далеко-далеко. Вместе с ним стояли Биасин-Гал и Устин Вылка, откинув капюшоны.
— Вот здесь похоронены наши люди, зверски замученные врагами революции, — продолжал Будилов и показал рукой на обелиск с алой звездой и на могилы возле него. — Под этим обелиском, говорю, лежит Ситко-Элисан — Александр Петрович Филиппов, а рядом — комсомольцы Андрей Рочев и Семен Попов, а также Тод-Вань, Иван Кожевин, прибывший из Архангельска. Все они погибли в двадцать первом году. — И Будилов воскликнул: — Вечная слава им, борцам революции!
И демонстранты ответили:
— Вечная слава! Вечная слава!..
Илька, сидя на нарточках, не видел Будилова из-за людей, поэтому попросил Петрука оттащить нарточку в сторону, чтоб видно было ораторов.
Ребята оттащили и обрадовались — теперь хорошо видно.
А Будилов все говорил и говорил — теперь уже о встань-траве, да-да! Народ действительно как встань-трава — воспрянул от вековой темноты и бесправия, от нужды и голода. Помаленьку поднимается. Вот-вот встанет совсем. Даже в селе Мужи построил югыд-би и мачту телеграфную…
— Вот вам телеграмма из Обдорска, — еще издали крикнула сторожиха с телеграфа, протягивая бумажку людям на трибуне.
Будилов перестал громогласить, взял бумажку и, развернув, быстро пробежал глазами, постепенно светлея лицом. Гал и Устин прильнули к нему.
— Видали? — рявкнул Будилов и захохотал: — Вспомнил нас Куш-Юр! Есть, можно сказать, родные, мужевские! — Он наклонился через перила к демонстрантам: — Слушайте! Телеграмма! — И прочел: — «Мужи сельсовет парторг комсомол поздравляем жителей села окрестных юрт чумов радостным праздником тире десятилетием Великой Октябрьской социалистической революции тчк желаем дальше трудиться благо Родины тчк Ивановы».
Иллюстрации
И. Г. Истомин. Ленин на Урале.
И. Г. Истомин. Арест Ваули.
И. Г. Истомин. Выкуп аманата.
И. Г. Истомин. В старом Обдорске (Салехард).
И. Г. Истомин. Старый Обдорск. Вид с реки.
И. Г. Истомин. Автопортрет. Гравюра на освещенном стекле. 1956 г.
Семья Истоминых. 1955 г.
Во время 1-й конференции писателей Севера под Ленинградом. Слева направо: Л. В. Лапцуй, И. Г. Истомин, И. А. Юганпелик. 1961 г.
Вскоре после создания Тюменской писательской организации. В первом ряду справа налево: К. Я. Лагунов, И. Г. Истомин, И. Лысцов, Ю. Н. Шесталов.
Прототип «Живуна». А. Н. Чупрова (Гаддя-Парасся). 1966 г.
И. Г. Истомин. Прототип «Живуна». Г. Ф. Истомин — отец писателя (Варов-Гриш). 1937 г.
Наброски к плану повести «Человек с арканом».
В Тюменском драматическом театре. Перед премьерой спектакля «Цветы в снегах». В первом ряду в центре И. Г. Истомин. 1963 г.
И. Г. Истомин. Портрет Егора Пальчина, колхозника. Тазовский район. 1948 г.
И. Г. Истомин. Фашист. 1942 г.
Рисунки из альбома И. Г. Истомина.
ЦВЕТЫ В СНЕГАХ Народная комедия в 2 действиях, 6 картинах Действие происходит в наши дни, там, где кончается Обь Пьеса. Перевод с ненецкого и сценическая редакция Н. Корина
Действующие лица
Павло Тарасович — капитан рыболовного траулера.
Любовь Николаевна — его жена, начальник рыбоучастка.
Алет — помощник капитана, ненец.
Айна — радистка, ненка.
Иван — механик траулера.
Ефимыч — помощник механика.
Вэварка-Саварка — матрос, ненец.
Феня — кок траулера.
Миша — тралмейстер, коми.
Гриша — тралмейстер, коми.
Тит — матрос.
Действие первое
Картина первая
Прозрачный солнечный день, какие бывают весной на Дальнем Севере. Рыболовный траулер, стоящий у причала. Штурвальная рубка, вход в кубрик. Вдоль борта грудой лежат сети, на поручнях висят спасательные круги с надписью «Веселый». С судна на причал спущен трап. За траулером уходит к горизонту свинцовая гладь великой северной реки.
Растянувшись у борта, спит Тит, укрытый сетями так, что видны только его грязные голые пятки. Рядом валяется швабра. На палубу выходит Алет. Он молод, одет просто, но подчеркнуто аккуратно. На голове у него морская фуражка с кокардой. Увидев Тита, Алет носком сапога толкает его в пятку. Тит шевелится, чешет одной ногой другую.
Алет. Эй! Тит! Спишь, что ли? Ну, и матрос! Дрыхнет на вахте! (Присев на корточки, щекочет Титу пятку.) Проснись! Ну!..
Тит садится и ленивыми движениями начинает выпутываться из сети.
Алет (кричит). Подъем! Полундра!..
Наполовину опутанный сетью, Тит вскакивает и бросается к спасательному кругу.
Тит (хрипло). Полундра! Тонем!..
Алет. Отставить! (Передразнивает.) Тонем!.. Это у причала-то? Эх, ты!.. А ну, приведи себя в порядок!
Тит снимает с себя сеть, застегивает рубаху, пятерней расчесывает всклоченные волосы и бороду.
Тит. Отправляемся, что ли?
Алет. Еще нет… (Ходит по палубе.) Ну, и повезло нам! Как утопленникам!.. Разгар путины — а мы на якоре: нет второго матроса…
Тит. Ага… Один я…
Алет. Был второй — да сплыл. Севера испугался. Трудно ему тут… пряников мало!
Тит. Ага… Мало…
Алет. Вот тебе и знаменосцы! Были первыми… да как бы не стать последними… (С досадой.) Черт! Все готово… а вот стоим!
На причале появляются Миша и Гриша и по трапу поднимаются на траулер.
Миша (озабоченно). Ну, как? Ушли?
Гриша (тем же тоном). Ну, как? Не пришли?
Алет. Нет…
Миша. Что — нет?
Алет. Ушли, но не пришли. Ничего не известно.
Гриша (тяжело вздыхает). Вот горе!
Миша (тяжело вздыхает). Вот несчастье.
Оба уходят за кулисы на корму траулера. Тит бредет за ними.
Алет. Действительно, горе-несчастье…
Из кубрика высовывается Ефимыч — пожилой человек с большой бородой и усами.
Ефимыч. Долго еще будем стоять… аль можно машину заводить?
Алет. Не знаю…
Ефимыч (с досадой). Тьфу!.. (Скрывается.)
Алет. Действительно, тьфу!..
Из кубрика выходит молодая, скромно одетая девушка. Это Айна.
Айна (смотрит из-под руки в сторону берега). Не видать их?.. Так и будем загорать?
Алет (хмуро). Не от меня зависит.
Айна. Фу, как все глупо получилось! (Уходит.)
Алет. Действительно, глупо…
По дальнему борту проходит Феня — молодая, розовощекая девушка с яркой косынкой на голове. В руках у нее большая кастрюля.
Феня. Батюшки! Все на том же месте!.. Скоро тронемся-то?
Алет (раздраженно). Ну, что вы ко мне пристали? Я-то тут при чем?
На причал быстро выходит молодой, щеголевато одетый парень в заграничной кожаной куртке на «молниях». Это Иван. Через плечо у него висит транзистор.
Иван (угрюмо). Полундра!.. Важная новость!
Алет. Что случилось?
Тит (высовывается из-за кулисы). Опять полундра?. Нет?.. (Исчезает.)
Иван (поднимается по трапу). Матроса дают! Сейчас шеф причалит сюда со своей мадамой…
Алет (облегченно). Наконец-то!..
Тит (снова высовывается). Дают матроса?.. Живем! Теперь высплюсь!.. (Исчезает.)
Иван (с усмешкой). Э-э, милорды! Узнаете кого дают, — заплачете… (Уходит в кубрик.)
Алет (ему вслед). А что такое? Кого дают?..
На причал, громко споря, выходят Павло Тарасович и Любовь Николаевна.
Павло Тарасович (возбужденно). Не имела баба хлопот!.. Да дьявол его забери! На кой бес он нам треба?
Любовь Николаевна. Обойдитесь тогда без второго матроса!
Павло Тарасович. Еще того лучше! Команда-то — с куриный нос! И так придется каждому работать круглые сутки…
Любовь Николаевна. А у меня, кроме него, человека нет! Понимаешь?
На палубу высыпает команда траулера.
Любовь Николаевна (поднимается по трапу). Здравствуйте, рыбаки!
Все (хором). Здравствуйте!..
Любовь Николаевна. Опаздываете на промысел-то… А?
Миша. Мы не виноваты, товарищ начальник…
Гриша. Выручайте, Любовь Николаевна!
Миша. Наш траулер прикреплен…
Гриша. К вашему участку…
Миша. Дайте второго матроса…
Любовь Николаевна. Даю… Вэварку.
Голоса. Кого, кого?!
Павло Тарасович (с сердцем). Да говорят же вам — Вэварку, бывшего Саварку!..
Голоса. Вэварку-у?! Ловко!.. (Шум, смех.)
Павло Тарасович (жене). Ну, что я говорил? Протестует команда!.. (Шум.)
Любовь Николаевна. Спокойно, товарищи! Поговорим серьезно…
Алет. А мы серьезно. Он же — ни тюлень, ни олень… Ходячий анекдот!
Миша. Вздумал помочь милиции найти самогонщиков…
Гриша. А что получилось?
Миша. Забрался в пекарню…
Гриша. И бухнулся головой в тесто!..
Алет. Еле спасли! (Общий смех.)
Павло Тарасович. Блюститель закона нашелся! А сам ни на одной работе больше трех дней не держится!
Алет. Ему бы только баклуши бить да песни петь!
Павло Тарасович. Летун и бездельник, каких свет не видывал!
Любовь Николаевна. Перестаньте!.. Он сам сюда просится. Умолял меня… Любовь, говорит, у меня на этом траулере. Высохну, говорит, без нее…
Феня. Батюшки!..
Павло Тарасович. Во, во! Слыхали? Любовь его здесь! А?..
Голоса. Любовь?! У Вэварки?!. (Общий смех.)
Павло Тарасович (Фене). Уж это не ты ли, Феня?
Феня (смущенно). Ну, что вы, Павло Тарасович!..
Павло Тарасович. А кто же? (Смотрит на Айну.) Айна?..
Айна. Очень он мне нужен! (Демонстративно повертывается и уходит.)
Алет. Да ну его, идола непутевого!
Павло Тарасович. И такого — в мою команду! Позор!..
Любовь Николаевна. Рыба — не без костей, человек — не без изъяна! Сделайте из Вэварки Саварку…
Алет (иронически). Как раз…
Ефимыч. Мы сами-то, чай, Вэварки…
Любовь Николаевна. Подтянитесь…
Павло Тарасович (сердито). План же у нас, план!.. А соревнование с траулером «Серьезный»? Тебя это не беспокоит?
Любовь Николаевна. Беспокоит. И даже очень. И план, и соревнование, и судьба людей — все беспокоит! Но дело сейчас целиком зависит от вас!
Миша. А что, если попробовать? А?..
Гриша. А что? Давайте попробуем!
Миша. Мы с Гришей возьмем над ним шефство…
Гриша. Иван и Ефимыч заинтересуют его мотором… (Ефимыч, ворча, уходит в кубрик.)
Миша. Айна увлечет радиотехникой…
Гриша. А Тит будет учить шваброй!
Тит (хватает швабру). Это я могу!..
Алет. Ничего не выйдет…
Павло Тарасович (с сомнением). Э-э… цэ дило треба разжуваты…
Голоса. Ладно… возьмем Вэварку!.. И так сколько зря простояли…
Айна (вбегая). Павло Тарасович! Радиограмма с траулера «Серьезный»!
Павло Тарасович. Побачим. (Читает телеграмму.) Вот штука! У них уже полны трюмы, а мы еще свежую рыбу и не нюхали. Погано!..
Алет. Придется отдать знамя…
Любовь Николаевна. Рано плачетесь! Кончай стоянку, Павло… Павло Тарасович!
Павло Тарасович. Да, треба срочно в море! (Жене.) Леший с ним, посылай за Вэваркой! Нехай едет! (Ко всем.) Но чтоб на судне без всяких любовных штучек! Категорично запрещаю!.. (Титу, сердито.) А ты чего смеешься! Отставить!.. (Ко всем.) Готовиться к отплытию!
Любовь Николаевна (поднимает руку). Удачного промысла, рыбаки!
Голоса. До свидания, товарищ начальник! Счастливо оставаться!
Члены команды начинают хлопотать возле сетей, лебедки, чалок. Поют хором.
Ой, лети ты, чайка, над водою И маши крылами, как платком! Снова мы с невольною тоскою Покидаем наш родимый дом. Будут ветры, будут штормы, И туманы, и дожди. И хотя нам трудности знакомы. Сердце беспокоится в груди…Постепенно команда расходится, и Павло Тарасович с Любовью Николаевной остаются одни.
Павло Тарасович. Сердце беспокоится, верно… И зачем нас прикрепили к твоему участку?
Любовь Николаевна. Уж так пришлось… А хорошо тут, на воде! Легко дышится! Так и полетела бы за вами! Но придется расставаться. Давай попрощаемся… (Хочет поцеловать Павло Тарасовича.)
Павло Тарасович (отстраняясь). Но-но! Я же капитан! И молодым запретил…
Любовь Николаевна. Подумаешь, какой важный! (Берет его за плечо, ласково.) Паша, ну?..
Павло Тарасович. Я же сказал… На судне запрещено такими делами заниматься! Отойдем трошки… (Спускаются на причал.) Вот теперь — попрощаемся!.. (Обнимает жену, целует и возвращается на траулер. Любовь Николаевна идет за ним.)
Любовь Николаевна. Смешной ты, Павло, ей-ей!
Павло Тарасович. Ну, чего ты забуксировалась за мной?
Любовь Николаевна. Еще немного погляжу на тебя! Надолго расстанемся…
Павло Тарасович. Хватит! Зол я! Присобачила нам Вэварку, лоботряса… И некогда лобызаться — не Пасха!.. (Уходит.)
Любовь Николаевна. Вот хохол упрямый!.. (Спускается по трапу на причал и кричит.) Будете отчаливать, приду провожать!
Уходит. На палубе появляется Айна, за ней идет Алет.
Алет (тихо). Айна!
Айна. Что, Алет?
Алет. Люблю я… тебя…
Айна. За что?
Алет. Как это — за что? Люблю, и только. Нравишься…
Айна. Да?.. (Улыбаясь, напевает.)
Если любит кто кого-то, Это нужно доказать…Алет. Доказать?.. (Целует ее.) И докажу!.. (Снова целует.)
Появляются Миша и Гриша.
Миша. Вот!.. Все в порядке, Гриша!
Гриша (уныло). Все в порядке, Миша…
Айна (вырывается из объятий Алета). Ой!.. (Убегает.)
Алет (с досадой). Опять вы, коми-комики? Вечно вы мешаете!.. (Уходит.)
Гриша (вздыхает). Целовались.
Миша. А тебе-то что?
Гриша. Да так… Бестолково у нас с тобой получается…
Миша. М-да… Бестолково…
Появляется Ефимыч, подходит к лебедке. Миша и Гриша уходят.
Ефимыч. Все на мази! И небо сулит ведро. А кости ноют… (Вздыхает.) Эх-хе-хе! Старею!.. А море люблю! Сердце рыбака — что сердце моряка! (Хватается за поясницу.) Ой!..
Уходит. С ведром в руках появляется Феня.
Феня (напевает).
Женихов на свете много — Есть такой и есть сякой, Но для девушки, для кока, Не подходит никакой. Есть такой и есть сякой, А не подходит никакой!..Иван (выходит из кубрика с включенным транзистором). А, Феня!.. Приветствую вас, синьорита! Какова музычка?.. Модерн!.. Сбацаем?
Феня. Сам бацай. Ты бы сначала говорить нормально научился…
Иван. Столичная норма, синьорита! Я пять лет в Одесском техникуме учился — повидал, как культурные люди живут! Даже стихи писать начал. Вот для тебя кое-что сочинил… лирическое. Хочешь прочту?
Феня. Больно нужно! Я и сама частушки складывать могу… (Уходит.)
Иван (передразнивает). Частушки складывать могу… Деревня! Ну, ничего… я тебя еще обломаю!
На палубе появляется Айна. Иван идет к ней.
Иван. А-а! Приветствую вас, синьорита!.. Приятно видеть в этой глуши цивилизованную девушку!
Айна. А ты все шутишь…
Иван. Клянусь предками, не шучу! Знаешь, я и в Одессе не встречал такой красавицы! Ты очень похожа на одну американскую актрису. Лицо, фигура — копия!.. Тебе бы пожить месяца два в столице, ты бы была — во! Не то что Феня…
Айна. Феня — хорошая девушка…
Иван. Э-э, чего там… хорошего? Частушки да хороводы, вот и весь ее репертуар. Древность!.. К ней культура не пристает…
Айна. Неверно…
Иван. Нет, верно! Вот ты — дело другое… Хочешь, научу танцевать твист? У тебя фигура подходящая… (Включает транзистор на полную мощность и берет Айну за руку.)
Айна (смущенно.) Ой, что ты! У меня ничего не выйдет…
Иван. У тебя? Синьорита, вы созданы для твиста, а твист — для вас! Сейчас я тебе покажу… (Танцует.) Здорово?.. Модерн!..
Айна. Да нет… я так не могу. Не нравится мне кривлянье какое-то…
Иван. Самый шик! Вся Европа танцует!
Айна. Я лучше пойду, а то еще капитан увидит…
Иван. Подожди. Я тебе стихи посвятил. Вот послушай… (Достает из кармана блокнот и с пафосом читает.)
Ты пленяешь мое сердце, Как Полярная звезда, Как полуночное солнце, Как на небе сполоха!..Айна (смеется). Че-пу-ха! Ни складу ни ладу!
Иван. То есть как это?..
Айна. Звезда-сполоха… Такого и слова нет. Не «сполоха», а «сполохи»… (Уходит.)
Иван (с досадой). Вот черт! И эта смылась!.. (Смотрит в блокнот.) Ни складу ни ладу? Гм… Звезда — сполохи… Верно, нет рифмы… (Вынимает из кармана авторучку.) Ничего… сейчас обмозгуем! Я тебе такое сочиню — уши развесишь! Тоже мне — принцесса!.. (Садится и начинает писать.) Звезда… всегда… вода… лебеда…
На причале появляется Вэварка. На плече у него чемодан, на нем — букетик тундровых цветов.
Вэварка (поет на национальный лад).
Был я в детстве Саварка, А потом стал Вэварка. Так давно меня зовут Люди северные тут.(Ставит у трапа чемодан, продолжает петь.)
Мало-мало я чудил — Много я баклуши бил. Но отныне я влюблен, И теперь всю глупость — вон! Повторяю вновь и вновь: Покажись, моя любовь! Выходи встречать скорей! Приголубь и обогрей!..(Вынимает из-за пояса массивную трубку, садится на чемодан и закуривает.)
Иван. Кажись, новый матрос… (Вэварке). Эй, милорд!
Вэварка. Ани торово! Привет!.. Ты кто будешь?!
Иван. Механик…
Вэварка. А… это хорошо! (Поднимается на палубу). Вот тебе за это цветочек… (Вынимает из букета цветок и протягивает Ивану.)
Иван (присвистнув от удивления, берет цветок, нюхает и пристраивает его, как в петлицу, в один из нагрудных карманчиков). Это откуда же у тебя цветок? Здесь же кругом снег?
Вэварка. У нас цветы растут прямо в снегах. Тут — земля, тут — снег, а тут — цветы растут. Красиво! Верно?
Иван. Шик! Цветы… и в снегах… Запишем (Достает блокнот и записывает). Как тебя там? Будем знакомы! Иван — псевдоним Лучезарный. Иван Лучезарный!
Вэварка. Иван? Ага, Ванька, значит…
Иван. Какой я тебе — Ванька? Я, брат, морской техникум кончил, я бы мог на Черное море податься… Там, знаешь, и пляж, и чувихи шикарные. Но я люблю романтику! За нею и приехал…
Вэварка (тараща глаза). Да-а… А что такое… эти… как их… чувихи?
Иван (морщится). А… темнота! Ничего ты не понимаешь!
Вэварка. Почему — не понимаю? Я знаю, зачем ты приехал… У нас денег много платят. Верно?
Иван. А без денег, милорд, романтики не бывает. Она — растение нежное, ее поливать нужно… А ты — кто такой? Зачем пожаловал?
Вэварка. А я — матрос Вэварка, бывший Саварка.
Иван. Смешно. Вэварка-Саварка…
Вэварка. Не-ет, ударение на первом месте — Вэварка, бывший Саварка. Можно и просто Вэварка… (Читает надпись на спасательном круге.) «Ве-се-лый», «Веселый»! Саво, хорошо!.. А где кок?
Иван. А ты что — хочешь с еды начать?
Вэварка. Не-ет. Кок — это любовь моя. Всего два раза видел ее в конторе — сразу понравилась. Веселая, красивая! И, видать, самостоятельная. Втрескался в нее во как! Только она об этом не знает. Совсем не знает. Цветы — ей!..
Иван. Э, брат, у нас насчет любви строго. Капитан запретил! Ша! Понятно?
Вэварка. Понятно… Только я — Вэварка…
Иван. А почему ты бывший Саварка?
Вэварка. Ты не знаешь?
Иван. Нет…
Вэварка. Тогда слушай. (С пафосом). Когда я родился, я был — во! Звали Саварка. Это по-нашему, по-ненецкому. По-русскому — хороший. Потом, когда вырос, плохой стал. Отец, мать умерли — всех оленей промотал. Все гулял да веселился! Всем надоел! Вот лешак-шайтан!.. Меня и прозвали «Вэварка» — худой, значит. Потому я Вэварка, бывший Саварка… (Напевает.) Был я в детстве Саварка, а потом стал Вэварка…
Иван. А дальше-то как думаешь жить?
Вэварка. Как-нибудь. Вэварка не пропадет. Вэварка любит Феню. Саваркой будет… А у тебя есть Феня?
Иван (насмешливо). Любопытному на днях прищемили нос в дверях… Ясно?
Вэварка. Ясно… А где остальной народ? Почему меня не встречают?
Иван. А ты думал, для тебя оркестр вызовут? Нужен ты здесь! Никто тебе и не рад…
Вэварка. Как так?! Неправда! Люди здесь хорошие… Я Мишу с Гришей знаю, Айну — радистку… Алета — помкапитана…
Иван. А… жениха с невестой…
Вэварка. Кто жених с невестой?
Иван. Известно, кто… Алет с Айной…
Вэварка (качает головой). Ай-яй-яй! Нехорошо… Нельзя…
Иван. Что нельзя!
Вэварка. Алету с Айной жениться нельзя. Фамилия у них одинаковая…
Иван. Ну, и что из этого?
Вэварка. Как — что? Фамилия одна — нельзя жениться. Поверье такое у нас, у ненцев. Грех!
Иван (удивленно). Грех?..
Вэварка. Ну, да. На том свете черти сделают из них консерву для себя! В томатном соусе!
Иван (обрадованно). Вот это хорошо!
Вэварка. Что — хорошо? Очень вкусно, да?
Иван (спохватившись). Да не-ет… Мне-то какое дело? (Демонстративно пожимает плечами.) А ты парень ничего… Давай пять! (Жмет Вэварке руку и морщится от боли.) Ой-ой!.. Ну, и лапы у тебя!
Вэварка (довольный). Хе! Ненецкие руки — хорошие руки!
Из кубрика выхолит Павло Тарасович.
Иван. А вот и сам капитан!
Вэварка (козыряет и отчеканивает). Матрос Вэварка прибыл, товарищ капитан корабля «Веселый» Павло Тарасович!
Павло Тарасович (сердито). А ну — марш! Отнеси чемодан в кубрик и — за швабру!.. Покажи ему, Иван, место в кубрике и предупреди вахтенных. Треба отчаливать! (Уходит.)
Иван. Слушаюсь, товарищ капитан!
Вэварка (нерешительно берется за чемодан). Вот так встреча! Ай-яй-яй!..
У борта появляется Феня с кастрюлей.
Феня (в сторону). Батюшки! Он!..
Иван. А вот и кок…
Вэварка. О-о!.. (С чемоданом и цветами кидается к Фене.) Феня. Рыбка золотая! Здравствуй!.. Во, цветы! Тебе! От всего сердца! В знак любви!..
Феня (машинально принимает букет). Батюшки! Цветы! От тебя!.. (Иван громко смеется.) Погоди… (Резко меняет тон.) Да ты что? Да за это у нас… Ну тебя к черту с твоими цветами!.. (Кидает букет на причал и поспешно уходит.)
Вэварка. Как так?! А? Выбросила!.. Феня!.. (Бросается за Феней, но чемодан в его руках неожиданно раскрывается, и из него на палубу вместе с бельем и книжками вываливаются бутылки с винами и водкой. Вэварка выпускает чемодан из рук и в совершенной растерянности садится на палубу.) Ай-яй-яй!.. Вот лешак-шайтан!..
Иван (хохочет). Вот это да-а!.. Ловко!..
На палубу с шумом высыпает команда. У края причала появляется Любовь Николаевна, но ее никто не замечает.
Голоса. Что за шум? О-о!.. Вэварка?.. Здорово!.. А багаж-то у него какой!.. (Общий хохот.)
Вэварка (растерянно). Это же я для вас… Хороших людей хотел угостить… (Продолжая сидеть и держа в одной руке бутылку, другой рукой козыряет капитану.) Все в порядке, товарищ капитан! Ни одна винка не разбилась!..
Павло Тарасович (свирепо). А ну — выкинь свои винки на берег!.. Живо!..
Вэварка торопливо выбрасывает из чемодана свои пожитки, кладет в него бутылки и опрометью бросается на берег. Подбежав к Любови Николаевне, он сует ей чемодан в руки.
Вэварка (возбужденно). На!.. Приедем — все выпьем!..
Бежит обратно на траулер. Любовь Николаевна растерянно смотрит ему вслед.
Павло Тарасович (делая вид, что не видит жену). Сниматься с якоря!.. По местам!..
Рыбаки выполняют команду.
Любовь Николаевна (машет рукой). Счастливого пути!.. Счастливого пути!..
Занавес.
Картина вторая
Белая полярная ночь с беззакатным солнцем, красноватые лучи которого льются откуда-то снизу. В прозрачном небе висит бледный диск щербатой луны. Широкая корма траулера, направленного носом в безбрежный водный простор. Идет траление.
На палубе Тит лениво двигает шваброй.
Тит (хрипло напевает).
Эх, кабы по щучьему велению, Эх, кабы по моему хотению Вэварка б работал за меня! Вот бы жил я здорово С того дня, с которого Вэварка б работал за меня!..На палубу выходят Иван, Гриша и Миша.
Миша. Плывем наконец!..
Гриша. Плывем-то плывем… да больно уж мы запоздали. Как бы не проворонить знамя…
Иван. Тут теперь… либо шар в лузу, либо носом в лужу…
Миша. Точно…
Гриша. Сегодня нам надо быть особенно серьезными. Давай, Миша, следить за тралом…
Миша. Давай. Ты по тому борту, а я — по этому…
Гриша. И не отвлекаться!
Миша. Ни-ни!..
Начинают следить за тралом. Пауза, затем из кубрика выходит Феня.
Феня. Уф-ф!.. Жарко в камбузе! А здесь — прелесть!..
Миша и Гриша (бросают работу и бегут к Фене). О, Феня!
Иван (тоже идет к Фене). Э, булочка румяная! Это ты?
Тит (бросает швабру). Кормилица наша!
Феня. Батюшки!.. Да что вы все ко мне? Отстаньте от меня раз и навсегда!
Гриша (смущенно). Да мы ничего…
Миша. Мы так только… (Отходит с Гришей в сторону.)
Феня. То-то же!..
Пауза. Феня стоит и, улыбаясь, смотрит на луну.
Феня. Ах, ну и ночь!.. Век бы здесь стояла… да на луну смотрела!.. (Запевает, сначала тихо, потом громче.)
Ой, вы, ночи белые, Ноченьки полярные — С незакатным солнышком, С теплою порой! За зиму холодную, Долгую и темную Вы даны в награду нам Северной землей.Миша, Гриша и Тит начинают подпевать.
Эх, в такие ноченьки Усидеть нет моченьки! С криком чайка носится Над крутой волной! Море синеокое, Как любовь, глубокое! Песня в сердце просится, Если я с тобой…Феня (вдруг хватается за голову). Батюшки! У меня пригорит все!.. (Убегает в камбуз.)
Тит. Скорей на помощь!.. (Бежит за Феней.)
Иван (кричит). Спаса-ать варево-жарево! (Уходит за Титом.)
Миша и Гриша (продолжают тихо петь).
Море синеокое, Как любовь, глубокое! Песня в сердце просится, Если я с тобой…Миша. А где она, твоя милая?
Гриша. А твоя где?
Миша. М-да… Ничего у нас не получается…
Гриша. Смекалки нет. Вон даже Вэварка, и тот… А нам с тобой — от ворот поворот…
Из кубрика выходит Павло Тарасович.
Павло Тарасович (озабоченно). Ну як, тралмейстеры?
Миша. Все в порядке, товарищ капитан!
Павло Тарасович. Тревожусь я…
Гриша. И мы тоже…
Павло Тарасович. «Серьезный» по улову впереди идет. Поздно мы вышли…
Миша. Поздно…
Гриша. Нажимать надо…
Павло Тарасович. Правильно! Так вы, хлопцы, будьте особо внимательны. И следите за Вэваркой…
Гриша. Уже взялись…
Павло Тарасович (грозит пальцем). И насчет девок — того…
Миша. Этого…
Павло Тарасович. Во-во!
Из кубрика выходит Вэварка.
Вэварка. Уфф! Упарился!.. Ну, Айна — радистка! Экзамен устроила: передатчик, приемник… антенна, ключ, анод, катод… Язык маленько не сломался…
Павло Тарасович (Мише и Грише). Бачите? Башковитый.
Вэварка. А еще: точка-точка-точка… тире-тире-тире… точка-точка-точка… Получается «СОС» — спасайте наши души!..
Павло Тарасович. Гарно! Да-а… будет из тебя со временем Саварка!
Вэварка. Скорей бы! А то Феня…
Павло Тарасович. Но-но! Не думай о дивчинах! И вообще… будь на высоте! Знамя удержать треба. Понятно?
Вэварка. Понятно. Шибко большое дело!
Павло Тарасович. Так что не подведи своими фокусами…
Вэварка. Не подведу, Павло Тарасович!
Павло Тарасович. Добре! Утром зайдешь ко мне. Побачу, что ты усвоил… (Уходит в штурвальную.)
Вэварка. Еще экзамен! Вот лешак-шайтан!..
Миша. Полез в воду — умей плавать…
Из кубрика выходит Айна и становится у борта, задумчиво глядя на далекий горизонт.
Миша (показывает Грише на Айну). Появилась…
Гриша. Приплыла… (Подкрадываются к Айне и берут ее под руки.)
Айна. А-а… тралмейстеры!.. Опять вместе?.. (Насмешливо.) Рыбы ниже, рыбы тише! Куда Миша, туда Гриша!.. (Смеется.)
Миша. Какова, а?
Вэварка. Шибко веселая…
Айна. А что мне грустить?
Миша. Ну, улыбнись, Айна, мне! Я — холостой!
Гриша (отстраняет Мишу). И мне — я неженатый!
Миша (Грише). Ты мне мешаешь!
Гриша (Мише). Нет, ты мне мешаешь.
Вэварка (смеется). Ой, чудаки-рыбаки!
Айна (улыбаясь). Зря спорите. Я — занята…
Появляется Иван с раскрытым блокнотом.
Иван. А… Айна!
Айна. Еще один… Беда!
Иван (подходит к Айне). Итак! Лишних прошу удалиться!
Миша и Гриша. А, может, ты — лишний?
Иван. Разговорчики! Идите, отдыхайте. Ночь все-таки… Не задерживайтесь! И ты, Вэварка!.. Хотя нет — подожди…
Миша и Гриша неохотно отходят в сторону.
Иван (Айне). Слушай, ягодка моя тундровая! Значит, так… (Читает с пафосом.)
Ты пленяешь мое сердце, Как Полярная звезда, Как полуночное солнце, Как цветочки среди льда!Айна. Е-рун-да! (Смеется и уходит.)
Вэварка. Замечательно! Саво!..
Миша. Шедевр!..
Смеясь, уходит вместе с Гришей в кубрик. Вэварка идет за ними. Из рубки выходит Алет.
Алет (Ивану). Это, Айна здесь была?
Иван. Очень может быть, милорд…
Алет (угрюмо). Ты Айну не трожь! Она девушка хорошая… не для таких, как ты…
Иван. Скажите, пожалуйста! Значит, хорошие девушки существуют для таких, как Вы, сэр?
Алет. Хотя бы…
Иван. Так… (С притворным сочувствием.) Увы, увы! Не всегда суждено сбываться мечтам! (Подчеркнуто серьезно.) Ты что? Ничего не знаешь?
Алет (настороженно). Чего еще?
Иван (разводит руками). Закон предков! Не можешь ты на ней жениться: у вас фамилии одинаковые… Старики не согласятся…
Алет (пораженный). Что, что?.. Погоди… Да, нет! Чепуха это! Теперь другие времена… (Подозрительно.) А ты откуда это узнал?
Иван (небрежно). От Вэварки… Уж он-то знает!
Алет. Ах, от Вэварки? Ну, я с ним поговорю!.. Ему-то какое дело?
Иван (хлопает Алета по плечу). Не унывай, друг! Сэ ля ви — как говорят французы!
Алет (отстраняясь). Какой ты мне друг?.. А Вэварке я покажу, как воду мутить! Я с ним поговорю не по-французски, а по-нашему!.. (Быстро уходит.)
Иван (довольно потирая руки). Так… Хорошую я ему пенку запустил! Во весь горшок!.. (Увидев проходящую вдоль борта Айну.) О, волшебница… повелительница точки и тире! Соблаговолите разделить со мной общество на пару волшебных мгновений!
Айна. Алета здесь не было?
Иван. А зачем тебе Алет?
Анна, не отвечая, поворачивается и хочет уйти.
Иван. Постой! Разговор есть!
Айна (останавливается). Какой разговор?
Иван. Скажи… Ты любишь Алета?
Айна. А тебе-то что?
Иван. Пойми, я же вам добра желаю… Ведь, если ты выйдешь замуж за Алета, твои старики тебя проклянут…
Айна (пораженная). Как проклянут?.. Почему?
Иван. Эх ты… не знаешь, что ли, ваших обычаев? Нельзя вам с Алетом жениться — у вас одна фамилия. Спроси у Вэварки — он знает…
Айна (в смятении). Ой, правда!.. Глупая я… не подумала!.. Что ж теперь делать?!
Стоит в полной растерянности. В дверях рубки появляется Алет.
Иван (увидев Алета). Вот, черт! А про дела-то я и забыл! (Быстро уходит.)
Алет (подходит к Айне). Что с тобой… А-а… понимаю! Этот Иван-болван уже тебе сказал… У, стихоплет проклятый!.. (Грозит кулаком вслед Ивану.)
Айна (тихо). Он прав, Алет…
Алет. Айна, голубка, не слушай его! Чепуха все это… теперь не старые времена…
Айна (качает головой). Нет, Алет… Родители мои — старые люди, они верят в это. Боюсь я… проклянут они меня на всю жизнь. Огорчу я их — не простят. А я люблю их… Ну, какое у нас будет счастье?.. (Хочет уйти.)
Алет (удерживает ее). Будет счастье, Айна… будет!
Айна. Не знаю, Алет…
Алет. Родители согласятся… (В отчаянии.) Ну, как мне убедить тебя? Неужели наша любовь пропала?..
Айна (грустно). Боюсь я, Алет…
Алет. Напиши им письмо. Не верю я, чтобы они разбили наше счастье! Не верю!.. (Замолкает.) Мы ведь любим друг друга… Сколько песен спели вместе!.. Помнишь? (Тихо поет.)
Не в саду сиреневом под Москвой Повстречались, милая, мы с тобой, А на дальнем Севере, у Оби, Я тебя, хорошая, полюбил.Айна начинает еле слышно подпевать.
Белой ночью светлою, в тихий час, Целовал я милую в первый раз. И с тех пор любимее стали мне Эти ночи белые по весне…Айна прикладывает платок к глазам и уходит.
Алет. Айна!.. (Закрывает лицо руками.)
Из-за рубки выходит Вэварка и с недоумением смотрит на Алета.
Вэварка. Алет! О чем задумался?
Алет (возбужденно). А-а… тебя-то мне и надо!.. Ты что там наврал Ивану про меня и Айну? Тебе что, жалко будет, если мы поженимся?..
Вэварка. Мне не жалко. Только нельзя вам…
Алет. Это почему же?
Вэварка. Обычай такой…
Алет. Да плевал я на этот обычай!..
Вэварка. Ты плевал… а старики верят. А их уважать надо… Проклянут. Айне плохо будет…
Алет (вне себя). Дурак! Идол! Какой черт принес тебя на нашу голову!.. Дрянь ты, только мешаешь всем!..
Вэварка (очень обиженный). Что, что?! Грубый ты! Ай, какой плохой человек! Паршивый олень!.. Зачем ругаешься? Скажу Айне: плохой ты человек, не будет ей с тобой счастья!..
Алет (в ярости). Айне скажешь?! Ах, ты дохлая рыба!..
Бросается на Вэварку с кулаками, тот отвечает ударом на удар. Из рубки выглядывает Иван, но тут же скрывается.
Алет (наносит Вэварке удар). Вот тебе!..
Вэварка. Ах, так?! (Сбивает Алета с ног. Тот вскакивает и снова бросается на Вэварку.)
Павло Тарасович (за сценой). Дерутся?! Да как они смеют?!
Алет и Вэварка, как по команде, прекращают драку и делают вид, что мирно разговаривают.
Павло Тарасович (выходя из рубки). А, ну… что тут происходит?..
Алет. Все в порядке, товарищ капитан!
Павло Тарасович. Да?.. А мне сказали, что у вас — драка!
Вэварка. Да нет… Так, балакаем маленько… по-дружески…
Павло Тарасович (оглядывается на рубку). Чего ж он врет?.. Ну, ладно… Пойдем-ка, помкапитана, ко мне. Дело есть…
Алет и Павло Тарасович уходят. С трудом неся большой, наполненный рыбой таз, из кубрика выходит Феня. Усевшись у борта, она начинает чистить рыбу.
Вэварка. Помочь?
Феня. Помоги, коль охота…
Вэварка. Шибко охота! Ух!.. (Легко поднимает таз выше головы, затем ставит его на место, вынимает из ножен на поясе нож и, усевшись рядом с Феней, принимается чистить рыбу.)
Феня (восхищенно). Ох, и силища у тебя! Всегда, сколь надо, заработаешь…
Вэварка. А что — деньги? Деньги что навоз: сегодня — нет, завтра — воз! Так и силища. У меня есть… а ты меня не любишь…
Феня. Полюбила бы, да уж больно ты несурьезен…
Вэварка. Ничего. Я теперь сурьезный…
Феня. Ну, да. Не оставили бы тогда на берегу твои винки, поди, пьянствовал бы сейчас вовсю…
Вэварка. Не… Я теперь не пью. Бросил…
Феня (недоверчиво). Ну-ну… Да имя-то у тебя — Вэварка…
Вэварка. Погоди. Саваркой стану…
Феня. И табаком провонял. Вон какая труба во рту…
Вэварка. И курить брошу!
Феня. Ой ли?
Вэварка. Не веришь? (Встает.) А ну, Вэварка, покажи силу воли!.. (Быстрым движением достает из кармана кисет, подходит к борту, вынимает изо рта трубку и целует ее.) Ах, маленько жалко!.. Ну, да ладно… Прощай! (Широким движением бросает трубку и кисет за борт.)
Феня (изумленно). Батюшки! Смотрите-ко!..
Вэварка. Пускай мою трубку курит самый главный осетр!
Феня (улыбаясь). Ай, да Вэварка!.. Молодей!..
Вэварка. Для тебя я все могу… (Берет Феню за руки и ставит на ноги.) Давай поиграем…
Феня. Ну, вот еще!.. (Смеется, отбегает в сторону.)
Вэварка. Что… думаешь, не догоню?
Гонится за Феней по палубе, ловит и начинает кружиться с ней.
Феня (задыхаясь от смеха). Батюшки!.. Ну, что ты со мной делаешь? Уронишь!..
Вэварка (продолжает ее кружить). Не уроню!.. Я тебя всю жизнь на руках буду носить! Танцевать буду с тобой!..
Внезапно они спотыкаются о канат, и Феня, пронзительно вскрикнув, падает за борт. Вэварка в ужасе бросается к рубке.
Вэварка (кричит). Караул! Полундра!.. Человек за бортом!..
На палубу выбегают члены команды.
Вэварка (вне себя). Я сейчас… Держись, Феня!..
Хватает два спасательных круга и бросается за борт. Общее смятение.
Павло Тарасович (кричит). Сто-оп!.. Остановить машину!.. Спасать людей!..
Занавес.
Конец первого действия.
Действие второе
Картина третья
Конец путины. Уже давно нет белых ночей. Вечер. Луна. Носовая половина траулера «Веселый». Судно стоит у причала, ожидая возможности сдать улов на рыбоприемную баржу, находящуюся где-то поблизости. За траулером тускло поблескивает темная гладь воды с лунной дорожкой.
У борта, задумавшись, стоит Айна. С гармонью в руках из кубрика выходит Иван и становится рядом с Айной.
Иван (помолчав). Хороший сегодня вечер…
Айна (с грустью). Как для кого… (Пауза.) А где же твой транзистор?
Иван. Забарахлил что-то… Да это неважно… (Показывает на гармонь.) Я и на этом звукоиспускателе каменного века что хочешь изобразить могу… (Снова пауза.) А ты все грустишь? (Айна молчит.) Эх, ягодка моя тундровая! (Ласково.) Не грусти… Хочешь, я спою тебе песню? Хорошую, задушевную…
Айна (безразлично). Спой…
Иван. Тогда слушай… (Поет, негромко аккомпанирует себе на гармони.)
Месяц ласковый в сумраке светит Над осенней притихшей рекой. Хорошо этим вечером светлым Помечтать о заветном с тобой. Мы — вдвоем под вечерним покровом, Этот час ожидал я давно. Ну, скорее же вымолви слово, Сокровенное слово одно! Веет трепетно ласковый ветер, Тихо шепчет речная струя, Ой, ты, вечер, таинственный вечер! Ой, ты, милая, радость моя!..Айна. Правда, хорошая песня… Сам сочинил?
Иван. Сам. Если бы ты знала, Айна, как я рад, что она тебе понравилась! Эх, если бы только ты всегда была со мной, я бы еще столько песен сочинил… для тебя… (Пытается обнять Айну.)
Айна (отстраняясь). Погоди, Ваня. Что же это баржа так долго не подпускает нас? Все еще с «Серьезного» выгружают? А у нас рыба портится…
Иван. Оставь про это! Хорошо, что не подпускает. Побудем хоть немного наедине… Давно я мечтал побыть с тобой вдвоем, поговорить… Послушай, я ведь правду говорю — красивая ты девушка! Очень даже красивая! Поверишь, я и в Москве таких не встречал… Ну, что тебе тут делать? Кто тебя здесь по-настоящему оценит?
Айна. Алет меня любит…
Иван. Э… что он понимает! Да и не разрешат вам старики пожениться… Плюнь ты на все это!.. Вот кончится путина, давай махнем вместе на юг! Денег я заработал кучу, сама знаешь… Ты хоть когда-нибудь видела Черное море?
Айна. Нет. Только в кино…
Иван. Ну, кино — это чепуха! Считай, что ты настоящей красоты еще и не видела. У вас здесь море холодное, серое… а там оно синее, как в сказках… С ума сойти можно, какое море! Представляешь себе, ты в летнем платьице, там под солнцем… Днем мы на пляже, а вечером сидим в ресторане на открытой веранде. Музыка, цветы… не ваши, без запаха, а розы… от их аромата голова кружится! Я тебе каждый день букет приносить буду… денег у нас хватит! Ну, что ты здесь видишь? Море холодное да рыбу вонючую… А там вечером мы будем ходить с тобой на танцы… Ты как только появишься на танцплощадке, все ахнут!..
Айна. Да я этих твистов и танцевать-то не умею…
Иван. Научишься! А не захочешь, будем танцевать с тобой вальсы и танго… Вот представь себе: вечер… теплый, синий… в парке на деревьях горят разноцветные фонарики, как на праздничной елке… море сонно ворчит… и ветерок приносит его соленый запах и аромат роз… Оркестр играет вальс… задумчивый, чуть грустный… и мы с тобой танцуем… (Напевая, кружит Айну в вальсе, потом целует ее.)
Айна (вырываясь). Ах!.. Увидит кто-нибудь… (Убегает.)
Иван. Ага! На этом фланге лед тронулся! Подобрал я все-таки под тебя ключи… прин-цесса!..
Садится на поручни и, растянув мехи гармони, поет негромко, но с явным торжеством.
Эй, гусары, лейб-гусары! Эй, гусары, тря-ля-ля!..На палубе появляется Вэварка со шваброй в руках.
Иван (сам с собой). Так… Теперь на другом фланге этого дурака убрать надо… Сейчас сообразим.
Уходит. Вэварка работает, напевая национальную мелодию. Из кубрика появляется Феня и идет к трапу.
Вэварка. Ой, Феня! Рыбка золотая! (Подходит к Фене.)
Феня (отступает). Не подходи! Опять за борт уронишь, дьявол ты эдакий! Ох, и испужалась я тогда! Думала — утону…
Вэварка. И я испугался. Здорово! Вот слушай — все еще сердце кувыркается… (Берет руку Фени и прикладывает ее к своей груди.)
Феня. Батюшки! И правда — бьется, как рыба в сети!
Вэварка. Уж сколько времени прошло, и то не могу успокоиться! А у тебя как с сердцем?
Феня (смеясь, опять отступает от Вэварки). Ой, не трогай, опять уронишь!..
Вэварка. Не трону, не уроню!.. (Поет.)
Пить, курить, дурить я бросил, И любовью полон весь…Невдалеке раздаются чьи-то голоса.
Вэварка (с досадой). Ну вот! Опять лешаки-шайтаны идут, мешают… (С недовольным видом берется за швабру.)
Феня. И я смоюсь поскорее.
Спускается на берег и торопливо уходит. С другой стороны на причал выходят Павло Тарасович, Любовь Николаевна и Алет.
Павло Тарасович (трясет какой-то бумажкой). Вот наши результаты за путину! Да последний улов еще не сдан!
Любовь Николаевна. Сезонный план вы выполнили, а обязательство — нет… и «Серьезный» — впереди вас!
Павло Тарасович. Мы еще им нос утрем! Раньше всех выйдем на подледный лов — и баста!..
Любовь Николаевна. Выехать не вовремя на лед? Рискованное дело…
Работая шваброй, Вэварка уходит за кулисы в сторону кормы траулера.
Павло Тарасович. Иного выхода нема… (В сторону баржи.) Ну, что они там волынятся?
Алет (кричит в сторону баржи). Эй, баржа! Скоро?
Любовь Николаевна. Молчат. И на «Серьезном» никто не откликается. Заработались…
Павло Тарасович. А ну-ка, Алет, крикни еще разок!
Алет (кричит). На барже! Оглохли, что ли? Рыба портится!..
Голос (с баржи мегафоном). Скоро примем! Через час!..
Павло Тарасович. Успокоили! Вот штука, а!..
Алет поднимается на траулер и скрывается в кубрике.
Любовь Николаевна. Ничего, сдадите… Слушай, а как у вас Вэварка? Чудит?
Павло Тарасович. После случая с Феней угомонился малость. Переживал долго. А она, чудачка, ему симпатизирует…
Любовь Николаевна. Так он же ее спас тогда. И, может, у них, действительно, любовь?
Павло Тарасович. А кто их разберет? Но переполох тогда большой был. Мы чуть трал не угробили…
Любовь Николаевна. А как Вэварка работает?
Павло Тарасович. Робит старательно. Сильный, бис…
В дверях кубрика показывается Алет.
Алет. Товарищ капитан! Можно вас на минутку?
Павло Тарасович. А что такое?
Алет. Дело есть. На одну минуту…
Павло Тарасович (недовольно). Ну, какое еще там дело?.. (Уходит с Алетом в кубрик и почти сразу же возвращается с бутылкой водки в руках.) О цэ штука! Вот тебе и Вэварка! (Любовь Николаевне.) Бачишь? Запасся водкой!
Любовь Николаевна. Странно!
Алет (с явной радостью). Никогда ему не стать Саваркой! Болтун, выдумщик! И пьяница — собрался пьянствовать во время сдачи улова!
Павло Тарасович. А вот и он! Вэварка, поди-ка сюда! (Показывает бутылку.) Видишь?
Вэварка (подходит). О, винка! Выпивать хотите?
Алет. Не мы хотим, а ты! У тебя в кубрике нашли. Пьяница ты!
Любовь Николаевна. Что же это ты, Вэварка? Ай-яй-яй! Подводишь меня…
Вэварка (удивленно). Как?! Я хочу выпивать? И эта винка моя? Что вы! Никакой винки у меня нет! Совсем нет!
Павло Тарасович. Но мы же у тебя ее обнаружили! Зашли в кубрик, а из твоего чемодана торчит бутылка!
Вэварка (растерянно). Ничего не понимаю!.. Не покупал я винки! Сила воли у меня есть. Курить бросил — не курю! Пить тоже не собираюсь — Феня не велит…
Павло Тарасович. Ну, ты, Вэварка, поменьше о девках думай! А водка твоя!
Вэварка. Нет, не моя!
Алет. Выходит, кто-то подложил тебе? Так, что ли?
Вэварка. Правду говорю — не было у меня винки!
Любовь Николаевна. Может, действительно, кто-нибудь подшутил? Вздумал проверить его силу воли…
Алет. Ну, да!.. Станет кто-то тратить на него деньги, покупать водку…
Павло Тарасович. Что ж, вернуть ему водку? А? (Вэварке.) На, бери свою винку! Но не вздумай выпить на судне! Смотри! Выгоню немедленно!
Вэварка. Зачем мне чужую винку? Вот лешак-шайтан!
Алет (Вэварке). Бери, бери! Твоя она!
Вэварка (неохотно берет бутылку). Ладно. Я найду хозяина винки. Нарочно буду таскать в кармане. Пусть все видят. Кто-нибудь сознается… (Запахивает бутылку в карман.) Вот лешак-шайтан!.. (Уходит.)
Алет. Считайте, что его уже списали на берег! (Уходит.)
Павло Тарасович. Побачим, что будет…
Любовь Николаевна. А я Вэварке почему-то верю…
Павло Тарасович. Да леший с ним! (Кладет руки на плечи жены.) Люба!..
Любовь Николаевна. Слушаю, товарищ капитан!
Павло Тарасович. Дай, подивлюсь на тебя! Соскучился здорово… (Обнимает ее.)
Любовь Николаевна (насмешливо). Но-но! Нельзя на судне! Отойдем в сторонку…
Павло Тарасович. Вот подкусила! За это я тебя…
Крепко целует ее. Оба смеются и уходят в рубку. На палубе снова появляется Вэварка со шваброй. Из кармана у него торчит бутылка.
Вэварка (берет с палубы большую рыбину). Эх, хороша рыбка! Кушать будешь — сразу пол-литра купишь!.. А у меня винка в кармане. Но — чужая… Распечатывать — ни-ни!.. Сила воли! (Бросает рыбу и начинает работать шваброй, придирчиво заглядывая во все углы, затем останавливается, заметив какую-то ненормальность в снастях.) Это что такое? Вот дурак Тит! Зачем так завязал? (С силой дергает конец веревки. Узел внезапно развязывается. Вэварка падает, и бутылка в его кармане со звоном разбивается.) Ой, разбил, однако!.. Вот лешак-шайтан! Половина отлетела!.. (Садится, держа в руке верхнюю половину бутылки.) Тьфу!.. Мать честная! Ай-яй-яй! Вот несчастье!.. (Осторожно вынимает из кармана нижнюю половину бутылки, полную водки, и держит ее в руке, как стакан.) Вот сколько осталось!.. Что теперь буду делать, а? Куда дену? (Поднимает водку на уровень глаз.) Гм… Как стакан с винкой! (Отпивает немного.) Ничего… хорошая. Давно я не пил винку! Как же быть? Можно вылить, можно выпить — даром досталась… (Оглядывается, делает решительный взмах свободной рукой и одним духом выпивает водку.) О-о!.. У-у!.. Эхх!.. Хороша!.. Маленько крепкая — пятьдесят шесть градусов! (Допивает оставшиеся капли.) Все!.. Теперь не прольется… А бутылку выбросим… (Встает и бросает за борт осколки бутылки.) Ничего… У меня сила воли есть! Сами дали… Безвыходное положение получилось… (Сердито пинает ногой веревку.) У, проклятая веревка! Опять подвела!..
Сбоку раздаются звуки гармони, и Вэварка, схватив швабру, торопливо уходит. На палубу выходят Айна и Иван с гармонью.
Айна. И здесь не видать моего платочка…
На причале появляется Феня и направляется к трапу.
Иван. Найдем…
Айна. Не найдем — тоже не велика беда…
Феня (поднимается по трапу). Ждем еще у моря погоды?
Айна. Не подпускает баржа. Приходится бездельничать…
Иван. А что делать, когда нечего делать?
Феня (весело). Как что? Веселиться!..
Иван. О!.. Сама истина глаголет вашими устами, синьорита! (Растягивает мехи гармони.) А, ну — раз, два… начали!..
Играет частушки. Айна и Феня поют и пляшут.
Айна.
Ой, растет зеленый лист, Ветка книзу клонится. Мои миленок гармонист — Я плясать охотница!Феня.
Лунны ночи, светлы ночи! До чего ж вы хороши! Удержаться нету мочи — Я танцую от души!Из кубрика выглядывает Ефимыч.
Ефимыч. Эге! Вот где весело-то! (Подходит к танцующим.)
Айна.
Расшумелась, разгулялась, Обь — широкая река. Замуж я не собиралась, Да влюбилась в рыбака!Феня.
Ой, подружка, почему я Все хожу с улыбкою? Меня милый называет Золотою рыбкою!..(Обнимает Айну, и обе, смеясь, останавливаются.)
Ефимыч (в восторге). Дельно! Весело! Аж у меня пятки зачесались!..
Иван. А, ну давай, Ефимыч! Вспомни молодость! (Играет плясовую.)
Айна и Феня. Просим! Просим!
Ефимыч (смешно пляшет и поет, в конце каждого куплета хватаясь за поясницу.)
Не считайте-ка, девчата, Что я хилый и больной, Я спляшу вам, как ребята… Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой!..Айна и Феня смеются.
А для пущего порядку Я желаю всей душой Поплясать еще вприсядку…(Пускается вприсядку, но тут же садится, держась за поясницу.)
Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой!..Айна и Феня. Браво!.. Ай да Ефимыч!..
Ефимыч (встает). То-то же!..
Иван. Молодец, старик! Но хватит… Хорошего помаленьку… Пойдем, Айна, покопаемся в транзисторе. Может, наладим…
Айна. Пойдем…
Айна и Иван уходят в кубрик, Ефимыч тоже. Оставшись одна, Феня оглядывается вокруг.
Феня. Нигде его не видно. Спит, что ли? Начинаю скучать о нем. Вот дура!..
На причале появляется Тит. Он в праздничном наряде, в белой вышитой рубашке.
Феня. Ого! А ты сегодня — просто жених!
Тит. А что? Я свое дело сделал, вахту сдал… Теперь и погулять можно! (Поднимается на траулер, вынимает из кармана зеркальце и расчесывает усы и бороду.)
Феня. И работать стал лучше. Вэварка взял тебя в руки…
Тит. А я и сам кое на что способен… (Подходит к Фене.) Вот возьму и обниму тебя!
Феня (поднимает с палубы большую рыбу, оставленную Вэваркой). Попробуй только!
Тит. Ну, ну! Не бойся… Знаешь, что? Поженимся, а?
Феня. Батюшки! Еще чего выдумал!
Тит. А что? Поженимся, смигрируем на Дальний… Хуже, что ли?
Феня (смеется). Да с тобой и на Дальнем будет гроб. Ленив ты, Тит! (Щупает мускулы на его руке.) И силенка, что у цыпленка…
Волоча за собой швабру, из-за рубки появляется Вэварка, но те его не замечают. Увидев Тита и Феню, Вэварка прячется за рубку и следит за ними.
Тит (обиженно). Ну, ты это брось! Что-то ты больно задаешься… Уже не снюхалась ли с Вэваркой?
Феня. А тебе какое дело?
Тит. Сейчас посмотрим!.. (Грубо обнимает Феню.)
Феня (оттолкнув Тита, ударяет его по плечу рыбой). Не лезь! Вот тебе!..
Тит (рассвирепев). Ах, так?.. Рубашку испортила?! Так я тебе сейчас дам!.. (Наступает на Феню.) Я тебе покажу цыпленка!..
Испуганная Феня бросается бежать, Тит бежит за нею, но спотыкается о подсунутую Вэваркой швабру.
Вэварка. Ага, стоп!.. (Кидается на Тита, хватает его за шиворот, пригибает и заставляет стучать лбом о палубу.) Я тебя проучу!..
Феня (растерянно). Батюшки! Что-то теперь будет!..
Тит. Кара-ул!..
Вэварка. Будешь знать, как девушек обижать!..
Тит. Кара-ул!.. Полундра!..
Феня. Отпусти, Вэварка! Угробишь!
Вэварка. Ничего, стерпит! Шибко умный стал!
Тит. Отпусти! Пол-литра за мной!..
Вэварка. Не надо мне… Я уже выпил! А, может, это твоя винка была? Ты мне подсунул?..
Тит. Да что ты!.. Я бы сам выпил… Отпусти!..
Вэварка (стукает его лбом о палубу). Кричи: «ма-а-ма!».
Тит. Ма-ма!
Вэварка. Шибко кричи!
Из рубки выглядывает Иван и тут же скрывается.
Тит. Ма-а-ама!..
Вэварка. Ну, ладно! Хватит, однако… (Отпускает Тита.) Уходи!..
Тит (поднимаясь). Не Вэвар, а варвар…
Вэварка (на Тита). Ухх!..
Тит. Караул!.. (Убегает в кубрик.)
Вэварка. Вот, Фенечка… как тебя люблю!.. Никому не дам в обиду!..
Феня (чуть не плача). Господи, где же ты так нализался?.. Горе ты мое!.. Тоже… защитник…
На палубе появляются Павло Тарасович, Любовь Николаевна, Иван и Алет.
Павло Тарасович. Это что за новости? Опять происшествие?.. И опять этот бисов сын! Ну, что ты будешь делать?..
Алет. Списать его с судна, чтоб не позорил команду!
Иван. Посадили нам на шею сокровище…
Вэварка. Докладываю, товарищ капитан: матрос Вэварка в полном порядке!.. С-сила воли есть! Феню, золотую рыбку, я защищал… вот она, моя любовь! (Указывает на Феню.)
Феня. Больно ты мне нужен… (Со слезами.) Пьяница несчастный… (Быстро уходит.)
Вэварка (горестно). Пропала моя любовь!.. (Хватается за голову.) Ой, лешак-шайтан… лешак-шайтан!..
Занавес.
Картина четвертая
Начало зимы. Стан рыболовецкой бригады на ледяном торосистом поле. Туман. Сбоку темнеет полынья. На льду грудой лежат сети, пешни, ящики, мотки веревок. Справа виднеется нарточка собачьей упряжки. Горит небольшой костер.
Хмурый и сосредоточенный Ефимыч, согнувшись, распутывает сеть. Иван, успевший уже отпустить пышные усики, ходит по льду, потирая озябшие руки и ударяя ногу об ногу.
Ефимыч. Слушай, Иван! Помогай мне.
Иван. Погоди… дай согреться. Холодно, черт возьми! Зима только начинается, а того… Бррр!.. Достается же здешним рыбакам!
Ефимыч. А ты думал…
Иван (греет у костра руки). Руки замерзли! Водичка-то хватает, как кипяток!
Ефимыч. Надень рукавицы…
Иван. Мокрые они…
Ефимыч. А куда ты их сунул?
Иван. Да вон… на льду валяются…
Ефимыч. Мокрые и на льду? Убери скорее! Примерзнут — не оторвешь!
Иван (подходит к лежащим на льду рукавицам, пробует шевельнуть их ногой). Верно, мать честная! Примерзли!.. (С трудом отрывает пешней одну из рукавиц.) Смотри, как застыло!
Ефимыч. Видишь? Эх, ты — рыбак, рыбак!.. На, бери мои рукавицы!
Иван. Спасибо… (Подходит к Ефимычу и берет рукавицы.) Непривычно мне здесь… (Направляется к костру, но оступается и чуть не падает.) Черт!.. Скользко!..
Ефимыч. Снегу мало. Рановато мы выехали…
Иван. И лед тонкий…
Ефимыч. Лед такой, что оторваться может. Унесет в море — вспоминай, как звали…
Иван (с тревогой). Думаешь?
Ефимыч. Тут и думать нечего. Это здесь обычное дело…
Иван. Вот, черт! Этого еще не хватало!..
Вэварка (за сценой). Сейчас я догоню тебя — рыбку золотую!..
Феня (за сценой). А вот и не догонишь!
Ефимыч. Опять Вэварка с Феней дурит…
Иван (с досадой). И на черта этого болвана оставили в бригаде?.. Очень он нам нужен, этот пьяница!..
Ефимыч. Н-да, парень… Сурово ты о других судишь… (Разгибается.) Ну, сетку я, кажись, распутал. Давай, пошли…
Иван. Пошли…
Со смехом подталкивая перед собой Феню, появляется Вэварка. Он в меховой малице, подпоясанной ременным поясом, с ножнами на боку. На ногах у него меховые пимы.
Феня (смеясь). Батюшки! Ну, куда ты меня тащишь?
Вэварка. Сюда! Маленько посекретничать… (Усаживает Феню на нарточку.)
Феня. Вот привязался! Даже устала…
Вэварка. Сиди, отдохни… (Ефимычу.) Это последняя сетка?
Ефимыч. Последняя. (Взваливает сеть себе на спину и вместе с Иваном уходит.)
Вэварка (весело). Оч-чень хорошо! Саво! Сейчас сообразим! (Садится рядом с Феней.) Ну?..
Феня. Что — ну?..
Вэварка. Полюбуемся друг на дружку. Досыта!
Феня. С чего это вдруг? Да и увидят…
Вэварка. Знаешь что, рыбка золотая? Давай-ка мы с тобой поедем на берег за сетями. Сетки кончились, продукты кончились… Пошлют кого-нибудь за ними. Лучше мы съездим. А?
Феня. Почему обязательно мы?
Вэварка. А там, на берегу, никого нет. Посекретничаем маленько…
Феня (встает). Батюшки! Да что ты! Неудобно, поди. Разговоры пойдут…
Вэварка (тоже встает). Какие разговоры? Что за глупости? Пусть попробуют!..
Феня. Ой, не знаю, что и делать…
Вэварка. Съездим давай, а? Люблю я тебя! Ох, как!..
Феня. Так уж и любишь!
Вэварка. Вот те крест!.. (Крестится, но неправильно: с плеча на плечо, потом с живота на лоб.) Люблю, рыбка моя золотая!..
Обнимает и крепко целует Феню. Во главе с Павло Тарасовичем появляются Алет, Миша, Гриша и Тит и, сдерживая смех, смотрят на целующихся.
Павло Тарасович. Стоп! Хватит вам лобызаться, бисовы дети!
Феня. Ой, батюшки!.. (Прячется за Вэварку.)
Вэварка (растерянно). Вот лешак-шайтан!..
Гриша. Нашли время и место!
Миша. Вот это номер!
Алет. Умора!
Павло Тарасович. Целуются на промысле! А?.. Ну, штука! Хотим за сетями послать, ищем его, а он тут того…
Миша. Этого…
Вэварка (обрадованно). Меня послать? Саво! Хорошо! Пожалуйста!.. (Фене.) Видишь? Сейчас поедем…
Феня. Я готова…
Павло Тарасович. То есть как это готова? Не ты поедешь с Вэваркой, а мой помощник!
Алет. Конечно, я…
Вэварка. Алет поедет? А на что он мне? Феня, слышишь, что они говорят? Мы же с тобой договорились…
Павло Тарасович. Вас только пошли! Вы там и начнете договариваться, як вот сейчас…
Тит. Будете там целоваться, а мы жди вас полдня, не евши!
Сбоку к разговаривающим подходит Айна в подпоясанной цветным кушаком ненецкой меховой ягушке-шубке с орнаментом.
Вэварка. Нет, я с Алетом не поеду. Только с Феней!
Павло Тарасович. А я тебе приказываю ехать с Алетом!
Вэварка (с глубоким сожалением). Вот лешак-шайтан! Весь план пропал! Тьфу!..
Феня. Подумаешь! Не надо — и не поеду! Я тоже могу бездельничать…
Алет (резко). Поехали, Вэварка! (Идет к нарточке.) Не хочется мне с тобой ехать, да надо…
Вэварка (вдруг настораживается, напрягает ноги, прислушивается). Постойте! Тихо!.. Чую ногами — худо подо льдом! Где-то шторм начинается, маленько уже сюда доходит. Льдину, однако, оторвать может…
Алет. Чего-о?
Миша. Ну, и выдумал же!
Гриша. Лишь бы не ехать!
Тит. Не ногами надо чувствовать, а башкой!
Все смеются. Появляются Ефимыч и Иван.
Ефимыч. Что за веселье?
Алет. Да вот Вэварка чудит… смешит всех…
Айна. Говорит, льдину, скоро оторвет. Штормит, мол, где-то…
Иван. А откуда он знает?
Алет. Он шторм пятками чувствует, горе наше горькое!
Иван. Пятками? Вот это блеск! Лучше не придумаешь!.. (Хохочет.)
Вэварка. Я правду говорю! Чую!..
Айна. А, может, верно? Вот беда-то…
Павло Тарасович. О каком шторме можно балакать, когда кругом туман? Ветру-то, значит, нема и в помине!
Ефимыч. Я по воде в лунках пока ничего не заметил… (Идет к полынье.) И в полынье ничего не приметно…
Вэварка. Но я же чувствую — неспокойно подо льдом! Меня этому отец научил. Пятками слушать…
Иван. А ты разденься и сядь голый на лед! Еще лучше будешь слышать! (Общий смех.)
Вэварка. Вот глупый народ, смеется зря! Потом плакать будете! Вспомните меня!
Павло Тарасович. Уже и так вдоволь наплакались из-за тебя… и, бачу, немало еще наплачемся. Поезжай, время!
Алет (садится на нарточку). Поехали, поехали!
Вэварка. Ну, пошто мне не верите?
Павло Тарасович. Потому что потеряли в тебя веру…
Ефимыч. Это очередной твой крендель!
Иван. Циркач Вэварка в своем репертуаре!
Вэварка. Фенечка! Рыбка золотая! Хоть ты поверь мне! Унесет вас в море!..
Феня (Вэварке). Полно тебе! Поезжайте и скорее возвращайтесь!
Алет. Мы быстро! Тут недалеко…
Павло Тарасович. И рацию с собой прихватите…
Алет. Прихватим…
Вэварка (с отчаянием). Вот несчастье-то! Потерял веру! Ой, какой, оказывается, худой! (Садится на нарточку.) Ай-яй-яй!..
Алет. Поехали! Кыш, собачки!.. (Нарточка сдвигается с места и исчезает.)
Вэварка (за сценой). Феня-я! Фенечка-а!..
Павло Тарасович (вслед уехавшим). Возвращайтесь скорее!.. (Айне.) Рацию-то надо было сразу взять…
Айна. Так она же неисправна, Павло Тарасович!
Павло Тарасович. Все равно. Глядишь, починили бы…
Ефимыч. Сетка-то последняя еще не совсем поставлена…
Павло Тарасович. Ага. Пошли, хлопцы!
Все уходят, но Иван задерживает Айну.
Иван. Подожди, Айна! Солнышко мое… побудь со мной!
Айна. Нехорошо, Ваня. Увидят — плохо подумают.
Иван. Не увидят… Как думаешь, дурил Вэварка, или действительно может оторвать льдину?
Айна. Кто его знает… Может, он и вправду беду почуял. Разве его поймешь?
Иван. Помнишь, Айна, разговор наш? Если живыми останемся, давай сразу, как вернемся, уедем… Ну ее, эту романтику, к черту!
Айна. Что это ты, вроде встревожился? Ничего еще не получилось…
Иван. Это я-то встревожился? Чепуха! Я за тебя беспокоюсь. А мне что… я люблю приключения! Стихи потом напишу… тебе их посвящу…
Айна. Идем, Иван… Неудобно…
Иван. Слушай… а вдруг этот проклятый Вэварка все-таки прав? Пропадем еще… Дай, хоть поцелую тебя! (Пытается обнять Айну, но она противится.) Ну, что ты ломаешься, дурочка? Хочешь, скажу всем, что ты — моя невеста? (Целует ее.)
Айна. Не надо! Я еще не решила… (Убегает.)
Иван (раздраженно). Вот дура!.. (Зябко ежится.) Черт! Обстановочка — только для белых медведей!.. Еще замерзнешь тут… Или потонешь…
Появляется озабоченный Ефимыч.
Ефимыч. Что… замерз, парень? Поди, на юг податься думаешь?
Иван. Угадал. Тут у вас никаких денег не захочешь…
Ефимыч. Так… Для Севера у тебя, значит, жила слаба оказалась…
Иван (зло). При чем тут жила? Жизнь дается человеку один раз, и надо прожить ее со вкусом… а не ишачить, где попало! Вот ты здесь всю жизнь проторчал, а что видел?
Ефимыч (берет длинную палку). Того, что я видел, тебе, милок, никогда не увидеть…
Уходит. На стан возвращаются Павло Тарасович, Айна, Феня, Миша, Гриша и Тит.
Айна. Павло Тарасович! Как вы думаете… доехали уже наши или еще нет?
Павло Тарасович. Думаю, что доехали. Скоро вернутся.
Тит (испуганно). Ай!.. (Замирает на месте.)
Павло Тарасович. Ну, что у тебя?
Тит (еще более испуганно). Ай!.. Дрожит!.. Лед дрожит!..
Павло Тарасович (сердито). Отставить!.. Хвост у тебя, бисова сына, дрожит, а не лед!
Миша (Титу). Уже сдрейфил?
Гриша. Эх, ты, рыбак!..
Иван. А, может, верно. Мы уже того — плывем в море-океане?
Феня. Батюшки! Ну, что ты болтаешь?..
Миша (Ивану). Что нос повесил? Ты лучше гармонь возьми!
Гриша (живо). А мы с Мишей споем!
Миша. Про Феню…
Гриша (смеется). Про кока!
Иван (недовольно). Холодно… Руки замерзли…
Миша (весело). А мы тебя сейчас согреем!
Гриша. Только пар от тебя пойдет!
Шутливо наскакивают на Ивана и начинают с ним бороться.
Иван. Ладно!.. Хватит вам!.. Я уже согрелся… (Открывает один из ящиков и достает гармонь.) Ну, кто из вас — Козловский? Вкалывайте!
Гриша (Фене). Уступи, Феня, платок. Мы в шутку…
Берет у Фени платок и по-женски повязывается им. Иван играет, Миша и Гриша поют, приплясывая.
Миша.
Эй, красотка, как дела? Что сварила-напекла?Гриша (изображая девушку-кока).
Из ершей ведро ухи Да из нельмы пироги!Миша.
Значит, здорово живешь! Что же в гости не зовешь?Гриша.
Гостю рада я всегда, Но случилася беда!Миша.
Что за горе, за печаль? Поскорее отвечай!Гриша.
С мылом рыбу мыла я, Стала есть — а есть нельзя!Миша.
Эх, ты, девка, горе-кок, Недотепа-хлебопек!Гриша.
Что же делать, сватушка? Не учила матушка!..Павло Тарасович. О цэ гарно! Молодцы, хлопцы!
Айна. Браво!
Иван. Бис!
Феня. Вот бесы!..
Все смеются, но появляется Ефимыч с палкой в руке, и смех замолкает. Ефимыч заглядывает в полынью и уходит в сторону, куда уехали Алет и Вэварка. Павло Тарасович делает знак Титу и вместе с ним уходит за Ефимычем.
Иван. Потопали куда-то…
Феня. Поди, встречать Алета и Вэварку…
Гриша (отдает Фене платок). Не провалились бы в полынью…
Миша. Да. Туман — ничего не видно…
Айна. Нет… Туман стал меньше…
Гриша (оглядывается). А верно! Вроде как посветлело…
Иван (тревожно). С чего бы это? А? Шторм идет?..
Тит (вбегая). Полундра!.. Лед оторвало!..
Миша. Кто сказал?..
Тит (возбужденно). Павло Тарасович поглядел на воду в лунках, а она совсем мутная! Значит, где-то штормит!..
Феня. Вот! Вэварка говорил, а мы, дураки, не поверили!
Айна. А кто сказал, что лед оторвало?
Тит. Так шторм же, я тебе говорю! Значит…
Айна. Ничего еще не значит!
Миша. Не трусь!
Внезапно раздается громкий треск льдины.
Феня (испуганно). Батюшки! Лед трещит!..
Тит (в ужасе). Сейчас утонем!.. Бежать!.. На берег!..
В панике кидается в сторону. Иван бежит за ним, но Тит проваливается в полынью, и Иван останавливается.
Тит. Караул!.. Спасите!..
Все с шумом и возгласами бросаются к Титу на помощь и вытаскивают его из полыньи. Быстро выходит Павло Тарасович.
Павло Тарасович (властно). Спокойно, товарищи! (Титу). Что? Бежать хотел?..
Тит (дрожа). А я — чо? Холодно!.. Бррр!..
Павло Тарасович. Двигайся! Согревайся! Ничего — в другой раз умнее будешь!..
Тит (нечленораздельно). Я — ниче… Б-р-р…
Айна. Его к костру надо…
Павло Тарасович (Мише и Грише). И переоденьте его в сухое… Живо!..
Быстро входит Ефимыч. Все оборачиваются к нему.
Павло Тарасович. Ну, як?..
Ефимыч (не сразу). Вэварка прав был — дрейфуем!.. (Общее смятение.) Разрыв большой — вода, сколь глаз видит…
Занавес.
Картина пятая
Комната в небольшой рыбацкой избушке. Тусклый свет, пробивающийся сквозь единственное маленькое окно, смутно освещает грубо сколоченный стол, лавку, две табуретки.
Первое время сцена остается пустой, затем в комнату быстро входят Вэварка с большим тюком на спине и Алет, несущий портативную рацию.
Алет (ставит рацию на стол). Вот дьявол! Не успели!.. Вода — а их нет!.. И ведь опоздали-то мы, наверно, всего на какие-нибудь полчаса!
Вэварка (бросает тюк на пол). Ох, беда!.. Вот какая беда!.. (Возбужденно.) Не верили мне, смеялись!.. И Феня там!..
Алет. Феня-Феня, а других там нет, что ли?
Вэварка. И другие есть… Пурга началась… унесет их!..
Алет. Сообщить надо в контору… Срочно!
Вэварка (взволнованно). Верно! Чтобы спасали их! Немедленно! (Хватает наушники и старается включить рацию.) Сейчас вспомню!.. Сюда?.. Нет, не сюда… Так?.. Нет, не так…
Алет (нетерпеливо). Ну, что ты шаманишь, идол безголовый?
Вэварка. А ты — идол с головой! Вот и передавай сам!.. (Срывает с головы наушники.) На-на! Бери! Передавай! Ты на помощника капитана выучен! Должен уметь!..
Алет (сердито). Да, выучен, умею! И передал бы, если б рация работала!
Вэварка. Ты с Айной дружил! Должен знать, в чем тут дело…
Алет (передразнивает). Дружил… Разбил ты нашу дружбу, идол… (Копается в рации.)
Вэварка. Продуктов у них нет… Костер тоже топить нечем… Скорее!!
Алет. Черт! Не знаю я этого аппарата! (Протягивает наушники Вэварке.) Тебя Айна учила! Крути!..
Вэварка. Шибко мало учила! Один «СОС» запомнил… и все. Крути сам!
Алет. Уже везде крутил — ничего не выходит…
Вэварка. Ай, шибко худо! Люди в беде! Феню жалко, всех жалко. Унесет их в море. Я же говорил — беда подходит, лед оторвет! Не поверили мне!
Алет. Конечно, не поверили! И сам ты в этом виноват — потерял всякое доверие…
Вэварка. Ой, худо потерять доверие! Очень худо! А я не думал об этом…
Алет. А ведь ты можешь быть серьезным. Узнал вон, небось, что лед оторвется. Умнее нас оказался. А тебе никто не поверил… и теперь могут погибнуть люди…
Вэварка (в отчаянии). И Феня моя там!.. Вот какой дурак я! Совсем дурак! Настоящий Вэварка! (Бьет себя по лбу.) Да, да, Вэварка, Вэварка! Худой человек! Идол безголовый! Вредитель!.. (Делает резкий жест.) Теперь — все!.. Больше так не будет! Вэварки больше не будет! Саварка будет! Только Саварка! Вот увидишь!..
Алет. Спохватился наконец!
Вэварка. Людей надо спасать! (Садится около рации.) Давай попытаемся еще раз. Вместе попробуем! (Оба снова начинают настраивать рацию.) Питание, что ли, вышло?
Алет. Питание есть. И замыканий вроде не видно…
Вэварка. Значит, где-то в другом месте заболело…
Алет (с сердцем). А ну ее к черту, эту канитель!.. (Встает.) Напрасно время тратим! Надо ехать на рыбоучасток!
Вэварка. Верно, надо ехать. Ты пока готовь упряжку, а я тут еще помудрю маленько…
Алет. Сейчас сниму с нарты продукты и поедем! (Уходит.)
Вэварка (к рации). А ну…. попробую тебя вылечить… (Хлопочет у аппарата.) Так… Вот здесь крутим… И здесь… (Напевает на национальный лад.)
Жил олень однажды в стаде Очень сильный и большой. Был красив собой и статен, Но с дурною головой. Все олени как олени, Он же — Вэварка-балда, Вечно море по колено — Несерьезным был всегда. Но не зря нам солнце светит, И настал желанный день — Золотую рыбку встретил И стал Саваркой олень!Да, да, Саваркой… Только Саваркой… А ну, еще здесь крутнем!.. Ой!.. (Вскакивает.) Ожила маленько!.. Еще крутнем!.. (Радостно.) Все! Можно передавать… Сейчас весь мир на ноги подниму!.. Как это?.. Точка-точка-точка, тире-тире-тире, точка-точка-точка. Получится «СОС»!.. (Выстукивает «СОС».) Так… Еще разок… (Снова выстукивает «СОС».) Спасите наши души!.. А еще что?.. А?.. Вот лешак-шайтан!.. Ничего больше не знаю! (Кричит.) Алет!.. (Бросается к двери, но задевает за рацию, и она падает.) Ой!.. (Осторожно ставит аппарат на место и снова бросается к двери.) Алет!..
В дверях появляется Алет. В руках у него большой ящик.
Алет (ставит ящик на пол). Чего тебе?
Вэварка (возбужденно). Я «СОС» передал!.. Работает!..
Алет (быстро идет к рации). Работает?
Вэварка. Я ее вылечил!.. Передавай дальше!
Алет торопливо надевает наушники и пробует начать передачу, но безуспешно.
Вэварка (с тревогой). Что? Опять заболела?..
Алет. (срывает с головы наушники). Дурак! Баламут! Обманщик!
Вэварка (растерянно). Почему мне не веришь?.. Я «СОС» передал…
Алет. Нашел время шутить! Там люди в опасности, а ты… (Слышится вой собак.) Слышишь?.. Собаки прямо взбесились!
Вэварка. Шторм чуют… Надо скорее ехать…
Алет. Пошли! (Идет вместе с Вэваркой к двери.) Поедем прямиком по оставшемуся льду. Берегом в два раза дальше…
Уходят. Слышно, как воют собаки.
Занавес.
Просцениум
Вой и свист пурги. Сбоку на авансцену выходит измученный Вэварка, неся на спине Алета. Дойдя до середины авансцены, он останавливается, бережно опускает товарища и в изнеможении садится рядом.
Вэварка (смахивая с лица пот)… Уфф!.. Не могу больше!.. Силы нет!.. (Тяжело переводит дыхание.) Вот проклятые собаки — убежали! Оставили нас на полдороге!..
Алет (со стоном). Брось меня!.. Сам хоть доберись, сообщи о людях! Их много, а я — один…
Вэварка. А ты? Останешься, да? С больной ногой?.. Не-ет, так не пойдет. Тебя надо к лекарю нести…
Алет. Ты сам-то сумей добраться по полыньям…
Вэварка. Молчи! Не могу я оставить тебя одного, больного. Замерзнешь!.. А я все равно доберусь до участка. Тебя дотащу и про людей сообщу… Вот только маленько отдохну. Совсем маленько… (Ложится возле Алета.) Лишь бы не уснуть… Уснуть нельзя — худо будет… (Бормочет.) Ой, Фенечка, рыбка золотая!.. Фенечка, Фенечка…
Засыпает. Воет пурга. Некоторое время оба лежат неподвижно, затем Вэварка, что-то бормоча, тяжело поворачивается во сне и опускает руку на больную ногу Алета.
Алет (просыпаясь). Ой!.. Что ты?.. (Сбрасывает руку Вэварки и, со стоном приподнявшись на локте, оглядывается.) Вэварка, Вэварка!.. Ты что… уснул, что ли? Проснись!..
Вэварка (еще не проснувшись). Феня… Рыбка золотая!..
Алет (тормошит товарища). Замерзнешь! Вставай!..
Вэварка (просыпается). А?.. Что?.. (Садится.) Ой… Оказывается, я уснул маленько… Уф-ф!.. (Поднимается на ноги.) Вот лешак-шайтан!.. Даже сон видел. Странный такой сои — Феню и зверей всяких! А ты не замерз?
Алет. Кажись, не совсем еще…
Вэварка. Держись! Сейчас дальше потащу. Ничего, доберемся…
Осторожно поднимает Алета себе на спину и, согнувшись под его тяжестью, уходит. Воет, свистит пурга.
Затемнение.
Картина шестая
Стан рыболовецкой бригады на дрейфующей льдине. В небе то ослабевает, то вновь начинает полыхать северное сияние, и тогда снег кругом вспыхивает тысячами разноцветных искр, а за льдиной проступает мерцающая полоса воды и далекий силуэт Скалистого мыса.
Вокруг крохотного костра сидят и лежат на грудах сетей измученные голодом и бессонницей рыбаки.
Павло Тарасович. Что загрустили, хлопцы? Выше головы!
Миша. Это вон Тит с Иваном загрустили, а мы что?
Гриша. Нам грустить нечего…
Миша. Самое страшное мы уже пережили — шторм с пургой… а теперь погода наладилась!
Гриша. Вон сияние как полыхает! Красота!..
Айна. Но почему за нами не прилетают? Сейчас-то уж нас можно обнаружить…
Павло Тарасович. Ищут нас… Непременно ищут! Теперь, когда льдину припаяло, нас найти легче…
Феня. И не могло прибить нас вон туда — к Скалистому мысу! Пешком потопали бы. Припаяло куда не следует!
Павло Тарасович. Ничего. Это все же лучше, чем если бы в море унесло… Теперь нас найдут…
Иван. Пока найдут, пять раз с голоду подохнешь!
Ефимыч. Ну, с голоду мы не помрем! Рыба у нас всегда будет…
Иван (передразнивает). Рыба… Рыба хороша, когда она в масле на сковородке прыгает! А от такой рыбки, какой ты нас вчера угостил, мертвого и то наизнанку вывернет. Б-р-р!.. Мутит, как после рвотного…
Айна. Это потому, что ты строганину, да еще без соли, впервые ел. К ней привыкнуть надо…
Иван. Хороша привычка! Белый свет не мил…
Миша. А мы попробуем тебя вылечить!
Гриша. Придумаем что-нибудь…
Иван. Идите вы к черту, с вашим леченьем!.. (Встает и с мрачным видом начинает ходить по льдине.)
Тит. А я согреться никак не могу. Развели бы костер побольше…
Павло Тарасович. И рады бы, да не из чего. Последние щепки дожигаем…
Тит. И живот подвело. Сейчас бы щец горячих…
Миша. А ну-ка, Фенюшка, приготовь ему быстренько завтрак из четырех блюд!
Гриша. Проголодался человек, наработался…
Миша. Значит, так: на первое ему — сто грамм и икорки осетровой малосольной на закусочку…
Гриша. На второе — еще сто грамм и свиную отбивную с соленым огурчиком.
Феня. На третье — какао со сгущенными сливками…
Айна. Ну, и апельсинов штучки три покрупнее!
Тит (сердито). Да ну вас к лешему! Воротит все внутри от вашего дурацкого разговора!.. (Все смеются.) Еще и ржут назло!
Феня. А что ж, плакать, как вы с Иваном? Это не поможет… (Тит встает и, что-то бормоча, тоже начинает ходить по льдине. Пауза.)
Айна. Ужасно спать хочется. Две ночи глаз не смыкали…
Павло Тарасович. Потерпите еще трошки. Холодно… а во сне скорее прозябнете…
Снова длинная пауза. Северное сияние тухнет, но небо над зубцами Скалистого мыса розовеет — это начинает разгораться утренняя заря.
Феня. Ох, скучно что-то… Хоть бы спел кто-нибудь…
Айна. Павло Тарасович! Спойте что-нибудь, чтоб не уснуть нам…
Павло Тарасович. Ну, что ж… Могу трошки. Ну-ка, Иван, бери гармонь!
Ивам. Не до этого мне…
Ефимыч. Захандрил, паря! Э-хе-хе!..
Айна. Сыграй, Ваня…
Иван. Ладно, для тебя сыграю… (Берет гармонь.)
Павло Тарасович. О це, добре!.. Давай, Иван… (Поет под гармонь, остальные подхватывают припев.)
Товарищ, послушай меня, дорогой — Рыбацкая доля сурова: Домой заглянув на денек иль другой, Уходим рыбачить мы снова. И снова нас волны качают, Иль в море уносит нас лед. И мокнем мы вечно, И мерзнем всегда — Такой беспокойный народ! Но праздникам в светлый и радостный час За дружеским нашим столом мы Опять за дорогу, зовущую нас, Поднимем стакан и споем мы: Пусть волны качают нас снова, Грозят нам и бури, и лед, Без моря не жить нам — Ведь мы, рыбаки, Такой беспокойный народ!..Голоса. Правильно!.. Верно!.. Спасибо, Павло Тарасович!..
Павло Тарасович. Эх, дивчины, эх, хлопцы! Устроим же мы праздник, як будем на берегу! Скоро прилетят за нами! Вон утро начинается!
Феня. Вчера не могли из-за пурги искать, а теперь, поди, скоро найдут…
Иван. А если никто еще ничего не знает?
Павло Тарасович. То есть как не знает? Алет наверняка еще позавчера сообщил на участок…
Феня. И Вэварка там, на берегу…
Павло Тарасович. Да, и Вэварка. Он вон как беспокоился о нас, предупреждал о беде. Значит, есть в нем доброе… (Встает.) Однако, пойдем, просмотрим сети. Авось, рыбки добудем…
Все, кроме Фени, уходят, но Иван сразу же возвращается и садится с ней рядом.
Феня. Зачем вернулся?
Иван. К тебе, Фенечка… Как думаешь, спасут нас? А?
Феня. Конечно, спасут… А ты что? Перетрусил?
Иван. Не за себя беспокоюсь… тебя мне жалко. Таких красоток, как ты, поискать, а пропадешь здесь за зря! Ты ведь, как цветочек…
Феня (довольная). Скажешь тоже…
Иван. Ей-богу! Я все на тебя поглядываю — сердце замирает, до чего ты хороша!
Сзади появляется Айна с рыбой в руке, но Иван и Феня ее не видят.
Феня (польщенная). Врешь, поди, все… Ничего у тебя не замирает…
Иван. Слушай… и чего ты с этим Вэваркой связалась? Тоже нашла сокровище! Вот, если спасут нас… давай махнем вместе на Кавказ! Денег у меня куча… на руках тебя носить буду! Красиво поживем! (Обнимает Феню.)
Феня (отстраняясь). Погоди…
Иван. Ну, что ты ломаешься? Все равно сдохнем на этой проклятой льдине! (Снова обнимает ее.)
Феня (опять отстраняется). Постой!.. Ты мне сначала скажи, чем тебе Вэварка не по нраву пришелся?
Иван. Вэварка?.. Да он же зулус! Пещерный человек!.. И пьяница к тому же!
Феня. Нет, он теперь не пьет…
Иван. Не пьет? Нечего, потому и не пьет! А стоило мне сунуть ему в чемодан пол-литра, так сразу же нализался!
Феня (пораженная). Так это ты ему водку подсунул? Ты?!
Иван. А что?.. Я это для тебя сделал… чтобы ты поняла, что он — пьяница…
Феня (вскакивает). Ах, ты подлец!.. Гад!..
Ударяет Ивана рукавицей по лицу.
Иван (в ярости). Ты что?.. Очумела?! Да я из тебя…
Иван готов уже броситься на Феню, но сзади подбегает Айна и ударяет его рыбой по голове.
Айна. А-а… вот ты какой? Обоим нам врал?..
Феня. Бей его!..
Обе кидаются на Ивана и с возгласами: «Это тебе за меня!», «А это за меня», «А вот это за нас обоих!» — начинают его бить. Появляется Павло Тарасович и остальные рыбаки и с изумлением смотрят на эту сцену.
Миша. Ого!..
Айна и Феня отступают от Ивана.
Гриша. Вот это ловко!
Ефимыч. Ай да девки!..
Павло Тарасович. За что вы его?
Феня. Он знает, за что!..
Айна (возбужденно). Трус он поганый!.. Гнать его надо из бригады!..
Феня. Это он подкинул Вэварке в чемодан водку!
Миша. Да ну?..
Гриша. Вот так фрукт!..
Павло Тарасович. Так вы его за это и угощали?
Феня. И за это… За все!..
Павло Тарасович. Что ж… на берегу разберемся. Товарищеский суд соберем…
Иван. Нашли, кого слушать!.. Бабы, сплетницы…
Внезапно раздается шум приближающегося вертолета, и все поднимают головы.
Миша (радостно). Летят!..
Гриша. А что я говорил?!
Тит (кричит). Ура!.. Живем!..
Павло Тарасович. Спокойно!.. Встретим товарищей, как подобает…
Все подтягиваются и приводят свою одежду в порядок. Шум вертолета становится совсем близким, и сверху спускается веревочная лестница с висящим на ней Вэваркой.
Вэварка (машет рукой). Ани торово! Привет от космонавта Вэварки! Ура-а!..
Все. Ура-а-а!.. (Подхватывают Вэварку и опускают его на лед. Лестница уходит в сторону и скрывается.)
Вэварка. Здравствуйте, полярники!.. Фенечка!.. Ты жива? Не простыла? Вот хорошо!..
Феня (с улыбкой). Прилетел наконец-то…
Прихрамывая, быстро входит Алет.
Алет. Робинзонам — привет! Ани торово!.. (Миша и Гриша бросаются к нему и обнимают.) Ой, осторожно!.. Я ногу вывихнул!..
Появляется Любовь Николаевна.
Любовь Николаевна. Здравствуйте, путешественники! Все живы и здоровы?
Павло Тарасович. Все, товарищ начальник! (Обнимает жену.)
Любовь Николаевна (облегченно). Уф-ф!.. как гора с плеч! Очень мы за вас волновались!
Алет (умоляюще). Любовь Николаевна! Дайте Айне письмо…
Любовь Николаевна. Да, да, сейчас. Вот оно… (Протягивает Айне письмо.) По-моему, от твоих стариков…
Айна. Спасибо… (Волнуясь, читает письмо). Ой! Алет!.. Отец и мать согласны!..
Алет (радостно). Ага!.. Теперь — не старые времена! (Обнимает Айну.) Теперь и старики умные стали!..
Голоса. Ура! Быть свадьбе!.. Быть свадьбе!..
Тит. Гульнем!.. (Хватает гармонь и играет туш.)
Любовь Николаевна. Вот и замечательно! (Обнимает Алета и Айну.) Желаю вам счастья… много, много счастья! (Ко всем.) Но как же это вы вздумали плавать без руля и без ветрил?
Павло Тарасович (смущенно). Приключение…
Вэварка (волнуясь). Это из-за меня! Предупреждал я — не поверили. Доверия не было… Без доверия шибко худо! Ой, как худо! Понял я это! На всю жизнь!..
Павло Тарасович. Вот это гарно! Молодец!
Алет. И о беде на участок сообщил он! Добрался по полыньям. И меня не бросил… Сколько километров тащил на себе! Мы теперь с ним братья… друзья навсегда!.. (Обнимается с Вэваркой.)
Любовь Николаевна. Вэварка действительно молодец! Хоть Саваркой зови!
Павло Тарасович. А что, рыбаки? Перекрестим Вэварку в Саварку! А? Согласны?
Голоса. Конечно, согласны! (Скандируют.) Саварка! Саварка! Саварка!..
Вэварка (искренне). Как?.. Я уже Саварка?! Феня, слышишь? Я теперь Саварка!.. Ой, рыбка золотая!..
Феня. Поблагодари за это товарищей…
Саварка (ко всем). Спасибо вам, дорогие, спасибо! Шибко большое спасибо! Огромное!.. Я снова родился!..
Феня (ласково). Волосы поправь… (Поправляет ему волосы. Саварка обнимает ее.)
Голоса. Ура!.. Быть и второй свадьбе!.. Браво!..
Тит. Опять гульнем!.. (Играет туш.)
Айна. А Вэварка теперь — вот кто!.. (Указывает на Ивана.)
Миша. Правильно!
Гриша. Нет ему другого имени!
Феня. Не место ему в бригаде!
Иван (зло). Ну, ну… распетушились!.. Плевал я на вас!..
Павло Тарасович. А мы тебя судить будем! Всей командой! Кто рыбацкую дружбу нарушил, тому спуску не будет!
Любовь Николаевна (выступает вперед). Ладно… с ним на берегу разберемся! Что же, рыбаки… Счастливо кончается ваше путешествие! (Взволнованно.) Закалилась ваша дружба… побратались Алет и Вэварка! Расцвела у вас здесь, на холодной льдине, любовь… и сыграем мы на берегу две веселые свадьбы! Две свадьбы!.. Значит, появятся у нас две молодые счастливые семьи, а это — великое дело!.. Пусть же все больше и больше расцветают, как стойкие цветы в нашем суровом крае, любовь и дружба, любовь и дружба!.. И давайте поздравим все Алета и Айну… поздравим Феню и Вэварку, нашедшего здесь свою золотую рыбку и навсегда ставшего Саваркой!..
Рыбаки (весело). Ура!.. Поздравляем!.. Счастливой жизни!..
Все бросаются обнимать Айну и Алета, Саварку и Феню, но возбужденный Саварка вырывается из объятий друзей и выскакивает вперед.
Саварка (вне себя от радости). Эх!.. Не могу!.. Сердце разрывается!.. (Титу.) Тит, давай!..
Тит растягивает мехи гармони, и Саварка бросается в пляс.
Саварка (поет).
Ходит счастье на земле, Не скрывается во мгле, Ярко светится всегда, Как Полярная звезда!К Саварке присоединяются Феня и Алет с Айной.
Я пошел, пошел, пошел, Счастье — звездочку нашел, Счастье — звездочку нашел, Прямо к сердцу приколол!Теперь к пляшущим присоединяются Павло Тарасович с Любовью Николаевной, и вот уже пляшут все рыбаки, кроме Ивана.
Сердце радуется вновь — В нем кипит-бурлит любовь! И поет моя душа: Ой, ты, жизнь, как хороша!Все (хором).
И поет моя душа: Ой, ты, жизнь, как хороша!..Конец.
СТИХИ И ПЕСНИ
Коми Гал Поэма. Перевод с коми М. Максимова
С коми Галом в жизни Всякое бывало… Борода, как пена, Пышная у Гала. Встретил в Заполярье Шестьдесят пять весен, Видел, что на юге, Знает, что ни спросят. Он валил когда-то За рога оленя, И еще есть сила — Не дрожат колени! Так за что же словом Нищенским, позорным Обижают деда, Говорят: «Прокормим!» Говорят: «Весь век свой Был ты на работе. Это стаж не малый, — Отдыхай в почете!» Дед полез за трубкой И ответил: «Что же, От души спасибо Мудрой молодежи!» И ушел с поклоном, Бороду ероша. — Ну и председатель, Очень нехороший!.. Дед сопит над трубкой, Зол и озабочен… Дед не спит две ночи — Две полярных ночи! Две полярных ночи! Два бесплодных года Что-то руки сушит, Сердце точит что-то. Дед ни с кем ни слова, Стала жизнь немою. Говорит он только С городом Москвою. С завтрака пустеют Чумы до обеда, И тогда ведется Странная беседа. Старый громко спросит, Глаз прищурит узкий, И ему немедля Шлют ответ по-русски. Видит, что на сердце, Знает, что на думе, Собеседник деда — Репродуктор в чуме. А в стране, на юге, Потемнели дали: В годы те на юге Недруги напали! Ах, тоска медвежья! Дед ворчит и тужит. — К войску им не годен, В дело им не нужен! Ходит привиденьем, Взмахивает палкой. Борода обвисла, — Треплется мочалкой. — Ну и председатель! А земляк ведь — коми. Вот возьму и лягу, Притворясь, что помер. Он тогда поплачет: — Умер Гал, досадно! Скажет: «Встань, работай, Пошутил и ладно». Только я отвечу: — Ты опять с уловкой? Не заманишь больше, Хоть тащи веревкой! Хоть впрягай упряжки Со всего колхоза. Хоть гони за Галом Трактор на колесах! Вот и все. А в тундре, — Верьте иль не верьте, — Что решат однажды, С тем живут до смерти. Дед решил. И значит, Ни совет соседа, Ни пурга, ни голод Не сломили б деда. Ни пурга, ни голод, Ни земли крушенье!.. Но однажды сам он Отменил решенье. Вышло так: поднялся Диск на горизонте. Гал спросил сурово: — Как дела на фронте? И Москва немедля, Как всегда бывало, Доложила Галу, Словно генералу: — За вчерашний день, мол, Наши самолеты… А потом про танки, А потом про дзоты, Про живую силу, Про потери вражьи, И внезапно… Дед мой Задохнулся даже… И внезапно слышит Дед, ушам не веря: Враг в Москву стремится, Хоть несет потери. — Как в Москву? — У Гала Сердце раскололось. — Как в Москву? — И Галу Отвечает голос: — Так. Но правда с нами, — Значит, с нами сила! Помогают фронту Труженики тыла. …Видит председатель: В снегу по колени, Растеряв степенность, Дед бежит к правленью. Дед влетает бурей: — Здравствуй, председатель! Правду ли я слышал, Враг — тебе приятель? Правда ль, ты желаешь, Чтоб стемнело в доме? Чтоб купцы, как прежде, Обирали коми? Председатель сдержан, Он пожал плечами: — Дона Галэ дедэ![21] Что такое с вами?! Не берусь поведать, Что тут дальше было! Дед — сперва про доблесть Тружеников тыла. А потом — про танки, А потом — про дзоты… — Ты держать не смеешь Гала без работы! — Дона Галэ дедэ, Сесть прошу поближе! От души спасибо Вам за то, что слышу… …Видело то утро Крупным красным глазом: Шесть лихих упряжек Выезжали разом. Весь колхоз к озерам Провожал их миром. На передней дед мой Ехал бригадиром. Он расстался с палкой, Он махал хореем. Он был снова молод, Он кричал «Скорее!» Я слыхал, как молвил Председатель нежно: — Прожил ты немало, Здравствуй бесконечно! Гал, слезу глотая, Прошептал: — Спасибо! …К озеру упряжки Ехали за рыбой… Вот и все, читатель, Лишь добавлю к слову: Приезжай дивиться Нашему улову. И хотя давненько Битвы миновали, Избегай про отдых Говорить при Гале. Гал заводит тоню, Как всегда, степенно… Борода у Гала Пышная, как пена. 1950Береза Перевод с ненецкого Л. Шкавро
Меж голых скал Полярного Урала, на пути кочевий, где олени шли, береза одинокая стояла, уходя корнями в глубь земли. Кто ни шел бы мимо и ни ехал, словно к очагу, тянулись к ней: ведь она была не только вехой, но и доброй спутницей людей. И такою обладала силой, отличаясь стойкостью бойца, что своим дыханием входила путникам в горячие сердца. И любой, особенно с годами, полюбивший навсегда Урал, самыми сердечными словами все равно березу вспоминал… Но гроза однажды налетела, пробуя на ней свои мечи, и она бесследно разлетелась, отпылав в примолкнувшей ночи. Не осталось даже и основы на любимом месте от нее, но всегда она за теплым словом, как живая, в памяти встает. Нет ее, но, как и прежде, люди говорят: — К березе поезжай, пусть там ветер жарко лица студит, где песцов и лис хоть отбавляй… И хоть нет давно ее в природе, но живет она в сердцах людей. Так и я хотел бы жить в народе песней несмолкающей своей. 1959Ой вы, ночи белые!
Ой, вы, ночи белые, Ноченьки вы летние, С милым теплым солнышком, С дивною порой! За зиму холодную, Долгую и темную, Вы даны в награду нам Северной зимой. Спят луга росистые, Где цветы душистые. Над водою стелется Легонький туман. Где-то за околицей, За рекой, за рощицей Вон всю ночку слышится, Как поет баян. Эх, в такие ноченьки Усидеть нет моченьки! С криком чайка носится Над тугой волной… А река широкая, Как любовь, глубокая… В сердце песня просится, Если я с тобой.Не в саду сиреневом
Не в саду сиреневом под Москвой Повстречались, милая, мы с тобой, А на дальнем Севере, у Оби, Я тебя, хорошая, полюбил. Белой ночью светлою, в тихий час Целовал я милую в первый раз. И с тех пор любимее стали мне Эти ночи белые по весне. Не поют на Севере соловьи, Но клялись мы в верности и любви, Чтоб она такою же все была, Будто ночка белая, вся светла. Так пускай не в зелени под Москвой Повстречались, милая, мы с тобой. Для любви, для искренней, от души — Все края родимые хороши!Северная дорожка
В снежном вихре мчат олени. По холмистой тундре мчат. Не бегут мои олени, А по воздуху летят. От полярного сиянья Посветлело, словно днем, На большие расстояния Хорошо видать кругом. Я люблю езду такую — Только править успевай, И поет душа, ликуя: — Здравствуй, тундра, милый край!НЕНЕЦКИЕ И ХАНТЫЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Глухариный зоб Ненецкая сказка Рассказал У. Вануйто
Жил-был богач — Глухариный зоб. Было у него трое работников: первый работник — Пучок сена, второй работник — Клок шерсти, третий работник — Кусок бересты.
Однажды работники вернулись с рыбалки. От усталости они даже без ужина повалились спать. Но богач Глухариный зоб — тут же поднял их на ноги, велел разложить большой костер и плясать вокруг огня, чтобы забавлять хозяина.
Когда костер запылал, работники, еле держась на ногах, стали плясать. Вдруг искра от огня упала на Пучок сена, и он загорелся. Увидев горящего товарища, на помощь ему бросился Клок шерсти. Только взялся за товарища — сам загорелся. Тогда на выручку двух товарищей кинулся Кусок бересты. Он тоже загорелся. Все трое стали звать на помощь.
А Глухариный зоб, видя своих работников в беде, вместо помощи стал громко смеяться над ними. Он смеялся и пятился назад, подальше от них. Пятился да и напоролся на еловый сук. Тут и лопнул богач — Глухариный зоб.
Работники же его бросились в речку и спаслись от огня. У Пучка сена сгорело три стебелька, у Клочка шерсти — две шерстинки, а у Куска бересты только один уголок опалился.
Увидели работники мертвого хозяина, сказали:
— Так тебе и надо, дармоеду-изгалятелю.
Два брата Ненецкая сказка Рассказал Ф. Рокин
Два ненца, два брата жили. Один брат бедный, другой брат богатый. У бедного брата, кроме маленького чума с дырявым нюком-покрышкой, ничего не было. Богатый брат имел десять тысяч оленей и десять чумов. В девяти чумах жили девять семей его пастухов. В самом большом чуме с нюком-покрышкой из теплых собачьих шкур жил сам хозяин с десятью женами. У бедного же брата никого не было, лишь одна старушка мать.
Однажды бедный брат пошел к богатому брату, стал просить кусок мяса для похлебки. Богатый брат даже не взглянул на бедного, только проворчал:
— Не мешай. Я спать хочу.
Возвратился бедный брат в свой чум пустым. Ночь проночевал с голодным животом. Утром рано на охоту ушел. Поздно вечером вернулся с охоты, ничего не добыл. Близко пушных зверей нет, далеко ходить силы не хватало. Так он каждый день на охоту уходил, обратно пустой возвращался.
Как-то он опять на охоту отправился. Немного погодя старушка мать взяла котелок, пошла к проруби за водой. Зачерпнула воды, хотела в чум идти. Вдруг видит — на той стороне Обской губы что-то чернеет. Это черное пятно быстро приближаться стало. Немного времени прошло, старуха узнала — это великан Сюдбя большими шагами на лыжах идет.
Вот Сюдбя к бедной старухе подошел, спросил:
— Что ты делаешь тут, бедная старуха?
Старуха сказала:
— За водой пришла, хочу вскипятить. Когда сын вернется с охоты, хоть утробу кипятком согреет. Мы совсем бедно живем, много дней уже свои желудки одним кипятком греем. Так вот живем.
После ее слов великан Сюдбя задумался. Затем опустил руку в прорубь. Вытащил обратно из воды — на каждый палец по рыбке попалось. Эту рыбу он старухе отдал.
— Иди, свари уху. Сама ешь, сына накорми, — сказал великан. — Пусть твой сын тоже так попробует рыбу ловить. Если у него так же получится, пусть завтра по моему следу в мой чум идет.
Сказав это, великан Сюдбя повернул лыжи обратно. Девять раз шагнул, уже на той стороне Обской губы скрылся.
Воротилась старуха в чум. Скорее уху сварила. Когда бедный сын вернулся, он очень удивился. Старуха мать рассказала ему про великана.
На следующий день бедный ненец пошел к проруби, опустил в холодную воду руку. Вытащил ее, смотрит — на каждом пальце по рыбке трепещется.
Радостный вернулся он в свой чум, отдал матери эту рыбу, так ей сказал:
— Мать моя, ты вари уху. Я к великану Сюдбе схожу.
Пошел он на лыжах по следу великана. Сколько-то шел, увидел очень большой чум. Возле чума ноги его остановились. Снял лыжи, в чум вошел. В чум великана войдя, увидел такое: прямо перед входом далеко-далеко каменный старик и каменная старуха сидят, рты свои разинули. На правой стороне чума жена великана расчесывает волосы спящему мужу. На левой половине чума целое стадо оленей пасется.
Бедный ненец сказал:
— Здравствуй, великан Сюдбя!
Великан Сюдбя ничего не ответил, еще пуще захрапел. Жена стала его будить. Великан не просыпался. Тогда жена костяным черенком своего ножа стукнула мужа по голове. Наконец великан Сюдбя проснулся. Бедному ненцу он так сказал:
— Ты, наверно, давно ждешь моего пробуждения?
Потом Сюдбя крикнул:
— Э-ге-гей! Пояс, аркан и лыжи, ко мне!
Вдруг появился пояс, подпоясал сам малицу великана, сам застегнулся. Аркан сам в руки ему прилетел. Лыжи сами к ногам его прикатили.
Направился великан Сюдбя к каменному старику, вошел ему в рот, затем изо рта каменной старухи вышел. Вынес за пазухой годовалого оленя. Принес его к бедняку ненцу. Шкура с оленя сама снялась, мясо само на куски разделилось.
— Ешь мяса, сколько хочешь, — сказал великан бедняку.
Гость стал есть. Когда наелся, поблагодарил великана:
— Спасибо большое. В моих руках и в моих ногах сразу сила прибавилась.
После этого Сюдбя окликнул свою красавицу дочь и сказал бедняку ненцу:
— Эту мою дочь возьми себе в жены. У моей дочери вон в руках красивая женская сумочка. Если эту сумочку откроешь после возвращения в свой чум, счастливым будешь. Если в дороге откроешь, еще хуже жить будешь.
Отправился бедняк ненец со своей женой по прежнему следу. Вдруг в середине Обской губы подо льдом черти закричали:
— Бедный ненец, загляни в сумочку. Сумочка-то у вас пустая!
Бедняк не поверил чертям, только крепче схватил жену за руку, еще быстрее на лыжах помчался.
Вернулся он в свой чум с молодой женой. В чуме бедняк ненец сказал матери:
— Мать моя, привел я тебе помощницу. Друг друга любите, друг друга уважайте.
Потом они открыли сумочку. Из нее целая стая оводов вылетела. Стая оводов через дымоход вверху вылетела на улицу.
Все трое испугались, скорее из чума выбежали. Стали смотреть, а вокруг их чума из стаи оводов целое стадо оленей образовалось. Все трое очень обрадовались.
С тех пор бедняк ненец стал жить хорошо.
Про хорошую жизнь бедняка брата узнал богатый брат. Богатый брат пришел к бедному, стал расспрашивать его, отчего бедняк вдруг хорошо жить стал.
Бедный брат был честный человек, рассказал всю правду. У богатого брата глаза разгорелись. Он тоже к проруби пошел, опустил руку в воду, долго держал, но так ничего и не поймал. Однако богатый брат все равно решил сходить к великану Сюдбе.
Пришел богач к великану. Великан Сюдбя удивился, говорит:
— Ты зачем ко мне пришел? Я, кажется, не звал тебя.
Потом великан подумал и добавил:
— Ладно, раз пришел, что поделаешь.
Великан Сюдбя опять поймал оленя, велел гостю кушать. Богач в один миг целого оленя съел, даже не хватило. Когда кончил есть, произнес:
— Мало-мало закусил. В животе моем, кажись, чуть-чуть тяжело стало. Однако, я у тебя отдохну.
Великан поморщился:
— Зачем у меня отдыхать? В свой чум придешь, отдохнешь.
— Ладно, — согласился богач. — Только выдай за меня одну свою красавицу дочь да сумочку женскую дай.
Великан Сюдбя опять сморщил лоб. Ответил:
— Дочь свою за тебя не отдам, у тебя и так много жен имеется. А сумочку, пожалуй, подарю тебе.
Богач схватил сумочку, скорее в свой чум отправился. На середине Обской губы из-подо льда черти стали кричать:
— Богатый ненец, загляни в свою сумочку. Сумочка-то у тебя пустая!
Богач подумал: «Может, верно сумочка пустая. От пустой сумочки разве оленей моих прибавится?»
Богач тут же открыл сумочку. Отгула целая туча оводов вылетела. Туча оводов быстро полетела в сторону чумов богатого ненца. Богач обрадовался, помчался к своим чумам.
Пришел богач к чумам своим, стал смотреть — сердце его сразу ушло куда-то. Испугался страшно. Из тучи оводов десять стай волков получилось. Волки в тот же день все десять тысяч оленей его задушили.
Не напрасно говорится в народе: жадность да зависть к добру не приведут.
Грешное озеро Ненецкая сказка Рассказал П. Янгасов
Когда-то, давным-давно, один шаман едва не утонул в озере. С тех пор это озеро стати называть Грешным озером. Шаманы строго запретили ловить в этом озере рыбу.
Возле Грешного озера жил старик со своей старухой. Детей они не имели, жили очень бедно. Рыбачить в Грешном озере боялись. Неводить ездили далеко, на Обь.
Однажды старик говорит старухе:
— Старуха моя, съездим-ка порыбачить. Есть-то нам совсем нечего. Однако, скоро с голоду умрем мы с тобой.
Вот поехали они на Обь неводить. Приехали туда, закинули свой ветхий невод. Вытащили, смотрят — ни одной рыбки не попалось. Еще раз закинули свой ветхий невод. Глядят — опять нет ни одной рыбки. После этого третий раз закинули свой невод. Вытащили, глядят — попалась одна щука да ерш.
Тут старик сказал своей жене:
— Старуха моя, ты иди по берегу в чум, свари скорее из этих рыб уху. Я развешаю невод, приду. Только ерша не ешь без меня — плохо будет. Нехороший сон я видел.
Отправилась старуха домой. Пришла в чум, скорее уху сварила. Она была очень голодна и не вытерпела — начала есть. Похлебала ухи, щуки поела и съела ерша. Забыла наказ своего старика.
Вскоре вернулся старик, увидел рыбьи кости на столике, спросил:
— Старуха моя, ты уже покушала?
— Я очень есть хотела, не могла тебя дождаться, — ответила старуха.
— И ерша съела?
Старуха испугалась:
— Ой, ой! Я совсем забыла твой наказ!
— Ох, и плохая ты старуха, — рассердился старик. — Никогда меня не слушаешься. Однако, теперь худо будет тебе.
Ночью старухе сделалось дурно. К утру она родила сына. Старик и старуха обрадовались — сон-то, оказывается, был к добру. Назвали своего сына Нгарка-Ляр — Великий ерш.
На следующий день Нгарка-Ляр отцу своему, матери своей так заявил:
— С сегодняшнего дня вы сидите в чуме. Я сам буду рыбачить, кормить вас буду.
Отец и мать обрадовались пуще. Нгарка-Ляр опять говорит:
— Я, наверно, в Грешное озеро рыбачить поеду.
Испугались старики, в один голос заговорили:
— Ой-ой! В Грешном озере нельзя рыбачить! Беда будет большая! Шаманы так говорят.
Нгарка-Ляр шаманов не боялся. Он взял ветхий невод своих родителей и на дырявой отцовской лодке-калданке поехал по Грешному озеру. Отъехал немного от берега — вдруг лодка начала качаться. Потом что-то застучало о дно калданки.
Глядит Нгарка-Ляр, а озеро рыбой кишит. Оказывается, рыбки своими спинками задевают дно лодки и качают ее.
Закинул Нгарка-Ляр ветхий отцовский невод, подъехал к берегу, стал тянуть. Попавшая в невод рыба тут же разорвала невод и унесла в Грешное озеро.
Но Нгарка-Ляр не растерялся. Он схватил калданку и одним взмахом зачерпнул из озера полную лодку трепещущей рыбы. Лодку с рыбой он оставил на берегу Грешного озера, а сам отправился к родителям.
Когда вошел в чум, так сказал им:
— Отец мой! Мать моя! Шаманы-то вас обманывали. Грешное озеро — обычное озеро. Неводить там можно. Пойдемте, увидите сами, сколько рыбы я добыл.
Все трое направились к Грешному озеру. Старик и старуха, как увидели полную лодку рыбы, радостно воскликнули:
— Этой рыбы нам на весь год хватит!
С тех пор они промышлять стали в этом озере. Не стали верить шаманам. Хорошо зажили.
Волшебная бандура Хантыйская сказка Рассказал Н. Пырысев
Жил шаман со своей шаманихой. Была у шамана волшебная бандура из поющего дерева сделанная, с пятью струнами из медвежьих жил. Шаман с женой работать не любили, а жили лучше всех своих сородичей-хантов. Богатство доставала им волшебная бандура.
Сядет шаман перед очагом, скажет жене:
— Клади-ка, жена, на колени мне пятиструнную мою бандуру, из поющего дерева сделанную. По правую сторону положь топор, по левую — нож, а остроконечную пику поставь над очагом под самым дымоходом.
Исполнит жена его приказание. Заиграет шаман на волшебной бандуре, запоет гнусавым голосом:
— Тринь-тринь, медвежьи жилы! Тринь-тринь, поющее дерево! Пусть годовалый бычок бедняка Тарагупты прилетит ко мне через мой дымоход! Тринь-тринь!..
И неведомая сила хватает вдруг бычка, поднимает его в воздух и несет выше деревьев прямо к юрте шамана, бросает бычка в трубу. Падая в дымоход, бычок напарывается на пику. Шаман топором приканчивает его, снимает ножом шкуру, и начинают с женой варить да жарить мясо.
Захочется шаману новую ягушку — шубу для жены завести. Сядет перед очагом, прикажет жене подать волшебную бандуру, топор, нож, пику. Заиграет на бандуре, запоет:
— Тринь-тринь, медвежьи жилы! Тринь-тринь, поющее дерево! Пусть новая ягушка молодой жены батрака Лондо прилетит ко мне через мой дымоход! Тринь-тринь!..
И вот новая ягушка молодой жены Лондо, подхваченная неведомой силой, быстрее ветра летит над лесом прямо к юрте шамана и падает через трубу как раз на конец пики.
Шаман берет новую ягушку и наряжает свою шаманиху.
Чего бы ни захотели заиметь шаман и его жена, волшебная бандура все доставила им. Совсем разорили сородичей — хантов. Оленей и одежду, рыболовные сети и лодки, добытую пушнину и рыбу — все отобрали у бедняков с помощью волшебной бандуры. Шаман и шаманиха самыми богатыми стали, бедняки ханты разорились, не знают, куда девалось их добро. Стали нищенствовать, умирать с голоду.
Однажды бедняк Тарагупта собирал в лесу коренья себе на пищу. Вдруг он увидел, как над лесом быстрее ветра пронеслась чья-то охотничья собака прямо к юрте шамана и упала в трубу. Видно, шаман захотел завести новую оторочку из собачьего меха на подоле своей малицы.
С тех пор в народе пошел слух, что все их добро, оказывается, грабит шаман. Ханты еще больше стали ненавидеть его.
Узнал об этом шаман и решил отомстить бедняку Тарагупте. Сел перед очагом, крикнул жене:
— Подай скорей мою волшебную бандуру! Приготовь топор и нож! Крепче поставь пику под дымоходом! А накажу этого болтуна Тарагупту!
Заиграл он неистово, стал орать гнусавым голосом:
— Тринь-тринь, медвежьи жилы! Тринь-тринь, поющее дерево! Пусть обманщик бедняк Тарагупта прилетит в мою трубу и напорется на остроконечную пику! Тринь-тринь!..
Бедняк Тарагупта в это время был во дворе, починял последнюю оставшуюся сеть. Вдруг неведомая сила начала поднимать его кверху. Тарагупта стал хвататься за угол юрты, стал звать на помощь, но неведомая сила оторвала его от земли и понесла над лесом быстрее ветра прямо к юрте шамана и бросила в трубу.
Но бедняк Тарагупта был храбрый человек. Палая в очаг, он смело ухватился обеими руками за острый конец пики и перебросил себя через шамана на середину юрты.
Шаман испугался, перестал играть, даже выронил свою волшебную бандуру. Тарагупта сразу почувствовал себя раскованным и догадался — бандура-то, оказывается, волшебная. Бедняк схватил бандуру и выбежал из юрты.
Шаман с шаманихой с ревом кинулись догонять его, стали умолять Тарагупту, чтобы он возвратил им волшебную бандуру. Сулили ему всякое добро.
Тарагупта не послушался их, прибежал с волшебной бандурой к своим сородичам — беднякам хантам. И решили бедняки ханты навеки избавиться от шамана. Самый старший из бедняков — старик Пырысь-Ики взял волшебную бандуру, заиграл и запел:
— Тринь-тринь, медвежьи жилы! Тринь-тринь, поющее дерево! Пусть шаман навеки исчезнет из нашей тайги. Пусть наше добро вернется обратно к нам. Тринь-тринь-тринь!
Не успел Пырысь-Ики закончить свою песню, как юрта шамана вместе с хозяином и хозяйкой оторвалась от земли и понеслась над тайгой быстрее ветра в полночную сторону.
Разошлись бедняки ханты по своим юртам и видят: все их добро, нажитое трудом, находится на месте. Обрадовались ханты, стали жить счастливо.
И до сих пор никто о шамане не жалеет. «Волка не за что жалеть», — говорит поговорка.
Ёрхо Хантыйская сказка Рассказал П. Неткин
В тайге, в дремучем лесу, жил батрак-ханты со своей женой. Всю жизнь работали они на чужих людей, всю жизнь бедствовали. Было у них трое детей — двое юношей и младенец в люльке. Младенцу исполнилось всего три месяца и звали его Ёрхо.
От тяжелой работы отец и мать рано потеряли здоровье. Как-то раз они оба заболели и вскоре умерли. Перед смертью отец и мать сказали старшим детям:
— Ну, вот мы и умираем. Остаетесь вы, дети, одни. Живите дружно, в согласии. Берегите своего маленького братишку Ёрхо, любите его и ухаживайте за ним, как и мы.
Потом батрак с женой еще добавили:
— Отца своего похороните в золотом гробу, в таком тяжелом, чтобы тридцать лошадей еле тащили. Мать свою похороните в серебряном гробу, в тяжелом, чтобы пятнадцать лошадей тащили еле.
Так сказали они и скончались.
Заплакали дети навзрыд. От горя заплакали, что остались сиротами. Да и где им, нищим, достать такие гробы и столько лошадей? Сидят юноши возле мертвых родителей и ревут во весь голос, а младенец Ёрхо молчит в люльке, только носом сопит.
День ревели так, два ревели. Вдруг на улице загремел гром. Испугались старшие братья, подумали: «Что такое? Разве зимой бывает гром? Об этом даже ни в сказках, ни в песнях не говорится».
Только подумали так — вошел в юрту маленький старичок, весь белый, как зимняя куропатка. Поздоровался он с оробевшими, спросил:
— Скажите, молодые люди, что наказали вам родители ваши перед смертью?
— Отец и мать велели беречь и любить нашего маленького братишку Ёрхо, — ответили юноши. — Еще родители завещали похоронить отца в золотом гробу, в таком тяжелом, чтобы тридцать лошадей еле тащили, а мать похоронить в серебряном гробу, тяжелом, чтобы пятнадцать лошадей тащили еле.
Маленький белый старичок кашлянул в кулак. В тот же миг на улице послышался страшный гром. Когда грохот стих, старичок пригласил братьев на улицу. И тут они увидели вокруг юрты триста молодцов, похожих друг на друга, и много-много лошадей.
— Это мои сыновья-богатыри, — сказал старичок. — Они помогут вам, сироты-юноши, похоронить ваших родителей с честью.
После этого богатыри взялись за дело. Одни из них принялись мастерить золотой гроб, другие — серебряный. В золотой гроб положили батрака-ханты, в серебряный — его жену. Золотой гроб повезли на тридцати лошадях, серебряный — на пятнадцати. Кони еле-еле тащили покойников. Похоронили по-хантыйски: могил копать не стали, гробы поставили рядышком на возвышенном месте среди других гробов.
Сироты-юноши долго плакали над трупами родителей, а когда плакать перестали и оглянулись — ни богатырей, ни лошадей нет, один старичок стоит. Он проводил братьев до их юрты и сказал им на прощанье:
— Ну, сироты-юноши, живите теперь самостоятельно. Любите и берегите крепко своего маленького братишку Ёрхо.
Тут опять загремел гром. Страшно загремел. Юноши испугались, закрыли глаза. А когда гром стих, они увидели, что маленького белого старичка уже нет.
Стали сироты жить одни в тайге. Совсем тяжелая жизнь началась. По-настоящему промышлять они еще не умели, да и сил не хватало ходить далеко. А тут еще трехмесячный, беспомощный Ёрхо. После похорон родителей он стал беспрестанно реветь. На охоту приходилось ходить поочередно. Особенно сильно он ревел ночами и не давал своим братьям спать.
Наконец самый старший брат не выдержал, сказал:
— Зачем нам этот ревущий ребенок нужен? Какая от него польза? Лучше выбросить его.
Средний брат испугался от таких слов, говорит:
— Что ты? Как тебе не совестно? Разве ты забыл наказ родителей беречь его?
Но старший брат и слышать не хотел об этом. Однажды он схватил люльку с ревущим ребенком и выбросил за дверь на мороз. Средний брат чуть не заплакал от злости. Ругаясь, он сразу же занес люльку обратно в юрту.
Так продолжалось несколько дней. Старший брат все чаще и чаще стал выбрасывать люльку с маленьким Ёрхо за дверь, а средний брат каждый раз заносил братишку обратно и качал да плакал от злости на безжалостного старшего брата.
Как-то проснулись юноши утром и видят — люлька пустая. Изумились братья и стали искать младенца. Долго искали, но даже и следа нет, точно ребенок вспорхнул и улетел, как птица.
Средний брат сел у очага и стал плакать. Запечалился и старший брат. Он тоже свесил голову у огня. Так сидели они долго, пораженные странным исчезновением трехмесячного Ёрхо.
Вдруг на улице послышался какой-то шорох. Потом кто-то начал вытряхать со снятых лыж снег, да так сильно, что даже юрта вся задрожала, вот-вот развалится.
Немного погодя открылась дверь, и в юрту вошел красавец ханты, молодой и статный да такой нарядный, что и слов не найдешь, чтоб передать. Поздоровался он с юношами. Те глядят — глазам своим не верят: это же их братишка Ёрхо!
Кинулся средний брат навстречу младшему, стали они обниматься да целоваться. Подошел и старший брат, тоже хотел обнять младшего, но тот отстранил его рукой, сказал:
— Тебе же не нужен был ревущий ребенок. Ты говорил, какая от меня польза. Сколько раз за дверь выбрасывал вместе с люлькой.
Совестно стало старшему брату. Отошел он в сторону, запечалился. Стал думать: «Плохо я поступил с малышом. Заветы своих родителей о нем не соблюдал».
Трехмесячный Ёрхо, ставший красавцем молодцем, видя, как совестно стало старшему брату, сказал ему:
— Ладно, не горюй. Не время нам ссориться. Ревел-то ведь я в люльке из-за чего? Хоть вы и бываете на промысле, уходите из дому, а ничего не знаете. На свете же война идет, великая. Я стал чувствовать это с того дня, как похоронили родителей. Чувствовал и слышал, а сказать вам не умел и из люльки встать не мог.
— А как же ты сегодня ночью ухитрился исчезнуть из люльки? — поинтересовались братья.
Красавец Ёрхо уже сидел у очага. Он объяснил:
— Маленький, беленький, как зимняя куропатка, старичок высвободил меня. Я тут же почувствовал силу необыкновенную. Он поднял меня высоко-высоко, и я увидел сверху ту великую битву. Когда старичок поднимал меня, был сильный гром. Вы разве не слышали?
— Мы ничего не слыхали. Видно, очень крепко спали, — сказали братья, потом спросили: — А что это за война? Кто с кем воюет?
— Большая беда, братцы, стряслась, — начал рассказывать Ёрхо: — Страшные чудовища появились в нашей тайге. На всех они нападают, грабят селения, убивают людей. Весь народ тайги поднялся на них боем, но ничего не могут сделать. Даже половина сыновей-богатырей маленького белого старичка погибла уже в этой битве. Так можем ли мы, братья, остаться в стороне от этой борьбы? Подумайте и скажите мне.
Посмотрели старшие братья друг на друга, стали думать. Потом в один голос заявили:
— Нет, мы не можем быть в стороне от борьбы с чудовищами. Родная тайга разве нам не дорога? Веди нас, трехмесячный богатырь Ёрхо. Покажи дорогу, ведущую к этим чудовищам.
Поели братья, что нашлось, и отправились воевать с чудовищами. Старшие братья взяли с собой свои луки и стрелы, а трехмесячный Ёрхо, ставший красавцем молодцем, засунул за пояс старый отцовский топор. Своего лука и стрел у него еще не было, а отцовский лук и стрелы, что для него, богатыря?
Вот идут они на лыжах день, идут два, идут три. Впереди шагает Ёрхо. Широко шагает. Братья едва успевают за ним. Быстро идут — в ушах шумит ветер, из-под лыж снежный буран поднимается.
Еще три дня шли, потом один день. На опушку леса вышли. Остановились. Старшие братья от усталости тяжело дышат, руками пот с лица вытирают. А трехмесячный Ёрхо стоит, улыбается, даже нисколько не устал. Стали смотреть они с горки. Видят: внизу, на льду Оби, страшный бой идет. Кругом, куда ни посмотришь, целые горы убитых людей валяются. Весь снег красный от крови. Видно, в живых остались только несколько сыновей-богатырей маленького старичка. Эти богатыри, размахивая огромными саблями, наседают на трехглавого чудовища. Оно спокойно хватает их сабли и ломает, как сухие прутья, своими длинными, мохнатыми пальцами. Людям, попавшим в его лапы, откусывает головы и выплевывает, словно неспелую морошку.
Сильное, страшное, видать, чудовище. А немного поодаль преспокойно спят два его старших брата-чудовища — пятиголовое и семиголовое. До них, наверно, очередь даже не дошла.
Испугались было братья Ёрхо, повернули было лыжи свои обратно. Заметил это младший брат, стал стыдить их за трусость и малодушие. Потом сказал им строго:
— Встаньте вот за эти деревья. Внимательно следите за моей борьбой с чудовищами. На первого чудовища стрелы не тратьте, без вашей помощи, пожалуй, справлюсь. А когда буду биться со старшими чудовищами — смотрите и слушайте. Когда я кашляну, один из вас пусть выстрелит в ногу чудовищу. Стрелять надо метко. Помните да не вздумайте испугаться и сбежать.
Сказал так Ёрхо, громко напевая песню, начал спускаться к чудовищу. Подходя к нему, крикнул громко и дерзко.
— Эй, ты, мохнатое чучело! Хватит нам канителиться с тобой! Тоже нашел, чем хвастаться — сабли ломать да головы откусывать. А не хочешь ли по-честному силой померяться со мной?
Услышав такое, трехголовое чудовище сперва изумилось, потом, насмешливо глядя на красавца молодца Ёрхо, страшным голосом прошипело:
— Ах ты, трехмесячный молокосос, сын батрака-ханты! Чего ты выдумал! Со мной по-честному силой померяться? Ха-ха-ха!
— Ну, ты, мохнатое чучело, меньше зазнавайся! Если согласен бороться по-честному, давай, а то ждать мне некогда, — смело крикнул Ёрхо.
Трехголовое чудовище опять громко засмеялось:
— Ха-ха-ха! Что он говорит! А ты сделай сперва площадку для борьбы, да медную, и чтобы толще обского льда была. Тогда попытаем силу.
Трехмесячный Ёрхо ответил:
— Мне для такого дела никакой площадки не нужно. Если ты боишься провалиться под лед, сделай сам медную площадку.
Чудовище подумало, потом сняло с руки медное кольцо. Это кольцо чудовище разжевало во рту и выплюнуло на лед. Тут же образовалась большая медная площадка.
Вот трехголовое чудовище и трехмесячный Ёрхо поднялись на эту медную площадку. Стали бороться. Долго боролись, очень долго. Наконец чудовище попросило:
— Может, передохнем немного. У меня одна голова закружилась.
— Мне отдыхать некогда, — ответил Ёрхо. — Раз взялись бороться, то до конца, пока кто-нибудь из нас не победит.
Стали дальше бороться. Солнце уже два раза спать ухолило, а они все еще барахтаются на медной площадке. У трехголового чудовища уже ноги начали подкашиваться. Через некоторое время оно опять попросило, еле дыша:
— Давай все же отдохнем. Вторая голова кружиться стала.
— Ну, и пусть кружатся, — сказал Ёрхо. — У тебя еще одна голова имеется. У меня вот всего единственная, да терплю.
Чудовище только тяжело вздохнуло, не знает, как вырваться из крепких рук трехмесячного ребенка. Солнце снова два раза спать уходило, а они все борются. Чудовище, видно, совсем из сил выбиваться стало. То и дело на колени припадает. Наконец еле слышно простонало:
— Ой, третья голова закружилась, не могу больше. Однако, свалюсь.
И тут трехголовое чудовище бессильно растянулось на медной площадке. Тогда трехмесячный Ёрхо схватил его за ноги, поднял высоко да как трахнет об медную площадку, все три головы чудовища только с брызгами отлетели в сторону.
— Вот так тебе и надо, людоеду-грабителю, — промолвил Ёрхо. — Не будешь больше тревожить нашу тайгу да губить людей.
Потом он размахнулся и швырнул огромное тело чудовища с такой силой, что оно грохнулось где-то далеко за краем неба. Братья Ёрхо, глядя с высокого берега из-за деревьев, от восхищения только рты разинули.
Расправившись с трехголовым чудовищем, трехмесячный Ёрхо посмотрел под ноги, а медной площадки как не бывало, лишь медное кольцо на льду реки Оби краснеет. Поднял он кольцо, надел себе на палец, промолвил:
— Подберем, может, кому-нибудь пригодится.
Не успел он передохнуть, видит: пятиголовое чудовище проснулось. Одной рукой оно трет себе лоб, в другой руке держит мохнатую голову своего убитого брата и рычит страшным голосом:
— Кто это осмелился погубить моего маленького братишку и кинуть его бедную головушку прямо мне в лицо?
— Я раздавил, как комара, твоего хвастуна братишку, — гордо ответил Ёрхо. — Хватит нам канителиться с вами, мохнатыми чучелами.
Подразнили они друг друга обидными словами, а потом пятиголовое чудовище сняло с руки серебряное кольцо. Чудовище разжевало его во рту и выплюнуло на лед. Тут же образовалась большая серебряная площадка толще обского льда.
Вот пятиголовое чудовище и трехмесячный Ёрхо поднялись на эту площадку, стали бороться. Долго боролись. Солнце уже два раза уходило спать, а они все возятся на серебряной площадке. Но пятиголовое чудовище на ногах держится крепче своего трехголового брата.
Еще два раза солнце уходило спать. Только тогда у чудовища ноги стали подкашиваться, и оно уже второй раз попросило сделать передышку. Да трехмесячный Ёрхо, сын батрака-ханты, разве согласится? Он и слышать не хотел.
Пятиголовое чудовище не знает, как быть, только пыхтит.
— Ой, уже четвертая голова моя закружилась. Теперь у обоих у нас по одной голове. Может, все же отдохнем?
— Отдыхать я не собираюсь, — упорствовал Ёрхо. — Сил у нас обоих еще много.
Чудовище подумало: «Пятая-то голова моя скоро не должна закружиться. Она ведь у меня самая старшая. Пожалуй, напрасно об отдыхе беспокоюсь».
А Ёрхо в уме своем сказал: «У этого последняя голова, видать, не скоро закружится. Не лучше ли хитростью осилить его?»
Ёрхо громко кашлянул. Один из его братьев в тот же миг выстрелил из лука. Стрела пронзила левую ногу чудовища насквозь.
— Ой, в ногу мою заноза зашла. Надо вытащить ее, — крикнуло чудовище и наклонилось.
Ёрхо выхватил из-за пояса старый отцовский топор и одним взмахом отрубил все пять голов чудовища.
— Вот так-то тебе, людоеду-грабителю. Не будешь больше тревожить нашу тайгу да губить людей.
Расправившись с пятиголовым чудовищем, посмотрел Ёрхо под ноги, а серебряной площадки как не бывало. Лишь кольцо серебряное на льду Оби блестит. Поднял он кольцо, надел себе на палец, промолвил:
— Подберем, может, кому-нибудь пригодится.
Не успел он передохнуть, видит — семиголовое чудовище проснулось. И опять между Ёрхо и чудовищем разгорелся спор, а затем чудовище сняло с руки золотое кольцо, разжевало его и выплюнуло на лед. Тут же образовалась большая золотая площадка.
Стали бороться. Ёрхо подумал: «С этим, пожалуй, еще дольше придется возиться. Хитростью скорее осилю его».
Услышав сигнал, один из братьев выстрелил из лука. Когда семиголовое чудовище наклонилось, чтобы посмотреть свою ногу, Ёрхо незаметно выхватил из-за пояса старый отцовский топор. Крепко ударил — все семь голов далеко в разные стороны отлетели.
Расправившись с семиголовым чудовищем, Ёрхо увидел — вместо золотой площадки на льду Оби сияет золотое кольцо. Поднял он его, надел себе на палец, промолвил:
— Подберем, может, кому-нибудь пригодится.
Не успел он вытереть со лба пот, к нему со всех сторон с радостными возгласами побежал оставшийся в живых таежный народ. И братья Ёрхо тоже ликующе поспешили к нему. Все громко восклицают:
— Спасибо тебе, таежный богатырь! Ты спас свои край, свой народ от страшных чудовищ!
Тут вдруг раздался сильный гром, и, откуда ни возьмись, перед Ёрхо появился маленький седой старичок. Он стал хвалить и благодарить Ёрхо, говоря:
— Большое, хорошее дело сделал ты, трехмесячный сын батрака-ханты! Мои триста сыновей-богатырей не смогли справиться с проклятыми чудовищами, погибли, милые, в жестокой битве, а ты осилил врагов. Силой и умом своим осилил. И братья твои тоже молодцы. Не струсили, не сбежали, помогли тебе, метко стреляли.
Потом маленький старичок еще так сказал:
— Теперь эти кольца, которые на твоих пальцах, разделите три брата между собой. Золотое кольцо возьми ты, трехмесячный богатырь. Серебряное кольцо пусть возьмет твой средний брат, оберегавший тебя в люльке. Медное кольцо отдай старшему брату, выбрасывавшему тебя когда-то с люлькой за дверь. Так будет справедливо. Сделайте это и идите домой, отдыхайте. Перед сном свои кольца оставьте на улице, положьте на снег в разных местах вокруг вашей старой юрты. Что получится — утром увидите. Живите дружно, в согласии, как завещали вам ваши покойные родители. Ну, прощайте все!
Тут опять загремел гром, и маленького старичка, белого, как зимняя куропатка, мигом не стало.
Разошелся довольный таежный народ по домам. Вернулись и братья-сироты в свою юрту. Исполнили все, как велел старичок. Поужинали, легли спать. Крепко уснули, не спавши много дней. Долго спали. Когда проснулись — вышли на улицу. На улицу вышли — воскликнули от радости: вокруг их ветхой юрты стоят три новых красивых дома. Один дом медный, второй дом серебряный, третий дом золотой. Каждый из братьев вошел в свой дом. Старший брат в своем медном доме увидел черноволосую, черноглазую красавицу. Средний брат в своем серебряном доме увидел русоволосую, кареглазую красавицу. Трехмесячный Ёрхо увидел в своем золотом доме белокурую, голубоглазую трехмесячную красавицу.
Совсем обрадовались братья. В тот же день все быстро подросли, стали совершеннолетними и поженились. Разобрали братья свою ветхую деревянную юрту, чтобы от плохой, тяжелой жизни и следа не осталось. Стали жить счастливо да радостно, в дружбе да согласии, как покойные родители завещали. Часто вспоминали отца-батрака, лежащего в золотом гробу, мать-батрачку, лежащую в серебряном гробу. Добрым словом вспоминали и маленького старичка, беленького, как зимняя куропатка.
А мы в нашей сказке славим богатыря Ёрхо. Да и есть за что славить. Тайге родной, народу своему помог избавиться от страшных врагов.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Случай с рукавицей Рассказ
Как-то в детстве поехали мы с братом на рыбалку. Только оттолкнули лодку от берега, видим — бежит мать и кричит:
— Погодите! Рукавицы-то забыли!
Пришлось вернуться. Мать подала нам рукавицы и напутствовала:
— Разве можно без рукавиц-то? Намозолите руки, и комары искусают. Берите, да не теряйте, еще не раз пойдете.
Мы попеременно сидели на веслах и, конечно, могли натереть ладони, а рукавицы сшиты из двойной замши — мягкие, удобные.
Была середина приполярного лета — стоили жаркие дни. Чуть веял ветерок, и вода на Оби лишь кое-как морщилась. Все небо с белыми, как снег, редкими облаками отражалось в широкой реке. Когда мы переезжали ее, мне даже стало немного страшно. Казалось, что плывем по воздуху: вверху небо и внизу небо.
Промышляли мы на заливном лугу — в сору. Вода здесь неглубокая, и везде проглядывают островки ярко-зеленой травы. Сети ставил брат Федюшка, а я сидел в носовой части лодки и придерживал ее веслом. Сразу же вокруг нас появились комары и стали больно кусать. Я одной рукой крепко держался за весло, а другой отмахивался от комаров. Но как ни старался, комары не унимались, и я решил гнать их рукавицей. Снял рукавицу с руки и давай воевать с комарами. А Федюшка предупреждает:
— Не хлещи себя сильно по лицу, опухнет. Со мной так однажды было.
Но как не хлестать, когда их целый рой вокруг головы кружит? Я сильнее махнул рукавицей и выронил ее в воду.
— Ну вот, — засмеялся брат. — Я же говорил: не маши сильно.
— А я ее сейчас достану веслом, — спокойно ответил я.
— Ладно, погоди, — говорит Федюшка. — Все равно не достанешь, а утопить можешь. Никуда она не уплывет, течения-то здесь нет. Вот поставим сеть и достанем.
Я промолчал и снова стал придерживать лодку, изредка поглядывая на плавающую рукавицу. Но тут у Федюшки что-то стряслось с сетями, и я засмотрелся на него. Лицо и руки у брата, как и у меня, казались просмоленными, были коричневыми. Это оттого, что мы, как окончили учебу, все время на ветру, а руки — каждый день в воде. Оба мы были в тонких суконных парках, похожих на длинную рубаху, но с капюшоном и короткими рукавами, чтобы не мочить их в воде.
Я нарвал в воде пучок длинной сочной травы и стал им отгонять комаров. Пока следил за братом, совсем забыл про рукавицу и вспомнил про нее, когда кончили ставить сети. Теперь мы были далеко от того места, где я выронил рукавицу. Когда мы вернулись туда, ее уже не оказалось.
— Куда же она делась? — удивился Федюшка. — Течения-то ведь нет и тихо, даже вода не шелохнется.
— Ну, значит, утонула, — уверенно сказал я.
— Неужели утонула, такая легкая? — И Федюшка стал всматриваться в воду. Я тоже припал к борту лодки и гляжу вглубь. Дно недалеко, а северная летняя ночь светлая — все видно. Вон трава светлеет по дну, а вот жучок прополз. Что-то блеснуло вроде рыбки.
— Нет в воде рукавицы, — заключил брат, а сам зачем-то начал щупать дно веслом и даже помешал им.
Я тоже заработал веслом, и мы вмиг замутили воду.
— Ой, что мы делаем! — спохватился Федюшка. — Зачем мутим, сети-то рядом!
— А может, зыбью от лодки вон туда, к траве, рукавицу отнесло, — сказал я.
Поехали, внимательно осмотрели островок травы — нет рукавицы. Доехали до берега, потом вернулись назад, опять все кругом осмотрели — безуспешно.
— Ты, наверное, не рукавицу выкинул, что-нибудь другое, — сказал брат.
— Что ты, Федюшка. Я хорошо помню, как снял рукавицу с руки и махал ею.
— А все-таки посмотри хорошенько около себя, — посоветовал недоверчивый брат.
Я перетряс все, что было возле меня, и, конечно, ничего не нашел.
— Ну вот и потеряли рукавицу, — заговорил я. — Это из-за тебя. Надо было сразу достать.
— Уже и захныкал! Найдем, куда денется.
Федюшка воткнул весло в ил и привязал к нему лодку. Пристать к берегу нельзя было из-за комаров. Мы долго молчали, каждый по-своему размышлял о случившемся. Сети стояли недалеко, и я заметил, как в одном месте туго натянутая тетива вдруг прогнулась и ушла в воду.
— Федька, рыба попалась. Гляди! — воскликнул я обрадованно.
Брат обернулся и стал смотреть.
— Однако, щука. Пойдем скорее, а то порвет сеть и уйдет, — сказал он.
Мы с трудом высвободили рыбу из сети, и в лодке громко зашлепала хвостом большая щука.
— А живот-то какой огромный! — удивился я.
— Видно, икряная. Хорошая будет уха.
Мы отъехали от сетей и вновь привязали лодку к веслу. Потом поели простокваши с зырянскими шаньгами и перед тем, как лечь спать, еще раз объехали вокруг — искали рукавицу. Но так и не нашли. Мы запечалились — что скажем маме? Рукавица была почти новая, и вот потеряли. Мать не успевает шить и чинить нашу одежду.
Когда мы проснулись, от утреннего свежего ветерка лодку покачивало на небольших частых волнах. Солнце стояло выше тальников, а дружный вороний грай и неспокойные голоса чаек предвещали ветреный день. Мы поспешили снять сети. Рыбы оказалось совсем немного — маленький сырок да два пыжьяна. Зато щука какая! Раскрыв зубастую пасть, она все еще шевелила жабрами.
— Рукавицу-то так и не нашли, — вздохнул я, принимаясь грести.
— Да, чудно получилось. Словно улетела, — ответил Федюшка. — Рассказать — не поверят.
И правда — мать не поверила нам.
— Не могли так потерять рукавицу, — сказала она твердо. — Наверно, где-нибудь оставили.
— Да нет же, мама, мы и к берегу-то не приставали, — убеждал ее Федюшка.
— Ну, тогда ищите ее в своих вещах, в лодке. Рыбы-то хоть добыли? Батюшки, совсем мало! А щука большая и какая пузатая! Чай, икряная. Сейчас уху сварим.
Мать сложила рыбу в мешок и пошла домой, захватив с собой весла. Во дворе мы принялись развешивать сети для просушки. Этого нельзя было откладывать. Вдруг на крыльцо выбегает мать с засученными рукавами, в переднике и с радостно-изумленным лицом.
— Дети, рукавицу-то ведь я нашла! — весело воскликнула она.
Мы с братом молча переглянулись и продолжали работать. Тогда мать окликнула нас громче:
— Слышите, ребята? Вот потерянная-то рукавица! Смотрите!
Мы оглянулись, и верно — мать показывает рукавицу.
— Откуда она взялась? — произнес я с изумлением.
— Да у щуки в животе нашла, — объяснила мать сквозь смех.
— Как у щуки? — закричали мы и побежали в дом.
Оказывается, мать распорола щуке живот и вместо икры увидела туго набитый чем-то темный желудок. А когда разрезала его, от удивления ахнула — рукавица!
— Ишь, воровка, — ткнул пальцем в щуку Федюшка. — И как она съела рукавицу?
Старый дед объяснил:
— Видно, плыла близко, увидела на воде рукавицу, приняла за утенка и — хвать. Прожорливы они, щуки-то. Помню, мы однажды в желудке у щуки подпилок обнаружили.
— Какой подпилок? — удивился я.
— Обыкновенный, с деревянным черенком. Наверное, кто-то выронил, он и поплыл торчком, а щука увидела и схватила.
Я долго рассматривал рукавицу, не повредила ли ее щука зубами, но рукавица была целая, только мокрая.
Мышонок и Олененок Ненецкая сказка
Бежит однажды Мышонок. Бежит, а навстречу ему Олененок. Мышонок и спрашивает его:
— Дружок Олененок, откуда ты и куда идешь?
Услышал Олененок мышиный писк, пригнул голову пониже и отвечает:
— Разве не видишь? За четырьмя ножками своими гоняюсь.
Тогда Мышонок засмеялся и сказал:
— Ты, оказывается, тоже сам не знаешь, куда идешь. Коли так, пойдем вместе!
Олененок согласился:
— Давай пойдем!
Пошли вдвоем. Мышонок еле успевает гнаться за Олененком. Много раз Олененок терял Мышонка из виду. А когда шли между кустами, чуть не наступил на Мышонка копытцами.
Шли-шли, Мышонок и говорит:
— Давай в прятки играть!
— Давай, — согласился Олененок, — ты маленький, ты и закрой глазки, а я спрячусь.
Мышонок сел на задние лапки, а передними закрыл глаза, Олененок побежал и спрятался за лежащим на земле деревом.
Долго искал Мышонок Олененка, но найти не смог. Наконец обессилел совсем. Сел и начал думать, как же все-таки найти Олененка. Долго думал. И додумался: «Ага, я этого великана хитростью возьму!»
Мышонок вдруг закричал:
— Дружок Олененок! Ты сам спрятался неплохо, а молодые рога видать!
Олененок подумал: «Эх, плохо я сделал! Правду Мышонок говорит!»
Вскочил он, чтобы получше рога спрятать, тут его Мышонок и увидел.
— А теперь я спрячусь! — сказал Мышонок.
Долго Олененок искал Мышонка, но найти не смог. Обессилел совсем и лег отдыхать.
Мышонок выбежал из-за кочки и смеется:
— Эх ты, дружок Олененок! Сам большой, а недогадливый! Я маленький, а хитрее тебя! — И юркнул в мох.
Фыркнул Олененок от обиды и побежал в другую сторону. С тех пор никогда не увидишь, чтобы Олененок с Мышонком вместе играли.
Черный и Белый Ненецкая сказка
Жил-был в тайге Черный Медведь. Всю зиму лапу сосал-спал. Пришла весна, и у Черного Медведя растаяла берлога. Пошел он бродить по лесу. Бродил-бродил да и вышел к Ледовитому морю. А Белый Медведь как раз из воды выходит. Увидел он Черного и рассердился, даже шерсть дыбом встала. Кричит:
— Эй ты, Черный Медведь, зачем по моей земле ходишь?!
— Разве это твоя земля? — удивился Черный. — Ты же на льдине плаваешь, вот и плавай! А земля моя!
И стали они бороться.
Долго боролись, даже вспотели. Рычат да покряхтывают.
Наконец совсем устали.
— Уфф!.. — выдохнул Черный Медведь и сел на прибрежный камень.
— Офф!.. — откликнулся Белый Медведь и опустился на другой валун.
Отдышаться не могут, так измаялись!
Наконец Черный Медведь промолвил:
— Ты, Белый Медведь, сильнее меня, да я проворнее. И никогда нам не победить друг друга. Видать, мы с тобой братья.
Тут подлетела Серая Весенняя Куропатка, села поближе и говорит:
— Ай-я-яй! Это называется братья! Я видела, как вы лупили друг дружку! А зря дрались — во-он сколько места! — И улетела. Черный и Белый посмотрели — и верно: кругом раздолье!
И разошлись они по-хорошему. Так и живут кому где лучше. Белый — на льдине, Черный — в лесу.
Почему рыбы живут в воде Ненецкая сказка
Давно это было. В ту пору рыбы еще на земле жили, как все.
Однажды Рыбка заболела. Лежит она и стонет:
— О-ох! О-ох!
Слушал, слушал ее Сынок и вышел из чума — помощи искать. Вышел и видит: на суку сидит Старая Ворона. Ворона тоже увидела маленькую Рыбку и говорит:
— Сынок Рыбки, почему ты такой печальный?
— Мать заболела. Не знаю, что делать.
— Не печалься, — говорит Ворона, — хочешь, я тебе помогу? Я вылечу мать. Только ты не заходи в чум, если мать кричать будет. Это вместе с криком начнет выходить из нее болезнь. Понятно?
— Как не понять? — отвечает Рыбкин Сынок. И он остался на улице.
А Старая Ворона зашла в чум. Там, в углу, лежит Рыбка, тяжело дышит. Чешуя от жира блестит. «Вкусная!» — думает Ворона, а сама спрашивает:
— Почему ты лежишь?
— Да вот заболела, — отвечает Рыбка.
— Хочешь, я тебя вылечу? — спрашивает Ворона.
— А как?
— А вот так! — И Ворона сильно клюнула Рыбку.
Рыбка испугалась да как закричит:
— Сынок, где ты? Ворона меня съесть хочет!
Кинулся Сынок в чум и прогнал Ворону. Ворона рассердилась, что не смогла Сынка обмануть, Рыбку съесть, и созвала своих подруг. Стали они Рыбку с Сынком со всех сторон теснить. Метались Рыбка и Сынок туда и сюда да вдруг — плюх в воду. И не утонули. И никто их не съел. И самим еды вдоволь. С тех пор и стали рыбы жить в воде. И хорошо живут.
Снегирь и Мышонок Ненецкая сказка
Жили-были Снегирь и Мышонок. Вместе собирали и копили хлебные крошки. Много собрали, устали даже. Снегирь и говорит:
— Хватит, однако. Собрали столько, давай делить поровну!
— Давай! — согласился Мышонок.
Стали делить.
— Это мне!
— Это мне!
— Это тебе!
— Это тебе!
Все поровну разделили. Одна только крошка осталась лишней.
— Это крошка моя! — говорит Мышонок. — Я больше тебя работал!
— Нет, моя! — кричит Снегирь. — Ты на месте крутился, а я далеко летал!
— Я землю рыл, чтобы в чум залезть, у меня все когти болят!
— А я по всему краю летал, крылья устали! Моя крошка!
Подняли они большой шум. И пока ссорились — потеряли крошку. Кинулись искать. А в это время на шум прилетела Куропатка, увидела две ровные кучки крошек да обе и склевала. Только Мышонок и Снегирь этого не заметили. И до сих пор они ту потерянную крошку ищут. Снегирь — в снегу, а Мышонок — в чуме.
Сова и Куропатка Ненецкая сказка
Сидит в своем гнезде Сова. Прилетел Коршун и сел против нее на кочку. Говорит ей:
— Сестрица Совушка, на юг лететь пора! Скоро бураны начнутся, замерзнешь в тундре.
Отвечает Сова:
— На юг я не полечу. У меня только-только детишки вывелись. Как я маленьких оставлю?
— А какая тебе от детишек польза? Их кормить надо, а ты сама с голоду пропадешь.
— Не пропаду! Тут куропатки есть, жирные, вкусные, вот мы и сыты будем!
— Ну как знаешь! — сказал Коршун и улетел.
А Куропатка недалеко сидела, все слышала. Испугалась она: «Соседка Совушка съесть меня хочет! Что делать? Надо улетать отсюда». Решила так и полетела, долго летела, совсем обессилела. И опустилась возле моря Ледовитого, океаном оно называется.
Посмотрела туда, посмотрела сюда — нигде не видно Совушки. «Здесь некого бояться. Никто меня не съест», — радостно подумала Куропатка. Идет она по берегу, грудь выставила, голову подняла гордо, весело вокруг поглядывает.
Вдруг из-под кочки Мышонок:
— Куропатка, а Куропатка! Ко мне подойдешь, а от меня не уйдешь!
Кинулся он на Куропатку, да только кончик хвоста ухватил. А Куропатка и не заметила, идет себе дальше. Вдруг из-за кустов Горностай:
— Куропатка, а Куропатка! Ко мне подойдешь, а от меня не уйдешь!
Прыгнул тут Горностай, да успел лишь за Мышонка ухватиться.
А Куропатка от гордости совсем глупая стала, ничего не видит и не слышит. Тут за Горностаем Песец выскочил. За Песцом — Лиса.
Наконец на Куропатку сам Белый Медведь набросился, да тоже промахнулся, в Лису вцепился.
«Что-то совсем не могу идти, такой хвост тяжелый стал!»
Оглянулась она, хвостом мотнула — и оторвался Мышонок, и все покатились по снегу. И поняла тут Куропатка, сколько у нее врагов.
«Однако тут мне еще опаснее. Полечу обратно!»
Так и живут рядом Сова и Куропатка. Беспокойно Куропатке, да лучше, чем у океана.
На Ямале мы живем
Вы на карту посмотрите И Ямал на ней найдите, Потому что здесь наш дом: Мы на Севере живем. Вот заря, как знамя, реет, Солнца луч ударил ввысь. Из столицы в это время Звуки гимна донеслись. Будет день такой, что любо! Сразу тундра ожила: И спешат навстречу людям И заботы, и дела. Пастухи поедут в стадо. Ладит снасти зверолов. А рыбацкая бригада Привезла большой улов. Тишину окрест нарушив, На соседней буровой Из земной коры наружу Взвился факел голубой… Загремел над нашей крышей Вертолет, бросая тень… Мы диктант в тетрадках пишем: «Над страною новый день».Урок труда
Заливается звонок, Всех скликая на урок. Только мы идем не в класс: Ведь урок труда у нас. Мы бежим веселой стайкой По лыжне своих отцов. Мы капканы будем ставить На лисиц и на песцов. И научит делать это Не охотник Окатэтт. Сэратетта — рыболов Тоже нам помочь готов. Очень рады мы, когда Есть у нас урок труда!Плохой хозяин
Мы уже впрягаем в нарты Наших шустрых лаек. Лишь один несчастный Ларко Сэври не поймает. Ей не хочется трудиться — Вот она какая! За сугробом серой птицей Хитрый хвост мелькает. Ларко злится, хнычет Ларко, Ларко причитает: — Изловлю тебя да палкой Ребра посчитаю! Мы сказали, не в обиду Хнычущему Ларко: — Сэври любит тебя, видно, Как собака палку!В шторм
Шторм пришел с дождем и с громом. Он поднял волну крутую. Как в бударке нам до дому С рыбой плыть в волну такую? Лодка чайкою взлетает — С бурей боремся отважно. Лодка нельмою ныряет — Только нам уже не страшно! Вон валы остались в пене, Вот уж берег под ногами… Не напрасно нас в селенье Называют моряками!Пароход
Рано утром очень важно Затрубил гудок протяжный: — Просыпайтесь, я иду-у-у! Я на пристани вас жду-у-у! Молодой иди и старый — Я для всех привез товары! Много ружей и сетей, Много фруктов для детей. Ходят грузчики по трапу, А из трюмов — яблок запах. Лишь зажмурь покрепче веки — И окажешься в Артеке!На звероферме
Мы не даром, мы не даром пионеры — Шефство взяли над совхозной зверофермой. И решили мы трудиться за троих — Ловим рыбу для лисиц и кормим их. А вчера на ферму к нам пришла беда: Запропал малыш неведомо куда. Мы везде лисенка этого искали. Мы искать лисенка этого устали. Мы вверх дном перевернули все с утра. А лисенок наблюдал из-под ведра. Улыбаясь, нам вожатый объяснил: — Хоть и мал, а все ж по-лисьему схитрил!Авка
К дню рождения дядя Лас Мне подарочек припас. А зовут подарок Авкой. Очень Авку я люблю. Свежим хлебом, сочной травкой Я из рук его кормлю. Он ведь только из пеленок. Издали меня он чует И такой, представьте, плут: Только выйду я из чума, Авка сразу тут как тут. Хлеба дам — он ждет добавки. Травки дам — все мало Авке. А одна причина тут: Ножки Авкины растут, Рожки Авкины растут. Подрастай скорее, Авка, А как вырастешь, потом Будешь ты в упряжке, Авка, Быстроногим вожаком! Через кочки и овражки Ты помчишь, копытя снег. Полетит моя упряжка Дальше всех, Быстрее всех!Белые ночи
Белые ночи! Летние ночи! Солнышко спать за холмами не хочет, Светит всю ночь, Светит всю ночь. Клюква, костянка, морошка, брусника, Круглые сутки под солнцем расти вам — Ночью и днем, Ночью и днем. В небе гусиная стая несется: Как ей привольно под северным солнцем Возле озер, Возле озер! И за оленями просто без толку Нынче гоняться жадному волку — Нет, не догнать, Нет, не догнать! Для человека белые ночи Значит: работай, сколько захочешь, Лишь не ленись, Лишь не ленись! Ну-ка, ребята, споемте же громче Песню о сказочной солнечной ночи, Светлой, как день, Светлой, как день!ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ Воспоминания о юности
Манная каша
1934 год.
Поздняя осень.
Я в Салехарде, бывшем Обдорске.
Иду по белому от свежевыпавшего снега селу на костылях. Парализован с трех лет. Идти по узким и неровным досчатым тротуарам скользко. Ковыляю по обочинам, волоча плетью левую ногу. На мне истоптанные сапоги, брюки, видавшие виды, телогрейка с засученными рукавами, чтоб не мешали держать костыли, отцовская шапка из гагачьего пуха с кожей. Местами земля еще не промерзла, и костыли вязнут до половины. Шагать еще далеко — иду в Салехардский педтехникум попытать счастья, не примут ли!..
Я окончил отличником семь классов Мужевской школы промысловой молодежи и решил во что бы то ни стало учиться дальше, чтобы потом поехать в художественный институт, так как с малых лет любил рисовать. Но в селе Мужи восьмого класса в то время не было, и я осенью приехал вот сюда, в Салехард. Недели две посещал занятия, ночуя за печкой у школьной сторожихи. Школа тогда помещалась у самой пристани. Интерната не имелось, а платить за квартиру я не мог.
Приближалась зима, и я надумал вернуться последним пароходом в Мужи и готовиться сдать экстерном за 8-й класс. Директору школы, видно, не хотелось отпускать ученика с отличными отметками, и он задерживал меня, но так и не мог обеспечить жильем и питанием.
Когда наконец я получил документы, оказалось, что последний пароход ушел уже из Салехарда, закрывалась короткая северная навигация.
Выпал снег, стало холодно и голодно — была карточная система. Надо было устроиться куда-то работать, но из-за инвалидности меня не принимали нигде.
Тогда-то и решил попытать счастья в педтехникуме. Он, говорили, в конце улицы Ленина, на окраине Салехарда. Вот туда я и ковылял. Голову сверлила мысль — примут ли меня учиться в педагогический техникум. Говорят, там одни ненцы и ханты. А я — зырянин, к тому же калека: у меня и руки-то, как плети, и пальцы скрючены.
С невыразимой тревогой я подошел к крыльцу большого, нового дома с широкими квадратными окошками, который указали мне встречные люди. Постоял, отдышался и кое-как поднялся по скользким ступенькам невысокого крыльца, вошел в сенки. Кто-то вышел, и я воспользовался открытой дверью — быстро перешагнул через порог. Оказался в полутемном коридорчике. Только сделал шаг — налетел на что-то. На меня опрокинулись тарелки с чем-то горячим, липким и приятным по запаху, упали на пол, разбиваясь и звякая.
— Какого черта лезет кто-то на поднос! — услышал я рядом сердитый девичий голос.
— Извините, — пролепетал я в растерянности. — Мне надо дирек…
— Тебя надо излупить подносом!.. — продолжала ругаться девушка. — Ходит тут слепой и… с палками! Сколько манной каши испортил! Тарелки разбил вдребезги! Проходи дальше или уходи! — и начала собирать с пола черепки.
Остерегаясь поскользнуться на каше, я вошел в открытую дверь налево и очутился в столовой. За широкими и длинными, чуть не во всю большую комнату, столами на таких же длинных скамьях обедало человек двадцать узкоглазых и широкоскулых. Увидев меня и показывая в мою сторону, они засмеялись и заговорили на разных языках.
Только тут я обнаружил — весь облит белой манной кашей.
В носу защемило от приятного запаха каши с маслом. Я был чертовски голоден. Растерялся.
— Присядь, — один из парней, говоря чисто по-зырянски, показал мне конец скамьи. — Чего стоишь на палках?
Я присел.
— Директора надо. Хочу поступить учиться, — сказал я тоже по-зырянски, довольный, что он знает мой родной язык. Стал оглядывать себя, глотая слюнки.
— Иван Иванович вон там живет, рядом, — кивнул парень на дом за окнами, говоря по-хантыйски.
Кто-то произнес на ломаном русском:
— Зыряна тут не учатся. Только ненцы да ханты, да селькуп учатся. Наспеттехник называется.
— Пускай идет к директору, скажет, как тарелки разбил, извел кашу, — сердито стрельнула в меня дежурная раскосыми карими глазами, раздавая обедающим тарелки с кашей.
Я печально умолк, чувствуя неловкость. «Все пропало», — горько подумалось мне.
Но мой сосед, рослый юноша с продолговатым лицом, тронутым оспой, шевельнул меня бодряще:
— Не горюй. Может, и примет Иван Иванович. Сходи… — Он заметил мои искалеченные, озябшие руки, окликнул дежурную: — Лена! Принеси тряпку! Обтереть надо парня!
Лена принесла тряпку и сама же помогла мне стереть кашу с одежды и костылей, ворча негромко и поглядывая на мои руки.
А у меня урчало в животе, и я готов был слизать с себя такую снедь. Но обедающие не догадались накормить меня — откуда им знать, что я голоден. Да и не студент ведь я.
На седьмом небе
К Ивану Ивановичу я шел почти безо всякой надежды. Дом под железной крышей, где жил директор, я, оказывается, прошел давеча мимо. В огороде увидел два крыльца — парадное и черное. Решил войти через черный ход и вскоре встретил маленькую, белобрысую, пожилую женщину, видать, уборщицу. Она повела меня в один из классов и велела подождать, а сама ушла доложить директору.
Иван Иванович был черноволосый, гладко причесанный, с тонкими чертами бледного лица. Он заговорил со мной, будто мы были давно знакомы.
— Ты, Истомин, хочешь учиться у нас. Знаю, слышал в окроно, — сказал он, как только поздоровались мы. — Школу, значит, бросил?
— Поступал в восьмой класс, да там нет ни стипендии, ни общежития. А я приезжий из села Мужи и… навигация закрылась, — тут голос мой дрогнул.
Иван Иванович поспешил успокоить:
— Не расстраивайся. Дай-ка документы.
Я достал из внутреннего кармана бумажки и дал ему. Он посмотрел их и остался доволен.
— Так-так, в этом отношении все в порядке, — директор окликнул Дусю, уборщицу, и велел ей позвать сюда каких-то Устина Вануйто и Петра Янгасова.
Пока ходила уборщица, Иван Иванович расспросил меня, когда и как я стал калекой, чем увлекаюсь, читаю ли книги и какие.
Я ответил все подробно, добавил:
— С малых лет увлекаюсь рисованием. Пробую писать стихи и рассказы, но пока не выходит. А читаю все, что попадет под руки.
— А как ты такими руками пишешь, и даже рисуешь? — поинтересовался он.
— Приспосабливаюсь. Когда к подбородку прижму ручку или кисточку. Когда как.
— М-да. Неволя, говорят, научит пряники кушать. Что ж, приму я тебя. Ничего, что зырянин. Жить будешь на всем готовом, — обрадовал он меня безмерно, однако сказал: — Но основного класса нет еще у нас. Придется сидеть тебе в подготовительном, повторять за седьмой класс с остальными.
— Согласен, — я чувствовал себя на седьмом небе и, чтобы окончательно рассеять всякие сомнения в близком счастье, чистосердечно рассказал директору, как только что нечаянно разбил в общежитии тарелки и облился кашей… — тут я непроизвольно глотнул слюну.
Иван Иванович забеспокоился:
— Ты, наверное, голодный? Сейчас велю накормить…
Пришли вызванные. Один из них, Петр Янгасов, оказался тем, кто предложил мне сесть в столовой. А Устин Вануйто был встречен мной дважды — при входе и выходе из столовой. Он коренастый и симпатичный. Комсорг, ходил в окружком, как узнал я тут же.
Директор представил меня им, велел устроить в общежитии, накормить, а потом сводить меня в баню и переодеть в интернатскую одежду.
Непривычная среда
Радовался и удивлялся я. Уж очень непривычная для меня, ученика общеобразовательной школы, оказалась среда. Учащиеся, а здесь называли их студентами, были все взрослые, некоторые даже лет по 25–30. Только человек пять-шесть моего, семнадцатилетнего возраста.
Особенно поразило меня то, что в педтехникуме студентов бесплатно снабжали даже табаком. Во второй же день моего пребывания в новой среде завхоз в подоле малицы принес в общежитие кучу восьмушек махорки, пачки курительной бумаги и несколько новых изящных трубок. Все это вывалил на стол и сказал преспокойно:
— Можете курить, ребята. Только в спальнях не дымите.
И ребята курили, даже в присутствии директора и воспитательницы, а иные клали табак за губу.
Дозволялось это не напрасно. В то время народности Севера только-только начинали освобождаться от вековой тьмы и невежества. Лишь четыре года назад был организован национальный округ, создавались в тайге и тундре первые колхозы, фактории, школы, красные чумы. Шла ожесточенная классовая борьба. Ненцы, ханты, селькупы находились еще под сильным влиянием кулаков и шаманов. Нелегко было в такой обстановке собирать исконных жителей тайги и тундры для учебы и житья в совершенно непривычной обстановке. Требовалось очень осторожно отучать их от разных вредных привычек, умело заинтересовывать их новой для них жизнью. Поэтому в Салехардском национальном педагогическом техникуме, созданном в 1932 году, делалось все, чтобы не отпугнуть прибывших из тайги и тундры, закрепить их на учебе.
В момент моего поступления в педтехникум студентов было человек 20–25, почти одни ненцы, два или три ханты и один селькуп. Часть ненцев, особенно приехавших из ближнего Приуральского района, хорошо владела зырянским языком, и я быстро подружился с ними. Это были Петя и Федя Янгасовы, Устин, Иван и Гоша Вануйто, Илья Окотэтто и другие. Некоторые из них учились в техникуме уже в прошлом году. От них я узнал, что самые первые студенты были из числа курсантов при Салехардском рыбоконсервном комбинате, что всего их насчитывалось человек восемнадцать, большинство ненцев, что в первый год педтехникум помещался в небольшом домике позади Дома ненца (ныне Дома культуры народов Севера) и что все студенты первого набора, уехав летом на каникулы в родные чумы, больше не вернулись в Салехард.
На второй год набрали новых 27 человек. Жили и учились они в том же маленьком домике. Было тесно. Когда начинали занятия, убирали матрацы с топчанов, сидели на них вокруг большого стола, на котором в обеденную перемену ели. Почти все студенты не знали грамоты, лишь Гоша Вануйто, Устин Вануйто, Илья Окотэтто, Миша Ненянг и Аничи Яр умели немного читать и писать по-русски.
Мои новые товарищи с теплотой и любовью вспоминали своего учителя Петра Емельяновича Чемагина, который сейчас был на курсах повышения квалификации в Ленинграде. Ребята рассказывали, как Петр Емельянович водил их в кино, занимался с учащимися в кружке родного языка, записывал с их слов ненецкие сказки, загадки, написал и поставил пьесу «За учебу», выпускал стенную газету.
Но еще охотнее делились ребята впечатлениями о поездке в Свердловск, на экскурсию. Рассказы казались сказками — ни я, ни большинство студентов педтехникума никогда не видели городов с высоченными домами, трамваями, автомашинами. Устин Вануйто сообщил, что некоторые студенты ни за что не хотели ехать на юг, боялись отлучиться далеко от тундры. Когда они выезжали учиться в Салехард, их запугивали кулаки и шаманы:
— Уедете в город — вас в солдаты заберут. Русские сейчас ведут войну. Вас стрелять заставят. Там такая машина есть, если в нее попадешь, тебя со всех сторон резать будут ножом, живой не останешься. Тундру никогда не увидишь больше.
И некоторые отказались от поездки в Свердловск.
— А мы съездили, и ничего. Вернулись живы-здоровы, — говорил Илья Окотэтто, широколицый крепыш, тоже тронутый оспой. — Чего только не видели мы! Вот где житуха! Культурно живут…
— Если еще раз будет такая поездка на юг, я опять постараюсь попасть. Буду учиться получше, — добавила Шура Айваседа, скуластая, черноглазая лесная ненка из Пура.
Это говорили прошлогодние студенты, а большинство новичков к рассказам этим относились явно с недоверием. Александр Салиндер при таких разговорах заключал обычно:
— А лучше тундры все равно нигде нет. Я бы сейчас обратно в чум поехал. Без сырого мяса, без сырой рыбы как можно жить?
С этим все соглашались, в том числе и я. Каждый день можно было слышать разговоры о сыром мясе и мерзлой рыбе. И желание это дирекция техникума тоже стала удовлетворять. Все чаще и чаще на ужин мы начали получать мерзлое мясо или рыбу. Иногда оленя забивали тут же в ограде общежития. Мы охотно ели свежую печень и пили оленью кровь.
И все же однажды утром обнаружили, что Александр Салиндер ухитрился убежать из техникума. Вскоре выяснилось — он уехал в тундру со знакомым оленеводом. Подобных случаев в первое время было несколько, хотя каждый раз такой факт серьезно осуждался на комсомольском или профсоюзном собрании.
Вначале сильно чувствовалось пренебрежительное отношение ненцев к хантам, селькупам, а последних — друг к другу и ненцам. На этой почве иногда возникали ссоры. Помнится инцидент в столовой интерната между ненцем Тусидой и селькупом Тамелькиным. Одному из них во время обеда попала кость с мозгом и жирным мясом. Сидя далеко друг против друга, они долго язвили и пререкались, потом стали швырять друг в друга ложки, чашки, злополучную кость и, наконец, вцепились в волосы. Учинился настоящий скандал. Еле разняли их.
Подобное свидетельствовало о весьма низком уровне сознательности среди национальной молодежи и требовало большой воспитательной работы с ней.
Интересные порядки
Педтехникум имел два здания — школу в доме бывшего купца Терентьева и интернат со столовой в новом помещении. 1934/35 учебный год в педтехникуме начали поздно, в середине октября. Не хватало преподавателей, да и учащиеся прибывали из тундры с опозданием. Новичков привозил в Салехард обычно кто-нибудь из окружных или районных работников. Очень редко случалось, чтоб кто-то прибыл самостоятельно.
— Торово, — робко здоровался с нами приехавший и спрашивал: — Педтехник тут?
— Тут, тут. Проходи смелее, — отвечали ему студенты и спешили представить новичка воспитательнице или директору.
Прибывший чаще всего оказывался вполне взрослым человеком, в меховой одежде, пропахший рыбой, копотью чума, обветренный, с огрубевшими от работы руками. И взгляд такой, будто он не ахти как доволен приездом на учебу. Долго хмурился, не разговаривал и с неподдельной тревогой взирал на новую для него обстановку.
Больших трудов стоило заставить вновь приехавшего расстаться с привычной ему грязной одеждой. Часто у новичка под малицей не оказывалось даже рубахи. Тело, которого никогда не касалось не только мыло, но даже вода, блестело от копоти и грязи. Хватало канители с новичками, чтобы вымыть их в бане, остричь волосы, одеть в обыкновенную рубаху и брюки, обуть в валенки, научить спать на топчане.
Запомнился Ласса Салиндер. Это был плотно сложенный ненец из Ныдинской тундры, лет двадцати с лишним, из береговых, то есть из рыбаков. На нем, кроме старой, замусленной до блеска малицы да рваных меховых кисов и замшевых шаровар, ничего не было. Но он предъявил ультиматум — если его будут заставлять мыться в бане и носить русскую одежду, он уедет обратно. В первые дни пребывания в общежитии он так и спал в малице, на полу, рядом с застеленным топчаном, боясь упасть с него ночью. Но пример — великая сила. И Ласса через несколько дней вместе с нами все же пошел в баню. Стыдливо посматривая на нас, очень неохотно разделся. Потом, прикрываясь тазом, робко вошел в моечную-парильную и с удивлением остановился перед мокрыми скамейками.
— Проходи, Ласса. Садись. Парься и мойся, — сказал ему Устин.
— Как тут жарко и мокро везде! — ответил тот.
Мы засмеялись — в бане и чтоб без мокроты и жару. Хотели его парить сперва, но он пытался убежать. Тогда усадили Лассу на скамью, дали таз воды и мочалку с мылом — мойся на здоровье сам.
Ласса, поглядывая на ребят, намылил кое-как мочалку и начал тереть ноги.
— Не оттуда начинай, а с головы, — подсказал я по-русски.
Ласса, видно, понял меня и сразу же перенес мочалку с копчика на стриженую голову, стал усиленно мыть ее. Мы опять засмеялись. На помощь ему подошли Устин и Гоша Вануйто. Истратили, наверное, бочку воды на ворчащего Лассу, но все же не смыли с него всю грязь.
— Ладно, остальное смоем в следующий раз, — шлепнул его постоянно улыбающийся Гоша.
А Ласса тревожился:
— Теперь, однако, мерзнуть буду…
Оделся он, как и мы, в интернатскую одежду и даже не стал походить на себя прежнего.
Жили мы в трех комнатах: в одной девушки, человек пять-шесть, а в остальных — парни. В угловой комнате, где жил я, стояло десять топчанов. Каждое утро воспитательница, худощавая русская девушка, поднимала всех звонком на физзарядку. Я, разумеется, был освобожден от этого и обычно сладко досыпал. После физзарядки ежедневно выхлопывали во дворе простыни и шерстяные одеяла. Делать это я тоже не мог, поэтому новые друзья мои сами устанавливали очередность выхлопывать мою постель. Одни это делали добросовестно: если я спал, вежливо будили и потом уже забирали мою постель. А кое-кто любил пошутить, если я оказывался еще в постели.
Отличался этим Федя Янгасов из Лабытнангов, невысокий, озорной парнишка. Не по росту сильный, он без предупреждения ловко забирал меня в охапку вместе с одеялом и простыней и торопливо выносил во двор.
— Куда ты тащишь, Федька! — визжал я спросонья, дрыгая ногой. А вокруг смеялись:
— На снег, на снег! Голого!..
Однако Федя сразу же заносил меня обратно на топчан и потом уже принимался выхлопывать постель.
Чувство дружеской поддержки, помощи нуждающемуся проявляли многие из ненецкой молодежи, с которой впервые здесь столкнулся я близко. Видя, что я редко бываю на свежем воздухе, Петя, Устин, Федя, Гоша и другие по своей инициативе часто вечерами перед сном катали меня на нарточке по малолюдным и тихим в те годы улицам Салехарда. А за это я рассказывал им сказки, слышанные мной в Мужах от бабушки в таежном краю.
Я уже успел убедиться, что тундровые люди — страстные любители сказок и загадок. В нашей комнате как-то само собой установился порядок — рассказывать сказки и загадки перед сном. Знатоком родного фольклора оказался Петя Янгасов. Он свободно владел ненецким, зырянским, хантыйским и русским языками. Так как в комнате проживали люди трех национальностей, то Петя рассказывал сказки сразу и на ненецком, и на хантыйском, и на зырянском языках. Делал это очень искусно: переводил не каждую фразу, а по частям. Расскажет интересный эпизод и, пока переводит это на другой язык, дает возможность прослушавшим поразмыслить над услышанным.
— Петя, а ты здорово придумал — рассказывать сразу на трех языках, — однажды похвалил я его. Янгасов ухмыльнулся:
— Много дорог знаешь — хорошо, не заблудишься. Много языков знаешь — еще лучше: больше заимеешь друзей.
— Верно. Ты — молодец, — позавидовал я ему.
В то время я мог рассказывать лишь на зырянском и русском языках. Сказки мои тоже были разные: житейские, героические, волшебные, про птиц и зверей. Я рассказываю, а Петя переводит по эпизодам на ненецкий и хантыйский языки.
А то примемся загадывать загадки и тоже с переводом.
— В одну нору зайдет — из трех нор сразу высунется, — загадал однажды Устин. Мы долго думали. Ответил он сам:
— Малица или рубаха.
Петя решил не отставать от него.
— Сто мужиков тянут вверх, сто мужиков — вниз. Что это такое?
Опять стали думать, но вскоре отгадал Ласса, блаженно растянувшийся на топчане под одеялом:
— Это поплавки и грузила в неводе.
— Правильно, — похвалили его. — Недаром рыбак.
И так чуть не каждый вечер.
Был в нашей комнате, как и в соседней мужской, еще один интересный порядок — каждое утро кто-нибудь пел по-ненецки или по-хантыйски. Делал это тот, кто просыпался раньше всех. Таким чаще был у нас Николай Няруй, недавний батрак из Ямальской тундры. С густыми черными бровями на бледноватом овальном лице, разговорчивый и общительный, он в то же время отличался привычкой быстро пугаться. Стоило нечаянно задеть его сзади, как Николай вскрикивал, роняя из рук что бы ни было. Потом сам же принимался смеяться над собой, вместе со всеми. Но когда задевали его нарочно, он сердился и ворчал на виновного.
Николай Няруй пел обычно, сидя в постели, и не очень громко. Но так, чтобы помаленьку расшевелить спящих, дать понять им — пора вставать.
— О чем поешь? — спросил я его как-то.
— Помаленьку обо всем. Так принято в тундре, когда надо будить, — ответил он нечисто по-русски и запел, чтоб я понял:
Солнце знает, когда вставать, Птицы знают, когда вставать, И звери знают, когда вставать, Только наши ребятки — засони. Ждут звонок воспитательницы. Ой, как нехорошо! Даже стыдно!..И засмеялся негромко.
А мне подумалось: «Интересный народ. Все здесь необычно…»
Первые шаги
И вот мы учимся. Всего в техникуме студентов около сорока. Большинство ненцев. Хантов всего два, а селькупов — один. Зато появились здесь нынче зыряне — кроме меня приняли на учебу еще пять человек. И девушек прибавилось — их уже больше десяти.
— Но и нынче мы не можем иметь основного курса, хотя техникум наш существует уже третий год. Потому что с семилетним образованием у нас всего один студент, — сказал директор на собрании перед занятиями.
Петя Янгасов перевел его слова для слушателей и показал на меня. Все повернулись с удивленными лицами. Одна из девушек с тугими косами произнесла по-зырянски:
— Ой-ой! Сколько лет учился и не состарился!
Прокатился смешок. Когда Петя перевел слова девушки, директор и преподаватели тоже засмеялись.
— От учебы не старятся, а умнеют, — продолжал говорить Иван Иванович с помощью переводчика. — Вот мы и собрали вас сюда, чтобы сделать вас грамотными, культурными, умными, трудолюбивыми…
Он сказал, что руководители округа, районов, педтехникума знают — далеко не все студенты станут обязательно учителями и будут работать в школах Севера. Таковыми окажутся те, кто по-настоящему проявит настойчивость в учебе, у кого хватит терпения сидеть много лет за студенческим столом и у кого появится любовь к учительской работе. Сейчас же важно пока другое — учиться и учиться, ликвидировать свою неграмотность и малограмотность. К тому же пребывание в педтехникуме, несомненно, расширит общий кругозор бывших кочевников, рыбаков, охотников, повысит их сознательность. А это нужно для строительства новой жизни в тундре и тайге…
Словом, начали учиться в трех подготовительных классах. В одном учили по букварю, в другом — повторяли материал за начальную школу. В нашем подготовительном классе в течение зимы следовало повторить, изучить материал за пятый, шестой и седьмой классы. Мне нечего было делать.
— Помогай остальным, — сказал наш классный руководитель Алексей Евгеньевич Стопкевич, лысый, горбоносый и душевный человек.
Все свое учебное время стал я отдавать на помощь не только одноклассникам, но и другим студентам, особенно живущим в одной комнате со мной.
В нашем классе обучалось шесть человек. Учеба некоторым давалась с огромным трудом, а от преподавателей требовала много сил и терпения. И Алексей Евгеньевич, и Николай Петрович Печеркин и другие преподаватели все время, кроме сна, посвящали учебно-воспитательной работе. Их можно было видеть в техникуме и в нашем общежитии с раннего утра до позднего вечера.
Особенно трудно давался русский язык. Трудно давалась и алгебра. А сколько надо было прочитать-то литературы за три класса! До ночи просиживал я с ребятами над выполнением домашних заданий. Больше всего помогал Гоше и Устину. Они искренне стремились учиться, но навыков работы с книгой у них не хватало.
В один из таких вечеров я впервые испытал творческую радость учителя. Я долго объяснял Гоше, как практически пользоваться правилом о правописании глухих согласных звуков. Приводил множество примеров. Но как только дело доходило до самостоятельного письма, мой товарищ по-прежнему допускал ошибки.
И тут я вдруг «открыл»: Гоша плохо отличает гласные звуки от согласных, не умеет, как этого требует правило, применить для проверки слово с глухим согласным звуком.
Пришлось объяснять гласные звуки. Я старательно тянул «а-а», «о-о», «y-y», а Гоша повторял за мной, нарочно широко раскрывая рот, и тянул так долго, насколько хватало воздуха.
Наш своеобразный «дуэт» привлек в столовую ватагу ребят из спален. Одни уже были без верхних рубах, другие — босые. Вскоре и они присоединились к нам. Наконец Гоша с радостью похлопал себя по лбу.
— Э-э, теперь понял я! Теперь знаю, что такое гласные звуки.
Оказалось, и многие другие только сейчас постигли эту мудрость. Когда вернулись к правописанию глухих согласных, дело пошло куда лучше.
— Значит, в слове «лодка» надо писать «д», потому что, если поставить гласную «о», слышится «д» — «ло-до-чка». Верно? — понимающе рассуждал Гоша.
— Или, скажем, «лодок». Тоже «д» слышно, — добавил Устин.
— Вот именно! — не меньше их радовался я.
В эту ночь Гоша долго не мог уснуть. Все ворочался. Потом окликнул меня шепотом:
— Слышь, Вань? В слове «рассказ» на конце надо писать «з». Если возьмем слово «рассказы» — слышно «з». Правда?
— Конечно, — также шепотом ответил я. — А ты почему не спишь?
— Да вот все думаю, как я раньше-то не понимал. Сколько Алексей Евгеньевич бился вчера у доски со мной — все напрасно. А тебя понял. Вот учитель-то!
— Сказал тоже — учитель! Спи давай…
А мне самому вдруг сделалось радостно на душе, может, и правда получится из меня учитель?
Многим студентам недоставало усидчивости. И это понятно — когда же в тундре или тайге приходилось им столько времени просиживать за столом. Недаром Гоша жаловался, даже в классе:
— Ой, болит спина от сидения такого. Скоро, наверное, горбатый буду.
Что греха таить — случалось, я иногда делал домашние работы друга, а он в это время преспокойно развлекался чем хотел или прогуливался на воздухе.
Моя повседневная помощь товарищам в учебе не оставалась без ответа с их стороны. Они всячески помогали мне в овладении ненецким языком, который преподавал нам в этом году Николай Петрович Печеркин, всегда приветливый и улыбающийся. Уж родной-то язык студенты усваивали куда легче и проявляли к этим урокам особый интерес, хотя ненецкая письменность тогда еще была основана на латинском алфавите.
— Вот чудно-то, — не раз слышалось на уроках языка. — Пишешь какие-то буквы, даже не русские, а получается настоящее ненецкое слово. Показать бы в тундре старикам! Ох, и удивились бы! Сами захотели бы учиться…
Ненецкий язык, как и хантыйский, давался мне легко, и я успешно овладевал ими.
Большой интерес проявляли студенты к рисованию и черчению. Преподаватель Виталий Евдокимович Мялицын, невысокий и тихий молодой человек, предоставлял простор для творческой фантазии студентов. У большинства из нас сразу же выявился своеобразный художнический дар, что очень радовало преподавателя.
Еще охотнее занимались ребята на уроках физкультуры у преподавателя Александра Клементьевича Москвитина, прекрасного лыжника и спортсмена. Студенты, недавние охотники и оленеводы, с радостью шли на лыжные прогулки, полюбили занятия на турнике, на кольцах и прямо на глазах становились стойкими и жизнерадостными.
К 7 ноября дирекция и учком наградили успевающих в учебе и активистов студентов Почетными грамотами и ценными подарками в виде джемперов, галстуков, косынок. Нужно было видеть, как это действовало на ребят, с какой гордостью надели мы свои подарки и как остальные завидовали нам.
На торжественном заседании в Дом ненца пригласили всех нас, и докладчик в своей речи с гордостью отметил, что в зале сидят будущие интеллигенты из народностей тундры и тайги.
— Это «первые ласточки»! И мы рады видеть и приветствовать их в праздник Великого Октября! — заявил он.
Мы были очень довольны.
Живые тени
— Сегодня кино! Сегодня кино! Ура-а!..
Такое ликование слышалось в стенах школы и общежития в каждую субботу и воскресенье. У нас имелась своя кинопередвижка, чего не было в других школах Салехарда. Имелись и свои киномеханики — черный, курчавый Костя Ненянг и Илья Окотэтто. Научились они этому «мудреному» для всех нас делу, видимо, в прошлом году. Киноаппарат они знали хорошо и демонстрировали фильмы безо всяких помех. С любовью относились к своим обязанностям. В дни показа фильмов Костя и Илья преображались с утра. Лица их сияли гордостью и в то же время выражали озабоченность.
Сразу же после уроков, едва успев пообедать, они принимались возиться с аппаратом, тщательно прочищали, проверяли. А сколько добровольных помощников было у них! Они доставляли из кинопроката ленты фильмов, другие устанавливали на длинной скамье динамо, третьи натягивали на стене экран, расставляли скамьи.
Кинозалом служила столовая. После ужина сразу же отодвигали столы к окнам, чтобы и с них, сзади, можно было смотреть кино. Зрителей всегда бывало много. Кроме нас часто присутствовали учащиеся из окружной совпартшколы, недавно открывшейся. Тоже «первые ласточки».
Электричества в наших помещениях не было еще, и во время демонстрации фильмов студенты по очереди крутили жужжащее динамо. Это — нелегкое дело, но уж очень хотелось смотреть кино, «живые тени», и ребята посильнее никогда не отказывались от этого. Миша и Ласса Салиндеры, Федя Янгасов и другие крутили динамо до седьмого пота, сняв рубахи.
Фильмы были немые, и демонстрацию их всегда сопровождал игрой на двухрядке манси Капитан Баринов, веселый парень со вставными зубами, светлолицый и худощавый.
Однажды зимой
В морозный зимний день после обеда я писал в столовой лозунг на красном материале по-ненецки: «Ленин мась: „Тохолко, тохолко, тохолко тара!“» («Ленин сказал: „Учиться, учиться, учиться надо!“»). Материал был расстелен на столе. Возле меня толпились ребята, рассуждали:
— Ух, какие большие буквы! Издали будет видно!..
— Вот мастер: и нам в учебе помогает, и стихи сочиняет, и рисует, и даже на материале пишет! Да еще больными руками! А мы и здоровыми кое-как на бумаге царапаем!..
— Как такого человека не любить… — смеялся Гоша и нарочно лез ко мне целоваться. Я отбивался:
— Уходите! Не мешайте! А то разукрашу лица кисточкой!..
Кое-как дали закончить лозунг и тут же повесили его на стене — пусть все читают и помнят: надо учиться как можно больше.
Только пошли в комнату — пришла воспитательница с новостью, что дирекция техникума решила разгрузить мужские общежития, отвести еще одну небольшую комнатку для жилья в этом помещении.
— Хорошо! — ликовали мы. — А то стоит топчан на топчане.
— В ту небольшую комнатку, — кивнула она в сторону напротив второго мужского общежития, — перейдут наши активисты: комсорг Устин Вануйто, председатель учкома Илья Окотэтто, редактор стенгазеты Ваня Истомин, а также Петя Янгасов и Николай Няруй.
— Это почему же именно они? — послышались голоса.
— Потому, что помощники дирекции, — спокойно объяснила воспитательница. — Они устают больше вас. Им нужна для отдыха и работы над собой более спокойная обстановка.
Ребята загалдели:
— Подумаешь, какие начальники нашлись…
— Комнату им отдельную!..
— Пускай только уйдут, мы тут установим свои порядки, — заявил озорной Федя Янгасов.
И как ни уговаривала воспитательница ребят, чтобы помогли перетащить мою постель, те разбежались.
— Пусть сам тащит, коли не хочет жить с нами, — сердито сказал Гоша и хлопнул дверью.
Мне обособляться не хотелось, но так решено директором — что поделаешь. Мой топчан перенесли те, кто переходил в комнату со мной. Здесь, конечно, жить оказалось гораздо спокойнее.
Я по-прежнему готов был помогать любому в подготовке к урокам. Но Гоша и другие, оставшиеся с ним в большой, угловой комнате, стали недружелюбно относиться к нам, «начальству». В столовой они говорили всякие колкие слова в наш адрес, а в классе Гоша даже пересел от меня за другой стол.
— Не хочу сидеть рядом с таким шишкой, — насмешливо процедил он.
Федя тоже сдержал слово — каждый вечер он учинял в своей комнате, запершись на крючок, шумную возню: прыгали по топчанам, кидались подушками…
Устин и Илья старались призвать их к порядку, но озорники не отворяли дверь даже при воспитательнице, шумели еще пуще, мешая спать жильцам соседних комнат. Устин был несколько вспыльчив и страшно злился, готовый сорвать дверь с петель. А утром эту комнату поднимали на физзарядку с великим трудом. Вскоре и в соседней мужской комнате участились подобные беспорядки.
Вопрос об этом не раз ставили на собраниях, кое-кого крепко предупредили. Однако через день-два повторялись те же беспорядки.
Как ни хорошо казалось нам в отдельной малолюдной комнате, все же чего-то не хватало. Петя Янгасов все чаще стал поговаривать, что лучше было бы угловую комнату, считавшуюся красным уголком и занятую одним-единственным книжным шкафом да репродуктором на стене, сделать спальней.
— А нас, как активистов, распределить по всем трем мужским комнатам, — добавил он.
— Правильно, — поддержал я. — Красный уголок устроить вот здесь, в этой комнатке.
Вскоре дирекция действительно так и поступила.
Было шумно в этот день в общежитии. С радостным возбуждением устраивались мы по комнатам. Я пожелал туда, где помещался сперва красный утолок и куда охотно переходили Гоша маленький, белобрысый Захар Канев, а также Капитон Баринов, Федя Янгасов и другие, всего человек семь. Не успел я собраться, как моя постель уже была перенесена кем-то туда на самое теплое место — около печки.
Остальные активисты поселились в других комнатах. Дела наши снова пошли в дружбе и достаточно спокойно. Гоша Вануйто опять сел ко мне за классный стол, смеясь довольно:
— Теперь ты наша шишка.
Майский концерт
Прошла долгая, холодная и темная северная зима. В апреле снег начал таять. Появились первые робкие ручейки. Под ослепительным солнцем еще сильнее забелели за Обью хребты Полярного Урала. Воздух сделался прозрачным, ветер не таким жестким, а где-нибудь на солнцепеке — теплым. Так и манило на улицу из опостылевших за зиму школьных и интернатских стен. Даже в перемены между уроками старались мы побыть на солнышке, выходя во двор, а то и уходя на пригорок к Полую. После занятий вообще трудно было удержать ребят в помещении. И уроки, и общественная работа плохо шли на ум.
— Эх, хорошо сейчас в тундре! — вздыхал Петя Янгасов, развалясь на первой большой проталине возле Полуя под ласковыми лучами солнца. — Начинается весенняя кочевка оленьих стад. Растянется аргиш — что та река течет по снежному простору. Эге-ге-гей. Не разбредайтесь, олени!.. Хорошо. А потом — отел, новая забота. Тоже интересно — появляются авки, выкормыши в чуме…
— Рыбакам теперь тоже хорошо, — задумчиво вторил ему Ласса, сидя рядом и любуясь манящими голубоватыми далями. — Скоро путина, свежая рыба. Готовься рыбак, не зевай!..
Не отстает и Гоша:
— Охота на носу! Вот это — да-а! Утки-то, наверное уже прилетели… Во-он гуси летят!.. — и смеется, показывая на стаю ворон. Мы тоже хохочем.
Хорошо мечтать о родном и близком, но некогда — надо спешить в техникум. Дел много — приближается Первомай, нужно готовиться к празднику.
Художественная самодеятельность в техникуме была еще слаба. Кружки зимой почти не работали из-за чрезмерной загруженности студентов учебой. Да и основная масса обучающихся непривычна, несмела для выступлений перед публикой.
Однако и зимой в праздничные дни устраивались небольшие концерты. Кое-кто исполнял песни на родном или русском языках, декламировал стихи, а один раз даже поставили инсценировку.
Теперь тоже решено было подготовить небольшой концерт, притом для показа на сцене Дома ненца. Все влекли в это дело и меня. Я стал мудрить над стихом — Первом мае. Напишу, покажу Алексею Евгеньевичу. Он внимательно просмотрит, сделает замечания, подскажет как можно было бы улучшить. Я опять работаю над своим «произведением».
— Вот сейчас хорошо. Пойдет, — сказал он наконец и отдал мой стих выучить Лене Хатанзеевой, боевой, привлекательной девушке, той самой, у которой я вышиб из рук поднос с тарелками каши.
Но своего отдельного концерта у нас тогда почему-то не получилось, и в праздничный день на сцене Дома ненца в сводном концерте из наших ребят выступило лишь несколько человек: Устин Вануйто под аккомпанемент гармониста Капитона Баринова исполнил несколько ненецких и русских плясок. Петя Янгасов спел ненецкую песню и рассказал небольшую сказку точно так же, с переводами, как делал в общежитии, а Лена Хатанзеева прочла мое стихотворение. Совершенно неожиданно для меня публика стала вызывать автора. Я очень смутился и долго артачился, но все же пришлось встать и проковылять до сцены, показаться людям. Назавтра Алексей Евгеньевич поздравил меня с успехом и сказал:
— Сочиняй и дальше. У тебя есть задатки.
Мне было лестно, и я твердо решил писать стихи наряду с рисованием.
Что я наделал!
Учебный год мы закончили восьмого июня. Из нашего подготовительного класса были переведены на первый курс сестры Шура и Аня Айваседа — ненки из Пура, Гоша Вануйто, Зина Скворцова (ненка по матери), Лена Хатанзеева и я. Все мы успешно сдали экзамены за седьмой класс.
— Вас немного, но педагогический коллектив техникума рад, — сказал директор на итоговом собрании. — С предстоящего учебного года наконец-то в техникуме будет основной курс. Пройдет несколько лет, и вы первыми окончите наш техникум. Вдумайтесь в это и гордитесь!..
Мы горячо аплодировали.
Начались каникулы. Теперь вдоволь можно было отдохнуть, побывать на воздухе. Руководители техникума, видимо, сейчас уже не боялись особенно, что студенты сбегут, не вернутся больше. Всех ребят отпустили по домам, снабдив средствами на дорогу и дав задание — привезти каждому новичка.
Но не все студенты разъехались сразу из-за отсутствия транспорта в дальние районы. Я тоже не спешил домой, так как родители, по слухам, собирались выехать на рыбный промысел.
Вскоре стало известно — директор по служебным делам едет в областной центр Омск, а потом в Москву, в Наркомпрос, и хочет взять с собой несколько студентов на экскурсию.
— Вот бы меня, — заговорил каждый из оставшихся ребят.
Я тоже не прочь был посмотреть настоящие города, но куда мне с костылями — обуза для других.
Однако получилось иначе — зашел Иван Иванович в интернат и давай спрашивать:
— Истомин, ты хочешь побывать в Омске?
— А зачем? — растерялся я.
— Надо показать тебя хорошему врачу. Есть в Омске такой, Рабинович. Может, физлечение назначит тебе. Ногу больную подлечить бы хоть. Освободиться от костылей.
— Вот было бы здорово! — не удержался Петя Янгасов. — Я весь запылал.
— Согласен.
— Собирайся в дорогу, — сказал мне Иван Иванович и сообщил, что с ним поедут также Устин Вануйто, Петя Янгасов и Катя Ненянг из далекого Хальмер-Седэ. — Пусть посмотрят Москву. А в следующий раз съездят другие, — добавил директор.
Дня через три мы поехали на юг на пароходе «Магнитострой», да еще в первом классе, в двух каютах: в одной директор с женой и Катей, а в другой — мы, трое парней. О такой поездке я и думать не мог никогда. Питались хорошо. В нашей каюте стояло даже ведерко со сливочным маслом. Калачи, сахар — чего еще надо?
Ехали одиннадцать дней, любуясь с верхней палубы просторами многоводной Оби, величавыми берегами желтопенного Иртыша, рыбацкими становищами, селениями, Тобольским кремлем. Пока здесь стоял пароход, я нарисовал его в свой альбом, уже чуть не полный дорожных рисунков. Массовик парохода попросил меня оформить судовую стенгазету, и я охотно выполнил это в пути. Но наш директор хотел, видимо, показать, что мы, вчерашние «дикари», и не на то способны.
— Ребята, — сказал он нам однажды, — сегодня в салоне будет вечер самодеятельности. Выступите-ка кто с чем желает. Запишитесь у массовика. Прошу вас очень…
И вечером мы выступили в ярко освещенном салоне перед пассажирами. Я прочитал два своих стихотворения, Петя спел ненецкую и хантыйскую песни, а Устин сплясал под игру массовика на пианино и продекламировал стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия». И все аплодировали нам, хотя не ахти-то как хорошо и выступили мы, а директор наш сиял, довольный.
Омск, пыльный и душный, разочаровал нас, северян.
— Фу-у, война (плохо), — сразу же морщится Катя как только мы поехали по городу на грузовом такси. — На воде-то было как хорошо!
— Это с непривычки, — успокоил нас Иван Иванович. — Вот катимся уже на машине. А то ли будет еще.
Устроились в общежитии областной партшколы. Но в тот же день выяснилось, что известного врача Рабиновича нет в Омске — вызвали в Москву по какому-то важному делу, и, видимо, вернется не скоро.
— Что же делать? — загорюнился наш директор. — Может, повезти тебя, Ваня, в Москву, показать профессорам?
Я подумал и отказался — испортилось настроение, да и зачем прибавлять лишнюю заботу и хлопоты директору.
— В другой раз, — ответил я Ивану Ивановичу.
Через три дня я ехал обратно на том же пароходе «Магнитострой» и в той же самой трехместной каюте, только один — пассажиров оказалось мало.
В пути я думал все время: «Не напрасно ли я отказался от поездки в Москву? Там-то, может, и действительно могли подлечить меня врачи. Освободился бы от костылей. Но теперь уже поздно. Придется опять мучиться на этих проклятых палках».
— А что, если в Салехарде пойти к врачам и попросить «чикнуть» недействующую мою ногу? — сказал я сам себе в горьком раздумье. — По колено, например, чтоб ходить на деревяшке. Все же лучше — руки хоть будут свободны.
Эта неожиданная мысль так взбудоражила меня, что я даже не пожелал побыть немного в родных Мужах, а поехал дальше, в Салехард, в педтехникум, который стал для меня вторым родным домом. В педтехникуме я застал курчавого Костю Ненянга из далекого Таза, Тамалькина из не менее дальнего Красноселькупска и Капитошу Баринова, не имевшего родителей. Все остальные студенты давно разъехались по родным стойбищам и селениям.
На второй же день я пошел в амбулаторию. Седоватый хирург Шубин осмотрел меня тщательно, порасспросил об истории болезни и стал уговаривать меня отказаться от операции.
— Не болит ведь нога. Поживи пока так. А в будущем году еще раз попытайся съездить на физлечение, — убеждал он.
— Нет, — продолжал я упорствовать. — Отрежьте ногу. Буду ходить на деревяшке.
— Ну смотри, дело твое, — сдался хирург и дал мне направление в больницу.
Находилась она в двухэтажном деревянном доме на территории рыбоконсервного комбината, за речкой Шайтанкой. Добираться до больницы было нелегко для меня, однако друзья-студенты категорически отказались помочь мне в этом, как и зимой при переходе в другую комнату.
— Что это ты выдумал — резать ногу? — заворчал Капитоша. — Молодой — и будешь без ноги. Где такое видано?
Но уговаривать меня уже было поздно, и я без помощи друзей переправился на перевозе через Шайтанку и лег в больницу четвертого июля. Я попал в трехместную палату на верхнем этаже. Пролежал несколько дней, а операцию мне все не делают.
— Не спеши, у тебя не болит, — каждый раз отвечал мне хирург при обходе.
Только одиннадцатого «тяпнули» мне ногу по колено, затянув ее жгутом и сделав уколы. Ампутировали по частям, начиная со ступни и проверяя кость. Я пролежал на операционном столе два с половиной часа, глядя на белую стену, где висел портрет Анри Барбюса, и чувствуя дребезжание кости под пилой хирурга.
Когда меня усадили на столе, культя оказалась такой легкой, словно отняли от меня несколько пудов. Хотели унести на носилках, но я попросил костыли и потихоньку дошел сам до палаты, поддерживаемый сзади сестрой.
— Ушел с двумя ногами, а пришел без одной ноги, — довольно бодро сказал я товарищам по палате, переступив порог.
Те переглянулись.
— Смотрите-ка. Веселый, как ни в чем не бывало.
Некоторое время я еще чувствовал себя сносно, лежа в постели, и даже взялся было за недочитанную книжку. Однако вскоре появилась такая боль в культе, что я стал метаться в жару, не взвидя белого света. Дежурная сестра не отходила от меня, то и дело поправляя подушечку под культей.
Двое суток я мучился в полубеспамятстве. На третий дали что-то выпить. Я опьянел. Дальше дело пошло на улучшение.
Пока я лежал в больнице, друзья-студенты все же навестили меня трижды, принося небольшие передачи, но ребят почему-то не пустили на верхний этаж повидаться со мной, и мы обменялись лишь записками.
Через десять дней после операции сняли шов с культи, а двадцать пятого июля выписали из больницы. Я позвонил в педтехникум, чтобы кто-нибудь из ребят помог мне добраться до интерната, — я был очень слаб после операции.
Пришел Капитоша Баринов и, увидев меня без ноги, испуганно ойкнул, а потом с горечью стал укорять меня:
— Что ты наделал! Что ты наделал!..
Всю дорогу он хмурился и нес ставший мне ненужным второй мой сапог так, словно это был непосильно тяжелый и неприятный груз. Я ковылял очень тихо, чтобы не потревожить больную культю, и часто останавливался перевести дух. Иногда я садился на какой-нибудь бугорок, и Капитоша бережно поддерживал меня при этом, твердя:
— Вот беда-то. Ну, зачем ты решился на операцию?
Но ни разу не спросил, было ли больно, когда оперировали. Я тоже был в подавленном настроении. А когда переехали на перевозе Шайтанку и начали подниматься на горку, я вдруг почувствовал полное бессилие и плюхнулся на траву. К счастью, культю не ушиб. Капитоша кинулся ко мне:
— Ушибся? Больно?..
Я отрицательно мотнул головой, тяжело дыша. Товарищ опустился рядом со мной и, уткнув лицо в голенище пустого сапога, горько заплакал. Я тоже не выдержал — зарыдал, лежа на боку. Долго пробыли мы тут, молча всхлипывая.
Все лето я соблюдал постельный режим.
Тяжелый год
Пришла осень — дождливая, слякотная, скользкая. Я очень редко выходил на воздух, больше отлеживался, предавшись чтению книг. Да и в столовую ходил в последнюю очередь — стыдно было показаться людям без ноги. А студентов нынче стало много — в техникум приняли большую группу зырян из Салехардской средней школы (видимо, прошлогодний опыт оказался положительным в смысле укрепления контингента студентов). Кроме «старичков» прибыло из районов немало новых на учебу. Ожил, загудел техникум.
Но особенно неудобно было мне перед директором и учителями — ни с кем из них я не посоветовался, идя на операцию. «Осудят, поди», — думалось мне. И конечно, не все из них одобряли мой поступок, хотя это касалось только меня самого.
— М-да, — грустно покачал головой директор, сразу же навестив меня после возвращения из поездки. — Надо было мне взять тебя в Москву. Зря ты лишился ноги…
— Поправлюсь и попробую ходить на деревяшке, — сказал я тоном оправдания.
— Теперь уж только на это надежда. Долечивайся, поправляйся.
Примерно то же говорили мне Алексей Евгеньевич, Николай Петрович и другие преподаватели.
Устин, Петя, Катя, да и остальные ребята, увидев меня без ноги, были поражены, как и Капитоша. Долго расспрашивали, как все это произошло, было ли больно. А потом, стараясь, видимо, рассеять мою грусть, начали наперебой рассказывать о невероятных «чудах», виденных ими в Москве. Я слушал их, разинув рот, и сожалел в душе, что не поехал с ними в Москву.
Началась учеба, но я пока не мог посещать занятия. На основном курсе, кроме нас, прошлогодних шести студентов, появился еще один — Леня Киселев, обрусевший ханты, симпатичный, с горбинкой на носу, развитый парень. О первокурсниках дирекция техникума старалась проявлять особую заботу — сколько лет потребовалось, чтобы создать хотя бы этот маленький контингент. Меня, Гошу и Леню поместили жить в отдельную небольшую комнатку, но уже никто не протестовал против этого. К тому же я, еще больной, нуждался в спокойной обстановке.
Недели через три или четыре и я пошел на занятия. Классы, как и в прошлом году, помещались под железной крышей, но сейчас часть комнат в нем была занята под общежитие девушек, и занятия проводились в две смены. Техникум остро нуждался в помещении. Напротив интерната, чуть левее, строили большое двухэтажное здание средней школы. По слухам, нам обещали там место.
А пока приходилось, особенно нашему малолюдному курсу, заниматься иногда в общежитии, как и в первый год существования техникума, с той лишь разницей, что сидели мы не на топчанах, а на табуретках и писали вместо классной доски на черном лаке круглой печи-контрамарки. Приходилось то и дело вставать, чтоб прочесть начало и конец алгебраического примера или предложения на уроке русского или ненецкого языков. Было очень неудобно. Вся эта неучебная обстановка в какой-то мере расхолаживала студентов. Изучаемый же материал по некоторым предметам оказался весьма трудным для некоторых из нас. К тому же кое у кого имелись небольшие «хвосты» за предыдущие классы.
А тут еще новые трудности поджидали нас.
— Однако, замерзнем мы нынче в интернате, — все чаще начал тужить Гоша. — Дом не отштукатурен. Окна — как ворота широченные. А зима-то — сердитая ныне.
Зима и вправду выдалась исключительно лютая — морозы и морозы. Сколько ни старались топить печи — в общежитии температура не поднималась выше нуля. Чтобы как-нибудь провести ночь, мы, мужской состав, со всех комнат собирались в столовую, где посередине была установлена железная печка. Поочередно дежуря, ее топили круглые сутки, но тепло держалось только возле нее.
— Эй, сосульки! У кого есть лишняя одежда, дайте мне! Напялю на себя и лягу спать, — говорил Федя Янгасов безо всякой шутки.
Так и вынуждены мы были делать. Собираясь ко сну, мы не раздевались, а наоборот, старались одеться потеплее, надевая на себя все, что можно было, вплоть до шапок и рукавиц. Утром, когда мы умывались, вода в кранах намерзала сосульками.
— Хорошо — можно не умываться, — радовались некоторые.
Ласса Салиндер возражал:
— Нет, это худо. Надо умываться. Сюда надо тащить горячей воды. — И сам же первый спешил принести из кухни ведро теплой воды и влить в длинный желоб коллективного умывальника.
Девушкам было лучше — они нынче жили в более утепленном доме под железной крышей.
Холодно, студено, хоть нос не показывай на улицу, а жизнь в техникуме шла своим чередом: учеба, подготовка к урокам, кино, вечера игр. Хороводили и плясали обычно опять же в столовой вечерами в субботу и днем в воскресенье.
Легко на сердце от песни веселой, Она скучать не дает никогда, И любят песню деревни и села, И любят песню большие города…Пели под гармошку Капитоши Баринова, одетые так, будто происходило это на снегу при морозе. Но нам было весело, и мы пели с неменьшим воодушевлением:
Как родная меня мать Провожала, Как тут вся моя родня Набежала…Некоторые плохо знали слова песен, но все равно тянули что-то во весь голос, и получалось забавно, вроде даже интереснее…
Примерно в это время произошла смена руководства педтехникума — Ивана Ивановича почему-то сняли с работы, а на место его назначили директором Исакова (имя, отчество не помню), из уральских коми. Но он проработал недолго. Завучем назначили Алексея Евгеньевича Стопкевича.
После Нового года получили возможность заниматься в кое-как достроенных классах нового здания средней школы, на нижнем этаже. Однако даже и этих аудиторий было мало. Печей еще не было, классы обогревались железными печками. На уроках студенты и преподаватели сидели в пальто и шапках и тем не менее все время мерзли. Застывали чернила, зябли руки.
— В чуме теплее при костре, — сказала однажды Шура Айваседа и пошмыгала носом: — Я уже, кажется, заболела насморком.
— И я тоже, — Гоша вынул из кармана большой носовой платок и демонстративно высморкался. Преподаватель по математике Николай Алексеевич, записывая пример на доске, оглянулся на миг, шевельнул рыжими усами:
— Ужасно. Еле держу мел — так озяб…
Все больше и больше студентов и преподавателей заболевало гриппом. Классы редели.
Как-то на уроке мы сидели всего вчетвером: я, Леня Киселев, Лена Хатанзеева и Нюра Айваседа, черноглазая, вертлявая девчонка. Алексей Евгеньевич проводил с нами уже третий урок подряд, заменяя заболевших преподавателей. Мы повторяли пройденное.
Только закончился урок, как за дощатой перегородкой, в учительской, зазвенел телефон. Алексей Евгеньевич вышел, но скоро появился в дверях:
— Истомин, тебя зовут к телефону. Из редакции кто-то…
Я удивился и в недоумении заковылял неохотно к аппарату, висящему на стене. Оказалось, звонит сам редактор окружной газеты «Няръяна Нгэрм» («Красный Север»). Он поздоровался со мной вежливо, сказал, что слышал о моих литературных увлечениях, и спросил, нет ли у меня собственного стихотворения об оленях или оленеводах.
— Нет, — ответил я и стал чувствовать, что краснею, словно виноват в этом.
— В марте состоится окружной слет лучших оленеводов, — продолжал редактор. — Очень хотелось бы опубликовать в те дни что-нибудь об олене. Может, подумаешь, напишешь? Времени еще много…
Меня бросило в жар: «Опубликовать мой стих в газете? Это же здорово!»
— Хорошо, попробую… — пообещал я дрогнувшим голосом.
Алексей Евгеньевич, узнав суть разговора, обрадовался не меньше.
— Чудесно, — похлопал он меня по плечу. — Просят — попробуй. Не каждому такая честь. Авось, появится твой стих в печати. Радуюсь заранее…
Ребята в классе тоже возликовали:
— У нас свой поэт! Качать его!..
Я — отбиваться:
— Культю ушибете… Да и не сочинил еще…
А тут вскоре — новая беда: на весь педтехникум наложили карантин — вспыхнула эпидемия ангины, появились заболевания свинкой. Некому стало учиться, учить, готовить еду, ухаживать за больными. Начиная с директора и кончая поварихой все лежали в постели с температурой. Только я, Иван Вануйто и Федя Янгасов каким-то чудом никак не поддавались болезням. Но от этого нам было не легче, приходилось все делать самим: Иван и Федя закупали продукты, кололи дрова, топили печи и помогали какой-то старухе готовить еду. Я по предписанию врача измерял больным температуру, подносил лекарства, подавал пить. Словом, делал то, что мог на костылях.
Однако я не забывал о своем обещании редактору — в каждую минуту, сочиняя, «мудрил» над стихом об олене. В конце концов я написал стих и, не имея возможности показать его предварительно нашему болеющему преподавателю по литературе, отправил с Федей в редакцию.
Прошло недели две-три в томительном ожидание результата. Я уже потерял было надежду, что стих мой одобрили и приняли, как вдруг в один из невеселых «карантинных дней» в середине марта Иван Вануйто откуда-то принес свежую газету и воскликнул радостно:
— Тезка! Твое стихотворение напечатано в газете «Няръяна Нгэрм»! Во, любуйся!
— Тише. Больные же кругом, — зашикал я и трепетными руками взял газету. Правда — на третьей странице крупным шрифтом опубликован мой стих «Олень». И автор указан: И. Истомин, студент.
Я засиял небывалой радостью и стал читать про себя.
Люблю смотреть на легкий бег, Когда олень несется, быстрый, Копытами тугими снег Взметая пылью серебристой. Его ветвистые рога Назад откинуты дугою, И шерсть колышется слегка На шее белой бородою…Потом перечислялось, что дает олень человеку, как пастух бережет его, дорожит им и поет об олене благодарные песни. Все так, как я написал. Ничего не изменено.
Конечно, стихотворение было далеко от настоящей поэзии, но мне и, как видно, даже редакции оно понравилось — напечатали же! Впервые в моей жизни!
— Ай да Ванька! Пушкин! — весело тормошил меня Федя Янгасов и, схватив газету, хотел было пойти по комнатам общежития, показать больным, но я категорически остановил — зачем их беспокоить, выздоровеют — тогда уж.
Федя неохотно отдал мне газету, и я прибрал ее, как самую дорогую вещь. Нет-нет, да и разверну ее, еще раз прочту свою «писанину». Самому не верится — напечатано. Потом начал при слове показывать и другим выздоравливающим. Все хвалили меня и поздравляли, особенно Алексей Евгеньевич и другие учителя.
Я, разумеется, был доволен, однако у меня хватило скромности — я не кичился этим, единственным, может, самостоятельным стихотворным выступлением в печати. Мне казалось это случайностью, хотя увлечение литературным творчеством стало одолевать меня, как и рисование.
Студенты и преподаватели после болезни оказались настолько слабыми, что малейшая простуда вновь выводила то одного, то другого из строя. Занятия по-прежнему шли с перебоями.
Но как ни довольны были мы, трое парней, что не заболели, хвороба не обошла нас. Когда уже все классы приступили к нормальным занятиям, мы трое оказались в больнице в одной трехместной палате. Для немногих-то здесь нашлось место. Я заболел сразу и ангиной, и свинкой. Пролежали мы около месяца. Вышли — уже весна.
Тяжелой была эта зима, но ни один из нашего техникума не умер при эпидемии и не сбежал из-за трудных условий быта и учебы.
Установилась теплая погода. Это позволило нормально вести уроки в классных комнатах в новом здании средней школы. Педагогический коллектив техникума, пользуясь этим, старался максимально использовать время, оставшееся до конца учебного года. Проводились ежедневные дополнительные занятия, консультации. Выкраивалось время и для культурно-массовой работы, вечерами собравшись в столовой, читали коллективно роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Обычно читал я. Иногда устраивали культпоходы в Дом ненца — смотрели «ожившие тени», звуковое кино, появившееся недавно в Салехарде.
Все студенты первого основного курса выдержали экзамены и были переведены на второй курс. Из третьего подготовительного класса перевели на первый курс пять или шесть человек, в том числе Устина Вануйто. Значит, в предстоящем учебном году в техникуме должно было быть уже два, хотя и небольших, основных курса — первый и второй.
Но тут произошло такое, что за короткий срок неузнаваемо изменило и состав, и деятельность всего педагогического техникума.
Радостная перемена
Летние каникулы я провел в родном селе Мужах. Все удивились, что я без ноги (об ампутации я не писал). Горевали. Отец попытался сделать для меня деревяшку, но она оказалась громоздкой, тяжелой, и я почти не пользовался ею.
Вернулся в Салехард перед самым началом учебного года и — не узнал свой техникум. Первое, что бросилось в глаза, — очень много новых студентов, притом русских, которых до этого среди нас не было ни одного.
— Что за чудо-юдо? — удивился я, беседуя со старыми друзьями. — И русские будут учиться у нас?
— Как видишь, — вздохнул Устин, и в голосе его я уловил нотку недовольства. — Их столько — затеряемся среди них. Не угнаться нам за ними в учебе.
Оказалось, в педтехникум принято много русских юношей и девушек, окончивших пять классов в Салехарде и районах округа. Приезжие, как и мы, обеспечены общежитием в обоих зданиях.
Еще больше удивился я тому, что в интернате стены утеплены, оштукатурены и побелены, а полы покрашены и электричество проведено.
— И учебный корпус обжитой, — сообщил с радостью Гоша Вануйто, — нынче не будем мерзнуть.
Действительно, техникум, оказывается, получил еще одно здание, одноэтажное, школьного типа, рядом с нашим интернатом. В прошлые годы в нем помещалась начальная базовая школа. За лето двухэтажный корпус средней школы Салехарда напротив нас был модностью построен и сдан в эксплуатацию. В освободившимся из-под средней школы дом у пристани перешла базовая школа, а ее корпус отдали педтехникуму.
— Только теперь называется не педтехникум, а педучилище, — узнал я от друзей еще одну новость.
И вот опять учеба. 1936/37 учебный год педагогическое училище начало уже как вполне солидное учебное заведение — с двумя первыми и с одним вторым курсами, а также с тремя подготовительными классами, с контингентом учащихся около ста человек. Значительно был пополнен педагогический коллектив — кроме специалистов по общеобразовательным предметам появились преподаватели по педагогике, музыке, методисты. Директор тоже оказался новый.
Ключом забила жизнь в училище. Правда, ощущался еще недостаток в учебниках и учебных пособиях — не хватало хорошей мебели, постельных принадлежностей, тесновато было в общежитиях, а столовая работала посменно, однако и жить, и учиться стало куда интересней.
Радовались мы, но вскоре пришлось пережить горе — от воспаления внутреннего уха умер в больнице Петя Янгасов, сказочник и переводчик, общий наш любимец. Я по сей день не могу забыть его — хороший, умный был парень, душевный товарищ.
Значительная русская прослойка не могла не внести в национальную среду тягу к учебе, интерес к чтению художественной литературы. Совместное житье и учеба, постоянное общение ненцев, хантов, зырян, селькупов, манси с русскими начало быстро способствовать овладению националами разговорным русским языком, а последнее — лучшему усвоению учебного материала.
Был у нас учащийся — ненец Миша Хэно. Год, проведенный им в техникуме до этого, прошел для него почти без пользы. Будучи очень стеснительным, он старался все время разговаривать только на родном языке. Не понимал объяснений учителя, учился плохо и остался на второй год в первом подготовительном классе. Сейчас же он за какой-то месяц приобрел смелость и, входя в столовую, обычно произносил громогласно:
— Кте моя больсая лоска? Опет нато кусать!
И улыбался так смешно, что вызывал взрыв хохота. А вскоре и совсем хорошо стал разговаривать и с учебой даже у него пошло успешно.
В этом учебном году новичков из северных народностей тоже было немало, но они как-то быстро растворились в общей массе, и я не помню случаев особой возни с ними, как это бывало в прошлые годы. Однако в быту нашем не всегда все шло гладко. Случались нарушения правил внутреннего распорядка в общежитии новичков — и северян, и русских, не живших еще в интернатах. Тут уж нам, воспитанникам прошлых лет, приходилось служить им примером и призывать к порядку на наших собраниях.
Второкурсники
— Пе-да-го-ги-ка! — многозначительно провозглашал перед уроком Гоша Вануйто, высоко вознеся палец и улыбаясь, как всегда, белозубо. — Это не бол-то-ло-ги-ка!..
Мы смеялись. Потом разом умолкали, завидя входящего преподавателя Бориса Моисеевича Годисова.
Педагогика оказалась нелегкой, но зато мы наконец приступили к изучению вопросов обучения и воспитания детей, а это говорило, что мы уже не просто учащиеся, а нечто большее.
Потом мы начали изучать методику преподавания арифметики, русского и ненецкого языков. Тут мы еще больше прониклись сознанием серьезности нашей учебы. Небольшой коллектив второкурсников стал еще дружнее. Каждый вечер мы собирались в свободном классе и коллективно готовили уроки.
Хорошо учился Леня Киселев, боевой, смелый парень. Да и сестры Айваседа — Шура и Аня значительно легче, чем в прошлые годы, усваивали материал, хотя он был уже куда сложнее. Девушки научились хорошо разговаривать по-русски, стали исполнительными и аккуратными — просто не узнать. Особенно выросла младшая сестра Аня. Она горячо пристрастилась к чтению художественной литературы.
Полагаю, что помог ей в этом я. Тогда еще у нас была маленькая библиотека — всего один шкаф. Я прочел почти все. Каждый раз предлагал и остальным прочесть. Многие отказывались — некогда, мол. Так загружены.
Как-то я сказал Ане:
— Тут даже есть книга «Большой аргиш» Ошарова. Вроде ваши пуровские места описывает…
Ане книга понравилась. И пошло дело. Если в первые годы учебы Аня недостаточно прилежно выполняла домашние задания по литературе, то сейчас прочитывала и то, что пока еще не изучали.
— Аня, убери книгу с колен, не отвлекайся. Всему свое время, — стали делать ей учителя замечания на уроках.
Я улыбался.
Физику на нашем курсе преподавал сам директор Чудинов, совсем молодой человек, с институтской скамьи. Он часто оказывался занят неотложными хозяйственными делами — пристраивали училище на две комнаты. А потому иногда давал нам физические задачи для самостоятельного решения и выходил с урока:
— Пусть Истомин займет место педагога и вызывает поочередно к доске. А я пошел по делам.
Мы охотно соглашались. Когда вместо преподавателя свой брат-учащийся — свободнее на уроке.
Я чинно усаживался за учительский стол, раскрывал классный журнал и приступал к своеобразной педагогической практике. Как ни были мы еще молоды, но чувство товарищества, обретенное нами в совместной учебе и жизни, подсказывало нам разумное использование предоставленной самостоятельности. Больше всего у доски бывали те, кому труднее давалась физика. Случалось, что, решив все заданное, мы брались за дополнительные примеры. Однако всегда ухитрялись использовать часть самостоятельного урока на что-нибудь другое, вроде не очень шумного баловства или чтения интересной книги.
— Ванька, дай побыть и мне вместо педагога, — просил иногда на таких уроках Леня Киселев, пухлогубый, с темно-русой крючковатой челкой на высоком лбу. Я охотно уступал ему, да и другим свое место — ведь каждому из нас хотелось испытать себя в роли учителя.
— Ну, как вы тут занимаетесь? — внезапно заглядывал к нам в класс директор, красный с мороза. Быстренько проверив с нами самостоятельную работу, он обычно оставался довольным и снова уходил куда-то.
Интересными были для нас уроки музыки. Их ввели только в этом году. Нам предстояло изучить много, чтобы в недалекой школьной работе мы смогли проводить уроки пения. Преподавала нам музыку Валентина Александровна Луканина, жена Голисова. Это была невысокая женщина, черноглазая, остриженная коротко на мужской лад и казавшаяся очень молодой. Она сразу же сумела привить нам любовь к своим занятиям. В одном из классов училища стоял старый, но исправный рояль «Беккер». Там мы и проводили уроки музыки.
— Хороший слух у Киселева и Истомина. Да и девушки обладают музыкальным слухом, — похвалила однажды Валентина Александровна. — А вот Гоша Вануйто не улавливает мелодию. Придется ему потрудиться больше всех.
— Охо-хо… — искренне вздыхал Гоша и признавался: — Я и ненецкие-то песни пою все на один лад, лишь бы тянуть.
На дом задавали нам много по этому предмету. Долго вечерами просиживали мы по очереди за роялем. Гоша часто просил меня помочь, так как ноты читать я научился быстро. Ох и канителились же мы с ним. Пальцы у Гоши никак не хотели слушаться. Однажды он предложил мне:
— Возьми-ка линейку. Начну ошибаться — бей по пальцам.
— Я так ударю — совсем не будешь играть.
— А ты бей жалеючи…
Мы смеялись и готовили уроки этим палочным методом. Товарищ старательно тыкал одеревеневшими пальцами по клавишам, а я с линейкой настороже следил за его «игрой».
Немалую трудность представляло и изучение ненецкого языка. С нынешнего года письменность на языках народов Севера была переведена на русский алфавит. Много времени и сил пришлось тратить нам, чтобы перестроиться. Тем более что учебники по родному языку были пока прошлогодние, с латинскими буквами. Мы уже два года, а некоторые даже три, привыкли изображать латинскими буквами ненецкие звуки.
— Что за беда! — огорчался я, не в силах избавиться от помарок в тетради.
— Писали бы так, как привыкли, — рассуждала Шура Айваседа. — А то — переучивают вот…
— Совсем зря, — вторил Гоша.
— Нет, не зря, — старался убедить нас преподаватель Петр Емельянович, вернувшийся нынче с курсов переподготовки и ведущий у нас ненецкий язык.
По его словам, лучше «переучиваться» таким, как мы, пока еще немногим, чем сохранить для многих и многих других необходимость овладения сразу двумя алфавитами, когда можно писать по-ненецки и с помощью русского алфавита. Это, мол, облегчает и ускоряет овладение грамотой на родном языке.
Нам оставалось только согласиться, так как мы и сами понимали это.
В юбилейные дни
Еще в начале учебного года нам объявили, что будем готовиться отмечать в наступающем тридцать седьмом году 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина и пятилетие своего педагогического училища.
— У нас есть возможность для работы самодеятельных кружков, — подчеркнул директор на собрании. — Это позволит хорошо, интересно провести праздники, разумно и с пользой заполнить свободное от учебы время, выявит и разовьет ваши способности…
Кружков было создано много. Начали работать два литературных — ненецкий и русский. Ненецким руководил Петр Емельянович, русским — Алексей Евгеньевич.
«Вот хорошо, — радовался я. — Теперь по-настоящему займусь литературой».
В ненецком литературном кружке участников было немного — пять человек. Они, в основном, записывали и обрабатывали национальный фольклор — ненецкие и хантыйские сказки, предания, загадки.
— Жалко — нет Пети Янгасова, — искренне сожалел наш руководитель. — Сколько сказок он унес с собой…
Мы тоже тужили о нем.
Среди членов национального литкружка стали появляться начинающие поэты. Учащийся Ядне одним из первых выразил свои мысли стихами:
По-новому в тундре жизнь пошла. И одна у нас дорога: Эта дорога в Советы ведет, Эта дорога в колхозы ведет…Начал писать стихи на своем языке Илья Окатэтто и Костя Ненянг (не курчавый, а другой — новичок, рослый и статный парень). Я посещал занятия обоих кружков. В национальном занимались переводами — коллективно перевели сказки Пушкина «О попе и его работнике Балде», «О рыбаке и рыбке», а также небольшую пьесу «Шаман-обманщик». Сюжет ее вскоре был использован первым ненецким драматургом Иваном Федоровичем Ного в пьесе «Тадебя» («Шаман»).
В русском литературном кружке много и упорно трудились над созданием собственных стихов, рассказов, очерков, пусть пока и слабых во многих отношениях.
О чем писали кружковцы? О том, чем жила страна в это время, что волновало весь мир — гневные, искренние строки о войне в Испании, об угрозе фашизма, о трудовых успехах советских людей, о новой Конституции, о возрождающемся северном нашем крае. Я кроме нескольких стихов написал очерк об интересной судьбе Кости Ненянга — курчавого и рассказ, что было первыми моими пробами в прозе. В кружке мы обсуждали не только свои произведения, но и свои небольшие доклады по теории литературы.
Работали русский и зырянский хоровые кружки. Для последнего, по просьбе руководительницы Валентины Александровны, я перевел на зырянский много русских народных и современных песен.
Принимал я участие и в работе других самодеятельных кружков — рисования, фотографии, шахматного, драматического (как помощник режиссера) и даже струнного, наловчившись держать в кривых пальцах медиатор и научившись играть на домре. Многие удивлялись, да и я сам изумлялся порой — как это на все хватает времени и сил. Ведь я еще был и редактором стенной газеты, и членом комитета комсомола. Вставал я утром раньше всех в нашем интернате и ложился спать позже остальных, чтобы покорпеть над своими стихами и рисунками.
Не участвовал я только в спортивном кружке, завидуя своим друзьям. Работали лыжная, конькобежная и гимнастическая секции, в которых занималось более половины всех учащихся.
В морозный новогодний день мы провожали нашего лучшего спортсмена в далекий поход. В числе пяти отважных лыжников Ямала ему предстояло преодолеть путь от Салехарда до Омска. Две с лишним тысячи километров по тундре, тайге и степям. Это был Ласса Салиндер, тот самый, который новичком в педтехникуме долго не хотел расстаться со своей замусоленной одеждой, а после мытья в бане беспокоился — не будет ли мерзнуть. Сейчас же он был в белом свитере и синих лыжных шароварах — статный и плечистый, полный молодости и здоровья.
— Не подкачай, Ласса! — напутствовали его мы перед стартом возле окрисполкома, стоя среди сугробов на обочине улицы.
— Постараюсь! — махнул нам Ласса. — Вы тоже будьте стойкими в учебе и… — он показал лыжные палки.
— Будем! — последовал ответ.
Смелые лыжники Ямала с честью донесли рапорт о трудовых успехах тружеников Заполярья в областной центр. Вернулись они через месяц или чуть больше. Встречали их там же, у окрисполкома, торжественно и шумно с духовым оркестром под руководством Бориса Манна. Были плакаты, транспаранты и портреты наших героев. Портрет Лассы Салиндера был сделан мной с фотографии на белом полотне масляной сепией.
Ласса много и охотно рассказывал нам об увиденном в пути и снова стал усиленно заниматься спортом, мечтая:
— Вот дойти бы на лыжах от Салехарда до Москвы — это да-а!
…Наступили юбилейные даты. Мы были готовы хорошо отметить их. Если в начале работы литературных кружков мы публиковали свои литературные опыты в стенной газете училища «Ленин сахэрэвна» («По ленинскому пути»), то теперь мы выпускали еженедельно «Литературную витрину», в которой печатали все лучшее, что создавали члены обоих литературных кружков. Это давало возможность слышать постоянно отзывы о наших сочинениях всего коллектива училища и обязывало быть строже к себе.
Но нам стало казаться, что и этого мало. Тогда мы решили выпускать кроме «Литературной витрины» рукописный литературно-художественный и производственный журнал. Ему дали название «Ямал тату» («Искры Ямала»), предложенное членами ненецкого литературного кружка. Первый номер его мы и выпустили к юбилейным праздникам, осветив в нем кратко историю своего училища и снабдив фотографиями, а также опубликовали в нем помимо наших стихов и рассказов переводы произведений Пушкина.
Праздничные концерты порадовали всех. Хоровые коллективы выступили с песнями на слова Пушкина, исполнили очень хорошо «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин», а также много революционных, народных и современных песен.
Мы декламировали стихи А. С. Пушкина и свои. Выступал струнный оркестр. А национальный кукольный театр училища под руководством Петра Емельяновича порадовал всех постановкой сказки Пушкина «О попе и его работнике Балде».
Не подкачали и художники — на стенах длинного коридора было развешено более двух десятков акварельных и карандашных иллюстраций к пушкинским произведениям.
Самодеятельные коллективы педучилища часто выступали на сцене окружного Дома ненца, на рыбоконсервном комбинате в Салехарде, выезжали в ближайшие поселки и колхозы. Ездил однажды и я на лошади в деревню Лабытнанги за Обь вместе с ребятами. Они, конечно, шли туда и обратно на лыжах — всего-то двадцать километров. Мне было поручено провести на зырянском языке антирелигиозную беседу с местным населением, что я и сделал в помещении начальной школы. Потом наши учащиеся показали концерт — песни, декламации, пляски и поставили сцену из комедии известного зауральского коми писателя Виктора Савина «В раю» на коми языке.
Практические уроки
Приступив к изучению методик преподавания языков и арифметики, мы все чаще стали посещать уроки в начальных классах Салехардской средней школы. Училище наше находилось теперь как раз напротив нее, и это было весьма удобно, особенно для меня, хотя высокое крыльцо школы и лестницы на второй этаж я преодолевал с большим трудом.
От нас сейчас требовалась полная серьезность, и мы чинно сидели на уроках в первом или во втором классе, внимательно следя, как ведет урок учитель. Потом под руководством методиста устраивали собеседование по этим урокам.
Идя на практические занятия и возвращаясь с них, мы старались держать себя степенно, как и подобает людям на пороге самостоятельной работы. Но эта серьезность, видимо, иногда выглядела несколько забавной, поэтому часто можно было слышать иронические замечания в наш адрес со стороны младших учащихся.
— Подумаешь, учителя! — с насмешкой отзывался Федя Янгасов.
— Воображули! — добавлял юркий Захар Канев и дергал сзади Гошу Вануйто.
— Что за безобразие! Прошу слушаться! — пробовал возмущаться тот, но, как всегда, улыбался белозубо, и этим еще больше смешил.
А возле двери учительской стоял Алексей Евгеньевич и, привычно склонив на бок лысую голову, улыбался. Наверное, думалось ему: «Подтягиваются наши „первые ласточки“».
Но когда звенел звонок и к нам в класс входил наш уважаемый преподаватель, он видел совсем другое — мы кидали друг в друга влажную тряпку от классной доски.
— Ай-яй-яй!.. — укоризненно кивал Алексей Евгеньевич. — А я-то думал — вы уже учителя почти.
Мы сконфуженно умолкали и, тяжело дыша, спешно занимали свои места, приводя себя в порядок.
Однако и этот учебный год мы, старшекурсники, закончили успешно — все семеро перешли на последний, третий курс. Но перед экзаменами пережили тяжелую утрату. Ледоход на Оби закончился второго июня, а на реке Полуе не было еще и подвижки льда — он лежал сплошным полем, как зимой. Прибывшие с юга пароходы вынуждены были остановиться у Ангальского Мыса.
Чтобы ускорить ледоход на Полуе, провели взрывные работы на реке. Участвовали в этом под руководством работников окружкома комсомола и учащиеся педучилища во главе с Устином Вануйто. Работа была нелегкой и опасной. Вечер выдался ясный, но с холодным, пронизывающим ветром с Севера. К тому же трудились на ледяном просторе. Устин, как комсорг училища, старался быть на самых трудных участках, работал весь вечер без передышки, скинув с себя пальто. И не уберегся — заболел воспалением легких. Болезнь была скоротечной. Устин умер.
Это было новой тяжелой утратой в нашем коллективе. Схоронили одного из самых первых воспитанников училища, как и Петра Янгасова, со всеми почестями. Очень жаль было Устина, особенно нам, знавшим его несколько лет.
Большая честь
Наступило лето. Я в сопровождении Кости Ненянга (Никитича, а не курчавого) съездил в Омск за протезом. Дирекция дала нам деньги. Протез получил, но все равно не мог обойтись без костылей.
Обратным путем заехали ко мне в Мужи. Мой друг вскоре уехал в Салехард, а я еще задержался сколько-то времени. Потом забрал родного братишку Федю — тоже на учебу в училище, и вернулся в Салехард. Федю приняли в третий подготовительный класс.
В новом учебном году учащихся в нашем родном НПУ стало уже более двухсот человек. Занятия начались на пяти основных курсах (на двух первых, двух вторых и одном третьем) и трех подготовительных. Для нас этот учебный год был решающим, и мы с первых же дней приналегли на учебу. Но не отстранились и от общественной работы — приближался день выборов в Верховный Совет СССР, впервые согласно новой Советской Конституции. Большой всенародный праздник.
Мы стали готовиться к этому дню с осени — старательно изучили Конституцию, провозгласившую полное равноправие в государственной жизни всех наций и народностей страны, а также подробно знакомились с избирательным законом — «Положением о выборах». Конституция закрепила существование национальных округов Крайнего Севера. В Совете Национальностей малые народы участвуют в законодательной деятельности, в образовании высших органов Советского государства. Избирательный закон предусматривает представительство в Совете Национальностей каждого национального округа, независимо от численности населения.
Мы радовались и гадали:
— Значит, и от нашего национального округа будем выбирать депутата в Верховный Совет СССР.
— Интересно, кто же им будет?
— Из нашего бы училища кого-нибудь выдвинуть. Вот было бы здорово!
А вскоре так и получилось — кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР трудящимися округа был выдвинут наш товарищ Няруй Николай Тимофеевич, бывший батрак из Ямальской тундры. Вот уж мы ликовали! А для Николая это было совершенной неожиданностью — он выглядел рассеянным, видимо, от счастья, и стал задумчивым, меньше обычного улыбался. Ребята подшучивали над ним:
— Ну, Коля, будешь в Верховном Совете — не зазнайся, а то отзовем.
— И не пугайся, если заденет тебя кто нечаянно. Рассмешишь всю власть, — и норовили щекотнуть Няруя. Однако Николай оставался серьезным.
— Не балуйтесь. Вы же теперь избиратели.
— Возьмем да и не изберем тебя.
— Дело ваше, — с улыбкой отвечал Няруй.
Ребята обнимали его:
— Проголосуем за тебя. Изберем…
Работы прибавилось нам в предвыборное время. Многих учащихся назначили агитаторами. Нам, членам национального литературного кружка, было поручено перевести на ненецкий и хантыйский языки некоторые статьи из Конституции и выдержки из «Положения о выборах» для лозунгов, биографии кандидатов в депутаты, тексты избирательных бюллетеней, потому что избирательным законом гарантировано полное равноправие языков в избирательной кампании и печатание бюллетеней на родном языке. Переводы оказались нелегким делом, и мы много корпели над ними.
По просьбе редакции окружной газеты я вырезал клише на линолеуме с фотографии Николая Няруя. Сделать это без специальных инструментов, обычным перочинным ножичком, было непросто. Но лицо нашего кандидата, очень характерное, типично ненецкое, мне удалось изобразить. Клише использовали в печати. Я был рад этому. Пришлось мне также нарисовать сухой кистью на большом полотне портрет Няруя для избирательного участка в училище, как это сделала для других участков наша новая преподавательница рисования. А сколько пришлось написать лозунгов и на русском, и на ненецком, и на хантыйском языках!
И вот 12 декабря 1937 года — день выборов, всенародный праздник. Выборы прошли успешно, наш кандидат Николай Тимофеевич Няруй, представитель Ямала, «первая ласточка», был избран депутатом Верховного Совета СССР.
Мы были очень довольны.
Сплошная практика
О том, что мы старшекурсники, а не просто учащиеся, напоминали нам педагоги ежедневно при подходящем случае. В этом было не только их желание убедить нас в необходимости самого серьезного отношения к учебе в последнюю зиму, но и чувствовалась также их радость за результаты своего труда. Ведь мы выросли, изменились за эти годы. Эту перемену ощущали и понимали мы сами.
Взять хотя бы Аню Айваседа. Ее, оставшуюся с двумя сестрами сиротой после смерти родителей, привез в школу-интернат и нянчил, как родное дитя, Петр Емельянович Чемагин. Потом он помог ей и сестре Шуре поступить в Салехардский нацпедтехникум, куда направили его работать. А теперь эта ненецкая девочка-сирота была на пороге самостоятельной педагогической работы и со всей серьезностью и любовью составляла планы, готовила наглядные пособия, проводила первые в ее жизни практические уроки.
Вначале практику проходили поочередно в первом подготовительном классе педучилища. Учащиеся были великовозрастны, но изучали материал за начальную школу. Не совсем удобно чувствовали мы себя в роли учителя перед своими же товарищами, с которыми жили, ели, отдыхали вместе, а иногда и шалили. Случалось, сделаешь на практическом уроке кому-нибудь из них замечание, а он тебе по-дружески гримасу состроит. Или скажешь:
— А сейчас, дети, достаньте учебники.
«Дети» хихикают, и сам улыбаешься невольно. А то вдруг кто-нибудь из учащихся обратится к учителю-практиканту:
— Повтори, Леня, на какой странице открыть.
А Леня Киселев и забыл с непривычки, что он сейчас не просто Леня, а Леонид Филимонович.
Нелегко нам было привыкнуть к этому. Потом начали проводить практические уроки в начальных классах средней школы. Сколько же, бывало, приходилось сидеть нам над составлением урочных планов, изготовлением наглядных пособий. На нашем курсе, кроме меня, никто более или менее хорошо не рисовал, и товарищи часто просили меня сделать тот или иной рисунок на большом листе — наглядное пособие. До глубокой ночи просиживал я, возясь с листами бумаги, красками и кисточками.
Но как старательно ни готовились бы мы к практическим урокам, в чем-нибудь да сказывалась наша неопытность. Чаще всего не укладывались мы во время. Звонок на перемену заставал в момент объяснения нового материала, хотя мы и пользовались ручными или карманными часами своих педагогов. Бывало и наоборот: исполнишь все, предусмотренное урочным планом, а до звонка на перемену осталась еще уйма времени.
Когда вечером в учительской мы, с помощью наших педагогов, обсуждали и оценивали проведенные практические уроки, недостатки эти выявлялись особенно ярко. Чинно восседали мы при этом на мягких диванах рядом со своими наставниками, как равные уже с ними в какой-то степени люди. Однако кое-кому из нас приходилось слышать весьма не лестные отзывы о своих первых шагах на учительском поприще. Но я не помню, чтобы кто-нибудь из практикантов выражал сожаление по поводу избранной специальности. Видно, крепко уже была привита нам любовь к трудной, но благородной работе народного учителя.
На практике я работал в первом классе начальной базовой школы, находившейся у самой пристани. Ходить на занятия было далеко, особенно для меня. Вставал рано. С трудом держа кипу учебников и тетрадей, долго ковылял по всему Салехарду. Педучилище имело коней, но назначенный директором Борис Моисеевич Годисов почему-то не догадывался предложить мне транспорт, а я стеснялся заикнуться об этом.
Трудно было с непривычки при моих физических недостатках проводить занятия, особенно когда приходилось писать на доске. Учительница класса Мария Сергеевна иногда пыталась помочь мне, но это пуще смущало меня перед малышами. Я стал прибегать к помощи самих учеников при раздаче тетрадей, при письме на доске или демонстрации наглядных пособий. Дети охотно шли на это и даже на перемене норовили прийти мне на помощь в чем-нибудь.
— Правильно поступаешь. Прибегай к помощи учеников, — сказала мне однажды Мария Сергеевна. — Будь смекалистей, и дело пойдет.
Однако многое передумал я в эти решающие дни. Я держал экзамен не только на подготовленность и зрелость к учительской работе, но и на мою физическую возможность к данному труду.
«Правильно ли я все же поступил, столько лет учась на педагога? — размышлял я, придя с практических уроков и устало лежа на койке. — Может, лучше признаться, что эта работа тяжела для меня, инвалида, и не тратить зря времени на практику? Сдать теоретические экзамены и поехать учиться на кого-нибудь другого? Ведь мне так хотелось когда-то стать художником. И к литературному творчеству тянуло…»
Своими сомнениями я поделился как-то с Леней Киселевым.
— Что ты! — удивился он. — Тебе ли рисовать. Способный, энергичный. Привыкнешь, приспособишься к учительской работе. Поработаешь сколько-нибудь, а там уж и институт. Хоть художественный, хоть какой…
Я согласился с ним и был очень благодарен за веру в меня.
И вот экзамен.
В составе государственной экзаменационной комиссии была представительница из Омского облоно — пожилая полная женщина, а также заведующий Ямало-Ненецким окроно, директор Салехардской средней школы, директор и завуч нашего училища, представители еще каких-то организаций. Один из последних, тучный, с темно-русой бородкой мужчина, часто задавал экзаменуемому вопросы не по теме, прерывал ответ, сбивал с толку. Случилось такое и со мной.
По литературе устно мне достался билет, где требовалось рассказать о творчестве Маяковского и прочитать одно из его стихотворений. Я по собственному выбору начал декламировать отрывок из поэмы «Хорошо!». Когда я прочел строчки:
Жезлом правит, чтоб вправо шел. Пойду направо — очень хорошо!..мужчина с бородкой вдруг произнес: «Стоп!» Я перестал декламировать и уставился на него, не понимая, в чем дело. Алексей Евгеньевич и члены комиссии тоже повернули головы в его сторону.
— Что значат слова «чтоб вправо шел» и «пойду направо»? — подчеркнуто спросил он меня.
Я пожал плечами:
— Ну… вправо, значит, надо идти…
— Э-э, слишком упрощенно это, — почесал бородку член комиссии и, жмуря глаза, поучительно покачал карандашом в руке: — Тут другой смысл — хитрый намек. На что?
Я не понимал, о чем он толкует. Посмотрел на преподавателя. Ни о каких намеках в отношении этих слов не говорилось нам. Да и не читал я об этом нигде. Члены комиссии тоже недоуменно переглядывались, пожимая плечами; а мужчина с бородкой продолжал укоризненно:
— Не знаешь, оказывается, — и многозначительно заметил: — Здесь имеется в виду правый уклон… — Комиссия удивленно ухмыльнулась, кое-кто поморщился, шепча что-то соседу. Мне тоже хотелось хмыкнуть, но я воздержался. Меня вдруг осенило:
— Но Маяковский написал и «Левый марш». Выходит, это левый уклон?
Тут комиссия чуть не прыснула. А тучный мужчина кивнул:
— Да, Владимир Маяковский хоть и известный поэт, но был когда-то фигурист…
— Фитурист, — улыбаясь, поправил я его.
Члены комиссии зашевелились.
Представительница из облоно, сидя рядом со странным мужчиной, наклонилась к нему и прошептала что-то на ухо. Тот откинулся на спинку стула, вздохнул:
— Что ж, пусть продолжает…
Я прочитал отрывок из поэмы до конца.
По литературе, как и по другим предметам, я получил «отлично». А тучный мужчина с бородкой не присутствовал больше на наших экзаменах.
Самым трудным предметом нам казалась педагогика. По ней мы сдавали экзамены в последнюю очередь. У некоторых моих однокурсников годовая отметка по педагогике была посредственная, что давало повод опасаться, как бы кто «не завалился» на госэкзаменах. Видимо, для поднятия нашего духа преподаватель педагогики, он же директор педучилища, Борис Моисеевич объявил нам на консультации:
— Если все успешно сдадите последний экзамен, училище обеспечит вас билетами на спектакль «Коварство и любовь» в постановке областного театра, прибывшего к нам.
— А нельзя ли по два билета каждому, чтоб пригласить подругу или дружка. Нам немного — всего семь, — спросил Леня Киселев.
Я поддержал его предложение. Директор, улыбаясь, обещал подумать об этом. Добавил:
— Все зависит от вас…
Воодушевленные, мы с новыми силами начали готовиться к экзамену, и все выдержали его. В тот же вечер в окружном Доме ненца мы с великим интересом и волнением впервые смотрели игру настоящих артистов в классической трагедии. Рядом с нами сидели на галерке наши подруги и дружки — нам каждому дали по два билета бесплатно.
Выпускной вечер был праздником не только для нас семерых и нашего педагогического коллектива, но и для окружных руководящих органов. Салехардское педагогическое училище первым из двух специальных учебных заведений в округе (был еще недавно созданный оленеводческий техникум) выпускало своих «ласточек». Это ли не повод для торжества! Праздничные столы в одном из самых больших классов были заставлены всеми доступными в то время яствами и напитками. Гостей, конечно, было в несколько раз больше, чем выпускников. Зато чувствовали мы себя настоящими героями. Педагоги называли нас по имени и отчеству, к чему мы уже успели привыкнуть на практике. Однако никого из наших «подружек и дружков» сюда не допустили, что огорчило нас, потому что все они находились тут же рядом, в наших интернатах.
Директор педучилища зачитал приказ об окончании нами курса обучения. Там перечислялось, кто из выпускников, под каким номером получил диплом после года практической работы. Мой оказался первым. Это было очень приятно и радостно: я — первый из немногих настоящих и многих будущих воспитанников училища. Кроме того, в приказе указывалось, что мне дается право поехать на учебу в любой институт. И тут же вручили Почетные грамоты — кому за отличную и хорошую учебу, кому за активную общественную работу. Аплодировали нам горячо.
Я попросил слова и прочитал свой новый стих, написанный специально к этому торжеству. Он назывался «Первые ласточки»:
Над Ямалом небо сине, Солнца свет над тундрой стылой. Серебрятся рек разливы — Чешуей блестит вода. Золотой порой весенней Резвой стайкой легкокрылой Мы, семь ласточек счастливых, Улетаем из гнезда. Семь — немного, но чудесно — Это только начинанье. Первых ласточек пусть мало. А не горестно совсем: Ведь и в радуге небесной, И на северном сиянье Семь цветов всегда бывало, Как и дней в неделе семь…Дальше, как помнится, говорились в стихе слова благодарности Родине, партии, Советской власти за нашу светлую судьбу, за то, что мы, дети северян, бывших «туземцев-дикарей», получили специальность учителей и будем сами нести свет, знания в тундру, что мы никогда не забудем родное училище, наших воспитателей-педагогов и этот радостный, торжественный час. В заключение провозглашался тост за наших педагогов и родное НПУ.
Стихотворение было скороспелое, я сочинил его буквально к выпускному вечеру. Однако стих мой восприняли восторженно, дружными хлопками.
До самого утра были танцы под духовой оркестр, руководимый Борисом Манном и приглашенный из Дома ненца, что являлось тогда в Салехарде большой роскошью. А июльская северная ночь с незакатным солнцем выдалась тихой, теплой и такой очаровательной, словно и она радовалась вместе с нами.
О ПИСАТЕЛЕ И ЕГО ГЕРОЯХ
Н. Афанасьева Судьбы народные О прототипах романа «Живун»
Исторические документы эпохи Ивана III свидетельствуют, что коми, с древнейших времен заселявшие «Вычегду и Вымь, и Удору и Сысосо со всеми их месты», в XV веке начали перебираться через Уральские горы в Зауралье и оседать в бассейне реки Оби с ее многочисленными притоками. Вначале это были одиночные переселенцы — проводники русских отрядов, совершавших набеги на богатые пушниной зауральские земли. Так, наверняка известно, что во время похода князя Федора Курбского в 1484 году его проводниками были коми. Курбский разбил местных мансийских и татарских князей, взял в плен одного из них — мансийского князя Молдяна, а в следующем году в одном из древнейших поселений коми на Вычегде — в Усть-Выми — между Молдяном и Иваном III был подписан договор. В 1598 году вымский житель Василий Тарабукин вел экспедицию Дьякова.
Массовое переселение коми за Урал началось во второй половине XIX века. Коми бежали со своих родных мест в поисках куска хлеба, лучшей жизни и новых охотничьих и промысловых угодий. Но, убегая от многочисленных царских и воеводских поборов, они, как и аборигены этих мест — ненцы, ханты, манси, — попадали в кабалу к другим поработителям.
Нынче в низовьях Оби проживают многие из тех, чьи предки переселились сюда из районов Печоры и Ижмы. Так, в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого округа насчитывается до трех тысяч коми, в Березовском районе Ханты-Мансийского округа — две тысячи. Много коми в таком крупном населенном пункте, как Мужи. Здесь осели десятки потомков Каневых, Чупровых, Хозяиновых, Терентьевых, Артеевых, Филипповых, Ануфриевых, Семяшкиных, Истоминых.
Иван Григорьевич Истомин — один из потомков тех самых печорских переселенцев Истоминых.
Тяжелые условия заставили людей покинуть насиженные места, но уничтожить их память, язык, образ жизни — невозможно. Сменяющиеся поколения сохраняют эту память в своих генах, передающихся от дедов и прадедов. Вот эту-то народную основу так удачно и раскрыл И. Г. Истомин в романе «Живун», который не только нашел своих читателей, но и привлек внимание ученых.
В автобиографическом романе «Живун» отражен период после окончания гражданской войны, смутное и сложное время установления советской власти на Крайнем Севере.
Трудные двадцатые годы. На севере, в небольшом селе Мужи, зарождается новая жизнь. Люди поверили в нее и двинулись по дороге «к счастью», к созданию новой социалистической экономики.
Четыре зырянских семьи решили организовать рыболовную коммуну — парму. Это была попытка внедрить в быт северян коммунистические отношения. Очевидно, что это факт истории. Кто же были эти люди, с энтузиазмом взявшиеся строить новую жизнь?
Возглавил артель Варов-Гриш — романтик, верящий в идеалы революции. Варов-Гриш — натура незаурядная, яркая, едет он в Вотся-Горт с семьей — тремя детьми, Феврой, Илькой и Федюнькой, и женой Еленней.
Прототипы Варов-Гриша и Еленни — отец писателя Григорий Федулович Истомин и его мать Елена.
Григорий Федулович прожил долгую трудовую жизнь, занимался рыбалкой, охотой, Елена умерла рано от туберкулеза.
Февра — сестра писателя Февронья Григорьевна, в замужестве Рычкова, 1912 года рождения, всю жизнь провела в Мужах, работала пекарем-кондитером. Муж ее погиб на фронте, она сама похоронена на мужевском кладбище. Их дети живут в городе Ухте.
Илька — это сам Иван Григорьевич Истомин.
Брат Федюнька — Федор Григорьевич, 1921 года рождения. Когда началась война, он работал в Салехарде на пушной базе, откуда и был призван в действующую армию. На фронте был с первого года войны и до ее конца. Прошел от Сталинграда до Курской дуги, несколько раз был ранен и контужен. Демобилизовался в октябре 1945 года в звании сержанта. В семье хранятся благодарность от И. В. Сталина и награды. После войны Федор Григорьевич работал в селе Мужи заведующим отделом культуры Шурышкарского района. Умер в 1959 году.
Вторая семья, отправившаяся в Вотся-Горт, это Гажа-Эль (переводится буквально как пьяный мужик) и Сера-Марья. Их прообразами послужили Алексей Павлович и Васса Терентьевна Семяшкины, жившие в центре Мужей на берегу Оби. Их единственный сын уехал в Омск, там женился, но вскоре умер, детей у него не было.
Прототипами третьей пары — Мишки Караванщика и его жены Сандры — были Михаил Васильевич Конев и его супруга Мария. В отличие от персонажей романа они прожили счастливую жизнь. Жили сначала в Мужах, а потом в селе Азово Шурышкарского района. Скончались они в один день от болезни.
И четвертая семья, описанная в романе, это Сенька Германец и Гаддя-Парасся. Сенька Германец — вымышленный образ. Что касается Гадди-Парасси, то, создавая этот персонаж, автор использовал внешность Антонины Никитичны Чупровой.
В романе действуют и другие герои, изображая которых, автор имел в виду своих односельчан и родственников. Пранэ — это дядя писателя Панкрат, его дочь, Прасковья Панкратьевна, живет в селе Лопхари Шурышкарского района. Она воспитала восьмерых детей. В 1998 году ей исполнится 80 лет.
Председатель кооператива Петул-Вась — дядя Ивана Григорьевича, Василий Федулович Истомин. Его дочери Лиза и Анна живут в Салехарде.
В романе с большой симпатией выписан образ русского большевика Романа Ивановича, прозванного местными жителями Куш-Юром — «Гологоловым». Роман Иванович Иванов — бывший ссыльный, революционер. Описанная в романе история с горящей баржой случилась на самом деле.
Все люди, послужившие прототипами романа, прожили достойную трудовую жизнь, занимались крестьянской работой, держали лошадей, коров, овец, выращивали овощи, были рыбаками и охотниками. Сейчас их дети и внуки живут и трудятся, в основном, в Мужах. Они с благодарностью и почтением вспоминают замечательного писателя Ивана Григорьевича Истомина за его душевное отношение к землякам, за его книги о старательном и веселом промысловом народе.
Каждый год в день рождения Ивана Григорьевича встречаются его земляки в клубе или местном музее, вспоминают писателя и его книги, посвящают ему свои стихи, иные произведения и просто добрые слова.
Эту традицию ввела и поддерживает жительница Мужей Агния Степановна Дьячкова. Удивительна ее память о земляках — переселенцах из-за Урала. Она не только досконально знает судьбы прототипов «Живуна», но и изучает историю отдельных переселенческих семей, выстраивает их генеалогические древа, которые уходят к началу прошлого столетия.
Из воспоминаний Екатерины Светозаровны Албычевой
Мое детство, отрочество прошли в предвоенные годы в селе Мужи. С 1933-го по 1936 год мы с Иваном Григорьевичем вместе учились в школе. Он сидел на последней парте с краю, потому что ходил на костылях. Помню, что он не озорничал, не дергал девочек за косички. Его скромность ставили в пример всем нам. На переменах, не имея возможности участвовать в шумных играх, он писал что-то или читал и очень любил рисовать. Иван был первым художником в школе и уже тогда писал стихи, был редактором стенной газеты, которая выходила в два месяца один раз, а иной раз и почаще. К праздникам он всегда придумывал красочные, яркие заголовки, и все на переменах сразу же бежали к новому выпуску стенгазеты, с интересом ее прочитывали. К некоторым праздникам выпускали листовочки или плакаты, таким образом украшали школу. Мы, члены редколлегии, всегда ему помогали, а он был нашим руководителем.
Жили мы рядом, он жил тогда у своей сестры — Вассы Григорьевны Хозяиновой. После окончания семилетней школы наши пути разошлись, и мы уже не встречались. Но я интересовалась его дальнейшей судьбой и радовалась, что у него все складывается хорошо, с удовольствием читала его произведения.
Из воспоминаний вдовы писателя Анны Владимировны Истоминой
Сама-то я родилась в Челябинской области в деревне Рачеевка Усть-Уйского района. Говорят, что ее уже теперь и нет. А попала на север, как и многие в то время. Еще и второй класс не закончила, как в 1929 году родителей и всю семью сослали. Кулаки мы оказались. Хозяйство-то, конечно, и не бедно было: 4 лошади, 4 коровы, 20 овец. Но и работали, вечерние и утренние зори — все наши были. Пахали, пшеницу, рожь, овес выращивали. Немножко приторговывали, чтобы чем пахать было, да и семью одевать, кормить. Хотя к сладостям особо не приучены были.
Везли поэтапно. На станции Шумаха отца арестовали, увезли то ли в лагерь, то ли в тюрьму. Брата на лесозаготовки отправили. Меня, маму и сноху везли до Тобольска. Там с другими сосланными загрузили на баржу и отправили на Ямал. Сначала до Норей, до Надыма, а через два года обратно в поселок Хэ, что около Пуйко.
В Норях успела второй класс закончить, а в Хэ — четыре класса. Тогда уж мне было 16 лет.
Через четыре года отец вернулся, мы переехали в Салехард. Он ничего про себя не рассказывал, да и многие ссыльные ничего про себя не рассказывали… Так спокойней для семей было.
А о себе что рассказывать? Животы у всех болели, болели цингой, от скарлатины чуть не умерла, да бабушка вылечила — клюквенным соком примочки делала. Умирали люди здесь же, на барже. В Норях из домика в домик перегоняли. Да и какие это домики — лачуги заброшенные, сырые. Там же болото. По полу ходишь, а из-под него вода.
В Салехарде на комбинате в бараке жили, в комнатке — шесть человек: отец, мать, я, брат, сноха, дочка брата Катя. В пятнадцать лет она умерла от менингита. Опять же какое это было жилье на семью — 12–14 квадратных метров.
Отец был высокий, жилистый костлявый крестьянин, руки, как лопаты. Все мечтал и здесь о своем домике, хотя вернулся больной, кашлял, но продолжал работать в столярке. Все же с братом домик они построили, но отец вскоре и умер.
В июле сорок первого встретились с Иваном Григорьевичем. Я знала его еще по педучилищу. Все получилось обыденно. Шла по тротуару, он сидел около окна в доме, попросил зайти. Поговорили, да тут и осталась. Так судьбу себе выбрала. Зарегистрировались-то позднее, когда Эдик, Валя и Саша родились.
Как-то надо было жить, чтобы не умереть с голоду. Иван Григорьевич согласился учительствовать в глубинке, в хантыйской деревне Ямгорт. Я уж тогда не работала. Да и как работать, когда на тебе инвалид и дети. Иван Григорьевич еще в педучилище попросил, чтобы ему ногу отрезали. Мерзла она и не слушалась его, жаловался, что лишний груз только. В Омске заказали протез, но культя не потянула его. На костылях все же немного стал передвигаться Иван Григорьевич. А потом два раза паралич его ударял, так что и костыли уже не могли помочь. По дому или в туалет пришлось его на коврике возить.
В жизни-то свободы никакой и не видела. Вся забота — как день прожить, да чем накормить.
В том же Ямгорте: ни света, ни дорог. Жили при школе в комнате, где класс был. Печка для обогрева, а плиты не было. Пока топишь, умудряешься в самой топке обед сготовить. Если это человеческая жизнь — пусть так называется…
А дети, они как бы сами собой выросли. Для каждого отдельно времени шибко не находилось. Валя стала чертежницей, а Саша музыкантом. Тут такой момент помню. Как-то отец с Эдиком привезли гитару. Решили Вале подарить. Потренькала она — надоело. А Саша, ему тогда семь годиков было, как схватил гитару, так до сегодняшнего дня из рук ее не выпускает. Недавно в Америке со своим ансамблем побывал. Все же жизнь, конечно, у детей поинтересней стала.
Мы с Иваном Григорьевичем прожили 47 лет. Много это или мало? А никто, наверное, на это не ответит.
Из воспоминаний Елены Григорьевны Сусой, директора музея-квартиры Л. В. Лапцуя, друга и соратника И. Г. Истомина
С Иваном Григорьевичем Истоминым мы познакомились в 1952 году, и с тех пор зародилась дружба наших семей, которая могла бы продолжаться до сегодняшних дней, если бы Иван Григорьевич был жив. Поддерживаем связь с его младшим сыном, но встречи очень редко случаются.
Знакомство наше произошло, когда он работал редактором в газете «Красный Север». Было это так. Однажды, прочитав в газете стихотворение на ненецком языке, Леонид Васильевич Лапцуй обратился к Ивану Григорьевичу по поводу перевода своих стихов. С этого случая начался их творческий союз, и этот союз перерос в дружбу на всю жизнь. Иван Григорьевич рассказывал Леониду Васильевичу, как пишутся стихи, рассказы. Леонид Васильевич называл его своим «литературным отцом». Иван Григорьевич научил нас, как надо добиваться в жизни чего-то большего, стремиться не погибнуть на пути своем.
В 1959 году Иван Григорьевич переехал в Тюмень, где стал редактором Тюменского книжного издательства, занимаясь выпуском литературы на языках народов Севера. Ему трудно было проститься с родным краем, с тундрой, он жил с мыслями о ней, был в ней всей душой. Это видно, когда читаешь его стихи, написанные уже в Тюмени. В них мы встречаем прочувствованные слова, воспевающие и наши белые ночи, и оленьи упряжки…
Для нас всех Иван Григорьевич Истомин был настоящим мудрым дедом. Он всегда живет рядом с нами. О таких людях никогда не надо забывать.
Из воспоминаний Семена Николаевича Няруя, композитора, преподавателя Салехардского межокружного училища культуры и искусств
Об Иване Григорьевиче Истомине я знал еще со школьного возраста по рассказам моего отца. Они познакомились во время учебы в Салехардском педагогическом училище. А я впервые встретился с Иваном Григорьевичем у него дома в Тюмени, куда меня привел Г. А. Пуйко. До сих пор в моей памяти сохранились теплые слова Ивана Григорьевича о моем отце, он поделился со мной своими творческими планами. Во время этой встречи я исполнил свои песни. Бывая проездом в Тюмени, я всегда навещал Ивана Григорьевича. Наши встречи натолкнули меня на мысль написать песню о Салехарде, о тундре, которая страдает от ее нещадного освоения, про нефть и газ. С этой идеей я обратился к Ивану Григорьевичу. Благодаря нашему творческому союзу родилась песня «Салехард, Салехард».
Примечания
1
Каюр — проводник, погонщик оленей.
(обратно)2
Малица — одежда, в виде рубахи из оленьего меха шерстью внутрь.
(обратно)3
Гусь — одежда с капюшоном из оленьего меха шерстью наружу, надевается поверх малицы или парки.
(обратно)4
Хорей — шест, которым погоняют оленей.
(обратно)5
Кондовая тайга — конда — крепкий, плотный, здоровый лес.
(обратно)6
Урман — дремучий, необитаемый лес.
(обратно)7
Калданка — сшитая древесными корнями из трех тонких досок лодка. Донная часть долбленая.
(обратно)8
Тобоки — обувь из оленьих шкур мехом наружу.
(обратно)9
Гимга — большая плетеная рыболовная ловушка.
(обратно)10
Гажа — пьяница.
(обратно)11
Сор — заливной луг, залив.
(обратно)12
Салма — залив, губа.
(обратно)13
Сулея — винная бутылка, фляга.
(обратно)14
Юрок — здесь: связка, моток.
(обратно)15
Махан — мясо, конина.
(обратно)16
Зюзьга — вид ковша.
(обратно)17
Манчик — упряжной олень.
(обратно)18
Аргиш — олений обоз.
(обратно)19
Из зырянского фольклора (авт.).
(обратно)20
Каюк — речное грузовое судно.
(обратно)21
Дорогой мой дедушка Гал.
(обратно)
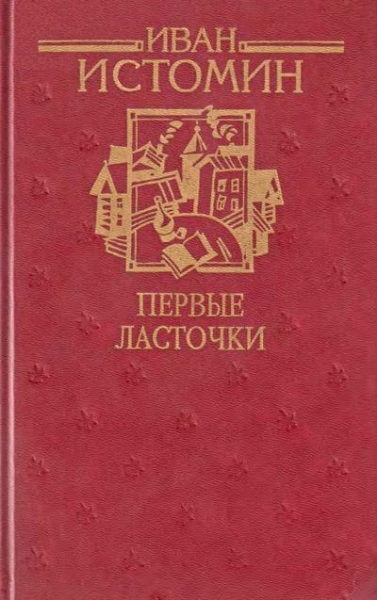

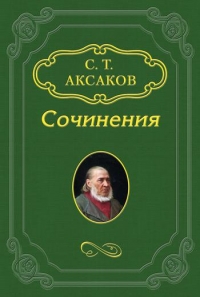
Комментарии к книге «Первые ласточки», Иван Григорьевич Истомин
Всего 0 комментариев