Алексей Феофилактович Писемский В водовороте Роман в трех частях
Часть первая
I
По солнечной стороне Невского проспекта, часов около трех пополудни, вместе с прочею толпою, проходили двое мужчин в шляпах и в пальто с дорогими бобровыми воротниками; оба пальто были сшиты из лучшего английского трико и имели самый модный фасон, но сидели они на этих двух господах совершенно различно. Один из них был благообразный, но с нерусскою физиономией, лет 35 мужчина; он, как видно, умел носить платье: везде, где следует, оно было на нем застегнуто, оправлено и вычищено до последней степени, и вообще правильностью своей фигуры он напоминал даже несколько модную картинку. Встретившийся им кавалергардский офицер, приложив руку к золотой каске своей и слегка мотнув головой, назвал этого господина: – «Здравствуйте, барон Мингер!» – «Bonjour!»[1], – отвечал тот с несколько немецким акцентом. На товарище барона, напротив того, пальто было скорее напялено, чем надето: оно как-то лезло на нем вверх, лацканы у него неуклюже топорщились, и из-под них виднелся поношенный кашне. Сам господин был высокого роста; руки и ноги у него огромные, выражение лица неглупое и очень честное; как бы для вящей противоположности с бароном, который был причесан и выбрит безукоризнейшим образом, господин этот носил довольно неряшливую бороду и вообще всей своей наружностью походил более на фермера, чем на джентльмена, имеющего возможность носить такие дорогие пальто. Несмотря на это, однако, барон, при всем своем старании высоко-прилично и даже гордо держать себя, в отношении товарища своего обнаруживал какое-то подчиненное положение. Перед одним из книжных магазинов высокий господин вдруг круто повернул и вошел в него; барон тоже не преминул последовать за ним. Высокий господин вынул из кармана записочку и стал по ней спрашивать книг; приказчик подал ему все, какие он желал, и все они оказались из области естествознания. Высокий господин принялся заглядывать в некоторые из них, при этом немножко морщился и делал недовольную мину.
– А что, – начал он каким-то неторопливым голосом и уставляя через очки глаза на приказчика, – немецкие подлинники можно достать?
– Можно-с, – отвечал тот.
– Достаньте, пожалуйста, – протянул опять высокий господин, – и пришлите все это в Морскую, в гостиницу «Париж», Григорову… князю Григорову, – прибавил он затем, как бы больше для точности.
Во все это время барон то смотрел на одну из вывешенных новых ландкарт, то с нетерпением взглядывал на своего товарища; ему, должно быть, ужасно было скучно, и вообще, как видно, он не особенно любил посещать хранилище знаний человеческих.
– Vous dinez aujourd'hui chez votre oncle?[2] – спросил он тотчас же, как они вышли из магазина.
– Д-да! – отвечал протяжно Григоров.
– Je viendrai aussi![3] – подхватил скороговоркой барон.
– Bien![4] – проговорил, как бы по механической привычке и совершенно чистым акцентом, князь. – Приходите! – поспешил он затем сейчас же прибавить.
Барон вскоре раскланялся с ним и ушел в один из переулков; князь же продолжал неторопливо шагать по Невскому. Мелькающие у него перед глазами дорогие магазины и проезжавшие по улицам разнообразные экипажи нисколько не возбуждали его внимания, и только на самом конце Невского он, как бы чем-то уколотый, остановился: к нему, как и к другим проходящим лицам, взывала жалобным голосом крошечная девочка, вся иззябшая и звонившая в треугольник. Князь проворно вынул свой бумажник, вытащил из него первую, какая попалась ему под руку, ассигнацию и подал ее девочке: это было пять рублей серебром. Крошка от удивления раскрыла на него свои большие глаза, но князь уже повернул в Морскую и скоро был далеко от нее. Затем он пришел в гостиницу «Париж» и вошел в большой и нарядный номер. Здесь он свое ценное пальто так же небрежно, как, вероятно, и надевал его, сбросил с себя и, сев на диван, закрыл глаза в утомлении. В таком положении князь просидел до тех пор, пока не раздался звонок в его номер: это принесли ему книги из магазина. Расплатившись за них, князь сейчас же принялся читать один из немецких подлинников, причем глаза его выражали то удовольствие от прочитываемого, то какое-то недоумение, как будто бы он не совсем ясно понимал то, что прочитывал. В этом чтении князь провел часа полтора, так что официант вошел и доложил ему:
– Карета, ваше сиятельство, приехала к вам.
– Ах… да… – протянул князь, и затем он лениво встал и начал переодеваться из широкого пальто во фрак.
* * *
Дядя князя Григорова, к которому он теперь ехал обедать, был действительный тайный советник Михайло Борисович Бахтулов и принадлежал к высшим сановникам. Почти семидесятилетний старик, с красивыми седыми волосами на висках, с несколько лукавой кошачьей физиономией и носивший из всех знаков отличия один только портрет покойного государя[5], осыпанный брильянтами, Михайло Борисович в молодости получил прекрасное, по тогдашнему времени, воспитание и с первых же шагов на службе быстро пошел вперед. Трудно, конечно, утверждать, чтобы Михайло Борисович имел собственно какие-либо высшие государственные способности, но зато положительно можно оказать, что он владел необыкновенным даром (качество, весьма нужное для государственных людей) – даром умно и тонко льстить. Лицо, которому он желал или находил нужным льстить, никогда не чувствовало, что он ему льстит; напротив того, все слова его казались ему дышащими правдою и даже некоторою строгостью. Однажды – это было, когда Михайле Борисовичу стукнуло уже за шестьдесят – перед началом одной духовной церемонии кто-то заметил ему: «Ваше высокопревосходительство, вы бы изволили сесть, пока служба не началась»… – «Мой милый друг, – отвечал он громко и потрепав ласково говорившего по плечу, – из бесконечного моего уважения к богу я с детства сделал привычку никогда в церкви не садиться»… Михайло Борисович как будто бы богу даже желал льстить и хотел в храме его быть приятным ему… Любимец трех государей[6], Михайло Борисович в прежнее суровое время как-то двоился: в кабинете своем он был друг ученых и литераторов и говорил в известном тоне, а в государственной деятельности своей все старался свести на почву законов, которые он знал от доски до доски наизусть и с этой стороны, по общему мнению, был непреоборим. В настоящее же время Михайло Борисович был одинаков как у себя дома, так и на службе, и дома даже консервативнее, и некоторым своим близким друзьям на ушко говаривал: – «Слишком распускают, слишком!». Детей Михайло Борисович не имел и жил с своей старушкой-женой в довольно скромной, по его положению, квартире: он любил власть, но не любил роскоши. Марья Васильевна Бахтулова (родная тетка князя Григорова) была кротчайшее и добрейшее существо. Племянника своего она обожала; когда он был в лицее[7], она беспрестанно брала его к себе на праздники, умывала, причесывала, целовала, закармливала сластями, наделяла деньгами и потом, что было совершенно противно ее правилам и понятиям, способствовала его рановременному браку с одной весьма небогатой девушкой. Сам Михайло Борисович как-то игнорировал племянника и смотрел на него чересчур свысока: он вообще весь род князей Григоровых, судя по супруге своей, считал не совсем умным. Племянник, в свою очередь, не отдавая себе отчета, за что именно, ненавидел дядю.
За полчаса до обеда Михайло Борисович сидел в своей гостиной с толстым, короткошейным генералом, который своими отвисшими брылями[8] и приплюснутым носом напоминал отчасти бульдога, но только не с глупыми, большими, кровавыми глазами, а с маленькими, серыми, ушедшими внутрь под брови и блистающими необыкновенно умным, проницающим человеческим блеском. Кроткая Марья Васильевна была тут же: она сидела и мечтала, что вот скоро придет ее Гриша (князь Григоров тем, что пребывал в Петербурге около месяца, доставлял тетке бесконечное блаженство). «Он придет, она налюбуется на него, наглядится, – глаза у него ужасно похожи на глаза ее покойного брата. Конечно, брат ее был больше комильфо[9]. О, он был истинный петиметр»[10]… – и лицо Марьи Васильевны принимало при этом несколько гордое выражение. «У Гриши манеры хуже, но зато он ученый!.. Философ!» – утешала себя и в этом отношении старушка. Михайло Борисович был на этот раз в несколько недовольном и как бы неловком положении, а толстый генерал почти что в озлобленном. Он сейчас хлопотал было оплести Михайла Борисовича по одному делу, но тот догадался и уперся. Генерал очень хорошо знал, что в прежнее, более суровое время Михайло Борисович не стал бы ему очень противодействовать и даже привел бы, вероятно, статью закона, подтверждающую желание генерала, а теперь… «О, старая лисица, совсем перекинулся на другую сторону!..» – думал он со скрежетом зубов и готов был растерзать Михайла Борисовича на кусочки, а между тем должен был ограничиваться только тем, что сидел и недовольно пыхтел: для некоторых темпераментов подобное положение ужасно! Наконец, вошел лакей и доложил:
– Барон Мингер.
– Проси! – сказал Михайло Борисович с явным удовольствием на лице.
Глаза старушки Бахтуловой тоже заблистали еще более добрым чувством. Барон вошел. Во фраке и в туго накрахмаленном белье он стал походить еще более на журнальную картинку. Прежде всех он поклонился Михайле Борисовичу, который протянул ему руку хоть несколько и фамильярно, но в то же время с тем добрым выражением, с каким обыкновенно начальники встречают своих любимых подчиненных.
Барон еще на школьной скамейке подружился с князем Григоровым, познакомился через него с Бахтуловым, поступил к тому прямо на службу по выходе из заведения и был теперь один из самых близких домашних людей Михайла Борисовича. Служебная карьера через это открывалась барону великолепнейшая.
Толстому генералу он тоже поклонился довольно низко, но тот в ответ на это едва мотнул ему головой. После того барон подошел к Марье Васильевне, поцеловал у нее руку и сел около нее.
– Что, видели вы сегодня Гришу? – спросила она его ласково.
– Видел. Он сейчас будет сюда, – отвечал барон почтительным голосом.
– Да, вероятно, – подтвердила старушка с удовольствием.
Это говорили они о князе Григорове, который и сам вскоре показался в гостиной всей своей громадной фигурой. Он был тоже во фраке и от этого казался еще выше ростом и еще неуклюжее. Он как-то притворно-радушно поклонился дяде, взглянул на генерала и не поклонился ему; улыбнулся тетке (и улыбка его в этом случае была гораздо добрее и искреннее), а потом, кивнув головой небрежно барону, уселся на один из отдаленных диванов, и лицо его вслед за тем приняло скучающее и недовольное выражение, так что Марья Васильевна не преминула спросить его встревоженным голосом:
– Ты здоров, Гриша?
– Здоров! – отвечал он ей, мрачно смотря себе на руки.
Старый генерал вскоре поднялся. Он совершенно казенным образом наклонил перед хозяйкой свой стан, а Михайле Борисовичу, стоя к нему боком и не поворачиваясь, протянул руку, которую тот с своей стороны крепко пожал и пошел проводить генерала до половины залы.
Возвратясь оттуда, Михайло Борисович уселся на прежнее свое место и, кажется, был очень доволен, что остался между своими.
– Удивительные есть люди! – произнес он как бы больше сам с собой.
Барон при этом обратился весь во внимание.
– Вы, может быть, знаете, – отнесся уже прямо к нему Михайло Борисович, – что одно известное лицо желает продать свой дом в казну.
Барон наклонением головы своей изъяснил, что он знает это.
– А этот господин, – продолжал Михайло Борисович, мотнув головой на дверь и явно разумея под именем господина ушедшего генерала, – желает получить известное место, и между ними произошло, вероятно, такого рода facio ut facias[11]: «вы-де схлопочите мне место, а я у вас куплю за это дом в мое ведомство»… А? – заключил Михайло Борисович, устремляя на барона смеющийся взгляд, а тот при этом сейчас же потупился, как будто бы ему даже совестно было слушать подобные вещи.
– Ну, и черт их там дери! – снова продолжал Михайло Борисович, нахмуривая свои брови. – Делали бы сами, как хотят, так нет-с!.. Нет!.. – даже взвизгнул он. – Сегодня этот господин приезжает ко мне и прямо просит, чтобы я вотировал[12] за подобное предположение. «Яков Петрович! – говорю я. – Я всегда был против всякого рода казенных фабрик, заводов, домов; а в настоящее время, когда мы начинаем немножко освобождаться от этого, я вотировать за такое предположение просто считаю для себя делом законопреступным».
– Это совершенно справедливо-с, – подхватил вежливо барон, – но дом все-таки, вероятно, будет куплен, и господин этот получит желаемое место.
Михайло Борисович на довольно продолжительное время пожал своими плечами.
– Очень может быть, по французской поговорке: будь жаден, как кошка, и ты в жизни получишь вдвое больше против того, чего стоишь! – произнес он не без грусти.
Пока происходил этот разговор, Марья Васильевна, видя, что барон, начав говорить с Михайлом Борисовичем, как бы случайно встал перед ним на ноги, воспользовалась этим и села рядом с племянником.
– Завтра едешь? – спросила она его ласковым голосом.
– Завтра, ma tante[13], – отвечал тот, держа по-прежнему голову в грустно-наклоненном положении.
– Жаль мне, друг мой, очень жаль с тобой расстаться, – продолжала старушка: на глазах ее уже появились слезы.
– Что делать, ma tante, – отвечал князь; видимо, что ему в одно и то же время жалко и скучно было слушать тетку.
– Нынешней весной, если только Михайло Борисович не увезет меня за границу, непременно приеду к вам в Москву, непременно!.. – заключила она и, желая даже как бы физически поласкать племянника, свою маленькую и сморщенную ручку положила на его жилистую и покрытую волосами ручищу.
– Приезжайте, – отвечал он, а сам при этом слегка старался высвободить свою руку из-под руки тетки.
– Пойдемте, однако, обедать! – воскликнул Михайло Борисович.
Все пошли.
Когда первое чувство голода было удовлетворено, между Михайлом Борисовичем и бароном снова начался разговор и по-прежнему о том же генерале.
– Мне говорил один очень хорошо знающий его человек, – начал барон, потупляясь и слегка дотрогиваясь своими красивыми, длинными руками до серебряных черенков вилки и ножа (голос барона был при этом как бы несколько нерешителен, может быть, потому, что высокопоставленные лица иногда не любят, чтобы низшие лица резко выражались о других высокопоставленных лицах), – что он вовсе не так умен, как об нем обыкновенно говорят.
– Не знаю-с, насколько он умен! – резко отвечал Михайло Борисович, выпивая при этом свою обычную рюмку портвейну; в сущности он очень хорошо знал, что генерал был умен, но только тот всегда подавлял его своей аляповатой и действительно уж ни перед чем не останавливающейся натурой, а потому Михайло Борисович издавна его ненавидел.
– И что вся его энергия, – продолжал барон несколько уже посмелее, – ограничивается тем, что он муштрует и гонит подчиненных своих и на костях их, так сказать, зиждет свою славу.
Михайло Борисович усмехнулся.
– Есть это немножко!.. Любим мы из себя представить чисто метущую метлу… По-моему-с, – продолжал он, откидываясь на задок кресел и, видимо, приготовляясь сказать довольно длинную речь, – я чиновника долго к себе не возьму, не узнав в нем прежде человека; но, раз взяв его, я не буду считать его пешкой, которую можно и переставить и вышвырнуть как угодно.
– Вы, ваше высокопревосходительство, такой начальник, что…
И барон не докончил даже своей мысли от полноты чувств.
Михайло Борисович тоже на этот раз как-то более обыкновенного расчувствовался.
– Не знаю-с, какой я начальник! – произнес он голосом, полным некоторой торжественности. – Но знаю, что состав моих чиновников по своим умственным и нравственным качествам, конечно, есть лучший в Петербурге…
– Служить у вас, ваше высокопревосходительство… – начал барон и снова не докончил.
На этот раз его перебил князь Григоров, который в продолжение всего обеда хмурился, тупился, смотрел себе в тарелку и, наконец, как бы не утерпев, произнес на всю залу:
– Я бы никогда не мог служить у начальника, который меня любит!
Барон и Михайло Борисович вопросительно взглянули на него.
– Между начальником и подчиненным должны быть единственные отношения: начальник должен строго требовать от подчиненного исполнения его обязанностей, а тот должен строго исполнять их.
– Да это так обыкновенно и бывает!.. – возразил Михайло Борисович.
– Нет, не так-с! – продолжал князь, краснея в лице. – Любимцы у нас не столько служат, сколько услуживают женам, дочерям, любовницам начальников…
Марья Васильевна обмерла от страха. Слова племянника были слишком дерзки, потому что барон именно и оказывал Михайле Борисовичу некоторые услуги по поводу одной его старческой и, разумеется, чисто физической привязанности на стороне: он эту привязанность сопровождал в театр, на гулянье, и вообще даже несколько надзирал за ней. Старушка все это очень хорошо знала и от всей души прощала мужу и барону.
Михайло Борисович, в свою очередь, сильно рассердился на племянника.
– То, что ты говоришь, нисколько не относится к нашему разговору, – произнес он, едва сдерживая себя.
Барон старался придать себе вид, что он нисколько не понял намека Григорова.
– Я не к вашему разговору, а так сказал! – отвечал тот, опять уже потупляясь в тарелку.
– Да, ты это так сказал! – произнес насмешливо Михайло Борисович.
– Так сказал-с! – повторил Григоров кротко.
Марья Васильевна отошла душою.
Обед вскоре после того кончился. Князь, встав из-за стола, взялся за шляпу и стал прощаться с дядей.
– А курить? – спросил его тот лаконически.
– Не хочу-с! – отвечал ему князь тоже лаконически.
– Ну, как знаешь! – произнес Михайло Борисович.
В голосе старика невольно слышалась еще не остывшая досада; затем он, мотнув пригласительно барону головой, ушел с ним в кабинет.
С Марьей Васильевной князю не так скоро удалось проститься. Она непременно заставила его зайти к ней в спальню; здесь она из дорогой божницы вынула деревянный крестик и подала его князю.
– Отвези это княгинюшке от меня и скажи ей, чтобы она сейчас же надела его: это с Геннадия преподобного, – непременно будут дети.
Князь не без удивления взглянул на тетку, но крестик, однако, взял.
– Что смотришь? Это не для тебя, а для княгинюшки, которая у тебя умная и добрая… гораздо лучше тебя!.. – говорила старушка.
Князь стал у ней на прощанье целовать руку.
– И поверь ты, друг мой, – продолжала Марья Васильевна каким-то уже строгим и внушительным голосом, – пока ты не будешь веровать в бога, никогда и ни в чем тебе не будет счастья в жизни.
– Я верую, тетушка, – проговорил князь.
– Ну! – возразила старушка и затем, перекрестив племянника, отпустила его, наконец.
В кабинете между тем тоже шел разговор о князе Григорове.
– Я пойду, однако, прощусь с князем, – проговорил было барон, закуривая очень хорошую сигару, которую предложил ему Михайло Борисович.
– Оставьте его! – произнес тот тем же досадливым голосом.
Барон остался и не пошел.
– Странный человек – князь! – сказал он после короткого молчания.
– Просто дурак! – решил Михайло Борисович. – Хорошую жизнь ведет: не служит, ни делами своими не занимается, а ездит только из Москвы в Петербург и из Петербурга в Москву.
– Да, жизнь не очень деятельная! – заметил с улыбкою барон.
– Дурак! – сказал еще раз Михайло Борисович; он никогда еще так резко не отзывался о племяннике: тот очень рассердил его последним замечанием своим.
Князь в это время шагал по Невскому. Карету он обыкновенно всегда отпускал и ездил в ней только туда, куда ему надобно было очень чистым и незагрязненным явиться. Чем ближе он подходил к своей гостинице, тем быстрее шел и, придя к себе в номер, сейчас же принялся писать, как бы спеша передать волновавшие его чувствования.
«Добрая Елена Николаевна! – писал он скорым и малоразборчивым почерком. – Несмотря на то, что через какие-нибудь полтора дня я сам возвращусь в Москву, мне все-таки хочется письменно побеседовать с вами – доказательство, как мне необходимо и дорого ваше сообщество. Никогда еще так не возмущал и не истерзывал меня официальный и чиновничий Петербург, как в нынешний приезд мой. Какая огромная привычка выработана у всех этих господ важничать, и какая под всем этим лежит пустота и даже мелочность и ничтожность характеров!.. Мне больше всех из них противны их лучшие люди, их передовые; и для этого-то сорта людей (кровью сердце обливается при этой мысли) отец готовил меня, а между тем он был, сколько я помню, человек не глупый, любил меня и, конечно, желал мне добра. Понимая, вероятно, что в лицее меня ничему порядочному не научат, он в то же время знал, что мне оттуда дадут хороший чин и хорошее место, а в России чиновничество до такой степени все заело, в такой мере покойнее, прочнее всего, что родители обыкновенно лучше предпочитают убить, недоразвить в детях своих человека, но только чтобы сделать из них чиновника. В университетах наших очень плохо учат, но там есть какой-то научный запах; там человек, по крайней мере, может усвоить некоторые приемы, как потом образовать самого себя; но у нас и того не было. Светские манеры, немножко музыки, немножко разврата на петербургский лад и, наконец, бессмысленное либеральничанье, что, впрочем, есть еще самое лучшее, что преподано нам там. Грустней всего, что с таким небогатым умственным и нравственным запасом пришлось жить и действовать в очень трудное и переходное время. Вы совершенно справедливо как-то раз говорили, что нынче не только у нас, но и в европейском обществе, человеку, для того, чтобы он был не совершеннейший пошляк и поступал хоть сколько-нибудь честно и целесообразно, приходится многое самому изучить и узнать. То, что вошло в нас посредством уха и указки из воспитывающей нас среды, видимо, никуда не годится. Но чем заменить все это, что поставить вместо этого? – Естествознание, мне кажется, лучше всего может дать ответ в этом случае, потому что лучше всего может познакомить человека с самим собой; ибо он, что бы там ни говорили, прежде всего животное. Высшие его потребности, смею думать, – роскошь, без которой он может и обойтись; доказательством служат дикари, у которых духовного только и есть, что религия да кой-какие песни. Итак, моя милая Елена Николаевна, примемтесь за естествознание. Я накупил по этому отделу книг, и мы с вами будем вместе читать их: я заранее прихожу в восторг, представляя себе эти прекрасные вечера, которые мы будем с вами посвящать на общую нашу работу в вашей гостиной. Кстати, по поводу вашей гостиной, о вашей матушке: почему вас могло так возмутить письмо ее ко мне, которым она просит прислать ей из Петербурга недорогой меховой салоп? Во-первых, в Петербурге действительно меха лучше и дешевле; во-вторых, мне кажется, мы настолько добрые и хорошие знакомые, что церемониться нам в подобных вещах не следует, и смею вас заверить, что даже самые огромные денежные одолжения, по существу своему, есть в то же время самые дешевые и ничтожные и, конечно, никогда не могут окупить тех высоконравственных наслаждений, которые иногда люди дают друг другу и которые я в такой полноте встретил для себя в вашем семействе.
За ваши посещения жены моей приношу мою искреннюю благодарность. О, как вы глубоко подметили, что она от своего доброго, детского взгляда на жизнь неизлечима. Десять лет я будил и бужу в ней взгляд взрослой женщины и не могу добудиться, и это одна из трагических сторон моей жизни.
Ваш друг,
Григоров.
186 – года, – января».
II
Князь Григоров, по происхождению своему, принадлежал к весьма старинному и чисто русскому княжескому роду. Родство у него было именитое: не говоря уже о Михайле Борисовиче Бахтулове, два дяди у него были генерал-адъютантами, три тетки статс-дамами, две – три кузины дамами-патронессами. Всеми этими связями князь нисколько не воспользовался для составления себе хоть какой-нибудь служебной карьеры. Он не был даже камер-юнкер и служил всего года два мировым посредником, и то в самом начале их существования. Жил он в настоящее время постоянно в Москве, в огромном барском доме с двумя каменными крылами для прислуги. Стеклянная дверь вела с подъезда в сени, из которых в бельэтаж шла мраморная лестница с мраморными статуями по бокам. Зала, гостиная и кабинет были полны редкостями и драгоценностями; все это досталось князю от деда и от отца, но сам он весьма мало обращал внимания на все эти сокровища искусств: не древний и не художественный мир волновал его душу и сердце, а, напротив того, мир современный и социальный!
В один из холоднейших и ненастнейших московских дней к дому князя подходила молодая, стройная девушка, брюнетка, с очень красивыми, выразительными, умными чертами лица. Она очень аккуратно и несколько на мужской лад была одета и, как видно, привыкла ходить пешком. Несмотря на слепящую вьюгу и холод, она шла смело и твердо, и только подойдя к подъезду княжеского дома, как бы несколько смутилась.
– Князь дома? – спросила она, впрочем, довольно спокойным голосом отворившего ей дверь швейцара.
– Никак нет-с! – почти крикнул ей тот в ответ.
В больших черных глазах девушки явно отразился испуг.
– Как же нет? Второй уж час! – произнесла она, вынимая из-за пояса серебряные часы и показывая их швейцару.
– И княгиня тоже очень беспокоится, – отвечал тот.
– Поезд обыкновенно приходит в десять часов! – продолжала девушка почти гневным тоном.
– Они так всегда прежде и приезжали-с… Карета еще в восемь часов за ними уехала, – пояснил ей швейцар.
Девушка постояла еще некоторое время в недоумении.
– Ты княгине ничего не говори, что я заходила, я не пройду к ней; мне пора по делу! – произнесла девушка опять каким-то повелительным тоном и сама пошла.
Швейцар ничего ей не ответил и только громко захлопнул за ней дверь.
В это время на верху лестницы показалась хорошенькая собой горничная.
– Княгиня спрашивает, кто звонил? – крикнула она оттуда.
– Барышня эта!.. – отвечал швейцар.
– Какая барышня?
– Да как она, проклятая, и забыл… Елена Николаевна, что ли?!
– А, Жиглинская! – произнесла горничная и снова побежала в комнаты.
Девушка между тем быстро прошла несколько переулков, наконец, щеки у ней разгорелись, дыхание стало перехватываться: видимо, что она страшно устала. Приостановившись на минуту, она вынула из кармана загрязненный кошелек и, ощупав в нем несколько денег, подкликнула к себе извозчика. «На Петербургскую железную дорогу!» – сказала она ему и затем, не дождавшись даже ответа, села к нему в сани и велела как можно проворнее себя везти: нетерпение отражалось во всех чертах лица ее. В вокзале железной дороги она обратилась к первому попавшемуся ей навстречу кондуктору, только что, видно, приехавшему с каким-нибудь поездом и сильно перезябшему.
– Петербургский почтовый поезд не пришел еще? – спросила она.
– Нет еще! – отвечал ей тот сердито.
– Что же, несчастье, что ли, с ним случилось? – спрашивала девушка.
– А бог его знает… Может, и несчастье случилось, – говорил кондуктор, уходя от нее в одну из дверей.
Девушка осталась на месте бледная и заметно недоумевающая, что ей предпринять.
В это время по вокзалу проходил небольшого роста инженер, но в внушительнейшей ильковой шинели.
– Говорят, с петербургским поездом несчастие случилось? – обратилась к нему стремительно девушка.
Инженер открыл на нее удивленные глаза.
– Какое-с? – спросил он ее не совсем спокойным голосом.
– Он не приходит; теперь уже скоро два часа… он должен быть в десять часов.
– Да, но, вероятно, он от метели запоздал, – возразил инженер. – Бабаев! – крикнул он стоявшему у дверей сторожу. – Не видать поезда?
– Идет, ваше высокоблагородие! – отвечал сторож.
– Ну вот видите, идет!.. Пришел благополучно, – отнесся инженер любезно к девушке.
Та при этом вся вспыхнула радостью.
– Позвольте мне туда пройти на платформу: я брата жду! – проговорила она как-то стремительно.
– Сделайте одолжение. Бабаев! Пропусти госпожу эту! – приказал инженер тому же сторожу, который приотворил дверь, и девушка сейчас же юркнула в нее; но, выйдя на платформу и как бы сообразив что-то такое, она быстро отошла от дверей и стала за стоявшую в стороне толпу баб и мужиков. Поезд наконец подошел, девушка еще старательнее спряталась за толпу. Стали выходить пассажиры, в числе которых из 1-го класса вышел и князь Григоров, нагруженный пледами и саквояжами, с измятым, невыспавшимся лицом. Яркий румянец покрыл при этом щеки девушки. Князь лениво подал встретившему его лакею билет от багажа, а сам прошел на подъезд. Там жандарм выкликнул ему его экипаж, в который он сел и тотчас же уехал. Девушка тоже вскоре вышла из-за своей засады и, очутившись на улице, она думала было сначала нанять извозчика, но – увы! – в грязном кошельке ее не оказалось ни копейки. Девушка при этом усмехнулась, покачала головой и пошла пешком. После трехверстной, по крайней мере, ходьбы она вошла наконец в один деревянный дом, над окнами которого прибита была вывеска с надписью: «Бесплатная школа».
Князь, ехав в своей покойной карете, заметно был под влиянием не совсем веселых мыслей: более месяца он не видался с женою, но предстоящее свидание вовсе, кажется, не занимало и не интересовало его; а между тем князь женился по страсти. Еще бывши юным, нескладным, застенчивым школьником, он, в нескладном казенном мундире и в безобразных белых перчатках, которых никогда не мог прибрать по руке, ездил на Васильевский остров к некоему из немцев горному генералу, у которого была жена и с полдюжины прехорошеньких собой дочерей. Семейство это было небогатое, но чрезвычайно музыкальное. Учить музыке детей родители старались из всех сил, и старшая дочь их, m-lle Элиза, девушка лет восемнадцати, необыкновенно миловидная из себя, с голубыми, как небо, глазами и с льноподобными, густыми волосами, играла очень хорошо на фортепьянах. С семейством этим познакомил князя барон, который хоть и был с самых юных лет весь соткан из практических стремлений, но музыку любил и даже сам недурно играл на фортепьянах. Эта музыкальность барона собственно и послужила первоначальным основанием его школьной дружбе с князем, который в то время приходил в бешеный восторг от итальянской оперы и от музыки вообще. По будням князь обыкновенно наслаждался игрою друга, а по праздникам – игрою m-lle Элизы, которая, впрочем, в то время талант свой по преимуществу рассыпала перед бывшими у них в доме молодыми горными офицерами, ухаживавшими за ней всем гуртом. Наши школьники тоже воспылали к ней страстью, с тою только разницею, что барон всякий раз, как оставался с Элизой вдвоем, делал ей глазки и намекая ей даже словами о своих чувствах; но князь никогда почти ни о чем с ней не говорил и только слушал ее игру на фортепьянах с понуренной головой и вздыхал при этом; зато князь очень много говорил о своей страсти к Элизе барону, и тот выслушивал его, как бы сам в этом случае нисколько не повинный. Все это, впрочем, разрешилось тем, что князь, кончив курс и будучи полным распорядителем самого себя и своего громадного состояния, – так как отец и мать его уже умерли, – на другой же день по выходе из лицея отправился к добрейшей тетке своей Марье Васильевне, стал перед ней на колени, признался ей в любви своей к Элизе и умолял ее немедля ехать и сделать от него предложение. Старушка сначала в ужас пришла от этой новости; потом тщилась отговорить безумца от его намерения, убеждая его тем, что он очень еще молод и не знает ни себя, ни своего сердца, и, наконец, по крайней мере, себя хотела выгородить в этом случае и восклицала, что она, как Пилат[14], умывает тут руки!.. Но все это, разумеется, кончилось тем, что Пилат этот поехал и сделал от племянника предложение. Горный генерал, супруга его и невеста пришли в крайнее удивление; но партия была слишком выгодна, и согласие немедленно последовало. Князь был на седьмом небе; невеста тоже блистала счастием и радостью. Вслед за тем князь с своей молодой женой уехал в деревню и хлопотал единственно о том, чтобы взять с собой превосходнейшую рояль. Музыка и деревня поглотили почти совершенно их первые два года супружеской жизни; потом князь сделался мировым посредником, хлопотал искреннейшим образом о народе; в конце концов, однако, музыка, народ и деревня принаскучили ему, и он уехал с женой за границу, где прямо направился в Лондон, сошелся, говорят, там очень близко с русскими эмигрантами; но потом вдруг почему-то уехал из Лондона, вернулся в Россию и поселился в Москве. Здесь он на первых порах заметно старался сближаться с учеными и литераторами, но последнее время и того не стал делать, и некоторые из родных князя, посещавшие иногда княгиню, говорили, что князь все читает теперь.
Едучи в настоящем случае с железной дороги и взглядывая по временам сквозь каретное стекло на мелькающие перед глазами дома, князь вдруг припомнил лондонскую улицу, по которой он в такой же ненастный день ехал на станцию железной дороги, чтобы уехать совсем из Лондона. Хорошо ли, худо ли он поступил в этом случае, князь до сих пор не мог себе дать отчета в том, но только поступить таким образом заставляли его все его физические и нравственные инстинкты.
Воспоминания эти, должно быть, были слишком тяжелы и многознаменательны для князя, так что он не заметил даже, как кучер подвез его к крыльцу дома и остановил лошадей.
– Ваше сиятельство, мы приехали! – крикнул он, наконец, обертываясь к карете.
– Ах, да, вижу – сказал, как бы разбуженный от сна, князь и затем стал неловко отворять себе дверцы экипажа.
Швейцар хоть и видел, что подъехала барская карета, но, по случаю холода, не счел за нужное выйти к ней: все люди князя были страшно избалованы и распущены!
В зале князя встретила улыбающаяся своей доброй улыбкой и очень, по-видимому, обрадованная приездом мужа княгиня. Впрочем, она только подошла к нему и как-то механически поцеловала его в щеку.
Князь несколько лет уже выражал заметное неудовольствие, когда жена хоть сколько-нибудь ярко выражала свою нежность к нему. Сначала ее очень огорчало это, и она даже плакала потихоньку о том, но потом привыкла к тому. На этот раз князь тоже совершенно механически отвечал на поцелуй жены и опешил пройти в свой кабинет, где быстро и очень внимательно осмотрел весь свой письменный стол. Княгиня, хоть и не совсем поспешными шагами, но вошла за ним в кабинет.
– Писем, ma chere[15], ни от кого не было? – спросил он ее довольно суровым голосом; слова: «ma chere», видимо, прибавлены были, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить тон.
– Нет! – отвечала кротко княгиня.
Князь сел на стул перед столом своим. Лицо его явно имело недовольное выражение.
Княгиня поместилась напротив него.
– Что Марья Васильевна? – спросила она.
– Ничего себе; так же по-прежнему добра и так же по-прежнему несносна… Вот прислала тебе в подарок, – прибавил князь, вынимая из кармана и перебрасывая к жене крестик Марьи Васильевны, – велела тебе надеть; говорит, что после этого непременно дети будут.
– Вот как? – сказала княгиня, немного краснея в лице. – Что ж, я очень рада буду тому.
Князь на это ничего не сказал.
О Михайле Борисовиче княгиня уж и не спрашивала: она очень хорошо знала, что муж на этот вопрос непременно разразится бранью.
– Кого еще видел в Петербурге? – сделала она ему более общий вопрос.
– Мингера, разумеется, – отвечал князь с некоторою гримасою. – Приятель этот своим последним подобострастным разговором с Михайлом Борисовичем просто показался князю противен. – К нам летом собирается приехать в Москву погостить, – присовокупил он: – но только, по своей немецкой щепетильности, все конфузится и спрашивает, что не стеснит ли нас этим? Я говорю, что меня нет, а жену – не знаю.
Легкая и едва заметная краска пробежала при этом на лице княгини.
– Чем же он меня может стеснить? Нисколько… – проговорила она тихо.
– Ну, так так и надобно написать ему! – проговорил князь и позевнул во весь рот.
Княгиня при этом потупилась: легкая краска продолжала играть на ее лице.
– Кто был у тебя во все это время? – спросил князь после некоторого молчания и как бы пооживившись несколько.
– Да кто был? – отвечала княгиня, припоминая. – Приезжала всего только одна Анна Юрьевна и велела тебе сказать, что она умирает от скуки, так долго не видав тебя.
– Взаимно и я тоже! – подхватил князь.
– Значит, полное согласие сердец!.. – заметила княгиня.
– Совершеннейшее! – воскликнул князь, смотря на потолок. – А что, – продолжал он с некоторой расстановкой и точно не решаясь вдруг спросить о том, о чем ему хотелось спросить: – Анна Юрьевна ничего тебе не говорила про свою подчиненную Елену?.. – Голос у него при этом был какой-то странный.
– Нет, говорила: хвалила ее очень! – отвечала княгиня, по-видимому, совершенно равнодушно, и только голубые глаза ее забегали из стороны в сторону, как бы затем, чтобы князь не прочел ее тайных мыслей.
– А у тебя Елена бывала? – продолжал тот расспрашивать.
– Была раза два. Она и сегодня, говорят, заходила.
– Сегодня? – переспросил князь.
– Да, но ко мне почему-то не зашла; о тебе только спросила… – Слова эти княгиня тоже заметно старалась произнести равнодушно; но все-таки они у ней вышли как-то суше обыкновенного. – Очень уж тебя ждали здесь все твои любимые дамы! – присовокупила она, улыбаясь и как бы желая тем скрыть то, что думала.
– Что ж, это не дурно для меня, – отвечал, в свою очередь, с усмешкой князь.
Известие, что Елена к ним сегодня заходила, явным образом порадовало его, так что он тотчас же после того сделался гораздо веселее, стал рассказывать княгине разные разности о Петербурге, острил, шутил при этом. Та, с своей стороны, заметила это и вряд ли даже не поняла причины тому, потому что легкое облако печали налетело на ее молодое лицо и не сходило с него ни во время следовавшего затем обеда, ни потом…
Часов в семь вечера князь уехал из дому.
* * *
Бывшая утром вьюга превратилась вечером в страшный мороз, так что в эту ночь там, где-то у Калужских ворот, говорят, замерзли два извозчика, а в Кремле замерз часовой. Пешеходы если и появлялись, то по большей части бежали или в лавочку, или в кабак. На Маросейке, в одном из каменных домов, в окнах, густо забранных льдом, светился огонь. Это была квартира госпожи Жиглинской. Госпожа Жиглинская более чем за год не платила за квартиру, и заведовавший домом сенатский чиновник докладывал было купцу-домовладельцу, что не согнать ли ее?
– Прах ее дери, заплатит когда-нибудь! Возьми с нее вексель покрепче, – слышь? – сказал хозяин.
– Слушаю-с! – протянул сенатский чиновник.
– Другие, пожалуй, и даром не станут стоять в этих сараях! – рассуждал хозяин. – Не переделывать же их, дьяволов! Холодище, чай, такой, что собакам не сжить, не то что людям.
– Очень холодно-с! – подтвердил сенатский чиновник и в тот же день взял вексель с госпожи Жиглинской, которая, подписываясь, обругала прежде всего довольно грубыми словами дом, потом хозяина, а наконец, и самого чиновника.
Госпожа Жиглинская происходила из довольно богатой фамилии и в молодости, вероятно, была очень хороша собой; несмотря на свои шестьдесят лет, она до сих пор сохранила еще довольно ловкие манеры, уменье одеваться к лицу и вообще являла из себя женщину весьма внушительной и презентабельной наружности. Жизнь ее прошла полна авантюр: сначала влюбилась она в поляка-офицера, вышла за него замуж; тот прежде всего промотал ее приданое, потом вышел в отставку и завел у себя игорный дом. Госпожа Жиглинская обязана была быть любезною с бывавшими и игравшими у них молодыми людьми. Потом муж ее поступил в штат московской городской полиции частным приставом в одну из лучших частей города. Жить они стали на этом месте прекрасно; но и тут он что-то такое очень сильно проврался или сплутовал, но только исключен был из службы и вскоре умер, оставив жену с восьмилетней девочкой. Госпожа Жиглинская, впрочем, вскоре нашла себе покровителя и опять стала жить в прекрасной квартире, ездить в колясках; маленькую дочь свою она одевала как ангела; наконец, благодетель оставил ее и женился на другой. Госпожа Жиглинская хлопотала было сыскать себе нового покровителя и, говорят, имела их несколько, следовавших один за другим; но увы! – все это были люди недостаточные, и таким образом, проживая небольшое состояние свое, скопленное ею от мужа и от первого покровителя своего, она принуждена была дочь свою отдать в одно из благотворительных учебных заведений и брала ее к себе только по праздникам. Чем дольше девочка училась там, чем дальше и дальше шло ее воспитание, тем как-то суше и неприветливее становилась она к матери и почти с гневом, который едва доставало у нее сил скрывать, относилась к образу ее жизни и вообще ко всем ее понятиям. По мнению матери, например, ничего не стоило поголодать дня два, посидеть в холоду, лишь бы только жить в нарядной, просторной квартире и иметь потом возможность выехать в театр или на гулянье. Дочь же говорила, что человеку нужна только небольшая комната, с потребным количеством чистого воздуха (и тут она даже с точностью определяла это количество), нужен кусок здоровой пищи (и тут она опять-таки назначала с точностью, сколько именно пищи) и, наконец, умная книга. По выходе из училища, дочь объявила матери, что она ничем не будет ее стеснять и уйдет в гувернантки, и действительно ушла; но через месяц же возвратилась к ней снова, говоря, что частных мест она больше брать не будет, потому что в этом положении надобно сделаться или рабою, служанкою какой-нибудь госпожи, или предметом страсти какого-нибудь господина, а что она приищет себе лучше казенное или общественное место и будет на нем работать. Во всех этих планах дочери питаться своими трудами[16] мать очень мало понимала и гораздо больше бы желала, чтобы она вышла замуж за человека с обеспеченным состоянием, или, если этого не случится, она, пожалуй, не прочь бы была согласиться и на другое, зная по многим примерам, что в этом положении живут иногда гораздо лучше, чем замужем… Жизнь, исполненная разного рода авантюр, немножко чересчур низко низвела нравственный уровень госпожи Жиглинской!
В настоящий вечер госпожа Жиглинская сидела в своей комнате на кресле, занятая вязаньем какой-то шерстяной косынки и сохраняя при этом гордейшую позу. Она закутана была на этот раз во все свои шали и бурнусы, так как во всей ее квартире, не топленной с утра, был страшный холод. Рядом с комнатой матери, в довольно большой гостиной, перед лампой, на диване сидела дочь г-жи Жиглинской, которая была) не кто иная, как знакомая нам Елена. Мать и дочь были несколько похожи между собой, и только госпожа Жиглинская была гораздо громаднее и мужественнее дочери. Кроме того, в лице Елены было больше ума, больше солидности, видно было больше образования и совершенно не было той наглой и почти бесстыдной дерзости, которая как бы освещала всю физиономию ее матери. Глубокие очертания, которыми запечатлены были лица обеих дам, и очень заметные усы на губах старухи Жиглинской, а равно и заметный пушок тоже на губках дочери, свидетельствовали, что как та, так и другая наделены были одинаково пылкими темпераментами и имели характеры твердые, непреклонные, способные изломаться о препятствие, но не изогнуться перед ним. Елена была на этот раз вся в слезах и посинелая от холоду. Происходивший у нее разговор с матерью был далеко не приятного свойства.
– Это странно, – говорила Елена голосом, полным горести, – как вы не могли послать Марфушу попросить у кого-нибудь десятка два полен!
– Я посылала, но не дают… Что же мне делать?.. – отвечала Жиглинская каким-то металлически-холодным тоном.
– Отчего же не дают? Мы не даром бы у них взяли; я говорила, что принесу денег – и принесла наконец.
– Не дают!.. – повторила госпожа Жиглинская.
Ей как будто даже весело было давать такие ответы дочери, и она словно издевалась в этом случае над ней.
– Вы сделаете то, – продолжала Елена, и черные глаза ее сплошь покрылись слезами, – вы сделаете то, что я в этаком холоду не могу принять князя, а он сегодня непременно заедет.
– Отчего же не принять?.. Прими! Пускай посидит тут и посмотрит, – отвечала госпожа Жиглинская явно уже с насмешкой.
Сближение Елены с князем сначала очень ее радовало. Что там между ними происходило и чем все это могло кончиться, – она особенно об этом не заботилась; но видя, что князь без памяти влюблен в дочь, она главным образом совершенно успокоилась насчет дальнейших средств своих к существованию. На деле же, сверх всякого ожидания, стало оказываться не совсем так: от князя им не было никакой помощи. В одну из минут весьма крайней нужды госпожа Жиглинская решилась было намекнуть об этом дочери: «Ты бы попросила денег у друга твоего, у князя; у него их много», – сказала она ей больше шутя; но Елена почти озлобленно взглянула на мать. «Как вы глупо говорите!» – сказала она ей в ответ и ушла после того из ее комнаты. Госпожа Жиглинская долго после этого ни о чем подобном не говорила с дочерью и допекала ее только тем, что дня по два у них не было ни обеда, ни чаю; хотя госпожа Жиглинская и могла бы все это иметь, если бы продала какие-нибудь свои брошки и сережки, но она их не продавала. В вечер этот она, вероятно, выведенная из всякого терпения холодом, опять, по-видимому, хотела возобновить разговор на эту тему.
– И побогаче нас люди иногда одолжаются и принимают помощь от своих знакомых, – проговорила она, как бы размышляя больше сама с собой.
– Никогда! Ни за что! – воскликнула Елена, догадавшаяся, что хочет сказать мать. – Я могла пойти к князю, – продолжала она с каким-то сдержанным достоинством: – и просить у него места, возможности трудиться; но больше этого я ни от кого, никогда и ничего не приму.
Елена, действительно, по совету одного молодого человека, встречавшего князя Григорова за границей и говорившего, что князь непременно отыщет ей место, обратилась к нему. Князь, после весьма короткого разговора с Еленою, в котором она выразила ему желание трудиться, бросился к одной из кузин своих, Анне Юрьевне, и так пристал к ней, что та на другой же почти день дала Елене место учительницы в школе, которую Анна Юрьевна на свой счет устроила и была над ней попечительницей. Елена после того пришла, разумеется, поблагодарить князя. Он на этот раз представил ее княгине, которая на первых порах приняла Елену очень любезно и просила бывать у них в доме, а князь, в свою очередь, выпросил у Елены позволение посетить ее матушку, и таким образом, они стали видеться почти ежедневно.
– Тебя никто и не заставляет ни от кого ничего принимать, – говорила между тем старуха Жиглинская.
– Нет, вы заставляете, вы пишете там князю о каких-то ваших салопах, – возразила ей Елена.
Госпожа Жиглинская вспыхнула при этом немного; дочь в первый еще раз выразила ей неудовольствие по этому поводу.
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! – захохотала она каким-то неприятным и злобным смехом. – Я могу, кажется, и без твоего позволенья писать моим знакомым то, что я хочу.
– Да, вашим, но не моим, а князь – мой знакомый, вы это очень хорошо знаете, и я просила бы вас не унижать меня в глазах его, – проговорила резко Елена.
Госпожа Жиглинская окончательно рассердилась.
– Ты мерзкая и негодная девчонка! – воскликнула она (в выражениях своих с дочерью госпожа Жиглинская обыкновенно не стеснялась и называла ее иногда еще худшими именами). – У тебя на глазах мать может умирать с голоду, с холоду, а ты в это время будешь преспокойно философствовать.
– Философствовать лучше, чем делать что-нибудь другое!.. – начала Елена и вряд ли не хотела сказать какую-нибудь еще более резкую вещь, но в это время раздался звонок. Елена побледнела при этом. – Марфуша, Марфуша! – крикнула она почти задыхающимся голосом. – Он войдет и в самом деле даст нам на дрова.
Вбежала толстая, краснощекая девка.
– Не принимай князя, скажи, что я больна, лежу в постели, заснула… – говорила торопливо Елена и вместе с тем торопливо гасила лампу.
Марфуша выбежала отворить дверь. Это действительно приехал князь.
– Барышня больны-с, легли в постель-с, почивают, – донесла ему та.
Князя точно обухом кто ударил от этого известия по голове.
– Но, может быть, она примет меня, доложи! – как-то пробормотал он.
– Нет-с, они уж заснули! – сказала Марфуша и захлопнула у него перед носом дверь.
Князь после этого повернулся и медленно стал спускаться с лестницы… Вскоре после того Елена, все еще остававшаяся в темной гостиной, чутким ухом услыхала стук его отъезжавшей кареты.
III
На другой день в кабинете князя сидело целое общество: он сам, княгиня и доктор Елпидифор Мартыныч Иллионский, в поношенном вицмундирном фраке, с тусклою, порыжелою и измятою шляпой в руках и с низко-низко спущенным владимирским крестом на шее. Елпидифор Мартыныч принадлежал еще к той допотопной школе врачей, которые кресты, чины и ленты предпочитают даже деньгам и практику в доме какого-нибудь высшего служебного лица или даже отставного именитого вельможи считают для себя превыше всего. У Григоровых Елпидифор Мартыныч лечил еще с деда их; нынешний же князь хоть и считал почтенного доктора почти за идиота, но терпел его единственно потому, что вовсе еще пока не заботился о том, у кого лечиться. Княгиня же ценила в Елпидифоре Мартыныче его привязанность к их семейству. Происходя из духовного звания и имея смолоду сильный бас, Елпидифор Мартыныч как-то необыкновенно громко и сильно откашливался и даже почему-то ужасно любил это делать.
– К-х-ха! – произнес он на всю комнату, беря князя за руку, чтобы пощупать у него пульс. – К-х-ха! – повторил он еще раз и до такой степени громко, что входившая было в кабинет собака князя, услыхав это, повернулась и ушла опять в задние комнаты, чтобы только не слышать подобных страшных вещей. – К-х-ха! – откашлянулся доктор в третий раз. – Ничего, так себе, маленькая лихорадочка, – говорил он басом и нахмуривая свои глупые, густые брови.
– Конечно, ничего, стоило посылать! – произнес князь досадливым голосом, между тем лицо у него было какое-то искаженное и измученное. Руку свою он почти насильно после того вырвал из руки Елпидифора Мартыныча.
– Все лучше посоветоваться! – отвечала кротко княгиня: вечером она видела, что муж откуда-то приехал очень мрачный, затворился в своем кабинете и притворился, что читает; но потом, ночью, она очень хорошо слышала, что князь не заснул ни на минуту и даже стонал несколько раз, как бы от чего-то душившего его. Испугавшись всего этого, она поутру, не сказав даже о том князю, послала за Елпидифором Мартынычем, который и прибыл сейчас же и вместе с княгиней вошел в кабинет к князю. Тот, увидев его и поняв в чем дело, в первую минуту взбесился было; однако удержался и принял только очень сердитый вид.
– Ничего-с! – повторил еще раз Елпидифор Мартыныч, усаживаясь в кресло и приготовляясь, как видно, побеседовать. – К-х-ха! – откашлянулся он затем с каким-то особенным наслаждением и отнесся уже с разговорами к княгине. – Был я, сударыня, ваше сиятельство, у графа Виктора Сергеевича на обеде; кушали у него: владыко с викарием, генерал-губернатор со свитой, разные господа сенаторы…
– Что же это, он награду свою праздновал? – спросила княгиня.
– Непременно так-с, непременно! – подтвердил Елпидифор Мартыныч. – Очень старик доволен; с коронации[17] еще он желая сей первенствующей ленты Российской империи и вдруг получил ее. Приятно каждому, – согласитесь!
– Да! – поспешила согласиться княгиня: она больше всего в эти минуты желала, чтобы как-нибудь прекратить подобный разговор, от которого, она очень хорошо видела и понимала, до какой степени князь внутри себя рвет и мечет; но Елпидифор Мартыныч не унимался.
– Я, когда награжден был сим крестом, – продолжал он, указывая с гордостью на своего Владимира: – приезжаю тогда благодарить генерал-губернатора, всплакал от полноты чувств, – ей-богу!
Князь уже более не вытерпел.
– Не о чем, видно, вам плакать-то о более порядочном! – произнес он.
– О более порядочном – а?.. Вольнодумец какой он!.. Вольнодумец он у вас, княгиня, а?.. – обратился Елпидифор Мартыныч к княгине.
– Ужасный! – отвечала та.
– А вы за ушко его за это, за ушко!.. И в бога ведь, чай, не верует?.. – шутил Елпидифор Мартыныч.
– Не знаю! – сказала княгиня с улыбкою.
– Вам, как медику, совестно, я думаю, об этом и спрашивать и беспокоиться, – проговорил насмешливо князь.
– А вот что медики-с, скажу я вам на это!.. – возразил Елпидифор Мартыныч. – У меня тоже вот в молодости-то бродили в голове разные фанаберии, а тут как в первую холеру в 30-м году сунули меня в госпиталь, смотришь, сегодня умерло двести человек, завтра триста, так уверуешь тут, будешь верить!
– Смерть, и особенно близких нам людей, лучше всего нас может научить этому, – подтвердила и княгиня.
– Да как же, помилуйте! – воскликнул Елпидифор Мартыныч. – Из земли взят, говорят, землей и будешь. А душа-то куда девается? Ее-то надобно девать куда-нибудь.
Князь на это только злобно усмехнулся.
– Нынче, сударыня, все отвергают, все! – продолжал Елпидифор Мартыныч, по-прежнему обращаясь к княгине. – Нынче вон, говорят, между молодыми людьми какие-то нигилисты[18] есть, и у нас в медицине все нигилисты, все отвергли; один только, изволите видеть, лапис[19] и опиум признали! Все в природе сотворено не на потребу человека, а ко вреду ему, и один только лапис и опиум исцеляют и врачуют его от всех болезней!
– Не от всех болезней, – возразил на это сердито князь, – a genius morborum[20] нашего времени таков, что эти средства, по преимуществу, помогают.
– Какой это genius morborum такой, желал бы я знать?.. Какой это он?.. – вспылил уже Елпидифор Мартыныч. – Господи помилуй! – продолжал он, разводя руками. – Всегда были лихорадки, чахотки, параличи, – всегда они и будут!.. – Новое нам надобно было что-нибудь выдумать – вот что-с! Приедет нынче доктор к больному и расписывает ему: «У вас то-то и то-то; организм у вас такой-то, темперамент такой-то!» Батюшки мои! Целую лекцию прочтет ему из медицины, а тот и думает: «Ай, какой мудрец-всезнайка!» А я, извините меня, за грех всегда считал это делать. Я никогда не скажу больному, что у него; должен это знать я, а не он: он в этом случае человек темный, его только можно напугать тем. Родных, конечно, предуведомлю, когда кто труден, чтобы успели распорядиться о духовной и причастить заблаговременно!.. К-х-ха!.. – откашлянулся старик в заключение, но вместе с тем раздался и звонок снизу от швейцара.
Князь и княгиня переглянулись между собой.
– Кто может быть так рано? – проговорила последняя.
Князь тоже недоумевал.
– Дама какая-то идет! – сказал Елпидифор Мартыныч, обертываясь и оглядываясь в залу.
– Это, вероятно, Елена! – произнесла княгиня более уже тихим голосом.
У князя все мускулы в лице передернуло.
В кабинет вошла действительно Елена. Внутри себя она, должно быть, была страшно взволнована; но, по наружности, старалась сохранить смелый и спокойный вид.
– Bonjour, princesse![21] – отнеслась она как-то особенно смело к княгине.
– Здравствуйте, – отвечала та ей негромко.
– Я пришла, князь, проведать, приехали ли вы из Петербурга, – обратилась она каким-то неестественным голосом к князю.
Тот при этом сильно сконфузился.
– Да, я вчера приехал, – отвечал он, понимая так, что Елена не хочет говорить при княгине о том, что он заезжал к ней вчера.
Они часто о многих вещах, вовсе не условливаясь предварительно, не говорили при княгине.
Доктору Елена вежливо поклонилась. Елпидифор Мартыныч, в свою очередь, перед ней встал и, как только умел, модно раскланялся и вслед за тем уже не спускал с нее своих старческих очей.
Елена благодаря тому, что с детства ей дано было чисто светское образование, а еще более того благодаря своей прирожденной польской ловкости была очень грациозное и изящное создание, а одушевлявшая ее в это время решительность еще более делала ее интересной; она села на стул невдалеке от князя.
– Maman просит вас сегодня заехать к ней, она очень желает вас видеть, – проговорила Елена.
– А сами вы будете дома? – спросил ее протяжно князь.
– Непременно! – подхватила Елена стремительно.
Она и прежде, когда приглашала князя, то всегда на первых же порах упоминала имя «maman», но саму maman они покуда еще княгине не показывали, и князь только говорил ей, что это очень добрая, но больная и никуда не выезжающая старушка.
Елпидифор Мартыныч, все еще продолжавший смотреть на Елену, не утерпел наконец и отнесся к ней.
– К-х-ха! – начал он прежде всего с кашля. – Позвольте мне спросить: не имел ли я удовольствия встречать вас в доме графини Анны Юрьевны?
– Очень может быть, – отвечала Елена, – но только не в доме у ней, а в передней: я приходила к ней просить место учительницы.
Елпидифор Мартыныч склонил при этом свою голову.
– И получили вы сие место?
– Получила, вот по милости князя! – сказала Елена.
Елпидифор Мартыныч еще ниже склонил свою голову.
– Значит, мы в некотором роде товарищи с вами по службе. Я тоже служу у Анны Юрьевны по попечительству и смею рекомендовать себя: действительный статский советник Елпидифор Мартыныч Иллионский!
Елена молчала на это.
– А ваша фамилия? – продолжал старикашка.
– Жиглинская! – сказала Елена.
Елпидифор Мартыныч растопырил руки.
– Елизаветы Петровны дочь? – воскликнул он.
– Да! – отвечала Елена.
– Я вот еще какую вас видел, вот какохонькую! – говорил Елпидифор Мартыныч, показывая рукою от полу на аршин и все ниже и ниже затем опуская руку. – Что же ваша матушка поделывает и как поживает?
– Ничего, хорошо! – отвечала ему сухо и почти с неудовольствием Елена, потому что Елпидифор Мартыныч, говоря последние слова, явно уже обратил на нее какие-то масленые глаза: он был ужасный волокита и особенно за небогатенькими девушками.
– Ну, однако, мне пора! – сказала Елена, вставая.
Ее, по преимуществу, конфузило то, что княгиня во все это время не проговорила с ней ни слова.
– А вы в какие страны, осмелюсь вас спросить? – обратился опять к ней Елпидифор Мартыныч, тоже поднимаясь с своего места.
– На Покровку! – отвечала ему Елена и отвернулась от него.
– Так не угодно ли, я довезу вас на своих конях? Я в эти именно страны и еду, – говорил Елпидифор Мартыныч, явно уже любезничая с ней.
Елена несколько мгновений заметно недоумевала и в это время успела бросить короткий, но вопрошающий взгляд на князя.
– Он вас довезет отлично! – проговорил тот, как бы в ответ на этот взгляд.
– Ну, хорошо! – сказала Елена. – Adieu, princesse, – прибавила она опять как-то официально княгине.
– Прощайте! – отвечала та, стараясь, по обыкновению, придать как можно более простоты и естественности своему голосу.
– Ну так, значит, до свидания, до вечера, – говорила Елена, подавая бойко руку князю.
– До вечера! – повторил тот, видимо, делая над собой страшное усилие, чтобы не смотреть на Елену тоже неравнодушным оком. – А я книг много для вас накупил: прикажете их ужо привезти к вам? – присовокупил он.
– Пожалуйста! – отвечала Елена и пошла.
Елпидифор Мартыныч поспешил последовать за ней.
Княгиня вышла их обоих немного проводить.
– Барышня-то эта отличная, бесподобная! – шепнул ей Елпидифор Мартыныч, указывая глазами на уходящую Елену и принимая от княгини деньги за визит.
– Да! – протяжно ответила она и снова возвратилась в кабинет к мужу.
Князь сидел на креслах, закинув голову назад. Лицо его имело какое-то мечтательное выражение; лицо же княгини, напротив, и на этот раз опять осенилось облаком тайного неудовольствия. Муж и жена, оставшись с глазу на глаз, чувствовали необходимость начать между собой какой-нибудь разговор, но о чем именно – не знали. Князь, впрочем, заговорил первый.
– Этот Елпидифор такой дурак невыносимый… – произнес он недовольным голосом.
– Да, не умен… – согласилась и княгиня.
– Его непременно надобно прогнать и не пускать к себе, а то он одними своими рассуждениями может уморить человека.
– Пожалуй, как хочешь! – отвечала княгиня.
Она, надо думать, рассердилась в этот раз на Елпидифора Мартыныча главным образом за то, что он очень уж лестно отозвался об Елене.
* * *
После обеда князь с заметным нетерпением дожидался вечера и в шесть часов велел себе закладывать карету. Княгиня в это время сидела на своей половине. Уезжая, князь не зашел даже к ней проститься. Княгиня тоже не вышла, по обыкновению, проводить его. Князь повез с собою целую кипу книг и карете, разумеется, велел ехать на Маросейку. Здесь квартира госпожи Жиглинской представляла совсем другой вид, чем вчера: она была вся натоплена и подметена. Сама госпожа Жиглинская, разодетая в черное шелковое платье и в модный, с пунцовыми лентами чепец, сидела на обычном своем месте с вязаньем в руках и надменно надсматривала за Марфушей, приготовлявшей на столе чайный прибор. Елена, тоже в черном шелковом платье, ловко обхватывающем ее стройный стан, и очень красиво причесанная, сидела по-прежнему на диване. Она не то что была печальна, но как-то взволнована и вся как бы превратилась в слух и внимание к скрипу и стуку проезжавших мимо экипажей. Наконец шум послышался в самых сенях их квартиры.
Елена привстала.
– Марфуша, поди, отвори! – воскликнула она.
Марфуша побежала и отворила. Вошел князь, державший в обеих руках книги.
– Вот я вам все их привез, – говорил он, входя в гостиную к Елене.
– Ах, благодарю, тысячу раз благодарю! – говорила та как бы в самом деле радостным голосом и подсобляя князю уложить книги на одном из столиков. Освободившись окончательно от своей ноши, князь наконец уселся и принялся сквозь очки глядеть на Елену, которая села напротив него.
– Нам, я думаю, лучше всего начать с теории Дарвина[22], – произнес он.
– Это с его учения о происхождении видов? Я немножко знаю эту теорию, – отвечала Елена.
– Да, но ее надобно серьезно изучить, – возразил князь.
– Разумеется! – подхватила Елена.
– Книжка эта довольно толстая… – продолжал князь и, не откладывая времени, встал и взял со стола одну из книг. – Я думаю, мы можем и начать! – повторил он.
– Хорошо! – отвечала Елена.
Князь открыл книгу и хотел было приняться читать, но потом вдруг почему-то приостановился.
– Ваша maman? – спросил он какой-то скороговоркой Елену.
– Благодарю! Она у себя в комнате, – отвечала та.
– Там? – спросил князь, указывая глазами на дверь.
– Там!
– Здравствуйте Елизавета Петровна! – воскликнул князь.
– Здравствуйте! – отвечала госпожа Жиглинская, не поднимаясь с своего места: она ожидала, что князь непременно к ней войдет, но он не входил. – Благодарю за салоп! – прибавила госпожа Жиглинская.
– О, что… Очень рад, – отвечал князь, немного сконфузясь.
Елена тоже при этом вся вспыхнула.
Князь затем замолчал и больше не стал говорить с Жиглинской-старухой: он находил, что совершенно достаточно с ней побеседовал. Насколько князю нравилась Елена, настолько противна была ему мать; своей массивной фигурой и нахальным видом госпожа Жиглинская внушала ему какое-то физиологическое отвращение к себе. Елена, с инстинктом и проницательностью умной девушки, чувствовала это и старалась мать свою не сводить с князем и не беспокоить его, так сказать, ею. Сама же госпожа Жиглинская, тоже замечавшая, что князь не совсем охотно с ней встречается и разговаривает, объясняла это совершенно иначе: она полагала, что князь, приволакиваясь за дочкой, просто ее притрухивает. «Ах, какой он глупенький, глупенький!» – рассуждала она сама с собой по этому поводу.
Князь принялся, наконец, читать. Елена стала слушать его внимательно. Она все почти понимала и только в некоторых весьма немногих местах останавливала князя и просила его растолковать ей. Тот принимался, но по большей части путался, начинал говорить какие-то фразы, страшно при этом конфузился: не оставалось никакого сомнения, что он сам хорошенько не понимал того, что говорил.
– Черт знает как досадно не знать хорошенько естественных наук! – воскликнул он как бы больше сам с собой.
– Да, немного мы знаем, очень немного!.. – произнесла протяжно Елена. – Но вы, кажется, очень устали? – прибавила она, взглянув с участием на князя, у которого действительно от двухчасового чтения и от умственного при этом напряжения пот градом выступал на лбу.
– Есть отчасти… – отвечал ей тот с улыбкою.
– Ну, так бросимте; будет на сегодня! – разрешила ему Елена.
– Будет, так будет! – согласился с удовольствием князь.
Ему самому давно, кажется, гораздо более хотелось смотреть на Елену, чем в книгу.
– Знаете что? – начала она потом, прищуривая немного свои черные глаза, и с этим выражением лица была очень хороша собою. – Я непременно хочу у вас спросить об одной вещи: что, княгиня сердится на меня, что ли, за что-нибудь?
– Княгиня? – переспросил князь несколько с притворным удивлением.
– Да. Она давеча не сказала со мной двух слов, – отвечала Елена.
– Но вы так мало были у нас, что она, я думаю, просто не успела этого сделать, – возразил князь.
Елена сомнительно покачала головой.
– Вряд ли это так, – сказала она, – потому что, кроме молчания, княгиня имела такой сердитый и недовольный вид.
– Ей, может быть, нездоровилось! – объяснил князь.
– Но доктор, однако, был у вас, а не у княгини, – возразила Елена.
– А черт его знает, у кого он был! – сказал с сердцем князь, и вообще, как видно было, весь этот разговор начинал ему становиться скучным и неприятным.
– Но дело не в том-с. Перехожу теперь к главному, – продолжала Елена, – мы обыкновенно наши письма, наши разговоры чаще всего начинаем с того, что нас радует или сердит, – словом, с того, что в нас в известный момент сильней другого живет, – согласны вы с этим?
– Согласен, – отвечал князь.
– Ну-с, а почему же вы последнее ваше письмо, – письмо, как видно, очень искреннее, – прямо начинаете с того, что стали мне описывать, до какой степени вас возмущает и вам ненавистен чиновничий Петербург?.. Вы как будто бы тут в чем-то спешите оправдаться передо мной.
– Я?.. Перед вами?.. – спросил князь с искренним удивлением.
– Да… Значит, этот мир еще волнует и беспокоит вас.
– Господи помилуй! – воскликнул князь. – Меня можно укорить в тысяче мелочностей, но никак уж не в этом. Этот мир никогда меня ничем не волновал и не привлекал.
– Напрасно, совершенно напрасно так думаете! – подхватила Елена. – И в этом случае вы, по-моему, мало себя знаете.
Князь уставил на Елену удивленный и вопросительный взгляд.
– Поверьте вы мне-с, – продолжала она милым, но в то же время несколько наставническим тоном, – я знаю по собственному опыту, что единственное счастье человека на земле – это труд и трудиться; а вы, князь, извините меня, ничего не делаете…
При этом замечании князь вспыхнул.
– Как тут быть! – произнес он, нахмуривая брови. – Найти себе занятие и специальность какую-нибудь вовсе дело не легкое… Это выпадает только на долю счастливцев.
– Вам нечего и выдумывать себе никакой особенной специальности, а берите такую, какая она есть в обществе. Вы человек умный, способный: поезжайте в Петербург, в который вы и без того беспрестанно ездите, и поступайте там на службу.
Когда Елена говорила последние слова, то в ее глазах, в складе губ и даже в раздувшихся красивых ноздрях промелькнула какая-то злая ирония. Князь это подметил и был крайне этим поражен: он никак не ожидал услышать от Елены подобного совета.
– Нет-с, я служить не могу! – произнес он глубоко оскорбленным голосом.
– Вы не попробовали этого, уверяю вас, а испытайте, может быть, и понравится, тем более, что княгине давно хочется переехать в Петербург: она там родилась, там все ее родные: Москву она почти ненавидит.
– Княгиня может ненавидеть Москву, но я все-таки не поеду отсюда по одному тому, что в Москве вы живете, – заключил князь, произнеся последние слова несколько тише, чем прочие.
Елена при этом побледнела. Князь в первый еще раз так прямо сказал ей о чувстве своем. Она сама его горячо любила. Принадлежать человеку в браке или без брака для Елены, по ее убеждениям, было решительно все равно; только в браке, как говорили ей, бывают эти отношения несколько попрочнее. Но если уж ей суждено, чтобы человек любил ее постоянно, так и без брака будет любить; а если не сумеет она этого сделать, так и в браке разлюбит. В отношении детей – то же: хороший человек и незаконных детей воспитает, а от дрянного и законным никакой пользы не будет. Но тут ее останавливали и смущали несколько совершенно иные соображения: во-первых, Елена очень хорошо понимала, что она наносит тут зло другой женщине. «Но почему же эта женщина, – рассуждала и в этом случае Елена, – не постаралась сохранить любовь мужа?» Князь сам ей рассказывал, что он давно разлюбил жену, потому что она никогда не разделяла ни одного из его убеждений; значит, Елена тут ничем не была виновата. Во-вторых, она ужасно боялась встретить в князе какие-нибудь аристократические тенденции и замашки, которых, конечно, она нисколько не замечала в нем до сих пор; но, может быть, в этом случае он маскировался только или даже сам пока не сознавал своих природных инстинктов.
– Я-то меньше чем кто-либо должна вас останавливать! – проговорила она.
– Тогда как в вас вся жизнь моя заключается! – воскликнул он.
– Нет, князь, ваша жизнь не во мне заключается! – возразила Елена. – Мы с вами птички далеко не одного полета: я – бедная пташка, которой ни внутри, ни извне ничто не мешает летать, как ей хочется, а вы – аристократический орленок, привязанный многими-многими золотыми нитями к своей клетке.
– Да нет же этого, клянусь вам! – воскликнул опять князь.
– Есть, князь, есть! – сказала Елена, и голос у ней при этом отозвался даже какой-то строгостью.
– Что же, после этого, – продолжал князь, – стало быть, вы во мне видите какого-то грубого, грязного волокиту?
– Никогда!.. Нисколько. Я вижу в вас только человека, не имевшего еще в жизни случая хорошо познакомиться с самим собой.
– Значит, такой, какой я есть в сущности, я вам не нравлюсь? – произнес князь тихо.
– Напротив!.. К несчастью, совершенно напротив! – отвечала тихо Елена, не глядя на князя.
– Но почему же к несчастью? – спросил он ее с просветлевшим лицом.
– А потому… – начала Елена, и глубокий вздох остановил ее слова, – потому что в этом, в самом деле, мое несчастье! – заключила она.
– Но кто ж вам сказал это?
– Предчувствие мое! – проговорила Елена, и глаза ее при этом мгновенно наполнились слезами.
Лицо князя тоже, в свою очередь, как-то исказилось.
– А что, если я все рушу, все переломаю, чтобы сделать вас счастливою? – проговорил он каким-то глухим голосом.
– Ничего вы не сделаете! – возразила ему Елена тоже негромко.
Князь на это пожал только плечами. Он никогда еще не видал Елену в таком ипохондрическом и почти озлобленном настроении. В последнюю поездку князя в Петербург ей вдруг пришла в голову мысль, что он ездит туда затем, чтобы там найти себе место, и в настоящем разговоре она, по преимуществу, хотела его выспросить об этом. Князь же, собственно, ездил в Петербург с совершенно другими целями; впечатлительный и памятливый по натуре, он все явления жизни, все мысли из книг воспринимал довольно живо и, раз что усвоив, никогда уже не забывал того вполне. Таким образом с течением времени у него накопилась в душе масса идей, чувствований; разъяснить все это и найти какую-нибудь путеводную нить для своих воззрений он жаждал неимоверно. Потолковать обо всем этом в Москве было решительно не с кем. Москва, как убедился князь по опыту, была в этом отношении – болото стоячее. Петербург казался ему гораздо более подвижным и развитым, и он стремился туда, знакомился там с разными литераторами, учеными, с высшим и низшим чиновничеством, слушал их, сам им говорил, спорил с ними, но – увы! – просвета перед жадными очами его после этих бесед нисколько не прибывало, и почти каждый раз князь уезжал из Петербурга в каком-то трагически-раздраженном состоянии, но через полгода снова ехал туда. Про все эти свои сомнения и колебания князь не говорил Елене; он не хотел перед ней являться каким-то неопределенным человеком и желал лучше, чтобы она видела в нем окончательно сформировавшегося материалиста.
– Что ж, мы будем еще читать? – спросил он ее после довольно продолжительного молчания.
– Не знаю, как хотите, – отвечала Елена, тоже более занятая своими мыслями, чем теми, которые выслушала из книги.
– Но, может быть, поздно уж? – заметил князь.
– Нет, ничего, – проговорила Елена, но только таким тоном, что князь очень хорошо понял, что довольно читать.
– До свиданья! – проговорил он, вставая и крепко пожимая своей огромной ручищей красивую руку Елены.
– До свиданья! – сказала она и пошла проводить князя до передней.
– Я все-таки уезжаю с некоторой надеждой! – произнес он, еще раз пожимая ей руку.
– Вам-то на меня надеяться можно, мне-то на вас нельзя! – отвечала Елена с ударением.
– Увидим! – сказал князь.
– Увидим! – повторила и Елена и затем, ловко поклонившись ему, возвратилась на прежнее свое место.
Во всем этом объяснении князь показался ей таким честным, таким бравым и благородным, но вместе с тем несколько сдержанным и как бы не договаривающимся до конца. Словом, она и понять хорошенько не могла, что он за человек, и сознавала ясно только одно, что сама влюбилась в него без ума и готова была исполнить самое капризнейшее его желание, хоть бы это стоило ей жизни.
Шаги матери вывели, наконец, Елену из ее размышлений; она оглянулась: старуха Жиглинская стояла перед ней во весь свой величественный рост.
– Что это, в любви, что ли, он с тобой объяснялся? – спросила она дочь не то одобрительно, не то насмешливо.
– О, вздор какой! – произнесла та досадливым голосом.
– Г-м, вздор! – усмехнулась старуха. – Ко мне, однако, он и проститься не зашел.
– Он рассеян очень; вероятно, забыл, – сказала Елена.
– Не рассеян он, а скорей невежа! – сказала госпожа Жиглинская и опять ушла к себе в комнату, видя, что от дочери ничего более не добьешься.
Князь в это время ехал не домой, а в Английский клуб. Он, видимо, был сильно взволнован всей предыдущей сценой с Еленой и, приехав в клуб, прямо прошел в столовую, где спросил себе бутылку портвейну и порцию рыбы, которой, впрочем, он ничего почти не съел, зато портвейн принялся пить стакан за стаканом. В это время по столовой взад и вперед ходил, заплетаясь разбитой параличом ногою, другой князь, старый, ветхий, и все посматривал, как Григоров опоражнивал бутылку, когда же тот спросил себе еще бутылку, старик долее не вытерпел сей возмутительной для него сцены, быстро, насколько позволяла ему параличная его нога, ушел из столовой, прошел все прочие залы, бильярдную, библиотеку и вошел, наконец, в так называемую чернокнижную комнату, где сидело довольно многочисленное общество.
– Там, в столовой, князя Василья Петровича Григорова сынок, – начал он, как бы донося почтенному ареопагу, – другую бутылку портвейну пьет.
Некоторые из собеседников, особенно более молодые, взглянули на старика вопросительно; но другой старик, сидевший в углу и все время дремавший, понял его.
– А мы разве с вами, Никита Семеныч, в гусарах меньше пили? – отозвался он из глубины своих кресел.
– Мы-с пили, – отвечал ему резко князь Никита Семеныч, – на биваках, в лагерях, у себя на квартире, а уж в Английском клубе пить не стали бы-с, нет-с… не стали бы! – заключил старик и, заплетаясь ногою, снова пошел дозирать по клубу, все ли прилично себя ведут. Князя Григорова он, к великому своему удовольствию, больше не видал. Тот, в самом деле, заметно охмелевший, уехал домой.
IV
Прошла вся зима, и наступил великий пост. Елена почти успела выучиться у князя по-английски: на всякого рода ученье она была преспособная. Они прочли вместе Дарвина, Ренана[23], Бюхнера[24], Молешота[25]; но история любви ихней подвигалась весьма медленно. Дело в том, что, как князь ни старался представить из себя материалиста, но, в сущности, он был больше идеалист, и хоть по своим убеждениям твердо был уверен, что одних только нравственных отношений между двумя любящимися полами не может и не должно существовать, и хоть вместе с тем знал даже, что и Елена точно так же это понимает, но сказать ей о том прямо у него никак не хватало духу, и ему казалось, что он все-таки оскорбит и унизит ее этим. Случайной же минуты увлечения никак не могло выпасть на долю моих влюбленных, так как они видались постоянно в присутствии Елизаветы Петровны, которая в последнее время очень за ними стала присматривать. Сия опытная в жизни дама видела, что ни дочь нисколько не помышляет обеспечить себя насчет князя, ни тот нимало не заботится о том, а потому она, как мать, решилась, по крайней мере насколько было в ее возможности, не допускать их войти в близкие между собою отношения; и для этого она, как только приходил к ним князь, усаживалась вместе с молодыми людьми в гостиной и затем ни на минуту не покидала своего поста. Напрасно те при ней читали и разговаривали о совершенно неинтересных для нее предметах, – она с спокойным и неподвижным лицом сидела и вязала. Выведенная всем этим из терпения, Елена даже раз сказала князю: «Пойдемте в мою комнату, там будет нам уединеннее!» – «И я с вами пойду!» – проговорила при этом сейчас же госпожа Жиглинская самым кротким голосом. – «Но вам скучно будет с нами?» – возразила было ей дочь. – «Нет, ничего!» – отвечала старуха с прежнею кротостью. Все это довело в князе страсть к Елене почти до безумия, так что он похудел, сделался какой-то мрачный, раздражительный.
В одно из воскресений князь обедал у кузины своей Анны Юрьевны. Анна Юрьевна была единственная особа из всей московской родни князя, с которою он не был до неприличия холоден, а, напротив того, видался довольно часто и был даже дружен. Таким предпочтением от кузена Анна Юрьевна пользовалась за свой свободный нрав. Владетельница огромного состояния, она лет еще в семнадцать вышла замуж, но, и двух лет не проживши с мужем, разошлась с ним и без всякой церемонии почти всем рассказывала, что «une canaille de ce genre n'ose pas se marier!»[26]. Всю почти молодость Анна Юрьевна провела за границей. Скандальная хроника рассказывала про нее множество приключений, и даже в настоящее время шла довольно положительная молва о том, что она ездила на рандеву к одному юному музыкальному таланту, но уже сильному пьянице города Москвы. Анна Юрьевна и сама, впрочем, в этом случае не скрытничала и очень откровенно объясняла, что ей многое на том свете должно проститься, потому что она много любила. По наружности своей она была плотная, но еще подбористая блондинка, с сухими и несколько строгими чертами лица и сильно рыжеватыми волосами. Лета ее в настоящее время определить было нельзя, хотя она далеко не выглядела пожилою женщиною. Умная, богатая, бойкая, Анна Юрьевна сразу же заняла одно из самых видных мест в обществе и, куда бы потом ни стала появляться, всюду сейчас же была окружаема, если не толпой обожателей, то, по крайней мере, толпою самых интимных ее друзей, с которыми она говорила и любила говорить самого вольного свойства вещи. С женщинами своего круга Анна Юрьевна почти не разговаривала и вряд ли не считала их всех сравнительно с собой дурочками. Князь Григоров, никогда и ни с какой женщиной не шутивший, с Анной Юрьевной любил, однако, болтать и на ее вольности отвечал обыкновенно такого рода вольностями, что даже Анна Юрьевна восклицала ему: «Нет, будет! Довольно! Это уж слишком!» Обедать у Анны Юрьевны князь тоже любил, потому что в целой Москве, я думаю, нельзя было найти такого пикантного и приятного на мужской вкус обеда, как у ней. В каждое блюдо у Анны Юрьевны не то что было положено, но навалено перцу… Настоящий обед ублаготворил тоже князя полнейшим образом: прежде всего был подан суп из бычьих хвостов, пропитанный кайенной[27], потом протертое свиное мясо, облитое разного рода соями, и, наконец, трюфели а la serviette, и все это предоставлено было запивать благороднейшим, но вместе с тем и крепчайшим бургонским. Князь обедал один у Анны Юрьевны. После обеда, по обыкновению, перешли в будуар Анны Юрьевны, который во всем своем убранстве представлял какой-то нежащий и вместе с тем волнующий характер: на картинах все были очень красивые и полуобнаженные женщины, статуи тоже все Венеры и Дианы, мягкие ковры, мягкая мебель, тепловатый полусвет камина… Сама Анна Юрьевна полулегла на длинное кресло, а князь Григоров, все еще остававшийся угрюмым и мрачным, уселся на диван. Он очень ясно чувствовал в голове шум от выпитого бургонского и какой-то разливающийся по всей крови огонь от кайенны и сой, и все его внимание в настоящую минуту приковалось к висевшей прямо против него, очень хорошей работы, масляной картине, изображающей «Ревекку»[28], которая, как водится, нарисована была брюнеткой и с совершенно обнаженным станом до самой талии. Что касается до Анны Юрьевны, которая за обедом тоже выпила стакана два – три бургонского, то она имела заметно затуманившиеся глаза и была, как сама про себя выражалась, в сильно вральном настроении.
– Gregoire! – воскликнула вдруг она, соскучившись молчанием кузена. – Девица, которую я определила по твоему ходатайству, n'est elle pas la bien-aimee de ton coeur?[29]
– Это с чего вам пришло в голову? – спросил, сколько возможно насмешливым и даже суровым голосом, князь. Но если бы в комнате было несколько посветлее, то Анна Юрьевна очень хорошо могла бы заметить, как он при этом покраснел.
– А мне казалось, – воскликнула она, – что тут есть маленькая любовь… Ты знаешь, что из учительниц я делаю ее начальницей?
– Будто? – спросил князь как бы совершенно равнодушным голосом.
– Решительно! Elle me plait infiniment!..[30] Она такая усердная, такая привлекательная для детей и, главное, такая элегантная.
Анна Юрьевна хоть и бойко, но не совсем правильно изъяснялась по-русски: более природным языком ее был язык французский.
– Я совершенно полагала, что это одна из твоих боковых альянс, – продолжала она.
– Одна из боковых альянс?.. – повторил насмешливо князь. – А вы полагаете, что у меня их много?
– Уверена в том! – подхватила Анна Юрьевна и захохотала. – Il me semble, que la princesse ne peut pas…[31], как это сказать по-русски, владеть всем мужчиной.
Князь нахмурился еще более. Такой разговор о жене ему, видимо, показался не совсем приятен и приличен.
– Je crois qu'elle est tres apathique[32], – продолжала Анна Юрьевна.
– Et pourquoi le croyez vous?[33] – спросил князь, уже рассмеявшись.
– Parce qu'elle est blonde![34] – отвечала Анна Юрьевна.
– Mais vous l'etes de meme![35] – возразил ей грубо князь.
– Oh!.. moi, je suis rousse!..[36] У нас кровь так подвижна, что не имела времени окраситься, а так красная и выступила в волосах: мы все – кровь.
Князь покачал на это только головою.
– Новая теория!.. Никогда не слыхал такой.
– Ну так услышь! Знай это. A propos, encore un mot[37]: вчера приезжал ко мне этот Елпидифор Мартыныч!.. – И Анна Юрьевна, несмотря на свой гибкий язык, едва выговаривала эти два дубоватые слова. – Он очень плачет, что ты прогнал его, не приглашаешь и даже не принимаешь: за что это?
– За то, что он дурак и подлец великий! – отвечал князь.
– Но чем? – спросила Анна Юрьевна, уже воскликнув и настойчиво.
– Всем, начиная с своей подлой рожи до своих подлых мыслей! – сказал князь.
– Fi donc, mon cher![38] У всех русских, я думаю, особенно которые из бедных вышли, такие же рожи и мысли.
Анна Юрьевна не совсем, как мы видим, уважала свою страну и свой народ.
– Подите вы: у всех русских! – перебил ее князь.
– Елпидифор, по крайней мере, тем хорош, – продолжала Анна Юрьевна, – что он раб и собачка самая верная и не предаст вас никогда.
– Ну, я до рабов не охотник, и, по-моему, чем кто, как раб, лучше, тем, как человек, хуже. Adieu! – произнес князь и встал.
– Ты уж едешь? – спросила Анна Юрьевна с неудовольствием.
– Еду, нужно! – отвечал князь и при этом, как бы не утерпев, еще раз взглянул на «Ревекку».
– Головой парирую, что ты едешь не домой! – сказала Анна Юрьевна, пожимая ему руку.
– Не домой, – ответил князь.
– Но куда же?
– Куда нужно!
– Если мужчина не говорит, куда едет, то он непременно едет к женщине.
Князь не без досады усмехнулся.
– У вас, кажется, кузина, только и есть в голове, как мужчины ездят к женщинам или как женщины ездят к мужчинам.
– Нет! – отвечала Анна Юрьевна с презрительной гримасой. – Надоело все это, так все prosaique[39], ничего нет оригинального.
– Но чего же бы вы желали оригинального?
– Любви какого-нибудь философа, медвежонка не ручного, как ты, например!
– Я? – произнес князь и захохотал даже при этом.
– Ты, да! – подтвердила Анна Юрьевна.
– В первый раз слышу! – проговорил князь и явно поспешил уйти поскорей от кузины.
– И в последний: женщины двух раз подобных вещей не говорят! – крикнула она ему вслед.
Князь на это ничего не ответил и, сев в карету, велел себя везти на Кузнецкий мост. Здесь он вышел из экипажа и пошел пешком. Владевшие им в настоящую минуту мысли заметно были не совсем спокойного свойства, так что он горел даже весь в лице. Проходя мимо одного оружейного магазина и случайно взглянув в его окна, князь вдруг приостановился, подумал с минуту и затем вошел в магазин.
– Дайте мне револьвер, пожалуйста! – сказал он каким-то странным голосом, обращаясь к красивому а изящному из себя приказчику.
– Большой прикажете? – спросил его тот.
– Чтобы человека мог убить! – ответил князь, не совсем искренно улыбаясь.
– О, это всякий убьет! – подхватил с гордостью приказчик. – Voici, monsieur, – прибавил он, показывая шестизарядный револьвер.
– Кажется, хорош? – произнес князь.
– Превосходный! – воскликнул приказчик и, как бы в доказательство того, прицелился револьвером в другого приказчика, который при этом усмехнулся и отодвинулся немного.
– Вам, вероятно, револьвер нужен для дороги, monsieur? – присовокупил первый приказчик.
– Да-а! – протянул князь. – Я еду в деревню, а теперь там без револьвера нельзя.
– О, да, monsieur, многие помещики берут с собой револьверы. Зарядов прикажете?
– Непременно-с! – отвечал князь.
Приказчик, уложив револьвер и заряды в один общий ящик, подал его князю. Тот, расплатившись, вышел из магазина и велел себя везти в гостиницу Роше-де-Канкаль.
– Номер мне особенный! – сказал он, входя туда.
– В какую цену? – спросил было его лакей.
– В какую хочешь! – отвечал князь.
Лакей ввел его в богатейший номер с огромными зеркалами в золотых рамах, с шелковой драпировкой, с камином и с роскошнейшей постелью.
– Чернильницу мне и все, что нужно для письма! – сказал князь.
– Сию секунду-с! – отвечал лакей и, сбегав, принес что ему было приказано.
– Ты мне больше не нужен, – сказал ему почти сердито князь.
Лакей поспешно стушевался.
Князь – выражение лица у него в эти минуты было какое-то ожесточенное – сейчас же сел и принялся писать:
«Несравненная Елена! Я желаю до сумасшествия видеть вас, но ехать к вам бесполезно; это все равно, что не видеть вас. Доверьтесь мне и приезжайте с сим посланным; если вы не приедете, я не знаю, на что я решусь!»
Запечатав эту записку облаткой, князь позвонил. Вбежал тот же лакей.
– Кучера мне моего позови! – проговорил князь.
Лакей вышел, и через минуту вошел кучер, красивый мужик в длиннополом лисьем суконном кафтане и в серебряном широком кушаке. Водкой и холодом так и пахнуло от него на всю комнату.
– Ты поезжай к Жиглинским, – слышишь?.. – заговорил князь. – Отыщи там барышню непременно, – слышишь?.. Отдай ей в руки вот это письмо, только ей самой, – понимаешь?.. И привези ее сюда.
– Понимаю-с! – протянул кучер.
Он, кажется, в самом деле понял, в чем тут штука.
– Если ее дома нет, то отыщи ее там, куда она уехала, хоть бы на дне морском то было, – понимаешь?.. – продолжал князь тем же отрывистым и почти угрожающим голосом.
– Отыщу-с, только бы сказали где, – отвечал кучер, потупляя несколько глаза перед князем.
– Ступай!
Кучер вышел и, проходя коридором, видимо, соображал, как ему все это хорошенько сделать для барина.
Оставшись один, князь принялся ходить по номеру. Шаги его были беспорядочны: он шел то в один угол, то в другой. Не прошло еще и десяти минут после того, как кучер уехал, а князь уже начал прислушиваться к малейшему шуму в коридоре, и потом, как бы потеряв всякую надежду, подошел к револьверу, вынул его, осмотрел и зарядил. Глаза у него в эти минуты были почти помешаны, руки дрожали… Но вот послышался, наконец, щелчок замка в двери номера; князь поспешно спрятал револьвер в ящик и вышел на средину комнаты; затем явно уже слышен стал шум платья женского; князь дрожал всем телом. Вошла Елена, несколько сконфуженная и робеющая.
– Здравствуй!.. Что это тебе так вздумалось прислать за мною?.. – говорила она.
– Да так уж, извини!.. – сказал князь, беря и целуя обе ее руки. – Мы, впрочем, здесь совершенно безопасны, – прибавил он, подходя и запирая дверь.
Елена сняла шляпку и подошла к зеркалу поправить свои волосы. Некоторое смущение и конфузливость были заметны во всей ее фигуре, во всех ее движениях.
– Ну, садись! – сказал ей князь, тоже как-то неловко и несмело беря ее за руку и сажая на стул.
Елена повиновалась ему.
– А что мать твоя? – спросил он.
– Она, как нарочно, в гости сегодня уехала, – отвечала с улыбкою Елена.
– А если бы не уехала, так, пожалуй бы, и не пустила тебя?
Лицо Елены мгновенно нахмурилось и приняло какой-то решительный вид.
– Вот еще! Послушалась бы я!.. Взяла да ушла, – сказала она.
– А скажи, отчего это она, – продолжал князь, – двух слов не дает нам сказать наедине?
Елена затруднилась несколько отвечать на этот вопрос. Она отчасти догадывалась о причине, почему мать так надзирает за ней, но ей самой себе даже было стыдно признаться в том.
– Может быть, ей почему-нибудь не нравятся наши отношения, – отвечала она.
– А ты знаешь, – подхватил князь, все ближе и ближе пододвигаясь к Елене, – что если бы ты сегодня не приехала сюда, так я убил бы себя.
– Что за глупости! – воскликнула Елена.
– Нет, не глупости; я и револьвер приготовил! – прибавил он, показывая на ящик с пистолетом.
– Фарс! – проговорила Елена уже с досадой. – Не говори, пожалуйста, при мне пустых слов: я ужасно не люблю этого слушать.
– Это не пустые слова, Елена, – возражал, в свою очередь, князь каким-то прерывистым голосом. – Я без тебя жить не могу! Мне дышать будет нечем без твоей любви! Для меня воздуху без этого не будет существовать, – понимаешь ты?
Елена сомнительно, но не без удовольствия покачала своей хорошенькой головкой.
– Наконец, я прямо тебе говорю, – продолжал князь, – я не в состоянии более любить тебя в таких далеких отношениях… Я хочу, чтобы ты вся моя была, вся!..
Елена при этом немного отвернулась от него.
– Да разве это не все равно? – сказала она.
– Нет, не все равно.
– Ну, люби меня, пожалуй, как хочешь!.. – проговорила, наконец, Елена, но лица своего по-прежнему не обращала к нему.
– Я сегодня, – говорил, как бы совсем обезумев от радости, князь, – видел картину «Ревекка», которая, как две капли, такая же красавица, как ты, только вот она так нарисована, – прибавил он и дрожащей, но сильной рукой разорвал передние застежки у платья Елены и спустил его вместе с сорочкою с плеча.
– Что ты, сумасшедший? – было первым движением Елены воскликнуть.
Князь же почти в каком-то благоговении упал перед ней на колени.
– О, как ты дивно хороша! – говорил он, простирая к ней руки.
Елена пылала вся в лице, но все-таки старалась сохранить спокойный вид: по принципам своим она находила очень естественным, что мужчина любуется телом любимой женщины.
– А что, если ты… – заговорила она, кидая на князя взгляд, – не будешь меня любить так, как я хочу, чтоб меня любили?
– Буду, как только ты желаешь, но ты меня разлюбишь сама!
– За что же я тебя разлюблю?.. Разве ты знаешь причину тому?
– Никакой я не знаю, но можешь разлюбить. Постой!.. – воскликнул князь и встал на ноги. – Если ты разлюбишь меня или умрешь, так позволь мне застрелить себя… из этого револьвера… – прибавил он и раскрыл перед Еленой ящик с оружием.
– Изволь! – отвечала та, смеясь.
– Напиши это чернилами на крышке.
– Зачем же писать? – спросила Елена.
– Непременно напиши, я хочу этого.
– Но что ж я писать буду?
– Напиши, что «позволяю князю Григорову, когда я разлюблю его, застрелиться, такая-то».
Елена написала.
– Ну, теперь я доволен! – проговорил князь и стал снова перед Еленой на колени.
V
Весеннее солнце весело светило в квартиру госпожи Жиглинской. Сама Елизавета Петровна сидела на этот раз в гостиной, по обыкновению своему сохраняя весьма гордую позу, а прямо против нее помещался, несколько раз уже посещавший ее, Елпидифор Мартыныч, раздушенный, в новом вицмундире, в чистом белье и в лаковых даже сапогах. Он всегда ездил к Жиглинским прифранченный и заметно желал встретиться с Еленой, но ни разу еще не застал ее дома. Елизавета Петровна, очень обрадовавшись приезду этого гостя, не преминула сейчас же начать угощать его кофеем, приятный запах от которого и распространился по всем комнатам. Довольство в доме Жиглинских с тех пор, как Елена сделалась начальницей заведения, заметно возросло; но это-то именно и кидало Елизавету Петровну в злобу неописанную: повышение дочери она прямо относила не к достоинствам ее, а к влиянию и просьбам князя. «А, голубчик, ты этими наградами по должности и думаешь отделаться?!. Нет, шалишь!» – рассуждала она все это время сама с собой, и Елпидифор Мартыныч приехал к ней как нельзя более кстати, чтобы излить перед ним все, что накипело у нее на душе.
– Да, времена, времена!.. – говорила она, и нахальное лицо ее покрылось оттенком грусти.
– К-х-ха! – откашлянулся ей в ответ Елпидифор Мартыныч. – Времена вот какие-с!.. – начал он самой низкой октавой и как бы читая тайные мысли своей собеседницы. – Сорок лет я лечил у князей Григоровых, и вдруг негоден стал!..
– За что же так? – спросила она его насмешливо.
– К-х-ха! – кашлянул Елпидифор Мартыныч. – За то, видно, что не говори правды, не теряй дружбы!..
– Вот за что! – произнесла Елизавета Петровна: она давно и хорошо знала Иллионского и никак не предполагала, чтобы он когда-нибудь и в чем-нибудь позволил себе быть мучеником за правду.
– Конечно, это грустно видеть… – продолжал он с некоторым уже чувством. – Покойный отец князя был человек почтенный; сколько тоже ни было здесь высшего начальства, все его уважали. Я сам был лично свидетелем: стояли мы раз у генерал-губернатора в приемной; генералов было очень много, полковников тоже, настоятель греческого монастыря был, кажется, тут же; только всем говорят: «Занят генерал-губернатор, дожидайтесь!» Наконец, слышим – грядет: сам идет сзади, а впереди у него князь Григоров, – это он все с ним изволил беседовать и заниматься. Генералам всем генерал-губернатор говорит: «Вы зачем? Вам что надо?», – а князю Григорову жмет ручку и говорит: «Adieu, mon cher[40], приезжай завтра обедать!» К-ха! – заключил Елпидифор Мартыныч так сильно, что Елизавета Петровна, довольно уже привыкшая к его кашлю, даже вздрогнула немного.
– Ну, сынку такой чести не дождаться! – заметила она.
– Нет… нет!.. – подхватил ядовито-насмешливо Елпидифор Мартыныч. – Вот который год живет здесь, а я человека порядочного не видал у него!.. Мало, что из круга своего ни с кем не видится, даже с родными-то своими со всеми разошелся, и все, знаете, с учеными любит беседовать, и не то что с настоящими учеными – с каким-нибудь ректором университета или ректором семинарии, с архиереем каким-нибудь ученым, с историком каким-нибудь или математиком, а так, знаете, с вольнодумцами разными; обедами их все прежде, бывало, угощал. Ну, и меня тоже иногда княгиня оставляла, так страсти господни сидеть за столом было – ей-богу!.. Такую ахинею несут, что хоть святых выноси вон! А возражать им станешь, насмешке подвергать тебя станут, точно с малым ребенком разговаривать с тобой примутся. Ко мне раз сам князь пристал, что видал ли я чудеса? «Нет, говорю, не имел этого счастия!» Ну так, говорит… Повторить даже теперь не могу, что сказал дерзновенный…
– Все это, я полагаю, от скупости в нем происходит, – сказала Елизавета Петровна.
– К-х-ха! – откашлянулся Елпидифор Мартыныч; он никак не ожидал такого вывода из его слов.
– Может быть, и от того, – произнес он.
– Совершенно от того! – подтвердила Елизавета Петровна. – У меня тоже вон дочка, – прибавила она, не помолчав даже нисколько, – хоть из рук вон брось!
– А!.. – произнес Иллионский, сначала не понявший хорошенько, почему Елизавета Петровна прямо с разговора о князе перешла к разговору о дочери.
– В восемь часов утра уйдет из дому, а в двенадцать часов ночи является!.. – продолжала она.
– А!.. – произнес еще раз Елпидифор Мартыныч. – Что же это она на службе, что ли, чем занята бывает?.. – прибавил он глубокомысленно.
– Какая это служба такая до двенадцати часов ночи? Если уж и служба, так какая-нибудь другая… – возразила Елизавета Петровна и злобно усмехнулась.
Она и прежде того всем почти всегда жаловалась на Елену и не только не скрывала никаких ее недостатков, но даже выдумывала их. Последние слова ее смутили несколько даже Елпидифора Мартыныча. Он ни слова ей не ответил и нахмурил только лицо.
– С тех пор и князь у нас почти не бывает, – присовокупила Елизавета Петровна.
– Не бывает? – спросил Елпидифор Мартыныч, навастривая с любопытством уши.
– Зачем же ему бывать? Видаются где-нибудь и без того! – отрезала Елизавета Петровна напрямик.
– Боже мой, боже мой! – произнес Елпидифор Мартыныч; такая откровенность Елизаветы Петровны окончательно его смутила.
– Только они меня-то, к сожалению, не знают… – продолжала между тем та, все более и более приходя в озлобленное состояние. – Я бегать да подсматривать за ними не стану, а прямо дело заведу: я мать, и мне никто не запретит говорить за дочь мою. Господин князь должен был понимать, что он – человек женатый, и что она – не уличная какая-нибудь девчонка, которую взял, поиграл да и бросил.
– Чего уличная девчонка!.. Нынче и с теми запрещают делать то! – воскликнул искреннейшим тоном Елпидифор Мартыныч: он сам недавно попался было прокурорскому надзору именно по такого рода делу и едва отвертелся.
– Как же не воспрещают!.. – согласилась Елизавета Петровна. – Но я, собственно, говорю тут не про любовь: любовь может овладеть всяким – женатым и холостым; но вознагради, по крайней мере, в таком случае настоящим манером и обеспечь девушку, чтобы будущая-то жизнь ее не погибла от этого!
– Еще бы не обеспечить! – проговорил Елпидифор Мартыныч, разводя своими короткими ручками: он далеко не имел такого состояния, как князь, но и то готов бы был обеспечить Елену; а тут вдруг этакий богач и не делает того…
– И не думает, не думает нисколько! – воскликнула Елизавета Петровна. – Я затем вам и говорю: вы прямо им скажите, что я дело затею непременно!
– Мне кому говорить? Я у них и не бываю… – возразил было на первых порах Елпидифор Мартыныч.
– Ну, там кому знаете! – произнесла госпожа Жиглинская почти повелительно: она предчувствовала, что Елпидифор Мартыныч непременно пожелает об этом довести до сведения князя, и он действительно пожелал, во-первых, потому, что этим он мог досадить князю, которого он в настоящее время считал за злейшего врага себе, а во-вторых, сделать неприятность Елене, которую он вдруг почему-то счел себя вправе ревновать. Но кому же передать о том?.. Князь и княгиня не принимают его… Лучше всего казалось Елпидифору Мартынычу рассказать о том Анне Юрьевне, которая по этому поводу станет, разумеется, смеяться князю и пожурит, может быть, Елену.
– Ну, прощайте! – сказал он, вставая.
– Прощайте! – отвечала ему госпожа Жиглинская, опять-таки предчувствуя, что он сейчас именно и едет исполнить ее поручение.
Елпидифор Мартыныч в самом деле проехал прямо к Анне Юрьевне.
– Дома госпожа? – спросил он очень хорошо ему знакомого лакея.
– Дома, у себя в кабинете, но заняты, кажется… – отвечал ему тот почти с презрением.
– Ничего! – отвечал Елпидифор Мартыныч и прошел прямо в кабинет.
Анна Юрьевна действительно сидела и писала письмо.
– Здравствуйте! – проговорила она, узнав Иллионского по походке и громкому кашлю, который он произвел, проходя гостиную.
– Садитесь, только не перед глазами, а то развлекать будете, – говорила она, не поднимая глаз от письма.
Анна Юрьевна хоть и принимала Елпидифора Мартыныча, но как-то никогда не допускала его близко подходить к себе: он очень возмущал ее чувство брезгливости своим гадким вицмундиром и своим гадким париком.
– Что нового? – проговорила она, кончив, наконец, писать.
– Ничего особенного-с. К-х-ха!.. – отвечал ей с кашлем Елпидифор Мартыныч. – У матери одной я сейчас был – гневающейся и плачущей.
– У какой это? – спросила Анна Юрьевна, зевая во весь рот.
– У Жиглинской, у старушки, – отвечал невинным голосом Иллионский.
– О чем же она плачет? – сказала Анна Юрьевна опять-таки совершенно равнодушно.
– По случаю дочери своей: совсем, говорит, девочка с панталыку сбилась…
– Елена? – спросила Анна Юрьевна, раскрывая в некотором удивлении глаза свои.
– Елена Николаевна-с, к-х-ха!.. – отвечал Елпидифор Мартыныч. – В восемь часов утра, говорят, она уходит из дому, а в двенадцать часов ночи возвращается.
– Где же она бывает?
Елпидифор Мартыныч пожал плечами.
– Мать говорит, что в месте, вероятно, недобропорядочном!
– Но с кем-нибудь, значит?
– Уж конечно.
– С кем же?
– Мать подозревает, что с князем Григорьем Васильевичем.
– С Гришей? Вот как!.. – воскликнула Анна Юрьевна.
Елпидифор Мартыныч держал при этом глаза опущенными в землю.
– Но хороша и мать, – какие вещи рассказывает про дочь! – продолжала Анна Юрьевна.
– Она мне по старому знакомству это рассказала, – проговорил Елпидифор Мартыныч.
– А вы мне тоже по старому знакомству разболтали?.. – воскликнула Анна Юрьевна насмешливо. – И если вы теперь, – прибавила она с явно сердитым и недовольным видом, – хоть слово еще кому-нибудь, кроме меня, пикнете о том, так я на всю жизнь на вас рассержусь!..
– Я никому, кроме вас, и не смею сказать-с, – пробормотал Елпидифор Мартыныч, сильно сконфуженный таким оборотом дела.
– А мне-то вы разве должны были говорить об этом, – неужели вы того не понимаете? – горячилась Анна Юрьевна. – Елена моя подчиненная, она начальница учебного заведения: после этого я должна ее выгнать?
Елпидифор Мартыныч откашлянулся на весь почти дом.
– Нет-с, я не к тому это сказал, – начал он с чувством какого-то даже оскорбленного достоинства, – а говорю потому, что мать мне прямо сказала: «Я, говорит, дело с князем затею, потому что он не обеспечивает моей дочери!»
– Да разве он не обеспечивает? – перебила его Анна Юрьевна.
– Нисколько, говорит мать… Кому же мне сказать о том? У князя я не принят в доме… я вам и докладываю. К-ха!
Анна Юрьевна некоторое время размышляла.
– Это надобно как-нибудь устроить… – проговорила она как бы больше сама с собой. – Ну, прощайте теперь, – заключила она затем, кивнув головой Елпидифору Мартынычу.
Тот на это не осмелился даже поклониться Анне Юрьевне, а молча повернулся и тихо вышел из кабинета. Анна Юрьевна после того тотчас же велела заложить карету и поехала к Григоровым. Первые ее намерения были самые добрые – дать совет князю, чтобы он как можно скорее послал этим беднякам денег; а то он, по своему ротозейству, очень может быть, что и не делает этого… (Анна Юрьевна считала князя за очень умного человека, но в то же время и за величайшего разиню). Девочка, по своей застенчивости и стыдливости, тоже, вероятно, ничего не просит у него, и старуха, в самом деле, затеет процесс с ним и сделает огласку на всю Москву. Но когда Анна Юрьевна приехала к Григоровым, то князя не застала дома, а княгиня пригласила ее в гостиную и что-то долго к ней не выходила: между княгиней и мужем только что перед тем произошла очень не яркая по своему внешнему проявлению, но весьма глубокая по внутреннему содержанию горя сцена. День этот был день рождения княгини, и она с детства еще привыкла этот день весело встречать и весело проводить, а потому поутру вошла в кабинет мужа с улыбающимся лицом и, поцеловав его, спросила, будет ли он сегодня обедать дома. Князь более месяца никогда почти не бывал дома и говорил жене, что он вступил в какое-то торговое предприятие с компанией, все утро сидит в их конторе, потом, с компанией же, отправляется обедать в Троицкий, а вечер опять в конторе. Княгиня делала вид, что верит ему.
– Что же, ты обедаешь или нет дома? – повторила она свой вопрос, видя, что князь не отвечает ей и сидит насупившись.
– Нет, не могу и сегодня, – отвечал он, не поднимая головы.
– Ну, как хочешь! – отвечала княгиня и затем, повернувшись, ушла в гостиную, где и принялась потихоньку плакать.
Князь все это видел, слышал и понимал. Сначала он кусал себе только губы, а потом, как бы не вытерпев долее, очень проворно оделся и ушел совсем из дому.
Когда княгине доложили о приезде Анны Юрьевны, она велела принять ее, но сама сейчас же убежала в свою комнату, чтобы изгладить с лица всякий след слез. Она не хотела еще никому из посторонних показывать своей душевной печали.
Покуда княгиня приводила себя в порядок, Анна Юрьевна ходила взад и вперед по комнате, и мысли ее приняли несколько иное течение: прежде видя князя вместе с княгиней и принимая в основание, что последняя была tres apathique, Анна Юрьевна считала нужным и неизбежным, чтобы он имел какую-нибудь альянс на стороне; но теперь, узнав, что он уже имеет таковую, она стала желать, чтобы и княгиня полюбила кого-нибудь постороннего, потому что женщину, которая верна своему мужу, потому что он ей верен, Анна Юрьевна еще несколько понимала; но чтобы женщина оставалась безупречна, когда муж ей изменил, – этого даже она вообразить себе не могла и такое явление считала почти унижением женского достоинства; потому, когда княгиня, наконец, вышла к ней, она очень дружественно встретила ее.
– Bonjour, ma chere, – сказала она, крепко пожимая ей руку. – Супруга твоего, по обыкновению, нет дома, – прибавила она, усевшись с хозяйкою на диван.
– Дома нет, – отвечала княгиня, стараясь насильно улыбнуться.
– Что же ты одна сидишь?.. Тебе надобно иметь un bon ami[41], который бы развлекал тебя.
– Непременно надобно! – подхватила княгиня, продолжая притворно улыбаться.
– Что же мешает? – спросила Анна Юрьевна.
– Не умею, кузина! – отвечала княгиня.
– О, ma chere, quelle folie!..[42] Как будто бы какая-нибудь женщина может говорить так! Это все равно, что если бы кто сказал, qu'il ne sait pas manger!..[43]
Княгиня и на это только усмехнулась.
– Шутки в сторону! Приезжай ко мне сегодня обедать, – продолжала Анна Юрьевна, в самом деле, должно быть, серьезно решившаяся устроить что-нибудь в этом роде для княгини. – У меня сегодня будет обедать un certain monsieur Chimsky!.. Il n'est pas jeune, mais il est un homme fort agreable.[44]
Химский был один из старых заграничных знакомых Анны Юрьевны, некогда участвовавший во всех ее удовольствиях.
– Нет, сегодня не могу, – отвечала княгиня, все-таки желавшая отобедать этот день дома.
– Отчего же?.. Приезжай! – повторила настойчиво Анна Юрьевна.
Ей, по преимуществу, хотелось познакомить княгиню с Химским, который был очень смелый и дерзкий человек с женщинами, и Анна Юрьевна без искреннего удовольствия вообразить себе не могла, как бы это у них вдруг совершенно неожиданно произошло: Анна Юрьевна ужасно любила устраивать подобные неожиданности.
– Что же, приедешь или нет? – повторила она.
– Нет! – отвечала княгиня.
– Глупо! – произнесла Анна Юрьевна и позевнула; ей уже стало и скучно с княгиней.
Посидев еще несколько времени, больше из приличия, она начала, наконец, прощаться и просила княгиню передать мужу, чтобы тот не медля к ней приехал по одному очень важному для него делу; но, сходя с лестницы, Анна Юрьевна встретила самого князя.
С ним произошел такого рода случай: он уехал из дому с невыносимой жалостью к жене. «Я отнял у этой женщины все, все и не дал ей взамен ничего, даже двух часов в день ее рождения!» – говорил он сам себе. С этим чувством пришел он в Роше-де-Канкаль, куда каждодневно приходила из училища и Елена и где обыкновенно они обедали и оставались затем целый день. По своей подвижной натуре князь не удержался и рассказал Елене свою сцену с женой. Та выслушала его весьма внимательно.
– Что же, поезжай, отобедай с ней вместе, – сказала она, потупляя свои черные глаза.
– Не хочется что-то, – произнес не совсем, как показалось Елене, искренним голосом князь.
– Мало чего не хочется! – возразила ему Елена совсем уже неискренне.
– И в самом деле, лучше ехать! – сказал князь, подумав немного, и затем сейчас же встал с своего места.
– Поезжай! – повторила ему еще раз Елена, протягивая на прощанье руку.
Если бы князь хоть сколько-нибудь повнимательнее взглянул на нее, то увидел бы, какая мрачная буря надвинулась на ее молодое чело.
– После обеда я приеду сюда. Ты подожди меня, – сказал он торопливо.
– Нет, я дожидаться не стану… – отвечала Елена.
– Отчего же?
– Оттого, что не хочу, – произнесла Елена, видимо, употребив над собой все усилие, чтобы смягчить свой голос и сделать его менее гневным.
– Жаль очень! – проговорил князь, ничего этого не заметивший и спешивший только уйти.
Ему на этот раз больше всего хотелось приехать поскорей домой и утешить жену.
– Ах, очень кстати! – воскликнула Анна Юрьевна, увидев его входящим в сени. – Где бы тут переговорить с тобой? Можно в этой швейцарской? – прибавила она, показывая на комнату швейцара.
– Я думаю, можно, – отвечал князь, несколько удивленный ее словами и встречею с нею.
И затем они оба вошли в швейцарскую.
– У тебя связь с Еленой, но ты не даешь ей ни копейки денег! Мне сегодня очень достоверный человек рассказал, que sa mere a envie de porter plainte centre vous[45], – начала Анна Юрьевна прямо.
– Как я не даю? Сколько раз я предлагал Елене… – бухнул князь, совсем опешенный словами Анны Юрьевны.
– Не Елене надобно было предлагать!.. Она, конечно, у тебя не возьмет, а пошли матери, и пошли сейчас же. А теперь прощай, – проговорила Анна Юрьевна и сама пошла.
– Кузина, я боюсь больше всего, чтобы это открытие не повредило в ваших глазах Елене? – проговорил ей вслед несколько опомнившийся князь.
– Вот вздор какой! – отвечала Анна Юрьевна, садясь в свою карету.
VI
Совет кузины, в отношении Жиглинских, князь выполнил на другой же день, и выполнил его весьма деликатно. Зная, когда Елены наверное не бывает дома, он послал к старухе Жиглинской своего управляющего, который явился к Елизавете Петровне и вручил ей от князя пакет с тремястами рублей серебром.
– Князь приказал вас спросить, – доложил ей при этом управляющий, – как вам будет угодно получать деньги на следующие месяцы: к вам ли их прикажете доставлять на дом или сами будете жаловать к нам в контору для получения?
– Ах, я сама буду ездить, вы не беспокойтесь, – проговорила Елизавета Петровна, принимая трепещущими руками деньги и вся краснея в лице от удовольствия.
Управляющий поклонился ей и хотел было уйти.
– Князь нанял у меня землю и, вероятно, помесячно желает мне платить, – пояснила ему г-жа Жиглинская.
– Да-с, они ежемесячно приказали вам доставлять, – ответил ей управляющий.
– Очень благодари!.. Очень!.. – говорила Елизавета Петровна радушнейшим голосом. – У князя, кажется, тоже есть имение в Саратовской губернии?
– Есть, – сказал управляющий.
– Ну, и мое имение, значит, соседнее вашему. Не в убытке будете, что наняли, не в убытке! – повторила Елизавета Петровна дважды.
Управляющий молчал. Князь не говорил ему ни слова об имении.
– Большое имение князь изволил у вас взять? – спросил он.
– О, да, порядочное! – отвечала Елизавета Петровна с некоторою важностью.
Ей казалось, что она, лгав таким образом, очень умно и тонко поступает.
Когда управляющий ушел, Елизавета Петровна послала Марфушку купить разных разностей к обеду. Елене, впрочем, о получении денег она решилась не говорить лучше, потому что, бог знает, как еще глупая девочка примет это; но зато по поводу другого обстоятельства она вознамерилась побеседовать с ней серьезно.
Елена в этот день возвратилась из училища не в двенадцать часов ночи, а к обеду. Выйдя поутру из дому, Елена только на минуту зашла в Роше-де-Канкаль, отдала там швейцару записочку к князю, в которой уведомляла его, что она не придет сегодня в гостиницу, потому что больна; и затем к обеду возвратилась из училища домой. Ее очень рассердил вчера князь. Напрасно рассудок говорил в Елене, что князь должен был таким образом поступить и что для нее ничего тут нет ни оскорбительного, ни унизительного. Нет, не должен! – возражала она в сердцах сама себе, – и если супруге своей он не в состоянии отказать в подобных пустяках, значит, она страшное значение имеет для него. Что же после того Елена?.. Одно только пустое времяпрепровождение его, и с ней поэтому церемониться нечего! Можно ей рассказать со всевозможными подробностями о своих глупых объяснениях с супругой. Он гораздо бы больше показал ей уважения, если бы просто не приехал и сказал, что нельзя ему было, – все-таки это было бы умнее для него и покойнее для нее; тогда она по крайней мере не знала бы пошлой причины тому. О, как в эти минуты Елена возненавидела княгиню и дала себе твердое и непреложное слово, в первое же свидание с князем, объяснить ему и показать въяве: каков он есть человек на свете!
Елена, как и большая часть девушек ее времени и воспитания, иногда любила в мыслях и разговорах даже употреблять простонародные обороты.
Когда, наконец, Елизавета Петровна позвала дочь сесть за стол, то Елена, несмотря на свою грусть, сейчас же заметила, что к обеду были поданы: жареная дичь из гастрономического магазина, бутылка белого вина и, наконец, сладкий пирог из грецких орехов, весьма любимый Еленою. Она подумала, что мать все это приготовила по тому случаю, что Елена накануне еще сказала, что придет обедать домой, и ей сделалось несколько совестно против старухи. «Она-то меня все-таки любит, а я уж ее нисколько!» – подумала Елена с некоторою болью в сердце.
Елизавета Петровна между тем была в превосходнейшем расположении духа.
– Я не помню, говорила ли я тебе, – начала она, обращаясь к дочери и каким-то необыкновенно развязным тоном, – что у покойного мужа было там одно дело, по которому у него взято было в опеку его имение.
– Нет, не говорили, – отвечала ей серьезно Елена, действительно никогда ничего подобного не слыхавшая от матери.
– Как же, очень порядочное имение! – воскликнула Елизавета Петровна. – И вообрази себе: сегодня является ко мне письмоводитель квартального и объявляет, что дело это решено в нашу пользу; доставил мне часть денег и говорит, что и еще мне будет доставлено!..
– Это хорошо! – проговорила Елена с удовольствием.
– Как же, ангел мой, не хорошо! Кроме уже помощи, которую мы теперь получим, у нас будет каждогодный доход.
Перед дочерью Елизавета Петровна выдумала о каком-то имении покойного мужа затем, чтоб Елене не кинулся в глаза тот избыток, который Елизавета Петровна, весьма долго напостившаяся, намерена была ввести в свою домашнюю жизнь: похоти сердца в ней в настоящее время заменились похотями желудочными!
– Теперь еще я хотела тебя спросить, – продолжала она каким-то даже умильным голосом, – отчего у нас князь не бывает совсем?
– Он заметил, что вам не нравятся его посещения, – отвечала Елена.
– Господи помилуй! Господи помилуй!.. И не думала, и не думала! – воскликнула Елизавета Петровна, всплеснув даже руками.
– Как же вы не думали? Вы стерегли нас, как я не знаю что! – возразила ей Елена.
– Да мне просто любопытно было посидеть и послушать ваших умных разговоров, больше ничего! – отвечала г-жа Жиглинская невиннейшим голосом.
Елена на это ничего не сказала и только нахмурилась: она очень хорошо видела, что мать тут лжет отъявленным образом.
– Если в этом только, то пускай приезжает, я глаз моих не покажу. Что, в самом деле, мне, старухе, с вами, молодыми людьми, делать, о чем разговаривать?
Елена и на это тоже молчала. Она одного только понять не могла, отчего в матери произошла такая перемена, и объясняла это приятным настроением ее духа вследствие получения по какому-то делу денег.
– Ты, пожалуйста, попроси князя бывать у нас. Мне очень грустно, очень неприятно, что он так понимает меня! – продолжала Елизавета Петровна.
– Хорошо, я ему скажу… – проговорила Елена.
Она сама гораздо бы больше желала, чтобы князь бывал у них, а то, как она ни вооружалась стоическим спокойствием, но все-таки ей ужасно тяжело и стыдно было середь белого дня приходить в Роше-де-Канкаль. Ей казалось, что она на каждом шагу может встретить кого-нибудь из знакомых, который увидит, куда она идет; что швейцар, отворяя ей дверь, как-то двусмысленно или почти с презрением взглядывал на нее; что молодые официанты, стоящие в коридоре, при проходе ее именно о ней и перешептывались.
– Непременно скажи, прошу тебя о том! – восклицала Елизавета Петровна почти умоляющим голосом. – Или вот что мы лучше сделаем! – прибавила она потом, как бы сообразив нечто. – Чтобы мне никак вам не мешать, ты возьми мою спальную: у тебя будет зала, гостиная и спальная, а я возьму комнаты за коридором, так мы и будем жить на двух разных половинах.
– Хорошо, мне все равно! – отвечала Елена, сначала и не понявшая, для чего мать это затевает.
Елизавету же Петровну, как видно, сильно заняло ее новое предположение, так что, выйдя из-за стола, она, не теряя ни минуты, позвала Марфушу и дворника и заставила их вещи свои перетаскивать в комнату Елены, а вещи Елены – в свою комнату, и при этом последнюю заметно старалась убрать как можно наряднее; для этой цели Елизавета Петровна оставила в этой комнате свой ковер, свой ломберный стол и на нем вазы с восковыми цветами.
Елена все это время полулежала в гостиной на диване: у нее страшно болела голова и на душе было очень скверно. Несмотря на гнев свой против князя, она начинала невыносимо желать увидеть его поскорей, но как это сделать: написать ему письмо и звать его, чтобы он пришел к ней, это прямо значило унизить свое самолюбие, и, кроме того, куда адресовать письмо? В дом к князю Елена не решалась, так как письмо ее могло попасться в руки княгини; надписать его в Роше-де-Канкаль, – но придет ли еще туда князь?
Тот, впрочем, без всякого зову сам не заставил себя долго дожидаться. Елизавета Петровна едва только успела покончить свои хлопоты по поводу убранства нового помещения Елены, как раздался довольно сильный звонок.
Елена при этом сейчас же привстала на диване; Марфуша бросилась отворять дверь; г-жа Жиглинская тоже, будто бы случайно, выставилась в переднюю.
Это, как и ожидали все, приехал князь.
– Дома Елена Николаевна? – спросил он.
– Дома, пожалуйте! – ответила за Марфушу Елизавета Петровна.
Князь вошел.
– Благодарю! – сказала, проворно и почти насильно схватив его руку, Елизавета Петровна. – Я Елене не говорила, и вы не говорите, – прибавила она почти шепотом.
– Зачем же говорить ей! – произнес князь и поспешил уйти от Елизаветы Петровны.
– Вы больны? – сказал он обеспокоенным голосом, входя в гостиную к Елене и протягивая ей руку.
– Больна! – отвечала ему та довольно сухо.
– Но чем же?
– Голова болит! – говорила Елена. Намерение ее разбранить князя, при одном виде его, окончательно в ней пропало, и она даже не помнила хорошенько, в каких именно выражениях хотела ему объяснить поступок его. Князь, в свою очередь, тоже, кажется, немножко предчувствовал, что его будут бранить. Вошедшая, впрочем, Марфуша прервала на несколько минут их начавшийся разговор.
– Маменька приказала вам сказать, – обратилась она к Елене, – что они со мной сейчас уезжают к Иверской молебен служить, а потом к Каменному мосту в бани-с.
Князь при этом не удержался и улыбнулся, а Елена сконфузилась.
– Как ты, однако, глупа, Марфуша! – проговорила она.
При этом Марфа уже покраснела и сейчас же скрылась, а через несколько минут действительно Елизавета Петровна, как это видно было из окон, уехала с ней на лихаче-извозчике. Дочь таким образом она оставила совершенно с глазу на глаз с князем.
– Ну, подите сюда и сядьте около меня! – сказала ему Елена.
Князь подошел и сел около нее.
Елена положила ему голову на плечо.
– Что, много изволили с супругой вашей вчера любезничать? – спросила она его насмешливо.
– Напротив-с, очень мало! – отвечал он ей тоже насмешливо.
– Я думаю!.. – воскликнула Елена. – Ах, какой, однако, ты гадкий человек – ужас! – прибавила она, протягивая свои красивые ноги по дивану.
– Но чем же, однако, позвольте вас спросить? – сказал князь, все еще желавший и продолжавший отшучиваться.
– А тем, что… ну, решился провести этот день с женой. И скажи прямо, серьезно, как вон русские самодуры говорят: «Хочу, мол, так и сделаю, а ты моему нраву не препятствуй!». Досадно бы, конечно, было, но я бы покорилась; а то приехал, сначала хитрить стал, а потом, когда отпустили, так обрадовался, как школьник, и убежал.
– Ты в самом деле меня за какую-то дрянь совершенную почитаешь… – проговорил князь уже не совсем довольным голосом.
– Да ты дрянь и есть! – подхватила Елена и сама при этом, как бы не удержавшись, взглянула ему с нежностью в лицо.
– Так вот же тебе за это по русскому самодурству, если оно так тебе нравится! – сказал князь и слегка приложил свою руку к щечке Елены.
Она схватила его руку и начала ее целовать, целовать!
– Милый мой, ангел мой, я ужасно тебя люблю! – шептала она.
– А я разве меньше тебя люблю? – шептал тоже князь, целуя ее в лицо.
– Меньше!.. Постой, однако, – проговорила Елена, приподнимаясь с дивана, – мне что-то тут нехорошо, – прибавила она, показывая на горло. – Ужасно какой противный вкус во рту.
– Но ты не скушала ли чего-нибудь?
– Нет, у меня с неделю это чувство… Какое-то отвращение почти от всякой пищи!
– Может быть, это симптомы чего-нибудь? – спросил князь.
– Может быть!.. Но, друг мой, – продолжала Елена каким-то капризным голосом, – мне хочется жить нынче летом на даче в Останкине. Я, помню, там в детстве жила: эти леса, пруды, дорога в Медведково!.. Ужасно как было весело! Я хочу и нынешнее лето весело прожить.
– Что ж, и отлично! – подхватил князь.
– А ты будешь ли ко мне каждый день ездить? – спросила Елена.
– Я и сам там найму, чем мне ездить, – отвечал князь.
– Скажите, пожалуйста!.. Но вы забыли, как княгиня еще позволит вам это.
– Я княгиню и спрашивать не буду, а скажу ей только, что мы переедем туда.
– Ах, какой ты здесь храбрый, ужасно какой храбрый! – воскликнула Елена.
Князю заметно уж стало и не нравиться такое подсмеиванье над ним.
– Ревность никак не высокое чувство и извинительна только самым необразованным людям! – проговорил он, нахмуривая лоб.
– Я это знаю очень хорошо! – возразила Елена. – Но она в таком только случае не извинительна, когда кто прямо говорит: «Я вас не люблю, а люблю другую!», а если говорят напротив…
– А если говорят напротив, так так, значит, и есть! – перебил ее резко князь. – И чем нам, – прибавил он с усмешкою, – предаваться бесполезным словопрениям, не лучше ли теперь же ехать в Останкино и нанять там дачи?
– Ах, я очень рада! – воскликнула Елена в самом деле радостным голосом.
– Ну, так поедемте; время откладывать нечего.
– Сию минуту, только приоденусь немного, – отвечала Елена и ушла.
Князь, оставшись один, погрузился в размышления. Его смутили слова Елены о постигающих ее припадках: что, если эти припадки подтвердятся? Страх и радость наполнили при этой мысли сердце князя: ему в первый раз еще предстояло это счастие; но как встретить это событие, как провести его потом в жизни? Когда Елена вошла в шляпке и бурнусе, он все еще продолжал сидеть, понурив голову, так что она принуждена была дотронуться веером до его плеча.
– Я готова! – проговорила она.
– Едемте-с! – сказал князь, и через несколько времени они уже катили в его карете по дороге к Останкину.
Елена сидела, прижавшись в угол экипажа.
– Как бы я желала, чтобы карета эта далеко-далеко и навсегда увезла нас из Москвы! – сказала она.
– Да, недурно бы это было! – согласился и князь, сохраняя свой задумчивый и рассеянный вид; его все еще не оставляла мысль о припадках Елены. В Останкине они прежде всего проехали в слободку и наняли там очень хорошенькую дачку для Елены. Князь хотел было сразу же отдать хозяину все деньги.
– Не смейте этого делать! – крикнула на него по-французски Елена и подала хозяину дачи из своего кошелька двадцать пять рублей серебром.
– Но почему же?.. – спросил ее князь тоже по-французски, опять нахмуривая лоб.
– А потому, – отвечала Елена, – что жена ваша и без того, вероятно, думает, что я разоряю вас…
Лицо князя приняло еще более сердитое выражение.
– Ядовито сказано, хоть несправедливо совершенно, – произнес он.
Из слободки князь и Елена прошли через сад к главному дворцу; здесь князь вызвал к себе смотрителя дома; оказалось, что это был какой-то старый лакей. Прежде всего князь назвал ему фамилию свою; лакей при этом сейчас же снял шапку.
– Что, ваши флигеля свободны? – спросил князь.
– Свободны-с! – отвечал лакей.
– Ну, так скажите вашему управляющему, что оба эти флигеля я оставляю за собой на лето и чтобы он прислал мне записку, что они за мной.
– Слушаю-с! – отвечал ему лакей почтительно.
Покуда происходили все эти наниманья, солнце почти село, и на дворе становилось довольно свежо.
– Я начинаю, однако, зябнуть, – проговорила Елена.
– Поедемте скорее домой, – сказал с заботливостью князь, подсаживая ее в карету, где она не преминула спросить его: зачем он, собственно, нанял два флигеля?
– Затем, что в одном будет жить княгиня, а в другом я, – отвечал флегматически князь.
Елена на это ничего не сказала, но только удовольствие, видимо, отразилось в ее подвижном лице.
При обратном пути кучер поехал несколько другой дорогой, и, таким образом, пришлось проезжать мимо дома Анны Юрьевны. Было всего еще девять часов.
– Заедемте к вашей начальнице! – сказал князь Елене.
– Э, нет! Я всегда терпеть не могла бывать у всех моих начальниц, – отвечала Елена.
– Это не такая начальница; я вас сближу несколько с нею. Пожалуйста, заедемте! – уговаривал князь.
Ему, по преимуществу, хотелось посмотреть, как Анна Юрьевна примет Елену после того, как узнала она тайну ее отношения к нему.
– Хорошо, заедем, если тебе так уж этого хочется, – согласилась Елена.
– Я только предуведомлю ее о вас, – сказал князь, войдя с Еленою в залу Анны Юрьевны и уходя вперед ее в кабинет к той.
– Я к вам, кузина, заехал с mademoiselle Жиглинской! – сказал он.
– Ах, очень рада! – отвечала Анна Юрьевна каким-то странным голосом.
Анна Юрьевна вовсе не считала любовь чем-нибудь нехорошим или преступным, но все-таки этот заезд к ней кузена со своей любовницей, которая была подчиненною Анны Юрьевны, показался ей несколько странным и не совсем приличным с его стороны, и потому, как она ни старалась скрыть это чувство, но оно выразилось в ее голосе и во всех манерах ее.
– Пожалуйте сюда, mademoiselle Helene! – крикнула она, услышав, что та в зале дожидается.
Елена вошла. Она заметно конфузилась несколько.
– Vous etes bien aimable[46], что заехали ко мне, – продолжала Анна Юрьевна, крепко пожимая ей руку. – Прошу вперед посещать меня sans ceremonie.[47]
– Но я могу помешать вашим занятиям! – возразила ей Елена.
– О, моя милая! – воскликнула Анна Юрьевна. – Зачем вы это говорите? Вы очень хорошо убеждены, что я решительно ничего не делаю, как только сплю и ем.
– Нет, я в этом не убеждена, – отвечала ей серьезно Елена.
– А мы с mademoiselle Еленой ездили дачу нанимать в Останкино, – вмешался в разговор князь. – Она наняла дачку для себя, а я для себя!
– Вот как! – произнесла Анна Юрьевна. – Это, однако, дает и мне мысль нанять дачу, только не в Останкине, а по соседству около него, в Свиблове! Иван Иваныч! – крикнула затем Анна Юрьевна, звоня в то же время в колокольчик.
На этот зов вошел ее главный дворецкий.
– Съездите, мой милый, завтра в Свиблово и наймите мне там дачку. Помещение для меня какое хотите, – мне все равно, но главное, чтобы конюшни были хорошие и сараи.
Иван Иваныч поклонился ей на это и опять ушел к себе.
– Я там поселюсь, – начала Анна Юрьевна, обращаясь к гостям своим, – и буду кататься по свибловским полям на моих милых конях, или, как князь называет их, моих бешеных львах, – чудесно!
Анна Юрьевна страстно любила лошадей и, в самом деле, ездила почти на львах.
– Ну, эти львы ваши, кузина, вам сломят когда-нибудь голову, – заметил ей князь.
– Ах, мой милый!.. Ils feront tres bien!..[48] – отвечала, слегка вздохнув, Анна Юрьевна. – Я так часто в жизни моей близка была сломать себе голову, но не успела только, так пусть же они мне помогут в этом… Ваши занятия в конце мая совершенно окончатся? – отнеслась она затем к Елене, как бы чувствуя необходимость ее немножко приласкать.
– Да! – отвечала та ей сухо.
Она очень хорошо видела, что Анна Юрьевна, говоря с ней, почти насилует себя. Досада забушевала в сердце Елены против Анны Юрьевны, и, в отмщение ей, она решилась, в присутствии ее, посмеяться над русской аристократией.
– Мне очень бы желалось знать, – начала она, – что пресловутая Наталья Долгорукова[49] из этого самого рода Шереметевых, которым принадлежит теперь Останкино?
– Из этого! – отвечала Анна Юрьевна с несколько надменным видом. – Не правда ли, que c'est un etre tres poetique?.. L'ideal des femmes russes![50]
Елена сделала гримасу.
– По-моему, она очень, должно быть, недалека была, – проговорила Елена.
Анна Юрьевна взглянула на нее вопросительно.
– Потому что, – продолжала Елена, – каким же образом можно было до такой степени полюбить господина Долгорукова, человека весьма дурных качеств и свойств, как говорит нам история, да и вообще кого из русских князей стоит так полюбить?
– Князь! Remerciez pour се compliment; inclinez vous!..[51] – воскликнула Анна Юрьевна к князю.
– Я потому и позволяю себе говорить это в присутствии князя, – подхватила Елена, – что он в этом случае совершенно исключение: в нем, сколько я знаю его, ничего нет княжеского. А шутки в сторону, – продолжала она как бы более серьезным тоном, – скажите мне, был ли из русских князей хоть один настоящим образом великий человек, великий полководец, великий поэт, ученый, великий критик, публицист?.. Везде они являются дилетантами, играют какую-то второстепенную роль. Суворов был не князь; Пушкин, несмотря на свои смешные аристократические замашки, тоже не князь, Ломоносов не князь, Белинский не князь, Чернышевский и Добролюбов тоже не князья!
– Ну, а князь Пожарский[52], например?.. – перебила ее Анна Юрьевна, слушавшая весьма внимательно все эти слова ее.
Елена при этом мило пожала плечами своими.
– По-моему-с, он только человек счастливой случайности, – сказала она. – И кто в это действительно серьезное для России время больше действовал: он или Минин – история еще не решила.
– Пожарский что? – заметил и князь. – Вот Долгорукий, князь Яков Долгорукий[53] – то другое дело, это был человек настоящий!
– Это тот, который царские указы рвал?.. Но разве одна грубость и дерзость дают право на звание великого человека? – возразила ему Елена.
– Но кроме там вашего князя Якова Долгорукова мало ли было государственных людей из князей? – воскликнула Анна Юрьевна. – Сколько я сама знала за границей отличнейших дипломатов и посланников из русских князей!..
– О, если вы таких людей разумеете великими, то, конечно, их всегда было, есть и будет очень много, – проговорила Елена.
– Но каких же вы-то разумеете великими людьми? – спросила ее Анна Юрьевна уже с некоторою запальчивостью.
– Я разумею великим человеком только того, – отвечала Елена, – кто создал что-нибудь новое, избрал какой-нибудь новый путь, неизвестный, по крайней мере, в его народе; а кто идет только искусно по старым дорожкам – это, пожалуй, люди умные… ловкие в жизни…
– Но как же в жизни различить, кто идет по новым путям или по старым? – воскликнула Анна Юрьевна. – La vie n'est pas un champ[54], где видно, что есть дорога или нет… Вы говорите, моя милая, какую-то утопию!
– Почему же я говорю утопию? – спросила Елена удивленным голосом: ее больше всего поразило то, с какой это стати и в каком значении употребила тут Анна Юрьевна слово «утопия».
– Решительную утопию! – повторила та настойчиво с своей стороны.
Анна Юрьевна простодушно полагала, что утопиею называется всякая ложь, всякий вздор.
– Ну, однако, поедемте, пора! – сказал вдруг князь, вставая и обращаясь к Елене.
Он, кажется, несколько опасался, чтобы разговор между дамами не достигнул еще до больших резкостей.
– Пора! – отозвалась с удовольствием и Елена.
Анна Юрьевна, несмотря на происшедший спор, постаралась проститься с Еленой как можно радушнее, а князя, когда он пошел было за Еленой, приостановила на минуту.
– Посмотри, как ты девочку изнурил: ее узнать нельзя, – проговорила она ему шепотом.
– Подите вы, изнурил!.. – отвечал ей со смехом князь.
– Непременно изнурил!.. Она, впрочем, преумненькая, но предерзкая, должно быть…
– Есть это отчасти! – отвечал князь, еще раз пожимая руку кузины и уходя от нее.
Когда он завез Елену домой, то Елизавета Петровна, уже возвратившаяся и приведшая себя в порядок, начала его убедительно упрашивать, чтобы он остался у них отужинать. Князь согласился. Елена за ужином ничего не ела.
– Вы, кажется, хотите голодом себя уморить? – заметил ей князь.
– Все противно! – отвечала ему Елена.
Елизавета Петровна при этом ответе дочери внимательно посмотрела на нее.
VII
В самый день переезда Григоровых на дачу их постигнул траур; получена была телеграмма, что скоропостижно скончался Михайло Борисович Бахтулов. Князю Григорову непременно бы следовало ехать на похороны к дяде; но он не поехал, отговорившись перед женой тем, что он считает нечестным скакать хоронить того человека, которого он всегда ненавидел: в сущности же князь не ехал потому, что на несколько дней даже не в состоянии был расстаться с Еленой, овладевшей решительно всем существом его и тоже переехавшей вместе с матерью на дачу.
В Петербурге смерть Михайла Борисовича, не говоря уже о Марье Васильевне, с которой с самой сделался от испуга удар, разумеется, больше всех поразила барона Мингера. Барон мало того, что в Михайле Борисовиче потерял искреннейшим образом расположенного к нему начальника, но, что ужаснее всего для него было, – на место Бахтулова назначен был именно тот свирепый генерал, которого мы видели у Бахтулова и который на первом же приеме своего ведомства объяснил, что он в подчиненных своих желает видеть работников, тружеников, а не друзей. Барон, насчет которого были прямо сказаны эти слова, только слегка побледнел, и затем генерал при каждом докладе его стал придираться ко всевозможным пустым промахам и резко выговаривать за них. Барон молча выслушивал все это и в душе решился сначала уехать в четырехмесячный отпуск, а потом, с наступлением осени, хлопотать о переходе на какое-нибудь другое место. В один день, наконец, он высказал генералу свою просьбу об отпуске.
– Вы едете за границу? – спросил его тот насмешливо.
– Нет-с, в Москву! – отвечал ему барон.
– Отчего же не за границу? – повторил генерал опять насмешливо.
– Я не имею средств на то, – отвечал барон, гордо выпрямляясь перед ним.
– Я могу испросить вам пособие, – произнес генерал уже серьезно.
– Я не болен и не имею права на пособие, – проговорил барон тем же гордым тоном.
Он не хотел от этого дикого сатрапа[55] принимать никакого одолжения.
Генерал затем, весьма равнодушно написав на его докладной записке: «Уволить!», – возвратил ее барону, который, в свою очередь, холодно с ним раскланялся и удалился.
На другой день после этого объяснения, барон написал к князю Григорову письмо, в котором, между прочим, излагал, что, потеряв так много в жизни со смертью своего благодетеля, он хочет отдохнуть душой в Москве, а поэтому спрашивает у князя еще раз позволения приехать к ним погостить. «Этот Петербург, товарищи мои по службе, даже комнаты и мебель, словом, все, что напоминает мне моего богоподобного Михайла Борисовича, все это еще более раскрывает раны сердца моего», – заключал барон свое письмо, на каковое князь в тот же день послал ему телеграфическую депешу, которою уведомлял барона, что он ждет его с распростертыми объятиями и что для него уже готово помещение, именно в том самом флигеле, где и князь жил. Барон после того не замедлил прибыть в Москву и прямо с железной дороги в извозчичьей карете, битком набитой его чемоданами, проехал в Останкино.
Самого князя не было в это время дома, но камердинер его показал барону приготовленное для него помещение, которым тот остался очень доволен: оно выходило в сад; перед глазами было много зелени, цветов. Часа в два, наконец, явился князь домой; услыхав о приезде гостя, он прямо прошел к нему. Барон перед тем только разложился с своим измявшимся от дороги гардеробом. Войдя к нему, князь не утерпел и ахнул. Он увидел по крайней мере до сорока цветных штанов барона.
– Зачем у вас такая пропасть этой дряни? – воскликнул он.
– Цветных брюк надобно иметь или много, или ни одних, а то они очень приглядываются! – отвечал барон с улыбкою и крепко целуясь с другом своим.
– Княгиню видели? – спросил князь.
– Нет еще! – отвечал барон.
– Ну, так пойдемте к ней.
– Позвольте мне несколько привести себя в порядок, – отвечал барон.
– Будем ждать вас! – сказал князь и ушел к жене.
Ему поскорее хотелось видеть ее, потому что княгиня, как он успел подметить, не совсем большое удовольствие изъявила, услыхав, что барон собрался, наконец, и едет к ним гостить. Князь застал ее в зале играющею на рояле. Звуки сильные, энергические, исполненные глубокой тоски, вылетали из-под ее беленьких пальчиков. Княгиня в последнее время только и развлечение находила себе, что в музыке. Князь некоторое время простоял на балконе, как бы не решаясь и совестясь прервать игру жены. Невольное чувство совести говорило в нем, что эти сильные и гневные звуки были вызваны из кроткой души княгини им и его поведением; наконец, он вошел, княгиня сейчас же перестала играть. Она никогда больше при муже не играла и вообще последнее время держала себя в отношении его в каком-то официально-покорном положении, что князь очень хорошо замечал и в глубине души своей мучился этим.
– Барон приехал! – сказал он как можно более приветливым голосом.
– Слышала это я, – отвечала княгиня холодно.
«Опять этот холод и лед!» – подумал про себя князь. Обедать этот раз он предположил дома и даже весь остальной день мог посвятить своему приехавшему другу, так как Елена уехала до самого вечера в Москву, чтобы заказать себе там летний и более скрывающий ее положение костюм.
Часа в три, наконец, барон явился к княгине в безукоризненно модной жакетке, в щегольской соломенной летней шляпе, с дорогой тросточкой в руке и, по современной моде, в ярко-зеленых перчатках.
– Я привез вам поклон от вашего папа, мама, сестриц, – говорил он, подходя и с чувством пожимая руку княгини. – Все они очень огорчены, что вы пишете им об нездоровье вашем; и вы действительно ужасно как похудели!.. – прибавил он, всматриваясь в лицо княгини.
– Стареюсь, и от скуки, вероятно, – отвечала княгиня.
– А вы в Москве скучаете? – спросил барон.
– Ужасно!.. Препротивный город!.. – почти воскликнула княгиня.
Князь при этом разговоре сидел молча. Он догадывался, что жена всеми этими словами в его огород кидает камушки.
На даче Григоровы обедали ранее обыкновенного и потому вскоре затем пошли и сели за стол.
– Как чувствует себя бедная Марья Васильевна? – спросила княгиня барона.
– Ах, боже мой! Виноват, и забыл совсем! Она прислала вам письмо, – проговорил тот, вынимая из бумажника письмо и подавая его князю, который с недовольным видом начал читать его.
– Марья Васильевна поручила мне умолять князя, чтобы он хоть на несколько дней приехал к ней в Петербург, – объяснил барон княгине.
– Я и сама думаю, что ему надобно съездить, – проговорила та.
– Ты думаешь, а я не думаю! – произнес сердито князь, кидая письмо на стол. – Черт знает, какая-то там полоумная старуха – и поезжай к ней!.. Что я для нее могу сделать? Ничего! – говорил он, явно вспылив.
– Утешил бы ее тем, что она увидит тебя, больше ничего, – подхватила княгиня.
– Если ей так хочется видеть меня, так пусть сама сюда едет, – сказал тем же досадливым голосом князь.
– Как же самой ей ехать! – возразила княгиня.
– Она тронуться с постели теперь не может! – поддержал ее барон.
– Ну, когда не может, так и сиди там себе! – сказал князь резко, и вместе с тем очень ясно было видно, до какой степени он сам хорошо сознавал, что ему следовало съездить к старушке, и даже желал того, но все-таки не мог этого сделать по известной уже нам причине.
Княгиня на последние слова его ничего не сказала; барон тоже. Он, кажется, начинал немножко догадываться, что между супругами что-то неладное происходит.
После обеда князь пригласил барона перейти опять в их мужской флигель. Барон при этом взглянул мельком на княгиню, сидевшую с опущенными в землю глазами, и покорно последовал за князем.
Княгиня, оставшись одна, опять села за рояль и начала играть; выбранная на этот раз ею пьеса была не такая уже грустная и гневная, а скорее сентиментальная. Видимо, что играющая была в каком-то более мечтающем и что-то вспоминающем настроении.
Князь между тем велел подать во флигель шампанского и льду и заметно хотел побеседовать с приятелем по душе. Приглашая так быстро и радушно барона приехать к ним, князь делал это отчасти и с эгоистическою целью: он был в таком страстном фазисе любви своей, у него так много по этому поводу накопилось мыслей, чувств, что он жаждал и задыхался от желания хоть с кем-нибудь всем этим поделиться. Барон для этого казался ему удобнее всех. Во-первых, он был старый его приятель, во-вторых, заметно любил и уважал его и, наконец, был скромен, как рыба. Князь совершенно был убежден, что барон, чисто по своей чиновничьей привычке, никогда и никому звука не скажет из того, что услышит от него. Когда стакана по два, по три было выпито и барон уже покраснел в лице, а князь еще и больше его, то сей последний, развалясь на диване, начал как бы совершенно равнодушным голосом:
– Я хочу вам, мой милый Эдуард, открыть тайну, в отношении которой прошу прежде всего вашей скромности, а потом, может быть, и некоторого совета по случаю оной.
– За первое ручаюсь, а за второе, не знаю, сумею ли, – отвечал барон.
– Сумеете, потому что в этом случае вам подскажет ваша дружба и беспристрастие ко мне.
– О, если так, то конечно! – подхватил барон.
Сделав такого рода предисловие, князь перешел затем прямо к делу.
– У меня тут в некотором роде роман затеялся! – начал он как-то не вдруг и постукивая нервно ногою.
– Роман? С кем же это? – спросил барон.
– С девушкой одной и очень хорошей!.. – отвечал князь, окончательно краснея в лице.
– С девушкой даже? – повторил барон. – Но как же княгиня на это смотрит? – прибавил он.
– Княгиня пока ничего, – отвечал князь, держа голову потупленною, и хоть не смотрел в это время приятелю в лицо, но очень хорошо чувствовал, что оно имеет не совсем одобрительное выражение для него.
– Вы лучше других знаете, – продолжал князь, как бы желая оправдаться перед бароном, – что женитьба моя была решительно поступок сумасшедшего мальчишки, который не знает, зачем он женится и на ком женится.
Барон молчал.
– К счастию, как и вы, вероятно, согласитесь, – разъяснял князь, – из княгини вышла женщина превосходная; я признаю в ней самые высокие нравственные качества; ее счастие, ее спокойствие, ее здоровье дороже для меня собственного; но в то же время, как жену, как женщину, я не люблю ее больше…
Барон при этом гордо поднял голову и вопросительно взглянул на приятеля.
– Но за что же именно вы разлюбили ее? – спросил он его.
– И сам не знаю! – отвечал князь; о причинах, побудивших его разлюбить жену, он не хотел открывать барону, опасаясь этим скомпрометировать некоторым образом княгиню.
– Ну, так как вы, мой милый Эдуард Федорович, – заключил он, – полагаете: виноват я или нет, разлюбя, совершенно против моей воли, жену мою?
– Конечно, виноваты, потому что зачем вы женились, не узнав хорошенько девушки, – отвечал барон.
– Совершенно согласен, но в таковой мере виновата и княгиня: зачем она шла замуж, не узнав хорошенько человека?
– Но княгиня, однако, не разлюбила вас?
– А я-то чем виноват, что разлюбил ее? – спросил князь.
– Тем, что позволили себе разлюбить ее, – отвечал барон, сделав заметное ударение на слове позволили.
Князь усмехнулся при этом.
– Вы, мой милый Эдуард, – отвечал он, – вероятно не знаете, что существует довольно распространенное мнение, по которому полагают, что даже уголовные преступления – поймите вы, уголовные! – не должны быть вменяемы в вину, а уж в деле любви всякий французский роман вам докажет, что человек ничего с собой не поделает.
– Но, однако, почему же вы спрашиваете меня: виноваты ли вы или нет? – возразил ему с усмешкою барон.
Князь подумал некоторое время: он и сам хорошенько не давал себе отчета, зачем он спрашивает о подобных вещах барона.
– Очень просто-с! – начал он, придумав, наконец, объяснение. – В каждом человеке такая пропасть понятий рациональных и предрассудочных, что он иногда и сам не разберет в себе, которое в нем понятие предрассудочное и которое настоящее, и вот ради чего я и желал бы слышать ваше мнение, что так называемая верность брачная – понятие предрассудочное, или настоящее, рациональное?
– По-моему, совершенно рациональное, – подтвердил барон.
– Жду доказательств от вас тому!
– Доказательством тому может служить, – отвечал барон совершенно уверенно, – то, что брак[56] есть лоно, гнездо, в котором вырастает и воспитывается будущее поколение.
– Но будущее поколение точно так же бы хорошо возрастало и воспитывалось и при контрактных отношениях между супругами без всякой верности!
– Может быть! Но в таком случае отношения между мужем и женою были бы слишком прозаичны.
– Но зато они были бы честней нынешних, и в них не было бы этой всеобщей мерзости деяний человеческих – лжи! Вы вообразите себе какого-нибудь верного, по долгу, супруга, которому вдруг жена его разонравилась, ну, положим, хоть тем, что растолстела очень, и он все-таки идет к ней, целует ее ножку, ручку, а самого его в это время претит, тошнит; согласитесь, что подобное зрелище безнравственно даже!.. И сей верный супруг, по-моему, хуже разных господ камелий, приносящих себя в жертву замоскворецким купчихам; те, по крайней мере, это делают из нужды, для добычи денег, а он зачем же? Затем, что поп ему приказал так!
Барон усмехнулся: подобная картина верного супруга и ему показалась странна и смешна.
– А что за Москвой-рекой в самом деле можно выгодно жениться на какой-нибудь богатой купеческой дочке? – спросил он вдруг.
– Весьма. Хотите, я буду хлопотать для вас об этом?
– Сделайте одолжение! – подхватил барон шутя. – Однако вот что вы мне скажите, – прибавил он уже серьезно, – что же будет, если княгиня, так вполне оставленная вами, сама полюбит кого-нибудь другого?
– Имеет полное нравственное право на то!.. Полнейшее! – воскликнул князь.
– Ну нет, вы шутите! – произнес барон, краснея даже немножко в лице.
– Нисколько! Я даже душевно желаю того по простому чувству справедливости: я полюбил другую женщину, поэтому и княгиня, если пожелает того, может отдать свое сердце другому; желаю только в этом случае, чтобы этот другой был человек порядочный!
Барон при этом опять усмехнулся и покачал только головой.
– Я все-таки не могу верить, чтобы могли между вами существовать такие отношения, – проговорил он.
– Совершенно такие существуют! – отвечал князь, нахмуривая брови: ему было уже и досадно, зачем он открыл свою тайну барону, тем более, что, начиная разговор, князь, по преимуществу, хотел передать другу своему об Елене, о своих чувствах к ней, а вышло так, что они все говорили о княгине.
– Странно, очень странно, – сказал ему на это барон, в самом деле, как видно, удивленный тем, что слышал.
В это время из сада под окном флигеля раздался голос княгини.
– Эдуард Федорыч! – крикнула она оттуда. – Не хотите ли прогуляться со мной по Останкину?
– Ах, очень рад! – воскликнул тот и, сейчас же встав и схватив свою соломенную шляпу, пошел к княгине.
– И я с вами пойду! – подхватил князь и тоже пошел за бароном.
Княгиня, кажется, не ожидала увидеть мужа.
– А ты разве дома еще? – спросила она его.
– Дома! – отвечал князь.
– Мы в сад не пойдем; там из Москвы наехало купечество, а потому толпа ужасная! – говорила княгиня.
– А барон, напротив, стремится к замоскворецкому купечеству: партию хочет себе составить посреди их! – заметил князь.
– Партию вы хотите между купчих составить? – спросила княгиня барона как бы несколько укоризненным голосом.
– Это ваш супруг мне предлагает, – отвечал тот.
Разговаривая таким образом, они шли по дороге к Марьиной роще, и когда вышли в поле, то княгиня, которая была очень дальнозорка, начала внимательно глядеть на ехавшую им навстречу пролетку с дамой.
– Это, кажется, Елена? – спросила она мужа.
– Да, она, – произнес тот протяжно.
Он уже давно узнал Елену, возвращавшуюся из Москвы. О том, что Жиглинские будут в Останкине жить и даже переехали с ними в один день, князь до сих пор еще не говорил жене.
– Она, вероятно, к нам едет! – прибавила княгиня.
– Не думаю, скорее домой! – возразил князь.
– Стало быть, она здесь живет? – произнесла княгиня, устремляя на мужа внимательный взгляд.
– Здесь! – отвечал он ей почти сердито.
Елена в это время подъехала к ним очень близко. Сначала она, видимо, недоумевала – выйти ли ей из экипажа или нет; наконец, заметно пересилив себя, она сошла и прямо обратилась к княгине.
– Bonjour, princesse! – произнесла она как бы радостным голосом.
– Bonjour! – отвечала княгиня. – А вы в Останкине тоже живете? – присовокупила она после короткого молчания.
– В Останкине! – сказала Елена.
– А давно ли переехали?
– Недели две.
Княгиня сделала при этом знаменательную мину.
Князь же с своей стороны спешил познакомить Елену с бароном.
– Барон Мингер!.. Mademoiselle Жиглинская!.. – отрекомендовал он их друг другу.
Елена довольно равнодушно поклонилась барону, но тот с удовольствием оглядел ее с головы до ног; все пошли потом обратно в Останкино.
– Это именно та особа, о которой я вам говорил, – сказал негромко барону князь.
– А!.. – произнес тот.
У ворот сада дамы стали прощаться; после того разговора, который произошел у них при встрече, они не сказали между собою больше ни полслова.
– Прощайте, княгиня! – произнесла Елена как бы отдыхающим от удушья голосом.
– Прощайте, – сказала и та не без удовольствия.
– Заходите как-нибудь к нам! – сказала Елена князю, садясь на своего извозчика.
– Непременно! – отвечал тот.
Княгиня после того, ссылаясь на нездоровье, ушла к себе в дом, а мужчины прошли в свой флигель и стали играть на бильярде. Разговор об Елене и о княгине между ними не начинался более, как будто бы им обоим совестно было заговорить об этом.
VIII
После описанной нами прогулки княгиня в самом деле видно расхворалась не на шутку, потому что дня два даже не выходила из своей комнаты. В продолжение всего этого времени князь ни разу не зашел к ней; на третье утро, наконец, княгиня сама прислала к нему свою горничную.
– Княгиня приказали вас спросить, что могут они послать за Елпидифором Мартынычем? – доложила ему та.
– А разве княгине не лучше? – спросил князь как бы несколько встревоженным голосом.
– Никак нет-с, – отвечала горничная.
– Но почему же именно за Елпидифором Мартынычем? – произнес князь и пошел к жене.
Княгиню застал он неодетою, с дурным цветом лица, с красными и как бы заплаканными глазами.
– Чем вы больны? – спросил он ее, хотя и догадывался о причине ее болезни.
– И сама хорошенько не знаю! – отвечала княгиня, стараясь не глядеть на мужа.
– Но что за сумасшествие посылать за болваном Иллионским, – возразил он.
– Потому что я ему больше других докторов верю, – отвечала княгиня холодно и равнодушно.
– Но я-то ему не верю и не могу позволить ему лечить тебя! – проговорил резко князь.
Княгиня слегка пожала плечами.
– В таком случае я останусь без доктора, – произнесла она.
Ответ этот, видимо, взбесил князя, но он сдержал себя.
– Зачем же вы в таком случае спрашивали меня? Посылайте, за кем хотите! – произнес он и затем, повернувшись на каблуках своих, проворно ушел к себе: князь полагал, что княгиня всю эту болезнь и желание свое непременно лечиться у Елпидифора Мартыныча нарочно выдумала, чтобы только помучить его за Елену.
Княгиня действительно послала за Елпидифором Мартынычем не столько по болезни своей, сколько по другой причине: в начале нашего рассказа она думала, что князь идеально был влюблен в Елену, и совершенно была уверена, что со временем ему наскучит подобное ухаживание; постоянные же отлучки мужа из дому княгиня объясняла тем, что он в самом деле, может быть, участвует в какой-нибудь компании и, пожалуй, даже часто бывает у Жиглинских, где они, вероятно, читают вместе с Еленой книги, философствуют о разных возвышенных предметах, но никак не больше того. Когда князь сказал княгине, что они переедут на дачу в Останкино, то она была очень рада тому. Ей казалось, что он тогда, по необходимости, будет больше бывать дома и не станет каждый день скакать в Москву для свидания с предметом своей страсти, а таким образом мало-помалу и забудет Елену; но, по переезде на дачу, князь продолжал не бывать дома, – это уже начинало княгиню удивлять и беспокоить, и тут вдруг она узнает, что Елена не только что не в Москве, но даже у них под боком живет: явно, что князь просто возит ее за собой.
Разузнать обо всем этом и подробно выведать княгиня могла через одного только Елпидифора Мартыныча, в преданность которого она верила и наперед почти была убеждена, что он все уже и знает. Получив от княгини приглашение посетить ее больную, Елпидифор Мартыныч сейчас же воспылал гордостью.
– Митька, лошадей! – крикнул он как-то грозно своему лакею, и, когда кони его (пара старых саврасых вяток) были поданы, он гордо сел в свою пролетку, гордо смотрел, проезжая всю Сретенку и Мещанскую, и, выехав в поле, где взору его открылся весь небосклон, он, прищурившись, конечно, но взглянул даже гордо на солнце и, подъезжая к самому Останкину, так громко кашлянул, что сидевшие на деревьях в ближайшей роще вороны при этом громоподобном звуке вспорхнули целой стаей и от страха улетели вдаль. У Григоровых Елпидифор Мартыныч решился на этот раз повести себя немножко сурово и сердито, желая дать им понять, что его нельзя так третировать: то поди вон, то пожалуй к нам, – и на первых порах выдержал эту роль; попав сначала случайно в мужской флигель и не найдя там никого, кроме лакея, он строго спросил его:
– Где больная?
Лакей при этом выпучил на него глаза.
– Какая больная-с? – сказал он ему.
– Княгиня! – крикнул уж на него доктор.
– Ах, пожалуйте-с, они в том большом флигеле, – произнес лакей и повел Елпидифора Мартыныча через сад, где тот снова гордо взглянул на цветы, гордо вдохнул в себя запах резеды; но войдя к княгине, мгновенно утратил свой надменный вид и принял позу смиренной и ласкающейся овечки.
– Это что вы делаете?.. Хвораете?.. А?.. Не стыдно ли вам! – говорил он, целуя белую ручку княгини, и потом, сколь возможно стараясь потише, откашлянулся: – К-ха!.. Ну-с, где же и что же у вас болит? – продолжал он, принимаясь, по обыкновению, щупать пульс.
– У меня желчь, должно быть; во рту очень горько, – проговорила княгиня.
– Тут, значит, есть боль, – присовокупил Елпидифор Мартыныч, ткнув довольно сильно княгиню пальцем в правый желудочный бок.
Та при этом невольно покраснела.
– Есть маленькая боль, – отвечала она.
– А тут, в сердчишке, ничего не болит? – пошутил Елпидифор Мартыныч, показывая на левый грудной бок княгини.
– А тут очень болит! – сказала она, в свою очередь, с горькою улыбкой.
– Знаем-с, знаем! Ну, язычок покажите!
Зачем Елпидифор Мартыныч требовал, чтобы княгиня язык ему показала, он и сам хорошенько не понимал, но когда та показала ему один только кончик языка, то он почти прикрикнул на нее.
– Больше, больше высуньте!
Бедная княгиня почти до слез на глазах высунула ему язык.
– Ну, язык так себе, ничего! – произнес Елпидифор Мартыныч и сел писать рецепт. Прежде всего он затребовал приличное количество миндальной эмульсин, а потом выписал для успокоения нервов лавровишневых капель и на всякий случай, авось чему-нибудь поможет, нукс-вомика[57]; затем, для приятного вкуса и против желчи, положил лимонного сиропу; кроме того, прописал невиннейший по содержанию, но огромной величины пластырь на печень и, сказав, как нужно все это употреблять, уселся против княгини.
– На дачку вот приехали; хорошо это, очень хорошо!
Княгиня молчала.
– Князя я не увижу, конечно, – продолжал Елпидифор Мартыныч, – его, может, дома нет, да и не любит ведь он меня.
– Он, кажется, куда-то ушел, – отвечала не прямо княгиня.
Она все обдумывала, как бы ей поскорее начать с Елпидифором Мартынычем тот разговор, который ей хотелось, и никак не могла придумать; но Елпидифор Мартыныч сам помог ей в этом случае: он, как врач, может быть, и непрозорлив был, но как человек – далеко видел!
– Барышня-то эта, Жиглинская, которую я видел у вас, здесь же живет, в Останкине? – ударил он прямо куда нужно.
– Д-да… – протянула ему в ответ княгиня. – А что, скажите, вы ее знаете хорошо? – прибавила она, помолчав немного.
– Знаю хорошо-с, особенно старуху-мать.
– Что же это за госпожа?
– Госпожа такая, что дама… благородного звания… – отвечал Елпидифор Мартыныч с ударением. – Смолоду красавица была!.. Ах, какая красавица! – прибавил он и закрыл даже при этом глаза, как бы желая себе яснее вообразить Елизавету Петровну в ее молодости.
– Что же, она замужняя была? – спрашивала княгиня.
– Как же-с!.. Сначала замужем была, ну, а потом и без замужества жила с одним господином как бы в замужестве. Более всегда телесною красотой блистала, чем душевной!
Для Елпидифора Мартыныча было ясно, как день, что он мог или даже должен был бранить Жиглинских перед княгиней.
– Но, вероятно, и дочь у ней такая же? – прибавила княгиня; у ней губы даже при этом дрожали.
Елпидифор Мартыныч пожал плечами.
– К-ха! – откашлянулся он. – Есть пословица русская, что яблоко от деревца недалеко падает! – заключил он многознаменательно.
– Но вы у них бываете? – продолжала расспрашивать княгиня.
Елпидифор Мартыныч поднял при этом свои густые брови.
– Бываю… лечу старуху иногда, – солгал он.
– А мужа моего не видали там? – проговорила княгиня, и у ней опять при этом задрожали губы.
– Нет, не видал, ни разу не заставал, – отвечал, улыбаясь, Елпидифор Мартыныч, – а сказывала старуха, что бывает у них.
– К чему же она вам сказывала это? – допрашивала княгиня.
Оскорбленная любовь и ревность сделали из нее даже искусную допросчицу.
– Да к тому… – отвечал Елпидифор Мартыныч протяжно и соображая (он недоумевал еще отчасти: все ли ему говорить княгине или нет), – что жаловалась на дочь.
– Но какая же связь тут, что она жаловалась на дочь и что князь бывает у них?
– А такая вот, – отвечал Елпидифор Мартыныч, кашлянув, – что князь, собственно, и бывает у них для дочки…
– Стало быть, мать против этого? – допрашивала княгиня.
– Сначала была против, – отвечал Елпидифор Мартыныч, с лукавой улыбкой, – а теперь, кажется, за.
– Но почему же прежде против, а теперь за? – спросила княгиня.
– А потому, вероятно, что деньги за то от князя стала получать!.. Нынче ведь, сударыня, весь мир на этом замешан, – пояснил ей Елпидифор Мартыныч и заметил при этом, что у княгини, против ее воли, текли уже слезы по щекам.
– Неприятно это видеть, очень неприятно, в каком бы семействе это ни происходило, – продолжал он как бы с некоторым даже чувством.
– Но что же мне теперь делать? – спросила его княгиня тихо.
– Терпеть!.. Бог терпенье любит!.. – отвечал Елпидифор Мартыныч наставническим тоном.
– Но терпеть можно, если остается еще надежда, что человек опомнится когда-нибудь и возвратится к своему долгу, а тут я ничего этого не вижу? – полуспросила княгиня.
Видимо, что она ожидала и желала, чтобы на эти слова ее Елпидифор Мартыныч сказал ей, что все это вздор, одна только шалость со стороны князя, и Елпидифор Мартыныч понимал, что это именно княгиня хотела от него услышать, но в то же время, питая желание как можно посильнее напакостить князю, он поставил на этот раз правду превыше лести и угодливости людям.
– Да, возвращение для князя будет трудное и едва ли даже возможное, – проворил он.
– Стало быть, связь между ними очень близкая и прочная? – спросила княгиня, все более и более теряясь и волнуясь.
– Кто ж это знает? – отвечал Елпидифор Мартыныч, пожав плечами. – К-х-ха! – откашлянулся он. – Мать мне ее, когда я был у них перед отъездом их на дачу, говорила: «Что это, говорит, Леночку все тошнит, и от всякой пищи у ней отвращение?» Я молчу, конечно; мало ли человека отчего может тошнить!
– Поэтому она уж в интересном положении? – произнесла княгиня почти голосом ужаса.
– Ничего больше того не знаю, ничего-с!.. – сказал наотрез Елпидифор Мартыныч.
– Но, Елпидифор Мартыныч, вы узнайте мне это хорошенько, повернее, – продолжала княгиня тем же отчаянным голосом.
– Что тут разузнавать? – возразил было Елпидифор Мартыныч. – Время всего лучше может показать: пройдет месяца три, четыре, и скрыть это будет невозможно.
– Но я не через четыре месяца хочу это знать, а теперь же, – иначе я измучусь, умру, поймите вы!
Елпидифор Мартыныч развел руками.
– Можно, пожалуй, и теперь поразведать, – сказал он.
– Вы сейчас же отсюда и заезжайте к Жиглинским, разведайте у них, а завтра ко мне приедете и скажете, – настаивала княгиня.
– Хорошо! – согласился Елпидифор Мартыныч. – Только одного я тут, откровенно вам скажу, опасаюсь: теперь вот вы так говорите, а потом как-нибудь помиритесь с князем, разнежитесь с ним, да все ему и расскажете; и останусь я каким-то переносчиком и сплетником!
– Никогда я ему ничего не скажу и не помирюсь с ним в душе!.. – возразила княгиня.
– Ну да, не скажете! Женщина ведь вы, сударыня, и поэтому сосуд слабый и скудельный!.. – заметил ей глубокомысленно Елпидифор Мартыныч.
Когда он, наконец, отправился и княгиня осталась одна, то дала волю душившим ее в продолжение всей предыдущей сцены слезам. Елена, если только правда, что про нее говорил Елпидифор Мартыныч, казалась ей каким-то чудовищем. «Как, – рассуждала княгиня, – девушка все-таки из благородного звания, получившая образование, позволила себе войти в близкую связь с женатым человеком!» Судя по себе, княгиня даже вообразить не могла, каким образом девушка может решиться на подобную вещь. Родившись и воспитавшись в строго нравственном семействе, княгиня, по своим понятиям, была совершенно противоположна Елене: она самым искренним образом верила в бога, боялась черта и грехов, бесконечно уважала пасторов; о каких-либо протестующих и отвергающих что-либо мыслях княгиня и не слыхала в доме родительском ни от кого; из бывавших у них в гостях молодых горных офицеров тоже никто ей не говорил ничего подобного (во время девичества княгини отрицающие идеи не коснулись еще наших военных ведомств): и вдруг она вышла замуж за князя, который на другой же день их брака начал ей читать оду Пушкина о свободе[58]; потом стал ей толковать о русском мужике, его высоких достоинствах; объяснял, наконец, что мир ждет социальных переворотов, что так жить нельзя, что все порядочные люди задыхаются в современных формах общества; из всего этого княгиня почти ничего не понимала настоящим образом и полагала, что князь просто фантазирует по молодости своих лет (она была почти ровесница с ним). Будь князь понастойчивей, он, может быть, успел бы втолковать ей и привить свои убеждения, или, по крайней мере, она стала бы притворяться, что разделяет их; но князь, как и с большей частью молодых людей это бывает, сразу же разочаровался в своей супруге, отвернулся от нее умственно и не стал ни слова с ней говорить о том, что составляло его суть, так что с этой стороны княгиня почти не знала его и видела только, что он знакомится с какими-то странными людьми и бог знает какие иногда странные вещи говорит. В числе самых сильных нравственных желаний княгини было желание иметь детей, и она полагала, что быть матерью или отцом есть высшее счастье человека на земле. Услыхав, что ее сопернице угрожает это счастие, княгиня страшно и окончательно испугалась за самое себя; она, судя по собственным своим чувствам, твердо была убеждена, что как только родится у князя от Елены ребенок, так он весь и навсегда уйдет в эту новую семью; а потому, как ни добра она была и как ни чувствовала отвращение от всякого рода ссор и сцен, но опасность показалась ей слишком велика, так что она решилась поговорить по этому поводу с мужем серьезно. При таком душевном состоянии прописанных ей лекарств она, разумеется, не принимала и продолжала весь остальной день плакать.
Елпидифор Мартыныч между тем, как обещал княгине, так и исполнил, и направился прямо к Жиглинским. Во всех своих сплетнях, которыми сей достопочтенный врач всю жизнь свою занимался, он был как-то необыкновенно счастлив: в настоящем случае, например, Елизавета Петровна сама ждала его и почти готова была посылать за ним.
– А, сокол мой ясный! – воскликнула она, увидав его из сада подъезжающим к их даче. – Милости прошу! – повторила она, сама отворяя ему калитку.
Елпидифор Мартыныч вошел к ней и хоть с небольшим удовольствием, но поцеловал у нее руку.
– На лавочку, сюда, под тень! – говорила Елизавета Петровна и усадила Елпидифора Мартыныча рядом с собой на одну из скамеечек.
– А мне бы, глупой, давно следовало вас поблагодарить! – начала она, как бы спохватившись.
Елизавета Петровна до сих пор еще не говорила Елпидифору Мартынычу, что стала получать от князя деньги, опасаясь, что он, старый черт, себе что-нибудь запросит за то; но в настоящее время нашла нужным открыться ему.
– Ну, что тут… не стоит благодарности… – отвечал ей, в свою очередь, как-то стыдливо потупляя свои очи, Елпидифор Мартыныч. – Словеса наши, значит, подействовали, – прибавил он затем с оттенком некоторой гордости.
– Подействовали отчасти, – отвечала Елизавета Петровна.
– Что же, на много ли князь распоясался? – спрашивал Елпидифор Мартыныч.
– Не на много, не ошибется!
– А на сколько, однако?
– Ну, и говорить не хочется!.. Вы, однако, как-нибудь Елене не проговоритесь, – она ничего не знает об этом.
– Зачем ей говорить! – отвечал Елпидифор Мартыныч, нахмуривая немного свои брови. – А что, она здорова? – присовокупил он каким-то странным голосом.
– То-то, что нет!.. Нездорова! – воскликнула Елизавета Петровна. – Припадки, что я вам говорила, продолжаются.
– Что же это значит? – спросил ее со вниманием Елпидифор Мартыныч.
– Что значит? Я думаю, что обыкновенно это значит, – отвечала Елизавета Петровна. – Беременна, кажется, – произнесла она, помолчав немного и более тихим голосом, чем обыкновенно говорила.
– Вот тебе на! – сказал Елпидифор Мартыныч.
– И потому, господин его сиятельство, – продолжала Елизавета Петровна, как-то гордо поднимая свою громадную грудь, – теперь этими пустяками, которые нам дает, не думай у меня отделаться; как только ребенок родится, он его сейчас же обеспечь двадцатью или тридцатью тысячами, а не то я возьму да и принесу его супруге на окошко: «На поди, нянчись с ним!» Вы, пожалуйста, так опять ему и передайте.
Елпидифор Мартыныч на это молчал. Елизавета Петровна, заметив его несколько суровое выражение в лице, поспешила прибавить:
– Устройте вы мне это дело, – тысячу рублей вам за это дам, непременно!
Елпидифор Мартыныч и на это усмехнулся только и ни слова не говорил.
– Вот записку сейчас дам вам в том, – сказала Елизавета Петровна и, с необыкновенной живостью встав с лавки, сбегала в комнаты и написала там записку, в которой обязывалась заплатить Елпидифору Мартынычу тысячу рублей, когда получит от князя должные ей тридцать тысяч.
– Вот-с, извольте получить! – говорила она, подавая ему ее.
Елпидифор Мартыныч взял записку и, опять усмехнувшись, положил ее в карман.
– Не знаю, как мне вам устроить это, – произнес он как-то протяжно.
– Знаете!.. Полноте, друг мой!.. Вы все знаете! – говорила Елизавета Петровна нараспев и ударяя доктора по плечу.
– Да, знаю! Нет, сударыня, в нынешнем веке не узнаешь ничего: по-нашему, кажется, вот непременно следовало, чтобы вышло так, а выйдет иначе! – проговорил Елпидифор Мартыныч и затем, встав с лавочки, стал застегивать свое пальто. – Пора, однако, – заключил он.
Елизавета Петровна проводила его до самой пролетки.
Елпидифор Мартыныч велел себя везти в Свиблово, чтобы кстати уже заехать и к Анне Юрьевне. Он таким образом расположил в голове план своих действий: о беременности Елены он намерен был рассказать княгине, так как она этим очень интересовалась; о деньгах же на ребенка опять намекнуть Анне Юрьевне, которая раз и исполнила это дело отличнейшим образом. Но, приехав в Свиблово, он, к великому горю своему, застал Анну Юрьевну не в комнатах, а на дворе, около сарая, в полумужской шляпе, в замшевых перчатках, с хлыстом в руке и сбирающуюся ехать кататься в кабриолете на одном из бешеных рысаков своих.
– Убирайтесь назад, не вовремя приехали! – крикнула было та ему на первых порах.
– Ну, что делать! – сказал Елпидифор Мартыныч, несколько сконфуженный таким приемом, и сбирался было отправиться в обратную, но Анна Юрьевна, увидав на нем его уморительную шинель на какой-то клетчатой подкладке и почему-то с стоячим воротником, его измятую и порыжелую шляпу и, наконец, его кислую и недовольную физиономию, не вытерпела и возымела другое намерение.
– Елпидифор Мартыныч, садитесь со мной и поедемте кататься. Ну, слезайте же поскорее с вашей пролетки! – приказывала она ему, усевшись сама в свой кабриолет.
Елпидифор Мартыныч повел глазами на сердито стоящего коня Анны Юрьевны, ослушаться, однако, не смел и, сказав своему кучеру, чтобы он ехал за ними, неуклюже и робко полез в довольно высокий кабриолет. Грум слегка при этом подсадил его, и только что Елпидифор Мартыныч уселся, и уселся весьма неловко, на левой стороне, к чему совершенно не привык, и не всем даже телом своим, – как Анна Юрьевна ударила вожжами по рысаку, и они понеслись по колеистой и неровной дороге. С Елпидифора Мартыныча сейчас же слетела шляпа; шинель на клетчатой подкладке распахнулась и готова была попасть в колеса, сам он начал хвататься то за кабриолет, то даже за Анну Юрьевну.
– Матушка, матушка, Анна Юрьевна… потише… убьете… ей-богу, убьете! – кричал он почти благим матом, но Анна Юрьевна не унималась и гнала лошадь.
Рысак, вытянув голову и слегка только пофыркивая, все сильнее и сильнее забирал.
– Господи!.. Господи! – продолжал кричать Елпидифор Мартыныч и стремился было сцапать у Анны Юрьевны вожжи, чтобы остановить лошадь.
– Не смейте этого делать! – прикрикнула та на него и еще сильнее ударила вожжами по рысаку.
Елпидифор Мартыныч начал уже читать предсмертную молитву; но в это время с парика его пахнуло на Анну Юрьевну запахом помады; она этого никак не вынесла и сразу же остановила рысака своего.
– Ступайте вон! С вами невозможно так близко сидеть, – сказала она ему.
Елпидифор Мартыныч, нисколько этим не обиженный, напротив, обрадованный, сейчас же слез, а Анна Юрьевна, посадив вместо него своего грума, ехавшего за ними в экипаже доктора, снова помчалась и через минуту совсем скрылась из глаз.
– Эка кобыла ногайская!.. Эка кобыла бешеная! – говорил Елпидифор Мартыныч, обтирая грязь и сало, приставшие от колес к его глупой шинели.
– У них-с не кобыла это, а мерин! – заметил ему кучер его.
– Я не об лошади говорю, а об барыне! – возразил ему с досадой Елпидифор Мартыныч.
– Д-да! Об барыне! – сказал, усмехнувшись, кучер.
IX
В этот же самый день князь ехал с другом своим бароном в Москву осматривать ее древности, а потом обедать в Троицкий трактир. Елена на этот раз с охотой отпустила его от себя, так как все, что он делал для мысли или для какой-нибудь образовательной цели, она всегда с удовольствием разрешала ему; а тут он ехал просвещать своего друга историческими древностями.
День был превосходнейший. Барон решительно наслаждался и природой, и самим собой, и быстрой ездой в прекрасном экипаже; но князь, напротив, вследствие утреннего разговора с женой, был в каком-то раздраженно-насмешливом расположении духа. Когда они, наконец, приехали в Москву, в Кремль, то барон всеми редкостями кремлевскими начал восхищаться довольно странно.
– Как это мило! – почему-то произнес он, останавливаясь перед царь-колоколом.
– Что же тут милого? – спросил его князь удивленным голосом.
– То есть интересно, хотел я сказать, – поправился барон и перед царь-пушкой постарался уже выразиться точнее.
– C'est magnifique![59] – проговорил он, надевая пенсне и через них осматривая пушку.
– Magnifique еще какой-то выдумал! – сказал князь, покачав головой.
– Ах, кстати: я, не помню, где-то читал, – продолжал барон, прищуривая глаза свои, – что в Москве есть царь-пушка, из которой никогда не стреляли, царь-колокол, в который никогда не звонили, и кто-то еще, какой-то государственный человек, никогда нигде не служивший.
– Ты это у Герцена читал, – сказал ему князь.
– Так, так!.. Да, да! – подтвердил с удовольствием барон. – Этот Герцен ужасно какой господин остроумный, – присовокупил он.
– Он и побольше, чем остроумный, – заметил каким-то суровым голосом князь.
– Конечно, конечно! – согласился и с этим барон.
В Оружейную палату князь повел его мимо Красного крыльца и соборов.
Барон заглянул в дверь Успенского собора и проговорил: «Святыня русская!» Перед вновь вызолоченными главами Спаса-на-Бору он снял даже шляпу и перекрестился; затем, выйдя на набережную и окинув взором открывшееся Замоскворечье, воскликнул: «Вот она, матушка Москва!»
Все эти казенные и стереотипные фразы барона князь едва в состоянии был выслушивать.
Всходя по лестнице Оружейной палаты, барон сказал, показывая глазами на висевшие по бокам картины: «Какая славная кисть!»
– Прескверная! – повторил за ним князь.
– Ого, сколько ружей! – воскликнул барон, войдя уже в первую залу со входа.
– Много, – повторил за ним князь.
В комнате с серебряной посудой барон начал восхищаться несколько поискреннее.
– Отличные сюжеты, замечательные! – говорил он, осматривая в пенсне вещи и закинув при этом несколько голову назад. Наконец, к одному из блюд он наклонился и произнес, как бы прочитывая надпись: «Блюдо»!
– Что ж «Блюдо»? Читай дальше, – сказал князь, стоявший сзади барона и насмешливо смотревший на него.
– «Блюдо»! – повторил барон, но дальше решительно ничего не мог прочитать.
– Э, да ты, брат, по-славянски-то совсем не умеешь читать! – подхватил князь.
– Да, то есть так себе… Плохо, конечно!.. – отвечал как-то уклончиво барон и поспешил перейти в другое отделение, где хранились короны и одежды царские.
– Это архиерейские одежды? – спросил барон, останавливаясь перед первым шкафом.
– Нет, это одежды царей, – отвечал протяжно сопровождавший его чиновник, – архиерейские одежды в ризницах.
– Те в ризницах? – почему-то переспросил с любопытством барон.
– В ризницах, – повторил ему еще раз чиновник.
Что касается до драгоценных камней, то барон, по-видимому, знал в них толк.
– Это очень дорогая вещь, – сказал он, показывая на огромный рубин в короне Анны Иоанновны.[60]
– Да-с, – повторил чиновник.
– Этакая прелесть, чудо что такое! – произносил барон с разгоревшимися уже глазами, стоя перед другой короной и смотря на огромные изумрудные каменья. Но что привело его в неописанный восторг, так это бриллианты в шпаге, поднесенной Парижем в 14-м году Остен-Сакену.[61]
– Восемь штук таких бриллиантов!.. Восемь штук! – восклицал барон. – Какая грань, какая вода отличная! – продолжал он с каким-то даже умилением, и в этом случае в нем, может быть, даже кровь сказывалась, так как предание говорило, что не дальше как дед родной барона был ювелир и торговал на Гороховой, в небольшой лавочке, золотыми вещами.
После бриллиантов барон обратил некоторое внимание на старинные экипажи, которые его поразили своею курьезностию.
– Что это за безобразие, что это за ужас! – говорил он, пожимая плечами.
– Покажи и тебя через десять лет в твоем пиджаке, – и ты покажешься ужасом и безобразием, – заметил ему князь.
– Тут не в том дело! Они сложны, огромны, но комфорта в них все-таки нет, – возразил барон.
– Никак не меньше нынешнего: попробуй, сядь, – сказал ему князь, явно желая подшутить над приятелем.
– Гораздо меньше! – воскликнул барон и в самом деле хотел было сесть, но чиновник не пустил его.
– Нет-с, этого нельзя, – сказал он ему не совсем, впрочем, смелым голосом.
– Жаль! – произнес барон и пошел дальше.
Когда они, наконец, стали совсем выходить, чиновник обратился к князю, которого он немножко знал, и спросил его почти на ухо:
– Кто это с вами, министр, что ли, какой?
Барон очень уж важен показался ему по виду своему.
– Нет, барон один, – отвечал ему с улыбкой и не без умысла князь.
– Ах, он ягель немецкий, трава болотная! – зашипел, заругался чиновник. – Недаром меня так претило от него!
Почтенный смотритель древностей был страшный русак и полагал, что все несчастья в мире происходят оттого, что немцы на свете существуют.
В Троицком трактире барон был поставлен другом своим почти в опасное для жизни положение: прежде всего была спрошена ботвинья со льдом; барон страшно жаждал этого блюда и боялся; однако, начал его есть и с каждым куском ощущал блаженство и страх; потом князь хотел закатить ему двухдневалых щей, но те барон попробовал и решительно не мог есть.
– Ах, ты, габерсупник[62]! – сказал ему почти с презрением князь.
– Почему же габерсупник? – возразил барон, как бы даже обидевшись таким названием.
Вина за обедом было выпито достаточное количество, так что барон сильно захмелел, а князь отчасти, в каковом виде они и отправились домой.
– Это Сухарева башня? – говорил барон не совсем даже твердым языком и устремляя свои мутные глаза на Сухареву башню.
– Сухарева! – отвечал ему прежним же насмешливым тоном князь.
– Ее Брюс[63] построил? – продолжал барон надменнейшим и наглейшим образом.
– И не думал! – возразил ему серьезно князь.
– Как не думал? – воскликнул барон. – Я положительно знаю, что водопровод ваш и Сухареву башню построил Брюс.
– Ну, да, Брюс!.. Ври больше! – произнес уже мрачно князь.
– Нет, не вру, потому что в России все, что есть порядочного, непременно выдумали иностранцы, – сказал барон, вспыхивая весь в лице.
– Отчего же ты до сих пор ничего порядочного не выдумал? – спросил его князь.
– Отчего я?.. Что же ты меня привел тут в пример? Я не иностранец! – говорил барон.
– Врешь!.. Врешь! Иностранцем себя в душе считаешь! – допекал его князь.
– Вот вздор какой! – рассмеялся барон, видимо, стараясь принять все эти слова князя за приятельскую, не имеющую никакого смысла шутку; затем он замолчал, понурил голову и вскоре захрапел.
Князь же не спал и по временам сердито и насмешливо взглядывал на барона. Его, по преимуществу, бесила мысль, что подобный человек, столь невежественный, лишенный всякого чувства национальности, вылезет, пожалуй, в государственные люди, – и князю ужасно захотелось вышвырнуть барона на мостовую и расшибить ему об нее голову, именно с тою целию, чтобы из него не вышел со временем государственный человек.
По возвращении в Останкино, барон, не совсем еще проспавшийся, пошел досыпать, а князю доложили, что присылала Анна Юрьевна и что вечером сама непременно будет. Между тем княгиня велела ему сказать, что она никак не может выйти из своей комнаты занимать гостью, а поэтому князю самому надобно было оставаться дома; но он дня два уже не видал Елены: перспектива провести целый вечер без нее приводила его просто в ужас. Проклиная в душе всех на свете кузин, князь пошел к Елене и стал ее умолять прийти тоже к ним вечером.
– Но меня жена ваша, может быть, не велит принять, или, еще хуже того, приняв, попросит уйти назад! – возразила ему Елена.
– Что за пустяки! – произнес князь. – Во-первых, жена моя никогда и ни против кого не сделает ничего подобного, а во-вторых, она и не выйдет, потому что больна.
– Да, если не выйдет, в таком случае приду с удовольствием, – сказала Елена.
Сидеть с гостями князь предложил в саду, где, по его приказанию, был приготовлен на длинном столе чай с огромным количеством фруктов, варенья и даже вина.
Анна Юрьевна приехала в своей полумужской шляпе и вся раскрасневшаяся от жару. Она сейчас же села и начала тяжело дышать. Увы! Анна Юрьевна, благодаря ли московскому климату, или, может быть, и летам своим, начала последнее время сильно полнеть и брюзгнуть. Князь представил ей барона, который окончательно выспался и был вымытый, причесанный, в черном сюртучке и в легоньком цветном галстуке. Вскоре затем пришла и Елена: огромный черный шиньон и черные локоны осеняли ее бледное лицо, черное шелковое платье шикарнейшим образом сидело на ней, так что Анна Юрьевна, увидав ее, не могла удержаться и невольно воскликнула:
– Как вы прелестны сегодня!..
И сама при этом крепко-крепко пожала ей руку.
Барон тоже благосклонным образом наклонил перед Еленой голову, а она, в свою очередь, грациозно и несколько на польский манер, весьма низко поклонилась всем и уселась потом, по приглашению князя, за стол.
– Et madame la princesse?[64] – спросила она, как бы ничего не знавши.
– Она больна, – отвечал князь.
– И довольно серьезно, кажется, – заметила Анна Юрьевна, на минуту заходившая к княгине.
– Серьезно? – переспросила ее Елена.
– По-видимому, – отвечала Анна Юрьевна.
– Ну, нет! С ней это часто бывает, – возразил князь и, желая показать перед бароном, а отчасти и перед Анной Юрьевной, Елену во всем блеске ее ума и образования, поспешил перевести разговор на одну из любимых ее тем.
– Mademoiselle Helene! – отнесся он к ней. – Вы знаете ли, что мой друг, барон Мингер, отвергает теорию невменяемости и преступлений![65]
– Я? – переспросил барон, совершенно не помнивший, чтобы он говорил или отвергал что-нибудь подобное.
– Да, вы!.. Во вчерашнем нашем разговоре вы весьма обыкновенные поступки называли даже виной, – пояснил ему князь.
– А! – произнес многознаменательно, но с улыбкою барон.
– А вы не согласны с этою теорией? – спросила его Елена.
– Да, не согласен, – отвечал барон, хотя, в сущности, он решительно не знал, с чем он, собственно, тут не согласен.
– Но почему же? – спросила его Елена.
– Потому что преступление… самое название показывает, что человек преступил тут известные законы и должен быть наказан за то.
– А что такое самые законы, позвольте вас спросить? – допрашивала его Елена.
– Законы суть поставленные грани, основы, на которых зиждется и покоится каждое государство, – отвечал барон, немного сконфузясь: он чувствовал, что говорит свое, им самим сочиненное определение законов, но что есть какое-то другое, которое он забыл.
– Законы суть условия, которые люди, составившие известное общество, заключили между собой, чтобы жить вместе, – так?.. – пояснила Елена барону и вместе с тем как бы спросила его.
– Так! – согласился он с ней.
Князь при этом усмехнулся.
– Вот тебе на! – сказал он. – Ты, значит, отказываешься от нашего казенного юридического определения, что законы суть продукт верховной воли, из которой одной они проистекают.
– Нисколько я не отказываюсь от этого определения, и, по-моему, оно вовсе не противоречит определению mademoiselle Helene, так как касается только формы утверждения законов: законы всюду и везде основываются на потребностях народа и для блага народа издаются, – проговорил барон, начинавший видеть, что ему и тут придется биться, и потому он решился, по крайней мере, взять смелостью и изворотливостью ума.
– Нет, оно более чем одной только формы утверждения законов касается, – возразила ему Елена, – а потому я все-таки буду держаться моего определения, что законы суть договоры[66]; и вообразите, я родилась в известном государстве, когда договоры эти уже были написаны и утверждены, но почему же я, вовсе не подписавшаяся к ним, должна исполнять их? Договоры обязательны только для тех, кто лично их признал.
– Если вы не признаете законов, то можете уйти из этого общества.
– Нет, не могу, потому что по русским, например, законам меня накажут за это.
– Да, по русским! – произнес барон с оттенком некоторой уже усмешки.
– Кроме того-с, – продолжала Елена, вся раскрасневшаяся даже в лице, – всех законов знать нельзя, это требование невыполнимое, чтобы неведением законов никто не отзывался: иначе людям некогда было бы ни землю пахать, ни траву косить, ни дорог себе строить. Они все время должны были бы изучать законы; люди, хорошо знающие законы, как, например, адвокаты, судьи, огромные деньги за это получают.
– Я согласен, что нельзя знать всех законов в подробностях, – сказал барон, – но главные, я думаю, все вообще знают: кто же не знает, что воровство, убийство есть преступление?
– Положим даже, что это преступление, но наказывать-то за него не следует! – возразила Елена.
– Как не следует? – спросил барон, откинувшись даже в недоумении на задок стула.
Анна Юрьевна тоже взглянула на Елену не без удивления.
– Не следует-с, – повторила та решительно. – Скажите вы мне, – обратилась она к барону, – один человек может быть безнравствен?
– Конечно, может, – отвечал барон, немного подумав: он уже стал немножко и опасаться, не ловит ли она его тут на чем-нибудь.
– А целое общество может быть безнравственно? – продолжала Елена допрашивать его.
– Не может, полагаю, – отвечал барон, опять как-то не совсем решительно.
– И теперь, смотрите, что же выходит, – продолжала Елена.
Барон даже покраснел при этом, опять полагая, что она его совсем изловила.
– Человек делает скверный, безнравственный поступок против другого, убивает его, – говорила Елена, – и вдруг потом целое общество, заметьте, целое общество – делает точно такой же безнравственный поступок против убийцы, то есть и оно убивает его!
Барон вздохнул посвободнее; он сознавал с удовольствием, что не совсем еще был сбит своею оппоненткою.
– Это делается с целью устрашить других, – произнес он, припоминая еще на школьных скамейках заученную им теорию устрашения.[67]
– Эге, какую старину ты вынес! – заметил ему князь.
– Но мало что старину! – подхватила Елена. – А старину совершенно отвергнутую. Статистика-с очень ясно нам показала, – продолжала она, обращаясь к барону, – что страх наказания никого еще не остановил от преступления; напротив, чем сильнее были меры наказания, тем больше было преступлений.
– Но как же, однако, моя милая, делать с разными негодяями и преступниками? – вмешалась в разговор Анна Юрьевна, далеко не все понимавшая в словах Елены и в то же время весьма заинтересовавшаяся всем этим разговором.
– Да никак, потому что, в сущности, преступников нет! Они суть только видимое проявление дурно устроенного общественного порядка, а измените вы этот порядок, и их не будет!.. Но положим даже, что порядок этот очень хорош, и что все-таки находятся люди, которые не хотят подчиняться этому порядку и стремятся выскочить из него; но и в таком случае они не виноваты, потому что, значит, у них не нашлось в голове рефлексов[68], которые могли бы остановить их в том.
– Но это же самое можно ведь сказать и про общество! – возразил уже князь Елене. – И оно тоже не виновато, что у него нет в мозгу рефлексов, способных удержать его от желания вздернуть всех этих господ на виселицу.
– Нет, у целого общества никак не может быть этого, – возразила ему, в свою очередь, Елена, – всегда найдется на девять человек десятый, у которого будет этот рефлекс.
– Но отчего же остальные девять свою волю должны будут подчинять этому десятому: это тоже своего рода насилие, – продолжал князь.
– Как подчиняются слепые зрячему – не почему более, и пусть он даже насиловать их будет: это зло временное, за которым последует благо жизни, – отвечала Елена.
Последнего спора Елены с князем ни барон, ни Анна Юрьевна не поняли нисколько, и барон, видимо решившийся наблюдать глубочайшее молчание, только придал своему лицу весьма мыслящее выражение, но Анна Юрьевна не унималась.
– Если уж говорить о несправедливостях, – воскликнула она, тоже, видно, желая похвастать своими гуманными соображениями, – так войны вредней всего. Des milliers d'hommes combattent les uns centre les autres![69] Изобретают самые смертоносные орудия!.. Дают кресты и награды тем, кто больше зверства показал!
Теорию эту перед Анной Юрьевной, когда-то за границей, развивал один француз и говорил при этом превосходнейшим французским языком, жаль только, что она не все помнила из его прекрасных мыслей.
– Война войне розь, – сказал ей с улыбкою князь.
– Еще бы! – подхватила Елена.
– Какая розь! Всякая война есть смерть и ужас! – воскликнула Анна Юрьевна.
– Ужас, но необходимый, – опять прибавил князь и сам сначала хотел было говорить, но, заметив, что и Елена тоже хочет, предоставил ей вести речь.
– Войны бывают разные[70], – начала та. – Первая, самая грубая форма войны – есть набег, то есть когда несколько хищных лентяев кидаются на более трудолюбивых поселян, грабят их, убивают; вторые войны государственные, с целью скрепить и образовать государство, то есть когда сильнейшее племя завоевывает и присоединяет к себе слабейшее племя и навязывает формы жизни, совершенно не свойственные тому племени; наконец, войны династические, мотив которых, впрочем, кажется, в позднейшее время и не повторялся уже больше в истории: за неаполитанских Бурбонов[71] никто и не думал воевать! Но есть войны протестующие, когда общество отбивает себе права жизни от какой-нибудь домашней тирании или от внешнего насилия: те войны почтенны, и вожди их стоят благословения людей.
– О, да вы революционерка ужасная! – опять воскликнула Анна Юрьевна, вполне уже понявшая на этот раз все, что говорила Елена.
Вообще, в области войн Анна Юрьевна была развитее, чем в других областях знаний человеческих, вероятно, оттого, что очень много в жизни сталкивалась с военными и толковала с ними.
– Мне, может быть, ничего бы этого перед вами, как перед начальницей моей, не следовало говорить! – произнесла Елена, с веселою покорностью склоняя перед Анной Юрьевной голову.
– О, как вам не стыдно, ma chere, – произнесла та, – но я надеюсь, что вы подобных вещей детям не говорите!
– Я думаю! – отвечала Елена голосом, как бы не подлежащим сомнению.
– Революционерные идеи, как бы кто ни был с ними мало согласен, в вас имеют такую прекрасную проповедницу, что невольно им подчиняешься! – сказал Елене барон.
– Merci, monsieur! – произнесла та, склоняя тоже несколько и перед ним голову.
В это время вдруг вошла горничная княгини в сад.
– Княгиня приказала вас просить не разговаривать так громко; они хотят почивать лечь, – обратилась она к князю.
Тот побледнел даже от досады, услыхав это.
– Здесь и то негромко разговаривают! – сказал он.
– Ах, это я виновата, я говорила громко, – произнесла Елена явно насмешливым голосом.
– Барыня еще просила вас непременно поутру зайти к ним, – продолжала снова горничная, обращаясь к князю.
Бедная княгиня, услыхав, что Елена у них в гостях, не выдержала и вознамерилась завтра же непременно и решительно объясниться с мужем.
– Ну, хорошо, ступай! – отвечал князь все с той же досадой.
Горничная хотела было уйти, но к ней обратилась Анна Юрьевна:
– Скажи княгине, что я сейчас зайду к ней проститься.
– Слушаю-с! – отвечала горничная и ушла.
Анна Юрьевна начала прощаться с хозяином и с гостями его.
– Заходите, пожалуйста, ко мне, – сказала она Елене гораздо уже более искренним голосом, чем говорила ей о том прежде. Елена в этот раз показалась ей окончательно умной девушкой. – Надеюсь, что и вы меня посетите! – присовокупила Анна Юрьевна барону.
– Сочту для себя за величайшую честь, – отвечал тот, с почтением поклонившись ей.
Анна Юрьевна ушла сначала к княгине, а через несколько времени и совсем уехала в своем кабриолете из Останкина. Князь же и барон пошли через большой сад проводить Елену домой. Ночь была лунная и теплая. Князь вел под руку Елену, а барон нарочно стал поотставать от них. По поводу сегодняшнего вечера барон был не совсем доволен собой и смутно сознавал, что в этой проклятой службе, отнимавшей у него все его время, он сильно поотстал от века. Князь и Елена между тем почти шепотом разговаривали друг с другом.
– Ты восхитительна сегодня была!.. Обворожительна!.. – говорил он, крепко прижимая своей рукой руку Елены к себе.
– Вот как, восхитительна, – говорила та, отвечая ему таким же пожатием.
– Что удивительнее всего, – продолжал князь, – все эти умные женщины, так называемые bas bleux[72], обыкновенно бывают некрасивы, а в тебе четыре прелести: ум, образование, красота и грация!
– Ну да, совершенство природы. – отвечала с усмешкою Елена, – погоди, узнаешь много и пороков во мне! – прибавила она серьезнее.
– Я пока один только и знаю, – подхватил князь.
– А именно?
– Ревность.
– Ну, это не порок, а скорее глупость, – отвечала Елена.
– Je vous salue, messieurs, et bonne nuit![73] – заключила она, оставляя руку князя и кланяясь обоим кавалерам.
В это время они были уже около самой дачи Жиглинских.
– Adieu! – сказал ей с чувством князь.
– Adieu! – повторил за ним с чувством и барон.
Елена скрылась потом в калиточку своего сада, друзья же наши пошли обратно домой.
– Как вы находите сию девицу? – спросил князь после некоторого молчания.
– Я умней и образованней женщины еще не встречал! – отвечал барон, по-видимому, совершенно искренно.
– Я думаю! – произнес самодовольно князь.
– Уверяю тебя! – подтвердил еще раз барон и, присвистнув, сбил своей палочкой листок с дерева.
X
На другой день, часов в двенадцать утра, князь ходил по комнате жены. Княгиня по-прежнему сидела неодетая в постели, и выражение ее доброго лица было на этот раз печальное и сердитое. Объяснение между ними только что еще началось.
– Как это было глупо вчера с вашей стороны, – начал князь, – прислать вдруг горничную сказать нам, как школьникам, чтобы не шумели и тише разговаривали!..
– Но я больна – ты это забываешь!.. – возразила ему княгиня.
– Ничего вы не больны! – сказал с сердцем князь.
– Как не больна? – воскликнула княгиня с удивлением, – ты после этого какой-то уж жестокий человек!.. Вспомни твои поступки и пойми, что не могу же я быть здорова и покойна! Наконец, я требую, чтобы ты прямо мне сказал, что ты намерен делать со мной.
– Как что такое делать? – спросил князь.
– Так!.. Тебе надобно же куда-нибудь девать меня! Нельзя же в одном доме держать любовницу и жену!
Князь при этом слегка только побледнел.
– Я любовницы моей не держу с вами в одном доме! – проговорил он.
Этот ответ, в свою очередь, сильно поразил княгиню: она никак не ожидала от мужа такой откровенности.
– Но все равно: она в двух шагах отсюда живет, – проговорила она.
– Нет, дальше, в целой версте!.. – отвечал насмешливо и как бы совершенно спокойно князь.
– Но научите же, по крайней мере, меня, – продолжала княгиня, и в голосе ее послышались рыдания, – как я должна себя вести; встречаться и видеться с ней я не могу: это выше сил моих!
– Не видайтесь, если этого вам не угодно, – сказал князь все тем же тоном.
– Но она бывает у нас! – возразила княгиня. – Следовательно, я должна убегать и оставлять мой дом.
– Не бывать она у нас не может, потому что это повлечет огласку и прямо даст повод объяснить причину, по которой она у нас не бывает! – проговорил князь.
– Вы боитесь огласки, которая, вероятно, и без того есть, – сказала княгиня, – а вам не жаль видеть бог знает какие мои страдания!
– Ваши страдания, поверьте вы мне, слишком для меня тяжелы! – начал князь, и от душевного волнения у него даже пересохло во рту и голос прервался, так что он принужден был подойти к стоявшему на столе графину с водой, налил из него целый стакан и залпом выпил его.
– Мне очень вас жаль, – продолжал он, – и чтобы хоть сколько-нибудь улучшить вашу участь, я могу предложить вам одно средство: разойдемтесь; разойдемтесь, если хотите, форменным порядком; я вам отделю треть моего состояния и приму даже на себя, если это нужно будет, наказанье по законам…
Такое предложение мужа княгиню в ужас привело: как! Быть разводкой?.. Потерять положение в обществе?.. Не видеть, наконец, князя всю жизнь?.. Но за что же все это?.. Что она сделала против него?..
– Нет, князь, я не желаю с вами расходиться, – проговорила она, и рыдания заглушили ее слова.
– Отчего же? – спросил князь каким-то трудным голосом.
– Оттого… оттого… – рыдания княгини все усиливались и усиливались, – оттого, что я, несчастная, люблю еще вас! – почти прокричала она.
Князь при этом потемнел даже весь в лице: если бы княгиня продолжала сердиться и укорять его, то он, вероятно, выдержал бы это стойко, но она рыдала и говорила, что еще любит его, – это было уже превыше сил его.
– Пощадите и вы меня тоже! – едва выговорил он и, растирая грудь, подошел к открытому окну, как бы затем, чтобы вдохнуть в себя свежего воздуха.
Такое проявление чувства в муже княгиня сейчас же подметила, и это ее порадовало: рыдания ее стали мало-помалу утихать.
– Но, может быть, ты когда-нибудь разлюбишь ее и полюбишь меня снова, – проговорила она уже вкрадчивым голосом.
– Нет, я ее не разлюблю! – отвечал князь, продолжая смотреть в окно.
Слова эти опять оскорбили и огорчили княгиню.
– Как она очаровала тебя, но чем, я желала бы знать? – проговорила она.
Князь молчал.
– А что, если я сама кого полюблю, как тебе это покажется? – присовокупила княгиня уже внушительным тоном: она, кажется, думала сильно напугать этим мужа.
– О, ты тогда такое ярмо снимешь с души моей! – произнес он.
– Так, стало быть, ты в самом деле желаешь этого? – спросила княгиня стремительно.
– Очень желаю! – отвечал князь глухо.
– Благодарю за позволение, и теперь действительно какого мне ждать возвращения от вас, когда вы таким образом третируете меня?
– Но чем же я вас дурно третирую? – спросил князь, повертываясь лицом к жене.
– Тем, что мы горничной, я думаю, не желаем в доме иметь с такими милыми качествами, а вы хотите, чтобы у вас жена была такая.
– Ну, в этом случае мы никогда с тобой не столкуемся! – сказал князь и не хотел более продолжать разговора об этом.
Княгине, разумеется, и в голову не приходило того, что князь разрешает ей любовь к другому чисто из чувства справедливости, так как он сам теперь любит другую женщину. Она просто думала, что он хочет этим окончательно отделаться от нее.
– Объяснение наше, полагаю, кончилось? – проговорил он, протягивая княгине руку.
– Если хотите, кончилось! – отвечала она с грустной усмешкой и пожимая плечами.
– И надеюсь, что вы скоро выздоровеете? – присовокупил князь.
– Не знаю! – отвечала княгиня.
Князь ушел.
Княгиня после его ухода сейчас же встала с постели и начала ходить по комнате. Она как бы мгновенно выросла душой: в том, что муж ее не любил, княгиня больше не сомневалась, и, в отмщение ему, ей ужасно захотелось самой полюбить кого-нибудь. Но кого же? Разве барона? Тем более, что он в нее был прежде влюблен так, что она даже не желала его приезда к ним в Москву именно из опасения, что он будет ухаживать за ней; а теперь – пусть ухаживает! Она сама даже ответит на его чувства и посмотрит, как этим снимет тяжелое ярмо с души князя: тонкое чувство женщины, напротив, говорило в княгине, что это очень и очень не понравится князю. Чтобы начать приводить свой план в исполнение, княгиня тут же позвала горничную, оделась; мало того, постаралась одеться щеголевато, велела себе вынести кресло на террасу и вышла туда, чтобы сейчас же послать за бароном, но, сверх всякого ожидания, увидала его уже гуляющим в их небольшом палисадничке. По странному стечению обстоятельств, барон в эти минуты думал почти то же самое, что и княгиня: в начале своего прибытия в Москву барон, кажется, вовсе не шутя рассчитывал составить себе партию с какой-нибудь купеческой дочкой, потому что, кроме как бы мимолетного вопроса князю о московском купечестве, он на другой день своего приезда ни с того ни с сего обратился с разговором к работавшему в большом саду садовнику.
– А что, любезный, купцы здесь живут? – спросил он его.
– Нет-с, купечество здесь мало живет; они больше в парках и Сокольниках живут; там их настоящее место, – отвечал тот.
– Так здесь они и не бывают совсем?
– Наезжают по временам в праздники; вон лошади-то и экипажи, которые лучшие у сада стоят, все это купеческие.
– А здесь так-таки совсем и не живут?
– Живут и здесь два-три купца.
– Которое же это место?
– Да вон тут, как влево из саду пойдете.
– Богатые тоже?
– Сильно богатые! Я работаю у них.
– А семейные или одинокие?
– Какое одинокие, семьища у обоих.
– Сыновья или дочери?
– Есть и дочери, барышни славные! – отвечал садовник, неизвестно почему догадавшийся, что барон, собственно, о барышнях купеческих и интересовался.
– И много за ними приданого дадут? – спросил барон.
– Отвалят порядочно! – протянул садовник.
Барон отошел от него и прямо направился к указанным ему купеческим дачам; прошел мимо них раз десять, все ожидая увидеть в садиках или на балконах какую-нибудь юную фигуру, но не видал ни одной. Вечером он тоже, пойдя в большой сад, заглядывал со вниманием во все хоть сколько-нибудь сносные молодые лица, следил за ними, когда они выходили из сада, и наблюдал в этом случае главным образом над тем, что на извозчиков ли они садились, или в свои экипажи, и какого сорта экипажи, хорошие или посредственные. Все эти розыски, впрочем, не привели его ни к каким желанным результатам, и барон начал уже вспоминать о хорошенькой привязанности Михайла Борисовича, с которой Мингер последние годы весьма приятно проводил время, потому что Михайло Борисович платил только деньги этой привязанности, но любила она, собственно, барона. Барон даже подумывал написать ей, что не приедет ли она на недельку в Москву, взглянуть на этот первопрестольный и никогда не виданный ею город, но в настоящее утро ему пришла совершенно новая мысль. «А что если за княгиней примахнуть?» – подумал он, тем более, что она не только что не подурнела, но еще прелестнее стала, и встретилась с ним весьма-весьма благосклонно; муж же прямо ему сказал, что он будет даже доволен, если кто заслужит любовь его супруги; следовательно, опасаться какой-нибудь неприятности с этой стороны нечего! Скучно тут только, – соображал барон далее, – возиться с барынями; они обыкновенно требуют, чтобы с ними сидели и проводили целые дни; но что ж теперь другое и делать барону было? Службы у него не было, да и когда она еще будет – неизвестно! Значит, приволокнуться за ее сиятельством следует… На этом его решении вдруг раздался голос с террасы:
– Эдуард Федорыч, подите сюда ко мне.
Барон даже вздрогнул. Это звала его княгиня.
– Боже мой, это вы появились, наконец! – воскликнул он, в свою очередь, каким-то даже восторженным тоном и, взойдя на террасу, не преминул поцеловать у княгини ручку; она тоже поцеловала его с удовольствием в щеку.
– Садитесь тут, около меня! – сказала княгиня.
Барон сел.
– Вы, однако, довольно серьезно были больны? – спросил он ее с участием.
– Да!.. Все, впрочем, более от скуки, – отвечала княгиня.
– Но отчего же, однако, вы все скучаете? – спросил барон, стремительно поворачивая к ней свою голову.
– Оттого что… что за жизнь моя теперь? Детей у меня нет!.. Близких людей, хоть сколько-нибудь искренно расположенных ко мне, тоже нет около меня!
– Позвольте мне включить себя в число последних и пояснить вам, что я около вас! – сказал барон.
– Вы на время; вы петербургский гость; опять уедете туда и забудете здешних друзей.
– Нет, я не из таких скоро забывающих людей! – произнес с чувством барон. – Я вот, например, до сих пор, – продолжал он с небольшим перерывом, – не могу забыть, как мы некогда гуляли с вами вдвоем в Парголове в Шуваловском саду и наш разговор там!
Княгиня немного покраснела: барон напоминал ей прямо свое прежнее объяснение в любви.
– А вы помните этот разговор? – спросил он ее уже с нежностью.
– Еще бы!.. – протянула княгиня, потупляя немного глаза свои.
– Но отчего же вы тогда ничего мне не отвечали? – присовокупил барон, весьма ободренный последним ответом ее.
– Мне странно было бы отвечать вам что-нибудь! – сказала княгиня, не поднимая глаз. – Вы были тогда такой еще мальчик!
– Но, однако, другому мальчику вы оказали в этом случае предпочтение! – произнес барон с грустию.
– Сила обстоятельств!.. – проговорила княгиня.
– Будто только? – спросил барон, устремляя на княгиню испытующий взгляд. – Будто вы не были влюблены в вашего жениха?
– Конечно, была влюблена! – поспешно отвечала княгиня, как бы боясь, чтобы ее в самом деле не заподозрили в чем-нибудь противном.
Барон решительно не знал, как и понять ее.
– Да, припоминаю эту минуту, – начал он опять с грустным видом, – когда вас повезли венчать, не дай бог перенести никому того, что я перенес в тот день!
– Однако вы были моим шафером! – смеясь, возразила ему княгиня.
– А хорош я был, припомните?
– Немножко бледен, это правда.
– Хорошо немного бледен, – произнес барон и замолчал, как бы погрузясь в печальные воспоминания.
Княгиня тоже молчала. Перебирая в душе своей все ощущения, она спрашивала себя мысленно, нравится ли ей хоть сколько-нибудь барон, и должна была сознаться, что очень мало; но, как бы то ни было, она все-таки решилась продолжать с ним кокетничать.
– Мне бы очень желалось спросить вас, – заговорил барон, – что, тогдашнее ваше чувство к жениху в настоящее время уменьшилось или возросло?
Княгиня усмехнулась.
– А вам зачем это знать? – спросила она.
– Затем, что я очень желаю это знать! – воскликнул барон.
– Много будете знать, скоро состареетесь, – проговорила княгиня.
– Что же из того! Лучше состареться, чем жить в неизвестности!.. Нет, шутки в сторону!.. Скажите, что я должен сделать, чтоб вы были со мной вполне откровенны?
– Прежде всего вы должны доказать мне преданностью, вниманием ко мне, участием, что заслуживаете моего доверия!
– Все это очень легко сделать, а далее, потом?
– А далее… – начала княгиня, но и приостановилась, потому что в зале в это время раздалось: «К-ха!».
– Ах, это мой доктор!.. Ну, вы теперь потрудитесь уйти, – сказала она встревоженным голосом барону.
Тот с удивлением взглянул на нее.
– Да идите же скорее! – повторила ему настойчиво княгиня.
Барон, делать нечего, сошел с балкона и сел было на ближайшую скамеечку.
– Нет, вы дальше!.. Дальше, туда уйдите! – кричала ему княгиня.
Барон пошел дальше.
– Говорят, больная на террасе в саду, значит, здорова, к-ха! – произнес Елпидифор Мартыныч, появляясь из-за стеклянных дверей.
– Получше сегодня! – отвечала ему княгиня.
– И гораздо получше, по лицу это видно! – сказал Елпидифор Мартыныч и сел против княгини. Физиономия его имела такое выражение, которым он ясно говорил, что многое и многое может передать княгине.
– Ну, что же вы узнали о том, о чем я вас просила? – начала та прямо.
– Узнал-с. К-ха! – отвечал Елпидифор Мартыныч.
– Что же?
– А то, что… к-х-ха! – отвечал Елпидифор Мартыныч (во всех важных случаях жизни он как-то более обыкновенного кашлял). – К-ха! Положение, в котором вы подозревали барышню сию, действительно и достоверно оправдывается, к-х-ха!
– Прекрасно, бесподобно; отлично себя устроила! – воскликнула княгиня, побледнев даже в лице.
– Да-с, так уж устроила!.. Мать крайне огорчена, крайне!.. Жаловаться было первоначально хотела на князя, но я уж отговорил. «Помилуйте, говорю, какая же польза вам будет?»
– За что же она хотела жаловаться на него? – перебила его княгиня.
– За то, что дочь погубил, говорит.
– А меня они, как думают, погубили или нет? – спросила княгиня.
Елпидифор Мартыныч молчал.
– Что они меня куклой, что ли, считают, которая ничего не должна ни чувствовать, ни понимать, – продолжала княгиня и даже раскраснелась от гнева, – они думают, что я так им и позволю совершенно овладеть мужем? Что он имеет с этой mademoiselle Еленой какую-то связь, для меня это решительно все равно; но он все-таки меня любит и уж, конечно, каждым моим словом гораздо больше подорожит, чем словами mademoiselle Елены; но если они будут что-нибудь тут хитрить и восстановлять его против меня, так я переносить этого не стану! Они жаловаться теперь за что-то хотят на князя, но я прежде ихнего пожалуюсь на них: отец мой заслуженный генерал!.. Государь его лично знает: он ему доложит, и ей, дрянной девчонке, не позволят расстраивать чужое семейное счастье!
– Чего государю? К-ха!.. Генерал-губернатору пожаловаться вам, так ее сейчас же вытурят из Москвы, – не велики особы! – подхватил Елпидифор Мартыныч.
– Именно вытурят из Москвы!.. – согласилась с удовольствием княгиня. – И потом объясните вы этой девчонке, – продолжала она, – что это верх наглости с ее стороны – посещать мой дом; пусть бы она видалась с князем, где ей угодно, но не при моих, по крайней мере, глазах!.. Она должна же хоть сколько-нибудь понять, что приятно ли и легко ли это мне, и, наконец, я не ручаюсь за себя: я, может быть, скажу ей когда-нибудь такую дерзость, после которой ей совестно будет на свет божий смотреть.
– И стоила бы того, ей-богу, стоила бы! – почти воскликнул Елпидифор Мартыныч.
– Потише говорите! – остановила его княгиня. – И вообразите: вчера я лежу больная, а у них вон в саду хохот, разговоры!
– Бесчувственные люди, больше ничего! – проговорил, но не так уже громко, Елпидифор Мартыныч.
– Мало, что бесчувственные люди, это какие-то злодеи мои, от которых я не знаю, как и спастись! – произнесла княгиня, и на глазах ее показались слезы.
Заметив это, Елпидифор Мартыныч сейчас же принялся утешать ее и привел даже ей пример из ветхозаветной истории.
– Авраам-то и Сарра[74] в каких тоже уж летах были и вдруг наложница у него оказалась; однако Сарра настояла же на своем, – прогнал он эту Агарь свою в пустыню, и всегда этаких госпож Агарей прогоняют и кидают потом… всегда!
Но княгиню мало это успокоило, и она даже не слушала Елпидифора Мартыныча, так что он счел за лучшее убраться восвояси.
– Прикажете послезавтра приезжать к вам? – спросил он.
– Нет, мне теперь лучше, – отвечала княгиня.
– Хорошо-с! – сказал Елпидифор Мартыныч и к экипажу своему пошел не через залу, а садом, где, увидав сидящего на лавочке барона, заметно удивился. «Это что еще за господин и зачем он тут сидит?» – подумал он про себя.
Барон же, увидав, что доктор уехал, не медля ни минуты, вошел на террасу и сел на этот раз не на стул, а на верхнюю ступеньку лестницы, так что очутился почти у самых ног княгини.
– Удивительное дело! – начал он развязно и запуская руки в маленькие кармашки своих щегольских, пестрых брюк. – До какой степени наши женщины исполнены предрассудков!
– Женщины? Предрассудков? – переспросила княгиня, все еще находившаяся под влиянием дурного впечатления, которое произвел на нее разговор с Иллионским.
– Да!.. Так называемой брачной верности они бог знает какое значение придают; я совершенно согласен, что брак есть весьма почтенный акт, потому что в нем нарождается будущее человечество, но что же в нем священного-то и таинственного?
Барон, ни много ни мало, вздумал развращать княгиню теми самыми мыслями, которые он слышал от князя и против которых сам же спорил.
– Ах, нет, брак очень важная вещь! – произнесла княгиня с прежним задумчивым видом.
– Но чем?
– Как чем? – почти воскликнула княгиня. – Тут женщина впервые отдает себя вполне мужчине.
– Но что же из того? – приступал барон.
– Как что? – возразила ему княгиня, краснея немного в лице.
– Но женщина может отдать себя вполне мужчине и не в браке, и тогда будет то же самое; брак, значит, тут ни при чем.
– Но какая же женщина, в нашем, по крайнем мере, сословии, отдаст себя не в браке? Это какая-нибудь очень дрянная! – проговорила княгиня.
– Напротив, женщины и девушки очень хорошие и честные отдают себя таким образом. Что делать? Сила обстоятельств, как сами же вы выразились.
Княгиня сомнительно покачала головой.
– А знаете ли вы, – продолжал барон, – что наши, так называемые нравственные женщины, разлюбя мужа, продолжают еще любить их по-брачному: это явление, как хотите, безнравственное и представляет безобразнейшую картину; этого никакие дикие племена, никакие животные не позволяют себе! Те обыкновенно любят тогда только, когда чувствуют влечение к тому.
Барон почти слово в слово развращал княгиню мыслями князя!
– Никогда женщина не может до такой степени разлюбить мужа! – возразила ему та.
– Совершенно разлюбляют, только не хотят самим себе даже признаться в том! – говорил барон.
Он вполне был убежден, что княгиня не любит мужа, но не подумала еще об этом хорошенько; а потому он и старался навести ее на эту мысль.
– В любви все дело минуты, – продолжал он каким-то даже страстным голосом, – например, я десять бы лет жизни отдал, если бы вы позволили мне поцеловать божественную вашу ножку… – И барон при этом указал глазами на маленькую и красивую ножку княгини, выставившуюся из-под ее платья.
– Глупости какие! – воскликнула при этом княгиня, сейчас же пряча ножку свою.
– Клянусь честью, отдал бы десять лет жизни! – шептал барон, устремляя пламенный взгляд на княгиню.
– Не нужно мне ваших десяти лет! – произнесла та с явным неудовольствием. – Муж идет, – прибавила она вслед за тем торопливо.
Вдали, в самом деле, показался князь, шедший с наклоненной головой и с самым мрачным выражением в лице. После объяснения с женой он все время не переставал думать об ней и Елене, спрашивавшей его, чем он так расстроен, ссылался на болезнь. Положение его казалось ему очень похожим на глупое положение журавля в топком болоте: хвост вытащил – нос завязнул, нос вытащил – хвост завяз. С женой было ничего – с Еленой дурно шло; с Еленой окончательно помирился – жена взбунтовалась. Впрочем, он княгиню считал совершенно правою и полагал, что если она полюбит кого-нибудь, так он не только что не должен будет протестовать против того, но даже обязан способствовать тому и прикрывать все своим именем!
С такими мыслями он шел домой и, подойдя к террасе, увидел, что княгиня, разодетая и прехорошенькая, в какой-то полулежачей и нежной позе сидела на креслах, а у ног ее помещался барон с красным, пылающим лицом, с разгоревшимися маслеными глазами. Княгиня тоже была с каким-то странным выражением в лице. Точно кинжалом кто ударил, при виде всего этого, в сердце князя. «Неужели она, в самом деле, хочет привести в исполнение свою угрозу!.. Что же, это и отлично будет!» – старался было он с удовольствием подумать, но гнев и досада против воли обуяли всем существом его, так что он, не поздоровавшись даже с другом своим, сел на стул и потупил голову. Княгиня все это подметила и крайне была довольна этим, а барона, напротив, такой вид князя сконфузил.
– Что такое с вами, какой вы сегодня пасмурный? – спросил он его заискивающим голосом.
– Я всегда такой!.. – отвечал князь: его, по преимуществу, бесило то, что он не мог чувствовать так, как бы он желал и как бы должен был чувствовать!
XI
Восьмого июля, в день католической Елизаветы, княгине предстояло быть именинницей. Она непременно хотела этот день отпраздновать вечером, который должен был состоять из музыки, танцев, освещения их маленького дачного садика и, наконец, фейерверка. Как бы наперекор всему, княгиня последнее время ужасно старалась веселиться: она по вечерам гуляла в Останкинском саду, каждый почти праздник ездила на какую-нибудь из соседних дач, и всегда без исключения в сопровождении барона, так что, по поводу последнего обстоятельства, по Останкину, особенно между дамским населением, шел уже легонький говор; что касается до князя, то он все время проводил у Елены и, вряд ли не с умыслом, совершенно не бывал дома, чтобы не видеть того, что, как он ни старался скрыть, весьма казалось ему неприятным. С бароном князь был более чем сух и очень насмешлив. Желанию жены отпраздновать свои именины он, конечно, не противоречил и, предоставив ей распоряжаться, как она желает, только спросил ее:
– Кто же у тебя будет танцевать… дамы твои и кавалеры?
– Во-первых, я сама! – отвечала княгиня.
– Во-вторых, конечно, барон! – подхватил с явным оттенком насмешки князь.
– Конечно, барон, во-вторых, – повторила за мужем княгиня.
– Потом Анна Юрьевна, – прибавила она.
– Кто же для нее кавалером будет? Господин Иллионский разве? – спросил князь.
– И господин Иллионский будет у меня!.. Потом ты будешь танцевать!
– С кем же я буду танцевать? – спросил князь.
– С mademoiselle Еленой, если только она удостоит чести посетить меня! – проговорила княгиня.
– То есть, если вы удостоите ее чести пригласить! – подхватил князь.
– Нет уж, это я вас буду просить пригласить ее, – сказала княгиня.
– Что ж, вы мне поручаете это? – сказал князь с явным оттенком удовольствия.
– Если вы желаете, так можете пригласить ее! – отвечала княгиня.
Она, кажется, хотела этим показать мужу, что теперь для нее ничего даже не значит присутствие Елены в их доме.
– Пригласим-с, пригласим mademoiselle Елену, – повторил двукратно князь.
Княгиня на это молчала.
– Потом приглашу и милейшего моего Миклакова! – присовокупил князь.
– Пригласи!.. – как-то протянула княгиня.
Милейший Миклаков, о котором упомянул князь, будет играть в моем рассказе довольно значительную роль, а потому я должен несколько предуведомить об нем читателя. Миклаков в молодости отлично кончил курс в университете, любил очень читать и потому много знал; но в жизни как-то ему не повезло: в службе он дотянул только до бухгалтера, да и тут его терпели потому, что обязанности свои он знал в совершенстве, и начальники его обыкновенно говорили про него: «Миклаков, как бухгалтер, превосходный, но как человек – пренеприятный!» Дело в том, что при служебных объяснениях с своими начальствующими лицами он нет-нет да и ввернет почти каждому из них какую-нибудь колкость. Потом Миклаков был влюблен в девушку очень хорошей фамилии, с прекрасным состоянием. Та сначала отвечала ему, но потом вдруг разочаровалась в нем; Миклаков после этого сходил с ума и вряд ли не содержался в сумасшедшем доме. В пятидесятых годах он, наконец, сделался известен в литературных кружках и прослыл там человеком либеральнейшим, так что, при первом же более свободном дыхании литературы, его пригласили к сотрудничеству в лучшие журналы, и он начал то тут, то там печатать свои критические и памфлетические статьи. Творения его, кроме ума и некоторого знания, имели еще свойство невообразимой бранчивости, так что Миклаков сам даже про себя говорил, что ему единственный свыше ниспослан дар: это продернуть себе подобного! Вследствие таковых качеств, успех его в литературе был несомненный: публика начала его знать и любить; но зато журналисты скоро его разлюбили: дело в том, что, вступая почти в каждую редакцию, Миклаков, из довольно справедливого, может быть, сознания собственного достоинства и для пользы самого же дела, думал там овладеть сейчас же умами и господствовать, но это ему не совсем удавалось; и он, обозлившись, обыкновенно начинал довольно колко отзываться и об редакторах и об их сотрудниках. «Что же это такое? – говорил он, например, про одну литературную партию. – Болеть об нищей братии, а в то же время на каждом шагу делать подлости, мерзости: лучше первоначально от этого отказаться, а потом уже переходить к высшим подвигам гуманности!» Потом про другой, очень почтенный журнал, он выражался так: «О-хо-хо-хо, батюшки… какие там слоны сидят! И не разберешь сразу: демагоги ли это или мурзы татарские? Кажется, последнее». И вообще про все полчище русских литераторов Миклаков говорил, что в нем обретается никак не больше десятков двух или трех истинно даровитых и образованных людей, а остальные набрались из таких господ, которые ни на какое другое путное дело неспособны. Нынче от писцов требуют, чтобы они были хоть сколько-нибудь грамотны, но русский литератор может быть даже безграмотен: корректор ему все поправит; а писать он тоже может всякую чепуху, какая только придет ему в голову, ибо эти тысячеустные дуры-газеты (так обыкновенно Миклаков называл газеты) способны принять в себя всякую дрянь и изрыгнуть ее перед русскою публикою.
Все эти насмешливые отзывы Миклакова, разумеется, передавались кому следует; а эти, кто следует, заставляли разных своих критиков уже печатно продергивать Миклакова, и таким образом не стало почти ни одного журнала, ни одной газеты, где бы не называли его то человеком отсталым, то чересчур новым, либеральным, дерзким, бездарным и, наконец, даже подкупленным. Прочитывая все это, Миклаков только поеживался и посмеивался, и говорил, что ему все это как с гуся вода, и при этом обыкновенно почти всем спешил пояснить, что он спокойнейший и счастливейший человек в мире, так как с голоду умереть не может, ибо выслужил уже пенсию, женской измены не боится, потому что никогда и не верил женской верности[75], и, наконец, крайне доволен своим служебным занятием, в силу того, что оно все состоит из цифр, а цифры, по его словам, суть самые честные вещи в мире и никогда не лгут! Говоря таким образом, Миклаков в душе вряд ли то же самое чувствовал, потому что день ото дня становился как-то все больше худ и желт и почти каждый вечер напивался до одурения; видимо, что он сгорал на каком-то внутреннем и беспрестанно мучившем его огне!
Князь познакомился с Миклаковым у Елены, с которою тот был давно знаком и даже дружен. С первого же свиданья он понравился князю своими насмешливыми суждениями; и потом это внимание князя к Миклакову усилилось еще оттого, что Елена раз призналась ему, что она ничего не скрывает от Миклакова.
– И даже любви нашей? – заметил ей князь.
– И любви нашей не скрываю! – отвечала Елена.
– Что ж он говорит по этому поводу? – спросил князь, немного потупляясь, но с заметным любопытством.
– Он говорит весьма неутешительные вещи для меня.
– А именно?
– Ну нет, я никогда тебе этого не скажу! – воскликнула Елена.
Миклаков, в самом деле, говорил ей весьма неутешительные вещи.
– Как хотите, – рассуждал он с ударением, – а князь все-таки человек женатый!
– Что ж, мне из-за этого и душить в себе чувство было? – спрашивала его Елена.
– Ах, боже мой, душить чувство! – воскликнул Миклаков. – Никогда чувство вдруг не приходит, а всегда оно есть результат накопленных, одного и того же рода, впечатлений; стоит только не позволять на первых порах повторяться этим впечатлениям – и чувства не будет!
– Но зачем же бы я стала это делать, позвольте вас спросить? – говорила Елена.
– Да хоть бы затем, что теперешнее, например, ваше положение очень скверное! – возражал ей Миклаков.
– Но чем же? – спрашивала Елена, сама при этом немного краснея.
– А тем, что вы сами очень хорошо знаете – чем, но только из принципов ваших хотите показать, что вам ничего это не значит.
– Мои принципы – это вся я! – говорила Елена.
– Нет, не все, далеко не все! – возражал ей с усмешкой Миклаков.
Елена начинала на него немножко сердиться.
– Вы странный человек, вы как будто с каким-то наслаждением мне злопророчествуете!
– Да и добропророчествовать тут нечего!
– Что ж, вы так-таки князя за совершенно дрянного человека и считаете?
– Нисколько! Но я вижу только, что он одной уж женщине изменил.
– Кому это?
– Жене своей.
Елена захохотала.
– Я надеюсь, что в его чувстве ко мне и к жене есть маленькая разница!
– Не знаю-с!.. Мы его чувства к жене оба с вами не видали.
– Но какое же его чувство ко мне, как вы находите, серьезное или пустое? – спрашивала Елена настойчиво, но с заметным трепетом в голосе.
– Серьезных и пустых чувств я не знаю, – отвечал ей Миклаков, – а знаю страстные и не страстные, и его чувство к вам пока еще очень страстное!
– Подите вы! Вы говорите только с одной какой-то животной стороны.
– Да ведь по-нашему с вами человек только животное и есть, – говорил Миклаков, устремляя на Елену смеющиеся глаза.
– Что ж из этого?.. Но он все-таки может любить в другом: ум, образование, характер, – перечисляла Елена.
– Все может, жаль только, что все это не по религии нашей с вами! – подсмеивался Миклаков.
– Никакой у вас нет религии и никогда не бывало ее, потому что никогда не было никаких убеждений! – прикрикнула на него Елена.
– Совершенно верно-с. Кроме того твердого убеждения, что весь мир и все его убеждения суть не что иное, как громаднейшая пошлость, никогда никакого другого не имел! – подхватил Миклаков.
– Ну, подите вы! – повторила еще раз Елена, видя, что Миклаков уже шутил. А он, в свою очередь, при этом вставал, целовал ее руку и уходил домой, очень довольный, что рассердил барышню.
* * *
– Кто же, однако, еще у тебя будет? – продолжал князь разговаривать с женой о предстоящем вечере.
– Будет еще madame Петицкая, которая представит нам молодого танцора, monsieur Архангелова! – отвечала княгиня.
– Madame Петицкая представит monsieur Архангелова – недурно! – произнес князь насмешливым голосом.
M-me Петицкой также предстоит некоторая роль в моем рассказе, а потому я и об ней должен буду сказать несколько слов. Дама эта, подобно Миклакову, тоже немало изливала желчи и злобы на божий мир, только в более мягкой форме и с несколько иными целями и побуждениями. Она познакомилась с княгиней всего только с месяц назад и, как кажется, была мастерица устраивать себе знакомства с лицами знатными и богатыми. Высмотрев на гулянье в саду княгиню и узнав с достоверностью, кто она такая, г-жа Петицкая раз, когда княгиня сидела одна на террасе, подошла к решетке их садика. Одета г-жа Петицкая была в черное траурное платье, траурную шляпку и, придав самый скромный и даже несколько горестный вид своему моложавому лицу (г-же Петицкой было, может быть, лет тридцать пять), она произнесла тихим и ровным голосом и совсем, совсем потупляя глаза:
– Madame la princesse, pardon, что я вас беспокою, но не угодно ли вам будет купить рояль, который остался у меня после покойного мужа моего?
Княгиню немножко удивило подобное предложение.
– Но сами вы разве не играете? – спросила она.
– Я играю, и недурно играю, – отвечала г-жа Петицкая еще скромнее, – но у меня нет средств, чтобы иметь такой дорогой рояль; мой муж был великий музыкант!
– Ваша фамилия? – спросила ее княгиня.
– Петицкая! – произнесла г-жа Петицкая с заметною гордостью.
– Ах, я слыхала игру вашего мужа; он действительно был превосходный музыкант.
– Превосходный! – повторила и г-жа Петицкая, приближая носовой платок к глазам.
– Я непременно зайду к вам посмотреть ваш рояль и купить его, хоть затем, чтобы иметь его в память вашего супруга.
– О, merci! Недаром мое сердце влекло меня к вам! – воскликнула негромко г-жа Петицкая.[76]
Раскланявшись с княгиней, она удалилась. Та на другой же день зашла к ней на дачу посмотреть рояль, который ей очень понравился, и она его сейчас купила.
Когда нанятые для переноски рояля мужики подняли его и понесли, г-жа Петицкая удалилась несколько в сторону и заплакала. Княгине сделалось бесконечно жаль ее.
– А у вас никакого рояля и не останется? – спросила она ее.
– Нет! – отвечала г-жа Петицкая почти трагическим голосом.
– Ну, я как-нибудь это поправлю! – проговорила княгиня и, возвратившись домой, пересказала мужу, что она купила отличный рояль у одной дамы. – И вообрази, у этой бедной женщины не осталось теперь никакого инструмента, тогда как она сама очень хорошая музыкантша! – присовокупила она к этому.
Г-жа Петицкая, кажется, не без умысла взяла в присутствии княгини несколько довольно бойких аккордов.
– Да, жаль! – произнес довольно равнодушно князь.
– И я, знаешь, что хочу сделать, – продолжала княгиня, – подарить ей мой рояль… не продавать же нам его?
– Конечно, подари! – согласился князь.
Княгиня очень была довольна таким позволением и даже поцеловала за него мужа.
Когда г-же Петицкой принесли от княгини в подарок рояль, то она удивилась и даже немножко обиделась; но княгиня прислала ей при этом такое любезное и доброе письмо, что она не в состоянии была отказаться принять подарок от нее, и с тех пор почти дружба связала обеих этих дам. Главное, г-жа Петицкая, несмотря на свой скромный и печальный вид, ужасно смешила княгиню, рассказывая ей разные разности про останкинских господ и госпож. О, она казалась княгине очень умною и ужасною насмешницей!
Кроме этих забавных рассказов, г-жа Петицкая не чужда была, по-видимому, заглянуть и подальше, поглубже в сердце княгини.
– Этот барон какой, должно быть, хороший и честный человек! – говорила она.
– Да, он хороший человек! – отвечала княгиня, но, как показалось г-же Петицкой, совершенно равнодушно.
– И красивый какой собой! – продолжала она.
– Ну нет, какой же красивый? – возразила княгиня очень искренним голосом, так что г-жу Петицкую удивила даже этим.
– Но, однако, извините вы меня: он лучше вашего мужа, хоть и тот тоже красив!
– Нет, муж лучше! – произнесла княгиня, опять совершенно искренне.
Г-жа Петицкая понять не могла, что такое значили подобные ответы. По слухам останкинским, она твердо была уверена, что говорит княгине самые приятные вещи, а тут вдруг встречает такое равнодушие в ней; а потому спустя некоторое время она решилась попробовать княгиню с другой стороны, хоть более, может быть, неприятной для нее, но все-таки, конечно, интересующей ее.
– Я как-то раз гуляла, – начала она, по обыкновению, своим ровным и кротким голосом, – и вдруг на даче у Жиглинских вижу вашего мужа! Никак не ожидала, что он с ними знаком!
Княгиня при этом невольно покраснела.
– А вы разве знакомы с Жиглинскими? – спросила она стремительно.
– Да, то есть муж мой, собственно, знал их хорошо, даже очень хорошо! – повторила г-жа Петицкая с какой-то странной усмешкою. – Он рассказывал мне, как в молодости проиграл у них в доме три тысячи рублей, и не то что, знаете, проиграл, а просто был очень пьян, и у него их вытащили из кармана и сказали потом, что он их проиграл!
Княгиня на это молчала. Она отовсюду, наконец, слышала, что Жиглинские были ужасно дрянные люди, и она понять одного только не могла, каким образом князь мог сблизиться с ними?
Г-жа Петицкая, в свою очередь, тоже еще не уяснила себе хорошенько, какое впечатление она произвела на княгиню всеми этими рассказами, и потому решилась продолжать их.
– Эта дочь госпожи Жиглинской, – начала она с некоторым одушевлением и не столько ровным и монотонным голосом, – говорят, чистейшая нигилистка!
Княгиня при этом сделала маленькую гримасу.
– Про нее, между прочим, рассказывают, – продолжала г-жа Петицкая, – и это не то что выдумка, а настоящее происшествие было: раз она идет и встречает знакомого ей студента с узелком, и этакая-то хорошенькая, прелестная собой, спрашивает его: «Куда вы идете?» – «В баню!» – говорит. – «Ну так, говорит, и я с вами!» Пошла с ним в номер и вымылась, и не то что между ними что-нибудь дурное произошло – ничего!.. Так только, чтобы показать, что стыдиться мужчин не следует.
– Не может быть! – воскликнула княгиня.
– Говорят, что было! – подтвердила г-жа Петицкая самым невинным голосом, хотя очень хорошо знала, что никто ей ничего подобного не говорил и что все это она сама выдумала, и выдумала даже в настоящую только минуту.
* * *
В самый день именин княгиня, одетая в нарядное белое платье, отправилась в коляске в католическую церковь для выслушания обедни и проповеди. Барон, во фраке и белом галстуке, тоже поехал вместе с ней. Князь видел это из окна своего кабинета и только грустно усмехнулся. По случаю приглашения, которое он накануне сделал Елене, чтобы она пришла к ним на вечер, у него опять с ней вышел маленький спор.
– Нет, не приду! – сказала было на первых порах Елена.
– Отчего же? – спросил князь, видимо, очень огорченный этим отказом.
– Ах, какой ты странный человек, у меня платья не сходятся; я корсета не могу стянуть потуже, – возразила ему та.
– Да ты и не стягивай, надень сверху какую-нибудь мантилью.
Елена все еще отрицательно качала головой.
– Пожалуйста, приходи! – повторил еще раз князь, и голос его был до того упрашивающий, что Елене почти сделалось жаль его.
– Ну, хорошо, приду! – сказала она ему.
Князь, упрашивая так настойчиво Елену прийти к ним, кроме желания видеть ее, имел еще детскую надежду, что таким образом Елена попривыкнет у них бывать, и княгиня тоже попривыкнет видеть ее у себя, и это, как он ожидал, посгладит несколько существующий между ними антагонизм.
Часа в два княгиня возвратилась с бароном из церкви. M-me Петицкая уже дожидалась ее на террасе и поднесла имениннице в подарок огромный букет цветов, за который княгиня расцеловала ее с чувством. Вскоре затем пришел и князь; он тоже подарил жене какую-то брошку, которую она приняла от него, потупившись, и тихо проговорила: «Merci!»
Следовавший потом обед прошел как-то странно. Барон, Петицкая и княгиня, хоть не говеем, может быть, искренне, но старались между собой разговаривать весело; князь же ни слова почти не произнес, и после обеда, когда барон принялся шаловливо развешивать по деревьям цветные фонари, чтобы осветить ими ночью сад, а княгиня вместе с г-жой Петицкой принялась тоже шаловливо помогать ему, он ушел в свой флигель, сел там в кресло и в глубокой задумчивости просидел на нем до тех пор, пока не вошел к нему прибывший на вечер Миклаков.
– Пешком, вероятно? – спросил князь приятеля, видя, что тот утирает катящийся со лба крупными каплями пот.
– От инфантерии-с[77], от инфантерии! – отвечал ему тот.
Миклаков обыкновенно всюду ходил пешком и говорил, что у него ноги, после мозга, самая выгодная часть тела, потому что они вполне заменяют ему лошадь.
– А Елена Николаевна будет у вас? – спросил Миклаков.
– Будет! – отвечал князь.
– То-то, а если нет, так я до балу вашего хотел сходить к ней.
– Нет, она к нам придет!
– И что же, княгиня, не пофыркивает на нее?
– Нисколько!
– Черт знает что такое! – произнес Миклаков и пожал только плечами.
Князь молчал.
Через полчаса из большого флигеля пришел лакей и доложил князю, что гости начали съезжаться. Миклаков и князь пошли туда; в зале они увидели Елпидифора Мартыныча, расхаживающего в черном фраке, белом жилете и с совершенно новеньким владимирским крестом на шее. Князю Елпидифор Мартыныч поклонился почтительно, но молча: он все еще до сих пор считал себя сильно им обиженным; а князь, в свою очередь, почти не обратил на него никакого внимания и повел к жене в гостиную Миклакова, которого княгиня приняла очень радушно, хоть и считала его несколько за юродивого и помешанного. Там же сидела и Анна Юрьевна. Князь поместился было около нее с целью поболтать и пошутить с кузиной, но на этот раз как-то ему не удавалось это, да и Анна Юрьевна была какая-то расстроенная. Она на днях только узнала, что юный музыкальный талант ее изменяет ей на каждом шагу, а потому вознамерилась прогнать его. Вскоре затем прибыла m-me Петицкая с г. Архангеловым, который оказался очень еще молодым человеком и странно! – своим цветущим лицом и завитыми длинными русыми волосами напоминал собой несколько тех архангелов, которых обыкновенно плохие живописцы рисуют на боковых иконостасных дверях. Тело свое молодой человек держал чересчур уж прямо, стараясь при этом неимовернейшим образом выпячивать грудь свою вперед, и, кажется, больше всего на свете боялся замарать свои белые перчатки. Г-жа Петицкая смотрела и следила за ним боязливо и нежно, как бы питая к нему в одно и то же время чувство матери и чувство более нежное и более страстное. Она не преминула сейчас же представить его князю, но тот и m-r Архангелову, так же, как и Елпидифору Мартынычу, не сказал ни слова и только молча поклонился ему. Наконец, явилась и Елена, по обыкновению, с шиком одетая, но – увы! – полнота ее талии была явно заметна, и это, как кажется, очень сильно поразило княгиню, так что она при виде Елены совладеть с собой не могла и вся вспыхнула, а потом торопливо начала хлопотать, чтобы устроить поскорее танцы, в которых и разделились таким образом: княгиня стала в паре с бароном, князь с Еленой, г-жа Петицкая с своим Архангеловым, а Анна Юрьевна с Миклаковым. Княгиня в продолжение всей кадрили не отнеслась к Елене ни с одним словом, ни с одним звуком и почти отворачивалась, проходя мимо нее в шене. Елена делала вид, что решительно не замечала этого, и держала себя с большим достоинством. Княгиня в то же время почти неприличным образом любезничала с бароном. Она уставляла на него по нескольку времени свои голубые глаза, не отнимала своей руки из его руки, хотя уже и не танцевала более. Князь, в свою очередь, все это видел и кусал себе губы, а когда кончились танцы, он тотчас ушел в одну из отдаленных комнат, отворил там окно и сел около него. Прочие гости тоже все ушли в сад гулять, и в зале остался только Елпидифор Мартыныч, который, впрочем, нашел чем себя занять: он подошел к официанту, стоявшему за буфетом, и стал с ним о том, о сем толковать, а сам в это время таскал с ваз фрукты и конфеты и клал их в шляпу свою. Он со всякого обеда или бала, куда только пускали его, привозил обыкновенно таким образом приобретенные гостинцы домой и в настоящее время отдавал их маленькой девочке кухарки, своей собственной побочной дочери.
В саду, между тем, по распоряжению барона, засветили цветные фонари, и все кустики и деревца приняли какой-то фантастический вид: посреди их гуляли как бы тоже фантастические фигуры людей. На скамейку, расположенную у того окна, у которого сидел князь, пришли я сели Миклаков и Елена. Князя они совершенно не могли видеть.
– Вы говорите, что заметно? – спрашивала Елена.
– Совершенно заметно! – отвечал, невесело усмехаясь, Миклаков.
– Ну что ж, ничего!.. Пусть себе! – сказала Елена.
– Вовсе не ничего! Ну к чему такая неискренность!.. – возразил ей Миклаков уже серьезно. – Ваше положение скверное и неприятное, а будет еще сквернее и неприятнее.
– Но что же делать, как помочь тому? – спрашивала Елена.
– Что делать? – повторил Миклаков в раздумье. – Поезжайте лучше за границу и назовитесь там дамой, что ли!
– Но нельзя же каждый раз ездить для этого за границу.
– А вы думаете повторять такое ваше положение? – спросил насмешливо Миклаков.
– Очень может случиться, – отвечала Елена спокойно, – а потому, теперь ли, тогда ли вытерпеть подобное положение – все равно!
– И то правда! – подхватил Миклаков и вздохнул.
У князя кровью сердце обливалось, слушая этот разговор: внутреннее сознание говорило в нем, что Миклаков был прав, и вздох того был глубоко им понят.
Миклаков и Елена, впрочем, вскоре ушли с этой лавочки, и зато вместо них заняла ее другая пара, г-жа Петицкая с ее Архангеловым.
– Как вам нравятся разные романические сцены, которые тут разыгрываются? – говорила она кавалеру своему кротким и незлобивым голосом.
– Какие-с? – произнес тот как-то торопливо и почти в лакейском тоне.
– Тут ужасные драмы происходят, – повторила г-жа Петицкая, – эта брюнетка – девица: она любовница князя!
– Что же, она давно его любовница? – спросил ее, черт знает к чему, молодой человек.
– Не знаю, – отвечала с небольшою досадой г-жа Петицкая, – я знаю только одно, – продолжала она каким-то шипящим голосом, – что она развратнейшее существо в мире!
На это молодой человек ничего не сказал, боясь, может быть, опять как-нибудь провраться.
– А вот этот высокий мужчина – барон: вы видели его?
– Видел-с! – отрезал молодой человек.
– Он ухаживает за княгиней и, кажется, уж счастливый ее поклонник! – продолжала г-жа Петицкая.
– Ах, да, да! Так, так! Это я видел и заметил! – подхватил как-то необыкновенно радостно молодой человек.
То, что барон куртизанил с княгиней и она с ним, – это даже г. Архангелов заметил, до такой степени это было ярко и видно!
Далее князь не в состоянии был выслушивать их разговора; он порывисто встал и снова вернулся в залу, подошел к буфету, налил себе стакан сельтерской воды и залпом его выпил. Елпидифор Мартыныч, все еще продолжавший стоять около ваз с конфетами, только искоса посмотрел на него. Вскоре после того в залу возвратилась княгиня в сопровождении всех своих гостей.
– Мы сейчас идем фейерверк смотреть! – отнеслась она к мужу.
– Идите! – отвечал ей почти грубо князь и затем, обратившись к Елене, подал ей руку.
– Пойдемте, Елена Николаевна; вы, я знаю, в темноте не умеете ходить одни! – сказал он ей ласковым голосом.
Все отправились к пруду, на котором был устроен фейерверк, и уселись на приготовленные там заранее стулья. Князь непременно полагал, что барон находится в группе людей, стоящих около фейерверка, так как фейерверк этот барон сам затеял и сам его устраивал; но, к великому своему удивлению, когда одно из самых светлых колес фейерверка было зажжено, князь усмотрел барона вовсе не на пруду, а сидящим вдвоем с княгиней вдали от всех и находящимся с ней в заметно приятных и задушевных разговорах. Князю показалось это, наконец, гадко!
– Не хотите ли вы отсюда прямо идти домой? – спросил он Елену.
– Ах, очень бы желала, – отвечала ему та.
Ей, в самом деле, тяжело было оставаться на людях.
– Ну так что же, пойдемте! Я вас провожу и даже останусь у вас! – сказал князь.
– А разве вы не будете ужинать с вашими гостями?
– Черт с ними, надоели они мне все! – отвечал князь с презрением.
– В таком случае, пойдемте! – проговорила Елена довольным голосом; она нисколько даже не подозревала о волновавших князя чувствованиях, так как он последнее время очень спокойно и с некоторым как бы удовольствием рассказывал ей, что барон ухаживает за княгиней и что между ними сильная дружба затевается!
XII
Миклаков издавна обитал на Тверской в весьма небогатых нумерах. Он до сих пор еще жил, как жил некогда студентом, и только нанимал комнату несколько побольше, чем прежде, и то не ради каких-нибудь личных удобств, а потому, что с течением времени у него очень много накопилось книг, которые и надобно было где-нибудь расставить; прочая же обстановка его была совершенно прежняя: та же студенческая железная кровать, тот же письменный стол, весь перепачканный чернильными пятнами и изрезанный перочинным ножом; то же вольтеровское кресло для сидения самого хозяина и несколько полусломанных стульев для гостей. Миклаков сам говорил, что всяк, кто у него побывает, не воспылает потом желанием бывать у него часто; но вместе с тем он, кажется, любил, когда кто заходил к нему, и вряд ли даже помещение свое держал в таком грязном виде не с умыслом, что вот-де скверно у меня, а все-таки хорошие люди делают мне посещения. Курил Миклаков трубку с длинным черешневым чубуком и курил Жукова табак, бог уж знает, где и доставая его. Комплект платья у него был так же неполон, как и во дни оны: халат его был, например, такого свойства, что Миклаков старался лучше не надевать его, когда это было возможно, а так как летом эта возможность, по случаю теплой погоды, была почти постоянная, то Миклаков обыкновенно все лето и ходил в одном белье. Раз, в очень жаркое утро, он именно в таком костюме лежал на своей кровати и читал. Вдруг по коридору раздались довольно тяжелые шаги; Миклаков навострил немного уши; дверь в его нумер отворилась, и вошел князь Григоров.
– А, ваше сиятельство! – воскликнул Миклаков, впрочем, не поднимаясь с постели и только откладывая в сторону читаемую им книгу. – Какими судьбами вы занесены из ваших прохлад в нашу знойную Палестину?
– Да вот, видите, к вам приехал!.. – отвечал князь.
Выражение лица его было мрачное и пасмурное. Положив шляпу, он поспешил усесться на один из стоявших перед письменным столом стульев.
– Вижу, вижу-с и благодарю! – сказал Миклаков, поворачиваясь к князю лицом, но все-таки не вставая с постели.
– Да вставайте же, полно вам валяться!.. Сядьте тут к столу! – воскликнул тот, наконец.
– Немножко совестно! – произнес Миклаков. – Впрочем, ничего! – прибавил он и затем с полнейшею бесцеремонностью встал в своем грязном белье и сел против князя.
Тот, с своей стороны, ничего этого и не заметил, потому что весь был занят своими собственными мыслями.
– Ну-с, что же вы скажете мне хорошенького? – начал Миклаков.
– Что хорошенького?.. Все как-то скверно у меня идет, – отвечал князь с расстановкой.
Миклаков сжал на это губы.
– Скверно для вас идет, – повторял он, – человек, у которого больше восьмидесяти тысяч годового дохода, говорит, что скверно у него идет, – странно это несколько!
– Не в одних деньгах счастье, – возразил князь.
– А по-моему, в одних деньгах и есть, да, пожалуй, еще в физическом здоровье, – подхватил Миклаков.
– Нет-с, для человека нужно еще нечто третье!
– А именно?
– А именно правильность и определенность его отношений к другим людям!
Миклаков опять сжал губы.
– Я что-то мало вас понимаю, – произнес он.
– Очень просто это, – отвечал князь. – Отношения мои к жене теперь до того извратились, исказились, осложнились!..
Князь еще и прежде говорил с Миклаковым совершенно откровенно о своей любви к Елене и о некоторых по этому поводу семейных неприятностях, и тот при этом обыкновенно ни одним звуком не выражал никакого своего мнения, но в настоящий раз не удержался.
– Мне кажется, что вам должно быть очень совестно против вашей жены, – проговорил он.
– Более чем совестно!.. Я мучусь и страдаю от этого каждоминутно! – сказал князь.
– Так и должно быть-с! Так и следует! – подхватил Миклаков.
– Но как же, однако, помочь тому? – спросил князь.
Миклаков пожал на это плечами.
– Разойтись нам, я полагаю, необходимо и для спокойствия княгини и для спокойствия моего! – присовокупил князь.
– Для вашего-то – может быть, что так, но никак уже не для спокойствия княгини! – возразил Миклаков. – У нас до сих пор еще черт знает как смотрят на разводок, будь она там права или нет; и потом, сколько мне кажется, княгиня вас любит до сих пор!
– Ну! – сказал на это с ударением князь.
– Что – ну?
– То, что этого нет теперь.
– А почему вы так думаете?
– Потому, что она полюбила уж другого, – отвечал князь, покраснев немного в лице.
– Это барона Мингера, что ли? – спросил Миклаков.
– Да! – отвечал князь, окончательно краснея.
– Нет, это вздор! Она не любит барона! – сказал Миклаков, отрицательно покачав головой.
– Как вздор! На каком же основании вы так утвердительно говорите? – возразил ему князь.
– А на том, что когда женщина любит, так не станет до такой степени открыто кокетничать с мужчиной.
– Нет, она любит его! – повторил князь еще раз настойчиво. Подслушав разговор Петицкой с Архангеловым, он нисколько не сомневался, что княгиня находится в самых близких даже отношениях к барону.
– Ваше это дело!.. Вам лучше это знать! – сказал Миклаков.
– Неприятнее всего тут то, – продолжал князь, – что барон хоть и друг мне, но он дрянь человечишка; не стоит любви не только что княгини, но и никакой порядочной женщины, и это ставит меня решительно в тупик… Должен ли я сказать о том княгине или нет? – заключил он, разводя руками и как бы спрашивая.
– Все мужья на свете, я думаю, точно так же отзываются о своих соперниках! – проговорил как бы больше сам с собою Миклаков. – А что, скажите, княгиня когда-нибудь говорила вам что-нибудь подобное об Елене? – спросил он князя.
– Почти нет!
– Так почему же вы считаете себя вправе говорить ей таким образом о бароне?
– Потому, что я опытней ее в жизни и лучше знаю людей.
– Не думаю! Женщины обыкновенно лучше и тоньше понимают людей, чем мужчины: княгиня предоставила вам свободу выбора, предоставьте и вы ей таковую же!
– А я не могу этого сделать! – почти воскликнул князь. – Полюби она кого-нибудь другого, я уверен, что спокойней бы это перенес; но тут при одной мысли, что она любит этого негодяя, у меня вся кровь бросается в голову; при каждом ее взгляде на этого господина, при каждой их прогулке вдвоем мне представляется, что целый мир плюет мне за то в лицо!.. Какого рода это чувство – я не знаю; может быть, это ревность, и согласен, что ревность – чувство весьма грубое, азиатское, средневековое, но, как бы то ни было, оно охватывает иногда все существо мое.
– Ревность действительно чувство весьма грубое, – начал на это рассуждать Миклаков, – но оно еще понятно и почти законно, когда вытекает из возбужденной страсти; но вы-то ревнуете не потому, что сами любите княгиню, а потому только, что она имеет великую честь и счастие быть вашей супругой и в силу этого никогда не должна сметь опорочить честь вашей фамилии и замарать чистоту вашего герба, – вот это-то чувство, по-моему, совершенно фиктивное и придуманное.
– Вовсе не фиктивное! – возразил князь. – Потому что тут оскорбляется мое самолюбие, а самолюбие такое же естественное чувство, как голод, жажда!
– Положим, что самолюбие чувство естественное, – продолжал рассуждать Миклаков, – но тут любопытно проследить, чем, собственно, оно оскорбляется? Что вот-де женщина, любившая нас, осмелилась полюбить другого, то есть нашла в мире человека, равного нам по достоинству.
– Нет, барон хуже меня, – это я могу смело сказать! – возразил князь.
– Нет, он лучше теперь вас в глазах княгини уже тем, что любит ее, а вы нет!.. Наконец, что это за право считать себя лучше кого бы то ни было? Докажите это первоначально.
– Как же это доказать!
– А так, – прославьтесь на каком-нибудь поприще: ученом, что ли, служебном, литературном, что и я, грешный, хотел сделать после своей несчастной любви, но чего, конечно, не сделал: пусть княгиня, слыша о вашей славе, мучится, страдает, что какого человека она разлюбила и не сумела сберечь его для себя: это месть еще человеческая; но ведь ваша братья мужья обыкновенно в этих случаях вызывают своих соперников на дуэль, чтобы убить их, то есть как-то физически стараются их уничтожить!
– Никого я не хочу ни уничтожать, ни убивать и заявляю вам только тот факт, что положение рогатого мужа я не могу переносить спокойно, а как и чем мне бороться с этим – не знаю!
– Да ничем, я думаю, кроме некоторой рассудительности!
– А если бывают минуты, когда во мне нет никакой рассудительности и я, кроме бешенства, ничего другого не сознаю?
– Что ж бешенство?.. Велите в таком случае сажать себя на цепь! – сказал Миклаков.
– Хорошо вам шутить так! – возразил князь.
– Нет, не шучу, уверяю вас, – продолжал Миклаков, – что же другое делать с вами, когда вы сами говорите, что теряете всякую рассудительность?.. Ну, в таком случае, уходите, по крайней мере, куда-нибудь поскорей из дому, выпивайте два – три стакана холодной воды, сделайте большую прогулку!
– Все это так-с!.. Но суть-то тут не в том! – воскликнул князь каким-то грустно-размышляющим голосом. – А в том, что мы двойственны: нам и старой дороги жаль и по новой смертельно идти хочется, и это явление чисто продукт нашего времени и нашего воспитания.
Миклаков на это отрицательно покачал головой.
– Всегда, во все времена и при всяком воспитании, это было! – заговорил он. – Еще в священном писании сказано, что в каждом человеке два Адама: ветхий и новый; только, например, в мужике новый Адам тянет его в пустыню на молитву, на акриды[78], а ветхий зовет в кабак; в нас же новый Адам говорит, что надобно голову свою положить за то, чтобы на место торгаша стал работник, долой к черту всякий капитал и всякий внешний авторитет, а ветхому Адаму все-таки хочется душить своего брата, ездить в карете и поклоняться сильным мира сего.
– Но все-таки наш-то Адам поплодотворней и повозможнее, чем мужицкий, – заметил князь.
– Я не знаю-с! Они хлопочут устроить себе царство блаженства на небесах, а мы с вами на земле, и что возможнее в этом случае, я не берусь еще на себя решить.
– Ну, вы все уж отвергаете, во всем сомневаетесь! – возразил князь, вставая и собираясь уйти.
– Многое отвергаю и во многом сомневаюсь! – подтвердил Миклаков, тоже вставая.
– До свиданья! – проговорил князь, протягивая ему руку.
– До свиданья! – сказал и Миклаков, и хоть по выражению лица его можно было заключить о его желании побеседовать еще с князем, однако он ни одним звуком не выразил того, имея своим правилом никогда никакого гостя своего не упрашивать сидеть у себя долее, чем сам тот желал: весело тебе, так сиди, а скучно – убирайся к черту!.. По самолюбию своему Миклаков был демон!
– Куда же вы путь ваш теперь направляете? – спросил он князя.
– Да домой, и прежде всего, по совету вашему, по-пройдусь побольше пешком, чтобы успокоить свои нервы, – отвечал тот ему полушутя.
– И непременно успокойте их! – ободрил его Миклаков.
– Хорошо бы таким легким способом усмирять себя! – проговорил князь и, еще в комнате надев шляпу, вышел. Пешком он действительно дошел до самой почти Крестовской заставы и тут только уже сел в свою коляску, и то потому, что у него ноги более не двигались. В это самое время мимо князя проехал на своих вяточках Елпидифор Мартыныч и сделал вид, что как будто бы совершенно не узнал его. Старик просто не считал себя вправе беспокоить его сиятельство своим поклоном, так как сей последний на вечере у себя не удостоил слова сказать с ним, а между тем Елпидифор Мартыныч даже в настоящую минуту ехал, собственно, по делу князя. После недавнего своего объяснения с Елизаветой Петровной, возымев некоторую надежду в самом деле получить с нее тысячу рублей, если только князь ей даст на внука или внучку тридцать тысяч рублей серебром, Елпидифор Мартыныч решился не покидать этой возможности и теперь именно снова ехал к Анне Юрьевне, чтобы науськать ту в этом отношении. Он застал ее на этот раз в комнатах и с очень печальным и недовольным лицом: Анна Юрьевна все грустила о своем негодяе, юном музыкальном таланте. При виде ее печали Елпидифор Мартыныч немного было растерялся, но, впрочем, сейчас же и собрался с духом.
– А я к вам опять насчет князя, – начал он с полуулыбкой.
– Насчет князя? – спросила Анна Юрьевна.
– Да-с, насчет его и госпожи Жиглинской!
– Но он дает им там что-то такое?
– Дает-то дает-c! Но старуха Жиглинская не хочет этим удовольствоваться и желает, чтобы князь еще единовременно дал им тысяч тридцать, так как дочь ее теперь постигнута известным положением.
– Est il possible?[79] – воскликнула Анна Юрьевна почти испуганным голосом.
– Постигнута! – повторил еще раз Елпидифор Мартыныч, поднимая свои брови.
– Как это жаль!.. Как это жаль! – продолжала Анна Юрьевна тем же тоном.
Она сама, бывши на именинном вечере у княгини, заметила что-то странное в наружности Елены, и ей тогда еще пришло в голову, что не в известном ли положении бедная девушка? Теперь эти подозрения ее, значит, оправдались. Главное, Анну Юрьевну беспокоило то, что как ей поступить с Еленой? Она девушка, а между тем делается матерью, – это, вероятно, распространится по всей Москве, и ей очень трудно будет оставить Елену начальницей женского учебного заведения; но в то же время она ни за что не хотела отпустить от себя Елену, так как та ей очень нравилась и казалась необыкновенной умницей. «Ничего, как-нибудь уговорю, успокою этих старикашек; они сами все очень развратны!» – подумала про себя Анна Юрьевна. Под именем старикашек она разумела высших лиц, поставленных наблюдать за благочинием и нравственностью. На Елпидифора Мартыныча Анна Юрьевна на этот раз не рассердилась: она начинала уже верить, что он в самом деле передает ей все это из расположения к князю и к Елене.
– Ну так вот что! – начала она после короткого молчания. – Вы скажите этой старушонке Жиглинской, – она ужасно, должно быть, дрянная баба, – что когда у дочери ее будет ребенок, то князь, конечно, его совершенно обеспечит.
– Слушаю-с! – отвечал покорно Елпидифор Мартыныч.
– И потом посоветуйте вы ей, – продолжала Анна Юрьевна, – чтобы не болтала она об этом по всем углам, и что это никоим образом не может сделать чести ни для нее, ни для ее дочери!
– Слушаю-с! – повторил еще раз смиренным голосом Елпидифор Мартыныч и стал раскланиваться с Анной Юрьевной.
– А вы отсюда через Останкино поедете? – спросила она его.
– Через Останкино, если вы прикажете, – доложил ей Елпидифор Мартыныч.
– Ну так вот: заезжайте, пожалуйста, к Григоровым!.. Скажите им, что в воскресенье в Петровском парке гулянье и праздник в Немецком клубе; я заеду к ним, чтобы ехать вместе туда сидеть вечер и ужинать.
– Слушаю-с! – сказал и на это с покорностью Елпидифор Мартыныч. – А вы ничего не изволите сказать князю при свидании об этих тридцати тысячах на младенца, о которых я вам докладывал?.. – прибавил он самым простодушным голосом.
– Нет, ничего не изволю сказать и нахожу, что это глупо, гадко и жадно со стороны этой старушонки! – отвечала с досадливой насмешкой Анна Юрьевна.
– Конечно, что-с!.. – согласился опять с покорностью Елпидифор Мартыныч и отправился в Останкино.
Здесь он, подъехав к даче Григоровых, прямо наткнулся на самого князя, который выходил из своего флигеля. Елпидифор Мартыныч счел на этот раз нужным хоть несколько официально и сухо, но поклониться князю. Тот тоже ответил ему поклоном.
– Анна Юрьевна поручила мне передать княгине, что в воскресенье она заедет за вами ехать вместе в Немецкий клуб, – проговорил Елпидифор Мартыныч.
– Хорошо, я передам жене, – сказал князь.
– Мне поэтому можно и не заезжать? – спросил Елпидифор Мартыныч.
– Совершенно можете! – разрешил ему князь.
Елпидифор Мартыныч на это опять только, как бы официально, поклонился и направился в Москву; такой ответ князя снова его сильно оскорбил. «Я не лакей же какой-нибудь: передал поручение и ступай назад!» – рассуждал он сам с собою всю дорогу.
Князь между тем прошел в большой флигель. Княгиню он застал играющею на рояле, а барона слушающим ее. Он передал им приглашение Анны Юрьевны ехать в Немецкий клуб ужинать.
– Хорошо! – отвечала ему на это довольно сухо княгиня.
– Мы поедем таким образом, – продолжал князь, – ты с бароном в кабриолете, а я с Еленой в фаэтоне!
– Хорошо, – сказала и на это совершенно равнодушно княгиня.
Князь после того пошел к Жиглинским. Насколько дома ему было нехорошо, неловко, неприветливо, настолько у Елены отрадно и успокоительно. Бедная девушка в настоящее время была вся любовь: она только тем день и начинала, что ждала князя. Он приходил… Она сажала его около себя… клала ему голову на плечо… по целым часам смотрела ему в лицо и держала в своих руках его руку.
В воскресенье Анна Юрьевна приехала к Григоровым по обыкновению, в кабриолете и с грумом. Для княгини и барона тоже был готов кабриолет, а для князя фаэтон, в котором он и заехал за Еленой, чтобы взять ее с собой. Когда, наконец, все уже были в своих экипажах, то Анна Юрьевна впереди всех улетела на своем рысаке. За ней поехали в кабриолете княгиня и барон, и так как княгиня сама пожелала править, то они поехали довольно тихо. Сзади их тронулся князь с Еленой, который, как ни старался в продолжение всей дороги не смотреть даже вперед, но ему, против воли его, постоянно бросалось в глаза то, что княгиня, при каждом посильнее толчке кабриолета, крепко прижималась своим плечом к плечу барона. Такого рода наблюдения нельзя сказать, чтобы успокоительно подействовали на князя, и в парк он приехал недовольный и раздраженный.
В Немецком клубе наше маленькое общество собралось в одну группу, и сначала, как водится, пили чай, потом слушали хор полковых музыкантов, слушали охриплое пение тирольцев, гиканье и беснованье цыган, и все это никому не доставило большого удовольствия. Анна Юрьевна, собственно, затеяла ехать в Немецкий клуб с единственною целью встретиться там с своим юным музыкальным талантом, которого вряд ли не предполагала простить даже и которого она в самом деле встретила, но в таком сотовариществе, что никакое снисхождение ее не могло перенести того. Она увидала его входящим в сад под руку с весьма молоденькой девицей, но уже пьяной и с таким нахальным видом, что о роде занятий ее сомневаться было нечего. Юный же талант, увидав Анну Юрьевну, поспешил вместе с своей спутницей стушеваться, а затем и совсем исчез из клуба. Вследствие всего этого Анна Юрьевна весь остальной вечер была злая-презлая!
– Пойдемте ужинать, гадко все тут! – сказала она, и все с удовольствием приняли ее предложение. Анна Юрьевна за свою сердечную утрату, кажется, желала, по крайней мере, ужином себя вознаградить и велела было позвать к себе повара, но оказалось, что он такой невежда был, что даже названий, которые говорила ему Анна Юрьевна, не понимал.
– Поди, мой милый, ты, видно, кроме чернослива разварного да сосисок, ничего и изготовить не умеешь, – проговорила она.
– Рыба у нас, ваше превосходительство, есть добрая, хорошая, – отвечал ей на это немец повар.
– Осетрина, что ли, эта ваша противная?
– Осетрина, ваше превосходительство! Есть цыплята молодые с салатом.
– Скажите, какая редкость! – произнесла Анна Юрьевна с презрением. – Ну, давайте уж вашей осетрины и цыплят!
Повар поклонился ей и, неуклюже ступая своими аляповатыми сапогами по паркету, вышел из залы.
– А вы дайте мне того розового вина, которое вы мне подавали, когда я заезжала к вам как-то тут… – отнеслась потом Анна Юрьевна к официанту.
– Это 48-й номер, – отвечал тот не без гордости и пошел за вином.
Анна Юрьевна пила это вино, когда была в клубе еще в начале лета с юным своим музыкальным талантом. При этой мысли она невольно вздохнула, постаравшись скрыть от всех этот вздох.
Барон в настоящий вечер был особенно нежен с княгиней: его белобрысое лицо, с каким-то медовым выражением, так и лезло каждоминутно князю в глаза. Впрочем, начавшийся вскоре ужин и поданное розоватое вино, оказавшееся очень хорошим вином, отвлекли всех на некоторое время от их собственных мыслей: все стали есть и пить и ни слова почти не говорили между собой; только вдруг, посреди этой тишины, в залу вошли двое молодых людей, громко хохоча и разговаривая. Оказалось, что один из них был не кто иной, как Архангелов. Увидав знакомых ему лиц, и лиц такого хорошего круга, Архангелов сейчас же подлетел к ним самым развязным манером, сказал две – три любезности княгине, протянул как-то совершенно фамильярно руку барону, кивнул головой приветливо князю. Все это Архангелов делал, чтобы пустить пыль в глаза своему товарищу; оба молодые люди были писцы из новых присутственных мест и потому, может быть, несколько больше о себе думали, чем обыкновенные писцы. Получив на все свои развязные слова и приветствия почти полное молчание, Архангелов счел за лучше удалиться; но не ушел совсем из комнаты, а стал тут же ходить с своим приятелем взад и вперед по той именно стороне стола, на которой сидели Елена и князь.
– Мне, знаешь, наскучило уж бывать в свете! – говорил Архангелов своему товарищу.
– Мне самому тоже наскучило! – врал ему и тот.
– Знаешь, там эти скандальные исторьицы приятно еще слушать! – болтал Архангелов.
– Я тоже пропасть их слыхал! – не уступал ему его приятель.
– Вот эта княгиня, – продолжал Архангелов более уже тихим голосом и показывая глазами на княгиню и барона, – с этим бароном вожжается!
– Будто? – спросил с любопытством его товарищ.
– Верно, так-с… Будьте благонадежны!.. Это мне моя сказывала! – отвечал самодовольно Архангелов.
– Ха-ха-ха! – почему-то засмеялся на это его молодой товарищ.
– Ха-ха-ха! – засмеялся также и сам Архангелов.
У Елены был прекрасный слух, а у князя – зрение: она расслышала все слова Архангелова, а тот видел, как Архангелов показал глазами на княгиню и барона.
Когда молодые люди разразились хохотом, князь вдруг, весь побледнев, встал на ноги и, держась за стул, обратился к ним.
– Чему вы смеетесь над нашим обществом? – проговорил он почти с пеной у рта.
– Мы ничему не смеемся! – пробормотал, покраснев, Архангелов.
– Смеетесь, черт возьми, когда вам говорят то! – воскликнул князь и стукнул стулом об пол.
– Мы, ей-богу, не над вами-с! – говорил Архангелов почти со слезами на глазах.
– Над чем же вы смеетесь?.. Над чем? – приступал князь и хотел, кажется, схватить молодого человека за воротник.
– Князь, assez, finissez donc![80] – крикнула ему Анна Юрьевна, удивленная до крайности всей этой выходкой князя.
Княгиня тоже сильно смутилась, а барон явно струсил.
– Я голову вам размозжу, если вы осмелитесь хоть улыбнуться при мне! – продолжал кричать на молодых людей князь, причем Архангелов желал только извиниться как-нибудь перед ним, а товарищ его, напротив, делал сердитый вид, но возражать, однако, ничего не решился.
Елена, с самого начала этой сцены больше и больше изменявшаяся в лице, наконец, тоже встала и прямо взяла князя за руку.
– Пойдемте, мне нужно с вами переговорить! – сказала она.
– Сейчас! – отвечал тот и, по-видимому, еще что-то такое хотел крикнуть на Архангелова.
– Пойдемте, мне очень нужно! – повторила окончательно настойчивым голосом Елена и, не выпуская руки князя, увела его в соседнюю комнату.
Архангелов после того не преминул обратиться к оставшемуся обществу.
– Ей-богу, я ничего, решительно ничего не сказал! – проговорил он, разводя руками.
– Ну, не оправдывайтесь!.. Уходите лучше! – сказала ему Анна Юрьевна.
– Сию секунду-с! – отвечал тот и, мигнув своему товарищу, вышел с ним из залы.
В это время Елена разговаривала в соседней комнате с князем.
– Я теперь все понимаю, все! – произнесла она с ударением.
– Что вы понимаете? – возразил ей князь, далеко еще не пришедший в себя от гнева.
– Все! – отвечала Елена задыхающимся голосом. – Как же? Как он смел оскорбить княгиню!.. Я бы убить его советовала вам! – прибавила она с насмешкой.
– Я совсем не потому… – проговорил князь.
– Перестаньте лгать!.. Я говорить после этого с вами не хочу!.. – произнесла Елена и проворно вошла опять в залу. – Анна Юрьевна, возьмите меня в свой кабриолет, мне ужасно хочется проехаться на вашем коне! – обратилась она к той.
– Хорошо! – отвечала как-то протяжно Анна Юрьевна. – Но где же князь и что с ним происходит? – прибавила она с беспокойством.
– Отдыхает там от своего гнева, я с ним и ехать боюсь – решительно! – отвечала, как бы смеясь, Елена.
– Но за что же он тут рассердился? – спрашивала Анна Юрьевна.
– За то, что эти господа болтали что-то такое про всех нас.
– О, как это смешно с его стороны! – воскликнула Анна Юрьевна.
– И я ему говорила, что странно это!.. – подхватила Елена.
Княгиня, при всем этом разговоре их, ничего не сказала, а барон так даже отошел от нее и стоял уже вдали.
– Только мы теперь же и поедемте! – обратилась Елена почти с умоляющим видом к Анне Юрьевне. – У меня maman больна: мне надобно поскорее домой!..
– Пожалуй, поедемте! – произнесла опять с расстановкой Анна Юрьевна; ей самой было противно оставаться в клубе. – Скажите князю, чтобы он довез моего грума, – присовокупила она княгине, уходя; и, когда Елена стала садиться в кабриолет, Анна Юрьевна ей сказала с участием:
– Поосторожней, ma chere, смотрите, берегите себя!
– Нет, ничего! Что мне сделается! – произнесла Елена почти с каким-то презрением к самой себе.
– Как что!.. Очень может сделаться! – возразила Анна Юрьевна и лошадь свою не погнала, по обыкновению, а поехала, явно желая поберечь Елену, самой легкой рысцой: Анна Юрьевна в душе была очень добрая женщина.
Тотчас после их отъезда воротился и князь в залу.
– Где ж Елена Николаевна? – было первое слово его.
– Она уехала с Анной Юрьевной, – отвечала княгиня, не смея, кажется, взглянуть мужу в лицо.
– Уехала?.. С Анной Юрьевной? – повторил князь. – В таком случае вы поедете со мною в фаэтоне! – прибавил он княгине.
– Хорошо, – отвечала она ему покорно.
– А я, значит, один в кабриолете поеду? – спросил барон с заметным удовольствием.
– Вы возьмите с собою грума Анны Юрьевны! – сказала ему княгиня.
– Ах да, так! – подхватил барон.
Во всю дорогу князь слова не промолвил с женой, и только, когда они приехали домой, он, выходя из экипажа, произнес полунасмешливо и полусердито:
– Извините, что я вас разлучил!
– Нисколько!.. Нисколько!.. Вы должны извиняться передо мною совершенно в другом!.. – воскликнула княгиня, и голос ее в этом случае до того был искренен и правдив, что князь невольно подумал: «Неужели же она невинна?» – и вместе с тем он представить себе без ужаса не мог, что теперь делается с Еленой.
Часть вторая
I
Часов в двенадцать дня Елена ходила по небольшому залу на своей даче. Она была в совершенно распущенной блузе; прекрасные волосы ее все были сбиты, глаза горели каким-то лихорадочным огнем, хорошенькие ноздри ее раздувались, губы были пересохшие. Перед ней сидела Елизавета Петровна с сконфуженным и оторопевшим лицом; дочь вчера из парка приехала как сумасшедшая, не спала целую ночь; потом все утро плакала, рыдала, так что Елизавета Петровна нашла нужным войти к ней в комнату.
– Леночка, ангел мой, что такое с тобой? – спросила она ее как-то робко.
С тех пор, как князь стал присылать к ним деньги, Елизавета Петровна сделалась очень нежна с дочерью и начала постоянно беспокоиться об ее здоровье.
Елена молчала и ничего не отвечала, и только выступившие на глазах ее слезы и вздрагивающие щечки говорили об ее страшном душевном настроении.
– Верно, с князем что-нибудь вышло?.. Непременно уж так, непременно! – произнесла Елизавета Петровна каким-то успокоивающим голосом.
– Он такой низкий человек, такой лгун! – проговорила, наконец, Елена.
– Ах, господи, ничего этого нет!.. Нам всегда так кажется, когда мы кого любим, – продолжала Елизавета Петровна тем же кротким и успокоивающим голосом.
Она в первый еще раз так прямо заговорила с дочерью об ее любви к князю.
– Нет, мне это не показалось!.. Я никогда бы не стала говорить, если бы мне это только показалось! – говорила Елена. – Впрочем, я сейчас сама ему тем же заплачу, – освобожу его от себя!.. Дайте мне бумаги и чернильницу!.. – прибавила она почти повелительно матери.
Та послушно встала, сходила и принесла ей то и другое.
Елена принялась писать к князю письмо.
«Вы понимаете, конечно, черноту ваших поступков. Я просила вас всегда об одном: быть со мной совершенно откровенным и не считать меня дурой; любить женщину нельзя себя заставить, но не обманывать женщину – это долг всякого, хоть сколько-нибудь честного человека; между нами все теперь кончено; я наложницей вашей состоять при вашем семействе не желаю. Пожалуйста, не трудитесь ни отвечать мне письмом, ни сами приходить – все это будет совершенно бесполезно».
Елизавета Петровна, усевшаяся невдалеке от Елены, употребляла было все усилия, чтобы прочесть то, что пишет Елена, но, по малограмотству своему, никак не могла этого сделать.
– Потрудитесь приказать Марфуше сходить к князю и отдать ему это письмо! – говорила Елена, запечатав облаткой письмо.
Елизавета Петровна нерешительно приняла его из рук дочери.
– Что ты такое, по крайней мере, пишешь к нему? – спросила она, вовсе не ожидая, что Елена ответит ей что-нибудь; но та, однако, отвечала:
– Пишу ему, что он нечестный человек и что между нами все кончено!
Елизавета Петровна даже побледнела при этом.
– Ах, не советовала бы я тебе этого делать, не советовала бы! – проговорила она, не уходя из комнаты.
– Позвольте мне в этом случае ничьих советов не спрашивать, – возразила ей Елена.
– Но ты только выслушай меня… выслушай несколько моих слов!.. – произнесла Елизавета Петровна вкрадчивым голосом. – Я, как мать, буду говорить с тобою совершенно откровенно: ты любишь князя, – прекрасно!.. Он что-то такое дурно поступил против тебя, рассердил тебя, – прекрасно! Но дай пройти этому хоть один день, обсуди все это хорошенько, и ты увидишь, что тебе многое в ином свете представится! Я сама любила и знаю по опыту, что все потом иначе представляется.
– Вы никогда не любили!.. Вы только, бог вас знает зачем, продавали себя! – сказала Елена.
Елизавета Петровна сильно покраснела.
– Нет, я любила, – повторила она и не стала больше говорить: она очень хорошо видела, что Елену нельзя вразумить, и только разве придется услышать от нее еще несколько крупных дерзостей.
– Марфуша! – крикнула между тем та.
– Я пойду и отдам ей письмо!.. – остановила ее с досадой Елизавета Петровна.
– Да вы непременно же отдайте! – сказала ей Елена.
– Отдам… Что мне!.. Делай глупости… – отвечала Елизавета Петровна, уходя, но, покуда шла из комнат в кухню, где была Марфуша, она кой-что попридумала.
– Поди, отдай это письмо князю!.. – начала она приказывать той. – Непременно отдай ему в руки сама и скажешь ему, что это письмо от Елены Николаевны, а что Елизавета Петровна приказала-де вам на словах сказать, чтобы вы очень не беспокоились и пожаловали бы к нам сегодня, – поняла ты меня?
– Поняла, барыня! – отвечала краснощекая и еще более растолстевшая Марфуша. Несмотря на простоту деревенскую в словах, она была препонятливая. – А что же, барыня, мне делать, как я князя не застану дома? – спросила она, принимая письмо от Елизаветы Петровны и повязывая голову платочком.
– Подожди его.
– А если он долго не придет?
– Подожди подольше, – разрешила ей Елизавета Петровна.
Марфуша после того проворно пошла через большой сад к Григоровым на дачу. Не возвращалась она, по крайней мере, часа два – три, так что Елена всякое терпение потеряла.
– Да что Марфуша пропала, что ли, совсем? – спросила она.
– Вероятно, забежала куда-нибудь к приятельницам! – отвечала Елизавета Петровна; о том, что она велела Марфуше лично передать князю письмо и подождать его, если его дома не будет, Елизавета Петровна сочла более удобным не говорить дочери.
Часу в четвертом, наконец, Елизавету Петровну вызвала кухарка, – это возвратилась Марфуша.
– Барыня, я не застала князя, – доложила ей та как-то таинственно, – ждала-ждала, все тамотко сидела.
– А письмо куда же ты девала?
– Письмо оставила там. Камердинер говорит: «Дай, говорит, я положу его на стол».
– Но где же может быть князь? – спросила Елизавета Петровна, все более и более приходя в досаду на то, что Марфуша не застала князя дома: теперь он письмо получит, а приглашение, которое поручила ему Елизавета Петровна передать от себя, не услышит и потому бог знает чем все может кончиться.
– И там-то, дома-то, не знают, где он, – толковала ей Марфуша, – в шесть часов утра еще ушел и до сей поры нет.
Елизавета Петровна понять не могла, что это значит. Она возвратилась к дочери.
– Марфуша пришла, князя дома нет, он в шесть часов еще утра уехал из дому, – проговорила она неторопливо.
– Как в шесть часов утра?.. Куда же это он мог уехать? – спросила Елена.
– Там дома никто не знает.
– Что за вздор такой! Пошлите ко мне Марфушу.
Елизавета Петровна сходила и позвала Марфушу.
– Куда князь уехал? – спросила ее Елена.
– Никто, барышня, не знает, – отвечала ей Марфуша, – княгиня уж людей по лесу искать его послала; в Москву если бы поехал, так лошадей бы тоже велел заложить.
– Но, может быть, он на извозчике поехал, – заметила Елизавета Петровна.
– Николи, барыня, он на извозчиках не ездит, николи!.. Люди ихние мне это говорили, – объясняла Марфуша.
Елена, слушая ее, все больше и больше бледнела.
– Ну, поди к себе, – сказала она каким-то тихим голосом Марфуше. – Подите и вы, – прибавила она матери.
Елизавета Петровна, взглянув с беспокойством на дочь, вышла; но, впрочем, села в ближайшей комнате и стала прислушиваться. Елена сидела несколько времени, не шевелясь на своем месте; лицо ее постепенно начало принимать какое-то испуганное выражение. Ей, после рассказа Марфуши, пришла в голову страшная мысль: «Князь ушел в шесть часов утра из дому; его везде ищут и не находят; вчера она так строго с ним поступила, так много высказала ему презрения, – что, если он вздумал исполнить свое намерение: убить себя, когда она его разлюбит?» Все это до такой степени представилось Елене возможным и ясным, что она даже вообразила, что князь убил себя и теперь лежит, исходя кровью в Останкинском лесу, и лежит именно там, где кончается Каменка и начинаются сенокосные луга. Затем Елена не могла более владеть собой; она вдруг встала с своего места.
– Дайте мне поскорее одеться!.. Дайте!.. – почти вскрикнула она.
На этот зов ее вбежала к ней сама Елизавета Петровна.
– Что такое, ангел мой, с тобой, что тебе надобно? – спросила она ее с беспокойством.
Елизавета Петровна по преимуществу боялась, чтобы от таких душевных волнений Елена не выкинула.
– Оденьте меня, maman, поскорее!.. Оденьте! – говорила Елена почти каким-то помешанным голосом.
– Но куда же ты, ангел мой, идешь? – спросила ее Елизавета Петровна робко.
– Я пойду поищу князя; я знаю, где он может гулять, – отвечала Елена тем же как бы помешанным голосом.
Такой ответ дочери Елизавету Петровну очень порадовал. «Слава богу, – подумала она про себя, – теперь они встретятся и наверно помирятся».
– Что ж, сходи; тебе и самой пройтись недурно! – произнесла она вслух.
Елена проворно вышла, прошла весь большой сад, всю Каменку, но ни в начале ее, ни в конце не нашла князя. Шедши, она встречала многих мужчин и, забыв всякую осторожность, ко всем им обращалась с вопросом:
– Скажите, вы князя Григорова знаете?
Большая часть мужчин несколько удивленным голосом отвечали: «Нет-с, не знаем!», но двое или трое из них сказали ей: «Знаем-с!»
– Бога ради, скажите, не видали ли вы его гуляющим здесь? – начала она приступать к ним.
– Решительно не видали, – отвечали те.
В конце Каменки Елене почему-то вообразилось, что князь, может быть, прошел в Свиблово к Анне Юрьевне и, прельщенный каким-нибудь ее пудингом, остался у нее обедать. С этою мыслию она пошла в Свиблово: шла-шла, наконец, силы ее начали оставлять. Елена увидала на дороге едущего мужика в телеге.
– Послушай, довези меня до Свиблова, – сказала она ему, – вот тебе двугривенный.
Мужик посадил ее. Елену начало сильно трясти, так, что угрожала опасность ее положению; она, однако, ничего этого не чувствовала и не понимала. Доехав до Свиблова, Елена послала мужика справиться, что не тут ли князь Григоров. Мужик очень долго ходил, наконец пришел и сказал, что там нет никакого князя Григорова. Елена была в отчаянии. Обратиться с просьбою в полицию, чтобы та разыскала князя по Останкинскому лесу, ей казалось единственным средством. Для этого она решилась ехать в Москву и в Останкино должна была возвращаться пешком, потому что мужик поехал далее за Свиблово. Елена пошла, но, дойдя до конца Каменки, она снова до такой степени утомилась, что почти упала на траву; а день между тем был теплый, ясный; перед глазами у ней весело зеленели деревья, красиво и покойно располагались по небу золотистые облачка, – этот контраст с душевным настроением Елены еще более терзал ее. Она принялась плакать и долго ли, коротко ли плакала, сама даже не помнит; только вдруг она услыхала над собой тихий и вкрадчивый голос:
– Mademoiselle Жиглинская, что вы тут делаете?
Елена приподнялась: перед ней стояла г-жа Петицкая.
– Я гуляла и так далеко зашла и устала, что расплакалась даже и легла вот тут отдохнуть, – отвечала она, стараясь улыбнуться и поспешно утирая свои глаза, но г-жа Петицкая заметила, конечно, расстроенный вид Елены.
– А я так, признаться, очень обрадовалась, увидав вас, – подхватила она, – и думала, что с вами непременно гуляет наш пропавший князь Григоров.
– А его еще не нашли? – проговорила Елена.
– Нет, удивительное дело: княгиня понять не может, где он, так что я по роще пошла искать его. А вы тоже его не видали? – прибавила г-жа Петицкая, устремляя на Елену испытующий взгляд.
– Нет, не видала!.. – отвечала та почти задыхающимся голосом: встретиться и беседовать в такую минуту с г-жою Петицкой было почти невыносимо для Елены, тем более, что, как ни мало она знала ее, но уже чувствовала к ней полное отвращение.
Г-жа Петицкая, впрочем, вскоре сама раскланялась с ней.
– Ну, adieu, авось отыщется где-нибудь наш беглец! – проговорила она и пошла, твердо уверенная, что князь гулял в лесу с Еленой: рассорились они, вероятно, в чем-нибудь, и Елена теперь плачет в лесу, а он, грустный, возвращается домой… И г-жа Петицкая, действительно, придя к княгине, услыхала, что князь вернулся, но что обедать не придет, потому что очень устал и желает лечь спать.
– Я думаю, он не столько от усталости не желает кушать… – произнесла она несколько двусмысленным тоном.
– А отчего же еще? – спросила ее княгиня, но как-то нерешительно.
– Так, я имею тут маленькие подозрения.
Но какие именно подозрения г-жа Петицкая имеет, – княгиня не спросила ее.
– Я сейчас встретила Елену, – продолжала г-жа Петицкая как бы самым обыкновенным голосом. – Вообразите, она лежит на траве вся расплаканная, так что мне даже жаль стало ее, бедненькую.
– О чем же она плачет? – не утерпела уже и спросила княгиня.
– Говорит, что ходила очень много, устала, оттого и расплакалась…
И г-жа Петицкая вслед за тем негромко рассмеялась.
Княгиня на это ничего ей не сказала.
Г-жа Петицкая до сих пор никак не могла вызвать ее на полную откровенность по этому предмету, так что начинала даже немножко обижаться за то на княгиню.
– Но где же барон? – воскликнула она, когда сели за стол и барон не являлся по обыкновению.
– Ах, он сегодня, к великому моему удовольствию, отправился на целый день к Анне Юрьевне! – отвечала княгиня.
– К великому удовольствию вашему… Но за что же такая ваша немилость к нему? – спросила г-жа Петицкая.
– За то, что он мне ужасно надоел, – сказала княгиня, по-видимому, совершенно искренним голосом, но г-жа Петицкая на это только усмехнулась: она не совсем поверила княгине.
Елена в это время ехала в Москву. Воображение она имела живое, и, благодаря тяжелым опытам собственной жизни, оно, по преимуществу, у ней направлено было в черную сторону: в том, что князь убил себя, она не имела теперь ни малейшего сомнения и хотела, по крайней мере, чтобы отыскали труп его. Что чувствовала Елена при таких мыслях, я предоставляю судить моим читательницам. Прежде всего она предположила заехать за Миклаковым; но, так как она и прежде еще того бывала у него несколько раз в номерах, а потому очень хорошо знала образ его жизни, вследствие чего, сколько ни была расстроена, но прямо войти к нему не решилась и предварительно послала ему сказать, что она приехала. Миклаков и на этот раз лежал в одном белье на кровати и читал. Услыхав о приезде Елены, он особенно этому не удивился.
– Сейчас приму-с, – сказал он лакею и в самом деле хоть не в очень полный, но все-таки приличный туалет облекся.
– Поди, проси, – сказал он лакею.
Тот пошел и пригласил Елену.
Миклаков даже отступил несколько шагов назад при виде ее, – до такой степени она испугала его и удивила выражением своего лица.
– Что такое с вами? – воскликнул он.
– Ничего, не обо мне дело, – проговорила Елена порывистым голосом, – но князь Григоров наш застрелил себя…
– Господи помилуй!.. – воскликнул еще раз Миклаков и еще более испуганным голосом. – Но где же, каким образом и зачем? – спрашивал он торопливо.
– Около Останкина в лесу, должно быть! – говорила Елена: она в эти минуты твердо была убеждена, что передает непреложнейшие факты.
– Но что же… видел, что ли, кто-нибудь его? – продолжал расспрашивать Миклаков.
– То-то никто не видал и нигде найти его не могут, – отвечала Елена.
– Но как же вы знаете, что он убил себя?
– Потому что мы поссорились с ним вчера, а он мне прежде всегда говорил, что, как я его оставлю, то он убьет себя.
– Но от этих слов до убийства еще далеко! – сказал Миклаков, махнув рукой. – Ах, вы, барышня, барышня смешная!
– Нет, я не смешная; его нигде не могут найти… Наконец, я писала ему, что между нами все кончено, а он, я знаю, не перенесет этого.
Елена все уже перепутала в голове; она забыла даже, что князь, не получив еще письма ее, ушел из дому.
– Зачем же вы писали ему это?
– Зачем?.. Из ревности, конечно!.. Теперь пойдемте объявить об его смерти в полицию; пусть она труп его отыщет!
– Труп отыщет!.. – рассмеялся Миклаков. – Бог даст и живым его обрящем!
– Нет, вы живым его не обрящете… Пойдемте!
– Куда пойдемте?
– В полицию какую-нибудь – объявить.
– Подите вы, в полицию объявлять… страмиться!.. Поедемте в Останкино лучше; там, может быть, и отыщем его.
– Но, чтобы отыскать его, надобно тысячу людей разослать по лесу!.. Как вы это сделаете без полиции? – возражала ему Елена.
– Мы тысячу людей и пошлем! В Останкине есть своя полиция, – зачем же нам городская нужна?
– Есть там полиция? – спросила Елена.
– Есть, – успокоивал ее Миклаков, и затем они вышли, сели на хорошего извозчика и поехали в Останкино.
Елена начала беспрестанно торопить извозчика.
– Бога ради, мой милый, поезжай скорее!.. – умоляла она его, и голос ее, вероятно, до такой степени был трогателен, что извозчик что есть духу начал гнать лошадь.
– Ну, барыня, – сказал он, подъезжая к Останкину, – за сто бы рублев не стал так гнать лошадь, как для тебя это делал.
– Спасибо тебе! На вот тебе за то! Сдачи мне не надо! – проговорила Елена и отдала извозчику пять рублей серебром.
– Ну, вот за это благодарю покорно! – проговорил тот, снимая перед ней шапку.
Видя все это, Миклаков поматывал только головой, и чувство зависти невольно шевелилось в душе его. «Ведь любят же других людей так женщины?» – думал он. Того, что князь Григоров застрелился, он нисколько не опасался. Уверенность эта, впрочем, в нем несколько поколебалась, когда они подъехали к флигелю, занимаемому князем, и Миклаков, войдя в сени, на вопрос свой к лакею: «Дома ли князь?», услышал ответ, что князь дома, но только никого не велел принимать и заперся у себя в кабинете.
– Э, так я силой к нему взойду! – сказал Миклаков и, не долго думая, вышел из сеней в небольшой садик, подошел там к довольно низкому из кабинета окну, отворил его, сорвав с крючка, и через него проворно вскочил в комнату.
– Что это вы, ваше сиятельство, делаете тут? – воскликнул он, увидя князя сидящим перед своим столом.
Князь, в свою очередь, услыхав шум и голос Миклакова, вздрогнул, проворно что-то такое спрятал в столовый ящик и обернулся.
– Что вы тут делаете? – повторил ему свой вопрос Миклаков.
– Да так!.. Ничего!.. – отвечал князь, как-то насильно улыбаясь, а между тем сам был бледен, волосы у него были взъерошены, глаза с мрачным выражением.
– Вы Елену ужасно напугали; она приехала ко мне в Москву и говорит, что вы застрелились.
Князь при этих словах еще более побледнел.
– Почему ж она знает это? – спросил он.
– Потому что, говорит, вы сами ей обещали при первом же удобном случае совершить над собой это приятное для вас дело.
Князь молчал.
Предчувствие любящего сердца Елены вряд ли обманывало ее. Князь в самом деле замышлял что-то странное: поутру он, действительно, еще часов в шесть вышел из дому на прогулку, выкупался сначала в пруде, пошел потом по дороге к Марьиной роще, к Бутыркам и, наконец, дошел до парка; здесь он, заметно утомившись, сел на лавочку под деревья, закрыв даже глаза, и просидел в таком положении, по крайней мере, часа два. После того он встал, пришел к Яру, спросил себе есть, но есть, однако, ничего не мог; зато много выпил и вслед за тем, как бы под влиянием величайшего нетерпения, нанял извозчика и велел ему себя проворнее везти обратно в Останкино, где подали ему письмо от Елены. Прочитав это письмо, князь сделался еще более мрачен; велел сказать лакею, что обедать он не пойдет, и по уходе его, запершись в кабинете, сел к своему столу, из которого, по прошествии некоторого времени, вынул знакомый нам ящик с револьвером и стал глядеть на его крышку, как бы прочитывая сделанную на ней надпись рукою Елены. В это время к нему в кабинет вскочил через окно Миклаков. Князь, как мы видели, очень сконфузился при его появлении.
– Пойдемте на улицу, Елена вас там у ворот дожидается! – говорил между тем тот.
Весь наружный вид князя и вся кругом его обстановка показались Миклакову подозрительными, и он не хотел его оставлять одного.
– На улице… у ворот дожидается? – говорил князь все еще каким-то опешенным, оторопелым голосом и потом пошел за Миклаковым.
Елена продолжала сидеть на пролетке; от волнения и усталости ее била лихорадка.
– Вот вам, жив и невредим – ваше сокровище! – сказал Миклаков, подводя к ней князя.
– Ах! – вскрикнула при виде его Елена. – Подите сюда, дайте мне ваши руки: вы живы?.. Здоровы, да? Да?.. – говорила она.
– Здоров! – отвечал князь, беря и с жаром целуя ее руку.
– Ну, поедемте к нам поскорее, – говорила Елена, почти таща князя на пролетку.
Тот сел. Извозчик нешибко поехал. Миклаков пошел около них.
– Я ужас, ужас, что ни надумала! – говорила Елена.
Князь молчал.
По приезде Елены домой силы опять совершенно оставили ее: она прилегла на диван и принялась потихоньку рыдать.
Князь поместился около нее и низко-низко склонил свою голову. Елизавета Петровна, очень обрадованная возвращению дочери и не менее того приезду князя, не преминула, однако, отнестись к тому с маленькой укоризной.
– Ну, наделали же вы нам хлопот, начудили! – говорила она ему.
Князь ничего ей не ответил и даже отворотился от нее. Он в последнее время нисколько даже и не скрывал перед ней чувства своего отвращения, но Елизавета Петровна, получая от него такие хорошие деньги, совершенно ему все это прощала.
Миклаков между тем ходил взад и вперед по комнате. Выражение лица у него было тоже какое-то недовольное; видно, что и у него на душе было скверно, и, когда Елена поуспокоилась несколько, он спросил ее:
– Скажите мне на милость, что такое собственно произошло между вами?
Елена рассказала, как рассердился князь на Архангелова за слова его о княгине, как и чем ей показалось это.
Миклаков усмехнулся при этом.
– Искренности и откровенности между вами нет, как между большею частию людей! – проговорил он.
– Вот уж нет!.. Нисколько! – воскликнула Елена. – Я с ним откровенна никак не меньше, чем сама с собой.
– Вы-то еще, может быть, откровеннее его, но он-то уж с вами очень мало откровенен.
Князь слушал приятеля с нахмуренным лицом.
– В чем же я не откровенен с ней? – сказал он наконец, не поднимая головы.
– Очень во многом, как и сами вы согласитесь, – отвечал ему Миклаков.
– Нельзя же всякий вздор, который приходит в голову, рассказывать… – пробурчал князь, как бы больше сам с собой.
– А вы считаете это вздором? – спросил Миклаков, намекая князю на кое-что.
– Что такое он от меня скрывает и в чем он со мной не откровенен? – начала приставать к Миклакову Елена.
– Как я вам могу открыть это!.. Это не моя тайна! – отвечал тот.
– Извольте сейчас сказать Миклакову, чтобы он все рассказал мне про вас! – обратилась она к князю.
– Зачем? Тебя опять может встревожить это; после я как-нибудь сам тебе расскажу, – отвечал князь.
– Но я теперь хочу, сию же минуту! – настаивала Елена.
Князь пожал плечами.
– Говорите, если уж начали, – обратился он к Миклакову с явным оттенком досады на него.
– Говорите, пожалуйста! – повторила тому и Елена.
– Извольте-с, – начал Миклаков. – Во-первых, я должен сказать, что князь вас любит. Согласны с этим?
– Согласна! – отвечала Елена.
– Но все-таки вы ревнуете его к княгине, – так?
– Так, ревную и имею на это, кажется, полное право.
– И вы ревнуете его потому, что вам представляется, будто бы он до сих пор продолжает еще любить княгиню?
– Конечно, любит! – подхватила Елена. – И прямое доказательство тому есть: она бог знает какое для него имеет значение, а я – никакого.
– Ну, то и другое несправедливо; князь не любит собственно княгини, и вы для него имеете значение; тут-с, напротив, скрываются совершенно другие мотивы: княгиня вызывает внимание или ревность, как хотите назовите, со стороны князя вследствие того только, что имеет счастие быть его супругой.
Князь при этом покачал головой.
– И последнее время, – не унимался, однако, Миклаков, – княгиня, как известно вам, сделалась очень любезна с бароном Мингером, и это, изволите видеть, оскорбляет самолюбие князя, и он даже полагает, что за подобные поступки княгини ему будто бы целый мир плюет в лицо.
Елена насмешливо улыбнулась.
– А, вот что!.. Признаюсь, я не ожидала этого!.. – произнесла она.
– Наконец, князь объясняет, что он органически, составом всех своих нервов, не может спокойно переносить положение рогатого мужа! Вот вам весь сей человек! – заключил Миклаков, показывая Елене на князя. – Худ ли, хорош ли он, но принимайте его таким, как он есть, а вы, ваше сиятельство, – присовокупил он князю, – извините, что посплетничал на вас; не из злобы это делал, а ради пользы вашей.
– Сплетничайте, если вам так этого хочется!.. – отвечал князь; овладевшая им досада все еще не оставляла его.
– И какой же мы теперь, – продолжал Миклаков, – из всего этого извлечем урок и какое предпримем решение, дабы овцы были целы и волки сыты? Вам голос первой в этом случае, Елена Николаевна.
– Я тут так близко заинтересована, что никак не могу быть судьей и, конечно, решу пристрастно! – отвечала та.
– И я уж, конечно! – подхватил князь.
– Значит, вы одни и решайте; вы и будьте только нашим судьей! – сказала Елена Миклакову.
– Быть вашим судьей!.. – повторил тот хоть и комически, но не без некоторого, кажется, чувства самодовольства. – Прежде всего-с я желал бы знать, что признает ли, например, Елена Николаевна некоторое нравственное право за мотивами, побуждающими князя известным образом действовать и чувствовать?
– Признаю отчасти, хотя нахожу, что мотивы эти весьма невысокого сорта.
– Но все-таки, как бы то ни было, вы не будете, значит, огорчаться, если он совершит когда-нибудь опять подобную выходку?
– Огорчаться буду, но менее, конечно! – произнесла Елена, взглянув при этом с любовью на князя.
– Теперь-с к вам обращаю мое слово, – отнесся Миклаков к князю. – Будете ли вы в такой мере позволять себе выходить из себя?
– Я не знаю этого! – возразил князь.
– Не знаете того! – повторил Миклаков. – Хорошо и то, по крайней мере, что откровенно сказано!.. Теперь, значит, остается внушить княгине, что, ежели она в самом деле любит этого господина, в чем я, признаться сказать, сильно сомневаюсь…
– И я совершенно в этом сомневаюсь! – подтвердила Елена.
– Но положим, что любит, то все-таки должна делать это несколько посекретнее и не кидать этим беспрестанно в глаза мужу. Все такого рода уступки будут, конечно, несколько тяжелы для всех вас и заставят вас иногда не совсем искренно и откровенно поступать и говорить, но каждый должен в то же время утешать себя тем, что он это делает для спокойствия другого… Dixi![81] – заключил Миклаков.
– Но кто же, однако, княгине передаст предназначенное для нее наставление? – спросила Елена.
– Конечно, уж не я! – отвечал Миклаков. – Потому что я двух слов почти с ней не говаривал… Всего приличнее, я полагаю, внушить ей это князю.
– Ему-то, ему; но осмелится ли еще он? – заметила ядовито Елена.
Князь ничего на это не произнес и даже такое имел выражение лица, как будто бы не про него это говорили.
– Все, значит, поэтому кончено! – воскликнул Миклаков и взялся было за шляпу, чтобы отправиться в Москву, но в это время проворно вошла в комнату Елизавета Петровна.
– Ни-ни-ни! Не пущу без ужина! – воскликнула она, растопыривая перед ним руки.
– Да ведь поздно: я пешком пойду! Темь такая, что, пожалуй, с кого-нибудь и шинель снимешь! – проговорил Миклаков.
– Вы же снимете! – воскликнула Елена.
– А вы как думаете! – отвечал Миклаков. – Я принадлежу к такого рода счастливцам, которые с других только могут стаскивать что-нибудь, а с меня никто ничего!
– Чтобы предохранить вас от этого преступления, мы вас в экипаже проводим, – сказал князь. – Потрудись, моя милая, сходить и сказать, чтобы коляска моя сюда приехала! – обратился он к Марфуше.
Та побежала исполнить его приказание.
– В коляске меня проводите? Это недурно! – произнес Миклаков снова комически и снова не без оттенка самодовольства.
Ужином Елизавета Петровна угостила на славу: она своими руками сделала отличнейший бифштекс и цыплят под соусом, но до всего этого ни князь, ни Елена почти не дотронулись; зато Миклаков страшно много съел и выпил все вино, какое только было подано.
– Ужин для меня, – толковал он своим собеседникам, – самая приятная вещь, так как человек, покончив всякого рода сношения с себе подобными, делается, наконец, полным распорядителем самого себя, своих мыслей и своих чувств.
Язык, при этих словах, у Миклакова начинал уж немного заплетаться. Когда же он сел в княжеский фаэтон, чтобы ехать в Москву, то как-то необыкновенно молодцевато надел на голову свою кожаную фуражку.
– Хорошо быть умным человеком: ни за что ни про что катают тебя князья в своих экипажах!.. – говорил он вслух и кивая в это время, в знак прощания, князю головою: выпивши, Миклаков обыкновенно делался откровеннее, чем он был в нормальном своем состоянии!
II
Княгиня, в свою очередь, переживала тоже довольно сильные ощущения: она очень хорошо догадалась, что муж из ревности к ней вышел до такой степени из себя в парке и затеял всю эту сцену с Архангеловым; она только не знала хорошенько, что такое говорила с ним Елена в соседней комнате, хотя в то же время ясно видела, что они там за что-то поссорились между собой. Требование же князя, чтобы княгиня ехала с ним в экипаже, обрадовало ее до души; она ожидала, что он тут же с ней помирится, и у них начнется прежняя счастливая жизнь. Княгиня, в противоположность Елене, любила все больше представлять себе в розовом, приятном цвете, но князь всю дорогу промолчал, и когда она при прощании сказала ему, что он должен извиняться перед ней в совершенно другом, то он не обратил на эти ее слова никакого внимания, а потом она дня три и совсем не видала князя. Надежды ее, значит, в этом отношении рушились совершенно, и ей вообразилось, что он, может быть, считает ее уже недостойною, чтобы помириться с нею, по случаю ее кокетства с бароном. Княгиня готова была плакать от досады, что держала себя подобным образом с этим господином, и решилась оправдаться перед мужем. Для этого она написала и послала князю такого рода письмо:
«Я, мой дорогой Грегуар, без вины виновата перед вами, но, клянусь богом, эту вину заставила меня сделать любовь же моя к вам, которая нисколько не уменьшилась в душе моей с того дня, как я отдала вам мое сердце и руку. Вам, вероятно, не нравилось то, что я была слишком любезна с вашим приятелем бароном, но заверяю вас, что барон никогда мне и нисколько не нравился, а, напротив, теперь даже стал противен, и я очень рада буду, когда он уедет. Кокетничая с ним, я думала этим возвратить вашу любовь ко мне, которая была, есть и будет всегда для меня дороже всего, и если вы дадите мне ее снова, я сочту себя счастливейшим существом в мире. Прошу вас убедительно ответить мне и не мучить меня неизвестностью; всегда верная и любящая вас жена
Е. Григорова».
Письмом этим княгиня думала успокоить князя; и если заглянуть ему поглубже в душу, то оно в самом деле успокоило его: князь был рад, что подозрения его касательно барона почти совершенно рассеялись; но то, что княгиня любила еще до сих пор самого князя, это его уже смутило.
Недоумевая, как и что предпринять, он решился подождать Миклакова, который вечером хотел прийти к нему на дачу и действительно пришел.
– Вот вы с Еленой говорили мне, – начал князь после первых же слов, – чтобы я разные разности внушил княгине; я остерегся это сделать и теперь получил от нее письмо, каковое не угодно ли вам прочесть!
Князь подал Миклакову письмо княгини, которое тот внимательно прочел, и вслед за тем все лицо его приняло какое-то умиленное выражение.
– Какая, однако, отличнейшая женщина княгиня! – воскликнул он.
– Чем же? – спросил князь, хотя и догадался почти, что хочет сказать Миклаков.
– Добрейшая и чистейшая женщина, каких когда-либо я встречал, – продолжал Миклаков. – Вы сколько лет женаты? – прибавил он князю.
– Десять лет! – отвечал тот.
– Шутка!.. И после того, что вы изволили творить против нее, она сохранила такую преданность к вам!.. Не умеете вы, сударь, ценить подобное сокровище, решительно не умеете!..
– Но Елена, я надеюсь, как женщина, никак не хуже княгини, – проговорил князь.
– Елена имеет совсем другие достоинства, – сказал Миклаков.
Друзья после этого замолчали на некоторое время.
– Как я предсказывал, так и вышло! – начал Миклаков, рассмеясь. – Вся эта история с бароном, от которой вы так волновались и бесились, оказалась сущим вздором.
– Если она даже вздор, – подхватил князь, – то все-таки это ставит меня в еще более щекотливое положение… Что я буду теперь отвечать на это письмо княгине?.. Обманывать ее каким-нибудь образом я не хочу; написать же ей все откровенно – жестоко!
– Зачем писать?.. На словах ей надобно объяснить, – возразил Миклаков.
– А на словах я не могу, потому что, как и испытал это раз, или наговорю ей каких-нибудь резкостей, чего вовсе не желаю, или сам расчувствуюсь очень.
– Так как же тут быть? – воскликнул Миклаков.
– Всего бы было удобнее… – продолжал князь, пожимая плечами, – если бы вы, по доброте вашей ко мне, взяли на себя это поручение.
– Какое поручение? – спросил Миклаков.
– Поручение объясниться с княгиней.
– Это с какой мне стати? – воскликнул Миклаков.
– С такой, что я ваш друг и просил вас о том…
– Но что же именно объяснять я ей буду? – говорил Миклаков, уже смеясь.
– Объяснять… – начал князь с некоторой расстановкой и обдумывая, – чтобы она… разлюбила меня, потому что я не стою того, так как… изменил ей… и полюбил другую женщину!
– Э, нет!.. Этим ни одну женщину не заставишь разлюбить, а только заставишь больше ревновать, то есть больше еще измучишь ее. Чтобы женщина разлюбила мужчину, лучше всего ей доказать, что он дурак!
– Ну, докажите княгине, что я дурак; можно, полагаю, это?
– Можно! – отвечал совершенно серьезным тоном Миклаков. – Хорошо также ее уверить, что вы и подлец!
– Уверьте ее, что я и подлец! – подхватил князь.
Миклаков после этого помолчал немного, а потом присовокупил:
– Нечестно-то, в самом деле нечестно с ней поступили!
– Может быть, я не спорю против того; но как же, однако: вы беретесь, значит, и скажете ей?
– Да, пожалуй! – отвечал Миклаков.
– А когда именно?
– Когда хотите, мне все равно.
– Сегодня, например!.. Она теперь дома и сидит одна!..
– Нет, сегодня нельзя! – сказал наотрез Миклаков, взглянув при этом мельком на свои худые брюки и сапоги в заплатах.
– Отчего? – спросил князь, вовсе не подозревая, чтобы подобная причина могла останавливать Миклакова.
– Да оттого, – отвечал тот, – что я должен сообразить несколько и обдумать мое посольство!.. Завтра разве?
– Ну, завтра!.. В таком случае я пришлю за вами в Москву экипаж, – сказал князь.
– Присылайте! – согласился Миклаков.
И, придя домой, сей озлобленный человек начал совершать странные над собой вещи: во-первых, еще вечером он сходил в баню, взял там ванну, выбрился, выстригся, потом, на другой день, едва только проснулся, как сейчас же принялся выбирать из своего небогатого запаса белья лучшую голландскую рубашку, затем вытащил давным-давно не надеваемые им лаковые сапоги. Касательно верхнего платья Миклаков затруднялся, что ему надеть: летняя визитка у него была новее черного сюртука, но зато из такого дешевого трико была сшита, что, конечно, каждый лавочник и каждый лакей имел такую; сюртук же хоть и сделан был из очень хорошего сукна, но зато сильно был ветх деньми. Миклаков все-таки решился лучше надеть сюртук, предварительно вычистив его самым старательным образом; когда, наконец, за ним приехал экипаж князя, то он, сев в него, несколько развалился и положил даже ногу на ногу: красивая открытая коляска, как известно, самого отъявленного философа может за: ставить позировать!.. Бойкие кони понесли. Миклакова в Останкино. Он всю дорогу думал о княгине и о предстоящем свидании с нею. Она еще и прежде того немного нравилась ему и казалась такой милой и такой чистенькой. В настоящие же минуты какое-то тайное предчувствие говорило ему, что он произведет довольно выгодное для себя впечатление на княгиню[82]. Приехав в Останкино и войдя в переднюю флигеля, занимаемого княгинею, Миклаков велел доложить о себе, и, когда лакей ушел исполнить его приказание, он заметно оставался в некотором волнении. Княгиню тоже удивило это посещение.
– Проси! – сказала она как-то беспокойно лакею.
Миклаков вошел.
Княгиня подала ему свою беленькую ручку.
– Вы, вероятно, у мужа были? – спросила она его.
– Нет, я не был у него сегодня, – отвечал Миклаков уже несколько и мрачно.
– А я полагала, что вы не застали его дома, – продолжала княгиня, все еще думавшая, что Миклаков приехал к князю.
– Я даже не заходил к нему, – отвечал тот.
Княгиня дальше не знала, что и говорить с Миклаковым, и только попросила его садиться и сама села.
Миклаков некоторое время вертел шляпою.
– Я, собственно, явился к вам… – начал он, немного запинаясь, – не от себя, а по поручению князя.
– От мужа? – спросила княгиня с испугом и вся краснея в лице.
– От него-с! – отвечал Миклаков. – Мы с князем весьма еще недолгое время знакомы, но некоторое сходство в понятиях и убеждениях сблизило нас, и так как мы оба твердо уверены, что большая часть пакостей и гадостей в жизни человеческой происходит оттого, что люди любят многое делать потихоньку и о многом хранят глубочайшую тайну, в силу этого мы после нескольких же свиданий и не стали иметь никаких друг от друга тайн.
Княгиня начала почти догадываться, что хочет этим сказать Миклаков, и это еще больше сконфузило ее. «Неужели же князь этому полузнакомому человеку рассказал что-нибудь?» – подумала она не без удивления.
– А в силу сего последнего обстоятельства, – продолжал Миклаков, – я и сделался невидимым участником ваших бесед семейных и пререканий.
Удивлению княгини пределов не стало.
– Признаюсь, я вовсе не желала бы, чтобы кто-нибудь был участником в наших семейных отношениях, – проговорила она.
Миклаков пожал на это плечами.
– Тут вам нечего ни желать, ни опасаться, потому что из всего этого, если не выйдет для вас некоторой пользы, то во всяком случае не будет никакого вреда: мне вчерашний день князь прочел ваше письмо к нему, которым вы просите его возвратить вам любовь его.
Княгиня окончательно запылала от стыда и смущения.
– И князь поручил мне сказать вам, – говорил Миклаков с какой-то даже жестокостью, – что как он ни дорожит вашим спокойствием, счастием, но возвратиться к прежнему чувству к вам он не может, потому что питает пылкую и нежную страсть к другой женщине!
Княгиня при этих словах из пылающей сделалась бледною.
– С недобрыми же и нехорошими вестями пришли вы ко мне! – проговорила она.
– Что делать! – произнес в свою очередь невеселым голосом Миклаков. – Но мне хотелось бы, – прибавил он с некоторою улыбкою, – не только что вестником вашим быть, но и врачом вашим душевным: помочь и пособить вам сколько-нибудь.
– Нет, мне никто и ничем не может пособить! – произнесла княгиня, и слезы полились по ее нежным щечкам.
– Будто?.. Будто печаль ваша уж так велика? – спросил с участием Миклаков.
– Очень велика! – отвечала ему княгиня.
– Гм!.. – произнес Миклаков и после того, помолчав некоторое время и как бы собравшись с мыслями, начал. – Вот видите-с, на свете очень много бывает несчастных любвей для мужчин и для женщин; но, благодаря бога, люди от этого не умирают и много-много разве, что с ума от того на время спятят.
– А это бывает же? – спросила княгиня.
– Бывает-с это! – отвечал ей Миклаков торопливо. – И, по-моему, лучшее от того лекарство – самолюбие; всякий должен при этом вспомнить, что неужели он все свое человеческое достоинство поставит в зависимость от капризной воли какого-нибудь господина или госпожи. Нас разлюбили, ну и прекрасно: и мы разлюбим!
– Хорошо, разлюбим; а как не разлюбляется? – возразила княгиня.
– Что за вздор: не разлюбляется! – воскликнул Миклаков. – Для этого, мне кажется, стоит только повнимательнее и построже вглядеться в тот предмет, который нас пленяет – и кончено!.. Что вам, например, по преимуществу нравится в князе?
Княгиня некоторое время затруднялась отвечать на такой вопрос.
– Ум, конечно? – подхватил Миклаков.
– Разумеется, ум, потому что мужчина прежде всего должен быть умен, – проговорила княгиня.
– Совершенно верно-с… Жаль только, что женщины иногда совсем не то принимают за ум, что следует!.. В чем именно, по-вашему, ум князя проявляется?
– Как вам сказать, в чем… Каждое слово его показывает, что он человек умный.
– Гм… слово! – повторил Миклаков. – Слова бывают разные: свои и чужие, свое слово умное придумать и сказать очень трудно, а чужое повторить – чрезвычайно легко.
– Так неужели вы думаете, что князь все говорит чужие слова? – спросила княгиня с некоторым оттенком неудовольствия.
– Я тут ничего не говорю о князе и объясняю только различие между своими словами и чужими, – отвечал Миклаков, а сам с собой в это время думал: «Женщине если только намекнуть, что какой-нибудь мужчина не умен, так она через неделю убедит себя, что он дурак набитейший». – Ну, а как вы думаете насчет честности князя? – продолжал он допрашивать княгиню.
Та даже вспыхнула от удивления и неудовольствия.
– Господи, вы уж его и бесчестным человеком начинаете считать!.. Худого же князь адвоката за себя выбрал, – проговорила она.
– Я опять-таки повторяю вам, – возразил Миклаков, – что я желаю только знать ваше мнение, а своего никакого вам не говорю.
– Какое же тут другое мое мнение будет; я, без сомнения, признаю князя за самого честного человека!
– То есть почему это так? Может быть, потому, что, имея семьдесят тысяч годового дохода, он аккуратно платит долги по лавочкам и по булочным?
Княгиня опять вспыхнула.
– Нет, не потому, – сказала она явно сердитым голосом, – а вот, например, другой бы муж всю жизнь меня стал обманывать, а он этого, по своей честности, не в состоянии был сделать: говорит мне прямо и искренно!
– Что ж прямо и искренно говорить!.. – возразил Миклаков. – Это, конечно, можно делать из честности, а, пожалуй, ведь и из полного неуважения к личности другого… И я так понимаю-с, – продолжал он, расходившись, – что князь очень милый, конечно, человек, но барчонок, который свой каприз ставит выше счастия всей жизни другого: сначала полюбил одну женщину – бросил; потом полюбил другую – и ту, может быть, бросит.
– И все мужчины, я думаю, такие! – сказала княгиня.
– Нет, не все мужчины такие, – произнес Миклаков.
– Кто же? Вас, что ли, прикажете считать приятным исключением? – спросила его колко княгиня.
– Да хоть бы меня, пожалуй! – отвечал ей нахально Миклаков.
Княгиня пожала плечами.
– Скромно сказано! – проговорила она опять с насмешкой.
Ее не на шутку начинали сердить эти злые отзывы Миклакова о князе. Положим, она сама очень хорошо знала и понимала, что князь дурно и, может быть, даже нечестно поступает против нее, но никак не желала, чтобы об этом говорили посторонние.
Миклаков с своей стороны видел, что он мало подействовал на княгиню своими убеждениями, и рассчитал, что на нее временем лучше будет повлиять.
– А что, скажите, чем вы занимаетесь?.. На что тратите вы ваш досуг? – спросил он ее.
– Да ничем особенно не занимаюсь, – отвечала княгиня.
– Читаете что-нибудь?.. Музыкой много занимаетесь? – продолжал Миклаков спрашивать.
– Прежде много занималась, а теперь и та наскучила.
– Значит, только и делаете, что оплакиваете утраченную любовь вашего недостойного супруга?
– И того нет: для меня решительно все равно, утратила я его любовь или нет, – произнесла княгиня, сильно досадуя в душе на князя, что он подводит ее под подобные насмешки.
– Но надобно же, однако, на что-нибудь приятное и занятное направить вам ваше воображение, – говорил Миклаков.
– Я направлю его к богу и буду просить у него смерти, – отвечала княгиня.
– Э, пустяки – смерти просить!.. А в карты, скажите, вы любите играть? – спросил ее Миклаков.
– Люблю! – сказала протяжно княгиня.
– Ну, хотите, я буду ходить к вам в карты играть, серьезно, по большой?.. Буду вас обыгрывать, – благо у вас денег много.
Княгиня усмехнулась. Она это предложение Миклакова приняла сначала за шутку.
– Прикажете или нет? – настаивал тот.
– Пожалуй, ходите, – отвечала, наконец, княгиня.
Ей самой немножко улыбнулась мысль о подобном времяпрепровождении.
– Так, так, значит, на том и покончим! – произнес он, уже вставая и протягивая княгине на прощанье руку.
Та ему ничего не отвечала и только подала ему тоже свою руку.
Миклаков ушел.
Княгиню страшным образом удивило и оскорбило такое посольство от князя. «Разве сам он не мог побеспокоиться и написать ей ответ?.. Наконец, просто сказать ей на словах?.. Зачем же было унижать ее еще в глазах постороннего человека?» – думала княгиня и при этом проклинала себя, зачем она написала это глупое письмо князю, зная по опыту, как он и прежде отвечал на все ее нежные заявления. С настоящей минуты она начала серьезно подумывать, что, в самом деле, не лучше ли ей будет и не легче ли жить на свете, если она разойдется с князем и уедет навсегда в Петербург к своим родным.
Сам же князь в продолжение всего времени, пока Миклаков сидел у княгини, стоял у окна в своем кабинете и с жадным вниманием ожидал, когда тот выйдет от нее. Наконец, Миклаков показался.
– Идите сюда скорей! – не утерпел и крикнул ему князь.
Миклаков подошел было к нему к окну.
– Идите же в комнату! – крикнул ему еще раз князь.
Миклаков усмехнулся, мотнул головой и вошел в комнаты.
– Ну что, говорили? – спросил его стремительно князь.
– Говорил! – отвечал протяжно Миклаков.
– Что же вы именно говорили?
– Говорил, во-первых, что вы человек весьма недалекий, – произнес Миклаков и приостановился на некоторое время, как бы желая наблюсти, какое это впечатление произведет на князя.
Того, при всем его желании скрыть это, заметно передернуло.
– Ну-с, далее! – сказал он.
– Далее я ей объяснил, что вы человек пустой и не совсем даже честный, в отношении ее, по крайней мере!
– Благодарю, что не во всех уж отношениях! – сказал князь, притворно усмехаясь.
– Не во всех-с, не во всех! – подхватил Миклаков.
– Что же она на все это?
– Она пока еще не соглашается с таким моим мнением, но, во всяком случае, решилась понемногу начать развлекать себя, и я в этом случае предложил ей свое товарищество и партнерство.
– Предложили? Вот за это спасибо! – воскликнул князь.
– Предложил; только наперед вам говорю: прошу меня не ревновать, а то я в этих случаях труслив, как заяц: сейчас наутек уйду!
– Ни взглядом, ни словом не обнаружу сего грубого чувства пред вами, – отвечал с оттенком веселости князь. – Но она все-таки не очень огорчилась? – прибавил он озабоченным голосом.
– Нет, по-видимому, не очень.
– Это и отлично! – произнес князь с видимым удовольствием.
– Мне, однако, пора домой! – сказал Миклаков.
– Не смею останавливать!.. Экипаж готов! – сказал князь, с чувством и с благодарностью пожимая руку приятеля.
Миклаков опять сел в тот же фаэтон и поехал: он и на этот раз думал о княгине. В его зачерствелом и наболевшем сердце как будто бы снова заискрилось какое-то чувство и зашевелились надежды и мечты!
III
Прошло недели две. Князь и княгиня, каждодневно встречаясь, ни слова не проговорили между собой о том, что я описал в предыдущей главе: князь делал вид, что как будто бы он и не получал от жены никакого письма, а княгиня – что к ней вовсе и не приходил Миклаков с своим объяснением; но на душе, разумеется, у каждого из них лежало все это тяжелым гнетом, так что им неловко было даже на долгое время оставаться друг с другом, и они каждый раз спешили как можно поскорей разойтись по своим отдельным флигелям.
После 15 августа Григоровы, Анна Юрьевна и Жиглинские предположили переехать с дач в город, и накануне переезда князь, сверх обыкновения, обедал дома. Барон за этим обедом был какой-то сконфуженный. В половине обеда, наконец, он обратился к княгине и к князю и проговорил несколько умиленным и торжественным голосом:
– А я завтрашний день поблагодарю вас за ваше гостеприимство и попрошу позволения проститься с вами!
– Вы едете в Петербург? – спросила его княгиня заметно довольным голосом.
Князь кинул взгляд на барона.
– Нет, я остаюсь в Москве, – отвечал тот, все более и более конфузясь, – но я буду иметь дела, которые заставляют меня жить ближе к городу, к присутственным местам.
Князь и княгиня, а также и г-жа Петицкая, обедавшая у Григоровых, посмотрели на барона с некоторым удивлением.
– Какие же это у вас дела такие? – спросил его князь.
– Да так… разные, – отвечал уклончиво барон.
– Разные… – повторил князь. – Но разве от нас вы не могли бы ездить в присутственные места?
– Далеко, ужасно далеко! – отвечал барон.
– Что же вы в гостинице, что ли, где-нибудь будете жить? – продолжал князь и при этом мельком взглянул на княгиню. Он, наверное, полагал, что это она потребовала, чтобы барон переехал от них; но та сама смотрела на барона невиннейшими глазами.
– Я нанял квартиру у Анны Юрьевны, – отвечал барон протяжно.
– У Анны Юрьевны?.. – воскликнули в один голос Григоровы.
– Но где же и какая у ней квартира может быть? – подхватила стремительно Петицкая.
Она успела уже познакомиться с Анной Юрьевной и даже побывать из любопытства в городском ее доме.
– Внизу. Я весь низ беру себе, – отвечал барон, – главное потому, что мне нужно иметь квартиру с мебелью, а у Анны Юрьевны она вся меблирована, и меблирована прекрасно.
– Еще бы не прекрасно! – воскликнул князь. – Мало ли чего нет у моей дорогой кузины; вы у ней многое можете найти, – присовокупил он как-то особенно внушительно.
Г-жа Петицкая при этом потупилась: она обыкновенно всегда, при всяком вольном намеке князя, опускала глаза долу.
Барон же старался принять вид, что как будто бы совершенно не понял намека князя.
– Я вас поздравляю: вы непременно влюбитесь в Анну Юрьевну! – объяснила ему прямо княгиня.
– Влюблюсь? – спросил барон, подняв, как бы в удивлении, свои брови.
– Непременно, она очень милая, хоть, может быть, и не совсем молода! – подхватила княгиня.
– Совершенно верно; но, к сожалению, я сам мало способен к этому чувству, – проговорил барон.
– Почему же это?.. Я полагаю, напротив! – сказала с некоторою колкостью княгиня.
– И я тоже, – поддержала ее г-жа Петицкая.
– Я так много, – продолжал барон, – перенес в жизни горя, неудач, что испепелил сердце и стал стар душою.
– А вот Анна Юрьевна накатит вас отличнейшим бургонским, и помолодеете душой, – подхватил князь.
– Что ты за глупости говоришь! – произнесла княгиня, а г-жа Петицкая опять сделала вид, что ей ужасно было стыдно слушать подобные вольности, и ради этого она позадержала даже немножко дыхание в себе, чтобы заметнее покраснеть.
– Князь для острого словца не пожалеет и отца! – подхватил с своей стороны, усмехаясь, барон.
Все эти подозрения и намеки, высказанные маленьким обществом Григоровых барону, имели некоторое основание в действительности: у него в самом деле кое-что начиналось с Анной Юрьевной; после того неприятного ужина в Немецком клубе барон дал себе слово не ухаживать больше за княгиней; он так же хорошо, как и она, понял, что князь начудил все из ревности, а потому подвергать себя по этому поводу новым неприятностям барон вовсе не желал, тем более, что черт знает из-за чего и переносить все это было, так как он далеко не был уверен, что когда-нибудь увенчаются успехом его искания перед княгиней; но в то же время переменить с ней сразу тактику и начать обращаться холодно и церемонно барону не хотелось, потому что это прямо значило показать себя в глазах ее трусом, чего он тоже не желал. В видах всего этого барон вознамерился как можно реже бывать дома; но куда деваться ему, где найти приют себе? «К Анне Юрьевне на первый раз отправлюсь!» – решил барон и, действительно, на другой день после поездки в парк, он часу во втором ушел пешком из Останкина в Свиблово. Анна Юрьевна, в свою очередь, в это утро тоже скучала. Встретив юный музыкальный талант под руку с юной девицей, она наотрез себе сказала, что между нею и сим неблагодарным все и навсегда кончено, а между тем это ей было грустно, так что Анна Юрьевна, проснувшись ранее обыкновенного поутру, даже поплакала немного; несмотря на свою развращенность и цинизм в понимании любви, Анна Юрьевна наедине, сама с собой, все-таки оставалась женщиной. Приходу барона она обрадовалась, ожидая, что это все-таки немножко развлечет ее.
– Что ваш князь и княгиня? – спросила она его с первого же слова.
– А я их не видал сегодня! – отвечал барон.
Анна Юрьевна до прихода барона сидела в саду в беседке, где и приняла его.
– L'air est frais aujourd'hui!..[83] Пора в город переезжать, – проговорила она, кутаясь в свой бурнус и затрудняясь на первых порах, о чем бы более интересном заговорить с своим гостем.
– Нет, что же за холодно; я еще ни разу не надевал своего осеннего пальто! – возразил барон, желая, кажется, представить из себя здорового и крепкого мужчину.
– Да, но, может быть, вас согревает в Останкине приятная атмосфера, которая вас окружает! – произнесла Анна Юрьевна лукавым голосом.
– Атмосфера приятная? – переспросил барон, совершенно как бы не поняв ее слов. – Какая же это атмосфера? – прибавил он.
– Атмосфера в обществе с хорошенькой и милой женщиной, – отвечала Анна Юрьевна. Она сама отчасти замечала, а частью слышала от прислуги своей, что барон ухаживает за княгиней, и что та сама тоже неравнодушна к нему, а потому она хотела порасспросить несколько барона об этом.
– Да, вот что! – произнес тот. – Но только атмосфера эта скорее холодящая меня, чем согревающая! – заключил он.
– Будто? – сказала Анна Юрьевна недоверчивым голосом.
– Уверяю вас!
– Что вы влюблены – в этом… je ne doute guere!..[84] Но чтобы и вам не отвечали тем же – не думаю! – проговорила она.
– Что я не влюблен и что мне ничем не отвечают, могу доказательство тому представить.
– Пожалуйста.
– Скажите, когда бывают влюблены и им отвечают взаимно, то пишут такие письма? – проговорил барон и, вынув из своего бумажника маленькую записочку, подал ее Анне Юрьевне. Письмо это было от княгини, писанное два дня тому назад и следующего содержания: «Вы просите у меня „Московских ведомостей“[85], извините, я изорвала их на папильотки, а потому можете сегодня сидеть без газет!»
– Пишут в таком тоне? – повторил барон.
– Пишут во всяком!.. – проговорила Анна Юрьевна, и при этом ей невольно пришла в голову мысль: «Княгиня, в самом деле, может быть, такая еще простушка в жизни, что до сих пор не позволила барону приблизиться к себе, да, пожалуй, и совсем не позволит», и вместе с тем Анне Юрьевне кинулось в глаза одно, по-видимому, очень неважное обстоятельство, но которое, тем не менее, она заметила. Барон сидел к ней боком, и Анна Юрьевна очень хорошо видела его рыжий затылок, который ей весьма напомнил затылок одного молодого английского лорда, секретаря посольства, человека, для которого некогда Анна Юрьевна в первый раз пала.
Часу в четвертом барон, наконец, встал и хотел было отправиться в Останкино.
– Куда же вы?.. Dinez avec moi… le diner sera bon![86] – сказала ему Анна Юрьевна.
– О, нисколько в том не сомневаюсь! – отвечал барон и, разумеется, не отказался от этого приглашения.
Когда они сели за стол, барон сказал:
– Я завтра хочу ехать в Москву на целый день погулять там, посмотреть… Я почти совсем не видал Москвы.
– Да и видеть особенно нечего, – подхватила Анна Юрьевна. – Я сама тоже завтра еду туда на целый день.
– Изволите ехать?
– Да, et pour des raisons desagreables!..[87] Там у меня какие-то процессы глупые затеваются; надобно ехать к нотариусу, написать одному господину доверенность.
– Какого же рода процессы у вас? – спросил барон.
– Да там с мужиками по размежеванию земель; я их всех на выкуп отпустила, у меня очень большое имение, тысяч двадцать душ по-прежнему было!..
При этих словах барон даже пошевелился как-то беспокойно на стуле.
– Ну, а мужики все эти, говорят, ужасно жадны: требуют себе еще что-то такое больше, чем следует; управляющие мои тоже плутовали, так что я ничего тут не понимаю и решительно не знаю, как мне быть.
Барон, слушая все это, по-видимому, мотал себе на ус.
– De quelle maniere vous rendez vous a Moscou, – en voiture de place?[88] – спросила его Анна Юрьевна.
– Oui, – en fiacre![89] – отвечал барон.
– Хотите, я заеду за вами? – сказала Анна Юрьевна.
– Si vous le voulez, bien![90] – проговорил барон, вежливо склоняя перед ней голову.
– Хорошо, похищу вас, так и быть!.. Только мне надобно ехать в мой дом; вы не соскучитесь этим?
– Нисколько.
На другой день Анна Юрьевна в самом деле заехала за бароном и увезла его с собой. Дом ее и убранство в оном совершенно подтвердили в глазах барона ее слова о двадцати тысячах душ. Он заметно сделался внимательнее к Анне Юрьевне и начал с каким-то особенным уважением ее подсаживать и высаживать из экипажа, а сидя с ней в коляске, не рассаживался на все сиденье и занимал только половину его.
– Господина, которому вы даете доверенность, вы хорошо знаете? – спросил он ее, когда они подъехали к самой уж конторе нотариуса.
– Нисколько!.. Он адвокат здешний и очень хороший, говорят, человек.
– Ну, это… особенно если доверенность будет полная и при таком большом имении, дело не совсем безопасное.
– Очень может быть, даже опасное! Mais que devons nous faire, nous autres femmes[91], если мы в этом ничего не понимаем!
– В таком случае не повременить ли вам немножко, и не поручите ли вы мне предварительно пересмотреть ваши дела? – проговорил барон.
– Ах, пожалуйста! – воскликнула Анна Юрьевна, и таким образом вместо нотариуса они проехали к Сиу, выпили там шоколаду и потом заехали опять в дом к Анне Юрьевне, где она и передала все бумаги барону. Она, кажется, начала уже понимать, что он ухаживает за ней немножко. Барон два дня и две ночи сидел над этими бумагами и из них увидел, что все дела у Анны Юрьевны хоть и были запущены, но все пустые, тем не менее, однако, придя к ней, он принял серьезный вид и даже несколько мрачным голосом объяснил ей:
– У вас дел очень много, так что желательно было бы, чтобы ими занялся человек, преданный вам.
– Но эти адвокаты, говорят, очень честны!.. Il songent a leur renommee![92] – сказала на это ему Анна Юрьевна.
– Не всегда! – возразил ей барон. – Честность господ адвокатов, сколько я слышал, далеко не совпадает с их известностью!
– Вы думаете? Но к кому же я в таком случае обратиться должна? – воскликнула Анна Юрьевна.
– Позвольте мне, хоть, может быть, это и не совсем принято, предложить вам себя, – начал барон, несколько запинаясь и конфузясь. – Я службой и петербургским климатом очень расстроил мое здоровье, а потому хочу год или два отдохнуть и прожить даже в Москве; но, привыкнув к деятельной жизни, очень рад буду чем-нибудь занять себя и немножко ажитировать.
– Mille remerciements![93] – воскликнула Анна Юрьевна, до души обрадованная таким предложением барона, потому что считала его, безусловно, честным человеком, так как он, по своему служебному положению, все-таки принадлежал к их кругу, а между тем все эти адвокаты, бог еще ведает, какого сорта господа. – Во всяком случае permettez-moi de vous offrir des emoluments[94], – прибавила она.
Барон при этом покраснел.
– Я сам имею совершенно обеспеченное состояние и желаю вашими делами заняться ad libitum[95], – проговорил он.
Состояния у барона собственно никакого не было, кроме двух-трех тысяч, которые он скопил от огромных денежных наград, каждогодно ему выхлопатываемых Михайлом Борисовичем.
– Но как же это так?.. – произнесла Анна Юрьевна, конфузясь в свою очередь.
– Я вас буду настоятельно просить об этом! – сказал барон решительно.
Анна Юрьевна на это ничего не отвечала и пожала только плечами; она, впрочем, решила в голове через месяц же сделать барону такой подарок, который был бы побогаче всякого жалованья.
Сделавшись таким образом l'homme d'affaire[96] Анны Юрьевны, барон почти каждый день стал бывать у ней; раз, когда они катались вдвоем в кабриолете, она спросила его:
– Вы, переехав с дачи, у князя будете жить?
– Не знаю, – отвечал протяжно барон, – мне бы очень не хотелось!.. Думаю приискать себе где-нибудь квартиру.
Анна Юрьевна некоторое время как бы недоумевала или конфузилась.
– Возьмите у меня низ дома, – сказала, наконец, она и при этом как-то не смотрела на барона, а глядела в сторону.
– Но мне с мебелью нужна квартира! – возразил барон, как бы не зная, что у Анны Юрьевны весь дом битком набит был мебелью.
– У меня там мебель есть, – отвечала Анна Юрьевна, – но только одно: je n'accepte point d'argent[97], так как вы не удостоиваете меня чести брать их за мои дела.
– В этом случае, как вам угодно, – согласился барон.
– И потом я буду просить вас не держать повара, мой стол будет всегда к вашим услугам.
– Очень благодарен! – согласился и на это барон. – Ваш обед так заманчив, что его можно предпочесть всем на свете обедам, – присовокупил он.
– Вы находите?! – спросила Анна Юрьевна и сильно ударила вожжами по лошади, которая быстро их понесла.
Когда они потом стали возвращаться с своей прогулки, Анна Юрьевна снова заговорила об этом предмете.
– Тут, конечно, – начала она, делая гримасу и как бы все внимание свое устремляя на лошадь, – по поводу того, что вы будете жить в одном доме со мной, пойдут в Москве разные толки, но я их нисколько не боюсь.
– А я еще и меньше того! – подтвердил барон; но передать своим хозяевам о переезде к Анне Юрьевне он, как мы видели, едва только решился за последним обедом на даче, а когда перебрались в город, так и совсем перестал бывать у Григоровых. Известия об нем княгиня получала от одной лишь г-жи Петицкой, которая посещала ее довольно часто и всякий почти раз с каким-то тихим азартом рассказывала ей, что она то тут, то там встречает барона на лошадях Анны Юрьевны. Чтоб объяснить все эти последние поступки барона, я, по необходимости, должен буду спуститься в самый глубокий тайник его задушевнейших мыслей: барон вышел из школы и поступил на службу в период самого сильного развития у нас бюрократизма. Для этого рода деятельности барон как будто бы был рожден: аккуратный до мельчайших подробностей, способный, не уставая, по 15 часов в сутки работать, умевший складно и толково написать бумагу, благообразный из себя и, наконец, искательный перед начальством, он, по духу того времени, бог знает до каких высоких должностей дослужился бы и уж в тридцать с небольшим лет был действительным статским советником и звездоносцем, как вдруг в службе повеяло чем-то, хоть и бестолковым, но новым: стали нужны составители проектов!.. Барон очень хорошо понимал, что составлять подобные проекты такой же вздор, как и писать красноречивые канцелярские бумаги, но только он не умел этого делать, с юных лет не привык к тому, и вследствие этого для него ясно было, что на более высокие должности проползут вот эти именно составители проектов, а он при них – самое большое, останется чернорабочим. Все это страшно грызло барона, и он, еще при жизни Михайла Борисовича, хлопотал, чтобы как-нибудь проскочить в сенаторы, и тот обещал ему это устроить, но не успел и умер, а преемник его и совсем стал теснить барона из службы. Только немецкий закал характера и надежда на свою ловкость дали барону силы не пасть духом, и он вознамерился пока съездить в Москву, отдохнуть там и приискать себе, если это возможно будет, какую-нибудь выгодную для женитьбы партию.
Барон в этом случае, благодаря своему петербургскому высокомерию, полагал, что стоит ему только показаться в Москве в своих модных пиджаках, с дорогой своей тросточкой и если при этом узнается, что он действительный статский советник и кавалер станиславской звезды, то все московские невесты сами побегут за ним; но вышло так, что на все те качества никто не счел за нужное хоть бы малейшее обратить внимание. Приняв этот новый удар судьбы с стоическим спокойствием и ухаживая от нечего делать за княгиней, барон мысленно решился снова возвратиться в Петербург и приняться с полнейшим самоотвержением тереться по приемным и передним разных влиятельных лиц; но на этом распутий своем он, сверх всякого ожидания, обретает Анну Юрьевну, которая, в последние свои свидания с ним, как-то всей своей наружностью, каждым движением своим давала ему чувствовать, что она его, или другого, он хорошенько не знал этого, но желает полюбить. Все прежние планы в голове барона мгновенно изменились, и он прежде всего вознамерился снискать расположение Анны Юрьевны, а потом просить ее руки и сердца; она перед тем только получила известие из-за границы, что муж ее умер там.
– Теперь вам надобно замуж выходить! – сказал ей барон по этому поводу.
– Ни за что на свете, ни за что! Чтобы связать себя с кем-нибудь – никогда!.. – воскликнула Анна Юрьевна и таким решительным голосом, что барон сразу понял, что она в самом деле искренно не желает ни за кого выйти замуж, но чтобы она не хотела вступить с ним в какие-либо другие, не столь прочные отношения, – это было для него еще под сомнением.
Ухаживать за женщинами, как мы уже видели, барон был не мастер: он всегда их расположение приобретал деньгами, а не речами, и потому привык обращаться с ними чересчур нахально и дерзко. Такой прием, разумеется, всякую другую женщину мог бы только оттолкнуть, заставить быть осторожною, что и происходило у него постоянно с княгиней Григоровой, но с Анной Юрьевной такая тактика вышла хороша: она сама в жизнь свою так много слышала всякого рода отдаленных и сентиментальных разговоров, что они ей сильно опротивели, и таким образом, поселясь при переезде в город в одном доме а видясь каждый день, Анна Юрьевна и барон стали как-то все играть между собой и шалить, словно маленькие дети.
В один, например, из сентябрьских дней, которые часто в Москве бывают гораздо лучше июньских, барон и Анна Юрьевна гуляли в ее огромном городском саду по довольно уединенной и длинной аллее. Барон сломал ветку и стал ею щекотать себе около уха и шеи.
– Что вы это делаете? – спросила Анна Юрьевна, устремляя на него смеющийся взор.
– Щекочу себя!.. Ужасно щекотно, – отвечал барон. – Посмотрите! – прибавил он и пощекотал у Анны Юрьевны шею.
Та при этом съежилась всем станом.
– Ни, ни, ни! Не смейте больше! – проговорила она, но барон еще раз ее пощекотал.
– Voila pour vous!..[98] – вскрикнула Анна Юрьевна и, сломив ветку, хотела ударить ею барона, но тот побежал от нее, Анна Юрьевна тоже побежала за ним и, едва догнав, ударила его по спине, а затем сама опустилась от усталости на дерновую скамейку: от беганья она раскраснелась и была далеко не привлекательна собой. Барон, взглянув на нее, заметил это, но счел более благоразумным не давать развиваться в себе этому чувству.
– Велите мне дать воды, мне ужасно жарко! – сказала Анна Юрьевна.
Барон пошел и сам ей принес полный стакан с водою, из которого Анна Юрьевна, отпив до половины, не проглотила воду, а брызнула ею на барона.
– А, так и я на вас брызну! – воскликнул он и, схватив стакан, тоже набрал из него воды. Тогда Анна Юрьевна уж побежала от него, но он, однако, в кабинете догнал ее.
– Ну, бог с вами, брызгайте, пожалуй! – вскричала она, снова утомившись и падая на длинное кресло.
Барон хотел на нее брызнуть, но не мог и захохотал при этом во все горло.
– Нет, не могу; я проглотил воду! – сказал он, продолжая хохотать.
– Стиксовали, значит! – проговорила Анна Юрьевна.
– Да, стиксовал. А вы знаете это выражение? – спросил ее барон.
– Еще бы! – отвечала Анна Юрьевна.
Другой раз, это было после обеда, за которым барон выпил весьма значительное количество портеру, они сидели, по обыкновению, в будуаре.
– Хороша ли у меня ботинка? – спросила Анна Юрьевна, протягивая к нему свою ногу, обутую, в самом деле, в весьма красивую ботинку.
– А хорош ли у меня сапог? – отвечал ей на это барон, подставляя свою ногу под ногу Анны Юрьевны и приподнимая ту немного от пола.
– Не смейте так делать! – прикрикнула уж на него Анна Юрьевна.
Это занятие их, впрочем, было прервано приходом лакея, который стал зажигать лампы и таким образом сделал будуар не столь удобным для подобного рода сцен.
Наконец, однажды вечером барон и Анна Юрьевна разговорились о силе.
– Я очень сильна, – сказала Анна Юрьевна.
– И я очень силен! – подхватил, не желая ей уступить, барон.
– В руках я не меньше вашего сильна! – подхватила Анна Юрьевна.
– Не думаю – померяемтесь.
– Eh bien, essayons!..[99] – согласилась Анна Юрьевна, и они, встав и взяв друг друга за руки, стали их ломать, причем Анна Юрьевна старалась заставить барона преклониться перед собой, а он ее, и, разумеется, заставил, так что она почти упала перед ним на колени.
На другой день после этого вечера барон, сидя в своем нарядном кабинете, писал в Петербург письмо к одному из бывших своих подчиненных:
«Почтеннейший Клавдий Семеныч!
Потрудитесь передать прилагаемое при сем прошение мое об отставке по принадлежности и попросите об одном, чтобы уволили меня поскорей из-под своего начальствования. В настоящее время я остаюсь пока в Москве. Этот город, исполненный русской старины, решительно привлекает мое внимание. Вы знаете всегдашнюю мою слабость к историческим занятиям (барон, действительно, еще служа в Петербурге, весьма часто говорил подчиненным своим, что он очень любит историю и что будто бы даже пишет что-то такое о ливонских рыцарях), но где же, как не в праматери русской истории, это делать? Карамзин писал свою великую историю в Свиблове, где я почти каждый день бывал нынешним летом!»
Перечитав все это, барон даже улыбнулся, зачем это он написал об истории; но переписывать письма ему не захотелось, и он только продолжал его несколько поискреннее:
«Будущее лето я поеду за границу, а потом, вероятно, и в Петербург, но только не работать, а пожуировать». Барон непременно предполагал на следующую зиму перетащить Анну Юрьевну в Петербург, так как боялся, что он даже нынешнюю зиму умрет со скуки в праматери русской истории.
IV
Раз, часу в первом дня, Анна Юрьевна сидела в своем будуаре почти в костюме молодой: на ней был голубой капот, маленький утренний чепчик; лицо ее было явно набелено и подрумянено. Анна Юрьевна, впрочем, и сама не скрывала этого и во всеуслышание говорила, что если бы не было на свете куаферов и косметиков, то женщинам ее лет на божий свет нельзя было бы показываться. Барон тоже сидел с ней; он был в совершенно домашнем костюме, без галстука, в туфлях вместо сапог и в серой, с красными оторочками, жакетке.
Лакей вошел и доложил:
– Николай Гаврилыч Оглоблин!
Анна Юрьевна взглянула на барона.
– Принимать или нет? – проговорила она, как бы спрашивая его.
– Отчего не принимать? Примите!.. Дайте только мне уйти, – отвечал барон и поднялся с своего места.
– Проси! – сказала Анна Юрьевна лакею.
Тот пошел.
Барон между тем ушел в соседнюю комнату и оттуда, по особой винтовой лестнице, спустился вниз.
Вошел Оглоблин: это был еще молодой человек с завитой в мелкие-мелкие барашки головой и с выпуклыми глазами, тоже несколько похожими на бараньи; губы и ноги у него были толстые и мясистые.
По происхождению своему Оглоблин был даже аристократичнее князя Григорова; род его с материнской стороны, говорят, шел прямо от Рюрика; прапрадеды отцовские были героями нескольких битв, и только родитель его вышел немного плоховат, впрочем, все-таки был сановник и слыл очень богатым человеком; но сам Николя Оглоблин оказывался совершенной дрянью и до такой степени пользовался малым уважением в обществе, что, несмотря на то, что ему было уже за тридцать лет, его и до сих пор еще называли monsieur Николя, или даже просто Николя. Он обыкновенно целые дни ездил в моднейшем, но глупейшем фаэтоне по Москве то с визитами, то обедать к кому-нибудь, то в театр, то на гулянье, и всюду и везде без умолку болтал, и не то чтобы при этом что-нибудь выдумывал или лгал, – нисколько: ум и воображение Николя были слишком слабы для того, но он только, кстати ли это было или некстати, рассказывал всем все, что он увидит или услышит.
За такого рода качества ему, разумеется, немало доставалось, так что от многих домов ему совсем отказали; товарищи нередко говорили ему дурака и подлеца, но Николя не унимался и даже год от году все больше и больше начинал изливать из себя то, что получал он из внешнего мира посредством уха и глаза.
– А я, кузина, и не знал, что вы в городе, – зарапортовал он сейчас же, как вошел, своим мясистым языком, шлепая при этом своими губами и даже брызгая немного слюнями, – но вчера там у отца собрались разные старички и говорят, что у вас там в училище акт, что ли, был с месяц тому назад… Был?
– Был!.. Что же? – сказала ему Анна Юрьевна довольно суровым голосом.
– И там архиерей, что ли, какой-то был!..
– Был и архиерей, – говорила Анна Юрьевна тем же суровым голосом.
– И что там начальница училища какая-то есть… mademoiselle Жиглинская, что ли…
– Есть, что же?
– А то, что… – начал Оглоблин, и шепелявый язык его немного запнулся при этом, – будто бы архиерей… я, ей-богу, передаю вам то, что другие говорили, спросил даже: дама она или девица… Слышали вы это?
– Нет, не слыхала.
– Спросил, говорят, и потом у себя, что ли, или там в каком-нибудь интимном кружке своем и говорит: «что это, говорит, начальница в училище у Анны Юрьевны девица и отчего же elle est enceinte?»[100]
– D'apres quoi est-ce qu'il pense cela?[101] – воскликнула Анна Юрьевна, заметно обеспокоенная этим известием.
– Je ne sais pas[102], – отвечал Николя, пожимая плечами.
– Ну!.. Il se trompe!.. Elle n'est pas enceinte, mais elle est malade![103] – говорила Анна Юрьевна, желая как-нибудь спасти Елену от подобной молвы.
– C'est bien probable!..[104] – согласился и Николя. – Но ведь вы знаете, наши старички, – продолжал он, брызгая во все стороны слюнями, – разахались, распетушились… «В женском, говорят, заведении начальница с такой дурной нравственностью!.. Ее надобно, говорят, сейчас исключить!..»
Анна Юрьевна не на шутку при этом рассердилась.
– Дурная нравственность passe encore![105] – начала она, делая ударение на каждом почти слове. – От дурной нравственности человек может поправиться; но когда кто дурак и занимает высокую должность, так тут ничем не поправишь, и такого дурака надобно выгнать… Так вы это и скажите вашим старичкам – понравится им это или нет.
Николя при этом самодовольнейшим образом захохотал.
– Ей-богу, сказал бы, да рассердятся только; отцу разве скажу, – отшлепал он своим язычищем.
– Отцу скажите, – он из таких же!
– Из таких же! – подтвердил и Николя, продолжая хохотать. – Там они еще говорили, – присовокупил он более уже серьезным тоном, – в газетах даже есть статья о вашем училище.
– Какая статья? – спросила Анна Юрьевна. Сама она никогда не читала никаких газет и даже чувствовала к ним величайшее отвращение вследствие того, что еще во время ее парижской жизни в одной небольшой французской газетке самым скандальным образом и с ужасными прибавлениями была рассказана вся ее биография.
– Я потом отцу и говорю: «какая, я говорю, статья?» Он меня позвал в кабинет и подал: «на, говорит, свези завтра к Анне Юрьевне!»
И вслед за тем Николя вынул из кармана нумер газеты и подал его Анне Юрьевне. Та прочла статейку, и лицо ее снова запылало гневом.
– Ах, какое негодяйство! – воскликнула она.
Статейка газеты содержала следующее: «Нигилизм начинает проникать во все слои нашего общества, и мы, признаться, с замирающим сердцем и более всего опасались, чтобы он не коснулся, наконец, и до нашей педагогической среды; опасения наши, к сожалению, более чем оправдались: в одном женском учебном заведении начальница его, девица, до того простерла свободу своих нигилистических воззрений, что обыкновенно приезжает в училище и уезжает из него по большей части со своим обожателем».
Весть об этом в редакцию сообщил Елпидифор Мартыныч, который пользовал в оной и, разговорившись как-то там о развращении современных нравов, привел в пример тому Елену, которую он, действительно, встретил раз подъезжающею с князем к училищу, и когда его спросили, где это случилось, Елпидифор Мартыныч сначала объяснил, что в Москве, а потом назвал и самое училище.
«Печатая это, – гласила статья далее, – мы надеемся, что лица, поставленные блюсти за нравственностью юных воспитанниц, для которых такой пример может быть пагубен на всю их жизнь, не преминут немедля же вырвать из педагогической нивы подобный плевел!»
– Вы господина, что издает эту газету, знаете? – обратилась Анна Юрьевна к своему гостю.
– Знаю-с! – отвечал Николя.
– Ну, так передайте ему, что я презираю его мнением et que je me moque de ses pasquinades[106] и учиться у него управлять моим училищем не буду!
– Хорошо-с, передам! – сказал, опять засмеясь, Николя и очень, как видно, довольный таким поручением. – У нас после того Катерина Семеновна была, – бухал он, не давая себе ни малейшего отчета в том, что он говорит и кому говорит. – «Что ж, говорит, спрашивать с маленькой начальницы, когда, говорит, старшая начальница то же самое делает».
– Это я, что ли, то же самое делаю?
– Да, вы; она ужасно вас всегда бранит… У вас вот тут внизу барон Мингер живет! – прибавил Николя, показывая на пол.
– Живет! – подтвердила Анна Юрьевна.
– Катерина Семеновна говорит, что вы за него замуж выходите.
– Выхожу, может быть… Ей-то что ж до этого!.. Завидно, что ли?
– Должно быть, завидно, что ее никто не берет! – сказал Николя и снова захохотал своим глупым смехом.
Наконец, выболтав все, что имел на душе, он стал прощаться с кузиной.
– Мне во многих еще местах надобно побывать! – говорил он, протягивая ей свою жирную и пухлую руку.
По уходе его Анна Юрьевна велела позвать к себе барона. Тот пришел.
– Дуралей этот Николя множество новостей мне привез, – сказала она ему.
– Новостей? – спросил барон с некоторым вниманием.
– Да, и ужасно какого вздору: прежде всего, что я за вас замуж выхожу… раз – враки.
– Враки… – повторил за нею протяжно барон.
– Потом уж газетная сплетня: статья там есть про мое училище.
– Есть… читал… – произнес барон тем же протяжным голосом.
– Что же вы мне не сказали о ней?
Барон пожал плечами.
– Во-первых, я полагал, что вы сами ее знаете и читали; а во-вторых, и спорить с вами не хотел.
– Но в чем же вы спорить со мной тут думали? – спросила Анна Юрьевна.
– В том, что я с этой статьей совершенно согласен: нельзя же, в самом деле, девушек, подобных Елене, держать начальницами учебных заведений.
– А как же у вас, у мужчин, дураки набитые занимают высокие места?
– И это очень нехорошо! – возразил ей барон.
– Хорошо или нет, они, однако, занимают.
Барон еще и прежде того пробовал Анне Юрьевне делать замечания насчет Елены, но она всякий раз останавливала его довольно резко, что сделала и теперь, как мы видим.
– Ваше дело-с! – произнес он заметно недовольным тоном.
– Чисто мое, и ни до кого оно не касается! – сказала Анна Юрьевна; но в эту самую минуту судьба как бы хотела смирить ее гордость и показать ей, что это вовсе не ее исключительно дело и что она в нем далеко не полновластна и всемогуща.
Вошел лакей и подал ей пакет.
– Казенный-с! – проговорил он каким-то мрачным голосом.
Анна Юрьевна, взглянув на адрес, изменилась немного в лице и проворными руками распечатала письмо. Оно было, как и ожидала она, об Елене.
«Милостивая государыня Анна Юрьевна! – писалось к ней. – Глубоко ценя ваши просвещенные труды и заботы о воспитании русских недостаточного состояния девиц, я тем более спешу сообщить вам, что начальница покровительствуемого вами училища, девица Жиглинская, по дошедшим о ней сведениям, самого вредного направления и даже предосудительного, в смысле нравственности, поведения, чему явным доказательством может служить ее настоящее печальное состояние. Будучи уверен, что в этом послаблении вами руководствовала единственно ваша доброта, я вместе с тем покорнейше просил бы вас сделать немедленное распоряжение об удалении сказанной девицы от занимаемой ею должности».
Дочитав письмо, Анна Юрьевна сейчас же передала его барону, который тоже прочел его и, грустно усмехнувшись, покачал головой.
– Печальная вещь, но которой, впрочем, надобно было ожидать, – проговорил он.
– De la part des fous on peut s'attendre de tout![107] – произнесла Анна Юрьевна.
Барон на это ей ничего не сказал.
– Что же вы, однако, намерены делать? – спросил он ее потом, помолчав немного.
– Я сама не знаю!.. Должна буду удалить ее; но я и сама после этого выйду!.. Дайте мне перо и бумаги, я сейчас же это и сделаю.
Барон пододвинул то и другое Анне Юрьевне. Она села и написала:
«По письму вашему я сделаю распоряжение и велю бедной девушке подать в отставку. Какое неприятное чувство во мне поселяет необходимость повиноваться вам, вы сами можете судить, а потому, чтобы не подвергать себя другой раз подобной неприятности, я прошу и меня также уволить от должности: трудиться в таком духе для общества, в каком вы желаете, я не могу. Письмо мое, по принятому обычаю, я хотела было заключить, что остаюсь с моим уважением, но никак не решаюсь написать этих слов, потому что они были бы очень неискренни».
– Позвольте!.. Позвольте!.. – воскликнул барон, все время стоявший за плечом у Анны Юрьевны и смотревший, что она пишет. – Так писать нельзя, что вы в конце приписываете.
– Отчего же нельзя? – спросила настойчиво и капризно Анна Юрьевна.
– Оттого что вас под суд отдадут за подобное письмо. Разве можно в полуофициальном письме написать, что вы кого бы то ни было не уважаете!
– Ну, что ж из того, что отдадут под суд?.. Пускай отдадут: с меня взять нечего – я женщина.
– Это все равно; вас все-таки будут таскать в суд к ответам и потом посадят, может быть, на несколько времени в тюрьму.
Последнего Анна Юрьевна немножко испугалась.
– Позвольте, я вам продиктую, – подхватил барон, заметив несколько испуганное ее настроение, – все, что вы желаете выразить, я скажу и только соблюду некоторое приличие.
– Ну, диктуйте, – согласилась Анна Юрьевна, садясь снова за письмо.
Барон ей продиктовал:
«Получив ваше почтеннейшее письмо, я не премину предложить бедной девушке выйти в отставку, хоть в то же время смею вас заверить, что она более несчастное существо, чем порочное. Усматривая из настоящего случая, до какой степени я иначе понимала мою обязанность против того, как вы, вероятно, ожидали, я, к великому моему сожалению, должна просить вас об увольнении меня от настоящей должности, потому что, поступая так, как вы того желаете, я буду насиловать мою совесть, а действуя по собственному пониманию, конечно, буду не угодна вам».
– Вот видите, – заключил барон, кончив диктовать письмо, – вышло ядом пропитано, но придраться не к чему.
– Никакого тут яду нет. Не так бы к этим господам следовало писать! – возразила Анна Юрьевна с неудовольствием, однако написанное прежде ею письмо изорвала, а продиктованное бароном запечатала и отправила. Барон вообще, день ото дня, все больше и больше начинал иметь на нее влияние, и это, по преимуществу, происходило оттого, что он казался Анне Юрьевне очень умным человеком.
– Ecoutez, mon cher![108] – обратилась она к нему после некоторого раздумья. – Князь Григоров не секретничает с вами об Елене?
– Нет, не секретничает, – отвечал барон.
– Съездите к нему, будьте так добры, и расскажите все это! – заключила Анна Юрьевна.
Барон сделал гримасу: ему очень не хотелось ехать к Григоровым, так как он предполагал, что они, вероятно, уже знали или, по крайней мере, подозревали об его отношениях к Анне Юрьевне, а потому он должен был казаться им весьма некрасивым в нравственном отношении, особенно княгине, которую барон так еще недавно уверял в своей неизменной любви; а с другой стороны, не угодить и Анне Юрьевне он считал как-то неудобным.
– Пожалуйста, – повторила между тем та.
Барон, нечего делать, поднялся и поехал, а через какой-нибудь час вернулся и привез даже с собой князя. Сей последний не очень, по-видимому, встревожился сообщенным ему известием, что отчасти происходило оттого, что все последнее время князь был хоть и не в веселом, но зато в каком-то спокойном и торжественном настроении духа: его каждоминутно занимала мысль, что скоро и очень скоро предстояло ему быть отцом. О, с каким восторгом и упоением он готов был принять эту новую для себя обязанность!..
– Я рад с своей стороны, что Елена не будет служить, – сказал он Анне Юрьевне.
– Но я зато не рада!.. – возразила она. – Тут они затронули меня!.. Я сама должна через это бросить мое место.
– И то отлично, что вы бросаете место!.. Разве в России можно служить? – подхватил князь.
– Я также нахожу, что отлично кинуть подобную должность, – подтвердил и барон.
Ему давно хотелось навести как-нибудь Анну Юрьевну на эту мысль с тем, чтобы удобнее было уговорить ее ехать сначала за границу, а потом и совсем поселиться в Петербурге.
Анна Юрьевна, однако, доводами своих кавалеров мало убедилась и оставалась рассерженною и взволнованною.
Князь после того поехал сказать Елене о постигшей ее участи и здесь встретил то, чего никак не ожидал: дверь ему, по обыкновению, отворила Марфуша, у которой на этот раз нос даже был распухшим от слез, а левая щека была вся в синяках.
– Дома Елена Николаевна? – спросил он ее.
– Нет-с, никак нет! – ответила Марфуша, едва удерживаясь от рыданий.
– Но где же она? – спросил с беспокойством князь.
– Они совсем от маменьки уехали-с.
– Как совсем уехала? Куда уехала?
– В гостиницу Роше какую-то!.. Дворник сейчас и платья ихние повез туда за ними.
Князь понять ничего не мог из всего этого.
– Что же она рассорилась, что ли, с матерью? – спросил он.
– Не знаю-с, – отвечала Марфуша, недоумевавшая, кажется, говорить ли ей правду или нет.
– А Елизавета Петровна где? – спросил князь.
– Они дома-с.
Как ни противно было князю каждый раз встречаться с Елизаветой Петровной, но на этот раз он сам назвался на то, чтобы узнать от нее, что такое случилось.
– Поди, доложи, примет ли она меня? – сказал он Марфуше.
Та пошла.
– Пожалуйте, просят-с, – сказала она, возвратясь к нему в переднюю.
Князь пошел.
Елизавета Петровна приняла князя у себя в спальне и лежа даже в постели. Лицо у нее тоже было заплаканное и дышавшее гневом.
– Что Елена-то Николаевна ваша наделала со мной!.. – произнесла она тотчас же, как князь вошел.
– Что такое? – спросил тот.
Елизавета Петровна злобно усмехнулась.
– Разгневаться изволила… Эта сквернавка, негодяйка Марфутка, – чесался у ней язык-то, – донесла ей, что управляющий ваш всего как-то раза два или три приходил ко мне на дачу и приносил от вас деньги, так зачем вот это, как я смела принимать их!.. И таких мне дерзостей наговорила, таких, что я во всю жизнь свою ни от кого не слыхала ничего подобного.
Князь слушал Елизавету Петровну с понуренной головой и с недовольным видом; ему, видимо, казалось все это вздором и бабьими дрязгами.
– И все это по милости какой-нибудь мерзкой девки, – продолжала между тем та, снова приходя в сильный гнев. – Ну, и досталось же ей!.. Досталось!.. Будет с нее…
Елизавета Петровна, в самом деле, перед тем только била и таскала Марфушу за волосы по всем почти комнатам, так что сама даже утомилась и бросилась после того на постель; а добродушная Марфуша полагала, что это так и быть должно, потому что очень считала себя виноватою, расстроив барыню с барышней своей болтовней.
– Что ж, Елена Николаевна совсем от вас уехала? – спросил князь Елизавету Петровну.
– Совсем!.. Говорит, что не хочет, чтобы я ею торговала. Я пуще подбивала ее на это… Жаль, видно, стало куска хлеба матери, и с чем теперь я осталась?.. Нищая совсем! Пока вот вы не стали помогать нам, дня по два сидели не евши в нетопленных комнатах, да еще жалованье ее тогда было у меня, а теперь что? Уж как милостыни буду просить у вас, не оставьте вы меня, несчастную!
Елизавета Петровна повернулась при этом на своей постели и спустила одну руку до самого пола, как бы представляя, что она кланяется до земли.
– Будете вы обеспечены, этим не тревожьтесь! – сказал ей тот с досадой и собираясь уйти.
– А нынешний-то месяц получу ли, что прежде получала? Он уж весь прошел!.. – проговорила Елизавета Петровна кротким голосом.
– Получите и за нынешний и за будущий, – отвечал ей князь, выходя в залу и явно презрительным тоном.
Сев в карету, он велел как можно проворнее везти себя в Роше-де-Канкаль. Елена взяла тот же нумер, где они обыкновенно всегда встречались. При входе князя она взмахнула только на него глазами, но не тронулась с своего места. За последнее время она очень похудела: под глазами у нее шли синие круги; румянец был какой-то неровный.
– Прекрасно, отлично со мной вы поступали! – говорила она, подавая, впрочем, князю руку, когда тот протянул свою.
– Что такое я поступал? – отвечал тот, смеясь.
– Ничего!.. Смешно это очень!.. – продолжала искренно сердитым голосом Елена. – Хоть бы словом, хоть бы звуком намекнул мне, что у них тут происходит: хороша откровенность между нами существует!
– В чем тут откровенности-то быть, – я даже не знаю!..
– Как вы не знаете? – воскликнула Елена. – Вы знали, я думаю, что я всю честь мою, все самолюбие мое ставила в том, чтобы питаться своими трудами и ни от кого не зависеть, и вдруг оказывается, что вы перешепнулись с милой маменькой моей, и я содержанкой являюсь, никак не больше, самой чистейшей содержанкой!
– Содержанкой, выдумала что!.. – произнес князь.
– Как же не содержанкой? Мать мне сама призналась, что она получала от вас несколько месяцев по триста рублей серебром каждый, и я надеюсь, что деньги эти вы давали ей за меня, и она, полагаю, знала, что это вы платите за меня!.. Как же вы оба смели не сказать мне о том?.. Я не вещь неодушевленная, которую можно нанимать и отдавать в наем, не спрашивая даже ее согласия!
– Я единственно не сказал тебе потому, что этого не желала мать твоя.
– А вы разве не знали, что за существо мать моя?.. Разве я скрывала от вас когда-нибудь ее милые качества? Но, может быть, вам ее взгляд на вещи больше нравится, чем мой; вам тоже, может быть, желалось бы не любить меня, а покупать только!..
– Я не покупал вас, а делился с вами тем, чего у меня избыток: вы сами собственность считаете почти злом, от которого каждому хорошо освободиться!
– Да-с, прекрасно!.. – возразила ему с запальчивостью Елена. – Это было бы очень хорошо, если бы вы весь ваш доход делили между бедными, и я с удовольствием бы взяла из них следующую мне часть; но быть в этом случае приятным исключением я не желаю, и тем более, что я нисколько не нуждалась в ваших деньгах: я имела свои средства!
– Но ваши средства были так ничтожны, что на них нельзя было существовать. Елизавета Петровна мне призналась, что до моей маленькой помощи вы не имели дров на что купить, обеда порядочного изготовить, и если вам не жаль себя и своего здоровья, так старуху вам в этом случае следует пощадить и сделать для нее жизнь несколько поспокойнее.
– Я нисколько не обязана эту старуху особенно успокоивать! – возразила Елена.
– Как не обязаны!.. Она вам мать! – воскликнул даже с удивлением князь.
– Что ж такое мать! – отвечала, в свою очередь, с запальчивостью Елена.
Князь пожал на это плечами.
– То, что в нас есть чисто инстинктивное и совершенно бессознательное чувство любви родителей к детям и детей к родителям! – возразил он ей.
– Да, родителей к детям – это так: и оно дано им природой в смысле поддержания рода, чтобы они берегли и лелеяли своих птенцов; дети же обыкновенно наоборот: как получат силы, в них сейчас является стремление улететь из родного гнезда. Конечно, есть родители, которые всех самих себя кладут в воспитание детей, в их будущее счастье, – те родители, разумеется, заслуживают благодарности от своих детей; но моей матери никак нельзя приписать этого: в детстве меня гораздо больше любил отец, потом меня веселил и наряжал совершенно посторонний человек, и, наконец, воспитало и поучало благотворительное заведение.
С каждым словом Елены князь становился все мрачнее и мрачнее. Он совершенно соглашался, что она говорит правду, но все-таки ему тяжело было ее слушать.
– Вы, может быть, действительно, – начал он, не поднимая глаз на Елену, – имеете некоторое право не заботиться очень много о вашей матери, но вы теперь должны уже подумать о самой себе: вам самим будет не на что существовать!
– Почему же мне не на что будет существовать? Я жалованье имею.
– То есть имели!.. Вот прочтите эту бумагу, которую прислали о вас Анне Юрьевне, – проговорил князь и подал полученное Анной Юрьевной письмо, которое он, уезжая от нее, захватил с собой.
Прочитав письмо, Елена страшно изменилась в лице. Князь никак не ожидал даже, чтобы это так сильно ее поразило.
– Что ж, разве Анна Юрьевна и выгонит меня по этому письму? – спросила она с раздувшимися ноздрями и дрожащим немного голосом.
– Анне Юрьевне делать больше нечего, она не может не послушать данного ей приказания, – отвечал неторопливо князь.
– Нет, этого нельзя!.. Этого не должно быть!.. – возразила Елена. – Вы, князь, извольте хлопотать как угодно!.. Поднимите все ваши аристократические связи и отстойте меня!..
– Весьма рад бы был, – сказал тот, – но тут ничего не поделаешь; вы прочтите, кем подписано письмо: этих господ никакими связями не пересилишь!
– Поэтому я так и погибать должна? – спросила Елена.
– Но зачем же погибать, друг мой милый? Вдумайтесь вы хорошенько и поспокойней в ваше положение, – начал князь сколь возможно убедительным голосом. – На что вам служба?.. Зачем она вам?.. Неужели я по своим чувствам и по своим средствам, наконец, – у меня ведь, Елена, больше семидесяти тысяч годового дохода, – неужели я не могу обеспечить вас и вашу матушку?
– Я не хочу моей матери обеспечивать, – понимаете вы?.. Я еще давеча сказала, что ей довольно мною торговать! Если вы хотите ей помогать, так лично для нее, но никак не для меня!.. Чтоб и имени моего тут не было!
– Прекрасно: я ей буду помогать лично для нее; но как же вы-то, чем будете жить? Позволите вы мне вам предложить что-нибудь для вашего существования?
– Теперь, конечно, давайте! Не с голоду же умирать! – отвечала Елена, пожимая плечами. – Не думала я так повести жизнь, – продолжала она почти отчаянным голосом, – и вы, по крайней мере, – отнеслась она к князю, – поменьше мне давайте!.. Наймите мне самую скромную квартиру – хоть этим отличиться немного от содержанки!
– Вы помешаны, Елена, ей-богу, помешаны! – сказал князь.
– Ну да, разумеется, помешанная: думала всю жизнь сама собой просуществовать, а судьба-то и пристукнула: «Врешь!.. Помни, что ты женщина! А негодяи-мужчины давным-давно и всюду отняли у вас эту возможность!..»
Князь ничего ей не возражал: его по преимуществу беспокоило то, что Елена, в ее положении, волнуется и тревожится.
– Если я умру теперь, что весьма возможно, – продолжала она, – то знайте, что я унесла с собой одно неудовлетворенное чувство, про которое еще Кочубей[109] у Пушкина сказал: «Есть третий клад – святая месть, ее готовлюсь к богу снесть!» Меня вот в этом письме, – говорила Елена, указывая на письмо к Анне Юрьевне, – укоряют в вредном направлении; но, каково бы ни было мое направление, худо ли, хорошо ли оно, я говорила о нем всегда только с людьми, которые и без меня так же думали, как я думаю; значит, я не пропагандировала моих убеждений! Напротив того, в этой дурацкой школе глупых девчонок заставляла всегда твердейшим образом учить катехизис и разные священные истории, внушала им страх и уважение ко всевозможным начальническим физиономиям; но меня все-таки выгнали, вышвырнули из службы, а потому теперь уж извините: никакого другого чувства у меня не будет к моей родине, кроме ненависти. Впрочем, я и по рождению больше полячка, чем русская, и за все, что теперь будет клониться к погибели и злу вашей дорогой России, я буду хвататься, как за драгоценность, как за аромат какой-нибудь.
Князь продолжал оставаться нахмуренным.
– Странная логика! – продолжал он. – Вам один какой-то господин сделал зло, а вы начинаете питать ненависть ко всей стране.
– Не один этот господин, а вся страна такая, от малого и до большого, от мужика и до министра!.. И вы сами точно такой же!.. И это чувство я передам с молоком ребенку моему; пусть оно и его одушевляет и дает ему энергию действовать в продолжение всей его жизни.
– Но, прежде чем передавать ему такие убеждения, – возразил князь, видя, что Елена все больше и больше выходит из себя, – вам надобно позаботиться, чтобы здоровым родить его, а потому успокойтесь и не думайте о той неприятности, которую я имел глупость передать вам.
– Ах, да, действительно, – воскликнула Елена грустно-насмешливым голосом, – женщина прежде всего должна думать, что она самка и что первая ее обязанность – родить здоровых детей, здоровой грудью кормить их, потом снова беременеть и снова кормить: обязанность приятная, нечего сказать!
– Зато самая естественная, непридуманная, – сказал князь.
– Конечно, конечно!.. – соглашалась Елена тем же насмешливым тоном. – Неприятно в этом случае для женщин только то, что так как эти занятия самки им не дают времени заняться ничем другим, так мужчины и говорят им: «Ты, матушка, шагу без нас не смеешь сделать, а не то сейчас умрешь с голоду со всеми детенышами твоими!»
– Но что же делать с тем, что женщины, а не мужчины родят, – это уж закон природы, его же не прейдеши! – сказал князь, смеясь.
– Нет, прейдем, прейдем, – извините! – повторяла настойчиво Елена.
– Но как и чем? – спросил князь.
– А тем, что родим ребенка, да и отдадим его в общину!
– И вы в состоянии были бы теперь вашего ребенка отдать в общину?
– Отчего же не отдать?.. Не знаю, что я потом к нему буду чувствовать, но, судя по теперешним моим чувствам, кажется, отдала бы… – отвечала Елена, но как-то уже не таким решительным тоном.
– Нет, не отдали бы! – возразил ей князь и вскоре потом ушел от нее.
Всю дорогу он прошел пешком и был точно ошеломленный. Последний разговор его с Еленой не то что был для него какой-нибудь неожиданностью, – он и прежде еще того хорошо знал, что Елена таким образом думает, наконец, сам почти так же думал, – но все-таки мнения ее как-то выворачивали у него всю душу, и при этом ему невольно представлялась княгиня, как совершенная противуположность Елене: та обыкновенно каждую неделю писала родителям длиннейшие и почтительные письма и каждое почти воскресенье одевалась в одно из лучших платьев своих и ехала в церковь слушать проповедь; все это, пожалуй, было ему немножко смешно видеть, но вместе с тем и отрадно.
V
Миклаков, несмотря на то, что условился с княгиней играть в карты, не бывал, однако, у Григоровых в продолжение всего того времени, пока они жили на даче. Причина, его останавливавшая в этом случае, была очень проста: он находил, что у него нет приличного платья на то, чтобы явиться к княгине, и все это время занят был изготовлением себе нового туалета; недели три, по крайней мере, у него ушло на то, что он обдумывал, как и где бы ему добыть на сей предмет денег, так как жалованья он всего только получал сто рублей в месяц, которые проживал до последней копейки; оставалось поэтому одно средство: заказать себе у какого-нибудь известного портного платье в долг; но Миклаков никогда и ни у кого ничего не занимал. По нескольку раз в день он подходил к некоторым богатым магазинам портных, всходил даже до половины лестницы к ним и снова ворочался. Наконец, раз, выпив предварительно в Московском трактире рюмки три водки, он решился и вошел в магазин некоего господина Майера. Подмастерье с жидовскою физиономиею встретил его.
– Могу я видеть господина хозяина? – спросил Миклаков, краснея немного в лице.
– Господина хозяина?.. – переспросил его с некоторым недоуменьем подмастерье.
– Да… Я желал бы с ним переговорить об одной вещи, – сказал, как-то неловко и сильно конфузясь, Миклаков.
– Ваша фамилия? – спросил подмастерье опять тем же тоном недоумения.
– Он меня не знает: это все равно, скажу ли я мою фамилию или нет, – говорил Миклаков, окончательно сконфузясь.
Подмастерье некоторое время недоумевал; он вряд ли не начинал подозревать в Миклакове мошенника, который хочет выслать его из комнаты, а сам в это время и стянет что-нибудь.
– Генрих! – крикнул он, наконец, как бы придумав нечто.
На этот зов из соседней комнаты выскочил молодой человек в самомоднейших узких штанах и тоже с жидовскою физиономией.
– Попросите сюда Адольфа Иваныча! – сказал ему подмастерье.
– А!.. Адольфа Иваныча! – крикнул юный Генрих и опять ускочил в соседнюю комнату.
Через несколько времени после того показался и сам Адольф Иваныч, уже растолстевший и краснощекий жид, с довольнейшей физиономией и с какими-то масляными губами: он сейчас только изволил завтракать и был еще даже с салфеткой в руках.
– Вас спрашивает вот этот господин! – сказал ему подмастерье, указывая рукой на Миклакова.
Адольф Иваныч подошел к тому и несколько вопросительно склонил голову.
Миклаков начал, немножко запинаясь, и был при этом не то что уж красный, а какой-то багровый.
– Я вот видите-с… служу бухгалтером… жалованье получаю порядочное… и просил бы вас… сделать мне в долг… за поручительством, разумеется, казначея нашего… в долг платье… с рассрочкой на полгода, что ли!..
– Платье?.. В долг?.. – повторил Адольф Иваныч и неторопливо обтер себе при этом рот салфеткой. – Ваша фамилия? – прибавил он затем как бы несколько строгим голосом.
– Фамилия моя не княжеская и не графская, а просто Миклаков! – отвечал тот, в свою очередь, тоже резко.
Адольф Иваныч открыл при этом широко глаза.
– Господин Миклаков, автор таких прекрасных рассуждений? – произнес он с уважением и с удивлением.
– Тот самый-с! – отвечал Миклаков, сильно этим ободренный.
– Но скажите, отчего же вы не пишете теперь? – спрашивал его Адольф Иваныч.
– Да так!.. Как-то разошелся со всеми господами журналистами.
– Жаль!.. Очень жаль!.. Я еще в молодости читал ваши сочинения и увлекался ими: действительно, в России очень многое дурно, и всем, кто умеет писать, надобно-с писать, потому что во всех сословиях начинают уже желать читать! Все хотят хоть сколько-нибудь просветиться!.. Какое же вам платье угодно иметь, почтеннейший господин Миклаков? – заключил Адольф Иваныч с какой-то почти нежностью.
– Да я и не знаю… – отвечал тот, пришедший, в свою очередь, тоже в какое-то умилительное состояние, – фрачную пару, что ли, сюртук потом… Пальто… брюки какие-нибудь цветные.
– Прекрасно-с!.. Бесподобно!.. – повторял за ним Адольф Иваныч. – Снимите мерку!.. – присовокупил он подмастерью, который, с заметным уже уважением к Миклакову, стал исполнять это приказание.
– Мне бы, знаете, и белье надобно было сделать, – говорил Миклаков, вытягивая, по требованью подмастерья, то руку, то ногу. – Нет ли у вас знакомой мастерицы, которая бы мне совершила это в долг?
– Да мы же вам и сделаем, – что вам хлопотать!.. Отлично сделаем!.. – воскликнул Адольф Иваныч, и подмастерье, не ожидая от хозяина дальнейших приказаний, снял с Миклакова также мерку и для белья.
– Нужно-с в России просвещение, нужно-с!.. – толковал между тем Адольф Иваныч.
– А что будет стоить все мое платье и белье? – спросил Миклаков, гораздо более занятый своим туалетом, чем просвещением в России.
– Счет!.. – крикнул Адольф Иваныч подмастерью.
Тот сейчас же написал его и подал Миклакову, у которого, по прочтении этого счета, все лицо вытянулось: платья и белья вышло на шестьсот рублей, значит, ровно на половину его годичного жалованья.
– Немножко дорого!.. – проговорил он негромким голосом.
– Дорого-с, очень дорого!.. – согласился и Адольф Иваныч, но уступить, кажется, не намерен был ни копейки.
Миклаков, делать нечего, решился покориться необходимости, хотя очень хорошо понимал, что потом ему не на что будет купить никакой книжки, ни подписаться в библиотеке, и даже он лишится возможности выпивать каждодневно сквернейшего, но в то же время любимейшего им, по привычке, вина лисабонского, или, как он выражался, побеседовать вечерком с доброй Лизой.
– Прикажете доставить вам удостоверение от казначея?.. – проговорил он Адольфу Иванычу.
– Ни, ни, ни!.. Не нужно-с! Я господину Миклакову верю гораздо более, чем всем на свете казначеям.
– Ну, благодарю!.. – сказал Миклаков, протягивая Адольфу Иванычу руку, которую тот с чувством и дружески пожал, и когда, наконец, Миклаков совсем пошел из магазина, он нагнал его на лестнице и почти на ухо шепнул ему:
– У меня брат вот приехал из-за границы!.. Я сейчас с ним и завтракал!.. Друг задушевный Герцена был!.. Все замыслы его знал.
– Вот как!.. – произнес Миклаков, чтобы что-нибудь сказать в ответ.
– Да!.. Да!.. – повторил Адольф Иваныч с важностью. – И он тоже совершенно со мной согласен, что в России нужней всего просвещение. Русский работник, например, мужик русский – он не глуп, нет!.. Он не просвещен!.. Он только думает, что если праздник, так он непременно должен быть пьян, а будь он просвещен, он знал бы, что праздник не для того, а чтобы человек отдохнул, – согласны вы с этим?
– Конечно!.. – согласился Миклаков. – Итак, до свиданья, monsieur Майер! – прибавил он затем поспешно.
– До свиданья, до свиданья! – сказал ему тот самым радушнейшим образом.
Как ни велико оказал одолжение почтенный господин Майер Миклакову, но тот, выйдя от него, сейчас же разразился почти ругательством.
– Скверно-с, скверно не иметь денег, – говорил он, пробираясь домой. – Всякий лавочник, всякий торгаш будет вам нести чушь, и вы ему должны улыбаться, потому что он меценат ваш!
Но как бы ни было, однако, магазин Адольфа Иваныча с этого дня сделался предметом самого тщательного внимания для Миклакова: он чуть не каждый день заходил узнавать, что не нужно ли что-нибудь примерить на нем, и когда, наконец, ему изготовлены были сюртучная пара и несколько сорочек, то он немедля все это забрал и как бы с сокровищем каким проворно пошел домой. Здесь он прежде всего написал княгине записку: «По разного рода делам моим, я не мог до сего времени быть у вас; но если вы позволите мне сегодняшний день явиться к вам в качестве вашего партнера, то я исполнил бы это с величайшим удовольствием».
Снести это послание Миклаков нарочно нанял мальчика из соседней мелочной лавочки, который невдолге принес и ответ ему.
«Я рада буду вас видеть и сегодня целый день дома», – писала ему княгиня.
Такое позволение, как видно, очень обрадовало Миклакова; он несколько раз и с улыбкою на губах перечитал письмецо княгини и часов с семи принялся одеваться: надев прежде всего белую крахмальную рубашку, он почувствовал какую-то свежесть во всем теле; новый черный сюртучок, благодаря шелковой подкладке в рукавах, необыкновенно свободно шмыгнул у него по рукам; даже самая грудь его, одетая уже не в грязную цветную жилетку, а в черную, изящно отороченную ленточкой, стала как бы дышать большим благородством; словом, в этом костюме Миклаков помолодел по крайней мере лет на десять. Взяв в руки свое старое пальто и свернув немного набок круглую шляпу, он весело и напевая даже песенку, пошел шагать по улицам московским. У Григоровых в этот день, как нарочно, произошел целый ряд маленьких событий, которые, тем не менее, имели влияние на судьбу описываемых мною лиц. Началось с того, что с самого раннего утра к ним явилась г-жа Петицкая. Княгиня на этот раз была более обыкновенного в откровенном настроении духа и, между прочим, рассказала своей приятельнице, что у ней с мужем чисто одни только дружественные отношения.
– Но как же это так, как так? – воскликнула г-жа Петицкая, исполненная удивления.
– Но разве между нами могут существовать другие отношения? – возразила ей, с своей стороны, княгиня.
– Почему ж не могут? – спросила г-жа Петицкая голосом невиннейшего младенца.
– Потому что он любит другую женщину, – отвечала княгиня спокойно и с достоинством.
– Ах, так вы это знаете? – воскликнула г-жа Петицкая опять-таки детски-невинным голосом.
– Он мне сам давно сказал об этом! – отвечала княгиня с прежним достоинством.
Г-жа Петицкая решительно не знала, как и держать себя: начать ли бранить князя или нет? Она, впрочем, слишком не любила его, чтобы удержаться при подобном случае.
– Все это очень хорошо!.. – начала она, как-то скосив на сторону весь свой рот. – Но тут я только одного не могу понять: каким образом молоденькую, хорошенькую жену променять на подобную цыганку, потому что mademoiselle Жиглинская, по-моему, решительно цыганка!
– Это уж его вам надобно спросить, а не меня! – отвечала ей с горькой усмешкой княгиня.
Разговор этот их был прерван полученным письмом от Миклакова, прочитав которое, княгиня сейчас же написала на него ответ и обо всем этом тоже не сочла за нужное скрывать от г-жи Петицкой.
– А у меня сегодня вечером гость будет! – сказала она ей.
– Кто такой? – спросила г-жа Петицкая с любопытством.
– Миклаков! – отвечала княгиня.
– Ну, неинтересен!..
– Но он очень умен, говорят!
– Не думаю!.. Что пьяница – это я слышала; но об уме его что-то никто не говорит!..
– Нет, он очень, говорят, умен! – повторила еще раз княгиня.
В это время вошел лакей и доложил:
– Николай Гаврилыч Оглоблин!
Княгиня сделала при этом недовольную мину.
M-r Оглоблин приходился тоже кузеном и князю Григорову, который, впрочем, так строго и сурово обращался с ним, что m-r Николя почти не осмеливался бывать у Григоровых; но, услышав последнее время в доме у отца разговор об Елене, где, между прочим, пояснено было, что она любовница князя, и узнав потом, что ее выгнали даже за это из службы, Николя воспылал нестерпимым желанием, что бы там после с ним ни было, рассказать обо всем этом княгине.
Подъехав к дому Григоровых, он не совсем был уверен, что его примут, и его действительно не приняли бы, но за него заступилась г-жа Петицкая.
– Примите его, душенька! – воскликнула она. – Я так много слышала об этом господине.
Княгиня послушалась ее и велела впустить Николя.
Тот влетел расфранченный и блистающий удовольствием.
– Анну-то Юрьевну… – начал он отшлепывать сию же минуту своими толстыми губищами, – выгнали из службы!
– Как выгнали? – спросила княгиня почти испуганным голосом.
Г-жа Петицкая свои, по обыкновению, опущенные в землю глаза при этом приподняла и уставила на Оглоблина.
– Выгнали! – повторил Николя почему-то с необыкновенным удовольствием. – Там у ней начальница училища была какая-то Жиглинская… Она девушка, а очутилась в положении дамы, а Анна Юрьевна все заступалась за нее, – их обеих и вытурили! Ха-ха-ха!
– Вот как, и Елену вытурили? – спросила г-жа Петицкая как бы больше княгиню.
– Не знаю, я не слыхала этого, – отвечала та с некоторым сомнением.
– Вытурили обеих!.. Это головой моей парирую, что верно!.. – выбивал язычищем своим Николя. – К нам приезжал Яков Семеныч Перков – вы знаете Перкова?
– Да, немножко!.. – отвечала княгиня.
– Он этакий святоша… жития архиереев все описывает, и говорит моей maman: «Анне Юрьевне, – говорит, – можно быть начальницей женских заведений только в Японии[110], а не в христианском государстве».
– Почему же в Японии? – спросила княгиня невинным голосом.
– Неужели вы не понимаете? – воскликнул Николя.
– Нет! – отвечала княгиня, смотря на него по-прежнему с недоумением.
– Et vous aussi[111]?.. – отнесся Николя к Петицкой.
– Я немножко!.. – отвечала та, слегка краснея: когда что касалось до каких-нибудь знаний, то г-жа Петицкая, несмотря на свою скромность, всегда признавалась, что она все знает и все понимает.
– Там девушек учат не в пансионах, а в других местах!.. – пояснил Николя и залился снова смехом.
Но княгиня, кажется, и тут ничего не поняла.
Г-жа же Петицкая, задержав при этом, по обыкновению, дыхание, окончательно покраснела.
– Яков Семеныч, по-моему, совершенно справедливо говорит, – отшлепывал Николя, побрызгивая слюнями во все стороны. – Девушка эта сделалась в известном положении: значит, она грешна против седьмой заповеди[112], – так?
На вопрос этот обе дамы ему не отвечали.
– Значит, ее надобно наказать!.. Предать покаянию, заключить в монастырь…
– Монастырей недостало бы, если бы всех за это так наказывали, – сказала княгиня, слегка усмехаясь.
– Нет, мало что недостало бы!.. Тогда хуже бы вышло: стали бы скрывать это и убивать своих детей! – проговорила г-жа Петицкая.
– Сделайте милость: пусть убивают, а их за это на каторгу будут ссылать! – расхорохорился Николя.
– Но почему же вы так строго судите?.. Это почему? – отнеслась к нему г-жа Петицкая. – Неужели вы сами совершенно безгрешны?
– О, я совершенно безгрешен! – отвечал Николя и самодовольным образом захохотал во все горло.
– Вы?.. Вы?.. – воскликнула г-жа Петицкая с каким-то особенным ударением и устремляя на Николя проницательный взгляд.
– Да, я! – отвечал, продолжая смеяться, Николя.
– Ну, я имею причины думать совсем другое! – возразила г-жа Петицкая.
– Вы имеете? – спросил Николя. – Ах, это очень интересно! – воскликнул он и пересел рядом с г-жою Петицкой.
Та при этом подобрала немножко платье с той стороны, с которой он сел, и даже вся поотодвинулась от него несколько: она опасалась, чтобы Николя, разговаривая с ней, не забрызгал ее слюнями.
– Что такое вы имеете, что такое? – начал он приставать к ней, наклоняясь почти к самому уху ее.
Г-жа Петицкая, в самом деле, знала про Николя кой-какие подробности: года три тому назад она жила на даче в парке, на одном дворе с француженкой m-lle Пижон, тайною страстью m-r Оглоблина, и при этом слышала, что он очень много тратит на нее денег. Кроме того, г-жа Петицкая из своего верхнего окна очень хорошо могла смотреть в окна к m-lle Пижон, – у г-жи Петицкой была почти страсть заглядывать в чужие окна!.. При этом она видела, как Николя, для потехи m-lle Пижон, плясал в одном белье, как иногда стоял перед ней на коленях, и при этом она била его по щекам; как в некоторые ночи он являлся довольно поздно, но в комнаты впускаем не был, а, постояв только в сенях, уезжал обратно.
– Наконец, это неблагородно! – воскликнул Николя. – Произнести человеку обвинение и не сказать, в чем оно состоит!..
Николя думал, что это он сказал очень умную, а главное – чрезвычайно современную фразу.
– А, так вы хотите, чтобы я назвала вам вашу тайну? – проговорила г-жа Петицкая немножко как бы и устрашающим голосом.
– Хочу, скажите! – отвечал ей на это смело Николя.
– Извольте, я вам напомню: парк, Лазовский переулок, третья дача на левой стороне.
– А!.. Ха-ха-ха! – захохотал Николя.
– Так вы, значит, смеетесь теперь тому, что там происходило? – спросила его г-жа Петицкая.
– Ха-ха-ха! – продолжал хохотать Николя. – Но как вы это знаете?.. Вот что удивительно.
– Я все знаю! Все знаю! – говорила г-жа Петицкая знаменательно.
– И когда-нибудь мне это скажете? – говорил Николя с разгоревшимися глазами.
– Не знаю, увижу, как вы еще будете стоить того!.. – отвечала Петицкая.
Николя, по преимуществу, доволен был тем, что молодая и недурная собой женщина заговорила с ним о любви; дамам его круга он до того казался гадок, что те обыкновенно намеку себе не позволяли ему сделать на это; но г-жа Петицкая в этом случае, видно, была менее их брезглива.
– Но где же я с вами буду встречаться? – присовокупил Николя вполголоса.
– Да приезжайте хоть сюда ужо вечером!.. Здесь будут кое-кто! – отвечала ему г-жа Петицкая тоже вполголоса.
– А княгиня ничего?.. Примет? Впрочем, я и без доклада войду!.. А вы будете? – говорил Николя.
– Буду непременно!
Николя после этого поднялся с своего места.
– Adieu, кузина! – проговорил он, обращаясь к княгине.
– Adieu! – отвечала ему та, как бы очень занятая своей работой и не подняв даже глаз на него.
Николя уехал.
Князь последнее время видался с женой только во время обеда, и когда они на этот раз сошлись и сели за стол, то княгиня и ему тоже объявила:
– А у меня сегодня будет твой приятель Миклаков.
– И отлично!.. Он славный господин! – произнес князь.
– Но только я ужасно его боюсь: он насмешник, должно быть, большой! – сказала княгиня.
– И насмешник не то что этакий веселый, а ядовитый! – подхватила г-жа Петицкая, неизвестно за что почти ненавидевшая Миклакова.
– Не свои ли вы качества приписываете ему? – сказал ей на это князь, начавший последнее время, в свою очередь, тоже почти ненавидеть г-жу Петицкую.
Та при этом очень сконфузилась, покраснела и разобиделась.
– Благодарю покорно за подобное мнение обо мне! – проговорила она.
– Почему ж оно для вас обидно?.. Ядовитость не такое дурное качество, которого бы люди могли стыдиться! – возразил ей князь.
– Да, но все-таки… – произнесла г-жа Петицкая и не докончила своей мысли.
– Все-таки подобных вещей не говорят в глаза! – пояснила за нее княгиня.
Князь ответил на это небольшой гримасой и совершенно отвернулся от г-жи Петицкой.
– Миклаков вот какой человек, – заговорил он потом, явно обращаясь к одной только жене. – В молодости он обещал быть ученым, готовился быть оставленным при университете; но, на беду великую, в одном барском доме, где давал уроки, он встретил дочь – девушку смазливую и неглупую… Он влюбился в нее по уши; она отвечала ему тем же, давала ему даже тайные свидания в саду, а когда время приспело, так и вышла замуж за кого ей приличнее и нужнее было! Бедный Миклаков все тут потерял – всякое сердечное спокойствие, веру в людей, всю свою университетскую карьеру и, наконец, способность заниматься, потому что с ума сошел!
– Как с ума сошел?.. Не может быть! – воскликнули в один голос княгиня и Петицкая.
– Так, сошел! – повторил князь. – А потому человек, которого постигали в жизни подобные события, вряд ли способен к одной только ядовитости; а что он теперь обозлился на весь божий мир, так имеет на то полное нравственное право!
Всю эту историю любви Миклакова князь узнал от Елены, от которой тот не скрывал ее. Сам же Миклаков никогда прямо не говорил об том князю.
– Вот никак бы не предполагала, что Миклаков может влюбиться до такой степени, – проговорила княгиня.
– И я тоже! – подхватила г-жа Петицкая.
– Мало ли кто чего не предполагает, и женщины вообще очень дурно понимают мужчин! – возразил князь.
– Точно так же, как и мужчины! – сказала ему на это г-жа Петицкая.
Но князь на это ее замечание не ответил ни словом и по-прежнему сидел, отвернувшись от нее. Между тем рассказ его о Миклакове перевернул в голове княгини совершенно понятие о сем последнем; она все после обеда продумала, что какую прекрасную душу он должен иметь, если способен был влюбиться до такой степени, и когда, наконец, вечером Миклаков пришел, она встретила его очень дружественно и, по свойственной женщинам наблюдательности, сейчас же заметила, что он одет был почти франтом. Княгине это было приятно: предчувствие говорило ей, что так щегольски Миклаков оделся для нее. Вскоре затем в зале раздались новые шаги: княгиня думала, что это князь, но в гостиную явился Николя Оглоблин. На лице княгини явно выразилось удивление, а г-жа Петицкая при его появлении немного потупилась. Николя заметил, кажется, не совсем приятное выражение на лице хозяйки.
– А я вам давеча, кузина, – начал он, – забыл сказать, что у отца скоро будет бал!.. Не забудьте об этом и позаботьтесь о вашем туалете: я нарочно заехал вам сказать о том.
Прием этот Николя употреблял во всех домах, куда приезжал неприглашенный.
– Не знаю, я вряд ли буду у вас на бале, – отвечала ему довольно сухо княгиня.
– Ну нет, приезжайте! – воскликнул Николя и поспешил затем усесться рядом с г-жою Петицкой.
Княгиня же обратилась к Миклакову:
– Вы желаете играть в карты?
– Если вам угодно! – отвечал тот.
Княгиня повела его в совершенно особое отделение гостиной, за трельяжем, увитым плющом и цветами, и где заранее были приготовлены стол, карты и свечи. Здесь они уселись играть. Миклаков вначале сильно потрухивал проиграть, потому что у него в кармане было всего только три рубля серебром; но, сыграв несколько игр, совершенно успокоился: княгиня играла как новорожденный младенец и даже, по-видимому, нисколько не хлопотала играть получше. Ее главным образом мучило желание заговорить с Миклаковым поскорее об его несчастной любви и сумасшествии.
– Скажите, – начала она, сильно конфузясь и краснея, – мне муж про вас говорил… только вы, пожалуйста, не рассердитесь!.. Я, конечно, глупо делаю, что спрашиваю вас, но мне ужасно любопытно: правда ли?.. Но нет, прежде вы лучше скажите мне, что не рассердитесь на меня.
– Никогда и ни за что не рассержусь, – отвечал ей Миклаков. – Разве на ангела можно сердиться? – прибавил он, тасуя несколько дрожащими руками карты.
– На ангела!.. – повторила княгиня еще более смущенным голосом. – Мне муж говорил, что вы раз сходили с ума от несчастной любви!
Миклаков очень хорошо понял, что такая рекомендация в глазах княгини была для него недурна.
– Целый год был сумасшедший! – отвечал он ей просто и совершенно нерисующимся образом.
– Вот этак приятно быть любимой! – проговорила княгиня.
– Но неприятно так любить, – возразил ей с горькой усмешкой Миклаков.
– Еще бы! – подтвердила с участием княгиня.
Далее разговор на эту тему не продолжался. Миклаков стал молча играть в карты и только по временам иногда слегка вздыхал, и княгиня каждый раз уставляла на него при этом добрый взгляд; наконец, она, как бы собравшись со смелостью и ставя при этом огромнейший ремиз, спросила его тихим голосом:
– Где ж теперь эта особа?
– Она давно уж умерла, – отвечал ей Миклаков по-прежнему просто.
Княгине как будто бы приятно было это услышать.
К концу пульки она, проиграв рублей сорок, вспомнила вдруг:
– Ax, monsieur Миклаков, вы, может быть, ужинаете? – произнесла она.
– Ужинаю, если ужин есть, и не ужинаю, когда его нет!
– Он сейчас будет! – воскликнула княгиня и сама побежала хлопотать об ужине, который через полчаса и был готов.
М-r Оглоблин в продолжение всего вечера не отошел от г-жи Петицкой, так что ей даже посмеялась княгиня:
– Вы, кажется, нового обожателя себе приобрели?
– Кажется! – отвечала Петицкая с усмешкой и с маленькой гримасой.
За ужином Миклаков, по обыкновению, выпил довольно много, но говорить что-либо лишнее остерегся и был только, как показалось княгине, очень задумчив. При прощании он пожал у ней крепко руку.
– Благодарю вас за все, за все! – говорил он с ударением.
– Вы будете иногда приходить ко мне? – спросила на этот раз княгиня сама, смотря на него своим добрым взглядом.
– Как прикажете, хоть завтра же!
– Завтра приходите! – сказала ему княгиня.
– Хорошо! – отвечал Миклаков и ушел.
Николя, в свою очередь, предложил г-же Петицкой довезти ее до дому; они тоже, должно быть, постолковались между собой несколько и пустились в некоторые откровенности; Николя, например, узнал, что г-жа Петицкая – ни от кого не зависящая вдова; а она у него выпытала, что он с m-lle Пижон покончил все, потому будто бы, что она ему надоела; но в сущности m-lle Пижон его бросила и по этому поводу довольно откровенно говорила своим подругам, что подобного свинью нельзя к себе долго пускать, как бы он ни велики платил за то деньги. Затем г-жа Петицкая сделала Николя такой вопрос, что кого же он теперь любит? А он начал ее с божбой уверять, что никого!.. Но г-жа Петицкая этому, разумеется, не верила. Тогда Николя ей объяснил, что он, пожалуй, теперь принадлежит всем женщинам и ни одной в особенности, и этому г-жа Петицкая поверила. Поехав, дорогой Николя сам уж рассказал ей, что он имеет своего личного, независимого от отца, годового дохода двадцать тысяч; г-жа Петицкая перевела при этом как-то особенно дыхание. Когда, наконец, они подъехали к квартире г-жи Петицкой, Николя прямо спросил ее, что в какой день он может застать ее дома?..
– В воскресенье, понедельник, вторник, середу, четверг, пятницу и субботу! – отвечала ему скороговоркой г-жа Петицкая.
– А если я не застану вас в какой-нибудь день дома, что тогда с вами сделать? – сказал Николя, тоже, в свою очередь, желая сострить.
– Тогда на другой день приедете! – произнесла г-жа Петицкая, проворно соскакивая с саней и скрываясь за калиткою своего дома.
Все эти объяснения сильно взволновали Николя.
– Эка какая она – а? – говорил он, и толстые губищи его как-то отвисли у него при этом.
VI
Ссора с матерью сильно расстроила Елену, так что, по переезде на новую квартиру, которую князь нанял ей невдалеке от своего дома, она постоянно чувствовала себя не совсем здоровою, но скрывала это и не ложилась в постель; она, по преимуществу, опасалась того, чтобы Елизавета Петровна, узнав об ее болезни, не воспользовалась этим и не явилась к ней под тем предлогом, что ей никто не может запретить видеть больную дочь. Кроме того, Елена не хотела беспокоить и князя, который, она видела, ужасно тревожится грядущим для нее кризисом; она даже думала, чтобы этот кризис прошел секретно для него, и ему уже сказать тогда, когда все будет кончено. В одну ночь, однако, князь вдруг получил от Елены каким-то странным почерком написанную записку:
«Друг мой, поспеши ко мне, я умираю, спасите хоть ребенка».
Князь, едва надев на себя кое-что, бросился к ней. Он застал Елену, лежащую на постели, с посинелым лицом и закатившимися глазами. Довольно нестарая еще акушерка суетилась и хлопотала около нее.
– Ну, вот теперь мне легче будет умирать! – проговорила Елена, увидав князя и беря его за руку.
Вслед же за тем его отозвала акушерка.
– Пошлите поскорей за доктором!.. Я одна тут ничего не могу сделать! – проговорила она.
Князь опять побежал домой, сам разбудил кучера и послал его за знаменитым доктором; кучер возвратился и доложил, что знаменитый доктор у другой больной. Князь при этом известии вырвал у себя целую прядь волос из головы, послал еще за другим знаменитым доктором, но тот оказался сам больным. Князь был готов с ума сойти, тем более, что Елена почти с голосу на голос кричала. Он знал ее терпеливость и понимал, каковы должны быть ее страдания. Среди такого отчаяния он вдруг припомнил, как еще покойная мать его говорила ему, что ей в родах очень помог Елпидифор Мартыныч.
– Поезжай за Иллионским! – крикнул он стоявшему в дверях кучеру.
Тот поскакал за Иллионским.
Елпидифора Мартыныча разбудили и доложили ему, что его зовут от князя Григорова к г-же Жиглинской. Он уже слышал, что Елена больше не жила с матерью, и понял так, что это, вероятно, что-нибудь насчет родов с ней происходит. Первое его намерение было не ехать и оставить этих господ гордецов в беспомощном состоянии; но мысль, что этим он может возвратить себе практику в знатном доме Григоровых, превозмогла в нем это чувство.
Он поехал. Князь, увидав его, чуть не бросился ему на шею.
– Спасите, бога ради, несчастную! – воскликнул он.
– Я помочь только могу, а не спасти; спасти ее может один только бог! – отвечал ему наставническим голосом Елпидифор Мартыныч.
Войдя затем к больной, он начал ее довольно опытным образом исследовать; благодаря значительной силе в руках и большой смелости, Елпидифор Мартыныч, как акушер, был, пожалуй, недурной.
– Я ничего тут не вижу особенно опасного!.. – говорил он, продолжая мрачно смотреть на Елену.
– Может быть, младенец очень велик… – тихо и несмело ему заметила акушерка.
– Ну да, врите больше!.. – возразил ей Елпидифор Мартыныч и, взяв Елену за руку, стал у нее пульс щупать, наклонив при этом даже голову, как бы затем, чтобы лучше чувствовать биение артерии.
– Кроме слабости и упадка сил, решительно ничего нет! – продолжал он, как бы рассуждая сам с собой. Затем Елпидифор Мартыныч, отошед от Елены, осмотрел ее уже издали. – Ну, прежде всего надобно помолиться богу! – заключил он и начал молиться.
Акушерка, в подражение ему, тоже стала молиться.
Князь смотрел на всю эту сцену, стоя прислонившись к косяку и с каким-то бессмысленным выражением в лице. С Елпидифора Мартыныча между тем катился уже холодный пот, лицо у него было бледно, глаза горели какой-то решимостью.
– Потрудитесь, моя милая, теперь все, какие у вас есть, ковры и одеяла постлать на пол, чтоб сделать его помягче, – сказал он менее суровым голосом стоявшей в дверях горничной.
Та принялась исполнять его приказания. Елпидифор Мартыныч мрачно и внимательно смотрел на ее труды.
– Зачем вы все это делаете? – спросил его, наконец, князь, как бы пришедший несколько в себя.
– А вот затем, чтобы вы ушли отсюда!.. Ступайте!.. Ступайте!.. – сказал ему Елпидифор Мартыныч и почти вытолкнул князя за дверь, которую за ним затворил и сверх того еще и запер. Князь, очутившись в зале, стал, однако, с напряженным и каким-то трагическим вниманием прислушиваться к тому, что происходило за дверью.
– Ну-с, теперь все готово и отлично, – послышался ему голос Елпидифора Мартыныча. – Не угодно ли вам, милостивая государыня, привстать и пройтись немножко! – присовокупил он, видимо, относясь к Елене.
– Не могу!.. Не могу!.. – простонала было та на первых порах.
– Нет!.. Можете!.. Встаньте!.. Это необходимо, – к-ха! – говорил, кашлянув слегка, Елпидифор Мартыныч.
Когда Елена начала вставать, то к ней, должно быть, подошла на помощь акушерка, потому что Елпидифор Мартыныч явно, что на ту крикнул: «Не поддерживайте!.. Не ваше дело!..», – и после того он заговорил гораздо более ласковым тоном, обращаясь, конечно, к Елене: «Ну, вот так!.. Идите!.. Идите ко мне!»
Елена, вероятно, подходила к нему.
– К-ха! – кашлянул вдруг страшнейшим образом Елпидифор Мартыныч, а вместе с тем страшно вскрикнула и Елена.
Князь толкнулся было в дверь, но она не уступила его усилиям. Прошло несколько страшных, мучительных мгновений… Князь стоял, уткнувшись головою в дверь, у него все помутилось в голове и в глазах; только вдруг он затрепетал всем телом: ему послышался ясно плач ребенка… Князь опустился на стоявшее около него кресло; слезы, неведомо для него самого, потекли у него по щекам. «Боже, благодарю тебя!» – произнес он, вскидывая глаза к небу.
Долго ли просидел князь в таком положении, он сам того не знал, наконец, запертая дверь отворилась, и в ней показался Елпидифор Мартыныч.
– Ну что, благополучно? – спросил его трепещущим голосом князь и с еще более выступившими слезами на глазах.
– Всеотличнейшим манером!.. Сына-с вам подарила!.. – отвечал Елпидифор Мартыныч как бы веселым голосом, хоть холодный пот все еще продолжал у него выступать на лбу, так что он беспрестанно утирал его своим фуляровым платком.
Князь в радости своей не спросил даже Елпидифора Мартыныча, что такое, собственно, он сделал с Еленой, а между тем почтенный доктор совершил над нею довольно смелую и рискованную вещь: он, когда Елена подошла к нему, толкнул ее, что есть силы, в грудь, так что сна упала на пол, и тем поспособствовал ее природе!.. Способ этот Елпидифор Мартыныч заимствовал у одной деревенской повитухи, которая всякий раз и с большим успехом употребляла его, когда родильницы трудно рожали. Сам же Елпидифор Мартыныч употребил его всего только другой раз в жизни: раз в молодости над одной солдаткой в госпитале, так как о тех не очень заботились, – умирали ли они или оставались живыми, и теперь над Еленой: здесь очень уж ему хотелось блеснуть искусством в глазах ее и князя! Довольный и торжествующий, он сел в зале писать рецепт, а князь потихоньку, на цыпочках вошел в спальню, где увидел, что Елена лежала на постели, веки у ней были опущены, и сама она была бледна, как мертвая. Князь не осмелился даже подойти к ней и пробрался было в соседнюю комнату, чтобы взглянуть на сына; но и того ему акушерка на одно мгновение показала, так что он рассмотрел только красненький носик малютки. Князь после того, как бы не зная, чем себя занять, снова возвратился в залу и сел на прежнее свое место; он совершенно был какой-то растерянный: радость и ужас были написаны одновременно на лице его. Елпидифор Мартыныч, кончив писание рецепта, обратился к нему:
– Вот-с, извольте все это взять в аптеке и употреблять по назначению, а завтра часов в двенадцать я опять к вам заеду, – проговорил он, затем встал, отыскал свою шляпу и проворно пошел.
Князь тут только вспомнил, что надобно было заплатить Елпидифору Мартынычу, и поспешил его догнать.
– Благодарю вас, – говорил он, суя ему в руку пятьсот рублей сериями, которые случились у него в кармане.
– Не нужно-с! Не нужно! – ответил вдруг Елпидифор Мартыныч, кинув быстрый взгляд на деньги и отстраняя их своей рукой от себя. – Я не из корысти спасал больную, а прежде всего – по долгу врача, а потом и для того, чтобы вы оба устыдились и не на каждом бы перекрестке кричали, что я дурак и идиот: бывают обстоятельства, что и идиоты иногда понадобятся!
Говоря это, Елпидифор Мартыныч блистал удовольствием от мысли, что он мог так великодушно и так благородно отомстить князю и Елене. Первый же стоял перед ним с потупленным и нахмуренным лицом.
– Пожалуйста, возьмите!.. – повторил он еще раз, протягивая опять к Елпидифору Мартынычу руку с деньгами.
– Не возьму-с! – отвечал тот, снова кинув какой-то огненный взор на деньги и надевая калоши. Через минуту он хлопнул дверьми и скрылся совсем из глаз князя.
За минутами такого торжества для Елпидифора Мартыныча вскоре последовали и минуты раскаяния. Приехав домой, он лег, было, в постель, но заснуть не мог и вдруг, раздумавшись, ужасно стал досадовать на себя, зачем он не взял от князя денег. «Вот дурак-то я!» – говорил он сам с собой, повертываясь с одного бока на другой. «Вот дуралей-то!» – прибавлял он, повертываясь опять на прежний бок, и таким образом он промучился до самого утра, или, лучше сказать, до двенадцати часов, когда мог ехать к Жиглинской, где ожидал встретить князя, который, может быть, снова предложит ему деньги; но князи он не нашел там: тот был дома и отсыпался за проведенную без сна ночь. Елпидифор Мартыныч надеялся на следующий день, по крайней мере, встретить князя и действительно встретил его; князь был с ним очень внимателен и любезен, но о деньгах ни слова, на следующий день тоже, – и таким образом прошла целая неделя. Елпидифор Мартыныч потерял всякое терпенье и раз даже не выдержал и сказал акушерке:
– А что, вам не платили еще ничего здесь?
– Нет, не платили, а что же?
– Да так, мне тоже; я сам, впрочем, имел глупость: тогда князь тотчас же после родов предлагал мне тысячу рублей, а я не взял. Как думаю, брать в такую минуту, – сами согласитесь!
– Конечно! – согласилась акушерка. – Но что же, все равно, он после вам заплатит.
– Да ведь то-то после заплатит – к-ха!.. Как тоже он понял мои слова? Может быть, он думает, что я никогда не хочу с него брать денег… Нельзя ли вам этак, стороной, им сказать: – «А что, мол, платили ли вы доктору? – Пора, мол, везде уж по истечении такого времени платят!»
– Ни за что, ни за что! – воскликнула акушерка. – Они, пожалуй, подумают, что этим я хочу о плате себе напомнить, ни за что!
– Ну, глупо! Другой раз вас ни на какую практику с собой не приглашу! – сказал Елпидифор Мартыныч.
– Пожалуй, не приглашайте! Сделайте такое ваше одолжение! – отвечала насмешливо акушерка.[113]
Елпидифор Мартыныч стал в такое затруднительное положение касательно этих денег, что решился даже посоветоваться с Елизаветой Петровной и, собственно с этой целью, нарочно заехал к ней.
– Поздравляю вас с внуком! – сказал он, входя к ней.
– Как, разве родила Лена? – воскликнула Елизавета Петровна, вспыхнув вся в лице, – того, чтобы даже ей не прислали сказать, когда дочь родит, она уж и не ожидала!
– Как же, родила с неделю тому назад прехорошенького мальчика!..
Елизавета Петровна на это молчала.
– Что ж, вам надобно теперь ехать и познакомиться с внуком! – продолжал Елпидифор Мартыныч.
– Где уж мне этакой чести дождаться!.. Я во всю жизнь, может быть, не увижу его!.. И в подворотню свою, чай, заглянуть теперь не пустят меня! – отвечала Елизавета Петровна, и ей нестерпимо захотелось хоть бы одним глазком взглянуть на внука.
– Нет, пустят! – успокоивал ее Елпидифор Мартыныч.
– А я знаю, что не пустят! – возражала ему Елизавета Петровна, и слезы уж текли по ее желтым и поблекшим щекам.
– Да, вот дети-то!.. Кабы они хоть немного понимали, сколько дороги они родительскому сердцу, – говорил Елпидифор Мартыныч размышляющим голосом. – Но вы все-таки съездите к ним; примут ли они вас или нет – это их дело.
– Съезжу, исполню этот долг мой, – сказала Елизавета Петровна.
– Съездите!.. – повторил еще раз ей Елпидифор Мартыныч. – Ну и спросите их, – продолжал он как бы более шутливым голосом: – «А что, мол, кто у вас лечит?» Они скажут, разумеется, что я.
– А разве вы ее лечите?
– Я. На волоске ее жизнь была… Три дня она не разрешалась… Всех модных докторов объехали, никто ничего не мог сделать, а я, слава богу, помог без ножа и без щипцов, – нынче ведь очень любят этим действовать, благо инструменты стали светлые, вострые: режь ими тело человеческое, как репу.
– Что вы-то такое сделали? – спросила его Елизавета Петровна.
– Так, тут секретец один, – отвечал Елпидифор Мартыныч уклончиво.
– Князь, чай, хорошо заплатил вам за это? – спросила Елизавета Петровна, заранее почти догадавшаяся, к чему он ведет весь этот разговор.
– Да пока еще ничего! – отвечал Елпидифор Мартыныч, как-то стыдливо потупляя глаза свои. – Тут маленькое недоразуменьице вышло… Когда все это благополучно кончилось, он вдруг кидается ко мне и предлагает тысячу рублей…
– Тысячу же рублей, однако? – перебила его Елизавета Петровна.
– Целую тысячу, – повторил Елпидифор Мартыныч, неизвестно каким образом сосчитавший, сколько ему князь давал. – Но я тут, понимаете, себя не помнил – к-ха!.. Весь исполнен был молитвы и благодарности к богу – к-ха… Мне даже, знаете, обидно это показалось: думаю, я спас жизнь – к-ха! – двум существам, а мне за это деньгами платят!.. Какие сокровища могут вознаградить за то?.. «Не надо, говорю, мне ничего!»
– Вот уж это, по-моему, глупо! – сказала Елизавета Петровна. – С бедных не взять – другое дело, а с богатых – что их жалеть!
– Согласен, что так, но что же прикажете с характером своим делать? Не надо да не надо!.. Проходит после того день, другой, неделя, а они все, может быть, думают, что мне не надо, – так я на бобах и остался!
– И ништо вам, сами виноваты, – сказала ему Елизавета Петровна.
– Сам, сам!.. – согласился Елпидифор Мартыныч. – Не пособите ли вы мне в этом случае?.. Право, мне становится это несколько даже обидно… Вот когда и нужно, – присовокупил он каким-то даже растроганным голосом, – чтобы родители были при детях и наставляли их, как они должны себя вести!
– Плохо уж нынешних детей наставлять! – воскликнула Елизавета Петровна.
– Плохо-то, плохо! Конечно, что на первых порах слова родительские им покажутся неприятными, ну, а потом, как обдумаются, так, может быть, и сделают по-ихнему; я, вы знаете, для вас делал в этом отношении, сколько только мог, да и вперед – к-ха!.. – что-нибудь сделаю, – не откажитесь уж и вы, по пословице: долг платежом красен!
– Сделаю, скажу, если только примут меня! – отвечала Елизавета Петровна.
– Примут, примут! – повторил двоекратно Елпидифор Мартыныч и, поехав от Елизаветы Петровны, готов был прибить себя от досады, что о деньгах, которые были почти в руках его, он должен был теперь столько хлопотать. Почтенный доктор, впрочем, совершенно понапрасну беспокоился. Князь имел намерение поблагодарить его гораздо больше, чем сам того ожидал Елпидифор Мартыныч; кроме того, князь предположил возобновить ему годичную практику в своем доме, с тем только, чтобы он каждый день заезжал и наблюдал за Еленой и за ребенком. После помощи, оказанной Иллионским Елене, князь решительно стал считать его недурным доктором и не говорил ему о своих предположениях потому только, что все это время, вместе с Еленой, он был занят гораздо более важным предметом.
– Как же мы назовем нашего птенца? – спросил он ее.
– Да хоть Николаем, в честь моего отца, который был весьма, весьма порядочный человек! – отвечала она.
– Хорошо; но когда же мы крестить его будем?
Елена при этом вопросе молчала некоторое время.
– Знаешь что, – начала она неторопливо и с расстановкой. – Если бы только возможно это было, так я желала бы лучше его совсем не крестить.
– Как не крестить? – воскликнул князь.
– Так, не крестить… Я и ты, разумеется, нисколько не убеждены в том, что это необходимо; а потому, зачем же мы над собственным ребенком будем разыгрывать всю эту комедию.
– Как же, ты так-таки совсем и хочешь оставить его некрещеным? – спросил князь, все еще не могший прийти в себя от удивления.
– Так, совсем некрещеным, – отвечала Елена, как бы ясно и определенно обдумавшая этот предмет.
– Но это, – начал князь, все более и более теряясь, – по нашим даже русским законам совершенно невозможно; ты этим подведешь под ответственность и неприятности себя и ребенка!
– Вот в том-то и дело; я никак не желаю, чтобы он жил под русскими законами… Ты знаешь, я никогда и ни на что не просила у тебя денег; но тут уж буду требовать, что как только подрастет немного наш мальчик, то его отправить за границу, и пусть он будет лучше каким-нибудь кузнецом американским или английским фермером, но только не русским.
– Но и там все-таки нельзя быть некрещеным.
– Там, то есть в Америке, он может приписаться к какой хочет секте по собственному желанию и усмотрению.
Князь, на первых порах, почти ничего не нашел, что ей отвечать: в том, что всякий честный человек, чего не признает, или даже в чем сомневается, не должен разыгрывать комедий, он, пожалуй, был согласен с Еленой, но, с другой стороны, оставить сына некрещеным, – одна мысль эта приводила его в ужас.
– Нет, я никак не желаю не крестить его! – сказал он, вставая с своего места и начав ходить по комнате.
По тону голоса князя и по выражению лица его Елена очень хорошо поняла, что его не своротишь с этого решения и что на него, как она выражалась, нашел бычок старых идей; но ей хотелось, по крайней мере, поязвить его умственно.
– Это почему ты не желаешь? Нельзя же иметь какое-то беспричинное нежелание!.. – спросила она.
– Да хоть потому, что я не желаю производить над сыном моим опыты и оставлять его уж, конечно, единственным некрещеным человеком в целом цивилизованном мире.
Последнее представление поколебало, кажется, несколько Елену.
– А китайцы и японцы?.. И это еще неизвестно, чья цивилизация лучше – их или наша!.. – проговорила она.
– Я нахожу, что наша лучше, – сказал князь.
– Я так нахожу, так хочу… Какой прекрасный способ доказывать и убеждать! – сказала насмешливо Елена. – Спросим, по крайней мере, Миклакова, – присовокупила она, – пусть он решит наш спор, и хоть он тоже с очень сильным старым душком, но все-таки смотрит посмелее тебя на вещи.
– Изволь, спросим! – согласился князь и вследствие этого разговора в тот же день нарочно заехал к Миклакову и, рассказав ему все, убедительно просил его вразумить Елену, так что Миклаков явился к ней предуведомленный и с заметно насмешливой улыбкой на губах. Одет он был при этом так франтовато, что Елена, несмотря на свое слабое здоровье и то, что ее занимал совершенно другой предмет, тотчас же заметила это и, подавая ему руку, воскликнула:
– Что это, каким вы франтом нынче?
– Он нынче всегда таким является и каждый вечер изволит с моей супругой в карты играть! – подхватил князь.
– Изволю-с, изволю!.. – отвечал Миклаков, несколько краснея в лице.
– Ну, прежде всего подите и посмотрите моего сына, – сказала ему Елена.
– Да, да, прежде всего этого господина надобно посмотреть! – отвечал Миклаков и прошел в детскую.
– Какой отличный мальчик! Какой прелестный! – кричал он оттуда.
Елена при этом вся цвела радостью. Князь, в свою очередь, тоже не менее ее был доволен этим.
Миклаков, наконец, вышел из детской и сел.
– Славный мальчик, чудесный, – повторил он и тут еще раз.
– А вот Елена Николаевна хочет не крестить его, – сказал князь.
– Что-с? – спросил торопливо Миклаков, как бы ничего этого не знавший.
– Я хочу, чтобы он остался некрещеным, – отвечала Елена.
– Но на каком же это основании?
– На том, что оба мы, родители его, не признаем никакой необходимости в том.
– Поэтому вы сына вашего хотите оставить без всякой религии?
– Хочу! – сказала Елена.
Миклаков поднял от удивления плечи.
– Признаюсь, я не знаю ни одного дикого народа, который бы не имел какой-нибудь религии.
– У диких она пусть и будет, потому что все религии проистекают или из страха, или от невежества.
– От невежества ли, от страха ли, из стремления ли ума признать одно общее начало и, наконец, из особенной ли способности человека веровать, но только религии присущи всем людям, и потому как же вы хотите такое естественное чувство отнять у вашего сына?!
– Если у него нельзя отнять религиозного чувства, то я не хочу, по крайней мере, чтоб он был православный.
– Какой же бы религии вы желали посвятить его? – спросил насмешливо Миклаков.
– Да хоть протестантской!.. Она все-таки поумней и попросвещенней! – отвечала Елена.
– А позвольте спросить, долгое ли время вы изволили употребить на изучение того, чтобы определить достоинство той или другой религии? – продолжал Миклаков тем же насмешливым тоном.
– Для этого вовсе не нужно употреблять долгого времени, а просто здравый смысл сейчас же вам скажет это.
– Ну, а я этого здравого смысла, признаюсь, меньше всего в вас вижу, – возразил Миклаков.
– Это почему? – воскликнула Елена.
– А потому, что если бы вы имели его достаточное количество, так и не возбудили бы даже вопроса: крестить ли вам вашего сына или нет, а прямо бы окрестили его в религии той страны, в которой предназначено ему жить и действовать, и пусть он сам меняет ее после, если ему этого пожелается, – вот бы что сказал вам здравый смысл и что было бы гораздо умнее и даже либеральнее.
– Может быть, умнее, но никак не либеральнее, – сказала, отрицательно покачав головой, Елена.
– Нет, либеральней, – повторил еще раз Миклаков. – То, что вы сделаете вашего сына протестантом, – я не говорю уже тут об юридических неудобствах, – что вы можете представить в оправдание этого?.. – Одну только вашу капризную волю и желание, потому что предмета этого вы не изучали, не знаете хорошо; тогда как родители, действующие по здравому смыслу, очень твердо и положительно могут объяснить своим детям: «Милые мои, мы вас окрестили православными, потому что вы русские, а в России всего удобнее быть православным!»
– В том-то и дело, что я вовсе не хочу, чтобы сын мой был русский!
– И того вы не имеете права делать: сами вы русская, отец у него русский, и потому он должен оставаться русским, пока у него собственного, личного какого-нибудь желания не явится по сему предмету; а то вдруг вы сделаете его, положим, каким-нибудь немцем и протестантом, а он потом спросит вас: «На каком основании, маменька, вы отторгнули меня от моей родины и от моей природной религии?» – что вы на это скажете ему?
– Ничего я ему не скажу, – возразила Елена с досадой, – кроме того, что у него был отец, а у того был приятель – оба люди самых затхлых понятий.
– А мы ему скажем, – возразил Миклаков, – что у него была маменька – в одно и то же время очень умная и сумасшедшая.
– Не сумасшедшая я! – воскликнула на это Елена. – А надобно же когда-нибудь и кому-нибудь начать!
– Что такое начать? – спросил ее Миклаков. – Чтобы все люди протестантами, что ли, были?
– Подите вы с вашими протестантами! – воскликнула Елена. – Чтобы совсем не было религии – понимаете?..
Когда Елена говорила последние слова, то у ней вся кровь даже бросилась в лицо; князь заметил это и мигнул Миклакову, чтобы тот не спорил с ней больше. Тот понял его знак и возражал Елене не столь резким тоном:
– А вот когда не будет религии, тогда, пожалуй, не крестите вашего сына: но пока они существуют, так уж позвольте мне даже быть восприемником его! – заключил он, обращаясь в одно и то же время к князю и к Елене.
– Ну, делайте там, как хотите! – сказала та с прежней досадой и отворачиваясь лицом к стене.
– Я очень рад, конечно, – отвечал князь и пожал даже Миклакову руку.
– А когда же эта история будет? – спросил тот.
– Как-нибудь на этой неделе, – отвечал протяжно князь. – Можно на этой неделе? – счел он, однако, нужным спросить и Елену.
– Мне все равно! – отвечала та, не повертываясь к ним лицом.
– На неделе, так на неделе! – сказал Миклаков и веялся за шляпу.
– А вы еще к нам… К княгине зайдете? – спросил его князь.
– Зайду-с, – отвечал Миклаков опять как бы несколько сконфуженным голосом.
По уходе его, Елена велела подать себе малютку, чтобы покормить его грудью. Мальчик, в самом деле, был прехорошенький, с большими, черными, как спелая вишня, глазами, с густыми черными волосами; он еще захлебывался, глотая своим маленьким ротиком воздух, который в комнате у Елены был несколько посвежее, чем у него в детской.
– Милый ты мой, – говорила она, смотря на него с нежностью. – И тебя в жизни заставят так же дурачиться, как дурачатся другие!
VII
Приход, к которому принадлежал дом князя Григорова, а также и квартира Елены, был обширный и богатый. Священник этого прихода, довольно еще молодой, был большой любитель до светской литературы. Он имел приятный тенор, читал во время служения всегда очень толково, волосы и бороду немного достригал, ходил в синих или темно-гранатных рясах и носил при этом часы на золотой цепочке. С купечеством и со своею братиею, духовенством, отец Иоанн (имя священника) говорил, разумеется, в известном тоне; но с дворянством, и особенно с молодыми людьми, а еще паче того со студентами, любил повольнодумничать, и повольнодумничать порядочно. Дьякон же в этом приходе, с лицом, несколько перекошенным и похожим на кривой топор (бас он имел неимовернейший), был, напротив, человек совершенно простой, занимался починкой часов и переплетом книг; но зато был прелюбопытный и знал до мельчайших подробностей все, что в приходе делалось: например, ему положительно было известно, что князь по крайней мере лет пятнадцать не исповедовался и не причащался, что никогда не ходил ни в какую церковь. В недавнее время он проведал и то, что князь к ним же в приход перевез содержанку свою. Обо всем этом дьякон самым добродушнейшим образом докладывал священнику. Тот на это не делал никакого замечания и только при этом как-то необыкновенно гордо смотрел на дьякона. Вообще отец Иоанн держал весь причт ужасно в каком отдаленном и почтительном от себя расстоянии. В одну из заутрен дьякон доложил снова ему:
– Метреса-то у князя родила!
– А она девица? – спросил зачем-то священник.
– Девица, кажется! – отвечал дьякон.
Отец Иоанн на это ничего не сказал, но как будто бы ему приятно было слышать, что девица родила.
Князь и Елена в этот самый день именно и недоумевали, каким образом им пригласить священников крестить их ребенка: идти для этого к ним князю самому – у него решительно не хватало духу на то, да и Елена находила это совершенно неприличным; послать же горничную звать их – они, пожалуй, обидятся и не придут. Пока Елена и князь решали это, вдруг к ним в комнату вбежала кухарка и доложила, что маменька Елены Николаевны приехала и спрашивает: «Примут ли ее?».
Елизавета Петровна до того смиренно явилась, что даже вошла не в переднюю дверь, а через заднее крыльцо в кухню.
Князь и Елена переглянулись между собой.
– Что ж, ты примешь ее? – спросил он Елену по-французски.
Та сделала недовольную мину.
– Очень бы не желала, но если сегодня ее не принять, все равно, она завтра приедет… – отвечала Елена тоже по-французски. – Проси! – присовокупила она кухарке по-русски.
Та ушла, и вслед за тем появилась Елизавета Петровна тише воды и ниже травы.
– Ну, что, как твое здоровье? – сказала она, подойдя к дочери, самым кротким голосом.
Елена после родин еще не вставала и лежала в постели.
– Теперь ничего! – отвечала она довольно сухо матери.
Елизавета Петровна простояла некоторое время в молчании: она даже шляпки не снимала с головы, ожидая, вероятно, что ее не пригласят долго оставаться.
– А что, можно мне внучка моего посмотреть? – прибавила она опять кротчайшим голосом.
– Посмотрите!.. Он там в комнате!.. – отвечала Елена, показывая ей глазами на соседнюю комнату.
Елизавета Петровна самыми тихими шагами ушла туда.
Князю между тем пришла мысль воспользоваться посещением Елизаветы Петровны.
– А что, ежели я попрошу мать твою похлопотать насчет крестин?.. Я тут ничего не понимаю, – сказал он Елене.
– Очень хорошо сделаешь; пусть она и устроит все это!.. – ответила Елена, видимо, довольная этой выдумкой князя.
– Но кто же скажет ей о том: ты или я? – спрашивал князь.
– Я скажу! – отвечала Елена.
В это время Елизавета Петровна возвратилась из детской.
– Премиленький!.. Агушки уж понимает, ей-богу! – проговорила она тихо и тихо села около дочери.
– Какое понимает!.. Мы еще и не крестили его и имени ему не давали!.. – сказала Елена.
– Ах, как это можно!.. Пора, пора! – посоветовала Елизавета Петровна несколько посмелее: она и тем была довольна, что с нею разговаривают, а не молчат.
– Мы оба не знаем, как это сделать… – продолжала Елена. – Похлопочите, пожалуйста, вы об этом!
– С удовольствием, с удовольствием! – сказала Елизавета Петровна совершенно уже смело и с некоторою даже важностью. – Я-то это дело очень хорошо знаю… Слава тебе, боже: у меня самой трое детей было.
– А у вас трое было детей? – спросил ее князь ласково. Он очень уж благодарен был Елизавете Петровне, что она принимала на себя крестинные хлопоты.
– Трое-с. В живых только вот она одна, ненаглядное солнышко, осталась, – отвечала Елизавета Петровна и вздохнула даже при этом, а потом, снимая шляпку, обратилась к дочери. – Ну, так я извозчика, значит, отпущу; ночевать, впрочем, не останусь, а уеду к себе: где мне, старухе, по чужим домам ночевать… И не засну, пожалуй, всю ночь.
Последние слова Елизавета Петровна сказала для успокоения Елены, чтобы та не подумала, что она совсем у ней хочет поселиться; получая и без нее от князя аккуратным образом по триста рублей в месяц, она вовсе не хотела обременять ее собой.
– Скажите, вы все-таки, вероятно, желаете сделать завтрак для священников? – отнеслась она к князю.
– Право, не знаю! – отвечал тот, пожимая плечами. – Желаю, чтобы было сделано, как везде это делается.
– Везде так и делается, везде! – подхватила Елизавета Петровна. – Потому что шампанское акушерка подает; тут ей обыкновенно и деньги кладут, – в этом ее главный доход. И как же теперь шампанское подавать без завтрака, – неловко, согласитесь сами…
Князь согласился с ней.
– Наконец, священники всегда обижаются, когда их не угощают, – всегда!.. Сколько раз я от них слыхала: «Закусочки, говорят, даже не поставили, словно щенка какого-нибудь мы крестили!»
Елизавета Петровна очень настаивала на завтраке главным образом потому, что в эти минуты сама очень проголодалась, и в ее воображении необыкновенно приятно рисовались отбивные телячьи котлеты, превосходно приготовляемые одним ее знакомым кухмистером-кондитером, поставлявшим обыкновенно обеды на свадьбы, похороны, крестины.
– Ну, так вы поэтому священников и пригласите! – подхватил князь, более всего беспокоимый последним обстоятельством.
– Хорошо! – сказала Елизавета Петровна на первых порах очень было решительно, но потом она пообдумала, видно, несколько.
– На два слова! – сказала она, уходя в другую комнату и махая рукой князю.
Тот хоть и не совсем охотно, но вышел к ней.
– Я за священниками сходить схожу, – начала Елизавета Петровна, – но что я мать Елены, я им не скажу, потому что будь она дама, то другое бы дело!..
– Ну да!.. – подхватил князь, очень хорошо понявший, что хочет сказать Елизавета Петровна.
– Я сейчас же к ним в церковь и пойду, благо обедня еще не кончилась. Ведь эта большая церковь, вероятно, ваш приход? – присовокупила она, показывая на видневшуюся в окно огромную колокольню.
– Эта самая! – отвечал князь.
– В минуту слетаю туда! – сказала Елизавета Петровна и, проворно войдя в комнату дочери, проворно надела там шляпку и проворнейшим шагом отправилась в церковь, куда она, впрочем, поспела к тому уже времени, когда юный священник выходил с крестом. Он, видимо, хотел представить себя сильно утомленным и грустным выражением лица желал как бы свидетельствовать о своих аскетических подвигах.
Елизавета Петровна прямо подлетела к нему.
– Покорнейшая просьба, батюшка, к вам! – проговорила она, поцеловав крест и раскланиваясь перед священником.
Ее нахальный и расфранченный вид невольно обратили внимание отца Иоанна.
– Чем могу служить-с? – отвечал он, потупляя перед ней свои голубые глаза.
– Тут одна моя знакомая родила и желает имя наречи и окрестить своего ребенка.
– Это в доме Яковлева, вероятно? – спросил всезнающий и стоящий около священника дьякон.
– Точно так! – отвечала Елизавета Петровна.
– Это что я вам вчера говорил! – сказал дьякон священнику.
– А! – произнес тот, снова потупляя свои глаза.
– Так завтрашний день в 12 часов окрестить и откушать!.. – продолжала Елизавета Петровна.
– Хорошо-с! – сказал священник задумчивым тоном.
Получив этот ответ, Елизавета Петровна отправилась обратно к дочери.
– Ну-с, священников я пригласила, – сказала она. – А кто же у вас будут восприемниками: кум и кума?
– Кум будет Миклаков, – отвечал князь и затем приостановился.
– А кума уж вы будьте! – подхватила Елена.
– Хорошо, очень приятно, с большим удовольствием! – отвечала Елизавета Петровна радостно и немножко важничая. – Теперь поэтому о завтраке только надобно похлопотать, – сколько вы изволите жертвовать на него? – отнеслась она снова к князю.
Толстые телячьи котлеты все соблазнительней и соблазнительней рисовались в воображении Елизаветы Петровны.
– Сколько нужно будет? – отвечал тот.
– Ста рублей не пожалеете?
– Разумеется! – сказал, усмехаясь, князь.
Во все это время Елена имела мучительнейшее выражение лица.
– Посторонних у вас никого не будет, а только кум, кума, акушерка, доктор?
– Да, – подтвердил князь.
– Ах, кстати о докторе!.. – подхватила Елизавета Петровна, как будто бы к слову. – У вас ведь Елпидифор Мартыныч лечит, а что вы заплатили ему?
– То есть я ему заплачу потом, – отвечал князь, несколько сконфуженный таким вопросом.
Елена же при этом более не вытерпела.
– Мамаша, это, наконец, несносно!.. Что за расспросы: заплатили ли тому, что дадите на то?.. Вам что за дело до этого?! – почти вскрикнула она сердитым голосом.
– Не буду, не буду больше! – отвечала Елизавета Петровна, заметно струхнув, и затем, подойдя к Елене, поцеловала ее, перекрестила и проговорила: – Ну, прощай, я поеду… До свиданья! – присовокупила она почти дружественным голосом князю.
Тот, не вставая с места, кивнул ей головой.
Елизавета Петровна отправилась к знакомому ей кухмистеру тоже пешком и тем же проворным шагом. Услышав, что он болен, она не остановилась перед этим и дорвалась до его спальни. Кондитер был уже девяностолетний старик, глухой и плохо видящий.
– Здравствуйте, Яков Иваныч! – воскликнула Елизавета Петровна, входя к нему. – Что, вы, вероятно, не узнали меня?
– Нет, не знаю, извините! – отвечал кондитер, выглядывая на нее из-под зеленого зонтика своего.
– Я Елизавета Петровна Жиглинская.
– А, вот кто… Очень рад, покорнейше прошу садиться! – заговорил кондитер гораздо более любезным голосом: в прежние годы, когда у Жиглинских был картежный дом, почтенный старец готавливал у них по тысяче и по полторы обеды.
– Я к вам с делом, – продолжала Елизавета Петровна, – приготовьте-ка мне завтрачек, – у меня дочь родила.
– Дочь?.. Вот как! – воскликнул старец еще приветливее. – За кем же она замужем? – присовокупил он.
– Да тут за одним господином… Его, впрочем, нет в Москве.
– Нет в Москве? – повторил, как бы соображая кое-что про себя, многоопытный старец.
– Завтрачек вы мне сделайте персон на десять, рублей во сто серебром.
– Можно это! – протянул старец, и в его почти омертвелом лице на мгновение блеснул луч какого-то удовольствия: он сразу же тут сообразил, что от этого дела рублей с полсотни наживет.
– Завтрачек, понимаете, чтобы приличный, дворянский был.
– Дворянский будет! – подтвердил старик. – А в карты после крестин будут играть?
– Конечно, будут! – отвечала, неизвестно на каком основании, Елизавета Петровна.
– Чтобы карты от моих лакеев были! – объяснил старец.
– От ваших, от ваших! – успокоила его Елизавета Петровна и затем, оставив ему адрес Елены, отправилась, наконец, домой. Всем этим днем и тем, что случилось с ней, Елизавета Петровна была очень довольна.
На другой день часу в 12-м, лица, долженствующие участвовать в крещении, собрались. Князь, впрочем, по предварительному соглашению с Еленой, не пришел совсем, Елпидифора Мартыныча тоже не было: не получая до сих пор от князя ни полушки, он, наконец, разобиделся и дня два уже не был у Елены.
Елизавета Петровна, разумеется, явилась раньше всех, в чепце с цветами, набеленная, нарумяненная; лицо ее дышало важностью и удовольствием. Акушерка тоже была довольно нарядна и довольно весела; но зато Миклаков, в новом своем фраке, в новом белье и белом даже галстуке, сидел мрачный в зале на стуле. Он сам напросился на кумовство, а теперь и не рад был тому, потому что вся эта процедура начинала казаться ему страшно скучною. Наконец, пришли священники. Отец Иоанн был в самой новенькой своей гарнитуровой рясе; подстриженные волосы и борода его были умаслены, сапоги чистейшим образом вычищены. Он велел на эти крестины взять весьма дорогие ризы, положенные еще покойным отцом князя Григорова в церковь; купель тоже была (это, впрочем, по распоряжению дьякона) вычищена. Церемония началась. Отец Иоанн одной своей гарнитуровой рясой и сильно вычищенными сапогами уже произвел на Миклакова весьма неприятное впечатление, но когда он начал весьма жеманно служить, выговаривая чересчур ясно и как бы отчеканивая каждое слово, а иногда зачем-то поднимая кверху свои голубые глаза, то просто привел его в бешенство. «Вот фигляр-то и комедиант!» – думал Миклаков, стоя у купели. Затем отец Иоанн, говоря куму и куме, чтоб они дунули и плюнули, точно как будто бы усмехнулся при этом. «А, так ты вот еще из каких… Ну, я теперь тебя насквозь понимаю!» – продолжал почти с бешенством думать Миклаков. Он имел своим правилом, что если кто поп, тот и будь поп, будь набожен, а если кто офицер, то будь храбр и не рассуждай, но если выскочил умственно и нравственно из своего положения, так выходи вон и ищи себе другой деятельности. Отца Иоанна он решился при первом удобном случае срезать на чем свет стоит. По окончании церемонии дьячки, забрав купель и облачение, отправились домой. Отец Иоанн ни на каких обедах и завтраках не позволял им оставаться, так как им всегда почти накрывали или в лакейской, или где-нибудь в задних комнатах: он не хотел, чтобы духовенство было так публично унижаемо; сам же он остался и уселся в передний угол, а дьякон все ходил и посматривал то в одну соседскую комнату, то в другую, и даже заглядывал под ларь в передней. Ему все хотелось увидать князя Григорова, который, по его мнению, непременно должен быть где-нибудь тут. Елизавета Петровна, расплакавшаяся от полноты чувств во время церемонии, по окончании ее сейчас же повела Миклакова поздравить родильницу.
Елена лежала на постели в новеньком нарядном чепчике, в батистовой белейшей кофте и под розовым одеялом. Таким образом нарядиться ее почти насильно заставила Елизавета Петровна и даже сама привезла ей все это в подарок.
– Ну, поздравляю вас, поздравляю! – говорил Миклаков Елене.
– С чем, с чем? – повторила та дважды и как бы укоризненным голосом.
Елизавета Петровна, нисколько, разумеется, не понявшая подобного возражения дочери, прошла в другую комнату, чтобы поскорее велеть подавать священникам чай.
Когда Миклаков снова вернулся в залу, его спросил дьякон своим густым и осиплым басом:[114]
– Ваш чин и фамилия для записания в книгу?
– Надворный советник Миклаков, – отвечал ему тот.
– Благодарю! – сказал дьякон и записал фамилию на бумажке.
Отец Иоанн внимательно вслушался в ответ Миклакова. Он не преминул догадаться, что это был тот самый сочинитель, про которого он недавно еще читал в одном журнале ругательнейшую статью.
Отец Иоанн в натуре своей, между прочим, имел два свойства: во-первых, он всему печатному почти безусловно верил, – если которого сочинителя хвалили, тот и по его мнению был хорош, а которого бранили, тот худ; во-вторых, несмотря на свой кроткий вид, он был человек весьма ехидный и любил каждого уязвить, чем только мог.
– А я недавно читал критику на ваши сочинения, – начал он, кладя с заметным франтовством ногу на ногу.
– На мои сочинения? – спросил Миклаков несколько уже удивленным голосом.
– Да, – отвечал ему отец Иоанн с важностью. – Тут, – прибавил он с некоторой расстановкой, – во многом вас порицают, и я нахожу, что некоторые из порицаний справедливы и основательны.
– Вы находите? – повторил Миклаков.
В голосе его послышался какой-то хрип, и если б отец Иоанн знал, какую он бурю злобы поднимал против себя в душе Миклакова, то, конечно, остерегся бы говорить ему подобные вещи. Миклаков решился уже теперь не продернуть попенка, а просто-напросто пугнуть его хорошенько. Сделав над собой всевозможное усилие, чтобы овладеть собою, он прежде всего вознамерился приласкаться к отцу Иоанну и, пользуясь тем, что в это время вошла в залу Елизавета Петровна и общим поклоном просила всех садиться за завтрак, параднейшим образом расставленный официантами старца, – он, как бы совершенно добродушным образом, обратился к нему:
– Что нам, батюшка, предаваться бесполезным литературным разговорам!.. Выпьемте-ка лучше с нами водочки!
– Нет-с! Благодарю, я не пью, – отвечал отец Иоанн не без важности.
– А вы, отец дьякон? – спросил Миклаков дьякона.
– Я пью-с! – пробасил тот.
– Водку не пить, конечно, прекрасная вещь, – продолжал Миклаков, – но я все детство мое и часть молодости моей прожил в деревне и вот что замечал: священник если пьяница, то по большей части малый добрый, но если уж не пьет, то всегда почти сутяга и кляузник.
– Это есть, есть! – подтвердил с удовольствием и дьякон, улыбаясь себе в бороду.
Отец Иоанн эти слова, кажется, принял прямо сказанными на его счет, но по наружности постарался это скрыть.
– Образ жизни деревенских священников таков, – отвечал он, – что, находясь посреди невежественных крестьян, они невольно от скуки или обезумевать должны, или изощрять свой ум в писании каких-нибудь кляуз. Здесь вон есть и библиотеки и духовные концерты, – и то в нашем сане иным временем бывает крайне скучно.
– Ну, нет!.. По-моему, тут есть несколько другая причина, – возразил ему Миклаков, – они видят, что им каждодневно приходится обманывать этих невежественных крестьян, ну и совестно, люди попорядочнее и пьют со стыда!
Сам Миклаков, в продолжение всего этого разговора, пил беспрестанно и ничего почти не ел.
– Чем же они обманывают их? – спросил отец Иоанн с легким оттенком улыбки на лице.
– Как чем, батюшка? – воскликнул Миклаков. – Ах, отец Иоанн!.. Отец Иоанн!.. – прибавил он как бы дружественно-укоризненным голосом. – Будто вы не знаете и не понимаете этого…
Отец Иоанн позаметнее при этом улыбнулся, но вместе с тем указал Миклакову глазами на дьякона, как бы упрашивая его не компрометировать его и не говорить с ним о подобных вещах при этом человеке.
– Меня вот что всегда удивляло, – продолжал Миклаков, как бы вовсе не понявший его знака, – я знаю, что есть много умных и серьезно образованных священников, – но они, произнося проповеди, искренно ли убеждены в том, что говорят, или нет?
– Смотря по тому, что говорят… – отвечал отец Иоанн с прежней полуулыбкой.
– Стало быть, есть нечто и даже, может быть, несколько этих нечто, в чем вы сомневаетесь? – спросил Миклаков.
– Конечно, что нельзя же всего проверить умом человеческим, и потому многое остается неразгаданным, – отвечал опять как-то уклончиво отец Иоанн, – тайное предчувствие шептало ему, что он должен был говорить осторожно.
– Но надеюсь, что в этом случае не дьявол же вас смущает и поселяет в вас сомнение, – проговорил Миклаков, пожимая плечами.
– Разумеется… Что же такое дьявол?! – отвечал отец Иоанн, уже явно усмехаясь.
Выражение лица Миклакова в эту минуту мгновенно изменилось, из добродушного оно сделалось каким-то строгим.
– А ведь это скверно, батюшка, ужасно скверно! – воскликнул он.
Глаза Миклакова в это время совершенно уже посоловели, и он был заметно пьян. В эту же самую минуту вышла акушерка с шампанским.
Миклакову пришлось отдать ей свои последние десять рублей, что еще более усилило его дурное расположение духа.
– Скверно это-с, скверно! – продолжал он повторять.
Отец Иоанн смотрел на него с удивлением, не понимая, к чему он это говорит.
– Вот, изволите видеть, – объяснил, наконец, Миклаков (язык у него при этом несколько даже запинался), – в той статье, о которой вы так обязательно напомнили мне, говорится, что я подкуплен правительством; а так как я человек искренний, то и не буду этого отрицать, – это более чем правда: я действительно служу в тайной полиции.
Отец Иоанн, а также и дьякон подались несколько назад на своих местах.
– И вот о том, батюшка, что вы, по вашим словам, во многом сомневаетесь, я – извините меня – должен буду донести моему начальству, а оно, вероятно, сообщит об этом митрополиту.
Отец Иоанн побледнел при этом.
– Я ничего подобного не говорил! – произнес он.
– Как, вы ничего не говорили? Нет! Нет!.. Не отнекивайтесь!.. По вашему священству вам стыдно такое запирательство чинить! Вы – светильники наши… – болтал Миклаков.
– Что же я такое говорил? – воскликнул отец Иоанн, у него губы даже дрожали при этом. – Донос и клевета, конечно, все могут на человека изобресть! – присовокупил он.
– Что на вас будет донос – это совершенно справедливо, но чтобы это была клевета – это вздор-с, совершеннейший вздор-с! – восклицал, как-то даже взвизгивая, Миклаков.
– Но я вас прошу, по крайности… – начал было отец Иоанн и не мог докончить, потому что в это время Елизавета Петровна позвала Миклакова к Елене.
– Это зачем? – спросил было тот.
– Нужно-с, ступайте! – повторила настоятельно Елизавета Петровна.
Миклаков послушался и пошел.
– Что это вы за глупости священнику говорили, что донесете на него? – сказала Елена сердитым голосом Миклакову, – весь предыдущий разговор она слышала от слова до слова из своей комнаты.
– Учу батьку, дрессирую немножко его! – отвечал Миклаков.
– Подите сейчас и скажите ему, что вы все это шутили.
– Ни за что, ни за что! – воскликнул Миклаков. – Пусть себе мучится и терзается… А вот у вас так ручку поцелую, ибо сейчас домой отправляюсь! – сказал Миклаков и в самом деле поцеловал у Елены руку.
– Говорят же вам, скажите, что вы шутили! – повторила ему еще раз Елена.
– Я ему скажу, только другое, только другое! – говорил Миклаков, выходя в залу, где сейчас же отыскал свою шляпу.
– Так я буду иметь неудовольствие донести на вас! – сказал он, расшаркиваясь перед отцом Иоанном. – А вас похвалю, похвалю, – поп настоящий! – отнесся он к дьякону и ушел.
Отец Иоанн остался совершенно растерянным, но его также Елизавета Петровна позвала к Елене.
– Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, – сказала ему та, – Миклаков вовсе не служит в тайной полиции, – это честнейший и либеральнейший человек.
Отец Иоанн, как-то сомнительно скосив рот, улыбнулся.
– Судя по тем отзывам, которые я читал о нем в литературе, он далеко не пользуется именем такого человека.
– Он потому и не пользуется, что очень честен, всем говорит правду в глаза, всех задирает!.. Пожалуйста, не беспокойтесь!
– Благодарю вас за утешение, хоть и не могу вполне оным успокоиться, а прошу вас об одном, что если будет какой-либо донос, засвидетельствовать в мою пользу, – отвечал отец Иоанн.
Этой своей просьбой он показался противным Елене.
– Да не будет на вас никакого доноса! – воскликнула она с явной досадой.
– Дай бог!.. – произнес, вздохнув, отец Иоанн и затем, раскланявшись с Еленой, вышел от нее, а через минуту оба они с дьяконом шли к домам своим, имея при этом головы понуренными.
VIII
Миклаков издавна вел безобразную жизнь, так что, по его собственному выражению, он с тех пор, как бросил литературу, ничего порядочного не делал и даже последнее время читал мало. Утра у него обыкновенно проходили в службе, а вечера или у какого-нибудь приятеля, где затевались карты, попойка и бессмысленные споры с разными пошляками, или у приятельницы секретной; но встреча с княгиней и некоторое сближение с ней заставили его как бы отрезвиться физически и нравственно и устыдиться своих поступков. Собственно говоря, Миклаков не признавал за женщиной ни права на большой ум, ни права на высокие творческие способности в искусствах, а потому больше всего ценил в них сердечную нежность и целомудрие. Корделию, дочь короля Лира[115], он считал высшим идеалом всех женщин; нечто подобное он видел и в княгине, поразившей его, по преимуществу, своей чистотой и строгой нравственностью. Что касается до сей последней, то она, в свою очередь, тоже день ото дня начала получать о Миклакове все более и более высокое понятие: кроме его прекрасного сердца, которое княгиня в нем подозревала вследствие его романического сумасшествия, она стала в нем видеть человека очень честного, умного, образованного и независимого решительно ни от чьих чужих мнений. Обо всех этих качествах Миклакова княгине, впрочем, больше натолковал князь.
Спустя несколько дней после крестин у Елены, г-жа Петицкая, успевшая одной только ей известным способом проведать, что у Елены родился сын, и даже то, что она не хотела его крестить, – сейчас же прибежала к княгине и рассказала ей об этом. Как княгиня ни была готова к подобному известию, все-таки оно смутило и встревожило ее. Она решилась расспросить поподробнее Миклакова, который, как донесла ей та же г-жа Петицкая, был восприемником ребенка.
Вечером Миклаков, по обыкновению, пришел к княгине, и все они втроем уселись играть в карты. Княгиня, впрочем, часов до одиннадцати не в состоянии была обратиться к Миклакову с расспросами; наконец, она начала, но и то издалека.
– А что, скажите, вы видаете вашу знакомую, mademoiselle Жиглинскую?
– Видаю-с! – отвечал ей Миклаков почтительно. Он постоянно держал себя у княгини несколько мрачно, но с величайшим уважением как к ней самой, так и ко всей ее окружающей среде.
– У ней есть, кажется, прибавление семейства? – продолжала княгиня.
Миклаков некоторое время затруднялся отвечать, но потом, как видно, надумал.
– Если уж вы знаете об этом, то скрывать, конечно, нечего… Есть!
– Что же, сын или дочь? – добавила г-жа Петицкая, по обыкновению, самым невинным голосом, как будто бы ничего об этом не знавшая и в первый раз еще слышавшая о том.
– Сын-с! – отвечал ей Миклаков довольно вежливо.
«Князь, я думаю, очень этим доволен?» – хотела было первоначально спросить княгиня, но у ней духу не хватило, и она перевернула на другое:
– А вот что еще мне скажите: правда ли, что Жиглинская не хотела было крестить ребенка?
Вопрос этот опять очень смутил Миклакова: от княгини он не хотел бы ничего скрывать и в то же время при г-же Петицкой не желал ничего говорить.
– Что за пустяки такие! – произнес он, усмехаясь.
– Я думаю, что вздор! – подхватила княгиня. – Потому что, если б это правда была, то это показывало бы, что она какая-то страшная и ужасная женщина.
– Нет, она вовсе не страшная и не ужасная женщина, – отвечал Миклаков уже серьезно, – а немножко эксцентричная – это действительно; но в то же время она очень умная и честная девушка!
– Не знаю, может быть, это от ее эксцентричности происходит; но про нее, в самом деле, рассказывают ужасные вещи, – вмешалась в разговор г-жа Петицкая.
– Мало ли про кого что рассказывают-с! – отвечал ей с ударением Миклаков, он сам слыхал про г-жу Петицкую такие вещи, которые тоже могли бы показаться ужасными; но только не хотел ей напоминать теперь о том.
Княгиня между тем оставалась печальной и смущенной; ей невольно припомнилось то время, когда она была невестой князя, как он трепетал от восторга при одном ласковом взгляде ее, от одного легкого пожатия руки ее, и что же теперь стало? Княгиня готова была расплакаться от грусти. Ее печальный вид не свернулся с глаз Миклакова и навел его тоже на весьма невеселые мысли касательно собственного положения.
«Она все еще, кажется, изволит любить мужа, – думал он, играя в карты и взглядывая по временам на княгиню, – да и я-то хорош, – продолжал он, как-то злобно улыбаясь, – вообразил, что какая-нибудь барыня может заинтересоваться мною: из какого черта и из какого интереса делать ей это?.. Рожицы смазливой у меня нет; богатства – тоже; ловкости военного человека не бывало; физики атлетической не имею. Есть некоторый умишко, – да на что он им?.. В сем предмете они вкуса настоящего не знают».
«Все это прекрасно-с!» – рассуждал он затем, придя домой и в том же озлобленном настроении. – Но если я в самом деле не имею для ее сиятельства никакого значения, то зачем же мне в таком случае таскаться к ней каждый день?.. Надобно, по крайней мере, сделать ей декларацию: «так и так, мол, а там как вам угодно будет». Но Миклаков очень хорошо знал, что на словах он не в состоянии будет сделать никогда никакой декларации уж по одному тому, что всякий человек, объясняющийся в любви, до того ему казался смешным и ничтожным, что он скорее бы умер, чем сам стал в подобное положение.
«Мы княгине напишем! – решился он после некоторого размышления. – Благо бумага все терпит: трус на бумаге может явиться храбрецом; подлец нагло говорит о своем благородстве, она смиренно переносит всякую ложь, пошлость, глупость, – виват бумаге! Напишем-с», – повторил еще раз Миклаков и действительно написал. Письмо его вышло в том же юмористическом и насмешливом тоне, хоть вместе с тем на сердце у него сильно щемило и болело.
«Милостивая государыня, княгиня Елизавета Сергеевна! – писал он. – Если дьяволам дозволено не бескорыстно возводить свои очи на ангелов земных, именуемых женщинами, то я виновен в том пред вами и пылаю к вам неудержимой страстью, после которой опять, может быть, придется еще раз сойти с ума. С вашей стороны прошу быть совершенно откровенною, и если вам не благоугодно будет дать благоприятный на мое письмо ответ, за получением которого не премину я сам прийти, то вы просто велите вашим лакеям прогнать меня: „не смей-де, этакая демократическая шваль, питать такие чувства к нам, белокостным!“ Все же сие будет легче для меня, чем сидеть веки-веченские в холодном и почтительном положении перед вами, тогда как душа требует пасть перед вами ниц и молить вас хоть о маленькой взаимности».
Отправившись, как и всегда, вечером к княгине, Миклаков захватил это письмо с собой. Г-жу Петицкую он застал там же, она еще и не уходила со вчерашнего дня от княгини. Сели, как водится, играть в карты. Миклаков беспрестанно щупал себя за карман, как бы опасаясь, чтобы письмо оттуда не выскочило. Сам он был при этом бледен и заметно встревожен. Все это заметили княгиня и г-жа Петицкая. Последняя вряд ли не догадалась, что «на тут немножко лишняя, потому что, воспользовавшись первой удобной минутой, вышла. По уходе ее Миклаков заговорил каким-то могильным и торопливым тоном:
– Вы как-то просили меня прочесть вам мои сочинения, – все это вздор, они не стоят того, а вот я лучше желаю, чтобы вы прочли то, что я собственно для вас написал. Можно вам передать это?
Тут уж княгиня, в свою очередь, побледнела.
– Давайте! – проговорила она торопливо.
Миклаков вынул из кармана письмо и подал его ей. Княгиня сейчас же спрятала его в карман.
– Я завтра приду за ответом! – присовокупил Миклаков.
– Приходите! – отвечала княгиня протяжно.
Г-жа Петицкая довольно долго еще не возвращалась, но Миклаков и княгиня ни слова уже не говорили между собой и даже не глядели друг на друга.
Весь следующий день Миклаков провел в сильном беспокойстве и волнении. Он непременно ожидал, что когда придет к Григоровым, то усатый швейцар их с мрачным выражением в лице скажет ему строгим голосом: „Дома нет-с!“.
Но швейцар, однако, встретил его с обычной своей флегмой.
– А что, дома княгиня? – спросил его Миклаков.
– У себя-с! – отвечал швейцар, повертывая к нему свою засаленную спину и вешая вместе с тем его пальто на обычном гвоздике.
Миклаков прошел в гостиную, где княгиня всегда его принимала, но там никого не застал и оставался довольно долгое время один, так что, увидав выглянувшую на него из-за дверей с любопытством горничную, он поспешил сказать ей:
– Доложи княгине, что я пришел.
– Слушаю-с! – отвечала та и, вероятно, сейчас же доложила, потому что княгиня, наконец, вышла. Лицо ее имело весьма расстроенное и как бы испуганное выражение.
– Bonsoir[116], – сказала она и тотчас же села на диван в несколько церемонной позе.
Миклаков тоже сел невдалеке от нее и тоже в церемонной позе. Разговор между ними не начинался несколько минут, наконец, Миклаков прервал это молчание.
– Я пришел получить ваш ответ на мое письмо… – проговорил он.
– Вы уже получили его! – отвечала княгиня, держа глаза совсем опущенными в землю.
– То есть я не прогнан: значит, я могу растолковать это совершенно в мою пользу?
– Я не знаю, ей-богу, – отвечала княгиня, не поднимая глаз.
– Как вы не знаете? – спросил Миклаков, удивленный и испуганный таким ответом. – Я, кажется, весьма прямо и ясно спросил.
Княгиня молчала.
– Почему же вы отвечаете мне так уклончиво? – присовокупил он.
– Потому что я не могу иначе отвечать! – сказала княгиня.
– Отчего ж не можете?
– Оттого, что я на днях совсем уезжаю в Петербург к отцу и матери своей.
И слезы при этом заискрились на глазах княгини.
– В Петербург уезжаете, навсегда!.. – повторил глухим голосом Миклаков. – И вы давно имели это намерение?
– Давно!
– Ну, и то хорошо, что я раньше этого не знал!.. Было в жизни хоть несколько минут счастливого самообольщения… Ох, боже мой, боже мой! – как бы больше простонал Миклаков.
Княгиня обмирала и едва могла переводить дыхание. Получив накануне объяснение в любви Миклакова, она с той поры пережила тысячу разнообразных и мучительных чувствований: сначала она обрадовалась, потому что для нее найдена, наконец, была цель в жизни, но потом и испугалась того: как! Отвечать любовью совершенно постороннему человеку? Что скажет ее совесть?.. Что скажет князь… общество? Отказаться же от этой любви – значило опять обречь себя на скуку, на одиночество, а такая жизнь казалась княгине теперь больше невозможною, и она очень хорошо сознавала, что, оставаясь в Москве, не видеться с Миклаковым она будет не в состоянии. Чтобы спасти себя от этого соблазна, она решилась уехать в Петербург, к отцу. С этим намерением княгиня пробыла весь день и с этим же намерением приняла Миклакова; но его расстроенный вид, его печаль и отчаяние, когда она сказала ему свое решение, сильно поколебали ее решимость: она уже готова была сказать ему, что она, пожалуй, и не поедет, однако, произнести эти слова ей было невыносимо стыдно, и она сочла за лучшее промолчать.
Миклаков вскоре после того встал и, держа в руках шляпу, произнес:
– Итак, до свидания?
– До свидания… – проговорила княгиня.
– Зачем же я, безумец, говорю: до свидания? Надобно говорить откровеннее, – навсегда прощайте!
Княгиня и на это хотела сказать, что зачем же навсегда, что она вовсе не желает этого и что этого никогда быть даже не может, но ничего, однако, не сказала.
Миклаков еще некоторое время постоял перед ней, как бы ожидая услышать от княгини хоть одно слово в утешение, но она молчала, и Миклаков, раскланявшись, ушел. Княгине легче даже сделалось, когда она перестала его видеть… Она сейчас же ушла к себе в комнату и здесь, тщательно скрывая это от прислуги, начала потихоньку плакать…
Миклаков прошел от княгини не домой, а в Московский трактир, выпил там целое море разной хмельной дряни, поссорился с одним господином, нашумел, набуянил, так что по дружественному только расположению к нему трактирных служителей он не отправлен был в часть, и один из половых бережно даже отвез его домой. Здесь он сначала спал, как мертвый, потом часу в девятом утра проснулся с совершенно почти обезумевшей головой. Мысли, одна другой несбыточнее, бессвязно проходили в уме его: то ему думалось ехать за княгиней в Петербург, преследовать ее год, два, лишь бы добиться ее любви, то похитить ее здесь и увезти куда-нибудь с собой далеко. Наконец, он вдруг вскочил со своей постели, схватил бумагу и написал княгине письмо: „Я страшно заболел и, вероятно, невдолге опять помешаюсь… Молю об одном: пришлите мне ваш большой портрет, который висит у вас в угольной комнате; я поставлю его вместо образа в головах, когда буду умирать!“
Отправив записку эту, он снова послал за водкой, напился ею до бесчувственности и опять заснул.
Княгиня, получив записку, окончательно перепугалась. Портрет она, разумеется, сейчас же послала и приложила к нему еще записочку: „Посылаю вам мою фотографию, но вы спрячьте ее, потому что я сегодня непременно упрошу мужа заехать к вам и сказать мне, что такое с вами?“
За обедом она действительно сказала князю:
– Миклаков прислал ко мне записку, что он очень болен.
– Это чем и отчего? – спросил тот.
– Не знаю, – проговорила княгиня, потупляясь. – Ты не заедешь ли его проведать?
– Непременно, сегодня же!
– Пожалуйста, съезди и мне скажешь, что такое с ним, – повторила княгиня.
– Хорошо! – отвечал князь и, встав из-за стола, сейчас же велел подать себе карету и поехал к Миклакову.
Тот в это время успел уже опять проснуться и, мрачный, истерзанный, сидел перед полученным портретом княгини и смотрел на него. Вдруг раздались шаги. Миклаков сообразил, что это может быть князь, и спрятал портрет в ящик.
В нумер действительно вошел князь.
– Что такое с вами? – воскликнул он, пораженный наружным видом Миклакова.
– Да так что-то… не совсем хорошо! – отвечал тот, по преимуществу стараясь, как бы не дохнуть на князя вином.
– Но что же именно? – расспрашивал его тот.
– Опять, кажется, сумасшествие начинается, – отвечал Миклаков, держась за голову, которая от боли треснуть была готова.
– Не может быть! – возразил князь искренно встревоженным голосом. – Но что же это, от любви, что ли, опять какой-нибудь? – присовокупил он, смотря, по преимуществу, с удивлением на воспаленные глаза Миклакова и на его перепачканные в пуху волосы.
– А черт его знает от чего! – отвечал тот.
– Не хотите ли, я вам медика пришлю?
– Не нужно-с! – произнес с досадой Миклаков и при этом встал со стула, подошел к постели своей и лег на нее, а потом начал растирать рукою грудь, как бы затрудняясь, чем дышать.
Князь продолжал смотреть на него с участием.
– Не мешаю ли я вам? Вы заснуть, кажется, хотите, – присовокупил он, видя, что Миклаков закрыл глаза и несколько времени лежит в таком виде.
– Да, лучше оставьте меня; я один как-нибудь тут пролежу-с, – отозвался, не открывая глаз, Миклаков.
– А медика решительно не хотите? – переспросил его князь.
– Решительно не хочу.
Князь, делать нечего, уехал и завернул сначала домой, чтобы рассказать о своем посещении княгине.
– Он чуть ли опять с ума не сходит, – проговорил он, входя к ней.
Княгиня побледнела.
– Как с ума сходит? – почти воскликнула она. – Что же, он лежит в постели?
– Не лежит, а весь вид имеет сумасшедшего человека; я предлагал было прислать ему доктора, – не хочет.
– Но если он сумасшедший, что же его слушать? Просто послать к нему доктора!
– Посылай, пожалуй, – не примет, или даже прогонит.
При этом разговоре князю в первый раз еще запало в голову некоторое подозрение, что не влюблена ли жена в Миклакова, и он решился расспросить об этом Елену, которая, как припомнил он теперь, кое-что, в шутку, конечно, и намекала ему на это.
* * *
По отъезде мужа снова из дому, княгиня осталась в совершенном отчаянии: из-за нее человек с ума сходил, мог умереть, наконец! По своей доброте, она готова была пожертвовать собою, чтобы только спасти его; но как это сделать, она решительно не могла понять. К счастию, к ней явилась на помощь г-жа Петицкая, которая сейчас же заметила ее смущенный и расстроенный вид и приступила к ней с расспросами: что это значит? Княгиня решилась на этот раз с ней быть совершенно откровенною. Она рассказала ей, как Миклаков прислал ей с объяснением в любви записку, как он у нее был потом, и она сказала ему, что уезжает в Петербург к отцу и матери.
– Но разве вы в самом деле уезжаете? – воскликнула г-жа Петицкая, тоже испугавшись. Она сама очень многое теряла в княгине, не говоря уже о дружбе ее, даже в материальном отношении: та беспрестанно делала ей подарки, давала часто денег взаймы.
– Да, то есть я хотела уехать, – отвечала княгиня сконфуженным голосом.
– Зачем?.. Для чего?..
– Для того… Что же мне остается делать?
– Как что?.. Я не понимаю вашего вопроса.
– Не отвечать же мне на его чувство, – пояснила, наконец, княгиня, краснея в лице.
– Стало быть, он вам не нравится!
– Тут дело не в том, нравится ли он мне или нет; но мне никто не должен нравиться.
– Это почему? – спросила г-жа Петицкая с удивлением.
– Потому что я – замужняя женщина.
– Нет, вы не замужняя женщина, вы – разводка, даже больше того: вы – вдова, потому что муж ваш для вас невозвратим; и что бы вы теперь ни делали, вас извинят не только что люди, но и бог!
– Да я-то себя не извиню, – отвечала княгиня.
Г-жа Петицкая пожала при этом плечами.
– Тут дело не во мне, – продолжала княгиня, – если бы одной меня касалось, я бы сумела совладеть со всяким моим чувством; но тут другой человек замешан! Он, говорят, с ума сходит и умрет.
– Очень не мудрено… Это не барон, который поухаживал, его прогнали, он и утешился сейчас: Миклаков – человек с чувством, с душой.
Г-жа Петицкая готова была бог знает как хвалить Миклакова, чтобы только полюбила его княгиня и не уехала в Петербург.
– А теперь я и поправить решительно не знаю как, – присовокупила та.
– Ах, боже мой, как трудно, скажите, пожалуйста! – воскликнула Петицкая. – Напишите ему, что отвечаете на его чувство – вот и все!
– Ни за что!.. Никогда!.. – воскликнула княгиня почти с ужасом. – Если бы как-нибудь при свидании успокоить и утешить его каким-нибудь словом, – я готова.
– Ну, утешьте его при свидании.
– Но где ж я его увижу?
– У вас… Пошлите к нему, чтобы он пришел к вам.
– Не могу я послать к нему, потому что это значило бы прямо – признаться ему в любви.
Петицкая только усмехнулась при этом и опять пожала плечами: княгиня начала становиться для нее совершенно непонятною.
– Ну, хотите, я к нему напишу, чтобы он пришел ко мне?
– Что ж из того, что он к вам придет?
– То, что и вы ко мне приезжайте: у меня и увидитесь, – больше ничего!
Княгиня некоторое время думала.
– Пожалуй… Хорошо!.. – ответила, наконец, она.
* * *
Г-жа Петицкая после этого сейчас же побежала домой и написала Миклакову записку на французском языке, в которой приглашала его прийти к ней, поясняя, что у нее будет „une personne, qui desire lui dire quelques paroles consolatrices“ [117], и что настанет даже время, „il sera completement heureux“ [118]. В конце же записки было прибавлено: „У меня также будет и княгиня Григорова“. К счастью Миклакова, он после посещения князя удержался и не пил целый вечер, на другой день поутру отправился даже на службу, по возвращению с которой он и получил благодатную весточку от г-жи Петицкой. Радость его с полною ясностью я описать даже не могу, а скажу только, что Миклаков начал по своему нумеру танцевать, припрыгивать, прищелкивать. Затем, не выпивши ни рюмки вина или водки, пообедал только, и так как всю предыдущую ночь не спал, то заснул мертвым сном и часов в восемь проснулся поздоровевший и совершенно счастливый. Расфрантившись, надушившись, он отправился к г-же Петицкой, которая в своей маленькой квартирке, очень мило убранной, приготовила все как следует для приема гостей. У ней готов был чай с бриошками[119], карточный столик был поставлен в небольшой гостиной, и даже заказан был легкий ужин. Когда Миклаков пришел к Петицкой, княгиня была уже у ней.
– Вы были больны? – спросила его Петицкая.
– Да, и порядочно! – отвечал ей Миклаков немного смущенным голосом от тайной мысли, чем собственно он был болен.
Княгиня вся пылала в лице.
Г-жа Петицкая, только что перед тем убеждавшая ее как можно скорее ободрить Миклакова, поспешила будто бы зачем-то по хозяйству выйти.
– Кто это позволил вам быть больным? – проговорила княгиня, когда они остались вдвоем, видимо, употребляя над собой страшное усилие.
– Что делать, сил недостало перенести такой удар, – отвечал Миклаков, держа голову и глаза потупленными.
– Удара тут никакого нет!.. Я вовсе не еду в Петербург! – говорила княгиня.
– Не едете? – спросил Миклаков радостным голосом.
– Не еду! Только теперь, пожалуйста, нечего больше об этом говорить!.. – присовокупила она скороговоркой и затем сейчас же перевела разговор на совершенно другие предметы. Когда потом г-жа Петицкая возвратилась, то княгиня заметно была рада ее приходу и даже сказала ей:
– Не извольте больше уходить!
Г-жа Петицкая, разумеется, повиновалась ей, но вместе с тем сгорала сильным нетерпением узнать, объяснился ли Миклаков с княгиней или нет, и для этой цели она изобретала разные способы: пригласив гостей после чаю сесть играть в карты, она приняла вид, что как будто бы совершенно погружена была в игру, а в это время одним глазом подсматривала, что переглядываются ли княгиня и Миклаков, и замечала, что они переглядывались; потом, по окончании пульки, Петицкая, как бы забыв приказание княгини, опять ушла из гостиной и сильнейшим образом хлопнула дверью в своей комнате, желая тем показать, что она затворилась там, между тем сама, спустя некоторое время, влезла на свою кровать и стала глядеть в нарочно сделанную в стене щелочку, из которой все было видно, что происходило в гостиной. При этом г-жа Петицкая очень ясно рассмотрела, что Миклаков сидел некоторое время, понурив голову, и чертил мелом на столе; княгиня же, откинувшись на задок кресел, то вскидывала на него глаза свои, то снова опускала их. Вдруг Миклаков что-то такое проговорил ей. Княгиня на это, осмотревшись боязливо кругом, протянула ему свою руку, которую он с жаром поцеловал. Г-жа Петицкая и этим уж была довольна на первый раз и сошла с своего наблюдательного поста.
IX
В одно утро Елпидифор Мартыныч беседовал с Елизаветой Петровной и сам был при этом в каком-то елейном и добром настроении духа. Князь накануне только прислал ему тысячу рублей и приглашение снова сделаться годовым в доме его врачом.
– Что, ничего еще на внучка не получали? Ничем князь его не обеспечил? – спрашивал он, повертывая между пальцами свою золотую табакерку.
– Ничем!.. Ни грошем!.. – отвечала Елизавета Петровна невеселым голосом.
– Он обеспечит непременно!.. Не такой человек князь! – успокоивал ее Елпидифор Мартыныч.
– Знаю, что не такой человек по душе своей; но ведь в животе и смерти бог волен: сегодня жив, а завтра нет, – что тогда со всеми нами будет?
– Да, конечно, к-ха!.. – согласился Елпидифор Мартыныч. – Объяснить бы как-нибудь вам это надо было ему, – присовокупил он.
– Нет, уж это – благодарю покорно! – возразила Елизавета Петровна грустно-насмешливым голосом. – Мне дочка вон напрямик сказала: „Если вы, говорит, маменька, еще раз заикнетесь, говорит, с князем о деньгах, так я видеться с вами не буду“. Ну, так мне тут погибай лучше все, а видеть ее я желаю.
– Конечно, конечно! – опять согласился Елпидифор Мартыныч.
– Вы тоже не хотите сказать князю об этом, хоть и ваша личная польза тут замешана, – говорила Елизавета Петровна.
– Мне как сказать ему об этом?.. На это надобно иметь большое право.
– Да ведь прежде же говорили?..
– Прежде все-таки не о таком важном предмете шел разговор. Кроме того, я тут тоже через одну особу действовал.
– Через какую же это особу?
– Так, тут, через одну – к-ха!
– Где же теперь эта особа?
– Умерла! – отвечал Елпидифор Мартыныч, чтобы отвязаться от дальнейших расспросов Елизаветы Петровны.
Действовал он, как мы знаем, через Анну Юрьевну; но в настоящее время никак не мог сделать того, потому что когда Анна Юрьевна вышла в отставку и от новой попечительницы Елпидифору Мартынычу, как любимцу бывшей попечительницы, начала угрожать опасность быть спущенным, то он, чтобы спастись на своем месте, сделал ей на Анну Юрьевну маленький доносец, которая, случайно узнав об этом, прислала ему с лакеем сказать, чтобы он после того и в дом к ней не смел показываться. Елпидифор Мартыныч смиренно покорился своей участи, хотя в душе и глубоко скорбел о потере практики в таком почтенном доме.
– Но как же тут быть, что делать? – спрашивала его Елизавета Петровна.
Елпидифор Мартыныч развел руками.
– К-ха!.. – начал он, как и во всех важных случаях, с кашля. – От времени тут надобно больше всего ожидать.
– Что же время может сделать?.. Только несчастье нам может принести, если, чего не дай бог слышать, князь умрет, – перебила его Елизавета Петровна.
– А время вот что-с может принести!.. – продолжал Елпидифор Мартыныч, перемежая по временам речь свою кашлем. – Когда вот последний раз я видел княгиню, она очень серьезно начала расспрашивать меня, что полезно ли будет для ее здоровья уехать ей за границу, – ну, я, разумеется, зная их семейную жизнь, говорю, что „отлично это будет, бесподобно, и поезжайте, говорю, не на один какой-нибудь сезон, а на год, на два“.
– Что ж из того, что она поедет за границу?.. Поедет да и приедет! – возразила Елизавета Петровна.
Елпидифор Мартыныч нахмурил при этом свои густые брови.
– Ну, пока еще приедет, а князь тем временем совершенно будет в руках ваших, – произнес он.
– Да разве в моих, батюшка, в моих разве руках он будет? Я опять тут ни при чем останусь! – воскликнула Елизавета Петровна.
– Что ж ни при чем? Вам тогда надобно будет немножко побольше характеру показать!.. Идти к князю на дом, что ли, и просить его, чтобы он обеспечил судьбу внука. Он вашу просьбу должен в этом случае понять и оценить, и теперь, как ему будет угодно – деньгами ли выдать или вексель. Только на чье имя? На имя младенца делать глупо: умер он, – Елене Николаевне одни только проценты пойдут; на имя ее – она не желает того, значит, прямо вам: умрете вы, не кому же достанется, как им!..
– Так, так! – согласилась Елизавета Петровна с блистающими от удовольствия глазами и как бы заранее предвкушая блаженство иметь на князе в тридцать, в сорок тысяч вексель.
Умаслив таким образом старуху, Елпидифор Мартыныч поехал к Елене, которая в это время забавлялась с сыном своим, держа его у себя на коленях. Князь сидел невдалеке от нее и почти с пламенным восторгом смотрел на малютку; наконец, не в состоянии будучи удержаться, наклонился, вынул ножку ребенка из-под пеленки и начал ее целовать.
– А посмотри, ручки у него какие смешные, – сказала Елена, вытаскивая из-под пеленки ручку ребенка.
Князь и ту начал целовать.
– А носик у него какой тоже славный! – произнесла Елена и тут уж сама не утерпела, подняла ребенка и начала его целовать в щечки, в глазки; тому это не понравилось: он сморщил носик и натянул губки, чтобы сейчас же рявкнуть, но Елена поспешила снова опустить его на колени, и малютка, корчась своими раскрытыми ручонками и ножонками, принялся свои собственные кулачки совать себе в рот. Счастью князя и Елены пределов не было.
В комнату вошел, наконец, приехавший Елпидифор Мартыныч.
– Приятная семейная картина! – произнес он негромким голосом.
– Ах, здравствуйте! – сказала ему на это Елена довольно ласковым голосом.
– Здравствуйте! – сказал ему тоже ласково и князь.
– Прежде всего-с – к-ха! – начал Елпидифор Мартыныч. – Осмотрим Николая Григорьича… Теплота в тельце умеренная, пупок хорош, а это что глазки ваши вы так держите?.. Не угодно ли вам их открыть?.. – И Елпидифор Мартыныч дотронулся легонько пальцем до горлышка ребенка, и тот при этом сейчас же открыл на него свои большие черные глаза.
– Воспалены немного, воспалены, – продолжал Елпидифор Мартыныч, – маленькое прилитие крови к головке есть.
– Но он ужасно много ест и спит! – как бы пожаловалась Елена на сына.
– И отлично делает, что сим занимается, отлично! – подхватил Иллионский и уселся, чтобы, по обыкновению своему, поболтать.
– Какой случай сейчас! – начал он с усмешкою. – Подъезжаю я почти к здешнему дому, вдруг мне навстречу сын этого богача Оглоблина, – как его: Николай Гаврилыч, что ли!.. Ведь он, кажется, родственник вам?
– По несчастью, родственник, – отвечал князь, начинавший немного досадовать в душе, зачем Елпидифор Мартыныч расселся тут и мешает ему любоваться сыном.
– Только вдруг он кричит: „Стой! Стой!“, – продолжал свой рассказ доктор. – Я думал, бог знает что случилось: останавливаюсь… он соскакивает с своего экипажа, подбегает ко мне: „Дайте-ка, говорит, мне вашу шляпу, а я вам отдам мою шапку. Мне, говорит, ужо нужно ехать в маскарад, и я хочу нарядиться доктором“. – „Что такое, говорю, за глупости!“ Ну, пристал: „Дайте, да дайте!“ Думаю, сын такого почтенного и именитого человека, – взял, да и отдал, а он мне дал свою шапку. Хорошо, по крайней мере, что моя-то шляпенка ничего не стоит, а его шапка рублей двести, чай, заплачена.
И с этими словами Елпидифор Мартыныч встряхнул перед глазами своих слушателей в самом деле дорогую бобровую шапку Оглоблина и вместе с тем очень хорошо заметил, что рассказом своим нисколько не заинтересовал ни князя, ни Елену; а потому, полагая, что, по общей слабости влюбленных, они снова желают поскорее остаться вдвоем, он не преминул тотчас же прекратить свое каляканье и уехать.
Николя Оглоблин выпросил шляпу у Елпидифора Мартыныча действительно для маскарада, но только хотел нарядиться не доктором – это он солгал, – а трубочистом. Месяца два уже m-r Николя во всех маскарадах постоянно ходил с одной женской маской в черном домино, а сам был просто во фраке; но перед последним театральным маскарадом получил, вероятно, от этого домино записочку, в которой его умоляли, чтобы он явился в маскарад замаскированным, так как есть будто бы злые люди, которые подмечают их свидания, – „но только, бога ради, – прибавлялось в записочке, – не в богатом костюме, в котором сейчас узнают Оглоблина, а в самом простом“. Николя начал ломать себе голову, какой бы это такой простой костюм изобресть; не в цирюльню же ехать и взять там себе какую-нибудь мерзость. Но когда он встретил Елпидифора Мартыныча и невольно обратил внимание на его лоснящуюся против солнца скверную, круглую шляпенку, то ему вдруг пришла в голову счастливая мысль выпросить эту шляпу и одеться трубочистом. Намерение свое, как мы видели, он привел в исполнение и в двенадцать часов был уже в предполагаемом костюме в театральной зале. Вскоре потом он увидел свое знакомое женское домино и прямо направился к нему.
– Ах, это вы? – проговорило ему домино пискливым голосом.
– Я-с! – отвечал Николя, едва ворочая под маской своими толстыми губищами и сильно задыхаясь под ней.
Затем маска взяла Оглоблина под руку.
– Лучше нам, я думаю, ложу взять; здесь тесно, да и такая дрянная толпа, – проговорила она.
– Bon![120] – повиновался ей Николя и взял самую темную ложу в бенуаре.
Толпа замаскированных все больше и больше прибывала, и, между прочим, вошли целых пять мужских масок: две впереди под руку и сзади, тоже под руку, три. Маски эти, должно быть, были все народ здоровый, не совсем благовоспитанный и заметно выпивший.
– Что ж, они здесь? – спросила одна из передних масок.
– Здесь! Я уж справлялся. Он сегодня в костюме трубочиста.
– А, в костюме трубочиста! Ха-ха-ха!.. – говорил и смеялся спрашивающий.
Задняя тройка шла молча и как-то неуклюже шагая. В передней паре один одет был разбойником, с огромным кинжалом за поясом, а другой – кучером с арапником. Задние же все наряжены были в потасканные грубые костюмы капуцинов, с огромными четками в руках. Проходя мимо того бенуара, в котором поместился Николя со своей маской, разбойник кивнул головой своему товарищу и проговорил несколько взволнованным голосом:
– Смотри, вот они где сидят.
– Ага!.. И отлично! – повторил опять другой и снова захохотал. – Ребятам-то надобно дать еще выпить! – присовокупил он, когда они прошли в ложу.
– Дадим! Пойдемте, господа, вонзимте! – проговорил разбойник, обращаясь к задней тройке.
– Вонзим, вонзим! – отозвалась одна из масок, и все они с видимым удовольствием последовали за разбойником, который провел их в буфет, где и предложил им целый графин водки в их распоряжение. Все три капуцина сейчас же выпили по рюмке и потом, не закусивши даже, по другой, а разбойник и кучер угостили себя по стаканчику лисабонского.
– Теперь-с, – начал первый из них толковать прочим товарищам, – как они тронутся, мы на тройке за ними; девка уже подкуплена, на звонок отворит нам, мы войдем и сделаем свое дело…
– Чтобы тоже кто из соседей не услыхал: пожалуй, и полицию притащат! – заметил один из капуцинов, вероятно, более благоразумный.
– Да никто, черт ты этакий, не услышит, – возразил ему с досадой разбойник, – совершенно отдельный флигель и ход даже с улицы: я приезжал туда, бывало, какой пьяный, пел и орал, чертям тошно, – никто никогда ничего не слыхал!
– Да ведь, наконец, брат, коли взялся, так отнекиваться нечего! – подхватил кучер, обращаясь к капуцину.
– Коли деньги взял, так действуй, как велят! – подхватил другой капуцин.
– Да, это точно что… – согласился невеселым голосом первый капуцин.
В это время Николя и Петицкая (читатель, вероятно, догадался, кто была эта маска) продолжали сидеть в своем бенуаре и разговаривали между собой. Г-жа Петицкая была на этот раз более чем грустна. Пользуясь тем, что она сидела в совершенно почти темном углу ложи, маску свою она сняла и, совершенно опустив в землю глаза, нетерпеливой рукой, сама, кажется, не замечая того, вертела свое домино до того, что изорвала даже его. М-r Николя тоже был в каком-то раздраженно-воспаленном состоянии. Он перед тем только спросил бутылку шампанского, которую хотел было распить вместе с г-жой Петицкой, что и делал всегда обыкновенно в прежние маскарады; но та решительно отказалась, так что он всю бутылку принужден был выпить один.
– Этому решительно не должно продолжаться, – говорила г-жа Петицкая.
– Но почему же? – спрашивал Николя удивленным и испуганным голосом.
– Потому что завтра или послезавтра должна приехать моя сестра ко мне, и я не хочу, чтобы она была свидетельницей моего позора.
У г-жи Петицкой ни на какую сестру в целом мире намека не было.
– Но что ж сестра?.. Мы можем видаться не у вас, а в гостиницах! – как-то шлепал больше Николя своим толстым языком.
– Что?.. Что?.. – воскликнула г-жа Петицкая. – Это уже глупо, наконец, так говорить! – проговорила она как бы и раздраженным голосом.
Николя сильно сконфузился таким замечанием.
– Вы принимаете меня, я не знаю, за какую женщину… – продолжала г-жа Петицкая.
– Нисколько я не принимаю!.. И думать никогда ничего подобного не смел!.. Я люблю только пламенно вас, – говорил Николя.
Петицкая захохотала самым обидным, саркастическим смехом.
– Чему же вы смеетесь? – спросил ее Николя, в свою очередь, тоже обиженным и опечаленным тоном.
– Ах, боже мой, боже мой, – произнесла на это, как бы больше сама с собой, г-жа Петицкая. – Если бы вы действительно любили меня пламенно, – обратилась она к Николя, – так не стали бы спрашивать, чему я смеюсь, а сами бы поняли это.
– Но как же мне понять? Ей-богу, я не знаю, научите меня, – je vous supplie.[121]
– Подобным вещам не учат-с, а мужчины, любя, сами знают их!
Николя на это пожал только плечами. Он в самом деле был поставлен в довольно затруднительное положение: по своему уму-разуму и по опытам своей жизни он полагал, что если любимая женщина грустит, капризничает, недовольна вами, то стоит только дать ей денег, и она сейчас успокоится; но в г-же Петицкой он встретил совершенно противуположное явление: сблизясь с ней довольно скоро после их первого знакомства, он, видя ее небогатую жизнь, предложил было ей пятьсот рублей, но она отвергнула это с негодованием. Потом он и после того несколько раз умолял ее принять от него или деньги, или хоть подарок какой-нибудь; на все это г-жа Петицкая только грустно усмехалась и отрицательно качала головой. Она в этом случае имела совершенно иные виды: слывя между всеми своими знакомыми, конечно, немножко за кокетку, но в то же время за женщину весьма хорошей нравственности, тем не менее однако, г-жа Петицкая, при муже и во вдовстве, постоянно имела обожателей, но только она умела это делать как-то необыкновенно скрытно: видалась с ними по большей части не дома, а если и дома, то всегда подбирала прислугу очень глупую и ничего не понимающую. Самой живой и сильною страстью ее в последнее время был Архангелов; он сильно пленил ее красотой своей; но на розах любви, если только под ними не подложено обеспеченного состояния, как известно, нельзя долго почить. Г-жа Петицкая увидала, что ей скоро кушать будет нечего, потому что Архангелов только опивал и объедал ее, да еще денег у нее брал взаймы; само благоразумие заставило ее не пренебречь ухаживанием m-r Николя, и, рассчитывая на его недалекость и чувственный темперамент, г-жа Петицкая надеялась даже женить его на себе; для этого она предположила сначала сблизиться с ним, показать ему весь рай утех, и вдруг все это прервать, объяснив ему, что рай сей он может возвратить только путем брака. Настоящее свидание было последнее, на котором она и предназначила объявить ему свое решение.
– Что ж, мы отсюда к вам поедем? – проговорил Николя каким-то уж робким голосом.
Петицкая некоторое время недоумевала: сказать ли ему свое решение в маскараде и потом самой уехать, оставя Николя одного?.. Но как в этом случае можно было понадеяться на мужчину: пожалуй, он тут же пойдет, увлечется какой-нибудь маской и сейчас же забудет ее! Гораздо было вернее зазвать его в свой уединенный уголок, увлечь его там и тогда сказать ему: finita la commedia![122]
– Поедемте, если уж вы так желаете этого, – отвечала она ему грустным тоном.
Николя был в восторге и предложил сейчас же уехать из маскарада.
– Хорошо, – отвечала Петицкая и на это грустным тоном.
Через несколько минут они в карете Николя уже неслись в скромный проулок жилища г-жи Петицкой. Вскоре за ними, этим же путем, проехала и ухарская извозчичья тройка с несколькими седоками.
По возвращении домой, Петицкая не позволила Николя войти прямо за собой в спальню и объявила ему, что она еще переодеться хочет, потому что ей будто бы страшно неловко было в маскарадном платье, и когда, наконец, он был допущен, то увидел ее сидящею в восхитительной блузе.
Николя даже совестно сделалось, что сам он одет был трубочистом. Он тяжело опустился в кресло и начал глядеть на свою собеседницу. От выпитого шампанского и от волновавшей его страсти у него глаза даже выперло вперед.
– Подите сюда, я вас поцелую! – произнес он каким-то задыхающимся голосом.
– Нет!.. Нельзя! – отвечала на это г-жа Петицкая, отрицательно качнув головой и не трогаясь с своего места.
– Отчего же нельзя? – спросил Николя уже с испугом и удивлением.
– Оттого же!.. – отвечала протяжно Петицкая. – Что посидите еще у меня немного, и adieu навсегда.
– Не может быть, вы шутите?.. – говорил Николя: у него на глазах почти были слезы.
– Нисколько!.. Я долго себе позволяла безрассудно увлекаться; пора же и опомниться!
– Но почему же безрассудно? – бормотал Николя.
– Почему безрассудно?.. Странный вопрос! – отвечала г-жа Петицкая грустно-насмешливым голосом. – Словом, – присовокупила она решительным тоном, – любовницей я ничьей больше быть не желаю, но женой вашей с величайшим восторгом буду!
Николя опять выпучил глаза, и неизвестно, что бы он отвечал, но в это время раздался сильный звонок.
Петицкая вздрогнула и не успела крикнуть горничной, чтобы та не отворяла дверей, как услыхала, что та уж прибежала и отворила их.
В переднюю вошли несколько замаскированных людей; это были знакомые нам разбойник, кучер и капуцины. Горничная как бы от испугу вскрикнула и затем, убежав в кухню, спряталась там. Разбойник повел своих товарищей хорошо, как видно, знакомым ему путем. Они вошли сначала в залу, а потом через маленькую дверь прямо очутились в спальной.
– А, вот они! – вскрикнул разбойник, вынув свой кинжал и махнув им.
– Боже мой! – вскрикнула Петицкая. Она, кажется, узнала вошедших, или, по крайней мере, одного из них.
Николя с испуганным и удивленным лицом хлопал пока только глазами.
– Распоряжайтесь с этим барином хорошенько! – крикнул разбойник, показывая на него товарищам.
Те сейчас же бросились на Николя, и, как тот ни отбивался, они повергли его на пол и принялись его хлестать – кучер плетью, а капуцины четками.
– Боже мой! Боже мой! – стонала между тем Петицкая, ломая руки.
Перед ней стоял разбойник с поднятым кинжалом. Николя первоначально продолжал, ругаясь, отбиваться и старался высвободиться; наконец, начал орать во все горло и кричать:
– Караул!
– О, не кричите так!.. Вы меня совсем погубите! – упрашивала его Петицкая.
Николя начал уж восклицать:
– Умираю! Умираю!
– Ну, бросьте его! – разрешил, наконец, разбойник.
Капуцины поотпустили Николя, который мгновенно же поднялся на ноги и бросился бежать. В передней он едва успел схватить шубу и, держа ее в руках, вскочил в свою карету и велел, что есть духу, везти себя домой.
– Ну, теперь вас, madame, – обратился разбойник к Петицкой.
– Серж, умоляю тебя, я невинна! – взмолилась к нему она.
– Знаю я вас, как вы невинны! – воскликнул разбойник.
Здесь, впрочем, автор находит более удобным накинуть завесу на последовавшую затем грустную и возмутительную картину и воскликнуть только:
О, родина моя!
Когда смягчишься в нравах ты!
X
На другой день после описанного нами горестного события княгиня получила от Петицкой записку, которую та прислала к ней со своей горничной, очень безобразной из себя. Горничную эту г-жа Петицкая тоже считала весьма недалекою, но в сущности вряд ли это было так: горничная действительно имела рожу наподобие пряничной формы и при этом какой-то огромный, глупый нос, которым она вдобавок еще постоянно храпела и сопела; но в то же время она очень искусно успела уверить барыню, что во вчерашнем происшествии будто бы сама очень испугалась и поэтому ничего не слыхала, что происходило в спальне. В записке своей, написанной, по обыкновению, очень правильным французским языком, г-жа Петицкая умоляла княгиню приехать к ней, так как она очень больна и, что хуже всего, находится совершенно без денег; но идти и достать их где-нибудь у ней совершенно не хватает сил. Г-жа Петицкая не упускала ни одного случая, чтобы занять у княгини хоть маленькую сумму, которую она, разумеется, никогда и не возвращала. Добрая княгиня очень встревожилась этим известием и сама вышла к горничной.
– Что такое с твоей барыней? – спросила она.
– Оне нездоровы очень-с! – отвечала с храпом горничная и вместе с тем улыбаясь всем своим ртом.
– Но чем именно?
– Спинка, должно быть, болит-с! – произнесла горничная и вместе с тем, как бы не утерпев, фыркнула на всю комнату.
– Но чему же ты смеешься, моя милая? – спросила княгиня, несколько уже рассердившись на нее.
– Да я всегда такая-с! – отвечала горничная, втягивая в себя с храпом воздух: ей главным образом смешно было вспомнить, что именно болит у ее госпожи.
Сама княгиня не поехала к своей подруге, так как она ждала к себе Миклакова, но денег ей, конечно, сейчас же послала и, кроме того, отправила нарочного к Елпидифору Мартынычу с строгим приказанием, чтобы он сейчас же ехал и оказал помощь г-же Петицкой. Тот, конечно, не смел ослушаться и приехал к больной прежде даже, чем возвратилась ее горничная.
Дверь с крыльца в переднюю оставалась еще со вчерашнего вечера незапертою. Елпидифор Мартыныч вошел в нее, прошел потом залу, гостиную и затем очутился в спальне г-жи Петицкой. Та в это время лежала в постели и плакала.
– Это что, о чем такие слезы? – воскликнул Елпидифор Мартыныч.
Он видал Петицкую еще прежде того несколько раз у княгини.
– Ах, боже мой, Елпидифор Мартыныч! – воскликнула она, в свою очередь, стараясь поправить несколько свое неглиже.
– Я-с, я-с это – к-ха! – отвечал ей доктор, садясь около ее кровати. – Княгиня прислала меня к вам и велела мне непременна вас вылечить!
– Merci! – проговорила больная, почему-то вся вспыхнувши в лице.
– Что же у вас такое болит-с? – спрашивал Елпидифор Мартыныч, несколько наклоняясь к ней.
– Все болит! – отвечала Петицкая.
– Как все? Что-нибудь да не болит же ведь!.. – возразил Елпидифор Мартыныч.
– Все! – повторила г-жа Петицкая настойчиво.
Елпидифор Мартыныч поставлен был в большое недоумение; он взял ее руку и пощупал пульс.
– Пульс нервный только, – произнес он. – Видно, только раздражение нервное. Что вы, не рассердились ли на что-нибудь, не опечалились ли чем-нибудь, не испугались ли чего?
– Ах, я очень испугалась! – воскликнула Петицкая, как бы обрадовавшись последнему вопросу Иллионского. – Вообразите, я ехала на извозчике; он меня выпрокинул, платье и салоп мой за что-то зацепились в санях; лошадь между тем побежала и протащила меня по замерзшей улице!
– А, скверно это, скверно… Что же, переломов нет ли где в руке, в ноге?
– Переломов нет.
– Ушибы, значит, только?
– Да, ушибы.
– Г-м! – произнес глубокомысленно Елпидифор Мартыныч. – Посмотреть надобно-с, взглянуть! – присовокупил он.
– Ни за что на свете, ни за что! – воскликнула г-жа Петицкая.
– А вот это так предрассудок, совершенный предрассудок! – возразил ей Иллионский. – Стыдливость тут ни к чему-с не ведет.
– Ну, как вы там хотите, а я не могу.
– Все-таки примочку какую-нибудь прописать вам надобно.
– Пожалуй! – протянула г-жа Петицкая.
Елпидифор Мартыныч вышел прописать рецепт и только было уселся в маленькой гостиной за круглый стол, надел очки и закинул голову несколько вправо, чтобы сообразить, что собственно прописать, как вдруг поражен был неописанным удивлением: на одном из ближайших стульев он увидел стоявшую, или, лучше оказать, валявшуюся свою собственную круглую шляпенку, которую он дал Николя Оглоблину для маскарада. Первым движением Елпидифора Мартыныча было закричать г-же Петицкой несколько лукавым голосом: „Какая это такая у ней шляпа?“, но многолетняя опытность жизни человека и врача инстинктивно остановила его, и он только громчайшим образом кашлянул на всю комнату: „К-ха!“, так что Петицкая даже вздрогнула и невольно проговорила сама с собой:
– Господи! Как он кашляет ужасно…
Елпидифор Мартыныч после того принялся писать рецепт, продолжая искоса посматривать на свою шляпенку и соображая, каким образом она могла попасть к г-же Петицкой.
– Когда же с вами эта неприятность от извозчика случилась? – крикнул он своей пациентке, как бы для соображения при писании рецепта, а в сущности для объяснения обстоятельств по случаю шляпы.
– Вчера! – отвечала ему больная из своей комнаты.
– Вчера!.. – повторил протяжно доктор: вчера он именно и дал шляпу Николя.
Для Елпидифора Мартыныча не оставалось более никакого сомнения в том, что между сим молодым человеком и г-жой Петицкой кое-что существовало.
– Стало быть, у извозчика лошадь была очень бойкая, если он так долго не мог остановить ее? – крикнул он ей опять.
– Очень бойкая! – отвечала ему та.
– Бойкая!.. – повторил еще раз Елпидифор Мартыныч и сам с собой окончательно решил, что она вовсе ехала не на извозчике, а, вероятно, на бойких лошадях Николя Оглоблина, и ехала, вероятно, с ним из маскарада.
– А рано ли вы это ехали? – попытался он еще спросить ее.
– Очень поздно, из маскарада ехала! – отвечала г-жа Петицкая.
Елпидифор Мартыныч при этом только с удовольствием улыбнулся.
– Эврика! – произнес он сам с собой и затем, написав рецепт и отдав его с приличным наставлением г-же Петицкой, расшаркался перед нею моднее обыкновенного, поцеловал у нее даже при этом ручку и уехал.
Елпидифор Мартыныч вообще со всеми женщинами, про которых он узнавал кто-что, всегда делался как-то развязнее.
От г-жи Петицкой Елпидифор Мартыныч прямо отправился к княгине с тем, чтобы донести ей о том, что исполнил ее приказание, а потом, если выпадет к тому удобный разговор, то и рассказать ей о том, что успел он наблюсти у г-жи Петицкой. Елпидифор Мартыныч, опять-таки по своей многолетней опытности, очень хорошо знал, что всякая женщина, как бы она ни была дружна с другой женщиной, всегда выслушает с удовольствием скандал про эту другую женщину, особенно если этот скандал касается сердечной стороны. Услыхав о приезде Иллионского, княгиня поспешила даже выйти к нему навстречу.
– Что такое с Петицкой? – спрашивала она, когда Елпидифор Мартыныч только что успел показаться в зале.
– Да нехорошо-с, нехорошо-с! – отвечал доктор. – А пожалуй, и хорошо! – присовокупил он после нескольких минут молчания с улыбкою.
– Как, нехорошо и хорошо? – спросила княгиня, немножко испуганная и с удивлением.
– Это я так, пошутил, – отвечал Елпидифор Мартыныч, лукаво потупляя перед ней глаза свои.
– Но чем же собственно она больна? – приставала княгиня.
– Испугом, кажется, больше ничего; она ехала, выпрокинулась из саней и немножко потащилась.
– Господи боже мой! – воскликнула княгиня окончательно испуганным голосом. – Но откуда же это она ехала?
– Из маскарада… ночью и, кажется, не одна!.. – отвечал Иллионский с расстановкой (он в это время вместе с княгиней входил в гостиную, где и уселся сейчас же в кресло). – Между нами сказать, – прибавил он, мотнув головой и приподнимая свои густые брови, – тут кроется что-то таинственное.
– Но что такое тут может быть таинственного? – спросила княгиня.
Елпидифор Мартыныч сначала усмехнулся немного, а потом рассказал подробнейшим образом, как он отдал свою шляпу Николя Оглоблину для маскарада и как сегодня, приехав к г-же Петицкой, увидел эту шляпу у ней в гостиной.
– Ту самую, которую вы отдали Николя? – спросила его княгиня.
– Ту самую! – отвечал Иллионский.
Княгиня при этом покраснела даже немного в лице. Она сама уже несколько времени замечала, что у Петицкой что-то такое происходит с Николя Оглоблиным, но всегда старалась отогнать от себя подобное подозрение, потому что считала Николя ниже внимания всякой порядочной женщины.
– Зачем же могла быть у нее его шляпа?
– Вероятно, заезжал после маскарада побеседовать с ней!..
На последние слова Елпидифор Мартыныч сделал сильное ударение.
– Я, однако, все-таки тут ничего не понимаю! – произнесла княгиня досадливым голосом. – А вы спрашивали, зачем у нее эта шляпа?
– Господи помилуй! Разве о подобных вещах спрашивают дам? – возразил Елпидифор Мартыныч, растопыривая руки.
– А я так спрошу ее непременно, – говорила княгиня.
– Нет, уж и вы, пожалуйста, не спрашивайте – к-ха!.. Я сказал вам по преданности моей, а вы меня и выдадите – к-ха!.. – начал было упрашивать Елпидифор Мартыныч.
– Я вас не буду выдавать – нисколько!.. – возразила ему княгиня.
– Да как же не выдавать, – от кого же вы узнали про это? – продолжал Елпидифор Мартыныч каким-то уже жалобным голосом.
– Ну, уж я знаю, от кого узнала! – почти прикрикнула на него княгиня.
Елпидифор Мартыныч чмокнул только на это губами и уехал от княгини с твердою решимостью никогда ей больше ничего не рассказывать. Та же, оставшись одна, принялась рассуждать о своей приятельнице: более всего княгиню удивляло то, что неужели же Петицкая в самом деле полюбила Оглоблина, и если не полюбила, то что же заставило ее быть благосклонною к нему?
Как бы в разрешение всех этих вопросов вошел лакей и доложил, что приехал Николя Оглоблин.
– Ах, проси! – воскликнула на этот раз княгиня с явным удовольствием.
По свойственному женщинам любопытству, она не в состоянии была удержаться и решилась теперь же, сейчас же, не говоря, конечно, прямо, повыведать от Николя всю правду, которую он, как надеялась княгиня, по своей простоватости не сумеет скрыть.
Николя вошел к ней, заметно стараясь быть веселым, беззаботным и довольным. Он нарочно ездил по своим знакомым, чтобы те не подумали, что с ним накануне что-нибудь случилось. На Петицкую Николя был страшно сердит, потому что догадался, что вздул его один из ее прежних обожателей. Он дал себе слово никогда не видаться с нею и даже не произносить никогда ее имени, как будто бы и не знал ее совсем.
– Пожалуйте-ка сюда, – пожалуйте! – сказала княгиня, при его входе, несколько даже как бы угрожающим голосом.
Николя от одного этого уже немного сконфузился.
– Что такое, что такое? – зашлепал он своим толстым языком.
– А где вы вчера вечером были? – спросила княгиня, уставляя на него пристальный взгляд.
Николя просто обмер.
– Дома был-с! – отвечал он, решительно не находя, что бы такое придумать.
– А зачем же вы шляпы у Елпидифора Мартыныча просили? – продолжала княгиня.
– Какой шляпы-с? – спросил Николя, как бы ни в чем неповинный.
– А такой, в которой вечером вы были в маскараде.
Николя при этом покраснел, как рак вареный.
– Это вам все старый этот черт Иллионский наболтал, – проговорил он.
– Нет, не Иллионский! – возразила ему княгиня. – Потому что я знаю даже, куда вы из маскарада уехали.
Николя окончательно растерялся; он нисколько уже не сомневался, что княгиня все знает и теперь смеется над ним, а потому он страшно на нее рассердился.
– Много что-то вы уж знаете! До всего вам дело!.. – произнес он, надувшись.
– Дело потому, что вы мне родня…
– Много у меня этакой-то родни по Москве! – бухнул Николя.
Княгиня увидела, что с этим дуралеем разговаривать было почти невозможно.
– Как это мило так выражаться! – сказала она, немножко уж рассердясь на него.
– Что выражаться-то? Вы сами начали… – продолжал Николя.
Княгиня окончательно на него рассердилась.
– Действительно, я на этот раз виновата и вперед не позволю себе никакой шутки с вами! – проговорила она и, встав с своего места, ушла совсем из гостиной и больше не возвращалась, так что Николя сидел-сидел один, пыхтел-пыхтел, наконец, принужден был уехать.
Его главным образом бесило то, от кого княгиня могла узнать, и как только он помышлял, что ей известна была вся постигшая его неприятность, так кровь подливала у него к сердцу и неимоверная злоба им овладевала. С этим самым» чувством он совершил все прочие свои визиты, на которых никто даже не намекнул ему о вчерашней неприятности, – значит, одна только княгиня в целой Москве и знала об этом, а потому она начинала представляться ему самым злейшим его врагом. Надобно было ей самой отомстить хорошенько. О, Николя имел для этого отличное средство! Г-жа Петицкая давно уже рассказала ему о шурах-мурах княгини с Миклаковым. «А где ж они видаются?» – спросил тогда ее Николя. – «В доме у княгини… Миклаков почти каждый вечер бывает у ней, и князя в это время всегда дома нет», – отвечала Петицкая. – «Значит, они в гостиной у них и видаются?» – продолжал допрашивать Николя. «Вероятно, в гостиной», – отозвалась Петицкая. Николя все это очень хорошо запомнил, и поэтому теперь ему стоило сказать о том князю, так тот шутить не будет и расправится с княгиней и Миклаковым по-свойски. Николя, как мы знаем, страшно боялся князя и считал его скорее за тигра, чем за человека… Но как же сказать о том князю, кто осмелится сказать ему это? «А что если, – придумал Николя, – написать князю анонимное письмо?» Но в этом случае он опасался, что князь узнает его руку, и потому Николя решился заставить переписать это анонимное письмо своего камердинера. Для этого, вернувшись домой, он сейчас же позвал того ласковым голосом:
– Пойдем, Севастьянушко, ко мне в кабинет.
Камердинер последовал за ним.
– Вот видишь, – начал Николя своим неречистым языком: – видишь, мне надобно послать письмо.
– Слушаю-с! – протянул Севастьян, глубокомысленно стоя перед ним.
– Перепиши мне, пожалуйста! – заключил Николя.
Камердинер посмотрел на барина с каким-то почти презрением и удивлением.
– Да что я за писарь такой! Я и писать-то настоящим манером не умею, – произнес он.
– Да ничего, как-нибудь, пожалуйста!.. – упрашивал его Николя.
Камердинер опять с каким-то презрением усмехнулся.
– Да сами-то вы не умеете, что ли, писать-то? – сказал он.
– Мне нельзя, понимаешь, руку мою знают; догадаются, тогда черт знает что со мной сделают!.. Перепиши, сделай дружбу, я тебе пятьдесят целковых за это дам.
Камердинер отрицательно покачал головой.
– Коли с вами что-нибудь сделают, что же со мною будет?
– Да ничего тебе не будет, уверяю тебя! – успокоивал его Николя.
Севастьянушко и сам очень хорошо понимал, что вряд ли барин затеет что-нибудь серьезно-опасное, и если представлялся нерешительным, то желал этим набить лишь цену.
– Ну, я тебе сто рублей дам! – бухнул Николя от нетерпения сразу.
Камердинер почесал у себя при этом в затылке.
– К кому же такому письмо-то это? – продолжал он спрашивать, как бы еще недоумевая.
– К князю Григорову… безыменное!.. Никем не подписанное… О том, что княгиня его живет с другим.
– Да, вот видите-с, штука-то какая! – произнес камердинер, несколько уже и смутившись.
– Никакой штуки тут не может быть: руки твоей князь не знает.
– Нет-с, не знает.
– Люди ихние тоже не знают твоей руки?
– Нет-с, не знают; да и самих-то их я никого не знаю.
– Так чего же тебе бояться?..
Камердинер продолжал соображать.
– Только деньги-то вы мне вперед уж пожалуйте: они теперь мне очень нужны-с! – проговорил он, наконец.
– Деньги отдам вперед, – отвечал Николя, покраснев немного в лице.
Камердинер не без основания принял эту предосторожность: молодой барин часто обещал ему разные награды, а потом как будто бы случайно и позабывал о том.
Условившись таким образом с Севастьяном, Николя принялся сочинять письмо и сидел за этой работой часа два: лоб его при этом неоднократно увлажнялся потом; листов двенадцать бумаги было исписано и перервано; наконец, он изложил то, что желал, и изложение это не столько написано было по-русски, сколько переведено дурно с французского:
«Любезный князь! Незнакомые вам люди желают вас уведомить, что жена ваша вам неверна и дает рандеву господину Миклакову, с которым каждый вечер встречается в вашей гостиной; об этом знают в свете, и честь вашей фамилии обязывает вас отомстить княгине и вашему коварному ривалю».
Все сие послание камердинер в запертом кабинете тоже весьма долго переписывал, перемарал тоже очень много бумаги, и наконец, письмо было изготовлено, запечатано, надписано и положено в почтовый ящик, а вечером Николя, по случаю собравшихся у отца гостей, очень спокойно и совершенно как бы с чистой совестью болтал с разными гостями. Он, кажется, вовсе и не подозревал, до какой степени был гадок содеянный им против княгини поступок.
XI
Князь получил анонимное письмо в то время, как собирался ехать к Елене. Прочитав его, он несколько изменился в лице и вначале, кажется, хотел было идти к княгине, показать ей это письмо и попросить у нее объяснения ему; но потом он удержался от этого и остался на том же месте, на котором сидел: вся фигура его приняла какое-то мрачное выражение. Более всего возмущал его своим поступком Миклаков. Положим даже, что княгиня сама первая выразила ему свое внимание; но ему сейчас же следовало устранить себя от этого, потому что князь ввел его в свой дом, как друга, и он не должен был позволять себе быть развратителем его жены, тем более, что какого-нибудь особенно сильного увлечения со стороны Миклакова князь никак не предполагал. Самым простым и естественным делом казалось князю вызвать подобного господина на дуэль! Но он очень хорошо знал, каким образом Миклаков смотрит на дуэли этого рода, да и кроме того, что скажет об этой дуэли Елена: она ее напугает, глубоко огорчит, пойдет целый ряд сцен, объяснений!.. Словом, рассудок очень ясно говорил в князе, что для спокойствия всех близких и дорогих ему людей, для спокойствия собственного и, наконец, по чувству справедливости он должен был на любовь жены к другому взглянуть равнодушно; но в то же время, как и в истории с бароном Мингером, чувствовал, что у него при одной мысли об этом целое море злобы поднимается к сердцу. Скрыть это и носить в этом отношении маску князь видел, что на этот, по крайней мере, день в нем недостанет сил, – а потому он счел за лучшее остаться дома, просидел на прежнем своем месте весь вечер и большую часть ночи, а когда на другой день случайно увидел в зеркале свое пожелтевшее и измученное лицо, то почти не узнал себя. С княгиней он мог еще не видаться день и два, но к Елене должен был ехать.
«Э, черт возьми! Могу же я быть спокойным или не спокойным, как мне пожелается того!» – подумал он; но, поехав к Елене, все-таки решился, чтобы не очень встревожить ее, совладеть с собой и передать ей всю эту историю, как давно им ожидаемую. Но Елена очень хорошо знала князя, так что, едва только он вошел, как она воскликнула встревоженным даже голосом:
– Что такое у тебя за вид сегодня?
– А что? – спросил князь, как бы не понимая ее.
– Ты зеленый какой-то…
– Так, нездоровится что-то сегодня.
Елена продолжала на него смотреть, не спуская глаз.
Князь после нескольких минут молчания постарался даже усмехнуться.
– Я вчера получил анонимное письмо, которым извещают меня, что между княгиней и Миклаковым существует любовь… – проговорил он, продолжая усмехаться; но этим, однако, ему не удалось замаскироваться перед Еленой.
– И тебя это, видно, очень встревожило? – спросила она его.
– Да, отчасти, – отвечал князь: – главное, в том отношении, что этим соблазнителем моей супруги является Миклаков, человек, которого я все-таки любил искренно!..
– А, вот что!.. – произнесла Елена, и князь по одному тону голоса ее догадался, какая буря у ней начинается в душе.
– Ты, разумеется, – заговорил он, опять усмехаясь немного и как бы желая в этом случае предупредить Елену, – не преминешь сочинить мне за то сцену, но что же делать: чувствовать иначе, как я чувствую, я не могу…
– Это с чего ты взял, что я сочиню тебе сцену? – воскликнула Елена, гордо поднимая перед ним свою голову. – Слишком ошибаешься!.. Прошла та пора: теперь я тебя очень хорошо понимаю, и если бы ты даже стал притворяться передо мною, так я бы это сейчас увидела, и ты к теперешним своим качествам прибавил бы в глазах моих еще новое, весьма некрасивое.
– Какое же это такое? – спросил князь.
– Качество лжеца! – отвечала Елена.
– Качество нехорошее! – произнес князь. – А какие же мои теперешние качества, – любопытно было бы знать? – присовокупил он.
– Качества весьма обыкновенные… Весьма! – отвечала Елена почти с презрительной гримасой. – Ты имеешь любовницу и жену; обеих их понемножку любишь и очень не желаешь, чтобы которая-нибудь из них изменила тебе!.. Словом, себя считаешь в праве делать все, что тебе угодно, и крайне бываешь недоволен, когда другие вздумают поступать тоже по своему усмотрению.
Князь при такого рода определении ему самого себя, покраснел даже в лице.
– Очень странно, что ты такого человека позволила себе полюбить, – сказал он.
– Ошиблась, больше ничего! – пояснила ему Елена. – Никак не ожидала, чтобы люди, опутанные самыми мелкими чувствами и предрассудками, вздумали прикидываться людьми свободными от всего этого!.. Свободными людьми – легко сказать! – воскликнула она. – А надобно спросить вообще: много ли на свете свободных людей?.. Их нужно считать единицами посреди сотней тысяч, – это герои: они не только что не боятся измен жен, но даже каторг и гильотин, и мы с вами, ваше сиятельство, никак уж в этот сорт людей не годимся.
– Совершенно согласен! – сказал князь. – Но опять тебе повторяю, что мне странно, как ты полюбила человека, подобного мне, а не избрала кого-либо, более подходящего к воображаемому тобою герою.
– Вначале я тебя считала подходящим к такому герою.
– Что же такое потом тебя разочаровало во мне?.. Это мое некоторое внимание к поведению жены?
– Нет, не это только, а многое, многое! – отвечала Елена с ударением.
Князь хотя и полагал, что она говорит таким образом под влиянием ревности, а потому, может быть, высказывает то, чего и не чувствует, но, как бы то ни было, он рассердился на нее и решился, в свою очередь, тоже высказать ей несколько горьких истин.
– Вот видишь ли что! – начал он с дрожащими немного от досады губами. – Согласен, что я имею предрассудки, мелкие чувства; но когда мы кого любим, то не только что такие недостатки, но даже пороки прощаем!.. Значит, любви в тебе ко мне нисколько нет!.. Мало этого, в тебе даже нет простого чувства сожаления ко мне, которое мы имеем ко всем почти людям!.. Ты очень хорошо знала, что я пришел к тебе с большой моей раной; но ты вместо того, чтобы успокоить меня, посоветовать мне что-нибудь, говоришь мне только дерзости.
– Ах, нет, уж извините!.. За советом этим вам лучше обратиться к какому-нибудь вашему адвокату! – воскликнула Елена. – Тот научит вас, куда и в какой суд подать вам на вашу жену жалобу: законы, вероятно, есть против этого строгие; ее посадят, конечно, за то в тюрьму, разведут вас.
– Я вовсе не хочу жены моей сажать в тюрьму! – возразил князь. – И если бы желал чего, так это единственно, чтобы не видеть того, что мне тяжело видеть и чему я не желаю быть свидетелем.
– В таком случае прогоните вашу жену от себя, или еще лучше того – отправьте ее за границу!.. Это многим может показаться даже очень великодушным с вашей стороны.
– В том-то и горе, что она не желает этого… – возразил князь.
– Тогда начните поколачивать ее, и после этого она непременно уж пожелает.
Князь при этом усмехнулся даже несколько.
– А ты думаешь, что я способен поколотить ее? – проговорил он.
– Ах, нет, нет, виновата! – опять воскликнула Елена. – Я ошиблась; жену вашу, потому, разумеется, только, что она жена ваша, вы слишком высоко ставите и не позволите себе сделать это против нее; но любовница же, как я, например, то другое дело.
– Тебя, значит, это я способен поколотить?..
– Еще как!.. С наслаждением, я думаю! Вообще: бросить, поколотить любовницу всякому нравственному человеку, как ты, даже следует: того-де она и стоит!
Слова эти окончательно рассердили князя. Он встал и начал ходить по комнате.
– После того, как ты меня понимаешь, мне, в самом деле, следовало бы тебя оставить, что я и сделал бы, если бы у нас не было сына, за воспитанием которого я хочу следить, – проговорил он, стараясь при этом не смотреть на Елену.
– В отношении воспитания вашего сына, – начала она, – вы можете быть совершенно покойны и не трудиться наблюдать нисколько над его воспитанием, потому что я убила бы сына моего из собственных рук моих, если бы увидела, что он наследовал некоторые ваши милые убеждения!
– И ты искренно это говоришь? – спросил ее князь, бледнея весь в лице.
– Совершенно искренно, совершенно! – отвечала Елена с ударением и, по-видимому, в самом деле искренним голосом.
– Хорошо, что заранее, по крайней мере, сказала! – проговорил князь почти задыхающимся от гнева голосом и затем встал и собрал все книги, которые приносил Елене читать, взял их себе под руку, отыскал после того свою шляпу, зашел потом в детскую, где несколько времени глядел на ребенка; наконец, поцеловав его горячо раза три – четыре, ушел совсем, не зайдя уже больше и проститься с Еленой. Та, в свою очередь, тоже осталась в сильно раздраженном состоянии. Ее больше всего выводила из себя эта двойственность и непоследовательность князя. Говорит, что не любит жену, и действительно, кажется, мало любит ее; говорит, наконец, что очень даже рад будет, если она полюбит другого, и вместе с тем каждый раз каким-то тигром бешеным делается, когда княгиня начинает с кем-нибудь даже только кокетничать. Положим, прежде бесновался он оттого, что барона считал дрянью совершенною, но про Миклакова он никак не мог этого сказать. «В самом деле им лучше разъехаться; по крайней мере они не будут мучить друг друга», – решила в мыслях своих Елена. Кроме того, отъезд княгини за границу она находила недурным и для себя, потому что этим окончательно успокаивалась ее ревность; сообразив все это, Елена прежде всего хотела перетолковать с Миклаковым и, не любя откладывать никакого своего намерения, она сейчас же отправилась к нему. Миклакова Елена застала дома и, сверх обыкновения, довольно прилично одетым.
– У меня сейчас был князь, – начала она, усевшись на одном из сломанных стульев, – и сказывал, что получил анонимное письмо о вашей любви с княгиней.
– О нашей любви с княгиней? – повторил Миклаков, по-видимому, тоном немалого удивления. – Но кто ж ему мог написать эту нелепость? – присовокупил он.
– Лепость это или нелепость – я не знаю и, конечно, уж не я ему писала! – проговорила Елена, покраснев от одной мысли, что не подумал ли Миклаков, что князь от нее узнал об этом, так как она иногда смеялась Миклакову, что он влюблен в княгиню, и тот обыкновенно, тоже шутя, отвечал ей: «Влюблен-с!.. Влюблен!».
– Знаю, что не вы, – произнес он, нахмуриваясь в свою очередь. – Впрочем, что ж?.. На здоровье ему, если у него есть такие добрые и обязательные корреспонденты.
– Ему вовсе не на здоровье, потому что он взбешен, как я не знаю что! – возразила Елена.
Миклаков усмехнулся при этом и взглянул пристально на Елену.
– Да вы о ком тут больше хлопочете: о нас или о князе? – спросил он.
– И о вас и о князе, потому что я никак не ручаюсь, чтобы он, в одну из бешеных минут своих, не убил вас обоих!
– Даже убил?.. Ой, батюшки, как страшно! – сказал Миклаков комическим тоном.
– Пожалуйста, не шутите! Смеяться в этом случае нечего, потому что князь решительно не желает быть свидетелем вашей любви, и потому, я полагаю, вам и княгине лучше всего теперь уехать за границу.
Миклаков на это опять усмехнулся.
– Уехать за границу, конечно, каждому хорошо, но для этого прежде всего нужно иметь деньги.
– За деньгами дело не станет: князь с удовольствием даст на это княгине денег.
– Все это очень хорошо-с! – возражал Миклаков. – Но это дело, нисколько до меня не касающееся.
– Как не касающееся! – воскликнула Елена. – И вы должны ехать за границу, если только любите княгиню.
– Я-то? – спросил Миклаков каким-то дурацким голосом и почесывая у себя в затылке.
– Да, вы-то! – повторила Елена.
Миклаков продолжал улыбаться и почесывать у себя в затылке.
– Что же, поедете или нет? – присовокупила Елена.
– Поеду, если уж очень звать будут! – отвечал Миклаков.
– Звать его будут!.. Вот противный-то! – воскликнула Елена. – Но, во всяком случае, вы отправляйтесь к княгине и внушите ей эту мысль.
– Какую эту мысль? – спросил Миклаков, как бы не поняв Елены.
– Мысль уехать за границу.
– Ну, уж это – слуга покорный… Я никогда ей внушать такой мысли не буду.
– Это почему?
– Потому что это прямо значит увезти ее от мужа, да и на мужнины еще деньги!.. Очень уж это будет благородно с моей стороны.
– Подите вы с вашим казенным благородно, неблагородно!.. Вас вовсе не то останавливает!
– Что же меня останавливает?
– То, что вы старый, развратный старичишка: вам просто страшно сойтись надолго с порядочной женщиной.
Миклаков, обыкновенно нисколько не стесняясь, всегда рассказывал Елене разные свои безобразия по сердечной части.
– Может быть, и то останавливает… – произнес он, смотря как-то в угол.
– Знаете что… – начала вдруг Елена, взглянув внимательно ему в лицо. – Вы таким тоном говорите, что точно вы нисколько не любите княгини, и как будто бы у вас ничего с ней нет…
– Да у меня с ней ничего и нет! – отвечал, усмехаясь, Миклаков.
– Так-таки ничего? – повторила свой вопрос Елена.
– Серьезно – ничего!..
Елена пожала плечами.
– Странно!.. – произнесла она. – В таком случае зачем же вам и ехать с ней за границу!
Миклаков в ответ на это опять почесал у себя только затылок и молчал.
– Что ж, вы ничего и не скажете княгине о сегодняшнем нашем разговоре с вами? – спросила его Елена.
– Не знаю. Подумаю… – отвечал Миклаков.
Досада заметно отразилась на лице Елены.
– Ну-с, – проговорила она, уже вставая, – я сказала вам мое мнение, предостерегла вас, а там делайте, как знаете.
– Да, это так!.. На том благодарим покорно! – произнес Миклаков снова тоном какого-то дурачка.
Елена уехала от него.
Миклаков хоть и старался во всей предыдущей сцене сохранить спокойный и насмешливый тон, но все-таки видно было, что сообщенное ему Еленою известие обеспокоило его, так что он, оставшись один, несколько времени ходил взад и вперед по своему нумеру, как бы что-то обдумывая; наконец, сел к столу и написал княгине письмо такого содержания: «Князя кто-то уведомил о нашей, акибы преступной, с вами любви, и он, говорят, очень на это взбешен. Приготовьтесь к этому и примите какие-нибудь с своей стороны меры против того: главное, внушите ему, что ревновать ему вас ко всякому встречному и поперечному не подобает даже по религии его, – это, мне кажется, больше всего может его обуздать».
Письмо это, как и надобно было ожидать, очень встревожило княгиню, тем более, что она считала себя уже несколько виновною против мужа, так как сознавала в душе, что любит Миклакова, хоть отношения их никак не дошли дальше того, что успела подсмотреть в щелочку г-жа Петицкая. Не сознавая хорошенько сама того, что делает, и предполагая, что князя целый вечер не будет дома, княгиня велела сказать Миклакову через его посланного, чтобы он пришел к ней; но едва только этот посланный отправился, как раздался звонок. Княгиня догадалась, что приехал князь, и от одного этого почувствовала страх, который еще больше в ней увеличился, когда в комнату к ней вошел лакей и доложил, что князь желает ее видеть и просит ее прийти к нему.
– Доложи князю, что я сейчас выйду в гостиную и что я переодеваюсь теперь, – проговорила она.
Лакей, видя, что барыня вовсе не переодевается, глядел на нее в недоумении.
– Ну, ступай, – сказала ему княгиня.
Лакей ушел.
Княгиня после того зачем-то поправила свои волосы перед зеркалом, позвала потом свою горничную, велела ей подать стакан воды, выпила из него немного и, взглянув на висевшее на стене распятие, пошла в гостиную. Князь уже был там и ходил взад и вперед. Одна только лампа на среднем столе освещала эту огромную комнату. Услыхав шаги жены, князь приостановился. Княгиня, как вошла, так сейчас же поспешила сесть в самом темном месте гостиной. Князь снова начал ходить по комнате. Гнев на Елену, на которую он очень рассердился, а частью и проходившие в уме князя, как бы против воли его, воспоминания о том, до какой степени княгиня, в продолжение всей их жизни, была в отношении его кротка и добра, значительно смягчили в нем неудовольствие против нее. Он дал себе слово, что бы там на сердце у него ни было, быть как можно более мягким и кротким с нею в предстоящем объяснении.
– Я очень рад, что застал вас дома, – начал он почти веселым голосом.
Княгиня молчала.
– Тут один какой-то мерзавец, – продолжал князь после короткого молчания и с заметным усилием над собой, – вздумал ко мне написать извещение, что будто бы вы любите Миклакова.
Княгиня и на это молчала: ей в одно и то же время было страшно и стыдно слушать князя.
– Скажите, правда это или нет? – заключил он почти нежно.
Признаться мужу в своих чувствах к Миклакову и в том, что между ними происходило, княгиня все-таки боялась; но, с другой стороны, запереться во всем – у ней не хватало духу; да она и не хотела на этот раз, припоминая, как князь некогда отвечал на ее письмо по поводу барона, а потому княгиня избрала нечто среднее.
– На подобные вопросы обыкновенно не отвечают мужьям, – проговорила она, как бы больше шутя.
– Отчего же? – спросил князь тем же ласковым голосом.
– Оттого, что откровенный ответ может их оскорбить.
– Поэтому ваш откровенный ответ мог бы оскорбить меня? – растолковал ее слова князь.
Княгиня на это ничего не сказала.
– Но вы ошибаетесь, – продолжал князь. – Никакой ваш ответ не может оскорбить меня, или, лучше сказать, я не имею даже права оскорбляться на вас: к кому бы вы какое чувство ни питали, вы совершенно полновластны в том!.. Тут только одно: о вашей любви я получил анонимное письмо, значит, она сделалась предметом всеобщей молвы; вот этого, признаюсь, я никак не желал бы!..
– Но как же помочь тому?.. Молва иногда бывает совершенно напрасная! – возразила княгиня.
– Да, но тут она не напрасная! – перебил ее резко князь. – И я бы просил вас для прекращения этой молвы уехать, что ли, куда-нибудь!
Княгиня опять затрепетала: ее испугала мысль, что она должна будет расстаться с Миклаковым.
– Но куда же вы хотите, чтоб я уехала? – спросила она прерывающимся голосом.
– Лучше всего за границу!.. Пусть с вами едет и господин Миклаков! – отвечал князь, как бы поняв ее страх. – Я, конечно, обеспечу вас совершенно состоянием: мое в этом случае, как и прежде, единственное желание будет, чтобы вы и я после того могли открыто и всенародно говорить, что мы разошлись.
– Разошлись?.. – проговорила княгиня, но на этот раз слово это не так страшно отозвалось в сердце ее, как прежде: во-первых, она как-то попривыкла к этому предположению, а потом ей и самой иногда невыносимо неловко было встречаться с князем от сознания, что она любит другого. Княгиня, как мы знаем из слов Елпидифора Мартыныча, подумывала уже уехать за границу, но, как бы то ни было, слезы обильно потекли из ее глаз.
Князь это видел, страшно мучился этим и нарочно даже сел на очень отдаленное кресло от жены. Прошло между ними несколько времени какого-то тяжелого и мрачного молчания. Вдруг тот же лакей, который приходил звать княгиню к князю, вошел и объявил, что приехал Миклаков. Княгиня при этом вздрогнула. Князя, тоже вначале, по-видимому, покоробило несколько. Княгиня, поспешно утирая слезы, обратилась к лакею:
– Скажи, что дома нет, что все уехали на целый вечер!.. – проговорила она скороговоркой.
– Нет, зачем же?.. – возразил ей князь. – Прими, скажи, что просят! – возразил он лакею.
Тот пошел.
– А вы несколько успокойтесь! – отнесся князь к жене. – Это отлично, что Миклаков пришел: мы сейчас же с ним все и устроим! – присовокупил он, как бы рассуждая сам с собой.
Миклаков, войдя в гостиную и увидя князя, немного сконфузился: он никак не ожидал, чтобы тот был дома.
– Здравствуйте, мой милый друг! – сказал князь приветливо, протягивая к нему руку.
Миклаков неловко принял у него руку и так же неловко поклонился княгине.
– А вот мы сейчас с княгиней решили, – продолжал князь, – что нам, чем морочить добрых людей, так лучше явно, во всеочию разойтись!
Миклаков ответил на это только взглядом на княгиню, которая сидела, потупивши лицо свое в землю.
– И чтобы прекратить по этому поводу всякую болтовню, она уезжает за границу, и вот я даже вас бы просил сопутствовать ей…
– Меня?.. Сопутствовать княгине? – переспросил Миклаков.
– Да, вас! – отвечал князь и хотел, кажется, еще что-то такое добавить, но не в состоянии уже был того сделать.
Миклаков, в свою очередь, тоже, хоть и усмехался, но заметно растерялся от такого прямого и откровенного предложения. Услыхав поутру от Елены, что княгине и ему хорошо было бы уехать за границу, он считал это ее фантазией, а теперь вдруг сам князь говорит ему о том.
– Что ж, вы проводите ее или нет? – спросил его тот, снова указывая глазами на жену.
Миклаков видел необходимость что-нибудь отвечать.
– Мне еще для этого прежде нужно в отставку подать, – проговорил он как бы размышляющим и соображающим тоном.
– В отставку подать недолго, – подхватил князь.
Миклаков думал некоторое время.
– Но я не знаю, – произнес он потом, – приятно ли будет княгине мое сопутничество.
– Вы желаете, чтобы Миклаков вам сопутствовал? – отнесся к ней князь.
– Желаю, потому что все-таки лучше ехать хоть с одним знакомым человеком, – отвечала княгиня.
– Ну, поэтому и все теперь! – сказал князь. – Через неделю вы, полагаю, можете и ехать, а к этому времени я устрою тамошнюю жизнь вашу! – прибавил он княгине; затем, обратясь к Миклакову и проговорив ему: «до свидания!» – ушел к себе в кабинет.
Миклаков после того некоторое время продолжал усмехаться про себя. Княгиня же сидела печальная и задумчивая.
– У вас, значит, было уже и объяснение? – спросил он ее.
– Да, было! – отвечала она отрывисто.
– Что же, вы сказали ему, что все это вздор?
– Нет, не сказала! – произнесла княгиня по-прежнему отрывисто.
– Отчего же?
– Оттого, что это не вздор!
– Вы полагаете, что не вздор? – повторил Миклаков знаменательно.
Княгиня молчала.
– Ну, а этим отъездом вашим за границу он сам распорядился? – продолжал Миклаков.
– Сам, – сказала княгиня.
– Но вы, кажется, недовольны таким его распоряжением?
– Очень! – отвечала княгиня.
– Почему же?
– Потому что я знаю, что буду наказана за то богом.
Миклаков опять усмехнулся.
– Как бог ни строг, но ему пока решительно не за что еще наказывать вас! – проговорил он.
– Нет, уж есть за что! – произнесла княгиня почти патетически.
Миклаков на это развел только руками.
Князь между тем, войдя в кабинет, прямо бросился на канапе и закрыл глаза: видимо, что всеми этими объяснениями он измучен был до последней степени!
XII
Княгиня на другой, на третий и на четвертый день после того, как решена была ее поездка за границу, оставалась печальною и встревоженною. Наконец, она, как бы придумав что-то такое, написала Петицкой, все еще болевшей, о своем отъезде и просила ее, чтобы она, если только может, приехала к ней. Г-жа Петицкая, получив такое известие, разумеется, забыла всякую болезнь и бросилась к княгине. У той в это время сидел Миклаков, и они разговаривали о князе, который, после объяснения с княгиней, решительно осыпал ее благодеяниями: сначала он прислал княгине с управляющим брильянты покойной своей матери, по крайней мере, тысяч на сто; потом – купчую крепость на имение, приносящее около пятнадцати тысяч годового дохода. Управляющий только при этом каждый раз спрашивал княгиню, что «когда она изволит уезжать за границу?»
Выслушав обо всем этом рассказе, Миклаков сделал насмешливую гримасу.
– Очень уж он женерозничает[123] некстати! – произнес он.
– Отчего же некстати? – спросила княгиня с маленьким удивлением.
– Оттого, что вовсе не то чувствует, – продолжал насмешливо Миклаков. – И в душе, вероятно, весьма бы желал, как указано в Домострое, плеткой даже поучить вас!..
– Ах, нет! В душе он очень добрый человек! – возразила княгиня.
Разговор этот их был прерван раздавшимися в соседней комнате быстрыми шагами г-жи Петицкой.
– Боже мой, душенька, ангел мой! Куда это вы уезжаете? – восклицала она, как только появилась в комнате.
– За границу! – отвечала ей княгиня.
– Что со мной теперь, несчастной, будет, что будет? – продолжала восклицать г-жа Петицкая, ломая себе руки.
Положение ее, в самом деле, было некрасивое: после несчастной истории с Николя Оглоблиным она просто боялась показаться на божий свет из опасения, что все об этом знают, и вместе с тем она очень хорошо понимала, что в целой Москве, между всеми ее знакомыми, одна только княгиня все ей простит, что бы про нее ни услышала, и не даст, наконец, ей умереть с голоду, чего г-жа Петицкая тоже опасалась, так как последнее время прожилась окончательно.
– Теперь только и осталось одно – идти да утопиться в Москве-реке! – присовокупила она, разводя руками.
– Вовсе вам не нужно топиться ни в какой реке, – возразила ей княгиня с улыбкою, – потому что вы должны ехать со мною за границу!
– Я?.. С вами? – воскликнула Петицкая, никак не ожидавшая такого предложения.
– Да, вы! – повторила княгиня.
При этом Миклаков взглянул с некоторым удивлением на княгиню; но она сделала вид, что как будто бы не замечает этого.
– Но я не имею средств, княгиня, ехать за границу! – возразила Петицкая.
– Средства у меня очень хорошие, и потому вам об этих пустяках беспокоиться нечего! – сказала ей княгиня.
У г-жи Петицкой после этого глаза мгновенно увлажнились слезами.
– Княгиня! – начала она каким-то прерывающимся голосом. – Я не знаю, благодарить ли мне вас или удивляться вам?..
– Ни то, ни другое, а ехать со мной! – проговорила княгиня одушевленным и веселым тоном.
– Что ехать с вами я готова, вы, я думаю, не сомневались в том; но в то же время это такая для меня неожиданность и такая радость, что до сих пор еще я не могу прийти в себя!
– Ну, и отлично, что радость!.. Мы будем с вами жить вместе, гулять, переезжать из одного города в другой.
– Уж конечно! – подтвердила г-жа Петицкая в каком-то раздумье и потом, как бы сообразив хорошенько все, что делает для нее княгиня, она вдруг протянула ей руку и проговорила почти трагическим голосом:
– Благодарю вас!
В ответ на это княгиня хотела было ее поцеловать, но г-жа Петицкая вместо того упала к ней совсем в объятия и зарыдала.
Этого Миклаков не в состоянии уже был вынести. Он порывисто встал с своего места и начал ходить с мрачным выражением в лице по комнате. Княгиня, однако, и тут опять сделала вид, что ничего этого не замечает; но очень хорошо это подметила г-жа Петицкая и даже несколько встревожилась этим. Спустя некоторое время она, как бы придя несколько в себя от своего волнения, обратилась к Миклакову и спросила его:
– А вы, monsieur Миклаков, не едете за границу?
– Нет-с, еду! – отвечал он ей.
О, тогда г-же Петицкой показалось, что она очень хорошо понимает: она полагала, что Миклаков тоже едет на деньги княгини, и теперь ему досадно, что она хочет то же самое сделать и для других! Г-жа Петицкая судила в таком случае о Миклакове несколько по своим собственным чувствам.
– Вы, однако, скорее должны собираться! Мы уезжаем через неделю! – сказала ей княгиня.
– Что мне собираться!.. Я в полчаса могу собраться, – возразила г-жа Петицкая. – Но нет, нет, – продолжала она снова трагическим голосом. – Я вообразить себе даже не могу этого счастья, что вдруг я с вами, моим ангелом земным, буду жить под одной кровлей и даже поеду за границу, о которой всегда мечтала. Нет, этого не может быть и этому никогда не сбыться!
– Но отчего же? – спросила княгиня.
– Оттого же, что, вероятно, найдутся некоторые люди, которые будут отсоветовать вам взять меня с собою! – отвечала грустным и печальным голосом г-жа Петицкая. Под именем некоторых людей она, конечно, разумела Миклакова, а частию и князя.
– Никогда я не передумаю, и никто мне не отсоветует этого, – отвечала княгиня с явной настойчивостью; она тоже, в свою очередь, догадалась, кого г-жа Петицкая разумеет под именем некоторых людей.
– Ну, хорошо, смотрите же! – отвечала ей та и затем вскоре ушла, чтобы поспешить в самом деле сборами.
– Что вы за сумасшествие делаете, навязывая себе на руки эту скверную бабу! – воскликнул Миклаков, как только остался вдвоем с княгиней.
– Для вас она скверная, а для меня очень хорошая! – воскликнула ему та упрямым и недовольным голосом.
– Но чем?.. Разве тем, что низкопоклонница, сплетница и даже развратница! – продолжал восклицать Миклаков.
Княгиня при таких эпитетах его покраснела.
– Разве можно так говорить о женщине! – проговорила она: вообще ее часто начинал шокировать грубый и резкий тон Миклакова. – И что всего досаднее, – продолжала она, – мужчины не любят Петицкой за то только, что она умная женщина; а между тем сами говорят, что они очень любят умных женщин.
– Умную еще какую-то нашли! Она лукавая – это так… – воскликнул Миклаков, – а лукавство никак не ум, которого первый признак есть справедливость и ясность.
– Нет, умная, не спорьте! – настаивала на своем княгиня. Она придумала взять с собою Петицкую чисто с целью иметь в ней оплот и защиту свою против любви к Миклакову. Она вознамерилась ни на минуту не расставаться с Петицкой, говорить с ней обо всем, советоваться. Подчиняясь суровой воле мужа, который, видимо, отталкивал ее от себя, княгиня хоть и решилась уехать за границу и при этом очень желала не расставаться с Миклаковым, тем не менее, много думая и размышляя последнее время о самой себе и о своем положении, она твердо убедилась, что никогда и никого вне брака вполне любить не может, и мечты ее в настоящее время состояли в том, что Миклаков ей будет преданнейшим другом и, пожалуй, тайным обожателем ее, но и только. По своему несколько мечтательному и идеальному мировоззрению княгиня воображала, что мужчина, если он только истинно любит женщину, может и должен удовольствоваться этим. Но всего этого она не хотела открывать Миклакову и сказала ему несколько иную причину, почему пригласила Петицкую.
– Как вы не понимаете того! – продолжала она. – Когда Петицкая поедет со мной, то все-таки я поеду с дамой, с компаньонкой, а то мою поездку бог знает как могут растолковать!..
Миклаков многое хотел было возразить на это княгине, но в это время вошел лакей и подал ему довольно толстый пакет, надписанный рукою князя. Миклаков поспешно распечатал его; в пакете была большая пачка денег и коротенькая записочка от князя: «Любезный Миклаков! Посылаю вам на вашу поездку за границу тысячу рублей и надеюсь, что вы позволите мне каждогодно высылать вам таковую же сумму!» Прочитав эту записку, Миклаков закусил сначала немного губы и побледнел в лице.
– Этот господин начинает себе очень большие шуточки позволять, – проговорил он.
– Что такое? – спросила его с беспокойством княгиня.
Миклаков подал ей письмо и деньги.
Княгиня прочла и тоже заметно сконфузилась.
– Ну, я с ним поговорю по этому поводу, – продолжал Миклаков; ему и прежде того еще очень хотелось побеседовать с князем. – Доложи князю, что я желаю его видеть, – присовокупил он стоявшему в дверях лакею и ожидавшему приказания.
– Для чего вы хотите его видеть? – спросила княгиня с беспокойством, когда лакей ушел.
– Да хоть бы для того, чтобы отдать ему деньги назад, – отвечал Миклаков.
Лакей снова возвратился и доложил, что князь просит Миклакова в кабинет.
Тот торопливо пошел туда.
Княгиня осталась в сильно тревожном состоянии.
Войдя к князю, Миклаков довольно небрежно поклонился ему и сейчас же сел.
– Я получил от вас какое-то странное письмо с приложением к оному и пришел вам возвратить все сие! – проговорил он насмешливо и бросил на стол перед князем письмо и деньги.
– Отчего же странное? – спросил тот несколько сконфуженным тоном.
Миклаков пожал, как бы от удивления, плечами.
– Потому что я никогда, сколько помню, не говорил вам ни о каких моих нуждах, никогда не просил у вас денег взаймы, с какой же стати вы пожелали сделать мне презент?
– Я полагал, что ваши средства недостаточны настолько, чтобы жить на них за границею, – проговорил князь довольно ровным голосом.
– Так на какие же средства, по-вашему, я мог рассчитывать, едучи за границу? На средства княгини, что ли?.. – спросил его Миклаков, устремляя на князя пронзительный взгляд. – Сколько я ни ожидал слышать от вас дурное мнение о себе, но такого, признаюсь, все-таки не чаял, а потому позвольте вас разубедить в нем несколько. Я-с потому только еду за границу, что могу там существовать независимо ни от кого в мире. Я выслужил пенсию в тысячу двести рублей!.. У меня есть, кроме того, маленький капитал, за который я продал на днях мою библиотеку!
– В таком случае я очень рад за вас, – прервал его князь, с трудом сдерживая себя и как-то порывисто кидая валявшиеся на столе деньги в ящик, – он полагал, что этим кончится его объяснение с Миклаковым, но тот, однако, не уходил.
– И вообще я желал бы знать, – начал Миклаков снова, – что хорошо ли вы обдумали ваше решение отправить княгиню за границу и чтобы я ей сопутствовал?
Князь только сделал на это презрительную гримасу и молчал. Миклаков заметил это и еще более взбесился.
– Вам, как я слышал, написал кто-то какую-то сплетню про меня и про княгиню, – продолжал он. – Оправдываться, в этом случае я не хочу, да нахожу и бесполезным, а все-таки должен вам сказать, что хоть вы и думаете всеми теперешними вашими поступками разыграть роль великодушного жорж-зандовского супруга Жака[124], но вы забываете тут одно, что Жак был виноват перед женой своей только тем, что был старше ее, и по одному этому он простил ее привязанность к другому; мало того, снова принял ее, когда этот другой бросил ее. В положение его вы никак не можете стать, потому что, прежде всего, сами увлеклись другой женщиной, погубили ту совершенно и вместе с тем отринули от себя жену вашу!.. Если бы даже кто и полюбил княгиню, то во всяком случае поступил бы не бесчестно против вас в силу того, что поднял только брошенное!
Князю, наконец, стали казаться все эти рассуждения Миклакова каким-то умышленным надругательством над ним.
– Я удивляюсь, к чему вы все это говорите? – произнес он едва сдерживаемым от бешенства голосом.
– Да к тому, чтобы вы себя-то уж не очень великодушным человеком считали, – отвечал Миклаков, – так как многие смертные делают то же самое, что и вы, только гораздо проще и искреннее и не быв даже сами ни в чем виноваты, а вы тут получаете должное возмездие!
Князь не в состоянии был далее выдерживать.
– Да кто ж, черт возьми! – воскликнул он, ударив кулаком по столу. – Дал вам право приходить ко мне и анализировать мои чувства и поступки? Я вас одним взмахом руки моей могу убить, Миклаков! Поймите вы это, и потому прошу вас оставить меня!
Говоря это, князь поднялся перед Миклаковым во весь свой огромный рост. Тот тоже встал с своего места и, как еж, весь ощетинился.
– Это так, вы сильнее меня! – начал он, стараясь сохранить насмешливый тон. – Но против силы есть разные твердые орудия! – присовокупил он и положил руку на одно из пресс-папье.
В это время быстро вошла в кабинет княгиня, ходившая уже по зале и очень хорошо слышавшая разговор мужа с Миклаковым.
– Князь, умоляю вас, успокойтесь! – обратилась она прежде к мужу. – Миклаков, прошу вас, уйдите!.. Я не перенесу этого, говорю вам обоим!
Князь ничего на это не сказал жене, даже не взглянул на нее, но, проворно взяв с окошка свою шляпу, вышел из кабинета и через несколько минут совсем ушел из дому.
Миклаков между тем стал ходить по комнате.
– Какой сердитенький барин, а? – говорил он, потирая руки. – Не любит, как против шерсти кто его погладит!..
Княгиня, в свою очередь, принялась почти рыдать.
– Вы-то же о чем плачете? – спросил ее с досадой Миклаков.
– Так… я уж знаю, о чем! – отвечала она.
Во всей предыдущей сцене Миклаков показался княгине человеком злым, несправедливым и очень неделикатным.
– Если вы когда-нибудь опять затеете подобное объяснение с мужем, я возненавижу вас! – проговорила она сквозь слезы.
– Я же виноват! – произнес с удивлением Миклаков, видимо, считавший себя совершенно правым.
* * *
Князь в это время шел по направлению к квартире Елены, с которой не видался с самого того времени, как рассорился с нею. Он думал даже совсем с ней более не видаться: высказанное ею в последний раз почти презрение к нему глубоко оскорбило и огорчило его. В первые дни, когда князь хлопотал об отъезде жены за границу, у него доставало еще терпения не идти к Елене, и вообще это время он ходил в каком-то тумане; но вот хлопоты кончились, и что ему затем оставалось делать? Мысль о самоубийстве как бы невольно начала ему снова приходить в голову. «Умереть, убить себя!» – помышлял князь в одно и то же время с чувством ужаса и омерзения, и его в этом случае не столько пугала мысль Гамлета о том, «что будет там, в безвестной стороне» [125], – князь особенно об этом не беспокоился, – сколько он просто боялся физической боли при смерти, и, наконец, ему жаль было не видать более этого неба, иногда столь прекрасного, не дышать более этим воздухом, иногда таким ароматным и теплым!.. О каких-нибудь чисто нравственных наслаждениях князь как-то не вспоминал, может быть, потому, что последнее время только и делал, что мучился и страдал нравственно.
Очутившись на улице, князь сообразил только одно – идти к Елене, чтобы и с ней покончить все и навсегда, а потом, пожалуй, и пулю себе в лоб… Елена между тем давно уж и с нетерпением поджидала его. Побранившись в последнее свидание с князем, она нисколько не удивлялась и не тревожилась тем, что он нейдет к ней, так как понимала, что сама сделала бы то же самое на его месте. В это время Елена услыхала от Миклакова, что князь отправляет жену за границу, – это ей было приятно узнать, и гнев на князя в ней окончательно пропал. Но вот, однако, князь не шел целую неделю. Елене начинало делаться скучно; чтобы наполнить чем-нибудь свое время, она принялась шить наряды своему малютке и нашила их, по крайней мере, с дюжину; князь все-таки не является. Терпение Елены истощилось; она приготовилась уже написать князю бранчивое письмо и спросить его, «что это значит, и по какому праву он позволяет себе выкидывать подобные штучки», как вдруг увидела из окна, что князь подходит к ее домику. Первым движением Елены была радость, но она сдержала ее, села на свое обычное место, взяла даже работу свою в руки и приняла как бы совершенно спокойный вид. Князь, войдя, слегка пожал ей руку. Его искаженное и явно дышавшее гневом лицо смутило несколько Елену, и при этом она хорошенько не знала, на нее ли князь продолжает сердиться или опять дома он чем-нибудь, благодаря своей глупой ревности, был взбешен.
– А что, Колю могу я видеть? – спросил князь, почти не глядя на Елену.
– Он у себя в детской, – отвечала она.
Князь прошел туда. Ребенок спал в это время. Князь открыл полог у его кроватки и несколько времени с таким грустным выражением и с такой любовью смотрел на него, что даже нянька-старуха заметила это.
– Да не прикажете ли, батюшка, я разбужу его и покажу вам? – проговорила она.
– Нет, не надо! – отвечал князь, вздохнув, и потом, снова возвратясь к Елене, сел невдалеке от нее.
Та как бы старательнейшим образом продолжала работу свою.
– Я хотел бы вас спросить… – заговорил князь, по-прежнему не глядя на Елену, – о том презрении, которое вы так беспощадно высказали мне в прошлый раз: что, оно постоянно вам присуще?.. – И князь не продолжал далее.
Елена поняла всю серьезность и щекотливость этого вопроса.
– А если бы я питала такое презрение к тебе, то как ты думаешь, я оставалась бы с тобой хоть в каких-нибудь человеческих отношениях, а не только в тех, в каких я нахожусь теперь? – спросила она его в свою очередь.
– Не успела еще прервать их, – отвечал князь, грустно усмехнувшись. – Ты сама говорила, что прежде иначе меня понимала.
– Долго что-то очень собираюсь прервать их… Ты не со вчерашнего дня страдаешь и мучишься о супруге твоей и почти пламенную любовь выражаешь к ней в моем присутствии. Кремень – так и тот, я думаю, может лопнуть при этом от ревности.
Князь опять грустно усмехнулся.
– Ревность не заставляет же нас высказывать презрение к тому человеку, которого мы ревнуем, – проговорил он.
– Но в минуты ревности я, может быть, тебя и презираю, – я не скрою того!.. Может быть, даже убить бы тебя желала, чего я в спокойном состоянии, как сам ты, конечно, уверен, не желаю…
Елена на этот раз хотела успокоить князя и разубедить его в том, что высказала ему в порыве досады, хотя в глубине души и сознавала почти справедливость всего того, что тогда говорила.
– А что, как ты думаешь, если бы я все твои выходки по случаю супруги встречала равнодушно, как это для тебя – лучше или хуже бы было? – спросила она.
– По крайней мере, покойней бы было, – возразил князь.
– А, покойней… Ну, того мужчину нельзя поздравить с большим уважением от женщины, если она какие-нибудь пошлости и малодушие его встречает равнодушно, – тут уж настоящее презрение, и не на словах только, а на самом деле; а когда сердятся, так это еще ничего, – значит, любят и ценят! – проговорила Елена.
Князь, с своей стороны, тоже при этом невольно подумал, что если бы Елена в самом деле питала к нему такое презрение, то зачем же бы она стала насиловать себя и не бросила его совершенно. Не из-за куска же хлеба делает она это: зная Елену, князь никак не мог допустить того.
– Ну, не извольте дуться, извольте быть веселым! – проговорила она, вставая с своего места и садясь князю на колени. – Говорят вам, улыбнитесь! – продолжала она, целуя и теребя его за подбородок.
Князь, наконец, слегка улыбнулся.
– Будет уж, довольно оплакивать супругу!.. – не утерпела Елена и еще раз его кольнула. – Говорят, она едет за границу? – прибавила она.
– Едет.
– А когда?
– Дня через три.
– И Миклаков тоже едет?
– И он едет.
– Но чем же они жить будут за границей?
– У Миклакова свое есть, а княгине я отдал третью часть моего состояния, – отвечал князь.
– Ну вот, душка, merci за это, отлично ты это сделал! – проговорила Елена и опять начала целовать князя. – Знаешь что, – продолжала она потом каким-то даже заискивающим голосом, – мне бы ужасно хотелось проститься с княгиней.
– Это зачем? – спросил князь почти с удивлением.
– Так, мне хочется сказать ей на дорогу несколько моих добрых пожеланий!.. Но дело в том: если мне ехать к вам, то княгиня, конечно, меня не примет.
– Вероятно! – подтвердил князь.
– И потому нельзя ли мне просто ехать на железную дорогу, – продолжала Елена опять тем же заискивающим голосом, – и там проститься с княгиней?
Князь молчал, но по лицу его заметно было, что такое намерение Елены ему вовсе не нравилось.
– Ведь ты поедешь провожать ее? – присовокупила между тем Елена.
– Может быть! – отвечал протяжно князь.
– В таком случае мы поедем с тобой вместе.
– Но я думал было поехать ее провожать из дому, да и ловко ли нам вместе с тобой туда приехать? – возразил на это князь.
– Напротив, тебе одному ехать, по-моему, неловко! – воскликнула Елена.
– Почему неловко? – спросил князь.
– Потому что супруга твоя уезжает с обожателем своим, и ты чувствительнейшим образом приедешь провожать ее один; а когда ты приедешь со мной, так скажут только, что оба вы играете в ровную!
– И то дело! – согласился, усмехнувшись, князь.
* * *
В день отъезда княгини Григоровой к дебаркадеру Николаевской железной дороги подъехала карета, запряженная щегольской парою кровных вороных лошадей. Из кареты этой вышли очень полная дама и довольно худощавый мужчина. Это были Анна Юрьевна и барон. Анна Юрьевна за последнее время не только что еще более пополнела, но как-то даже расплылась.
– Мы хоть здесь с ней простимся! – говорила она, с усилием поднимаясь на лестницу и слегка при этом поддерживаемая бароном под руку. – Я вчера к ней заезжала, сказали: «дома нет», а я непременно хочу с ней проститься!
Затем Анна Юрьевна прошла в залу 1-го класса. Барон последовал за ней.
Там уж набралось довольно много отъезжающих, но княгини еще не было.
– Подождемте здесь ее, она непременно сегодня выезжает!.. – говорила Анна Юрьевна, тяжело опускаясь на диван.
Лицо барона приняло скучающее выражение и напомнило несколько то выражение, которое он имел в начале нашего рассказа, придя с князем в книжную лавку; он и теперь также стал рассматривать висевшую на стене карту. Наконец, Анна Юрьевна сделала восклицание.
– Ну вот, слава богу, приехала! – говорила она, поднимаясь с своего места и идя навстречу княгине, входившей в сопровождении г-жи Петицкой.
Обе они были одеты в одинаковые и совершенно новые дорожные платья.
– Я хоть здесь хотела перехватить вас, – говорила Анна Юрьевна, пожимая руку княгини.
Г-жа Петицкая скромно, но в то же время с глубоким уважением поклонилась Анне Юрьевне.
– А вы тоже приехали проводить княгиню? – спросила та.
– О, нет, я с ними еду компаньонкой за границу! – отвечала г-жа Петицкая, не поднимая глаз.
– Компаньонкой? – переспросила Анна Юрьевна. – А мне этот дуралей Оглоблин что-то такое приезжал и болтал, что Миклаков тоже едет за границу… – присовокупила она.
При этом княгиня и Петицкая покраснели: одна от одного имени, другая от другого.
– Да, он тоже едет! – отвечала княгиня, не смотря на Анну Юрьевну, или, лучше сказать, ни на кого не смотря.
Барон, молча поклонившись княгине и Петицкой, устремил на первую из них грустный взгляд: он уже слышал о странном выборе ею предмета любви и в душе крайне удивлялся тому.
Наконец, в зале показался Миклаков. Он к обществу княгини не подошел даже близко, а только поклонился всем издали.
Барон продолжал грустно смотреть на княгиню.
– А что же муж твой не приедет проводить тебя? – спросила Анна Юрьевна княгиню.
– Нет, он приедет! – отвечала та, продолжая по-прежнему ни на кого не смотреть, и в то же время лицо ее горело ярким румянцем.
Незадолго до звонка появился князь с Еленой, при виде которой княгиня окончательно смутилась: она никак не ожидала когда-нибудь встретиться с этой женщиной.
Елена сначала поклонилась всем дамам общим поклоном.
– Хороша, хороша!.. – сказала ей укоризненным голосом Анна Юрьевна. – Меня из-за вас из службы выгнали, а вы и глаз ко мне не покажете!
– Но я все это время была больна! – отвечала Елена.
– Ах, господи! Вашей болезнью не годы же бывают больны! – воскликнула Анна Юрьевна. – А лучше просто признайтесь, что вам не до меня было.
– Если не до вас, так и ни до кого в мире! – подхватила Елена.
– Это еще может быть! – согласилась Анна Юрьевна.
Елена после того обратилась к княгине, и, воспользовавшись тем, что та стояла несколько вдали от прочих, она скороговоркой проговорила:
– Князь сказал мне, что на дому вы меня не примете, а потому я хотела по крайней мере здесь, на пути вашем, пожелать вам всего хорошего… Меня вы, конечно, ненавидите и презираете, но я не так виновата, как, может быть, кажусь вам! Дело все в разнице наших убеждений: то, что, вероятно, вам представляется безнравственным, по-моему, только право всякой женщины, а то, что, по-вашему, священный долг, я считаю одним бесполезным принуждением и насилованием себя! Вам собственно я никогда не желала сделать ни малейшего зла, и теперь мое самое пламенное желание, чтобы вы были вполне и навсегда счастливы во всю вашу будущую жизнь.
– Я на вас нисколько и не сержусь! – отвечала тоже торопливо княгиня и вместе с тем поспешила отойти от Елены и стать около Анны Юрьевны.
Елена при этом невольно улыбнулась про себя: она видела, что княгиня не поняла ни слов ее, ни ее желанья сказать их. Затем Елена начала наблюдать за князем, интересуясь посмотреть, как он будет держать себя в последние минуты перед расставанием с женой. Она непременно ожидала, что князь подойдет к княгине, скажет с ней два – три ласковых слова; но он, поздоровавшись очень коротко с бароном, а на Миклакова даже не взглянув, принялся ходить взад и вперед по зале и взглядывал только при этом по временам на часы.
Наконец, пробил звонок. Все проворно пошли к выходу, и княгиня, только уже подойдя к решетке, отделяющей дебаркадер от вагонов, остановилась на минуту и, подав князю руку, проговорила скороговоркой:
– Прощайте!
– Прощайте! – протянул несколько подольше ее князь.
У княгини при этом глаза мгновенно наполнились слезами. Выражение же лица князя, как очень хорошо подметила Елена, было какое-то неподвижное. Вслед за княгиней за решетку шмыгнула также и г-жа Петицкая. Миклаков, как-то еще до звонка и невидимо ни для кого, прошел и уселся во II-м классе вагонов; княгиня с Петицкой ехали в 1-м классе. Вскоре после того поезд тронулся.
Анна Юрьевна направилась опять к выходу, к своей карете, и, идя, кричала князю:
– Приезжай как-нибудь ко мне обедать!
– Приеду! – отвечал тот, идя в свою очередь с понуренной головой около Елены.
Когда стали сходить с лестницы, барон опять поддержал Анну Юрьевну слегка за руку.
За их экипажем поехали также и князь с Еленой. Выражение лица его продолжало быть каким-то неподвижным. У него никак не могла выйти из головы только что совершившаяся перед его глазами сцена: в вокзале железной дороги съехались Анна Юрьевна со своим наемным любовником, сам князь с любовницей, княгиня с любовником, и все они так мирно, с таким уважением разговаривали друг с другом; все это князю показалось по меньшей мере весьма странным! Но Елену в это время занимала совершенно другая мысль: ей очень не понравилось присутствие Петицкой около княгини.
– Петицкая тоже за границу поехала с княгиней? – спросила она.
– Тоже! – отвечал князь.
– Ну, в таком случае поздравляю: она через неделю же поссорит княгиню с Миклаковым!
– Это уж их дело! – произнес князь.
– Нет, и твое! – возразила ему Елена. – Потому что княгиня тогда опять вернется к тебе!
– Нет, это благодарю покорно! Я ее больше не приму.
– Нет, ты примешь, если только ты порядочный человек! – повторила ему настойчиво Елена.
Князь при этом пожал плечами и немного усмехнулся.
– Я, кажется, по-твоему, все на свете должен делать, что только мне неприятно! – произнес он.
– А не принимай в таком случае на себя роли, которая тебе не свойственна!.. – заметила ему ядовито Елена.
Часть третья
I
Вскоре после отъезда княгини Григоровой за границу Елена с сыном своим переехала в дом к князю и поселилась на половине княгини.
Между московской и петербургской родней князя это произвело страшный гвалт. Все безусловно винили князя, даже добрейшая Марья Васильевна со смертного одра своего написала ему строгое письмо, в котором укоряла его, зачем он разошелся с женой.
Князь не дочитал этого письма и разорвал его. Николя Оглоблин, самодовольно сознававший в душе, что это он вытурил княгиню за границу, и очень этим довольный, вздумал было, по своей неудержимой болтливости, рассказывать, что княгиня сама уехала с обожателем своим за границу; но ему никто не верил, и некоторые дамы, обидевшись за княгиню, прямо объяснили Николя, что его после этого в дом принимать нельзя, если он позволяет себе так клеветать на подобную безукоризненную женщину. Николя, делать нечего, стал прималчивать и только сильно порывался заехать к князю и рассказать ему, что о нем трезвонят; но этого, однако, он не посмел сделать; зато Елпидифор Мартыныч, тоже бывавший по своей практике в разных сферах и слышавший этот говор, из преданности своей к князю Григорову решился ему передать и раз, приехав поутру, доложил ему голосом, полным сожаления:
– А тут, по Москве, какая болтовня идет.
– О чем это? – спросил его князь довольно сурово.
– Да вот… все о том, что Елена Николаевна переехала к вам в дом! – начал Елпидифор Мартыныч с небольшой улыбочкой. – Раз при мне две модные дамы приехали в один дом и начали квакать: «Как это возможно!.. Как это не стыдно!..» В Москве будто бы никогда еще этого и не бывало… Господи, боже мой! – думаю. – Сорок лет я здесь практикую и, может, недели не прошло без того…
С каждым словом Елпидифора Мартыныча лицо князя делалось все более и более недовольным и сумрачным.
– Ну, я попросил бы вас, – сказал он презрительным тоном, когда Елпидифор Мартыныч кончил, – не передавать мне разного вздору. Я нисколько не интересуюсь знать, кто и что про меня говорит.
Елпидифор Мартыныч, конечно, этим замечанием был несколько опешен и дал себе слово не беспокоить более князя своим участием.
* * *
Прошло таким образом более полугода. Князь заметно успокоился душой: он стал заниматься много чтением и вряд ли не замышлял кое-что написать!.. Но про Елену никак нельзя было сказать того: читать, например, она совершенно перестала, потому что читать какие-нибудь очень, может быть, умные вещи, но ничего не говорящие ее сердцу, она не хотела, а такого, что бы прямо затрогивало ее, не было ничего под руками; кроме того, она думала: зачем читать, с какою целию? Чтобы только еще больше раздражать и волновать себя?.. В жизни Елена миллионной доли не видала осуществления тому, что говорили и что проповедовали ее любимые книги. Ребенка своего Елена страстно любила, но в то же время посвятить ему все дни и часы свои она не хотела и находила это недостойным всякой неглупой женщины, а между тем чем же было ей занять себя? При этой мысли Елена начинала очень жалеть о своей прежней службе, которая давала ей возможность трудиться все-таки на более широком поприще, и, наконец, за что же лишили ее этого места! За то, что она сделалась матерью?.. А если б она замужем была, так ей, вероятно, дали бы в этом случае вспомоществование. Такого рода логики и нравственности Елена решительно не могла понять, и желание как-нибудь и чем-нибудь отомстить России и разным ее начальствам снова овладело всем существом ее. Жизнь в доме князя тоже стала казаться Елене пошлою, бесцветною. Ей мечтались заговоры, сходки в подземелье, клятвы на кинжалах и, наконец, даже позорная смерть на площади, посреди благословляющей втайне толпы. Сравнивая свое настоящее положение с тем, которого она жаждала и рисовала в своем воображении, Елена невольно припоминала стихотворение Лермонтова «Парус» и часто, ходя по огромным и пустым комнатам княжеского дома, она повторяла вслух и каким-то восторженным голосом:
Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой, А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой!Всего этого князь ничего не замечал и не подозревал и, думая, что Елена, по случаю отъезда княгини, совершенно довольна своей жизнию и своим положением, продолжал безмятежно предаваться своим занятиям; но вот в одно утро к нему в кабинет снова явился Елпидифор Мартыныч. Князь заранее предчувствуя, что он опять с какими-нибудь дрязгами, нахмурился и молча кивнул головой на все расшаркиванья Елпидифора Мартыныча, который, однако, нисколько этим не смутился и сел. Видя, что князь обложен был разными книгами и фолиантами, Елпидифор Мартыныч сказал:
– За учеными трудами изволите обретаться!
Князь молчал и держал глаза опущенными в одну из книг.
– А я сейчас к малютке вашему заходил, – краснушка в городе свирепствует! – продолжал Елпидифор Мартыныч, думая этим заинтересовать князя, но тот все-таки молчал. – Лепетать уж начинает и как чисто при мне выговорил два слова: няня и мама, – прелесть! – подольщался Елпидифор Мартыныч.
На князя, однако, и то не действовало: он не поднимал своих глаз от книги.
Елпидифор Мартыныч затем перешел, видимо, к главному предмету своего посещения.
– А что, бабушка его не была у вас? – спросил он.
– Какая бабушка? – спросил его в свою очередь князь, не поняв его сначала.
– Елизавета Петровна-с! – отвечал Елпидифор Мартыныч. – Она идти хочет к вам с объяснением: «Дочь, говорит, теперь на глазах всей Москвы живет у него в доме, как жена его, а между тем, говорит, он никого из нас ничем не обеспечил».
– Как, я ее не обеспечил?.. Она получает, что ей назначено! – сказал князь с сердцем и презрением.
– Знаю это я-с! – подхватил Елпидифор Мартыныч. – Сколько раз сама мне говорила: «Как у Христа за пазухой, говорит, живу; кроме откормленных индеек и кондитерской телятины ничего не ем…» А все еще недовольна тем: дерзкая этакая женщина, нахальная… неглупая, но уж, ух, какая бедовая!
Елпидифор Мартыныч нарочно бранил Елизавету Петровну, чтобы князь не заподозрил его в какой-нибудь солидарности с ней; кроме того, он думал и понапугать несколько князя, описывая ему бойкие свойства его пришлой тещеньки.
– Чего ж еще она желает? – спросил тот.
– К-ха! – откашлянулся Елпидифор Мартыныч. – Да говорит, – продолжал он, – «когда князь жив, то, конечно – к-ха! – мы всем обеспечены, а умер он, – что, говорит, тогда с ребенком будет?»
– О ребенке она не беспокоилась бы, – возразил князь, потупляясь, – ребенок будет совершенно обеспечен на случай моей смерти.
– И о дочери также говорит: «Что, говорит, и с той будет?»
– И дочь ее будет обеспечена! – продолжал князь.
– Ну, и о себе, должно быть, подумывает: «И мне бы, говорит, следовало ему хоть тысчонок тридцать дать в обеспечение: дочь, говорит, меня не любит и кормить в старости не будет».
Князь при этом взглянул уже с удивлением на Елпидифора Мартыныча.
– Дочь ее, очень естественно, что не любит, потому что она скорей мучительницей ее была, чем матерью, – проговорил он.
– Это так-с, так!.. – согласился Елпидифор Мартыныч. – А она матерью себя почитает, и какой еще полновластной: «Если, говорит, князь не сделает этого для меня, так я обращусь к генерал-губернатору, чтобы мне возвратили дочь».
– Что? – переспросил князь, вспыхнув весь в лице.
– Возвратить дочь к себе желает, – повторил Елпидифор Мартыныч не совсем твердым голосом.
– Что такое возвратить дочь?.. Дочь ее не малолетняя и совершенно свободна во всех своих поступках.
– Конечно-с, нынче не прежние времена, не дают очень командовать родителям над детьми!.. Понимает это!.. Шуму только и огласки еще больше хочет сделать по Москве.
– Шуму этого и огласки, – начал князь, видимо, вышедший из себя, – ни я, ни Елена нисколько не боимся, и я этой старой негодяйке никогда не дам тридцати тысяч; а если она вздумает меня запугивать, так я велю у ней отнять и то, что ей дают.
– Говорил я это ей, предостерегал ее! – произнес Елпидифор Мартыныч, немного струсивший, что не испортил ли он всего дела таким откровенным объяснением с князем; его, впрочем, в этом случае очень торопила и подзадоривала Елизавета Петровна, пристававшая к нему при каждом почти свидании, чтоб он поговорил и посоветовал князю дать ей денег.
– Ко мне она тоже лучше не являлась бы с объяснениями… – начал было князь, но в это время вошел человек и подал ему визитную карточку с загнутым уголком.
Князь прочел вслух напечатанную на ней фамилию: «Monsieur Жуквич»; при этом и без того сердитое лицо его сделалось еще сердитее.
– Ты спроси господина Жуквича, что ему угодно от меня? – сказал он лакею.
Тот ушел.
Князь с заметным нетерпением стал ожидать его возвращения. Елпидифору Мартынычу смертельно хотелось спросить князя, кто такой этот Жуквич, однако он не посмел этого сделать.
Лакей возвратился и доложил:
– Господин Жуквич пришел засвидетельствовать вам свое почтение и передать письмо от княгини из-за границы.
– От княгини… письмо?.. – повторил князь и, подумав немного, присовокупил: – Проси.
Елпидифор Мартыныч только взорами своими продолжал как бы спрашивать князя: кто такой этот Жуквич?
Господин Жуквич, наконец, показался в дверях. Это был весьма благообразный из себя мужчина, с окладистою, начинавшею седеть бородою, с густыми, кудрявыми, тоже с проседью, волосами, одетый во франтоватую черную фрачную пару; глаза у него были голубые и несколько приподнятые вверх; выражение лица задумчивое. При виде князя он весь как-то склонился и имел на губах какую-то неестественную улыбку.
– Позволяю ж себе, ваше сиятельство, напомнить вам наше старое знакомство и вручить вам письмо от княгини! – проговорил он несколько певучим голосом и подавая князю письмо.
Князь движением руки указал ему на место около себя.
Жуквич сел и продолжал сохранять задумчивое выражение. На Елпидифора Мартыныча он не обратил никакого внимания. Тот этим, разумеется, сейчас же обиделся и, в свою очередь, приняв осанистый вид, а для большего эффекта поставив себе на колени свою, хотя новую, но все-таки скверную, круглую шляпу, стал почти с презрением смотреть на Жуквича.
Княгиня писала князю:
«Мой дорогой Грегуар! Рекомендую тебе господина Жуквича, с которым я познакомилась на водах. Он говорит, что знает тебя, и до небес превозносит. Он едет на житье в Москву и не имеет никого знакомых. Надеюсь, что по доброте твоей ты его примешь и обласкаешь. На днях я переезжаю в Париж; по России я очень скучаю и каждоминутно благословляю память о тебе!»
Окончив чтение письма, князь обратился к Жуквичу.
– Княгиня мне, между прочим, пишет, – начал он с небольшой усмешкой, – что вы ей превозносили до небес меня?.. Признаюсь, я никак не ожидал того…
Жуквич при этих словах заметно сконфузился.
– Вы, может быть, – начал он тоже с небольшой улыбкой и вскинув на мгновение свои глаза на Елпидифора Мартыныча, – разумеете тот ж маленький спор, который произошел между нами в Лондоне?..
– Ну, я не нахожу, чтоб этот спор был маленький, – произнес князь, окончательно усмехнувшись, и делая ударение на слова свои.
– Боже ж мой! – подхватил Жуквич опять тем же певучим голосом. – Между кем из молодых людей не бывает того? – Увлечение, патриотизм! Я сознаюсь теперь, что мы поступили тогда вспыльчиво; но что ж делать? Это порок нашей нации; потом ж, когда я зрело это обдумал, то увидел, что и вы тут поступили как честный и благородный патриот.
– В том-то и дело-с! – воскликнул князь. – Что вам позволялось быть патриотами, а нам нет… ставилось даже это в подлость.
– Дух времени ж был таков, – отвечал Жуквич, смиренно пожимая плечами, – теперь ж переменилось многое и во многих людях. Позволите мне закурить папироску? – присовокупил он, вряд ли не с целию, чтобы позамять этот разговор.
– Сделайте одолжение! – сказал князь.
Жуквич вынул из кармана красивый портсигар, наполненный турецким табаком, и своими белыми руками очень искусно свернул себе папироску и закурил ее.
Князь во все это время внимательно смотрел на него.
– Зачем, собственно, вы приехали сюда? – спросил он его.
Жуквич заметно недоумевал, как ему отвечать.
– Я препровожден сюда!.. – произнес он, пуская густую струю дыма и скрывая тем выражение своего лица.
– А!.. – протянул князь. – Но для чего же вы в таком случае из-за границы возвращались?
Жуквич пустил еще более густую струю дыма перед лицом своим.
– По многим обстоятельствам… – проговорил он наконец, держа совершенно опущенными свои глаза в землю.
– К-ха! – откашлянулся при этом громко и недоверчиво Елпидифор Мартыныч.
– Я имею еще письмо к панне Жиглинской, – продолжал Жуквич опять уже заискивающим голосом.
– От княгини? – спросил его князь несколько удивленным тоном.
– О, нет ж… от господина Миклакова! – отвечал с расстановкой Жуквич. – И он мне сказал, что вы знаете ж ее адрес, – присовокупил он.
– Очень знаю, потому что она живет у меня в доме, – сказал князь, не совсем, по-видимому, довольный тем, что Елена переписывается с Миклаковым.
– И я поэтому могу ее видеть или должен ж передать ей это письмо через вас? – покорно говорил Жуквич.
– Нет, я попрошу вас лично ей передать, – произнес князь и позвонил.
Вошел лакей.
– Доложи Елене Николаевне, что некто господин Жуквич привез ей письмо от Миклакова, а потому может ли она принять его?
Лакей пошел и очень скоро воротился.
– Могут-с! – доложил он.
– Проводи господина Жуквича! – сказал ему князь.
Жуквич поднялся, почтительно раскланялся с князем, слегка поклонился Елпидифору Мартынычу и пошел за лакеем.
– Поляк!.. Голову мою прозакладываю, что поляк! – произнес ему вслед раздраженным голосом Елпидифор Мартыныч.
– Как же вы это так догадались? – спросил его в насмешку князь.
– Да так уж, сейчас видно! – отвечал не без самодовольства Елпидифор Мартыныч. – Коли ты выше его, так падам до ног он к тебе, а коли он выше тебя, боже ты мой, как нос дерет! Знай он, что я генерал и что у меня есть звезда (у Елпидифора Мартыныча, в самом деле, была уж звезда, которую ему выхлопотала его новая начальница, весьма его полюбившая), – так он в дугу бы передо мной согнулся, – словом, поляк!..
– Хороши и русские по этой части есть! – возразил ему князь, прямо разумея в этом случае самого Елпидифора Мартыныча.
– Есть и русские! – подхватил Иллионский, совершенно не приняв этого намека на свой счет.
* * *
Жуквич, войдя к Елене, которая приняла его в большой гостиной, если не имел такого подобострастного вида, как перед князем, то все-таки довольно низко поклонился Елене и подал ей письмо Миклакова. Она, при виде его, несколько даже сконфузилась, потому что никак не ожидала в нем встретить столь изящного и красивого господина. Жуквич, с своей стороны, тоже, кажется, был поражен совершенно как бы южною красотой Елены. Не зная, с чего бы начать разговор с ним, она проговорила ему:
– Пожалуйста, садитесь.
Жуквич сел. Елена тоже села и принялась прежде всего читать письмо Миклакова.
Тот писал о Жуквиче несколько иное, чем княгиня князю:
«Эту записочку мою доставит вам один седовласый юноша, господин Жуквич. Он социалист, коммунист, демократ и все, что вам угодно, и всему этому я, разумеется, не придал бы большого значения, но он человек умный, много видавший и много испытавший; вам, вероятно, будет приятно с ним встречаться. Что сказать вам про Европу?.. Климат лучше нашего; города ее красивее наших; жизнь и газеты европейские поумнее наших, но сами людишки – такая же дрянь, как и мы. Наши братья, славяне, это какие-то неумытые господа, умеющие только воздыхать о своем политическом положении; итальянец – красив, но сильно простоват; от каждого француза воняет медными пятаками или лежьон-д'онером[126]; немцы – глубокомысленно тупы; англичане – торгаши; наши заатлантические друзья, американцы, по-моему – все кочегары: шведов и датчан я не видал, но, должно быть, такая же физическая бесцветность, как и чухна наша. На прощание желаю вам больше всего не страдать скукою, так как я часто замечал, что за улыбающимся и счастливым личиком амура всегда почти выглядывает сморщенное лицо старухи-скуки!»
– Скажите, – начала Елена, все еще не совсем совладев с собой, – где вы встретились с Миклаковым?
– Я жил с ним месяца три ж на водах, – отвечал Жуквич.
– Значит, вы и княгиню Григорову знаете?
– Да!..
– И госпожу Петицкую?
– И госпожу Петицкую.
– Они все трое в одном доме живут? – присовокупила Елена после небольшого молчания.
– Нет ж!.. Княгиня и Петицкая в одной гостинице, а господин Миклаков в совершенно другой, более скромной.
– Но все-таки видаются между собою довольно часто?
– Каждодневно ж! – отвечал, слегка улыбаясь, Жуквич.
Елена опять помолчала некоторое время.
– А вот что еще, – начала она с каким-то уж нервным волнением, – вам известно содержание письма Миклакова?
– Нет! – отвечал Жуквич.
– Прочтите! – проговорила Елена и показала Жуквичу то, что писал о нем Миклаков.
Прочитав о себе отзыв, Жуквич только слегка и несколько грустно усмехнулся.
– Что же, Миклаков правду пишет про вас? Я, конечно, касательно только убеждений ваших говорю, – допрашивала его Елена.
– Кто ж в наше время, смотрящий здраво и не эгоистично на вещи, не имеет этих ж убеждений? – отвечал он ей тоже как бы больше вопросом.
– Ах, очень многие! – произнесла, слегка вздохнув, Елена. – Я потому так и спешу вас исповедать, чтобы знать, как с вами говорить.
– Говорите ж так, как вы сами желаете того! – произнес, склоняя перед ней голову свою, Жуквич.
– Ну, и прекрасно, значит!.. Скажите: делается ли в Европе, по крайней мере, что-нибудь во имя социалистических начал?
Жуквич сделал соображающую мину в лице.
– В общем, если хотите, мало ж!.. Так что самый съезд членов лиги мира[127] в Женеве вышел какой-то странный… – проговорил он.
– А вы были на этом съезде? – спросила его Елена.
– Нет, я не был!.. Я ж был в это время болен в Брюсселе, – отвечал Жуквич, и если б Елена внимательно смотрела на него в это время, то очень хорошо бы заметила, что легкий оттенок краски пробежал у него при этом по всему лицу его. – Но в частности, боже ж мой, – продолжал он, несколько восклицая, – сколько есть утешительных явлений!.. Я сам лично знаю в Лондоне очень многих дам, которые всю жизнь свою посвятили вопросу о рабочих; потом, сколько ж в этом отношении основано ассоциаций, учреждено собственно с этою целью кредитных учреждений; наконец, вопрос о женском труде у вас, в России ж, на такой, как мне говорили, близкой череде к осуществлению…
Елена слушала Жуквича все с более и более разгорающимися глазами.
– Все это так-с! – произнесла она. – Но все это, как хотите, очень бледные начинания, тогда как другое-то, старое, отжившее, очень еще ярко цветет!
– А вы думаете ж, что начинания в каждом деле мало значат?.. – произнес с чувством Жуквич. – Возьму вами ж подсказанный пример… – продолжал он, устремляя вдаль свои голубые глаза и как бы приготовляясь списывать с умственной картины, нарисовавшейся в его воображении. – Взгляните вы на дерево, когда оно расцветает, – разве ж вся растительная сила его направляется на то, чтобы развивать цветки, и разве ж эти цветки вдруг покрывают все дерево? – Нисколько ж! Мы видим, что в это ж самое время листья дерева делаются больше, ветви становятся раскидистее; цветы ж только то тут, то там еще показываются; но все ж вы говорите, что дерево в периоде цветения; так и наше время: мы явно находимся в периоде социального зацветания!
– Это хорошо! – воскликнула Елена. – Эти бедные социальные цветки поцветут-поцветут да и опадут, а корни и ветви останутся старые.
– Да нет ж: эти цветки дадут семена, из которых начнут произрастать новые деревья!
– С такими точно корнями и ветвями, как и прежние! – подхватила Елена.
– Нет, с другими ж, с другими! – произнес многознаменательно Жуквич.
– Ах, не думаю, что с другими!.. – сказала грустным голосом Елена. – Может быть, у вас там в Европе это предчувствуется, а здесь – нисколько, нисколько!
– Но как ж меня заверяли, и наконец, я читал ж много, – перебил ее с живостью Жуквич, – что здесь социалистические понятия очень хорошо прививаются и усвоиваются…
– В Петербурге – может быть! – сказала ему Елена.
– Нет, здесь, именно ж в Москве! – повторил настойчиво Жуквич.
Елена сомнительно покачала головой.
– Прежде еще было кое-что, – начала она, – но и то потом оказалось очень нетвердым и непрочным: я тут столько понесла горьких разочарований; несколько из моих собственных подруг, которых я считала за женщин с совершенно честными понятиями, вдруг, выходя замуж, делались такими негодяйками, что даже взяточничество супругов своих начинали оправдывать. Господа кавалеры – тоже, улыбнись им хоть немного начальство или просто богатый человек, сейчас же продавали себя с руками и ногами.
– Грустно ж это слышать, – сказал Жуквич в самом деле грустным голосом, – а я ж было думал тут встретить участие, сочувствие и даже помощь некоторую, – присовокупил он после короткого молчания.
– Но в чем вам, собственно, помощь нужна? – спросила его Елена.
Жуквич опять некоторое время обдумывал свой ответ.
– Я – поляк, а потому прежде ж всего сын моей родины! – начал он, как бы взвешивая каждое свое слово. – Но всякий ж человек, как бы он ни желал душою идти по всем новым путям, всюду не поспеет. Вот отчего, как я вам говорил, в Европе все это разделилось на некоторые группы, на несколько специальностей, и я ж, если позволите мне так назвать себя, принадлежу к группе именуемых восстановителей народа своего.
– То есть поляков, конечно? – подхватила Елена.
– О, да! – подтвердил Жуквич.
– А вы знаете, что я ведь тоже полька? – сказала Елена.
– Да, знаю ж! – воскликнул Жуквич. – И как землячку, прошу вас не оставить меня вашим вниманием! – прибавил он с улыбкою и протягивая Елене руку.
– В чем только могу! – проговорила она, подавая ему взаимно свою руку и отвечая на довольно крепкое пожатие Жуквича таким же крепким пожатием.
– Но я прошу вас, панна Жиглинская, об одном! – присовокупил он затем каким-то почти встревоженным голосом. – Все ж, о чем я вам говорил теперь, вы сохраните в тайне…
– Разумеется, сохраню в тайне! – подхватила она.
– В тайне ж от всех, даже от князя! – говорил Жуквич тем же встревоженным голосом.
– И от князя? – переспросила Елена.
– Да… Я князя давно знаю. Он не любит ж поляков очень, а я ж сосланный!.. На меня достаточно глазом указать, чтоб я был повешен… расстрелян…
– Извольте, я и князю не скажу!.. – отвечала Елена, припоминая, что князь, в самом деле, не очень прилюбливал поляков, и по поводу этого она нередко с ним спорила. – Но надеюсь, однако, что вы будете бывать у нас.
– Если вы мне позволите то! – отвечал Жуквич, уже вставая и приготовляясь уйти.
– Я даже буду просить вас о том! – подхватила Елена. – Приходите, пожалуйста, без церемонии, обедать, на целый день. Послезавтра, например, можете прийти?
– Могу.
– Ну, так и приходите! – заключила Елена.
При окончательном прощании Жуквич снова протянул ей руку. Она тоже подала ему свою, и он вдруг поцеловал ее руку, так что Елену немного даже это смутило. Когда гость, наконец, совсем уехал, она отправилась в кабинет к князю, которого застала одного и читающим внимательно какую-то книгу. Елпидифор Мартыныч, не осмеливавшийся более начинать разговора с князем об Елизавете Петровне, только что перед тем оставил его.
– А у меня все сидел этот Жуквич, который привез мне письмо от Миклакова! – сказала Елена.
– Что такое тебе пишет Миклаков? – спросил ее князь, не оставляя своего чтения.
– Ничего особенного! – отвечала Елена и села на кресло, занимаемое до того Елпидифором Мартынычем. – Я позвала Жуквича послезавтра обедать к нам!.. – присовокупила она.
– Зачем? – спросил как бы с некоторым недоумением и даже неудовольствием князь.
– Затем, что он здесь заезжий человек… никого не знает.
Князь на это промолчал, и Елена, по выражению его лица, очень хорошо видела, что у него был на уме какой-то гвоздик против Жуквича.
– Ты знал его за границей? – спросила она.
– Знал!.. – отвечал протяжно князь.
– Что же, по-твоему, он за человек?
– Черт его знает, что за человек!.. Что поляк – это я знаю! – произнес князь, продолжая свое чтение.
– Но что тут дурного, что он поляк? – возразила ему насмешливо Елена.
Князь ей на это ничего не сказал и, как будто бы даже не расслышав ее слов, принялся что-то такое выписывать из читаемой им книги.
Елене, наконец, сделалось досадно это полувнимание к ней князя.
– Что ты тут такое делаешь? – начала она приставать к нему.
Елена еще и прежде спрашивала об этом князя, но он все как-то отмалчивался.
– Так себе, ничего! – сказал было он ей и на этот раз; но Елена этим не удовольствовалась.
– Вовсе не так, а непременно делаешь что-то такое большое!.. Отчего ты не хочешь сказать мне?
– Оттого, что нельзя говорить о том, что у самого еще смутно в голове.
– Это ничего не значит; ты мне должен сказать, и ты вовсе не потому не говоришь, – вовсе не потому!
– Почему же?
– Да потому, что я знаю почему; во-первых, я вижу по книгам, ты что-то такое по русской истории затеваешь – так?.. Да?
– Может быть, и по русской истории.
– Но что из нее можно написать?.. Все уж, кажется, написано!
– Нет, много еще не написано.
– А именно?
– А именно, например, – начал князь, закидывая назад свою голову, – сколько мне помнится, ни одним историком нашим не прослежены те вольности удельные, которые потом постоянно просыпались и высказывались в московский период и даже в петербургский.
Елена рассмеялась громким смехом.
– Вольности еще какие-то нашел! – произнесла она.
Князь при этом покраснел несколько в лице.
– Никаких я вольностей, признаюсь, у русского народа не вижу, – продолжала Елена.
– Ты не видишь, а я их вижу! – сказал князь.
– Но где, скажи, докажи? – воскликнула Елена.
– Вольности я вижу во всех попытках Новгорода и Пскова против Грозного!.. – заговорил князь с ударением. – Вольности проснувшиеся вижу в период всего междуцарствия!.. Вольности в расколе против московского православия!.. Вольности в бунтах стрельцов!.. Вольности в образовании всех наших украйн!..
– Какой же результат всех этих вольностей?.. Петербург?.. – возразила ему Елена.
– Я говорю не о результатах, а о том, что есть же в русском народе настоящая, живая сила.
– Тебя за эту статью, если ты только напечатаешь ее, так раскатают, так раскатают, как ты и не воображаешь! – произнесла Елена.
– Но за что же?.. Я могу дурно выполнить, дурно написать – это другое дело; но не за самую мысль.
– Нет, за самую мысль, потому что в ней ложь и натяжка есть.
– По-твоему – натяжка, а по-моему, как говорит мое внутреннее чувство, она есть величайшая истина.
– Чувство ему говорит!.. История – не роман сентиментальный, который под влиянием чувства можно писать.
– Нет, именно нашу историю под влиянием чувства надобно было бы написать, – чувства чисто-народного, демократического, и которого совершенно не было ни у одного из наших историков, а потому они и не сумели в маленьких явлениях подметить самой живучей силы народа нашего.
– Никакой такой силы не существует! – произнесла Елена. – Ведь это странное дело – навязывать народу свободолюбие, когда в нем и намека нет на то. Я вон на днях еще как-то ехала на извозчике и разговаривала с ним. Он горьким образом оплакивает крепостное право, потому что теперь некому посечь его и поучить после того, как он пьян бывает!
– Мало ли что тебе наболтает один какой-нибудь дуралей; нельзя по нем судить о целом народе! – возразил князь.
– Нет, это не он один, а и более высшие сословия. Ты посмотри когда-нибудь по большим праздникам, какая толпа рвется к подъездам разных начальствующих лиц… Рабство и холопство – это скрывать нечего – составляют главную черту, или, как другие говорят, главную мудрость русского народа.
– Господин Жуквич, что ли, успел натолковать тебе это?.. И поляков, вероятно, перевознес до небес? – проговорил князь.
– Нет, я еще до господина Жуквича знала это очень хорошо, и уж, конечно, поляки всегда были и будут свободолюбивее русских! – воскликнула Елена. – Когда еще в целой Европе все трепетало перед королевской властью, а у нас уж король был выборный. На сейме[128] воскликнет кто: «не позволям!» и кончено: тормоз всякому произволу.
– До многого и докричались вы!..
– Да, но все-таки кричали, а не низкопоклонничали.
– Что ж такое кричали?.. И собаки на улице лают беспрестанно, однако от того большой пользы ни им, ни человечеству нет! – возразил князь и сам снова принялся за свою работу.
Елена даже покраснела вся при этом в лице.
– Какое глупое сравнение! – произнесла она и, как видно, не на шутку рассердилась на князя, потому что не медля встала и пошла из кабинета.
– Господин Жуквич послезавтра будет у нас обедать? – крикнул ей вслед князь.
– Послезавтра! – отвечала Елена, не поворачиваясь к нему.
– Послезавтра!.. – повторил сам с собою князь.
II
Анна Юрьевна последнее время как будто бы утратила даже привычку хорошо одеваться и хотя сколько-нибудь себя подтягивать, так что в тот день, когда у князя Григорова должен был обедать Жуквич, она сидела в своем будуаре в совершенно распущенной блузе; слегка подпудренные волосы ее были не причесаны, лицо не подбелено. Барон был тут же и, помещаясь на одном из кресел, держал голову свою наклоненною вниз и внимательным образом рассматривал свои красивые ногти.
– Я вам давно говор, – начал он в одно и то же время грустным и насмешливым голосом, – что в этой проклятой Москве задохнуться можно от скуки!
– Что же, в Петербурге вашем разве лучше? – возразила ему Анна Юрьевна.
– Без всякого сомнения!.. Там люди живут человеческой жизнью, а здесь, я не знаю, – жизнью каких-то… – «свиней», вероятно, хотел добавить барон, но удержался.
– Ужасно какой человеческой жизнью! – воскликнула Анна Юрьевна. – Целое утро толкутся в передних у министров; потом побегают, высуня язык, по Невскому, съедят где-нибудь в отеле протухлый обед; наконец, вечер проведут в объятиях чахоточной камелии, – вот жизнь всех вас, петербуржцев.
– То для мужчин, а для женщин мало ли есть там развлечений: отличная опера, концерты, театры.
– Все это и здесь есть; но я не девчонка какая-нибудь, чтобы мне всюду ездить и восхищаться этим…
– В таком случае, поедемте за границу, – сказал ей на это барон: последнего он даже еще больше желал.
– Вам за границей в диво побывать!.. Вы никогда там не бывали; mais moi, j'ai voyage par monts et par vaux!..[129] Не мадонну же рафаэлевскую мне в тысячный раз смотреть или дворцы разные.
– Но где же лучше? – воскликнул барон.
– В молодости, вот где лучше. В молодости везде хорошо, – отвечала ему Анна Юрьевна.
– Но в эту страну нельзя воротиться, – произнес барон с небольшой улыбкой.
На этих словах его Анна Юрьевна увидела, что в гостиную входил приехавший князь Григоров.
– Ah!.. Voila qui nous arrive![130] – воскликнула она ему навстречу радостным голосом. – Наконец-то удостоил великой чести посетить.
Князь пожал руку кузины, пожал руку и барону.
– Я, шутки в сторону, начинала на тебя сердиться, что ты совсем не ездишь, – говорила Анна Юрьевна.
– Некогда все было, – отвечал князь.
– Да что ты такое делаешь? Неужели все целуешься со своей Еленой?.. Не надоело разве тебе еще это?
– Нет, не надоело.
– А другой нет у тебя пока никакой?
– Нет другой пока.
– Mensonge, je n'en crois rien.[131]
– Но у барона же нет другой, – сказал князь, показывая глазами на барона.
– Барон что?.. Барон – рыба.
– Рыба он?
– Совершенная… мерзлая даже.
– О, это ужасно! – воскликнул князь. Барон краснел только, слушая этот милый разговор двух родственников.
– А я, кузина, приехал вас звать сегодня обедать к себе, – продолжал князь.
– Это что тебе вздумалось? – спросила Анна Юрьевна.
– Да так, тут один мой знакомый поляк будет у меня обедать, красавец из себя мужчина; приезжайте, пожалуйста!.. Поболтаем о нашей заграничной жизни.
– А обед будет порядочный?
– Самолучший заказан повару.
– Посмотрим! При княгине у тебя в этом случае нехорошо было: она, как немка, только и знала вкус в картофеле да в кофее.
– Теперь у меня другая хозяйка; а кстати, вы не скомпрометируетесь быть у меня тем, что встретите mademoiselle Жиглинскую?
– Quelle idee[132]… Скомпрометируюсь я!.. Меня теперь, я думаю, ничто уж в мире не скомпрометирует!.. А что ж ты барона не зовешь? – прибавила Анна Юрьевна.
– Барон, разумеется, приедет. Приедете? – спросил князь барона.
– Приеду! – отвечал тот, держа по-прежнему голову потупленною и каким-то мрачным голосом: слова князя о том, что у него будет обедать красивый поляк, очень неприятно отозвались в ухе барона. Надобно сказать, что барон, несмотря на то, что был моложе и красивее Анны Юрьевны, каждую минуту опасался, что она изменит ему и предпочтет другого мужчину. Чтобы предохранить себя с этой стороны, барон, как ни скучно это было ему, всюду ездил с Анной Юрьевной и старался не допускать ее сближаться с кем бы то ни было из мужчин. Князь же, в свою очередь, кажется, главною целию и имел, приглашая Анну Юрьевну, сблизить ее с Жуквичем, который, как он подозревал, не прочь будет занять место барона: этим самым князь рассчитывал показать Елене, какого сорта был человек Жуквич; а вместе с тем он надеялся образумить и спасти этим барона, который был когда-то друг его и потому настоящим своим положением возмущал князя до глубины души.
Выйдя от Анны Юрьевны, князь отправился домой не в экипаже, а пошел пешком и, проходя по Кузнецкому, он вдруг столкнулся лицом к лицу с шедшим к нему навстречу Николя Оглоблиным.
– Здравствуйте, князь! – проговорил тот трепещущим от радости голосом.
В прежнее время князь, встречаясь с Николя, обыкновенно на все его приветствия отвечал только молчаливым кивком головы; но тут почему-то приостановился с ним и пожал даже ему руку.
Ободренный этим, Николя не преминул повернуться и пойти с князем в одну сторону.
– Это черт знает, что за город Москва! – заговорил он. – Болтают!.. Врут!.. Так что я хотел ехать к вам и сказать, чтобы вы зажали некоторым господам рот!
Князь очень хорошо догадался, что такое, собственно, хочет отрапортовать ему Николя.
– Каким господам? – спросил он его.
– А таким, которые говорят, что там эта mademoiselle Жиглинская… вы, конечно, знаете ее… будто бы она переехала к вам в дом.
– Это совершенно верно, что она переехала, – отвечал князь.
– Да-с… Но что кому до того за дело? Что за дело?.. – горячился Николя. – А ведь знаете, она чудо как хороша собой! – присовокупил он, явно желая тем подольститься к князю.
– Да, хороша! – отвечал князь. – И вообразите, она мне то же самое про вас говорила; она видела вас там где-то на гуляньи и говорила: «Какой, говорит, красавец из себя Оглоблин».
– Я?.. Ха-ха-ха! – захохотал Николя. Он заподозрил, что князь над ним подшучивает, и потому сам хотел тоже отойти от него шуточкою.
– Уверяю вас, – продолжал между тем тот совершенно серьезным голосом, – и, чтоб убедиться в том, приезжайте ко мне сегодня обедать, – у меня, кстати, будет Анна Юрьевна.
– Но, может быть, у вас именинный обед, а я в визитке, – сказал Николя уже серьезно.
– Никакого нет именинного обеда, а просто знакомые обедают. Приезжайте!.. Можете при этом полюбезничать с mademoiselle Жиглинской.
– А вы не рассердитесь за это? – спросил Николя, лукаво прищуривая глаза и полагая, что он ужасно ядовито сказал.
– Нисколько!.. Это совершенно не в наших нравах… Кроме того, у меня еще будет обедать один поляк… этакий, знаете, заклятый патриот польский; ну, а вы, я надеюсь, патриот русский.
– Надеюсь!.. Надеюсь!.. – шепелявил Николя со смехом, но в то же время самодовольно.
– А потому, если что коснется до патриотизма, то не ударьте себя в грязь лицом и выскажите все, что у вас на душе, – продолжал князь.
– Извольте!.. Извольте!.. – говорил Николя еще самодовольнее.
На Тверской они расстались. Николя забежал к парикмахеру, чтобы привести в порядок свою прическу, а князь до самого дома продолжал идти пешком. Здесь он узнал, что Жуквич уже пришел и сидел с Еленой в гостиной, куда князь, проходя через залу, увидел в зеркало, что Жуквич читает какое-то письмо, а Елена очень внимательно слушает его; но едва только она услыхала шаги князя, как стремительно сделала Жуквичу знак рукою, и тот сейчас же после того спрятал письмо. Князю это очень не понравилось, однако, он решился повыждать, что дальше будет, и в гостиную вошел с довольным и веселым видом.
При входе его Жуквич встал на ноги.
– Извините ж, ваше сиятельство, – проговорил он, склоняя перед ним голову, – что я без вашего позволения являюсь к вам обедать; но панне Жиглинской угодно ж было пригласить меня.
– Ничего, это все равно, – отвечал князь, протягивая к нему руку.
После того князь сел и Жуквич сел.
– А у нас сегодня будут обедать Анна Юрьевна и барон, – сказал князь Елене.
– Вот как! – сказала та, немного удивленная этим.
– Потом приедет обедать и Николя Оглоблин.
– Это еще зачем? – не утерпела и почти воскликнула Елена.
– Затем, что он теперь один… родитель его в Петербург, кажется, уехал. Куда ж ему, бедному, деваться? – проговорил князь насмешливым тоном.
Елена поняла, над чем, собственно, он тут подтрунивал, и вспыхнула в лице.
Потом князь снова обратился к Жуквичу:
– Это вот Анна Юрьевна-с, о которой я сейчас говорил, кузина моя, и, представьте себе, у нее ни много ни мало, как около ста тысяч годового дохода.
– Доход немалый! – сказал на это Жуквич, слегка ухмыляясь.
– Еще бы!.. И можете себе вообразить, при таком состоянии она держит у себя в обожателях одного моего приятеля, мужчину весьма некрасивого и невзрачного.
– Но она, кажется, вас прежде того желала сделать своим обожателем? – перебила князя Елена.
– Меня – да, но что ж делать, я упустил тогда этот удобный случай.
– Теперь можете поправить это! – продолжала Елена.
– Что теперь!.. Теперь она меня разлюбила, а другой бы очень мог успеть, потому что она прямо говорит про моего друга барона, что он – судак мерзлый.
Жуквич выслушивал весь этот разговор по-прежнему, с небольшой улыбкой, но вместе с тем с таким равнодушным выражением лица, которое ясно показывало, что все это его нисколько не интересует.
– Где же вы живете здесь в Москве, monsieur Жуквич? – обратился к нему еще раз князь.
Жуквич назвал ему улицу и гостиницу, где жил.
– Это почти рядом с нами! – воскликнул князь.
Жуквич на это ничего не сказал.
– Я очень рада тому, это дает вам возможность чаще бывать у нас! – подхватила Елена, обращаясь к нему.
Жуквич и ее поблагодарил только молчаливым наклонением головы.
Князь же, с своей стороны, не повторил ее приглашения Жуквичу.
Вскоре затем прибыла Анна Юрьевна с бароном.
Елена встала и вышла встретить ее.
– Bonjour, моя милая, bonjour! – говорила Анна Юрьевна, входя и крепко пожимая Елене руку.
Князь между тем как-то шаловливо привстал со своего места и шаловливо начал знакомить всех друг с другом.
– Честь имею представить вам – господин Жуквич! – говорил он Анне Юрьевне. – А это – графиня Анна Юрьевна! – говорил он потом тому. – А это – барон Мингер, мой друг и приятель!.. А это – госпожа Жиглинская, а я, честь имею представиться – коллежский секретарь князь Григоров.
На это Анна Юрьевна махала только рукой.
– Козел какой!.. Очень что-то разыгрался сегодня!.. – говорила она, садясь на одном конце дивана, а на другом его конце поместилась Елена, которой, кажется, было не совсем ловко перед Анной Юрьевной, да и та не вполне свободно обращалась к ней.
– Что это он так весел сегодня? – спросила Анна Юрьевна Елену, показывая на князя и не находя ничего другого, с чего бы начать разговор.
– Перед слезами, вероятно! – отвечала Елена, саркастически сжимая губы.
– Зачем так злопророчествовать?.. Я весел потому, что у меня собралось такое милое и приятное общество! – отвечал князь не то в насмешку, не то серьезно.
Барон Мингер с самого прихода своего молчал и только по временам взглядывал на Жуквича, который, в довольно красивой позе, стоял несколько вдали и расправлял свою с проседью бороду. Приехавший наконец Николя окончательно запутал существовавшую и без того неловкость между всеми лицами. Помня слова князя, что Елена будто бы называла его красавцем, Николя прямо и очень стремительно разлетелся к ней, так что та с удивлением и почти с испугом взглянула на него. Она никогда даже не видала Николя и только слыхала о нем, что он дурак великий.
Николя, видя, что его даже не узнают, или, по крайней мере, делают вид, что не узнают, обратился к князю:
– Князь, представьте меня mademoiselle Жиглинской, – проговорил он.
– Это monsieur Оглоблин! – сказал князь, не поднимаясь с своего места.
Тогда Елена протянула руку Николя, которую он с восторгом пожал.
– А я вас видал, клянусь богом, видал! – говорил он, продолжая стоять перед Еленой. – И именно в театре, в бенуаре.
– Меня? – спросила Елена.
– Вас, непременно вас! – продолжал Николя каким-то даже патетическим голосом.
– Может быть, я иногда бываю в театре.
– Непременно вас! Я еще тогда… не помню, кто-то сидел около меня… «посмотрите, говорю, какая красавица!»
Елена при этом немного даже смутилась.
– Подобные вещи, я думаю, не говорят в глаза, – сказала она.
– Ах, ma chere, чего от него другого ждать! – объяснила ей почти вслух Анна Юрьевна.
– Почему не говорят? Почему?.. – стал было допрашивать Николя, делая вид, что слов Анны Юрьевны он как бы не слыхал совсем.
Елена хотела было ему отвечать, но в это время доложили, что обед готов; все пошли. Елена крайне была удивлена, когда князь повел гостей своих не в обычную маленькую столовую, а в большую, парадную, которая, по убранству своему, была одна из лучших комнат в доме князя. Она была очень длинная; потолок ее был украшен резным деревом; по одной из длинных стен ее стоял огромный буфет из буйволовой кожи, с тончайшею и изящнейшею резною живописью; весь верхний ярус этого буфета был уставлен фамильными кубками, вазами и бокалами князей Григоровых; прямо против входа виднелся, с огромным зеркалом, каррарского мрамора[133] камин, а на противоположной ему стене были расставлены на малиновой бархатной доске, идущей от пола до потолка, японские и севрские блюда; мебель была средневековая, тяжелая, глубокая, с мягкими подушками; посредине небольшого, накрытого на несколько приборов, стола красовалось серебряное плато, изображающее, должно быть, одного из мифических князей Григоровых, убивающего татарина; по бокам этого плато возвышались два чуть ли не золотые канделябра с целым десятком свечей; кроме этого столовую освещали огромная люстра и несколько бра по стенам. Человек шесть княжеских лакеев, одетых в черные фраки и белые галстуки, стояли в разных местах комнаты, и над всеми ими надзирал почтенной наружности метрдотель. Устраивая такого рода роскошный обед, князь просто, кажется, дурачился, чтобы заглушить волновавшую внутри его досаду. Когда все, наконец, уселись за столом и Елена стала разливать горячее, то с удивлением посмотрела в миску.
– Что это такое за суп? – проговорила она.
– Разливайте уж! – сказал ей на это князь.
Елена налила первую тарелку и подала ее, разумеется, Анне Юрьевне. Та попробовала и с удовольствием взглянула на князя.
– Это черепаший суп? – спросила она его.
– Черепаший! – подтвердил ее предположение князь.
– И тем хорош, что он по-французски сварен, а не по-английски: не так густ и слизист. Очень хорошо!.. Божественно!.. – говорила Анна Юрьевна, почти с жадностью глотая ложку за ложкой.
– Недурно-с… недурно!.. – повторял за ней князь, начиная есть.
Николя тоже жадно ел, но больше потому, что он все на свете жадно ел.
Елена и барон попробовали суп и не стали его есть.
– А вы как находите это блюдо? – спросил князь Жуквича, очень исправно съевшего свою порцию.
– Превосходнейшее! – отвечал тот, склоняясь перед ним.
– А не напоминает ли он вам нашего последнего с вами обеда в Лондоне? – сказал князь.
Жуквич при этом как-то невесело улыбнулся.
– Я бы желал лучше совсем забыть этот обед! – проговорил он.
– Какой это обед? – полюбопытствовала Анна Юрьевна, пришедшая в совершенно блаженное состояние от скушанного супу.
– Господин Жуквич знает, какой… – ответил князь.
За супом следовали превосходные бараньи котлеты, обложенные трюфелями, так что Анна Юрьевна почти в раж пришла.
– Ou prenez vous ces delicatesses![134] – воскликнула она. Здесь на вес золота нельзя добыть хоть сколько-нибудь сносной баранины.
– А я добыл!.. – произнес с лукавством князь.
– Я только в Париже такие котлеты и едала, только в одном Париже! – обратилась Анна Юрьевна уже к Жуквичу.
– В Брюсселе еще есть первоклассная баранина! – заметил ей тот с почтением.
– Oui!.. C'est vrai!..[135] Да! – согласилась с ним Анна Юрьевна, благосклонно улыбаясь при этом Жуквичу.
– Вином, кузина, тоже прошу не брезговать: бургондское у меня недурное! – отнесся князь к Анне Юрьевне, наливая ей целый стакан.
Она попробовала сначала, а потом и выпила весь стакан.
– Лучше моего – знаешь?.. Гораздо лучше!.. Налей мне еще! – говорила Анна Юрьевна.
Князь налил ей еще стакан.
Барон при этом взмахнул глазами на Анну Юрьевну и сейчас их потом снова опустил в тарелку.
Князь между тем стал угощать Жуквича.
– Что вы не пьете! – сказал он, наливая ему стакан.
– О, благодарю вас! – произнес тот как бы с чувством живейшей благодарности.
Николя Оглоблин, совершенно забытый хозяином, сначала попробовал было любезничать с Еленой.
– Скажите, вы гуляете по утрам на Кузнецком? – спросил он ее.
– Нет, не гуляю! – отвечала она ему сухо.
– Гулять для здоровья даже нужно, – продолжал молодой человек.
– Зачем же я пойду для этого на Кузнецкий?.. Я вот тут ближе могу гулять, на бульваре.
– На Кузнецком более приятные впечатления для дам!.. Модные вещи… модные наряды – все это ласкает глаза!
– Но не настолько, чтоб идти за такую даль, – проговорила Елена.
– Да, виноват! – воскликнул вдруг Николя (он вспомнил, что Елена была нигилистка, а потому непременно должна была быть замарашкой и нарядов не любить). – Может быть, вы наряды не цените и презираете? – произнес он с некоторым даже глубокомыслием.
– Напротив, я очень люблю наряды! – отвечала Елена.
Николя при этом осмотрел весь ее туалет и увидел, что она была прекрасно одета.
– Вас не поймешь, ей-богу! – сказал он, как бы за что-то уже и обидевшись.
– Что такое во мне непонятного? – возразила ему, смеясь, Елена.
– Так, много непонятного! – продолжал Николя тем же недовольным тоном.
Он очень хорошо понимал, что ему с такой умной и ученой госпожой не сговорить, а потому замолчал и, для развлечения себя, принялся пить вино; но так как знаменитого бургондского около него не было, то Николя начал продовольствовать себя добрым портвейном и таким образом к концу обеда нализался порядочно. Слыхав от кого-то, что англичане всегда греются у каминов после обеда, он, когда тут же в столовой уселись пить кофе, не преминул стать к камину задом и весьма нецеремонно раздвинул фалды у своей визитки. В противоположность ему, Жуквич вел себя в высшей степени скромно и прилично; поместившись на одном из кресел, он первоначально довольно односложно отвечал на расспросы Анны Юрьевны, с которыми она относилась к нему, а потом, разговорившись, завел, между прочим, речь об Ирландии, рассказал всю печальную зависимость этой страны от Англии[136], все ее патриотические попытки к самостоятельности, рассказал подробно историю фениев[137], трагическую участь некоторых из них, так что Анна Юрьевна даже прослезилась. Елена слушала его с серьезным и чрезвычайно внимательным выражением в лице; даже барон уставил пристальный взгляд на Жуквича, и только князь слушал его с какой-то недоверчивой полуулыбкой, потом Николя Оглоблин, который взирал на Жуквича почти с презрением и ожидал только случая оспорить его, уничтожить, втоптать в грязь. Князь заметил это и явно с умыслом постарался открыть ему для этого свободное поприще.
– Вы, monsieur Жуквич, так прекрасно рассказываете об Европе и о заграничной жизни вообще, – начал он, – но вот рекомендую вам господина Оглоблина, у которого тоже будет со временем тысяч полтораста годового доходу…
– Ну, нет, меньше! – перебил его Николя с скромным самодовольством.
– Нет, не меньше! – возразил ему князь. – И, вообразите, он ни разу еще не был за границей и говорит, что это дорого для него!
Николя при этом страшно покраснел, он не ездил за границу чисто по страху, – из сознания, что, по его глупости, там, пожалуй, как-нибудь его совсем оберут.
– Я вовсе не потому не еду за границу, вовсе не потому! – принялся он отшлепывать своим язычищем.
– А почему же? – спросил его князь, заранее почти знавший его ответ.
– А потому-с, что я русский человек! – отвечал Николя. – Я не хочу русских денег мотать за границею!
– Но для этого ж так немного надобно денег, что это, конечно, никакого убытка не может сделать России, – осмелился ему заметить Жуквич.
Николя яростно остервенился на него за это.
– Нет-с, извините! – почти закричал он на всю комнату. – Я буду думать – небольшие деньги!.. Другой!.. Сколько теперь наших богатых людей живет за границей, мотают наши деньги и сами ничего не делают!..
Николя, по преимуществу, потому так определенно и смело об этом предмете выражался, что накануне только перед тем слушал такое именно рассуждение одного пожилого господина.
– И все-таки ж от этого очень немного пропадает русских денег и русского труда! – осмелился ему еще раз возразить Жуквич.
– Нет-с, много! – орал на это Николя. – Мы, позвольте вам сказать, не польские магнаты, чтобы нам зорить и продавать наше отечество.
Жуквич взмахнул глазами на Николя.
– Кто ж это из польских магнатов продал свое отечество? – спросил он тихо.
– Все! – хватил Николя.
Князь заметно им был доволен и ободрял его глазами и движениями.
– Voila un benet, qui radote![138] – произнесла опять почти вслух Анна Юрьевна.
Елена сидела молча и надувшись: она очень хорошо понимала, что весь этот спор с умыслом затеял и устроил князь.
Жуквич тоже, кажется, догадался, с каким господином он спорил.
– Если все, то – конечно!.. – произнес он с легким оттенком насмешки.
– Решительно все! – продолжал орать Николя, ободренный такой уступчивостью Жуквича.
Анна Юрьевна, наконец, не в состоянии была долее выслушивать его дурацкого крика, и, кроме того, она с некоторого времени получила сильную привычку спать после обеда.
– Ну, прощай, однако, князь! – сказала она, приподнимаясь с своего места. – За то, что я приехала к тебе обедать, приезжай ко мне завтра вечером посидеть; обедать не зову: старик мой повар болен, а подростки ничего не умеют; но мороженого хорошего дам, нарочно зайду сама к Трамбле и погрожу ему пальчиком, чтобы прислал самого лучшего. Приезжайте и вы, пожалуйста! – прибавила Анна Юрьевна Жуквичу.
Тот сначала молча ей поклонился.
– Приедете? – спросила она его еще раз, протягивая ему руку и очень умильно взглядывая на него.
– Непременно-с, – отвечал он.
Барон при этом выпрямил себе спину и стал растирать грудь рукою.
– А вы, chere amie[139], конечно, приедете? – отнеслась Анна Юрьевна ласково к Елене.
– Приеду, – отвечала та.
– Ну, поедемте, барон! – отнеслась Анна Юрьевна к сему последнему.
– А что же вы, Анна Юрьевна, меня не зовете? – крикнул было ей вслед расходившийся Николя.
– Очень вы с отцом вашим браните меня, так можете и не ездить ко мне, – объяснила та ему прямо и пошла.
Барон в том же молчании, которое сохранял все время, последовал за ней, так что князь, провожая их, спросил его даже:
– Что вы такой сегодня?
– Нездоровится мне что-то, – отвечал ему барон.
– Надобно беречь свое здоровье; нельзя им так рисковать! – проговорил князь, бог знает, что желая этим сказать; но барон не ответил ему на это ни слова и поспешно начал сходить с лестницы.
Возвратясь в столовую, князь бросился в кресло и явно уже не скрывал, что он был сильно утомлен.
Жуквич сейчас же это заметил и взялся за шляпу.
– Позвольте вас поблагодарить… – начал он.
– Не задерживаю вас более, не задерживаю, – сказал ему князь.
Жуквич затем издали поклонился Елене.
– Завтра увидимся мы с вами у Анны Юрьевны? – спросила его та.
– Да, я ж буду, – ответил Жуквич, уходя.
– Может быть, и мне пора домой? – проговорил Николя, все еще стоявший у камина и сильно опешенный последним ответом Анны Юрьевны.
– И вас не задерживаю, и вас… – сказал ему князь.
Николя, в подражание Жуквичу, тоже издали поклонился Елене и ушел.
Когда гости таким образом разъехались, князь встал и пошел было в кабинет, но Елена спросила его:
– Это что за комедии сегодня вы вздумали разыгрывать?
– Какие комедии? – сказал князь, останавливаясь на минуту.
– А такие… Вы думаете, что вас трудно понять… – произнесла Елена с ударением.
– Нисколько не думаю того! – ответил князь и ушел: письмо, которое Жуквич так таинственно читал Елене поутру перед его приходом, не выходило у него из головы.
Что касается сей последней, то надобно было иметь темперамент Елены, чтобы понять, как она в продолжение всего этого обеда волновалась и сердилась на князя. Приглашая Жуквича, Елена думала радушно угостить его, интимно побеседовать с ним, и вдруг князь назвал всю эту сволочь. Для чего это он сделал? Чтоб досадить ей или чтоб унизить Жуквича?.. Но за что же все это?.. За то, что Жуквич имеет известного рода убеждения, или за то, что он поляк?.. Но князь сам некоторым образом претендует на такого рода убеждения, презирать же и ненавидеть человека за его происхождение от враждебного, положим, нам племени может только дикарь… Далее затем Елена перешла и к иному предположению: очень естественно, что князь, по своей доходящей до невероятных пределов подозрительности, ревнует ее к Жуквичу. «В таком случае он сумасшедший и невыносимый по характеру человек!» – почти воскликнула сама с собой Елена, сознавая в душе, что она в помыслах даже ничем не виновата перед князем, но в то же время приносить в жертву его капризам все свои симпатии и антипатии к другим людям Елена никак не хотела, а потому решилась, сколько бы ни противодействовал этому князь, что бы он ни выделывал, сблизиться с Жуквичем, подружиться даже с ним и содействовать его планам, которые он тут будет иметь, а что Жуквич, хоть и сосланный, не станет сидеть сложа руки, в этом Елена почти не сомневалась, зная по слухам, какого несокрушимого закала польские патриоты.
III
Барон, как мы видели, был очень печален, и грусть его проистекала из того, что он день ото дня больше и больше начинал видеть в себе человека с окончательно испорченною житейскою карьерою. Где эта прежняя его деятельная, исполненная почти каждогодичным служебным повышением жизнь? Где его честолюбивые мечты и надежды на будущее? Под сенью благосклонного крыла Михайла Борисыча барон почти наверное рассчитывал сделаться со временем сановником; но вдруг колесо фортуны повернулось иначе, и что теперь вышло из него? Барону совестно даже было самому себе отвечать на этот вопрос. Сближаясь с Анной Юрьевной, он первоначально никак не ожидал, что об этом так скоро узнается в обществе и что это поставит его в столь щекотливое положение. Барон судил в сем случае несколько по Петербургу, где долгие годы можно делать что угодно, и никто не будет на то обращать большого внимания; но Москва оказалась другое дело: по выражениям лиц разных знакомых, посещавших Анну Юрьевну, барон очень хорошо видел, что они понимают его отношения к ней и втайне подсмеиваются над ним. Другое бы дело, – рассуждал он, – если б Анна Юрьевна вышла за него замуж, – тогда бы он явился представителем ее богатства, ее связей, мог бы занять место какого-нибудь попечителя одного из благотворительных учреждений и получать тут звезды и ленты, – словом, занял бы известное положение. Но Анна Юрьевна всегда только отшучивалась, когда он намекал ей на замужество. Появление Жуквича окончательно напугало барона: недаром точно каленым железом кто ударил в грудь его при первых же словах князя об этом господине. Жуквич показался барону весьма красивым, весьма пронырливым и умным, и, вдобавок к тому, Анна Юрьевна, с заметным удовольствием разговаривавшая с Жуквичем на обеде у князя, поспешила сейчас же пригласить его к себе на вечер. Очень естественно, что она может заинтересоваться Жуквичем и пропишет барону отставку; в таком случае ему благовиднее было самому убраться заранее, тем более, что барон, управляя совершенно бесконтрольно именьем Анны Юрьевны, успел скопить себе тысчонок тридцать, – сумма, конечно, не большая, но достаточная для того, чтобы переехать в Петербург и выждать там себе места. Все это барон обдумывал весь вечер и всю бессонную ночь, которую провел по приезде от князя, и, чтобы не томить себя долее, он решился на другой же день переговорить об этом с Анной Юрьевной и прямо высказать ей, что если она не желает освятить браком их отношений, то он вынужденным находится оставить ее навсегда. Но такое решение все-таки было довольно сильное, и барон очень затруднялся – с чего именно начать ему свое объяснение с Анной Юрьевной, а потому невольно медлил идти к ней и оставался у себя внизу часов до трех, так что Анна Юрьевна, еще вчера заметившая, что барон за что-то на нее дуется, обеспокоилась этим и несколько раз спрашивала людей:
– Да что барон делает и нейдет ко мне?
– У себя сидят-с, – отвечали ей те.
Терпенье Анны Юрьевны лопнуло: она сама решилась идти к нему.
Тяжело и неловко спустившись по винтообразной лестнице вниз, Анна Юрьевна вошла в кабинет к барону, где увидела, что он, в халате и с бледным от бессонницы лицом, сидел на одном из своих диванов.
– Ты болен? – спросила она, вглядываясь в него.
– Нет, не болен! – отвечал барон.
– Отчего ж нейдешь ко мне наверх? Ух, задохнулась совсем! – присовокупила Анна Юрьевна, усаживаясь на другом диване.
Барон некоторое время заметно колебался.
– Я все обдумывал одно мое предположение… – заговорил он, наконец, серьезным и каким-то даже мрачным голосом. – Признаюсь, играть при вас ту роль, которую я играл до сих пор, мне становится невыносимо: тому, что я привязан к вам по чувству, конечно, никто не поверит.
– Да и верить тому нельзя, – перебила его Анна Юрьевна: – меня по чувству в молодости только и любил один мужчина, да и то потому, что дурак был!
– Вот видите!.. Вы сами даже не верите тому!.. – продолжал барон. – Чем же я после этого должен являться в глазах других людей?.. Какой-то камелией во фраке!
– Ну, что за пустяки, – произнесла Анна Юрьевна, хотя в душе почти сознавала справедливость слов барона. – Но как же помочь тому? – прибавила она.
– Очень просто, – отвечал барон, – я несколько раз намекал вам, что положение мое будет совершенно другое, когда вы… (барон приостановился на некоторое время), когда вы выйдете за меня замуж и мы обвенчаемся.
Анна Юрьевна при этом захохотала.
– Quelle absurdite!..[140] Что еще выдумал!.. – сказала она.
– Если вы находите, что это абсурд с моей стороны, то я завтра же буду иметь честь пожелать вам всего хорошего и уеду в Петербург.
– Oh, folie!..[141] – воскликнула Анна Юрьевна с испугом. – Но я без смеха вообразить себе не могу, как я, такая толстая, надену венчальное платье!
– Венчальное платье можете не надевать: мы сделаем это очень скромно.
– Наконец, я прямо тебе скажу: j'ai peur du mariage!..[142] Меня муж, пожалуй, бить станет: зачем я, старая хрычовка, замуж шла!..
– Нет, я вас бить не стану! – произнес барон с некоторым чувством.
– Когда же ты хочешь, чтоб я вышла за тебя?
– Чем скорее, тем лучше, – хоть на этой же неделе.
– Ха-ха-ха! – опять начала смеяться Анна Юрьевна. – Я все не могу представить себе невестою себя! Бочка сороковая этакая – невеста!..
Барон на это молчал: он видел уже, что Анна Юрьевна согласится выйти за него замуж.
– Потом-с, – продолжал он, помолчав немного, – женясь на вас, я окончательно обрубаю для себя всякую иную житейскую карьеру и, покуда вы будете сохранять ко мне ваше милостивое внимание, я, без сомнения, буду всем обеспечен; но, может быть, в одно прекрасное утро… наперед испрашиваю извинения в моем предположении… в одно утро, несмотря на то, что я буду муж ваш, вы вздумаете сказать мне: «Убирайтесь вон!» – и я очучусь на голом снегу, ни с чем…
– За что же я скажу тебе это?
– Да хоть за то, что вам понравится какой-нибудь другой мужчина.
– Вот что выдумал!.. Понравится другой мужчина! Знаю я вас: vous etes tous les memes mauvais et dete-stables![143]
– Не ручайтесь, Анна Юрьевна, не ручайтесь! – сказал барон опять с некоторым чувством. – Ни один человек не может сказать, что он будет завтра!
– А я могу, потому что я стара…
Барон пожал плечами.
– Не настолько, мне кажется, еще… а потому я просил бы вас обеспечить меня при жизни и хоть небольшую часть вашего состояния передать мне.
– Да изволь, если уж это так тебя беспокоит! – сказала, слегка усмехнувшись, Анна Юрьевна. – Я, пожалуй, когда ты сделаешься моим мужем, и на остальное мое именье дам тебе завещание!.. Что мне каким-то родственникам моим, шелопаям, оставлять его.
– Благодарю вас за это! – произнес барон и, встав со своего места, поцеловал у Анны Юрьевны руку.
– Ах, однако, какой ты плут! – сказала она ему, погрозя пальцем.
– Что делать!.. – отвечал барон, улыбаясь. – Еще Грибоедов сказал, что «умный человек не может быть не плут».[144]
– Ну да, оправдывайся Грибоедовым! – произнесла Анна Юрьевна и больше не в состоянии была шутить: предложение барона заметно ее встревожило; лицо Анны Юрьевны, как бы против воли ее, приняло недовольное выражение, так что барон, заметив это, немножко даже струхнул, чтоб она не передумала своего решения.
– Но, может быть, вам жаль переменить ваше графство на баронство? – спросил он ее как бы несколько шутя.
– Э, стану я об этом жалеть! – проговорила Анна Юрьевна почти презрительным тоном. – Жаль мне моей свободы и независимости! – присовокупила она с легкой досадой.
– Вы нисколько и не утратите ее! – возразил барон.
– Увидим! – отвечала, вздохнув, Анна Юрьевна и вскоре ушла наверх в свой будуар, где продолжала быть задумчивою и как бы соображающей что-то такое.
Барон, напротив, оставшись один, предался самым приятным соображениям: Анна Юрьевна, конечно, передаст ему при жизни довольно порядочную долю своего состояния; таким образом жизнь его устроится никак не хуже того, если бы он служил все это время и, положим, дослужился бы даже, что почти невероятно, до министров; но что же из этого? Чтобы долго удержаться на этом щекотливом и ответственном посту, надобно было иметь или особенно сильные связи, или какие-нибудь необыкновенные, гениальные способности; но у барона, как и сам он сознавал, не было ни того, ни другого; а потому он очень хорошо понимал, что в конце концов очутится членом государственного совета, то есть станет получать весьма ограниченное содержание. Без сомнения, в этом случае больше бы удовлетворилось его самолюбие и он бы больше стяжал в жизни почестей. «Но если здраво рассмотреть, что такое в сущности все эти мундиры шитые, кресты, ленты и даже чины?.. Одна только мишура и громкие слова!» – философствовал барон. Кроме того, идя по служебному пути, он не скопил бы тридцати тысчонок, которые теперь покоились у него в кармане и которые он, продолжая управлять именьем Анны Юрьевны, надеялся еще увеличить; не было бы впереди этого огромного наследства, которое она обещалась завещать ему. Конечно, как женщина, Анна Юрьевна была не совсем привлекательна. «Но нельзя же, чтобы в жене соединились все достоинства!» – утешал себя и в этом случае барон.
* * *
Часам к восьми вечера богатый дом Анны Юрьевны был почти весь освещен. Барон, франтовато одетый, пришел из своего низу и с гордым, самодовольным видом начал расхаживать по всем парадным комнатам. Он на этот раз как-то более обыкновенного строго относился к проходившим взад и вперед лакеям, приказывая им то лампу поправить, то стереть тут и там пыль, – словом, заметно начинал чувствовать себя некоторым образом хозяином всей этой роскоши.
Вскоре приехали князь и Елена. Анна Юрьевна только перед самым их появлением успела кончить свой туалет и вышла из своей уборной. Вслед за князем приехал и Жуквич.
– Здравствуйте, здравствуйте! – говорила Анна, Юрьевна, пожимая всем им руки. – Пойдем, однако, князь, со мной на минуту, – мне нужно переговорить с тобой два – три слова! – присовокупила она и, взяв князя под руку, увела его в свой будуар.
Барон догадался, что разговор между ними будет происходить о предстоящей свадьбе, а потому тихими шагами тоже пошел за ними. Комнаты в доме Анны Юрьевны были расположены таким образом: прямо из залы большая гостиная, где остались вдвоем Жуквич и Елена; затем малая гостиная, куда войдя, барон остановился и стал прислушиваться к начавшемуся в будуаре разговору между князем и Анной Юрьевной.
– Ты знаешь, – начала она, как только они уселись, – я замуж выхожу.
– Вы?.. Но за кого же?.. – спросил князь удивленным голосом.
– Конечно, за барона! – отвечала Анна Юрьевна.
– Зачем вам это понадобилось? – продолжал князь.
– Он пристал; он этого требует!
– А, вот что! – произнес князь, почесав у себя за ухом.
– Говорит, что его положение в обществе неприлично. И точно что, – сам согласись, – оно не совсем ловкое.
– Он это положение, я думаю, прежде бы должен был предвидеть, – заметил князь.
– Да, но оно сделалось теперь ему невыносимым.
Князь сомнительно усмехнулся.
– Я хотела тебя спросить об одном, – присовокупила Анна Юрьевна, – не зол ли он очень? Может быть, он скрывает от меня это… Tu le connais de longue date; c'est ton ami.[145]
При этом вопросе Анны Юрьевны барон весь превратился в слух.
– Нет, не зол! – отвечал князь протяжно.
– А что же он? – спросила Анна Юрьевна, поняв, что князь тут кое-чего не договаривает.
– По-моему, во-первых, он пуст, а потом подловат немного, – извините, что я так выражаюсь! – заключил князь.
– Ничего! – отвечала Анна Юрьевна.
Барон невольно даже отшатнулся от драпировки, к которой приложил свое ухо.
– Это еще ничего! – продолжала Анна Юрьевна. – Но я боюсь, чтобы он капризничать, командовать надо мной не стал очень.
– Вы сами ему не поддавайтесь, – возразил ей князь.
– Я не поддамся, конечно… Я помню, как и тот мой муж вздумал было на меня кричать, что я долго одеваюсь на бал, я взяла да банкой с духами и пустила ему в лицо; но все же неприятно иметь в доме бури, особенно на старости лет…
– Но отчего барон так вдруг вздумал требовать вашей руки?.. От ревности, что ли? – спросил князь, слегка усмехаясь.
– C'est possible!.. Je n'en sais rien![146] – отвечала, усмехнувшись, Анна Юрьевна. – И требует еще, чтоб я, выйдя за него, отдала ему часть моего состояния.
– Состояния, однако, требует?.. Не дурак, значит, он.
– Какой дурак!.. Он очень умный и расчетливый человек, но это бог с ним! Я ему дам; а главное, скажи, как по нашим законам: могу я всегда отделаться от него?
– Почему же не можете?.. Можете!
– Par consequent tu m'eneourage![147] – заключила Анна Юрьевна.
Князь некоторое время подумал.
– Ничего особенного не имею сказать против того! – проговорил он, наконец.
Его в это время, впрочем, занимала больше собственная, довольно беспокойная мысль. Ему пришло в голову, что барон мог уйти куда-нибудь из гостиной и оставить Жуквича с Еленой с глазу на глаз, чего князь вовсе не желал.
– Итак, все? – сказал он, вставая.
– Все! – отвечала Анна Юрьевна.
Барон в эту минуту юркнул, но не в большую гостиную, а через маленькую дверь во внутренние комнаты. Несмотря на причиненную ему досаду тем, что тут говорилось про него, он, однако, был доволен, что подслушал этот разговор, из которого узнал о себе мнение князя, а также отчасти и мнение Анны Юрьевны, соображаясь с которым, он решился вперед действовать с нею.
Князь недаром беспокоился: у Елены с Жуквичем, в самом деле, происходил весьма интимный разговор. Как только остались они вдвоем в гостиной, Елена сейчас же обратилась к Жуквичу.
– Вы, однако, не дочитали мне письма, которое вчера получили.
– Я ж его привез сюда! – отвечал Жуквич и, вынув из кармана письмо, подал его Елене.
Елена принялась читать письмо, а Жуквич стал ходить взад и вперед по комнате, с целью, кажется, наблюдать, чтобы не вошел кто нечаянно.
Елена, дочитав письмо, изменилась даже вся в лице.
– Это ужасно! – произнесла она.
Жуквич молча принял от нее письмо и положил его снова в карман: грусть и почти скорбь отражались в глазах его.
– Надобно как можно скорее пособить им, – сказала Елена стремительно.
– А чем?.. – возразил ей печальным голосом Жуквич. – У меня ж ничего нет! Все взято и отнято правительством!
– У меня тоже решительно ничего нет, – подхватила Елена, смотря себе на гуттаперчевые браслеты и готовая, кажется, их продать. – Но вот чего я не понимаю, – продолжала она, – каким образом было им эмигрировать, не взяв и не захватив с собой ничего!
– Одним нечего было захватить, – ответил с грустною улыбкой Жуквич, – другие ж не успели.
– В таком случае я лучше бы осталась дома и никуда не пошла.
– Да, но человеку жить желается, – его ж инстинкт влечет к тому; остаться значило – наверное быть повешену.
– Потом еще, – допытывалась Елена, – они жили до сих пор!.. Этому уже лет пять прошло, как они эмигрировали; но отчего они вдруг все разорились?
– О, тому причина большая есть!.. – подхватил Жуквич. – До последнего времени правительство французское много поддерживало… в Англии тоже целые общества помогали, в Германии даже…
– А теперь, что же, они прекратили эту помощь?
Жуквич грустно склонил при этом свою голову.
– Теперь прекратили!.. Прусско-австрийская война[148] как будто ж всему миру перевернула голову наизнанку; забыли ж всякий долг, всякую обязанность к другим людям; всем стало до себя только!..
– Ужасно! – повторила еще раз Елена. – Нельзя ли в Москве составить подписку в пользу их?.. Я почти уверена, что многие подпишутся.
– В Москве ж… подписку в пользу польских эмигрантов?.. Что вы, панна Жиглинская! – почти воскликнул Жуквич.
Елена сама поняла всю несбыточность своего предположения.
– В таком случае составьте подписку только между поляками московскими, – те должны отдать все; я хоть полуполька какая-то, но покажу им пример: я отдам все мои платья, все мои вещи, все мои книги!
– И все это будет такая ж крупица в море, – произнес Жуквич. – Вы прочтите: двести семейств без платья, без крова, без хлеба!..
У Жуквича при этом даже слезы выступили на глазах; у Елены тоже они искрились на ее черных зрачках.
– Ну, так вот что! – начала она. – Я просто скажу князю, чтобы он послал им денег сколько только может!
– О, нет, нет!.. – опять воскликнул Жуквич, кивая отрицательно головой. – Вы ж не знаете, какой князь заклятый враг поляков.
– Тут дело не в поляках, – отвечала Елена, – а в угнетенных, в несчастных людях. Кроме того, я не думаю, чтоб он и против поляков имел что-нибудь особенное.
– Против ж поляков он имеет!.. Я могу вам это доказать ясно, как божий день, из его заграничной жизни.
– Пожалуйста, я никогда ничего подобного от него не слыхала! – проговорила Елена с заметным любопытством.
Жуквич некоторое время медлил и как бы собирался с мыслями.
– Это было ж в Лондоне, – начал он, заметно приготовляясь к длинному рассказу. – Я ж сам, к сожалению, был виновником тому, что произошло… Был митинг в пользу поляков в одной таверне!.. Восстание польское тем временем лишь началось… Я только прибыл из Польши и, как живой свидетель, под влиянием неостывших впечатлений, стал рассказывать о том, как наши польские дамы не совсем, может, вежливо относятся к русским офицерам… как потом были захвачены в казармах солдаты и все уничтожены… Вдруг князь, который был тут же, вскакивает… Я передаю ж вам, нисколько не преувеличивая и не прикрашивая это событие: он был бледен, как лист бумаги!.. Голос его был это ж голос зверя разъяренного. «Если ж, говорит, вы так поступаете с нашими, ни в чем не виноватыми солдатами, то клянусь вам честью, что я сам с первого ж из вас сдеру с живого шкуру!» Всех так ж это удивило; друзья князя стали было его уговаривать, чтобы он попросил извиненья у всех; он ж и слушать не хочет и кричит: «Пусть, говорит, идут со мной ж на дуэль, кто обижен мною!..»
Елена слушала Жуквича с мрачным выражением в лице: она хоть знала нерасположение князя к полякам, но все-таки не ожидала, чтобы он мог дойти до подобной дикой выходки.
– Это, может быть, тогда произошло под влиянием какой-нибудь случайной минуты, но теперь, я надеюсь, этого не повторится, – проговорила она.
– Вы думаете ж? – спросил ее Жуквич.
– Совершенно уверена в том! – отвечала Елена.
– Разве ж красота женская способна так изменить человека? – сказал, пожимая плечами, Жуквич. – А я ж полагаю, что князь мне будет даже мстить, что я передал вам о положении моих несчастных собратов.
– Но чем он может мстить вам?.. Не донос же он на вас сделает, – возразила ему Елена, уже обидевшись за князя.
Разговор их при этом должен был прекратиться, потому что в гостиную вошли Анна Юрьевна и князь. Сей последний, как только взглянул на Елену, так сейчас догадался, что между ею и Жуквичем происходила весьма одушевленная и заметно взволновавшая их обоих беседа. Такое открытие, разумеется, не могло быть ему приятным и придало ему тревожный и обеспокоенный вид. Анна Юрьевна тоже явилась какая-то все еще расстроенная, да и барон, вскоре пришедший, никак не мог скрыть неприязни, которая родилась у него против князя за его отзыв о нем. Вечер, вследствие всего этого, начал тянуться весьма неодушевленно, и даже превосходнейшим образом приготовленное мороженое никого не развлекло: хозяева и гости очень были рады, когда приличие позволило сим последним двинуться по домам.
Князя до того мучила замечаемая им интимность между Еленой и Жуквичем, что он, едучи в карете с нею, не утерпел и сказал ей:
– Когда я вчера возвратился домой поутру и входил в гостиную, то случайно, конечно, видел в зеркало, что Жуквич вам читал какое-то письмо.
– Да, читал! – отвечала Елена, нисколько не смутившись.
– Но от кого же это письмо и какого рода? – спросил князь.
– Об этом много говорить надобно, а я сегодня слишком утомлена для того.
– Но вы, однако, мне скажете это?
– Непременно, – отвечала Елена.
У князя точно камень спал с души.
– А когда именно скажете? – присовокупил он.
– Завтра, вероятно! – отвечала Елена.
Она хотела прежде обдумать хорошенько, с чего ей начать и как лучше подействовать на князя, который, со своей стороны, убедясь, что между Еленой и Жуквичем начались не сердечные отношения, а, вероятно, какие-нибудь политические, предположил по этому поводу поговорить с Еленой серьезно.
IV
На другой день князь Григоров совершенно неожиданно получил письмо с заграничным штемпелем. Адрес был написан незнакомой ему рукою. Как бы заранее предчувствуя что-то недоброе, князь с некоторым страхом распечатал это письмо и прочел его. Оно было от г-жи Петицкой и несколько загадочного содержания. «Извините, князь, – писала она, – что я беспокою вас, но счастие и спокойствие вашей супруги заставляют меня это делать. Известный вам человек, который преследует княгиню всюду за границей, позволяет себе то, чего я вообразить себе никогда не могла: он каждодневно бывает у нас и иногда в весьма непривлекательном, пьяном виде; каждоминутно говорит княгине колкости и дерзости; она при нем не знает, как себя держать. Я несколько раз умоляла ее сбросить с себя эту ужасную ферулу; но она, как бы очарованная чарами этого демона, слышать об этом не хочет и совершенно убеждена, что он тем только существует на свете, что может видеть ее. Ваш совет и ваше слово, я уверена в том, могущественнее всего подействуют на княгиню. Она до сих пор сохранила еще к вам самое глубокое уважение и самую искреннюю признательность; а ваша доброта, конечно, подскажет вам не оставлять совершенно в беспомощном состоянии бедной жертвы в руках тирана, тем более, что здоровье княгини тает с каждым днем, и я даже опасаюсь за ее жизнь».
Письмо это очень встревожило князя. Он порывисто и сильно позвонил.
Вбежал лакей.
– Позови сюда скорее Елену Николаевну! – сказал князь, забыв совершенно, что такое беспокойство его о жене может не понравиться Елене и что она в этом случае будет ему плохая советница.
Елена, когда ее позвали к князю, непременно полагала, что он будет говорить с нею о Жуквиче, а потому, с своей стороны, вошла к нему в кабинет тоже в не совсем спокойном состоянии, но, впрочем, с решительным и смелым видом.
– Посмотри, что мне пишут из-за границы! – сказал князь, подавая Елене письмо Петицкой.
Елена поспешила прочесть его.
– Что же из этого? – спросила она совершенно равнодушным голосом князя.
– Ничего из этого! – отвечал он. – Только господин этот может уморить княгиню, – больше ничего!
– Это очень бы, конечно, было жаль! – сказала Елена протяжно и, будучи совершенно убеждена, что Петицкая от первого до последнего слова налгала все, она присовокупила: – Из этого письма я вовсе не вижу такой близкой опасности, особенно если принять в расчет, кем оно писано.
– Оно писано женщиной, очень хорошо знающей настоящую жизнь Миклакова и княгини, – отвечал князь.
– Но ты забыл, что эта женщина – врунья, сплетница, завистница! – возразила ему Елена.
– Все это, может быть, справедливо! – согласился князь. – Но тут-то она не имеет никакой цели ни лгать, ни выдумывать.
– Цель ее, вероятно, заключается в ее гадкой и скверной натуришке, жаждущей делать гадости и подлости на каждом шагу!
– Что Миклаков зол, желчен и пьяница, – это и я знаю без госпожи Петицкой!.. – возразил князь.
– И я тоже это знаю, – подтвердила Елена, – но в то же время убеждена, что, при всех своих дурных качествах, он не станет никакой в мире женщины мучить и оскорблять.
– Это только твои предположения, которые надобно еще доказать.
– Доказать это, по-моему, очень нетрудно, – отвечала, подумав, Елена. – Пошли за Жуквичем и расспроси его: он очень еще недавно, в продолжение нескольких месяцев, каждодневно виделся с княгиней и с Миклаковым, и я даже спрашивала у него: хорошо ли все у них идет?
– Что же он тебе сказал на это? – перебил ее стремительно князь.
– Сказал, что все у них мирно.
– Что еще потом он тебе говорил об этом?
– Да я не расспрашивала его особенно много… Пошли, я тебе говорю, за ним и сам расспроси его.
Князь размышлял некоторое время.
– Тут одно неудобство – совершенно постороннего человека посвящать в подобные интимные вещи… – проговорил он.
– Какие же это интимные вещи, о которых все, я думаю, знают? – возразила Елена.
Князь еще, однако, подумал немного; потом, видно, решившись, довольно сильно позвонил. Явился лакей.
– Поди к господину Жуквичу, – начал он приказывать лакею и при этом назвал улицу и гостиницу, где жил Жуквич, – и попроси его пожаловать ко мне, так как мне нужно его видеть по весьма важному делу.
У Елены в продолжение этого разговора все больше и больше начинало появляться в лице грустно-насмешливое выражение. Участие князя к жене и на этот раз болезненно кольнуло ее в сердце: как она ни старалась это скрыть, но не могла совладать с собой и проговорила:
– Я еще тогда, как княгиня взяла только Петицкую с собою за границу, говорила, что та будет ссорить ее с Миклаковым, и даже предсказывала, что княгиня, вследствие этого, опять вернется к тебе.
Князь на это промолчал.
– Ты тогда уверял, – продолжала Елена, – что это нисколько не будет до тебя касаться; но я говорила, что это неправда и что это будет тебя касаться, – оказалось, что и в этом я не ошиблась.
Князь и на это ни слова не сказал. Елена тоже не стала развивать далее своей мысли, не желая очень раздражать князя, так как предполагала, не откладывая времени, начать с ним разговор по поводу своего желания помочь польским эмигрантам.
Жуквич не замедлил явиться.
Князь встретил его самым дружественным образом.
– Садитесь, пожалуйста! – говорил он, пододвигая ему стул.
Жуквич принял всю эту любезность князя с некоторым недоумением и кидаемыми на Елену беглыми взглядами как бы спрашивал ее, что это значит.
Князь, впрочем, сам вскоре разрешил его сомнения.
– У меня просьба к вам есть… – начал он, и лицо его мгновенно при этом покрылось румянцем. – Вы, может быть, слышали… что я… собственно… в разводе с женой, и что она даже… уехала за границу с одним господином. И вдруг теперь я… получаю из Парижа, куда они переехали, письмо… которым… уведомляют меня, что княгиня до такой степени несчастлива по милости этого человека, что вконец даже расстроила свое здоровье… Вы видели отчасти их жизнь: скажите, правда это или нет?
На вопрос этот Жуквич довольно продолжительное время медлил ответом: он, видимо, соображал, в каком тоне ему говорить, и Елена, заметившая это, поспешила ему помочь.
– Вы заметьте, что князю об этом пишет госпожа Петицкая, – сказала она.
– А, госпожа Петицкая!.. – повторил с улыбкою Жуквич.
– Но вот вы мне говорили, что напротив – между княгиней и Миклаковым все хорошо идет! – продолжала Елена.
– О, да!.. Совершенно ж хорошо! – подхватил Жуквич полным уже голосом.
– И как на вид княгиня – весела?.. Здорова?.. Покойна? – вмешался в их разговор князь.
– По-моему ж весела и здорова, – подтвердил, пожимая плечами, Жуквич.
– Я и не понимаю после этого ничего!.. – произнес князь. – А вот еще один вопрос, – присовокупил он, помолчав немного. – Я буду с вами говорить вполне откровенно: Миклаков этот – человек очень умный, очень честный; но он в жизни перенес много неудач и потому, кажется, имеет несчастную привычку к вину… Как он теперь – предается этому или нет?
– О, да нет ж!.. Нисколько!.. – воскликнул Жуквич.
– Но, может быть, этого не было в Германии, а возобновилось в Париже?
– Я ж того не знаю, – отвечал Жуквич, опять пожимая плечами и как бы начиная скучать такими расспросами.
Елене тоже они заметно не нравились.
– Чем тебе обижать заранее человека такими предположениями, ты лучше напиши к кому-нибудь из твоих знакомых в Париже, – пусть они проверят на месте письмо госпожи Петицкой, – сказала она.
– У меня в Париже решительно никого нет знакомых, – возразил ей князь.
При последних словах князя лицо Жуквича приняло какое-то соображающее выражение.
– У меня ж много в Париже знакомых. Не поручите ли вы мне это дело исполнить? – произнес он.
– Но каким образом ваши знакомые могут проверить это? – спросил его князь.
– Очень просто ж это! Я с месяц лишь рекомендовал через письмо одного моего знакомого княгине и Миклакову. Он был ими очень обласкан и бывает у них часто, – чего ж удобнее, как не ему наблюсти над всем? Я ему ж телеграфирую о том, и он мне телеграфирует…
– Это значит – еще третьего человека посвящать в эту тайну! – проговорил князь, относясь больше к Елене.
– Да не вы ж его будете посвящать, а я! – подхватил Жуквич.
– Но вам-то с какой стати посвящать его в это и заботиться о княгине?
Жуквич при этом грустно усмехнулся и склонил свою голову.
– Мы ж, поляки, часто, по нашему политическому положению, интересуемся и спрашиваем друг друга о самых, казалось бы, ненужных и посторонних нам людях и вещах.
– Ну, в таком случае не откажите и сделайте мне это одолжение! – проговорил князь и вместе с тем протянул Жуквичу руку.
– О, с великим удовольствием! – воскликнул тот, заметно обрадованный просьбой князя, и, принимая его руку в обе свои руки, крепко пожал ее.
– Но ты сам потом должен будешь заплатить господину Жуквичу каким-нибудь одолжением, – пошутила князю Елена.
– Если только это будет в моей возможности, – отвечал он ей серьезно.
– Мне, вероятно ж, будет заплачено больше, чем я стою того!.. Вероятно!.. – подхватил Жуквич шутливым тоном. Затем он вскоре стал прощаться, говоря, что сейчас идет отправлять телеграмму.
Князь еще раз искренно поблагодарил его; когда, наконец, Жуквич совсем пошел, то Елена вдруг быстро поднялась с своего места и, побежав вслед за ним, нагнала его в передней.
– Послушайте, – начала она торопливо, но тихо, – в самом деле у Миклакова с княгиней мирно идет?
Жуквич в ответ на это пожал только плечами.
– И княгиня действительно весела? – продолжала Елена.
– Ну, не очень… особенно по временам, – произнес, наконец, Жуквич.
– А Миклаков не кутит никогда?
– И того ж нельзя сказать утвердительно. И видал его иногда в очень bon courage![149]
– Но все-таки, как вы полагаете, во всем этом ничего нет особенно серьезного? – говорила Елена.
– Серьезного ж нет ничего! – подтвердил Жуквич, очень хорошо понявший, что Елена желает, чтобы ничего серьезного не было.
– Я вас потому спрашиваю, – продолжала она, – что вы посмотрите, как это взволновало и встревожило князя; но что будет с ним, если это еще правда окажется!
– Да, к крайнему ж моему удивлению, я вижу, что он очень встревожен, – произнес неторопливо Жуквич.
– Ужас что такое!.. Ужас! – подхватила Елена. – И каково мое положение в этом случае: он волнуется, страдает о другой; а я мало что обречена все это выслушивать, но еще должна успокаивать его.
Жуквич на это грустно только склонил голову и хотел было что-то такое сказать, но приостановился, так как в это время в зале послышались тяжелые шаги. Елена тоже прислушалась к этим шагам и, очень хорошо узнав по ним походку князя, громко проговорила:
– Прощайте, пан Жуквич.
– Прощайте, панна Жиглинская! – отвечал он, в свою очередь угадав ее намерение.
Князь, в самом деле, вышел из кабинета посмотреть, где Елена, и, ожидая, что она разговаривает с Жуквичем, хотел, по крайней мере, по выражению лица ее угадать, о чем именно.
На другой же день к вечеру Жуквич прислал с своим человеком к князю полученную им из Парижа ответную телеграмму, которую Жуквич даже не распечатал сам. Лакей его, бравый из себя малый, с длинными усищами, с глазами навыкате и тоже, должно быть, поляк, никак не хотел телеграммы этой отдать в руки людям князя и требовал, чтобы его допустили до самого пана. Те провели его в кабинет к князю, где в то время сидела и Елена.
– Телеграмма, ясновельможный пан! – крикнул поляк и, почти маршем подойдя к князю, подал ему телеграмму, а потом, тем же маршем отступя назад, стал в дверях.
Князь сначала сам прочел телеграмму и затем передал ее Елене, которая, пробежав ее, улыбнулась.
Телеграмма гласила нижеследующее: «Я бываю у княгини Григоровой и ничего подобного твоим подозрениям не видал. Миклаков, по обыкновению, острит и недавно сказал, что французы исполнены абстрактного либерализма, а поляки – абстрактного патриотизма; но первые не успели выработать у себя никакой свободы, а вторые не устроили себе никакого отечества. Княгиня же совершенно здорова и очень смеялась при этом».
– Вот видишь, я тебе говорила, что все это вздор! – произнесла Елена.
– Я очень рад, конечно, тому, если только это правда! – сказал князь. – Ну, теперь, любезный, ты можешь идти, – отнесся он к лакею. – Кланяйся господину Жуквичу и поблагодари его от меня; а тебе вот на водку!
И с этими словами князь протянул лакею руку с пятирублевой бумажкой. Тот, в удивлении от такой большой награды, еще более выпучил свои навыкате глаза.
– Много милостивы, ясновельможный пан! – опять крикнул он и, повернувшись после того по-солдатски, налево кругом, ушел. Хлопец сей, видно, еще издавна и заранее намуштрован был, как держать себя перед русскими.
Елена видела, что полученная телеграмма очень успокоила князя, а потому, полагая, что он должен был почувствовать некоторую благодарность к Жуквичу хоть и за маленькую, но все-таки услугу со стороны того, сочла настоящую минуту весьма удобною начать разговор с князем об интересующем ее предмете.
Для большего успеха в своем предприятии Елена, несмотря на прирожденные ей откровенность и искренность, решилась употребить некоторые обольщающие средства: цель, к которой она стремилась, казалась ей так велика, что она считала позволительным употребить для достижения ее не совсем, может быть, прямые пути, а именно: Елена сходила в детскую и, взяв там на руки маленького своего сына, возвратилась с ним снова в кабинет князя, уселась на диване и начала с ребенком играть, – положение, в котором князь, по преимуществу, любил ее видеть. Она стала своему Коле делать буки, и когда Елена подносила свою руку к горлышку ребенка, он сейчас принимался хохотать, визжать. Потом, когда она отводила свою руку, Коля только исподлобья посматривал на это; но Елена вдруг снова обращала руку к нему, и мальчик снова принимался визжать и хохотать; наконец, до того наигрался и насмеялся, что утомился и, прильнув головой к груди матери, закрыл глазки: тогда Елена начала его потихоньку качать на коленях и негромким голосом напевать: «Баю, баюшки, баю!». Ребенок вскоре совсем заснул. Елена, накрыв сына легким шарфом, который был на ней, не переставала его слегка укачивать. Князь с полным восторгом и умилением глядел на всю эту сцену: лицо же Елены, напротив, продолжало оставаться оттененным серьезной мыслию.
– А у меня, Гриша, будет к тебе просьба, – начала она наконец.
– Ко мне? – спросил князь.
– Да!.. Вот в чем дело: я, как ты сам часто совершенно справедливо говорил, все-таки по происхождению моему полячка… Отец мой, что бы там про него ни говорили, был человек не дурной и, по-своему, образованный. Он, еще в детстве моем, очень много мне рассказывал из истории Польши и из частной жизни поляков, об их революциях, их героях в эти революции. Все это неизгладимыми чертами запечатлелось в моей памяти; но обстоятельства жизни моей и совершенно другие интересы отвлекли меня, конечно, очень много от этих воспоминаний; вдруг теперь этот Жуквич, к которому ты, кажется, немного уже меня ревнуешь, прочел мне на днях письмо о несчастных заграничных польских эмигрантах, которые мало что бедны, но мрут с голоду, – пойми ты, Гриша, мрут с голоду, – тогда как я, землячка их, утопаю в довольстве… Мне просто сделалось гадко и постыдно мое положение, и я не в состоянии буду переносить его, если только ты… у меня в этом случае, ты сам знаешь, нет ни на кого надежды, кроме тебя… если ты не поможешь им…
Елена остановилась на минуту.
Князь молчал и только с каждым словом ее все тяжелее и тяжелее стал переводить дыхание.
– Ты не давай лучше мне ничего, давай как можно меньше матери моей денег, которой я решительно не знаю, зачем ты столько даешь, – продолжала Елена, заметив не совсем приятное впечатление, которое произвела ее просьба на князя, – но только в этом случае не откажи мне. Их, пишут, двести семейств; чтоб они не умерли с голоду и просуществовали месяца два или три, покуда найдут себе какую-нибудь работу, нужно, по крайней мере, франков триста на каждое семейство, – всего выйдет шестьдесят тысяч франков, то есть каких-нибудь тысяч пятнадцать серебром на наши деньги. Пошли им эту сумму, и ты этим воздвигнешь незыблемый себе памятник в их сердцах…
Проговоря это, Елена замолчала.
Молчал по-прежнему и князь некоторое время; но гнев очень заметно ярким и мрачным блеском горел в его глазах.
– Я предчувствовал, что это будет! – проговорил он, как бы больше сам с собой. – Нет, я не дам польским эмигрантам ничего уже более! – присовокупил он затем, обращаясь к Елене.
Тогда красивые черты лица Елены, в свою очередь, тоже исказились гневом.
– Отчего это? – едва достало у ней силы выговорить.
– Оттого, что я довольно им давал и документ даже насчет этого нарочно сохранил, – проговорил князь и, проворно встав с своего места, вынул из бюро пачку писем, взял одно из них и развернул перед глазами Елены. – На, прочти!.. – присовокупил он, показывая на две, на три строчки письма, в которых говорилось: «Вы, мой милый князь, решительно наш второй Походяшев: вы так же нечаянно, как и он, подошли и шепнули, что отдаете в пользу несчастных польских выходцев 400 тысяч франков. Виват вам!»
– Но когда же это было? – спросила Елена, удивленная этим открытием.
– Это было, когда я жил за границей, и за мое доброе дело господа, про которых ты говоришь, что я незыблемый памятник могу соорудить себе в сердцах их, только что не палками выгнали меня из своего общества.
– Да, это я знаю. Но ты сам подал повод к тому, – возразила Елена.
– Чем?.. Чем? – воскликнул князь, забыв даже, что тут спал ребенок.
– Тем, что хотел как-то драть со всех кожу!
– А! Тебе уж и про то доложено! – произнес князь. – Ну, так узнай ты теперь и от меня: это слово мое было плодом долгого моего терпения… Эти люди, забыв, что я их облагодетельствовал, на каждом шагу после того бранили при мне русских, говорили, что все мы – идиоты, татары, способные составлять только быдло, и наконец, стали с восторгом рассказывать, как они плюют нашим офицерам в лицо, душат в постелях безоружных наших солдат. Скажи мне: самому ярому члену Конвента, который, может быть, снял головы на гильотине с нескольких тысяч французов, смел ли кто-нибудь, когда-нибудь сказать, что весь французский народ дрянь?..
– Поляки, по-твоему, – возразила с саркастическим смехом Елена, – могут и должны любить русских и считать вас народом добрым и великодушным?
– Они могут нас ненавидеть и считать чем им угодно, но при мне они не должны были говорить того!.. – проговорил князь.
– Ты поэтому твое чисто личное оскорбление, – продолжала Елена тем же насмешливым тоном, – ставишь превыше возможности не дать умереть с голоду сотням людей!.. После этого ты, в самом деле, какой-то пустой и ничтожный человек! – заключила она как бы в удивлении.
– К этому имени я давно уже привык. Ты не в первый раз меня им честишь, – сказал князь, едва сдерживая себя.
– Но я тогда еще говорила под влиянием ревности, а потому была, быть может, не совсем права; но теперь я хочу сорвать с тебя маску и спросить, что ты за человек?
При этих словах Елены ребенок, спавший у ней на коленях, проснулся и заплакал.
– Няня, поди возьми его у меня! – крикнула она стоявшей в зале няне и ожидавшей, когда ей отдадут барчика.
Та вбежала. Елена почти бросила ей на руки ребенка; тот еще больше заплакал и стал тянуться к матери, крича: «Мама, мама!».
– Унеси его туда! – крикнула она снова.
Няня поспешно унесла ребенка.
– Я тебя решительно спрашиваю, – продолжала Елена, обращая свои гневные взгляды на князя, – и требую сказать мне, что ты за человек?
– Ну, это, кажется, не тебе судить, что я за человек! – произнес князь, не менее ее взбешенный. – И хоть ты говоришь, что я притворный социалист и демократ, но в этом совесть моя чиста: я сделал гораздо больше, чем все твои другие бесштатные новаторы.
– Но что ты такое сделал?.. Что?.. Скажи!.. – не унималась Елена.
– А вот что я сделал! – сказал сурово князь. – Хоть про себя говорить нельзя, но есть оскорбления и унижения, которые заставляют человека забывать все… Я родился на свет, облагодетельствованный настоящим порядком вещей, но я из этого порядка не извлек для себя никакой личной выгоды: я не служил, я крестов и чинов никаких от правительства не получал, состояния себе не скапливал, а напротив – делил его и буду еще делить между многими, как умею; семейное гнездо мое разрушил и, как ни тяжело мне это было, сгубил и извратил судьбу добрейшей и преданнейшей мне женщины… Но чтобы космополитом окончательным сделаться и восторгаться тем, как разные западные господа придут и будут душить и губить мое отечество, это… извините!.. Я, не стыдясь и не скрываясь, говорю: я – русский человек с головы до ног, и никто не смей во мне тронуть этого чувства моего: я его не принесу в жертву ни для каких высших благ человечества!
Последние слова князь произнес с таким твердым и грозным одушевлением, что Елена почти стала терять надежду переспорить его.
– Наконец, ты сама полячка, однако не ставишь себе этого в обвинение! – заключил князь.
– Но я настолько полячка, – пойми ты, – насколько поляки угнетенный народ, а на стороне угнетенных я всегда была и буду! – возразила Елена.
– Нет, больше, больше!.. – возразил ей, с своей стороны горячась, князь. – Ты полячка по крови так же, как и я русский человек по крови; в тебе, может быть, течет кровь какого-нибудь польского пана, сражавшегося насмерть с каким-нибудь из моих предков, князем Григоровым. Такие стычки и встречи в жизни не пропадают потом в потомстве бесследно!
– Ну да, как же, аристократические принципы… без них мы шагу не можем сделать! – рассмеялась злобно Елена и, отвернувшись от князя, стала глядеть в угол печи. На глазах ее искрились даже слезы от гнева.
У Елены оставался еще один мотив для убеждения князя, который она не хотела было высказывать ему по самолюбию своему, говорившему ей, что князь сам должен был это знать и чувствовать в себе; как бы то ни было, однако, Елена решилась на этот раз отложить в сторону всякую гордость.
– Хоть тебе и тяжело оказать помощь полякам, что я отчасти понимаю, – начала она, – но ты должен пересилить себя и сделать это для меня, из любви своей ко мне, и я в этом случае прямо ставлю испытание твоему чувству ко мне: признаешь ты в нем силу и влияние над собой – я буду верить ему; а нет – так ты и не говори мне больше о нем.
– Даже из любви к тебе не могу этого сделать! – отвечал князь.
– Даже!.. Ну, смотри, не раскайся после!.. – произнесла Елена и, понимая, что убеждать князя долее и даже угрожать ему было совершенно бесполезно, она встала и ушла из кабинета.
Вся ее походка при этом, все движения были движениями рассвирепелой тигрицы: темперамент матери как бы невольно высказался в эти минуты в Елене! Князь тоже остался под влиянием сильного гнева. Он твердо был уверен, что Елену поддул и настроил Жуквич, и не для того, чтобы добыть через нее денег своим собратьям, а просто положить их себе в карман, благо в России много дураков, которые верили его словам. Чтобы спасти себя на дальнейшее время от подобного господина, князь тут же написал и отправил к нему не совсем ласкового свойства письмецо: «Милостивый государь! Так как вы, несмотря на короткое время появления вашего в моем доме, успели устроить в нем интригу, последствием которой я имел весьма неприятное для меня объяснение с Еленой Николаевной, то, чтобы не дать вам возможности приготовлять мне сюрпризы такого рода, я прошу вас не посещать больше моего дома; в противном случае я вынужден буду поступить с вами весьма негостеприимно».
Елена между тем прошла в свою комнату и села там; гневные и серьезные мысли, точно облако зловещее, осенили ее молодое чело. Часа два, по крайней мере, она пробыла почти в неподвижном положении; вдруг к ней вошла ее горничная.
– Барышня, – начала она негромким голосом: – человек вон этого Жуквича пришел к вам и принес записочку.
– Ну, так давай ее мне скорее! – сказала Елена стремительно.
Горничная подала ей записочку.
– Лакей-то не отдавал было, просил, чтоб я к вам его провела. «Куда, я говорю, тебе, лупоглазому черту, идти к барышне!.. Дай записочку-то… Я не съем ее!»
Жуквич писал Елене: «Я получил от князя очень грубый отказ от дому: что такое у вас произошло?.. Я, впрочем, вам наперед предсказывал, что откровенность с князем ни к чему не может повести доброму. Буду ли я когда-нибудь и где именно иметь счастие встретиться с вами?»
– Человек еще не ушел? – спросила Елена горничную.
– Нет еще-с! – отвечала та. – Дожидается ответа: барин, говорит, так приказал!
Елена написала очень коротко:
«Князь может, сколько ему угодно, отказывать вам от дому, но видеться с вами мы будем; я сама буду ездить к вам и проводить у вас, если вы хотите, целые вечера!»
К прежнему выражению лица Елены прибавилась какая-то необыкновенная решительность и как бы насмешливость над своей судьбой и своим собственным положением.
V
Николя Оглоблин просыпался не ранее, как в час пополудни. В одно утро, когда он еще валялся и нежился в своей постели, к нему вошел его камердинер Севастьян.
– Вставайте-с!.. Дама вас там какая-то спрашивает, – сказал он почти строго барину.
– Какая дама? – спросил Николя с небольшим удивлением, но не без удовольствия. – А хорошенькая? – прибавил он с лукавством.
– Да-с, красивая, очень даже!.. – отвечал Севастьян.
– Ну, так вели ее просить в залу и давай мне поскорей одеться! – затараторил Николя.
Камердинер приотворил дверь и крикнул другому лакею, невдалеке стоявшему, чтобы тот просил даму в залу, а сам принялся помогать барину одеваться. Николя очень скоро прифрантился и, войдя в свой кабинет, велел даму просить к себе. Его очень интересовало посмотреть, кто она такая была… Вошла Елена и тут же сейчас приостановилась на минуту, удивленная и пораженная убранством кабинета Николя. Прежде всего Елене кинулся в глаза портрет государя в золотой раме, а кругом его на красном сукне, в виде лучей, развешены были разного рода оружия: сабли, шашки, ружья и пистолеты. В одном из углов стояла электрическая машина. Елене пришло в голову, что не удар ли случился с Николя, и он лечится электричеством; но машина, собственно, была куплена для больной бабушки Николя; когда же та умерла, то Николя машину взял к себе для такого употребления: он угрозами и ласками зазывал в свой кабинет лакеев и горничных и упрашивал их дотронуться до машины. Те соглашались, машина их щелкала; они вскрикивали и доставляли тем Николя несказанную радость. В другом углу кабинета стоял туалетный столик Николя, с круглым серебряным, как у женщин, зеркалом, весь уставленный флаконами с духами, банками с помадой, фиксатуарами, щетками и гребенками. Николя в «Онегине» прочитал описание кабинета денди и полагал, что такое убранство очень хорошо. Прямо над этим столом висел в углу старинный и вряд ли не чудотворный образ казанской божией матери, с лампадкою перед ним. Николя был очень богомолен и состоял даже в своем приходе старостой церковным. По третьей стене шел огромный книжный шкаф, сверху донизу набитый французскими романами, – все это, как бы для придачи общего характера, было покрыто пылью и почти грязью. Николя, в свою очередь, тоже очень удивился появлению Елены.
– Mademoiselle Жиглинская, вас ли я вижу? – говорил он, выпучивая свои бараньи глаза и протягивая к ней обе руки.
– А я к вам с просьбой, Оглоблин, – начала Елена, торопясь поскорее сесть. Она заметно была в раздраженном и нервном состоянии.
Николя поспешил ей при этом пододвинуть кресло.
– Я одному моему комиссионеру поручила разузнавать, нет ли свободных мест женских в каких-нибудь учреждениях, и он мне сказал, что у отца вашего есть свободное место кастелянши!..
– Но для кого вам нужно это место? – спросил Николя.
– Для себя!.. Я хочу занять его!.. – отвечала Елена.
Николя еще больше вытаращил глаза свои.
– А как же князь-то? – бухнул он прямо.
Елена при этом немного вспыхнула.
– С князем мы расходимся!.. – проговорила она.
– Не может быть! – воскликнул Николя и захохотал своим глупым смехом.
Елена окончательно было сконфузилась, но постаралась снова овладеть собой.
– Подите и скажите вашему отцу, чтоб он дал мне это место! – сказала она почти повелительно.
– Да ведь отец теперь в присутствии! – прошепелявил Николя.
– Все равно… Вы к нему в присутствие ступайте!.. Оно тут у вас в одном доме?..
– Тут, здесь!
Старик Оглоблин занимал в бельэтаже огромную казенную квартиру, а внизу у него было так называемое присутствие его.
– Ну, так ступайте и непременно выпросите мне это место, – настаивала Елена.
– A l'instant mademoiselle![150] – воскликнул Николя. Он вообще никогда и никакой даме неспособен был отказать в ее просьбе, а тут он сообразил еще и то, что, сделав одолжение Елене, которая, по ее словам, расходится с князем, он будет иметь возможность за ней приволокнуться, а Елена очень и очень нравилась ему своею наружностью.
Комната, которую старик Оглоблин именовал присутствием своим, была довольно большая и имела, как всякое присутствие, стол, накрытый красным сукном, и зерцало.
Сам старик Оглоблин, в вицмундире и весь осыпанный звездами и крестами, сидел за этим столом и помечал разложенные перед ним бумаги. Лицо у него хоть и было простоватое, но дышало, однако, гораздо большим благородством, чем лицо сына; видно было, что человек этот вырос и воспитался на французских трюфелях и благородных виноградных винах, тогда как в наружности сына было что-то замоскворецкое, проглядывали мороженая осетрина и листовая настойка. Старик Оглоблин в молодости служил в кавалергардах и, конечно, во всю свою жизнь не унизил себя ни разу посещением какой-нибудь гостиницы ниже Дюссо и Шевалье, а Николя почти каждый вечер после театра кутил в Московском трактире. Придя на этот раз к отцу, он сначала заглянул в присутствие.
– Папа, можно к вам? – произнес он.
– Можно, войди, – отвечал тот, оставляя на некоторое время свои занятия.
Николя вошел, взял стул и сел против отца.
– Вы помните, папа, Жиглинскую, любовницу князя Григорова? – начал он.
– Какую такую любовницу? – спросил старик, несколько утративший свежесть памяти.
– Ну, которую еще вместе с Анной Юрьевной выгнали из службы за то вот, что она сделалась в известном положении.
– Ах, да, помню! – припомнил старик.
– И теперь она… Бог их там знает, кто: князь ли, она ли ему, только дали друг другу по подзатыльничку и разошлись… Теперь она на бобах и осталась! – заключил Николя и захохотал.
– На бобах!.. На бобах!.. – согласился, усмехаясь, старик. – Что же ты-то тут зеваешь? – присовокупил он тоном шутливой укоризны.
– Да что!.. Нет!.. Она чудачка страшная!.. – отвечал Николя. – Теперь пришла и просит, чтоб ей дали место кастелянши.
– Место?.. Кастелянши?.. – повторил старик уже серьезно и как бы делая ударение на каждом слове.
– Да, папа!.. Дайте ей место! Мы этим чудесно насолим князю Григорову: пускай он не говорит, что Оглоблины дураки набитые.
– Да разве он говорит это? – спросил старик, с удивлением взглянув на сына.
– Еще бы не говорит!.. Везде говорит! – отвечал Николя, впрочем, более подозревавший, чем достоверно знавший, что князь говорит это, и сказавший отцу об этом затем, чтобы больше его вооружить против князя… – Так что же, папа, дадите mademoiselle Жиглинской место? – приставал он к старику.
– Но прежде я должен посоветоваться с Феодосием Ивановичем! – возразил ему тот.
Такого рода ответ Оглоблин давал обыкновенно на все просьбы, к нему адресуемые. Феодосий Иваныч был правитель дел его и хоть от природы был наделен весьма малым умом, но сумел как-то себе выработать необыкновенно серьезный и почти глубокомысленный вид. Начальника своего он больше всего обольщал и доказывал ему свое усердие тем, что как только тот станет что-нибудь приказывать ему с известными минами и жестами, так и Феодосий Иваныч начнет делать точно такие же мины и жесты.
– Ну, так я, папа, сейчас позову вам его! – проговорил Николя и бросился в соседнюю комнату, где обыкновенно заседал Феодосий Иваныч.
Николя лучше, чем отец его, понимал почтенного правителя дел и, догадываясь, что тот был дурак великий, нисколько с ним не церемонился и даже, когда Феодосий Иваныч приходил к ним обедать и, по обыкновению своему, в ожидании, пока сядут за стол, ходил, понурив голову, взад и вперед по зале, Николя вдруг налетал на него, схватывал его за плечи и перепрыгивал ему через голову: как гимнаст, Николя был превосходный! Феодосий Иваныч только отстранялся при этом несколько в сторону, делал удивленную мину и произносил: «Фу, ты, господи боже мой!». В настоящем случае Николя тоже не стал с ним деликатничать.
– Вас папа просит, – почти закричал он на него: – там я хлопочу одну девушку определить к нам в кастелянши, и если вы отговорите папа, я вас отдую за то! – заключил Николя и показал кулак Феодосию Иванычу.
– Да погодите еще отдувать-то! – ответил тот ему и пошел в присутствие.
Николя последовал за ним и стал в присутствии таким образом, что отцу было не видать его, а Феодосий Иваныч, напротив, очень хорошо его видел.
– У нас… там… есть… место кастелянши? – начал старик Оглоблин, принимая все более и более важный вид.
– Есть!.. Есть!.. Есть!.. – отвечал ему троекратно Феодосий Иваныч, тоже с более и более усиливающеюся важностию.
– Николя просит… на это… место… поместить… одну… девицу… Она там уже… служила… и потеряла… место!.. – произнес, как бы скандируя стихи, старик Оглоблин.
– Место… потеряла? – повторил за ним и Феодосий Иваныч.
– Да… Можно ли нам поэтому… определить ее? – продолжал, потрясая головой, старик Оглоблин.
Николя при этом держал кулак перед глазами правителя дел.
– Отчего нельзя? Можно!.. Можно!.. – отвечал тот, встряхивая тоже головой.
– Можно, значит! – обратился после того отец к сыну.
– Ну так я, папа, сейчас приведу к вам ее, – вскричал радостно Николя.
– Приведи! – разрешил ему родитель.
Николя побежал за Еленой, а Феодосий Иваныч приостановился, чтобы дать начальнику совет.
– Вы бумаги-то у ней спросите, чтобы метрику и послужной список мужа, либо отца, коли девица, – проговорил он, делая, в подражание старику Оглоблину, ударение почти на каждом слове.
– Непременно!.. Непременно!.. – подхватил тот.
Феодосий Иваныч после того ушел на свое место, а в другие двери Николя ввел в присутствие Елену.
Старик Оглоблин исполнился даже удивления, увидев перед собою почти величественной наружности даму: во всех своих просительницах он привык больше видеть забитых судьбою, слезливых, слюнявых.
Он привстал со своего места и, по свойственной всем начальникам манере, оперся обеими руками на стол.
– Мой сын… говорит… – начал он, – что вы… желаете… занять… место… кастелянши?..
– Да, я очень желаю занять это место, – проговорила Елена.
– Оно… ваше… ваше!.. – проговорил старик с ударением. – Но нам нужны… бумаги… метрику вашу… и послужной список… вашего родителя.
– У меня все эти бумаги есть, – отвечала Елена.
– И потому… я… больше… никаких… препятствий не имею, – заключил старик.
– И мне, значит, можно сегодня переехать на казенную квартиру? – спросила Елена.
Старика Оглоблина снова поставил этот вопрос в недоумение.
– Феодосия… Иваныча… надобно об этом спросить!.. – сказал он сыну.
Тот сбегал и опять привел Феодосия Иваныча.
– Можно им… сегодня… на квартиру… нашу… переехать?.. Та… прежняя… кастелянша переехала?.. – обратился старик к своему правителю.
– Та… переехала… можно им! – почти передразнил его Феодосий Иваныч. – Вымыть только и вымести квартиру прежде надо, – прибавил он от себя.
– Ну, велите вымыть и вымести ее, – повторил за ним начальник.
Феодосий Иваныч ушел после того.
– Я могу теперь идти? – сказала Елена, раскланиваясь перед стариком.
– Можете! – произнес и он, раскланиваясь с ней.
Елена пошла.
– Прощайте, папа! – крикнул отцу Николя и поспешил за Еленой.
– Когда вы, mademoiselle Жиглинская, будете здесь жить, вы позволите мне бывать у вас? – проговорил он в одно и то же время лукавым и упрашивающим голосом.
– Пожалуйста, – отвечала она, приветливо кивая ему на прощанье головою.
* * *
От Оглоблиных Елена прямо проехала к Жуквичу в гостиницу, где он занимал небольшой, но очень красивый номер. Сам Жуквич, несмотря на то, что сидел дома и даже занимался чем-то, был причесан, припомажен, раздушен и в каком-то франтоватом, мохнатом пальто. На каждой из вещей, которые Елена увидала у него в номере, начиная с нового большого чемодана до толстого клетчатого пледа, лежавшего на диване, ей кинулся в глаза отпечаток европейского изящества и прочности, и она при этом невольно вспомнила сейчас только оставленный ею богатый дом русского вельможи, представлявший огромные комнаты, нелепое убранство в них и грязь на всем.
– Вот я и нашла вас, – сказала она, входя и пожимая Жуквичу руку.
– О, да, merci, merci, – произнес он, как бы несколько даже сконфуженный ее появлением. – Но что же такое у вас произошло с князем, скажите ж мне милостиво? – присовокупил он затем.
– Да ничего, договорились только до полной откровенности и поняли, что не можем жить вместе, – отвечала Елена, садясь, снимая шляпу и порывисто поправляя свои растрепавшиеся от дороги волосы.
Жуквич при этом широко раскрыл от удивления свои красивые глаза.
– Жить даже не можете вместе? – повторил он. – Что ж, и князь так же думает?
– Не знаю, как он думает, потому что после нашей ссоры я с ним больше не видалась, а теперь он и совсем уехал в Петербург.
– Как?.. Зачем?.. – почти воскликнул Жуквич, окончательно пораженный и удивленный.
– Это вы его спросите, а мне он ничего не сказал о том, – отвечала насмешливо Елена.
– Как ж это жаль!.. Как жаль!.. – произнес после того Жуквич тоном, как видно, искреннего сожаления.
– Чем вам бесполезно жалеть меня, лучше дайте мне кофе, – сказала с маленькой досадой Елена и видя, что на столе стоял кофейный прибор.
– О, с великою моею готовностью! – произнес Жуквич и сам принялся варить для Елены свежий кофе. При этом он несколько раз и очень проворно сполоснул кофейник, искусно повернул его, когда кофе скипел в нем, и, наконец, налил чашку Елене. Кофе оказался превосходным.
– Какой вы мастер варить кофе и как умеете это ловко делать! – заметила ему Елена.
– У меня есть маленькая ловкость в руках! – отвечал с легкою улыбкой Жуквич и при этом, как бы невольно, поласкал одну свою руку другою рукою, а потом его лицо сейчас опять приняло невеселое выражение. – Вы так-таки ж после того с князем и не разговаривали? – проговорил он.
– Нет, не разговаривала и, вероятно, всю жизнь не буду разговаривать.
– Почему ж всю жизнь? – спросил Жуквич, опять немного ухмыляясь: он полагал, что в этом случае Елена преувеличивает.
– Потому что я уезжаю от него совсем!.. Нашла себе казенное место.
Жуквич окончательно исполнился глубокого сожаления.
– Как это грустно ж и тем более, что я тому некоторым образом причина! – произнес он.
– Нисколько не вы, потому что давно это накапливалось и должно было когда-нибудь и чем-нибудь разрешиться.
– Но все ж, мне казалось бы, вам лучше было подождать, – начал Жуквич каким-то почти упрашивающим голосом, – время ж горами движет, а не то что меняет мысли ж человеческие. Князь, может быть, передумал бы, подчинился бы мало-помалу вашим убеждениям.
– Нет, он никак в этом случае не подчинится моим убеждениям! – возразила Елена.
– Но кроме ж того, – продолжал Жуквич тем же упрашивающим и как бы искренно участвующим тоном, – вы не знаете ж сами еще, разлюбили ли вы князя или нет.
Елена при этом слегка покраснела.
– Положим, я этого не знаю, – начала она, – но во всяком случае в каждом, вероятно, человеке существуют по два, по три и даже по нескольку чувств, из которых какое-нибудь одно всегда бывает преобладающим, а такое чувство во мне, в настоящее время, никак не любовь к князю.
– Но к кому ж? – спросил ее Жуквич, устремляя на нее пристальный взгляд.
Елена опять при этом несколько смутилась.
– То есть к чему же, вы должны были бы спросить меня… – подхватила она. – И это я вам сейчас объясню: я, еще бывши маленьким ребенком, чувствовала, что этот порядок вещей, который шел около меня, невозможен, возмутителен! Всюду – ложь, обман, господство каких-то почти диких преданий!.. Торжество всюду глупости, бездарности!.. Школа все это во мне еще больше поддержала; тут я узнала, между прочим, разные социалистические надежды и чаяния и, конечно, всей душой устремилась к ним, как к единственному просвету; но когда вышла из школы, я в жизни намека даже не стала замечать к осуществлению чего-нибудь подобного; старый порядок, я видела, стоит очень прочно и очень твердо, а бойцы, бравшиеся разбивать его, были такие слабые, малочисленные, так что я начинала приходить в отчаяние. Это постоянное пребывание в очень неясном, но все-таки чего-то ожидающем состоянии мне сделалось, наконец, невыносимо: я почти готова была думать, что разные хорошие мысли и идеи – сами по себе, а жизнь человеческая – сама по себе, в которой только пошлость и гадость могут реализироваться; но встреча с вами, – вот видите, как я откровенна, – согнала этот туман с моих желаний и стремлений!.. Я воочию увидала мой идеал, к которому должна была идти, – словом, я поняла, что я – полька, и что прежде, чем хлопотать мне об устройстве всего человечества, я должна отдать себя на службу моей несчастной родине.
На лице Жуквича заметно отразилось при этом удовольствие.
– Вот эта ж самая служба родине, – заговорил он немножко нараспев и вкрадчивым голосом, – я думаю, и нуждалась бы, чтобы вы не расходились с князем: он – человек богатый ж и влиятельный, и добрый! Мы ж поляки, по нашему несчастному политическому положению, не должны ничем пренебрегать, и нам извинительны все средства, даже обман, кокетство и лукавство женщин…
– Совершенно согласна, что средства все эти позволительны, – подхватила Елена, – но в некоторых случаях они для женщины возможны, а в других – выше сил ее… Вы, как мужчина, может быть, не совсем поймете меня: если б я князя не знала прежде и для блага поляков нужно было бы сделаться его любовницей, я ни минуты бы не задумалась; но я любила этого человека, я некогда к ногам его кинула всю мою будущность, я думала всю жизнь мою пройти с ним рука об руку, и он за все это осмеливается в присутствии моем проклинать себя за то, что расстроил свою семейную жизнь, разрушил счастие преданнейшей ему женщины, то есть полуидиотки его супруги!.. Наконец, когда я сказала ему, что, положим, по его личным чувствам, ему тяжело оказать помощь полякам, но все-таки он должен переломить себя и сделать это чисто из любви ко мне, – так он засмеялся мне в лицо.
Под влиянием гнева, Елена даже несправедливо передавала происходившее у ней объяснение с князем.
Жуквич на все эти слова ее молчал.
– И что мне жить еще после этого с ним?.. – продолжала Елена, – тогда как он теперь, вероятно, тяготится и тем, что мне дает кусок хлеба, потому что я тоже полька!.. Да сохранит меня небо от того!.. Я скорее пойду в огородницы и коровницы, чем останусь у него!
– А мне ж кажется, что князь любит вас и любит даже очень! – возразил ей Жуквич.
– Да, чувственно, это может быть, но я хотела и надеялась, что он меня будет любить иначе, а уж если необходимо продавать себя этим негодяям-мужчинам, так можно найти повыгодней и потороватей князя… Вон я сейчас нашла двух покровителей, батюшку и сынка, – обоих обобрать можно, если угодно… – проговорила Елена с каким-то озлобленным цинизмом. – Словом, о князе говорить нечего, – это дело решенное, что мы с ним друг для друга больше не существуем! Будемте лучше с вами думать, что нам предпринять для наших соотчичей.
Жуквич на это развел молча руками.
– Прежде всего, – продолжала Елена, как бы придумав кое-что, – я одного из моих новых покровителей, юного Оглоблина, заставлю раздать билеты на лотерею, для которой соберу кой-какие из своих вещей, оберу у подруг моих разные безделушки; за все это, конечно, выручится очень маленькая сумма, но пока и то лучше пустого места…
Жуквич грустно усмехнулся.
– О, доброте ж вашей пределов нет! – произнес он, вскидывая на Елену сентиментальный взгляд.
– То-то, к несчастию, доброты одной мало! – подхватила со вздохом Елена. – А нужны силы и средства!
Затем они еще некоторое время побеседовали, и Жуквич успел при этом спросить Елену, что на какую сумму денег она сама будет жить на новом своем месте?
– На очень маленькую-с!.. На очень! – отвечала она.
Жуквич опять с грустным видом и участием покачал головой, а потом, когда Елена ушла от него, он долго оставался в задумчивом состоянии и, наконец, как бы не утерпев, произнес с досадой и насмешкой:
«О, то ж женщины!»
* * *
Возвратясь домой, Елена велела своей горничной собираться и укладываться: ей сделался почти противен воздух в доме князя. Часам к восьми вечера все было уложено. Сборы Елены между тем обратили внимание толстого метрдотеля княжеского, старика очень неглупого, и длинновязого выездного лакея, малого тоже довольно смышленого, сидевших, по обыкновению, в огромной передней и игравших в шашки.
– Да что, барышня-то эта наша уезжает, видно, куда-нибудь? – спросил метрдотель.
– Уезжает!.. – отвечал лакей.
– В Петербург, к князю, что ли? – просовокупил метрдотель.
– Какое в Петербург!.. Машина разве ходит туда ночью? – возразил лакей.
– Гм!.. – произнес метрдотель и пододвинул шашку. – Спросить бы ее, паря, надо, куда это она едет: а то князь приедет, хватится ее, что мы ему скажем на то?
– Известно, хватится! – согласился лакей.
Метрдотель как бы размышлял некоторое время.
– Поди, спроси ее!.. Для отметки, мол, это нужно… показать, куда вы выбыли, – проговорил он.
– Да что мне-то спрашивать? Ты старший-то у нас в доме, – отозвался было сначала лакей.
– Экой, братец, какой ты глупый! – возразил ему метрдотель: – я старший по буфету, а ты настоящий-то дамский выездной лакей.
Лакей убедился этим доводом.
– Да мне что?.. Я пойду!.. – сказал он, а затем встал и проворно пошел в комнату к Елене.
– Вы уезжать изволите-с? – спросил он ее.
– Да! – отвечала ему лаконически Елена.
– Вы не прикажете телеграфировать об этом князю? – допрашивал ее лакей.
Елена немного испугалась этого.
– Нет, я сама ему писала; я на короткое время к матери переезжаю! – присовокупила она, чтоб отвязаться от дальнейших расспросов.
– К маменьке изволите ехать? – повторил лакей с явным недоверием в голосе.
– Да; а как князь возвратится, я опять перееду сюда! – говорила Елена, чтобы только успокоить его.
Лакей не нашелся более, о чем ее расспрашивать, и возвратился к метрдотелю.
– К матери, говорит, уезжает на время, – объяснил он тому, усаживаясь опять за шашки.
– Что ей так вдруг захотелось туда!.. – произнес, усмехнувшись, метрдотель.
– Прах ее знает! – отвечал лакей, тоже усмехаясь.
Вскоре после того два дворника и два поваренка, предводительствуемые горничною Елены, стали проносить мимо них сундуки и чемоданы и все это укладывать на приведенного к подъезду извозчика.
– Куда это, тетенька, путь ваш держите? – пошутил метрдотель горничной.
– Куда нужно-с! – отвечала та ему: Елена запретила ей говорить княжеской прислуге, куда они переезжают.
Невдолге после горничной на лестнице показалась и Елена, а за нею шла нянька с ребенком.
– Не прикажете ли карету для вас заложить?.. Так же стоят лошади, ничего не делают! – отнесся к ней выездной лакей.
– Нет, не надо!.. Я на извозчике доеду, – сказала Елена. – А ты вот что лучше: побереги мое письмо к князю, которое я оставила в кабинете на столе.
– Сохранно будет-с! – отвечал ей лакей.
Елена свою новую квартиру в казенном доме нашла выметенною и вымытою; но при всем том она оказалась очень неприглядною: в ней было всего только две комнаты и небольшая кухня; потолок заменялся сводом; в окнах виднелись железные решетки, так что нянька и горничная, попривыкшие к роскоши в княжеском доме, почти в один голос воскликнули:
– Ах, батюшки, словно тюрьма какая!..
Но Елену, кажется, нисколько не смутила бедность ее нового помещения. Обойдя все кругом и попробовав рукой жесткую кожаную мебель, она спокойно села на диван и проговорила:
– Ничего, матушка Россия, – чего и ожидать лучшего!
Затем Елена велела поскорее уложить ребенка спать, съела две баранки, которых, ехав дорогой, купила целый фунт, остальные отдала няне и горничной. Те, скипятив самовар, принялись их кушать с чаем; а Елена, положив себе под голову подушку, улеглась, не раздеваясь, на жестком кожаном диване и вскоре заснула крепким сном, как будто бы переживаемая ею тревога сделала ее более счастливою и спокойною…
VI
Князь сидел в Петербурге в том же самом номере гостиницы «Париж», в котором мы некогда в первый раз с ним встретились. Зачем князь в настоящее время приехал в Петербург, он сам того хорошенько не знал. Он бежал, кажется, от овладевшего им гнева против Елены, бежал и от любви к ней. Ему казалось, что весь этот польский патриотизм, как бы по мановению волшебного жезла снишедший на Елену, был, во-первых, плодом пронырливых внушений Жуквича и, во-вторых, делом собственной, ничем не сдерживаемой, капризной фантазии Елены, а между тем, для удовлетворения этого, может быть, мимолетного желания, она требовала, чтобы князь ломал и рушил в себе почти органически прирожденное ему чувство. «Положим даже, – рассуждал он, – что и в Елене этот польский патриотизм прирожденное ей чувство, спавшее и дремавшее в ней до времени; но почему же она не хочет уважить этого чувства в другом и, действуя сама как полька, возмущается, когда князь поступает как русский». Далее затем в голове князя начались противоречия этим его мыслям: «Конечно, для удовлетворения своего патриотического чувства, – обсуживал он вопрос с другой стороны, – Елене нужны были пятнадцать тысяч, которые она могла взять только у князя, и неужели же она не стоила подобного маленького подарка от него, а получив этот подарок, она могла располагать им, как ей угодно?.. Эти пятнадцать тысяч ему следовало бы подарить!» – решил князь мысленно; но в то же время у него в голове сейчас явилось новое противоречие тому: «Этими пятнадцатью тысячами дело никак бы не кончилось, – думал он, – Елена, подстрекаемая Жуквичем, вероятно, пойдет по этому пути все дальше и дальше и, чего доброго, вступит в какой-нибудь польский заговор!» Князь был не трус, готов был стать в самую отчаянную и рискованную оппозицию и даже с удовольствием бы принял всякое политическое наказание, но он хотел, чтоб это последовало над ним за какое-нибудь дорогое и близкое сердцу его дело. Стоять же за польщизну[151], или, лучше сказать, за польскую шляхту и ксендзов, он считал постыдным для себя.
Живя уже несколько дней в Петербурге, князь почти не выходил из своего номера и только в последнее утро съездил на могилу к Марье Васильевне, недавно перед тем умершей и похороненной. Заехав потом к мраморщику, он заказал ему поставить над ее могилою памятник, а теперь, сидя один в комнате, невольно вспоминал об этой доброй старушке, так горячо и так бескорыстно его любившей. Вдруг ему подали телеграмму из Москвы; князь задрожал даже весь; он непременно предполагал, что эта телеграмма была от Елены, и надежда, что она хочет помириться с ним, исполнила его сердце радостью.
Телеграмма его извещала:
«Вчерашнего числа Елена Николаевна совсем уехали из вашего дома. Мы их спрашивали, куда они уезжают, и они нам сказали, что к маменьке ихней. Мы на другой день ходили к их маменьке; она сказала, что их нет у них, и очень сами этим встревожились! Спиридон Скворцов и Михайла Гаврилов».
Князь первоначально понять не мог, кто это ему телеграфирует, и только потом сообразил, что это были лакеи его. Первым делом князя после того было взглянуть на часы, – был всего еще второй час. Князь крикнул своего камердинера и велел ему сейчас же собраться, а через час какой-нибудь он был на железной дороге и ехал обратно в Москву. Печаль и даже отчаяние до такой степени ярко отражались во всей его наружности, что ехавшая с ним в одном вагоне довольно еще нестарая и, должно быть, весьма сердобольная дама никак не могла удержаться и начала беспрестанно обращаться к нему.
– Monsieur, вы должно быть, чем-нибудь нездоровы?
– Да, нездоров! – отвечал ей почти грубо князь.
– Это по лицу вашему видно: у моего мужа именно такое выражение лица было, – и я только говорить не хочу, но с ним после очень нехорошо было!
– Что же такое было? – спросил ее не так уже сурово князь.
– Он умер! – отвечала дама с ударением.
– И отлично это! – подхватил князь, и, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить себя от задушавшей его тоски, он вышел на платформу и стал жадно вдыхать свежий и холодный воздух; при этом ему несколько раз приходила в голову мысль броситься на рельсы, чтобы по нем прошел поезд. «Но тут можно, пожалуй, не умереть, – думал он: – а сделаться только уродом; револьвер, в этом случае, гораздо вернее».
Когда князь, наконец, приехал в Москву в свой дом и вошел в кабинет, то сейчас заметил лежащее на столе письмо, адресованное рукою Елены. Он схватил его, проворно распечатал и прочел. Елена писала ему:
«Я уезжаю от вас навсегда. Вы, вероятно, сами согласны, что при розни, которая открылась в наших взглядах на все в мире, нам жить вместе нельзя. Ни с какой помощью ни ко мне, ни к сыну моему прошу вас не относиться: мы оба совершенно обеспечены казенным местом, которое я получила у старика Оглоблина».
Князь не успел еще прийти несколько в себя от этого письма, как вошел к нему выездной лакей и низким басом произнес:
– Баронесса Мингер!
– Что? – переспросил князь, сначала и не понявший его хорошенько.
– Баронесса Анна Юрьевна Мингер! – пояснил ему лакей.
Князь сделал злую гримасу.
– Ты скажи, что я сейчас только приехал и устал с дороги! – проговорил было он.
– Я им докладывал-с: они говорят, что проститься с вами приехали, завтра уезжают совсем за границу! – объяснил лакей.
– О, черт бы ее драл!.. – сказал, не удержавшись, князь. – А барон с ней?
– Никак нет-с!
– Ну, проси!
Анна Юрьевна довольно долго шла из кареты до кабинета. Она была на этот раз, как и следует молодой, в дорогом голубом платье, в очень моложавой шляпе и в туго-туго обтягивающих ее пухлые руки перчатках; выражение лица у ней, впрочем, было далеко не веселое. По обыкновению тяжело дыша и тотчас же усаживаясь в кресло, она начала:
– Как ты мило поступил!.. Я его только хотела на свадьбу к себе позвать, а он в Петербург уехал!
Князь молчал.
– Скажи на милость, – продолжала Анна Юрьевна, – что такое у тебя с Еленой произошло? Ко мне этот дуралей Николя Оглоблин приезжал и говорит, что она от тебя сбежала и поступила к отцу его на службу в кастелянши.
– Да, она уехала от меня!
– Но отчего? По какой причине?
– По той, что мы расходимся с ней в понятиях.
Князю, кажется, легче было бы стоять под пыткой, чем делать все эти ответы.
– Как же, вы так-таки совсем и разошлись? – приставала к нему Анна Юрьевна.
– Не знаю!.. Я не видал еще ее по возвращении из Петербурга.
– Cela veut dire qu'elle а bacle tout cela en ton absence?[152]
– Oui![153] – отвечал князь отрывисто и глухим голосом.
– Смотри какая!.. Ужас, с каким душком женщина! – говорила Анна Юрьевна.
Она, наконец, поняла, что этот разговор был очень неприятен для князя, а потому и переменила его.
– Я уже обвенчалась с бароном! – сказала она.
– Слышал-с!.. Человек возвестил мне вашу новую фамилию! – отвечал с оттенком насмешки князь.
– Как, по-твоему, глупо я поступила? – спросила его Анна Юрьевна, заметив это.
– Отчего же!.. Ежели существует согласие между вашими нежными сердцами!.. – говорил князь в том же тоне.
– Какое тут согласие!.. Как вот и у тебя с Еленой… А главное, мне поздно было это делать; хочу от стыда за границу ехать et je ferai croire, que je suis marie de long temps.[154]
– Зачем же вы делали это, когда вы так стыдитесь того? – спросил ее князь злобно и насмешливо.
– Слабость характера, – сама знаю!.. Барон стал пугать, что совсем уедет от меня, – мне и жаль его сделалось…
Проговоря это, Анна Юрьевна замолчала.
– Но куда вы именно едете за границу? – продолжал ее спрашивать князь тем же злым тоном.
– Сначала в Берлин – для совета с докторами: я больна делаюсь и серьезно больна, – а потом проеду в Париж и непременно увижу там княгиню твою!.. Que lui dire de ta part?[155]
– Кланяйтесь и пожелайте ей всего хорошего, – проговорил князь.
Анна Юрьевна еще не кончила своего, терзающего князя посещения, как в кабинет к нему подкрался и вошел тихими шагами новый гость – Елпидифор Мартыныч; этого князь не мог уж перенести.
– Что вам угодно от меня? – спросил он прямо и не церемонясь Елпидифора Мартыныча, так что тот попятился даже несколько назад.
– К-ха!.. Там-с кучер ваш… болен… извещали меня!.. – ответил он прерывистым голосом.
– Ну, так вы к кучеру и приходите! – сказал ему немилосердно князь.
– Я видел уже кучера, – произнес Елпидифор Мартыныч, приосанившись немного, – и пришел спросить вас, как вы прикажете: здесь ли его держать или в больницу положить?
Но, собственно говоря, Елпидифор Мартыныч зашел к князю затем, чтобы разведать у него, за что он с Еленой Николаевной поссорился и куда она от него переехала, о чем убедительнейшим образом просила его Елизавета Петровна, даже не знавшая, где теперь дочь живет. Вообще этот разрыв Елены с князем сильно опечалил и встревожил Елизавету Петровну и Елпидифора Мартыныча: он разом разбивал все их надежды и планы.
– Зачем его в больницу класть, когда вы домашним доктором наняты? – продолжал допекать Елпидифора Мартыныча князь.
– Да я и не отказываюсь от того, – помилуйте! – бормотал тот, краснея весь в лице.
– Так и лечите его!.. – сказал ему на это князь.
– Слушаю-с!.. Я сейчас к нему еще зайду! – проговорил Елпидифор Мартыныч и, повернувшись, вышел из кабинета.
Анне Юрьевне, все еще сердившейся на Елпидифора Мартыныча за сделанный им доносец на нее и не удостоившей его в настоящее свидание даже взглядом, он не осмелился даже поклониться; но, выйдя в залу, старик сбросил с себя маску смирения и разразился ругательством.
– Все эти аристократишки – скоты, ей-богу!.. Чистейшие скоты! – говорил он сам с собой.
– Ну, однако, ты, я вижу, очень не в духе, – обратилась Анна Юрьевна к князю, вставая с своего места.
Князь на эти слова ее тоже поднялся с своего места.
– Ты все-таки съезди к этой девочке своей: quele brouille avez vous eu les deux![156] – говорила Анна Юрьевна, уходя.
По доброте своей, она не любила, когда любовники ссорились, и по собственным опытам была убеждена, что в этом ничего нет хорошего!
По отъезде ее князь крикнул, чтоб ему подавали карету, и поехал в дом к Оглоблину.
Здесь он скоро разыскал квартиру Елены, где попавшаяся ему в дверях горничная очень сконфузилась и не знала: принимать его или нет; но князь даже не спросил ее: «Дома ли госпожа?» – а прямо прошел из темной передней в следующую комнату, в которой он нашел Елену сидящею за небольшим столиком и пишущею какие-то счеты. Увидев его, она немножко изменилась в лице; князь же, видимо, старался принять на себя веселый и добрый вид.
– Елена, что это вы за сумасшествие выдумали? – проговорил он, протягивая к ней руку.
Елена с своей стороны приняла у него руку его и даже пожала ее.
– Вы находите, что это сумасшествие? – спросила она его довольно спокойным голосом.
– Разумеется!.. Из-за чего затевать всю эту историю было?.. Поедемте, пожалуйста, сейчас опять ко мне!
– К вам?.. Нет, я больше к вам никогда не поеду! – сказала Елена.
– Но отчего?.. За что?.. – говорил князь. У него при этом начало даже подергивать все мускулы в лице. – Если вы рассердились за эти деньги, так я велю вам немедля прислать их.
Елена при этом насмешливо улыбнулась.
– Вот как, подкупать теперь стал!.. – произнесла она. – Но неужели, однако, ты до сих пор не убедился, что меня никогда и ни на что ни подкупить, ни упросить нельзя?
– Да, господи, разве я подкупаю тебя?.. Я хочу только уничтожить причину, рассорившую нас.
Князь все еще, как мы видим, продолжал сохранять свой добрый тон.
– Причина не в одном этом заключается, как и прежде я тебе говорила, – отвечала Елена.
– Но знаешь ли ты, Елена, что, поступая таким образом со мной, ты можешь довести меня до самоубийства.
– Ха-ха-ха! – засмеялась Елена, так что князь даже позеленел весь при этом. – Из уважения к тебе я не хочу верить словам твоим! – начала она уже серьезно. – Но если бы ты в самом деле решился когда-нибудь сделать подобную глупость, то, признаюсь, незавидное бы воспоминанье оставил во мне по себе!.. – И Елена опять при этом усмехнулась. – Потому что, – продолжала она, как бы желая разъяснить свою мысль, – мужчина, который убивает себя оттого, что его разлюбила какая-нибудь женщина, по-моему, должен быть или сумасшедший, или дурак набитый…
– Но ты, однако, значит, все-таки меня совершенно разлюбила? – спросил князь, все более и более бледнея в лице, и голос его при этом был не столь добрый.
– Да, я почти тебя совершенно разлюбила! – отвечала Елена, – во мне теперь живет к другому гораздо более сильное чувство, и, кажется, этот новый Молох[157] мой больше мне по характеру…
– И этот Молох твой новый, конечно, Польша!.. – сказал князь, очень хорошо понявший, о каком собственно чувстве говорила Елена.
Лицо его между тем становилось все мрачнее и мрачнее.
– Польша! – отвечала она ему.
– Но ты, в этом твоем поклонении, забыла, что у нас с тобой есть общий сын, – возразил князь.
– Сына нашего, если ты желаешь, можешь видать; но иметь какое-нибудь влияние на его воспитание я тебе не позволю.
– А с тобой, значит, я и видаться не должен буду? – спросил князь.
– Я просила бы тебя об этом! – произнесла, немного потупляясь, Елена.
Князь невольно поник головой: ему все еще не верилось, чтобы Елена была такая с ним, какою она являлась в настоящую минуту.
– Елена, неужели ты все это говоришь серьезно? – сказал он ей опять добрым голосом.
– Совершенно серьезно! – как бы отчеканила на меди Елена.
– И мы в самом деле должны будем расстаться навсегда?
– Должны расстаться навсегда! – повторила решительным тоном Елена.
– Но ведь, Елена, пойми ты: мне жить будет нечем нравственно без тебя… Научи, по крайней мере, меня: что мне делать с собой?
– Самое лучшее, по-моему, для тебя, – отвечала Елена, по-видимому, совершенно искренним тоном, – сойтись опять с женой. Я не хотела тебе тогда говорить, но ей действительно нехорошо живется с Миклаковым, и она очень рада будет возвратиться к тебе.
Князь эти слова Елены принял за самую горькую насмешку.
– О, какой это демон, – воскликнул он, – вразумляет и учит тебя так язвить и оскорблять меня!.. Неужели это все тот же злодей?.. Елена! Пожалей, по крайней мере, ты его, если он становится тебе дорог… Я убью его, Елена, непременно убью, или пусть он меня убьет!
Елена употребила над собой немалое усилие, чтобы не смутиться перед бешеным взрывом князя.
– Ты, конечно, говоришь о Жуквиче, но он тут ни в чем не виноват, и я очень рада, что ты сказал, что убить его хочешь, – я предуведомлю его о том.
– Нет, не успеешь!.. Не успеешь! – вскричал князь, грозя пальцем, и затем, шатаясь, как пьяный, вышел из комнаты, а потом и совсем из квартиры Елены.
Очутившись на дворе, он простоял несколько времени, как бы желая освежиться на холодном воздухе, а потом вдруг повернул к большому подъезду, ведущему в квартиру старика Оглоблина. У швейцара князь спросил:
– Дома ли молодой Оглоблин?
– Дома изволят-с быть, – отвечал тот ему и указал князю, куда ему идти.
* * *
M-r Николя в это время перед тем только что позавтракал и был вследствие этого в весьма хорошем расположении духа. Занят он был довольно странным делом, которым, впрочем, Николя постоянно почти занимался, когда оставался один. Он держал необыкновенно далеко выпяченными свои огромные губы и на них, как на варгане, играл пальцем и издавал при этом какие-то дикие звуки ртом. Когда князь появился в его комнате, Николя мгновенно прекратил это занятие и одновременно испугкся и удивился.
Наружный вид князя еще более усилил страх Николя: он вообразил, что князь пришел спросить у него отчета, как он смел выхлопотать место Елене.
– Очень рад, что я вас застал дома!.. Поедемте со мной сейчас! – проговорил князь.
– Куда поехать? – спросил Николя, выпучивая на него свои глаза.
– Я тут одного господина должен вызвать на дуэль, и вы будете моим секундантом… Мне, кроме вас, не к кому обратиться.
– Дуэль?.. Господи!.. – произнес Николя, взглядывая мельком на висевшие на стене ружья свои и пистолеты, из которых он ни из одного не стреливал. – Но ведь я, князь, ей-богу, никогда не бывал секундантом, и что тут делать – совершенно не знаю!.. – присовокупил он каким-то жалобным голосом.
– Все равно, знать тут нечего, поедемте! – говорил князь.
– Я болен, князь, ей-богу, болен! – продолжал Николя, не двигаясь с своего места. – Мне доктор строго запретил выезжать: «умрете», говорит.
Князь побледнел от гнева.
– Если вы не поедете со мной, – произнес он, стискивая зубы, – так я по всей Москве буду рассказывать, что вы трус и подлец!
– О, какой вы смешной! – зашутил уже Николя. – Ну, поедемте, черт дери, в самом деле, всех и все! – воскликнул он, бог знает что желая сказать последними словами. – Кого это вы вызываете? – присовокупил он как бы и тоном храбреца.
– Жуквича! – отвечал князь.
– А за что это? – любопытствовал Николя: в нехитрой голове его явилось подозрение, что не за Елену ли они поссорились, и что нет ли у ней чего с Жуквичем.
– Это мое дело! – сказал ему мрачно князь. – Да сбирайтесь же! – прибавил он.
– Я готов, извольте! – произнес Николя и, как агнец, ведомый на заклание, последовал за князем, который посадил его к себе в карету и повез.
– Я очень рад, конечно, что могу вам услужить этим, очень рад! – храбрился Николя; но сквозь все эти восклицания так и слышался худо скрываемый страх.
Приехав в гостиницу, где жил Жуквич, князь прямо прошел к тому в номер, введя с собою и Николя, из опасения, чтобы тот не улизнул. Они застали Жуквича дома. Тот при виде их заметно смутился. Князь подошел к нему и сказал ему не громко и по-английски, чтобы Николя не мог понять, что он говорит:
– Вы поссорили меня прежде с русскими эмигрантами, дружбу которых я высоко ценил!.. Поссорили теперь с женщиною, горячо мною любимой, и я вас вызываю на дуэль и хочу убить вас!
Жуквич при этом заметно побледнел.
– Вы ошибаетесь во всем этом; я не считаю себя нисколько виновным против вас! – проговорил он тоже по-английски.
– Я вас считаю: слышите?.. И если не будете со мной драться, я приду к вам и просто убью вас! – продолжал князь по-прежнему по-английски.
Жуквич понурил на некоторое время голову.
– Но я ж не имею секунданта! – произнес он уже по-русски и как бы размышляя.
– Ищите, это ваше дело, а мой секундант – вот!.. – сказал и князь по-русски, показывая на Николя, все время стоявшего у окна и скрестившего, наподобие Наполеона I, на груди у себя руки.
– Я ж не знаю, найду ли я теперь кого?.. – сказал Жуквич, пожимая плечами, и затем проворною походкой вышел из номера.
Князь мрачно и беспокойно посмотрел ему вслед. Жуквич прошел в один из смежных номеров, в котором на диване, в довольно гордой позе, сидел молодой человек и читал какой-то, должно быть, роман.
Жуквич начал ему говорить что-то по-польски, с несовсем, впрочем, чистым польским акцентом.
Молодой человек выслушал его внимательно; слова Жуквича, видимо, сконфузили его: он возразил ему, с своей стороны, по-польски, но тоже как-то звякая в произношении.
– Да ничего ж не может быть из того, – глупость, вздор – тьфу! – восклицал Жуквич по-русски. – Вы ж сумеете своровать пулю, а я ж выстрелю на воздух.
Молодой человек все еще не решался.
– Мы ж, Эмануил, жили все с вами вместе, – надобно ж помогать друг другу! – говорил почти умоляющим голосом Жуквич.
– Но они ж могут заметить то! – проговорил, наконец, молодой человек и тоже, подобно Жуквичу, с сильным прибавлением «ж».
– Где ж заметить-то? Он сумасшедший, как есть, а другой, секундант его – дурак, я ж знаю его!.. – горячился тот. – Я вам, Эмануил, сколько денег давал!.. Надобно ж помнить то!.. Вы были б давно ж без меня в тюрьме!.. – прибавил он.
Последнее доказательство, как видно, подействовало отчасти на молодого человека. Он поднялся с своего места.
– Я, право ж, не знаю, как сделать это! – сказал он как бы в раздумьи.
– Да что ж тут сделать?.. Разве трудно ж, чтобы пулю, вместо чтобы так, – вот так ее!.. – воскликнул Жуквич и при этом сначала ткнул пальцем вниз, а потом рукой показал на обшлаг своего рукава.
Во всем этом объяснении его красивая и почти величественная наружность совершенно изменилась: он сделался как-то гадок и подл на вид.
– Да не отговаривайтесь ж, Эмануил, они ж нас ждут! – вопиял Жуквич и потом, взяв почти насильно молодого человека за руку, повел его.
Князь между тем рвался от нетерпения, и ему начинали приходить в голову подозрения, что не удрал ли от него Жуквич; но двери отворились, и тот вошел с своим молодым товарищем. Оба они постарались принять спокойный вид, и молодой человек по-прежнему уже имел свою гордую осанку. Жуквич сначала отрекомендовал его князю, а потом Оглоблину. Молодой человек, кланяясь, сгибал только немного голову на своей длинной шее.
– А на каком оружии будет дуэль? – спросил он Жуквича.
– На пистолетах ж! Я желаю на пистолетах!.. Они ж у меня и есть! – отвечал тот и, сходя в свою спальню, вынес оттуда пару отличных пистолетов. – Не угодно ли вам видеть их? – проговорил он, подавая пистолеты Николя, который с видом знатока осмотрел их внимательно.
– Но в каком месте дуэль назначена? – продолжал молодой человек, сохраняя свою гордую осанку.
– В саду у меня, если хотите; он довольно большой и совсем пустой! – сказал князь.
Молодой человек вопросительно взглянул при этом на Жуквича.
– Мне ж все равно! – отвечал тот.
Все тронулись потом за князем, который опять поехал с Николя, а Жуквич с своим секундантом.
– Я очень рад этой дуэли, очень! – повторял Николя всю дорогу; но вместе с тем от страха и от волнения у него даже как-то глаза перекосились.
Князь ничего ему не отвечал и был почти страшен на вид. Приехав к себе в дом, он провел своих гостей прямо в сад, дорожки в котором все были расчищены, и на средней из них оказалось удобным совершить задуманное дело. Молодой секундант Жуквича сейчас принялся назначать место для барьера.
– Тут, я полагаю! – отнесся он к Николя, как к сотоварищу своему.
– Конечно, тут!.. Разумеется! – зашамшил тот своим язычищем.
Молодой человек после того отмерил от барьера в ту и другую сторону по нескольку шагов и стал заряжать пистолеты. Князь во все время этих приготовлений стоял без шубы и с нетерпением ожидал того, когда они кончатся.
В уме его, против собственного желания, проходили довольно странные мысли. В саду в это время летали кой-какие птички и что-то такое чирикали; в воздухе раздавался благовест к вечерне в соседнем приходе. Князю припомнилось его детство, когда он именно в эти часы гулял в саду; потом мелькнул в его воображении образ Елены, жены, и затем пришла мысль, что через несколько мгновений, может быть, он ничего не будет ни видеть, ни чувствовать. Жуквич, с своей стороны, тоже стоял с довольно мрачным выражением, и при этом красивые глаза его неустанно и пристально были устремлены на молодого секунданта, который, наконец, зарядил пистолеты и, проговоря негромким и несколько взволнованным голосом: «готовы», вручил их противникам. Те стали на свои места и начали подходить к барьеру. Николя, все время было стоявший около князя и как бы желавший его тем защитить, при виде, что Жуквич направляет свой пистолет в их сторону, заорал благим матом: «Погодите, постойте, постойте!» – и бросился в кусты.
– Станьте ж вот тут около меня, здесь безопасно! – сказал ему с насмешкой секундант Жуквича.
Николя подскочил к нему и стал за ним. Князь прицелился в самый лоб Жуквича и выстрелил. Вслед за тем выстрелил и Жуквич, но при этом он заметно держал пистолет вбок от князя. Оба противника оказались невредимы.
– Еще стреляться!.. Еще!.. – закричал было князь.
Жуквич на это склонил немного голову.
– Я ж принял раз от вас вызов, не будучи ни в чем перед вами виновен; но быть вашей постоянной мишенью я не желаю!
– Но все-таки я вас убью!.. Я убить вас хочу!.. – кричал князь.
– Убить ж вы меня можете… тогда закон вас накажет за то! – проговорил Жуквич, пожимая плечами. – Идемте ж! – присовокупил он своему секунданту.
Тот был совсем готов и даже держал пистолеты под мышкой; они отправились.
– Постойте, постойте!.. – кричал было им князь задыхающимся голосом. – Оглоблин, остановите их! – присовокупил он, обращаясь к Николя.
У самого князя сил, кажется, не было тронуться с своего места. Он стоял, одною рукою держась за дерево, а другою схватясь за свой бок.
Николя, впрочем, его не послушал и принялся его уговаривать.
– Да нельзя, князь, по законам дуэли этого нельзя! – убеждал он его.
– О боже мой, боже мой! – простонал князь и, шатаясь, пошел из саду.
Николя последовал за ним. Он каждую минуту ожидал, что князь упадет; однако тот дошел до дому, взошел даже на лестницу, прошел в свой кабинет, упал вверх лицом на канапе и закрыл глаза.
Николя смотрел на него оторопелыми глазами.
– Не нужно ли послать за доктором? – стал он спрашивать князя своим шепелявым языком.
– Мне все равно! – отвечал тот досадливым тоном.
Николя постоял еще некоторое время около князя, а потом вышел и сказал людям, чтоб ехали за доктором. Те, разумеется, поскакали за Елпидифором Мартынычем. Тот с своей стороны, несмотря на причиненное ему князем оскорбление, немедля приехал. Николя между тем, чтобы не беспокоить больного, ходил уже по зале.
– Струсил это он, – что тут хвастать-то!.. Нечего!.. Захворал вот даже! – шептал он сам с собой своими губищами.
Елпидифор Мартыныч, осмотрев князя, вышел из кабинета с озабоченным лицом.
– Что такое с ним? – спросил его Николя.
Елпидифор Мартыныч в ответ махнул только рукой.
– Все тут есть!.. И воспаление печени, и давление на мозг, и не разберешь сразу-то… – проговорил он каким-то даже растерянным голосом.
– У них тут с Жуквичем сейчас дуэль была!.. Я секундантом был у князя! – не утерпел Николя и начал извергать из себя.
– А!.. – произнес с удивлением Елпидифор Мартыныч. – Но за что же это? – присовокупил он.
– Должно быть, из-за этой Жиглинской, что у нас теперь служит!
– Так!.. Да!.. Верно, что так! – подтверждал Елпидифор Мартыныч.
– Едва растащил их!.. Князь хотел другой раз стреляться! – продолжал Николя рассказывать.
– А!.. – повторил еще раз с удивлением Елпидифор Мартыныч.
VII
Прошло месяца два. Елена все это время была занята устройством лотереи на известный нам предмет. Она предположила разыграть в ней все свои вещи. Жуквич тоже принес ей для этого очень ценный бритвенный ящик и пару отличных револьверов.
– Это те ж самые пистолеты, на которых мы стрелялись с князем! – произнес он с небольшой улыбкой.
Елена при этом немного изменилась в лице. Она, разумеется, слышала еще прежде о дуэли и о болезни князя; обо всем этом ей на другой же день отрапортовал самым подробным образом Николя. Тогда она, по наружности по крайней мере, как бы не обратила на то большого внимания и даже проговорила: «Все фарсы этот господин выкидывает!» Но в настоящую минуту Елена, как бы против воли, припомнила о других пистолетах, на ящике которых она сделала надпись своею рукой; со свойственной, однако, ей силой характера, она поспешила отогнать от себя это воспоминание и начала разговаривать с Жуквичем.
– Вы знаете, что Оглоблин мне тоже отдал в лотерею свое оружие? – сказала она ему.
– Какое ж это оружие? – спросил Жуквич.
– У него целая стена была увешана разными ружьями и саблями: я как-то посмеялась ему, что глупо, говорю, в настоящее время развешивать по стенам подобные вещи… Он мне теперь все это и презентовал.
– У вас поэтому ж будет военная лотерея?.. – посмеялся Жуквич.
– Военная и литературная, потому что Оглоблин пожертвовал мне еще всю почти свою библиотеку.
– Всю библиотеку ж?
– Да, до тысячи томов.
– Но кому ж вы на столько вещей раздадите ваши билеты? – воскликнул Жуквич.
– Розданы все! Розданы! – воскликнула с своей стороны Елена. – Посмотрите, сколько тут денег! – присовокупила она, открывая перед Жуквичем ящик в своем столе, в котором было раскидано тысяч до семи.
– Да, много ж, очень! – произнес тот, и у него при этом точно конвульсией подернуло все лицо. – Но где ж вы набрали столько желающих брать билеты? – присовокупил он.
– Все мой бесценный Николя Оглоблин совершил это, по пословице: нет дурака, который не годился бы на какое-нибудь полезное дело.
– О, да!.. – протянул Жуквич и опять кинул косвенный взгляд на ящик с деньгами, а затем, как бы не удержавшись, присовокупил несколько странным голосом и сам потупляясь при этом: – Такую ж большую сумму денег вы держите не в запертом ящике!..
– Но тут и замка совсем нет! – отвечала Елена. – А вот что, – продолжала она: – возьмите вы их лучше себе: я вам же потом их передам.
Жуквич вспыхнул весь в лице.
– Но ловко ли это будет? – проговорил он.
Голос его явно при этом трепетал.
– Что тут неловкого?.. Никто и знать про то не будет, – возразила Елена.
Жуквич чувствовал, кажется, что волнение его слишком было заметно, так что сам поспешил объяснить его.
– Я ж даже смущен! – сказал он, беря себя за голову. – От мысли, что моим собратам будет послана такая ж помощь!.. Радость прерывает даже голос мой!
– А я-то как рада, и сказать того не могу! – подхватила Елена. – Берите, пожалуйста, деньги и сосчитайте, сколько их тут! – прибавила она, выкидывая из стола пачку за пачкой.
Жуквич начал раскладывать ассигнации сначала по сотням, а потом по тысячам.
– Семь тысяч! – произнес он.
– Ого!.. Порядочно! – воскликнула Елена.
– Да! – подтвердил каким-то почти расслабленным голосом Жуквич. – Но как ж вы дадите отчет в них? – спросил он, помолчав немного.
– Я вовсе в них не буду давать никакого отчета, – отвечала Елена. – Меня самое сначала это мучило: я, как вот и вы мне советовали, говорила, что затеваю это в пользу молодых девушек, не имеющих обеспеченного положения, с тем, чтоб они не были доведены тем до порока; но потом думаю, что я должна буду сказать, кому именно из них раздала эти деньги. Я и говорю этому Николя: «Это помощь, говорю, благотворительная; но многие бедные девушки оттого, пожалуй, не обратятся к ней, что их фамилии будут названы!» – «Да зачем вам называть их?» – «Затем, говорю, чтобы дать отчет в деньгах!» – «Да кому, говорит, вам давать отчет в них?» – «Тем лицам, говорю, которые подпишутся на билеты». – «Очень нужно!» – говорит, – словом, совершенно свой взгляд имеет на это. – «Нет, говорю, очень нужно: я вовсе не такое лицо, которому общество захотело бы поверить без всякого контроля». – «Не нужно, говорит, я все возьму на себя: пускай, говорит, ко мне привязываются; что, они меня за вора, что ли, сочтут? А которые, говорит, очень пристанут, я возьму да за билеты их свои деньги им и вышвырну!» Таким образом, с этой стороны я обеспечена… Скверно, конечно, что тут лгать приходится, но что делать: другого я ничего не могла придумать!
– Да, боже ж мой! Сколько сделано скверного против тех людей, для которых мы это делаем…
– Еще бы!.. – согласилась Елена, хотя в глубине совести своей и продолжала чувствовать неловкость от того, что принуждена была выдумывать и обманывать.
– Так вы завтра мне позволяете и отправить эти деньги? – спросил Жуквич после некоторого молчания.
– Пожалуйста… Чем скорее, тем лучше! – подхватила Елена.
– А прикажете дать вам расписку в них? – присовокупил Жуквич.
– Никакой!.. Что за вздор такой! – воскликнула Елена.
Жуквич посидел еще некоторое время, и если б Елена повнимательней наблюдала за ним, то заметила бы, что он был как на иголках; наконец, он поднялся и стал прощаться с Еленой; но деньги все еще не клал в карман, а держал только их в своей руке и таким образом пошел; но, выйдя в сени, немедля всю пачку засунул в свой совершенно пустой бумажник; потом этот бумажник положил в боковой карман своего сюртука, а самый сюртук наглухо застегнул и, ехав домой, беспрестанно ощупывал тот бок сюртука, где лежал бумажник.
* * *
Лотерею в пользу мнимых бедных девушек Николя предположил разыграть в доме отца. Старик Оглоблин, очень любивший сына, который был у него единственный и в котором он вовсе не замечал особенной простоватости, с удовольствием разрешил ему это и даже с своей стороны предложил сделать для этого une grande soiree.[158]
Вещи, предназначенные к розыгрышу, расставить покрасивее на глаза публике взялся Жуквич и исполнил это с искусством, достойным лучшего декоратора; при этом он все почти сам размеривал, прилаживал и приколачивал. Все вещи разложены были на красном сукне и местами перемешаны с горшками роскошнейших цветов; некоторые томы из библиотеки Николя, более красивые по переплету, были расставлены на полках и этажерках; около дюжины довольно плохих масленых картин, подаренных стариком Оглоблиным для розыгрыша в лотерею и привезенных в грязном, закоптелом виде из его деревенского дома, были Жуквичем заново покрыты лаком и вставлены в новые золоченые рамы. Но что более всего кидалось в глаза, так это самовар накладного серебра, который Николя почти насильно взял у одной из своих старых теток. Жуквич поместил этот самовар на верху одной горки, следующие ступени которой уставил дорогими фамильными табакерками старика Оглоблина, из которых тот, впрочем, отдал для лотереи только две похуже, а остальные поставлены были лишь для виду. Из Дворянского собрания Николя достал два стеклянные колеса для верчения номеров. Огромную залу Оглоблиных Жуквич сумел так равномерно осветить, что ни в одном пункте ее не было на волос темнее против другого. Старик Оглоблин, живавший в молодости в настоящем свете и понимавший подобные вещи, сейчас заметил это и был в восторге: «Charmant,[159] monsieur Жуквич!.. Charmant!» – восклицал он, ходя с самодовольством взад и вперед по зале. Гости начали съезжаться часов около десяти. М-r Николя и m-r Жуквич, оба в белых галстуках и с розетками распорядителей, принимали всех чуть ли не в передней. Одна из очень миленьких кузин Николя предназначена была разыгрывать роль судьбы и должна была вертеть колесо. Время, по царствующей тогда моде, было временем чересчур открытых лифов. Эта мода вряд ли была хороша для Москвы; по крайней мере большая часть мужчин, несмотря на свою слабость в этом отношении, были бы больше довольны, если бы лифы у дам были гораздо и гораздо позакрытее; а Жуквич, так даже не скрываясь, делал всякий раз гримасу, когда мимо его проходила какая-нибудь чересчур не пощадившая себя дама. В числе мужчин приехало весьма много почтенных старичков, с удовольствием покупавших билеты для сохранения нравственности бедных девушек; но по некоторой плутоватости, которая отражалась в выражении их лиц, сильно можно было подозревать, что, принося свою лепту на спасение нравственности этих бедняжек, они, кажется, не прочь были бы сейчас же и соблазнить их, уделив им в этом случае уже большую лепту. О, эти старички!.. Знаю я их! Это все библейские судьи. Наш старичок Елпидифор Мартыныч, тоже бывший тут и явившийся, подобно другим старичкам, в звезде, взял билетов рублей на пятьдесят у Николя и объявил, что готов быть бесплатным доктором всех бедных девушек.
Елена, которая, между нами сказать, была бы положительно лучше всех дам, приехавших на этот вечер, не пришла.
Николя впал от этого в отчаяние и бросился было к ней упрашивать ее.
– Да как же это?.. Для вас я ведь вечер устроивал! – забарабанил он.
– Как, monsieur Николя, вы это говорите! Вы вспомните, кто я такая в глазах всего вашего общества?.. Я – нигилистка, я mademoiselle Жиглинская, выгнанная из службы! При одном имени моем, я думаю, все ваши гости разъедутся!
Николя совершенно понял этот довод Елены.
– Пожалуй, что разъедутся: дурачье ведь все ужасное! – проговорил он со свойственной ему откровенностью и ушел от Елены.
Розыгрыш лотереи начался между чаем и мороженым, и при этом произошло несколько забавных случаев: одному, например, сенатору и сенатору совершенно статскому, решительно оказавшему услуги отечеству одним лишь пером, досталась вдруг грознейшая турецкая сабля из стамбульского булата. Глупый и весьма еще мало понимающий мальчик, сын очень молодой дамы, выиграл финифтяную табакерку старика Оглоблина и тут же, безумец, уронил эту табакерку на пол и разбил вдребезги всю финифть. Мать его, вероятно, несколько жадная по характеру дама, не удержалась, вся вспыхнула и дала сыну такого щелчка по голове, что ребенок заревел на всю залу, и его принуждены были увести в дальние комнаты и успокоивать там конфектами; другая, старая уже мать, очень рассердилась тоже: дочь ее, весьма невинное, хоть и глупое, как видно это было по глазам, существо, выиграла из библиотеки Николя «Девственницу» [160] Вольтера и, со свойственным юности нетерпением, сейчас схватила эту книгу и начала было ее читать. К счастию, ее мать, игравшая в это время в карты, захотела посмотреть, что дочь выиграла, и, увидав, что именно, вырвала книгу из рук дочери и почти кинула ее в лицо Николя.
– Как это глупо разыгрывать подобные гадости! – проговорила она.
– Что же такое?.. Велика важность! – отвечал тот, сам, в свою очередь, осердившись на нее.
Кроме этого случая, впрочем, Николя всем остальным был очень доволен и решительно чувствовал себя героем этого вечера. Многие обращались к нему с вопросами о том, как будут распоряжаться с деньгами: весь ли капитал раздадут на вспомоществование, или только станут расходовать одни проценты? Николя, как мы знаем, был неспособен что бы то ни было выдумывать и лгать; но говорить настоящее ему Елена запретила, а потому, в ответ на все вопросы, он больше произносил какие-то нечленораздельные звуки и с каждым почти соглашался, что тот ему говорил.
– Дом бы вам купить недорогой для помещения особенно бедных девушек! – посоветовал ему один господин, желавший свой собственный дом спустить кому-нибудь подороже.
– Мы и дом купим! – отрезал ему Николя.
– Эмеритуру-с[161] им нужно учредить!.. Пусть те из девушек, которые имеют места и получают жалованье, эмеритуру к этому капиталу приплачивают!.. Эмеритура-с – великое дело! – толковал ему другой, военный полковник, ожидающий на днях получить право эмеритуры.
– Эмеритуру сделаем-с!.. Сделаем!.. – отвечал ему, не задумываясь, Николя, а в сущности даже не зная, что такое, собственно, эмеритура.
Проснувшись на другой день поутру, он задумал составить новую лотерею и с этой целью немедля побежал к Елене.
– Mademoiselle Елена! Я сделаю еще лотерею! – кричал он, только что войдя к ней в комнату. – Тут вот, говорят, в артистическом кружке[162] один какой-то барин дает свои десять тысяч разыграть в лотерею. Я думаю, что за черт, какой добрый, – деньги свои отдает!.. А он только на время их дает, и как выручат на них тысяч десять, он опять их себе и возьмет назад!.. Я тоже могу сделать: возьму у отца билет и разыграю его, а после и ворочу ему!
– Но для этого, полагаю, нужно просить разрешения у правительства? – возразила Елена.
– Э, мы и так сделаем – ничего! – подхватил Николя и в самом деле сделал. Он, в этом случае, больше приналег на подчиненных отца и от малого до большого всех их заставил взять по нескольку билетов, так что опять выручил тысячи три, каковые деньги поверг снова к стопам Елены. Николя решительно, кажется, полагал пленить ее этим и вряд ли не подозревал, что деньги эти она собирает вовсе не для бедных девушек, а прямо для себя!
Елена, с своей стороны, тотчас послала за Жуквичем. Он перед тем только принес ей благодарственное письмо от польских эмигранток, которые именовали ее «матко, боской» своей и спасительницей детей их; к ней также было письмо и от эмигрантов. Те тоже называли ее «маткой боской» своей. Передавая Жуквичу вновь полученные от Николя деньги, Елена произнесла с некоторым самодовольством:
– Вот вам еще капитал!
– О, благодарю ж тебя, боже! – как бы не удержался и воскликнул Жуквич.
То, что разные польские эмигранты называли Елену матерью божьей, это нисколько ее не удивило; но что Жуквич поспешил поблагодарить бога, это ей показалось странным. Она, впрочем, не высказала ему того и только проговорила:
– Так как эмигранты теперь уже получили помощь, то эти деньги я не желаю отправлять в Париж; иначе, они там получатся, сейчас же раздадутся по рукам и проживутся. Лучше мы будем помогать из них постепенно, когда кто-нибудь из эмигрантов снова впадет в бедность…
Такое намерение Елены заметно не понравилось Жуквичу.
– Вы, значит, до тех пор хотите эти деньги хранить у себя? – спросил он.
– Нет, зачем у себя? Я положу их в банк, чтобы не терять процентов.
– В русский? – переспросил ее Жуквич.
– Да, в русский.
– Это очень опасно, – начал Жуквич, – при малейшем ж подозрении их конфискуют.
– Но откуда может явиться подозрение? – спросила Елена.
– Да вот из этого ж письма, которое прислали вам мои неосторожные собраты и которое, вероятно, уже прочли на почте.
– Но как же быть в таком случае? – спросила Елена.
Жуквич развел руками.
– Я ж бы думал, – заговорил он неторопливо, – лучше положить их в парижский банк, а потом, когда вы прикажете кому сколько выдать, тому я и пошлю чек.
– Хорошо! – согласилась Елена и тут же отдала Жуквичу все деньги, которыми тот опять все время, пока сидел у ней, как бы даже небрежно играл; но, пойдя домой, по-прежнему аккуратнейшим образом уложил их в свой карман.
* * *
Посреди таких хлопот, у Елены всякий раз, как она вспоминала о князе, начинало ныть и замирать сердце. Странные были в настоящее время ее чувства к нему: Елена в одно и то же время как бы питала к князю ненависть и жалость; ей казалось, что все условия соединились для того, чтоб из него вышел человек замечательный. Князь был умен, хорошо образован, не суетен, свободномыслящ; но в то же время с такими мелкими понятиями о чести, о благородстве, с такою детскою любовью и уважением к тому, что вовсе, по ее мнению, не заслуживало ни любви, ни уважения. Елена очень хорошо понимала, что при той цели жизни, которую она в настоящее время избрала для себя, и при том идеале, к которому положила стремиться, ей не было никакой возможности опять сблизиться с князем, потому что, если б он даже не стал мешать ей действовать, то все-таки один его сомневающийся и несколько подсмеивающийся вид стал бы отравлять все ее планы и надежды, а вместе с тем Елена ясно видела, что она воспламенила к себе страстью два новые сердца: сердце m-r Николя, над чем она, разумеется, смеялась в душе, и сердце m-r Жуквича, который день ото дня начинал ей показывать все более и более преданности и почти какого-то благоговения. Над этим Елена не смеялась и даже в этом отношении чувствовала некоторый страх. Видаясь с Жуквичем каждодневно и беседуя с ним по целым вечерам, Елена догадывалась, что он был человек лукавый, с характером твердым, закаленным, и при этом она полагала, что он вовсе не такой маленький деятель польского дела, как говорил о себе; об этом Елена заключала из нескольких фраз, которые вырвались у Жуквича, – фраз о его дружественном знакомстве с принцем Наполеоном[163], об его разговоре с турецким султаном[164], о связях его с разными влиятельными лицами в Лондоне; словом, она почти уверена была, что он был вождь какой-нибудь огромной польской партии, но только не говорил ей о том потому, что не доверял ей вполне. Последнее время, когда Жуквич приходил к Елене, она с невольным трепетом каждоминутно ожидала, что он произнесет ей признание в любви. Ожидание это действительно в весьма скором времени подтвердилось. Принеся Елене показать чек, присланный на его имя из парижского банка, Жуквич прямо начал:
– А я, панна Жиглинская, осмеливаюсь просить вашей руки и сердца.
Признание в этой форме очень удивило Елену. Она сделала усилие как бы рассмеяться над словами Жуквича.
– Это зачем вам так понадобилось? – спросила она его шутливо.
– Да, боже ж мой! Влюблен в вас, несчастный! – воскликнул Жуквич тоже как бы с оттенком шутки.
Елена не переставала усмехаться слегка.
– Человек ж, которого вы любили, – продолжал своим вкрадчивым голосом Жуквич, – я полагаю, вы согласитесь, не стоит того, да он и сам ж разлюбил вас!
– Но вы-то этого никак не можете знать – разлюбил он меня или нет! – воскликнула по-прежнему насмешливо Елена.
– Да нет ж, знаю я наверное то: он ждет к себе жену свою! – воскликнул и Жуквич на это.
– Жену ждет? – переспросила Елена, и почти смертная бледность покрыла лицо ее.
– Жену ожидает! – повторил Жуквич. – С Миклаковым княгиня разошлась; писала ж после того мужу и теперь сбирается скоро приехать к нему совсем на житье.
Елена, видимо, не совсем поверила Жуквичу, и он сейчас это заметил.
– Мне ж пишет о том мой приятель, который телеграфировал тогда по просьбе князя из Парижа о княгине, – присовокупил он и в доказательство подал Елене письмо, в котором все было написано, что говорил Жуквич.
– Я почти ожидала этого заранее… – проговорила Елена как бы спокойно. – Князь всегда очень любил жену свою, и почему думал, что разлюбил ее, удивляться тому надо!.. Они совершенная ровня и пара!
– Сам ж, может быть, заблуждался! Мало ли что бывает! – подхватил, пожимая плечами, Жуквич.
– Да, но в этом заблуждении он бы должен поостеречься заблуждать других…
– О, конечно ж! – воскликнул Жуквич. – Я сам вот прямо вам говорю, что я тож человек женатый!
– Но как же вы хотите жениться на мне? – воскликнула Елена.
– Браком гражданским! – отвечал, немного потупясь, Жуквич.
– С тем, чтоб и к вам жена ваша приехала и выгнала меня?..
– О, нет ж!.. Моя не приедет! – произнес с каким-то самодовольством Жуквич. – Она имеет много детей от другого и ко мне не захочет воротиться.
– Ну, а сам кто вы такой? – спросила вдруг его Елена. – Потому что я совершенно убеждена, что вы вовсе не тот человек, за которого себя выдаете…
При этом вопросе Жуквич на короткое мгновение смутился.
– Да, я ж не тот, что я говорю! – сказал он после недолгого молчания.
– Кто же вы такой? – повторила Елена.
– Я?.. – начал Жуквич и приостановился на несколько времени. – Я ж висельник сорок восьмого года и теперь существую под другою фамилией. В сорок восьмом году[165] я был повешен!..
И с этими словами Жуквич проворно развязал свой галстук и раскрыл воротник своей рубашки. Елена увидела у него на шее довольно большой шрам, показавшийся ей как будто бы в самом деле происшедшим от веревки.
– Но как же вы спаслись? – проговорила она, смотря ему прямо в лицо.
– С помощью ж добрых товарищей и некоторой собственной смелости!.. – отвечал Жуквич.
Елена продолжала не спускать с него глаз: сделанное им открытие еще выше подняло Жуквича в глазах ее.
– Да доверьте ж мне, панна Жиглинская!.. – воскликнул между тем он. – Вы ж удумали посвятить себя вместе со мною польскому делу!
– Удумала! – проговорила Елена.
– Так разве ж можно, быв так близко к вам, не поклоняться вашей красоте?.. Разве ж вы, панна Жиглинская, не знаете ваших чарующих прелестей? Перед вами быв, надо ж или боготворить вас, или бежать от вас!..
Елена мгновенно вся покраснела и сделалась сумрачною.
– Очень жаль это!.. – заговорила она. – И я, признаюсь, в этот раз гораздо бы больше желала быть каким-нибудь уродом, чем красивою женщиной!
– Для чего ж то? – воскликнул Жуквич.
– Для того, чтобы вы тогда относились ко мне по сходству наших убеждений, а не по чему иному… Я собственно с любовью навсегда покончила: мое недавнее прошедшее дало мне такой урок, что я больше не поддамся этому чувству, и, кроме того, я убедилась, что и по натуре своей я женщина не любви, а политики.
– Но любовь ж не помешает политике! – возразил Жуквич.
– Напротив, очень помешает! – продолжала Елена. – Шиллер недаром выдумал, что Иоанна д'Арк до тех пор только верна была своему призванию, пока не полюбила.
– Нет, эта фантазия поэта совершенно несправедливая! – возразил ей Жуквич, и лицо его приняло весьма недовольное выражение, так что Елена несколько испугалась этого.
– Вот видите, как нехорошо быть красивой собой! – проговорила она. – Вы теперь будете недовольны мною и, может быть, даже постараетесь отстранить меня от нашего общего дела.
– О, нет, зачем ж? – возразил он ей.
– И не отстраняйте меня!.. Я буду вам полезна! – сказала Елена с чувством.
– Да знаю ж это я! – воскликнул и Жуквич с чувством.
VIII
С Елизаветой Петровной после того, как Елена оставила князя, сделался легонький удар. Услыхав от Елпидифора Мартыныча, что у князя с Жуквичем была дуэль, она твердо была убеждена, что Елена или приготовлялась изменить князю, или уже изменила ему. Главным образом в этом случае Елизавету Петровну беспокоила мысль, что князь, рассердясь на Елену, пожалуй, и ей перестанет выдавать по триста рублей в месяц; но, к великому удивлению ее, эти деньги она продолжала получать весьма исправно. Достойный друг Елизаветы Петровны, Елпидифор Мартыныч почти всякий день посещал ее в болезни и пользовал ее совершенно бесплатно. В своих задушевных беседах с ним Елизавета Петровна каждый раз превозносила князя до небес.
– Это ангел, а не человек, – ей-богу, какой-то ангел! – говорила она почти с удивлением.
– Именно, что ангел! – подхватывал Елпидифор Мартыныч, тоже, как видно, бывший очень доволен князем.
– Но как его-то, голубчика, здоровье? – продолжала Елизавета Петровна со слезами на глазах.
– Что здоровье!.. Тело еще можно лечить, а душу нет, – душу не вылечишь! – отвечал Елпидифор Мартыныч грустным тоном.
– Стало быть, он все еще любит ее, мерзавку? – спрашивала Елизавета Петровна.
– Кажется, что любит!.. О ребенке, главное, теперь беспокоится. Приказал было мне, чтоб я каждый день заезжал навещать малютку; я раз заехал… мальчик уже ходит и прехорошенький.
– Ходит? – переспросила с чувством Елизавета Петровна.
– Месяца с два, как ходит!.. Говорю Елене Николаевне, что «вот мне поручено навещать ребенка». – «Это, говорит, зачем? Вы видели, что он здоров, а сделается болен, так я пришлю за вами!» Так и не позволила мне! Я доложил об этом князю, – он только глаза при этом возвел к небу.
– Голубчик мой, голубчик! – повторила еще раз Елизавета Петровна.
Елпидифор Мартыныч больше за тем и ездил так часто к Елизавете Петровне, чтоб узнавать от нее о дочери, так как Елена не пускала его к себе; а между тем он видел, что князь интересуется знать о ней.
– Ну, а как, слышно, она послуживает на новом своем месте? – расспрашивал он.
– Какая уж служба! Это вот как-то горничная ее прибегала и рассказывала: «Барышня, говорит, целые дни своими ручками грязное белье считает и записывает»… Тьфу!
– Тьфу! – отплюнулся на это и Елпидифор Мартыныч.
– И ништо ей: не хотела быть барыней, так будь прачкой! – присовокупила Елизавета Петровна с каким-то злобным удовольствием.
Вскоре после лотереи, в затее и устройстве которой Елпидифор Мартыныч сильно подозревал участие Елены, он снова приехал к Елизавете Петровне.
– Нет ли у вас каких-нибудь новостей насчет Елены Николаевны? – спросил он ее будто бы к слову.
– Марфутка моя сегодня убежала к ним; не знаю, воротилась ли… Марфутка!.. – крикнула Елизавета Петровна на всю квартиру.
– Чего изволите, барыня? – отозвалась та.
– Позовите ее сюда и порасспросите хорошенько! – проговорил Елпидифор Мартыныч скороговоркой.
– Хорошо!.. Марфуша, поди сюда! – крикнула Елизавета Петровна уже поласковей.
Марфуша вошла. Она сделалась еще более краснощекой.
– Что, Елена Николаевна здорова? – спросила ее первоначально Елизавета Петровна.
– Здорова-с! – отвечала Марфуша.
Далее Елизавета Петровна не находилась, что спрашивать ее; тогда уже принялся Елпидифор Мартыныч.
– А скажи мне, моя милая, – начал он, – кто бывает у Елены Николаевны в гостях?..
– Кто, барин, бывает-с?.. Я не знаю-с!.. – отвечала было на первых порах Марфуша.
– Как же ты не знаешь?.. Поди-ка ты сюда ко мне!
Марфуша подошла к нему.
– На тебе на чай! Я давно хотел тебе дать, – продолжал Елпидифор Мартыныч, подавая ей рубль серебром.
Та, приняв этот рубль, поцеловала у Елпидифора Мартыныча руку, который с удовольствием позволил ей это сделать.
– Ну, а не ходят ли к Елене Николаевне разные барышни молоденькие… девицы небогатенькие? – сказал он.
– Нет, барин, не ходят-с! – отвечала Марфуша.
– А из мужчин кто же бывает у ней? – допытывался Елпидифор Мартыныч.
– Из мужчин-с, горничная Елены Николаевны сказывала, у них только и бывает этот Николай Гаврилыч…
– Так… так… Оглоблин это! – подхватил Елпидифор Мартыныч.
– Оглоблин-с!.. Потом этот поляк!.. Уж не помню, барин, фамилию…
– Жуквич! – напомнил ей Елпидифор Мартыныч.
– Жуквич, барин, Жуквич! – воскликнула Марфуша.
– Это тот злодей, что стрелялся с князем? – спросила Елизавета Петровна по-французски Елпидифора Мартыныча и спросила очень хорошим французским языком.
– Oui, c'est lui![166] – отвечал он ей тоже по-французски, но только черт знает как произнося. – И что же, они любезничают с барышней? – обратился он снова к Марфуше.
– Любезничают-с! – отвечала та, усмехаясь.
– А который же больше?
– Да оба, барин, любезничают! – проговорила Марфуша и окончательно засмеялась.
– А сама барышня, однако, с которым больше любезна? – спрашивал Елпидифор Мартыныч.
Марфуша при этом взглянула на Елизавету Петровну, как бы спрашивая, может ли она все говорить.
– Говори, если что знаешь! – сказала та в ответ на этот взгляд.
– С поляком, надо быть, барин, больше! – начала Марфуша. – Он красивый такой из себя, а Николай Гаврилыч – этот нехорош-с!.. Губошлеп!.. В доме так его и зовут: «Губошлеп, говорят, генеральский идет!».
– Именно, губошлеп!.. Именно! – подтвердил, усмехаясь, Елпидифор Мартыныч.
– Я вам говорила, – сказала Елизавета Петровна опять по-французски Елпидифору Мартынычу, – что у Елены непременно с господином поляком что-нибудь да есть!
– Oui, c'est vrai!.. Il est quelque chose![167] – отвечал и он ей бог знает что уж такое.
– Ну, ты ступай! – разрешила Елизавета Петровна Марфуше.
Та ушла.
– Il est quelque chose! Il est! – повторил еще раз свою фразу Елпидифор Мартыныч.
* * *
Князь после болезни своей очень постарел и похудел; стан его сгорбился, взгляд был постоянно какой-то мрачный, беспокойный, блуждающий и озирающийся кругом. Удар, нанесенный князю поступком Елены, был слишком неожидан для него: он мог предполагать очень много дурного для себя на свете, только не это. Князь считал Елену с пылким и, пожалуй, очень дурным характером, способною, в минуты досады и ревности, наговорить самых обидных и оскорбительных вещей; но чтоб она не любила его нисколько, – он не думал… И его в этом случае поражало не столько то, что Елена ушла от него и бросила его, как то, что она после, в продолжение всей его болезни, ни разу не заехала к нему проведать его. Так поступать можно только или в отношении злейшего врага своего, или вследствие своей собственной, личной ветрености и даже некоторой развращенности, но то и другое предполагать в Елене для князя было тяжело!.. «Кому же после этого верить? В ком видеть хоть сколько-нибудь порядочного человека или женщину?» – спрашивал он сам себя и при этом невольно припоминал слова Миклакова, который как-то раз доказывал ему, что тот, кто не хочет обманываться в людях, должен непременно со всяким человеком действовать юридически и нравственно так, как бы он действовал с величайшим подлецом в мире. Слова эти начали казаться князю величайшею истиной. Склонный и прежде к скептическому взгляду, он теперь стал окончательно всех почти ненавидеть, со всеми скучать, никому не доверять; не говоря уже о родных, которые первое время болезни князя вздумали было навещать его и которых он обыкновенно дерзостью встречал и дерзостью провожал, даже в прислуге своей князь начал подозревать каких-то врагов своих, и один только Елпидифор Мартыныч день ото дня все более и более получал доверия от него; но зато старик и поработал для этого: в продолжение всего тяжкого состояния болезни князя Елпидифор Мартыныч только на короткое время уезжал от него на практику, а потом снова к нему возвращался и даже проводил у него иногда целые ночи. Когда князю сделалось, наконец, получше, Елпидифор Мартыныч однажды остался обедать у него. Князь, сев за стол и попробовав суп, вдруг отодвинул от себя тарелку и не стал больше есть.
– Это точно с ядом! – проговорил как бы невольно сам с собою князь.
Елпидифор Мартыныч намотал себе это на ус и разными шуточками, прибауточками стал напрашиваться у князя обедать каждый день, причем обыкновенно всякое кушанье брал сам первый, и князь после этого заметно спокойнее ел. Чтоб окончательно рассеять в нем такое странное подозрение, Елпидифор Мартыныч принялся князю хвалить всю его прислугу. «Что это у вас за бесподобные люди, – говорил он, – в болезнь вашу они навзрыд все ревели». Князь слушал его и, как кажется, верил ему.
Последнее время Елпидифор Мартыныч заметил, что князь опять сделался как-то более обыкновенного встревожен и чем-то расстроен. Он пытался было повыспросить у него причину тому, но князь отмалчивался.
Взволновало князя на этот раз полученное им снова письмо из Парижа от г-жи Петицкой, которая уведомляла князя, что этот злодей и негодяй Миклаков, измучив и истерзав княгиню, наконец, оставил ее в покое.
«Вы сами, князь, – писала Петицкая, – знаете по собственному опыту, как можно ошибаться в людях; известная особа, по здешним слухам, тоже оставила вас, и теперь единственное, пламенное желание княгини – возвратиться к вам и ухаживать за вами. А что она ни в чем против вас не виновна – в этом бог свидетель. Я так же, как и вы, в этом отношении заблуждалась; но, живя с княгиней около полутора лет, убедилась, что это святая женщина: время лучше докажет вам то, что я пишу в этих строках…»
Письму этому князь, разумеется, нисколько не поверил и, прочитав его, даже бросил в сторону: «Обманывать еще хотят!» – сказал он; но потом кроткий и такой, кажется, чистый образ княгини стал мало-помалу вырисовываться в его воображении: князь не в состоянии был почти вообразить себе, чтоб эта женщина могла кого-нибудь, кроме его, полюбить.
Елпидифору Мартынычу князь не говорил об этом письме, потому что не знал еще, что тот скажет: станет ли он подтверждать подозрение князя в том, что его обманывают, или будет говорить, что княгиня невинна; но князю не хотелось ни того, ни другого слышать: в первом случае пропал бы из его воображения чистый образ княгини, а во втором – он сам себе показался бы очень некрасивым нравственно, так как за что же он тогда почти насильно прогнал от себя княгиню?
Елпидифор Мартыныч между тем, объясняя себе увеличившееся беспокойство князя все еще его несчастною привязанностью к Жиглинской, решился окончательно разочаровать его в этой госпоже и, если возможно будет, даже совершенно втоптать ее в грязь в его глазах.
Для этого приехав к князю вскоре после расспросов, сделанных Марфуше, Елпидифор Мартыныч начал с шуточки.
– Вы, ваше сиятельство, так-таки монахом все и намерены жить? – заговорил он, лукаво посматривая на князя.
Тот этим вопросом, по-видимому, крайне был удивлен.
– А у меня на примете какая есть молодая особа! – продолжал Елпидифор Мартыныч, чмокнув губами и делая ручкой. – Умненькая… свеженькая, и уж рекомендую вам, будет любить вас не так, как прежняя.
Князь при этом сделал недовольную и досадливую мину.
– Что за вздор такой вы болтаете! – произнес он.
– Нет, не вздор!.. Шутки в сторону, на прежнюю госпожу вам надобно отложить всякие чаяния: изменила вам вполне…
Князь при этом мрачно и сердито посмотрел на Елпидифора Мартыныча.
– Для кого же это?.. – проговорил он.
– Да для того человека, которого и вы, вероятно, предполагаете.
– Но кто вам сказал это? – продолжал князь с тем же мрачным выражением.
– Господи боже мой! Все заведенье говорит о том – от малого до большого; я лечу там, так каждый день слышу: днюет и ночует, говорят, он у нее! – выдумывал Елпидифор Мартыныч, твердо убежденный, что для спасенья позволительна всякая ложь. – Тогда, как она от вас уехала, стали тоже говорить, что все это произошло оттого, что вы приревновали ее к Жуквичу. Я, признаться, вас же повинил, – не помстилось ли, думаю, князю: каким образом с одним человеком годы жила, а другого неделю как узнала… Ан вышло, что нет, – правда была!
В лице князя отразилась в это время почти смертельная тоска.
– Да и не про одного тут Жуквича говорят, – старался Елпидифор Мартыныч еще более доконать Елену в мнении князя, – и с Оглоблиным, говорят, у ней тоже кое-что началось…
Этого князь уже более не вынес.
– Ну, будет!.. Довольно об этом говорить! – произнес он капризным и досадливым голосом.
Елпидифор Мартыныч замолчал.
* * *
Дня через два после этого разговора князь вдруг сказал Елпидифору Мартынычу:
– Я очень интересное письмо получил о жене из-за границы!
– Что такое-с? – спросил тот, навостривая от любопытства уши.
– А вон оно на столе… прочтите, – прибавил князь, показывая на валявшееся на столе письмо Петицкой.
Елпидифор Мартыныч, прочитав письмо, пришел в какой-то почти смешной даже восторг; он обернулся к окну и начал молиться на видневшуюся из него колокольню: в комнате у князя не было ни одного образа.
– Боже милостивый! – забормотал он, закрывая глаза и склоняя голову. – Благодарю тя за твои великие и несказанные милости, и ниспошли ты благодать и мир дому сему!.. Ну, поздравляю вас, поздравляю! – заключил Елпидифор Мартыныч, подходя уже к князю и вдруг целуя его.
– Что вы, точно с ума сошли! – сказал ему тот сердито.
– Извините на этот раз!.. Всегда так привык выражать душевную радость – молитвой и поцелуем.
– Чему же тут радоваться, когда все письмо от первого до последнего слова – ложь?
– Письмо-то? – воскликнул Елпидифор Мартыныч. – Нет-с, ложь не в письме, а у вас в мозгу, в вашем воображении, или, лучше сказать, в вашей печени расстроенной!.. Оттуда и идет весь этот мрачный взгляд на жизнь и на людей.
– Ну, так лечите, когда оттуда идет! – проговорил князь.
– К-ха! – откашлянулся Елпидифор Мартыныч. – Трудно, когда одно другим питается: расстроенная печень делает мрачный взгляд, а мрачный взгляд расстроивает печень!.. Что тут врачу делать?.. Надобно самому больному бодриться духом и рассеивать себя!.. Вот вообразите себе, что княгиня ничем против вас не виновата, да и возрадуйтесь тому.
– Как же я воображу это, когда она сама, уезжая, ни слова не возражала против того?
– Да, возрази вам… легко это оказать!.. Мужчина не всякий на то решится, особенно когда вы в гневе, не то что женщина!
Князю в первый еще раз пришла эта мысль: «А что, если я в самом деле запугал ее и она наклеветала на себя? О, я мерзавец, негодяй!» – думал он про себя.
– Разве она вам говорила это? – сказал он вслух.
– Еще бы не говорила!.. Говорила! – солгал, не задумавшись, Елпидифор Мартыныч.
У князя даже холодный пот выступил при этом на лбу.
– В таком случае, вот что, – начал он каким-то прерывистым голосом, – нельзя ли вам написать княгине от себя?
– Но что такое я напишу ей? – спросил Елпидифор Мартыныч, не поняв сначала князя.
– То, что… – начал тот, видимо, сердясь на недогадливость его: – если княгиня хочет, так пусть приезжает сюда ко мне, в Москву.
– Но отчего вы сами не хотите ей написать о том?.. От вас бы ей приятнее было получить такое письмо, – возразил ему Елпидифор Мартыныч.
– Я не могу, понимаете, я не могу!.. – говорил князь, слегка ударяя себя в грудь, и при этом слезы даже показались у него на глазах. – В голове у меня тысяча противоречий, и все они гложут, терзают, мучат меня.
– Ипохондрия… больше ничего, ипохондрия! – сказал Елпидифор Мартыныч, смотря с чувством на князя. – Ну-с, не извольте хмуриться, все это я сделаю: напишу княгине и устрою, как следует! – заключил он и, приехав домой, не откладывая времени, принялся своим красивым семинарским почерком писать к княгине письмо, которым прямо от имени князя приглашал ее прибыть в Москву.
* * *
Невдолге после объяснения с Жуквичем Елене пришлось иметь почти такое же объяснение и с Николя Оглоблиным. Бедный молодой человек окончательно, кажется, и не шутя потерял голову от любви к ней, тем более, что Елена, из благодарности к нему за устройство лотереи, продолжала весьма-весьма благосклонно обращаться с ним. Главным образом Николя мучило то, что у него никак не хватало смелости объясниться с Еленой в любви, а потому он думал-думал, да и надумал, не переговоря ни слова с отцом своим, предложить Елене, подобно Жуквичу, брак, но только брак церковный, разумеется, а не гражданский.
Придя раз вечером к Елене, Николя начал как-то особенно ухарски расхаживать по комнате ее: он в этот день обедал в клубе и был немного пьян.
– Знаете что, mademoiselle Елена, я хочу на вас жениться! – сказал он.
– На мне?.. – спросила, рассмеявшись, Елена.
– Да, на вас!.. Пусть там отец, черт его дери, что хочет говорит… Другие женятся и на цыганках, а не то что… – бултыхал Николя, не давая себе отчета в том, что говорил.
Елена на этот раз не рассердилась на него нисколько.
– Нет, я не могу пойти за вас замуж, – проговорила она, сколько могла, добрым голосом.
– Отчего? – воскликнул Николя, никак не ожидавший, что Елена замуж за него даже не пойдет, потому что считал замужество это для нее все-таки большим шагом в жизни.
– Оттого, что я вас не люблю тою любовью, которою следует любить мужа! – отвечала Елена.
– Какой же вы любовью меня любите? – спросил Николя, немного повеселевший от мысли, что его хоть какою-нибудь любовью любят.
– Я люблю вас как приятеля, как человека очень хорошего! – говорила Елена.
– Какой я приятель вам!.. Я не могу быть вашим приятелем! – возразил Николя уже недовольным тоном.
– Отчего же не приятель?
– Оттого, что вам приятель надобен какой-нибудь ученый, а я что?.. Я знаю, что я не ученый.
– Зато вы очень добрый человек, а это стоит многого! – возразила Елена.
– Это что добрый?.. – продолжал Николя, сохраняя свой недовольный тон. – Вы любите, верно, кого-нибудь другого! – прибавил он.
Елена на это молчала.
– Князя, что ли, все еще любите? – говорил Николя.
– Может быть, и князя! – ответила Елена.
– Ну, уж это извините: я бы вам не советовал! – продолжал Николя насмешливым голосом. – Елпидифор Мартыныч сказывал, что к нему жена скоро из-за границы вернется!
– Это я знаю! – проговорила Елена.
– Так вам опять, видно, срамиться хочется, как прежде, вон, все истории были?.. А как вы выйдете за меня, по крайней мере, замужняя женщина будете!
– Нет, monsieur Николя, у меня никакой больше истории не будет, потому что я никого не люблю и замуж ни за кого не пойду! – постаралась еще раз успокоить его Елена.
– Ну да, не любите!.. Не может быть, непременно кого-нибудь любите! – толковал Николя свое и почти наперед знал, кого любит Елена, но ей, однако, этого не высказал; зато, возвратясь домой, позвал к себе своего Севастьянушку и убедительно просил его разузнать, с кем живет г-жа Жиглинская.
Севастьянушка в этих делах был человек опытный. Он прежде всего обратился к смотрителю дома, всегда старавшемуся представить из себя человека, знающего даже, что крысы под полом делают в целом здании.
– А что, – спросил его Севастьян, – к этой новой кастелянше нашей никакого хахаля не ходит?.. Генерал велел узнать.
На генерала, то есть на старика Оглоблина, Севастьянушка свалил, чтобы придать больше весу своим словам в глазах смотрителя.
– Ходит один поляк к ней… Надо быть, что хахаль! – отвечал ему тот. – Этта я, как-то часу в третьем ночи, иду по двору; смотрю, у ней в окнах свет, – ну, боишься тоже ночным временем: сохрани бог, пожар… Зашел к ним: «Что такое, говорю, за огонь у вас?» – «Гость, говорит, сидит еще в гостях!»
Севастьянушка на это только усмехнулся и затем уже взялся за горничную Елены, которую он для этого зазвал к себе в гости, угостил ее чаем и стал расспрашивать, что не влюблена ли в кого-нибудь ее барышня. Глупая горничная, как болтала она об этом с Марфушей, так и ему прямо объяснила, что барышня, должно быть, теперь гуляет с барином Жуквичем, потому что ездит с ним по вечерам и неизвестно куда. Показание это Севастьянушка проверил еще через посредство солдата, стоявшего у уличных ворот здания, и тот ему сказал, что, точно, кастелянша ездит иногда с каким-то мужчиной и что возвращается домой поздно.
Обо всем Севастьян самым подробным образом доложил Николя.
– Хорошо!.. Хорошо!.. Славно!.. – говорил тот, делаясь при этом совершенно пунцовым от гнева.
IX
Николя, как и большая часть глупых людей, при всей своей видимой доброте, был в то же время зол и мстителен. Взбесясь на Елену за то, что она – тогда как он схлопотал ей место и устроил лотерею – осмелилась предпочесть ему другого, он решился насказать на нее отцу своему с тем, чтобы тот вытурил Елену с ее места. Для этого он пришел опять в присутствие к старику.
– Папа, вам этой Жиглинской нельзя держать на службе у себя!.. – сказал он.
– Как это?.. Почему?.. – спросил тот, не понимая сына.
– Потому, что она черт знает что такое делает: с поляком одним живет!
– С поляком? – произнес старик почти с ужасом.
– Да-с!.. С Жуквичем вон этим, что вещи у нас на лотерее расставлял.
– А, вот с кем!.. – произнес старик поспокойнее; он воображал, что это был какой-нибудь более страшный человек, чем Жуквич.
– Вы, папа, выгоните ее, а то они тут не то еще наделают… и дом, пожалуй, подожгут!
– Как дом подожгут? – повторил старик опять уже с ужасом.
– А так!.. Мало ли поляки сожгли у нас городов! Смотритель говорит, что Жуквич часов до трех ночи у ней просиживает, – кто за ними усмотрит тогда?.. Горничная ее и солдат, что у ворот стоит, тоже сказывали, что она по вечерам с ним уезжает и возвращается черт знает когда…
– Ах, какая негодяйка, скажите!.. – произнес старик, выпучивая даже глаза от страха и удивления.
– Ужасная негодяйка!.. И как же после этого можно ее держать?
– Держать ее нельзя!.. – согласился старик. – Только как это сделать мне?
– Ну, уж там как-нибудь сделайте! – заключил Николя и ушел, зная, что достаточную искру бросил в легко воспламеняющуюся душу отца.
Надобно сказать, что сам старик Оглоблин ничего почти не видел и не понимал, что вокруг него делается, и поэтому был бы человек весьма спокойный; но зато, когда ему что-либо подсказывали или наводили его на какую-нибудь мысль, так он обыкновенно в эту сторону начинал страшно волноваться и беспокоиться.
– Пожалуй, они в самом деле дом сожгут! Что с них возьмешь? – повторял он сам с собой, оставшись один; а потом, по всегдашнему обыкновению, послал позвать к себе на совет Феодосия Иваныча.
– Эта… кастелянша новая, – начал он, стараясь сохранить строгий начальнический вид, – живет… как мне говорили, с поляком одним?
– Кто вам говорил это? – спросил Феодосий Иваныч, делая мину, весьма похожую на мину начальника, и вместе с тем глаза его были покрыты каким-то невеселым туманом.
– Сын мне говорил!.. Николя!.. – отвечал ему старик опять строго.
Как будто что-то вроде грустной улыбки пробежало по губам Феодосия Иваныча.
– А Николаю Гаврилычу кто это сказывал? – спросил он явно уже грустным голосом.
– Смотритель дома сказывал… горничная ее сказывала… солдат, что у ворот стоит, говорил. Как ее после этого не выгнать?..
– Выгоняйте! – произнес грустно-насмешливо Феодосий Иваныч.
– Но как это сделать?
– Надо как-нибудь сделать! – отвечал Феодосий Иваныч неопределенно; но по выражению его лица видно было, что он знал, как это сделать.
– Надо!.. Надо!.. Да говорите же, как это сделать? – закричал, наконец, на него начальник.
Феодосий Иваныч при этом еще больше надулся.
– Позовите этих – смотрителя, горничную и сторожа, расспросите их… – отвечал он тем же неохотливым тоном.
– Ну, позовите!
Феодосий Иваныч пошел.
– Она ведь дом сожечь может! – крикнул ему вслед начальник, как бы желая внушить ему важность дела.
Но Феодосий Иваныч не обратил на это особенного внимания и через несколько времени привел в присутствие смотрителя дома, горничную Елены и сторожа.
Генерал начал расспрашивать прежде всех смотрителя, как более умного и толкового человека.
– Эта… госпожа Жиглинская… кастелянша, как слышал я, в связи с поляком Жуквичем?
Смотритель при этом приподнял плечи вверх и вскинул немного глаза в потолок.
– Надо быть, ваше превосходительство, что так! – проговорил он.
– И я слышал… что у них ночью огонь… часов до трех бывает.
– Было это, ваше превосходительство, раза четыре это было! – отвечал смотритель.
– Чтобы не было у меня вперед этого! Никогда не было! – закричал вдруг генерал и погрозил даже пальцем смотрителю. – Я теперь ее выгоняю вон!.. Но она… все еще, может быть, проживет тут… день и два… чтобы совсем у ней не было в эти дни огня… совсем!.. Я с вас спрошу, – вы мне за то ответите!
– Не будет, ваше превосходительство, у ней огня никакого-с!.. Слушаю-с!.. Совсем никакого не будет! – успокоивал его смотритель, как видно, насквозь знавший своего начальника, а потому нисколько не смутившийся от его крика.
– Чтоб и не было! – повторил еще раз старик и с тем же раздражительным тоном обратился к горничной Елены:
– У твоей госпожи есть возлюбленный?
– Никак нет-с, ваше превосходительство! – заперлась было та на этот раз, струсивши до слез.
– А я знаю, что есть! – крикнул на нее старик.
Горничная при этом только как-то вильнула от страха животом.
– Ты видел, как госпожа Жиглинская уезжала по вечерам с Жуквичем? – перекинулся старик к сторожу.
– Уезжала, ваше превосходительство, часто уезжала! – отвечал тот.
– Ну, а теперь что делать? – спросил Оглоблин совсем другим тоном Феодосия Иваныча, стоявшего несколько вдали и смотревшего каким-то Мефистофелем на всю эту сцену.
– Их вот отставьте в сторону, а позовите самое Жиглинскую.
Генерал после этого строго позвонил.
Явился сторож.
– Госпожу Жиглинскую ко мне! – сказал он тому каким-то зловещим голосом.
Сторож побежал исполнить его приказание.
Елена пришла, несколько удивленная таким приглашением. При виде ее представительной и шикарной наружности старик несколько утратил свой чересчур начальнический вид и, даже привстав на своем месте и опершись, по обыкновению, на локотки рук своих, начал, держа лицо потупленным к столу:
– Вы-с… производите в доме… беспорядки, которые я не могу допустить.
– Какие беспорядки? – спросила Елена, взглядывая с недоумением на стоявших в стороне смотрителя, сторожа и свою горничную и полагая, что не последняя ли что надурила.
– У вас, – продолжал старый генерал, – бывает человек, который не должен… никак здесь бывать.
– Какой человек у меня бывает? – продолжала Елена, все еще не совсем хорошо понимая.
– Господин Жуквич у вас бывает!.. – произнес старик более уже строгим голосом.
– Почему же он не должен бывать у меня? – спросила Елена.
– Потому-с… потому, что он поляк!
– А разве полякам запрещено бывать у своих знакомых?
– Запрещено-с!.. И я ему запрещаю… бывать у вас.
– Но вы не можете этого запретить мне! – возразила Елена.
– Могу-с!.. Вы вот ездите с ним по ночам… и прекрасно!.. Поезжайте к нему и сидите там у него.
Говоря это, старик все более и более возвышал свой голос.
Елена, в свою очередь, тоже вся вспыхнула, и глаза ее загорелись неудержимым гневом.
– Как вы смеете на меня так кричать, – я не служанка ваша! – заговорила она. – Хоть бы я точно ездила к Жуквичу, вам никакого дела нет до того, и если вы такой дурак, что не умеете даже обращаться с женщинами, то я сейчас же уволю себя от вас! Дайте мне бумаги! – присовокупила Елена повелительно.
– Как, я дурак? – воскликнул в свою очередь Оглоблин, откинувшись на спинку кресла. – Дайте ей бумаги!.. Как, я дурак? – повторил он, все еще не могши прийти в себя от подобной дерзости.
Феодосий Иваныч, по приказанию начальника, подал Елене бумаги, и та принялась писать прошение об отставке.
– На гербовой бы, собственно, следовало! – заметил ей Феодосий Иваныч.
– Все равно-с! Все равно-с! – закричал на него начальник. – Я дурак, а!.. Я дурак!.. Что я должен с вами сделать?
Елена на это ничего не отвечала и продолжала писать; а кончив прошение, она почти перебросила его к Оглоблину, а потом сама встала и вышла из присутствия.
– Она сумасшедшая, ей-богу, сумасшедшая! – говорил он, разводя руками.
Феодосий Иваныч, с своей стороны, саркастически улыбаясь, взял прошение и, как бы просматривая его, ни слова не говорил.
– Ну, ступайте и вы!.. Вы больше не нужны! – сказал Оглоблин призванным свидетелям.
Те вышли.
– Ведь она сумасшедшая, решительно!.. – повторил еще раз Оглоблин, прямо обращаясь уже к Феодосию Иванычу.
– Я не знаю-с!.. – отвечал тот.
– Ну, вы уж… вы не знаете… вы ничего не знаете! – опять вспылил Оглоблин.
– Да мне почему знать это? – отвечал опять грустно-насмешливым тоном Феодосий Иваныч и тоже ушел.
Читатель, может быть, заметил, что почтенный правитель дел несколько изменил тон обращения с своим начальником, и причина тому заключалась в следующем: будучи лет пять статским советником, Феодосий Иваныч имел самое пламенное и почти единственное в жизни желание быть произведенным в действительные статские советники, и вот в нынешнем году он решился было попросить Оглоблина представить его к этому чину; но вдруг тот руками и ногами против того: «Да не могу!.. Да это поставят мне в пристрастие!», и тому подобные пустые начальнические отговорки, тогда как, в сущности, он никак не мог помириться с мыслию, что он сам «генерал» и подчиненный у него будет «генерал», что его называют «ваше превосходительство» и подчиненному его будут тоже говорить «ваше превосходительство». Феодосий Иваныч, кажется, понял причину отказа и начал мстить своему благодетелю тем, что не стал ему давать советов ни по каким делам.
* * *
Елена возвратилась к себе почти обезумевшая от гнева. Она очень хорошо понимала, что все это штуки Николя, который прежде заставил отца определить ее на это место, а теперь прогнать; и ее бесило в этом случае не то, что Николя и отец его способны были делать подобные гадости, но что каким образом они смеют так нагло и бесстыдно поступать в своей общественной деятельности. В прежнем своем удалении от службы Елена еще видела некоторую долю хоть и предрассудочной, но все-таки справедливости: ее тогдашнее положение действительно могло произвесть некоторый соблазн на детей; а теперь она, собственно, выгнана за то, что не оказала благосклонности Николя Оглоблину. Что же это такое?.. Где, в каком варварском и диком государстве может быть допущен подобный произвол? На первых порах Елена думала было жаловаться и объяснить подробно причину, по которой ее лишили места. Но кому?.. И кто поверит ей? Николя же и родитель его очень хорошо могут наклеветать на нее все, что им будет угодно, чрез разных своих лакеев и сторожей… Елена даже заплакала от горя и досады. Как бы ни было, однако она должна была подумать, куда ей приклонить свою голову. На первое время Елена решилась переехать в ту гостиницу, где жил Жуквич, и велела своей прислуге укладываться. Маленький Коля ее, начинавший все говорить, заинтересовался этими сборами и начал приставать к своей няне.
– А то ти это делаесь? – спрашивал он ее, видя, что она кладет одну вещь за другой в сундук.
– Укладываюсь, батюшка! – отвечала ему няня.
– А засем? – спросил ребенок.
– Мы переезжаем, батюшка.
– А куди?
– Не знаю-с, маменька переезжает, – говорила няня.
Коля побежал к матери и взмостился к ней на колени.
– Мы, мама, к папе едем? – говорил он.
Няня и горничная давно натолковали ему, что у него есть папа очень богатый.
– Нет, мой друг, у тебя папы нет! – отвечала ему Елена.
– А где он, мама?
– Умер.
– Его бог взяй, мама?
– Нет, не бог.
– А то же его взяй?
– Никто. Он умер, его и похоронили в землю.
– А засем его похоении в земью?
– Потому, что он разлагаться начал.
Ребенок смотрел на мать; он совершенно не понял последнего ее ответа, а между тем все эти расспросы его, точно острые ножи, резали сердце Елены. Часа через три она совсем выехала из своей казенной квартиры в предполагаемую гостиницу, где взяла нумер в одну комнату, в темном уголке которого она предположила поместить ребенка с няней, а светлую часть комнаты заняла сама. Горничную свою Елена рассчитала и отпустила, так как отчасти подозревала ту в распущенной сплетне про нее; кроме того, ей и дорого было держать для себя особую прислугу (у Елены в это время было всего в кармане только десять рублей серебром). Покуда она таким образом устроивалась, Жуквича не было дома, и Елена велела ему сказать, как он придет, что она переехала в гостиницу совсем на житье. Ему, вероятно, передали это, потому что, возвратясь, наконец, и войдя к ней в нумер, он прямо спросил ее:
– Что ж это такое?.. Опять новое переселение?
– Опять! – отвечала Елена.
– Вы ж были там чем-нибудь недовольны? – проговорил Жуквич.
– Напротив, мной оказались очень недовольны, так что выгнали даже меня из службы!
Тень неудовольствия явно отразилась в глазах Жуквича.
– Но какая ж была причина такому неудовольствию на вас? – спросил он.
– Причина вся в том, что вы бывали у меня, и что я вот иногда уезжала с вами кататься по Москве…
– Да нет же!.. Не может быть!.. Какая ж это причина! – говорил Жуквич, как бы все больше и больше удивляясь.
– Разумеется, это один только предлог, – подхватила Елена: – а настоящая причина вся в том, что этот дуралей Николя вздумал на днях объясниться со мной в любви… Я, конечно, объявила ему, что не могу отвечать на его чувство. Он разгневался на это и, вероятно, упросил родителя, чтобы тот меня выгнал из службы… Скажите, мыслимо ли в какой-нибудь другой стране такое публичное нахальство?
– О, да боже ж ты мой! Здесь много бывает, чего нигде не бывает! – полувоскликнул грустным голосом Жуквич.
– Прекрасно-с; но всякому терпению есть предел, – сказала Елена. – Должно же оно когда-нибудь лопнуть.
– Ну, и лопай ж!.. Что из этого?.. – говорил с досадой Жуквич.
– Как что из этого! – произнесла, вспыхнув даже вся в лице от гнева, Елена. – Я никак, Жуквич, не ожидала слышать от вас подобные вещи; для меня, по крайней мере, это вовсе не что из этого!.. Чувство мести и ненависти к моей родине до того во мне возросло, что я хочу, во что бы то ни стало, превратить его в дело, – понимаете вы это?
Жуквич на это молчал.
– Поедемте за границу и устроимте там какой хотите заговор; но только я мести и мести жажду!..
– Какой же заговор и с кем? – возразил ей Жуквич.
– А с теми, что неужели вся ваша партия и вся страна ваша намерены спокойно сносить ваше порабощение?
– Пока!.. – отвечал Жуквич, пожимая плечами.
– Но долго ли это пока будет продолжаться?
– Пока ж положение обстоятельств не сложится для нас более благоприятно.
– А теперь так-таки ничего и быть не может?
– Сколько ж мне известно, – ничего! – отвечал, опять пожимая плечами, Жуквич.
– И вы, значит, будете тут жить под присмотром?
– Буду ж жить под присмотром.
– Ну, я больше на вас надеялась, Жуквич! – проговорила Елена.
– Панна Жиглинская! – начал он кротким и убеждающим голосом. – В политической деятельности – вы ж не знаете еще ее – прежде ж всего нужно терпеть и выжидать.
– Но чего ждать – я желала бы знать, потому что вы никогда ничего определительного не говорили мне об этом.
– Вы знайте ж одно, – продолжал Жуквич тем же убеждающим голосом, – что дух Польши не ослаб, что примирения между нами ж и русскими быть не может, а прочее ж все зависит от политического горизонта Европы: покоен он или бурен.
– Покоен он или бурен… Вы все, кажется, прозеваете и пропустите! – произнесла Елена с досадою.
Переезжая в гостиницу, она почти уверена была, что уговорит Жуквича уехать с ней за границу; но теперь она поняла, что он и не думает этого, – значит, надо будет остаться в Москве. А на какие средства жить? С течением времени Елена надеялась приискать себе уроки; но до тех пор чем существовать?.. Елена, как ей ни тяжело это было, видела необходимость прибегнуть к помощи Жуквича.
– В таком случае, – начала она, краснея в лице, – так как я теперь совершенно без всяких средств, то буду просить у вас из тех денег, которые мы собрали во вторую лотерею, дать мне рублей сто, которые я очень скоро возвращу.
– Но те ж деньги в Париже! – возразил ей Жуквич.
– В таком случае не можете ли вы пока дать мне из своих денег, а потом и получите их из банка?
– Хорошо-с! – отвечал Жуквич, и Елена очень хорошо почувствовала, что тон голоса его был при этом не совсем довольный.
– Ну, вы, кажется, устали, да и я тоже устала, – хочу отдохнуть, – проговорила она, протягивая Жуквичу руку.
– Добрый день! – сказал он ей на это и ушел.
Вскоре за тем пришел от него человек и подал Елене пакет, в котором, без всякой записочки, вложена была сторублевая ассигнация.
Елена велела человеку поблагодарить Жуквича, и когда тот ушел, она, бросив деньги с какой-то неудержимой досадой в стол, села сама на диван. Жуквич на этот раз показался ей вовсе не таким человеком, каким она его воображала; а между тем Елена вынуждена была одолжаться им и занимать у него деньги. Эта мысль так заставила ее страдать, как Елена никогда еще во всю жизнь свою не страдала: досада, унижение, которое она обречена была переносить, как фурии, терзали ее; ко всему этому еще Коля раскапризничался и никак не хотел укладываться спать в своем темном уголке, говоря, что ему там холодно и темно. Елена при этом только держала себя за голову: она думала, что с ума сойдет в эти минуты!
* * *
Прошло после того с неделю. Однажды вечером Елена, услыхав звонок в ее нумер, думала, что это пришел Жуквич, который бывал у нее каждодневно. Она сама пошла отворить дверь и вдруг, к великому своему удивлению, увидела перед собой Миклакова, в щеголеватом заграничном пиджаке и совершенно поседевшего.
– Что вы, с неба, что ли, свалились? – воскликнула она, очень, впрочем, обрадованная появлением такого гостя.
– Зачем с неба, – на земле еще пока обретаемся! – говорил Миклаков. – Но погодите, однако, постойте: дайте посмотреть на вас: вы, кажется, еще красивее стали!
– Подите вы с красотой моей! – произнесла Елена с досадой. – Садитесь лучше и рассказывайте.
– Но прежде я желал бы знать: как вы очутились в этой клетке? Что князя вы кинули, это я слышал еще в Европе, а потому, приехав сюда, послал только спросить к нему в дом, где вы живете… Мне сказали – в таком-то казенном доме… Я в оный; но мне говорят, что вы оттуда переехали в сию гостиницу, где и нахожу вас, наконец. Вы, говорят, там служили и, по обыкновению вашему, вероятно, рассорились с вашим начальством?
– Да, так, немножко, но главное – надоело! – отвечала Елена, не желая на первых порах быть вполне откровенною с Миклаковым.
– Но скажите на милость, что такое у вас с князем вышло и зачем вы разошлись? – продолжал тот.
– Разошлись потому, что оба поняли, что мы люди совершенно различных убеждений.
– О, черт возьми, различных убеждений! – воскликнул Миклаков. – У вас ребенок есть, вам бы для него надобно было вместе жить!
– Ребенок, по преимуществу, и заставил меня это сделать, чтобы спасти его от влияния отца.
– От влияния отца спасти!.. – повторил с усмешкою Миклаков. – Как хотите, Елена, а у вас, видно, характер все хуже и хуже становится.
– У вас пуще хорош характер!.. – возразила она ему с своей стороны. – Сами вы зачем разошлись с княгиней?
– Ну, мы с ней разошлись на основании весьма уважительной причины.
– А именно?
– А именно потому, что никогда и не сходились с ней.
Елена сомнительно покачала головой.
– Конечно, это очень благородно с вашей стороны, – сказала она: – говорить таким образом о женщине, с которой все кончено; но кто вам поверит?.. Я сама читала письмо Петицкой к князю, где она описывала, как княгиня любит вас, и как вы ее мучите и терзаете, – а разве станет женщина мучиться и терзаться от совершенно постороннего ей человека?
– Я не то, чтоб был посторонний ей человек: она говорила, что любит меня, но что все-таки желает остаться верна своему долгу.
– Какому это долгу?
– Да такому, как и Татьяна пушкинская, что вот-де: другому отдана и буду ввек ему верна!
– Меня, знаете, эта Татьяна всегда в бешенство приводит! – воскликнула Елена. – Если действительно Пушкин встретил в жизни такую женщину, то я голову мою готова прозакладывать, что ее удерживали от падения ее генеральство и ее положение в свете: ах, боже мой, как бы не потерять всех этих сокровищ!
– Может быть! – согласился Миклаков. – Но мою госпожу другое останавливало… – присовокупил он с усмешкой.
– Другое? – спросила Елена.
– Да!.. Она боялась в этом случае бога, греха и наказания за него в будущей жизни.
Лицо Елены сделалось удивленное и насмешливое.
– После этого она просто-напросто дура! – проговорила она.
– Не очень умна! – согласился Миклаков.
– Но я одного тут не понимаю: каким образом вы могли влюбиться в подобную женщину и влюбиться до такой степени, что целые полтора года ездили за ней по Европе.
– Эта самая непорочность больше всего и влекла меня к ней… Очень мне последнее время надоели разные Марии Магдалины[168]!.. Но кто, однако, вам сказал, что мы с княгиней больше не встречаемся? – спросил в заключение Миклаков.
– Жуквич! Ему кто-то писал об этом из Парижа! – отвечала Елена.
– А! – произнес Миклаков. – Поэтому он еще здесь?
– Здесь! Он тут через два нумера от меня живет! – отвечала Елена не совсем спокойным голосом.
– Вот где!.. – произнес не без ударения Миклаков. – Так вы, значит, к нему под крылышко переехали?
– Не к нему, но потому, что я только эту гостиницу и знала в Москве; а переехать мне надо было поскорее, – проговорила Елена, еще более смутясь. – Скажите, однако, не знаете ли вы, что он за человек?.. Собственно, я до сих пор еще не могу хорошенько понять его.
Миклаков подумал некоторое время.
– Человек, как вы видите, неглупый… плутоватый, кажется… – проговорил он.
– Но я подозреваю, что он предводитель какой-нибудь большой польской партии! – подхватила Елена.
– Нет, не думаю! – возразил Миклаков.
– Непременно так! – продолжала Елена. – Потому что он тут хлопочет, делает сборы на помощь польским эмигрантам.
– Ну, немного еще, видно, собрал… – заметил с усмешкой Миклаков.
– Это из чего вы заключаете? – спросила Елена.
– Из того, что некоторые из эмигрантов в поденщики идут на самые черные работы.
Елена при этом даже изменилась в лице.
– Я знаю, по крайней мере, что несколько времени тому назад он послал им в Париж значительную сумму! – проговорила она.
– Не слыхал-с этого!.. Знаю только, что господа польские эмигранты составляют до сих пор один из главных элементов парижского пролетариата.
– Странно, – произнесла Елена, видимо, желавшая скрыть обеспокоившую ее мысль.
Миклаков между тем встал с тем, чтобы уйти.
Елена тоже встала.
– Когда же мы опять увидимся? – спросила она.
– Нескоро, я думаю, потому что я завтра уезжаю в Малороссию.
– В Малороссию?.. Это зачем?
– По двум причинам… Во-первых, я за границей климатом избаловался, – мне климата хорошего желается, а здесь холодно; кроме того, на днях княгиня возвращается в Москву к своему супругу.
– Возвращается? – повторила Елена, как бы уколотая чем-то.
– Возвращается-с; и так как я вовсе не желаю, чтобы про меня говорили, что я всюду следую по пятам княгини, то и уезжаю отсюда.
– Просто, я думаю, боитесь за себя, что не утерпите и прибежите поглядеть на свое холодное божество, а потом, чего доброго, опять, пожалуй, начнете поклоняться ему! – заметила Елена.
– Нет-с, нет!.. Другой раз таким дураком больше не буду! – воскликнул Миклаков, отрицательно кивая головой и уходя.
Елена между тем, после его посещения, сделалась еще более расстроенною: у ней теперь, со слов Миклакова о продолжающейся бедности польских эмигрантов, явилось против Жуквича еще новое подозрение, о котором ей страшно даже было подумать.
X
В одно утро Елпидифор Мартыныч садился на свою пролетку, чтоб ехать по больным, как вдруг перед ним, точно из-под земли, выросла Марфуша, запыхавшаяся, расстроенная и испуганная.
– Батюшка, Елпидифор Мартыныч, с барыней нашей что-то очень нехорошо-с! – завопила она.
– Что такое?.. – спросил Елпидифор Мартыныч.
– Без чувств все изволит лежать-с! – отвечала Марфуша.
– О, о!.. Отчего же это с ней случилось? – произнес Елпидифор Мартыныч.
– Да вчера к ней-с эта проклятая горничная Елены Николаевны пришла, – продолжала Марфуша. – Она больше у нашей барышни не живет-с! – И начала ей рассказывать, что Елена Николаевна из заведенья переехала в гостиницу, в нумера, к этому барину Жуквичу.
– Переехала?.. Фю!.. – поздравляю! – воскликнул, присвистнув, Елпидифор Мартыныч.
– Переехала-с… Елизавета Петровна очень этим расстроилась: стала плакать, метаться, волоски даже на себе рвала, кушать ничего не кушала, ночь тоже не изволила почивать, а поутру только было встала, чтоб умываться, как опять хлобыснулась на постелю. «Марфуша! – кричит: – доктора мне!». Я постояла около них маненько: смотрю точно харабрец у них в горлышке начинает ходить; окликнула их раза два – три, – не отвечают больше, я и побежала к вам.
Елпидифор Мартыныч выслушал Марфушу с внимательным и нахмуренным лицом и потом, посадив ее вместе с собой на пролетку, поехал к Елизавете Петровне, которую нашел лежащею боком на постели; лицо ее было уткнуто в подушку, одна из ног вывернута в сторону и совершенно обнажена.
– Закрой! – сказал Елпидифор Мартыныч, указывая прежде всего Марфуше на эту ногу.
Та закрыла.
Елпидифор Мартыныч после этого заглянул Елизавете Петровне в лицо, потряс ее потом довольно сильно за плечо, затем взял ее руку и стал щупать пульс.
– Баста!.. Кончено! – проговорил он.
– Что, батюшка, умерла, что ли, она? – спросила трепещущая Марфуша.
– Умерла!.. Поди объяви об этом в полиции! – продолжал Елпидифор Мартыныч, как-то беспокойно озираясь кругом.
Марфуша заревела во весь голос и пошла.
Оставшись один, Елпидифор Мартыныч, по-прежнему озираясь по сторонам, проворно подошел к комоду, схватил дрожащими руками лежавшие на нем ключи, отпер одним из них верхний ящик комода, из которого, он видал, Елизавета Петровна доставала деньги. Выдвинув этот ящик, он отыскал в нем туго набитый бумажник и раскрыл его: в бумажнике оказалось денег тысячи полторы. Тысячу рублей Елпидифор Мартыныч сунул себе в карман, а пятьсот рублей оставил в бумажнике, который снова положил на прежнее место, задвинул ящик и запер его. Тысячу эту Елпидифор Мартыныч решительно считал законно принадлежащею ему – за все те хлопоты, которые он употребил с своей стороны по разного рода делам Елизаветы Петровны.
Когда полиция пришла, Елпидифор Мартыныч сдал ей деньги и вещи и самое покойницу в полное распоряжение, а сам уехал, говоря, что ему тут больше нечего делать. Полиция, с своей стороны, распорядилась точно так же, как и Елпидифор Мартыныч: из денег она показала налицо только полтораста рублей, которые нужны были, по ее расчету, на похороны; остальные, равно как и другие ценные вещи, например, брошки, серьги и даже серебряные ложки, попрятала себе в карманы и тогда уже послала известить мирового судью, который пришел после того на другой только день и самым тщательным образом описал и запечатал разное старое платье и тряпье Елизаветы Петровны. Елену полиция известила о смерти матери через неделю после похорон. Все это время она аки бы разыскивала ее по Москве. Известие это несколько встревожило и взволновало Елену. Внутренний голос совести в ней говорил, что она много и много огорчала мать свою при ее жизни. «Что ж, и мой сын, вероятно, будет огорчать меня впоследствии!» – сказала Елена в утешение себе. Потом, когда ей принесли опись вещам, оставшимся после матери, она просила все эти вещи отдать горничной Марфуше, сознавая в душе, что та гораздо более ее была достойна этого наследства. Полиция и на этот раз, уделив себе еще кое-что, передала Марфуше решительно одно только тряпье. Покуда все это происходило, Елпидифор Мартыныч занят был новым делом: приездом княгини Григоровой и свиданием ее с мужем.
Княгиня написала ему еще из Петербурга, что она такого-то числа приедет в Москву и остановится у Шеврие. Елпидифор Мартыныч в назначенный ею день с раннего утра забрался в эту гостиницу, нанял для княгини прекрасный нумер и ожидал ее. Княгиня действительно приехала и была встречена Елпидифором Мартынычем на крыльце гостиницы. Он под ручку ввел ее на лестницу и указал ей приготовленное помещение. Княгиня не знала, как и благодарить его. С княгиней, разумеется, приехала и Петицкая.
– А вы, кажется, знакомы? – сказала княгиня, показывая Елпидифору Мартынычу на подругу свою.
– Как же-с! – воскликнул он. – Имел честь даже лечить их, когда они с извозчика упали. Изволите помнить это, сударыня? – прибавил он Петицкой.
– Помню! – отвечала та немного сконфуженным тоном.
– Надеюсь, что все это теперь зажило, прошло?.. – продолжал Елпидифор Мартыныч не без намека.
– Разумеется! – отвечала Петицкая, как бы не поняв его.
– А что, муж примет меня? – спросила княгиня Елпидифора Мартыныча.
– Конечно!.. Без сомнения! – отвечал было он на первых порах очень решительно; но потом несколько и пораздумал: князь после того разговора, который мы описали, ни разу больше не упомянул о княгине, и даже когда Елпидифор Мартыныч говорил ему: «Княгиня, вероятно, скоро приедет!» – князь обыкновенно ни одним звуком не отвечал ему, и, кроме того, у него какая-то тоска отражалась при этом в лице.
– Но как нам тут поступить: вы ли к нему прежде поедете и предуведомите его или мне прямо к нему ехать? – продолжала княгиня.
– Нет, я к нему наперед поеду и приготовлю его немного, а то вы вдруг явитесь, это, пожалуй, его очень сильно поразит! – подхватил Елпидифор Мартыныч и, не откладывая времени, поехал к князю, которого застал в довольно спокойном состоянии духа и читающим книгу.
– К вашему сиятельству имею честь явиться с новостью великою – к-ха! – воскликнул Елпидифор Мартыныч, живчиком влетая в кабинет князя.
Князь взглянул на него вопросительно.
– Еду-с я сейчас по Газетному переулку, – продолжал Елпидифор Мартыныч, – и вижу, что к гостинице Шеврие подъезжает карета, выходят две дамы, смотрю – боже мой! Знакомые лица! К-ха! Княгиня и компаньонка ее – Петицкая…
– Княгиня? – спросил князь, как бы вздрогнув при этом имени.
– Она-с!.. – отвечал Елпидифор Мартыныч. – Я бросился к ней, нашел ей нумер и говорю: «Как вам не стыдно не ехать прямо в свой дом!» – «Ах, говорит, не могу, не знаю, угодно ли это будет князю!» Ну, знаете ангельский характер ее и кротость! – «Да поезжайте, говорю, – князь очень рад будет вам».
Говоря таким решительным тоном, Елпидифор Мартыныч очень хорошо заметил, что на лице князя опять отразилась какая-то тоска.
– «Нет, говорит, прежде съездите и спросите, примет ли он меня?» – присовокупил он не столько уже настоятельно. – Вот я и приехал: как вам угодно будет; но, по-моему, просто срам княгине жить в гостинице, вся Москва кричать о том будет.
Князь при этом еще более нахмурился.
– Пусть она едет сюда! – начал он каким-то прерывающимся голосом, – но я человек больной, раздражительный и желаю, чтобы не приставали ко мне!
– Господи боже мой! Княгиня приставать станет, ангел-то этот!.. Разве только ухаживать за вами будет.
– И ухаживанья я ничьего не хочу!.. Мне дороже всего, чтобы меня оставляли одного! – воскликнул князь.
– Ну, и будут вас оставлять, как вы желаете того; я даже предпишу это как медицинское правило. Прикажете поэтому послать к княгине сказать, чтобы она ехала к вам? – заключил Елпидифор Мартыныч.
– Посылайте! – отвечал князь, отворачиваясь несколько в сторону и как бы не желая, чтобы видели его лицо.
Елпидифор Мартыныч отправил за княгиней свой собственный экипаж, приказав ей сказать, чтоб она немедля ехала.
Княгиня приехала вместе с Петицкой. Вся прислуга княжеская очень обрадовалась княгине: усатый швейцар, отворяя ей дверь, не удержался и воскликнул: «Ай, матушки, вот кто приехал!». Почтенный метрдотель, попавшийся княгине на лестнице, как бы замер перед нею в почтительной и умиленной позе. Одна из горничных, увидав через стеклянную дверь княгиню, бросилась к сотоваркам своим и весело начала им рассказывать, что прежняя госпожа их приехала.
– А вы пока пройдите туда, на мою половину, – сказала княгиня Петицкой.
– Знаю-с! – отвечала ей та и прошла в задние комнаты.
Княгиня стала приближаться к кабинету мужа; она заметно была в сильном волнении. Елпидифор Мартыныч, все время прислушивавшийся к малейшему шуму, первый услыхал ее шаги.
– Княгиня приехала!.. – проговорил он каким-то торжественным голосом.
Князь при этом изменился несколько в лице и привстал с своего места.
Княгиня, войдя в кабинет, прямо и быстро подошла к нему. Князь протянул ей руку. Княгиня схватила эту руку и начала ее целовать. Князь, с своей стороны, поцеловал ее в лоб Елпидифор Мартыныч, тоже стоя на ногах, с каким-то блаженством смотрел на эту встречу супругов. Наконец, князь и княгиня сели. Последняя поместилась прямо против мужа и довольно близко около него. Елпидифор Мартыныч занял прежнее свое место.
– Как ваше здоровье теперь? – проговорила княгиня, смотря на князя беспокойными глазами.
– Ничего себе; я, собственно, недолго был болен и теперь совершенно почти здоров, – отвечал он трудным и медленным голосом.
Княгиня продолжала смотреть на князя с беспокойством: ее, по преимуществу, поразил мутный и почти бессмысленный взгляд князя.
– А вы тоже были больны? – спросил он, в свою очередь, почти совсем не глядя на княгиню.
– Да, я в Париже была очень больна, – отвечала она, немного покраснев.
В ее наружности, впрочем, только произошла та перемена, что ее белое и нежное лицо начало немного дрябнуть и походить на печеное яблоко.
– Но потом где вы жили? – сказал князь как бы более механически.
– Потом я жила в Италии, в Германии, – отвечала княгиня.
– С кем-нибудь из русских или одни? – спросил князь; ему, кажется, хотелось узнать, жил ли там Миклаков.
– Совершенно одна!.. С одной только Петицкой, – подхватила княгиня, как бы угадав его тайную мысль. – В Риме, впрочем, в одно время со мной жила Анна Юрьевна, где она и умерла.
– Умерла Анна Юрьевна? – воскликнул Елпидифор Мартыныч.
– Умерла, и какою-то страшной смертью, так что кричала на весь маленький переулок, в котором жила, а итальянцы, вообще очень суеверные, перестали даже ходить мимо ее дома.
– Какая же болезнь у нее была? – спросил князь опять как-то механически: его даже известие о смерти Анны Юрьевны нисколько, по-видимому, не тронуло.
– Я не знаю, какая, – отвечала княгиня.
– К-ха! – откашлянулся глубокомысленно Елпидифор Мартыныч. – По образу ее жизни ей и нельзя было ожидать от бога покойной кончины, – проговорил он. – Желательно было бы знать, к кому теперь перешло все ее громадное состояние в наследство?
– Барону, кажется! – отвечала княгиня.
– Барону, однако! – воскликнул Елпидифор Мартыныч. – Но ведь это тысяч сто годового дохода?
– Д-да! Впрочем, он и стоит того: последнее время он такую показал ей привязанность, что она мне сама несколько раз говорила, что это решительно ее ангел-успокоитель! Недели две перед смертию ее он не спал ни одной ночи, так что сам до того похудел, что стал походить на мертвеца.
– Ну, из-за этакого наследства отчего и не похудеть!.. – произнес Елпидифор Мартыныч не без усмешки.
– Барон, вероятно, скоро сюда приедет!.. – продолжала княгиня.
– Вот как!.. Что ж, это и хорошо! – произнес Елпидифор Мартыныч, а сам с собой в это время рассуждал: «Князь холодно встретился с супругой своей, и причиной тому, конечно, эта девчонка негодная – Елена, которую князь, видно, до сих пор еще не выкинул из головы своей», а потому Елпидифор Мартыныч решился тут же объяснить его сиятельству, что она совсем убежала к Жуквичу, о чем Елпидифор Мартыныч не говорил еще князю, не желая его расстраивать этим.
– И здесь такожде новостей немало! – продолжал он, как бы исключительно обращаясь к княгине. – Елизавета Петровна Жиглинская, если только вы помните, тоже померла.
– Померла? – спросила княгиня.
– Когда она померла? – воскликнул при этом князь.
– Недели с три, надо быть, – к-ха! – отвечал Елпидифор Мартыныч, потупляясь несколько.
– Отчего вы не сказали мне об этом? – спросил князь почти строго.
– Да так как-то все забывал – к-ха! – отвечал Елпидифор Мартыныч как бы и искренним голосом.
– И долго она была больна? – проговорила княгиня, сначала не подозревавшая, к чему ведет всю эту речь Елпидифор Мартыныч.
– С ней два удара собственно было! – отвечал тот с какой-то особенною пунктуальностью и резкостью. – Один вот первый вскоре после поступления дочери в кастелянши! – На слове этом Елпидифор Мартыныч приостановился немного. – Сами согласитесь, – продолжал он, грустно усмехаясь, – какой матери это может быть приятно!.. А потом-с другой раз повторился, как дочь и оттуда переехала.
– А куда она оттуда переехала? – спросила княгиня не совсем уже смелым голосом.
Она еще за границей слышала, что Елена главным образом потому оставила князя, что он стал ее ревновать к Жуквичу; но чтоб эта ревность была справедлива, она не слыхала подтверждения тому.
– В гостиницу тут одну; в нумера, где вот Жуквич поляк живет!.. – проговорил Елпидифор Мартыныч, как бы больше обращаясь к князю.
Княгиня при этом ответе окончательно смутилась и не стала больше расспрашивать. Князь тоже молчал и начал щипать себе бороду; известие это, впрочем, мало, по-видимому, его поразило, – он как будто бы ожидал заранее этого, и только его блуждающий взгляд несколько сосредоточился, и он заметно стал что-то серьезное и важное обдумывать.
Княгиню между тем все беспокоила мысль, как сказать князю о Петицкой, и, видя, что разговор ни о чем другом не начинается, она решилась наконец:
– Я Петицкую с собой привезла; вы позволите ей жить у меня? – проговорила она.
– Пожалуй, мне все равно! – отвечал князь с явною досадой, что его отвлекают от собственных мыслей.
Елпидифор Мартыныч это заметил и обратился к княгине.
– Князь утомился; ему вредно долго беседовать – к-ха! – сказал он.
– Хорошо, я уйду! – сказала кротко княгиня и сама встала при этом.
– До свиданья! – сказал ей князь, стараясь как можно поприветливей ей улыбнуться.
Княгиня ушла, но Елпидифор Мартыныч не уходил: он ожидал, что не будет ли еще каких-нибудь приказаний от князя, и тот действительно, когда они остались вдвоем, обратился к нему.
– Вы там сказали, – начал он прерывающимся голосом, – что госпожа эта… переехала к Жуквичу; но она вместе с собой таскает и ребенка, которому я отец тоже и не могу допустить того! Вся жизнь ее, вероятно, будет исполнена приключениями, и это никак не может послужить в пользу воспитания ребенка!
– Конечно-с! У такой матери какое воспитание?.. – подхватил Елпидифор Мартыныч.
– А потому заезжайте к ней, хоть завтра, что ли, и скажите ей, что я не сужу нисколько ее поступков; но за всю мою любовь к ней я прошу у ней одной милости – отдать мне ребенка нашего. Я даю ей клятву, что сделаю его счастливым: я ему дам самое серьезное, самое тщательное воспитание. Княгиня, как вы знаете, очень добра и вполне заменит ему мать; наконец, мы сделаем его наследником всего нашего состояния!
– Отдаст!.. Вероятно, отдаст! – подхватил Елпидифор Мартыныч. – И куда он ей?.. У нее новые, я думаю, скоро дети будут.
– Пожалуйста, заезжайте! – повторил ему еще раз князь.
– Заеду-с! – отвечал Елпидифор Мартыныч.
Князь в тот день не выходил больше из своего кабинета и совсем не видался с княгиней, которая вместе с Петицкой разбирала и расстанавливала разные вещи на своей половине.
* * *
Перед тем как Елпидифору Мартынычу приехать к Елене, у ней произошла весьма запальчивая сцена с Жуквичем. Елена недели две, по крайней мере, удерживалась и не высказывала ему своих подозрений, которые явились у ней после свидания с Миклаковым, и, все это время наблюдая за ним, она очень хорошо видела, что Жуквич хоть и бывал у нее довольно часто, но всегда как-то оставался недолгое время, и когда Елена, несмотря на непродолжительность его посещений, заговаривала с ним о польских эмигрантах, о польских делах, разных социальных теориях, он или говорил ей в ответ какие-то фразы, или отмалчивался, а иногда даже начинал как бы и подшучивать над ней. Елена не из таких была характеров, чтобы равнодушно переносить подобные вещи: у ней час от часу все более и более накоплялось гнева против Жуквича, так что в одно утро она не выдержала и нарочно послала за ним, чтобы он пришел к ней переговорить об одном деле. Жуквич явился и, по-видимому, был несколько смущен.
– Мы последнее время решительно играем с вами в какие-то жмурки, где я хожу с завязанными глазами, а вы от меня увертываетесь!.. – начала она прямо. – Но так как я вообще полусвета не люблю, а потому и хочу разъяснить себе некоторые обстоятельства: прежде всего, я получила известие, что польские эмигранты в Париже до сих пор страшно нуждаются.
Жуквич при этом вспыхнул весь в лице.
– Кто ж вам сообщил это известие? – как бы больше пробормотал он.
– Один очень и очень достоверный человек! – подхватила Елена. – Но вы мне этого не говорили; значит, вы или сами не знаете этого, чего вам, как агенту их, не подобает не знать, или знаете, но мне почему-то не доверяете.
– О, панна Жиглинская, почему ж я стану вам не доверять! – воскликнул удивленным тоном Жуквич.
– Этого я не знаю!.. Вам самим лучше это знать! – подхватила Елена. – Во всяком случае, – продолжала она настойчиво, – я желаю вот чего: напишите вы господам эмигрантам, что ежели они действительно нуждаются, так пусть напечатают в какой-нибудь честной, серьезной газете парижской о своих нуждах и назначат адрес, кому бы мы могли выдать новую помощь; а вместе с тем они пояснили бы нам, что уже получили помощь и в каком именно размере, не упоминая, разумеется, при этом наших имен.
– Это невозможно, панна Жиглинская! – снова воскликнул Жуквич, как бы приведенный почти в ужас последними словами Елены.
– Почему невозможно? – спросила она его насмешливо и в то же время пристально смотря на него.
– Да потому ж, панна Жиглинская, как я могу это написать?.. Мои ж письма, как сосланного, все читаются на почте; меня за это ж письмо сейчас сошлют в Сибирь на каторгу.
– Но вы посылали, однако, деньги туда… – Да боже ж ты мой! Я посылал через банкиров от неизвестного лица.
– В таком случае поедемте мы с вами в Париж, потому что я последними деньгами решительно хочу сама распорядиться и даже думаю остаться совсем в Париже, где сумею найти себе работу: я могу учить музыке, танцам, русскому языку и сидеть даже за конторкой купеческой.
– Но как ж я поеду с вами, панна Жиглинская?.. Меня арестуют на первой станции, потому что я беглый буду.
– Подите вы, Жуквич!.. Вы не сумеете убежать и попадетесь кому-нибудь, когда вы с виселицы успели уйти!.. – воскликнула Елена. – Не хотите только!..
– Да ж, панна Жиглинская, и не хочу, – это так! – воскликнул Жуквич, в свою очередь, явно оскорбленным тоном и весь краснея в лице. – Потому что ж вы, – я не знаю чем я подал повод тому… – вы едете в Париж поверять меня!.. Я ж не подлец, панна Жиглинская!.. Я миллионами ж польских денег располагал, и мне доверяли; а вы в грошах ваших подозреваете меня!.. Да бог ж о вами и с деньгами вашими, я сейчас выпишу их из банка и возвращу вам их!.. Да съест их дьявол!.. Поляки никогда ж не нуждались в такой обидной помощи!..
Монолог этот еще более рассердил Елену.
– Кто честен-с, тот не боится, чтоб его поверяли! – произнесла она каким-то почти грозным голосом.
– Я ж честен и не боюсь ваших поверок! – кричал ей на это Жуквич.
– Нет, вы боитесь, – это вы извините!.. Вас выдают ваше лицо и тон вашего голоса.
– Да нет ж, не боюсь, и через неделю ж вы получите все ваши деньги назад! – продолжал кричать Жуквич, берясь за дверь и уходя.
– Сделайте одолжение, очень рада тому! – кричала ему в свою очередь Елена.
Она предположила, как только он возвратит ей деньги, все их отослать к Николя Оглоблину с запиской, что от таких людей, как он и отец его, она не желает принимать помощи ни для какого дела. Елена не успела еще несколько прийти в себя, как ей сказали, что ее спрашивает Елпидифор Мартыныч. Елена, полагая, что он приехал к ней по случаю смерти ее матери, послала было сказать ему, что она никакой надобности и никакого желания не имеет принимать его, но Елпидифора Мартыныча не остановил такой ответ ее. Он явился к ней в комнату. Взглянув, впрочем, в лицо Елены, Елпидифор Мартыныч понял, что ему не совсем удобно будет разговаривать с ней, а потому и постарался принять как можно более льстивый тон.
– Пословица русская справедлива: старый друг лучше новых двух!.. Нашел же, наконец, я вас, отыскал! – сказал он, придав самое сладкое выражение своему лицу.
– Совершенно напрасно трудились! – отвечала ему насмешливо-презрительным тоном Елена.
Елпидифор Мартыныч хоть бы глазом при этом моргнул.
– Что делать-с! – произнес он спокойным тоном философа. – Не по своей вине вас беспокою, а по приказанию князя, который мне поручил передать вам, что он вас по-прежнему уважает и почитает… И как бы вы там лично сами – к-ха! – ни поступали – к-ха! – он не судья вам; но вы еще молоды, можете выйти замуж, будете переезжать с места на место, а это он находит весьма неудобным для воспитания вашего сына и потому покорнейше просит вас отдать ему малютку вашего!..
– Малютку моего?.. – переспросила Елена.
– «Я, говорит, – продолжал Елпидифор Мартыныч, не отвечая на ее вопрос и как-то особенно торопливо, – в какие-нибудь тридцать лет сделаю его действительным статским советником, камергером, и если хочет Елена Николаевна, так и свиты его императорского величества генерал-майором!» У князя ведь прекрасные связи!.. – «Потом, говорит, я сделаю его наследником всего своего состояния, княгиня, говорит, заменит ему вторую мать».
– А княгиня разве приехала? – остановила его Елена.
– Да-с! Вчерашнего числа возвратилась, – отвечал Елпидифор Мартыныч.
Какая-то злая улыбка появилась при этом на губах Елены.
– Все эти предложения князя, конечно, очень лестны и заманчивы, – отвечала она насмешливым голосом. – Но, по несчастью, я никак не желаю сына моего видеть ни действительным статским советником, ни генерал-майором, а желаю, чтобы он был человек и человек немножко получше отца своего.
– Это я собственно сказал вам от себя; это мои предположения, – подхватил Елпидифор Мартыныч, видя, что он ошибся в своих обольщениях, – а князь его воспитает, как только вы пожелаете.
– Нет, он никак его не воспитает, как я того пожелаю: князь сам очень хорошо знает, как мы на это розно с ним смотрим.
– Но состояние-то-с, состояние-то, поймите вы!.. – старался было убедить Елену Елпидифор Мартыныч. – Вы, еще бог знает, будете ли богаты, а князь, мы знаем, что богат и сделает сына вашего богачом.
– Сын мой, надеюсь, будет настолько неглуп, что и без состояния просуществует на свете, – возразила Елена, – и вы потрудитесь передать князю, что я так же, как и он, по-прежнему его уважаю и почитаю, но сына моего все-таки не отдам ему.
Проговоря это, она подошла к этажерке, взяла с нее шляпку свою и начала ее надевать перед зеркалом.
– Вы, кажется, уезжаете куда-то? – спросил ее робко Елпидифор Мартыныч.
– Да, мне нужно по одному моему делу! – отвечала Елена, начавшая собираться единственно с тою целью, чтобы выпроводить как-нибудь своего гостя.
– К-ха! – конфузливо откашлянулся Елпидифор Мартыныч. – Очень жаль, что я не мог с успехом исполнить моего поручения, – присовокупил он грустно.
– И мне тоже жаль! – проговорила Елена.
Елпидифор Мартыныч, делать нечего, поклонился ей и вышел.
– Вот дура-то девка! – выбранился он, сходя с лестницы, и к князю прямо проехать не решился, а первоначально околесил других своих больных и все обдумывал, как бы ему половчее передать ответ Елены.
Князя он застал в нетерпеливом ожидании.
– Нет-с, она никак не соглашается на то! – начал Елпидифор Мартыныч нежным голосом. – «Я, говорит, мать, и так люблю моего ребенка, что никак не могу расстаться с ним».
– Но она может видаться с ним хоть каждую неделю! – произнес князь.
– И я говорил ей это, но она не соглашается! – сказал Елпидифор Мартыныч.
Князь некоторое время тер себе лоб.
– Послушайте!.. – начал он, видимо что-то придумав. – Я никогда не имел подобных дел… но, говорят, полиция всемогуща… нельзя ли похлопотать, чтобы хоть силой они взяли у нее ребенка и отдали его мне.
Слова эти заставили Елпидифора Мартыныча призадуматься.
– К-ха! – кашлянул он многознаменательно. – Пожалуй, можно будет попробовать; у меня есть кой-какие каналы, по которым можно будет подойти к разным властям.
– Ну, подойдите и обещайте им денег – десять, пятнадцать тысяч! – подхватил князь.
– Ой, господи, для чего так много! – произнес Елпидифор Мартыныч, как бы испугавшись даже такой огромной цифры денег; и после этого обещания по крайней мере с неделю ходил по своим каналам; затем, приехав, наконец, к князю, объявил ему с отчаянным видом: – Нет-с! Ничего тут не поделаешь, и слышать не хотят. «Как, говорят, при нынешней гласности, можно это сделать?.. – Пожалуй, все газеты протрубят: она мать, – кто же может взять у нее ребенка?»
– Но она погубит его, понимают ли они это? – воскликнул с мучительнейшим выражением в лице князь.
– Понимают-с, но гласности боятся! – отвечал Елпидифор Мартыныч.
XI
Елена, не видав Жуквича после описанной сцены около недели, начинала раскаиваться, что так резко высказала ему столь обидную вещь, и полагала, что он нейдет к ней в ожидании присылки денег ему из Парижа, а что, как только банк вышлет ему, он явится к ней и швырнет ей эти деньги… О, тогда Елена намерена была самым искренним образом испросить у него прощения в своем подозрении и умолять его взять деньги назад и распоряжаться ими, как только он желает. Наконец, прошла еще неделя, но Жуквич не шел к Елене, и она ни от кого даже звука о нем не слыхала, так что решилась послать его просить к себе и для этого позвала нумерного лакея.
– Попроси ко мне, пожалуйста, господина Жуквича! – сказала она тому.
Лакей при этом с каким-то недоумением взглянул на нее.
– Господин Жуквич уехал-с, – проговорил он.
– Куда уехал? – спросила Елена, удивленная и пораженная этим известием.
– Да неизвестно-с, по петербургскому ли тракту или по курскому: они сами себе-с изволили нанимать извозчика.
– То есть как?.. Он совсем из Москвы уехал? – переспросила Елена.
– Из Москвы совсем-с! – отвечал лакей.
– Но когда же он уехал? – продолжала Елена.
Лакей назвал ей день. Это был тот именно день, в который она с ним поссорилась.
– Но кто его мог отпустить?.. Он сослан в Москву! – расспрашивала Елена, все еще не совсем доверяя словам лакея.
– Кто? Господин Жуквич?.. Нет-с! – отвечал тот усмехаясь.
– Как нет… когда он сам мне говорил это?.. Позови мне лучше хозяина, – ты ничего тут не знаешь!.. – говорила Елена, берясь за голову и чувствуя, что она начинает терять всякую нить к пониманию.
Лакей пошел и позвал хозяина, который был купец, в скобку подстриженный, в длиннополом сюртуке и с совершенно бесстрастною физиономией.
– Извините, что я вас беспокою, но мне очень нужно знать: что, господин Жуквич, который, говорят, уехал, под присмотром полиции содержался?
– Нет-с, нет! – отвечал хозяин, как бы даже обидевшись на эти слова. – Разве я стал бы держать такого? – прибавил он потом с усмешкой.
– Но тут, собственно, ничего нет дурного… Я только спрашиваю: что сам он приехал в Москву или сослан был?
– Как же сосланный может ко мне в гостиницу попасть? Сосланных полиция прямо препровождает и размещает в дома, на которых дощечки нет, что они свободны от постоя, – создавал хозяин свое собственное законоположение, – а у нас место вольное: кто хочет, волей приедет и волей уедет!..
– У вас он поэтому по паспорту жил?
– По паспорту настоящему… Я сам читал его… Станислав Жуквич, коллежский секретарь даже… барин, как следует быть.
– Но куда же он теперь уехал? – говорила Елена.
– Не сказал, куда именно; отметился только к выбытию из Москвы… Да что, он вам должен, что ли, остался?
– Немножко… пустяк там какой-то, – отвечала Елена.
– Забыл, чай, надо быть… Со мной так честно расчелся, барин хороший!
Для Елены не оставалось никакого сомнения, что она была самым грубым, самым наглым образом обманута!.. «Но как же Миклакову было не стыдно рекомендовать ей подобного человека?» – думала она; хотя, собственно, что он ей рекомендовал? Что Жуквич умный человек и последователь разных новых учений – все это правда, а остальное Елена сама придала ему в своем воображении. Какой-то злобный смех над собой и своим положением овладел при этом Еленою. «Нечего сказать, – проговорила она сама с собой: – судьба меня балует: в любви сошлась с человеком, с которым ничего не имела общего, а в политическом стремлении наскочила на мошенника, – умница я великая, должно быть!» Но как бы затем, чтобы рассеять в Елене эти мучительные мысли, к ней подбежал Коля, веселенький, хорошенький, и начал ласкаться. Елена как бы мгновенно воскресла духом и, вспомнив, что она мать, с величием и твердостью выкинула из души всякое раскаяние, всякое даже воспоминание о том, что было, и дала себе слово трудиться и работать, чтобы вскормить и воспитать ребенка. Для этого она, не откладывая времени, отправилась по конторам, чтобы спросить там, нет ли в виду мест гувернантки, и вошла в первую попавшуюся ей из таковых контор, где увидала кривого и безобразного господина, сидевшего за столом и что-то такое писавшего. Елена обратилась к нему с своим вопросом.
– Три рубля серебром с вас следует получить! – сказал он ей.
– Но я заплачу, когда получу место! – возразила было Елена.
– Нет-с, у нас вперед берется! – отвечал ей спокойно кривой господин.
Елена подала ему три рубля серебром, а затем у ней осталось в портмоне только двадцать рублей. Кривой господин дал ей после этого адрес трех семейств, желающих иметь гувернантку, из которых на одном, прочитав купеческую фамилию, Елена прежде всего решилась идти в это семейство, предполагая, что с простыми людьми ей легче будет ужиться. Семейство это жило в Таганке. Елена отправилась туда пешком. Подойдя к довольно большому каменному дому, она решительно не знала, как ей в него войти, так как он со всех сторон показался ей запертым, и только со двора раздавался страшный лай цепной, должно быть, собаки. Елена хотела было уже уйти от этого дома, как вдруг растворилась одна из тяжелых калиток его, и появился дворник. Оказалось, что калитка была не заперта, только у Елены недоставало силы отворить ее.
Елена сказала ему, зачем она пришла, и спросила, дома ли господа купцы.
– Хозяйка-то дома, а самого-то нет, – в городе, – отвечал дворник.
Елена попросила его провести ее к хозяйке.
Дворник повел ее сначала двором, где действительно привязанная на цепи собака не то что лаяла на них, а от злости уж храпела и шипела; затем дворник повел Елену задним ходом, через какой-то чулан, через какую-то кухню и прачечную даже и, наконец, ввел ее в высокую и небольшую комнату, но с огромною божницей в одном углу и с каким-то глупо и ярко расписанным потолком. Запах жареной рыбы и луку царил всюду, и все это вместе показалось Елене, по меньшей мере, очень неприятным. Вскоре к ней вышла лет сорока женщина, набеленная, с черными зубами и с головой, повязанной платочком.
– Покорнейше прошу садиться! – проговорила она, показывая на один конец худого кожаного дивана и сама садясь на другой конец его.
Елена села. Ее разделял с хозяйкой один навощенный столик.
– Вы гувернантка-с? – спросила ее та.
– Гувернантка! – отвечала Елена.
– А рекомендацию вы имеете? – продолжала хозяйка.
– Какую рекомендацию? – спросила ее в свою очередь Елена.
– А где-с вы прежде жили, оттедова: вон у нас и приказчиков николи не берут, ежели старый хозяин за него не ручается.
– Но у меня нет никакого старого хозяина, потому что я в первый раз еще желаю жить в гувернантках, – возразила ей Елена.
– Вот видите-с, вы, значит, к этому делу-то еще и непривычны, а мы так желаем, чтобы дочь наша танцевать выучилась и чтобы писала тоже поисправней, а то отец вон все ругается: «Что, говорит, ты пишешь как скверно!».
– Всему этому я могу учить; вот диплом мой на звание гувернантки! – проговорила Елена и подала было купчихе свой университетский аттестат.
– В этих бумагах мы что понимаем? – Люди темные; а нам бы рекомендацию лучше чью-нибудь! – повторяла все свое хозяйка.
– Рекомендации я ничьей не могу вам представить, потому что нигде еще не жила, – проговорила Елена.
– А нам без этого как решиться-то?.. И характер тоже – кто знает, какой он у вас?.. Вон другие гувернантки линейкой, говорят, колотят учениц своих по чем ни попало, – пожалуй, и уродом навек сделать недолго, а у меня дочь единственная, в кои веки богом данная!
– Я вашей дочери колотить не стану, за это я вам ручаюсь, потому что у меня у самой есть сын – ребенок, которого я попрошу взять с собой.
– Вы замужняя поэтому? – спросила купчиха.
– Нет, я не замужняя! – отвечала Елена, желая в этом случае говорить правду.
– Вдова, значит?
– Нет, не вдова… я девушка.
Купчиха даже поотодвинулась от нее при этом.
– Вот это тоже для нас нескладно будет! – произнесла она, то потупляя, то поднимая свои глаза и вместе осклабляясь во весь свой широкий рот.
– Что делать!.. Это было увлечение с моей стороны, и я не скрываю того.
– Да-с!.. Конечно!.. – отвечала купчиха, не переставая двигать глазами. – Но нам-то уж очень неподходящее дело это будет! – повторила она еще раз.
Елена, видя, что никакого тут успеха не будет, встала и, раскланявшись, просила проводить ее; тот же дворник, все стоявший в соседней комнате и внимательно слушавший, что хозяйка его говорила с гувернанткой, повел Елену прежним путем; цепная собака опять похрапела на них.
Елена, очутившись на улице, первое, что начала с жадностью вдыхать в себя свежий воздух; она почти задыхалась, сидя с купчихой в ее каморке, от запаху жареной рыбы с луком, и хоть довольно уже устала, но все-таки решилась зайти по следующему адресу к полковнику Клюкову, живущему на Разгуляеве, в своем доме. Елена, желая поберечь деньги, пошла и туда пешком. Дом полковника Клюкова представлял совершенную противоположность купеческому дому: железные ворота его были распахнуты; по бокам крыльца были помещены два аристократические льва; конюшни обозначены лошадиной головой из алебастра; на одном из окон, выходящем на двор, был прибит огромнейший барометр: словом, видно было, что тут жил человек не замкнутый, с следами некоторого образования. Елена прямо подошла ко входу, на резных дверях которого была прибита медная дощечка с надписью на ней по-французски и по-русски: «Полковник Клюков». Елена позвонила в колокольчик этой двери; ей отворил лакей во фраке и даже в белом галстуке.
– Полковнику нужна гувернантка… – начала Елена.
– Пожалуйте! – подхватил сейчас же сметливый лакей и повел Елену через залу, где ей невольно бросились в глаза очень большие и очень хорошей работы гравюры, но только все какого-то строгого и поучающего характера: блудный сын, являющийся к отцу; Авраам, приносящий сына в жертву богу; Муций Сцевола[169], сжигающий свою руку.
Лакей довел Елену до гостиной, которая тоже имела какой-то чересчур определенный характер; цветы, например, расставлены были в ней совершенно по ранжиру, пепельницы на столе – тоже по ранжиру, кресла – тоже по ранжиру.
– Полковник сейчас выйдет! – сказал лакей Елене и ушел.
Она села на одно из кресел.
Минут через пятнадцать раздались в следующих комнатах правильные шаги, и вслед за тем показался и сам полковник с височками, с небольшим хохолком, с нафабренными усами, в стоячем галстуке и сюртуке, с георгиевским крестом в петлице. По всему туалету его заметно было, что он только что прифрантился.
– Bonjour, mademoiselle, prenez place, – je vous prie![170] – сказал он, пододвигая Елене, вставшей при его входе, кресло и сам садясь против нее. – Место вашего воспитания? – спросил он ее затем с довольно важным видом.
Елена в ответ на это подала ему свой аттестат и диплом. Полковник бегло взглянул на оба из них.
– Дело в том-с, – начал он, – что в конторе я, разумеется, подписывался только как полковник Клюков и многого, конечно, не договорил, так как положительно считаю все эти наши конторы скорее логовищем разных плутней, чем какими-нибудь полезными учреждениями, но с вами я буду говорить откровенно, как отец, истинно желающий дать дочерям своим серьезное воспитание.
– Сделайте одолжение! – сказала ему на это Елена.
– Прежде всего-с, – продолжал полковник, – я должен вам сказать, что я вдовец… Дочерей у меня две… Я очень хорошо понимаю, что никакая гувернантка не может им заменить матери, но тем не менее желаю, чтобы они твердо были укреплены в правилах веры, послушания и нравственности!.. Дочерям-с моим предстоит со временем светская, рассеянная жизнь; а свет, вы знаете, полон соблазна для юных и неопытных умов, – вот почему я хотел бы, чтоб дочери мои закалены были и, так сказать, вооружены против всего этого…
– Но каким же способом вы думаете достигнуть этого? – спросила Елена.
Полковник начинал ей казаться дураком и пошляком.
– Тем способом-с, – отвечал он ей, – чтобы девочки эти научены были предпочитать науку серьезную – науке ветреной, пустой!.. Чтобы даже в музыке они любили бетховенскую фугу[171], а не нынешние какие-нибудь жалкие польки и вальсы!.. Я сам член здешнего музыкального общества, поклонник серьезной музыки, и мое желание, чтоб и дочери мои имели такой же вкус… Но главное, на что должно быть направлено внимание их воспитательницы, это то, чтобы внушить им, как тщетна и скоропреходяща земная жизнь человека, и чтобы таким образом обратить сердца их к жизни будущей…
Елена начинала приходить почти в бешенство, слушая полковника, и готова была чем угодно поклясться, что он желает дать такое воспитание дочерям с единственною целью запрятать их потом в монастырь, чтобы только не давать им приданого. Принять у него место она находила совершенно невозможным для себя, тем более, что сказать ему, например, о своем незаконнорожденном ребенке было бы просто глупостью с ее стороны.
– Нет, я не могу принять на себя таких больших обязанностей! – сказала она ему прямо.
– Но почему, отчего? – спросил ее полковник как бы совсем другим тоном: дело в том, что чем более он вглядывался в Елену, тем она более и более поражала его красотою своею.
– Оттого, что я сама не знаю тех убеждений, которые вы желаете, чтобы я внушала дочерям вашим.
– Позвольте в этом случае вам не поверить! – воскликнул полковник. – Ваш аттестат, по крайней мере, с такой прекрасной отметкой о вашей нравственности, говорит совершенно противное; но если бы даже это и было так, то я, желая немножко строгой морали для моих дочерей, вовсе не хочу стеснять тем вашей собственной жизни!.. Кончив ваши уроки, вы будете совершенно свободны во всех ваших поступках: вы можете выезжать в театры, в маскарады; я сам даже, если вы позволите, готов сопутствовать вам!.. Большая разница – ихний возраст и наш с вами!..
Из последних слов полковника Елена очень ясно заключила, что он все бы ей позволил, с тем только, чтоб и она ему позволила ухаживать за собой, и этим он показался ей еще противнее.
– Я никогда не привыкла отделять моих слов от дела! – отвечала она, уже вставая.
Выражение лица полковника при этом мгновенно изменилось и из какого-то масленого сделалось довольно строгим.
– О, конечно, это качество превосходное! – произнес он и не пошел даже Елену проводить, а кивнул только ей головой и остался в гостиной.
Елена, выйдя от полковника со двора, чувствовала, что у ней колени подгибаются от усталости; но третий адрес, данный ей из конторы, был в таком близком соседстве от дома полковника, что Елена решилась и туда зайти: оказалось, что это был маленький частный пансион, нуждающийся в учительнице музыки. Содержательница его, сморщенная старушонка в грязном чепце и грязно нюхающая табак, приняла Елену довольно сурово и объявила ей, что она ей больше десяти рублей серебром в месяц не может положить.
– Но часто ли я должна ходить давать уроки? – спросила Елена.
– Каждый день-с, каждый день, как и прочие наставницы! – отвечала старушонка.
– Но я живу очень далеко, а потому не позволите ли вы мне через день приходить?.. Все равно, я двойное число часов буду заниматься.
Старушонка на это сердито замотала головой.
– Нет-с!.. Нет! – начала она каким-то злобно-насмешливым голосом. – Мне устава моего заведения не менять для вас, не менять-с!
– Хорошо, я буду, в таком случае, каждый день ходить! – сказала Елена, желавшая лучше что-нибудь зарабатывать, чем ничего.
Очутившись снова на улице, Елена не в состояния была более идти пешком, а взяла извозчика, который вез ее до дому никак не меньше часа: оказалось, что она живет от пансиона, по крайней мере, верстах в пяти. Приехав домой, Елена почти упала от изнеможения на свою постель, и в ее воображении невольно начала проходить вся ее жизнь и все люди, с которыми ей удавалось сталкиваться: и этот что-то желающий представить из себя князь, и все отвергающий Миклаков, и эти дураки Оглоблины, и, наконец, этот колоссальный негодяй Жуквич, и новые еще сюжеты: милый скотина-полковник и злючка – содержательница пансиона. О, как они все казались ей ничтожны и противны, так что она не знала даже, кому из них отдать хоть маленькое предпочтение; и если Миклаков все-таки являлся ей лучше других, то потому только, что был умнее всех прочих. В этой, какой-то полусознательной переборке всех своих знакомых Елена провела почти всю ночь, и на другой день поутру она отправилась в пансион на урок; там ей пришлось учить в довольно холодной зале испитых, мозглявых и страшно, должно быть, бестолковых девочек, которые в продолжение целого часа хлопали при ней своими костлявыми ручонками по расстроенным фортепьянам. Елена, по самой природе своей, была не большая музыкантша и даже не особенно любила музыку, но в настоящий урок она просто показалась ей пыткой; как бы то ни было, однако, Елена пересилила себя, просидела свой урок больше даже, чем следует, пришла с него домой пешком и на другой день поутру отправилась пешком в пансион, терпеливо высидела там и снова возвратилась домой пешком. В такого рода занятиях прошла вся неделя. Единственным развлечением для Елены было проводить время с своим Колей: каждый вечер она обыкновенно усаживалась с ним на диване перед маленьким столиком и раскрывала какую-нибудь книжку. Главным образом Коля доставлял ей величайшее наслаждение тем, что уже знал букву о. «Ну, Коля, покажи, где о!» – говорила она ему, и ребенок без ошибки показывал. Из этого Елена заключила, что со временем он будет очень умен.
При всей незавидности такого положения, Елена далеко не оставляла своих политических и социальных мечтаний и твердо была уверена, что она переживает переходное только время и что рано или поздно, но выйдет на приличное ей поприще. Впереди угрожающей бедности Елена тоже не очень опасалась и ободряла себя в этом случае тем, что она живет не в совершенно же диком государстве, живет, наконец, в столице, в центре образования, а между тем она многое знает и на разных поприщах может трудиться. Одно, что смущало Елену, – это возможность болезни, которая действительно невдолге и посетила ее. После двухнедельной ходьбы в пансион за такую даль Елена почти с ужасом увидала, что ее крепкие ботинки протерлись на некоторых местах. Она зашла было купить себе новые, но – увы! – за них просили пять рублей, а у Елены всего только пять рублей оставалось в кошельке, и потому она эту покупку отложила в сторону и решилась походить еще в старых ботинках. На другой день, как нарочно, пошел сырой, холодный дождь; Елена все-таки пошла в пансион в своих дырявых ботинках. Пока она шла, то ничего не чувствовала, но когда уселась в холодной зале давать уроки, то заметила, что чем долее она там оставалась, тем более ноги ее холодели, а голова горела. Елена надеялась обратною ходьбой согреть себя, но, выйдя, увидела, что решительно не может идти, потому что в худых местах ботинком до того намяла себе кожу, что ступить ни одной ногой не могла, и принуждена была взять извозчика, едучи на котором, еще больше прозябла; когда, наконец, она вошла к себе в комнату, то у нее зуб с зубом не сходился. Елена легла в постель, напилась теплого чая – ничего не помогало: озноб продолжался, и к вечеру сделался жар. Елена вообразила, что у нее горячка и что она непременно умрет. Собственно сама для себя Елена не желала больше жить; но, вообразив, что без нее Коля, пожалуй, умрет с голоду, она решилась употребить все, чтобы подняться на ноги, и для этого послала к частному врачу, чтоб он приехал к ней; частный врач, хоть и был дома, сказался, что его нет. Елена послала пожаловаться на него частному приставу, который очень наивно велел ей сказать, что частные доктора ни к кому из бедных не ходят, так как те им не платят. Елена при этом всплеснула только руками: «Ну, можно ли жить и существовать в подобном государстве?» – воскликнула она и затем впала почти в совершенное беспамятство. На другой день, впрочем, к ней пришел один вольнопрактикующий молодой врач, живший в одних нумерах с нею.
Врач объявил Елене, что у нее сильная простудная лихорадка. «Но не умру ли я, не опасна ли моя болезнь?» – спросила она его. – «Нет-с, не опасна нисколько!» – отвечал ей тот и, прописав лекарство, ушел. Елена поуспокоилась немного и решилась как можно старательнее лечиться, но для этого у нее не было денег. Елена послала продать свое черное шелковое платье, единственную ценную вещь, которою она еще владела: за это платье ей дали 25 рублей, а болезнь между тем длилась. Прошло таким образом недели с две; у Елены вышли все деньги. Она послала было к содержательнице пансиона письмо, в котором просила ту прислать ей жалованье за прослуженные полмесяца, обещаясь сейчас, как только выздоровеет, явиться снова к своим занятиям; на это письмо содержательница пансиона уведомила ее, что на место Елены уже есть другая учительница, гораздо лучше ее знающая музыку, и что жалованье она тоже не может послать ей, потому что Елена недослужила месяца. Что оставалось после этого делать Елене? Ей не на шутку представилась мысль, что она в самом деле вместе с ребенком может умереть с голоду, тем более, что хозяин гостиницы несколько раз уже присылал к ней, чтоб она порасплатилась хоть сколько-нибудь за стол и за нумер.
К вечеру, в день получения письма от содержательницы пансиона, Елена начала чувствовать, что в комнате становится чересчур свежо: время это было глубокая осень. Елена спросила няньку, отчего так холодно. Та отвечала ей, что у них не топлена печь и что хозяин совсем ее не велел никогда топить, потому что ему не платят денег. Ночью в комнате сделалось еще холоднее, так что Коля на другой день поутру проснулся весь простуженный, с кашлем и в жару. У Елены не было даже на что послать за каким-нибудь лекарством для него, не было чаю, чтобы напоить его. Мальчик метался и плакал. Этого Елена уже больше не выдержала: думала было она первоначально достать где-нибудь жаровню с угольями, поставить ее в свою комнату и задохнуться вместе с ребенком, – но за что же она и по какому праву прекратит его молодую жизнь? – И Елена с ужасом поспешила выкинуть из головы это страшное решение. Думала потом написать к князю и попросить у него денег для ребенка, – князь, конечно, пришлет ей, – но это прямо значило унизиться перед ним и, что еще хуже того, унизиться перед его супругой, от которой он, вероятно, не скроет этого, и та, по своей пошлой доброте, разумеется, будет еще советовать ему помочь несчастной, – а Елена скорее готова была умереть, чем вынести подобное самоуничижение. «Э, – подумала она, – что будет, то будет! Лучше продать себя, чем просить милостыню!» Приняв какое-то новое решение, Елена подошла к своему столику и вынула из него лист почтовой бумаги. Лицо ее при этом не было ни печально, ни особенно встревожено, а только, как случалось это во всех трудных случаях ее жизни, дышало решительностью и смелостью. Елена села и начала писать довольно твердым почерком:
«Николай Гаврилыч! Вы некогда делали мне предложение и желали на мне жениться. В настоящее время я нуждой доведена до последней степени нищеты; если вы хотите, то можете на мне жениться, но решайтесь сейчас же и сейчас же приезжайте ко мне и не дайте умереть с голоду моему ребенку!» Надписав на конверте письма: «Николаю Гаврилычу Оглоблину», Елена отправила его с нянею, приказав ей непременно дожидаться ответа. На успех этого письма Елена, кажется, не совсем надеялась, потому что лицо ее после решительного и смелого выражения приняло какое-то отчаянное: она заметно прислушивалась к малейшему шуму в коридоре; наконец, раздались довольно сильные шаги, двери к ней в нумер распахнулись, и влетел торжествующий и блистающий радостью Николя.
– Ах, я очень рад!.. Благодарю вас… я ужасно рад!.. – говорил он, целуя руку Елены. – Как же вам не совестно давно мне не прислать, что вы нуждаетесь! – говорил он.
Хлопоча, чтоб Елену выгнали, Николя вовсе не ожидал, что она впадет чрез то в бедность. И воображал, что Елена превесело будет поживать с Жуквичем.
– А где Жуквич-то? – присовокупил он.
– Он давно уехал, – отвечала Елена.
Николя при этом выпучил глаза.
– Так, стало быть, это неправда, что говорили тогда про вас? – сказал Николя.
– Конечно, неправда! – воскликнула Елена.
– Ну, и отлично это!.. Отлично!.. – говорил Николя, потирая с удовольствием руки.
– Но ваш отец не позволит вам жениться на мне! – возразила Елена.
– А пожалуй, не позволяй; очень мне нужно! – говорил совершенно смелым тоном Николя.
– Но чем мы в таком случае будем жить с вами? – спросила Елена.
Николя при этом рассмеялся ей в лицо.
– Как чем жить? У меня своих двадцать тысяч годового дохода, а я еще скопил из них, – очень мне нужно отцовское состояние.
– Но правда ли это, monsieur Николя? – произнесла Елена недоверчивым голосом.
На лице Николя при этом отразилось, в свою очередь, недоумение.
– Вот видите что, – объяснила ему Елена, – я вам буду говорить откровенно, что я вас не люблю и иду за вас из-за состояния.
– Понимаю это я… Будто я не понимаю этого! – подхватил Николя.
– Кроме того, – продолжала Елена, – я столько раз в жизни была обманываема людьми, что теперь решительно никому не верю, а потому вы как-нибудь фактически должны доказать мне, что у вас есть состояние.
– Да как же я вам докажу? – спросил Николя, тяжело поворачивая свой толстый язык.
– Как знаете!.. – сказала ему Елена.
Николя после этого несколько времени глядел на нее, выпуча глаза, и думал.
– Разве вот что сделать! – произнес он. – Погодите, я сейчас вам все бумаги мои привезу!.. – проговорил он радостно и затем, схватив шапку, выбежал из нумера; но через какие-нибудь полчаса снова вернулся и действительно привез показать Елене, во-первых, купчую крепость и планы на два огромные каменные дома, собственно ему принадлежащие, и потом духовное завещание от родной бабки на очень большое имение.
– Ну, вот вам, успокойтесь! – говорил он.
Елена пересмотрела эти бумаги очень внимательно.
– Все это отлично!.. – проговорила она. – Но вы теперь мне дайте хоть сколько-нибудь денег, потому что ни ребенок, ни я другой день ничего не ели.
– Ах, боже мой! – воскликнул с чувством Николя. – Возьмите, пожалуйста! – продолжал он, торопливо подавая Елене двести рублей серебром.
Та сейчас послала за чаем и за доктором для ребенка.
– Только вы завтра на мне, Николя, и женитесь! – говорила ему Елена.
– Завтра, непременно завтра! – отвечал Николя.
Елена до такой степени спешила выйти замуж, с одной стороны, кажется, из опасения, чтобы Николя кто-нибудь не отговорил, а с другой, тоже чтобы и самой не передумать.
XII
Услыхав о женитьбе сына на Жиглинской, старик Оглоблин в первые минуты, когда ему сказали о том, совсем потерялся и потом, конечно, позвал к себе на совещание своего Феодосия Иваныча.
– Слышали… что тут… наделалось? – спросил он его своим отрывистым языком.
– Что такое-с? – отозвался Феодосий Иваныч, как бы и не догадываясь, о чем его спрашивают.
– Николай!.. Женился… на этой бывшей нашей кастелянше!.. И я желаю… брак этот расторгнуть!.. – продолжал старик Оглоблин.
Феодосий Иваныч на это уже молчал: он, кажется, все еще продолжал немножко сердиться на своего начальника.
– Как вы думаете, разведут их? – приставал к нему Оглоблин.
– Как мне думать тут?.. Все это от владыки зависит! – воскликнул насмешливо Феодосий Иваныч, в удивлении, что начальник его подобных вещей даже не знает.
– От владыки, вы думаете, зависит это? – переспросил тот его еще раз.
– Все от владыки! – повторил Феодосий Иваныч тем же насмешливо-грустным тоном.
Получив такое разъяснение от подчиненного, старик Оглоблин в то же утро, надев все свои кресты и ленты, отправился к владыке. Тот принял его весьма благосклонно и предложил ему чаю. Оглоблин, путаясь и заикаясь на каждом почти слове, тем не менее, однако, с большим чувством рассказал о постигшем его горе и затем изложил просьбу о разводе сына. Владыка выслушал его весьма внимательно, но ответ дал далеко не благоприятный.
– В законе указаны случаи, вызывающие развод, но в браке вашего сына я не вижу ни одного из них! – произнес он своим бесстрастным голосом.
Старик Оглоблин, разумеется, возражать ему не осмелился и ограничился только тем, что уехал от владыки крайне им недовольный и еще более опечаленный совершившимся в его семье событием.
В следующую затем неделю все именитые друзья и сослуживцы старика Оглоблина спешили навестить его для выражения ему своего участия и соболезнования; на все утешения их он только молча склонял голову и разводил руками. Николя между тем каждый день ездил к отцу, чтобы испросить у него прощение, но старик его не принимал. Тогда Николя решился обратиться к Феодосию Иванычу и для этого забежал к нему нарочно в канцелярию.
– Послушайте: подите, выхлопочите, чтоб отец меня простил! – сказал он ему.
На первых порах Феодосий Иваныч взглянул было как-то нерешительно на Николя.
– А если не выхлопочете, так, право, отдую, ей-богу! – присовокупил тот по обыкновенной своей методе, и Феодосий Иваныч в самом деле, должно быть, побаивался подобных угроз, потому что на другой же день, при докладе бумаг своему начальнику, он сказал ему:
– Что вы Николая-то Гаврилыча не прощаете!.. Один сын всего, и с тем вы в ссоре!
– А зачем он на такой негодяйке женился? – перебил его резко Оглоблин.
– Что ж на негодяйке?.. Вам, что ли, с ней жить, али ему? – возразил, в свою очередь, тоже резко Феодосий Иваныч. – Не молоденькие, – пожалуй, умрете и не повидаетесь с сыном-то! – прибавил он затем каким-то мрачным голосом и этим последним замечанием окончательно поразил своего начальника, так что у того слезы выступили на глазах.
– Ну, велите, чтобы Николай приехал! – произнес он, почти всхлипывая.
Феодосий Иваныч сейчас послал казенного курьера сказать о том Николя; тот немедля приехал к отцу, стал перед ним на колени и начал было у него испрашивать прощения себе и жене. Его, собственно, старик тут же простил и дал ему поцеловать свою руку, но о жене и говорить не позволил. Тогда Николя, опять забежав в канцелярию к Феодосию Иванычу, попросил его повлиять на начальника своего. И Феодосий Иваныч, вероятно, повлиял ему известным способом, потому что, когда на другой день Николя приехал к отцу и, став на колени, начал его снова просить за жену, то старик, хоть и с презрительною несколько миной, но сказал ему: «Ну, пусть себе приезжает!» И Елена приехала. Она это сделала единственно затем, чтобы не поддерживать распри между отцом и сыном. Старик Оглоблин, как только увидал ее, так невольно почувствовал неотразимое влияние красоты ее и, по своей прежней кавалергардской привычке, свернул свою правую руку кренделем и предложил ее Елене. Та вложила в этот крендель свою руку, и таким образом они вошли в гостиную, где старик усадил свою невестку на самое почетное место и был к ней очень внимателен и любезен. Когда, наконец, молодые кончили свой визит и пошли, то Николя на минуту приостановился со своим отцом в гостиной.
– Что, папа, какова?.. Ведь красавица! – проговорил он негромко и показывая глазами на уходящую Елену.
– Почти!.. Почти красавица! – произнес старик с видом знатока. – Желта только как-то она сегодня! – прибавил он.
– Это ничего, пройдет! – подхватил Николя, весь горя радостью.
Елена не то что была желта – она была почти зеленая; только силой воли своей она скрывала те адские мученья, которые переживала внутри себя!
О браке Николя с Еленой у Григоровых узнали очень не скоро; единственный человек, который мог бы принести эту новость, Елпидифор Мартыныч, не был у них недели уже две, потому что прихворнул разлитием желчи. Болезнь эта с ним приключилась от беспрестанно переживаемого страха, чтобы как-нибудь не узнали о припрятанных им себе в карман деньгах Елизаветы Петровны: Елпидифор Мартыныч во всю свою многолетнюю и не лишенную разнообразных случаев жизнь в первый еще раз так прямо и начисто цапнул чужие деньги. Но последнее время общество Григоровых увеличилось появлением барона Мингера, прибывшего, наконец, в Москву и, по слухам, даже получающего в оной какое-то важное служебное назначение. Когда барон приехал в первый раз к князю, тот принял его довольно сухо; но барон, однако, отнесся к нему так симпатично, с таким дружеским участием, с такими добрыми и ласкающими манерами, что князь невольно смягчился, и когда барон уехал, он переговорил по этому поводу с женою.
– Какой нынче барон сделался нежный! – сказал он ей немножко в шутку.
– Ужасно! Его узнать нельзя! – подхватила княгиня с каким-то даже увлечением.
Жизнь с Анной Юрьевной и ухаживанье за нею, больною, действительно, еще больше выдрессировали барона и сделали его до утонченности терпеливым и искательным человеком. К Григоровым он начал ездить каждый вечер, и вечера эти обыкновенно проводились таким образом: часу в седьмом княгиня посылала к мужу спросить, что можно ли к нему прийти сидеть в кабинет. Князь, хоть и с невеселым видом, но отвечал, что можно. Княгиня приходила с работой, а г-жа Петицкая с книгой, в ожидании, что ее заставят читать. Князь при этом был постоянно с мрачным выражением в лице и с какими-то беспокойно переходящими с предмета на предмет глазами. Дамы усаживались поближе к лампе; вскоре за тем приезжал барон, подавали чай, и начинался о том, о сем негромкий разговор, в котором князь редко принимал какое-нибудь участие.
В один из вечеров барон приехал с несколько более обыкновенно оживленным лицом.
– Какую я сейчас новость слышал, обедая в английском клубе!.. – начал он, усевшись на кресло.
– Какую же такую новость? – спросила его княгиня, вовсе не ожидая, чтобы это была какая-нибудь серьезная новость.
Барон медлил некоторое время ответом, как бы опасаясь несколько рассказывать то, что он слышал.
– Да говорят… – начал он, – что этот Николай, кажется, Гаврилыч Оглоблин, сей весьма глупый господин, женился на госпоже Жиглинской.
– Не может быть! – воскликнули обе дамы в один голос.
Князь, с своей стороны, перевел на барона свой беспокойный взгляд.
– Говорят-с! – отвечал барон, пожимая плечами. – В клубе один старичок, весьма почтенной наружности, во всеуслышание и с достоверностью рассказывал, что он сам был на обеде у отца Оглоблина, который тот давал для молодых и при этом он пояснил даже, что сначала отец был очень сердит на сына за этот брак, но что потом простил его…
– Странно что-то это! – произнесла Петицкая, вспыхнувшая даже вся в лице и, видимо, страшно опешенная этим известием.
– То, что Оглоблин женился на госпоже Жиглинской – это не удивительно: мужчины увлекаются в этом случае часто, – продолжал рассуждать барон, – но каким образом госпожа Жиглинская, девушка, как всем это известно, весьма умная, очень образованная, решилась связать свою судьбу навеки с подобным человеком?..
– Но правда ли это, нет ли тут какой-нибудь ошибки, не другая ли какая-нибудь это Жиглинская? – спросила княгиня, делая вместе с тем знак барону, чтобы он прекратил этот разговор: она очень хорошо заметила, что взгляд князя делался все более и более каким-то мутным и устрашенным; чуткое чувство женщины говорило ей, что муж до сих пор еще любил Елену и что ему тяжело было выслушать подобное известие.
Барон, с своей стороны, понял княгиню и поспешил успокоить несколько князя.
– Очень может быть, что это и ошибка!.. Мало ли этаких qui pro quo[172] бывает! – сказал он.
Князь при этом перевел свой взгляд с барона на жену.
Но как бы ради того, чтобы окончательно рассеять всякое сомнение в этом слухе, вдруг нежданно-негаданно прибыл Елпидифор Мартыныч, в первый еще раз выехавший из дому и поставивший непременным долгом для себя прежде всех явиться к Григоровым, как ближайшим друзьям своим.
При виде доктора, князь на него уже вскинул свой взгляд.
– А правда ли, что Жиглинская вышла замуж за Оглоблина? – спросил он его, не дав еще Елпидифору Мартынычу ни с кем путем раскланяться и заметно считая Иллионского за самого всезнающего и достоверного вестника.
Елпидифор Мартыныч смешался даже на первых порах от такого вопроса.
– К-ха! – откашлянулся он прежде всего протяжно. – Правда, если вы это изволите знать! – присовокупил он, пожимая плечами.
– Меня больше всего то удивляет, – отнесся барон почти шепотом к Елпидифору Мартынычу, – что могло госпожу Жиглинскую побудить на подобный брак!
– Бедность, больше ничего, что бедность! – отвечал тот. – А тут еще к этому случилось, что сама и ребенок заболели. Ко мне она почему-то не соблаговолила прислать, и ее уж один молодой врач, мой знакомый, навещал; он сказывал мне, что ей не на что было не то что себе и ребенку лекарства купить, но даже булки к чаю, чтобы поесть чего-нибудь.
Княгиня опять, как и барону, сделала Елпидифору Мартынычу знак, чтоб он перестал об этом говорить, и тот замолчал было; но князь, в продолжение всего рассказа Елпидифора Мартыныча то красневший, то бледневший в лице, сам с ним возобновил этот разговор.
– Но где же Жуквич? Почему он не помог ей? – спросил он, и голос у него при этом как бы выходил не из гортани, а откуда-то из глубины груди.
– Да, ищи его!.. Он давно с собаками удрал!.. Кто говорит, что обобрал даже ее совсем, а кто сказывает, что и совсем между ними ничего не было! – отвечал Елпидифор Мартыныч.
Князь начал после того себе гладить грудь, как бы желая тем утишить начавшуюся там боль; но это не помогало: в сердце к нему, точно огненными когтями, вцепилась мысль, что были минуты, когда Елена и сын его умирали с голоду, а он и думать о том не хотел; что, наконец, его Елена, его прелестная Елена, принуждена была продать себя этому полуживотному Оглоблину. Далее затем у князя все уже спутывалось в голове. Княгиня между тем продолжала наблюдать за ним и, видя, что тревога на лице у него все более и более усиливалась, спросила его:
– Ты, кажется, устал, – не хочешь ли отдохнуть?
– Д-да!.. – произнес князь почти умоляющим голосом.
– Пойдемте, господа, ко мне! – сказала княгиня гостям своим.
Те последовали за нею.
– Вы напрасно князю рассказывали всю эту историю!.. – слегка укорила она обоих их.
– Но я никак не ожидал, что это такое сильное впечатление произведет на него! – подхватил барон.
– А меня ведь он – к-ха! – Сам спрашивать начал, – как тут было не отвечать! – объяснял Елпидифор Мартыныч.
Далее залы княгиня не повела гостей своих и просила их усесться тут же, а сама начала прислушиваться, что делается в кабинете. Вдруг князь громко крикнул лакея. Тот на этот зов проворно пробежал к нему через залу. Князь что-то такое приказал ему. Лакей затем вышел из кабинета.
– Что такое тебе князь приказал? – спросила его стремительно княгиня.
– Управляющего приказали позвать-с к себе! – отвечал лакей, быстро проходя.
– Зачем бы это? – обратилась княгиня к барону, как бы спрашивая его.
Тот молча на это пожал плечами.
– Вероятно, заняться чем-нибудь хочет и развлечь себя, – вмешался в их разговор Елпидифор Мартыныч.
В это время управляющий прошел в кабинет, и княгиня еще внимательней стала прислушиваться, что там будет происходить. При этом она очень хорошо расслышала, что князь почти строго приказал управляющему как можно скорее заложить одно из самых больших имений.
– Слушаю-с! – отвечал ему тот фистулой и вышел из кабинета.
– Именье зачем-то велел заложить, – обратилась снова к барону княгиня.
– Именье? – переспросил он.
– Да! – отвечала княгиня.
– Для чего бы это? – продолжал барон.
– Может быть, за границу думает совсем уехать! – пояснила княгиня.
– Что же, и вы поедете? – спросил барон; в голосе его при этом послышалась как бы какая-то грусть.
– О, непременно! – подхватила та.
– Князю безотлагательно следовало бы ехать за границу и укрепить свои нервы купаньями, а то он, пожалуй, тут с ума может сойти! – опять вмешался в их разговор Елпидифор Мартыныч.
Во всей этой беседе г-жа Петицкая, как мы видим, не принимала никакого участия и сидела даже вдали от прочих, погруженная в свои собственные невеселые мысли: возвращаясь в Москву, она вряд ли не питала весьма сильной надежды встретить Николя Оглоблина, снова завлечь и женить на себе; но теперь, значит, надежды ее совершенно рушились, а между тем продолжать жить приживалкою, как ни добра была к ней княгиня, у г-жи Петицкой недоставало никакого терпения, во-первых, потому, что г-жа Петицкая жаждала еще любви, но устроить для себя что-нибудь в этом роде, живя с княгинею в одном доме, она видела, что нет никакой возможности, в силу того, что княгиня оказалась до такой степени в этом отношении пуристкою, что при ней неловко даже было просто пококетничать с мужчиной. Кроме того, г-жа Петицкая была очень капризна по характеру и страшно самолюбива, а между тем, по своему зависимому положению, она должна была на каждом шагу в себе это сдерживать и душить. Словом, благодаря настоящей своей жизни, она с каждым днем худела, старелась и, к ужасу своему, начала ожидать, что скоро, пожалуй, совсем перестанет нравиться мужчинам.
* * *
Управляющий на другой же день принес князю занятые под именье деньги, более ста тысяч. Князь, внимательно и старательно пересчитав их, запер в свой железный шкаф и потом, велев подать себе карету, поехал к нотариусу. Нотариус этот был еще старый знакомый его отца. Увидав князя, он произнес радостное восклицание.
– Ваше сиятельство, какими судьбами?.. Господи, что с вами, – как вы похудели и постарели! – присовокупил он.
– Болен нынешним летом был, – отвечал князь. – Есть у вас особенная комната, где бы переговорить?
– Есть, имею! – отвечал нотариус, вводя князя в свой кабинет. – Молодым людям стыдно бы хворать!.. Вот нам старикам – другое дело!
– Старые люди крепче нынешних, – говорил князь, садясь. – Я вот по случаю слабого моего здоровья, – начал он несколько прерывающимся голосом, – желал бы написать духовную…
– Это дело хорошее; это при всяком здоровье не мешает делать! – одобрил его нотариус.
– Завещать я желаю, – продолжал князь, тряся ногою, – все мое недвижимое имущество в пожизненное владение жене моей, – можно это?..
– Можно-с!.. Нынче без испрошения высочайшей воли это можно.
– Потом, весь капитал мой, в четыреста тысяч, я желаю оставить моему побочному сыну – сыну девицы Жиглинской, а теперь по мужу Оглоблиной… можно это?
– И это можно; деньги – благоприобретенное ваше.
– Только, пожалуйста, чтобы строго юридически все это было и чтобы наследники никак не могли оттягать как-нибудь от ребенка и у жены моей завещанного.
– Крепко напишем-с, верно будет; ничего не оттягают.
– И чтобы как можно поскорее это сделать.
– Да сегодня же к вам вечером и привезем все.
– Пожалуйста! – повторил князь.
Провожая его, нотариус еще раз повторил ему свое сожаление, что он так постарел и похудел.
Возвратясь домой, князь, кажется, только и занят был тем, что ожидал духовную, и когда часам к семи вечера она не была еще ему привезена, он послал за нею нарочного к нотариусу; тот, наконец, привез ему духовную. Князь подписал ее и тоже бережно запер в свой железный шкаф. Остальной вечер он провел один.
На другой день поутру князь велел опять заложить себе карету и, взяв все сто тысяч с собой, поехал в банк, где положил деньги на свое имя. Выходя из банка, князь вдруг встретился с Николя Оглоблиным.
– Здравствуйте! – заговорил тот радостным и в то же время оторопелым голосом.
– Здравствуйте! – отвечал ему князь мрачно и хотел было уйти.
– А я на вашей знакомой Елене Николаевне женился, – не утерпел и бухнул Николя.
– Слышал это я!.. Поздравляю вас! – говорил князь.
– Вот прислала сюда пятьдесят тысяч на свое имя положить; без того за меня не шла. «Нет, говорит, меня другие обманули, теперь я стала практична!» – молол Николя.
Князь ничего ему на это не ответил и даже поспешил раздвинуть силою сгустившуюся у выхода толпу, чтобы только уйти от Николя.
Из банка князь заехал в театр и взял билет на ложу, который, возвратясь домой, отнес к княгине.
– Поезжайте сегодня с Петицкой в театр, – отличная пьеса идет.
– А ты поедешь?
– То есть, я приеду… Мне часов до восьми нужно дома быть.
– Хорошо, если ты приедешь, – отвечала княгиня, полагавшая, что князь этими делами своими и поездкой в театр хочет развлечь себя.
С наступлением вечера князь по крайней мере раз пять посылал спрашивать княгиню, что скоро ли она поедет? Та, наконец, собралась и зашла сама к князю. Она застала его сидящим за столом с наклоненной на руки головой.
– А ты скоро приедешь? – спросила она его, почти испуганная его видом.
– Сейчас же, очень скоро! – отвечал князь как-то нервно и торопливо. – Поезжайте, поезжайте! – прибавил он.
Княгиня поехала.
Прошло около часу.
Во всем доме была полнейшая тишина; камердинер князя сидел в соседней с кабинетом комнате и дремал. Вдруг раздался выстрел; камердинер вскочил на ноги, вместе с тем в залу вбежала проходившая по коридору горничная. Камердинер бросился в кабинет к князю.
– Что такое, батюшки! – кричала ему вслед горничная.
В кабинете камердинер увидал, что князь лежал распростертым на канапе; кровь била у него фонтаном изо рта; в правой и как-то судорожно согнутой руке он держал пистолет.
– Доктора, скорее доктора! – кричал камердинер и бросился зажимать князю рот рукою, желая тем остановить бежавшую кровь.
Та же горничная, что выскочила в залу и заглянувшая в кабинет, сбежала в сени и начала кричать швейцару, колотя его в плечо и в шею:
– Доктора скорее, князю очень дурно, и княгиню воротите из театра!
Швейцар едва понял ее и послал одного лакея за Елпидифором Мартынычем, а сам поехал за княгиней. Елпидифор Мартыныч и княгиня в одно время подъехали к крыльцу дома.
– Князю дурно? – говорила княгиня, проворно взбегая по ступенькам лестницы.
– И за мною тоже прислали! – говорил Елпидифор Мартыныч, не успевая идти за быстрыми шагами княгини, так что та первая вошла в кабинет к князю.
– Ай! – раздался вслед затем ее пронзительный крик, и когда Елпидифор Мартыныч достиг кабинета, то увидал там княгиню без чувств, уже распростертую у трупа мужа.
– Господи помилуй! – произнес он. – Девушки, люди, отнесите ее, несчастную!
Люди отнесли княгиню, совершенно бесчувственную, в ее спальню.
Елпидифор Мартыныч осмотрел после того труп князя, у которого пуля навылет пробила затылочную кость.
– Гм! – грустно усмехнулся Елпидифор Мартыныч. – Как угостил себя!.. Мне, однако, тут одному делать нечего, – съездите хоть за бароном! – присовокупил он камердинеру, все время стоявшему у ног барина и горько плакавшему.
Тот поехал. Елпидифор Мартыныч пошел к княгине и начал ее спиртом и холодной водой приводить в чувство.
Она, наконец, опомнилась.
– Где он? Где он? – заговорила она почти помешанным голосом и с каким-то безумным жестом откидывая рукою волосы назад за ухо.
– Да ничего, матушка, ничего! – говорил Елпидифор Мартыныч, очень хорошо понимая, что княгиня немножко притворяется.
– Ах, его убили, убили!.. Их всех арестовать надо!.. Это убила его Жиглинская!.. Пусть ее в острог посадят! – сумасшествовала княгиня.
– Разумеется, посадят! – не спорил с ней Елпидифор Мартыныч. – А вот погодите, я вам амигдалину пропишу; погодите, матушка! – присовокупил он и сел писать рецепт, но у него до того при этом дрожала рука, что он едва в состоянии был начертать буквы.
Между тем камердинер привез барона и привел его прямо в кабинет.
– Боже мой, боже мой! – воскликнул тот, взглянув на труп князя. – Но когда же это случилось? – обратился он к камердинеру, который не успел ему дорогой рассказать всего происшедшего.
– Да только что барыня уехала, вдруг я слышу – бац!.. Вбегаю и вижу… – пояснил тот ему.
Барон покачал головою и стал осматривать комнату. Прежде всего он на письменном столе увидал записку, писанную рукою князя, которая была очень коротка: «Я сам убил себя; прошу с точностью исполнить мое завещание». Около записки барон увидал и завещание. Он прочел его и, видимо, смутился.
– Нельзя ли позвать ко мне вашего управляющего? – проговорил он.
Камердинер послал одного из лакеев за управляющим.
Барон между тем продолжал делать осмотр. Тут же на столе, невдалеке, он увидел ящик от пистолетов с открытою крышкой, на которой виднелись какие-то написанные слова. Он невольно ими заинтересовался и прочел, а прочтя, усмехнулся и пожал плечами.
Вошел управляющий, весь бледный и тоже уже слышавший о страшном случае.
– Князь оставил завещание после себя, – начал барон официальным и несколько даже строгим голосом, – а потому нужно знать, сколько у него недвижимого имения.
– Как это сказать вдруг, ваше превосходительство!.. – отвечал управляющий, немного уже и струсив.
– Ну, то есть, примерно, на годовой доход? – произнес барон еще строже.
– Тысяч на двадцать пять годового дохода еще осталось.
– Можете идти! – сказал ему барон.
Управляющий вышел из кабинета на цыпочках.
Барон в этом случае, кажется, интересовался узнать, сколько достанется еще княгине после мужа и что не мною ли очень отошло к незаконнорожденному сыну князя.
Вскоре затем к нему вошел Елпидифор Мартыныч.
– Что княгиня, – вы у нее были? – спросил барон.
– Все у нее был.
– К ней, вероятно, нельзя войти?
– Нет, она вся расшнурована, распущена!.. Все требует, чтобы убийц князя арестовали!
– Каких убийц? Он сам себя убил. Вот записка его о том и вот ящик от пистолетов с интересною надписью! – проговорил барон, показывая Елпидифору Мартынычу то и другое.
Елпидифор Мартыныч прочел записку и надпись на крышке ящика.
– К-ха! Сумасшествие от любви! – проговорил он. – Целый разряд такого рода сумасшедших есть; у нас в медицине так они и называются: сумасшедшие от любви.
– Есть такие? – спросил с любопытством барон.
– Есть! – подтвердил Елпидифор Мартыныч. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целый год княгиня носила по мужу глубокий траур. Она каждую неделю ездила на его могилу и служила панихиды. Главным образом ее убивало воспоминание о насильственной смерти князя, в которой княгиня считала себя отчасти виновною тем, что уехала из дому, когда видела, что князь был такой странный и расстроенный. Все именитые родные князя оказали ей неподдельное участие и целыми вереницами посещали ее. Княгиня принимала их, со слезами на глазах благодарила, но сама у них бывать наотрез отказывалась, говоря, что она никогда не жила для света, а теперь и тем паче. Из посторонних у нее бывал только Елпидифор Мартыныч, наблюдавший за ее здоровьем, и барон, который ей необходим был тем, что устраивал ее дела по наследству от мужа, в чем княгиня, разумеется, ничего не понимала да и заботиться об этом много не хотела, потому что сама думала скоро пойти вслед за князем.
В первый раз в общество княгиня выехала по довольно экстренному случаю: барон, получив то почетное назначение, которого ожидал, не преминул сейчас же училище, основанное Анною Юрьевной, взять под свое попечительство. Испросив для него совершенно новый и гораздо более строгий устав, он приехал в одно утро к княгине и велел к себе вызвать г-жу Петицкую, которая в этот год еще больше поблекла, постоянно мучимая мыслью, что и в любимой ею Москве она никак и ничем не может улучшить свое положение и всю жизнь поэтому должна оставаться в зависимости. Когда Петицкая вышла к барону, то он просил ее присесть, видимо, приготовляясь повести с нею довольно продолжительный и серьезный разговор.
– Я к вам, madame Петицкая, с некоторым предложением.
Петицкая при этом потупила глаза и скромно приготовилась слушать.
– Вы, может быть, слыхали, что у Анны Юрьевны было училище, от которого она хоть и была устранена, но тем не менее оно содержалось на счет ее, а потом и я стал его поддерживать… Приехав сюда и присмотревшись к этому заведению, я увидел, что те плохие порядки, которые завела там Анна Юрьевна и против которых я всегда с нею ратовал, не только что не улучшились, но еще ухудшились.
– Ухудшились? – полувоскликнула Петицкая.
– Даже ухудшились! – повторил барон. – Терпеть подобные вещи я нашел невозможным для себя и испросил себе звание главного попечителя над этим училищем.
– Вот как! – произнесла Петицкая, все еще не догадывавшаяся, к чему все это ей говорил барон.
– Звание, если хотите, довольно высокопоставленное, – продолжал тот, – считающееся, пожалуй, выше сенаторского…
– Однако выше сенаторского считающееся!.. – опять полувоскликнула Петицкая.
– Почти!.. По крайней мере на всех придворных выходах мы стоим выше их. Но сами согласитесь, что чем важнее пост, тем всякий честный человек, поставленный на него, больше должен употреблять усилий, чтобы добросовестно исполнить свою обязанность, что я и решился сделать по крайнему своему разумению; но я один, а одному, как говорится, и у каши не споро: мне нужны помощники, нужны подчиненные, которым бы я мог доверять. Вы, в этом случае, одна из особ, – которую я очень хорошо знаю: я видел вашу дружбу, вашу преданность княгине и убежден, что женщина, способная быть таким другом, может быть хорошей и полезной руководительницей детям…
– Эдуард Федорович, вы слишком много мне приписываете! – произнесла г-жа Петицкая, потупляя свои глаза.
– Не комплименты, не комплименты желаю вам говорить, – подхватил барон, – а позволяю себе прямо предложить вам быть главной начальницей моего заведения; содержание по этой службе: квартира очень приличная, отопление, освещение, стол, если вы пожелаете его иметь, вместе с детьми, и, наконец, тысяча двести рублей жалованья.
– О, это так много, что… – начала Петицкая и уже совсем, совсем потупила свои глаза. Радость ее при этом случае была неописанная: вырваться на волю казалось ей теперь почти каким-то блаженством.
– Вы, значит, согласны принять эту должность? – спросил барон.
– Совершенно! – отвечала Петицкая. – Меня тут одно смущает, – прибавила она, помолчав немного: – как мне оставить княгиню совершенно одну жить: она и без того страшно скучает!..
– Но княгиня, я полагаю, не век будет так жить, выйдет же когда-нибудь замуж! – возразил ей барон.
– Ах, непременно бы ей надо было выйти замуж. Как бы это было хорошо для нее и для того человека, который бы на ней женился! – произнесла Петицкая.
Барон после этого некоторое время размышлял сам с собой.
– Княгиня вам никогда ничего не говорила о моих собственно к ней отношениях? – спросил он вдруг Петицкую.
– Не говорила, но я догадывалась: вы были влюблены в нее? – сказала Петицкая.
– Был… был влюблен, когда она была еще девушкой, потом это чувство снова возродилось во мне при встрече с ней здесь: но она как в тот, так и в другой раз отвергла всякие мои искания, – что же мне оставалось делать после того! Я бросился очертя голову в эту несчастную мою женитьбу, и затем, вы сами видели, едва только я освободился от этой ферулы, как снова всею душой стал принадлежать княгине.
– Еще бы не видеть! – проговорила г-жа Петицкая.
– В то же время, – продолжал барон, пожимая плечами, – снова рискнуть и снова надеяться услышать отказ, как хотите, становится даже несколько щекотливо для моего самолюбия!
– А почему вы ожидаете отказа? – спросила его Петицкая.
– По многим причинам: во-первых, по странным отношениям княгини к Миклакову.
– О, тут не было никаких отношений, клянусь вам богом! – перебила его Петицкая.
– Может быть!.. Во-вторых, мне кажется, княгиня до сих пор еще так сильно огорчена смертью мужа…
– Ну, этого вы не очень опасайтесь! – возразила Петицкая. – Мы, женщины, умеем одним глазком плакать, а другим и улыбаться!
– Вы думаете? Но все-таки, говорю откровенно, у меня духу не хватает напомнить княгине о моем чувстве к ней.
– Хотите, я ей напомню?
– Пожалуйста! – воскликнул барон радостным голосом: он вряд ли и место предлагал Петицкой не затем, чтоб иметь ее вполне на своей стороне.
– Извольте, поговорю с ней при первом же удобном случае.
– Очень много обяжете… очень!.. – продолжал восклицать барон. – Место, значит, вы принимаете у меня? – присовокупил он, уже вставая.
– Конечно! – подхватила Петицкая.
Днем для открытия вновь преобразованного училища барон выбрал воскресенье; он с большим трудом, и то с помощью Петицкой, уговорил княгиню снять с себя глубокий траур и приехать на его торжество хоть в каком-нибудь сереньком платье. Г-жа Петицкая, тоже носившая по князе траур, сняла его и надела форменное платье начальницы. К двенадцати часам они прибыли в училище. Княгиню барон усадил на одно из почетнейших мест. Г-жа Петицкая села в числе служащих лиц, впрочем, рядом с бароном и даже по правую его руку.
Барон был в мундире, вышитом на всех возможных местах, где только можно вышить золотом, в красивой станиславской ленте и с станиславской звездой. Он заметно несколько рисовался в этом костюме. Прежде всего девочки нескладными и визгливыми голосами пропели предучебную молитву; затем законоучитель, именно знакомый нам отец Иоанн, прочел прекрасную речь полусветского и полудуховного содержания: «О добродетелях и о путях к оным». Наконец, встал сам барон сказать свое слово. Все исполнились полнейшего внимания; его вообще считали в обществе более умным человеком, чем он был на самом деле! Барон прежде всего объяснил, что воспитание есть основание всей жизни человека, и поэтому оно составляет фундамент и оплот всей истории человечества. Барон, если только припомнит читатель, вообще любил, вследствие, может быть, основательности собственного характера, слова: фундамент, оплот, основа. Далее барон изложил, что воспитание женщины важнее даже воспитания мужчины, так как она есть первая наставница и руководительница детей своих, и что будто бы всеми физиологами замечено, что дети, и по преимуществу мальчики, всегда наследуют нравственные качества матери, а не отцов, и таким образом женщина, так сказать, дает всецело гражданина обществу. Последние слова барон, как следует хорошему оратору, произнес громче прочих, и они были покрыты почти общим аплодисментом. Про свое собственное училище барон сказал, что оно пока еще зерно, из которого, может быть, выйдет что-нибудь достойное внимания общества; себя при этом он назвал сеятелем, вышедшим в поле с добрыми пожеланиями, которые он надеется привести к вожделенному исполнению с помощию своих добрых и уважаемых сослуживцев, между которыми барон как-то с особенною резкостью в похвалах указал на избранную им начальницу заведения, г-жу Петицкую, добродетели которой, по его словам, как светоч, будут гореть перед глазами ее юных воспитанниц. При этом указании на добродетели г-жи Петицкой два человека из бывших в зале сделали несколько удивленные физиономии: это Елпидифор Мартыныч, сидевший в переднем ряду и уже с аннинской звездой – он невольно припомнил при этом историю со шляпой Николя Оглоблина; наконец, сам Николя, помещавшийся во втором ряду и знавший предыдущую историю еще в более точных подробностях. Оба они никак не считали г-жу Петицкую светочем добродетели.
На лестные слова барона г-жа Петицкая, пылая в лице и потупляя свои глаза, произнесла несколько трепещущим голосом, что она все старание, все усердие свое положит, чтобы исполнить те надежды, которые возложил на нее ее высокопочтенный начальник. Затем музыка грянула: «Боже, царя храни!» [173], и торжество окончилось. Отпущенные девочки шумно побежали из залы по коридорам прямо в столовую, где их ожидал более обыкновенного сытный обед. Посетители и посетительницы, с очень важным видом, хоть и с маленьким утомлением в лицах, начали разъезжаться. Барон приостался на некоторое время в училище и стал что-то такое довольно длинно приказывать смотрителю здания, махая при этом беспрестанно своей шляпой с плюмажем: все эти приказания он затеял, кажется, для того, чтобы подолее оставаться в своем нарядном мундире. Петицкая уехала пока еще к княгине. Когда они возвратились домой и переоделись из своих нарядных платьев, то между ними начался довольно задушевный разговор.
– Вы завтра переезжаете в училище? – спросила княгиня свою подругу невеселым голосом.
– Завтра! – отвечала Петицкая.
Княгиня после этого закрыла себе лицо рукою.
– Вообразить себе не могу, как я останусь одна в этом громадном доме! – произнесла она.
– Вам замуж надобно выйти, – вот что! – сказала ей на это Петицкая.
– Мне?.. – спросила княгиня, широко раскрывая в удивлении свои голубые глаза.
– Вам, да! – отвечала Петицкая, несколько даже испуганная таким восклицанием княгини.
– Кто же меня возьмет после всех тех ужасных историй, которые со мной были? – проговорила та.
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!.. – захохотала неудержимо Петицкая. – Какие ужасные истории, – скажите, пожалуйста!
– Конечно, ужасные!
– Перестаньте, княгиня! – произнесла Петицкая как бы уже строгим голосом. – Разве повернется у кого-нибудь язык, чтобы обвинить вас в чем-нибудь? Напротив, все удивляются вам, и я знаю одного человека, который очень бы желал сделать предложение вам…
Княгиня при этом вспыхнула, но ничего не говорила.
– А вы даже не хотите и спросить: кто это такой? – присовокупила Петицкая.
– Не хочу, потому что знаю, что такого человека нет.
– Нет, есть! – возразила Петицкая с ударением. – И это именно барон!
– Вот глупости! – проговорила, еще более покраснев, княгиня.
– Почему глупости?.. Почему? – спросила настойчиво Петицкая.
– Потому что… – отвечала княгиня (она очень конфузилась при этом ответе), – он, я думаю, даже сердит на меня…
– Вы хотите сказать, что за ваши старые к нему отношения? – перебила ее Петицкая, очень хорошо понявшая, что хочет сказать княгиня последними словами. – Но вот видите, он все это вам простил и даже поэтому еще более вас ценит; отказать ему вам, по-моему, не только что не умно, но даже неблагородно и нечестно!
Княгиня только взглядом ответила приятельнице на такой ее резкий приговор.
– Конечно, нечестно! – повторила та. – Вы вспомните: полтора года он за вами следит, как самый внимательный дядька… – что я говорю!.. – как самый заботливый отец! – воскликнула Петицкая, раскрасневшись даже в лице от одушевления. – Я не говорила вам, но он, во весь наш обратный путь из-за границы, на всех железных дорогах брал для нас билеты, отправлял все вещи наши, хлопотал с паспортами, наконец, какое участие он показал вам во время смерти вашего мужа! Княгиня, все это надобно поценить! Таких расположенных и искренно преданных нам людей мы не часто встречаем в жизни.
Княгиня слушала молча свою подругу и хотя в душе сознавала справедливость ее слов, но все-таки произнесла как бы несколько холодным тоном:
– Я и ценю его очень!
– Но на словах мало ценить! – воскликнула Петицкая. – Надобно доказать это на деле: вдруг он теперь присватается к вам и получит отказ, – сыграть в третий раз такую незавидную роль, в его теперешнем положении, может быть, ему уже и не захочется.
– Тогда и теперь – две вещи разные! – проговорила, наконец, княгиня.
– Но теперь что же вы скажете ему? – приставала к ней Петицкая.
– А теперь еще и сама не знаю! – отвечала с усмешкою княгиня.
– Ну, так я знаю! – подхватила Петицкая, твердо будучи уверена, что если бы даже барон и не очень нравился княгине, то все-таки она пойдет за него, потому что это очень выгодная для нее партия, а потому дальнейшее с ней объяснение она считала совершенно излишним и при первой встрече с бароном прямо сказала тому, чтоб он не робел и ехал просить руки княгини.
Барон послушался ее и, приехав раз к княгине, сделал ей несколько официальным голосом предложение; она, как и надобно ожидать, сначала сконфузилась, а потом тоже отчасти официальным тоном просила у него времени подумать. Барон с удовольствием согласился на это.
В период этого думанья княгиня объехала всех близких и именитых родных покойного мужа, всем им объявила о предложении барона и у всех у них испрашивала совета и мнения касательно того, что не имеют ли они чего сказать против. Те единогласно отвечали, что ничего не имеют, и таким образом девятнадцатого декабря барон получил согласие на брак с княгиней, а в половине января была и свадьба их в присутствии опять-таки тех же близких и именитых родных покойного князя, к которым барон отправился на другой день с своей молодой делать визиты, а после того уехал с нею в Петербург, чтобы представиться ее родным и познакомить ее с своими родными. От слияния состояний двух жен у барона образовалось около полутораста тысяч годового дохода.
Г-жа Петицкая за услуги свои, оказанные по случаю женитьбы его на княгине, была награждена бароном еще тремястами рублей годового жалованья и в настоящем своем положении решительно расцвела, поздоровела, похорошела и даже успела приучить ходить к себе по вечерам в гости одного очень молоденького и прехорошенького собой студента.
* * *
Но что Елена?.. Как она живет, и какое впечатление произвело на нее известие о самоубийстве князи? Вот те последние вопросы, на которые я должен ответить в моем рассказе. Весть о смерти князя Елене сообщил прежде всех Елпидифор Мартыныч и даже при этом не преминул объяснить ей, что князь, собственно, застрелился от любви к ней.
Елену страшно поразило это известие, но она пересилила себя и как бы даже довольно равнодушно проговорила:
– Вот вздор какой!
– Нет-с, не вздор! – возразил ей Елпидифор Мартыныч.
Он полагал, что всякой даме приятно услышать, что какой-нибудь мужчина застрелился от любви к ней: сей хитрый старик успел уже каким-то образом совершенно втереться в дом к Оглоблиным и сделаться почти необходимым у них.
Елена не стала с ним более разговаривать об этом происшествии и по наружности оставалась спокойной; но когда Елпидифор Мартыныч ушел от нее, то лицо Елены приняло почти отчаянное выражение: до самой этой минуты гнев затемнял и скрывал перед умственными очами Елены всякое ясное воспоминание о князе, но тут он как живой ей представился, и она поняла, до какой степени князь любил ее, и к вящему ужасу своему сознала, что и сама еще любила его. Принадлежа, впрочем, к разряду тех существ, про которых лермонтовский Демон сказал, что для них нет раскаяния, нет в жизни уроков, Елена не стала ни плакать, ни стенать, а все, что чувствовала, спрятала в душе; но как ни бодрилась она духом, тело ее не выдержало нравственных мук: Елена сделалась серьезно больна, прохворала почти полгода и, как только встала с постели, уехала с сыном за границу. Возвратясь оттуда несколько поздоровевшая, Елена, по-видимому, исключительно предалась воспитанию сына: она почти не отпускала его от себя никуда, беспрестанно с ним разговаривала, сама учила его. Кроме того, Елена повела очень большую переписку с разными заграничными своими знакомыми, которые тоже ей часто писали.
В одно утро Елена сидела, по обыкновению, с своим ребенком. Сынишка ее стоял около нее, и она сейчас только восхищенная его понятливостью, расцеловала его в губки, в щечки, в глаза, так что у мальчика все лицо даже покраснело; вдруг вошел человек и доложил, что Миклаков ее спрашивает.
– Ах, проси… очень рада! – воскликнула Елена в самом деле радостным голосом.
Лакей ушел звать гостя.
– Вы решительно являетесь, как молодой месяц! – говорила Елена, встречая Миклакова.
– Да и вас я застаю всякий раз в новых фазисах! – отвечал ей тот не без насмешки; затем он сел и начал пристально смотреть на Елену.
Надобно было иметь не весьма много наблюдательности, чтобы подметить, какие глубокие страдания прошли по моложавому лицу Елены: Миклакову сделалось до души жаль ее.
– Но давно ли, однако, вы вышли замуж? – продолжал он совершенно уже другим тоном.
– Вам, может быть, больше хочется спросить – зачем и для чего, собственно, я вышла замуж? – возразила ему Елена.
– Зачем и для чего вы вышли замуж? – повторил за нею Миклаков.
– От голоду – больше ни от чего другого!.. Пришлось так, что или самой с ребенком надобно было умереть от нищеты, или выйти за Оглоблина… Я предпочла последнее.
– О, ирония жизни!.. Какая страшная ирония!.. – воскликнул Миклаков. – Вот вам и могучая воля человека! Все мы Прометеи[174], скованные нуждой по рукам и по ногам!
– Еще как скованы-то! – перебила его Елена, для которой, видимо, тяжел был этот разговор. – Но где вы были все это время?
– Был я в Малороссии, в Киеве, в Одессе, на южном берегу Крыма и на Кавказе.
– Что, как вам там везде понравилось?
– Очень везде не понравилось. Малороссия – природа прекрасная, но это еще дикие степи. Киев наш святой – смесь киево-печерского элемента с польско-шляхетским. Одесса, наш аки бы европейский город, в сущности есть город жидов и греков. В Крыму и на Кавказе опять-таки хороша только природа, а населяющие их восточные человеки, с их длинными носами и бессмысленными черными глазами, – ужас что такое!.. в отчаяние приводящие существа… так что я дошел до твердого убеждения, что человек, который хоть сколько-нибудь дорожит мыслью человеческой, может у нас жить только в Москве и в Петербурге.
– А этого демократического, революционного движения неужели нет в провинциях нисколько? – сказала Елена.
– Подите вы! – воскликнул Миклаков. – Революционные движения какие-то нашли!.. Бьются все, чтобы как-нибудь копейку зашибить, да буянят и болтают иногда вздор какой-то в пьяном виде.
– Странно!.. Я думала совсем другое!.. – произнесла Елена как бы в некотором раздумьи.
– Мало ли что вы думали! – отвечал ей насмешливо Миклаков.
– Ну, а вы теперь постоянно думаете в Москве жить? – спросила его Елена.
– В Москве, – отвечал протяжно Миклаков, – хоть и тут тоже мало как-то хорошего для меня осталось, – продолжал он. – Такие новости услыхал, приехав: князь, с которым я хоть и поразошелся последнее время, но все-таки думал опять с ним сблизиться, говорят, умер, – застрелился!
– Да, застрелился! – повторила Елена, и лицо ее при этом мгновенно вспыхнуло. – Говорят даже, что застрелился от любви ко мне! – прибавила она с усмешкою.
– Говорят! – подтвердил Миклаков.
– Но это пустяки, конечно… – продолжала Елена с какой-то неприятной усмешкой, – просто, я думаю, с ума сошел.
– Да с ума-то сошел, может быть, от любви к вам! – перебил ее Миклаков.
– Это еще страннее и глупее! – продолжала Елена, все более и более краснея в лице. – Впрочем, виновата: вы сами когда-то от любви сходили с ума!
– Нет, я сходил с ума не от любви, а от пьянства и от оскорбленного самолюбия!.. – возразил Миклаков.
– Вот это так вернее и естественнее! – подхватила Елена. – А вы знаете, что княгиня ваша вышла замуж за барона Мингера, и оба, говорят, наслаждаются жизнию?
– Что же мудреного! – подхватил Миклаков (при этом он уже вспыхнул). – В жизни по большей части бывает: кто идет по ее течению, тот всегда почти достигнет цветущих и счастливых берегов.
– Но только счастия-то я тут не вижу никакого… В чем оно состоит? – подхватила Елена.
– В некотором самодовольстве и спокойствии!.. Стоять вечно в борьбе и в водовороте – вовсе не наслаждение: бейся, пожалуй, сколько хочешь, с этим дурацким напором волн, – их не пересилишь; а они тебя наверняка или совсем под воду кувыркнут, а если и выкинут на какой-нибудь голый утесец, так с такой разбитой ладьей, что далее идти силы нет, как и случилось это, например, со мной, да, кажется, и с вами.
– Нет, я могу и хочу еще плыть! – воскликнула Елена.
– Интересно было бы знать – куда? – проговорил Миклаков.
– Этого я вам не скажу, потому что вы всякую надежду, всякое предположение сумеете облить таким ядом сомненья, что отравите все и навсегда.
– Сомненье – источник истины! Вот мы с вами поверили Жуквичу на слово, что он человек порядочный, а вышло, что он мошенник!..
Елена при этом немного смутилась.
– Вы, значит, слышали об его проделке со мною? – спросила она.
– С вами?.. Не слыхал. Но что же такое именно?.. – спросил с своей стороны Миклаков.
Елена очень подробно и совершенно откровенно рассказала о своих отношениях к Жуквичу и об его поступке с нею.
Миклаков качал только головой и грустно усмехался.
– Благодарите судьбу, что этот барин в еще худшее что-нибудь вас не запутал! – проговорил он.
– Что же может быть хуже этого? – воскликнула Елена.
– В Одессе он почище этого затеял штуку, – продолжал Миклаков. – Он явился туда с каким-то другом своим юным; сначала, как видно, были при деньгах, жуировали, в карты играли; но потом профершпилились и занялись деланием фальшивых ассигнаций; их накрыли и посадили в тюрьму, где и доныне они обретаются…
– Но скажите: поляк он или нет?
– И не поляк даже, а жид, говорят, перекрещенный.
– Но каким же образом он мог в 48-м году быть повешен?
– Повешен? – воскликнул Миклаков, широко открывая в удивлении свои глаза.
– Да, и только спасся от смерти каким-то случаем. Я сама видела у него шрам на шее от веревки…
Миклаков покатился со смеху.
– Каналья какая! – воскликнул он. – Если у него действительно есть шрам, так, вероятно, его разбитою бутылкой по горлу съездили за какую-нибудь плутню, а с виселиц, сколько я знаю, никто что-то еще не спасался: это он все выдумал, чтобы больше вас пленить.
– Но неужели люди способны даже подобными вещами лгать? – произнесла Елена.
– Люди способны всякими вещами лгать! – подхватил Миклаков.
Разговор этот был прерван появлением Николя.
– Ах, боже мой!.. Как я рад! – воскликнул он, пожимая обеими руками руку Миклакова. – А я сейчас от баронессы Мингер, – продолжал Николя, вовсе забыв, в каких отношениях баронесса Мингер была некогда с Миклаковым, – она родила сына!
– Вот как! – произнесла с усмешкою Елена.
– Да, и барон в восторге, – продолжал Николя. – «Очень, говорит, рад: теперь род Мингеров не прекратится!»
– Ну, этому радоваться еще особенно нечего! – подхватила Елена.
– Тем более, если припомните слова Вольтера, – поддержал ее Миклаков, – который говорил, что главный недостаток немцев тот, что их очень много.
– Именно – очень много! – воскликнула Елена.
Миклаков после того вскоре начал собираться домой.
– Я опять как-нибудь к вам невдолге заеду, – сказал он.
– Непременно, непременно! – подхватила Елена.
– И я вас прошу покорнейше о том! – сказал ему Николя.
Миклаков через неделю опять заехал к Елене; но она на этот раз не приняла его, велев ему через горничную сказать, что у ней так разболелся бок, что ей ставят пиявки, и потому она никак не может выйти к нему. Через неделю Миклаков опять к ней заехал. Тут уже вышел к нему Николя с сконфуженным и расстроенным лицом. Он сказал, что жена его очень больна и что к ней никого не пускают и не велят ей ни с кем говорить.
Миклаков ушел, сильно опечаленный этим, а через несколько дней он прочел в газетах, что Николай Гаврилыч Оглоблин с душевным прискорбием извещает своих родных и знакомых о кончине своей возлюбленной супруги Елены Николаевны Оглоблиной и просит пожаловать на отпевание, которое имеет быть там-то.
– Не вытерпела, как ни храбрилась! – произнес Миклаков, откидывая газету в сторону и утирая небольшую слезинку, появившуюся на глазу его, и, обыкновенно не бывая ни на одних похоронах, на похороны к Елене он пошел и даже отправился провожать гроб ее до кладбища пешком.
К нему вдруг пристал Елпидифор Мартыныч, тоже шедший пешком, несмотря на свои семьдесят лет.
– Вы покойницу лечили? – спросил его Миклаков.
– Я-с, и потом целый легион докторов…
– Чем она умерла?
– Чахоткой скоротечной… Простудилась она еще прежде в девицах, когда в бедности жила, потом года с два тому назад была больна, а к нынешней весне болезнь окончательно разыгралась!.. Впрочем, – сказал Елпидифор Мартыныч, помолчав немного, – и слава богу, что она умерла!
– Это почему? – произнес с удивлением Миклаков.
– Потому что… (Елпидифор Мартыныч начал это говорить Миклакову почти на ухо)… потому что в самый день смерти пришли было арестовать ее: такую, говорят, с разными заграничными революционерами переписку завела, что страсть!
– Вот как! – проговорил с удовольствием Миклаков: ему приятно было слышать, что Елена до конца жизни осталась верна самой себе.
– А перед смертию она причащалась или нет? – спросил он с полуулыбкою Елпидифора Мартыныча.
– Нет-с!.. Нет! – воскликнул тот почти на всю улицу.
– Вольтер-с перед смертию покаялся[175], а эта бабенка не хотела сделать того! – присовокупил Елпидифор Мартыныч, знаменательно поднимая перед глазами Миклакова свой указательный палец.
– Видно, на плечах у великанов и младенцы дальше их видят! – подхватил тот с явною целью посердить Елпидифора Мартыныча.
– Тьфу мне на это виденье!.. – опять воскликнул ему тот. – Вы сами тоже хорош сокол! – прибавил он. – Посмотрю, что вы заговорите, как умирать будете.
– Все сделаю, решительно все, что предписано, до того испугаюсь сей скверной вещи! – подхватил Миклаков.
– Не по страху-с надобно это делать, а по вере! – произнес ему в наставление Елпидифор Мартыныч.
– Ну, а мальчик Елены Николаевны где же и у кого будет воспитываться? – продолжал его расспрашивать Миклаков.
– Да сама-то она перед смертию бог знает какие было планы строила, – отвечал, кашлянув, Елпидифор Мартыныч, – и требовала, чтоб ребенка отвезли в Швейцарию учить и отдали бы там под опекунство какого-то философа, ее друга!.. Не послушаются ее, конечно!.. Николай Гаврилыч просто хочет усыновить его и потом, говорит, всего вероятнее, по военной поведу…
Миклаков слушал все это с понуренной головой и пасмурным лицом, и когда, после похорон, Николя Оглоблин, с распухшим от слез лицом, подошел было к нему и стал его приглашать ехать с ним на обед, то Миклаков отказался наотрез и отправился в Московский трактир, где, под влиянием горестных воспоминаний об Елене и о постигшей ее участи, напился мертвецки пьян.
Он считал Елену за единственную женщину из всех им знаемых, которая говорила и поступала так, как думала и чувствовала!
Примечания
Роман впервые напечатан в «Беседе», 1871 г., NoNo 1-6. Написан в 1870—1871 годах. Точные даты начала и завершения работы над романом неизвестны. Из рукописных материалов, связанных с созданием романа, сохранился лишь небольшой набросок плана середины второй части, относящийся, по-видимому, к осени 1870 года.[176]
Неблагоприятные условия, в которых создавался предыдущий роман писателя, «Люди сороковых годов» (см. примечания к IV тому), побудили Писемского в следующей своей работе поставить перед собой более актуальные и острые вопросы. Можно с уверенностью говорить о том, что в романе «В водовороте» идейные взгляды писателя нашли свое наиболее полное отражение. Роман «В водовороте» появился на страницах «Беседы», журнала, идейная позиция которого была весьма неопределенна. Выходил он на средства славянофила А.И.Кошелева (1806—1883), ранее издававшего ненавистную Писемскому «Русскую беседу», редактировался же однокашником Писемского по Московскому университету С.А.Юрьевым (1821—1888), человеком крайне путаного и отнюдь не передового мировоззрения. Портрет этого человека, правда, несколько окарикатуренный, дан был Писемским позднее в романе «Мещане» в образе журналиста Долгова.
Роман «В водовороте» не может быть вполне понят и правильно оценен в отрыве от предшествовавших ему произведений русской литературы шестидесятых годов.
После падения крепостного права перед русской литературой с исторической необходимостью встала задача формирования нового мировоззрения, свободного от пут феодальных понятий. Русская публицистика после смерти Н.А.Добролюбова (1836—1861) и ареста (7 июля 1862 г.) Н.Г.Чернышевского (1828—1889) возглавлялась Д.И.Писаревым (1840—1868). Пропаганда трудовой жизни и мировоззрения, основанного на строго проверенных данных естественных наук, – вот что лежало в основании важнейших выступлений молодого публициста.
Не следует думать, разумеется, что вся русская литература шестидесятых годов посвятила себя разработке нового миросозерцания.
На освещении этих вопросов сосредоточил свое внимание преимущественно тот род русского романа, который далеко не случайно называют публицистическим. Как правило, это роман о «новых людях», их раздумьях и исканиях. Начало этому роману положили разные, далеко не однородные романы, из которых следует упомянуть «В ожидании лучшего» (1860) Н.Д.Хвощинской, повести Н.Г.Помяловского «Мещанское счастье» и «Молотов» (1861), «Отцы и дети» Тургенева (1862) и «Что делать?» Чернышевского (1863).
С легкой руки Тургенева новые люди шестидесятых годов были названы «нигилистами» (от латин. nihil – ничто), так как их первой задачей было полное отрицание всех старых представлений. Они ничего не хотели сохранить от старого мира социальной несправедливости, лицемерия и лжи. В этом вопросе обычно у молодежи никаких разногласий не было. Все были отрицателями отмиравшего мира и его авторитетов. Но когда дело доходило до выработки нового мировоззрения, каких-то положительных взглядов, определения своих авторитетов, тогда появлялись разногласия. Поэтому изучение движения шестидесятых годов невозможно без учета его внутренних идейных противоречий. Полемика между революционно-демократическими журналами «Современник» и «Русское слово», названная врагами «расколом в нигилистах», явилась характерным выражением этих разногласий.
Подобный же раскол мы видим и в романах о «новых людях». С одной стороны, в них появилась проповедь «умеренности» в дерзаниях и отрицаниях. Наиболее типичными выразителями взглядов «умеренных» стали такие писатели, как А.К.Шеллер (псевдоним – А.Михайлов), выпустивший в 1864 и 1865 годах нашумевшие романы о молодом поколении «Гнилые болота» и «Жизнь Шупова», и И.В.Федоров (псевдоним – Омулевский), в 1870 году опубликовавший знаменитый роман «Шаг за шагом», который уже своим названием отмежевывался от программы немедленного и решительного переустройства общества.
Возникла целая группа романов весьма мрачного содержания. Новые люди в них испытывали лишь одни неудачи и погибали, подобно Базарову. Образцами этого типа могут служить романы Д.Л.Мордовцева («Знамения времени», 1869), Н.Ф.Бажина («История одного товарищества», 1869), К.М.Станюковича («Без исхода», 1873) и др.
Следует признать, что «В водовороте» Писемского непосредственно примыкает к этой последней группе романов. Их сближает трагическая судьба важнейших персонажей романа – представителей молодого поколения – и безрадостная оценка перспектив того дела, которое интересует в названных романах «новых людей». Но дела эти разные. Герои романа Мордовцева приходят к выводу, что следует идти в народ, и вовсе не помышляют о революционных преобразованиях. Герои Бажина мечтают о создании кооперативных товариществ, якобы имеющих магическую силу социального переустройства. Героев романа Писемского угнетает другое, как это видно из красноречивого диалога между героиней романа Еленой Жиглинской и ее приятелем – писателем Миклаковым:
«– А этого демократического, революционного движения неужели нет в провинциях нисколько? – сказала Елена.
– Подите вы! – воскликнул Миклаков. – Революционные движения какие-то нашли!.. Бьются все, чтобы как-нибудь копейку зашибить, да буянят и болтают иногда вздор какой-то в пьяном виде.
– Странно!.. Я думала совсем другое!.. – произнесла Елена как бы в некотором раздумьи» (стр. 448).
Как относится автор к своему герою? Этот вопрос неоднократно порождал многочисленные споры применительно даже к таким случаям, когда, казалось бы, положительное отношение автора несомненно. Писемский избегает прямых высказываний о своих героях. Читатель, по мнению автора, должен сам разобраться в этих вопросах и дать на них ответы…
В романе противопоставлены друг другу два женских образа: Елены Жиглинской, убежденной нигилистки, дерзкой безбожницы, и княгини Елизаветы Григоровой, женщины добродетельной и глубоко религиозной. Все, что резко отрицает Елена, дорого или свято для княгини. Противопоставление это сделано так, что читатель, не имеющий оснований к немедленному предпочтению одной из этих борющихся сторон, почти на протяжении всего романа, по существу, колеблется: кому отдать свои симпатии? Княгиня Григорова наделена автором рядом несомненно привлекательных черт, и к тому же она является потерпевшей, жертвой.
На протяжении всего романа идет напряженная борьба между религией и атеизмом, моралью старой и новой.
Не случайно автор вводит образ Миклакова, содержащий некоторые автобиографические черты Миклаков, один из единомышленников Елены, становится горячим поклонником княгини Григоровой. Автор изображает Миклакова этакой «жертвой» журнальных редакций, от которых он «пострадал за правду». Он колко отзывается о редакторах и сотрудниках журналов. «Все эти насмешливые отзывы Миклакова, разумеется, передавались кому следует; а эти, кто следует, заставляли разных своих критиков уже печатно продергивать Миклакова, и таким образом не стало почти ни одного журнала, ни одной газеты, где бы не называли его то человеком отсталым, то чересчур новым, либеральным, дерзким, бездарным и, наконец, даже подкупленным. Прочитывая все это, Миклаков только поеживался, и посмеивался, и говорил, что ему все это как с гуся вода, и при этом обыкновенно почти всем спешил пояснить, что он спокойнейший и счастливейший человек в мире, так как с голоду умереть не может, ибо выслужил уже пенсию, женской измены не боится, потому что никогда и не верил женской верности, и, наконец, крайне доволен своим служебным занятием, в силу того, что оно все состоит из цифр, а цифры, по его словам, суть самые честные вещи в мире и никогда не лгут! Говоря таким образом, Миклаков в душе вряд ли то же самое чувствовал, потому что день ото дня становился как-то все больше худ и желт и почти каждый вечер напивался до одурения; видимо, что он сгорал на каком-то внутреннем и беспрестанно мучившем его огне!» (стр. 116—117).
Писемский в романе дает отрицательную оценку русскому самодержавию и всему возглавляемому царем бюрократическому аппарату Российской империи. В этом отношении роман Писемского довольно явственно сближается с сатирой и несколько предваряет мысли, которые позже нашли выражение в драматической сатире «Хищники» («Подкопы»), запрещенной цензурой в 1872 году (см. т. IX).
Как бы желая завершить свой конфликт с «Современником», Писемский словами Елены Жиглинской дает в своем романе наивысшую оценку деятельности Чернышевского и Добролюбова (стр. 70).
С точки зрения композиции, роман «В водовороте» глубоко отличается от «Людей сороковых годов». В этом романе Писемский немало поработал над принципами композиционного единства и экономии. В романе нет «лишних» персонажей и «случайных» эпизодов. Роман «В водовороте» написан на уровне того композиционного совершенства, которого Писемский впервые достиг в своем миниатюрном романе «Старческий грех».
Именно эта высокая техника романического искусства и привлекла к произведению Писемского усиленное внимание Л.Н.Толстого, а у Н.С.Лескова вызвала предельный восторг: «Помимо мастерства, вы никогда не достигали такой силы в работе. Это все из матерой бронзы; этому всему века не будет!» (письмо к Писемскому от 6 апреля 1871 г.).[177]
Газеты того времени отмечали: «Роман этот имеет несомненно успех и читается многими чуть не нарасхват» [178]. Однако острое политическое содержание романа обусловило крайнюю разноголосицу в оценке критикой его литературных достоинств. Критик А.П.Чебышев-Дмитриев считал, что «новый роман г. Писемского не уступает нисколько лучшим его произведениям прежнего времени» [179]. Через несколько лет, вновь возвращаясь к оценке романа, тот же критик писал: «Елена Жиглинская не манекен, а живой человек с плотью и кровью» [180]. Достоинства образа Елены вынужден был признать даже реакционный критик-катковец В.Г.Авсеенко, не скрывавший, однако, своей антипатии к нему[181]. Либеральные «С. – Петербургские ведомости» при оценке романа Писемского забыли об элементарных приличиях и предоставили свои страницы для злобной брани В.П.Буренина, писавшего, между прочим: «Теперь, по окончании романа, я должен сказать, что более бесцельного и тупого беллетристического произведения в настоящем году я не знаю. Это просто сплетение сцен без лада и смысла, набор лиц и происшествий, не имеющих за собой никакой серьезной подкладки, никаких авторских намерений, кроме разве клубничных».[182]
Готовя отдельное издание романа, вышедшее в 1872 году в трех томах, Писемский внес в него некоторые изменения. Приводим наиболее существенные из них.
Комментарии
1
Добрый день! (франц.).
(обратно)2
Вы обедаете сегодня у своего дяди? (франц.).
(обратно)3
Я тоже приду! (франц.).
(обратно)4
Хорошо! (франц.).
(обратно)5
…покойного государя – императора Николая I (1796—1855).
(обратно)6
Любимец трех государей – Александра I, Николая I и Александра II.
(обратно)7
Лицей – Александровский лицей в Петербурге, ранее находившийся в Царском Селе. Основан в 1811 году.
(обратно)8
Брыли – отвисшие губы или щеки.
(обратно)9
Комильфо (от франц. comme il faut – «как надлежит») в данном случае, каким надлежит быть светскому благовоспитанному человеку (в манерах и одежде).
(обратно)10
Петиметр – модный щеголь (слово, бывшее употребительным в России в XVIII веке).
(обратно)11
я делаю, чтобы ты делал (лат.).
(обратно)12
Вотировать – голосовать (от франц. voter).
(обратно)13
моя тетушка (франц.).
(обратно)14
Пилат, Понтий – римский наместник (прокуратор) иудейской провинции в 26-36-х годах I века, упоминается в евангельских сказаниях.
(обратно)15
моя дорогая (франц.).
(обратно)16
…питаться своими трудами… – одно из главных требований передовой молодежи шестидесятых годов. Ограниченность применения женского труда в ту эпоху в России вынуждала девушек стремиться к получению преимущественно педагогического и медицинского образования.
(обратно)17
…с коронации. – Речь идет о коронации императора Александра II в 1856 году.
(обратно)18
Нигилисты (от латин. nihil – ничто) – представители разночинной интеллигенции шестидесятых годов XIX века, отрицавшие принципы и традиции дворянской культуры.
(обратно)19
Лапис (ляпис) – прижигающее средство в медицине (от латин. lapis – камень).
(обратно)20
дух недугов (лат.).
(обратно)21
Добрый день, княгиня! (франц.).
(обратно)22
Теории Дарвина. – Речь идет о работе Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859).
(обратно)23
Ренан, Эрнест (1823—1892) – французский философ-идеалист, историк религии. Труды его об Иисусе Христе использовались в борьбе с официальной церковью.
(обратно)24
Бюхнер, Людвиг (1824—1899) – немецкий физиолог, один из представителей вульгарного материализма, автор книги «Сила и материя».
(обратно)25
Молешот, Якоб (1822—1893). – Молешотт – голландский физиолог, представитель вульгарного материализма.
(обратно)26
такой негодяй не должен жениться! (франц.).
(обратно)27
Кайенна – здесь название кайеннского перца, ввозимого из города Кайенны во Французской Гвиане.
(обратно)28
Ревекка – героиня библейских легенд, жена патриарха Исаака, мать Исава и Иакова.
(обратно)29
не предмет ли она твоей любви? (франц.).
(обратно)30
Она мне очень нравится!.. (франц.).
(обратно)31
Мне кажется, что княгиня не может… (франц.).
(обратно)32
Я думаю, что она слишком апатична (франц.).
(обратно)33
Почему же вы это думаете? (франц.).
(обратно)34
Потому что она блондинка! (франц.).
(обратно)35
Но вы также! (франц.).
(обратно)36
О, я рыжая!.. (франц.).
(обратно)37
Кстати, еще одно слово (франц.).
(обратно)38
Полноте, мой дорогой! (франц.).
(обратно)39
обыденно (франц.).
(обратно)40
До свидания, мой дорогой (франц.).
(обратно)41
доброго друга (франц.).
(обратно)42
моя дорогая, какое безумие! (франц.).
(обратно)43
что он не умеет есть! (франц.).
(обратно)44
некий господин Химский! Он не молод, но человек весьма приятный (франц.).
(обратно)45
что ее мать намерена жаловаться на вас (франц.).
(обратно)46
Вы очень любезны (франц.).
(обратно)47
без церемоний, запросто (франц.).
(обратно)48
Они сделают очень хорошо!.. (франц.).
(обратно)49
Наталья Долгорукая (1714—1771) – княгиня Наталья Борисовна Долгорукова, дочь фельдмаршала графа Б.П.Шереметева. Последовала за мужем И.А.Долгоруковым в ссылку. Написала «Записки» о своей жизни. Судьба ее стала темой поэмы И.И.Козлова, «Дум» К.Ф.Рылеева и других произведений.
(обратно)50
что это очень поэтичное существо?.. Идеал русских женщин! (франц.).
(обратно)51
Благодарите за такой комплимент; кланяйтесь! (франц.).
(обратно)52
Пожарский – князь Дмитрий Михайлович (ок. 1578 – ок. 1642), один из вождей освободительного движения русского народа против польской и шведской интервенции.
(обратно)53
Долгорукий, Яков Федорович (1659—1720) – князь, государственный деятель, один из ближайших сподвижников Петра I; был известен бескорыстием и смелостью.
(обратно)54
Жизнь не поле (франц.).
(обратно)55
Сатрап – в древней Персии наместник провинции; пользовался неограниченной властью.
(обратно)56
Брак. – Вопрос об отношении к браку в шестидесятые годы был одним из наиболее острых. Нигилисты (см. выше, прим. к стр. 29) подчас отрицали не только брак, но и семью, что нашло наиболее яркое выражение в революционной прокламации «Молодая Россия», выпущенной в мае 1862 года кружком П.Г.Заичневского (1842—1896).
(обратно)57
Нукс-вомик – чилибуха, южное растение, из семян которого изготовляют стрихнин и бруцин.
(обратно)58
…ода Пушкина о свободе – ода «Вольность», написанная в 1817 году и распространившаяся вскоре в множестве списков. Впервые напечатана А.И.Герценом в «Полярной звезде» в 1856 году.
(обратно)59
Это великолепно! (франц.).
(обратно)60
Анна Иоанновна – русская императрица с 1730 по 1740 год.
(обратно)61
Остен-Сакен, Дмитрий Ерофеевич (1790—1881) – граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, участник всех войн России против наполеоновской Франции.
(обратно)62
Габерсупник – человек, питающийся «габерсупом» – лечебной жидкой овсяной кашей.
(обратно)63
Брюс, Яков Вилимович (1670—1735) – государственный деятель и ученый, сподвижник Петра I.
(обратно)64
А госпожа княгиня? (франц.).
(обратно)65
…теория невменяемости и преступлений – разрабатывалась прогрессивными юристами XIX века (Грольман, Фейербах и их последователи).
(обратно)66
Законы суть договоры – юридическое и социологическое учение, возникшее в XVIII веке и разрабатывавшееся передовыми мыслителями своего времени – Беккариа, Руссо и другими.
(обратно)67
…теория устрашения – в учении о целях наказания за уголовное преступление, иначе называется теорией психического принуждения; разрабатывалась Фейербахом (1775—1833).
(обратно)68
Рефлексы – термин, ставший популярным в России после выхода в свет знаменитой книги великого физиолога-материалиста И.М.Сеченова (1829—1905) «Рефлексы головного мозга» (1863). Прямое значение слова «рефлекс» – «отражение».
(обратно)69
Тысячи людей сражаются друг с другом (франц.).
(обратно)70
…войны бывают разные. – Здесь варьируются высказывания Н.Г.Чернышевского из его «Очерков гоголевского периода русской литературы» и других его сочинений.
(обратно)71
Бурбоны неаполитанские – королевская династия, правившая Неаполитанским королевством в 1735—1806 и 1815—1860 годах.
(обратно)72
синие чулки (франц.).
(обратно)73
Я вас приветствую, господа, и спокойной ночи! (франц.).
(обратно)74
Авраам, Сарра, Агарь – герои библейских легенд.
(обратно)75
Вместо слов «женской измены не боится, потому что никогда и не верил женской верности» было: «женской измены не боится, потому что сам всегда первый изменяет».
(обратно)76
После слов «воскликнула негромко г-жа Петицкая» было: «Во всей этой сцене г-жа Петицкая видимо хотела представить из себя горькую, неутешную вдову, для которой память об ее покойном муже дороже всего»
(обратно)77
Инфантерия – пехота.
(обратно)78
Акриды – саранча. «Питаться акридами» – питаться скудно.
(обратно)79
Возможно ли? (франц.).
(обратно)80
довольно, прекратите же! (франц.).
(обратно)81
Я сказал! (лат.).
(обратно)82
Вместо слов «Она еще и прежде того немного нравилась ему и казалась такой милой и такой чистенькой. В настоящие же минуты какое-то тайное предчувствие говорило ему, что он произведет довольно выгодное для себя впечатление на княгиню» было: «Она еще и прежде сего ему нравилась и казалась такой милой и такой чистенькой; прочитанное же им письмо ее к мужу окончательно утвердило его в этой мысли, и княгиня стала представляться Миклакову как бы совершенною противоположностью ему самому: она была так добра, а он зол; она так опрятна, а он вечно грязен; она блондинка, а он брюнет, – словом, она ангел, а он черт».
(обратно)83
Сегодня свежо!.. (франц.).
(обратно)84
я почти не сомневаюсь!.. (франц.).
(обратно)85
«Московские ведомости» – газета, издававшаяся с 1756 года. В 1863 году была арендована реакционерами М.Н.Катковым и П.М.Леонтьевым.
(обратно)86
Пообедайте со мной… обед будет хорош! (франц.).
(обратно)87
и по неприятному поводу!.. (франц.).
(обратно)88
Как вы возвращаетесь в Москву – в наемной карете? (франц.).
(обратно)89
Да, в экипаже! (франц.).
(обратно)90
Если вам угодно, пожалуйста! (франц.).
(обратно)91
Но что мы, женщины, должны делать (франц.).
(обратно)92
Они заботятся о своей репутации! (франц.).
(обратно)93
Тысяча благодарностей! (франц.).
(обратно)94
позвольте предложить вам вознаграждение (франц.).
(обратно)95
в угоду (лат.).
(обратно)96
поверенным (франц.).
(обратно)97
я вовсе не принимаю денег (франц.).
(обратно)98
Вот вам! (франц.).
(обратно)99
Хорошо, попробуем!.. (франц.).
(обратно)100
она беременна? (франц.).
(обратно)101
Почему он так думает? (франц.).
(обратно)102
Я не знаю (франц.).
(обратно)103
Он ошибается!.. Она не беременна, а больна! (франц.).
(обратно)104
Это весьма вероятно!.. (франц.).
(обратно)105
еще может пройти! (франц.).
(обратно)106
и что я не обращаю никакого внимания на его пасквили (франц.).
(обратно)107
От безумцев можно ожидать всего! (франц.).
(обратно)108
Послушайте, мой дорогой! (франц.).
(обратно)109
…еще Кочубей. – Речь идет о поэме А.С.Пушкина «Полтава» (1829).
(обратно)110
Только в Японии. – В вышедшей в 1871 году и получившей широкую известность книге демократа С.С.Шашкова (1841—1882) «Исторические судьбы женщин, детоубийство и проституция» говорилось: «В Японии родители тоже сплошь и рядом продают своих малюток женского пола в непотребные дома, где их воспитывают и потом, по достижении ими двенадцатилетнего возраста, пускают в оборот».
(обратно)111
И вы так же?.. (франц.).
(обратно)112
…она грешна против седьмой заповеди – седьмая заповедь так называемого «Закона Моисеева», согласно библейской легенде, гласит: «не прелюбодействуй».
(обратно)113
Вместо слов «отвечала насмешливо акушерка» было; «отвечала акушерка; и когда Иллионский уехал, она прибавила про себя: „Ишь, старый черт этакой, говори за него, очень мне нужно!“»
(обратно)114
Вместо слов «его спросил дьякон своим густым и осиплым басом» было: «к нему сейчас же обратился отец дьякон».
(обратно)115
Корделия, дочь короля Лира, – действующие лица трагедии В.Шекспира «Король Лир».
(обратно)116
Добрый вечер (франц.).
(обратно)117
«одна особа, которая желает ему сказать несколько слов утешения» (франц.).
(обратно)118
«он будет вполне счастлив» (франц.).
(обратно)119
Бриошки – сдобные булочки.
(обратно)120
Хорошо! (франц.).
(обратно)121
я вас умоляю (франц.).
(обратно)122
представление окончено! (итал.).
(обратно)123
Женерозничает – великодушничает (от франц. la generosite – великодушие, щедрость).
(обратно)124
Жак – герой одноименного романа Жорж Санд (1804—1876), написанного в 1834 году.
(обратно)125
«Что будет там, в безвестной стороне» – измененные слова монолога Гамлета, из одноименной трагедии Шекспира в переводе Н.А.Полевого (1796—1846). Дословно текст таков:
Но страх: что будет там? – Там, В той безвестной стороне, откуда Нет пришлецов… (Издание 1837 г., стр. 97—98.) (обратно)126
Лежьон д'онер (франц. legion d'honneur) – Почетный легион, один из известнейших орденов во Франции. Учрежден Наполеоном в 1802 году.
(обратно)127
…съезд членов лиги мира. – Лига мира и свободы, ставившая своей целью пропаганду идей политической свободы и пацифизма, была основана в 1867 году. В работе лиги принимали участие М.А.Бакунин, Жюль Валлес, И.Беккер и другие видные представители социалистического движения. В ноябре 1867 года сотрудничать в органе лиги был приглашен Карл Маркс.
(обратно)128
…польский сейм – законодательное учреждение, имевшее преимущественно сословный характер. В качестве общепольского учреждения существовал с XV века. Прекратил свое существование в связи с польским восстанием 1830 года.
(обратно)129
но я, я путешествовала по горам и долам!.. (франц.).
(обратно)130
А!.. Вот кто к нам прибыл! (франц.).
(обратно)131
Выдумка, я ничему этому не верю (франц.).
(обратно)132
Что за мысль… (франц.).
(обратно)133
…каррарский мрамор – белый мрамор, добываемый на западном склоне Апеннинских гор.
(обратно)134
Где вы берете эти деликатесы? (франц.).
(обратно)135
Да! Это верно! (франц.).
(обратно)136
Зависимость… от Англии. – Ирландия утратила политическую самостоятельность в 1801 году.
(обратно)137
…историю фениев. – Речь идет об организации ирландских патриотов, боровшихся за освобождение Ирландии. Деятельность фениев, подготовлявшаяся с сороковых годов, развернулась с 1862 года. В 1865 году состоялся конгресс фениев в Цинциннати. В том же году началось преследование их английским правительством.
(обратно)138
Вот простак, болтающий вздор! (франц.).
(обратно)139
дорогой друг (франц.).
(обратно)140
Какая нелепость! (франц.).
(обратно)141
О, сумасбродство! (франц.).
(обратно)142
Я боюсь замужества! (франц.).
(обратно)143
вы все одинаково дурны и отвратительны! (франц.).
(обратно)144
«умный человек не может быть не плут» – слова Репетилова в четвертом явлении IV действия «Горя от ума»: «Да умный человек не может быть не плутом».
(обратно)145
Ты его знаешь издавна; это твой друг (франц.).
(обратно)146
Это возможно! Я этого не знаю! (франц.).
(обратно)147
Следовательно, ты меня поощряешь! (франц.).
(обратно)148
Прусско-австрийская война – война, начавшаяся 16 июня 1866 года и закончившаяся 23 августа того же года победой Пруссии, заставившей Австрию выйти из Германского союза и передать Италии Венецианскую область.
(обратно)149
навеселе! (франц.).
(обратно)150
Немедленно! (франц.).
(обратно)151
Польщизна – совокупность всего подлинно польского.
(обратно)152
Это значит, что она все это проделала в твое отсутствие? (франц.).
(обратно)153
Да! (франц.).
(обратно)154
и сделать вид, что я давно замужем (франц.).
(обратно)155
Что ей сказать от тебя? (франц.).
(обратно)156
как вам обоим досталось! (франц.).
(обратно)157
Молох – языческий бог, неоднократно упоминаемый в библии.
(обратно)158
большой вечер (франц.).
(обратно)159
Очаровательно (франц.).
(обратно)160
«Девственница» («La pucelle») – знаменитая поэма Вольтера, имевшая целью освободить образ Жанны д'Арк от религиозной идеализации.
(обратно)161
Эмеритура – система ведомственных, дополнительных к общегосударственным, пенсий и пособий. В России возникла впервые в 1859 году в военном ведомстве, затем – в министерстве юстиции и других гражданских ведомствах.
(обратно)162
…в артистическом кружке. – Речь идет об организованном в Москве в 1865 году артистическом кружке, во главе которого стоял А.Н.Островский. Писемский принимал в кружке деятельное участие.
(обратно)163
…принц Наполеон (1856—1879) – сын императора Франции Наполеона III.
(обратно)164
…с турецким султаном. – Речь идет о султане Абдул Азисе, царствовавшем с 1861 по 1876 год.
(обратно)165
В сорок восьмом году. – Имеется в виду буржуазное революционное движение во Франции, Германии и Австрии.
(обратно)166
Да, это он! (франц.).
(обратно)167
Да, это верно!.. Есть кое-что! (франц.).
(обратно)168
Мария Магдалина – по христианской легенде, последовательница Иисуса Христа, грешница, исцеленная им от тяжелого недуга – «семи бесов».
(обратно)169
Муций Сцевола – римский патриот конца VI века до нашей эры, сжегший свою руку в огне жертвенника и тем устрашивший воевавшего с Римом этрусского царя Порсенну.
(обратно)170
Добрый день, мадмуазель, садитесь, прошу вас! (франц.).
(обратно)171
Фуга – музыкальная полифоническая форма, зародившаяся в XVI веке и получившая свое полное развитие в творчестве Иоанна-Себастьяна Баха. У Бетховена и других композиторов XIX века фуги сравнительно немногочисленны.
(обратно)172
путаница, недоразумение (лат.).
(обратно)173
«Боже, царя храни» – официальный гимн Российской империи с 1830-х годов. Музыка А.Ф.Львова, слова В.А.Жуковского.
(обратно)174
Прометей – мифологический герой, титан, похитивший у богов огонь и прикованный за это Зевсом к скале.
(обратно)175
…перед смертью покаялся. – Желая получить право на захоронение своего праха, Вольтер за несколько месяцев до своей смерти, 29 февраля 1778 года, написал: «Я умираю, веря в бога, любя моих друзей, не питая ненависти к врагам и ненавидя суеверие».
(обратно)176
А.Ф.Писемский. Письма, М.-Л., 1936, стр. 690.
(обратно)177
«Новь», 1895, No 9, стр. 289.
(обратно)178
«Русский мир», 1871, No 17.
(обратно)179
«Голос», 1871, No 209.
(обратно)180
«Новое время», 1875, No 21.
(обратно)181
«Русский вестник», 1873, июль, стр. 403.
(обратно)182
«С. – Петербургские ведомости», 1871, No 201.
(обратно)
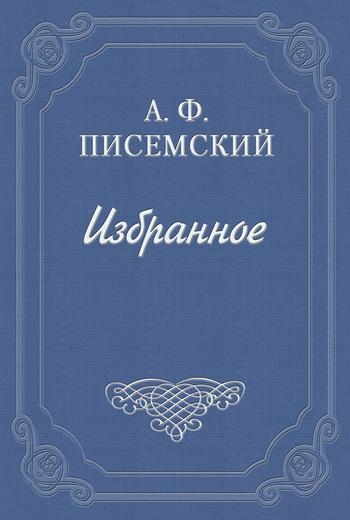

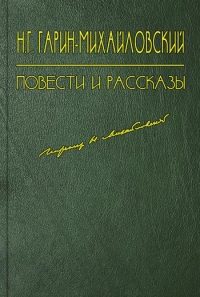
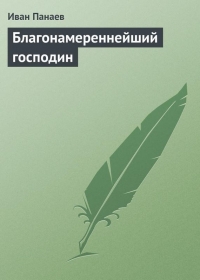
Комментарии к книге «В водовороте», Алексей Феофилактович Писемский
Всего 0 комментариев