Борис Константинович Зайцев Собрание сочинений в пяти томах Том 4. Путешествие Глеба
Б. К. Зайцев с женой Верой Алексеевной и дочерью Натальей. 1931 г.
Н. Зайцева-Соллогуб. Я вспоминаю…
Когда я была маленькая, мы жили в имении Зайцевых – бабушки Татьяны Васильевны и дедушки Константина Николаевича – в Притыкине Каширского уезда Тульской губернии. В 1996 году я была там и ничего не могла узнать – усадьбы не сохранилось, дом снесен, на его месте одни колючки, кругом все заросло огромными кустами и травой.
А тогда была красота. Я, как и все деревенские жители, вставала рано, часов в семь. Папа в одиннадцать приходил из флигеля, где они жили с мамой. После кофе снова шел во флигель, потому что каждое утро писал. Я это называла: «Книгель пошел во флигель!» По вечерам папа долго работал, а тушил свою лампу, когда уже светало и деревенские шли на сенокос.
В детстве я очень любила гулять с папой по полям, он всегда мне что-то интересное рассказывал. Мне казалось, что он знает абсолютно все! А вечерами, когда бывало ясное небо, отец показывал разные созвездия и учил меня различать их.
Он любил звезды, а особенно свою Вегу – голубую звезду. Недаром его лучшая лирическая повесть так и называется «Голубая звезда». Он отыскивал ее всюду – и в небе затемненного Парижа, когда шла война, и в каменном «колодце» Лубянки, где сидел вместе с «братьями-писателями». В нашей последней квартире, здесь на rue Fremicourt, папино кресло стоит у окна – он любил смотреть на звезды.
* * *
Весной 22-го года (приблизительно в марте – апреле) папа заболел в очень тяжелой форме сыпным тифом. Двенадцать суток он был между жизнью и смертью, без сознания. Лечил его брат Веры Николаевны Буниной – Павел Муромцев, который в конце концов отчаялся – ничего сделать было нельзя.
А мама беспрестанно молилась. В страшную тринадцатую ночь она положила папе на грудь иконку Св. Николая Чудотворца, которого особенно чтила, и просила Господа о спасении папы. Произошло невероятное: утром к нему вернулось сознание.
Папа очень медленно поправлялся, был слаб, а главное – и питать-то его было нечем. В Москве голодали.
В те годы папа был избран председателем Всероссийского союза писателей, его знали. И старые, еще со студенческих времен, знакомые отца – Каменев и Луначарский – помогли ему получить разрешение на выезд за границу на поправку. Решено было ехать в Германию. Родители думали, что папа поправится и приблизительно через год, когда в России все образуется, мы вернемся.
Я очень хорошо помню, как мы уезжали из России. Это было в июне 22-го года.
Сначала к нам в Москву приехала бабушка Татьяна Васильевна. Она в то время еще жила в Притыкине – нашем бывшем имении, где все уже давно отобрали, а дом пока оставался за ней. Бабушку я очень любила и была привязана к ней – ведь до девятилетнего возраста я жила практически с ней. Она пробыла у нас два-три дня и уехала – не хотела остаться и провожать нас на вокзале. Было очень грустно. Все плакали, но я тогда еще многого не понимала. Мне было девять лет.
А накануне отъезда к нам в Кривоарбатский, где мы жили, пришел дедушка со стороны матери – Алексей Васильевич Орешников. Он служил главным хранителем в Историческом музее в отделе нумизматики – это был крупный ученый. Дедушка любил нас, а мы все – его. Мама говорила: «Мы скоро вернемся, мы на несколько месяцев уезжаем». А он сказал грустно: «Нет, я думаю, мы уже больше никогда не увидимся».
Я помню, как мы ехали на вокзал на извозчике через всю Москву. И я сожалела о школьных подругах, с которыми училась полтора года, о бабушке, дедушке. На вокзале была масса друзей, сестры моей матери и мои двоюродные сестры. Многие плакали.
Мы сначала поехали в Ригу, где ночевали, а потом уже в Берлин. В тот момент, когда мы пересекали границу, поезд шел довольно высоко, над какими-то лесами, и папа сказал: «Вот тут кончается Россия». У меня что-то сжалось внутри, я выдернула ленту из кос и бросила в окно – на память в Россию.
* * *
Когда мы приехали в Берлин, то остановились на несколько дней в отеле, который показался мне шикарным. В первый же день родители пошли со мною в магазин, чтобы меня одеть. Мне купили соломенную шляпу и пальто, потому что мое пальто было сделано из какой-то гардины.
В Берлине была масса русских, и на улицах была слышна русская речь. Папа сразу же оказался в кругу старых знакомых: здесь были Ремизов, Белый, Ходасевич с Берберовой, Тэффи, Пастернак, Эренбург, Шмелев, А. Толстой. Некоторые, правда, вскоре вернулись в Россию, но приехали высланные Айхенвальд, Осоргин, Степун, Бердяев. Папа общался, конечно, со всеми, но особенно был дружен с П. П. Муратовым.
Первое время папа был очень слаб. Морской курорт был ему необходим, чтобы он немножко поправился, окреп, и мама старалась питать его как следует. Мы поехали в Мисдрой. Вскоре папа, действительно, стал гораздо лучше себя чувствовать и даже прибавил несколько кило.
На следующий год мы опять были на море и жили в местечке Преров в одном доме с философом Бердяевым. В то время у меня как раз был сильный коклюш, и я заразила маму Николая Александровича, которой было за 70. Все страшно волновались за ее здоровье.
Из России нам писали тогда обе бабушки, мои тети и дедушка. А сестра моего отца – Надежда, которая была замужем за французом, звала нас переехать в Париж.
* * *
Зимой 1923 года папа поехал из Берлина в Италию, в Рим, по приглашению профессора Ло Гатго. Профессор пригласил тогда нескольких русских писателей читать лекции о том, что происходит в России: как живут люди, что было во время революции. Папа знал французский, немецкий и итальянский языки. Он хорошо говорил по-итальянски. Блестяще знал итальянский Михаил Андреевич Осоргин, с которым отец был очень дружен. И свои доклады они делали для итальянской публики, которая встречала их восторженно.
Но среди этой писательской делегации были русские, которые настолько плохо читали эти лекции по-итальянски, что итальянцы ничего не понимали и говорили: «Как странно, русский язык имеет много общего с итальянским». То есть они думали, что эти писатели читают на русском языке, который «похож» на итальянский.
В это время мы с мамой жили на море. И вместо того, чтобы возвращаться из Рима в Берлин, папа поехал в Париж осмотреться и привезти нас с мамой. Наши вещи остались в Берлине, куда МЫ| больше не попали. И мы приехали в Париж 14 января 1924 года, как оказалось, навсегда.
В Париже жизнь кипела. Там была масса русских – такое впечатление, что из России уехала вся интеллигенция. Издавалось уже несколько русских газет – «Последние новости», а с 25-го года – «Возрождение», выходили «Современные записки»; газета «Руль», правда, издавалась в Берлине (ее редактором был Гессен), – и отец печатался всюду.
Очень яркой была художественная жизнь. Была опера, приезжал Художественный театр из Праги (часть его потом осталась в Париже), был балет, устраивались бесконечные балы, вечера.
Мои родители жили очень трудно материально. Был квартирный кризис. И целая квартира им была дорога по сравнению с тем, что отец зарабатывал. Вечно болела голова о том, где достать деньги. Ведь папа за свои публикации получал гроши, как и все остальные.
* * *
Первые две недели, когда мы приехали во Францию, я жила у моей тети, папиной сестры, а мои родители – у Осоргиных. Потом они нашли квартиру в Со, под Парижем, и я поступила во французскую школу. Но родители скоро поняли, что проезд в Париж из Со – это очень дорого и совсем невыгодно. Лучше платить за квартиру немножко дороже, но жить в Париже. И Константин Дмитриевич Бальмонт порекомендовал нам квартиру, которая нам понравилась, правда, квартира была нам велика, так как в ней было четыре комнаты, – и дороговата. Поэтому с нами первые полгода жила мамина племянница, Елена Аркадьевна Комиссаржевская, которая играла в театре «Летучая мышь» у Никиты Балиева (со своим маленьким четырехлетним сыном и английской гувернанткой). Две комнаты были у них, а две у нас. Елена очень поздно возвращалась после спектаклей, и ей было необходимо, чтобы квартира была жилая. Потом, когда она уехала на гастроли, к нам переехала Надежда Александровна Тэффи. Мы с ней весело и дружно жили. Она была удивительно талантливым человеком и все очень талантливо делала, она не умела шить, но даже шила мне какие-то платья (потому что мама совсем этого не умела). Мне было тогда одиннадцать-двенадцать лет, и Тэффи было приятно, что есть какой-то ребенок в доме.
Тэффи была довольно одинока. Обе ее дочери жили за границей, по-моему, в Польше. А с мамой и папой она очень дружила, хотя с папой они всегда были на «вы».
Наш дом постоянно был полон народу, но мама была строгой – по утрам она никогда не позволяла тревожить отца, который работал.
У нас часто бывал Бальмонт с женой Еленой Константиновной, «Пал Палыч» Муратов, Михаил Андреевич Осоргин с женой Рахиль Григорьевной.
Тэффи, которая жила с нами, часто по вечерам бывала где-то в гостях. А когда она приходила, то шла на кухню и там доедала всякие остатки! Она говорила: «Я, как санитарный пес, все подъедаю!»
В то время у меня еще не было таких закадычных подруг, как потом. Ведь это было начало нашей жизни в Париже. Я ходила в коммунальную школу. С французскими девочками дружила, конечно, но все-таки моим кругом были взрослые, друзья родителей. Я любила, когда к нам приходили Ходасевич и его жена Нина Берберова, но они довольно скоро уехали в Италию, кажется, к Горькому. Часто у нас бывал Владимир Николаевич Ладыженский. Он приходил всегда к завтраку, и каждый раз, когда подавали сыр, говорил:
«Вы любите ли сыр? – спросили раз ханжу.
– Люблю, – сказал ханжа, – я вкус в нем нахожу!»
Мы с мамой переглядывались и внутри хохотали.
В России мама всегда держала прислугу, и поэтому в первые годы она не очень умела заниматься хозяйством, готовкой. И наша жизнь бывала довольно сумбурной. В одном лишь мама была идеальной во всех отношениях – она оберегала папу и создавала все условия для работы. Кто-то из знакомых тогда сказал, что мама – модель писательской жены!
С Буниными родители в то время переписывались, так как Иван Алексеевич и Вера Николаевна по полгода жили в Грассе. А в те месяцы, когда они перебирались в Париж, мои родители часто приходили к ним на rue Jacques Offenbach.
Нередко бывал у нас молодой журналист А. Бахрах. С П. П. Муратовым папа часто играл в шахматы, а я показывала ему свои рисунки, – и он меня подхваливал.
В том же доме, что и мои родители, жила замечательная актриса Екатерина Николаевна Рощина-Инсарова. Она была очень интересная во всех отношениях – прекрасная собеседница, рассказчица. Мне она очень нравилась и физически – красивая, с необыкновенными глазами, чарующим голосом. Правда, очень рано она переехала в старческий дом в Cormeilles, и мы с моим мужем впоследствии часто к ней ездили. Это была очаровательная старая дама – она просто притягивала к себе. Но она была очень одинока.
Так случилось, что ни у кого из писателей и журналистов – папиных и маминых друзей – не было детей моего возраста. Дочка Ремизовых, Наташа, осталась в России со своей теткой. Она не захотела ехать с родителями. Для Ремизовых это был страшный удар, их вечная боль. Так они с дочерью больше и не виделись никогда.
Детей не было у Осоргиных. У Шмелева сын был расстрелян. У Тэффи были две дочери гораздо старше – обе они были уже замужем. У Толстого Алексея Николаевича были дети, но они в 1923 году уехали в Россию. Когда мы жили в Мисдрое на Балтийском море, я познакомилась с Алексеем Николаевичем и милейшей его женой. У нее был сын от первого брака – Фефа Волькенштейн, с которым я очень подружилась. Потом был Никита – сын Алексея Николаевича, и в 1923 году родился Митя: толстый! Он при рождении чуть ли не пять кило весил. Вскоре Толстой с семьей уехал. А с Митей я встретилась через много лет: он приезжал в Париж из России.
Папа был дружен со многими – и с Ремизовым, и со Шмелевым. Но Шмелевы в это время жили где-то за городом, и мы виделись нечасто, а Ремизовы жили в другом квартале. Серафима Павловна была громоздкая, ей трудно было ходить, и в гостях они бывали мало. Скорее, мы к ним ходили. Я помню, что, когда первый раз пришла к Ремизовым, была потрясена: в комнате Алексея Михаиловича по диагонали была протянута веревка, и на ней висели какие-то чучела, рыбьи головы, скелеты, чертики, странные сказочные предметы! Он вообще был удивительный человек, и детям это очень нравилось. Ремизов любил детей – недаром он писал сказки, рисовал фантастические полудетские картинки, мастерил игрушки.
В это время был как раз 25-летний юбилей литературной деятельности моего отца, и Алексей Михайлович очень своеобразно и смешно его чествовал: во-первых, «писатель Зайцев» был принят членом почетного Обезьяньего Ордена, в который входили многие писатели за «особые», конечно, заслуги – все это были друзья Ремизова. И второе – как высшую награду Ордена папа получил Грамоту и Обезьяний орденский хвост из папье-маше. Все это у меня хранится.
У Ремизова была целая мастерская – он был не только выдумшик, но и замечательный художник. А один почерк Ремизова чего стоил – это произведение искусства: с заглавными буквами, как в старинных книгах, с виньетками и украшениями. Его письма к папе надо не только читать, но и рассматривать.
Через 50 лет, когда Алексей Михайлович уже умер, мы с мужем были у одной дамы – Натальи Владимировны Кодрянской. В ее квартире стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, и за ними были размещены замечательные футуристические рисунки. Оказывается, это были рисунки Ремизова. Я не знаю, что со всем этим случилось. Надеюсь, что они где-нибудь в музее.
* * *
В 1926 году мы переехали на другую квартиру (И, rue Claude Lorrain), где весь дом был населен русскими.
Здесь жили Михаил Андреевич Осоргин с женой, сестра Алданова – Любовь Александровна Полонская с мужем и сыном, среди жильцов был и художник, и шофер такси, и портниха.
Русские жили каким-то отдельным государством в большой Франции: русские рестораны, русские магазины, церкви. Главным был, конечно, собор Александра Невского на rue Daru, но вскоре появилось Сергиево Подворье и многие церкви в окрестностях Парижа. Так что мы чувствовали себя почти как дома. На Пасху мы ездили на Daru и потом с зажженными свечками возвращались домой на метро На нас смотрели как на сумасшедших!
В эти годы отец написал «Золотой узор», небольшие рассказы и «Сергия Радонежского». Его тянуло писать о России, о русской святости. А в 1927 году он смог поехать на Афон в знаменитый монастырь и писал оттуда письма маме. Эти замечательные письма-дневники послужили ему черновиком для книги «Афон».
Произведения отца много переводили. «Золотой узор» был переведен на французский, немецкий и итальянский. Но мне кажется, что папу трудно было переводить – отец был слишком лирик, и переводчик должен был быть ему сродни, чтобы переводить точно папину поэтическую прозу. Однако рецензии были замечательными.
Ну а русские тиражи эмигрантских писателей были крошечными. Две тысячи экземпляров считалось уже хорошим тиражом. Конечно, мы были ни к чему не приспособлены, и эта вечная нехватка денег… Папа поехал на Афон, не имея обратного билета, и прислал маме телеграмму, что положение его ужасно. Мама пошла в «Последние новости», где должны были вскоре печататься отрывки из будущей книги «Афон», но аванса ей не дали. Выручил кто-то из друзей. А мой отец ушел после этого из «Последних новостей» и стал печататься в «Возрождении».
Всем было трудно. Особенно писателям. Придумывали разные вечера, балы, и весь доход потом делили среди писателей. Московское землячество иногда помогало. А богатые русские, у которых были хорошие большие квартиры, устраивали частные вечера. Главным образом их устраивала Мария Самойловна Цетлин.
Иногда снимали зал. Я помню, был папин вечер в отеле «Мажестик».
Вскоре писателям стали помогать Югославия и Чехия. Югославский король Александр, который учился в России, очень любил русскую культуру и помогал многим писателям – Бунину, Ремизову, Мережковскому, Куприну, моему отцу и др. А в 1928 году он пригласил всех в Белград. Бунин не поехал, а отец и Куприн были там вместе. В Белграде их чествовали и вручили ордена от короля Александра. Это замечательный орден, очень красивый, у меня хранится.
Из Чехословакии каждый месяц присылали небольшую сумму, и это помогало как-то сводить концы с концами. Со временем помощь прекратилась.
Круг интеллигенции в Париже того времени был удивительным! Это и труппа Художественного театра, и «Летучая мышь», и Рахманинов. Родители часто слушали Рахманинова. Однажды я была на его концерте: мы с папой получили билеты – безумно дорогие, но на самом верху. Я помню, мы бежали на пятый ярус как сумасшедшие!
Я слышала Шаляпина. Он пел в «Русалке» Даргомыжского.
А какой был дягилевский балет!
К эмиграции привыкали, сживались, пристраивались. Пока еще надеялись вернуться, ничем не обзаводились – жили на «чемоданах» в недорогих меблированных комнатах. Все думали: вот-вот вернемся. Но когда окончательно поняли, что этот момент не наступит, может быть, никогда, потихоньку начали устраиваться. Денег, конечно, не было. Папа, чтобы как-то разместить свои книги, сам делал стеллажи из деревянных ящиков из-под мыла «Lux», а потом красил их…
В тридцатых годах родители потеряли надежду вернуться на родину. О том, что делается в России, тогда уже знали: шли аресты, ссылки, преследования. С 1933-34 гг. переписка с Россией прекратилась.
* * *
В 1921 году мои родители перевезли меня из нашего имения в Притыкине в Москву. Они чувствовали, что в деревне все кончится плохо. Однажды пришли какие-то комиссары, посмотрели и сказали: «Ну, ты, барыня, смотри, какая здоровая – будешь дрова пилить. А писатель пусть идет в контору и работает!» После этого папа с мамой решили, что нельзя оставаться, – мы уехали.
В то время Марина Ивановна Цветаева жила очень близко от нас – на Собачьей Площадке, в Борисоглебском переулке, где теперь ее Дом-музей. Она жила со своей старшей дочкой Ариадной, а младшая – Ирина – не так давно умерла от голода. Жили они в ужасающих условиях: в особняке, где не было отопления, на самом верху. Окно было в потолке, так что было полное ощущение, что комната темная. А по углам был лед. Бедная Аля лежала на какой-то койке, бледная, худая. Мы с папой и мамой иногда заходили к Марине Ивановне – папа приносил ей дрова, чтобы немножко подтапливать.
В те годы от голодной смерти нас спасал академический паек. Папа на салазках возил паек нам и заносил Марине Ивановне ее продукты.
Когда наступило лето и меня решили все-таки отправить в деревню к бабушке, папа и мама пригласили в Притыкино на поправку Алю. Сначала мама увезла меня, а потом вернулась в Москву и через некоторое время привезла Алю. В деревне, конечно, для нее был рай. Да и для меня, тоже. Мне кажется, что в детстве всегда была хорошая погода! Мы играли, много гуляли, вокруг была чудная природа.
Аля меня всегда поражала: на прогулках обо всем, что она видела, она рассказывала в стихах – я была совершенно потрясена! Но зато я могла удивить ее тем, что каталась на лошади верхом и ездила в ночное. Бабушка мне давала попону, которой я должна была покрыть лошадь, чтобы не запачкаться, но я эту попону, как только мы выезжали из деревни, моментально сдирала и бросала в кусты, а дальше ехала, как все деревенские дети, без всякой попоны! А то бы меня засмеяли.
Когда мы возвращались домой, я захватывала эту попону. И Алю это тоже потрясало! Мы не то чтобы хвастались друг перед другом, а просто чувствовали себя свободно. Нам было весело.
Аля была невероятно талантлива. Это был вундеркинд. Даже сны эта девочка видела не обыкновенные, а поэтические. И по утрам она мне и бабушке их пересказывала.
Аля очень поправилась в деревне – порозовела, загорела: после страшной зимы в голодной и холодной Москве в деревне у бабушки было сказочно.
Осенью меня отдали в советскую школу. Я была очень рада, потому что все мое детство прошло среди детей, в деревне, где я была со всеми дружна. А в Москве я была среди взрослых. Конечно, все это были очень интересные люди, но школа есть школа.
Я помню, что в школе было безумно холодно. Мы брали с собой какую-то еду, конечно, очень скромную, чтобы поесть во время перемены. Школа была на Плющихе. Моя учительница работала в этой школе, бывшей гимназии, очень давно. Как тогда говорили, она была «из бывших». А в конце года дети стали шушукаться, что она уезжает за границу, так как ее сын был офицером Добровольческой армии.
Условия в школе были сложные. Дети мерзли. Со мной рядом за партой сидела девочка Верочка, ботинки у нее были такие дырявые, что даже виднелись пальцы. Бедность была ужасная. Многие дети так и ходили в мороз и снег.
А Аля Цветаева никогда не училась в школе. Только впоследствии, уже в Чехии, ее отдали в какую-то гимназию, но она там не ужилась. Мать ее учила сама – Аля была необыкновенно способная. В десять-двенадцать лет у нее был уже совершенно взрослый почерк, она писала без ошибок. Моя семья уехала за границу практически одновременно с Мариной Ивановной. В первый же год мы встретились в Берлине, по почему-то у нас с Алей не получилось никакого контакта. А Цветаевы очень быстро потом уехали в Чехию.
Лет через десять мы встретились вновь, когда Марина Ивановна уже переехала во Францию. Кажется, в 34-м году, я уже была замужем, мы с Алей начали дружить. И очень дружили. А потом, в 37-м, она уехала в Россию. Уговаривала и нас, но мы не поехали.
Вокруг М. И. Цветаевой был целый круг друзей и почитателей, но она все-таки всегда была одинока. А Аля была в доме как прислуга, с матерью были страшные ссоры. Но у нас она о своей семье никогда не рассказывала, да и мы не расспрашивали, зная, что ей трудно.
Я помню лето в La Faviere. Это было в 1935 году, там были Унбегауны, Марина с сыном и другие люди. Мария Сергеевна Булгакова приехала позднее. Мур тогда был толстым мальчиком, но я его маю помню. Была масса знакомых, все вместе купались, гуляли, хотя Марина Ивановна держалась несколько в стороне, с нами не купалась.
Марине Ивановне всегда было очень трудно. Еще в России она боялась за Алю, потому что у нее умерла страшной голодной смертью младшая дочка. И Алю она старалась питать, как могла. Я помню, мы однажды пришли к ней в Борисоглебский переулок к вечеру – Аля сидела на кровати, а Марина Ивановна ей впихивала какую-то несъедобную кашу Аля давилась, ire могла проглотить и держала эту кашу за щеками. Но когда мать отворачивалась, она все выплевывала и запихивала все под матрац. А в квартире жили крысы, которые свободно разгуливали по комнате и, конечно, съедали потом Алину кашу. Было жутко. Аля была очень худая. И когда мы встретились с ней после Чехии, она была вся разбухшая, отечная. Я не знаю, как она вообще выжила.
Уже во Франции Аля превратилась в красивую девушку, очень стройную, интересную, но с грустными глазами.
Особенно близки мои родители с Мариной Ивановной не были, потому что произошла скандальная история с ее мужем, Сергеем Эфроном. Он был замешан в деле Райса, весьма темном. Он потом как-то очень быстро уехал в Россию, где был арестован и впоследствии расстрелян. А Марина Ивановна осталась с сыном Муром одна, уже совсем без всяких средств. С писателями она почти не общалась, друзей у нее не было. Отец ей немного помогал материально за счет средств, получаемых от писательских вечеров. Сама же она в них почти не участвовала. Она была сложным человеком. После того, как в Россию уехали Аля и Эфрон, ей ничего не оставалось, как тоже вернуться. О ее гибели мы узнали во время войны – как-то просочилось.
С Алей мы переписывались. Вскоре после приезда в Москву она писала мне восторженные письма – ей все нравилось: и советские праздники, и энтузиазм. А потом она замолчала: арест отца, война, гибель матери, ее ссылка. Видимо, Аля знала, что все письма просматриваются цензурой, поэтому никогда не жаловалась.
Когда Аля уезжала из Парижа в 1937 году, мы, ее друзья, все ее провожали. Собрали ей денег, купили много теплых вещей для России, надарили платьев. Конечно, мы втайне завидовали Але – она едет на Родину! Тяготение к России у нас было – мы тогда еще не совсем «офранцузились». Состояние было странное: мы еще не стали на сто процентов эмигрантами, но не были российскими, советскими, упаси Бог. Хотелось нам иметь свою родину, и Россия нас очень влекла. Нам иногда казалось, что родители уж слишком перетягивают – «как было чудно до революции». Нас это даже иногда раздражало. Но, к сожалению, мы все-таки скоро поняли, что сталинский режим – это катастрофа. Возвращаться нельзя. И когда в 1939 году началась война и моего мужа мобилизовали, хотя он даже не был французским подданным, мы стали гораздо более французскими патриотами. Все очень боялись, что вдруг Россия встанет на сторону Германии, и как же мы будем воевать с Россией? Но, слава Богу, этого не случилось, хотя Сталин и Гитлер вступили в сговор. Мы страдали, когда немцы продвигались в глубь России, и очень радовались, когда фашистов поперли.
Когда кончилась война, началась страшная пропаганда по возвращению русских в Россию. Издавались газеты, создавались общества просоветского направления, некоторые эмигранты стали получать советские паспорта, чтобы уехать. Но моя семья, наши друзья понимали, что делать этого нельзя. Многих из тех, кто вернулся, арестовали, сослали, а выжили единицы.
В 1932 году я вышла замуж за Андрея Владимировича Соллогуба. Но с родителями виделась очень часто, постоянно бывала у них. Папа и мама оставались в своей квартирке в Булони, 110, rue Thiers.
Грянула война. Родители в это время гостили в имении у Ельяшевичей в Bussy. Моего мужа мобилизовали 15 октября 1939 года. Мы остались совершенно без средств, потому что Андрей получал только четверть своего жалованья. А так как он был с высшим образованием, его направили в офицерскую школу, и ему тоже надо было помогать и посылать посылки. Меня взяли в банк, где он служил до войны, мелкой служащей, и я что-то писала там всю зиму 39-40-го года. Тогда еще газеты существовали, но когда пришли немцы, все абсолютно прекратилось, и у моего отца не было никакой возможности как-то зарабатывать. Моего мужа из офицерской школы, слава Богу, не успели перебросить на фронт. И он оказался в неоккупированной зоне Франции. А мне в это время пришлось работать подавальщицей в ресторане – единственная возможность как-то продержаться. Это была очень тяжелая и неприятная работа – в этот простой русский ресторан приходили немцы, и надо было подавать. Муж вернулся осенью 1940 года, и я устроилась работать в контору.
Немцы вошли в Париж в июне 1940 года. Сначала они вели себя осторожно, но довольно скоро, когда началось Сопротивление и французы стали устраивать террористические акты, фашисты развернулись. Вскоре они объявили, что все евреи должны прийти и записаться. Евреям приклеивали на одежду звезду, которую они постоянно должны были носить. Наши друзья-евреи решили, что это не просто так. Один наш друг, Л. А. Элькинд, смог бежать в свободную зону, а его жена осталась. Как-то она спросила, сможет ли жить у нас, если будет облава? И я сказала «конечно». 14 июля 1941 года она прибежала в одном летнем платье – мы оставили ее ночевать. В ту ночь фашисты собрали массу евреев – их привезли в грузовиках на велодром, где был сборный пункт. Это было ужасно видеть: все с детьми, с какими-то кулями, узлами. Плачут…
Анна Владимировна Элькинд жила у нас. Однажды мне нужно было пойти к ней в квартиру, откуда она убежала в одном платье, и взять ее вещи – было страшно. В квартире оставалась ее старушка-мать. Немцы ее не забрали, так как ей было много лет. Я все взяла, вернулась, а через несколько дней нам с Анной Владимировной надо было выйти к фотографу, чтобы сделать ей фальшивые документы для побега. Анну Владимировну мы постоянно прятали, даже запирали дома, чтобы кто-нибудь случайно не увидел ее и не донес. Через три недели с поддельным паспортом, который помогли сделать участники Сопротивления в мэрии, она убежала в свободную зону к мужу. А ее старушку-мать мы взяли к себе в декабре, так как разнесся слух, что будут арестовывать всех евреев, и стариков тоже. Так и случилось. Примерно через месяц я помогла ей сделать паспорт на другую фамилию, и Генриетта Генриховна перебралась к дочери. Таким образом они спаслись. А очень много наших друзей погибло.
День, когда началась война с Россией, я помню, как будто это было вчера. Мы с нашими друзьями поехали в лес погулять, устроили пикник, как вдруг по радио сообщили, что немцы вошли в Россию. Это было 22 июня 1941 года.
Было ужасно: фашисты по радио орали, что идут вперед торжественным маршем, и все время играла их музыка. Хотелось заткнуть уши.
Отец сразу повесил в комнате карту России, и мы постоянно следили за военными действиями. Отец очень страдал за Россию.
А немцы во Франции стали регистрировать всех эмигрантов. О, было страшно – ведь мы были русскими.
Во время оккупации Парижа было очень плохо с едой: паек, который давали по карточкам, был крошечным, и, чтобы его получить, мы стояли в огромных очередях. Я не знаю, как мы вообще все могли вынести. По карточкам давали немножко вина и табак. Папа менялся с нами, мы ему вино, а он нам папиросы. Однажды мы с мамой встретились в метро, и я протянула ей вино для папы, да так неловко, что бутылка разбилась… Было очень обидно.
А потом начались бомбардировки Парижа. Американцы бомбили стратегические пункты фашистов, но часто попадали на жилые кварталы. Как-то папа приехал к нам в 7-й округ Парижа, и вдруг началась бомбежка – бомбили Булонь, где жили родители: там находились заводы Рено и Ситроен, на которых немцы делали военную технику. Мы видели из окна, что там бомбят. Пыль долетела даже до нашего квартала. Грохот был ужасный. Это было вечером, и вот наконец по радио сообщили, что все закончились и метро работает. Мы поехали, не доезжая Porte Saint Cloud нас высадили, потому что в метро тоже попала бомба. Мы бежали по нашей улице, беспокоясь за маму, – ведь она оставалась дома, под бомбежкой, и вдруг увидели ее на углу. На маме не было лица: она боялась, что отец попал под бомбардировку в метро…
Несколько раз бомбы попадали в соседние с родителями дома. Погибали ни в чем не повинные люди.
Папа очень исхудал. Мне даже теперь трудно об этом говорить. В квартире были выбиты стекла, растрескались стены. Когда бомбили, они с мамой бежали в убежище. Но в этот страшный период отец работал: именно в эти годы рождалась его повесть «Звезда над Булонью» – и вернулся к давней работе: в третий раз взялся за перевод «Ада» Данте. С этой книгой у него вообще было все очень странно – он начал ее переводить еще в России, но помешала революция, и книга не вышла. Потом брался за нее в эмиграции, снова правил, но работа оставалась незаконченной, и вот во время войны, когда немцы оккупировали Париж, настал час «Ада». Трагизм жизненных реалий, душевный настрой – все подвело его к окончанию работы над переводом. Он сделал эту работу необыкновенно – поэтическое творение Данте им переведено на русский язык в прозе, сохранив музыку итальянского текста.
Под бомбами, в холодной, полуразрушенной квартирке в Булони родилась книга, которая, я надеюсь, увидит свет в России.
* * *
В 1957 году моя мама очень тяжело заболела – у нее случился удар. Восемь лет она была в параличе. И все восемь лет отец ухаживал за ней. Первое время он к маме никого не подпускал: мы брали сиделку, чтобы она дежурила у мамы ночью, но пришлось ее отпустить.
Родители прожили вместе 65 лет и всю жизнь любили друг друга. И отец боролся за маму, продлевал ее жизнь.
Сначала она не могла говорить – и папа читал ей вслух: два раза перечел «Доктора Живаго», «Войну и мир», читал русских классиков и современную литературу, – он читал часами. Через несколько месяцев маме стало немножко легче, и тогда папа начал с ней говорить, чтобы память к ней вернулась. Перед сном они молились: «Отче наш…» – говорил папа, и мама силилась повторять за ним. Мама потихоньку вспоминала какие-то слова, иногда трудные, и однажды она сказала мне: «Твой папа обаятельный человек».
А потом мама даже стала немножко писать левой рукой – каракули, конечно, и папа иногда за нее дописывал слова. У меня сохранились ее записочки к Вере Николаевне Буниной, ее задушевной подруге.
В эти годы папа писал мало – он всецело отдавал себя маме. А до ее болезни задумывал книгу о Достоевском. Он очень любил Достоевского и внимательно изучал его творчество, написал несколько работ. Но его мечта осталась невоплощенной – после маминой смерти в 1965 году папа был уже в очень преклонном возрасте, и былых сил не осталось.
* * *
Моя мама и Вера Николаевна Бунина дружили с детства и до самой смерти. Две закадычные подруги – Вера Орешникова и Вера Муромцева были очень разными. Мама – эмоциональная, увлекавшаяся в юности декадентами, лекциями Бальмонта, Брюсова и Волошина, и Вера Николаевна – серьезная, строгая девушка, слушательница Высших женских курсов Герье. И тем не менее, более задушевной дружбы, сердечности в отношениях между ними, понимания, нельзя было желать.
Вера Николаевна познакомилась с Иваном Алексеевичем Буниным в доме моих родителей в 1906 году – меня тогда еще и на свете не было. Папа вспоминал, что это был домашний литературный вечер, каких тогда было много, и Бунин читал на нем свои стихи. Его, видимо, поразила очень красивая девушка с огромными светло-прозрачными глазами и тонким профилем. В квартире родителей на Спиридоновке Бунин и Вера Муромцева встречались и позднее, и мама с папой были очень рады, что у них роман, потому что любили обоих.
Иван Алексеевич с Верой Николаевной уехали из России раньше нас – в 1918 году, практически сразу же после революции, которую Бунин однозначно и резко отверг. И встретились они с моими родителями уже в 24-м году, в Париже.
Бунины обыкновенно полгода жили в Грассе на вилле Бельведер, полгода – в Париже. Я помню, что как только в 22-м году мы переехали границу Германии, папа написал Бунину длинное письмо – тогда они были еще на «вы».
Первое время во Франции они почти не виделись – переписывались, но летом 1925 года, когда мы жили в имении Ельяшевичей в департаменте Вар (а Грасс был, быть может, в ста километрах оттуда), Бунины к нам приехали на машине. Они иногда брали шофера с машиной, и в этот раз мы провели вместе весь день. Мы завтракали под платанами, а потом папа показывал всем аббатство Тороне.
Вера Николаевна очень любила детей, была мягкая, и у меня с ней сразу же получился контакт. А Ивана Алексеевича я смущалась. Ведь я, в сущности, узнавала его впервые: в России, когда они уезжали, мне было шесть лет. Потом мы виделись часто, и я подружилась с Буниными на всю жизнь.
Вскоре, тем же летом, мы поехали в Грасс, на виллу Бельведер, которую Бунины годами снимали. Я думаю, что кто-то из богатых почитателей Ивана Алексеевича платил за эту виллу, потому что у Буниных, как и у всех русских эмигрантов, денег было совсем не много. Эта вилла очень красиво стояла над Грассом – туда нужно было подниматься в гору, был сад, и посреди большого сада стояла эта двухэтажная вилла.
Вид с верхнего этажа был удивительный, иногда даже было видно море – это в двадцати километрах от Cannes. Там мы чудесно гуляли с Иваном Алексеевичем; иногда даже ночевали. Бунин всегда был оживленный, милый, элегантный. С папой у них бывали долгие разговоры. Конечно, для меня не совсем понятные, но я чувствовала, что им интересно друг с другом.
Потом, когда мы переехали в Париж, я с родителями часто бывала у Буниных. Был какой-то момент, когда Вера Николаевна серьезно болела. У нее что-то случилось с печенью, и ей даже вырезали желчный пузырь. Мы все страшно волновались. Мама и папа сильно переживали и поддерживали ее и Ивана Алексеевича, как могли.
Очень часто папа жил у Буниных в Грассе. Он там проводил месяц каждое лето, вплоть до войны 1939 года.
Тем временем я вышла замуж, и мы с мужем по его службе три недели жили в Cannes. Иван Алексеевич как-то приехал к нам завтракать. Я очень волновалась – как я его буду кормить, мне было тогда 19 лет! Был какой-то самый обыкновенный завтрак, но я купила горчицу – очень вкусную и хорошего качества. И Иван Алексеевич сразу же обратил на это внимание и сказал: «Ну, вы богато живете!» Он ко мне и мужу относился очень дружески, тепло. Иван Алексеевич любил общаться с молодежью. С нами он держался просто, без всякой позы, шутил, что-то интересное всегда рассказывал. Нам было приятно.
Как известно, у Буниных в Грассе часто жили, иногда годами, молодые писатели. Это, в первую очередь, Галина Кузнецова и Леонид Зуров. Л. Ф. Зурова Бунин выделял, возможно, не только из-за его таланта, но и из-за молодости, из-за сочувствия к судьбе юноши, прошедшего путь с Добровольческой армией, контуженного на войне.
В конце жизни Ивана Алексеевича Зуров трогательно ухаживал за тяжело больным писателем – поднимал его с постели, купал, делал все необходимое.
* * *
Папа любил бывать в Грассе, ему там хорошо работалось. У Ивана Алексеевича внизу был большой кабинет, а папа всегда жил наверху. По утрам все «творили» – в доме стояла тишина. Потом за завтраком встречались и подолгу разговаривали. Папа был сдержанным на язык, а Иван Алексеевич – острым, язвительным. Некоторых он «крыл», других – восхвалял. Был неоднозначным и иногда нетерпимым.
В предвечерние часы все вместе совершали долгие прогулки в горы. Когда я там бывала, конечно, гуляла с ними. Помню летающих светлячков, пение цикад и чудные, льющиеся отовсюду запахи. Поля цветов окружали Грасс (жасмин, розы) – ведь там делали духи. Теперь там все так застроено… Говорят, что от Грасса до моря – сплошной город.
В ноябре 1933 года по всей Франции разнеслась весть о том, что Ивану Алексеевичу Бунину присуждена Нобелевская премия по литературе. Телеграмма пришла из Швеции. Это был праздник всей русской колонии в Париже, всей русской эмиграции. Мой отец был счастлив за Бунина – и как за друга, и, конечно, как за писателя, русского писателя.
Он в тот же день написал об этом статью («Бунин увенчан») и вечером помчался в редакцию газеты «Возрождение», чтобы успеть сдать материал в ближайший номер. Выйдя из редакции, взволнованный и счастливый, он обошел все бистро на Place d'ltalie, в каждом выпивая по рюмке за славу своего друга! Мама волновалась, что он так долго не возвращался домой.
Иван Алексеевич помолодел, он был очень растроган. После возвращения из Стокгольма к Буниным валил народ, были бесконечные приемы. Но очень значительную часть премии Иван Алексеевич передал в помощь своим собратьям по перу.
В 1933 году все мы еще не знали, что многое в нашей жизни скоро изменится, что начнется война, оккупация, унижения, потери. Всю войну Бунины жили в Грассе, а мы в Париже. Удавалось посылать друг другу только короткие весточки.
Когда война кончилась и мои родители вновь встретились с Буниными в Париже, Иван Алексеевич был другой – что-то случилось с ним. Он тяжело болел, худел, раздражался. Материально Буниным было очень трудно – Нобелевская премия давно была прожита. А в эмиграции в это время начался разброд. Вскоре произошел и раскол на тех, кто сочувствовал Советам, и тех, кто не верил Сталину. Странным образом мой отец и Бунин оказались в разных лагерях.
В 1948 году Ивана Алексеевича пригласило советское полпредство на какой-то ужин, и он пошел.
Надо, конечно, учесть, что тогда каждый писатель хотел, чтобы его начали печатать в России. И многие думали, что раз Советы хотят издавать писателей-эмигрантов, значит, там что-то переменилось и если бы начали печатать Бунина, то почему бы не стали издавать Зайцева и других?..
Но папа был абсолютно непоколебим. Он не верил ни минуты в то, что при Сталине может быть что-то положительное.
А насчет их расхождений, я считаю, что вышло все досадно. Иван Алексеевич к тому времени очень болел, и ему надо было прощать многое. У него не осталось уже сил бороться. Он был рад, что его книги хотят печатать в России. Слава Богу! Еще в эмиграции бывали такие бабки, которые приходили от одного к другому и сплетничали, передавали, весьма искаженно, всякие разговоры: у Буниных против Зайцева и наоборот. Отношения испортились совершенно. Началась целая кампания в прессе, где Ивана Алексеевича очень осуждали. И он решил, что мой отец полностью на стороне этих людей. Но это было не так, хотя принципиально отец не поддерживал Бунина и не одобрял его сближения с советскими представителями.
Когда Иван Алексеевич слег, мы с мужем к нему приходили. С папой у него контактов не было, а меня с мужем он принимал. Бунины нас действительно любили как своих детей. Но Иван Алексеевич не хотел, чтобы мы его видели в тяжелом состоянии, и он с нами разговаривал нз другой комнаты. Я думаю, он сам не мог смириться с тем, что силы покидают его, он хотел остаться в нашей памяти бодрым и полным жизни. Через неделю Ивана Алексеевича не стало. Его хоронил весь Париж. Народу была масса.
Папа очень страдал. В некрологе в «Русской мысли» он привел свое последнее письмо к Ивану Алексеевичу, на которое Иван Алексеевич уже не смог ответить. В письме была боль от разрыва и признание в искренней дружбе. До конца дней отец и мысленно, и в своих работах обращался к Бунину – его творчеству, его жизни. Он любил Бунина.
После смерти Ивана Алексеевича Вера Николаевна долго не была у моих родителей. Но, когда у мамы случился удар, Вера Николаевна сама пришла. (Она была истинной христианкой, добрым и хорошим человеком.) И хотя мама не могла ни говорить, ни двигаться, а только смотрела, в этих глазах было все – и счастье, что пришла «ее Верун», и благодарность. Отношения восстановились. Но Ивана Алексеевича уже не было.
Вера Николаевна умерла через несколько лет, а в 1965 году – моя мама. Мой отец остался один.
Папино горе было глубоким – его жизнь стала воспоминанием о любви, о своей Вере. Память возвращала его в молодость, в Россию, в трудные первые годы эмиграции: он разбирал свой архив, читал и перечитывал письма жены.
Видимо, не сразу родилась у него мысль опубликовать переписку двух Вер – своей и Веры Николаевны Буниной. Он готовился к этому несколько лет. И вот в 1967-м и 1968-м вышли две книги – «Повесть о Вере» и «Другая Вера», в которых жизни и судьбы двух замечательных русских женщин, двух подруг, жен двух писателей вновь переплелись.
* * *
Отец всегда очень следил за политикой, хотя сам политикой не занимался. Но он совершенно определенно имел интуицию и знал, что можно и чего нельзя. Он никогда, даже в самые тяжелые времена немецкой оккупации в Париже, не коллаборировал, никогда у фашистов не печатался, так же, как и никогда не заигрывал с Советами. Да, он был в числе запрещенных в СССР, и поэтому, когда к нему стали приезжать из России деятели литературы, он это очень высоко ценил.
Когда у отца в гостях был К. Паустовский, очень тепло они встретились и долго-долго разговаривали. Сохранилась чудная фотография этой встречи. В 62-63-м годах приезжал академик Михаил Алексеев из Пушкинского Дома. Мама тогда была еще жива, и мы с мужем отвезли Алексеева с супругой в квартиру родителей. Это был милейший человек. Интеллигент в полном смысле слова.
А начиная с 65-го года у отца многие бывали из России: Владимир Солоухин, Юрий Казаков. Очень хотел прийти Александр Твардовский, но его явно не пустили. Они договорились, что Твардовский придет как-то утром: но накануне его секретарша позвонила и сказала, что Твардовский срочно уезжает в 7 утра…
Наталья Кончаловская приходила к папе просто в гости. Они очень долго беседовали. Бывала вдова Михаила Булгакова – она оставила о себе очень приятное впечатление.
С Борисом Пастернаком папа был знаком еще до эмиграции. А потом, в пятидесятые, возобновилась их переписка и продолжалась до самой смерти Бориса Леонидовича. Отец тяжело переживал трагическую судьбу и изгнание внутри своей страны этого большого писателя. У отца есть несколько работ, посвященных Б. Пастернаку и его памяти.
В сентябре 1971 года, мы тогда еще жили в Autheuil вместе с папой (мама уже умерла), к нам вдруг пришел из комиссариата какой-то чиновник, довольно смущенный, и сказал, что им дано распоряжение, чтобы господин Зайцев утром и вечером приходил бы в комиссариат регистрироваться: должен приехать Брежнев, а так как господин Зайцев враг большевиков, то ему необходимо приходить и расписываться. Мой отец очень смеялся. Он говорил: «Хорошо, я могу, если я такой враг, расписаться, а потом между двумя подписями пойти и убить Брежнева». Он был страшно горд, что считался опасным террористом! Ему было 90 лет, и он через четыре месяца умер, не дожив до 91 года. И тогда я, конечно, взяла у доктора свидетельство, что ходить в комиссариат он не будет, что это ему трудно, а потом пошла в комиссариат и немножко поскандалила – что это за безобразие, какой же старик террорист?! «Это не мы выдумали, – мне говорят, – это у нас такой приказ из Москвы. Если ваш отец не может приходить, к нему будет приезжать чиновник». И утром и вечером к нам приходили. Но самое курьезное было в том, что как раз в эти дни мы должны были переехать на новую квартиру. И я об этом предупредила, а мне сказали: «Тогда вы в комиссариат вашего нового округа должны заявить, и к вам оттуда будут приходить». И вот мы приехали на нашу новую квартиру, но вышло так, что в этот день лифт не действовал, а мой отец не мог подниматься на шестой этаж. Тогда наши друзья Мамонтовы сказали, что с удовольствием приютят папу, пока лифт не пустят. В этот самый день Брежнев уехал из Парижа и Марсель, так что я опять пошла в комиссариат и сказала, чтобы они не думали, что мой отец поехал за Брежневым, а просто не действует лифт, и он ночует у друзей! И к отцу приходили из того округа, где жили Мамонтовы. Эта история имела продолжение – вся литературная общественность эмиграции была возмущена, и в печати был опубликован «Протест Литературного фонда» против действия властей. А папа смеялся.
Как давно все это было! Уже 25 лет прошло со дня папиной смерти – он был последним из писателей Серебряного века, друзья ушли раньше.
Папа верил, что в России все переменится, пробьется что-то светлое: об этом он судил по литературе, по тем брожениям, которые были в 60-е годы. Папа любил говорить: «Мы – капля России», он не мыслил себя без Родины.
Вот уже скоро 10 лет, как его книги вернулись к русскому читателю. Он мечтал об этом. И я счастлива, что его внуки и правнуки сегодня живут с верой в Россию и гордятся именем своего деда.
Наталья Зайцева-Соллогуб
(Запись Ольги Ростовой Москва – Париж)
Путешествие Глеба
Автобиографическая тетралогия
Заря*
I
Двухэтажный барский дом, каменный, с деревянной пристройкой. Июньское утро, ничем от других не отличающееся – для всех, но не для некоего маленького человека. Вставши, умывшись, в деревенской своей курточке стоит он на галерейке стеклянной второго этажа – просто на минуту приостановился, прежде чем спускаться в сад пить чай. Внизу с этой стороны двор. Конюшня, каретный, людская изба его образуют. И на дворе Петька запрягает лошадь – каждое утро ездит отец за пять верст на Шахту. За крышами построек видны огороды, пологим скатом сходящие к Жиздре в лугах, и направо сосонник, а над лугами опять ровное взгорье к горизонту, у самой черты его мягко-зубчатый лес: Высоцкий заказ.
Все это так, и все не раз видано. Но сегодня… Какой невероятный, ослепительный свет, что за жаворонки, голубизна неба, горячее, душистое с лугов веянье – еще и покоса нет, а уж истаиваешь в сладких запахах, и все в свете дрожит, млеет, как-то ходить и трепещет, будто невидимый коростель выбивает световую музыку. Кажется, что сейчас задохнешься от ощущения счастья и рая – да, конечно, рай и пришел из Высоцкого заказа, или еще дальше из-за него, в световых волнах, в блаженстве запахов и неизъяснимом чувстве радости бытия. Благословен Бог, благословенно имя Господне! Ничего не слыхал еще ни о рае, ни о Боге маленький человек, но они сами пришли, в ослепительном деревенском утре…
– Глеб, чай пить!
Голос жизни, голос дня, порядка, повседневности. Мать еще в постели – несколько по утрам запаздывает, но балтийская светловолосая Лота уже в саду пред домом, и за самоваром. Сад невелик – скорее даже палисадник. Но в нем старые липы, в их тени стол, белая скатерть, самовар, стаканы, чашки – все в пестро-золотых солнечных пятнах, медленно зыблющихся, то набегающих на усы отца, который пьет с блюдечка чай с густыми сливками, то захватывающих скромный носик Лоты. А за изгородью уже улица, широкая улица села Устов, по которой утром и вечером гоняют стадо, днем мужик проедет на телеге, и сейчас детские глазенки смотрят между планок загородки: как господа чай пьют.
Глеб целует отца в рыжеватые усы, от которых пахнет табаком. С благоговением глядит на ровный боковой пробор, белой дорожкою бегущий по отцовской голове, на аккуратно, щеткою приглаженные волосы. На светлый чечунчовый пиджачок и высокие сапоги: отец облик мужественности, силы. Он допьет чай, наденет картуз, откашляется, сплюнет (Глебу казалось: и сплюнет-то молодецки). Подадут дрожки. Закурив, прохватив Петьку за туго подтянутый чресседельник, сядет отец и, подняв облако пыли, укатит на Шахту – он инженер, заведует рудниками Мальцовских заводов. Иногда и Глеба берет с собой – если едет ненадолго. (Какая радость тогда – держать в руках вожжи, похлопывать ими по спине Атласного, чувствовать сзади отца, вдыхать смешанный запах – полыни с межи, вспотевшей лошади, мази из втулки…)
Но сегодня отец уехал один. Программа иная. Во втором этаже, над балконом, отворяется окно.
– Лота, в десять часов вы повезете детей купаться.
Это значит, встала мать и началась серьезная, неукоснительная жизнь дома. Мать красива, с холодноватым выражением правильного, тонкого лица. Спокойна, не быстра в движениях, но движения эти осмысленны и полновесны. В матери есть основательность. Если на кухне Варвара слишком судачит, или бранится с Гришкой, с Дашенькой, мать появляется без особых слов, и все смолкает. Если придет подвыпивший столяр Семиошка и начнет плести околесицу: «Да мы, значит, того, барыня… как бы сказать, с праздничком, как вы господа, а мы…» – «Ну, ну, любезный, в другой раз», – и Семиошка испаряется. Мать никогда не сердится, ни на кого не кричит, но все ей подчиняются беспрекословно. Ничего она не боится. Еще до Устов, молодой инженершей, когда муж уезжал вдаль на рудники, равнодушно слушала она вой волков в зимней метели, в пустынном небольшом доме степной местности, одна с маленькими детьми. Столь же равнодушно впоследствии, в революцию, обращалась на ты к деревенским комиссарам, не решавшимся при ней и сесть.
Если же нынче распоряжение купаться, это значит, что уж очень хорош день, и по соображениям верховной власти можно пропустить уроки.
Молодой бойкий кучер Петька, выведенный отцом из мальчишек, цыганистый, но ловкий (за что и любил его отец), не очень был рад вновь запрягать – на этот раз в огромный, старомодный кабриолет. Но ничего не поделаешь. В десять он его подал. Женское царство двинулось: Лота, няня Дашенька, сестра Лиза, кузина Соня, прозвищем Собачка – среди них, с видом не совсем довольным, Глеб: он предпочел бы купаться с отцом.
Правила Соня – Петьку с собою не брали: еще подглядит! – да и старая кобыла мерно, похоронной трусцой тронувшаяся, опасности не представляла. Тем не менее, из окна мать крикнула:
– Соня, на поворотах полегче!
Соня потому называлась Собачкой, что у ней толстые щечки, веселые маленькие глаза, веселый носик, и вся она, крепенькая, более сильной породы, чем остальные дети, правда походила на здорового щенка. Старой кобылы она не боялась и лишь выехали за околицу, несмотря на наставления тетки, стала подхлестывать – кабриолет с женщинами, детьми, простынями, губками, лейкою, тазиком, громыхал вниз к Жиздре. Коноплей одуряюще пахло с огородов. Прокатили мимо сажалки с ветлами – утки, крякая, кинулись в воду, за ними желтые утята. Справа, вдалеке, синел сосонник. И быстро выехали в жизд-ринские луга. Они налились сочною травой. Шелковисто, мягкою волной, отливая иногда седоватым блеском, ходит она под ветром – сколько цветов! золотистой куриной слепоты, кроваво-липкой зари, красно-синих звоночников – покос близок! А там, погрубее, конский щавель, просто щавель, любимый детьми сергибус. Что за теплое благоуханье!
Жиздра речонка неважнецкая, но живая и рыбная. Есть омуты, и отмели, и тут дно песчаное, лозняк сопровождает ход ее среди лугов. А сейчас месяц июнь все одел светящимся своим покровом – блестит белым огнем под солнцем рябь, взблескивает рыбешка, мутно-духовито, почти сладострастно пахнет лозняк разогретый и та мелкая травка по огненному песочку, где под кустом ивовым разоблачает Лота нехитрое Глебово снаряжение. Девочки с Дашенькой купаются в сторонке. Лота и вовсе не раздевается. Она как бы командир всего маленького отряда и особливый ее надзор и поле деятельности – Глеб, небольшой, большеголовый и довольно важный мальчик с белобрысыми залысинами, морщащийся под солнцем. Его положение сейчас не из веселых: конечно, приятно и радостно катить в кабриолете на речку, вдыхать удивительный луговой запах. Но идти в воду, купаться, плескаться, как старшие девочки, ему не полагается: когда еще там отец научит плавать! Он только может в адамовом виде скакать по песку у быстрого переката Жиздры и – самое неприятное – тут как тут Лота.
Она добросовестная девушка. Что поручили, то и сделает. Одной рукой его держит, другой поливает из леечки, нарочно для того и привезенной.
– Bleib ruhig, Gleb, bleib ruing![1]
Хорошо ей говорить, а даже в жаркий день июньский вовсе не приятно, холодно и раздражительно, когда с немецкой аккуратностью льют тебе на плечи, сквозь носик с ситечком, прохладнейший дождь – точно ты редиска или огурец в парнике.
И потом – эта беззащитная голытьба пред какой-то Лотой! Нет, надо собрать всю мужскую гордость, чтобы не разреветься.
Возвратившись из Шахты, где сидел в конторе, распоряжался служащими, принимал рудокопов, выводивших свои «дудки» по тем вырубкам, где он стрелял тетеревов, отец пообедал, выпил со щами водочки, потом пива и лег отдыхать.
– В четыре меня разбуди, – сказал Глебу.
– А что?
– А то, что надо собираться на охоту.
Кабинет отца внизу, а спальня наверху, рядом со столовой – угловая. В четыре Глеб приотворил к нему дверь. Отец лежал на кровати, прикрыв лицо чистым носовым платком. По платку гуляли мухи, озабоченно перебегая с края на край, забегая в другой мир, полутемный, где дуло на них жаркою печью – смесь пива, водки, табака. Мухи даже упорно туда лезли, хотя идти по обратной стороне платка приходилось вверх ногами, и когда добирались, наконец, до желанных, красных щек, или ноздрей, из печи летело такое чихание, что приходилось наскоро улетать.
Комната же полна была горячим летним светом, опять виднелся в окне Высоцкий заказ, пахло отцом, сапогами его, стоявшими у постели, табаком, стружками от верстака и токарного станка, столярным клеем: это отцова мастерская.
В зимние, осенние вечера он строгает тут рубанком, вертит ногой педаль станка и вытачивает удивительные штуки: деревянный подсвечник, ножку к дивану, даже перечницу для стола. На верстаке же набиваются патроны.
Глеб слегка тронул его за ногу. Но несильно, чтобы не испугать. Отец не заметил. Тогда он снял платок. Отец продолжал храпеть. Глебу, при всей его основательности, приятно было поиграть с этим прекрасным, чудодейственным человеком, который зимой застрелил волка, ему, Глебу, сделал удивительный корабль – но вот сейчас лежит тут недвижимый и с ним можно забавляться как угодно.
Ощутив свою силу, он сел рядом и стал пальцем подымать отцу веко. Вышло забавно, под веком влажный белок с краснеющими жилками. Отнимешь палец, веко вновь закроется, точно игрушка. Раза два он так сделал. Потом стал щекотать в носу. Отец дрыгнул головой, как от мухи. А потом вскочил – да так быстро, что чуть не повалил Глеба: подобно всем здоровым, сильным людям, несколько пугался, если будили внезапно. Мгновение глядел бессмысленно, потом схватил Глеба, высоко поднял:
– А-а, это ты, разбойник! – и, посадив к себе верхом на плечи, торжественно прошелся по мастерской. Глебу было любопытно видеть мастерскую с птичьего полета, и он улыбался радостно, но сдержанно и как бы вежливо: не любил открыто выражать чувства. Весьма не прочь был бы прокатиться на отце и по другим комнатам, что нетрудно было сделать, но поступил иначе.
– Пятый час, ты опоздаешь на охоту. Отец ссадил его.
– Ка-а-кой огромный стал! Того и гляди вместе уток стрелять отправимся.
Отец попал в чувствительное место. То, что его до сих пор возят купаться с девчонками, что Лота поливает его на берегу из лейки как маленького, несколько уязвляло. Охотиться же он вполне бы мог! Однако это старшим не приходит в голову. Не то, чтоб самому стрелять – даже присутствовать на отцовской охоте еще нельзя.
И делая вид, что это ему безразлично, – однако же с оттенком тайной обиды – он сказал:
– У меня и ружья нет уток стрелять.
Отец не ответил. Стал надевать болотные сапоги и не без загадочности улыбнулся.
А потом началось обычное охотницкое снаряжение: в затопленной послеполуденным, зеркальным жаром комнате отец надевал свои патронташи и ягдташи, обтирал двустволку. Свернутой из бумаги лопаточкой зачерпнул соды, всыпал в стакан с водой и выпил. Забрал черного пойнтера Норму, славно и длинно рыгнул – спустился вниз. Лошадь была запряжена. Глеб сопровождал его с видом независимым, несколько и надменным: пустяки все эти охоты, видано-перевидано, не удивишь.
И когда в золотом облаке пыли отец укатил по устовской улице мимо господских амбаров к сосоннику и дальше в Сопелки, он пошел утешаться в палисадник. Утешение не из хитрых: на днях показал столяр Семиошка, как делать из молодого липового побега дудочку. Если она удастся, то в свирель такую можно высвистать и первую жизненную неудачу, всегда кажущуюся несправедливостью, и первую радость, всегда принимаемую как должное, и всегда недостаточную.
Дудочка не вполне удалась. Посвистывала, но с шипом, вовсе не то, что созидал Семиошка. Недавно Вальтон сделал… разве такую? Можно ли сравнивать?
Но не весьма он сейчас расстроился, хотя и любил, чтобы дело удавалось. День медленно протекал в обычных занятиях, с полностью и беззаботностью сладостного июня. Отпили пятичасовой чай под липами в палисаднике, и вечер положил длинные, свеже-прозрачные тени ракит, тянувшихся от дома вдоль прясла до околицы. Тени перебежали дорогу в церковь и на «поповку», легли по лужайке перед палисадником: она же и часть широченной улицы. На той ее стороне соседские дворы: Тишаковы, Гусаровы, и угловой, где пьяница муж часто колотил бабу Устинью. Все это знакомое-перезнакомое. И с деревенскими детьми дети барские в дружеских отношениях – вместе играют в лапту на лужайке, где на самом видном месте, на двух столбах с перекладиной, похожей на виселицу, висит небольшой колокол-набат: для того страшного в деревне дела, которого еще Глеб не видал, но уже слышал о нем, называется пожар.
Незадолго до заката, мимо палисадника, частью бредя и по лужайке, возвращается стадо: коровы, овцы, несколько жеребят.
Бабы выбегают из дворов, разбирают овец. Как они отличают их? Почему из сотен узнают именно своих? Этого нельзя понять. Но ошибок не бывает.
Позади стада, сидя боком на мерине, даже не обратав его, а придерживаясь рукой за холку, молодецки въезжает Вальтон – пастушок, забредший в село случайно, неизвестно откуда взявшийся. Обыкновеннейший малый, лет шестнадцати, скуластый и грубоватый, с большими глазами, загорелый… – казался он детям героем. Даже странная кличка: Вальтон, неизвестно кем данная, приросла романтически и очаровывала.
Лиза, Соня-Собачка, да и сам Глеб были в него влюблены. Вальтон бедняк и сирота, Вальтон пришелец, молодецки хлопающий бичом, молодецки сидящий на мерине, а когда надо, без обратки скачущий на жеребце, дальше всех бьющий в лапту и быстрее всех бегающий… – чем не покоритель душ?
– Бим-бом! – визжали девочки, завидя его. – Бим-бом!
Слово это домашнее, якобы и бессмысленное, но для детей смысл имевшее – таинственный, несколько стыдный. Глеб чувствовал это. Сейчас почти рассердился, что девочки болтают свои глупости.
– Что такое бим-бом? Я ничего не понимаю.
Девочки захихикали. Соня-Собачка сжала руками толстенькие свои щечки, «сделала кота» и захохотала:
– Ну, ты, дудочник… Бим-бом!
Глеб собрался было обидеться – терпеть не мог непочтительного обращения, но тут сам Вальтон на мерине поравнялся с палисадником.
– Вальтон, Вальтон, когда в лапту будем играть? – закричали девочки. – Вальтон, приходи на лужайку!
Вальтон, как знаменитый тенор, покровительственно поклонился. Когда загонит стадо, явится.
Стадо он загонял не весьма долго. Закат уже означился за церковью, розовеющим пологом. Потом звездочка показалась. Закат покраснел, летучая мышь прострекнула в воздухе уже теневом. Герой явился – небрежный и великолепный, в загаре немытой молодости. Снисходительно осмотрел Глебову дудочку – ну, это что… Завтра он ему сделает настоящую. Глеб не посмел даже обидеться за плохой отзыв (а попробовали бы сказать это девчонки!).
Началась игра – очень интересная и вовсе безнадежная для тех, кто сражался против Вальтона. Ибо и лаптой бил он дальше, и мячом стрелял в бегущего врага всех метче. Нет, Вальтон это Вальтон.
В девятом часу он ушел – позвали ужинать от Гусаровых: каждый день он кормился у кого-нибудь поочередно. Прокатил на дрожках отец из Сопелок, с двустволкою за плечами, тремя-четырьмя утками в ягдташе. Сзади за ним враскоряку сидел Гришка. Значит, и им пора ужинать.
– Kinder, nach Hause![2] – как муэдзин, возгласила с балкона Лота.
В это время, в июньской мгле мальчишки села Усты выезжали в ночное – скакали мерины и кобылы, позванивая бубенчиками, по главной слободе, подымая пыль. Уже Медведица и другие звезды все вышли. Савоськи, Ивашки, Петруньки нестройной, веселой толпой неслись на скифских своих лошаденках в луга на Жиздру. Каждую ночь начинался для них теперь Бежин луг с тайною его и поэзией. Но это Глебу было заказано, хоть и составляло горячую мечту: мать умерла бы со страху, если бы хоть на час очутился он в ночном.
И господа мирно ужинали в том же палисаднике, при свечах в стеклянных колпачках, с набивавшимися туда мотыльками. Впрочем, набегавшись, дети едва не заснули от усталости. Даже расспрос отца об охоте – любимейшее Глебовое занятие – нынче не вышло. Больше того. Пришлось тому же Гришке вынести его из-за стола прямо в спальню (рядом с материнской постелью и его кровать). Дашенька уложила. Мать пришла проститься и поцеловать.
Что-то верное, неколебимое и непреложное было в матери. Одно то, что рядом белеет ее постель, и позже она придет, ляжет на нее – делает нестрашным летний сумрак с доносящимися издали, приглушенными голосами ужинающих. На всякий случай в соседней комнате будет сидеть Дашенька. Но без ощущения матери и ее близости все было бы пустяк.
В окне темно-малиновый, изнемогающий закат. Тянет лугами, сыростью, покосом. В колосящихся ржах к Высоцкому заказу бьют перепела. Коростель надрывается – коростель июньской русской ночи.
* * *
Встав раньше других, одевшись, но еще до утреннего чая, отец заходил иногда к матери. В чечунчовом пиджаке, с гладко причесанною головой, садился на край постели, закуривал. Мать лежала покойно. Он целовал ей руку, вполголоса начинался разговор.
Глеб любил эти утренние посещения. Ему казалось – так и надо, хорошо и ласково разговаривать отцу с матерью. Это высшие и благодетельные силы: как им не жить в согласии? Невелик был еще его опыт и наивен. Многое предстояло узнать. Но навсегда обликом домашнего мира осталось: отец, почтительно целующий руку матери, мать, неторопливо и благожелательно отвечающая.
Случалось, он не слышал, как входил отец. Просыпался на середине фразы и старался догадаться, о чем идет речь.
– Тише, – говорила мать вполголоса. – Не мешай сыночке. Он проснется.
Но «сыночка», хоть и находился еще в райском возрасте, уже и хитрил, делал вид, что спит, а сам слушал. Благодаря чему из первых рук узнавал иногда любопытные вещи.
Например: не только, что у него есть бабушка, но и что у нее странное имя Франя, и ее ждут сюда. Эта бабушка Франя побывала уже у других братьев отца, а теперь, как он выразился, «объезжая епархию» (последнего слова Глеб не понял, но решил, что это нечто огромное), – посетит и их. Она старомодный человек, полька и католичка, любит порядок и довольно властная. Отец надеялся, что все пройдет хорошо.
Мать отвечала спокойно, несколько прохладно. Если бы Глеб более был искушен, он в тоне ее многое бы почувствовал. Но в его годы мало еще в этом разбираются. А вот что приедет бабушка – действительно интересно.
«Поль-ка, – подумал Глеб – странное слово». Ему представилась толстая девка Полька на деревне. Нет, бабушка, конечно, не такая.
Другой разговор оказался гораздо занятнее.
– Ты знаешь, – сказал отец, – мы с Дедом надумали заказать ему маленькое ружье. У Деда есть приятели на тульском заводе, обещали скоро сделать.
Мать удивилась. Но отец стал объяснять, что ничего странного тут нет. Глеб человек основательный, да ему и растолкуют, как надо обращаться с оружием.
Мать заметила, что ведь он еще маленький…
– Маленький, да понимающий. Его не зря Дрец назвал «герр профессор».
Первым, непосредственным движением Глеба было бы сесть на постели, заявить: «Да, и не хуже взрослого с ружьем управлюсь», но он этого не сделал. Может быть, для другого это и хорошо, но не для него. Для него, Глеба, надо сдержаться, слушать дальше и волнения не выдавать. Мало ли там какое ружье! Пожалуй, еще не настоящее.
Он слишком много мечтал о настоящем ружье, получить его слишком большое счастье, чтобы сразу поверить. Но, во-первых, если и счастье, то неприлично его показывать. Во-вторых, может быть, тут что-нибудь и не так? Подарят детскую игрушку с названием ружья…
И он смолчал. Но от волнения и сомнений, когда отец ушел, встал даже хмурым.
Мать несколько удивилась.
– Ты что, сыночка?
– Ничего.
– Ты что-то невеселый?
Мать сама была не из откровенных. Все-таки, удивилась бы еще более, если б узнала, что как раз разговор о ружье он слышал.
– Ничего. Так.
Когда он отвечал «так», за это слово далее пробраться было уже невозможно.
Глеб ходил весь день с загадочным и недовольным видом. Девочки над ним подсмеивались – он молчал. Единственно, с кем можно бы поговорить по душам, это Вальтон. Но – если не сомневаться. С Вальтоном хорошо делиться счастьем. А если все это только разговоры и ружье игрушечное? Оказаться смешным в Вальтоновых глазах?
Конечно, знает все в точности Дед. Дед человек неплохой, этого нельзя отрицать. Его просто так называют «Дедом», а он совсем нестарый, приятель отца, тоже инженер, Глеб слышал даже раз, сказали о нем: «технолог» – слово странное, но видимо, значительное. У него большая шляпа с полями и главное, огромная черная борода – из-за нее и прозвище, он правда похож на деда и все лицо сильно заросло, только глаза посмеиваются, веселые, и скорей добрые. Дед, когда приезжает, то или хохочет с отцом, или гуляет и без конца разговаривает с Лотой – о чем? Просто удивительно! Лота довольно милая девушка, отец называет ее Fraulein aus Riga[3]. В чем тут дело, не совсем ясно, однако улавливает он нечто насмешливое. Уже понимает, что она немножко «из простых», не «наша». Не то, что Дашенька, конечно, или кривоногий Гришка, но и не совсем барышня. Лицо у ней беленькое и незначительное, она очень добросовестна, честна. На нее можно положиться. И когда мать в прошлом году уезжала на полтора месяца под Калугу в имение Будаки, все хозяйство оставалось на Лоте. (Именно тогда и произошел случай, что Глеб впервые закурил, соблазненный деревенскими приятелями – да где! в конопле на огородах. Его чуть не вырвало. А вечером Лота нашла у него в кармане окурок: преступление обнаружилось. Наутро с ужасом доложила она отцу: «Gleb raucht»[4]. Отец расхохотался, сел в дрожки и поехал за тетеревами. У Глеба же остался неприятный осадок. Он еще более стал относиться к Лоте сверху вниз, и хотя подвергался унизительному омовению на бережку, все-таки резко себя от нее отделял.)
Но вот теперь от Деда с его широкополой шляпой и бородатым лицом как бы зависит, будет ли у него ружье, настоящее или игрушечное, и когда все это произойдет. Разумеется, если спросить, Дед все скажет. Но именно спрашивать-то и считает он ниже своего достоинства. Еще подумают, что это его интересует!
И Дед приезжал не раз, не два, так же называл его «юноша» (чего Глеб терпеть не мог), подхватывал, как маленького, сажал на плечо, а потом пил с отцом за обедом водочку и уходил гулять с Лотой. Никакого ружья не было.
Зато, в один прекрасный день, перед домом у калитки палисадника остановилась коляска. Из подъезда выбежали Гришка, Дашенька, в окне кухни появилась лысоватая голова кухарки Варвары. Отец осторожно и почтительно высаживал из экипажа старую даму в чепце, довольно высокого роста, с большим, не весьма правильным, но важным и как бы иностранным лицом.
– Бабушка Франя! Бабушка Франя! – закричали девочки. – У-ух!
От волнения и возбуждения Лиза и Соня-Собачка схватились за руки, как-то присели, взвизгнули и сделали вид, что им очень страшно. Потом понеслись по всему дому с воплем: «Бабушка Франя!»
Бабушка же, в черном манто, слегка поколыхивая чепцом с лентами, медленно и с достоинством, как королева в театре, проследовала в дом. Глебу вдруг стало тоже страшновато. На той стороне улицы, у своей двухсрубной избы, Масетка Тишакова, приподняв подол, как зачарованная глядела на «барыню». Потом не выдержала, от избытка чувств кинулась к своим, в хату. Глеб не прочь был бы так же поступить. Но – noblesse oblige[5]! Он не Масетка, даже и не Соня. Приехала бабушка – и отлично, надо как следует ее встретить.
Дедушка Петр Андреевич был военный, служил при Николае I, «брал Варну и Силистрию», как говорил отец. Пока его полк стоял в Польше, успел жениться на Франциске Станиславской, и вывез ее в Симбирск. В родовом Скрипине и засел, полковником в отставке, закладывая и перезакладывая другие имения. Вряд ли Россия, да еще восточная, нравилась бабушка Фране, и неизвестно, как прошла ее жизнь с мужем. Но все это ушло. До Глебовых времен сохранились лишь обрывки отцовских рассказов. Они рисовали прежнюю, уже полуфантастическую жизнь в Скрипине среди крепостных – для Глебова внука явилось бы легендарным детство самого Глеба.
Легендарная бабушка Франя дала сыновьям образование, вышли они людьми вольных и новых занятий: адвокат, врач, инженер. Сама же она пребывала средь них образом прошлого – обликом несколько иной, не совсем русской жизни.
В Устах ей отвели комнату нижнего этажа, рядом с отцовским кабинетом. Там она разложила свои вещи, повесила над постелью Распятие, на столике лежало Евангелие, молитвенник, вблизи стояла скамеечка, куда становилась она коленями на молитву. Зажгла лампадку пред иконою Ченстоховской Божией Матери – от одного сына к другому, из Орла в Киев, из Киева в Калужскую губернию странствовала она со всем своим польско-католическим снаряжением.
В устовском доме кое-где висели образа, но случайные, без любви заведенные, без любви к ним и относились: ни отец, ни мать, «люди шестидесятых годов», верующими не были. Мать, к ужасу родных, некогда ходила в Петербурге на курсы, слушала физиологию у Сеченова и носила модный тогда гарибальдийский берет. Базаровское было ей не чуждо. А отец, смеясь, рассказывал, как в Горном институте профессор богословия опровергал Дарвина. Священники в доме бывали, на Пасху и Рождество – получали, что надо, «вкушали», придерживая рукава рясы, и отправлялись восвояси.
И уж во всяком случае бабушка., со своим Распятием, ежедневными долгими молитвами (когда нельзя было к ней входить), со своим prie-Dieu[6], оказалась таинственным и необычным для детей существом. Глеб встретился с ней без затруднений. Она величественно, как императрица, но и ласково наклонила к нему свое огромное лицо. Он шаркнул ножкой, поцеловал ручку, вдохнул слабый запах духов – а затем она удалилась на свой Синай, как некое загадочное божество. Глеба она не смутила и не обидела, все же почувствовал он в ней иной мир: не возникло желание приблизиться.
К обеду, ужину бабушка выходила, иногда днем в гостиной вышивала, неторопливо, вежливо беседовала с матерью, тоже державшейся дипломатически – две великие державы, которым надо жить в мире.
– Не находите ли вы, голубчик, что Глеб ест слишком много черного хлеба по людским и с ребятишками? От этого у него может вырасти живот, как у простых.
– Да, это бывает, Франциска Ивановна. Но не нахожу, чтобы он уж так много ел черного хлеба. Разумеется, можно Лоте сказать, чтобы понаблюдала. А там видно будет.
Мать тоже что-нибудь шила, ее лицо, с профилем тонким и твердо очерченным, было покойно, если она говорила: «Там видно будет», – это значило, что во всяком случае она так не сделает. Но Франциска Ивановна не знала еще ее манеры.
Нельзя сказать, чтобы Глеб любил эти их молчаливо-дипломатические заседания. Предпочитал самостоятельность, свободу – в детской расставлял солдатиков, палил в них из пушки. Покорно стояли офицеры, рядовые, покорно падали под ядрами. Глеб расстреливал их как вздумается. Но и солдатики, и сама пушка с пружиною, спирально закрученной, стрелявшая чуть не горошиной, все это такое убожество! Он, умеющий заряжать двуствольное отцово ружье, забавляется пустяками!
О настоящем, обещанном ружье перестал и думать. Очевидно, что его не будет: значит, мимо. И отчасти стало ему даже на сердце покойнее.
Но судьба загадочна. Не оттуда идет радость, откуда ждем, не оттуда и горе. И не в тот час.
Дед так же вылезал из тарантаса, как обычно, и такая же на нем была шляпа с полями и крылатка восьмидесятых годов. Гришка, как всегда, тащил за ним вещи, пакеты и какой-то продолговатый ящик… – лицо Деда имело особенное, с оттенком торжественности выражение.
– Ну, а это, юноша, тебе!
И он поставил перед Глебом ящик.
– Беги к отцу в мастерскую, тащи стамеску, вскрывать надо осторожно…
Все это сделалось вмиг. И отец тут оказался, и девочки. Ящик вскрывали неторопливо – Глеб стоял рядом, бледный. Девочки боялись – не выстрелит ли ружье? Да, это было оно… Именно ружье, желанно-недосягаемое, мучительное и сладостное. Ничего не возразишь, нельзя и сомневаться. Маленькое шомпольное ружьецо, одноствольное, с курком и ореховым лакированным ложем, с клеймом Тульского оружейного завода: по особому заказу. Таких в продажу не выпускали.
– Ну, разбойник, – сказал отец, наклонившись к нему, поцеловав, рыжеватые усы пощекотали щеку, – доволен?
Нельзя было сопротивляться. Глебом ответно его обнял, покраснел.
– После обеда пойдем пробовать.
Для всех обед был обычен. Отец с Дедом чокались, Дед хохотал, ласково на Лоту поглядывая. Мать, на председательском месте, спокойно распоряжалась, бабушка Франя ела медленно и молчаливо, девочки болтали, встряхивая косичками. Но Глеба не было. Тело его находилось за столом рядом с матерью, но все то, что составляло его сущность, было в кабинете, где на рогу висело новенькое ружьецо. Был это первый день его детства, когда переступил он в мир недетский и не райский.
Съели сладкое, воздушный пирог. Поднялись. Вот сейчас и начнется!
Мать и бабушка Франя остались. Прочие двинулись через улицу а парк. Девочки повизгивали заранее. Ружье нес Дед – по мнению Глеба, слишком просто, почти небрежно. Отец был в благодушном настроении, а Глеб бледен, точно шел на казнь.
– Смотрите, – сказал отец Деду, – ведь сколько об этом ружье, шельмец, мечтал, а теперь идет, точно нам с вами одолжение делает.
– Сурьезный малый! На то он и Herr Professor.
Августовский день тих и сероват, в липовых аллеях, прямоугольно парк обрамляющих, желтый лист – нежно он шуршит, если идти по нем. Но идут к вишеннику, где воробьи доклевывают последние ягоды. Тут и малина, и смородина. Тут и пустой шалаш для сторожа, с деревянною дверью. На нее прикрепил Дед лист бумаги с точкою посередине круга: это цель. А отец доколачивает шомполом последний пыж. Новенький пистон, латунно сияющий, надевает на капсюльку, взводит курок.
– Ну вот, не торопись, ложе к плечу покрепче, наводи мушку в центр, собачку тяни ровно, а то дрогнешь и смажешь. Главное, половчей приладь щеку и плечо к ложу, чтобы не отдало.
Руки Глеба как лед. Ствол медленно подымается, мушка идет в центр бумажного круга, магически блестит пистон. Девочки от ужаса закрывают уши руками. Раздается – так кажется ему – удар грома. Облако дыма за мушкой, едкий запах пороху. С вишен тучей взлетают воробьи.
– Молодец, – кричит Дед. – Пять дробин в центре. Глеб стоит с дымящимся своим ружьем, опустив дуло вниз.
Убил он противника на дуэли? Застрелил разбойника?
Отец зачеркивает красным карандашом дырочки от дробин. Надо еще стрельнуть!
В это время бабушка Франя сидит в гостиной за вышиванием. От выстрела вздрагивает.
– Не находите ли вы, голубчик, – обращается к проходящей матери (та с леечкой, поливает цветы на подоконнике), – что Глебу рано еще стрелять из настоящего ружья?
– Это мужское дело, – отвечает мать. – Николай Петрович находит, что не рано.
Бабушка молчит. Она откладывает вышивание, и сквозь очки глядит своими старыми, но еще ясными глазами вдаль. На все это – ружья, стрельбу, охоту – у нее есть взгляд, но она его не скажет. У нее своя жизнь и свой мир. Одиноко за стеклами этих очков, но ничего, так и надо – давно привыкла она быть отрезанной и молчаливой.
Позже спустится Франциска Ивановна вниз, к себе в комнату. Там ждет молитвенник, Евангелие, Распятие.
* * *
Глеб часами бродил теперь с ружьем – или у дома, у каретного сарая, или в парке, где орали грачи, перелетывали желны, удоды, дрозды скакали между яблонь, а иной раз – величайшая возможная добыча! – парил на аэропланных крылах и сам ястреб.
Но дрозды улетали, к удодам он питал почти мистическое отвращение, вороны высоко сидели на липах – не достать из тульского ружьеца, а ястреба столь сторожки, столь видят все взором могучим, что почти невозможно подкрасться к сидящему где-нибудь на сухом суку (и чистящему клюв, в позе царственной). Доставалось иногда лишь воробьям, на свою голову любившим стайкою скакать по крыше погреба.
Дико-сумрачно шумит осенний ветер! В лете ворон – ухабами – в пустынности поля за парком, в дальних лесах – Чертоломе, Дьяконовом косике, в горестном благоухании октябрьском терпкая, пронзительная прелесть. Ветер обдувает детское лицо. Мальчик скитается в одиночестве, странно стремясь к убийствам… волнуясь, подкрадываясь.
Что это? Для чего? Какой зов крови, греха? Кто не испытал охотничьей страсти, не знает темных ее корней.
Глеб не выносил грубости и жестокости. С ужасом видел, как пьяные мужики бьют жен, как дерутся сами на Успенье или на Славущую. Обижался, когда отец резко бранил кого-нибудь, и вообще не выносил торжества силы: не любил римлян за всегдашние победы, сочувствовал Гектору и троянцам, терпеть не мог Рейнеке Лиса (вся книжка была исколота штыком). Никогда не ходил смотреть, как режут цыплят, и даже несколько презирал кухарку-палача Варвару… И с восторгом, почти сладострастным, смотрел, как с липового сука падает застреленная им ворона, или дрозд судорожно дергает лапой, а глаз его предсмертно затягивается – сероватою пленкой.
Он был ребенок, ничего не понимал ни в жизни, ни в страстях, и вольно отдавался темным потаенным силам существа своего. Эти блуждания с ружьем по огородам, в парке, по задворкам представлялись даже молодецким и отличным делом, сам он себе – полугероем, убитая дичь – воинским трофеем. С торжеством нес домой какого-нибудь дрозда, двух воробьев, дикого голубя-витютня: требовал, чтобы Варвара их отдельно жарила. И Варвара, и мать, и прислуга им восхищались, точно он невесть что сделал. И он сам собою восхищался. Но по гордости старался скрыть.
Отец тоже был страстный охотник, жить не мог без разных тетеревов, дупелей, зайцев, волков. Но об охоте говорил так:
– Это, разумеется, пережиток варварства.
Из уважения к мужу и любви к сыну мать старалась придумать что-нибудь разумное, даже возвышенное.
– Охотник зато хорошо знает природу, и любит ее. Сколько красоты открывается в природе… Вот, например, у Тургенева…
Иногда прибавляла соображение, как она считала, неотразимое:
– А потом, если бы мы не уничтожали диких зверей, вредных животных, то они бы нас уничтожили.
Одна Франциска Ивановна молчала. Она не восторгалась. Иногда вздыхала, уходила к себе, и лишь вечером дети наседали на нее – она рассказывала удивительные сказки – с понедельника до субботы, изо дня в день продолжение. Но слушали больше девочки. Глеб держался в сторонке. К этой бабушке, с ее породистым, продолговатым лицом, крахмальными манжетками, черным шелковым платьем и запахом духов он близости не чувствовал.
С некоторого дня осени Лота стала явно брать верх. Теперь трудно было бы думать о ружье и бродяжничестве – непрерывный дождь, улица стала непролазной. Даже отец, для охоты с гончими выжидал лучших времен. И гораздо более, чем летом, приходилось заниматься арифметикой, немецким, музыкой. Отучив утром «предметам», после обеда Лота засаживала детей за рояль – по очереди. Сестра Лиза, худенькая, с кудряшками на лбу, слегка в веснушках, играла хорошо, так же живо и увлекательно, как и строила рожи, передразнивая Дашеньку или старую птичницу Настасью. Кузина Соня-Собачка никуда не годилась. Лиза уже отбояривала пьесы – увертюру к «Семирамиде», Венгерскую рапсодию. Соня же не уходила дальше гамм. Странно и жалко было видеть эту полную, крепкую девочку с пухлыми щечками, обычно такую веселую, за роялем, где пальцы ее извлекали вялые звуки, по лесенке восходившие, по лесенке нисходившие… – от уныния и безнадежности она иногда плакала за гаммами: слезы стекали по упругим холмам щек, горячие и искренние. Падали на белые клавиши.
Глеб в бездарности ей не уступал. Думал над каждой нотой, не спешил – дальше марша из «Аиды» не ушел, да и то потому, что в левой руке был все время один аккорд, а правая выводила две-три ноты. Но эти сумрачные уроки, кончавшиеся при зажженной свече, отсвечивавшей в черном лаке рояля, остались памятью о какой-то ранней жизненной тягости, необходимости сдерживаться, что-то преодолевать и побеждать – образцы тягот и понуждений бытия взрослого.
В один октябрьский вечер, после бесплодного сражения с бемолями, диезами (на вертящейся круглой табуретке, пред роялем), сошел он, утомленный и печальный, на паркет гостиной, и мимо фикуса в кадке и зеленой «бороды», свисавшей из глиняного горшка на подоконнике, мимо столь деревенского репсового диванчика в пестрых цветах, пред которым на столе лежали альбомы, – проследовал в детскую. В углу рта на щеке у него был лишай, «огник», как называли в деревне: тоже невеселая вещь. Хотелось его почесать, а этого именно и нельзя.
В гостиной Лиза села с Лотой за рояль. Раздались знакомые звуки – в четыре руки исполняли «Эгмонта». Глеб знал эту вещь. Она нравилась ему – волновала. Он подошел к окну. Сумерки. Капли узорами расплескались по стеклу, накапливались алмазиками, бежали вниз извилистыми дорожками – кое-где окно запотело. Знакомый вид, поверх двора на огороды, к Жиздре, весь завешен серостью дождя. На погосте, вблизи церкви, мигнул огонек.
– Дашенька, когда же у меня пройдет огник? Дашенька, после матери, для него первая в доме женщина.
Она немолода, с благоразумно-увядшим лицом, кроткими, бесцветными глазами, запахом лампадного масла.
– Видишь огонек? – Дашенька указала на погост.
– Вижу.
– Гляди на него, говори: «огонь, огонь, возьми огник».
– Ну?
– Он и сойдет.
– Правда?
– Верно говорю, сойдет.
Дашенька врать не станет. Странно немножко… – что же, надо попробовать.
И не отнимая лба от холодного стекла, за которым сгущался сумрак, в том же безрадостном настроении, стал он твердить: «Огонь, огонь, возьми огник. Огонь, огонь, возьми огник».
– Дашенька, это у караульщика на погосте огонек?
– У краульщика.
– Кого же он караулит? Там ведь все покойники.
– Мало бы что. Кладбище краулит.
Помолчали. Из гостиной летели торжественные, мрачные и раздирательные звуки. Глеб не мог бы о них ничего сказать кроме того, что они его волнуют.
– А когда мы умрем, нас тоже туда положат?
– Положат… и куда эти спички задевались, пора огонь зажигать.
Дашенька вышла в другую комнату. Вернулась, неся небольшую лампу и спички.
– Тебе-то еще долго жить.
Она сняла с лампы розовый колпак, сняла цилиндрическое стекло, и, оправив пальцем круглый фитиль, зажгла его. Желтый огонек неверно пробежал по окружности, бедный, конический огонек старинной лампы. Но ее свет, из-под розового колпака, привычно осенил детскую. В углу рядом с Глебовой белела кровать матери, с высокими подушками, покрытыми кружевной накидкой.
– И маму положат? – вдруг спросил Глеб.
Дашенька посмотрела на него из-под очков, перевязанных белой ниточкой.
– Да что ты, правда? Зови Сонечку, сыграем в свои козыри.
– Не хочу.
Все умрем, все, одни раньше, другие позже! И мать умрет, и ее тоже положат на этот погост. Да, но без мамы…
Он ощутил вдруг такой приступ отчаяния, что будь тут она рядом, бросился бы к ней и зарыдал. Но перед Дашенькой не мог срамиться. Соня! Свои козыри! Боже мой… но ведь все умрут, и сама Соня…
Он вышел из спальни, прошел комнату девочек. В гостиной Лиза, с блестящими глазами, устремленными на ноты, в волнении и азарте вела свою партию. Лота деловито барабанила в басах. Он прошел еще небольшую комнату, куда выходила снизу лестница. Спустился, вошел в темный кабинет отца.
Здесь знал все наизусть, прошел мимо письменного стола, лег на турецкий диван пестро-красной материи. Над головой, на рогах, висели ружья, патронташи, ягдташ, пороховница – все родное и приятное. Никто не видел теперь его лица. Окно серело в темноте, ветер свистал в липах и орешнике палисадника.
Музыка доносилась сверху смягченная. Но волновала по-прежнему. Он лежал с закрытыми глазами – мертвые сраму не имут. Сверху раздались последние, резко рвущиеся аккорды – трамм, тра-амм, тр-ра-арам!
– Эти заключительные аккорды, – сказала наверху Лота раскрасневшейся Лизе, – означают, что Эгмонту отрубили голову. Бетховен иллюстрирует музыкой произведение Гете.
Глеб этого не знал. Но от аккордов на турецком диване содрогнулся.
Осенними вечерами отец часто читал вслух – Гоголя, Диккенса. Но нынче упорно точил в мастерской, рядом со столовой.
Дети играли в карты – Глеб мрачно обыграл Лизу и Соню-Собачку. Мать и бабушка Франя шили.
В девять сели ужинать. Отец налил себе рюмку водки, собирался уж выпить, закусывая малосольным огурчиком… вдруг все повскакали. Бом, бом, бом…
– Набат!
Бросились к окнам. Над слободой, что за овражком, шедшей к сосоннику, с медленной грозностью плыло и колыхалось розовое облако. В нем непрестанно менялось что-то, клубилось, летели золотые искры, иногда прорывались темные выплески дыма, иногда взлетал огненный язык, основание же облака было лизучее пламя, жадно жравшее избу и двор. Было нечто дьявольское, невыразимо страшное в полыхании огня среди кромешной тьмы! Впрочем, багровыми волнами чернота отодвигалась: и село Усты, со всеми своими избами и крышами, церковью, с господскими амбарами, рисовалось в этом бенгальском свете с ясностью кошмарного стереоскопа: все видно, все кроваво, мертвенно.
Отец исчез мгновенно – так и не доел малосольного огурчика! Опрометью кинулся вниз, дверью хлопнул. На то он и отец! В Устах был всеми признанным вождем – должен защищать от огня, меча, болезней и битвы. Через несколько минут все Гришки, Петьки, с топорами и баграми кинулись за ним. Соседи прибежали – выволакивали со двора насос. Сражение началось.
Ветер тяжко тянул вниз по слободе. Загорелся ближний к пожару двор. В кисейно-розовеющих клубах мелькали птицы. Бабы выли. Мычал скот, доносился гул и грохот русского деревенского пожара.
– Царица Небесная! – Дашенька крестилась. – Никак Гусаровы занялись. Барыня миленькая, до нас дойдет… Прикажите вещи укладать…
Бабушка Франя сидела на своем месте покойно, и как бы из вежливости смотрела на пожар. Ее длинное, большое польское лицо, породистое и важное, казалось, не удивлялось тому, что варварски горят избы варварской страны, где прошла большая часть ее жизни. Потом спустилась она вниз, к себе в комнату и стала на молитву перед католическим Распятием.
Мать держалась крепко, хотя и не молилась.
– Глупости, – сказала Дашеньке. – Ничего не надо укладывать. Николай Петрович не допустит, чтобы до нас дошло.
Набат – тот самый, около которого играли в лапту, похожий на виселицу – бил железной, скудной нотой. Мужики бежали по улице. Насос давно выехал, бабы спешили с ведрами.
Мать стояла у окна. По ее тонкому, прохладному лицу разлился отблеск зарева – для маленьких людей, к ней жавшихся, была она, как всегда, обликом защиты и неколебимости.
– Спи, спи, потушили. Я тут, никуда не уйду.
Мать еще не легла, сидит у его постели. Но заснуть не так-то легко! Все дрожит в груди. Да и неизвестно, ведь, что там. Правда, по крышам во дворе и на небе отблеска зарева не видать. Девочек тоже уложили, значит, нет опасности. Ну, а вдруг… когда все заснут, где-нибудь ветром и раздует, опять начнется и они сгорят?
Внизу хлопнула дверь. Шаги по лестнице. Отец входит, отирает пот со лба. От него пахнет ветром, гарью, он отфукивается. Идет к умывальнику.
– Насилу Гусаровых отстояли. А здорово занималось. Три двора…
Да, отец победил. Разве могло быть иначе? Он сорвал от крику на пожаре голос, сейчас умывается, фыркает, рассказывает, и в словах его отголосок борьбы, командования, волненья. Глеб садится на постели, глаза усталые, но так удобней слушать.
– Спать, спать, довольно!
Отец целует его, целует руку матери, уходит. Он идет к себе в мастерскую раздеваться. Но и улегшись, сам не скоро заснет, все будет ворочаться, и не раз взглянет в окно: нет ли чего.
Не скоро успокоится и весь белый двухэтажный дом устов-ский. Дашенька укроется потеплее периной, чтобы было, как она любит «рай-теплышко» – так ей менее страшно. Бабушка Франя снова молится. Девочки долго будут перешептываться: «Ты бы пошла ночью на кладбище?» – «У-у, страшно, ни за что…». – «А за тысячу рублей пошла бы?» – «И за тысячу бы не пошла». Маленький, головастый мальчик так и засыпает, не выпуская материнской руки – мать с постели протянула ее. Но теперь спит он крепко. К счастью, ни пожары, ни смерть, ни даже охота – не снятся. То, что не было решено днем, не могло решиться и ночью – как и вообще для решения предлежала целая жизнь, к концу которой лишь немногим далее уходит в этом человеке, чем в возрасте села Устов.
Мать, наконец, вынимает руку, сама засыпает на прохладной своей постели. За окнами ветер. На пожарище еще дымят головни, обгорелые бревна, кое-где угли краснеют. Но стал накрапывать дождь – они чадят, шипят. Погорелые бабы плачут в избе соседа. Смерть так же медленно, как и всегда, обходит этой ночью свой дозор, подбирая что надо.
И к великому счастию маленького человека еще проходит мимо самых дорогих и близких.
* * *
Новый день Глеба такой же, как и прежние. То же благословение своего дома, своих занятий, забав, игр. То же ученье, еще не тяжкое. Не всегда же пожары, минутно лишь приоткрылось и грозное будущее.
Не так уютно погорельцам. Но и для них сложился давний обиход. Мужики пойдут к барину, подавленные, молчаливые.
Будут вздыхать, почесываться, переминаться с ноги на ногу: «Мы к вашей милости». И понемногу наладится разговор об осинках, и тесе на крыши и разных делах строительных. А бабы – на кухню, к матери. Мать примет их со спокойствием и не впадая в сантименты. Но сунет и деньжонок, и одежды. Тронут старые платьица Лизы, захудалая Глебова курточка уйдет «голопузым». Бабы будут кланяться, благодарить – и подвывать, всхлипывать. А потом, с котомками, в лаптях, с длинными палками в руках все же двинутся по соседним деревням, мимо господского парка, где в осенних липах орут грачи, мимо школы, где румяная Любовь Ивановна обучает ребят грамоте, мимо кабака – называется он еще «патент», а не монополька – по размокшим дорогам к Буде, Каменке, мало ли еще куда: просить «на погорелое место». Если же в Буде погорят, то и в Усты придут будские бабы, с такими же котомками, в таких же зипунах и поневах, с такими же наплаканными глазами и вековечным припевом:
– Подайте на погорелое место.
– Подайте милостыньки Христа ради.
Так на этот раз устовские бабы будут проводить невеселую осень.
Но идет время. В ровных, беспросветных буднях, в молотьбе до зари с фонарем, в холстах по взгорью, стуке вальков на сажалке, в рытье картофеля с гряд (дети находят там и зеленые шарики-плоды с таким названием, что не дай Бог его произнести при Лоте) – в рубке капусты с чудесными хряпками, в вечернем гудении прялок, в лучинах, все еще со стен устовских изб потрескивающих, в обычном деревенском обиходе потонет и затянется несчастие, как ссадина на здоровом пальце. Велика стихия! Медленна, темна, но и сильна российская деревня.
А когда выпадет первый снег, побелеет и повеселеет все, то уже плотники стучат топорами, ладят срубы «в лапу», а там конопатчики наяривают долотами мохнатую паклю в щели между круглыми, только что освежеванными бревнами – пакля ложится ровным валиком.
С месяц помучиться еще погорельцам, а уж там новоселье.
Для детей радость – зима, первопутка. После мрака и мокроты осени вдруг в детской по потолку легли белые отсветы, воздух из форточки такой духовитый и вкусный, что его есть можно, а изразцовая печь жарко, по-зимнему пылает, светлое пламя трещит и бушует по березовым дровам.
Вид из окна вовсе теперь иной. Белые крыши, белые огороды, белое взгорье за Жиздрой, лишь Высоцкий заказ маячит синеющей щетинкой. Да ветви над птичником черны, да галка, разбирающая навоз, да санки – уже на подрезах, значит, снегу достаточно! – в них запрягает Петька отцу лошадь.
Надев черный полушубочек (с разводами и узорами по нему), пахнущий овчиной, оленью шапку с ушами, Глеб направляется в мастерскую Семиошки. Для этого надо выйти в калитку со двора, мимо птичника, а справа будет угол палисадника с маленьким полуигрушечными домиком: там летом жил филин. А вот сени двухсрубной избы. Налево птичница Анна, направо Семиошка. Это пожилой, худощавый и сгорбленный человек, лысый, с огромным лбом и несколько иудейским типом лица – горбатый нос, курчавая, черная борода. В бороде стружки, а голова перевязана веревочкой, кое-где тонущей в мелком завитке волос по вискам. Веревочка – как бы знак, не без значительности, священного плотничьего ремесла – всегда вызывала у Глеба почтение. Да и самого Семиошку уважали все в доме. Он походил на апостола Павла, и вернее было бы звать его Симеон. Но были и слабости, от высокого стиля отделявшие: выпивал и тогда буянил – вправду становился Семиошкой.
Глеб потянул дверь за железную скобу не без робости. Дверь приотворилась, впуская с Глебом и хлопья пара с мороза. После сеней жарко показалось в мастерской. Пахло сухим деревом, столярным клеем и уютно – живым существом: смесь цигарки с полушубком.
Семиошка в валенках, но в одной рубашке, засучив рукава строгал длинным фуганком. Нежная стружка, как пена, клубилась из-под него, благоухала. Капля пота с апостольского лба капала временами на древо. Рядом стояли согнутые и связанные полозья – явно Симеон ладил что-то к наступившей зиме и инструмент в руках его мелодически, с серебряным звоном напевал.
– Бог помочь, – сказал Глеб. (Он знал, что так говорят взрослые, приближаясь к работающему – будь то пахарь, косарь, плотник: знак уважения к труду.)
Семиошка повернул голову.
– Благодарим.
Фуганок снял еще ленту, завившуюся прозрачной спиралью, остановился. Семиошка глядел на Глеба голубыми глазами и улыбался.
– По хозяйству, значит… вместо папашки?
– Дядя Семиоша, я к тебе.
Глеб несколько смущался. Не любил просить, но тут дело серьезное: прошлогодняя скамья для катанья совсем разладилась, а деревенские мальчишки уже запузыривают вниз к Жиздре на салазках, на решетках, на скамейках подмороженных.
– Ты знаешь, та скамейка, что ты мне тогда сделал… ты знаешь, там ножка шатается, а другая и совсем треснула.
– Сейчас, знычит, барину полоз гнем… Зима, знашь-понн-машь, тово, готовое дело. Полоз новый, вишь, вон он полоз…
Семиошка не весьма речист. Слово его косно и сумбурно. Знычит, тово на каждом шагу, и не всякий его поймет, особенно, если начнет он объяснять по столярному своему искусству. Но Глеб рос среди этих нечленораздельных речей мужицких, полных иногда соли и юмора. Это был его мир. Он в нем себя по-домашнему чувствовал.
Семиошка стал свертывать цигарку – фунтиком, насыпал туда махорки. Глеб смотрел на него с благоговением.
– Полозья-то вишь какие, папеньке тоже нужно… стругаем-фугаем, кол им в шишку. Старую барыню… значит, отвозить.
Цигарка зажглась. Семиошка сладостно дыхнул дымом едким, чуто ли не адским.
– Дядя Семиоша, бабушке еще в пятницу ехать, ты с полозьями успеешь, а смотри деревенские уже на салазках давно катаются.
– На салазках, на салазках… и тебе, знычит, и сделаю… завтра поедешь. Ножку, тово… а вечером говнецом доску помажу, водой залью… заморозим… вот и тово, знычит.
В мастерской, собственно, курить не полагается. Попадет искорка в стружки – все запылает. При отце Симеошка никогда бы не закурил (а боится он только матери). Но Глеб невелика фигура, да еще и явился просителем.
– А ты все за охотой… за охотой ходишь? Знычит… самого мало от земли видать… за охотой. Ты бы ястреба стрелил. Курей у Настасьи… цыплят таскает… Ты бы ястреба. А то палить, палить, палить… чего тебе воробьи исделали?
Глеб несколько смущен, что доселе не убил ястреба. Ему и самому бы хотелось…
– Ястреб сторожкий, высоко летает. А у меня ружье всего на пятьдесят шагов берет.
– Кол ему в хрен, самых курей дерет… высоко, высоко… на самый двор слушается… какие там цыплятки, наседки, и без никаких… высоко. Кол ему в хрен.
Семиошка докурил цигарку, чуть не проглотил от жадности огонь, потом опять взялся за фуганок.
– По книжкам читаешь… там, знычит, у вас в барском доме эти, как оне… газеты… на цигарки, тово… хороша бумага. Вот бы и принес дяде Семиошке…
Глеб обещает, и чувствует опять неловкость: с этого надо было и начинать!
– Так значит, к завтрашнему?
– Знычит, сказал… знычит, безо всяких.
Теперь нельзя больше тревожить Семиошку. Он погружен в свое строганье, потом будет отмеривать, долбить, врезывать, нарезать, пойдут разные пазы, шипы и еще куда там надо будет «потрафлять» – искусство плотника и столяра чистое, евангельское, но требующее внимания, верного глаза и верной руки. Как художник истинный, подобно мастеру Возрождения, не любит Семиошка, чтоб его отрывали – до обеда будет молчаливо работать.
А Глеб вечером достанет номер газеты, залежавшийся у отца на столе под сельскохозяйственными брошюрками. На первой странице огромными буквами наверху напечатано: «Русские Ведомости». Глеб читать уже умеет, и довольно давно. На заглавие это смотрит с почтением, ему нравится, как аккуратно, округло и будто выпукло напечатаны буквы. Газету в бандерольке привозят с почты, но что там написано, его не интересует. Он не читал еще передовиц о тверском земстве, писем из Берлина, статей о борьбе с оврагами и английском парламентаризме. И не знает, что газету эту получают все просвещенные люди вроде его родителей, и сам он будет получать, и на ней пройдет его молодость, сложится взгляд на государство и общество – такой, как по тем временам полагалось.
А пока что газету он аккуратно складывает, незаметно прячет под подушку.
Утром бежит с ней к Семиошке. Первое, что видит в сенях – перевернутая скамейка: да, он починил ножку и, намазав навозом нижнюю доску, залил водою так, что превратилась она в ледяшку (с прослойками коровьей яшмы и аметистов). Теперь, на такой скамье, чудно будет катить вниз от околицы к Жиздре!
Глеб сует художнику «Русские Ведомости» – дымком развеет Семиошка интеллигентские писания! – благодарит, и по чудесному, белеющему снегу тащит за веревочку скамейку. Она скользит на ледяной подкладке своей точно по атласу.
Семиошка сказал правду: полозья готовил для тех саней, троечных, на которых должна была уезжать бабушка Франя. Они считались парадными и предназначались, как говорил отец – «для лиц особо высокопоставленных». Отделаны были жестяными бляхами, задок – сложными разводами. Внутри спинка закрывалась ковром, ноги укутывались бараньей полостью с черным дубленым верхом. Так как снегу выпало еще мало, запрягать можно тройкою в ряд, в не гусем.
Да, бабушка Франя уезжала. Она пробыла в дикой Московии сколько полагается, а теперь направлялась в Киев к младшему сыну – в края более близкие ее сердцу, чем медвежьи углы Калужской губернии. Привыкши странствовать, не имея угла прочного, она и на этот раз укладывалась покойно, не без равнодушия. Да и вещей у нее немного. В большом чемодане добротные и старомодные платья, в маленьком – Распятье, Евангелие, молитвенник и разные вещицы ежедневного обихода. Так готова она была к еще одному жизненному путешествию.
Обедали в тот день чинно, даже не без торжественности. Не спешили, не суетились. Отец выпил с Дедом, гостившим уже дня три, водочки, но не весьма развеселился: что-то даже задумчивое в нем появилось. На дворе позвякивали колокольчики. Лошадиное ржание иной раз долетало, храп: Петька запрягал уже, к двум настрого ему наказано подать. И когда доедали сладкое, в полном своем кучерском одеянии выехал он на тройке из ворот, сделал медленный круг, остановился возле палисадника.
Бабушка облачалась долго. Как архиерею, ей все само подавалось и все само надевалось. Валенки, салоп, верхняя отцова шуба из рук Дашенек, Гришек, Машек точно без участия самой Франциски Ивановны перебирались на нее. Она являлась обликом безмолвного владычества. Большое ее лицо с важными, малоподвижными чертами было серьезно, но покойно.
Перед тем как спускаться, в гостиной на минуту присели, и даже отец, из уважения к отъезжающей, перекрестился. Потом подошел к ее ручке. Франциска Ивановна наклонилась, поцеловала его в аккуратный пробор. Обняла и мать. Глеб шаркнул, тоже поцеловал руку… раз отец это сделал, значит, и ему надо.
Девочки были взволнованы, да и у отца подрагивали губы.
– Ну, дети, желаю вам жить мирно и счастливо, Господь вас храни! Приведет Бог, на будущий год увидимся.
И бабушка выплыла, а по пути к саням кланялись ей домочадцы и прислуга, и все высыпали в палисадник. В сани ее водрузили основательно, подтыкали, укутывали ноги полостью, за спину подложили подушки. До Шахты, откуда шел поезд узкоколейной Мальцовской дороги, сопровождал ее и отец.
Глебу очень хотелось стать сзади на полозья и провезти за собой на буксире Семиошкину скамью (сам Семиошка, в нагольном тулупе, валенках, с веревочкой вокруг лысой головы, толокся тоже тут, как юродивый Древней Руси при отъезде боярыни Морозовой).
Все же Глеб не решился. Слишком было торжественно, слишком и сам он серьезен – вряд ли для него подходило такое легкомысленное занятие.
Ему стало даже легче, когда сани тронулись и оставшиеся принялись махать, кто платком, кто перчаткою. Точно разрешилось электрическое напряжение, накопившееся нынче. Серел мирный зимний устовский день.
И Глеб, в своем полушубочке, пахнувшем овчиною, в оленьей шапке, за веревочку обычно потащил скамью к околице. Девочки тоже пошли кататься. Дед с Лотой взяли огромные салазки. Мать спокойнее вернулась в дом, Лота принялась хохотать, слегка даже взвизгивая, пряча руки в черную муфту. Шапочка ее под вуалью съехала набок, щеки зарумянились. Дед очень был весел.
От околицы шла вниз к Жиздре покатость. Сани и детские салазки, подмороженные скамьи и решета успели натереть дорогу – местами блестела она зеркально. Глеб соблаговолил посадить к себе Соню-Собачку. Но на заднее место. Правил сам.
Лизу взяли Дед с Лотой. Глеб осторожно, основательно правил ногами, скамья сначала шла медленно, потом шибче, шибче, за спиной повизгивала от страха Собачка. И мимо сажалки неслись уже вовсю. Сзади слышался хохот Деда, возня, визг – все трое перекувырнулись на раскате. Впереди же, переехав через жиздринский мост, тройка взяла резво на изволок. Если бы Глеб этим интересовался, он мог бы еще разглядеть сани с высокой фигурой бабушки. Но он занят был своим. Щеки его разгорались, он вдыхал острый и очаровательный ранне-зимний воздух, жил азартом, наслаждением полета, эти минуты так были пронзительны! Ни до кого, ни до чего нет дела. Он был еще мал, но уже слишком полон собой, чтобы думать о других – хотя бы об этой важной старой даме, уезжавшей с отцом. Сам он только начинал жизненное странствие свое и не задавал себе вопроса, встретит ли еще эту бабушку Франю, с такой торжественностью отправленную. Но если бы и старше был, мог ли бы знать, что удалявшаяся эта тройка навсегда увозит гоноровую пани из села Устов и от них всех.
Игры и катанье продолжались до вечера. Подошли и деревенские друзья – все Савоськи и Масетки. Не хватало лишь Вальтона. Как молодой летний бог, закатился он с осенью, и никто не знал, явится ли следующим летом. Теперь Роман Гусаров был на первом месте, но не в героическом роде, а скорее увеселяющем: мальчик некрепкий, с большим животом от черного хлеба и таким жалостным свойством, что ткнут его в живот пальцем, он издает звук, похожий на маленький взрыв.
Стемнело, и в господском доме засветились окна, когда снизу, от Жиздры, послышался колокольчик. К возвращавшемуся с Шахты, уже без бабушки, отцу не постеснялся примоститься на облучок Глеб, ведя скамью на буксире. Отец сидел в санях глубоко, слегка распахнув енотовую шубу. Огонек папироски, раздуваемый ветром, освещал рыжеватые усы. Сладко тянуло табачным дымком.
– Ну, разбойник, набегался?
– Я вовсе не разбойник, – ответил Глеб. – Я просто на скамье катался. Мы очень здорово с Соней летели. Но она трусиха. Все боится. А ты будешь нам после чаю «Тараса Бульбу» читать?
– Буду.
Тройка шагом въезжала во двор, уже темный, лишь с отсветами из кухни. В мастерской Семиошки, вдали в углу, светилось тоже окно. Гришка затворил ворота. Полкан метался с лаем на цепи.
Отец медленно вылезал из саней.
– Ну, если у тебя, – сказал Петьке, – следующий раз опять постромки будут коротки, я тебе ноги повыдергаю. Смотри у меня, если Атласный зарубится…
После вечернего чая – со сливками, горячим хлебом, ледяным маслом, в промежутке до ужина, под висевшей над столом лампой отец действительно читал Гоголя. Мать шила. Слушал и Дед, и Лота, нечто вязавшая, и девочки. Глеб сидел рядом с отцом и благоговейно смотрел ему в рот.
Казаки носились по невиданному полю перед фантастическим Дубном и сражались подобно героям «Илиады». Все они были великолепны, громоподобны и невероятны. Но высокий звон речи гоголевской волнами колебал душу, владел ею, как хотел. Да и отец, хоть не дитя, читал с волнением. Когда дошло до казни, и Остап, в терзаниях, не вытерпев, спросил: «Батько! где ты? Слышишь ли ты все это?» – а Тарас ответил: «Слышу», – отец остановился, вынул носовой платок, поочередно приложил его к правому, левому глазу. Глеб встал, подошел сзади, обнял его и поцеловал: этим хотел выразить все восхищение и Гоголем, и отцом. В ту минуту ему казалось, что и он мог бы так же выдержать все мучения, а отец был бы Тарасом.
Мать подняла большие свои, строгие и красивые глаза, взглянула на отца внушительно.
– Ты всегда выбираешь такие вещи, которые волнуют детей. Сыночка теперь плохо будет спать.
Отец несколько смутился, ничего не ответил, громко высморкался.
– «При чем нос его звучал как труба», – вдруг сказал Глеб – вспомнил любимое отцово место из того же Гоголя.
Все засмеялись. Отцова мягкая и теплая рука гладила щеку Глеба.
Мать не позволила дальше читать: и ужинать пора, и нечего на ночь увлекать детей фантазиями. Отец подчинился, захлопнул том тихонравского издания в темно-зеленом холщовом переплете, изделия жиздринского еврейчика-переплетчика, с которым отец разговаривал все же вежливей, чем Тарас с Янкелем.
Был этот вечер для Глеба полон сильных и высоких чувств. Впервые он переживал поэзию, касался мира выше обыденного. Эта поэзия была и в окружающем, не только в книге. По младости не мог он, разумеется, ценить всей благодатности того дыхания любви, заботы, нежности, которыми был окружен. Лампа над столом, Гоголь, близкие вокруг, большой уютный дом, поля, леса России – счастья этого он не мог еще понять, но и забыть такого вечера уже не мог. А после ужина, уйдя в спальню и улегшись, заснул скоро: несколько раз мелькнула тень Остапа, а потом усталость от салазок, воздуха зимы, катанья одолела.
В комнате его, позже, когда все уже легли, стало светлее, слабым, бледно-зеленеющим мерцанием. Над Высоцким заказом поднялась за облаками луна. От нее сеялся призрачный пустынный полусвет. В полночь утки беспокойно бились, крякали на сажалках. Гуси гоготали. Может быть, волки бродили по пороше? Отец, взяв револьвер, вышел прогуляться, навести порядок: давнюю вел войну с волками.
Ночь была таинственна! Молчали Усты. Собака вдали глухо, одиноко лаяла. Глеб и мать, Лиза с Соней-Собачкою и Лота, загадочно во сне улыбавшаяся, могли спать покойно: в доме есть отец, мужчина, воин. Он не выдаст.
* * *
Для мальчика с залысинами на висках дом устовский и село Усты были миром видимым и действительным. Парк, церковь с «поповкой» и погостом, речка Жиздра, пахучий сосонник с тихим, вечным, нездешним шумом в вершинах – это бесспорное и обыденное. Но дальнее кольцо лесов, где охотился отец: Высоцкий заказ, Чертолом и Сопелки со Святым колодцем, Дьяконов косик, Козий бор, часть которого называлась Ландышевым лесом и куда дети ездили за ландышами (целые поляны сплошь были покрыты ими) – это уже нечто полусказочное. Тут водились волки и лисицы, барсуки, может быть, и медведи. Веяло глушью, дичью – недалеко уже и Полесье. Когда в дрожках, с отцом, приходилось проезжать по такому лесу, сквозь его бурелом, сырость, грибной дух, тишину, Глеб, немножко робел: вдруг медведь выйдет, лось? «Это дремучий лес?» – спрашивал у отца. «Дремучий». Для Глеба дремучий значило бесконечный и непроходимый – прелестный.
Сейчас все эти леса занесены были снегом и за ними лежали иные поля, иные леса и города величайшей страны, сыном которой Глеб родился, и которую знать, конечно, мог еще очень мало. В тридцати верстах, в Жиздре жил переплетчик и была библиотека. Из нее впервые привезли ему Жюля Верна и Майна Рида. Гораздо далее большой городок Калуга, под которым купил отец именьице Будаки. (Мать уже ездила туда. Ездил и отец, но для Глеба все это было еще впереди.) И, наконец, совсем вдали Петербург, он знал: «Столица». (О Москве же и вовсе не имел представления.)
Огромности, далей своей страны не мог бы он ни понять, ни измерить. Но что называется она «Россия» знал, и к слову чувствовал уважение. В разговорах отца с Дедом, матерью слышал нечто и о Германии, немцах, Бисмарке. Может возникнуть война. Нельзя сказать, чтобы это его волновало, но когда однажды из Людинова приехал к ним кузнечный мастер Дрец, бородатый охотник и немец, Глеб выставил наверху лестницы, ведшей во второй этаж, пушку, и заявил, что подыматься нельзя. «Я открою огонь». – «Ну, почему же и в меня стрелять?» – спросил добродушно Дрец. «Потому, что вы немец. Мы русские, у нас с немцами война». Дрец был изумлен ранней осведомленностью Глеба, тогда-то и назвал его Herr Professor.
Все же он поднялся – благодаря заступничеству матери. Но в Глебовой голове с этого дня подчеркнулось, что Россия – нечто весьма серьезное, из-за чего можно открыть стрельбу. И за это назовут даже Professor'ом – он чувствовал, что в самом слове есть уважительное.
Всегдашнее его чувство превосходства над окружающим лишь возросло.
Войны в тот год не случилось и Дрец мирно уехал, а время влекло мирную жизнь дальше и дальше, приближая к дням Рождества.
Так или иначе относились бы родители Глеба к Рождеству, в русской деревне, да и во всей жизни тогдашней прочно сложился рождественский обиход. Давным-давно вся уж Россия с океанами лесов своих, полей, степей Младенца приняла.
Конечно, апостольский Семиошка съездит с Гришкою на розвальнях в Чертолом, вырубит, привезет елку, в жаркой своей мастерской подделает под нее крест, чтобы не падала, и чтобы подтвердить, что сие древо священно. Священное древо внесут в гостиную с роялем и репсовым диванчиком, перед которым на столе альбом, с фикусом и ползучею «бородой» у окна. Оно наполнит ее запахом хвои и леса! И простоит здесь всю ночь. А в сочельник, пред вечером, Лота и мать, бородатый Дед, отец, плотно запрут двери, начнут елку убирать. Сколько звезд, коробочек, рыбок, сияющих шариков, а главное: сколько свечей! – красных, белах, зеленых. Понемногу они зажигаются. В щель на полу из угловой детской, где живут Лиза и Соня-Собачка, виден свет. Вот счастливые, кто убирает елку! Но и те, кто дожидается, тоже счастливые. Долго их не пускают, а уж когда откроют двери, точно царские врата отверзлись. Дети даже останавливаются на пороге, такое сияние, струение тепла и света, смешанный запах елки, тающих свечей, свежести…
Ангел водружен на верхушке, легкий и невинный подмалеванный картонаж, но летит куда надо, над древом и комнатой. А внизу, сбоку на столике подарки: Глебу краски и кисточки, Лизе ноты, Соне-Собачке платьице. И неизвестно почему, но в тон этих волшебных дней все вокруг елки хохочут и радуются, и мать и Лота целуют. Выползают из кухни кухарка Варвара, Гришка, Семиошка, Дашенька. Появляются и Масетки, Анютки, Романы, друзья-приятели деревенские, тоже получают подарки и угощенье. Посапывают детские носы, утираемые рукавом, попахивает чем-то «простым», но Роман Гусаров держится и не разводит своей музыки. И как всегда было – дай Бог, чтоб и всегда осталось! – дети устраивают вокруг елки хоровод.
Младенец рождается и приходит. Сквозь вековой сон и тьму на мгновение просыпается мир, улыбается.
И смиренное село Усты, в быте еще полукрепостном, с господами и крестьянами, священниками, краснощекой учительницей Любовью Ивановной, как умело, улыбалось. Именно – как умело!
Утром в первый день многие шли в церковь. Мужики с примасленными головами, бабы в кичках, с утиными пушками вместо серег. Среди них чуть не правило, две-три кликуши. На Херувимской или перед причастием начинали они истерически вопить, биться в судорогах. Их выносили. Это было привычно, и здоровые относились равнодушно, как и в церковь равнодушно ходили. Батюшка, при некоем козлогласии дьячка на клиросе, как полагается служил, и как полагалось являлся после обедни в господский дом с причтом для молебствия.
Глеб боялся священников, и из самых дальних дней бытия у него сохранился как бы ужас перед несгибающейся золотой ризой, кропилом, огромными поповскими сапогами. Именно край ризы, из-под которой видны сапоги на слона, это была первая его встреча с Церковью.
И теперь батюшка прибыл неукоснительно. Он, разумеется, знал, что «господа» равнодушны к религии, но о чем говорить? На первый день полагается молебен в барском доме, будет чего и вкусить, будет и злато. И хотя отец считался в деревне за начальство, но и батюшка тоже, и лиловая его камилавка на седовласой главе была внушительна, когда служил он в гостиной. Холодные брызги летели с кропила – на лбы, в углы комнаты. Отец первым подходил ко кресту, потом мать, дети. Глеб прикладывался бесчувственно. Главная его забота была – не сделать бы чего неловкого, не вызвать бы неудовольствия старика в ризе и странной лиловой шапке.
А отец Рождество даже любил. Приятным небольшим тенором с утра распевал: «Рождество Твое, Христе Боже на – наш, возсия миро-ви свет ра-зу-ма!» Подтягивал и за молебном. Не уставал за завтраком подливать иереям водочки.
За водочкой и с поздравлениями являлись на кухню и столяр Семиошка, и Петька, и Гришка, и знакомые мужики. Варвара подносила им по большой рюмке. И по всему селу другие мужики так же мучительно и сладострастно закидывали головы и крякали, глотая водку в честь родившегося Младенца… Начинались Святки, девки на засидках пели песни, лили воск в воду и пробовали его на тени. Окликали имя суженого при звездах на улице. Некоторые невестились. А в барском доме не один день сияла по вечерам елка, вызывая мистический восторг всех Масеток и Анюток.
Мир темен, слаб. Мы нуждаемся в милости и прощении. Напившись по случаю Рождества, апостоловидный Семиошка из незлобного мудреца обращался в зверя (мог, например, схватить нож и в ярости мчаться с ним за горничной девушкой). Его укрощал отец, запирая в чулан. В «патенте» за сивухой граждане села Устов пропивали кто что мог, нализывались и дрались тоже по мере сил. Несколько фонарей под глазами, несколько окровавленных носов. Праздник возбуждал. Били жен. Из углового двора прибегала прятаться и за защитой Устинья, простоволосая и в синяках. Опять отец должен был вмешиваться.
И не только в Устах, но и по всей России было так. Радость и грубость, поэзия и свинство.
В самом же доме устовском этими Святками происходило и нечто особенное – так к Святкам идущее! – но чего Глеб по младости еще не замечал – он был в том возрасте, когда лишь охота да игры интересовали его. Только это он видел, мимо остального проходил – мир, в котором не принимал участия, для него и не существовал.
Дед постоянно бывал теперь у них в Устах. Уроки немецкого и музыки стали как-то быстрее кончаться. Лота нервничала, беспричинно смеялась, а когда Дед появлялся в доме, оказывалось, что или надо кататься на коньках по залитому водой палисаднику, или на салазках, или Дед приезжал на тройке – тоже надо Лоте прокатиться с ним, хотя бы недалеко, мимо устовского парка по широкой деревенской слободе. В гостиной в сумерки всегда они вместе – мать не препятствовала этому.
Несколько раз слышал Глеб слова: «жених, невеста», но не обращал на них внимания. Не так особенно и удивился, когда Лиза и Соня-Собачка сообщили, что Лота выходит за Деда замуж.
– Она теперь невеста, а после Нового года будет свадьба и она станет дамой. Они от нас уедут. Она станет дамой, и они будут жить с Дедом на Ивотском заводе. Бим-бом! – взвизгнула Лиза.
– Бим-бом! – подхватила Собачка, и они умчались. – Бим-бом!
«Какие дуры, – решил Глеб. – Визжать со своими глупыми словами… бим-бом! Подумаешь, какая важность, что гувернантка выходить замуж. Значит, ей так нравится. Значит, у нас не будет уроков немецкого». Глеб вспомнил еще, что теперь летом Лота не будет больше поливать его из леечки на берегах Жиздры. Это доставило ему даже удовольствие.
И надев ушастую оленью шапку, взяв ружье, лыжи, маленький, но довольно важный и самостоятельный, отправился он в парк, там что-то очень уж стрекочут сороки, можно какую-нибудь «подковать», как говорил отец.
Девочки оказались правы. Целого года роман, немудрящий и похожий на десятки других, но для участников всегда единственный, заканчивался. Дед сделал Лоте предложение. Он очень ей нравился. Она взволновалась, застыдилась и побежала к матери.
– Ну что же, милая, будете теперь инженершей. Он очень порядочный человек. Поздравляю вас.
Лота бросилась ее целовать и заплакала. Бормотала сквозь слезы, что «в их доме нашла счастье» и в подобном роде. Мать слегка приласкала ее, вежливо, но равнодушно. У матери, как и у Глеба, была своя жизнь. Она нелегко из нее выходила.
Со свадьбой решили не очень тянуть. Месяц, не больше. Новогоднее время, дни января были полны в доме устовском приготовлениями. Не княжеское у Лоты приданое, все же и мать, и отец порешили, чтобы она вышла прилично. Портниха из Жиздры целый день шила в столовой, стуча машинкою.
Шила и невеста. Мерили, волновались, переделывали. Отец острил, задирал и Лоту и Деда. Лота конфузилась. Личико ее принимало выражение жертвы, но удержать этого вида она не могла: слишком полна была счастьем.
Мать спокойно налаживала всю машину будущего. Девочки восхищались, их жизнь теперь так и горела – между детской, где шептались, гостиной, где работали, кухней, куда мчались сообщать новости.
Глеб же отнесся свысока и холодновато: вся эта суматоха ничто в сравнении с делом серьезным – охотой, чтением «Всадника без головы», наклеиванием переводных картинок «декалькомани» – с них как будто снимал он туманный катаракт, высвобождая яркие и чудесные краски.
В этих основательных занятиях и настал час, когда ему сообщили, что завтра, на венчании, и он должен сыграть роль: мальчика с образом. Глебу не особенно понравилось это. Гораздо интереснее было бы пройтись с ружьем на лыжах. Но он сделал вид, что ему безразлично.
Близились сумерки. Он сидел в гостиной, перелистывая толстые страницы альбома с фотографиями. С овальных, слегка выпуклых и глянцевитых фонов смотрели – то господин в бакенбардах, то дама с высокою грудью, затянутая в джерси, с рядом пуговок по меридиану, изгибавшемуся дугой, то целая семья. Глеб знал, что бакенбардист это Висковатов, дама его жена. А семья – доктор с присными. Он ходил на высоких каблучках, козлино похохатывал. Отец играл с ним в винт и называл «кумом». Глебу нравилось путешествовать среди знакомых лиц, составлявших как бы продолжение его жизни. Висковатова он не знал, но чувствовал, что это барин, а жену его заочно уважал за красоту. К доктору-куму относился покровительственно.
– А это кто? – спросил у матери, шившей рядом, и показал на портрет молодой черноглазой дамы в бархатном платье с отложным воротничком, прямым пробором на голове и заплетенными на затылке косами.
Мать взглянула и опустила голову.
– Это одна знакомая, когда мы жили еще под Тулой. Ты ее не знаешь.
Глеб не только не знал, но и фотографию видел впервые: она была заложена другой карточкой в том же альбомном гнезде – кто-то, однако, освободил ее к нынешнему дню.
– Посмотри, – сказал Глеб вошедшему отцу, – какая красивая дама! Я ее не видел раньше.
Отец тоже взглянул. И как будто смутился.
– А-а… да. Ты знаешь, – обратился к матери, – я на прошлой неделе в Людинове слышал, что она во второй раз вышла замуж.
Мать с особенным вниманием вдевала кончик нитки в игольное ушко.
– Ну и пусть вышла.
– А я не понимаю, – сказал вдруг Глеб с важностью, никак не входя в происходившие, – зачем это вообще выходят замуж и женятся. Совершенно не к чему. И сколько с этим возни! Все столы завалены материей. А разве Лоте у нас было плохо?
Отец засмеялся.
– Значит, брат, плохо. Соскучилась твоя Лота.
– Она вовсе не моя.
Глеб сделал даже недовольное лицо. Он знал, что отец постоянно шутит, но не очень-то это одобрял.
– Как же не твоя, когда завтра ты будешь помогать ей выходить замуж?
Глеб перевернул страницу альбома.
– Да, придется везти образ…
Вид у него был такой, что из уважения к взрослым он готов все это исполнить, но мнения своего не меняет.
Отец походил, посвистал и вышел – отправился к себе в мастерскую, где надо было доточить хитро задуманную перечницу: в виде бочонка с обручами.
Мать продолжала шить. Прекрасное, спокойное и несколько далекое ее лицо было, как всегда, замкнуто. Лишь иногда медленно она вздыхала. О чем думала под этим бледным лбом? Не так легко было узнать.
Лет около двадцати назад и она выходила замуж, в Петербурге, за худенького, скромного студента Горного института. У него не было тогда рыжеватой бороды, за обедом он не пил водки, не приговаривал, чокаясь, «чи-и-к», и не смеялся бессмысленно, но неприятно, с дамами. Да, все было другое. Они проживали восемьдесят рублей в месяц на Васильевском острове, к ним ходили студенты и говорили о «народе», его темноте, необходимости просвещать этот народ. Муж сидел над проектами к экзаменам, чертежами. Как он мил, нежен был с нею!
Мать вздохнула, отложила работу. Глеб все рассматривал альбом.
– Мне очень нравится эта дама, – повторил он. – Я никогда раньше не видал ее.
– Сыночка, пойди сюда!
Глеб запахнул альбом и подошел.
– Ну?
Мать обняла его и молча стала целовать большую голову с залысинами у висков.
Вбежала Лота – и смутилась. Ей нужно было спросить совета насчет фаты. Мать сурово на нее взглянула. Лота все еще чувствовала себя гувернанткой и подумала, что, может быть, фрау недовольна тем, что из-за свадьбы такой беспорядок в доме, столько хлопот…
Мать выпустила Глеба и совсем в другом тоне, деловито, сдержанно заговорила о фате.
Утром солнце явилось совсем багровым, в тумане, при сизо-синих тенях по снегу, невероятной толщины замохнатившихся инеем ветвях, оледенелых мужицких бородах, зверском визге полозьев.
Глеб встал не в духе. По такому морозу ехать в церковь, везти икону, там слушать непонятную службу… Да еще выяснилась очень печальная вещь: в оленьей-то шапке с ушами нельзя держать образ, надо с непокрытою головой. Тут мать пришла в ужас. Сыночка ведь простудится, это невозможно.
Выход один: укутать голову теплым платком. Не обидно иконе, и ему не холодно.
Глеб вовсе расстроился. Надеть платок на голову! Ведь это значит стать похожим на девочку. Мужское самолюбие его страдало. Но такие авторитеты, как мать, Дашенька, утверждали, что иначе нельзя: в шапке рядом с иконою неприлично. Глеб перемогся. С тяжелым чувством, будто совершал недостойное, позволил укутать голову платком. И в полушубочке, с Казанскою в руках, мрачно занял место в возке. Вид у него был такой, что трижды он прав, отрицая все эти свадьбы.
А возок – кроме Глеба сидела там Лота, мать, Лиза, Соня-Собачка – катил по оледенелой слободе, мимо прясла с ракитами, утонувшими в розовом инее, мимо парка, где вишенник казался розовым сахаром, к «поповке» и церкви устовской. Большая, бледно-кирпичного тона, с зелеными куполами и золотым крестом, глядела она на погост и огороды, луга Жиздры – высоко и прекрасно стояла.
На паперти Дед, в длинном сюртуке, белом галстуке, с накинутою на плечи шубой ждал на морозе.
Глебово дело быстро окончилось и никто не обратил внимания на его теплый платок. Все-таки, он поскорей снял его и в церкви обратился в обычного мальчика в полушубке. Он не испытывал мистического чувства при венчании. Лота стояла бледная, с холодными ручками, но со светлыми, милыми глазами – как всегда, шло невесте и белое облако фаты, нежное золото свечей, легкий и невинный флердоранж. О. Петр, старый, в лиловой камилавке совершал вековую мистерию, соединял руки Деда с Лотой, надевал кольца, водил вокруг аналоя. Скромная церковь устовская, со столбом света в куполе, ликами икон, святых, апостолов, Пресвятой Девы смотрела на вход в жизнь прибалтийской немочки, на серьезное, тоже бледное лицо Деда над темной бородой. Отец весело подпевал певчим. Девочки глядели восторженно. Мать спокойно и замкнуто – и она так стояла под венцом, в таком же белом платье, с такой же свечою и флердоранжем.
За столом, дома, отец кричал «горько», и Дед с Лотой смущенно целовались, чокались вывезенными из Жиздры шампанским. А потом тройка увезла их на Ивот, и зимнее солнце косо подошло к горизонту, собираясь за ним скрыться, отметив кратким и морозным своим ходом над селом Усты полосу жизни маленьких и незаметных для него существ. А устовского дома жизнь потекла, как ей надо: девочки без конца шептались, бегали на кухню, делились впечатлениями, взвизгивали. Отец, после дневного сна, набивал патроны для волчьей облавы. Не терял времени и Глеб: ныне в оленьей шапке с ушами (икона далеко), в полушубочке и валенках катил на подмороженной скамье от прясла мимо сажалки вниз к речке, и совсем уже забыл об отрицаемой им свадьбе.
Мать молчала. В сумерки, в гостиной, отыскав в альбоме карточку черноглазой дамы, вновь запрятала ее.
– Ну, – говорил после ужина отец, когда дети ушли спать, весело покуривая папиросу, – наша Лота теперь инженерша. Что ж, отличные характеры. Наверно, будут счастливы.
Мать ставила в это время на буфет чашки со стола, из-под чая. В руке у нее была серебряная сахарница, с выгравированными цифрами: 1872–1882, в память десятилетия их венчания с отцом.
– Дай Бог, – сказала она.
И поставила сахарницу на буфет.
* * *
Соню-Собачку называли и Толстенькой – с ранних лет проявилась в ней склонность к полноте. Ее отец, «дядя Володя», был тих, глуховат, образованностью не отличался, скромно служил бухгалтером на Славянке, недалеко от Шахты. А мать, женщина толщины уже непомерной, жила в именьице под Мценском, крохотном и запущенном. Соню не на что было дома воспитывать. Она росла и училась в Устах, на совсем равной с другими детьми ноге.
С худенькой Лизой, живой и в веснушках музыкантшею, Соня дружила, да и с Глебом была хороша, хотя вместе с Лизой и дразнили они его «Бим-бомом» и называли графом Исидором. Он тоже неплохо к ним относился, но с некоторою покровительственностью, хотя они и были старше.
Ссорились иногда только за картами. Глеб очень любил бубнового туза, за нежно-розовую расцветку древа с пеликаном. И когда сдавали, требовал его себе не совсем по-графски и по-джентльменски. Если же не давали, подымал целую историю. Случалось препираться и над «Нивой», где рассматривали картинки.
С отъездом Лоты жизнь их несколько изменилась: новой гувернантки еще не нашли, уроки прекратились. Только Лиза по-прежнему разыгрывала на рояле своих Бетховенов.
В одно зимнее утро все трое заседали в гостиной, мусоля прошлогодний номер «Всемирной иллюстрации». На рисунке изображались рыцари в шлемах с перьями, на конях. Чей конь лучше? Вот это вопрос. Девочки стояли за белого, Глеб за вороного.
– Мой конь, мой конь! – твердила Собачка, закрывая ладонью белого коня.
– Мой конь лучше!
– Нет, мой!
– Нет, мой!
Лиза состроила на брата лисью мордочку.
– Ну, ты уж такой граф Исидор…
Глеб настаивал:
– Вороной лучше!
Во всем этом не было ничего ни тягостного, ни драматического. Могла бы Собачка, например, кончить спор восклицанием: «Граф Гидрик хочет ночевать» – бессмысленные слова, после которых все вскакивали, галопом неслись по дому в виде табунка – Собачка замечательно к тому же ржала – и-го-го-го!
Тут же она вдруг надулась, встала из-за стола, села на диван и по ее тугим розовым щекам побежали слезы.
– Во всяком случае, вороной конь лучше, – заявил Глеб.
У него был вид снисходительного мужчины, привыкшего к глупости женщины и ничему не удивляющегося.
Но Собачка уткнулась в диван и плакала. Тут и Лиза забеспокоилась. Правда, нынче с утра Соня встала не в духе, хмурая. Все-таки… Побежали за матерью. Соня все всхлипывала.
Мать вошла очень покойно и деловито. Сразу спросила, не болит ли живот. Соня ее обняла, еще пуще рыдая: «Тетечка, тетечка… я знаю… меня никто здесь не любит, я чужая». – «Пустяки. Все любят. Дай-ка голову потрогать».
Глеб смотрел с изумлением. Что за чепуха! Кто это Собачку не любит? Разве к ней иначе относятся, чем к нему, Лизе? Нет, женщины еще нелепей, чем он думал.
Разумеется, жар.
Соня переменила тактику. Не то, что никто не любит… а ее тошнит, и голова болит.
– Ну, это другое дело. Так бы и говорила.
«Иллюстрацию» быстро убрали. Через четверть часа Собачка лежала в кровати, раздетая и закутанная. Началась рвота. Градусник показал тридцать девять.
Сперва Глеб не обратил на все это внимания. Ну, заболела, что же особенного. «Кум» Виноградов был в отъезде, выписали из Хотькова фельдшера Астаха, маленького, немудрящего человека, но старавшегося показать, что он не хуже доктора. Астах смотрел Собачке горло, язык. Опять ставили градусник. Давали микстуру. Соня лежала красная, вся в поту, металась, стонала. Лизу от нее перевели в Глебову комнату, а у больной спустили в окнах шторы. Стало как-то страшнее и торжественнее. Прошло дня три.
Астах шептался с матерью, уезжал куда-то (но не в Хотьков), приезжал, вдруг произошло нечто совсем странное: опять Петька подал возок, тот самый, в котором Глеб вез икону, а Соню, хоть и больную, одели, с головою укутали в шубы и как мешок с овсом положили в возок. «Скарлатина», – слышал Глеб. «Фершал велел отделить. А то всех детей перезаразит». И к некоторому его и Лизе ужасу бесчувственную Собачку увезли.
– Она будет лежать на Шахте, туда отец к ней из Славянки приедет.
И вот некая сила, в которую входила также воля матери и отца, сразу все передвинула. Возок с Сонею и Астахом занырял по ухабам февральской дороги к Шахте. Дети остались одни. Сразу без Сони стало грустно. Как-то они призадумались. Увезли! Значит, серьезное…
Но вообще рассуждать было не о чем. Опоздал Астах! Через день та же головная боль началась у Лизы, через три дня у Глеба, и один за другим вошли они в новый, еще не виданный ими и тяжкий мир.
Нечто мощное, огненно-бурное распоряжалось ими, ломило голову, сводило тело в отвратительных судорогах, извергавших рвоту. Все стало другим. Будто бы враг отравил и глаза, и мозг, и дыхание. Что теперь говорить о тихо-зимних, милых днях Устов с подмороженными скамьями, Семиошкой, отцом, ружьем, с ощущением радости и спокойствия? Глеб то горел, то обливался потом, то видел кусочек стены с привычными обоями, имевшими теперь какой-то новый, мучительный и дурной смысл, то в странных тенях все это перемещалось, вращаясь вокруг одной лишь знакомой, любимой белой кофточки: чрез все и всегда проходила белая кофточка и во всей чепухе снов, кошмаров, рвот лишь один остров прежнего оставался – мать. Не верившая в ангелов являлась ангелом.
А потом свет лампы под зеленым абажуром, спущенные занавески – нет дня! – серебряная ложка во рту с чем-то сладковато-противно-благодетельным, глоток остывшего чаю с лимоном – это глоток радости – капля влаги во ад, подаваемая белой кофточкой. И вечная, вечная головная боль.
Бедна и убога медицина села Устов! До Виноградова так и не доскакали. Не был в доме и земский врач, будущий чеховский герой: слабо еще было земство. Заводский фельдшер Астах, стратег и начальник штаба в войне, где отбивала мать у болезни детей – в его руках, покрытых веснушками и рыжеватыми волосками, находилась судьба Глеба и Лизы. Он охотно бы изобразил Захарьина, но при всей добросовестности своей дальше хины да ипекекуана не шел. В сущности, дети были беззащитны.
Но им надлежало благополучно пройти первую пещь огненную.
Как ни долго тянулись дни, все же недели через две стала болезнь стихать. Понемногу все возвращалось на свои места. Днем шторы уже отдергивались, зимний свет ложился на потолок. В другом углу комнаты, на небольшой кровати лежала Лиза – маленькая и худая, вроде обезьянки. Голова меньше болела. Некая радость появилась, когда подавали чай с сахаром и красным вином. Отец зашел с известием, что Соня тоже выздоравливает, но скучает, лежит на Шахте, шлет поклоны. Она может уже читать – из Устов ей отправили детский журнал и Астах, передавая его, сочинил даже для нее стихи:
Вот вам, Соня, «Вокруг света», Почитайте пока этоГлебу же не так скоро позволили читать. Долго отпаивали его бульонцем, и он лежал у себя на кровати тихий и печальный. Он внимательно, прилежно сдирал с рук чешуйки, складывал в коробочку. Лиза тоже после скарлатины шелушилась. И они коротали часы в невинном состязании – кто больше наберет кожурок.
Время, как бы изменившее свой бег, пронеслось над ними по-особенному, точно ненароком они провалились в преисподнюю и теперь выплывают. Прошло почти полтора месяца. Им же казалось, что до болезни просто другой был мир, и они другие.
Но и правда многое передвинулось в окружавшем. Солнце подходило к весеннему равноденствию. Семиошка давно ел постное. Кухарка Варвара испекла к девятому марта жаворонков, и их торжественно, на железном листе, подали Глебу и Лизе. Дни стали светлее, снег серей. И иногда легкий туман стоял внизу над Жиздрою. В полдень, едва проглядывало солнышко, с крыш весело барабанила капель, а к вечеру сосульки нарастали хрусталевидными копьями.
И пришел, наконец, день истинно прекрасный, радостный: Глебу надели валенки, сверх курточки пальтецо – и слабый, бледный, уже без всякой важности, робея и придерживаясь за мебель, выполз он в соседнюю комнату, где раньше спали девочки.
Был полдень, светлый, теплый день мартовский. В дверь виднелась гостиная, дальше небольшая площадка лестницы, еще дальше столовая с накрытым столом. Свет легко-жемчужными полосами падал из окон справа, рассеянный, неяркий, но какой очаровательный! Анфилада дома устовского показалась Глебу огромной, точно это другой мир, некий дворец с залами, в глубине которого накрыт белоснежный стол в хрустале. В окнах голые липы палисадника, знакомая, широченная улица с домом Тишаковых напротив, с дорогой по-весеннему уже в кофейных пятнах… – вообще весь удивительный, тихо-сияющий, волшебно-обновленный Божий мир. Глеб задохнулся. Знал, что неприлично плакать, но никого не было, кроме матери, тоже похудевшей и намучившейся. Матери ли стыдиться?
– Мама, мама!
Уткнувшись ей в подол, он без стеснения плакал.
Вся эта весна оказалась для него блаженством. С каждым днем полнее возвращался он в мир гармонический, любимый, и движение самой весны, тоже с каждым днем более и более завладевавшей окружающим, соответствовало росту его освобождения.
Мир большой и мир малый как бы дышали однозвучно.
Глеб теперь ничего не делал. Ни ружье, ни книги, ни рисование совсем его не занимали. Целые дни проводил он на воздухе, казалось бы, бессмысленно. А для него это смысл имело. Он помогал весне. Жил с нею – это и наполняло его душу. Каждый день солнце подымалось несколько выше, на дворе становилось несколько теплее, капель веселее стучала и к полудню ручейки устовские журчали оживленней. Для Глеба это было точно собственное дело. В одиночестве он выходил с утра, в высоких сапогах, с палкою или лопаткой, наблюдать за успехами весны – и помогать. Нынче ракиты у прясла выпустили белые мохнатые почки, и по-весеннему закраснели тонкие ветки. Завтра на сажалке посинел и набух лед, а по откосу южному снег уже стаял и мелко проступила свежая, бледно-зеленая крапива. Вот-вот и Жиздра вскроется… Но главное занятие – расчищать и проводить ручьи. По всей улице была у него подведомственная сеть, в виде притоков устремлялись мелкие ручейки к главному, как Жиздра впадала в Оку, а Ока в Волгу. Глеб считал, что чем лучше он наладит сток вод, тем скорее победит весна. И огорчался, когда морозец, хвативший с ночи, подсушивал его ручьи, затягивал пузырчатыми пленками вчера еще бурлившие ручейки. Он проламывал ледок, расчищал, прокладывал дорогу. Делал маленькие плотины, менял русла. И приятно было видеть во второй части дня под туманным солнцем кофейно-шоколадные, веселые переливы своих питомцев.
Отец возвращался с Шахты еще в санках. Но дорога стояла уже горбом, лошадь протыкалась, и по лугам кое-где синели лужи. Глеб приставал: скоро ли тронется река?
– Наверно, завтра?
Отец покуривал, был равнодушен.
– Какое завтра! Хорошо, если через неделю.
– Не может быть. Я убежден, что завтра. Смотри, какой огромный ручей от нас туда течет… Я убежден…
Устовский «главный ручей», действительно, свергался по дороге вниз к Жиздре. Это был козырь Глеба: он-то и поможет. Отец удивлялся.
– Да не все ли тебе равно? Завтра, послезавтра, через неделю?
Глеб не мог ему объяснить, что сам составлял часть этой весны. Отец был взрослый, разумный и практический человек. Глеб – еще неразумный. Для него «главный ручей» был живым. Живые – первые одуванчики над сажалкой, гусиная травка с желтенькими цветочками на припеке под липами. Все свое, все родное. Жизнь торжествовала, и он с нею. И сейчас скворцы и воробьи, галки, похожие на некрасивых девушек, могли спокойно копошиться близ барской усадьбы: Глеб не трогал их.
Были ли успешны или бессмысленны Глебовы старания помочь миру, все происходило и произошло, как полагалось. Когда созрело время, вскрылась Жиздра и всю ночь шуршал и тарахтел лед – глыбы его терлись друг о друга, гнули лозняк, бились о сваи моста, одиноко возвышавшегося над руслом среди бурного разлива. Луга затопило в одну ночь, и наутро отец не поехал на Шахту: надо было переждать ледоход, сейчас даже на баркасе трудно перебраться на тот берег. Да, весна побеждала. Глеб торжествовал, бродил счастливый, полупьяный в нежном свете и тепле первоапрельском, иногда сменявшемся вдруг холодком с севера. «Нева тронулась, – говорила мать, – а вот пойдут ладожские льды, как будет еще холодно».
Мать, разумеется, была права. В начале мая всегда набегало несколько холодных дней. Но Глеб жил теплом, а не холодом. Он считал, что всегда будет тепло, светло и беспричинно радостно, как в раю. Да и впереди предстояло нечто необыкновенное: ввиду перенесенной болезни решили детей на лето свезти под Калугу, в имение Будаки. «Сыночке нужно хорошенько отдохнуть, – говорила мать отцу утром, лежа в своей кровати. – Да и Лизе. А уж к осени, если найдем подходящую фрейлейн, начнут заниматься».
Будаки, Будаки! Путешествие, целое лето свободы, блужданий! Счастье.
II
Раннелетним, чудесным утром Петька подал к крыльцу тарантас, запряженный тройкою. Мать, Лиза и Глеб уселись в него. Отец с ними не уезжал. Он внимательно осмотрел упряжь, хорошо ли привязан мешок с овсом сзади, не слишком ли подтянут чресседельник, не коротки ли постромки… – все ли с собою вещи? – а потом в последний раз мать и детей поцеловал: «Ну, с Богом! Трогай!» Погромыхивая, заливаясь колокольчиком на дуге, подымая пыль и попахивая нагретым кожаным фартуком, тронулся деревенский ковчег для плавания по далеким водам.
Глеб знал окрестности верст на пять, но не больше. За Жиздрою Усты прощально засинели, блестел крест на церкви, вправо вниз уплыл сосонник – все это можно было видеть лишь урывками, приподымаясь с сиденья, обертываясь назад. А впереди новая – и необъятная! страна. Мало ли потом пришлось по ней колесить? Но то июньское утро было первым, Мать, Лиза, Петька, лошади, тарантас – это еще Усты. Но с каждым оборотом колеса те, настоящие Усты все дальше. Надвигаются края неведомые.
И наконец, сколько ни оборачивайся, Устов уже не увидишь. Зато справа, синей каймой, на десятки верст будет следовать Брынский лес, отделенный зеленою полосою лугов с ртутно-зеркальными озерцами. Само село Брынь покажется на взгорье и тарантас прокатит длинною слободой мимо синего – Глебу кажется и огромного! – озера. А там, после двух-трех часов езды, и заштатный городок Сухиничи.
Жарко, лошади в мыле, слепни, овода беспокоят. В Сухиничах надо кормить. Шажком подымаются в гору, по гоголевской мостовой, мимо заборов и домишек, через базарную площадь въезжают в ворота «гостиницы».
Постоялый двор старой России! Чем бы и как бы ее ни поминать, но неужели вздохнешь по грязной комнате с окнами на площадь, по подушкам с красными наволочками, мухам, затхлому воздуху, запаху отхожего места, как только отворишь дверь на «галдарейку», под которой двор с распряженными, кормящимися лошадьми? Там лучше. Там тень, пахнет навозом, сеном, лошади непрерывно жуют, засунув морды в комяги. Все-таки, и тут скучновато. С аппетитом съест Глеб наверху в номере ножку цыпленка – цыпленок еще устовский – но куда девать время? Побродить по площади, посидеть с Петькой – и вдруг жуткая мысль: «А что если так навсегда в этих Сухиничах и останешься? На постоялом дворе, с мухами, нужниками, литографией Скобелева?»
К счастью, из Сухиничей все же выезжают, во второй половине дня, при нежно-зеркальном вечереющем свете, когда жар спадает. И теперь перемена: едут большаком, средь полей, рощиц, через села, мимо белых барских домов в глубине липовых парков. Приветливей и светлее пейзаж. Кончился Жиздринский, начинается Козельский уезд, и тарантас катит под осенением берез, ракит столетних большака к древнему городу Козельску.
Тишина и благодать во всем крае, так по крайней мере кажется в этот июньский вечер, когда через заросшие травой колеи, по мураве ложатся длинные уже тени берез через весь большак.
Козельск не Сухиничи. Издали виднеется он главами церквей, на фоне бора, а оттуда уж блестят кресты Оптиной. И дома, и улицы здесь приятней. Есть довольно приличные магазины и лавки, старинные дома. Остатки валов сохранились – видел Козельск еще и татар, был осажден, взят, разграблен. Жители частию перебиты, частию угнаны
Князь и княгиня мученически погибли в Соборе. От того Собора ничего не сохранилось, но воздвигся новый, и навсегда над этим русским городом осталось дуновение поэзии и красоты – недаром выбрали монахи тут же вблизи место для прославившейся пустыни.
Мать и Лиза, Глеб ночевали в номере довольно чистом – редкость для уездной гостиницы. Спали крепко, мирно. О татарах и замученных князьях не знали, да и многого вообще не знали: как являлись сюда «за истиной» Лев Толстой, Соловьев и другие. Как некогда девочка у монастыря подала милостынку ягодами «страннику» – Николаю Васильевичу Гоголю. Как живали здесь люди духовные, плодоносных лет России.
В Устах от Дашеньки и от устовских баб слышал Глеб об Оптиной и даже о старце Амвросии. Но все это шло мимо. Сам он ничего еще вообще не смыслил, старшие же были далеки от «такого»: «это» для «простых», мы же баре, нам не надо никаких Амвросиев.
Из Козельска тронулись рано на заре, ехали мимо той дорожки к монастырю, по которой в эти почти годы ходил и Алеша Карамазов в подряснике своем, переживая Кану Галилейскую перед возлюбленным Зосимой.
Ни о чем таком Глеб не думал, когда в утренней свежести катил на тройке, вновь большаком, ныне на Перемышль и Калугу. А хотя не думал и не знал, но поэтическое веянье Козельска, лугов, Жиздры, бора, золотых крестов Оптиной сохранил на всю жизнь – славен город Козельск!
Этого нельзя было бы сказать про Перемышль, бесцветный, грязноватый, куда доехали часа через три, тоже кормили лошадей, тоже скучали на постоялом дворе, но теперь новое прибавилось: к вечеру будут Будаки, таинственные Будаки, о которых столько слышал Глеб – и столько мечтал.
Из Перемышля двинулись большаком на Калугу. Пред вечером с него свернули, путаными проселками, среди колосившихся озимых, светло-зеленевших рощ березовых. Спускаясь в глубину оврагов, подымаясь, забирая дальше в глушь, стремились к удивительному месту со сладостным для Глеба именем Будаки.
Он вставал в тарантас, все всматривался.
– Это не Будаки?
– Не-ет.
– А вон там… за деревней, господский дом…
Так бы хотелось, чтобы тот дом и оказался именно Будаками! Время шло медленно. Глеб волновался. Он давно спрашивал, проехали ли половину, и от половины, по его расчету, почти ничего не должно бы остаться, а вот Будаков все нет и нет. Временами нападало даже уныние. Кругом неважнецкие перелесочки, деревеньки, Оки никакой нет – вдруг эти хваленые Будаки да окажутся просто дырой, скучным и ничтожным местом? А тогда – стоило ли о них так мечтать?
– Вон Будаки, – вдруг сказал Петька.
– Где? Где?
Теперь и Лиза взволновалась, оба они с Глебом чуть не влезли на козлы. Ничего интересного! Впереди какая-то рощица-невероятно! И это Будаки?
Рощица, однако, приближалась – белоствольная, березовая, и вдруг слева, вдалеке, плавным извивом открылась серебряная полоса – спокойная, такая ровная, такая дальняя…
– Ока, – сказала мать. – А это наша роща. Там и усадьба.
Дорога прямо направлялась в рощу. Петька подобрался. Стеганул пристяжных, тарантас запылил сильнее, мать силою усадила детей – через несколько минут мимо птичной избы, под навесом берез, теперь весело расступавшихся, вынесся Петька полукругом на лужайку к небольшому дому, тихому, одноэтажному, с флигелем, за которым виднелся фруктовый сад, и сквозь деревья, теперь уже вправо, сиял вновь кусок милой Оки.
Из двери флигеля выскочил улыбающийся человек в жилетке, с лоснящимися щеками и носом, как у Гоголя: Арефий Сильвестрович, в просторечии Арефий Селиверстыч, еще кратче – Арешка. Тарантас остановился. Да, это Будаки. И приказчик Арешка со своим боковым пробором, потеющим носом, в расстегнутой жилетке поверх рубашки цветочками встречает приехавшую к себе в имение устовскую барыню с детьми.
«На всяком месте владычества Его благослови душе моя Господа» – и если на всяком, то как же не тою весной на земле будаковской? Глеб не знал Псалмов, о царе Давиде не имел представления. Но восторг бытия был уже ему знаком, еще по Устам. Глеб любил Усты. Теперь же, здесь, как будто находился еще в новом мире, много прекрасней, свежей, чище. Все казалось необыкновенным: белоствольные рощи березовые, тесно окружавшие усадьбу (деревни вблизи не было и это вносило особую ноту), небольшой дом, насквозь проникнутый запахом странным – его источали и стены, и старинная мебель, нечто очаровательно-затхло-сладковатое – и вдруг струя благоухания из отворенного окна. Балкон с деревянными колоннами, сад весь в цвету – яблони, груши, вишни. От балкона прямая дорожка к дубу – огромный дуб, в линии частокола, огораживающего сад, а от него крутой спуск к Оке.
Есть места на земле, как бы уготованные душе. Глеб слыхал много о Будаках, как-то и рисовал их себе. А попав сюда, вдруг оказался в мире волшебном, но и настоящем, и страннее всего, что настоящее было предчуяно, но оказалось выше сновиденья, в дальнейшем же навсегда сновидением и осталось.
Что может быть важного или значительного в трехмесячном пребывании мальчика с матерью и сестрой в глухом именьице под Калугою, в восьмидесятых годах прошлого века? Ничего замечательного!
Замечательно разве лишь то, как расцвел, после яблонь, жасмин под окнами, белыми с золотом цветами. Как по всему дому этим жасмином благоухало – ветви с цветами прямо лезли из окон в комнаты. Как блестел самовар на балконе, и налево, в прорубленный среди лип просвет, сияла Ока. Замечательно было – среди цветущих вишен, слив, яблонь, при тихом гудении пчел пройти по дорожке к дубу. Тропинкою вдоль частокола повернуть вправо, под теплым солнцем сквозь облачка высокие, в теплом, райски-благословенном благоухании сада дойти до калитки в частоколе – отворить ее, выйти. Там под кленом скамеечка. И вот пред тобой Божий мир! Вот он, тут! Глебу казалось тогда, что нагорный их берег высок, горизонт за Окою огромен, что эти поля, рощи, имение Овчурино наискосок за рекой, белеющий в парке дом – все это прекрасно и необычайно. Необычаен и дикий овраг справа, заросший лесом, а над ним село Никольское, наполняющее благовестом всю округу. И всего, может быть, замечательнее Ока, к которой можно сбежать по крутому спуску – она делает здесь плавную, как бы зеркальную излучину, удаляясь направо к Серпухову, налево к Калуге. Может быть, именно здесь, под дубками, когда глядел Глеб на Оку, тут-то и проявился в нем впервые дурман мечтательности. Но какая сладкая, еще невинная была эта мечтательность! Может быть, тут продолжалось и то чувство рая, которое являлось ему в Устах и которому недолго уже предстояло посещать душу.
По Оке ходили скромные ципулинские пароходы. Сколь величественными они казались Глебу! – «Владимир Святой» самый большой из них, «Екатерина» и «Дмитрий Донской» поменьше, и все по-разному шумели колесами. Любимым занятием Глеба и Лизы было с балкона, по звукам узнавать пароходы – лишь показывался дымок у овчуринского перевоза, дети навостряли уши: начинало доноситься дальнее лопотание колес, взбивавших, пенивших мирную окскую воду – с каждой минутой явственней.
– «Владимир»!
– «Екатерина»!
Звук «Владимира» был как-то гуще, основательней.
– А я тебе говорю, «Владимир»! Лиза строила ему рожицу.
– «Е-ка-те-ри-на»!
Глеб не мог усидеть. Мимо дуба летел к заповедной калитке, на скамеечке ждал. Пароход неторопливо выгребал против течения, вот виден красноватый корпус, белая рубка, труба… ну, конечно, «Владимир»! Странный человек эта Лиза. Мать находила ее упрямой. И действительно: «Екатерина, Екатерина…» Он, Глеб, давно сказал, что «Владимир». Совершенно напрасно спорит.
Он испытывал волнение, нервное возбуждение, когда пароход приближался. Оно возрастало, когда изящный «Владимир» проходил внизу, как бы у его ног. Все это необычайно, страшно интересно, там особенные люди, они едут из одних неизвестных краев в другие, и путешествие их проходит среди тех же сказочных мест, как и Овчурино, Никольское, Будаки… (В действительности же ездили маленькие помещики, торговцы из Алексина, какая-нибудь чиновница из Калуги и в «третьем классе» – мужики. Когда «Владимир» под Каширой иль Тарусой садился на мель, этих мужиков сгоняли в мелкую воду, облегченный пароход снимался).
Иногда Глеб даже не выдерживал и сбегал к воде. Взлетали кулички, трясогузки с левого, песчаного берега, пароход тяжело резал носом воду, пассажиры у бортов глядели по сторонам, на мостике капитан в белой фуражке. Глебу казалось, что «Владимир» мчится необыкновенно быстро. Он не мог и сам удержаться, начинал прыгать, скакать, иногда бежал за пароходом. А однажды, когда из Калуги шла «Екатерина» с гостями Ципулина и играла музыка, встречавший на берегу Глеб впал в некое исступление. «Из музыки родится танец» – здесь оказался живой пример: на берегу, выражая восторженные свои чувства, под калужский оркестр с парохода исполнил Глеб яростную сарабанду. На пароходе смеялись, аплодировали. Дамы махали платочками. Ничего, это была уже слава, Глебу нравилось. А потом удалилась «Екатерина», разводя по Оке волны в пузырях, хлюпавшие в прибрежном ивняке.
Не только пароходы, но и сама Ока входила в жизнь его, ощущал он ее как живую. Не скучал с нею – целые часы мог проводить при ней. Таская ружьецо, старался подстрелить цаплю – огромную и долговязую, садившуюся на островке. Но она внимательна. Сколь ни старался Глеб подкрасться незаметно, в нужный момент грузно, неуклюже делала она икающие движения – не то бежала, не то бросалась в воздух и тяжеловесно, почти смешно улетала. Любил он и приокских чаек – даже не стрелял их, просто следил рассеянный, небрежный их полет, точно бело-коричневые птицы эти ленятся лететь, машут крылами чуть ли не из вежливости. Они легко садились на воду, покачивались, тихо плыли и вновь, неизвестно куда, улетали. Они были, как все на Оке и в Будаках, волшебные, прелестные.
А тихие раки под камушками в воде? Шныряющая рыбешка? Кулички, кроншнепы на отмелях низового берега, за рекой? Облака, над Окою медленно и сладостно протекающие?
Если подняться от реки дорогою среди рощи, то немножко лишь отойдешь, будут грибы – сколько боровиков! Боровики целыми семьями, тугие, крепкие. Молодые – в коричневых своих круглых шлемах, постарше – с более плоскими головками, бархатно-золотой подоплекой-подкладкой, разрыхленной ножкою. И какой от них запах! – сырости, леса, свежести… Тройной настой жизни.
Радостно ходить с Лизою по грибы, наперегонки собирать их (под водительством кухарки, или Арешкиной жены). В блужданиях по березовым рощам заходили и дальше, к дикому, глухому месту Никольского «верха» – Провальной Яме. Как это жутко! Обрыв, сверху почти отвесный, дальше воронками, крутыми скатами, заросшими мелким кустарником, как в ад сводит в глубину. Туда не спуститься. Там страшно. Живут лисы, барсуки… вот в этих диких склонах, в тишине нечеловеческой, в паутинках занавешивающих роют таинственные звери свои норы, неслышно перебегают там. А из птиц лишь сороки стрекочут – пустынно, глухо. Это считается как бы проклятым местом, Провальная Яма, точно бы нечто провалилось и открыло путь в преисподнюю. Вот сюда бы ночью прийти…
Но об этом даже думать жутко. Там наверно совы стонут, падаль догнивает.
По ночам Глеб и Лиза мирно спали в спаленке будаковской, но вечерние часы стали чудны для Глеба теперь потому, что – наконец-то! – позволили ему гонять с работниками и мальчишками лошадей на водопой и в ночное. Это, разумеется, необычайно! На заре, при лиловеющем сумраке сидеть без седла на каком-нибудь Червончике, держа поводья одной рукой, а другой на всякий случай придерживаться за холку, ощущать под ногами теплые Червончиковы бока, то вздувающиеся, как мехи, то вдруг опадающие – веселой гурьбой сквозь вечерние рощи березовые катить вниз к Оке, закидываясь сколько можно назад, чтоб не съехать на шею… страшно, и сладостно! Правда, Вальтона тут нет, но другие мальчишки, да и работники – все тот же простецкий, калужско-русский мир… У Оки лошади лезут в воду, вытягивают вперед шеи (тут берегись с поводом! дернет – и чрез лошадиную голову как раз угодишь в реку) – теплыми губами, булькая, тянут воду, фыркают, надуваются, переругиваются между собой, скаля зубы и хватая друг друга за шеи и челки. А потом – в горку – тут уж не страшно, и гораздо удобней сидеть. Духом взлетают, вновь через усадьбу гонят в поле. Вот тут хорошо! Закат угас уже, поле полно теплого веянья, полынь, мёжи, Ока вдали, серебряною лентой. И вдруг улюлюканье, впереди малый пускается вскачь, и все лошади подхватывают. Глебов Червончик туда же – сразу в ушах ветер, пряный, горячий воздух, настоявшийся над пахотой, дух захватывает, Глеб без стеснения держится обеими руками за холку, темное поле летит под ними, и только впереди дикое стадо скифских лошаденок, мчащееся без толку, свист, гогот да лиловое небо, истаивающее, обольстительное, навстречу – так в небо на этих скакунах и залетишь.
…Нет, не в небо. Всего только на пар, где будут пастись лошади. Скачка кончается. Глеб спрыгивает, замирая (в волнении, счастье). От Червончика пахнет приятным лошадиным потом, бока потемнели и сильно ходят – запыхался. Лошадей стреноживают («путают»). Теперь в июньской полутьме, под звездами, в блаженном спокойствии, но и усталости, надлежит брести мёжами домой, в Будаки – к ужину с парным молоком, редисками, благоуханным ситным хлебом.
Возвращение медленно. Волоча за собою Червончикову обратку, бредет маленький человек с двумя-тремя мальчишками по родным полям в душно-прелестной, синеющей летней ночи.
А в усадьбе еще не разошлись поденщицы, косари. Арешка раздал уже им четвертаки, полтинники, но они не уходят. Под березами, окружающими усадьбу, усаживаются на бревнах, девки водят хороводы, поют. Среди них одна красавица Марьянка, – и парень Василий, из Овчурина, тоже молодец, силач и красавец. Глебу, впрочем, и вообще казалось, что они все здоровые и сильные, веселые. Он любил смотреть их хороводы – Марьянка с Василием выступали солистами, – любил слушать их пение.
Од-д-на осталась мне уте-ха Мил пла-кать, пла-кать не ве-ле-л!С этими песнями, старыми и заунывными, но исполнявшимися голосами молодыми, полными силы, радости жизненной, входила в него Россия калужская – диковатая, но могучая, чернобровая, сероглазая, в домодельных поневах и красных ластовицах на рубахах, вольная и широкая, как сама здешняя Ока, вся в пении, в быту почти еще патриархальном – в обстановке приокских пейзажей, будаковских берез, Никольского благовеста, духовитых покосов по разным «ложкам» и «верхам», под всегда равными себе звездами. Мать Земля, Мать Россия дышала благодатию своего изобилия и мира.
И когда расходились поденщики, а из дому звали ужинать, то с Оки, под теми же звездами, в наступающей ночи – далекие и протяжные – слышались песни плотогонов. Как тысячу лет назад древляне или кривичи, так сейчас мужички орловские, калужские гнали плоты по Оке в Волгу – к дальнему Каспию. У огонька на плоту, где нехитрое что-то варится в таганке, не такой же ли сидит человек, в лаптях и со спутанной бороденкой, привычный к дождям и хлябям, с речью нехитрою, темной, как и тот, что привязывал некогда за ноги к верхушкам нагнутых дерев князя Игоря в дебрях Полесья?
Впрочем и этот в свое время, уже недалекое, тоже прозреет. Но пока еще мать с Лизой и Глебом безобидно ужинают при свечах под стеклянными колпачками на балконе. Бабочки набиваются к огню. Вечер отсчитывает часы.
Сама по себе будаковская жизнь не была уж такой идиллией – у матери свои заботы, у Арешки свои, у мужиков, баб, парней, приходивших из Никольского на поденную, свои огорчения и напасти. Но Глеб ничего этого не знал. Рос он балованным барчонком, – рос привольно… – вдали от тягот, понуждений. Но и он, маленький, казалось бы, от многого еще далекий, сам не был уже вполне идиллией.
Мало трофеев дала ему охота в Будаках, но все же много он слонялся по саду, по пустынным оврагам, рощам будаковским со своим ружьецом. Подкарауливал, крался, стрелял, иногда убивал.
Конец августа. Ясный, чудесный осенний день. Глеб, Лиза и мать на балконе. Мать читает письмо от отца из Устов. Только что Арешка привез с почты. В просвете между липами, уже пожелтевшими, с листвою сквозною – синяя лента Оки. И вдруг на дубу, в конце дорожки, у частокола над обрывом, мелькает белочка. Буренькая, с длинным хвостом. Легко, как бы играючи, пронеслась по стволу наверх в ветки. Глеб вскакивает. Бежит в комнаты, возвращается с ружьем. Мать неотрывно читает. Что-то ее заботит.
– Ты кого хочешь стрелять? – спрашивает Лиза. Глеб уже побледнел, надевает пистон, взводит курок.
– Вон она… видишь? На дубу… хвостом помахивает.
– Белочку?
Глеб молча спускается с балкона. Коленки его слегка дрожат. Подпустить или в последнюю минуту стреканет?
– Глеб, не стреляй ее, за что…
Глеб с удивлением оборачивается на сестру. Как будто охотник за что-нибудь стреляет! Дичь есть дичь. И все тут. Но Лиза впадает в волнение.
– Ну, пожалуйста, прошу тебя. Мне ее жаль. Мать отрывается от письма.
– Не мешай сыночке. У тебя всегда какие-то фантазии.
– За что он ее убивает? – почти кричит Лиза. – Что она ему сделала?
Но Глеб не слышит. Он не себе уже принадлежит. Он глух и слеп, ему теперь лишь бы подкрасться, только бы белочка не улизнула.
А она невнимательна. Сидит на верхушке, занимается желудями, не замечает подкрадывающегося мальчика. И в грохоте, дыме выстрела валится к подножию дуба.
– Паршивый! Дрянной! Видеть тебя не могу! – кричит Лиза с балкона.
Мать строго на нее взглядывает.
– Перестань, пожалуйста.
Глеб и вовсе не обращает внимания. Ну, дура девчонка. Что она понимает в охоте?
И победоносно тащит на балкон окровавленную белочку. Лиза, почти в слезах, убегает. Мать кончила читать. Лицо ее озабочено.
– Отдай Арефию. Он шкурку снимет. В хозяйстве пригодится.
Лиза первое время дулась на Глеба. Но за ним, как неприступная твердыня, возвышалась мать, да и сам он настолько был убежден в своей правоте, что смутить его было невозможно.
– Для того сыночке и купили ружье, чтобы он охотился. Оставь свои глупости.
– Любимчик! – фыркала Лиза.
Глебу не нравилось это слово, но в пререкания он не вступал: просто уходил с ружьем. Лиза же, хоть и старше его, чувствовала себя как бы и ущемленной – равнодушием брата и меньшею, чем бы хотелось, любовью матери. Иногда она даже плакала, как обойденная. И на стареньком пианино, в синей выцветшей будаковской гостиной развеивала в Шопенах свою печаль.
Но вот, с половины сентября, пошли дожди. Сад быстро облетал, Оку видно было теперь из окон больше. В доме сыро, стали подтапливать. Дальняя комната с венецианским окном, совершенно без мебели, выходившая на лужайку, вся гудевшая при громко сказанном слове, обратилась теперь в склад яблок: антоновка, скрижапель, апорт, коричное (его называли «коричневое»)… какой новый, чудесный запах по всему дому!
Арешка ездил в Калугу продавать рожь купцу Ирошникову, они потом долго считали на счетах с матерью – его гоголевский нос потел и краснел. Объегоривал он, надо думать, устовскую барыню как хотел!
В Калуге записались в библиотеку, он привозил детям книги: Глеб сидел теперь дома. Из окон виден был мокрый, унылый сад, вороны летали, забредал какой-нибудь теленок, но в угловой комнате с двумя изразцовыми печами, где теперь жили Глеб с Лизой, было тепло. Дети валялись на постелях, уперев ноги в теплые изразцы с зеленоватыми разводами, читали романы. Это их опять сблизило, да и время шло, и белочка, и неприятности, все забывалось. За окнами холод, слякоть, а они тут, все-таки брат и сестра, вместе в Устах росшие, вместе хворавшие, вместе игравшие с Вальтоном…
Их любимым занятием стало читать наперегонки. Арешка ухитрился привезти два экземпляра «Квартеронки» (затрепанные переплеты, синее библиотечное клеймо на первой странице, сыроватые листы, пахнущие затхлостью – разве можно равнодушно вспомнить о калужском Майн Риде!).
Глебу приходилось туго – явно Лиза быстрее читала.
– Я так и думала, – говорила она, лежа на спине, побалтывая ногой без ботинки и захлопнув книгу, – этот молодой человек в действительности вовсе…
– Ты заглядываешь вперед. Где неинтересно, там пропускаешь. Это не называется быстро читать.
Глеб, однако, не сердился: его самого слишком увлекал роман.
– Не вперед, а я просто скорей тебя читаю…
– Мне все равно, кто скорее читает, – говорил Глеб с деланным равнодушием. – Не мешай. Тут страшно интересно… невольницу продадут?
– А уж я знаю, что будет, да не скажу! – Лиза прищелкнула языком и сделала лисью мордочку.
Глеб отвернулся. Он считал нечестным заглядывать вперед. Читал медленно, основательно, зато все «переживал». Чтение становилось второй половиною его жизни.
Вошла мать.
– Мама, я закончила «Квартеронку». Когда же Арешка поедет в библиотеку? У меня нет больше книг.
Мать имела несколько взволнованный вид.
– Вы все читаете… А сейчас мужик из Никольского привез письмо, был в Калуге: на днях папа приезжает…
Глеб и Лиза заболтали ногами, отбросили книги и издали приветственные клики.
– Он возьмет нас отсюда в Усты, а с Нового года его переводят в Людиново директором завода.
Людиново! Глеб слышал это слово. Хорошо или нет, что они переезжают из Устов? Людиново – нечто огромное, таково было сложившееся его впечатление…
Он отложил книгу, спросил серьезно, как спросил бы, по его мнению, отец:
– А там хорошая охота?
На этот вопрос мать ответить не могла. Но сказала, что там отличное озеро, у них будет огромный дом и вообще это для отца повышение.
Слово «повышение» Глебу понравилось. То, что повышение дали отцу, его не удивляло – такому человеку, как отец, естественно повышаться. Но во всяком случае приятно было, что теперь они станут «важнее» – отблеск отцовского успеха падал и на него.
Мать сказала Лизе, что она слишком много читает, занялась бы чем-нибудь.
– Глеб тоже читает, – обиженно ответила Лиза. – Он читает – ничего, а я…
Она почти рассердилась. Но с матерью трудно было спорить.
– Сыночка еще маленький. А ты скоро будешь взрослая. Починила бы свое старое платье.
Лиза надела ботинки, с недовольным видом вышла из комнаты. Да, уж любимчик! Неповинную белочку убьет – молодец. Лошадей в ночное с мальчишками гоняет – тоже молодец, как будто это кому-то полезно. И романы читает – превосходно. А когда она, Лиза, играет «Венгерскую рапсодию», это называется заниматься пустяками.
Глеб мало обратил внимания на разговоры женщин. У него было дело посерьезней: он приближался к тому месту, которое Лиза уже прочла: аукцион на невольницу. Неужели ее на самом деле продадут плантатору?
За окном летели сентябрьские тучи. Дождь перестал. Мокрые, черные деревья казались резче и крупней. Где-то за Окой открылся просвет – кусочек лазури в небе. Глеб в волнении сучил ногами по теплой изразцовой печке. «Его шляпа слетела, из-под нее развеялись длинные кудри, молодой человек скинул плащ, и глазам удивленных зрителей предстала фигура молодой девушки.
– Я Евгения Безансон!»
Так гласили затхлые страницы библиотечного Майн Рида. Глеб не мог больше читать. Да, конечно, невольница спасена! Он быстро надел сапоги, чрез сумеречную гостиную, столовую вышел на крыльцо. Сильный ветер гнул березы. Сквозь них, на закате, сияли латунные полосы неба. В роще варили в котлах картошку для свиней. Глеб взволнованно и задумчиво пересек лужайку перед домом и пошел к дымным огням. Баба помешивала в котле. Осенний терпкий и пронзительный ветер гудел и здесь. От вечерних туч, беспорядочно мчавшихся, по земле неслась мрачная тень, иногда тучи разрывались и тогда все вспыхивало – в общем, сумятица эта небесная отзывалась здесь чем-то нервным и таинственным. От котла несло дымком, запахом картошек. В дальней избе сечками рубили капусту. Снизу от Оки гнали стадо – первые, пестрые коровы, мыча, замелькали средь берез. Впереди рыжая с белыми крапинами, значит, завтра хорошая погода.
Глеб был полон чего-то героического и восторженного. Невесть куда улетел бы с этим ветром, кого-то спасать, освобождать, завоевывать славу. Он стоял долго у огня. Подбросил валежника, поглядел, как гуще повалил дым, а потом заиграло пламя чистое, летящее – и отошел… Людиново! Новый дом, новая жизнь. Как интересно все! Как увлекательно.
Вдыхая редкостный дух вечера сентябрьского, Глеб бродил на закате в роще, отдаваясь мечтательности. Ему казалось, что он мог бы дойти до самой Провальной Ямы… но не дошел, конечно. Вовремя явился к вечернему чаю.
Отец действительно приехал через день. Глеба и Лизу поразило, что к скромному дому будаковскому подкатил огромный экипаж, вроде дилижанса, где можно было сидеть вшестером, с отворявшейся назад дверцей, запряженный четверней. Нечто невиданное для Устов! Отец вылез веселый и загорелый, рыжеватыми усами ласково детей целовал и объяснил, что это дилижанс «мальцовский», из Людинова, сам генерал Мальцев в нем ездил, и кучер людиновский, и в этом ковчеге они и поедут домой, пока опять в Усты.
Мальцовский! Людиновский! Да, значит, Людиново, часть таинственной «мальцовщины», о которой Глеб слышал (Усты находились на окраине ее) – стало быть, Людиново и вправду могущественно. Глеб с благоговением и восторгом влезал в дилижанс, пахнувший кожей, с задергивающимися шторами, стеклянными окошечками в них… Да, это Людиново…
С приездом отца и появившимся чувством Людинова, новой обширнейшей жизни, Глеб еще сильнее ощутил желание что-то делать, чем-то выделяться. Он рассказал отцу о своих охотничьих подвигах: белочка, три сороки, два дрозда, галка… маловато!.. Это отчасти даже пустяки – вдруг ему так показалось. Не в охоте дело. А в чем? Этого он не знал. Но чувствовал, что «в чем-то» заключается.
Через несколько дней, на четверне, нагрузившись, по размокшим дорогам отбыли они в дальний, теперь совсем тяжкий путь по грязям в Усты.
Правда, занятно было ехать в дилижансе, но и нелегко из-за дурной дороги. Иногда в горку приходилось вылезать, брести пешком – лошади едва взвозили. Сумрачные поля России были вокруг, бурые, иногда в ярких, мокрых зеленях. Невесело ехали. Опаздывали на ночлеги, целый лишний день пробыли в дороге, заночевали в двенадцати верстах от дому.
Глеб жалел уже о милых Будаках, но главное, скорее бы доехать, скорее бы Усты! Героическое его настроение упало. Он ощущал теперь себя просто мальчиком за спиной матери.
III
Осень и начало зимы были в Устах невеселы. Разрушалась здешняя жизнь, над всем господствовало Людиново. «Нет, этот шкафчик в Людиново не поедет», – значит, шкафчику погибать в безвестности. С ноября начали заколачивать и внизу в кабинете разные ящики с посудой, бельем, мелкими вещами. Все это, по первопутку, двинулось на подводах в Людиново. Дом полупуст, сняли даже портьеры в гостиной, уложили кабинет, мастерскую. Голо, гулко, пустынно! Везде клочья соломы, веревки, увязанные сундуки. Входят люди в валенках, подымают, выносят. Апос-толовидный Семиошка со своей лысиной, с веревочкой вокруг головы… для такого художника – забивать гвозди, возиться с ящиками…
Глебу радостно было ехать, но и жаль Устов. Отъезд пробудил в нем чувства довольно сильные, мечтательно-сентиментальные. Он растравлял их. Ходил прощаться с любимыми местами, твердил про себя, что никогда больше их не увидит. Прощался с Савоськами и Масетками, с домом, палисадником, каретным.
И настало, наконец, декабрьское утро, когда тронулось вперед несколько подвод с последним «барским добром», а к полудню две тройки стояли у подъезда. Переднею правил новый, людиновский кучер Дмитрий, степенный, немолодой человек с длинными усами. И сани высокие, с резьбою, с боковыми крыльями – защита от снега из-под копыт – и крупные лошади, все было уже людиновское. На козлах второй, устовской тройки сидел Петька.
Полсела собралось провожать. В последнюю минуту в столовой присели, перекрестились – закутанные, в валенках, Глеб в оленьей ушастой шапке, на ходу прощаясь и кланяясь, стали размещаться по саням. Глеб с матерью и Дашенькой в людиновских, отец с Лизой в устовских. И в какой-то момент, после бесчисленных поправок, подтыканий одеял, полости, раздался голос отца:
– Ну, с Богом!
Дмитрий тронул. Толпа заколыхалась, еще раз сняли шапки, Савоськи и Масетки с мерзлыми, посиневшими носами, в дырявых валенках, рысцой побежали за санями. Дмитрий слегка наддал, тройка повернула мимо ракит и столь родного прясла, полной рысью пошла к речке под гору.
Друзья, подруги из Устов отстали. Странная и ненужная влага наполняла глаза Глеба. Дул ветер. Глеб смотрел вбок, скрывая чувства. Слезы замерзали на ресницах, слегка склеивали их. Промелькнула сажалка. Устовская церковь на пригорке, кирпично-розовая с зеленым куполом, уходила в небытие.
– Сыночка, тебе удобно? Не замерзнешь? Воротник повыше поднять?
Глеб чуть не с досадою отвел руку матери. Он был один, со своими чувствами и, как ему даже казалось, «страданием» – сейчас никого не нужно. Неизвестно, о чем думала мать, вероятнее всего, о делах хозяйственных. И не знала, что происходит в душе большеголового, хмурого мальчика рядом. А его разъедали печальные, но и смутно-сладостные чувства. Под скрип саней, визг снега, в серо-синеющем дне еще устовском, с внутренним всхлипыванием напевал он про себя слова недавно слышанного романса:
Дорогие мне места-а, Где я прс-о-жил годы де-ет-ства, Вас увижу ли ког-да-а, Иль поки-ину на-а-всегда…Пройдет лет сорок, умрут родители, а он «согбенным стариком» явится вновь в Усты, но все, кого он знал там, с кем играл в палочку-постучалочку, уже умрут, и никто не узнает его. Вдруг выползет из тишаковской избы старуха, бывшая его приятельница Масетка, и скажет: «Да это, кажется, наш устов-ский барин…» –
Все-еми брошенный, за-бы-тый, Без любви, без со-ожале-е-енья…и сквозь всю детскую нелепицу мечтаний нечто напела судьба в тот зимний, свинцовый день правильно: мест первоначального, полурайского своего детства и вправду не дано было ему увидеть. А однако столь сильно и глубоко в нем засел глухой уголок Жиздринского уезда, что всю жизнь сопровождали видения разных устовских лесов, парка, сосонника, кладбища за церковью… Если взглянуть глазами будничными, почувствуешь ли поэзию, величие устовского утра июньского, прелесть Ландышевого леса, таинственность Чертолома, необычайность вида из дальнего уголка парка на леса и широту русского приволья? Может быть, все это было лишь в душе? Пусть приснилось. Но навсегда. И ничем сна не вытравишь.
Меланхолия же отъезда самого не так длительна. Маленький человек волнуется, но и живет, то есть вбирает окружающее, а он еще так свеж, столько еще ему вбирать!
Тройка катит. Проехали Шахту, куда столько раз ездил он с отцом на дрожках, и Славянку, где жил дядя Володя – теперь и его тут нет, и Соня-Собачка попала в гимназию – начались незнакомые края, таинственная «мальцовщина», куда они стремятся, где отца «повысили».
Дорога теперь рядом с узкоколейкой, кое-где сильно занесенной снегом. На мохнатых струнах телеграфных столбов ястребок, издали снимающийся. Все больше лесу. Голые осинки и дубняк с коричневыми клочьями листвы прошлогодней, скучные вырубки со штабелями заснеженных дров и, наконец, сосновые, еловые леса. Кое-где будка у дороги, кое-где угольные кучи – летом выжигают здесь древесный уголь. В одном месте обогнали обоз, везший руду. За ним тянулся желто-красный след.
Дико, неприютно Глебу показалось! Неужели таково это Людиново?
Наконец, перед сумерками выехали на подъем, откуда открылся вид как бы на неглубокую котловину. На ее краю вновь синели леса, а в ней разбросалось большое село с церковью, корпуса, строенья, трубы, шел из них медленный дым. Дмитрий тронул оживленнее.
– Людиново, барыня, – сказал, обернув назад красное лицо с ледяными усами.
У Глеба на меховом воротнике от дыхания тоже намерзли ледяшки, пахло смесью удивительного воздуха зимы и мокрого меха. Сообщение Дмитрия взволновало. Людиново! Вот оно, наконец.
Удивление смешалось почти с восторгом, когда тройка спустилась совсем близко, к заводу, выбралась на безбрежное, как Глебу показалось, ровным снегом завеянное озеро, и сильной рысью пошла по зеркально натертой, без ухаба озерной дороге. Слева за плотиною темнел завод – довольно странной, хмурой массой. Сумерки спускались. Глеба поразили два языка бледного пламени, горевшего над приземистыми, но широкими трубами. Как факелы приветствовали они приезжающих.
– Это… что? – спросил он у матери. – Это… не пожар?
– Нет, сыночка. Газ горит над доменными печами. Сейчас и приедем.
Завод и домны остались сзади. Мимо небольшого парохода, замерзшего во льду, Дмитрий выехал на набережную, под прямым углом к плотине и заводу. Через три минуты въезжали в ворота большого «директорского» дома, выходившего фасадом на озеро.
Да, это Людиново! Дело серьезное.
На границе Калужской и Орловской губерний, в уездах Жиздринском и Брянском несметные земли принадлежали генералу Мальцеву. В глухом этом краю с крепостных времен понастроены были заводы: паровозостроительный Радица, стеклянный – Дядьково, чугунно-плавильные – Людиново, Сукремль, Песочня. В лесах выжигался древесный уголь. В «дудках» крестьяне добывали руду. Крепостные руки воздвигали плотины, водяная сила двигала заводы. Свой узенький рельсовый путь их соединял, свои рабочие, сидевшие на земле, работали, свои магазины обслуживали рабочих, свои были больницы, школы, чуть ли не полиция своя… – не хватало своей монеты, во всем остальном это было малое царство в Российской империи – так и называлось – Мальцовщина.
Ко временам Глеба, когда отцу поручили управлять Людиновский заводом, Мальцева – Петра Великого Жиздринского уезда – не было уже в живых. Мальцовщина отошла в казенное управление. Глебу запомнился, однако, его портрет: на площадке вагончика старик с белыми усами, в поддевке, из-под которой видны штаны с лампасами, в военной фуражке, с видом фельдмаршала в отставке. От отца он о нем много слышал и считал «генерала», как и многие вокруг, существом могучим, полумифическим. Да и правда, его след остался резко во всем складе жизни Мальцовщины: нечто полукрепостное и патриархальное.
Для Глеба, впрочем, в его новой жизни это значения не имело. Важно было, что началась иная глава бытия – Глеб с наслаждением в нее погрузился.
После устовского дом показался ему дворцом. Ряд комнат в нижнем этаже. Огромная столовая, вроде зимнего сада, со сплошной стеклянной стеной, выходили на озеро. Наверху еще три комнаты. Одна из них тоже на озеро, тихая и пустынная, с мягким диваном. Рядом, двумя ступеньками ниже, Глебов кабинет, с письменным столом и трапецией в другом углу. Днем он один в этих светлых, безлюдных комнатах – какая прелесть! – спит же внизу, и теперь не с матерью, а с отцом, на диване – среди ружей, рогов, патронташей, в табачно-ружейном воздухе.
Лакей Тимофеич, худой старик, помнивший еще Мальцева, подавал к столу в белых нитяных перчатках. Это уж не устовская Дашенька!
За утренним чаем сумрачно докладывал отцу: – Лошадка подана-с!
Отец уезжал на завод, но не правил сам, как в Устах, а его вез очередной кучер с конного двора. Глеб сразу все это принял, будто по нем сшит и Тимофеич, и огромный дом – входило сюда и ощущение власти отца. Глеба иначе даже одели: в суконную курточку с ременным поясом, длинные брюки – почти гимназическое снаряжение. И он не удивился бы, если бы Тимофеич стал перед ним во фронт, как не удивлялся, что все кланялись по дороге, когда они с отцом выезжали в санках. Его не так уж теперь радовало скромное тульское ружьецо, одноствольное: он умел разбирать и чистить отцовские двустволки центрального боя – с ними чувствовал себя на равной ноге.
Но особенно нравилась тишина, чистота и свет верхних комнат. Он проводил здесь много времени, читал и рисовал. Рисовать начал еще в Устах. А теперь ему подарили гравюры для копирования – романтические мельницы, полуразрушенные замки с легкими иностранными деревцами. Глеб всячески старался, чтобы выходило поизящней, и с упорством добивался благовидности подлинника. Внизу, в огромной зале Лиза разыгрывала своих Бетховенов. Тимофеич постукивал посудой. Из Глебова окна виден был заснеженный сад, вороны бессмысленно перелетывали, галки жались к дымовым трубам. За окнами холодный зимний день. Но здесь тепло, светло, паркет иногда чуть потрескивает, рамы замазаны замазкой основательно, в белой вате меж ними скляночки с кислотой.
Есть увлекательное дело. Как в Устах прежними веснами, проводя ручьи, полагал Глеб, что помогает природе и делает важное, так и срисовывая пуссэновские деревца, тоже считал, что это имеет особое значение. Вряд ли определенное что-нибудь думал. И, конечно, словами не мог бы выразить. Но рисунок должен выходить как можно лучше! – это он знал всем существом своим. И когда удавалось, с гордостью и приятностью влезал на трапецию, раскачивался на ней, ему нравилось, что он один, что снизу доносится музыка, а он со временем будет художником и даже сейчас делает нечто важнейшее – такого сознания значительности своей жизни, ее насыщенности он в Устах не испытывал.
Долго на трапеции сидеть утомительно. Можно слезть, подняться на две ступеньки из своей комнаты в другую, ту, что смотрит на озеро. Оно кажется огромным – ровная гладь снега! – на краю синеет лес, а справа за плотиною завод, дым идет из труб и вечно горят два языка пламени над домнами. Все это странно, почти фантастично! В тех лесах, разумеется, живут медведи, лоси, эти леса соприкасаются где-то вдали с Устами – Дьяконовыми косиками, Чертоломами, и все это необъятная Россия. Да и озеро тянется в глубину верст на двадцать. Когда придет лето, отец обещал взять на охоту за утками, для этого надо плыть к истокам на пароходе, замерзший кузов которого, с заиндевелою трубой, виден в углу набережной и плотины.
Эта первая зима в Людинове оказалась для Глеба вообще особенной. Хоть и был он по-прежнему большеголовый, с залысинами на висках мальчик, но уже не совсем такой, как в Устах. Возросло одиночество, мечтательность. Он теперь меньше был связан с матерью, Лизой, отцом, хотя они и находились тут же. Жил более собственною, пробуждающейся, тайной жизнью, о которой ни с кем не хотел бы говорить.
Но и внешнее являлось, или вторгалось в его бытие по-новому.
Настоящей гувернантки все еще не нашли. Решили пригласить заводскую фельдшерицу Мяснову – пусть дает Глебу уроки хоть по-русски и арифметике, иначе он все перезабудет.
Мяснова являлась в четыре – румяная, довольно плотная девушка лет под тридцать, с близорукими выпуклыми глазами, аккуратная и холодноватая. Держалась уверенно, одета была чисто. От нее пахло чем-то медицинским – Глебу не весьма понравилось. И вообще она не отвечала тому миру, уединенному и поэтическому, в котором он теперь жил. Руки у нее были крепкие, с красными пальцами, почерк почти мужской, белый воротничок подкрахмален, блузка сидит ловко… «К следующему разу ты решишь две задачи, одну о курьерах, другую № 135. По-русски стихотворение на память, а по грамматике о местоимениях. Запиши».
Глеб сразу почувствовал, что с ней будет скучно.
– Ты знаешь, – говорила Лиза вечером, – мне Катя Новоселова сказала, что эта Мяснова очень умная. Она развитая, окончила в Петербурге фельдшерские курсы и стоит за республику. Катя тоже. И все Новоселовы.
Глеб знал, что Новоселов служит на заводе по счетоводству, и что Лиза начала дружить с его дочерью. Про республику же ничего не знал. Но именно потому, что не знал, и остался недоволен.
– Наверно, глупости.
– А Катя говорит, что совсем не глупости.
– От этой учительницы, – мрачно сказал Глеб, – пахнет лекарствами.
– Да, потому что она лечит больных рабочих. Больные рабочие Глеба мало интересовали. Женщины, пока что, тоже мало. И все-таки Катя понравилась ему больше Мясновой.
Катя часто ходила теперь к Лизе, чаще, чем та к ней. Иногда они запирались в верхней комнате с видом на озеро и читали вместе. Или просто сидели в сумерках и болтали. Катя была старше, лет пятнадцати, довольно сильная, раннего физического развития, с приятным, слегка грубоватым русским лицом, по-вологодски окала. Очень румяная, но не таким румянцем, какой раздражал Глеба в Мясновой, а теплым и живым. Вообще она была здоровая и теплая, это наибольше Глебу в ней нравилось. Когда его пускали в комнату, он не без приятности забирался к ним на диван, перед вечерним чаем, начинались «умные разговоры».
В них Катя была сильней «директорских детей» (так называли их Новоселовы).
Глеб узнал теперь, что в Петербурге есть «правительство», и очень жуткое. Всем правит царь и его министры. Что хотят, то и делают. Правда, предыдущего царя убили, но этот еще хуже, «деспот» (такого слова Глеб раньше не слыхал, оно произвело на него впечатление таинственности). В Петербурге жить небезопасно. А особенно если ты против правительства. Скажешь что-нибудь, тебя и заберут, и в Петропавловскую крепость.
– А уж 6-оттуда не выпустят, – прибавляла Катя. Лиза бледнела.
– Так совсем и не выпустят?
– Иль в Сибирь со-ошлют, или еще мало бы как. Мне Батька рассказывал… (У Новоселовых все звали друг друга: Катька, Петька, Батька).
Оказывается, в Петропавловской крепости есть такие казематы, что можно открыть люк в полу и сразу провалишься в реку… поминай, как звали.
Истории о крепости, где узники бесследно исчезают, производили на Глеба довольно сильное впечатление. Очень, конечно, страшно! – И он слушал эти рассказы с интересом, но как нечто чуждое. Это не ему принадлежит, в таком мире он случайно. А ему принадлежит белое под снегом озеро, одиночество, увлекательные книги, рисование…
Лиза же находилась под большим влиянием Кати.
– Я не понимаю, – говорила она, встряхивая кудряшками (носила на лбу небольшую челку), – как это можно быть консерватором?
Тут дело и подходило к республике. Как некогда в Устах спорили, какой конь на картинке лучше, белый или вороной, так теперь надо было решать, монархия или республика?
И опять девочки были заодно против Глеба.
Катя повторяла слова Батьки, Лиза – слова Кати. Глебу, в сущности все это было безразлично, но казалось (бессознательно, конечно), что, соглашаясь с девочками, он теряет часть своего, особенного. А свой мир он не может ни с чьим смешивать.
Читал он пока лишь Жюля Верна, Эмара и Майна Рида. Но именно у Эмара и вычитал неожиданный аргумент: оказывается, в Южной Америке отлично избирателей подкупают! Хороши девчонки со своей хваленой республикой.
Катя стала зато доказывать, что когда сто человек решают, им труднее ошибиться, чем одному, и они не дадут одному стать деспотом. Глеб смотрел на ее свежие губы и серые, севернорусские глаза, на сложенные на затылке косы – все это ему нравилось, – но мнения своего не менял. Катя же не волновалась, говорила положительно, довольно мило и упрямо. Глеб, разумеется, не мог себе представить, что в этой спокойной, крепкой девочке созревала новая глава жизни России.
Внизу, в столовой, со старшими, Катя несколько замыкалась. Не весьма уютно себя чувствовала, будто не в своем стане. Это было и верно. Отец считал Батьку «фантазером», книжным человеком и относился к нему слегка насмешливо. Мяснову, Новоселовых называл «аптечки и библиотечки» – кажется, не нравилось ему и то, что Батька не был охотником и не пил водки – вообще удали за ним не числилось. Мать же просто держалась холодновато. Такую позицию Глеб легко принял.
И был отчасти смущен, когда Лиза однажды попросила его снести Кате записку (Лизе нездоровилось, она не выходила).
Глеб надел свою оленью шапку, романовский полушубочек, и через заснеженный парк, прямой аллеей мимо катка, где катались на коньках дети служащих, направился к четырехугольному двору, замкнутому корпусами с квартирами и «господским домом» – нечто вроде пансиона для молодых инженеров, еще времен Мальцева.
Новоселовы жили в кирпичном корпусе, недалеко от Мясновой. Пройдя темными воротами из парка, Глеб пересек четырехугольник двора, поднялся по грязноватой лестнице во второй этаж.
Дверь отворил худой человек с добрыми глазами, в очках, с бородою, лысый, в домашней куртке и туфлях. На плече у него дремал ребенок. Одною рукой он его бережно поддерживал, а в другой держал книгу. Это и был Батька, семьянин, интеллигент, по случаю воскресенья пребывающий в домашнем лоне. Глебу он приветливо улыбнулся.
– А-а, директорский сын… наверно, к Катьке? Да не знаю, дома ли она. Кажись, нет.
Он отворил дверь в другую комнату, крикнул:
– Катька, к тебе гость!
И мурлыкая что-то ребенку, сквозь очки продолжал читать, разгуливая взад и вперед по столовой, где на клеенчатой скатерти стоял полухолодный самовар, недопитые чашки, валялись крошки. Стулья в беспорядке – он натыкался на них, не обращая внимания.
Из другой комнаты вышла не Катя, а ее мать, худенькая, маленькая женщина с тонким и некогда миловидным лицом, преждевременно поблекшим.
– Катьки нет, она ушла к Мясновой. Батька, давай мне Сашку.
Среди всех этих Батек и Катек она одна называлась особенно – за худобу и остроугольность – Птицей. Сейчас эта Птица, не обращая на Глеба ни малейшего внимания, подхватила очередного Сашку (если бы Глеб был опытнее, он бы по ее животу заметил, что семья Новоселовых растет). Батька покорно младенца отдал и положил на стол книжку. На обложке ее Глеб прочел – «Русское Богатство».
– Сестра только просила меня передать это письмо, – сказал Глеб довольно сумрачно. Ему не понравилось, что Батька назвал его не по имени, а «директорским сыном», что Птица не поздоровалась вовсе (но таков был стиль Новоселовых). Не понравился и хаос в комнате, клеенчатая скатерть в лужицах, остатки еды. Даже портрет Толстого в простенке не понравился.
Батька оторвался на минуту от чтения, теми же добрыми глазами на него взглянул из-под очков.
– Хорошо, мы Катьке передадим, когда придет.
Глеб откланялся. Батька кивнул и взялся за Михайловского.
Глеб же, вновь пересекши двор, вышел мимо «господского дома» другими воротами к церкви и на набережную. Все тот же пароход, занесенный снегом, торчал изо льда. Направо завод пыхтел, бледно горели языки пламени над домной. Вдали, за снежною ширью озера, синея в наступающих сумерках, виднелись леса. Вкусный зимний воздух! Глеб шел задумчиво. Снег поскрипывал под валенками. Издали, из таинственных лесов, тянуло удивительным спокойствием. Там тишина, снегом завеянные ели – красота! А тут…
Нет, хорошо, что он сын именно своего отца, и живет вот так, один наверху. А Новоселовы и Батька этот… он, кажется, хороший. Лиза говорит, что он «народник», и даже пострадал от правительства, был куда-то «сослан на поселение». Глеб не очень это понимал, но и нельзя сказать, чтоб очень одобрял. Он вспомнил квартиру Новоселовых, беспорядок, некрасоту, фамильярный тон. «Нет, этот Батька какой-то чудной», – и все новоселовское представилось ему пестрым и неуютным.
Пройдя несколько минут, он повернул с набережной во двор, и через большой подъезд, мимо дремавшего в своей комнате Тимофеича вошел в дом. Тут тоже было тихо, сумеречно, пустынно. Глеб поднялся к себе наверх. На столе лежал неоконченный рисунок – вокруг карандаши, резинка, снимка. Вот это жизнь! Но в ней не нужно ему никаких Мясновых, Катек, Батек. Никаких задач, курьеров и уроков. Собственные родители нужны, и он их очень любит. Но главное, все-таки, не в них. Живет-то он собой, только собой.
Глеб зажег лампу. Его уединенный мир сразу, еще крепче очертился. Листва на рисунке показалась не такой легкой и изящной, как на оригинале. Он стер и стал делать по-новому. Потом доделывал угол мельницы, оттушевывал облака. Время шло быстро. Он обо всем забыл.
* * *
Не одним уединением наполнялась жизнь его в Людинове. Удовольствий было здесь еще больше, чем в Устах. Больше гостей, катаний на тройках. Приезжал цирк – Глеб с Лизой пропадали там, а потом у себя в зале устраивали представления.
В парке, на отличном катке, Глеб чертил лед без устали новенькими коньками, отделяясь от «заводских»: «директорский» сын – другие мальчики в том же Людинове не так жили, но он этого не замечал, как и вообще кроме себя никого не замечал и считал это естественным. Вовсе не хотел задевать или обижать кого-нибудь. Привилегированного своего положения не поднимал – и непременно задевал: и новым полушубочком, и отличной оленьей шапкой с наушниками, и независимым видом, который всегда является у тех, кто чувствует под собой почву. Он не знал, что многие – в том числе Батькины дети – не любили его именно за это.
Бородатый Дрец, кузнечный мастер, некогда в Устах назвавший его Herr Professor, устроил теперь удивительный буер – небольшую трехугольную платформу на коньках, с мачтой и парусом – на этом буере носился по снежной глади озера с отцом и самим Дрецом опять же Глеб, даже не Лиза – где же говорить о Петьках и Ваньках Новоселовских.
А когда подошла весна, стали устраивать поездки верхом и впервые Глеб принят был в общество взрослых мужчин как наездник. Это, конечно, льстило. Рядом с Дрецом, отцом, элегантным Павлом Ивановичем – петербургским инженером-технологом – Глеб на большом гнедом Немце казался мухой, но сидел крепко, и когда на рысях шел их маленький эскадрон по площади, не отставал.
– Пятки, пятки! – кричал отец. Мартовский ветер трепал ему рыжеватую бороду, сильный его иноходец с шипом разбрызгивал из-под копыт грязь со снегом, а Глеб всячески старался правильно держать ноги в стременах, в такт Немцу подымаясь, опускаясь. Главное правило отца – держать лошадь коленями и ступни параллельно – хранил Глеб свято. Павел Иванович, в котелке и перчатках, желтых крагах, молотил спину мерина своего беспощадно. Иногда ездил с ними земский врач Потапов, молодой, скромный медик чеховской складки. Он охватывал всю лошадь икрами, и штаны быстро взъезжали у него, обнаруживая рыжие голенища сапог с ушками. Потапов лечил добросовестно, но на лошади робел. Ему давали горячего Аргамака и веселились растерянному его виду – с Аргамаком и вправду нелегко было сладить.
Он даже пострадал раз: на главной слободе мальчишки испугали его коня, тот рванул вбок, всадник шлепнулся в грязь. Но тотчас вскочил. Дрец подхватил его лошадь под уздцы.
– Ну я же говорил, ну и осторожнее же… Подкатил отец на своем иноходце.
– Э-эх-ма! Наездничек!
Потапов смущенно потирал кисть руки, вынул платок, обтер ссадину.
– Ничего, ничего… Маленькая травма…
Отец на коротком поводу держал танцевавшего под ним иноходца. Лицо его было оживленно, полно весеннего ветра и задора.
– Травма… по-русски сказать: царапина. А все оттого, что ноги неправильно держите. Где у вас пятки? Вы ими лошадь под брюхом щекочете, она нервничает… носки врозь… нет, не модель!
Глеб со снисходительной жалостью смотрел, как Потапов, робея и крепясь, всунув одну ногу в стремя, на другой танцевал по грязи, пытаясь сесть на кружившего, разгоряченного Аргамака, – наконец, сделал мучительное усилие, повалился животом на седло, с трудом выбиваясь на скакавшем Аргамаке.
За Людиновым, пустынной дорогой катили к Сукременскому заводу, на реке Болве. Остановились у плотины, внизу темнел завод, вода ревела в шлюзах, дальше бурлила, затопляла луга, подходила к лесам. Как душит мартовский, порывистый ветер! Какая радость в краснеющей папироске отца, в полноводном озере, в бурленье разлива, в огоньках Сукремли, в дальних лесах, где лоси и медведи, радость в езде, движении, в опьянении этой ездой…
Отец резко трогает.
– Айда домой!
Маленький отряд поворачивает.
– Ходу, ходу! – кричит отец, как командир.
Лошади прибавляют рыси. Глеб замирает, глядит неотрывно на носки своих сапог, на прямую, с длинною гривою шею Немца, верным ходом несущего домой. Да, осторожнее на деревянных мостиках! Отец сдерживает своего иноходца.
Барабанной дробью отдает топот подков по ветхим доскам. В сумерках снег белеет еще по лощинке, ручей журчит, лошади идут шагом, все в пару. Ноги Глеба заныли в стременах, бьется сердце, хорошо, что он выдержал длинный перегон рысью, не отстал. А теперь близко Людиново. В туманной мгле первые огоньки слободы. Отец опять пускает рысью. И мимо почты, по базарной площади у белой и огромной церкви проносится отряд их к озеру. Справа шумит и лязгает завод. Вечные огни-факелы над домнами. Может быть, сейчас выпускают чугун и в литейной все вспыхивает розовым светом, а литейщики черпаками зачерпывают огненный металл, постреливающий золотыми звездами, осторожно, но быстро, чтобы не остыл, несут к земляным опокам и выливают в них. Там, пока господа катаются, он застынет известными мальцовскими чугунками, котлами, разным мелким подельем – и пойдет в русскую же деревню.
А Глеб с отцом медленно въедут в ворота огромного дома директорского у озера. Они живут, радуются и волнуются, они в смутном вечере мартовском самими собой пишут частицу истории, жизни тогдашней России. Но меньше всего о том думают. И могут ли думать? Они просто остро ощущают бытие, счастье движения, силы, бодрости…
Через несколько минут будет уже Глеб у себя наверху. В окна большой комнаты засветят огни домен, порывисто ветром треплемые. На столе, близ трапеции, неоконченные рисунки.
Времена, когда слушал Глеб по утрам разговоры отца с матерью в спальне, прошли. Может быть, и отец изменил в Людинове привычке своей, главное же, Глеб не составлял более приростка матери, выходил на мужскую линию – что ему нравилось и придавало серьезность. Но зато меньше был он осведомлен о жизни дома.
Правда, доносились разговоры, что пора ему как следует уже учиться – не за горами и гимназия. Все-таки, неожиданно пришла минута, когда румяная Мяснова с выпуклыми своими глазами вдруг исчезла. Он не так об этом пожалел. Все курьеры, неизбежно спешившие встретиться, бассейны, наполнявшиеся по указке Малинина и Буренина, наречия и предлоги канули, будто и не было их никогда. И самой Мясновой не существовало – лишь запах лекарств от нее остался. Зато через несколько дней – это было уже после Пасхи – Глеба неожиданно позвали вниз (он занимался у себя рисованием).
– Мамаша в залу просят, – сказал Тимофеич. – Новую губернанку привезли.
Глеб спускался с недовольным видом. Новая Мяснова, с теми же задачами, уроками, грамматиками…
В окно угловой гостиной виднелась нежная зелень, сирень в саду распустилась – скоро и зацветет. Пахло воском и мастикой от свеженатертого паркета. Зато большая зала, очень светлая, солнечная, вся блестела – паркет сиял. Недалеко от рояля, в кресле сидела мать, напротив нее на стуле высокая девушка с длинными, очень живыми руками. Глеб подошел к матери, в нерешительности остановился.
– Вот это и есть ваш будущий ученик, Софья Эдуардовна.
На матери было легкое, темно-лиловое с белыми крапинками платье, на шее брошь в мелких бриллиантиках (столько раз Глеба царапавшая, когда он обнимал мать, и все-таки он любил эту брошь). Мать с нежностью повернула к нему обычно холодноватое, прекрасно-тонкое лицо. Он прильнул ей к щеке. Это было все свое, даже как бы высшая часть себя самого.
– Это и есть Глеб, о котором я уже слышала, – сказала Софья Эдуардовна, улыбнувшись, и протянула ему руку.
Глеб подал свою и слегка шаркнул.
– Вам придется заняться им, нынешнюю зиму с нашим переездом сюда настоящих уроков не было. А ему предстоит гимназия…
Глеб, все прильнув к матери, рассматривал, однако, и новую учительницу. Заметил большой рот, огромные, серо-зеленые глаза. Цвет лица слегка воспаленный – точно бы она с сильного ветра, обожжена им.
– Ну что же, будем заниматься. – Голос у ней был грудной и певучий, довольно низкий.
– Вы и на рояле играете? – спросил вдруг Глеб, глядя на ее длинные пальцы.
Софья Эдуардовна засмеялась.
– Почему ты думаешь?
– Так. Я подумал.
Мать положила руку ему на голову, приглаживая вихорчик.
– Пение и музыка для Лизы. А для него русский, математика, немецкий…
Она перевела взор на Софью Эдуардовну, и он стал обычно прохладен, с оттенком начальственности – не тот, полный любви, каким глядела на сына. Начался разговор о занятиях и учебниках.
Вошла Лиза с туго затянутыми назад, под гребенку, косицами, в пестреньком платьице. Ее тоже представили. Она слегка робела, но скоро освоилась, и через десять минут разговаривала с Софьей Эдуардовной как с давно знакомой.
– Давайте попробуем что-нибудь в четыре руки, – сказала Софья Эдуардовна.
Лиза достала ноты и они уселись. Глеб подошел сзади. На развернутой, узкой тетради нот, лежавших на рояльном пюпитре, прочел: «Лунная соната».
Софья Эдуардовна и сидя была много выше Лизы. Ее большие, сильные и гибкие пальцы с первых же ударов поразили Глеба. Да, это не устовская Лота, скромно тараторившая в басах… Лиза играла хорошо, но было видно, что рядом с Софьей Эдуардовной она дитя, изо всех сил старающееся.
– Сыграйте что-нибудь одна, – сказала Лиза, когда закончили.
Софья Эдуардовна сидела несколько задумчиво.
– Вы позволите? – спросила, обернувшись к матери. Та молча и холодновато наклонила голову.
Теперь никаких нот не было. Она понизила винтовую табуретку, на которой сидела, примерилась, поправилась, попробовала ногами педали… – после мгновенного молчания пальцы ее ринулись к клавишам. Нечто бурное, светло-мощное понеслось из-под них. В весеннем утре людиновском звуки наполнили залу с сиявшим паркетом, сами сияли…
Глеб ни о чем не думал, глядел на клавиатуру. Только бы это не прекращалось.
– Шопен… Valse brillant, – шепнула Лиза.
Глеб знал эту пьесу – Лиза нередко играла ее еще в Устах. Но теперь все было другое.
Софья Эдуардовна, слегка задохнувшись, поднялась. Лиза восторженно на нее глядела.
– Я был уверен, что вы отлично играете, – сказал Глеб.
– Почему?
– Так… Был уверен.
В дверях показался Тимофеич в белых нитяных перчатках.
– Кушать подано-с.
Мать поднялась и прохладно поблагодарила Софью Эдуардовну. Лиза же к ней прижалась, и, полуобнявшись, вместе пошли они в столовую.
Отец, в сереньком светлом костюме, веселый, оживленный, сидел между Дрецом и Павлом Иванычем, в конце стола. Доктор Потапов несколько в стороне. За стеклянной стеной было озеро, завод и дальний лес.
– Чи-ик, – говорил отец, чокаясь с Дрецом.
– Погодите же, Николай Петрович, надо же и-пыж п-при-готовить.
Волосатой рукой Дрец насаживал на вилку маринованный грибок.
Отец любезно и слегка играя поздоровался с Софьей Эдуардовной. Павел Иваныч шаркнул, Дрец по-медвежьи смял своей лапой ей руку. Глеб сумрачно на него посмотрел. Этот простой, грубоватый немец, весь заросший волосами, умевший только выпивать да охотиться, как-то не подходил сейчас.
– За ваше здоровье, – сказал отец, весело и смело глядя на Софью Эдуардовну. – Дрец, будет вам с пыжом возиться, выпьем за нашу музыкантшу.
– Ну, я же и никогда не откажусь выпить, тем более, за симпатичную барышню…
– Мало того, что симпатичную. Слышал, как она играет?
Дрец опрокинул в себя рюмку, крякнул.
– Знаменито!
И нельзя было понять, играет знаменито, или знаменита новая зубровка из Калуги.
Мать имела сдержанный вид. Не весьма, видимо, одобряла легкомысленный, слегка даже развязный тон отца. Но Софья Эдуардовна заговорила с Потаповым, Павлом Ивановичем о музыке, Петербурге, Консерватории. Положение укрепилось. Явно, на конце отца и Дреца был охотницко-выпивательный климат, здесь более интеллигентский. Обед прошел живо. Глеб помалкивал и прислушивался. Интересные вещи доносились и с отцовской стороны: что-то о большой охоте на Петров день за утками. Одной половиной существа своего Глеб был там – его, конечно, занимало: возьмут ли и его? Но именно потому, что хотелось, чтобы взяли, он – и делал вид, что ему все равно. Другая половина была здесь. Не то, чтоб интересовали Рубинштейн, Чайковский, но он смотрел, как говорила Софья Эдуардовна, как двигались ее руки, как еще раскраснелись щеки. И его удивлял отец, издали вдруг громко, слишком весело вмешивавшийся в разговор. («А ваш Рубинштейн пил водку? Ну-ка, Дрец, за чистое искусство!» – и опять чокались.)
После обеда. Лиза побежала смотреть, как новая гувернантка распаковывает вещи. Глеб бродил в небольшом саду близ дома, швырял камешки в круглую раковину фонтана, жуя свежий березовый листик.
Прибежала Лиза, возбужденная, радостная.
– Ты знаешь, как ее фамилия?
– Нет.
– Дестрем! Она полуфранцуженка, ее прадед в Россию переселился, когда была французская революция… еще всем дворянам головы рубили.
От Лизы, Кати Новоселовой Глеб слышал несколько слов о Марате, Робеспьере. Но толком ничего не знал. Теперь его поразило известие о Софье Эдуардовне. Он, конечно, сделал вид, что ему все равно и что он давно сам так и думал. И даже счел, что нечего особенно восхищаться Софьей Эдуардовной.
– Да, конечно, – сказал с видом опытного, видавшего виды человека, – у нее в лице есть что-то иностранное. И она хорошо играет…
Тон его был настолько сумрачный и снисходительно-покровительственный, что Лиза даже прыснула.
– Ты чего это дуешься?
– Нисколько не дуюсь.
Лиза скосила к переносице глаза, поднесла к носу орешек, смешно понюхала его, взяла на зубки – это был ее номер: изображалась мартышка с орехом. Мартышка пробовала раскусить, потом делала удивительные гримасы, чесала себе за ушком и вдруг по-старушечьи, как устовская Дашенька, шептала: «О, Господи, батюшка!»
Мартышка служила знаком хорошего настроения у Лизы – и всегда имела успех. Но нынче не произвела на Глеба впечатления. Лиза поскакала от него к дому на одной ножке.
– Философ! Herr Professor! – крикнула со ступеньки балкона.
Глеб про себя решил, что она дура, хотя и его сестра, и направился в парк – в одиночестве переживать впечатления дня.
А переживать было что. Ясно, что в жизни его происходит перемена. Не зря появилась эта Софья Эдуардовна. Не зря мать говорила нынче и о гимназии. Калуга! Он слышал уже это слово. И раньше приходило в голову, что не вечно же будет приволье, одиночество, свобода почти роскошной жизни в этом Людинове. Но теперь будущее принимало некие очертания. Эту зиму проведет он, конечно, еще здесь. А следующей осенью… Ну, об этом лучше не думать. Пока же что, он знал, надо как следует учиться.
Неверно, конечно, что с первого взгляда уловил он в Софье Эдуардовне «иностранное». Но верно, что произвела она сразу большое впечатление. Глеб был ребенок и не мог бы его определить. Но если бы ему шепнуть, наедине, что это – нечто особенное, из другого мира, чем все Дрецы и Потаповы – может быть, он бы и согласился. Только и согласился бы молча, про себя, уйдя в начинавшую уже появляться в нем тайную келью.
Глеб брел по липовой аллее парка к дальнему малиннику. В аллее было сумеречно, кое-где лишь бродили беспризорные блики солнца, а конец ее, выходивший в огороды и к ягодам, сияла как светлая, золотисто-голубоватая отдушина.
Из поперечной аллеи вышла Катя Новоселова. Она шла с развальцем, крепкая, спокойная, жуя конфетку. За ней плелся нескладный братишка Петька. Под мышкой она держала «Русское Богатство».
– А мы к тво-ей сестре. Не зна-ам, дома ли. Батька просил книжку переменить.
Глеб сказал, что дома. Катя довольно дружелюбно посмотрела на него огромными, северно-русскими глазами. Петька же диковато жался к ней, с противоположной стороны. Катя предложила Глебу конфетку. Но он холодновато поблагодарил и пошел дальше.
Нет, это совсем не то. Катя со своей толстой грудью, вологодско-ярославским оканьем показалась ему слишком простоватой. В Софье Эдуардовне все было иное. И глаза, и рот, и высокая, стройная и худощавая фигура, и слабый запах духов, и большие, но такие стремительные и нежные, как бы летающие по клавиатуре руки.
* * *
Если бы взрослого Глеба спросили, когда было легко и приятно для него учение, он не колеблясь назвал бы то лето. Софье Эдуардовне он готовил те же уроки, что и Мясновой. Курьеры вновь неизвестно куда ехали, чтобы все же встретиться, неправдоподобный купец покупал сукно, и надо было узнать, сколько он получит прибыли. Немецкие глаголы так же приходилось загонять под конец фразы. Но все выходило теперь по-иному. Курьеры быстро встречались, купец торговал отлично, «ять» и «е» в диктанте становились куда надо и даже частица «zu» оказывалась на месте. Нельзя сказать, чтобы Софья Эдуардовна была строга, нельзя сказать, чтобы и небрежна. Главное же, Глебу казалось: с ней все делалось само собою, в том легком и безошибочном ритме, как при ее игре. Занятия становились продлением музыкальной пьесы. Когда урок кончался, Глеб знал, что во вторую половину дня не может он не разучить учебной своей «партии», которую завтра придется исполнять пред Софьей Эдуардовной. И как бы ни был приятен день, в некий момент та же сила вела его к письменному столу, наверху в его комнате (рядом, в огромной, жила с Лизой Софья Эдуардовна: там и занимались). Он готовил уроки быстро и тщательно, не могло быть вопроса о том, знает он или не знает. К завтрашнему должен знать, и не так себе, а превосходно. И если какой-нибудь бассейн не наполнялся, Глеб брался за отца.
– Задачи, задачи, – говорил отец. – Алгеброй в один миг можно.
Аккуратно чинил карандаш и, вспомнив всю инженерскую свою премудрость, наполнял бассейн и без алгебры.
– Конечно, математика развивает ум. Но, в общем, пустое, брат, занятие все эти твои уроки. Успеешь еще в гимназию.
– Софья Эдуардовна задала, – оправдывался Глеб.
– Софья Эдуардовна… Ну, учись, Бог с тобой. А на Петров день поедем уток стрелять… «Елизавету» починили.
Тон отца был такой, что вообще настоящая жизнь это ездить верхом, стрелять уток и тетеревов, закусывать, хохотать, а ученье можно извинить лишь жизненной необходимостью да чтобы угодить Софье Эдуардовне.
Сам он относился к ней более чем сочувственно: постоянно острил, смеялся, любил слушать в зале ее музыку, и даже подпевал – высоким небольшим тенором. Она нисколько его не стеснялась – держалась просто, не как подчиненная. Удивительнее всего было то, что даже мать не оказывала на нее ни малейшего действия. Странно было бы думать, что кто-нибудь может ослушаться матери – от Тимофеича, Дашеньки и кухарки, до самого отца. Софья Эдуардовна не то, чтобы не подчинялась. Напротив, всегда действовала с матерью в согласии. Но именно так, что не подчиняется, а держится того же мнения. Ее тон был ровен, легок в жизни, как и в музыке.
Кто была эта Софья Эдуардовна, учившаяся и в Смольном и в Консерватории, со своим аристократическим прошлым, ныне странствовавшая гувернанткой по чужим людям? Глеб не знал.
Но она явилась в той полосе его жизни, когда слабо, неясно, но уже появлялось в нем и недетское. Далеко позади эдемское состояние Устов с Лотою, поливающей его из леечки на берегах Жиздры! Он погиб бы от ужаса, если бы это устроила теперь Софья Эдуардовна. Высокая девушка не первой молодости, с несовсем правильным лицом, как бы обветренным и опаленным, с большими – и столь гибкими! – руками, пришла еще не как Победа, но как предвестие.
И не случаен оказался тихий и зеленоватый день июньский, когда с утра чуть крапал дождичек, слегка рябя озеро, видное из верхней комнаты. В ней Глеб лежал на диване, читал Тургенева, «Первую любовь». Сердце у него билось. Кто-то держал его в своей руке, сжимая и разжимая – и все это был иной мир, волшебный, такой же мучительно-сладостный, как и музыка Софьи Эдуардовны. Глеб читал неотрывно и, кончив, с мутной, но счастливой головой спустился вниз. Не мог, никак не мог усидеть. Если бы шел дождь, все равно не остался бы в комнате. Но дождь перестал. В зале играли, Глеб знал, кто играет, и это было все продолжение того же, мучения-сладости книги. Он вышел на подъезд. Музыка сопровождала его, все слабея, такая же легкая и бестелесная. Но когда мимо людской и бани, калиткою он вышел в парк, она почти замерла. Капли падали с лип. Было тепло, сыровато, зелено и так укрыто, так тихо! Светлым туманом виднелся конец аллеи с малинником. Сквозь облака стало пробиваться солнце – слабо, но ласково брало лучами то тут, то там светлое пятно. Влага под ним курилась. Капли падали острым серебром.
Глеб никого и ничего не слышал.
Как ни усиленно занимался он учением, все же бывали и передышки. Петров день пришелся в субботу, значит, до понедельника отдых.
Петрова дня ждал Глеб не напрасно: снаряжался целый поход на уток, к верховьям озера.
В пятом часу утра пили уже Глеб с отцом чай на балконе – отец наливал себе много сливок, клал четыре куска сахару, тянул с блюдечка и дул на него. В небольшом саду сладко цвел табак. Бассейн фонтана влажен был от росы, солнце чуть тронуло верхушки лип.
Через несколько минут, с ружьями за плечами, патронташами, в высоких сапогах, шагали отец с Глебом к дымившей у пристани «Елизавете».
Дрец и Павел Иваныч уже сидели на палубе – тоже в вооружении. Машинист почтительно отцу поклонился.
– И посмотрите же, – говорил Дрец о Павле Иваныче, – точно же и в гости собрался, не на охоту!
Павел Иваныч в картузике, хорошо сшитой охотничьей куртке, узеньких сапогах, с изящной двустволкой и первосортными патронташами был действительно «Охотник с картинки».
– Ну, поехали, поехали, – сказал отец, – пора.
Машинист засуетился. Черная Норма, гладкошерстый пойнтер отца, повизгивала, жалась к его коленям, перенюхивалась с неказистым длинноухим кобельком Дреца. «Елизавета», попятившись, дала передний ход. Описывая полукруг, отошла от плотины и взяла направление в глубь озера. Справа и сзади завод погромыхивал, пылил, дымил, и бледные языки пламени, сейчас еле видные, как невесомые флаги висели над домною. Слева потянулась набережная. Легко, как в панораме, проплыл дом, откуда только что Глеб с отцом вышли. Озеро было зеркально, чуть дымилось. Во втором этаже дома спала еще Софья Эдуардовна. Глеб, оболокотясь о перила, смотрел, как уходили окна, и ему представлялось все сейчас не таким, каким было в действительности. Софья Эдуардовна не совсем Софья Эдуардовна, он не он, охота не охота – едут куда-то очень далеко – в ушах его все вертелся напев, недавно слышанный:
Едем в море варяга, Иль на остров Сант-Я-яго…Дом скрылся, скрылась и слобода. Озеро несколько сузилось – ближе придвинулись леса. Зеркальную воду резал нос ветхой «Елизаветы», колеса ее лопотали, а за ней расходились косыми полосами серебристые волны с изломанными отражениями лесов. Солнце пустило по ним полные золотые струи.
Отец курил, сидя с Дрецом. Под шум машины долетал его голос.
– Вчера приносят мне в контору бумажку. В литейной нашли. Каракулями, безграмотно. Понять, однако, можно – на Петров день смеловскому дому гореть.
От Дрецовой трубочки пахло едко.
– Это что и-на площади Смелова дом? Ну, да и-как же они его сожгут? Да он же весь и виден, на ладошке…
– Черт их там знает, как… Может быть, и вранье. Все-таки я велел присматривать и Смелова известил.
– Это вы и-правы, Николай Петрович, известить… да это и-наши, наверно, мастеровые балуются… так и-сволочи какие-нибудь. Так и-пужают.
– Ну, вот и посмотрим. Право, право! – закричал вдруг отец рулевому. – Куда глядишь? Видишь, коряга…
«Елизавета» круто взяла вправо и, кажется, отец вовремя это сделал – охотницким взором заметил одиноко торчавший из воды пенек.
Но пенек миновали, благополучно шли далее. Людиново и завод скрылись. Дикие, непроходимые леса кругом. Глебу казалось, что совсем ушел прежний мир. Озеро превращалось как бы в широкую реку, волны из-под колес хлюпали у берега, в них подтанцовывали кувшинки, кивала осока.
Солнце совсем поднялось, когда «Елизавета» пристала к берегу у избушки лесника. Дальше нельзя было ехать, в полуверсте виднелась плотина: там второй, меньший пруд, где охота.
Охотники спустились. Тут начинались владения разных Потапычей и Миронычей, утлых мужичишек с паклевидными бороденками, невнятной речью, косолапых, но ходоков и знатоков дичи. Один такой Евсеич повел к плотине. Там ждали уже плоскодонки. Отец сел с Глебом. Норма у их ног. Евсеич греб одним веслом на корме. Дрец с Павлом Иванычем двинулись на другой, по другому краю озера.
– Когда будешь стрелять, – говорил отец Глебу, – помни, что дробь от воды отражается. Осторожнее, можешь кого-нибудь подстрелить на берегу.
Дрец шумно и недовольно устраивался на своей лодке.
– Ну, и посмотрим, Павел Иванович, как это вы и-стреляете… Это вам не то, что и в цель, или там бутылку кидать, это вам не щепочки…
Евсеич греб медленно. Нечто спокойное, древнее и фаталистическое было в этом худощавом старике с жилистыми руками. Казалось, здесь среди хлябей он вырос и жил, и всегда будет жить, и всех уток, бекасов и чибисов знает по именам и фамилиям.
Отец курил. Норма дрожала от волнения, слабо и жалобно попискивала.
– Там вот выводочки-то… – говорил Евсеич ровным голосом. – Во… осока. Собачку извольте пускать. Тут не глыбко.
Отец подтолкнул ее. Норма взвизгнула, бултыхнулась в воду и тотчас деловито, страстно потянула к берегу средь камышей, по неглубокой воде – едва до сосков ей.
Охота началась.
Евсеич взял теперь шест и с тою же невозмутимостью, как плотогоны на Оке, как древний прадед его на Десне или Припяти, медленно подталкивал лодку сквозь зеленые плетенья водорослей, мимо желтых купав, белых водяных лилий на тугих листьях, раздвигая шуршащую осоку. Камыши расступались – кивали шершавыми коричневыми цилиндрами цветов своих.
Норма подымала уток, отец стрелял. Глеб выстрелил несколько раз, и все мимо. Он стал волноваться и нервничать.
С боков и вдали подымались кряквы, маленькие чирки резво неслись в воздухе. Утята в ужасе, полулетя, полуплывя, уносились вперед. Уже три утки лежали на дне лодки. Слева постреливали Дрец с Павлом Иванычем. Норма мелькала вся мокрая, грязная. Камыши прошли. Открылся опять простор водный, плес. Теперь ветер стал набегать, рябь пошла. Озеро засинело густой, резкой синью. Встревоженные чайки носились, опускались на воду, сверкая белизной своей, точно малые яхты.
– Собачку в лодку пожалуйте, им теперь глыбко будет.
Из уважения к отцу, который по положению своему был для него чем-то полубожественным, Евсеич и Норму называл на вы.
Норма с розовым своим высунутым языком села на нос, блестя под солнцем мокрым, глянцевитым волосом, быстро дышала, временами вся встряхивалась – обдавала брызгами. Евсеич взялся за весло. Надо было пройти довольно далеко чистым местом.
Глеб был недоволен. Неважно показал себя на охоте со взрослыми, да и вообще все выходило не так, как ему казалось. Во всех этих утках, Евсеиче, грязной Норме, удиравших утятах, смятых, окровавленных перьях трофеев, не было ничего ни поэтического, ни замечательного. Не то, что он воображал. Глеб чувствовал волнение и раздражение.
И когда недалеко от него, слегка ныряя в ветре на узких бело-коричневых крылах показался чибис, он вдруг приложился и выстрелил. Чибис медленно упал в воду, как бессмысленная тряпка. Норма кинулась было, отец удержал ее – с удивлением и, как показалось Глебу, недовольно на него взглянул. Евсеич повернул к птице. Но отец рукой указал прежнее направление.
– Ну, это не дичь.
Разумеется, не дичь. Глеб отлично понимал это. По-охотницки – просто бессмысленное убийство, довольно даже неприличное.
Что-то острое, но и неловкое давило ему сердце. Чибис поколыхивался на воде.
Охота вышла длинная и утомительная. Брали заводь за заводью, то сидели в лодке, то выходили на берег. То встречались с лодкою Дреца и Павла Ивановича, то разъезжались с нею. Охотники находились в некоем возбуждении. Ружья нагрелись, руки закопчены, пахнут патронной гарью, болотные сапоги в тине. Когда Павел Иваныч, дома любивший стрелять в бросаемые бутылки, мазал по уткам, Дрец злорадно бурчал:
– Это вам не бутылочки. Это вам не щепочки.
А когда Дрец шел по берегу и Павел Иваныч приложился из лодки по плывшему утенку, Дрец в ужасе заорал:
– Да ведь вы же и-меня ухлопаете! Что вы! Павел Иваныч, ну прямо и-в меня целите!
Павел Иваныч элегантно отнял ложе ружья от белокурой своей бородки, а Дрец на всякий случай присел, закрыв лицо. Может быть, был он и прав. Может быть, не крикни он своевременно, Павел Иваныч также элегантно нажал бы собачку и, дробь, отразившись от воды, прочертила бы узор по волосато-медвежьему лицу Дреца.
После полудня в нескольких верстах от «Елизаветы» завтракали – на высоком берегу в тени ракиты. Озеро посверкивало мелкой зыбью. Пахло лугами, цветами, ширь и пустынность… Но Глебу все это мало нравилось. И край казался чужим, неприютным, и собой он был недоволен – стрелял плохо, бесславно убил чибиса да пару беззащитных утят.
У Нормы весь нос был изрезан осокою, кровь капельками падала на землю. Кровь и на грязных руках Дреца – он ел, не ополоснувши их. Даже трофеи, куча убитых уток, где больше всех поработал тот же Дрец, вызывали в Глебе тайную неприязнь.
– Николай Петрович, он же и-меня чуть и-не застрелил! Прямо целится, вижу, и-сейчас весь заряд в лицо…
Павел Иваныч оправдывался. Дрец с отцом выпивали, Глеб мрачно глодал ножку цыпленка.
Часам к четырем вновь тронулись. Глеб едва передвигал ноги. Отец это заметил.
– Ну, братец ты мой, мы возьмем тут еще болото да озерцо, а тебя Евсеич свезет на «Елизавету».
– Нет, нет, я ничего, я не устал…
Если бы отец настаивал на том, что Глеб маленький, устал и не может более охотиться со взрослыми, он бы уперся и ни за что не поехал бы. Отец хорошо его знал.
– Я и не говорю, что ты устал. Да ведь мы будем стрелять бекасов, а у тебя нет зарядов с бекасинником. А потом – нужно машинисту напомнить, что в восьмом часу мы непременно тронемся, чтобы все было готово.
– Я вовсе не устал, – пробормотал Глеб с недовольным видом, но возражать не стал.
И через несколько минут сидел уже в плоскодонке, тот же Евсеич мирно и безостановочно гнал ее к «Елизавете». Одиноко, грустно показалось Глебу на озере. Незнакомый старик вез его. Ноги ныли, хотелось спать. В голове стоял пестрый и шумный день, выстрелы, чибис, раненые утята, которых докусывала Норма или добивал Дрец, пороховой дым, разгоряченные лица. Груда уток настрелянных, окровавленный пух… никаких подвигов! Убивали в камышах плохо летающих утят – это больше похоже на бойню. «Вам не жалко стрелять разных птиц? – спросила раз при Глебе отца Софья Эдуардовна. – По-моему, это стыдно и бесчеловечно». Отец рассмеялся и сострил что-то. Глеб запомнил эти слова. Но они были случайны – не могли еще пробить всей сложившейся жизни.
Он действительно чуть не задремал. На «Елизавете», передав приказание отца, спустился в крохотную каюту, и, подложив под голову патронташ и ягдташ, не снимая сапог, заснул на диванчике.
Когда проснулся, было темно. Сбоку, за стенкой, что-то лопотало. В приоткрытую дверь тянуло теплом, машинным маслом. Там легко и напряженно шумело – диванчик под Глебом чуть вздрагивал. Слабый красноватый отсвет лежал на дверной притолке.
Глеб открыл глаза. Сначала все это показалось ему волшебным и непонятным. Страха он не испытывал, скорей даже приятное чувство – как будто продолжение сна, какая-то иная действительность, неплохая, но непонятная. Как человеку, смотрящему из окна вагона на двинувшийся рядом поезд кажется, что двинулся его вагон и он не сразу входит в настоящее, так некоторое время и Глеб не мог перестроиться. Но потом сообразил, что уже вечер и «Елизавета» тронулась. А отец? Охотники? Но как раз сверху долетел смех Дреца. Отец прикрикнул на Норму. Все в порядке.
– А, вот же он, и Herr Professor, – закричал Дрец, когда Глеб поднялся на палубу, – Ну, и хорошо спал? Что во сне видел?
Глеб улыбнулся слегка смущенно, точно был виноват, что заснул, и подошел к отцу.
– Я сначала даже не понял, где я… А вы много настреляли?
Оказалось, что нет: и бекасов небогато, и стрельба по ним трудная.
– Павел Иваныч и-все свои зарядики расстрелял, из всех патронташей, и хоть бы птичку. Это вам не щепочки!
Из машины ярко краснело теперь, по лицу Дреца ходили блики, тени, и все это дрожало, то сильней вспыхивало, то слабело. Глеб облокотился о борт. Опять темные леса! Шли еще неширокой частью озера, влажно-прохладный ветерок тянул с берега. Встала луна, проложила светлую дорогу от себя по воде к «Елизавете». Все бежало вокруг – леса, камыши, озеро, и лунный путь лежал как меч. Глеб молчал и смотрел. Доносились голоса охотников, но он не слушал их. Как прекрасно! Вот это, наконец, прекрасно – темно-синее небо, слегка золотеющее к луне, слабые звезды, тишина, прохлада, запах лесов, искрящиеся в лунном блеске струи и разводы за «Елизаветой». Это понравилось бы и Софье Эдуардовне.
Он прошел на нос и стоял там совсем один. Пароход выбрался, наконец, на простор.
Завиднелись языки газа над домнами – Людиново. Кое-где справа в слободе и огоньки. Глеб старался разглядеть и их дом, может быть, стеклянная столовая освещена и мать с Лизой, Софьей Эдуардовной ужинают.
Этого он не разобрал, но внимание его привлекло красное пятно, правее завода, недалеко от церкви. Что-то стало клубиться над горизонтом, подымалось огненно-красным столбом, потом ясно в нем заструилось облако дыма.
– Папа, смотри, что такое? Все побежали на нос.
– Ну так же и есть… это же и есть около церкви… самый дом Смелова.
Отец выругался.
– Вот и попали с корабля на бал!
– Пожар? – спросил Глеб тихо.
– И очень даже. Подожгли, разбойники. Прибавь ходу! – крикнул отец машинисту. – Держи левее, серединою, и дуй вовсю.
В машину подбросили дров. «Елизавета» стала дрожать сильнее, колеса быстрей залопотали. То же волнение, как некогда в ноябрьский вечер Устов, пронзило Глеба. Зарево приближалось. На всех парах шли мимо слободы и набережной. У своего дома стали убавлять – недалеко пристань. Ну, конечно, отец бросится сейчас тушить, вот теперь начинается настоящее. Он будет отстаивать этот дом Смелова, да и все Людиново от бедствия… Глеб чувствовал, что и сам разгорается. Скорей, скорей! Пристань приближалась. «Елизавета» дала задний ход и стала причаливать.
* * *
Глеб на пожар все-таки не попал – под охраною Павла Иваныча отец оставил его у церкви – да и сам опоздал: от лавки купца Смелова осталась груда догоравших бревен. Помощь ни к чему. Можно было лишь отвести душу в сложных ругательствах великого языка русского – отец с Дрецом так и поступили. Потом, взволнованные, разошлись.
Дома еще не спали. Мать ждала в столовой. Свет виднелся и наверху, у Софьи Эдуардовны и Лизы. Глеб умылся, снял болотные сапоги, в обычном своем виде с наслаждением пил чай под крылом матери. Настроение окончательно у него повернулось: Бог с ней с охотой, неудачной стрельбой. Чибиса надо забыть – сейчас он дома, в привычной и изящной обстановке. Если опять будет пожар, он с отцом бросится тушить. Но все это очень интересно, в конце концов.
– А если нас подожгут? – спросил он, дуя на блюдечко. Отец быстро на него взглянул.
– И сгорим, как смеловский дом…
На лице матери появилось выражение неудовольствия.
– Ах, какие пустяки. Ты всегда скажешь… Никто никого не поджигает, и нас не подожгут. Наверно, у Смеловых где-нибудь самовар во дворе ставили, искра и залетела.
Когда Глеб, прощаясь на ночь, поцеловал знакомое, прохладное лицо с прекрасными глазами, было очевидно, что никто никого не поджигает, и вообще все в мире благополучно.
С этим ощущением он и заснул на диване в отцовском кабинете – под ружьями, висевшими на рогах и всей охотничьей снастью.
И на другой день обычно вступил в обычный обиход жизни людиновской: под музыку внизу готовил наверху уроки, рисовал, бродил в парке, купался в «директорской» купальне.
То же было и на следующий, и в дальнейшие дни. Как прежде легко, радостно было заниматься с Софьей Эдуардовной. Радостно слушать ее музыку. Она учила теперь немного Глеба и петь. Этому покровительствовал отец – небольшим, но верным тенором все чаще выводил вместе с Глебом и Софьей Эдуардовной «Новгород великий, город буйных сил»… Мать считала это пустяками, тратой времени, и хмурилась. Но пение продолжалось. Софья Эдуардовна аккомпанировала на рояле, сама напевала. Получалось как бы трио. Отцу видимо это доставляло удовольствие.
В один знойный июльский день он особенно сладостно исполнял «Не искушай меня без нужды…». Софья Эдуардовна вела контральтовую партию. Глеб не пел, смотрел на ее большие, казавшиеся ему прекрасными, руки, они брали легко, задумчиво нужные аккорды. Подымая взор от рук, видел серо-зеленые глаза, устремленные на отца. Отец на высоких нотах приподымался, с нежностью и улыбкой глядел прямо в глаза Софьи Эдуардовны – Глеб считал это вполне естественным, кто же стал бы смотреть на нее недружелюбно?
– Ты сегодня очень хорошо поешь, – сказал он отцу, когда дуэт кончился. – Мне очень нравится.
Софья Эдуардовна засмеялась.
– Если уже Herr Professor одобрил, значит, верно.
– Это вы мне помогали, – сказал отец весело. – Вы поддерживали меня своим взглядом.
Глеб подошел к Софье Эдуардовне и приложился большою своей головой к ее плечу.
– Да ты и сам почему-то очень внимательно на нее смотрел…
– Вот видите, он все замечает, от него ничего нельзя скрыть, – сказала со смехом Софья Эдуардовна. Оживленное ее лицо еще порозовело, отец тоже смеялся, но что-то смущенное было в обоих.
И все казалось мирным, идиллическим: залетавший с балкона шмель гудел, стукался в зеркало, застревал в занавесках. Паркет золотисто сверкал в солнечном потоке. В маленьком саду, за террасой, поплескивал фонтан.
Собирались перейти на «Руслана и Людмилу», как вдруг раздались отрывистые, короткие гудки с завода. Отец изменился в лице. Подбежали к окну – столб дыма подымался над слободой в противоположном от смеловского пожарища месте. Отец тотчас убежал. Софья Эдуардовна встревожилась и удивлялась:
– Глеб, что же это такое? Опять пожар?
Глеб сам был удивлен, ничего не мог объяснить. Да и кто что-нибудь понимал? Горело и горело.
Через два часа, потушив пожар, отец вернулся, но принес бумажку, вроде прокламации, где было сказано, что на сегодняшнее число гореть становому и его канцелярии – именно дом станового и сгорел, а бумажки были раскиданы по всей улице, и добавлялось в некоторых, что еще и другим гореть.
Отец видимо был расстроен. Красный, хотя и умытый, причесанный после пожара, он пил чай на балконе, нервно говорил матери:
– Следователя вызываем. К исправнику в Жиздру послали. Разумеется, поджигатели.
Глеб с Лизой, слушали, замирая. Поджигатели! Вот так-так!
Мать была тоже недовольна, но ей хотелось, чтобы все было естественнее и безобидней, кроме того, совсем не нравились ни дуэты, ни трио. Прямо этого она не говорила, но противоречила отцу, где могла.
– Кому же это интересно поджигать станового?
Отец курил с таким видом, что упрямого не переспоришь.
– Вот их, пожалуйста, и спроси, для чего они поджигают.
– Их кто-нибудь видел?
– Никто.
– Ну, и тем более. Мало ли что можно написать на бумажках. Какие-нибудь парни безобразничают.
Но Глеб и Лиза были на стороне отца. Не потому, что доказательства убедительны, а гораздо интереснее считать все загадочным и необыкновенным, чем обыденным.
Пришел Дрец и заявил, что ему надо поговорить «и-с Николай Петровичем вдвоем». Отец поднялся, не совсем довольный.
– Ну, что такое, кум?
Дрец таинственно подмигнул. Они вышли. Глеб в волнении соскочил в сад, попрыгал около фонтана, а потом побежал к главному подъезду – что-то подталкивало его. Мимо каморки Тимофеича прошел в сумрачную буфетную и остановился у лестницы наверх. Он стоял в такой позе, будто собирался к себе, но в то же время и слушал. В зале Софья Эдуардовна брала слабые аккорды. Из маленькой гостиной доносились голоса Дреца и отца.
– Да полно, кум, что вы…
– Ну, честное же слово, они все бунтовщики… Отец говорил что-то тише, потом опять голос Дреца:
– Не сами же и поджигают, а у них тайное общество… Вы смотрите, эта фельдшерица… Мяснова там, что уроки Herr Professor'у давала, я же вас уверяю… Да и Новоселов…
Глеб побежал наверх. Все в прохладной его комнате было тихо, мирно. Трапеция висела, как обычно. Лежали на столе рисунки. Неужели все это сгорит? Вот в один прекрасный день, или ночью, когда все заснут, так и заполыхает, и от прекрасного дома останутся обгорелые бревна да каменные печи, как у Смелова? Да еще будто бы его прежняя учительница Мяснова, с запахом аптеки и румяными щеками, принимает тут участие?
Такую мысль Глеб счел совсем нелепой. Однако, в волнении стал разгуливать по соседней большой комнате, выходившей на озеро. Он уже представлял себе, как горит ночью дом, как они с отцом выпрыгивают в окно. Но вот Софью Эдуардовну и Лизу, которые спят здесь наверху, спасать будет трудно…
Снизу раздались звуки рояля – знакомые, легкие пальцы арпеджиями прошлись по клавиатуре, начался аккомпанемент. Отцовский тенор вступил:
Времен от ве-ечной тем-м-ноты, Быть мо-жет, нет и мне спа-а-сенья!..Глеб уже знал «Руслана» и любил его. Страшная голова с ветром из ноздрей, подымающаяся на небе грозная луна…
Быть мо-ожет, на холме немом, Поставят тихий гро-об Русла-нов,–пел отец:
И струны громкие Ба-а-янов Не будут, не будут гово-о-рить о нем.Глеб не мог более усидеть наверху. Взволнованный, в мечтательно-поэтическом возбуждении, спустился вниз. Через маленькую зеленую гостиную вошел в залу.
Как всегда, ослепительно сверкал паркет, воздух, свет и пространство комнаты этой неизменно-радостно действовали на него.
Софья Эдуардовна, слегка раскрасневшаяся, с выступившими на щеках пятнами, наклонив к роялю высокий стан, сияла на отца глазами. Большой ее рот, казавшийся Глебу очень выразительным, ласково улыбался.
– А вот и он, вот и он, – сказала Софья Эдуардовна, увидев Глеба. – Вот мы его и спросим. Пойди сюда!
Глеб приблизился. Она обняла его длинными руками, он прислонился щекой к ее плечу. От плеча пахло духами. Что-то милое было в самой его теплоте. Смеющиеся зеленоватые глаза были в вершке от его лица. Глеб смутился.
– Как ты думаешь, может твоя прежняя учительница принимать участие в этих поджогах?
Глеб серьезно и несколько робко на нее взглянул.
– А вы думаете, что может?
– Я ничего не думаю. Я тебя спрашиваю.
Глеб покачал головой.
– Не может. Это глупости.
– А Батька?
Тут он даже засмеялся. Вспомнил добродушного человека с книжкой в одной руке, младенцем в другой, Катю Новоселову, Птицу…
– Вот видите, – обратилась Софья Эдуардовна к отцу, поглаживая Глеба по стриженой голове рукой, – вот вам и мнение чистого сердца.
Отец стоял, облокотившись на рояль, и тоже весело улыбался.
– Вы говорите так, будто я чему-то верю.
– А однако, этот Дрец вам наговаривает?
– Мало ли чего мне ни говорят. Жена твердит, что и вообще нет никаких поджогов. Дрец разводит свое…
– А вы что думаете?
Отец прищурился, как-то, показалось Глебу, довольно странно посмотрел на Софью Эдуардовну.
– Я ничего не думаю. Да и вообще ничему не верю. Софья Эдуардовна опустила глаза. Руки ее коснулись клавишей, быстро, легко по ним пробежали.
Она опять подняла на отца взор, более серьезный теперь.
– Совсем ничему? Вообще? Как же вы тогда живете?
Он тоже стал серьезен.
– Не совсем, Софья Эдуардовна. Есть, все-таки, люди, которым я верю и кого люблю.
Она поднялась с вертящейся табуретки.
– И слава Богу, что верите и любите, – сказала дрогнувшим голосом.
Глебу вдруг стало неприятно. Он прикинулся занятым бабочкой, влетевшею в окно и выделывающей в зале свои воздушные пируэты – заскакал за ней вдогонку.
Через два дня, около пяти вечера Тимофеич нашел у подъезда бумажку, на которой лиловыми чернилами, грубым почерком было выведено: «Ночью гореть директорскому дому». Через четверть часа об этом все уже знали. Отец был встревожен, но сдержан. Мать сказала: «Ну, глупости», – и пошла по хозяйству. Лиза и Софья Эдуардовна боялись открыто. Глеб волновался, быть может, сильнее других, но скрывал: даже матери не сказал бы, что боится, просто по-детски боится.
Ужин на террасе, при свечах в стеклянных колпачках – мошки набивались туда и залетали серые бабочки – прошел хмуро. В саду плескал фонтанчик, сладко благоухал цветущий табак. Все это очень хорошо, но…
Когда со стола стали убирать, явились Дрец и Павел Иваныч – Глеба удивило, что на поясе, поверх охотничьей куртки у Дреца торчала кобура револьвера.
– Ну и что же, кум, – сказал Дрец отцу, – сторожей расставили?
– Разумеется. Садитесь пиво пить, а там по парку пройдем. Надо все-таки проверить…
– Да, конечно же, и проверим… И ты с нами? – Дрец положил мохнатую руку на голову Глеба.
– Я не знаю…
Глеб ничего больше не сказал, но глаза его, устремленные на отца, договаривали все очень ясно.
– Отчего же, можно, – сказал отец.
Через полчаса они выходили. Глеб успел сбегать в комнату отца, зарядил свое ружьецо и взял несколько патронов. Ему уже представлялось, что предстоит опасный поход и, быть может, сражение.
– Вон он как, видите, – сказал отец, увидев Глеба.
– Я с собой пять патронов взял. Довольно? – спросил Глеб прерывающимся голосом.
Отец засмеялся.
– Как на войну собрался, братец ты мой…
Наверху, сквозь тяжелую портьеру, брезжил свет. Портьера раздвинулась. Высокая фигура в светлом облокотилась на подоконник, наклонив голову.
– Мужчины покидают дом и беззащитных женщин, – сказал знакомый голос. – Что же будет с нами?
Отец отделился и подошел к самой стене.
– Вас охраняют больше, чем вы думаете.
Ночь была тиха, в звездах. Глебу показалось, когда вошли под липы, что совсем ничего не видно. Действительно, темнота ослепляла. Но потом глаз привык. Через калитку, мимо небольшой бани, прошли в парк.
– Ну, теперь тише, – сказал отец.
И как охотники, подбирающиеся к токующему глухарю, прошли они одной аллеей, другой. На перекрестке караулил конюх. Подошли к круглому пролету под корпусами квартир служащих. Глеб вспомнил Батьку, Катю Новоселову… Вот они там и живут, в этом кирпичном четырехугольнике.
Дозорный, охранявший вход в парк, тоже был на месте. Повернули назад, обошли весь парк. Глеб чуть не дрожал от волнения. Всюду ему мерещилось что-то, движения, звуки…
– Ну как, – шепотом спрашивал отец, – жив?
– Жив.
Кажется, громко он ничего и не мог бы сказать. Но присутствие отца, Дреца, Павла Иваныча, представлявшихся опорой справедливости и порядка, поддерживало. Где-то вблизи, может быть, прятались таинственные враги, писавшие каракулями на бумажках, для чего-то поджигавшие. У Глеба было полнейшее ощущение своей правоты и их низости. Но он даже и представить себе ясно не мог, кто они, и для чего это делают?
Через полчаса возвратились домой. Глеб был рад, что ушли из парка. Но, к его удивлению, у подъезда стояла запряженная парой на пристяжку линейка.
– Ну, ты иди теперь спать, – сказал ему отец. – А мы с кумом съездим на дальнюю слободу.
Глеб вдруг сжал руку отца.
– Зачем вы туда едете?
Отец объяснил, что там полиция делает облаву, проверяет паспорта, ищет поджигателей. Ему надо тоже присутствовать.
– А тебя поджигатели не убьют?
– Нет. Никто никого убивать не будет. А если найдем каких-нибудь мошенников, так исправник заберет их в кутузку.
Глеб понимал, что теперь дело серьезное, и не посмел заикнуться, чтобы и его взяли.
– Мы недолго пробудем там, – сказал отец. – А ты стереги дом, вон у тебя и ружье заряжено. Но только спать-то сейчас ложись, поздно уж.
Отец улыбался. Но Глеб все принимал всерьез.
Когда линейка тронулась и, выехав со двора, покатила по набережной, Глеб прошел в кабинет отца. Он чувствовал усталость, страшную усталость от волнений. Раздевался медленно, полуодетый сидел на подоконнике. Прямо перед ним лежало озеро, справа темнела плотина с заводскими зданиями. Завод погромыхивал и дышал вдали, два вечных языка пламени над домною хмуро светили. Краснеющими путями шли их отражения по воде к дому. Вот туда, за этот завод, в дальнюю слободу села Людинова и поехал сейчас отец с Дрецом и Павлом Иванычем…
Глеб знал завод – и не любил его. Жутко было видеть запыленных, с запотелыми лицами рабочих, таскавших вагонетки, возившихся у парового молота, плющившего раскаленное железо. Это был мир сумрачный, грохочущий, далекий от поэзии и красоты. Глеб не раздумывал о том, о чем могли шептаться Лиза с Катей Новоселовой. Рабочие его не занимали. Не мог еще и понимать он, что в этой тяжкой и убогой жизни, у людей, неделю проводящих в одуряющем труде, а в субботу напивающихся, естественны недобрые чувства к тем, кто живет в огромном доме, ездит кавалькадами кататься, на пароходе охотиться – вообще, кто ведет праздную и роскошную, в сравнении с ними, жизнь.
Языки огня, горевшие довольно покойно, вдруг вытянулись, полетели в них искры, что-то тяжело и огненно заполыхало в чреве домны, точно малое извержение вулкана: только что засыпали руду и уголь.
Глебу стало тоскливо. Как-то отец? Он может встретить на слободе страшные, зверские физиономии… «Поджигатели!» Глеб никогда их не видел, но наверно это вроде тех опухших рож со злобными глазами, что попадались иногда у кабака, оборванные, просящие «на шкалик».
И вдруг вот такие, прознав, что отец уехал, явятся сюда поджигать? Глеб тяжело вздохнул. Но вспомнил, что сказал отец: «Ты будешь здесь охранять дом», – слез с подоконника и положил ружьецо свое на стул, сверх штанишек и чулок. А сам лег.
На облаве забрали кое-кого из подозрительных, но к поджогам они отношения не имели. Все осталось по-прежнему: враг близок, но не обнаружен. Дело не кончено.
Следующий день выдался знойный, очень ветреный. Встали все поздно. Обедали тоже поздно. Отец был хмур, неразговорчив. Мать стала вообще мрачней, чаще отцу противоречила – он раздражался. Нынче она опять заметила, что вот назначили же им ночью гореть, а ничего не случилось. Отец фыркнул, допил пиво, и, не взглянув даже на Софью Эдуардовну, пошел в кабинет отдыхать.
Нельзя сказать, чтобы полежать ему удалось долго. Ровно в три, когда Глеб собирался идти купаться, за парком появились сизые клубы. Ревел гудок, клубы росли, сливались, растекались…
– Сразу с трех концов запалили, – кричали на дворе.
…Этот жаркий июльский день, тусклый и беловатый, с вихрями пыли, летучей мглой, остался в памяти Глеба бурно-огненным, героическим и музыкальным. Даже восторженное нечто было в нем. Точно бы все могло погибнуть, чья-то рука занесена над всем Людиновым, над жизнью их, даже над семьей. Горело не так близко. Но стихия ощущалась, как в землетрясениях, потопах. Дашенька молилась у себя в каморке. Но кто крепче – все поднялись сопротивляться.
С завода прибежали рабочие, вытаскали бочки, всех лошадей с конного двора пустили в ход, чуть ли не Тимофеич и тот кинулся на пожар. Глеб, Лиза, Софья Эдуардовна, Катя Новоселова и Петька работали у озера работу радостную, как бы сумасшедшую: зачерпывали воду ведрами, из рук в руки, по цепи разных горничных, мальчишек, баб передавали подъезжавшим бочкам. Бочка за бочкой останавливались у набережной, ведро за ведром вливалось, по другой цепи возвращалось вниз к воде, наполнялось, снова вверх бежало. Глеб в опьянении работал. И он, и Софья Эдуардовна, и Лиза были мокры от выплескивавшейся воды, но жар, мгла пожарища и пламенный ветер их сушили. Говорили, что горит сразу пятнадцать домов. Глебу хотелось петь, кричать, бежать «на приступ», а за церковью, в бело-сизом дыму, гудело и ярилось, стоял рев, стон.
– Сено разнесло ветром по улице, прямо летит и горит, – кричали приезжавшие с бочками. – Ажио вся слобода занялась…
Глеб ужасался минутами за отца, орудовавшего там – вдруг огненное сено да сожжет его? Но не таков отец, чтобы легко даться.
И в неослабном азарте зачерпывал он ведра, передавал дальше.
* * *
Этот пожар оказался самым большим – сгорело двадцать дворов. Чуть не погибла старуха, пытаясь протащить в окно сундук, едва спасли детей – много вообще страшного, при рассказах о чем Глеб содрогался. Но самое страшное было то, что никто ничего не понимал – ни приехавший следователь, ни исправник, ни отец. Кто-то для чего-то поджигал… – рабочие горели наравне с купцами и начальством.
Дашенька утверждала, что скоро будет затмение и конец света. Глеб ей не верил, но был в тревоге. Да и как не быть? В доме стало грустно. Отец перестал даже петь с Софьей Эдуардовной «Не искушай меня без нужды…». В кабинете всегда лежало заряженное ружье. Лиза и Софья Эдуардовна ложились не раздеваясь, но все равно не могли спать – похудели, изнервничались. Одна лишь мать крепко держалась, говорила, что все это глупости, но была холодна. Если бы Глеб был наблюдательней, он заметил бы, что она почти перестала разговаривать с Софьей Эдуардовной. Та тоже хмурилась.
Но Глеб был занят собою. Изобрел новое занятие: в одиночестве забирался на чердак, вылезал через слуховое окно к трубе и, как пожарный на каланче, наблюдал за окрестностями.
Вид отсюда был довольно хорош: слева озеро, за плотиной завод, правей белая огромная церковь, ближе – крыши четырехугольных корпусов, где господский двор и живут служащие, еще ближе огромное темно-зеленое пятно парка, а за ним слободы и домишки Людинова. Все это млело в туманном зное, как будто и пыльном, тяжеловатом. Железные крыши кое-где поблескивали, завод лязгал. В мирной этой картине сидели враги, что-то, казалось Глебу, там таилось. Как понять этих людей, затевавших недоброе? Иногда по слободе взвивался короткий вихрь пыли – Глебу уже казалось, что начинается пожар. Но вихрь стихал, за Людиновым вдали безобидно синели леса к Дядькову, Песочне, похожие на Чертоломы и Ландышевые леса Устов.
Так проходило время, и не только Глеб, но и сторожа, дневные и ночные дозорные ничего не замечали – именно тогда, когда можно было думать, что Дашенькины пророчества верны, все и потекло в обратную сторону. День шел за днем, каждый нанося свое, а пожары не повторялись. Август сменился сентябрем, ушла мгла и жара, запах гари. Обыкновенный сентябрь, свежий ветерок с озера, бледно-голубое небо осеннее, редкие, огненные листы клена в саду, мелкое золото березовых листиков – плавали они в бассейне фонтана.
Бумажек с угрозами больше не появлялось: как внезапно пришли они, так же, не спрашиваясь, ушли. Сторожей и дозорных понемногу убрали. Пожары уходили в маленькую историю села Людинова, не имеющую значения.
Отец, чтобы рассеяться, стал, как и полагалось, выезжать в праздники на охоту с гончими. В будни ездил в дежурке на завод. Глеб учился и рисовал. Батька сидел в конторе, а дома баюкал дитя и читал «Русское Богатство». Лиза в четыре руки разыгрывала с Софьей Эдуардовной «Венгерскую рапсодию», с Катей Новоселовой рассуждала о республике.
Один круг событий, более обширный, закончился, но в повседневной жизни Глебовой семьи, под мелочами и поверхностью, созревало другое, имевшее тоже некоторое значение.
Эта зима не совсем так начиналась для Глеба, как предыдущая. Тогда было все ясно, тихо, уединенно. Теперь нечто вошло в их жизнь и начинало давить. Точно бы все все-таки были недовольны. Из Калуги мать получила какие-то программы, там упоминался латинский язык. Слово Капута вообще чаще стало упоминаться, из обрывков разговоров да и по собственному соображению Глеб понимал, что это последняя их зима в Людинове – надо и Лизе учиться как следует, и ему поступать в гимназию. Калуга! Нечто жуткое и огромное, город, в сторону, как ему казалось, Будаков, но еще дальше – двое суток езды на лошадях.
– Да, – говорила Лиза, – не век же нам тут сидеть! Она как будто была даже этим довольна.
– Мне одно только жаль… ну, нет, этого я тебе не скажу!
– Я вовсе не хочу отсюда уезжать, – сказал Глеб мрачно. – Софья Эдуардовна отлично учит… А тебе чего жаль?
– Ничего мне не жаль, но вообще я многого не знаю… Мало ли что может быть…
– А Софья Эдуардовна с нами поедет?
Лиза как-то странно, смущенно на него посмотрела.
– Наверно… Впрочем, не знаю.
И убежала, будто не весьма хотела распространяться. С порога комнаты крикнула:
– Спроси ее сам!
Уроки Глеба тоже теперь несколько изменились. Он готовил их с прежним совершенством, но они проходили не так ровно и безмятежно, как раньше, не напоминали уже музыкальную пьесу: Софья Эдуардовна была не та.
На другой день Глеб, складывая тетрадки, перед уходом сказал ей:
– Вы слышали, мы, наверно, весной в Калугу переезжаем. И вы с нами?
Она точно бы удивилась, подняла на него серо-зеленоватые глаза.
– Почему это ты спрашиваешь?
Глеб смотрел с серьезностью, не совсем по-детски.
– Я бы хотел, чтобы вы поехали.
– Ты бы хотел…
Она улыбнулась, но большой ее рот слегка искривился. Она покраснела.
– Я люблю с вами заниматься, – сказал Глеб. – Не то что с Мясновой. И вообще… – он замялся.
– Ну?
– Вообще, я люблю, чтобы вы были в нашем доме. Софья Эдуардовна вдруг встала, наклонилась к нему и поцеловала в лоб.
– Ах, мало ли что ты любишь и хочешь…
Она была взволнованна. Даже Глеб это заметил.
– Я не знаю, как вы там будете в Калуге… тебе нужен латинский, я не могу… Да ведь это не так еще и скоро. Ну, да потом и вообще я не знаю… буду ли здесь-то… Я ничего не знаю!
Глаза ее налились слезами, она вышла из комнаты.
Глеб ничего не понял кроме того, что получилось что-то неприятное. Он опять пошел к сестре. Лиза дрыгнула косичкой и не без важности заметила:
– Ты еще маленький, ты ничего не понимаешь.
Глеб обиделся. Не такой уже маленький, и напрасно она думает, что он ничего не понимает. Софья Эдуардовна отлично учит, отлично играет на рояле, поет – даже отец стал петь с ней дуэты… – почему же ей не учить их и в Калуге? И почему она так странно говорит, будто собирается уехать и отсюда?
Но Лиза ответила, что это не его дело и тут «секрет». В это время подошла Катя Новоселова, и они забрались на диван в большой комнате с видом на озеро. Глеба к себе не пустили, стали шушукаться.
«Какие-то дурацкие секреты, – рассуждал Глеб. – Подумаешь, что за важности». Будто он не поймет. Небось отец не глупее Лизы, а на днях брал его с собой в лабораторию, помогать делать анализы. Значит, не такой уже маленький. Отец рассказывал про кислород и водород, так он отлично все понял.
Глебово рассуждение было правильно, и нельзя было оспаривать, что о кислороде он поймет даже лучше Лизы. Он упускал только одно – целую область, ему пока вовсе неведомую, которая в происходившем была самое важное. И потому, чувствуя вокруг неладное, он не понимал причин. А причины действовали и узоры складывались, как подобает.
Снег этой осенью лег очень рано, в половине ноября. Он ровно забелил озеро, ровно осветил отсветами своими комнаты людиновского дома, придавая им новую прелесть. И такая же прелесть была в треске дров в печах, в здоровом, душистом тепле зимнего барского жилья. Опять появилась Глебова оленья шапка. Предстояли коньки, Рождество, буер. Но все это было подернуто теперь некоторой грустью. Уроки шли кое-как – Софья Эдуардовна отсутствовала. В доме было невесело. Раз, войдя в комнату наверху, где заседала Лиза с Катей Новоселовой, Глеб услыхал конец фразы: «А по-моему, это у нее просто искренняя симпатия…» В другой раз в маленькой гостиной он встретил Софью Эдуардовну – она быстро шла из столовой, где отец пил пиво, лицо ее было красно и искажено. Она обернулась, громко сказала: «Вы не можете не понимать, что мое положение здесь невыносимо…»
На другой день к уроку вовсе не вышла. К обеду явилась с заплаканными глазами.
Глеб обратился, наконец, к матери. Та была, как всегда, спокойна, сдержанна, но с ним ласкова.
– Я ничего не понимаю, – говорил Глеб, – учить мне уроки, или нет?
– Пока, сыночка, можешь и не учить. Вероятно, после Рождества к тебе приедет настоящий учитель. Он уже здесь начнет заниматься с тобой по-латыни.
– А Софья Эдуардовна?
– Ее, кажется, вызывают в Орел родные, – неестественным тоном сказала мать.
– Софья Эдуардовна могла бы учить меня всем предметам, – возразил Глеб. – Она великолепно учит. А этот еще неизвестно что…
Он взволновался и стал резко говорить с матерью. Один Глеб во всем доме и мог так держать себя. Мать не только не раздражалась, как на отца, но напротив, меняла тон на еще более мягкий. Этот мягкий тон ничего не значил. Мать была за такой же стеклянной стеной, какая отделяла столовую от синевшего озера. Из ее выражений: «Может быть, и останется», «Как захочет», «Там посмотрим», Глеб понял, что именно все уже решено и уроки кончились навсегда.
Он не ошибся. Ему не пришлось уже более заботиться о курьерах. И очень скоро наступил день, когда в приотворенную дверь Глеб увидел в огромной комнате Лизы и Софьи Эдуардовны раскрытый сундук. Сидя на полу, Софья Эдуардовна кидала туда белье. Глаза ее напухли от слез. «Я очень любила ваш дом, – говорила она Лизе, тоже заплаканной. – Но что же делать… нет, я больше не могу…»
После обеда к подъезду подали санки.
Софья Эдуардовна оделась по-дорожному, подтянулась, припудрилась. Лиза повисла было на ней, но она коротко ее поцеловала, пробормотала: «Ну, Бог даст, увидимся, пиши…» – и подошла к Глебу.
– Прощай, Herr Professor.
Глеб шаркнул и поцеловал ей ручку. В горле у него сжимало, но плакать, как Лиза, он считал ниже своего достоинства. Софья Эдуардовна, в узкой шубке, с муфтой, как тогда носили, под вуалью, быстро вышла на подъезд. Дверь за ней захлопнулась.
Глеб был недоволен и как бы лично обижен. С отцом, а особенно с матерью держался холодно. Но его детские дни продолжали свой ход в спокойной, почти роскошной жизни Людинова, и так же заметали Софью Эдуардовну, как ровный снег заносил пустыню озера. Нельзя было и вечно дуться на родителей, тем более что кроме ласки и внимания ничего от них он и не видел.
И для него, с отъездом Софьи Эдуардовны, началось опять нечто иное. Было совсем свободно, как будто пусто, точно умер кто-то – и грустно. Глеб опять более ушел в себя. Одиноко катался на коньках, бродил в парке с ружьем. Вновь с увлечением, на этот раз особенным, засел за рисование. Теперь не одни пуссэновские деревца и романтические хижины привлекали его. К Рождеству получил он в подарок альбом гоголевских типов Боклевского.
И с упорством, вниманием, внутренним волнением стал копировать разных Чичиковых, Петухов, Ноздревых. Эта работа никому не была нужна. Он никому и не показывал ее. И может быть, было смешно, что большеголовый мальчик часами сидит над носом гоголевского урода. А может быть, и не очень смешно. Во всяком случае, как настоящий художник, Глеб был убежден, что его дело – важнейшее. Какие б ни были увеселения, охоты или даже подвиги – самое замечательное это сидеть и рисовать, художеством закреплять часть бытия своего.
За окнами шел снег, наступил Новый год, Дрец налаживал буер для катанья по озеру, Катя Новоселова принесла Лизе «Исторические письма» Миртова и наперебой читали они обе «Дворянское гнездо» – все это для Глеба было уже не так важно. Он часто вспоминал Софью Эдуардовну, но ему больше всего и единственно, может быть, был нужен он сам и его собственная, для всех закрытая, а для него полная силы жизнь.
IV
Та Ока, на которой провел Глеб лучшие свои дни, омывает и Калугу. Город на высоком берегу. Тихий, белый, в церквах, садах, из-за реки от большака перемышльского и очень живописный: Собор, липы городского сада, глядящего на Оку, дома в зелени по взгорью, золотые кресты, купола… В остальном же все, как полагается. Губернатор в губернаторском доме, архиерей на подворье, полицмейстер, театр, суд, просвещение. Главная улица Никитская. Под острым углом к ней Никольская. А в точке их пересечения гимназия: один фасад на Никитскую, другой на Никольскую.
На этой Никольской, недалеко от гимназии, в небольшом доме Тарховой поселились Глеб, Лиза, Дашенька. Мать привезла всех их из Людинова – Глебу надо еще держать экзамен.
В эту осень менее всего думал он о Калуге – тихий это город, поэтический или просто сонный. Было не до того. Экзамен висел грозой. Да и вся жизнь чудодейственно переменилась. Разве это Людиново! Он здесь не охотник и не художник: городской человек. Портной Костомаров сшил ему форменный мундирчик, куртку, шинель. Появилась фуражка с серебряными лаврами, тюлений ранец. Когда Глеб надел все это, то показался себе другим – в шинели до полу не побежишь, ранец же за плечами – знак воина: там книги, тетрадки, карандаши, полное вооружение науки.
Но чтобы все это надеть, выйти в доспехах на улицу, надо еще выдержать экзамен. Пока же что, после привольной, почти роскошной людиновской жизни, приходится ютиться в домике Тарховой, видеть, как сухой ветер гонит по улице пыль и желтеющие листья, волноваться, волнение свое скрывать.
Оно достигло предела в то утро, когда приближались они с матерью к зданию гимназии. Подходили и другие мальчики. Подъехал на извозчике учитель. За парадной дверью все новое, Глебу казалось – огромное, стройное. Даже и мать, в Людинове барыня, здесь, «в большом городе», среди беспрерывного начальства, стушевывалась – да, но все-таки это уголок дорогого, любимого мира!
Мать поцеловала его, оставила одного.
По каким-то лестницам, коридорам он прошел куда надо, очутился в светлом классе. Мальчики, такие же, как он, сидели в классе за партами. Вдалеке, у зеленого стола, учителя и среди них батюшка в коричневой рясе, с наперсным крестом, в золотых очках.
Долго ждал Глеб очереди. Наконец, услыхал свое имя – много раз потом выходил на подобный зов к таким же столам, где сидели такие же чуждые и скорее враждебные люди. Теперь это было впервые.
Не чувствуя ни ног, ни сердца, ни паркета, по которому лунатически шел, остановился он у стола под зеленым сукном. О. Остромыслов глядел на него из-за очков выпуклыми глазами, очень близорукими, не страшно. Он поглаживал бороду, когда брал ручку, чтобы ставить отметку, придерживал рукав коричневой рясы. Но в сидевшем рядом худеньком, гибком старике в пенсне, лысом, с острыми чертами лица, сразу почуял Глеб ястребино-враждебное: не может инспектор гимназии быть сладковатым, округлым.
Глеб стоял совсем близко к столу. В волнении перебирал пальцами край сукна.
Инспектор смотрел на него сухими, блестевшими за пенсне глазками.
– Ты где учился?
– Д-дома…
Глеб робел и мучился за свою робость.
– Почему же тебя так плохо воспитывали?
– А… что?
– Как же это ты разводишь музыку по столу? Что это, рояль? И разве взрослым отвечают так?
Глеб был поражен. С ним разговаривают в таком тоне, будто он совершил преступление. Задевают и родителей… Он никак не считал себя невоспитанным и готов был возражать, но ничего не успел ответить: о. Остромыслов стал задавать свои вопросы. Как ни было горько, все же память заработала. В косых лучах августовского солнца, падавших из окна, Глеб довольно успешно осведомлял и о Ное, и о ковчеге, о голубе. Правда, неточно дал возраст патриархов, но о. Остромыслов поправил без раздражения. Зачем волноваться о. законоучителю? В мире все прочно, разумно, ясно. Вся эта гимназия, и город Калуга на реке Оке, и Российская Империя, первая в мире православная страна – все покоится на незыблемых скалах (и никогда с них не сдвинется) – что значит мелкая ошибка маленького Глеба! Все равно, Дарвин давно опровергнут, вечером можно будет сыграть в преферанс, послезавтра именины Капырина, все вообще превосходно.
Несмотря на ястребовидного инспектора, Глеб у Остромыслова прошел. Прошел через час и по русскому языку. Это его подбодрило. Правда, остался нерадостный след от инспектора, но все замывалось новым миром, куда он попал. Объявили на полчаса перемену. Мальчики побежали по лестницам вниз, в гимназический сад. Глеб, вынув бутерброд, не без важности тоже сошел. После класса с запахом ранцев, мела, краски и чего-то душного, приятно было выйти на свеже-солнечный день августовский. В небе высокие облачка, пелеринками, солнце бледно блестит. Облетающая акация, сухие стручки, чахлые клены. Стена только что крашена желтой казенною краскою: летний ремонт.
Глеб жевал булку с колбасой, поглядывал вокруг, дышал легко и, нечаянно кого-то задев, получил тумака.
Небольшой гимназистик южного типа, курчавый, задорный, похожий на воробья, жаждал боя. Глеб никогда раньше не сражался. Но голос предков, может быть, дедушки Петра Андреича, бравшего Варну и Силистрию, заговорил неукоснительно. И ответ был дан. Противники наскакивали друг на друга, отпрыгивали, вновь налетали. Образовалось кольцо зрителей.
– Валяй его! Дуй!
Битва сколь быстро началась, так же скоро и кончилась. Стороны остались на позициях, и у Глеба было чувство, что он не посрамил земли русской.
Через несколько минут и познакомились. Врага звали Юзепчук, Петр. Он совершенно мирно стал расспрашивать, кто такой Глеб, как держит экзамены. Узнав, что латыни еще не было, с видом более опытного сказал:
– Ну, смотри! У Пятеркина держишь? Он сволочь. Колы так и лепит.
Через полчаса, наверху в том же классе Глеб стоял перед этим Пятеркиным – тучным человеком в синем вицмундире. Юзепчук слишком резко его определил. Но в мясистом лице с бородавками особенной радости, правда, не найдешь. Пятеркин был человек основательный, семьянин, ходил неторопливо, мечтал о месте инспектора и латынь ставил высоко. На экзаменах требовал знаний. Глеб с первых шагов почувствовал, что почва под ним колеблется. Что ни вопрос, то неудача. Болото разверзалось все ужаснее. Глебово сердце холодело. Ответы становились все туманнее и сбивчивей. Ястребовидный инспектор все страшнее.
Наконец, замогильно сказал Пятеркин:
– Довольно!
Глеб видел, как он твердо, жирно водрузил в журнале: два.
Тяжело было возвращаться. Бессмысленно позвонил Глеб у двери трехоконного домика Тарховой. Мало что понимая, узкими сенцами вошел в прихожую.
– Провалился, – сказал матери тихо, вздохнул. Ничего более не мог добавить. Погиб, о чем тут еще разговаривать.
Не таков Глеб, чтобы его можно было развлечь, рассеять… Он и не плакал – молча умирал. Напрасно мать старалась убедить его, что дело не так плохо, она пойдет в гимназию, поговорит с директором и все уладится. Глеб сухо и высокомерно улыбался. Вид его говорил: столь детским утешениям верить нельзя. Он одиннадцатилетний страдалец и пусть никто не вмешивается, он все сам вынесет.
Глеб мертвенно сидел у своего столика в комнате, выходившей на Никольскую, бессмысленно ел за обедом, потом вышел в маленький сад за двориком. На колокольне церкви рядом ударили к вечерне, он все сидел под яблоней и вдыхал осенний, горьковатый, чудесный воздух садов калужских, поистине для него сейчас горестный. Как не похож этот домик Тарховой, дворик, сад с тремя яблонями да несколькими кустами крыжовника на Людиново – просторное, роскошное, отсюда казавшееся совсем раем! И когда было в Людинове налито таким свинцом сердце?
Ночью он мало спал. С утра мать пошла в гимназию, он пребывал в той же убитости и одиночестве.
Мать, вернувшись, сказала, что до пятницы, когда будет педагогический совет, ничего сказать нельзя: там решат окончательно.
Глеб презрительно усмехнулся. Мать считает его за маленького и утешает. Думает, что он может поверить в какой-то совет!
В передней на вешалке висела гимназическая шинель, шедевр Костомарова. Над ней фуражка с серебряными лаврами. Когда мать вышла, Глеб снял шинель. Будь она стеклянная, он бы разбил ее вдребезги. Но ее не разорвешь, не изрежешь… По крайности, чтобы глаз не мозолила: Глеб поднял крышку тяжелого Дашенькина сундука и положил ее туда. С ней и фуражку.
Под вечер мать, проходя, заметила, что шинели нет – удивилась. Ни Дашенька, ни вернувшаяся из гимназии Лиза ничего не могли объяснить. Глеб вышел из своей комнатки, мрачно сказал:
– Шинель в сундуке. Это я ее туда положил. Подари ее какому-нибудь гимназисту. И фуражку. Мне они не нужны.
– Сыночка… – мать подошла, обняла его. Он прижался к теплому, столь знакомому и родному плечу – может быть, и заплакал бы и ему стало бы легче – но сейчас же отошел, сумрачно возвратился к письменному своему столу.
Мать стала целовать его в большой, уже мучительный, упорный затылок.
– Не надо… ничего. Подари эту шинель гимназисту.
Да, какие же теперь шинели, когда предстояло позорное возвращение в Людиново?
Но мать лучше его знала жизнь и о возвращении не думала. Она побывала в гимназии, отыскала ход к Пятеркину, говорила с инспектором – тоже нашлись общие знакомые. В пятницу вновь ушла. Глеб знал, что решается его судьба, но делал вид, что ему все равно.
Мать вернулась около семи. Он слышал ее звонок, но не вышел встречать. Сердце тяжело билось. Он рисовал каракульки, склонившись большой своей головой.
Долго возилась мать в прихожей. Доносился негромкий разговор с Дашенькой, слов нельзя было разобрать. Глеб продолжал рисовать. Но дверь отворилась, вошла мать с шинелью в руках. Сзади сияла Дашенька.
– Ты хотел, чтобы я подарила эту шинель какому-нибудь гимназисту…
Глеб старался быть хмурым, но уже сердце его колотилось.
– Ну так что же?
– Вот я и дарю ее одному гимназисту-второкласснику.
И она накинула ему шинель на плечи, обняла его, стала целовать. В прекрасных, спокойных карих ее глазах блеснула слеза.
Глеб пытался было прикинуться непонимающим, но не мог сопротивляться. Его обняла и Дашенька, верная, худенькая и морщинистая, оберегавшая его младенческий сон еще в годы Устов. Она становилась старенькой, но от нее так же пахло лампадным маслом и затхлостью, так же, укутываясь на ночь, любила она, чтобы было «рай-теплышко».
– Гимназист! Гимназист! – закричала Лиза, влетев в комнату, потряхивая косичкой над коричневым с черным передником платьицем. – Второклассник!..
На другой день с утра отправились по магазинам закупать учебники, тетрадки, ручки. Глеб медленно двигался в длиннейшей своей шинели. Он казался теперь себе другим – блестящие пуговицы, лавры на фуражке, туго стоявшее светло-серое сукно одеяния делали его похожим не то на военного, не то на полицейского, и меньше всего на вольного художника и мечтателя села Людинова. Он стал частицею того гигантского механизма России, что начинался со школьника, шел через учителей, директора, подымаясь сложной и величественной иерархией до могучего блондина, чьи портреты наполняли все присутственные места того времени, управления, канцелярии, кабинеты – в том числе и Глебову гимназию.
– «Благоверный Император и Самодержец Всероссийский Александр III».
В понедельник, в восемь утра, тщательно снаряженный, неся за плечами ранец, двинулся Глеб из дома Тарховой по Никольской в гимназию.
…Когда думал, что провалился и надо возвращаться в Людиново, Глеб погибал. Теперь достиг своего. С полным правом, в основательном снаряжении мог шествовать к гимназии, подыматься на третий этаж казавшегося огромным здания, в свой невысокий, полуантресольный класс. Там было у него место за партой, сосед – худенький рыжеватый мальчик, похожий на лисичку, – Докин. Каждое утро Глеб вдыхал запах класса, запах крашеной парты и тюленьего ранца: в любой момент жизни своей позднейшей с ясностью галлюцинации мог ощутить его. Видел сквозь небольшие окна, низенькие, как бы крепостные или тюремные, сизую муть осеннего утра – вдалеке маячили Московские ворота – триумфальная арка Калуги. Он благополучно отвечал уроки, писал экстемпорали[7], знал, что leo senex morbum simulabat[8], никаких огорчений от товарищей не терпел. Но глубокою горестностью была полна эта новая жизнь, давшаяся такими трудами и треволнениями! С тоскою вставал он утром, в полутьме, зажигая свечу. Надо идти, нельзя опоздать, надо знать заданное. Надо и надо. Сила спокойная, неумолимая распоряжалась им, и как тюремны были окна класса, так оттенок тюрьмы лег на весь склад жизни. Мать, Лиза, Дашенька, это еще свое, теплое и домашнее. Но шинель, ранец, учебники – уже части машины, каждое утро втягивавшей, поглощавшей чуть не на весь день.
Прожив месяц с детьми, мать стала собираться в Людиново. Мать уезжает! Это случалось впервые. Доселе во всех днях его и ночах, бдении, сне мать неизменно присутствовала. Но теперь уходила. Глеб молчал, с отчаянием ждал этого. И с отчаянием в сердце пошел с ней и Лизой к дяде Георгию – мать должна была с ним проститься и верховному его наблюдению поручить детей.
Дядя Георгий был доктор, родной брат отца и на него походил. Но гораздо более, чем в отце, в нем сохранилось польского, от бабушки Франциски Ивановны и того Киева, где он учился. В его любезности, галантности, в том, как он целовал матери ручку, было что-то непривычное, не похожее на Усты и Людиново. Гладко зачесанные назад волосы, горбатый нос, изящный галстучек, духи, узкие брюки, манера принимать величественные позы, подымать брови, вообще некоторая нерусская картинность удивили Глеба сразу. Он чувствовал себя с ним неуютно.
Единственно, что делало отличную квартиру на Никитской более близкой, это то, что там жила Соня-Собачка, верный друг еще по блаженно-райским дням Устов, теперь крепенькая, полная гимназистка в коричневом платье с черным передником. У ней была отдельная комнатка с окном во двор. Оттуда она бегала в свободное время на Никольскую к Лизе и Глебу.
В день прощального визита Глеб особенно мрачно сидел между Лизой и матерью в дядюшкиной столовой с дубовым буфетом и никелевым самоваром, из которого валил пар. Дядя Георгий держал перед носом своим блюдечко с чаем, очень горячим, как он любил, и, весь морщась, подымая брови чуть не до потолка, дул на него. Глеба это раздражало. Он молча ел очень вкусный торт. Соня-Собачка переглядывалась с Лизой, едва заметно передразнивая дядю (она его окрестила Красавцем). Он же ласково-величественно говорил матери, что она должна быть за детей покойна: он будет наблюдать. И за здоровьем, и за всем. Юноша, кажется, хорошо учится. (Глеб терпеть не мог, когда его называли юношей, и с ненавистью на него взглянул), Лизочка тоже умница. (Соня-Собачка с самым серьезным видом подняла тоже брови, сколько могла. Лиза чуть не прыснула, но удержалась.) Красавец же стал рассказывать, какая у него практика и какие знакомства. Выходило, что вся Калуга, начиная с губернатора и предводителя дворянства, его близкие и друзья.
Глеб не мог дождаться минуты, когда можно будет уйти. Мать завтра уезжает, хоть бы последний вечер побыть с нею вдвоем, а тут этот Красавец со своими разглагольствованиями… И зачем он, правда, все топорщит брови? Глебу даже стало неприятно, что он похож на отца. Отец никогда так не держался.
Наконец, мать поднялась. Красавец удерживал ее, но она сказала, что не все к отъезду еще уложено.
Он встал, элегантно заправил назад свисшую прядь волос.
– Ручку, ручку!
И как подобает гоноровому пану, прильнул к ручке матери. Она поцеловала его в висок.
– Так я теперь по крайней мере буду покойна…
– Вполне, мой друг, душечка… – он выпятил вперед нижнюю губу и несколько стал похож на индейского петуха.
– Целуйте Колю, пусть сюда приезжает. Мы с ним у Кулона нравственно встряхнемся.
Но и дома Глебу не удалось как следует побыть с матерью: задачи упорно не выходили. Будь это Людиново, отец «без алгебры» помог бы, но здесь надо бороться самому. И лишь в десятом часу освободился он. Но мать еще здесь, еще уляжется на постель, в белой кружевной кофточке, перекрестит его и поцелует на ночь.
…Она уезжала в одиннадцатом утра. Глеб не мог провожать ее, Лиза тоже. В восемь часов, выходя в полном своем вооружении, шинели до пят, гимназической фуражке, с застегнутым за спиной ранцем, ворс которого в одних пятнах отливал темным, в других бледно лоснился, Глеб в последний раз поцеловал мать. Она была слегка бледней обычного, но покойна, карие прекрасные глаза все так же ясны, вся она так же сдержанна и холодновата.
– Ну, сыночка, Господь с тобой…
Глеб сделал над собой усилие, почти выскочил на улицу, в хмуром калужском утре зашагал по Никольской. Наискосок, из-за деревянного забора сада свешивались ветви клена в редких, красно-рыжих листьях, в капельках осенней влаги. Дрозды перелеты-вали. Глеб, давясь слезами, медленно, но упорно шагал в гимназию.
А через полтора часа Дашенька усаживала на извозчика барыню в дорожной тальме и шляпе со страусовым пером, загибавшимся назад, как на рыцарском шлеме. Оно играло в ветерке своими завитками. Дашенька поцеловала повелительницу в плечо, застегнула крючок кожаного фартука пролетки.
– С Богом, – сказала мать старенькому извозчику. – Только полегче, пожалуйста.
Она не любила быстрой езды. Но тут могла быть покойна. Лошаденка никак не собиралась торопиться. И по Никольской безопасным трухом влекла за двугривенный к Ряжско-Вяземскому вокзалу.
Проезжая мимо трехэтажной гимназии николаевской постройки, мать обернулась, стараясь в слепых и тяжелых окнах увидать «сыночку». Но не увидела.
Сыночка же тоже все старался высмотреть от своей печки каждого проезжавшего к Московским воротам.
– Что ты все вертишься? – спросил рыженький Докин.
Глеб не стал объяснять. То ли не все было видно, то ли он проглядел, но и Глеб матери не увидел. В одиннадцать, когда пробил звонок и второй урок кончился, он понял, что и не увидит. Подошел к окну, тупо смотрел на Московские ворота, туманно вдалеке маячившие.
126
* * *
После гимназии через час сумерки, а там тьма. Лампа с зеленым колпаком, грамматика Кюнера и Ходобая, тетрадки, уроки. И всегдашнее чувство – надо что-то преодолевать, о чем-то тяжком заботиться. Иногда, уже раздевшись, улегшись, вдруг вспоминал Глеб, что заданы еще немецкие глаголы, или задача. И зажегши свечку, в одной рубашке наверстывал упущенное. Где уж тут рисовать пуссэновские деревца или гоголевские типы! Художество так и осталось в Людинове, в тихой и светлой комнатке наверху, с видом на озеро.
Зима пришла рано. Ока стала, ципулинские пароходы, которыми любовался некогда Глеб из Будаков, зазимовали у моста. Будаки в десяти верстах, как бы и под боком, но в другом мире, райском. Калугу же сильно завеяло снегом – и городской сад, и близ него губернаторский дом, и базарную площадь. Снег на Никитской, на Никольской, бледные отсветы на потолке Глебовой комнаты. Мягко поскрипывает он под калошами, когда Глеб пересекает улицу. Уличный шум прекратился, беззвучно катят извозчики, мчат лихачи от Кулона. Но Глебу все равно, идти ли в гимназию по снегу или по грязи, зима ли сейчас или осень, мрак в сердце один.
Единственный просвет – Соня-Собачка прибегала по воскресеньям от своего Красавца, толстенькая, румяная, веселая. Шушукалась, хохотала с Лизой, шептались, фыркали насчет учителей.
Глеб теперь больше входил в их компанию. Вспоминая Усты, резались в свои козыри. А то Соня изображала коня, ржала, рыла землю копытом. Глеб вспрыгивал ей на спину и она скакала с ним по комнатам. Запыхавшись, сваливала его на диван и садилась рядом.
– Расскажи про Красавца, – говорил Глеб.
– Глеб, Глеб, ты знаешь, мой Красавец очень гордый. Он когда утром пьет чай с блюдечка, то так выставляет вперед губы, чтобы себя не уронить передо мной… а брови уезжают наверх – я чуть не лопаюсь со смеху… – Собачка и действительно валилась на диван, хохотала. – Только не дай Бог, чтобы он заметил, а то вспыхнет, рассердится. Я и виду не показываю, он страшно обидчивый… и важный. Считает, что мы, дворяне, должны высоко держать голову. А он такой «гоноровый» потому, что жил в Киеве и говорит, что в нас от бабушки Станиславской аристократическая польская кровь.
Что аристократическая, Глебу понравилось. Но что польская – не особенно. Он предпочел бы русскую. Впрочем, это его сейчас мало и занимало. Какой он аристократ? Он пленник Кюнера и Ходобая.
А Собачка все хохотала.
– Глеб, Глеб, ты знаешь, Красавец ужасный дурак со всем этим своим аристократизмом.
Глеб видел его иногда на улице, закутанного в шубу с енотовым воротником (казавшуюся Красавцу бобром), несущегося на лихаче к высокопоставленному пациенту, или к богатым купцам Терехиным «намокать», или на винт к вице-губернатору. Красавец представлялся Глебу чем-то парадным и стесняющим. Он не без робости раскланивался с ним, и был уязвлен, когда однажды тот, пролетев в санках, не заметил его и не ответил на поклон: Глеб сам, отчасти, был гоноровый пан.
Как и обещал матери, Красавец заезжал в домик Тарховой навещать детей. У подъезда извозчик останавливался, Красавец не без картинности вылезал из саней. В сенях встречала его Дашенька. Низко кланялась. Он снимал свои еноты под бобра, вытаскивал белеющий носовой платок, вытирал усы, громко сморкался – нос у него был большой, с горбиною, он тоже им гордился.
На тоненьких ножках, распространяя запах духов, откидывая назад голову с гладко зачесанными, слегка напомаженными волосами, входил в крошечную гостиную.
– Здравствуй, душечка, милочка моя, – говорил Лизе, ласково ее целовал, иногда сажал к себе на колени. – Как здоровье? Ученье?
Глеб тоже выбирался из своей берлоги, весь пропитанный разными accusativus cum infinitivo[9]. Глеб был диковатый и хмурый выходец. Дядюшка его стеснял.
– Юноша бледноват. Надо гулять больше. На коньках кататься.
– У меня много уроков, – отвечал Глеб мрачно. – Какие тут коньки…
Красавец выпятил вперед губы, наморщил лоб и, достав серебряный портсигар, вынул папироску. С чрезвычайной значительностью постукивал ею о крышку портсигара, обнаружив и длинные ногти, и золотое кольцо на пальце, с печаткой.
– Душечка, – сказал, закинув одну тощую ножку в лакированной ботинке за другую, – уроки уроками, но свежий воздух необходим. Лизочка, заставляй его гулять. Я знаю, что ты хорошо учишься… Молодец, наша порода. Но все-таки, надо и за здоровьем следить…
Красавец привозил иногда и конфеты, в изящных коробках, перевязанных ленточкой. Всегда был любезен, оставлял запах духов и хорошей папиросы, свежести, вымытости, но при всем том Глебу не весьма нравился. Можно ли сравнить с отцом! Отсюда, издали, отец казался образцом мужчины: со своими ружьями, запахом табаку, тоже чистый и аккуратно одетый, но простой, веселый, смелый… Отец ходит на медведя, стреляет волков, один может разговаривать с толпой рабочих, даже и недовольных. От него не пахнет духами и помадой, и он посмеялся бы над Красавцевыми лакированными ботинками. Да что ботинки: Красавец боится всякого таракана, говорят, когда был в Будаках, то трепетал перед каждой козявкой. Нет, это не деревенский человек! Он ничего не понимает ни в деревне, ни в природе, ни в охоте. Глеб знал, что к таким отец относился насмешливо. «Городские», «ферты», «не знает, как и лошадь запречь», – а если отцу не нравилось, значит, и Глебу. Он усвоил к Красавцу несколько снисходительное, но и почти высокомерное отношение. И рад бывал, когда тот, рассеянно поцеловав его в лоб, удалялся.
Каждый раз, входя в огромное здание гимназии, чувствовал себя Глеб в остроге. Всякий человек в вицмундире – власть, от каждого он зависит. Каждый может сказать резкое и неприятное, и ни от кого нельзя ждать привета. Даже безобидный Петр Андреич, учитель чистописания, сам всех боявшийся, не осмеливался быть ласковым. Молодой географ интересно рассказывал и объяснял на глобусе, и Глебу нравилось хорошо отвечать ему. Но и тот за золотыми своими очками казался недосягаем.
Главный же ужас, почти мистический, внушал директор. Высокий, худой, очень костлявый, серовато-седой, с металлическими холодными глазами… Латинский язык! Что осталось от Рима, Италии в этих extemporalia?
Нечто печальное и замогильное было в движениях директора и в голосе, безнадежных стальных глазах. Чья улыбка, чей смех мог бы жить рядом с ледяным этим человеком? Он был окутан гробовым безвоздушием луны. И когда утром входил в класс, садился у стола, расправлял фалды вицмундира, а над ним на стене возвышался портрет мощного блондина с надписью: «Благоверный Государь Император Александр III», то от обоих исходило веяние почти потусторонней скуки. Но Император, изображенный кистью Петра Андреича, был скучен величественно. Директор же обыденно. Он раскрывал журнал и вызывал очередную жертву.
Глеб никогда раньше не видал таких людей. Директор не походил ни на отца, ни на Дреца, ни на Красавца, еще менее на разных мужиков устовских, будаковских. При виде его Глеб испытывал какую-то тоску, он не думал и не осмысливал ничего, просто становилось тяжко на сердце. На уроках отвечал хорошо, но впервые в жизни ощущал острое чувство нелюбви. И считал при этом, что директор тоже его не любит, что они почти враги. Глеб ошибался тут по всегдашней своей привычке оценивать себя как нечто. Директор не мог быть его врагом. Он Глеба даже и не замечал.
Но однажды ему пришлось узнать характер этого мальчика несколько ближе.
Неприятнейшим днем недели была для Глеба пятница. Это его дежурство. Тут к обычному прибавлялись заботы новые, хозяйственно-полицейские. Хозяйство, правда, пустяшное: стирать с доски рожи перед приходом учителя, следить за мелом и губкою, за учительскою чернильницей. Знать, кто отсутствует, и наблюдать за порядком.
Но тут-то и начиналась полиция. Гвалт в классе подымался, как только притворялись за учителем стеклянные двери. За гвалт этот отвечал дежурный. Именно ему надлежало унимать все это и следить у двери за передвижениями неприятеля в коридоре.
Если приближался надзиратель, какой-нибудь Криворотый, или, не дай Бог, инспектор, надо дать во время сигнал, добиться тишины. Ибо иначе Криворотый, долговязый человек с развинченной походкой, худой, в затасканном вицмундире и с болезненно-кривым ртом, войдя скажет:
– Кто дежурный?
– Я.
Вынимается записная книжка.
– Кто шумел, мычал и издавал блеяние козла?
– Я… не знаю.
– А кто еще лаял?
– Н-не знаю…
– Как же ты не знаешь, если ты дежурный?
– Я отлучался.
– Как же ты мог отлучаться, если ты дежурный?
– По… своей надобности, – бормотал Глеб освященную обычаем фразу.
Криворотый отлично знал, что это неправда. Знал, что как только он выйдет, в классе раздастся клич: «Криворотый!» Но он был ослабевший и не борзый человек. Ему бы хлопнуть рюмочку, сразиться в прёферку, полюбоваться на толстогрудую экономку инспектора.
Чтобы поддержать идею власти, он лениво говорил:
– Если в следующий раз у тебя опять будет надобность, то останешься без обеда.
И заложив руку снизу под фалду, грустно побалтывая ею, удалялся.
– Криворотый! – кричали в классе. На доске появлялся профиль леонардовского урода с перекошенным ртом.
Криворотый, конечно, полгоря. Беда в том, что их классный наставник – директор. И когда от дверей Глеб давал сигнал «директор», все сразу смолкало. Врасплох вряд ли мог застать что-нибудь директор во «втором параллельном» калужской гимназии. Но у судьбы свои пути, нам неведомые.
В одну из пятниц конца ноября тот самый Юзепчук, с которым познакомился Глеб на бранном поле в день экзамена, сразился во время перемены с Павловым, несмотря на тщетное вмешательство Глеба. Бой шел ожесточенный. Весь класс развеселился. Размахивая ранцем на ремне, Юзепчук увлекся, выпустил его из руки – ранец с учебниками хлопнул в оконное стекло. Треск, звон его остановили воинов.
Он не пробил второго стекла… все-таки, это скандал. Глеб в ужасе подбежал к окну. Все сразу стихли: ясно, чем дело пахнет.
…Тут и вошел директор, как Судьба, как жандарм в «Ревизоре». Никогда так не входил, а сейчас вошел. Держа руки в карманах, с выражением усталого презрения приблизился к окну. Чего можно ждать от этих негодяев, не отличающих второго склонения от третьего?
– Кто сегодня дежурный?
Глеб, побледнев, подошел к нему. Директорова голова была много выше Глебовой.
Над синим вицмундиром выдавался на костлявой шее кадык, дальше шли седоватые заросли щек, белесые, холодные глаза.
– Вы что же тут, – обратился он к классу, – скоро двери начнете с петель снимать?
– Кто разбил стекло? – спросил директор у Глеба, не вынимая рук из карманов.
– Н-не… знаю.
Директор стал допрашивать. Глеб пытался защищаться: был занят в то время, как разбили стекло, разговаривал. Как разговаривал? Дежурный не имеет права разговаривать о постороннем.
Глеб терпел, все смотрел снизу на жилистую шею, седоватый подшерсток по скулам. Ненависть подымалась глухо, неудержимо. Одновременно – леденящий страх и отчаяние.
Директора тоже раздражал этот упрямый мальчик. Он повышал тон, наступал.
– Да, так ты не знаешь? Ты, дежурный, обязанный следить за порядком в классе, и ты не знаешь?
Глеб вдруг почувствовал, что не себе уже принадлежит. Давясь от ужаса, смертно побледнев, но ощущая некий сумасшедший полет, негромко, совершенно явственно, однако, произнес:
– Не зна-ю. А е-если бы и знал, то все-е равно не ска-азал бы.
Дерзость Глеба была чрезвычайна. Не то что не выполнил долга, недосмотрел, но просто отказался подчиняться. «Если бы знал, все равно не сказал бы». Это ужасно. С такими не приходится стесняться… И Глеб на месте, тут же, был осужден: неделя без обеда, т. е. каждый день на час после уроков, один в запертом классе. Письмо родителям, сбавка балла по поведению.
«От тюрьмы да от сумы не отрекайся», – в этот день тюрьму Глеб испытал со всею остротой одиннадцатилетнего сердца. Уроки пронеслись в тумане. А вернее, он на них и не присутствовал: сидел на парте, находился же в подземном мраке.
Странным образом, особенно убивал его «позор» наказания. Как дежурный он поступил правильно, выдавать нельзя. Все же, в его глазах пятно ложилось на него от одного того, что он отсидит в пустом классе лишний час. Товарищи отнеслись проще. Ну, посидит и посидит. Мало ли кто не сидел. Но Глеба никогда никто не наказывал, ему дико представить себе было, что кто-то может проявить над ним насилие.
Грустно, долго тянулся час в пустом классе. Сквозь тюремные окна виднелись во мгле сизеющей Московские ворота. Туда уехала мать. Там отец, Людиново, достойная его жизнь. Тут же он сидит невинным узником. Глеб не мог ни готовить уроков, ни читать. Мрачная мечтательность владела им.
И когда в четыре пришел Криворотый, лениво сказал: «Говорил тебе, останешься без обеда» – и показал рукой, что теперь может он идти. Глеб трагически надел ранец и вышел с таким видом, будто с одного эшафота переходит на другой.
Он считал, что и дома это будет принято как позор. Шел медленно, сумрачно позвонил у подъезда. Лизы не было, а Дашенька только посочувствовала. Впрочем, Глеб на нее внимания не обратил.
Положение свое находил ужасным – какое значение может иметь какая-то Дашенька! – и, пообедав, лег на диван в самом мрачном настроении. Не хотелось ни зажигать лампу, ни приниматься за уроки.
В передней горел свет. Позвонили. Дашенька опять пошла отпирать. Глеб слышал, как за стеной, по стемневшей Никольской поскрипывали полозья санок, как ухало на ухабах… В соседней церкви зазвонили – неужто шесть, всенощная?
– Глеб, Глеб, – сказал знакомый, милый голос, – где ты тут? Я ничего не вижу.
Соня-Собачка, выставив вперед руку, чтобы не наткнуться, приблизилась к дивану. С собой внесла морозный, свежий воздух с улицы. Даже в темноте чувствовалось, как горят ее свежие, полные щеки.
– Я здесь, – ответил Глеб тихо.
Он рад был, что пришла Собачка. Но радости своей, разумеется, не выдал. Тяжело, как больной, вздохнул.
– Ты что?
– Ни-ичего.
Собачка села с ним рядом. С женской чуткостью ощутила, что не совсем ничего.
– Глеб, Глеб, – сказала, как всегда, скороговоркой, – ты расстроен?
Он промычал что-то. Собачка нагнулась, приложила пухлую свою щеку ему ко лбу, слегка потерлась ею. На Никольской зажгли фонарь, у самого окна дома Тарховой. Его свет изломом лег по креслу, золото потекло по стене.
Женщина утешала Глеба, впервые, вполголоса… «Ну что ж, ты и не мог иначе, – шептала Собачка. – Выдавать нельзя…» – «Да, а целую неделю, целую неделю сидеть без обеда…» – «Бери с собой бутерброд». – «Дело не в бутерброде…» – «Пустяки, Глеб, Глеб, наверно, сбавят». – «Как же! Сбавят!»
Слова ее не могли Глеба переубедить. У него был уже свой безнадежный, «калужский» взгляд на жизнь, на свое в ней положение и тяжелую, как ему казалось, историю в гимназии. С матерью он бы не смог так разговаривать, но Собачка слишком своего поля ягода, да и проще, не на такой высоте, как мать, с ней когда-то он играл в папочку-постучалочку, прятался в коноплях, она была для него частью сестра, частью и Ева. Женское тепло и ласка, от нее исходившая, были почти сладостны – и утешительны. Хорошо, что она просто сидела рядом, полуобняв, хорош милый, привычный шепот.
Незаметным образом с Глебовой истории разговор перешел на Собачку. «Глеб, Глеб, – шептала она, – ты не думай, что и мне у Красавца очень сладко. Он иногда так рассердится, вспылит… из-за пустяков. Мне совсем не легко с ним. А потом знаешь, Глеб, знаешь… Я когда у вас в Устах жила, то как в родном доме у дядечки и тетечки… а у Красавца… он мне тоже дядя, но у вас я не чувствовала, что из милости… что папа бедный, а тут… а тут…»
И вдруг, как некогда в Устах в первый день скарлатины, из глаз Собачки закапали на Глебовы щеки слезы.
– Красавец, когда в гостиной сидит… одно, а дома… друго-е…
Глеб не знал, как быть. Опыта в утешении плачущих женщин у него еще не было. Но все это подняло его в собственных глазах. Подчиняясь тоже инстинкту, он стал целовать ее в мокрые щеки и шепнул:
– Если тебе у него плохо, я скажу маме, чтобы ты опять с нами жила.
В передней позвонили. Лиза вернулась.
* * *
Худощавый, недоброго вида офицер Ястржембский выстраивал гимназистов внизу в гимнастическом зале, они делали разные штуки на лестнице, параллелях, кольцах. Маршировали, бегали рысцой в строю по кругу, подымая скучную пыль, дыша еще более безнадежным воздухом, чем наверху в классе. Ненавидели все это не меньше латыни.
В понедельник гимнастика была последним уроком. Бритый, с прямым пробором на небольшой головке, сухой, острый Ястржембский стоял посреди залы, слегка расставив тонкие ноги в брюках со штрипкою, расстегнув мундир. В руке у него стек. Он с неудовольствием, почти презрением польского шляхтича смотрел на русских гимназистов, бежавших по кругу, как дан-товские грешники в аду.
– Левой, правой, раз, два! – Он похлопывал себя стеком по обтянутым ляжкам – а почему бы не проехаться таким хлыстом по спине зазевавшегося грешника? Нет, этого капитан Ястржембский себе не позволил бы. Все же видом походил на главного демона, наблюдателя за бегом осужденных.
Глеб тоже бежал, прижимая локти к бокам – так по-военно-гимнастическому полагалось. Он был не в духе. Занятие считал бессмысленным, от уроков устал, но бездарное это беганье не освежало. Потом все уйдут, а ему час сидеть в классе.
Казалось, никогда они не остановятся, все будут вдыхать пыльный воздух.
– Ать, два, ать, два! – Ястржембский со своим стеком подошел к самому движущемуся кольцу. Впереди Глеба бежал Гордеенко, в узеньком мундирчике с короткими рукавами. Из них вылезали красные руки. Гордеенко очень громко икнул. В нескольких местах фыркнули. Ястржембский раздраженно обернулся.
– Кто это там старается?
Лицо его имело вид почти физического отвращения. От русских дикарей чего ж и ждать.
Глеб в паре с Докиным пробегал мимо него. И вдруг сказал:
– Гордеенко.
Ястржембский вынул книжечку и записал.
Рыженький Докинь с изумлением взглянул на Глеба. Тот и сам обомлел. Этого только недоставало! С Гордеенкой Глеб был в хороших отношениях, Ястржембского терпеть не мог… и ни с того ни с сего выдал.
– Кто тебя просил болтать? – шепнул на бегу Докин.
Глеб не знал, что ответить. Но Докин свой человек, приятель.
А неприятели? Уже на втором круге, когда Ястржембский стоял спиной к ним, сзади негромко, но явственно раздалось:
– Ябедник.
Когда урок кончился, к нему подошел Гордеенко со своими красными руками, вылезавшими из коротких рукавов мундирчика. Он был, как всегда, взлохмачен.
– Вот из-за тебя и записали…
Гордеенко привык, чтобы его записывали, сбавляли балл или засаживали. К нынешнему случаю отнесся довольно философически.
– Да я так просто сказал, не думал, – бормотал Глеб растерянно.
– Они, первые ученики, всегда доносчики, – сказал кто-то сзади. За Глеба заступился Докин: просто вышла ошибка, какой же он доносчик, ведь директору же на Юзепчука не сказал, там не такие пустяки, как икнул. И теперь за это отсиживает.
Гимназисты шумно разобрали ранцы, шумно вывалили из класса, забыли о преступлении Глеба тотчас. Но он не забыл. Доносчик! Он одиноко страдал в одинокий этот, синеющий час зимних сумерек, в душном классе Николаевской калужской гимназии.
Гимназисты разбрелись кто на Широкую, кто на Одигитриевскую, кто на Спасо-Жировку. Глебу казалось, что они разносят по всему городу весть о его позоре – Глеб, как всегда, преувеличивал свою роль в мире. На самом деле, пока он угрызался в пустом классе, соратники обедали, кто целил идти на каток, кто на Никитскую гулять с гимназистками, кто готовить уроки – смотря по характеру. Сам Гордеенко мгновенно забыл и о Глебе, и о Ястржембском и тащил уже салазки – от его домика на Широкой чудесно можно катить по оврагу чуть не до самой Оки.
Но и Глебов день сложился не совсем так, как он предполагал: поковыривая в носу, меланхолически заложив руку сзади под фалду вицмундира и побалтывая ею, забрел к нему в класс Криворотый.
– Можешь идти домой. И завтра уйдешь вовремя. Вместе с другими.
Наказание отменялось. Так велел директор.
Глеб не знал, что накануне, в воскресенье, его враг играл в винт с Красавцем у вице-губернатора. И между двух роберов, усмехнувшись, сказал ему, что племянник его «с характером». Красавец насторожился. Директор всегда ему не нравился, а тут усмешка показалась насмешливой. Он поднял брови, глаза его сделались строгими. Ловко сдавая и следя за веером летевшими картами, спросил он, в чем, собственно, дело.
Узнав, что Глеб не пожелал назвать товарища и за это неделю будет сидеть без обеда, Красавец вспыхнул.
– Да позвольте-с, я бы и сам на его месте поступил бы так же…
Директор холодно улыбнулся.
– Не знал, что вы противник дисциплины.
Красавец стал доказывать, что дисциплина одно, а честь другое. Директор защищался. Красавец покраснел – это бывало у него признаком гнева, – готов был и обидеться, наговорить дерзостей. Но вошла хозяйка, худая, довольно изящная брюнетка с задумчивыми глазами.
У Красавца на руках оказался чуть ли не малый шлем. Да и вице-губернаторша ему нравилась. Настроение его опять изменилось. Обернувшись, грандиозно выпятив губы, он важно, но и весело заявил:
– Анна Сергеевна, у нас сейчас был спор… И рассказав, в чем дело, добавил:
– Глеб поступил как дворянин. Анна Сергеевна, вы бы тоже не выдали?
– Я не знаю вашего племянника, но, по-моему, он прав, – сказала вице-губернаторша.
Красавец засмеялся.
– Ручку, ручку! Она тоже улыбнулась.
– Мальчику сидеть неделю без обеда? Ну, уж это слишком. Надо отпустить.
Красавец назначил сразу пять пик. Он любил блистательные начала, да на этот раз и масть, с коронкой, была у него замечательная.
«Фанфаронишка, – думал директор, – дамский угодник. А везет ему, как всем дуракам».
Женщина была для него mulier[10] третьего склонения. И к Анне Сергеевне он мог относиться только как к существу третьего склонения. Но ее муж вице-губернатор…
Обращаясь к хозяйке, директор сказал, с прежней полумогильной любезностью:
– Если Анна Сергеевна находит, что слишком строго, я готов смягчить.
Она улыбнулась, кивнула. Красавец объявил малый шлем.
Так являлись и разрешались огорчения детской жизни Глеба, казавшиеся ему большими. О настоящем большом он не имел еще понятия. Между тем, не из одного повседневного состояла его жизнь.
…Однажды, незадолго до Рождества, Красавец приехал в дом Тарховой расстроенный. Беспокойно заглаживал рукою назад редковатые волосы, подрыгивал ножкой, наконец, обратился к Лизе.
– Душечка, из Людинова телеграмма. Ты понимаешь, не надо заранее волноваться, все, конечно, устроится, но вы с Глебом должны ехать немедленно. Мама захворала.
Лиза ничего не ответила. Глаза у ней сразу налились слезами. Красавец ласково привлек ее, поцеловал в лоб, сквозь кудряшки.
– Плакать не надо, болезнь серьезная, но не такая… понимаешь…
Он многозначительно поиграл губами.
– Если нас зовут, значит же…
Глеба не было дома, он ходил к Докину. Когда вернулся, Красавец уже уехал. Лиза плакала теперь с Соней-Собачкой, прибежавшей тоже. Глеб от ужаса ничего не мог даже сообразить… Просто его как-то прихлопнуло.
– Глеб, Глеб, – говорила Собачка, сама давясь слезами, но делая над собою усилия, чтобы держаться, – ты не мучься, Глеб, тетечка выздоровеет, этого быть не может. Красавец сказал… что у тетечки болезнь печени. От этого… выздоравливают.
Красавец разрешил ей ночевать у них. Девочки спали вместе, охали и вздыхали с вечера, все же крепко заснули. Глебу было приятно, что тут с ними, в беде, еще и Собачка, теплая, ласковая, такая своя. После всяких волнений и он заснул, сном детским, глубоким, с тяжелым, почти страшным пробуждением: образ стольких ужасных пробуждений будущей, взрослой жизни!
Девочки поднялись рано. Еще не рассвело. При жалкой свече, едва отгонявшей тьму, наспех укладывались. Глеб тоже вставал. Он потерял свою важность. Меньше всего походил теперь на Herr Professor'a времен Дреца. Жался к девочкам, с ними все-таки легче.
А Красавец с утра полетел в обе гимназии за отпусками – что без труда и получил: «по домашним обстоятельствам». Около часу, с отпускными свидетельствами и деньгами был уже в доме Тарховой. Нынче держался бодрее. Уверенностью своей хорошо на детей действовал.
– Душечка, – говорил Лизе, – помни, в Туле пересядете на Орел, по Московско-Курской, а в Орле будете поздно вечером, не проспи, надо пересесть на Брянск, это Орловско-Витебская, рано утром слезете в Радице, тоже еще темно будет. А уж там вас встретят из Людинова.
Да, не шутка! Тула, Орел, Брянск… Ряжско-Вяземская, Московско-Курская, Орловско-Витебская… Как приятно было ехать в Будаки на лошадях, но здесь все другое, надо исколесить Бог знает сколько, заезжать в огромные города, пересаживаться, помнить расписания поездов…
В половине второго Красавец усадил их в вагон третьего класса. Звонили звонки, первый, второй, третий. Толстый обе-кондуктор в темном кафтане, подпоясанный, в шароварах, свисающих на низкие блестящие сапоги, просвистал в свой свисток.
– Милочка, – крикнул Лизе Красавец, – билеты береги! Паровоз обе-кондуктору ответил. Сотрясаясь, поезд тронулся.
Начался для Глеба новый мир.
Настоящая железная дорога, «казенная», как тогда говорили. Глеб знал мальцовскую, никогда еще не ездил по казенной. Какое все огромное и жуткое! Гигантскими показались вагоны, быстрота потрясающая: Красавец сказал, что их поезд идет тридцать верст в час! Оно и видно. Как несутся за окном, с налипающим, и тающим снежком на стеклах, рощицы и перелески, деревни вдалеке, полузавеянные мутно-белесой мглой. Если высунуться, больно станет сечь этот косо летящий, мелкий снег!
В вагоне на лавочках мужики в полушубках, мещане, бабы, попадья с ребенком. Пахнет овчиной, дымком от чугунной печки. Обе-кондуктор очень важно требует билеты. Сквозь пенсне взглядывает на них, прощелкивает машинкой. Появляется истопник. Он подбрасывает дровец в печурку, пламя сразу освещает вагон и веселит. Начинается огненное его гудение, красное пятно танцует внизу по жестяному листу, становится жарко, чугун накаляется, и сквозь щелки в коленчатой трубе видно, как летят золотые стрелы.
Глеб с Лизой у окошка, притулились, печально глядят в надвигающиеся сумерки декабрьские. Им кажется, что поезд мчит их фантастически. Кругом говор, галдеж в соседнем отделении, но они одни, заброшенные в иной мир, горестные дети. Поезд же идет все дальше, чрез всякие Ферзиковы, Алексины, близится Тула. И уж совсем темно. Огни мелькают.
Тульский буфет, где они спросили чаю, показался Глебу ослепительно-великолепным. Свет огромнейших ламп, длинные столы с приборами, под накрахмаленными скатертями. Серебряные сахарницы, огромный, пузатый самовар вдали, чахлые пальмы на столе в кадочках и толпа, то приливавшая, то отливавшая. В дверях появлялся швейцар, спокойный и великолепный: звонил в большой колокольчик.
– Первый звонок на Москву-у!
А через несколько минут, тем же голосом Рока, вежливо-неумолимого:
– Второй звонок на Калу-гу-у!
Глеб все боялся опоздать. Лиза тоже. И наскоро допив чай, среди помещиков, хлебавших борщ, военных, хлопавших у стойки по рюмашке, дам с детьми и узлами, путешествующих из Гродно в Челябинск, робко стали они пробираться к платформе орловского поезда. Глеб нес чемоданчик, а рукою держался за Лизу. Во мраке, холоде чужих мест, в этих летящих поездах, незнакомой толпе, с тоскою и почти отчаянием в сердце, был это тяжкий для него путь. Женская рука вела его. Тонкие пальчики Лизы, грустные ее косички, меховая шапочка…
Долго ждали они на полуоткрытой платформе орловского поезда. Дул ветер, сбоку заносило снежком. Они были похожи на одиноких сирот.
Наконец, грозный паровоз, весь в дыму, пару, с огненными глазами, задыхаясь и сердито шипя, подкатил к платформе. Все полезли в вагоны.
Через четверть часа Глеб и Лиза мчались по безмолвным полям России. Привалившись друг к другу, задремывая и просыпаясь, катили мимо весьма знаменитых, как бы святых мест Родины. Может быть, в этот темный час у Козловой засеки, в Ясной Поляне Лев Толстой дописывал «Хозяина и работника». А совсем недавно Тургенев, кутая в плед подагрические свои ноги, садился на станции Мценск из имения Спасского в поезд на Москву. И сам Тургенев, со всею своей славой, был соседом по имению тети Любы, матери Сони-Собачки.
Орла не проспали. Без Лизы, без ее женской выносливости, робкой настойчивости Глеб в Орле бы погиб – это было уж в первом часу ночи, когда детский сон непреоборим. Глеб бессмысленно шел по вокзалу, тоже большому и ярко освещенному, ничего не понимал, кроме того, что он в каком-то аду. Все равно куда идти, только бы дойти и сесть.
Было совсем темно, когда Лиза, двадцать раз спросив у кондуктора о радицкой платформе, вывела Глеба из вагона – ему показалось, прямо в ночь. Ничего не видать! Поезд ушел, вкусный, лесной воздух их охватил… вдалеке виднелись огни Брянска. Ни души.
Но за изгородью что-то зашевелилось, в ночном безмолвии длинно вздохнула, пофыркивая, лошадь. Человек появился.
– Это которые в Людиново? Директорские дети? Ну, так-так, приказано вас отвезти. Пожалуйте.
Филипп, номерной из «господского дома» Радицы, взял Лизин чемоданчик и повел их к лошади – до Радицы версты две, там приготовлена и комната. Отдохнут, а часиков в девять и поезд в Людиново.
Филипп говорил просто и приветливо, но и с оттенком почтительности: директорские дети.
Глеб не мог бы, и взрослым, вспомнить лицо этого Филиппа, безвестного человека России, явившегося им тогда неким благовестителем: ибо когда в полной тьме Лизин голос, намученный, но верный, слабо прозвучал: «Мама жива?», то Филипп, запахивая полушубок и садясь на козлы, весело и спокойно сказал: «Слава Богу. Ныне человек был из Людинова, велели вам передать – барыне со вчерашнего дня лучше».
И он тронул лошадь. Санным путем, по каким-то ухабам, мимо елочек, сосен, влекла их лошадка. Все равно куда. Маме лучше. Она жива, будет жить! Лиза тихонько плакала: счастливыми, благодатными слезами.
Через четверть часа лошадь остановилась у двухэтажного дома, вблизи завода. В передней горел огонек.
Дети камнем заснули в комнате господского дома Радицы. Комната эта была старинная, редко обитаемая, с очаровательным запахом долго стоявших вещей, постельного белья, чего-то сыровато-затхлого и необычайно покойного. Здесь можно отдохнуть от всех треволнений этих дней.
Филипп едва их добудился. Но поезд не ждет, и при низком морозном солнце, инее, вкусном колком воздухе, отправились они на той же лошадке на станцию мальцовской узкоколейки. После «казенной» дороги все это было знакомое, свое. Маленький паровозик с трубою кверху шире, в каком-то железном чепчике, с крошечными вагонами подали к платформе. Филипп усадил детей в «директорский» вагон, обитый малиновым бархатом.
Паровоз тонко посвистал и, попыхивая дымом дровец, мирно повез лесами Мальцовщины. Утро было погожее. В окне проходили столетние ели, сосны. По снежным главам их текло солнце утра, выше была бледная зелень неба. Пестро-синие сойки перелетывали, дятлы долбили. Какой иней, седыми ризами, что за глушь, тишь лесов!
На станции Стеклянная Радица в вагон вошел Дрец, в меховой шапке с ушами, теплом пальто с барашковым воротником.
– А-а, барышня… Herr Professor! Ну и-я же и-в Людиново. Вот и хорошо. Мамаше лучше. Дрецу же и-все знает. А то беспокоились. Ну, и отлично. Я тоже в Людиново.
* * *
Глеб взбежал по лестнице в бывший свой кабинет, где висела трапеция. В волнении приотворил дверь огромной комнаты в коричневой фанере по стенам, с блистающим паркетом. Эту комнату хорошо знал. Теперь за ширмами стояла кровать. У окна, в кресле, похудевшая, с темными провалами под глазами сидела мать – еще полубольная, но живая, настоящая.
Глеб обогнал Лизу. И повис у матери на шее. Прежде в таких случаях его царапала булавка брошки с бриллиантиками, но теперь мать была в белой ночной кофточке. Он ее целовал, а она шептала: «Сыночка… ну, вот, сыночка», – гладила по большой голове и тоже целовала.
Оторвавшись от нее, он дал место Лизе. Сам же, пофыркивая, сильно дыша, со странным напряжением прошелся по комнате кругообразно. Лицо отца, с рыжеватой бородой, тоже взволнованное и такое свое, мелькнуло перед ним в этом церемониальном марше. Глеб готов был закричать или заплакать… но не сделал ни того ни другого. Он просто как-то пролетел в новое свое состояние, нормальное и счастливое, когда мать здорова и все в Людинове в порядке. Да, да, огромный милый дом, за окнами снежное озеро. Коньки, охота, рисованье.
…После первых волнений встречи все понемногу стало налаживаться. Лиза устроилась с матерью. Глеб по-прежнему жил в комнате, где трапеция, а спал внизу с отцом в кабинете. Тимофеич, подавая в стеклянной столовой, по-прежнему надевал белые вязаные перчатки. Когда надо было отцу ехать на завод, докладывал, как о деле государственной важности:
– Лошадка подана-с.
Вновь стал доноситься из залы Бетховен, Шопен из-под пальчиков Лизы. Дрец и Павел Иваныч являлись к обеду. Отец, чокаясь водочкой, приговаривал: «Чи-и-ик!» Дрец отвечал ему: «Клопе и отделка!»
Глеб мгновенно вошел в эту жизнь, точно для нее был и создан, а Калуга, дом Тарховой, гимназия, Красавец оказались неприятным сном, тотчас и сгинувшим. Наоборот, здесь сидеть, в светлой комнате второго этажа, с окном в заснеженный сад, срисовывать Коробочку из альбома Боклевского, потом вспрыгнуть на трапецию и, держась за веревки, покачиваясь на ней, как на качелях, мурлыкать вполголоса: –
Едем в море варя-яга, Иль на острове Сант-Я-а-аго!это есть жизнь. Рядом комната матери: та, где жила и откуда уехала Софья Эдуардовна. Как связано все это с тем жарким летом, пожарами, серыми глазами Софьи Эдуардовны, музыкой… И куда исчезла Софья Эдуардовна со своими длинными пальцами, красными пятнами на щеках, не совсем красивая, но такая чудесная?
Сейчас там, за дверью, в кресле у окна мать. Иногда она уже встает, ходит немного, берет толстый журнал в красной обложке с изображением, в славянском стиле, некоей арки, и читает Боборыкина, роман «Василий Теркин».
Из слов отца, Лизы Глеб понял, что мать, действительно, чуть было не умерла… – даже доктор, «кум» на высоких каблуках, чей портрет в альбоме помнит он еще по Устам, пал духом и почти не надеялся.
Но сейчас все по-другому. И мать, и светлый, молчаливый дом, принадлежат иному миру, очень радостному. Глеб вполне в нем укрепился. Неужели важный мальчик, рисующий в людиновском доме, катающийся на коньках в оленьей шапке и романовском полушубке, бродящий в парке с ружьецом, подкарауливая сороку – все тот же Глеб, что мучился из-за экзамена, чувствовал тщету свою и одиночество в гимназии, страдал от наказания?
Глеб старался не думать о той странной, грустной и тяжелой жизни, которую вел в другой стране, называвшейся Калугой. Впрочем, ему и не очень думалось. Попросту он снова жил.
На второй день Рождества мать спустилась вниз уже в обычном своем платье, с брошкой. Теперь, если броситься к ней на шею, то можно и оцарапаться. Глеб, впрочем, не бросался. Все вошло в колею, он принимал как должное, что мать выздоровела, да и вообще что здесь в Людинове должен жить по-настоящему, быть счастливым.
…Несколько новостей сразу скрестилось в эти дни в доме людиновском. Из Киева брат Петр написал отцу, что заболела гостившая у него бабушка Франя. Из Дядькова получилось сообщение, что по губернии едет губернатор и в пятницу будет в Людинове. Его надо принять, показать ему завод и отправить дальше. Третья весть была для Глеба самой важной: верстах в тридцати от Людинова обложили лосей, и к великому его удовольствию (хоть он и старался скрыть это), отец решил взять и Глеба на облаву.
Может быть, для отца и не так размещались известия, все же и он занялся более всего охотой. Для губернатора наспех послали за вином в Жиздру, мать размышляла, хороша ли будет индюшка, какое свертеть мороженое. А отец с Глебом готовились к охоте как к войне. Дело, правда, не шутка: ехать вдаль, зверь немалый и редкий. Приходили и Дрец, и Павел Иванович совещаться и обсуждать: сколько брать патронов, как одеться, кому с кем ехать.
Кабинет отца обратился в мастерскую. Лежали разобранные ружья, смазывались курки, собачки, промывались стволы, протирали их насухо так, чтобы блестели внутри как зеркало. Самое интересное это лить пули. Свинец плавили в чугунной чашке с длинной ручкой вроде кочерги – тут же в камине на огне или углях. На дне чашки копилось нечто светлое и тяжкое, сребристо-жидкое, как ртуть, кое-где в чешуйке шлака. Это расплавленный свинец. Его льют в пулелейку – особый инструмент с дырами для наливанья. И когда свинец остынет, пулелейку разнимают, из нее падают столбики еще теплого металла: он и будет разить зверя, надо лишь его еще загладить, обточить швы.
Глеб считал это делом значительным, достойным настоящего мужчины. Приезд же губернатора и все с ним связанное – пустяками, на которые зря тратится время.
Губернатора ждали в среду, а на четверг назначалась облава. Глебу это совсем не нравилось.
– А вдруг он возьмет да и останется в четверг?
– Нет, братец ты мой, у него все расписано, – говорил отец, покуривая. – В среду вечером должен в Жиздру выехать.
Глеб все-таки опасался. Ведь он губернатор. Что захочет, то и сделает. А во всяком случае, испортит им последний день перед охотой. Мало ли, можно было бы еще патронов наделать, про запас…
В среду на двор людиновского дома въехало несколько троек: точно свадебный поезд. Глеб с Лизой смотрели с любопытством, не без трепета, из окна верхней большой комнаты. Двор наполнился полицией. Заиндевелые урядники в башлыках, с багровыми от мороза лицами, худенький становой в серой шинели, исправник, грузный, в огромном тулупе сверх шинели, какие-то господа в шубах из Дядькова, отец на подъезде… – наконец, из самой нарядной тройки, в расписных санях Тимофеич и два урядника высадили человека с небольшими бакенбардами, еще не старого, в дорогой шубе. Отец почтительно с ним поздоровался.
– Губернатор! Губернатор! – зашептала Лиза, бледнея. У Глеба тоже сжалось сердце – разумеется, было, как он говорил, «страшновато», или «играние в груди». Но он сделал вид, что ему безразлично: хоть бы царь.
В эту среду столпотворение вавилонское происходило в доме людиновском. Все наехавшую ватагу надо было накормить, рассортировать, разместить… Становой не мог находиться в комнате, где обедает губернатор…
…Глеба, несколько оледенелого, подвели в зале к человеку, с бакенбардами, отец сказал:
– Это мой сын.
Глеб поклонился и «шаркнул ножкой». Губернатор рассеянно-ласково подал ему руку, потрепал по голове.
– Будущий охотник, – сказал отец. – Ныне калужский гимназист.
– А! А! Отлично.
Губернатор спросил, как он учится. Узнав от отца, что хорошо, кивнул благожелательно. Подошел чиновник особых поручений, лысоватый, картавящий, – потом какие-то инженеры окружили их. Глеб благополучно отступил. «Хорошо, что отец не сказал про завтрашнюю облаву. Гимназистам охотиться запрещается…» – Глеб, по своему обыкновению, думал, что губернатору он так же интересен, как себе самому или матери.
Обедали с Лизой одни, наверху – тоже к общему удовольствию. Лиза боялась, что после обеда придется играть губернатору на рояле. Но сейчас они мирно и роскошно угощались: губернаторская индюшка, воздушный пирог, ананасы, мороженое их не миновали. Снизу же доносился шум голосов, движение людей, сидящих в стеклянной столовой, за раздвинутым столом, чоканье, иногда смех…
Лиза все-таки угадала. Губернатор оказался любителем музыки, а отец, после шампанского, проговорился, что дочь у него музыкантша. Когда с кофе и ликерами перешли в гостиную, губернатор пожелал ее слушать. Отступать было поздно. Мать отправилась за ней наверх.
Вряд ли раньше когда-нибудь Лиза так волновалась. Идти вниз, играть перед губернатором, чиновниками, инженерами…
– Чего ты боишься? – сказал Глеб. – Ты играешь отлично, а мало ли что… губернатор так губернатор. Он совершенно не страшный.
И мать повела Лизу на заклание. Глеб же уселся у себя на трапеции – отсюда лучше будет слышно, вниз спускается винтом лестница – и слегка покачиваясь, испытывал разные чувства: некое высокомерие к губернатору («пускай послушает, как в нашем доме играют!»), гордость за Лизу, которую считал замечательной пианисткой, ощущение покоя и уединенности здесь, на слегка покачивающейся трапеции, и вместе с тем: жаль, все-таки, что это не он играет, не он пожинает лавры.
Внизу, на Голгофе, Лиза исполняла «Патетическую сонату», вначале от ужаса робко, но потом разошлась. Для своего возраста играла совсем неплохо, и в туше ее, фразировке, были именно Лизины черты – женственно-изящное, артистичное. Глеб все сильнее раскачивался. Как всегда, музыка действовала на него сильно и поэтически. Трудно было бы определить мечты его. Но нечто от Софьи Эдуардовны, от Зинаиды тургеневской в них присутствовало. Ему хотелось сделать что-то необыкновенное, прославиться, погибнуть…
Когда Лиза окончила, внизу шумно, дружно зааплодировали.
Губернатор был человек средних лет, спокойный и довольно благодушный. На те страшилища Петербурга, какие рисовали себе Катя Новоселова и Лиза, вовсе не походил. Но правительство собою являл, привык к этому и не мог стать иным. Хоть по медвежьим углам губернии ездил без радости, все же странно ему было бы путешествовать запросто, без троек с исправниками впереди, троек со становыми и урядниками сзади. Так нужно, дело государственное. Пусть лично и не крутой, все-таки он начальник, должен изливать в этом захолустном крае сияние, отблеск верховной власти.
Губернатор держал себя вежливо, но отдаленно с инженерами и хозяевами этого дома (не казавшегося ему столь великолепным, как Глебу). Поблагодарил за Бетховена девочку с кудряшками и косичкой, замученную страхом, с ледяными пальчиками. Похвалил ее, хотя много раз слышал много лучшую музыку. В конце же концов все это было ему безразлично.
Его повезли на завод показывать производство. А исправник и становой ждали в дальних комнатах – их и кормили там отдельно.
На заводе заведующие мастерскими низко ему кланялись. Рабочие стояли, онемев. Губернатор считал, что он некая магическая сила, одним появлением способная дать счастье простым людям. (Ему всегда искренно казалось, что «народ» очень его любит.) Он видел, как из домны вытекал огненный чугун, как проносилась в прокатной через вальцы раскаленная болванка – из нее вытягиваются змеевидные полосы – будущее сортовое железо или рельсы. Ему казалось, что в его присутствии и работать этим запотевшим людям с другой планеты легче, чем без него.
В пять вернулись домой, сели играть в винт: за главным столом губернатор, петербургский инженер, тощий чиновник особых поручений и отец. По углам зеленого ломберного стола в гостиной стояли свечи. Новые колоды карт ловко сдавались. Мелки писали, Тимофеич в белых перчатках, изнемогая от важности и сознания «исторического» дня, подавал чай с вареньем и лучшими жиздринскими печеньями.
Глеб осмелел и тоже глядел из-за спины отца на игру. Его занимало лишь одно: чтобы отец выигрывал. Отец вообще должен был всех побеждать. И Глеб с неудовольствием смотрел, когда отец ремизился и уже совсем рассердился, когда партнер, тощий чиновник, заметил отцу, что он сыграл неправильно.
В общем же чувствовал себя тоскливо, точно в завоеванном городе.
В прихожей сидел урядник, в маленькой проходной какие-то неизвестные типы из тех, кого не сажают за стол. Худенький становой, робевший, как Лиза за роялем, вскакивал каждый раз, как входила мать, – все какое-то странное и чужое!
Главное же его мучило: а вдруг губернатор останется? Улучив минуту, когда отец был свободен, он шепнул ему:
– Долго будете играть в карты? Ведь он так и не уедет!
– Не бойся, к девяти с конного двора подадут тройки.
– Как же в темноте ехать?
– Вот увидишь.
– Значит, мы завтра на облаву?
Отец хорошо знал, по самому началу, куда клонится дело. И так как разговоры эти заводил Глеб уже не в первый раз, сказал даже нетерпеливо:
– Да, на облаву. И вставать надо до свету. Ложись пораньше.
В отцовском кабинете тоже играли в карты, инженеры помоложе. Глебу пришлось лечь наверху у матери. Это было приятно, но и опасно: вдруг завтра забудут разбудить?
Ужинали опять с Лизой вдвоем, и действительно в девять часов оказались свидетелями радостного события: уезжал губернатор.
Двор вновь наполнился тройками, полицией. Звенели колокольчики. Ямщики переругивались. И самое интересное было то, что появились и верховые с зажженными фонарями. Это совсем блестяще! Отсветы бродили по людской, по заснеженным липам. Несколько походило на пожар. Человек в шубе вновь вышел на подъезд, его усадили в сани и весь губернаторский поезд с верховыми впереди, освещавшими дорогу, тронулся.
Глеб был доволен. Теперь начинается настоящее. Он сбежал вниз попрощаться с отцом. Повсюду стояли еще не убранные ломберные столы, недопитой чай, пепельницы с окурками. Окурки и на полу. Но неприятель отступил. И взяв с отца слово, что его разбудят вовремя, Глеб обещал тотчас лечь в постель.
Это он и исполнил. Заснуть же долго не мог. Слишком пестр день нынешний, слишком жуток и необычаен завтрашний. Лоси! Подумать только. Сердце его замирало, сжималось.
Отец тоже сдержал обещание. Было еще темно, когда Тимофеич постучал в комнату матери.
– Да, да, – ответила мать покойно. – Сыночка, подымайся.
Она зажгла у себя свечу. Глеб спал на софе в противоположном конце комнаты матери. Мягким оранжевым пятном означился свет за ширмой у матери. В окне слегка серело. Глеб торопливо, молча, упорно натягивал на себя детское снаряжение.
Ввиду важности выезда мать тоже поднялась. Она не особенно одобряла, что Глеб едет на лосей. Правда, лось как будто животное мирное… – все-таки, у него рога. Ну, да отец сказал, что будет стоять с Глебом на одном номере. «Во всяком случае, Николаю Петровичу видней» – в таких делах мать считала отцовский взгляд непререкаемым.
Она же все сделала, чтобы Глеб в это утро был тщательно обут, одет, накормлен – Глеб принимал это с неким нетерпением: был обуян воинственным духом, стеснялся женской внимательности.
Уже светало, когда они с отцом вышли на подъезд, к саням. Двор был изъезжен вчерашними тройками. Мать провожала их. Глеба укутывали, подтыкали полость, поправляли сиденье, подсовывали подушки за спину… – обычный церемониал зимней русской посадки. Из других саней, тоже гусем, выглядывали Дрец и Павел Иванович.
– Ну вот и слава Богу, – говорил Дрец, покуривая трубочку, – вовремя вчерась уехали, а я все боялся, что и-останутся… Значит, и-трогаемся, Herr Professor?
– Трогаемся, – тихо, бессмысленно сказал Глеб.
Дмитрий длинным кнутом, вроде пастушеского, стеганул гусевого. Тот затанцевал и рванул. Коренник двинулся солидно. Набережная у снежного озера, базарная площадь с огромною белою церковью, длинная слобода… – Людиново быстро осталось сзади.
День серый, маловетреный. Сани идут необширными полями, замкнутыми синевою леса. А потом гусевой влетает в этот лес – сразу совсем тихо. Хладно-сребристые снежинки, крошечные и поблескивающие, летят сверху. А когда дуга заденет за мохнатую ветвь, легким, прохладным инеем обдаст сидящих. Дальний стук дятла, залохмаченные снегом елочки, узенький след заячий, ледяная кристальность воздуха, звучность, ломкость…
В одном месте дорога раздваивается. На росстане мужичок. Он низко поклонился отцу и велел кучеру взять налево: слабо натертая тропка к лесной избушке.
– Не извольте теперь громко разговаривать. Зверь-то ведь он чуткий.
Отец обернулся к Дрецу.
– Ну я же что, я же ж понимаю…
Лошади пошли шагом. То, что нельзя разговаривать, сжало Глебово сердце новым волнением. Настоящая охота! В серебряном лесу, на чудовищных зверей…
Избушка оказалась недалеко. Сани подтягивались, охотники молча вылезали. Дрецу трудно было не говорить. Но когда он не удержался и что-то буркнул, отец вскинулся на него.
– Все изволили собраться? – шепнул мужичок-лесник. – Пожалуйте по номерам.
Лесник назывался Евграф. Худенький, тощий, жил он тут одиноко, среди лесов и зверья. Обкладывал и медведей, и лосей. В августе подвывал волков. Едва ли не знал лисьего, заячьего наречий.
На своих легких, раскоряченных ножках вел он охотников. За плечами Глеба висело тульское ружьецо, подарок Деда.
– Тут уж и курить бы не надо, – негромко сказал Евграф Дрецу. – Зверь духа не любит.
Глеб старался попадать в следы отца. Шли медленно, довольно долго. Глебу казалось, что и невесть куда зашли. Наконец, на опушке строевого леса, исполинских елей, сосен, Евграф стал расставлять охотников по линии. Один за другим спутники отставали.
– А вы, барин, здесь, – шепнул отцу. – И махонький с вами. Ну, стрели, стрели…
Глеб устроился за толстым пнем. Впереди мелкий, слегка сизеющий осинник с небольшой прогалинкой в ложбине, шедшей под углом. Оттуда, из этого таинственного сплетения сучьев, голых и тонких стволов и должен явиться зверь. За спиной же столетний лес, с глубокою тенью в глуби. Он всегда, даже в тихий день, как сегодня, слегка гудит. Про ложбину отец шепнул:
– Это лаз. Береги. Вообще осмотрись, вдаль не бей – пропускай до того кустика, видишь?.. Главное, до времени не спугни.
И отец ушел к себе на номер, шагов за двадцать.
Глеб стоял и не стоял, был и не был, это и Глеб и не Глеб – нечто растворившееся в посребренном лесе. Но у этого существа одно осталось несомненным: сердце. Билось оно ровно, громко, как идут хорошие часы.
В лесу иногда что-то хряскало, начинался долбеж дятла…
Так длилось немало. Чем дольше, тем страшнее. Точно все стало немое. Отец хотя и близко, но его уже нельзя спросить, он тоже волшебный, надо ждать, ждать…
Вдалеке выстрел – прокатился сухо, точно раскололи полено. Глеб знал: сигнальный. И за ним далекой, слабой волной завыли человечьи голоса. Облава тронулась.
Со стороны отца два кратких, точных звука: чик, чик. Взводит курки. Взвел свой, единственный курок и Глеб. А потом взял ружье наперевес и замер. Магически блестел пистон. И правда, и неправда был осинник, и ложбинка, лес. Точно во сне! Дальний вой не нарушит тайны мест, где бредут сейчас от этих криков фантастические рогатые звери.
Загонщики ближе. Уже можно различать голоса. Слышны трещотки, палки бьют по деревьям. Туча медленно надвигается, но в цепи стрелков все безмолвно.
Вдруг в мелколесье сновиденья своего увидал Глеб нечто новое: двинулись ветви, что-то расступилось, и беззвучно появились на прогалинке два нереальных существа. Впереди огромный зверь, на высоких, тонких ножках, без рогов, легкий и бесшумный, а за ним поменьше.
Осторожно шли они по снегу, точно бы по облакам, настолько невесомыми казались. Глеб не мог этого осмыслить, но он чувствовал перед собою дикий и таинственный мир. Все это было мгновение, но пронзило его. И уже из-за пня вел стволом мальчик медленно по серо-бурому боку чудища, бесплотно пред ним проходившего.
Может быть, Глеб шевельнулся, или лось почувствовал человечий запах: но передний приостановился, меньший за ним тоже… Глеб потянул за собачку.
В грохнувшем выстреле все сразу сместилось. Громада перед Глебом рухнула. Со стороны отца тоже блеснуло и ударило, меньший бешено прыгнул, несется меж дерев крупного леса, прорвался через линию стрелков. Отец быстро обертывается, ловит его на мушку – второй выстрел…
И все вернулось вновь на свои места. Чрез несколько минут между осинками мелькали уж древляне с палками, в тулупах, рваных шапках, с путаными бороденками. С ближайшего номера прибежал Дрец. Охотники подходили.
– Это ты? – кричал Дрец. – Этакую махину? Ну и молодец же ж, Негг Professor, я же говорил… я же всегда говорил…
Глеб стоял в нескольких шагах от поверженного лося. Зверь умирал. Прекрасный глаз его предсмертно затягивался, нога судорожно дергалась. Глеб ничего не понимал. Губы его дрожали, он был снежного цвета и все пытался забить шомполом в дуло новую пулю – для чего это было? А пуля застряла, как раз и не продвигалась. Кругом орали в восторге загонщики.
Дрец с аппетитом взвел курок и почти в упор выстрелил в умирающего. Тело лося передернулось. Как бы дым пошел от него… или это был вздох?
То, что пуля отца достала второго лося и он повалился шагах в двухстах, никого не удивило: отец взрослый охотник, известный стрелок. Но мальчик, из полудетского ружья уложивший такую махину…
Отец был очень доволен. На Глеба же рухнула оглушительная волна успеха.
Отец, смеясь, взял у него ружьецо и засунул шомпол на место.
– Пулю дома высверлим. Так ничего не выйдет.
Глеба со всех сторон поздравляли. Древляне требовали с отца на водку – что щедро и получили. И когда с лосями на салазках, толпой, теперь уже шумной, пестрой, охотники вперемежку с мужиками и бабами ввалились на двор избушки, где ждали кучера, загонщики подхватили Глеба и стали качать. Они угадали. Отец дал им еще на водку. Глеб же был совсем дик, не раскрывал рта. Можно было подумать, что мальчик, которым восторгаются за то, что пуля его ружьеца угодила в хребет безвинного зверя – что он даже еще недоволен. Это было неверно. Глеб торжествовал. Но счастья своего стеснялся. Так себя держал, будто для него убить лося дело обычное, ничего тут нет удивительного. Его радость была одинокая, восторженно-пустынная.
Он отдался ей на обратном пути. Ели и пили в сторожке основательно и выбрались домой незадолго до сумерек. Глеба опять закутали мумией, и когда выехали в начинавшие сизеть, мутнеть поля, Глеб, закрывшись сбоку воротником тулупа, полудремал, но и страстно жил в уединении своем. Теперь лишь ветер полевой, да снег, да надвигающийся сумрак были с ним. Никаких Дрецов, мужиков, жмущих руку Павлов Иванычей. Он один со своею славой. Глеб считал, что свершилось нечто героическое. А уединение, ровный бег саней, тулуп, от которого пахло овчиной, отгораживали его от мира. К миру этому он относился отчасти высокомерно. А к себе с неосознанным восхищением. Это давало особую сладость часам езды.
Вылез он из саней с чувством Наполеона после Аустерлица. Дома восторг был общий. Даже Лизу он захватил. Тут уж не белочка будаковская – огромный зверь, страшный, которого так геройски уложил брат. (Это была лосиха со своим лосенком. Убивая ее, Глеб совершал преступление даже против законов охотничьих.) Мать тоже была счастлива. Глеб вел себя как взрослый, «сыночка» оказался на высоте. Один из случайных гостей-охотников сотрудничал в «Природе и Охоте». Он сказал, что напечатает о Глебе в журнале.
Все это не могло Глеба не опьянять, хотя держаться он продолжал замкнуто. Дни Святок шли для него под знаком триумфа. Сидел ли он на трапеции, покачиваясь, рисовал ли, катался ли на коньках, всюду его сопровождало ощущение чего-то необыкновенного. Оно несло его. Он не был даже в силах и сопротивляться. Не был в силах чувствовать что-либо иное. А между тем, с ясною неумолимостью надвигался день, когда надо будет вновь ехать в Калугу, с Лизой, в убогий дом Тарховой, постылую гимназию. Совершенно очевидно, что из знаменитого охотника он превратится вновь в жалкого гимназиста, которого в любой день можно оставить без обеда, всячески ущемить, обидеть. Здесь имя его попадет в печать, а там, если «Природу и Охоту» увидит инспектор, то ему сбавят балл по поведению. И кто из товарищей поверит, что это о нем, нелепом дежурном, а то и «ябеднике», написано в охотничьем журнале!
Впрочем, он и думать почти не мог о Калуге – не вмещалась она в него. И себя вообразить иным, чем сейчас, познавшим славу Глебом, не был он в состоянии.
Так же и когда пришла из Киева телеграмма, что скончалась бабушка Франя, он отнесся к этому равнодушно. Да, слегка помнит ее по Устам, важная, польского вида дама. Но к нему и его чувствам не имеющая отношения.
Поразил его только отец. Отец, всегда над всем возвышавшийся, недосягаемый, несмотря на свою веселость, полугерой охотник, проявил слабость, Глеба взволновавшую. На панихиде в огромной людиновской церкви он плакал так, что уткнул лицо в платок, под которым вздрагивала рыжеватая борода, и тяжело сотрясался плечами. Глебу очень жаль было этого прекрасного на его взгляд человека. Когда панихида окончилась, он печально шел с ним домой из церкви, взял под руку, будто поддерживая. Головой приложился к локтю, а другою рукой погладил.
– Мне тоже очень жаль бабушку. А ты не плачь. Я приеду к тебе на Пасху, мы поедем стрелять вальдшнепов, на Горскую мельницу. На тягу. Ты мне обещал.
Отец улыбнулся, смахнул слезы.
– Поедем, братец ты мой, поедем.
Полуобнявшись, шли они, возвращаясь к жизни обыденной. Был серый людиновский зимний день, озеро в снегу, туманные леса за ним. Завод пыхтел, как всегда, языки пламени над домной. Бабушка Франциска Ивановна со своими четками, католическим Распятием, жизненными взглядами и видом королевы из провинциального театра находилась уже в Вечности, бедные же ее останки покоились в граде Киеве. И отец, и мать, и Глеб, и другие совершали таинственно данный им путь жизни, приближаясь – одни к старости и последнему путешествию, другой к отрочеству и юности. Никто ничего не знал о своей судьбе. Глеб не знал, что в последний раз видит Людиново. Отец не знал, что чрез несколько лет будет совсем в других краях России. Мать не знала, что переживет отца и увидит крушение всей прежней жизни. И лосиха, в роковой для нее день вышедшая на вооруженного ребенка со своим ребенком, не знала, что в последний раз идет этим осинником.
Губернатор с бакенбардами окончил благополучно свою поездку. Всюду были исправники, становые. Всюду ему кланялись и принимали, как в Людинове. Искренно он полагал, что всюду внес порядок и благоденствие. В некоторой усталости от пути все же не задумывался о том, что будет, и не мог себе представить, что через тридцать лет вынесут его больного, полупараличного, из родного дома в Рязанской губернии и на лужайке парка расстреляют.
1934–1936
Тишина*
I
Отец трудно переносил чужую власть. Позволял себе иногда насмешливый, даже высокомерный тон с начальством, подсмеивался и над сослуживцами. Это создавало ему недоброжелателей.
Особенно не любил иностранцев и столичных жителей. Когда приехал из Петербурга директор Правления с помощниками для осмотра завода, которым он управлял, отец охотно угощал всех обедами и играл в винт, но в делах не уступал ничего.
Однажды, поспорив с приезжим инженером, полушутя-полусерьезно закончил изречением: «Кто хочет со мной разговаривать, тот должен молчать». Инженер промолчал. Но отца нашли слишком самостоятельным – заменили другим.
В Калугу это дошло глухо, подробностей Глеб не знал. Все-таки понял, что нехорошо. Приехала мать, тоже обеспокоенная.
– Откуда же мы будем теперь доставать деньги? – спросил Глеб.
Мать объяснила, что отец ищет другое место, а пока занят подрядом – поставляет кирпич для построек в Брянск на железную дорогу.
Это Глебу не так-то понравилось. Поставлять кирпич… Он знал подрядчиков, они ходят в чуйках, смазных сапогах. Совершенно неподходяще для отца. Глеб был несколько за него и обижен.
Радостно, разумеется, что теперь мать будет жить с ними в Калуге. Но вообще жизнь сжалась. Мать явно тревожилась, была сумрачна, часто вздыхала. Отец не то в Брянске, не то в Орле. Мать со вниманием читала его письма-донесения. Глеб тоже читал. Отец жаловался, что дела неважны: недостаточно грузят, в пути задерживают начальники станций, ожидая взяток. Все запаздывает… – может быть, и прав был гимназист Глеб, полагая, что не барское дело поставлять кирпич. Но так как это делал отец, а отцовское всегда интересно, то Глеб стал даже записывать, сколько куда отправили кирпича, следил за этим и к весне так увлекся, что иногда думал о груженых вагонах не меньше, чем об уроках. Но вагоны продолжали идти туго. Однажды мать сообщила, что придется продать Будаки. Глеб и Лиза спросили в один голос:
– Где же мы будем летом?
Они спрашивали с искренним изумлением. Как так? Кто же остается в городе на лето?
– Может быть, лето и сможем еще прожить в Будаках… там посмотрим.
Это «там посмотрим» знал Глеб с ранних лет. Хорошего оно не предвещало.
Но на этот раз он ошибся. В начале июня, после благополучных экзаменов, в Будаки все-таки тронулись. И к великой Глеба и Лизы радости мать решила отправиться на пароходе.
Солнечное утро, пухлые облачка в небе, извозчик, мимо городского сада погромыхивающий к Оке, все мирно, свободно, пахуче. Но сам пароход – теперь просто лишь занимательное, а не прежнее поэтически-фантастическое. Ехало несколько пассажиров, в третьем классе мужики, бабы. Все это было естественно, но буднично, как милым, но и незаметным показался снизу от реки будаковский сад с частоколом, с огромным дубом – Глеб лишь по дубу этому и узнал усадьбу.
На перевозе, ниже Будаков, «Владимир» остановился. Мать, Лиза, Глеб спустились в танцующую лодочку, которую гребец оттолкнул веслом от парохода: покачиваясь на окских волнах, побрела она к берегу, а «Владимир» вновь забурлил колесами и мимо Авчурина покатил вниз к Алексину.
На пристани тележка и отдельная подвода для вещей – приказчик Арефий сиял потным гоголевским носом, засел на козлы, подхихикивал и трусцой вез господ берегом Оки в имение, им уже и не принадлежавшее: купец Ирошников на днях подписал купчую и задаток перевел отцу. Но до октября домом и усадьбой еще можно было пользоваться.
Будаки и теперь, на Глеба гимназиста-третьеклассника, знавшего уже, что такое perfectum, подействовали особенно: та же белоствольная роща березовая, низенький дом, весь благоухавший жасмином соседних кустов и старинною, трогательной затхлостью, тот же балкон с колоннами, сад, частокол за ним, откуда шел к Оке крутой спуск, дуб огромнейший, великан-охранитель усадьбы – на нем некогда он застрелил белочку… Глеб помнил каждую вековую липу налево в их темной толпе, где мать прорубила в ветвях «окно» с видом на Оку – чувство сданных экзаменов, вольного и заслуженного лета в Будаках… разве плохо?
У пристани тот самый «Владимир Святой», звук колес которого так любил прежде узнавать Глеб с будаковского балкона.
Он с восторгом всходил на него по мосткам с берега. Река зыбко блистает. Пахнет водой, теплым и масляным из машины. Пароход, с будаковского берега казавшийся огромным и таинственным… – вот он, весь тут!
Любопытно было сидеть в белой рубке с красными бархатными диванчиками, где по потолку струились златистые от воды змеи, смотреть на капитана в белой фуражке, на матросов, хлопотавших около свернутых кругами канатов. В Глебовом мозгу мелькнуло вдруг: да имеет ли еще он право ездить так, по своей воле, на пароходе? Но мгновенно память восстановила возможные ученические преступления: нельзя без разрешения ходить «в театры, концерты, на публичные зрелища» – про пароходы ни звука. Слава Богу. Значит, ничего дурного.
И когда «Владимир» после медленных маневров у пристани, криков, гудков, наконец залопотал колесами, тронулся, Глеб с чувством уверенного в себе взрослого путешественника смотрел, как уходила Калуга в садах, белея церквами, с домиками по взгорью, над которыми возносился Собор – он над всем господствовал.
Две кружевные, в белой пене струи вились за кормою от колес, а потом расходились стеклянным колебанием похлюпывая в берегах. Плыть Глебу нравилось, Ока покойна, зеркальна впереди, кое-где с нежною рябью. Леса подходят с нагорного берега, все это виделось, чувствовалось сквозь ушедшее, хотя сам он был уже не совсем прежним.
Глеб теперь меньше охотился, больше читал. Как и прежде, подолгу любил сидеть у калитки частокола, на скамеечке под кленами, откуда видна излучина Оки, Заречье, романтическая усадьба Авчурино. Пароходы по-прежнему шли – утром из Калуги, вечером в Калугу, но теперь в прохождении их не было прежней таинственности и ни Глеб, ни Лиза уже не волновались на балконе и не спорили из-за того, «Дмитрий Донской» идет или «Екатерина». Не ездил Глеб более и в ночное. Зато тургеневский «Фауст» получил для него пейзаж будаковский, тут в саду и беседка, где происходило знаменитое чтение. А «Обрыв» явно за частоколом. Вниз к Оке и сбегала Вера к лохматому Волохову.
И еще вошло нечто в его жизнь: чувство расставания. Будаки проданы! Это последнее здесь лето. Будаки уже не Эдем детства, а что-то действительное и уходящее. Что бы Глеб ни устраивал, чем бы ни занимался, ощущение, что отсюда скоро придется уехать и навсегда, не покидало. Это последний островок прошлого, впереди Калуга, ученье, сурово-беспросветный склад жизни гимназической. Такие и подобные им чувства наплывали особенно, когда он уходил в сад, отворял калитку в частоколе и садился на скамеечку под кленами. Тут сидел подолгу. Обольщал его свет, простор дальних за Окою полей, белеющий в липах дом Авчурина, серебряная излучина реки. Как покойна в вечности своей Ока! Страшно становилось, когда представлял он себе – ни его, ни отца, ни матери, ни даже бабушки Франи не было еще, а Ока уже была. Другие леса, другие поля, никаких Будаков и Авчуриных, а она та же. Если бы тысячи лет назад бросили в нее ветку, она так же плыла бы через всю страну, оказалась бы в том же море, хотя никто страну эту не называл еще Россией, как и море – Каспийским. Но и так же все будет, когда ни Будаков не останется, ни отца и ни матери, ни его, Глеба…
Иногда приезжал Ирошников. Он сам правил бурою, толстой кобылкой в тележке, носил длинный засаленный сюртук при цветной рубашке без галстука, картуз и высокие сапоги. На том самом балконе, откуда Ока виднелась в «окно», мать поила его чаем. Глеб с ненавистью смотрел на волосатые пальцы, которыми Ирошников поддерживал блюдечко, дуя на горячий чай. Ирошников был обыкновенный русский купец с нечесаною бородой, худоватым лицом несколько старинного типа – купец с самоварами, блинами на масленицу, пуховиками и «сырой женщиною» – женой. Арефий, потея и блестя маленькими глазками, подхихикивая, с восторгом глядел на него. Мать держалась вежливо-холодновато. Для Глеба же он был обликом пошлости, врагом-разрушителем Будаков. Он потрагивал в усадьбе каждый угол, прохаживался по дому, делал свои замечания. Не одобрил, что в комнате с венецианским окном, выходившим на лужайку к березовой роще, сушили зерно. Особенно любил ходить среди берез – не так, как Глеб, с ружьецом или просто мечтательно – Ирошников с Арефием пересчитывали березы, ставили на них кресты и отметки: осенью будут сводить, как и старые липы с «окном» на Оку.
Ирошников был человек жизни и своего ремесла. Смешно было бы ему разыгрывать поэта – напрасно презирал его калужский гимназист. И лишь юностью его можно объяснить то, что его раздражало равнодушие Ирошникова к красоте и природе.
А красота иногда и являлась в Будаках в ослепительном своем величии.
Сумрачный августовский вечер. Глеб долго читал, потом вдруг заметил, что яблони сада посветлели и в комнате появился тихий, приятный отблеск. От дневного дождя все было в саду мокро, блестело. Глеб встал, отложил Гончарова, прошел сенцами в коридор. Дверь в пустую комнату полуотворена. Он заглянул. На полу тускло поблескивает неровным слоем зерно, тяжкое, слегка глянцевитое. Только что отворили венецианское окно. Еще не разошелся густой, запахом зерна, затхлостью напоенный воздух. А снаружи втекало вечернее благоухание. На фоне берез над лужайкою летели мелкие воздушные капельки – уже не дождь, а сребристый сев, прохваченный нежностью вечернего солнца. Вся комната с венецианским окном, сушившейся рожью, налилась золотом успокоившейся природы и для последнего ее торжества в неведомых небесных изменениях вдруг восстала ярчайшая радуга. Но как близко! Конец ее – Глебу показалось – уперся в лужайку пред домом, у флигелька Арефия, дальше невесомая павлинохвостая арка возносилась высоко над березами в серо-зеленое небо.
Глеб сел на подоконник. Какая тишина! И какой мир. Какой отблеск неземной.
«Господи, хорошо нам здесь быть… Сделаем здесь три кущи…» Глеб не подумал, да и не посмел бы подумать так. Но откровения Природы не мог не ощутить.
В зале Лиза играла. Глеб сидел, пока радуга не померкла, потом встал и направился к сестре. И она, и ее звуки – это было свое, союзное. Так и надо, хорошо, пусть играет. Он вошел к ней не без робости. Она доигрывала, взяла несколько мягких заключительных аккордов, подняла на него глаза. В них и трепетало, и сияло нечто – всегда являлось оно в ней после музыки. Глеб скромно сел.
– Ты… что?
– Ничего. Я на радугу смотрел из той комнаты.
– Да, радуга. И прояснило. То-то на нотах у меня отсвет. Хороший вечер?
– Замечательный.
Лиза сидела худенькая, с острым лицом и большими глазами, с челкой на лбу, гребенкою сзади, силуэт ее выделялся на фоне яблонь в саду. Легкий туман там курился.
– Жаль Будаков! – сказала она. – Я очень их любила. Подумай, последние наши дни здесь, а потом Ирошников все испортит и разорит.
Глеб вздохнул. Он совсем также чувствовал. Ему нечего было прибавить к словам сестры.
За несколько дней до отъезда пришло от отца известие – он получает, наконец, место в Нижнегородской губернии, где-то за Муромом, управлять заводами, и на лучших даже условиях, чем прежде. Одним словом, все как следует. Глеб был рад за отца. Кирпичи и вагоны – все по боку, отец возвращается ко всегдашнему своему делу.
Менялись теперь и калужские планы. Мать уехала вперед в город, искать квартиру. Глеб и Лиза остались одни в Будаках, опаздывая в гимназию, но чтобы попасть уже на новое устроение.
Будаки же явно кончались. Ирошников хозяйничал без всякого стеснения – рубил березовую рощу, сносил людскую, вывозил в Калугу обстановку. Дом голел, пустел. Лиза с Глебом со дня на день ждали письма, чтобы ехать. Здесь перечитали уже все книжки. Длинные вечера осенние коротали во флигельке Арефия. Он подхихикивал, масляно улыбался, к каждому слову прибавлял: «Когда я служил у князя Курцевича…» Загадочный этот князь надоел Глебу и Лизе безмерно. Они отводили душу, сражаясь в свои козыри.
Письмо, наконец, пришло. Мать сняла квартиру на Спасо-Жировской – Глеб не знал даже, где в Калуге такая улица – и звала их немедленно выезжать.
Частью и грустно было, частью и радостно. Будаков жаль. Но Будаков райских дней детства все равно уже нет, Будаки же разоряемые, с Ирошниковым и Арефием, в слякоти осенней… – лучше уж совсем новое!
К этому новому вез их в пасмурный день высланный матерью из Калуги извозчик. У пролетки верх поднят. Под его темным укрытием Глеб с Лизой. У них сухо. По кожаному фартуку постукивают капли, собираясь в лужицы. Перебегают на толчках справа налево, иной раз выплескиваются. По спине кучера, в глянцевитом кожане, бегут струйки. Твердая шляпа его, с расширением кверху, вся черна, мокра.
Спускаясь в глубокий овраг Степанов камень, подымаясь из него шагом по осклизлой дороге, в сизой сетке дождя, завешивающей леса, ложочки и бугры, хлюпая мимо купоросной зелени озимых или у размокшей пахоты с черно-поблескивающими грачами, приближались они к городу. Если бы Глеб был старше, то под сумрачным своим шатром мог бы пофилософствовать и так, что не есть ли жизнь ряд путешествий, укладываний и раскладываний, отъездов, приездов, меж которыми и стелется ткань ее.
Но он вовсе об этом не думал. После краткой меланхолии отъезда, за последними березками Будаков воображение стремилось уж вперед. Хоть еще юн был, но как и взрослому хотелось заглянуть вперед, по крайности, представить себе зиму в городе, квартиру на улице со странным наименованием Спасо-Жировка…
Часа через полтора дождь перестал. Лиза просила опустить верх. И когда извозчик, неохотно слезший с козел, сдвинул с боков этого верха шарниры, он беззвучно упал – и открылся свет Божий. Облака еще хмуро ползли. Но уже разорванные и повыше. Меж ними проталины курились. Вот-вот и полоснет светом.
Вокруг все мокро, черно. И как пахнет! Широко выступила за рекою Калуга, по нагорному берегу расстилаясь садами, домами, куполами тридцати шести своих церквей – над ними ярко белеет сейчас Собор, на фоне тучи полуушедшей. Все после дождя остро, четко, влажно. Рядом городской сад с пестреньким рестораном «Кукушкой», огромный губернаторский дом, где некогда Смирнова принимала Гоголя. Еще дальше, за Одигитриевской и древним жилищем Марины Мнишек, обрывается город к речке Ячейке, притоку Оки. Там в парке тоже губернаторская дача, и тоже там жил Гоголь. Гоголь видел за лугами этой Ячейки темно синеющий знаменитый бор, что идет к Полотняному Заводу Гончаровых.
Выехали на Перемышльское шоссе. Мимо берез столетних медленно спускались к Оке, когда солнце предвечернее прорвалось прохладным лучом – Калуга заблистала зеленью, белизной колоколен, вся залилась светом плавным.
В Соборе наверху звонили – всенощная. Шагом переезжали Глеб с Лизой понтонный мост. Стекла сияли на горе. Заливающий, пышно-плавный лился колокол, ему начали вторить и меньшие, в других церквах.
Глеб взглянул на «Владимира Святого», мирно у пристани стоявшего. Чувство, что вот опять он въезжает в эту Калугу, где гимназия и директор и вся серость жизни, неприятно стеснило сердце. Он обернулся к сестре.
– А нам не попадет, что опаздываем в гимназию?
Лиза скорчила обезьянью мордочку, стала похожа на смешную старушку.
– О, Господи Батюшка… всегда чего-нибудь выдумает.
– Ничего не выдумываю.
– Всегда выдумывает и всего боится.
Лиза стрельнула ловко. Глеб действительно склонен был видеть все гимназическое безнадежно, воображать разные страхи.
Он надулся. И с преувеличенным равнодушием отнесся к вопросу Лизе: где, собственно, эта Спасо-Жировка?
Извозчик показал рукой направо – в горку, мимо Архиерейского подворья: «Там и будет самая Жировка».
Глебу не особенно нравилось это название – он предпочел бы более поэтическое. Но что поделать. Вскарабкавшись шажком на подъем, захватив угол базарной площади, извозчик действительно повез их направо, миновал сонное, в садах, Архиерейское подворье, пересек Никольскую. Обернулся опять к Лизе.
– Вот она эта самая и есть Жировка.
Улица довольно просторная и чистая. В начале ее церковь. Спокойные купеческие дома. Через несколько минут, уже начав опять спускаться под гору, они остановились у особняка с воротами, калиткою во двор. Второй этаж его деревянный, над нижним каменным. Нечто солидно-мещанское. Ворота отворены. Извозчик въехал во двор, слегка заросший сквозь мелкий булыжник травкою. Сараи, амбары, службы. Из конюшни Петька выводил Скромную.
Мать улыбалась с крыльца.
– Ну вот, сыночка, и новое наше жилье.
Жилье предназначалось и для Лизы, обращалась же мать лишь к Глебу. Так принято было.
По деревянной лестнице, свежевыкрашенной, пахнувшей краской, с серо-красным половичком поднялись наверх – хотя улица и неблагозвучна, но квартира понравилась и Глебу, и Лизе. Пять больших комнат, простор, свет, все отделано заново, свеженькие обои, пахнущие еще краскою полы с половичками – если ступить прямо на половицу, останется туманно-потный след. Длинный фасад во двор – вдали, за крышами под горой блестит дуга Оки. Это Глеба тоже порадовало. Он высунулся даже в окно – оттуда приехали, там Будаки.
Короткий же фасад дома – на улицу: она спускается здесь вниз, направо, к зданию тюрьмы и все той же Оке.
– Мне очень нравится, – говорила Лиза.
– Это твоя комната, а это сыночкина.
Глеб не удивился, что его комната лучше Лизиной и той, где будет жить мать: он просто этого и не заметил, а заметил бы, тоже не поинтересовался бы.
Так и должно быть. Это естественно.
Глеб сразу довольно приятно почувствовал себя здесь. Свет часто поставленных окон, дальний и просторный вид, запах краски, ощущение чистоты, новизны… – все хорошо.
Ужинали под большой висячей лампой. После Будаков казалась она ослепительной. Мать рассказывала, что отец уже в Илеве, далеко, на границе Тамбовской и Нижегородской губерний. Там большие заводы. Все запущено, в беспорядке, ему много работы. На другом заводе, Балыковском, он должен перестроить домну и переделать дом. Они туда и переедут Но это еще не скоро. Зиму мать проведет в Калуге.
Глебу это понравилось. Нравилось и то, что теперь поселится с ними кузина Соня-Собачка.
* * *
Церковь в начале улицы была во имя Спаса, местность же, видимо, издавна называлась Жировской, и хоть название это скорее веселое – как будто бы тут «жируют» – ничего особенно веселого в Спасо-Жировке не было. Обыкновенная улица русского города, вниз спускающаяся к тюрьме, Оке.
Где-то внизу и кожевенные заводы – иногда в щегольской пролетке, парою на пристяжку, спускался туда их владелец, розовый молодой купчик Каштанов, сероглазый, нарядный. Мещанские девушки заглядывались на него, а то и Лиза с Собачкой хихикали из окна. Вот и все развлечение!
На той стороне улицы, окна в окна с Глебовой комнатой совсем мрачный дом, двухэтажный, тяжелый, вечерами темный – разве в кухне огонек. Ворота на замке. Во дворе склады, амбары. Подводы подъезжали к воротам, те отворялись, опять захлопывались, а потом те же подводы с грузом пеньки, жмыхов, выбирались обратно. И опять тишина! Или выедут в тележке, на дородной кобыле и обитатели: два брата, безусые и безбородые, с желтовато-одутловатыми лицами.
Но это все было лишь окружение. И Глеб, и мать, и Лиза, Соня жили своею жизнью, в светлой квартире, как на острове, со Спасо-Жировкой не сливались (мать называла ее, даже, слегка с усмешкой, на французский манер: Спасс-на-Жироннь).
Каждое утро Петька подавал к подъезду Скромную, в пролетке, на резиновых шинах. Глеб, полный уроками, Лиза и Соня, кое-как разместившись, катили в гимназию. Глеба Петька ссаживал на углу Никитской, а девиц вез в их учреждение. Иногда, отстегивая фартук пролетки, слегка им подмигивал – Петька и раньше был развязен, а попав в Калугу, вполне стал считать себя львом столичным.
Гимназические дела Глеба оказались неплохи: за опоздание не корили (мать заранее все уладила), пропущенное он нагнал быстро. А вообще в этом году, плавно изо дня в день катившемся, чувствовал он себя несколько по-иному. Гимназия, как и раньше, нерадостна. Та же тяжелая скука, недруг-директор, унылые учителя и надзиратели. Но все это не совсем так принималось, как раньше. Глеб точно бы крепче стоял на ногах. То, что у них в Калуге хорошая квартира и почти беговая лошадь, на которой он ездит в гимназию, что он хорошо одет, знаком с губернатором, что его дядя всему городу известный врач Красавец, что он учится отлично, подымало его в собственных глазах. Не такой уж он затерянный, бесправный…
Разумеется, всегда может случиться неприятность в гимназии, все-таки, когда выходил он после уроков на подъезд и там ждала своя лошадь, свой кучер, то не только швейцар, но и выходивший учитель смотрел на него благосклоннее. Приятно было и вызывать зависть товарищей – иногда он подвозил их: рыженького Докина, хромого Каверина. Раз даже предложил вышедшему с ним математику завезти его – математик поблагодарил и согласился.
Так шли обыденные дни юного гимназиста Глеба, а дела страны, его вскормившей, шли своим, им назначенным ходом.
Раз, в октябре утром, Глеб, как всегда, слез у гимназии с пролетки, думая, вызовет ли его немец. Петька с Лизой и Соней-Собачкой покатили дальше. Медленно раздевшись внизу, подымался он к себе в класс. Было прохладно, серо, окна открыты. По коридору дуло.
Его догнал Докин. Они поздоровались.
– А ты знаешь новость? Государь скончался!
– Ну-у…
– Ей-Богу правда.
Глеб не знал, что сказать и вообще, как себя держать. Государь скончался… это, конечно, очень плохо…
– Наверно, уроков не будет.
Красные руки Горденки, как всегда, вылезали из рукавов мундирчика. Он имел вид самоуверенный.
– На панихиду погонят вниз. Рыженький Докин не согласился.
– Не может быть, чтобы на весь день отпустили. Алгебра пропадет, конечно, и то слава Богу. А немецкий я все-таки буду готовить.
Глеб был несколько смущен, но взволнован ли? Конечно, нечто случилось… но – он совсем не знал этого Императора. Видел лишь на портретах, отношения к нему не имел. А немецкие глаголы… Да, отменят нынче немецкий, или нет?
Так же смотрели и товарищи. Перед первым уроком в классе стоял шум, как обычно. Дежурный не успевал стирать появлявшиеся на аспидной доске надписи, Иванов второй гонялся за Павловым Петром, а хромой Каверин, заткнув уши руками, вслух зубрил над своей партой латинскую грамматику. Концерт развивался нормально – чтобы с приходом учителя вдруг превратиться в читаемую дежурным молитву, до которой тоже никому дела не было – в особенности учителю.
Сегодня все вышло иначе. По коридору проходил полный, слегка обрюзгший, со спутанной бородкой и карими приятными глазами учитель русского языка Петр Кузьмич.
Этот Петр Кузьмич, сын сельского священника, учился некогда в Московском университете, был обитателем Козих и Бронных, слушал Стороженок и Ключевских, ходил в театр на галерку. С друзьями не раз пел «Гаудеамус». На Татьяну плакал пьяными слезами, когда лохматый литератор, вскочив на стол в ресторане «Петергоф», звал желающих «вперед на бой, в борьбу со тьмой». Кончив университет, засел в Калуге. На бой уже не звал, но рассказывал о былинах, «Слове о полку Игореве», задавал сочинения «О значении поэзии Пушкина в русской литературе», ставил отметки. В городе играл в винт и выпивал. Обычно был тих, невесел. Но иногда вдруг приходил в ярость.
Сейчас Петр Кузьмич приостановился, а потом отворил стеклянную дверь и грузным туловищем на коротких ногах с высоко подтянутыми штанами ввалился в класс.
– Что это за шум?
Он спросил громко, с недовольным оттенком, но ничего особенного в вопросе не было. Именно потому, и еще потому, что его не боялись (скорее даже любили), шум нисколько не смолк: просто не обратили внимание.
Но сегодня Петр Кузьмич был особенный. Уже красный, уже взлохмаченный, вдруг он побагровел, налился кровью.
– Тише! Слышите вы, тишина! Молчать! Он орал уже как исступленный.
– Государь скончался, а они… они… молчать! У России горе, а они… взрослые, должны уже понимать! Император умер… Императора нет!
Он подскочил к первой парте, хлопнул пухлой ладонью:
– Траур! Поняли, траур, а они…
Петр Кузьмич задохнулся. Дрожащей коротковатой рукой вытащил из заднего кармана вицмундира платок, отер им лицо, глаза, бросился вон из класса. С порога успел снова крикнуть:
– Молчать!
Глеб ясно видел на глазах его слезы. Он был с ним в добрых отношениях, Петр Кузьмич ему даже нравился. Некоторое смущение он чувствовал и сейчас, некую за класс неловкость. Но все-таки… – Петр Кузьмич их изругал, в том числе и его, Глеба. Это слишком. Шум был обычный, к. смерти Императора это отношения не имело. Конечно, печально, что он умер. Но плакать, убиваться из-за этого Глеб не мог. Таких чувств просто в нем не было. Он не верил, что они есть у других.
Явился Криворотый, все потекло как должно. Криворотый уныло побалтывал рукою за спиной под фалдой вицмундира – сейчас в актовом зале будет панихида. Построиться попарно, «не производя ненужного шума», спуститься вниз.
И надзиратель поплелся в следующий класс, отдавать то же приказанье. А на доске тотчас появился мелом изображенный леонардовский урод с пояснением внизу: «Криворотый».
Стирать некогда уже было дежурному – спешно строились и, сталкиваясь на лестницах и поворотах с другими классами, шли к актовому залу. Гимназия тронулась – двигалась и маршировала по коридорам, подымая пыль. Актовый зал наполнялся. Первые линии – малыши, потом все выше и старше, кончая восьмиклассниками в юношеских угрях. Ряды обращены к портрету в золотой раме, задернутому крепом – в глубине залы. Появился директор, инспектор, учителя. О. Остроумов в золотых очках своих, траурной ризе, дьякон с кадилом. Синеватый дымок вьется в зале.
Начальство толпится у портрета. Все несколько взволнованны: дело серьезное. Петр Кузьмич красный, опухший, с заплаканными глазами, едва сводит на животе короткие руки.
Директор должен говорить.
– Всемилостивейший Государь, царь-миротворец, благоверный Император Александр III скончался…
Директор все такой же высокий, худой, с костлявым кадыком. Безводный голос, седая шерсть из-под щек, бесцветные глаза… А ведь усопший был не только Император (некто сошедший с портретов всех присутственных мест), но и живой человек, Александр Александрович Романов. При жизни кого-то любил, а быть может, и сейчас его любят, кто-то оплакивает живым сердцем.
И наверно оплакивали – только не эти несколько сот детей, отроков, юношей, взрослых и стариков, слушавших унылого старика. За его речью шла панихида. Но и панихида немела у о. Остроумова. Рядом с Глебом возникал и все не мог по-настоящему возникнуть мир иной. Батюшка Остроумов произносил все слова, как надо, голосом круглым, стараясь быть «благолепным». Глеб смотрел равнодушно на его золотые очки, неравнодушно на серо-седую шерсть директорскую, полную руку Пятеркина, оправлявшего фалду вицмундира. Пахло ладаном. Дьякон возглашал. Гимназисты стояли сумрачными, безразличными рядами.
В этот день приблизительно то же происходило и по всей России. Среди министров в лентах, архиереев с вялыми руками, чиновников, купцов и чуек, мужиков страны гигантской кое-где плакал Петр Кузьмич. Министры же и архиереи не плакали, они знали отлично, как и директор гимназии, как инспектор и законоучитель о. Остроумов, что умер один Император, на его место вступит другой, столь же благоверный, все будет катиться, идти тем же ходом: повышения и отставки, ордена, пенсии и парады, молебны.
И как будто они были правы. В эти самые дни на тот же, уже трехсотлетний, престол Романовых вступал Император новый, но такой, как и надлежало быть – притом и моложе, и гораздо изящнее прежнего, почти обаятельный, с русой своей бородкою, мягким сбоку пробором, глазами прекрасными – государь тихий, благочестивый, богомольный… чего же еще ждать России?
К удовольствию гимназистов, уроков в этот день вовсе не было: гимназию распустили. Так как все кончилось раньше, чем полагалось, Петька не выехал за Глебом и тот пешком шел к себе на Жировку. День был серый – милый безответный день осенний города Калуги. С кленов за забором (там жил учитель-француз Бедо) падали желто-красные листья, последние. Глеб представил себе, как лежит в гробу Император… и уже никогда не встанет. Никогда! Страшное слово.
Глеб шел и пришел, и на своей Спасо-Жировке первый сообщил о событии. Жизнь от этого не поколебалась. Мать была так же покойна, хозяйничала, владела своим мирком. Глеб так же должен был готовить уроки. Лиза и Соня-Собачка так же перемигивались с гимназистами. Если этот день и внес какую-то ноту в сердце гимназиста города Калуги, то последующие уже все замели.
Глеб, как и директор, учителя, гимназисты, надел траур: на рукаве серой курточки черная повязка. На рукаве светло-серой шинели повязка такая же. Их водили еще и в Собор. Они слушали и у себя вновь панихиды о почившем и молебны о благоденствии нового, юного государя, о котором знали только то, что у него чудесные глаза и вид задумчивый: о том, что он родился в день св. Иова Многострадального, никто не вспомнил. Художники, фотографы приготовляли новые портреты. Сам учитель рисования (и чистописания) Петров взялся за кисти: надо было украсить актовый зал молодым Императором.
Тело же Императора прежнего, со всем пышным церемониалом Империи, в траурном поезде, с литиями, караулами на вокзалах, губернаторами, генералами, солдатами, вдоль линии встреч пронеслось через всю Россию, с юга на север, чтобы упокоиться в Петербурге меж своими.
* * *
Когда выпал снег, Петька стал запрягать Скромную в нарядные санки, а Глеб надел зимнее пальто с отличным воротником. На морозе подымал его, катил в санках своих совсем важно.
Петька дожидался Глеба в холодные дни у подъезда гимназии и порядочно мерз (о чем Глеб, садясь в санки, совершенно не думал). Как и другие кучера и извозчики, Петька хлопал руками в рукавицах, соскакивал с козел и по скрипучему снегу пританцовывал, а когда барчук садился, то Петькино главное развлечение было катить по Никольской вовсю. Глебу тоже это нравилось. Скромная была караковая полукровка с отличным ходом, выезжал ее сам отец и, поручая в Калугу Петьке, сказал: «Если ты, анафема, приучишь ее сбиваться, я тебе ноги повыдергаю». Петька с детских лет знал отца, почитал его и боялся, да и сам любил езду, так что завет хранил: Скромная, по-своему благородному ходу, без срывов и скандального скока, резко выделялась среди лошадей калужских лихачей – запаленных, задерганных, часто с больными ногами.
Петька трогал ее осторожно, не волнуя вожжами. Скромная брала легко, что-то от балерины было в ее пружинистых, сухих ногах. Но скоро начинала разгораться, наддавать: частью игра молодых ее сил, в особенности же возбуждало, если впереди она видела лошадь. Тут у ней и у Петьки совпадали желания, ни он, ни она не выносили, чтобы кто-нибудь шел быстрее. И когда остроморозный воздух жарче начинал жечь щеки Глеба, а в передок саней как картечью садило из-под копыт Скромной, значит, появился противник – с ним надо сразиться. Иногда это была раскормленная пара в дышло купца Терехина с такой же раскормленною купчихой в санях. Тут победа давалась легко. Оголтелый лихач на кровной, но испорченной лошади пытался сопротивляться – напрасно (один лишь Карга, старый владелец целого заведения извозчицкого, ездивший еще и сам, обгонял иногда Петьку и невозмутимостью своею приводил его в ярость).
Глеб любил эти бега. Дух захватывало. Перед глазами, из-за Петькиной спины мелькал широкий и блестящий зад Скромной. Непрерывный пулемет бил в передок. Петька то подбирал Скромную на вожжах, «посылая» ее, то на ухабах, как наездник пред препятствием, совсем выпускал вольно и санки легко бухали, вздымая снежно-серебряную пыль – дальше неслись, обдавая Петьку и Глеба снежно-льдисто-игольчатой вьюгой. Как это Петьке глаза не залепит? Но он с козел весь устремляется вперед, особенно когда голова Скромной поравняется с вражескими санями. Дома вокруг летят, но соседние сани недвижны, одновременно те и другие ухают по ухабам и продолжают стоять… – а потом медленно проплывают мимо, назад, тоже в облаке пыли серебряной, вот и лошадиное бульканье брюхом совсем рядом, тяжелый храп, но и это отходит, обогнали.
Так обычно удалялась назад мимо Глеба енотовая шуба, меховая шапка, очки залепленные, или дамские меха.
Но особенным триумфом Петьки оказался случай перед Рождеством, когда сразу же за гимназией погнался он по Никольской за парными санями с синею сеткой. Рысаки шли резво, хотя и солидно. Толстый кучер мало был расположен к состязанию. Все же Скромной пришлось поработать, прежде чем перед Глебом, как в замедленном синема, поползли слева сани и в них человек в форменной фуражке, с бакенбардами над бобрами шинели. Бог ты мой, губернатор! Глеб вытянулся и поклонился. Губернатор не проявил признаков жизни. Вороные рысаки замедлили ход и совсем отстали.
Когда Скромная, перейдя на шаг, сворачивала на Спасо-Жировку, Петька обернул к Глебу обледенелое, весело-возбужденное лицо.
– Важно наша кобыла ходит!
Глеб с притворным равнодушием спросил:
– Знаешь, кто это такой был?
– А откуда мне знать? Лошади богатые, только и всего.
– Он к нам на завод приезжал, когда я был еще маленький. Я с ним знаком. Это губернатор.
Петька ахнул. Губернатор! А можно его обгонять? Он спросил, уже более серьезно:
– Нам за это ничего не будет?
Глеб пожал «почти офицерскими» плечами гимназического своего пальто с таким видом, что на дурацкий вопрос и отвечать нечего.
Лиза и Соня-Собачка были уже дома – их уроки кончились нынче раньше. Обедали вместе, под председательством матери, в светлой столовой с видом на Оку. Глеб рассказал, как они с Петькой обогнали губернатора.
Соня-Собачка подмигнула Лизе и спросила, не без лукавства в веселом глазе:
– Глеб, Глеб, этот губернатор, кажется, твой приятель?
Соне шел уже семнадцатый год, она становилась плотной и милой девушкой с наливными щеками, такая же пышка, как была в детстве. И так же, как и в детстве (да и Лиза тоже), любила Глеба дразнить.
– Конечно, я его знаю, он у нас целый день провел.
– Ты-то его знаешь, – сказала Лиза, – а он тебя, наверно, принял за полицмейстера. Когда Глеб садится в санки, подымает воротник, на шинели пуговицы блестят, плечи кверху…
Она подняла плечи, изобразила надутое лицо.
– Глеб, Глеб, – серьезно сказала Собачка, – ты знаешь, когда полицмейстер встречает губернатора, он должен встать в санях. – Собачка поднялась из-за стола, приложила ладонь ребром к виску, – и вот так, знаешь, скакать, скакать впереди, спиной к кучеру, лицом к губернатору… Вот, как я к тете… она губернатор, а ты кучер.
Глеб обозлился.
– Да какой я полицмейстер! Что вы там болтаете! Лиза и Соня захохотали хором, повалились на стол.
– Полицмейстер! Полицмейстер! Мать вмешалась.
– Ну какие вы глупости говорите, просто стыдно слушать. А уже взрослые девушки.
И чтобы вызволить сыночку, стала расспрашивать его о гимназии, уроках.
Глеб отвечал хмуро. Был и вообще обидчив, а тут еще Лиза коснулась неприятного: губернатор-то все-таки не ответил на его приветствие.
После обеда девицы отправились в свою комнату, все что-то хохотали. Уроков у них было меньше, чем у Глеба. Сегодня они собирались на каток.
Глеб тоже направился к себе, в некотором раздражении. Мысленно обозвал их дурами. «Полицмейстер! Что тут остроумного? Из-за всякой чепухи хохочут!..»
Но по-настоящему сердиться не мог. Слишком все было для него и в Лизе, и в Собачке свое, привычное и родное.
На столе лежали тетрадки, книги, учебники. Стояла чернильница. Но не было ни рисунков, ни акварельных красок. Глеб довольно равнодушно занялся своими гимназическими делами, позабыл о «девчонках» за алгеброй и греческим. Он работал спокойно, без увлечения. Должен учиться, и учится. Это не так легко, труднее, чем в прошлом году, но идет ровно, налаженно. Ни на какого полицмейстера, даже в нарядной своей шинели, он не похож. Но и на художника, мечтателя уединенного тоже. Ему здесь неплохо, но как-то серо, бесцветно. Идут дни за днями, ничего не дают.
Стало смеркаться. Не хотелось зажигать лампу, Глеб бросил занятия, придвинул к окну стул, облокотившись о подоконник, стал рассматривать улицу. Двухэтажный дом на той стороне всегда тянул его к себе, чувством несколько странным. Тишина, сумрачность его, безбородые обитатели… Глеб слышал от Петьки, что живут там скопцы. Как деревенский житель он многое знал о животных, но людей таких видел впервые. Они вызывали в нем таинственное ощущение. И жуткость.
В соседней комнате затопили печь. Потянуло дымком растопок. Огонь приятно загудел. Над Спасо-Жировкой обозначилась зимняя луна – свет ее смешивался еще с уходившим закатом и давал слабо-златистые, слегка зеленеющие тени по улице. Ворота на той стороне растворились бесшумно, тяжеловесная лошадь вывезла санки, где сидели два странных существа. Ворота закрылись, безбородый кучер взял направо в гору, медленно повез своих желтых, безбородых господ.
Призрачно, как и всегда, было для Глеба их появление, что-то сосало сердце, но продолжалось это недолго – не мгновение ли? И опять тишина, начинающий млеть в свете лунном дом скопцов, маленькие вдавленные окна, амбары в глубине, а там пенька, жмыхи.
Вышла Соня-Собачка – в шапочке, меховой кофточке, с коньками под мышкой.
– Глеб, Глеб, ты тут в одиночестве меринков наших рассматриваешь? Плюнь на них, фу, дрянь…
Соня подошла к нему сзади, обняла, поцеловала в затылок.
– Мы с Лизой идем на каток, а ты на меня не сердись, это ведь мы с Лизой так зря болтаем… Ты не подумай.
Глеб повернул к ней лицо, в нем не было ничего сердитого, скорей задумчивое.
– Важный мой, такой важный… всегда один, со своими книжками… Ну, не сердись, – говорила Собачка и теплыми своими губами поцеловала его в лоб, и в щеки, в губы.
Глеб засмеялся.
– Я ничего и не сержусь.
Да, Собачка мало была похожа на соседей. Теплотой, силой, женской приязнью и самой жизнию от нее пахнуло. И шапочка, полные наливные щеки, коньки под мышкой, муфта, все было одно.
– То-то вот и не сержусь… Приходи лучше к нам на каток, чем тут одному сидеть.
– Да у меня уроки…
– Ну, как знаешь.
И опять поцеловав его, шепнув, смеясь: «Не удостоишь!», выбежала.
А Глеб встал, потянулся. Не то чтобы «не удостоивал», на каток, правда, сейчас не хотелось. Но не хотелось и зажигать лампу, готовить уроки. Он прошел в гостиную, оттуда в столовую. Никого. Мать, очевидно, тоже ушла. Он совсем один. Глебу это понравилось. Он несколько раз молча прошелся по комнатам взад-вперед. Вдалеке снежной лентой виднелась Ока, в зеленоватом сиянии луны. Над Окой щеткою леса по взгорью, над лесами крупная звезда. Там, в той же стороне – но как далеко! – и отец, тоже в лесах, на заводах, в Илеве, тоже что-то устраивает.
Глеб лег в гостиной на диван пестрого турецкого узора. Справа веяло теплым золотом печки – она разгоралась, дверца ее открыта. А перед глазами, сквозь оконное стекло, видел он кусок неба, звезду, медленно протекавшую к переплету рамы.
Глеб несколько был взволнован, возбужден. И уже этот лунный вечер не походил на обычные его будни. Лежа он думал, все думал, воображение играло. Что же с ним будет дальше? Что за жизнь предстоит?
Вот отец инженер, Соня-Собачка скоро кончит гимназию и в Москву на фельдшерские, Лиза в Консерваторию. А он? Так вот все и читать Цезаря, зубрить неправильные глаголы? Он ничего не видел для себя впереди, и это его страшило. Губернатор управляет, дядюшка Красавец лечит, отец возится со своими домнами… Единственное, что Глебу нравилось – рисовать, но разве это дело? А ведь и он станет взрослым, надо же делать что-нибудь? И вообще, какой он будет взрослый? Женится… – что такое жена? Это не так еще его занимало, но главное, что такое он сам, с бородой, усами, когда ему будет тридцать лет? Глебу именно так представлялось, как совсем не бывает: в сорок лет он старик, счастья нет, он где-то безвестно и одиноко служит… Но все выходило слишком уж туманно.
Печь сильно прогорела. Дрова обратились в истлевшую златистую ткань, объятую легкой вязью пламени, голубоватых ядовитых вспышек – все это медленно, мелодически гудело.
Глеб повернулся на бок, глядел на угасающий огонь, где более и больше появлялось красного рдения углей и синто над ними, будто колдовского веянья.
Будущее не открывалось. Но оттенок печали лежал на нем.
* * *
В будущее не проникал не только взор гимназиста Глеба, но ничего не знали о нем и люди старше его. Все казалось таким же в новом царствовании, как и в прежнем. Министры и чиновники вполне могли считать себя правыми – Государство Российское медленно катилось все по тем же рельсам, будто тяжело груженный всяким добром поезд. И не только Государство, но и общество и вся жизнь. По-заведенному жил и город Калуга. Правда, к Новому году сменили губернатора. Прислали нового. Новый был совершенно такой же, как старый, только княжеского рода, телом худее, острее и суше профилем. Он так же катал на рысаках, но имел более военный вид. На улице гимназисты тоже должны были ему кланяться.
Так же жил и архиерей на Подворье своем, недалеко от Глеба. Ездил в карете в Собор на службы, принимал сельских батюшек, подписывал консисторские бумаги, посещал семинарию, а иногда и Глебову гимназию. В гимназии опасался его лишь о. Остроумов. Архиерей был человек благодушный, еще не старый, от него пахло сладковато-ладанным, голубые его глаза часто увлажнялись. Рука пухлая и мучнистая. Он писал и стихи, довольно-таки назидательные. Книжечку его произведений раздавали гимназистам для «духовного окормления». Брали, конечно, все, но никто не читал.
А между тем, в одном из стихотворений Владыка живописно изобразил прошлогоднюю засуху. На население она подействовала так:
Грустно стало земледельцам, И богатым всем владельцам Общая печаль была.Губернатор и архиерей – это вершины. Ниже их холмы и холмики и равнина – дворяне, купцы, чиновники, мещане: тоже жили они обыденно. Служба, дела, сплетни, романы, картишки, водочка. Действовал и театр. Панормов-Сокольский изображал Уриэля Акосту, играли «Грозу», ставили «Цену жизни». По воскресеньям «классические» утренники для гимназистов. Приезжал на гастроли полный, бритый Рейзенауэр. Колонный зал Дворянского собрания оглашался бурным роялем. С восхищением, относясь почти как к волшебству, слушал Глеб Бетховенов и Шопенов, излетавших из-под его рук.
Красавец так же все летал на лихачах в своих енотах, намокал после винта у Терехиных или у вице-губернатора, сидел в первом ряду театра с видом графа Потоцкого или князя Радзивилла, бывал на маскарадах, заводя интрижку с недорогой маской.
Заезжал и на Спасо-Жировку. В светлой столовой пил с матерью чай с блюдечка, дуя на него, сильно выпячивая губы – а лоб морщил многозначительно. Тоненькие его ножки были в тех же лакированных ботинках.
– Дорогуша, – обращался к матери, – мне нравится здесь у вас, на этой, как ты называешь…? Спасс-на-Жироннь… Улица солидная, тут у меня есть хорошие пациенты, поближе к Никольской, некие Кожемякины. У них мучной лабаз… Квартира у вас просторная. Как всегда, у тебя, душечка, образцовый порядок… Что же, барышни подрастают, юноша учится, все отлично… об одном жалею: дядя Коля далеко, мы бы с ним тут у Кулона нравственно встряхнулись.
И поцеловав матери на прощанье руку, Красавец катил далее, по медицинским, выпивательным или любовным делам.
Красавец тоже вполне был прав: и тут, в Глебовой семье, под началом матери, все шло естественно и обычно, устойчиво и благополучно.
Одно стала замечать за последнее время мать: Глеб переутомляется. Слишком много работы, кроме латыни и всего иного донимает еще греческий, над которым столько надо мучиться.
Соня-Собачка тоже его жалела.
– Ну на что тебе все эти глаголы? Что ты там все зубришь? Ведь никто на этом языке теперь не говорит?
– «Апетметесан тас кефалас», – отвечал Глеб. – Винительный отношения. «Апетметесан» – страдательный залог от «апотемно» – обрубаю. «Были обрублены по отношению к своим головам».
– Как? Как? «Обрублены по отношению…»
– У нас так требуют. Чтобы было точно.
– Глеб, Глеб, эти твои греки были ужасные дураки. Брось, поедем лучше кататься. И-и-го-го!
Собачка изображала коня, ржала, рыла копытом в нетерпении землю. Глеб, хоть и порядочный уже гимназист, но по детской привычке уверенно вспрыгивал на могучую спину Сони, она галопом неслась вокруг всей квартиры, снова ржала, иногда брыкалась и пыталась сбросить седока – чаще, впрочем, делала это вблизи дивана, куда, в конце концов, падала и сама. Глебу возня с Собачкой нравилась гораздо больше, чем греческие уроки, но и вообще ему приходило иногда в голову – нужно ли все это? Усилия, чтобы одолеть неправильный глагол «хистэми», или еще что другое? А ведь так – до самого конца гимназии, и все труднее. Он хуже стал учиться. Что делать дальше, как найти смысл в том, что казалось бессмысленным, не знал. Мать во многом ему сочувствовала. Для чего нужно «хистэми», так же не могла бы объяснить, как и Глеб. Она написала отцу.
Отец всегда считал, что учение дело пустяшное. А тем более древние языки… Глебу он посочувствовал и прибавил, что, может быть, и напрасно не отдали его в свое время в реальное – отец видел в Глебе будущего инженера, продолжателя своего дела. К высшим же техническим заведениям лучше готовит реальное, чем гимназия.
Все-таки, вряд ли что изменилось бы, если б не случай.
После Рождества, собираясь раз утром в гимназию, Глеб вдруг сел на пестрый турецкий диван, сказал полузадумчиво, полусмущенно:
– Кажется, я захворал.
И не ошибся. Скромная стояла уже у подъезда – морозным утром, при розовевшем солнце и намерзших узорах на окнах Петька помчал в гимназию Лизу и Соню-Собачку. Глеб остался дома. Позвали Красавца.
Красавец явился во второй половине дня, в передней величественно заправил назад редкие волосы, сбившиеся под шапкой – и любовался собою в зеркале сколько хотел. Потом, морщась и загадочно выпячивая вперед губы, с видом полной торжественности проследовал в комнату Глеба.
Тщательно рассматривал ему горло, прижимая язык ложечкой, с видом Захарьина. Кончилось же ипекекуаном и смазыванием ляписом.
Мягкая кисточка на длинной проволоке с двумя на конце кольцами, куда продеты материнские пальцы, кисточка, напоенная страшной гадостью с металлически-кислым, острым вкусом, прекрасные, обеспокоенные глаза матери, устремленные в горло сыночки, приспущенная штора, похудевший мальчик с большой головой, на стуле у кровати недопитый стакан чаю с лимоном и красным вином, две-три склянки – это и есть болезнь русского гимназиста девяностых годов.
Мать добросовестно поила Глеба ипекекуаном, мазала ляписом, мерила температуру. Налеты все держались. Жар не падал. Красавец приезжал, смотрел, хмурился.
– Душечка, – заявил, наконец, матери, – ничего опасного, степень умеренная, но юноша явно дифтеритизирует.
Что этим хотел сказать Красавец – его дело. Вышло эффектно. Это ему и нравилось. Просмотрел ли он дифтерит в начале, или свалил на дифтерит другое – неизвестно. Может быть, никакого дифтерита у Глеба и не было, но «что-то» крепко засело в нем, не бурлило, медленно ело.
То он лежал, то вставал, то опять ложился, и это тянулось, тянулось… К счастью, надоело даже и матери мазать ляписом ему горло, благодаря чему не было оно сожжено окончательно. Время, однако, шло, накоплялось, учиться же он не мог. Вначале рыженький Докин приносил ему на бумажке уроки, конфузливо покашливая в передней, когда Соня-Собачка к нему выходила. Глеб пытался не отставать, но сил не хватало. Да и сам Докин реже стал появляться.
Прошел месяц. Глеб с ужасом сообразил, что совсем отстал от класса. Кончилась четверть, на горизонте, уже недальнем, экзамены, а он вне игры и не видно еще, когда выздоровеет. Глеб пал духом. Оставаться на второй год, ему, шедшему одним из первых… Он совсем стал хиреть – слабый, печальный, вовсе уж не походил на друга губернатора.
Мать опять написала отцу. И вот этой весной, следствием Глебовой болезни явилось решение: предложить ему бросить зимою учение вовсе, весну провести у отца, оправиться, отдохнуть, а осенью перейти по экзамену в следующий класс реального училища.
Глебу это понравилось. Весна где-то в дальних краях, с отцом, в лесах! Вновь охота и одиночество. А там? Ну, по крайности не будет больше «хистэми» и «апетметесан тас кефалас».
Перед Пасхою мать подала прошение об увольнении его из гимназии: «по болезни». А в реальном условились насчет осенних экзаменов.
II
Глеб с матерью выехали из Калуги на Страстной. Путь предстоял через Москву и Рязань в Тамбовскую, Нижегородскую губернии. Глебу казалось, что едут на край света. Он чувствовал себя вроде Пржевальского пред Средней Азией.
В Москве на извозчике с Курского вокзала Глеб жался к матери, вся эта пестрота, шум, грязноватая толчея были ему чужды. Лишь в купе поезда Казанской дороги, расположившись удобно, среди знакомых вещей, почувствовал он себя покойно, крепко: едут так едут, за матерью не пропадешь.
И в милой, серенькой весне российской, с голыми еще березками, запахами прели в лесочках, желтыми лютиками у осин, похудевшими за зиму коровами на первом пастбище – медленно катили они в неведомые края Родины.
Глеб не знал еще, что станция Фаустово знаменита пирожками, что Коломна город древний, примечательный и, как говорят, основана выходцем из Италии, принадлежавшим к славному роду Колонна. О Рязани слышал. С ранних лет связывалось у него что-то здесь с татарами, страшными набегами и разорениями. Куликовская битва не так далеко отсюда и происходила – с картинки навсегда остались в памяти русские витязи в шлемах, с мечами, стягом, стеной бьющиеся с узкоглазою татарвой – Глеб любил Куликовскую битву, победу России.
Но теперь, когда в тихом ветерке увидал эту Рязань, на берегу широко разлившейся Оки – поезд медленно шел по насыпи у воды – ничего ни грозного, ни воинственного не ощутил: мирный русский город, благовест над бескрайными лугами (на них-то и восстанет в июне «величавое войско стогов»). Глебу приятно было увидеть Оку, с детства свою – в полноводной весенней славе, сребристую и покойную, под бледно-перламутровым небом несущую влагу России в Волгу и Каспий.
В Рязани долго на вокзале стояли – пили с матерью кофе. Глеб знал уже теперь, что такое вокзалы. Они не пугали его, как раньше. Но все-таки возбуждали. («Мама, а поезд без нас не уйдет?»)
Поезд не обманул их и тронулся по всем правилам, со звонками и неторопливостью российской железной дороги. Глеб стоял у окна. Началось созерцание чистое. В погромыхивании вагона протекали поля, луга, дали рязанские. Станции были все новые – как и сама дорога, за Рязанью не так давно открытая: дальнюю Казань, три столетия назад завоеванную, пристегивала теперь к себе Империя связью прочной.
Чем далее шел поезд, тем одиноче чувствовал себя Глеб. Пустыннее и диче казалась ему страна, невеселы бесконечные горизонты.
Так, к вечеру, добрались они до станции. Оттуда ехать уже на лошадях, более ста верст.
Тяжеловесный тарантас, большие лошади, незнакомый кучер. Завтра Пасха, надо спешить. Надели дорожные свиты, уселись и тронулись. Ровные поля тамбовские, чуть с прозеленью, в ложбинах сыро, а за тарантасом пыль. Безмолвная эта окрестность казалась сумрачной. Села редки, огромны. Одно попалось мордовское. Странный край. Нет, под Калугою лучше.
Темно-красно-пепельный закат угасал. Издали потянуло влагой большой реки. Дорога еще серела среди полей.
Ночь спускалась. В скифском поле, близ разлившейся Мокши бродили фигуры. Тут и повозки, лошади. Кусты темнели. Кучер слез, долго разговаривал с мужиками, потом вернулся.
– Разлив ныне, барыня. Луга на многие версты затоплены. Парома подождать придется, на веслах пойдем. Народу уж подобралось порядочно, как еще уместимся.
Парома ждали долго. Глеб беспокойно, с тяжким чувством всматривался в темноту ночи. Ну и заехали!
Наконец, паром прибыл – это можно было определить по возне, гуторению мужиков вправо в потемках, около кустиков. Плескалась вода, гремели вынимаемые весла.
Тройка давала право на уважение. И мать, и Глеба уважали за лошадей, «директорских», с Илевского завода. Тарантас пропустили на паром первым – лошади боязливо ступали по бревнышкам, танцевавшим под копытами. Тарантас прыгал, вода где-то рядом похлюпывала… и вдруг тройка уверенно взмахнула на паром – лошадиные морды остановились на дальнем конце его, у самых перил. А дальше двинулись повозки мордвы, татар, да и наша тамбовская Русь – пешие мужички и бабы, торопившиеся к заутрене.
Толкались и охали, руганулись, понятно, сколько хотели. Но все устроились. И после должного гвалта плавание началось. Именно плавание. Ибо этот паром – скорее Ноев ковчег, чем паромы на канате, прославленные Толстыми и Чеховыми.
Вначале шли тихо на веслах. Цеплялись кое-где за потопленные кусты, потом выбрались на простор, но попали в течение, на быстрину, паром понесло вправо.
Лошадей выпрягли, они стояли отдельно. Глеб же с матерью так и остались в тарантасе, перед ними торчали задранные кверху оглобли. Дальше перила, вода, над оглоблями небо, по которому чертят они свой путь, задевая за звезды. Звезд было много. Вся чернота воды вокруг дробилась золотыми блестками и змейками.
Вот сбоку куст, весла шуршат о лозняк, гребцы ругаются. И плывет над ними звездный атлас.
Глеб не мог бы сказать, что бодро себя чувствует. Тьма, разлив, куда-то плывут… – он просто робел, сердце ныло. Слабый звездный свет давал видеть вблизи материнские прекрасные глаза, тонкий профиль. Мать сидела в небольшой своей шляпе со страусовым пером на подушках тарантаса, точно в ложе. Глеб, хоть и считал себя мужчиной и охотником и не сознался бы, что трусит, именно сейчас трусил. Рядом плечо матери. С нею не пропадешь, а все-таки… «страшновато».
– Скоро приедем?
Мать могла бы вполне улыбнуться. Но тоном всезнающим тотчас ответила:
– Скоро, сыночка.
Мать с ранних детских лет действовала на него неодолимо. И сейчас, если мать, пусть и бессмысленно, сказала «скоро», значит, так и будет.
– На стремя вышли, – сказал кто-то в темноте.
– Дойдем ли куды… – бормотал бабий голос.
Ковчег быстро несло вбок. Гребцы вновь ругались, надо было налегать, а то течением снесет далеко.
Но стремя оказалось не таким широким. Паром ткнулся в глыбу, описал странный полукруг – оглобли прочертили по звездам удивительную кривую – и вошел вновь в спокойные воды.
Лошади иногда потопатывали, иногда, скаля зубы, ржали – сердились друг на друга, хватали за гривы. Бабы вздыхали. Вода хлюпала. Ночь все черней, черней… Где Арарат? Никто ничего не знал.
Разные звезды, созвездия приходили в прямоугольник оглобель и уходили. Но вот в этом прямоугольнике, ниже звезд, выше воды, появился свет. Огоньки зажигались, золотистые и далекие – там, на берегу.
В темноте выступил нежно-златистый, в светлом дыму силуэт церкви.
На ковчеге задвигались. Весла перестали плескать.
– Преображенское!
– Ишь куды занесло!
– Куды, куды… в этакую темь не туды еще заплывешь. Вертать надо.
Пошумели, поспорили, кормчий что-то доказывал, и паром, правда, изменил направление: взяли налево под углом, почти против течения, чтобы наверстать унесенное стременем.
Шли совсем медленно, будто стояли на месте. Но над водой, на пригорке, все яснее виднелась церковь. Благовест доносился. Мать наклонилась над Глебом.
– Христос воскресе! И поцеловала.
– Воистину воскресе, – ответил Глеб.
Он не очень предан был всему этому, да и мать тоже. Но их несла в себе жизнь русская, сама тогдашняя Россия, как бескрайная вода паром. Глеб ответил «воистину» без мистического подъема, но все-таки знал, что ответить так надо, все отвечают, он с детства слышал это – с ним связано нечто торжественное и радостное. А сейчас почувствовал, что все в порядке, берег со светящейся церковью приближался.
Он ощутил усталость, положил голову на плечо матери.
– Подремали, сыночка. Утомился.
Он мог устать, она – нет. Он мог дремать, склоняя голову ей на плечо, ее же плечо для того и создано, чтобы к нему склоняться.
Мать сидела ровная и покойная. Паром медленно плыл к берегу по совсем тихому месту, раздвигая кусты. Звезды текли. И уж нельзя было сбиться – с суши сияла церковь.
* * *
Ехали ночь, ехали день. Где-то перепрягали – отец выслал подставы – где-то наскоро подзакусывали. Из Тамбовской губернии передвигались в Нижегородскую. В рано занявшемся белом дне, при порывах ветра, в жестком тарантасе катили по ранне-пустынным селам, потом села стали оживленнее, попадались парни, девки расфранченные. Качались на качелях, катали по желобкам яйца, пели, христосовались. Пьяные мужики разгуливали по слободам. Для Глеба же весь этот день слился во что-то пестрое и смутное, толчки тарантаса, слипающиеся веки, острый свет, ветер и рядом плечо матери, с которого мало когда и съезжала его голова. В промежутки между дремотой он стеклянным взором глядел на не нравившиеся ему поля, без конца вдаль шедшие.
К вечеру началась сторона лесная: ельники, сосонники, можжевельник, комары. Ни души!
Нежно-печальная заря млела за болотом и чуть распускавшимися березами, когда мелькнули впереди огоньки. Кучер подбодрился – и по гати, по тряским бревнышкам поднял тройку на рысь – мать с Глебом подпрыгивали на подушке: все равно, слава Богу – Илев.
А через несколько минут катили уже слободою. Слева парк, справа ненужно-сладостное, розовое зеркало озера. Тарантас подкатил к огромному дому, лакей выскочил из освещенных дверей. За ним отец появился – все такой же, в сереньком пиджаке, невысокий и плотный, с рыжеватою бородой, в высоких полуохотничьих сапогах.
У Глеба был несколько окостенелый вид. Улыбаясь, поцеловал он отца в знакомые табачные усы, будто и ласково, но отсутствовал.
– Сыночка устал, – сказала мать. – Тарантас тряский, дороги у вас здесь нехорошие.
Отец сделал комически-извиняющуюся гримасу:
– Виноват, виноват!
Да и правда, по тону матери можно было подумать, что кого-то она укоряет за длинность расстояний, глушь, тряску тарантаса. Ведь сыночка устал, подумать только!
– А гимназист наш отоспится, отдохнет, – весело говорил отец. – Ну, идем, вам там наверху комнаты готовы.
И повел узенькой, темноватой лестницей. Внизу раздавались голоса, смех, стучали посудой.
– Здесь в восемь часов обедают, – сказал отец, когда поднялись на хоры. – Аркадий Иванович так привык.
Глеб оглядывался с любопытством. Усталость его прошла. Они оказались на хорах огромной, как ему представилось, залы, обращенной в столовую. Внизу ярко она освещена. За столом с куличами и пасхами несколько человек ели, разговаривали, хохотали. Цветы, поблескивание хрусталя, бутылки…
– Этот худой, лысый, в середине и есть Ганешин, Аркадий Иваныч, – вполголоса сказал Глебу отец. – Наш хозяин. Завтра я тебя с ним познакомлю. А теперь, – обратился он уже к матери, – велю сюда подать вам ужинать.
Мать тоже взглянула вниз, но без особого удовольствия: ничего этого она не любила, ни коньяков, ни застольного шума, ни карт.
У отца оказалась наверху чуть ли не целая квартира – комнаты невысокие и не весьма просторные, но заново и по-столичному отделанные. Окна выходили в парк, а двери в коридор, окружавший хоры. Тут было тихо, снизу шума не доносилось.
Так въехал Глеб еще в одно временное свое пристанище, явно ему чем-то уже знакомое, но и все-таки новое, как в таинственном и непрерывном течении дней и сам он, теперешний, был уже не совсем прежний. Поужинав с матерью и отцом, оставшись один в своей комнате, он, прежде чем лечь, отворил окно – темный, горьким ароматов настоянный воздух поплыл к нему. Внизу играли на рояле. Ему приятны были эти звуки. Тот же Шопен, которого он знает с ранних лет.
В ветвях огромная звезда золотым орденом сияла. Глеб взглянул на нее, сладко зевнул, затворил окно. «Гимназист…» Нет, он теперь именно ни то ни се, этой странной весной в странном Илеве просто вольный гражданин – отец опять сострил бы: «недоросль из дворян».
Глеб едва разделся, завалился, заснул беспробудно-отрочески.
* * *
Утренний кофе пили с матерью наверху. Выспавшись, Глеб был в бодром настроении. Все хотелось увидеть, узнать здесь, но так, чтобы не подумали, что он очень этим поражен. Стараясь быть спокойным, иметь вид независимый, расхаживал Глеб по солнечным нижним комнатам. Зала огромная, и гостиная не мала. Из нее дверь была приоткрыта в кабинет Ганешина – там виднелся удивительный кожаный диван, кожаные кресла, несгораемый шкаф, тянуло духами и слегка сигарой. Глеб не решился туда войти, хотя никого в доме не было. От этой комнаты испытал он ощущение незнакомого и нового. Отец сказал вчера, что Ганешин живет в Петербурге, здесь бывает наездами. Очевидно, это и есть «петербургское».
В половине первого зазвонил гонг. Глеб знал, что тотчас надо являться. Он бродил в парке, недалеко от дома. Через три минуты был уже на террасе. В дверях, щурясь от солнца, стоял с отцом невысокий человек в светлом костюме, с голубым клетчатым галстучком. Голова с огромно-широким лбом и узким подбородком сразу выделялась в худощавом его облике – лицо сходило вниз клином. Большие челюсти, как у Щелкунчика. Лысина почти зеркальная, с венчиком мелко вьющихся полуседых волос. Насмешливые, изящного разреза черные глаза.
– Это мой сын, – сказал отец, когда Глеб подошел. – Видите, какой худющий. Хворал долго в Калуге. Вместо экзаменов пришлось сюда поправляться ехать.
Ганешин улыбнулся, протянул Глебу руку.
– Отлично. Отдыхайте на доброе здоровье. Место глухое, для вас это и хорошо. А? Развлечений мало? Вам нравится? Что?
Глеб вовсе не говорил, что «развлечений мало», вообще ничего еще не успел сказать…
– Мне очень нравится, – ответил робко.
Ганешин вынул из наружного кармана легенький платочек, обмахнул лоб. Нечто пренебрежительное мелькнуло в его лице.
– Нравиться здесь нечему, дыра… – Он засмеялся. – Но – жить можно. А? Ну, идем.
И полуобняв Глеба, со смесью развязности и ласковой снисходительности, повел его вперед.
Что-то смущало в нем Глеба. Все же Ганешин оказался не страшен, даже довольно приветлив. Не называл его «юноша», это тоже было приятно.
В столовой Глеб познакомился еще с новыми людьми: один из них был инженер Калачев, молодой, несколько широкозадый русачок с путаной бороденкой, в высоких сапогах, небрежно расстегнутой кожаной тужурке. Худенькая темноглазая его жена рассеянно подала руку. Особо обратил Глеб внимание на старика с большой опухолью на шее, в грязноватом сюртуке, с нечесаной седою бородой, легкими волосами, сквозь которые светила розовеющая лысина. Забравшись в дальний конец стола, взялся старик за еду основательно. Ел неопрятно.
Ганешин не обращал на Глеба внимания – болтал с сидевшею с ним Калачевой и с отцом. Отец был весел, пил водку, но не говорил, как прежде, «чи-ик», чокаясь рюмкой. Ганешину лакей наливал красное вино, Глеб заметил на бутылке белый ярлык с надписью: St. Estephe. Это произвело на него некоторое впечатление.
Собственный же Глебов сосед, инженер Калачев, вовсе его не смущал. Калачев сидел небрежно, неловко тянулся короткой рукой к отцу за водкой, резко опрокидывал рюмку в горло, показывая беспомощный кадык под довольно бессмысленной, рыжеватым веером разлетавшейся бородой. Когда Ганешин рассказал старый анекдот, весело захохотал.
– А? Здорово? – обратился он к Глебу. – Аркадий Иваныч у нас ко-омик.
Отец не мог, конечно, удержаться. Тоже рассказал – Глеб давно знал эту историю, про какого-то немца, учителя гимназии во времена отца. Немец так объяснял залоги:
– Волк ел коза – действительный. Коза ел волк – страдательный.
Тут Калачев загоготал столь визгливо, точно его щекотали под мышками. Что-то женское было в нем в эту минуту – Глеб при всей своей серьезности тоже засмеялся. Лишь мать и не улыбнулась. Да старик с опухолью занимался потрохами так основательно, что ему было не до смеха.
Калачев окончательно впал в доброе настроение.
– Вам необходимо отдохнуть, разумеется, – говорил Глебу, – па-анима-ю… Черт бы их побрал, все эти гимназии! Помню. Ненавидел. Вы переходите в реальное? Отлично. Ближе к жизни.
Он вдруг нагнулся, зашептал.
– Аркадий Иваныч милейший человек, вы увидите… и музыкант. Сам даже сочиняет. С Людмилочкой – это моя жена – в четыре руки играет… А вечером карты… Ну, вы, разумеется, молоды, вам не годится… Вон у нас главный картежник – Финк.
И мигнул в сторону старика с опухолью.
– Это, я вам скажу, ти-ип! Сейчас потроха ест и косточки собирает в бумажку, для своего пса. Пес называется Наполеон, под столом, у его ног – ни на шаг не отпускает. На охоту так на охоту, домой так домой. Пес за ним всюду.
Подали кофе, к нему ликеры. Калачев налил себе и Глебу по рюмке бенедиктину. Мать беспокойно оглянулась.
– Смотри, сыночка, крепкий…
– Ничего, пустяки!
Калачев вкусно прихлебывал, становился все веселее. Глебу ликер тоже понравился – и душистый, и мягкий, на непривычную голову действовало приятно. Да будто бы и подымало в собственном мнении. Вот он взрослый, пьет бенедиктин, как Ганешин, разговаривает с настоящим инженером…
Инженер тоже был доволен, что нашел слушателя. И Глеб узнал во время первого этого завтрака многое: Финк ссыльный поляк, давно здесь живущий, вроде лесничего. Домик его уединенный, в парке – он да пес. Когда приезжает сюда Аркадий Иваныч, все оживает, бывают гости, пикники, но вообще Илев скучища и он, Калачев, очень рад, что появились свежие люди, как отец Глеба – «с ним, по крайней мере, не соскучишься». Людмилочка чудная женщина… – и если бы все не поднялись из-за стола, Глеб узнал бы уже обстоятельно, насколько Людмилочка прелестна и как любит ее муж.
Но разговор прервался. Впрочем, и Калачев и Глеб сразу правильно оценили положение: они почти уже друзья, одному есть пред кем разглагольствовать, другому льстит, что с ним разговаривают, как со взрослым.
В гостиной поставлен был зеленый ломберный стол, лежали мелки, две нераспечатанных колоды карт. Светлый весенний день. Инженеры рассаживались для винта, Ганешин с Людмилой ушли в кабинет. Оттуда донеслись аккорды на рояле – Ганешин импровизировал. Финк сдавал. Длинноухий лягаш у его ног слегка завыл при первых же звуках музыки – Финк сердито подтолкнул его ногой.
В балконной двери отец подошел к Глебу, ласково его полуобнял.
– Ну, как? Не соскучился еще? Ты, кажется, с Калачевым подружился?
Глеб был довольно оживлен – ликер подвинчивал, сознание, что он среди «больших» и не боится, в изящном петербургском доме, где и музыка, и вино, и карты… Но он ответил, разумеется, серьезно, как бы и слегка небрежно:
– Ну, подружился… Просто мы разговорились (ничего нет удивительного, что вот он, Глеб, беседовал со взрослым инженером, как равный).
Отец отправился к карточному столу. Глеб вышел в сад, а мать поднялась к себе наверх.
Мать не совсем так настроена была, как отец и сын. Завтрак не доставил ей никакого удовольствия. Не особенно понравилось, что сыночка пил ликер. И этот «распущенный», как она нашла, тон… Подходяще ли это для сыночки? Вообще, что это за общество? Насчет Калачевой ей показалось, что с хозяином она держится слишком уж вольно, точно «авантюрьерка», а он вроде «адоратора». Выпивающие, разглагольствующие инженеры… Странный старик с собакой.
Войдя к себе в комнату, разложив шитье – она починяла Глебову курточку, – мать ощутила, что здесь она одна, со своим скромным, но нужным делом, это ее мир, а там внизу – другой.
Другой, между тем, тоже вел свою линию, не смешивался с верхним: Ганешин, поблескивая черными влажными глазами, наигрывал свои фантазии. Взглядывал на Людмилу. Та куталась в шаль, нервно подбирала под себя на диване ноги, принимала вид загадочно-томный. В гостиной инженеры играли в винт. Финков Наполеон надоел подвыванием – его выгнали. Калачев сорил пеплом папиросы в мундштук, назначал малые шлемы, пролетал. Когда Финк вместе с ним ремизился, то бурчал и опухоль его сердито колыхалась.
Глеб ушел бродить к озеру.
* * *
Мать всегда о ком-нибудь беспокоилась – об отце, Глебе, Лизе, о хозяйстве, семье. Она много думала, часто вздыхала, лицо ее с годами получило яркую черту серьезности, почти что важной горестности. Не радостно принимала она жизнь.
Так было и в Илеве. День шел за днем в ее отъединенности от всех. Мать завтракала и обедала внизу, но не входила в нижний обиход – как инородное тело. Она могла быть лишь хозяйкою и главой своего, прочного и порядочного гнезда. Тут же вообще гнезда никакого не было, все «авантюрьерское», скорее, непорядочное. И мать лишь наблюдала, сверху с хор, за течением неодобряемого бытия.
Она и вообще думала пробыть здесь недолго. Но скоро решила еще сократить срок. Как только кончились разливы, пообсохли дороги, она в том же тарантасе, прямая, прохладная, неутомимая, с небольшим страусовым пером на шляпе, струившимся в ветрах нижегородских, укатила домой. Уезжая, нежно и крепко поцеловала «сыночку» и наказала отцу не забрасывать его. Как только вполне оправится – домой, в Калугу.
Отец вряд ли мог выполнить завет наблюдения. Хотя и жил наверху рядом с Глебом, но постоянно уезжал, проводил на соседних заводах по нескольку дней, да и в Илеве очень бывал занят. Так что в огромном этом доме Глеб оказался в одиночестве – мог только наблюдать обитателей его.
Ганешин просыпался поздно, пил кофе в постели. Долго, сложно мылся в ванной, потом подавали ему верховую лошадь под английским седлом, он надевал краги, брал хлыстик и в жокейском картузике, куртке водружался верхом – с ним ездила иногда и Людмила, худенькая и нервная, с беспокойным взглядом карих глаз, амазонкою на дамском седле.
За столом он бывал неровен: то мил и любезен с Людмилою, острил, мог бессмысленно хохотать от анекдота, то вдруг раздражался – на кого попало: раз в бешенстве накинулся на лакея, чуть не ударил его за то, что тот подал теплое белое вино. Глеб с изумлением на него смотрел: дома к такому не привык. Но Ганешин вино все же выпил, и после обеда, ликеров, впал в совершенно благодушное настроение. Через полчаса, случайно столкнувшись с ним в коридоре, Глеб увидел, как он похлопывал этого же лакея по плечу. «Ну, ну, я погорячился», – и, вынув из жилетного кармана трехрублевку, сунул ему в руку. «Покорнейше благодарим-с, Аркадий Иванович», – лакей ускользнул, а Ганешин встретился с недоуменным взором Глеба. Мгновенное смущение в нем мелькнуло, быстро залитое нервною развязностью.
– Не удивляйтесь, молодой человек… Мы не крепостники, конечно, но и не святые. А народишко тоже хамоват. Хотите, я завтра ему в морду дам? И ничего не произойдет. Десять целковых выложу – он счастлив будет. А за пятнадцать руку поцелует. Да? А? Понятно? За деньги все можно.
Глеб сконфузился, ничего не ответил.
А Ганешин через несколько минут заседал за роялем в кабинете и разыгрывал фантазии собственного сочинения.
Неизвестно, как отнеслись бы к ним Чайковский и Римский-Корсаков, но Глебу казалось странным, что тот же, все тот же Ганешин извлекает эти звуки.
Во всяком случае этот сухощавый петербургский человек с лысой головой, в венчике кудряво-седоватых волос, с огромной челюстью Щелкунчика, здешний хозяин и владыка, не мог быть Глебу товарищ. Людмила и того меньше. Она его совсем не замечала – у нее свои дела и заботы, для Глеба еще вполне чуждые. Одному только Калачеву он оказался почти что и нужен. Дружба их с первого же завтрака установилась. С течением времени возросла. Сближало безделье и некая развинченная размягченность. В прежней жизни своей Глеб что-то делал, чем-то жил – рисованием ли, охотой, учением. Здесь же лишь «выздоравливал». Заранее так был настроен, что ничего и не надо делать, да и нечего делать в этом чужом, странном доме. Приходилось убивать время – занятие неободряющее, но вполне в духе Калачева.
Калачев вообще ничем не занимался. Считалось, что он служит. Но именно только считалось. Иногда он заходил на завод, когда вздумается, как бы на прогулке. Раза два водил туда Глеба. Показал разные литейные, ремонтные мастерские – все это Глеб не любил – а дальше… чем наполнять дни? Пока Ганешин с Людмилой катались в шарабане, верхом или в коляске уезжали к отцу на Балыковский завод, Калачев без конца сосал мундштук, сорил пеплом, постукивал кием на бильярде по шарам – объяснял Глебу, как он «режет желтого в угол», как делается карамболь. Но Глебу игра не нравилась. Дело кончалось тем, что оба залегали после обеда в гостиной на огромнейшем турецком диване. Калачев начинал разглагольствовать. Глеб слушал. Калачев был очень мил, прост, держался с ним по-товарищески. В рассказах его встречалась и правда.
К Ганешину он относился восторженно. Глеб узнал теперь, что Ганешин директор правления, крупный акционер этих заводов, играет на бирже, роскошно живет в Петербурге. У него красавица дочь, огромное состояние.
Капиталов Ганешинских Калачев не считал, дочери никогда не видел, но искренно был уверен, что все именно так и есть. Лежа на диване, закладывал ноги в высоких сапогах на спинку стула и ероша рыжеватые волосы на голове, стряхивая пепел, куда придется, ораторствовал:
– Аркадий Иваныч художественная натура. Он только по небрежности не издает своих музыкальных произведений, их сам Чайковский одобрял. Но при всем том и делец, вы понимаете… в Петербурге вся биржа у него в руках и вообще в деловом мире он шишка. А на обеды свои выписывает цветы прямо из Ниццы – и клубнику, ананасы…
Глеб относился к рассказам Калачева почтительно.
– Вы знаете, Людмилочка и Аркадий Иванович понимают вполне друг друга… Она совсем особенная женщина, с тонкой нервной организацией. Мечтает о сцене. Ну, конечно… Илев… это мило, в прошлом году для рабочих спектакль устраивали, но пустяки, тут же дыра, дыра… – живые люди, как Аркадий Иванович или ваш отец, редкость. Что делать! Мы с Людмилочкой надеемся, что нас переведут в Петербург.
Калачев вдруг яростно стал выбивать свой мундштук.
– Людмилу никакой Илев не может удовлетворить. Представьте себе, через месяц Аркадий Иваныч уедет, ваш батюшка оснуется в Балыкове… ведь мы со скуки подохнем. Кто же тут? Бухгалтеры, десятники, Финк со своей собакой да опухолью… Этак и спиться можно.
Он вздыхал, пыхтел, пускал клубы дыма табачного. Явно был нервен. На Глеба это действовало. Он сам начинал чувствовать тревогу, расслабленность. Никуда не уйдешь, ничего не сделаешь… Ну вот эта удобная комната большого дома, праздная жизнь, лакеи, но к чему все это? Нет, нехорошо.
Калачев оживлялся, однако (да и то минутно), когда рассказывал о Петербурге, Горном институте, музее при нем, где есть считок золота с Урала, весом.. – Калачев не стеснялся тем, сколько он весит. Рассказывал об удивительных науках: палеонтология, геология, кристаллография… О чудаках профессорах, страшных экзаменах, невероятных чертежах проектов. Все это было и занимательно, только неясным оставалось, почему надо так много учиться, работать, преодолевать, чтобы в конце концов валяться, задрав ноги, на диване в Илеве, курить, болтать, вечером слушать ганешинские анекдоты и ремизиться, назначая дикие игры за зеленым столом с мелками.
Хотя о Финке отзывался Калачев пренебрежительно, однако в домик к нему затащил Глеба именно он. Глеб немножко боялся туда идти. Калачев захохотал почти развязно.
– Финка стесняться? Этого только недоставало! Он так скучает, что не только нам с вами, а любому прохожему с большой дороги рад будет. Болеслав Фердинандович! А знаете, как мужики его определили? Хороший, говорят, человек, а отчество у него нескладное…
И с хохотом объяснил, что вместо Ф. произносят они П.
– Русский мужичок придумает, богоносец, как ему удобней. Его теперь все так называют. Только не дай Бог, чтобы узнал.
К Финку они пошли часов в пять, – очень теплый и нежный день конца апреля. Собственно, идти было недалеко, домик, переделанный из бани, находился шагах в полутораста от дома главного. Пристроили кухоньку, расширили крыльцо, получилось нечто уединенное под липами – не то хижина дяди Тома, не то Эрмитаж романтического философа.
Финк сидел на своем балкончике, в полурасстегнутом грязноватом халате. На столе чашка чаю. Перед ним Наполеон. На носу его кусочек сахару.
– Пиль!
Наполеон взмахнул головой, пойнтерские его уши хлопнули концами по ошейнику, кусочек сахару взлетел – он поймал его пастью и блаженно-мгновенно схряпал. Финк порадовался.
– То знатный пес. То пес ладный. Калачев с Глебом подошли.
– Пес ваш первостатейный, Болеслав П… Феррдинандо-вич… – Калачев скосил на Глеба глаз многозначительно. – Имею честь приветствовать, привел вам гостя.
Финк встал, запахнул халат, довольно любезно протянул Глебу руку.
– Пана директора сынок, знаю. Пшепрашем.
И широким жестом пригласил к столу – пригласить было легче, чем усадить: Финк предложил Калачеву свой стул, а сам присел на перила. «Пана Глеба» попросил захватить табуретку из сенец. Глеб поблагодарил, но присел тоже на перила – не без робости.
– Не беспокойтесь, Болеслав Фердинандович, мы ведь так… ненадолго, на минутку…
Лицо Финка сделалось серьезней.
– Разумем. Кто же может надолго зайти к Болеславу Финку? Кому он теперь нужен?
Глеб смутился – почувствовал, что сказал неловко.
– Нет, я не в том смысле… совершенно не так.
– Ничего. Рад, что зашли. Был бы у себя на фольварке, то не так бы принял, но здесь хозяйство мое убогое, что можно ждать от одинокого старика, – он пожал плечами, опухоль его на шее приподнялась и опустилась.
– Болеслав Фердинандович, не беспокойтесь, – прервал Калачев, – нам никаких угощений ненадобно. Мы запросто, по-соседски.
Калачев начал снова болтать – о заводских мелких делишках, о картах, о том, что весна чудная и тяга в самом развале. Глеб понемногу успокоился, стал Финка разглядывать.
Финк не казался ему теперь сердитым стариком, как в столовой ганешинского дома. Правда, был он неопрятен и оброшен. Очень зарос белыми, легкими волосами. Что-то горестное было во всем нем – и чуждое. Не то что отец, Калачев, инженеры.
О тяге Финк сказал, что раньше любил эту охоту, а теперь не ездит больше – плохо видит в сумерках.
– А прежде без промаху бил… Да, я был в Польше охотник.
Он предложил посмотреть его «карабин», повел к себе в комнату. Комната была в запустении. Подозрительная кровать, старый рваный диван, куда тотчас вскочил Наполеон, как на свою территорию – улегся на им же пролежанное место. Пофыркивая, пощелкивая зубами, принялся за блох. Финк снял с рога ружье и стал показывать Калачеву левый его ствол, замечательный чок-бор.
– Трафит на полторы сотни шагов. В главу вальдшнепа бил на выбор…
На шатучем столике у стены стоял оркестрион. Над ним литография, сильно от мух пострадавшая. По какому-то полю скакали всадники в ментиках, с саблями наголо – от них удирали бородатые казаки с пиками. Финк заметил, что Глеб внимательно рассматривает их.
– То польская гусария атакует.
Калачев повесил ружье и тоже подошел.
– А-а! В двенадцатом году… при Бонапарте… Только позвольте вам сказать, дорогой Болеслав Фердинандович, что в войне этой, особенно при отступлении из Москвы, гусарии вашей пришлось плоховато… А?
Финк ничего не ответил. Взяв ручку оркестриона, начал ее вертеть. Негромкие звуки раздались оттуда – вальс «Невозвратное время». Наполеон поднял на диване голову, завыл. Финк улыбнулся.
– То наша музыка, и в оперу ходить не нужно. Когда нам с Наполеоном скучно, мы играем…
Калачев с Глебом недолго еще пробыли у Финка: пора было собираться на тягу.
– Так вы, значит, Болеслав Фердинандович, нам не попутчик? – Калачев стоял перед ним не без развязности, засунув руки в карманы, животом сильно вперед. – А то лошадь заказана, место есть, пожалуйста…
– Дзенкую бардзо.[11]
Финк проводил их и, прощаясь, сказал:
– А гусарии польской лучше не бывало и не будет.
Калачев напялил свою инженерскую фуражку и на коротких ножках весело от Финка выкатился.
– Серьезный старик и поляк заядлый, – говорил Глебу, когда подходили к большому дому, – попробуй польских гусар при нем тронуть… Но посмотрели бы, что с ним за картами делается! Не тут, разумеется, не у Аркадия Иваныча… винт это пустяки. Он в стуколку и железную дорогу ездит играть по соседству, в Кильдеево. Там игра азартная. А-а, яростный поляк!
* * *
Через полчаса Глеб с Калачевым ехали на тягу, по плотине. Справа и пониже пыхтел, дымил завод. Солнце опускалось за ним, нежно золотило все убожество строений, мастерских и в сквозных лучах сама пыль над заводом принимала оттенок волшебный. Слева же озеро, зеркально-покойное, лежало в полной вечерней славе. Леса по берегам, отражения их, молчание…
Столбики комаров, тоже позлащенных, выплясывали рядом с лошадью.
– Жаль, вашего отца нет, – сказал Калачев, – тяга нынче отличная. С плотины съедем и налево – видите огромный сухой дуб? Половину ствола молния сожгла. Мы у него лошадь оставим, сами подадимся вправо. Там дороги расходятся: одна на Кильдеево, другая в Сэров.
И пока кучер, свернув с плотины, рысцой вез их вдоль озера к дубу, Калачев разглагольствовал.
– Балыковский завод в двадцати пяти верстах и вот сюда, левее, а Сэров чуть подальше и правее. Большой монастырь, известный, на реке Сатисе, там этот старец жил… ну, очень прославленный теперь – Серафим. И его избушка сохранилась, разные лапотки в ней хранятся, белая рубашка. Поклонение ему большое, вроде святого почитается. Говорят, в свое время тысячу дней на камне в лесу простоял, все молился. С медведями дружил. А теперь больные ездят и разные дамы. Там и источник, вода холоднющая, но в ней купают именно больных… Да вот, если погода будет хорошая, надо подбить Аркадия Ивановича – съездить туда пикником…
Пролетка покачивалэсь иногда на корнях сосен. Порядочно встряхивала. Глеб слушал, молчал. Он был в грустном, задумчивом настроении. Не совсем и здоровилось, одиноко как-то. Отца целыми днями нет…
– Почему же он стоял так на камне? – вдруг спросил он.
– Ах, Серафим-то? Что же, он этим занимался, пустынник был, и выстаивался, набирался мудрости… а потом жил при монастыре стэрцем, этэким мудрецом народным, что ли, к нему за советами ходили, за исцеленьем.
– Он исцелял?
– Говорят, говорят… Да это давно было, при Николае Первом, в тридцатых годах. Может быть, и приукрашено…
Дуб, правда, оказался гигантский. Вороновым крылом блестели опаленные его ветви, в гладких шрамах. На верхушке сидел ястребок, тотчас снявшийся.
Лошадь оставили, сами пошли не по Саровской дороге, а тропкой – Калачев впереди, Глеб сзади.
– Тут торфяники справа, да мы мимо них, опушечкой. На опушке и станем, вальдшнеп вдоль болота любит тянуть…
Так и стали, друг от друга шагах в пятидесяти. В руках у Глеба уже не тульское ружьецо, а центрального боя двустволка из Бельгии. И сам он не совсем прежний: не то рассеян, не то как-то и грустен. За спиной смешанный крупный лес, там с каждой минутой сгущается мгла, но дышит глубина, благовоние горько-сырое. Желтый лютик над кочкой, рано зацветший белыми цветочками куст. И небо все выше, нежнее раздвигается – там, где солнце уйдет, на гаснущем пламени выступит слеза серебряная – Венера.
Все же ухо Глебово тонко. Издали, в глуби лесов звук родившийся: «х-р, х-р», хрипловато, но и поюще, заставляет сердце забиться. Звук приближается, сердце сильней стучит. Вот и он, таинственный обитатель мест сих, аристократ и барин острокрылый, длинноносый, худенько-изящный вальдшнеп. Бах-бах…
Со стороны Калачева дуплет, легким огнем и дымом мечет сквозь осинки, вальдшнеп делает дугу, вбок над мелколесьем уносится к торфяникам, прочь от стрелка.
«Смазал, конечно», – Глеб был и уверен, что Калачев смажет. Он погладил стволы своего ружья с видом маэстро безупречного. Но и равнодушие овладело им: не хотелось ни стрелять, ни не стрелять, вообще ничего не хотелось.
Через несколько минут на него самого налетел вальдшнеп. Со все-таки замирающим сердцем приложился он и выстрелил – совершенно так же, как и Калачев, смазал, горячась, выстрелил и из левого ствола, и с таким же успехом.
Охотнику промах никогда не радостен. Глеб взволнованно вынимал из дымившегося ружья гильзы и вставляя новые, про себя как-то оправдывался: «Лес огромный, высоко тянут».
Прелью, горькой свежестью все сильней пахло. Закат стал темно-краснеть. Кроме Венеры и мелкие звездочки появились. Сквозь рассеянность свою и тоскливость Глеб стал прямо хотеть уж теперь удачи, ждал, волновался. Но несмотря на погожий вечер, тяга оказалась плохая. Раза два Калачев еще выстрелил – безуспешно. И, наконец, в низко летевшего вальдшнепа промазал Глеб вовсе позорно.
– Здорово пуделяете! – крикнул Калачев.
Наступала темнота, плохо видна была уже мушка ствола. У калачевской рыжеватой бородки засветился огонек – он закурил и двинулся к Глебу.
– Я тут одного уложил, – сказал Калачев, – досадно, что собаку не взяли. Ясно видел, как он в мелоча упал, да где же в темноте найти. Высоко тянут, анафемы, стрелять трудно.
– А я видел, что ваш так же улетел, как и мой, – сказал Глеб мрачно.
– Ну, что вы… Я ему полкрыла отстрелил. Жаль, жаль, собаки нет. Домой вернемся ни с чем.
– И собака была бы, тоже ни с чем бы вернулись.
– Ого-го! Вас не переспоришь… А я собственными глазами видел, что он упал.
– Никуда он не падал.
Они шли теперь к лошади, оба в довольно нервном настроении. С торфяного болота подымался туман.
Молча сели, молча тронулись. Калачев закурил уже третью папиросу.
Плотина, языки пламени над домнами, огоньки в селе, все это показалось Глебу неприятным и ненужным. Зачем он ездил с этим Калачевым… Да и вообще вся эта жизнь… Разумеется, надо сколько-то побыть, в Калуге делать сейчас нечего, товарищи вот-вот начнут держать экзамены, а он… раз он как выздоравливающий, так, значит, надо.
Домой вернулись пасмурные. Из Балыкова приехал отец, встретил их чуть не у самой двери.
– Ну, хно-хнотнички, много дичи набили? И когда узнал, что ничего, длинно свистнул.
Глеб хотел было оправдываться и объяснять, что тяга в этом месте высока, но внезапно отворилась из гостиной дверь – лицо Людмилы было полно раздражения, вся худенькая фигурка полна нервности и чего-то болезненного. За ней выскочил и Ганешин. Людмила обернулась к нему, вдруг схватила с подставки вазу, хлопнула ее об пол, под ноги Ганешину, как бомбу. Ваза вдребезги разлетелась.
– Людмилочка, – забормотал Калачев, – что с тобой? Людмила зарыдала, кинулась в кресло.
– Ах, меня никто здесь не понимает!
* * *
Глеб мало еще интересовался непонятными натурами, Людмила же и не совсем ему нравилась. Он был удивлен этой сценой, но особенного внимания не обратил: ясно, что тут вообще все особенное.
Людмила отплакалась сколько надо, потом ушла к себе и к ужину вышла уже приодетая, подпудренная, хотя и с загадочной мрачностью. Но после шампанского развеселилась. Все пошло гладко. На другой день она скакала уже с Ганешиным в черной своей амазонке по дорогам Илева.
Наступил май, очень теплый, раннепогожий. Березки давно зазеленели. Появились майские жуки. Калачев с Глебом выходили по вечерам в сад с крокетными молотками в руках. Жуки пролетали, тихо гудя, а они старались сбивать их в лет. Когда жук падал, Калачев произносил от Финка идущую фразу:
– Бжми хщонщ в тшстине![12]
Так продолжал Глеб свою бесцельную, лениво-бездеятельную жизнь: читал случайные романы, старые журналы, слушал, валяясь на диване, рассказы Калачева.
Из-за теплыни тяга скоро кончилась. Да не особенно и влекло к охоте. Глеб бродил по парку, иногда уезжал один в лодке на озеро.
Калачев же каждое утро отправлялся теперь к Финку. Входил очень серьезно, здоровался, брался за ручку орекстриона. Музыка начиналась. Калачев подпевал голосом козлообразным, Наполеон выл и лаял. Финку все это нравилось. Полуодетый, седой, с опухолью в виде бутыли, он сидел в кресле, слегка дирижируя рукой. Когда раз Калачев не пришел, Финк остался им недоволен. На другое утро и упрекнул.
– Чи пан инжинер зварьевал? Встал и не-гра![13]Утренние симфонии слышал и Глеб, из своей верхней комнаты. Они действовали ему на нервы, как Финкову Наполеону. Так что он читал «Борьбу за Рим», затыкая уши. Однако сам заходил иногда к Финку, теперь не боялся его. Скорее даже тот интересовал Глеба.
Судьба Финка не совсем была ему понятна. Хотелось узнать и понять. Однажды, окончательно осмелев, он спросил об этом прямо.
Финк усмехнулся.
– То долгая история, пане Г-хлебе, то долгая… (Глебу нравилось, что Финк называл его «пан».) Давно то было. И неинтересно.
– Расскажите, Болеслав Фердинандович.
– Что же рассказывать, было время, у себя жил, своим домом, а теперь нет. Это неинтересно.
– А мне очень интересно.
Глеб говорил несмело, но с упорством. Ему правда хотелось послушать Финка.
– То происходило давно. Я не такой тогда был, как сейчас. Он погладил рукою ус и слегка даже усмехнулся.
– Шляхтиц, по-вашему говоря, помещик. Свой фольварк, гончие, пара борзых. Конь ладный. На том коне сколько кругом рыскал… Выпить мог бардзо дуже, из себя довольно-таки видный: вонс завесистый, мина як у дьябла. Вот, так и жил, что называется, в свое удовольствие. Только тут и случилась история.
Финк приостановился, посмотрел на Глеба.
– Вы слыхали про польское восстание 1863 года?
– Слышал…
Глеб немного смутился. Правда, он что-то от отца слыхал, но как именно это происходило, не знал.
– Восстание было настоящее. Со сражениями, партизанскими стычками. Казаки усмиряли. А кто тогда был русским Императором, то вы по гимназии должны знать.
– Александр Второй, – ответил Глеб довольно живо, – освободитель крестьян.
Финк засмеялся. Глебу не весьма понравился смех этот.
– Он самый… Освободитель. Но для Польши он в то время не был никаким освободителем. Наоборот – поработитель. Его казаки вешали, расстреливали наших. Освободитель… Должен сказать, что я в восстании как раз и не участвовал – были причины. Но, разумеется, сочувствовал своим.
Кругом фольварка моего форменная шла война. И вот, доложу вам, в один осенний вечер… – не забыть мне того вечера… – забредают ко мне два повстанца, с карабинами своими. Один ранен, другой крепче, но измучены оба, говорят: «Пане господажу, ратуйте, выбились из сил, а за нами казаки гонятся». Что тут поделать – свои. Ладно, накормил их, руку раненому промыл, перевязал, спать уложил на сеновале, говорю: если что, в сено поглубже зарывайтесь, а уж коли попадетесь, меня не выдавайте. Сами ночью, мол, на сеновал забрались – благо он и не запирался.
Оставил их, домой ушел, спать лег, а на сердце непокойно.
…Заря еще не занялась, вот они, казаки. Фольварк оцепили – кто хозяин? Я. «У вас тут повстанцы скрываются». – «Не вем». – «Говорите, где, а то хуже будет». – «Не вем». – «Тогда искать будем». С самого того сеновала и начали, пся крев. Пиками сено стали щупать – нашли. Ах, Матка Боска Ченстоховска!
Финк встал, волнение мешало уже ему сидеть.
– Ну?
Финк довольно быстро обернулся к Глебу.
– Освободитель крестьян, шестидесятые годы… А чрез полчаса оба, в конфедератках своих, под моим окном на сучьях висели.
Глеб побледнел.
– Как… висели?
– Повешены были на месте, доложу вам, как взятые с оружием в руках… А меня арестовали. Чуть было тоже не повесили, но передумали, отдали под суд. Суд приговорил: имущество отобрать, самого выслать, как подозрительного, в восточную Россию… Сперва за Урал, в Тобольскую губернию, а там и сюда передвинули, в Нижегородскую, где ваш Сэров – и вот я на этом заводе, Илевском, двадцать лет по лесной части.
Наполеон поднял голову с пролежанного своего места на диване, насторожился, вскочил и залаял.
Финк подошел к нему, взял за длинные уши, стал ласкать.
– Знатный пес, то пес добрый…
Финк явно был взволнован. Глеб тоже. Глуховатым голосом он сказал:
– Какая жестокость… И через минуту:
– А когда поляки русских захватывали, они что с ними делали?
– Тэго не вем.
– Все это ужасно… – Глеб слегка запинался, но говорил с упорством, – а все-таки, Александр Второй был замечательный… Император… и сделал очень много для России…
– Может быть.
Финк стал покойнее как бы и печальней. Он продолжал ласкать Наполеона.
– Может быть, что и много. Но не для нас, поляков. Наполеон улыбался, важно подал ему лапу.
– Ладный пес, знатный… А моя жизнь, сказать правду, погибла в эти шестидесятые годы ни за понюшку табака, как по-русски говорится. Лесничим вот в этом Илеве, прошу пана, около монастыря вашего знаменитого, Сарова. С медведями да мужиками.
Финк замолчал. На стене, над оркестрионом, польская гусария преследовала казаков. С завода, издали доносился гул вагонеток, острый звук механической пилы, какие-то лязги, свистки. Глеб чувствовал себя неприятно: точно и он был виноват, ответствен, что ли, за судьбу Болеслава Финка. Он слишком мало знал, чтобы спорить, но чувствовал, что Финк ненавидит Россию и все русское, Александра Второго, которого Глеб с раннего детства привык почитать.
Финку тоже было невесело. Он пофукивал, сопел, наконец, улыбнувшись, подошел к оркестриону, принялся вертеть ручку.
Глеб недолго у него посидел. Вышел в настроении смутном, нервном. Домой тоже идти не хотелось, день светил ровно и солнечно, было тихо, такая чудесная благодать… Он пошел к озеру. Там у купальни привязана была лодка. Отвязал ее, вскочил, взял лежавшие на дне весла, вставил в уключины, стал грести. Лодка легко двинулась. Глеб греб на ту сторону, отдаляясь от завода, к лесистому и пустынному берегу. Уключины постукивали, концы весел плескали – нежно-сребристые капли с них падали. Оборачиваясь к носу лодки, видел он вдали тот обгорелый дуб, у которого они были с Калачевым в день тяги. Удивительным светом, сиянием майского дня все наполнялось. Как тихо! Там вдали завод и отец, и Ганешин, и Финк – здесь иной мир, дикопрелестный.
Глеб подплыл к песчаному берегу и явлением своим спугнул ястреба с верхушки засохшего дуба – лениво-царственно полетел ястреб дальше, вглубь, к Сарову.
Глеб же вытащил лодку сколь мог на сушу. Сам лег под дубом, невдалеке от следов костра – сизо-выжженного места с кучкою пепла. Сквозь голые ветви дуба, вздымавшиеся, как сухие кости – низ же дерева был опален черным атласом, – в майской голубизне неба проходили облачка. Глеб смотрел на них, ни о чем не думал. Польское восстание, казаки, судьба Финка, грохот, суровое движение империи… Из леса тянуло теплыми мхами, болотцами, иногда протекала струйки сухо пригретой хвои и сосонника – это сразу, блаженно-сладостно переносило в раннее детство, на деревенский погост под соснами, напоенный этим запахом. Он закрыл глаза. Слезы выступили у него под ресницами. Хорошо бы лежать так всегда, без времени, дел и забот, в сияющем полубытии райском. Глеб не думал сейчас уже ни об Александре II, ни о Родине, за которую только что и обиделся, ни о Болеславе Фердинандовиче. Все это отходило, замирало в глубине, точно тонуло.
Он лежал так тихо, что стал частью пейзажа: два куличка, легким, низким полетом проверявшие побережье, опустились у самой лодки и безбоязненно пробежали в нескольких шагах от него. Кулички были серые, подрагивали хвостиками, отпечатывали веточки по влажному песку. Следы эти некоторое время держались, а потом стали растекаться.
* * *
К Калачеву Глеб вполне привык. Перестал даже ощущать разницу возрастов, точно это был его приятель-отрок. С Финком же получилось сложнее. За обедами у Ганешина Финк сидел молча на дальнем конце стола, сопел и неопрятно ел. В шутках отца и хозяина никогда не участвовал – несмотря на свой вид, был очень самостоятелен, почти что высокомерен.
Когда Глеб заходил к нему, он держался вежливо и как будто покровительственно. Кроме Польши ничего для него не существовало. С Глебом он охотно разговаривал наедине, и Глеб всегда ощущал себя несколько стесненным, хотя что-то и возбуждало его в словах Финка.
– Пан инженер (так называл он Калачева) музыкант знатный, и когда по утрам у меня на оркестрионе играе, то прелесть. Но на завод не ходит. И за женою не смотрит. А надо бы. Пани хоть и шкапа[14], а с Аркадием Иванычем слишком разъезжает.
Глеб не особенно обратил на это внимание. Другое в рассказах Финка заинтересовало его больше.
– Комнаты у нее и Аркадия Иваныча рядом, но двери нет. Это только кажется, что нет. Ловко устроено, мне камердинер рассказывал: когда никого еще вас тут не было, приезжали из Нижнего мастера и такую дверку устроили потайную, что она и в ее комнату как бы шкафом выходит и у пана презуса[15] тоже в этом месте шкаф, а он весь отворяется, толкнуть рукой шкафчик пани шкапы – и он тоже на шалнерах, зараз в ее спальне. Хоть и шкапа, а нашего презуса объехала.
На Глеба этот разговор произвел смутное впечатление. Но история с дверью занимала.
На другой день, когда Ганешин уехал, он сделал даже не совсем джентльменский шаг, тайком заглянул в его кабинет. Действительно, небольшой шкаф был вделан в стену… но открывается ли он насквозь? Этого Глеб так и не узнал.
Другое в Финковых рассказах задело его гораздо больше.
– Пан инженер лайдак[16],– говорил Болеслав Фердинандович, – и пан презус тоже лайдак: и то бы ничего, а знают ли они, что на заводе о них говорят? Х-ха! Они простых людей и не видят вовсе. Только с инженерами ликеры пьют, да в карты играют. Я сам карты люблю, а зачем же рабочим заработки задерживать? На Вознесенском заводе в прошлом месяце и вовсе ничего не выдали – берите, мол, из заводского магазина мукой, крупой, салом. А денег из Петербурга не прислали. Так и у нас в Илеве поговаривают: что же, сами пьянствуют, туды-сюды катают, а наши же трудовые денежки задерживают? То, может, все это заводское управление деньжонки себе забирает?
У Глеба слегка перехватило горло.
У Финка мелькнуло в глазах не то смущение, не то скрываемое раздражение. Он поспешно ответил:
– Я ничего и не говорю про пана директора. И никто о нем не говорит. А насчет Вознесенска то сущая правда.
Глеб остался, все-таки, не совсем доволен. Ну еще бы, посмел бы этот старик с опухолью обвинять в чем-нибудь его отца! Но Глеб знал, что действительно отец ездил недавно на Вознесенский завод. Пробыл двое суток, вернулся не в духе.
На другой день, за обычным послеобеденным валяньем на диване он спросил об этом Калачева. Тот лежал на спине, в полурасстегнутой тужурке, с мундштуком в зубах, и высоко, заложив ногу за ногу, пускал изо рта кольца дыму. Внимание его было тем занято, чтоб одно текучее, сизо-завивающееся кольцо плыло за другим на равных расстояниях и как можно дальше уходило не развеявшись.
– Финк? А-а, всегда что-то из-под полы язвит. Раз… два… три… четыре…
Глядя на круто завернутое кольцо, бесшумно, бестелесно утекавшее, Калачев, как дирижер, отбивая в воздухе концом сапога такт, медленно досчитал до десяти. Кольцо все плыло.
– Браво!
Он даже вскочил.
– Глеб, обратите внимание, почти до самого окна. Десять секунд!
Калачев бросил окурок в пепельницу, вставил новую папиросу.
– Болеслав П… Фердинандович… нас осуждает, я знаю. А сам, а сам! А-ха-ха… Каждую неделю в Кильдеево ездит, там с подрядчиками и прасолами в стуколку режется. Да чего в стуколку, дело не в этом.
И Калачев рассказал Глебу, как несколько лет назад Финк проиграл три тысячи заводских денег и чуть было не повесился – вынули из петли, Наполеон лаем спас.
– У него сбережения были, все ухнуло, да еще вот и чужие… Вы понимаете! Но отдышался, а теперь опять копит и опять играет.
– Значит, про Вознесенск неправда? Калачев попыхивал уже новой папиросой.
– Разумеется. Всегда преувеличивает, что нас касается. Вышла маленькая задержка, больше ничего. Все отлично уладилось.
В подтверждение же того, что уладилось и что вообще все благополучно, Калачев пустил огромное кольцо дыма. Оно плыло с удивительною гармонией, почти что с музыкальной бесплотностью и развеявшись, наконец, могло бы служить для более философических зрителей некиим обликом бренности.
* * *
В конце мая выдался удивительный день, теплый, почти даже душный. Глеб отправился на озеро, в купальню. Вода, воздух показались ему обольстительными, тело блестело в брызгах, под золотом солнца. Он и плавал, и лежал на досках в адамовом виде, и опять прыгал в воду. Все это было отлично. В конце же концов озяб, вернулся домой посинелый. А ночью боль в горле, жар, все, как полагается.
Утром он встать уж не мог. Лежал наверху, в своей комнате на хорах – отец в Балыкове, Ганешину и Людмиле не до него. Друг Калачев навестил в то же утро, поохал, сказал, что позвонит отцу в Балыково по телефону и ушел. Кому с больным весело! Глеб впал в печальное настроение. Вот, ехал к отцу за тридевять земель поправляться после зимней болезни – а теперь заполучил летнюю! Но ведь там, в Калуге, на Спасо-Жировке хворал у себя дома, при матери, Лизе, Соне-Собачке. А тут, в чужом месте…
Отец приехал на другой день к вечеру – Глеб с радостью услыхал колокольчик тройки. Отец вошел бодрый и мужественный, хотя и обеспокоенный. Глеб, на своем диванчике, откуда видны были в окно лишь верхушки лип и берез в парке, сразу почувствовал, что теперь за ним сила, свое, родное.
– Что же это ты, братец ты мой, раскис? – говорил отец, ласково его гладил по волосам, трогал лоб. – Перекупался, говорят?
Глеб смотрел на него почти виноватыми глазами.
– Да я, знаешь… я, конечно, купался. День был уж очень хороший…
Он взял горячей, отроческой рукой знакомую, в мелких веснушках, в лаборатории Горного института некогда обожженную руку отца – хотелось прижаться к ней, поцеловать… – он нечто в этом роде и сделал, робко и неловко, и вдруг испытал новое, остро-пронзающее чувство – слез… Он закрыл глаза, постарался отвернуться. Отец еще ласковее обнял, тоже смущенно забормотал: «Ну вот, ну вот, что же это ты расхворался у меня, гимназиаст… Поправляться надо, сил набирать, а он хворает».
Глеб сделал огромное усилие, чтобы не заплакать (это был бы уже позор!), крепко сжал отцу руку.
– Знаешь, когда я выздоровею… надо уж домой… в Калугу.
Отец сел рядом в креслецо, задумался.
– Тебе здесь надоело?
Глеб чувствовал себя очень слабым и несчастным.
– Я… хочу… домой.
Отец поднялся. Подошел к двери, закурил, выпускал дым на хоры. Так он стоял, как-то странно курил.
– Да, видимо, братец ты мой, пора нам отсюда… Пора. Глеб не совсем понял, что хотел этим сказать отец, но осталось ощущение, что они с ним свои, неудивительно, что одинакового чувствуют.
Эти дни отец пробыл в Илеве. Заводской доктор мазал Глебу горло, как в Калуге Красавец, давал полосканья, держал в компрессе – жар стал спадать. Наступила та ровно-унылая полоса болезни, которой Глеб и боялся: немножко кашель, немножко жар, слабость… – бронхит, с одной кушетки переезжает он на другую, но сил для настоящей жизни нет.
Отец не совсем был покоен, Глеб это замечал. Зашел, наконец, навестить его и Ганешин. Сидел, расставив ноги, курил сигару, от которой Глеб закашлялся, рассказал неподходящий анекдот. Отец после его ухода сказал: «Какое брехло!».
В другой раз, в полуоткрытую на хоры дверь Глеб слышал громкие голоса снизу – Ганешина и отца. Что говорилось, разобрать было нельзя, но видимо, что спорят, сердятся. Потом все сразу смолкло, по лестнице шаги отца. Глеб, слабый и подавленный, лежал на диванчике, читал «Борьбу за Рим».
Отец вошел, слегка насвистывая, но лицо его было расстроенное – Глеб это сразу почувствовал.
– Ну вот, все читаешь, читаешь… Он подсел, взял толстую книгу.
– Роман… фантазии разные.
– Это ведь исторический, – сказал Глеб робко. – Очень интересно. Тут про Италию, Рим. Знаешь, завоевание Италии готами, а потом византийцами.
Глеб произнес это таким тоном, будто в Илеве отцу эти события так же близки, как ему самому. Отец фукнул.
– Вот именно. Готами! Это для меня необходимо знать. Исторический… Свою бы нам историю знать, русскую. Да, ну читай, коли интересно, но это все далеко от жизни, тебе ведь не в Риме жить, а на каком-нибудь таком заводе…
Отец вынул папиросу, не без нервности ее закурил.
– Иметь дело с такими болтунами петербургскими… Это никакой не Рим. И хуже всего – ферты, хлыщи… А ничего не поделаешь, в Вознесенск надо ехать, ты уж, братец ты мой, не взыщи, – продолжал вдруг отец мягче, – опять тебе придется одному побыть. Глеб вздохнул.
– Ты надолго?
– Нет… ну, все-таки, денька на два… Там дело есть.
К концу недели он действительно уехал. Глеб остался один со своей болезнью. Болезнь, правда, оказалась не так упорна как зимой в Калуге: он встал уже через два дня и бродил, и спускался вниз. Но все казалось чужим, даже Калачев раздражал – Глеб лучше чувствовал себя наверху на диванчике с «Борьбою за Рим».
Скромному писателю германскому Феликсу Дану да будет легка земля за питание отрока русского в глуши, в печали! Немудрящ роман, но впервые открылись из него Глебу Рим и Равенна, Неаполь, романтические короли готов, демонический защитник Рима Цетегус.
Осаждают замок св. Ангела и уже готы карабкаются на последнюю балюстраду защиты, но «по мраморным плитам загремели железные шаги». Рим еще не сдается. «То подоспел, вскачь с Эсквилинского холма со своими всадниками Корнелий Цетегус» – и на варваров летят античные статуи, украшавшие замок, а Глеб в полуазиатском Илеве блаженно холодеет от волнения, встает, прохаживается, вновь берет книгу.
Или вот – близок конец. Византийцы хитрого Нарзеса одолели и тех, и других. Готы заперты в ущелье у Везувия, римлян почти не осталось. Цетегус, в полном вооружении, шествует берегом моря. Мечта спасти Рим погибла. Впереди лишь смерть. И «у ног его, ласковые и нежные, ложились лазурные волны Тирренского моря, осень дышала неизъяснимою прелестью залива Баий» – Глеб в сладостной меланхолии шел за ним – в первый раз по священной земле Италии. А далее – видел последнюю, безнадежную битву с византийцами, где готы погибали, не сдаваясь и «запахнувшись в свой римский плащ», бросался в кратер Везувия Корнелий Цетегус.
Так кончал Глеб милую для него «Борьбу за Рим», а отец все не возвращался. Вечером зашел к нему Калачев.
– Завтра утром наверно вернется. Ах, как мне надоело тут… Фу! Если бы знали! Одни неприятности.
Калачев, правда, имел вид несколько растерянный. Он посидел, повертелся, взял «Борьбу за Рим».
– На ночь, что ли, почитать…
На другой день Глеб был удивлен посещением Финка. Болеслав Фердинандович не так легко и поднялся наверх – крупная его фигура с седой головой, опухолью на шее, в поношенном сюртуке заполнила всю дверь. Он довольно тяжело дышал, опирался рукой на палку.
– Нету еще пана директора. Ничего, все обойдется, зараз сюда приедет.
У Глеба забилось сердце.
– Почему папы так долго нет?
– Спокойнее, пане Глебе, зачем же вам волноваться? Пана директора никто тронуть не может, он тут ни при чем…
Глеб побледнел, поднялся с диванчика.
– Почему же папу может кто-нибудь трогать?
Финк сидел теперь в кресле, опираясь обеими руками на палку, поставленную между ног. Наполеон вертелся около него.
– Никто и не тронет, говорю вам за верное, как за то, что я Болеслав Финк. Из конторы с Вознесенском по телефону говорили, там все успокаивается.
– А… что же было?
И только сейчас, впервые от Финка узнал Глеб, что именно в Вознесенске-то и было «неблагополучно» – опять задержали выдачу, рабочие бросили мастерские – затем и послал туда Ганешин отца, выворачиваться…
Финк слегка нагнулся к Глебу, негромко сказал:
– Побоялся сам поехать, со своею шкалой все здесь возится, а пан директор отдувается…
Глеб совсем разволновался. От него скрывают, отца послали Бог знает куда, с опасным поручением… А вдруг там с ним что-нибудь рабочие сделают?
– Болеслав Фердинандович… вам кто сказал… как сказал про папу… Что он там сейчас делает?
Финк старался его уверить, что все налаживается, опасности нет, но руки Глеба были ледяные, ему мерещился уже отец, один среди бунта, в страшной толпе…
Финк посидел недолго, его позвали снизу. Если он полагал, что успокоит Глеба, то вышло как раз наоборот. Пометавшись по своей комнатке, Глеб основательней застегнул курточку, поправил пояс, волосы и, несмотря на некоторую слабость, довольно живо сбежал вниз. Друга Калачева нигде не было. Глеб заметил у подъезда подводу. На ней лежали два огромных чемодана свиной кожи. Через залу здоровенные носильщики тащили сундук с пестрыми наклейками: Monte Carlo, Cannes, Wiesbaden.
Под окнами пробежала Людмила в свежей кофточке. Вид у нее был озабоченный. «У кого же спросить?..» Никого нет, Глеба это расстраивало. Хотелось куда-то идти, узнать об отце, успокоиться. В этом томлении он забрел, через полуоткрытую дверь, в кабинет Ганешина. Тут тоже стоял доверху уложенный сундук, еще не запертый, валялись вещи, на столе куча книг. Глеб бездумно подошел, стал их перебирать. Тотчас попалась «Борьба за Рим», видимо, затащил Калачев. Вдруг звонок телефона на столе – тоненький звоночек девяностых годов. Глеб не знал как поступить, позвать ли кого, снять ли трубку и ответить. Телефон смолк, а потом вновь пустил свою трель – тут произошло нечто странное: дверь шкафа в стене отворилась, оттуда, как некий Щелкунчик, выпрыгнул головастый, на тонких ножках Ганешин. Он бросился к телефону. Увидев Глеба, вспыхнул.
– Вы зачем здесь? Что вы тут роетесь в моих книгах? Нет, нет, покорнейше прошу…
В отверстие шкафа видна была другая комната. Там укладывалась Людмила.
– Я… тут моя книга… – Глеб с ужасом чувствовал, что не так что-то говорит, но ничего больше не смог из себя выдавить. Треугольная голова Ганешина припала к телефонной трубке, лысина светила на Глеба, он с ненавистью смотрел на эту лысину, на узкие серенькие брючки, элегантный пиджачок.
– Я хочу знать, наконец, – твердо, но с мучением произнес Глеб, – где мой папа?
Ганешин сердито замахал на него рукой.
– Не мешайте! Успеете со своим папой… Это как раз Вознесенск. Ну вот, ну вот, можете успокоиться. Это он и есть. А? Да? Выезжаете? Отлично. А то ваш наследник тревожится, залез даже ко мне в кабинет. А? Плохо слышно. Нет, ничего. В порядке. Вы нас с Людмилой еще застанете. Да? С ним поговорить? Извольте. Передаю трубку отпрыску, который нынче не в духе…
В шкафу-двери показалась Людмила.
– Аркадий Иваныч, эти две блузки я вам в сундук подбрасываю, в моем не умещается…
Щелкунчик замахал на нее руками. Увидев Глеба, она смутилась, бросила на диван блузки, скрылась. А Глеб прильнул к трубке и в неясном бормотании ее все же узнал голос отца. Да, все уладилось. В Вознесенске спокойно, у подъезда тройка, через два-три часа он в Илеве.
Ганешин нервно ходил по кабинету. Когда Глеб положил трубку, он вновь обратился к нему – теперь несколько мягче.
– Мне о вашем отце все уши прожужжали – что с ним, да как он… будто я виноват! Он инженер, у нас служит, его обязанность – улаживать всякие там… недоразумения. У вас же такой надутый вид, вы сердитесь, молодой человек… ах, ну я так сказал, это пустяки, разумеется, но не люблю, чтобы у меня в комнате рылись в книгах.
– Я не… рылся. Я просто беру назад мою же собственную книгу.
– Вашу книгу! Как она сюда попала? Ну ладно, ладно, мир!
Подойдя к Глебу, он полуразвязно, полублагодушно обнял его.
* * *
Три часа до приезда отца Глеб провел в одиночестве, у себя наверху. «Борьба за Рим» лежала на столе. Снизу слышны были голоса, опять тащили через залу что-то тяжелое, потом заскрипела подвода. Глеб вставал, прислушивался, выглядывал в окно.
Как хотелось бы, чтоб отец поскорее приехал! Он полон был беспокойства, смущения, тягостно-неясный оттенок господствовал над его душой. Правильно ли он держал себя с Ганешиным? Может быть, надо было покрепче? Ведь тот крикнул так грубо… правда, потом почти извинялся. Ах, все это неестественно, фальшь…
В томлении своем Глеб не выдержал и пред вечерней зарей сошел вниз в парк. Его радостно поразил свежий, такой нежно-благоуханный летний воздух. Пахло и лесом и влагой, и немножко тянуло скошенным на лужайке сеном. Необыкновенным, недосягаемо-прекрасным показалось розовевшее к закату небо. Глеб пошел в сторону домика Финка, в смутном, но волнующем утешении. Вечерний дрозд утешал его, вечернее благоухание, эта неизреченная прелесть неба.
Встретился Финк. Он был в пальто и шляпе. Шел торопливо. Наполеон, как бешеный, вокруг носился.
– А я в Кильдеево…
– Играть будете?
Финк взглянул на него не совсем дружелюбно – откуда, мол, известно?
– А не вечно в этой дыре киснуть, доложу я вам.
Если бы Глеб знал, что в Кильдееве остановился на несколько дней богатый подрядчик, что к ярмарке съехались купцы, прасолы и игра будет крупная, он бы понял, почему Финк так оживлен.
Солнце садилось, когда издали он услыхал колокольчики – это отец, о чем говорить. Тройка в мыле остановилась у подъезда (Глеб едва успел добежать), отец, похудевший и усталый, вылезал из тарантаса в дорожном пыльнике – это был он, живой, настоящий отец.
– Ну вот, ну вот…
Он прямо поднялся к себе наверх, там переодевался, мылся, фыркал отдуваясь, плюясь – и рассказывал.
– Паршивое, братец ты мой, было положение… Я уж тебя не хотел тревожить. В конторе сидел, как в осаде. Толпа кругом… Эти-то, которые около меня были, выбранные от рабочих, ничего… А там издали все напирали.
Глеб с волнением, ужасом слушал рассказ отца, как ждали ответа на телеграмму в Петербург, как бросали снаружи иногда камнями в окна, в одном месте высадили раму…
– Папа, уедем отсюда… – Глеб говорил почти умоляюще. – Тут нехорошо.
– Провожу нынче хозяина, а там и мы с тобой тронемся. Мне надо в Нижний по делам, а тебе пора на твою Спасо-Жи-ровку.
Глеб рассказал отцу про Ганешина, про «Борьбу за Рим» и неприятный случай – тот только рукой махнул:
– Обращать на него внимание!
Это Глеба сильно укрепило. Значит, он не сделал ничего предосудительного – достоинства своего не уронил.
На другой день Ганешин с Людмилою укатили. Ганешин помахивал на прощание ручкой – отцу, Глебу, Калачеву. Калачев несколько вспотел. Он беспрерывно курил и вся полурасстегнутая его тужурка была засыпана пеплом от мундштучной папиросы.
– Людмилочка отправилась в Петербург, – говорил он Глебу, полуобняв его и разгуливая по зале, – Аркадий Иваныч устраивает ее на сцену… любительскую, а там видно будет. Я же пока здесь… – он прижал к себе Глеба и белыми, умоляющими глазами посмотрел на него. – Я временнно остаюсь здесь, Глеб, главным представителем Правления… но и меня Аркадий Иваныч устраивает в Петербурге, при Совете съездов горнопромышленников… Людмилочка должна присмотреть нам квартиру, где-нибудь на Сергиевской или Фурштадтской. Это аристократические улицы. А-а, Петербург…
Неизменно поколыхивая широким задом, стал он рассказывать, как по улицам этим проносятся придворные кареты. На спектакли Михайловского театра собирается знать, а в ресторане «Медведь» кутят гвардейские офицеры.
* * *
Та самая сила, что чрез одни леса и реки влекла Глеба сюда, теперь иным путем и удаляла.
Тройка, на которой он с отцом выезжал в ганешинской коляске из Илева, шагом шла по плотине. А там свернула в лес, мимо того обгоревшего дуба, который хорошо знал уже Глеб – по дороге к Сарову. Кучер пустил лошадей рысцой. Илев быстро канул в былое. Глеб не очень о нем и думал, мелколесье, мхи да пески окружили, завели медленное свое круговращение вокруг коляски.
– Жаль, – сказал Глеб, – что мы на Балыково не поедем. Отец мирно курил, мирно смотрел, ровно ли идут лошади, хорошо ли берут пристяжные, не засекаются ли. По его отдохнувшему, спокойному лицу было видно, что он наконец в своем мире – лесов, природы, лошадей.
– Балыковский завод в стороне, верст пять лишних пришлось бы сделать.
Глеб знал, что это новое место, там строят домну и туда, тоже в новостроящийся дом переедет отец к осени. Там будет жить мать и туда придется приезжать на каникулы.
– А через Сэров поедем?
– В самый монастырь не попадем. Но леса ихние увидим.
Путь лежал на уездный городок Темников, а там по Оке на Нижний. Пароход проходил около двух ночи, так что поторапливались – одна тройка ждала подставой близ Сарове, другая в Темникове.
Саровские леса велики, знамениты. Сорок тысяч десятин мачтовой сосны и ели, прорезает их река Сатис, темноводная, глубокодонная. Сколько рыбы, зверья! Но охотиться в лесу нельзя, он под охраною покойного старца Серафима. Медведь российский пред ним склоняется. Таинственный старичок, сутулый, маленький, несущий на спине вязанку дров, братски дает ему хлебушка: по всей Руси прошелся позже преподобный Серафим с медведем в тысячах лубочных воспроизведений.
Уже смеркалось, когда Глеб с отцом вступили в область Серафима со стороны Ардатовской дороги. Действительно, все сразу изменилось. Бор, сумрак, смоляной дух, тишина. Лошади пошли шагом – корни сосен столетних протягивали кое-где под дорогою свои узлы: коляску слегка покачивало.
– У них тут, правда, и медведи есть, – сказал отец. – Барсуки, лисы. Охота богатейшая. Глухарей одних сколько. Но это, братец ты мой, нам с тобою заказано. В пяти верстах жить будем да облизываться. Охотиться никому не позволяют. Хоть бы великий князь приехал – не положено. Кое-где кучер трогал рысцой.
Становилось темнее. Тянуло в верхушках гулом почти музыкальным. Сосны медленно проходили, как на тихом параде великаны. Гигантский муравейник, пень. Ель, лежащая с вывернутым корнем, выгребла из глубин рваные клочья земли, мелкую сетку корешков. А если полоса сплошных елей, то сразу темно, и так мертвенно-сухо засыпано по земле иглами – ни травинки, ни цветка.
Глебу было довольно жутко. Правда, рядом отец, теперь лицо его видно лишь в краснеющем отсвете папироски. Глеб, как охотник, знал жизнь медведей, не очень-то разгуливающих по большим дорогам – все-таки… вдруг да выглянет из-за сосны. Может быть, и разбойники где-нибудь прячутся. И во всяком случае, смутно-таинственное и почти грозное было в темнеющем бору.
– Вот от этого поворота до монастыря версты полторы, – сказал отец. – А нам на Темников направо.
Весьма вероятно, что именно в этих местах и встретили бы они шестьдесят лет назад сгорбленного старичка с вязанкой дров, с милым медведем спутником… и не узнали бы его. Как и теперь, хоть и молчали все, в задумчивости, все же не понимали, по каким местам Родины едут.
Ехали долго. Лес, тьма, скоро ставшая почти непроглядной, утомили Глеба, он пристраивался то к углу коляски, то к плечу отца. В голове путаница, слипалось, на толчках вспыхивала мгновенная искра из батарейки, что-то связывала, а там снова хаос. В нем тонул и Сэров, и отец, и лес, лошади.
Глеб очнулся, когда тройка шла ровно, спокойною рысью, в пустынном поле. Над головой увидал он звезды, впереди огоньки.
– Темников, – сказал кучер.
Отец наклонился к Глебу, усы его пощекотали ему щеку.
– Ну что, проснулся, гимназист?
Глеб не совсем довольным тоном ответил:
– Может быть, я немножко задремал сейчас… но все слышал.
– То-то вот и может быть. Два часа уж из саровского леса выехали.
Так задернула ночь от Глеба Саров и Илев – точно Илева и вовсе не было. Глеб о нем и не думал. Калачев же в Илеве все-таки существовал, и как раз находился теперь один в большом доме, выпивал, а поболтать не с кем: даже Финк уехал опять пытать счастье в Кильдеево.
В Темникове перепрягали лошадей, отец с Глебом выпили по стакану чаю, и опять началась ночь, коляска, темнота, опять Глеб заснул мертво-отроческим сном, с болтающейся на толчках головой, и в предутренний час докатились они из тамбовских степей к той же Оке, что сопровождала Глебов путь с детства.
Трудно было Глебу понять, что это Ока. Умирая от желания сна, он сидел с отцом на захолустной пристани, под несчастным фонариком. Впереди что-то темное и бесконечное. Пахнет рекой, вода поплескивает. Но глазное мрак, мрак… Сон, сон.
Появились огни на воде. Весь светящийся, Глебу показавшийся огромным, подошел пароход, «полуволжский», это уж не «Дмитрий Донской» Будаков. Блаженно перебрались в мир новый – изящества, тепла, света, элегантной рубки, отдельных кают первого класса.
Пароход в мягком подрагивании понес по Оке вытянувшиеся на диванах подобия отца и Глеба – утром им предстояло ожить и вернуться в мир. И как раз в часы их отсутствия шла в Кильдееве карточная игра. Финк на этот раз взял с собой все свои сбережения.
Когда отец с Глебом проснулись, был уж дождливый, сумрачный день. Подходили к Нижнему Новгороду. Ока кончалась и была сколь многоводнее, шире, чем под Калугою у Будаков. Чуть что не Волга.
В серости мелкой мокрети особенно зеленели дубравные холмы с красными срезами-обрывами, где проступали слои сланцев, глинистые размывы. Все текло, мокло. Кое-где посевы на полях – посветлевшие уже ржи, ярко-зеленый овес.
Показался и Нижний – Заволжье и Волга, лес и степь, Россия и Азия. Глеб в волнении видел какие-то башни по горе, зубчатую древнюю стену, вниз сбегавшую, церкви, Кремль – над слиянием Волги и Оки знаменитый город. Финку, может быть, не так был он приятен – в свое время выручил Россию… Но Финк не мог уж сейчас ничего ни сказать, ни сделать. Проигравшись до последней трехрублевки, он вернулся на заре в Илев, лег у себя на диван и более не встал. У его смертного ложа выл Наполеон.
III
Красавец достаточно наездился по маскарадам, достаточно и намокал. Поприелись интрижки. И, перевалив за пятьдесят, неожиданно женился он на молодой Олимпиаде Фирсовой.
Это произошло весной, через год после Илева. Глеб ездил уже не в гимназию, а в реальное училище – последние месяцы Спасо-Жировки. Соня-Собачка кончила учение, уезжала в Москву на фельдшерские, сестра Лиза в Консерваторию, мать к отцу на Балыковский завод. С осени Глеб должен был остаться в Калуге совсем один – поселялся у Красавца.
Он провел вдвоем с Лизой довольно грустное лето. Лиза готовилась к консерваторскому экзамену, брала уроки у сухонькой, черной, прихрамывающей музыкантши – ходила к ней на Никольскую. Иногда музыкантша сама приходила – издали было видно, как она ковыляет по Спасо-Жировке. Начинались этюды, экзерсисы, Бетховены. Глебу даже и нравилось, когда они играли в четыре руки «Кориолана» – он высовывался из окна гостиной и глядел вниз, по сбегавшей к тюрьме улице, вдаль за Оку, где некогда были Будаки. Но все это конец, конец. Вот пройдет август – и «Кориолана» не услышишь, не увидишь сестры. К октябрю новые жильцы въедут в эту квартиру.
…Проводы Лизы – долгий путь чрез Московские ворота за город, к вокзалу. Буфет, звонки, поезд, последние поцелуи. Хроменькая музыкантша все твердила Лизе: «Скажите в Консерватории, что вы моя ученица. Меня там все знают, даже сам Сафонов».
Глеб шел за поездом – из окна кивало худенькое, милое личико, слегка в веснушках, с карими, как у матери, глазами. Сквозь слезы Лиза повторяла: «Глеб, ты, пожалуйста, пиши», – а там и платформа окончилась, поезд прибавил ходу. Все сплылось, потонуло в хаосе, некрасоте разных товарных вагонов, семафоров, железнодорожных строений. Лиза одна катила теперь в темноте ночи.
Тот же извозчик вез Глеба обратно. Убоги огоньки предместья. Длинен жезл шоссе до Московских ворот, с канавками по бокам, одноэтажными домиками, где живут рабочие мастерских железнодорожных.
На Спасо-Жировке тоже пусто. Старая кухарка отворила Глебу. Он прошел по знакомым комнатам – все уже иное. Упаковщики купца Ирошникова, которому поручено было отправить мебель в Балыково, почти кончили работу. Диваны, стулья зашиты в рогожу, сундуки увязаны… Только в Глебовой комнате сохранилась еще кровать. Кухарка покормила его и ушла. Глеб остался один.
В окне дома скопцов, через улицу, тусклый огонек. Глеб за эти два года насмотрелся как живут они там – въезжают в ворота возы с пенькой, разными тюками, встречают их безусые существа. Потом безмолвно все затворяется. Назавтра вывезут опять – для продажи? И так изо дня в день. Считают, едят, спят, копят…
Глеб рано лег, но не мог заснуть. Казалось, совершенно он один в неоглядной ночи. Разбирал страх. Сердце ныло. Он ворочался, подушка нагревалась.
Вдруг в доме вспыхнет пожар – загорится нижний этаж, запылает и не заметишь как, и не совсем простым пламенем, а тоже особенным, невесомым, геенским… – переполыхнет оттуда, через улицу – и конец.
Глеб приподнялся на локте, стал присматриваться. Виски влажны. Сердце бьется. «Ну да, тогда надо связать простыни, прикрепить здесь за что-нибудь… и вниз. Соскользну». Он поднялся, босиком прошел во тьме комнаты, присмотрел все-таки, за какую рукоятку увязать конец простыни. Опять лег. Опять началось прежнее – почему этот страх таинственного пожара? Почему именно казалось, что скопцы, загадочная для него нечисть, наведут злую силу? Но вот казалось.
Он заснул поздно. Утром все представилось другим, ясным и обычным. Лиза уже в Москве, или к ней подъезжает. А он оденется, напьется чаю и, набив учебниками ранец свой, выйдет из дому, чтобы в него уже не возвращаться – после уроков прямо к Красавцу.
Глеб попрощался с кухаркой, за воротами медленно стал подыматься по улице вверх. Сентябрьский солнечный день, несколько белый – такой острый в запахах из-за Оки, даже в стуке колес извозчика.
Идти теперь ближе, чем раньше в гимназию – с половины Никольской свернул он в переулок, весь в садах и заборах. Чувствовал себя странно: в самой горечи – бодрость, вчерашнее отжито, Лиза уехала, с ней последний отклик домашнего: он теперь полувзрослый, доверен собственным силам… Что же, посмотрим!
В розовом здании, довольно приветливом, Глеб учился уже второй год. Всех теперь знал и ко всем привык. Все-таки каждый раз, подходя, среди десятков детей и полуюношей в темных шинелях с желтыми пуговицами и желтыми листиками на фуражках, ощущал напряжение, нервный подъем. Нынче не меньше, чем в другой день. Но сегодня был он и острее, легче, сильней, чем обычно.
В гимнастическом зале все Училище на молитве – с этого начинается день. «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде сый и вся исполняяй…»
Отпели, разошлись по классам и спустились вниз в рисовальный. Два часа рисования! Приятно, да и нетрудно. Михаил Михайлыч – маленький, с огромною полуседою головой, пыхтящий лесовик с волосами из ноздрей, ушей, на щеках, на руках. Пальцы от табаку желто-бурые. Некогда он учился в Академии – его кисти в учительской портрет Александра III, его гением нагнана новая скука на невеселого Императора. Михаил Михайлыч ходит на маленьких ножках, заложив руки в карманы вицмундирных брюк – точно на нехитрых подставках шествует Голова из «Руслана».
В классе густым лесом орнаменты, бюсты, гипсовые фигуры. Парты подобием амфитеатра, окна со ставнями изнутри, чтобы управлять светом. Разместившись, разложив папки, рисуют акантовый лист или спираль, кто поспособнее – руку, полумаску.
Михаил Михайлыч по очереди подсаживается к художникам, сопит, распространяет запах табаку, подрисовывает, снимает снимкой, мажет растушевкою, временами бурчит. Брови над глазками раз навсегда насуплены. «Мы не довольствуемся… приблизительным изображением… мы требуем… тщательной разработки… всех планчиков».
Таинственные планчики эти – основа его художества. Свет на выпуклом месте – один планчик. Падающая от листа тень – другой. И еще кит – «заборка»: умение тщательно тушевать, снимая липкосмоляной снимкою темные точки, подтушевывая светлые.
Глеб с приятелем своим Флягиным сидел довольно высоко, сзади. Флягин, второгодник, крупный блондин с голубыми глазами, распухшим от насморка носом, сын купца из Мещовска, рисовал лучше Глеба. Сейчас, посапывая, тушевал голову Артемиды. Впереди и пониже Михаил Михайлыч пыхтел над рисунком Сережи Костомарова, сына портного с Никитской, худенького мальчика с оттопыренными ушами. Сережа рисовал добросовестно, как добросовестно и вообще учился. На носу его, близ переносицы, выступила капля пота, не унаследованная ли от всего его трудолюбивого портновского рода? Сквозные уши розовели, он казался тоненьким и милым рядом с патлатою головой Михаила Михайлыча. Глеб чувствовал себя остро, нервно. Ему все было смешно. Нервная смешливость нападала на него теперь нередко.
Ученик Толиверов нежданно ухватил сзади Флягина под мышки. Тот глупо рявкнул. Глеб захохотал, повалился на рисунок головою.
Михаил Михайлыч, с растушевкою в руке, обернулся.
– Послушайте… м-м-м… перестаньте тотчас же смеяться… Глеб еще сильнее фыркнул ему прямо в нос.
Михаил Михайлыч засопел угрожающе.
– Если вы… немедленно не прекратите… бессмысленного смеха… мешающего моим занятиям… я вам поставлю неполный балл за тушевание. Флягин… а вас, при продолжении непонятных мне… рыканий… я немедленно удалю из класса.
– Да я ничего, право ничего, Михаил Михайлыч…
Флягин стоял, хлопал белесыми глазами, обдергивал из-под пояса свою куртку.
Михаил Михайлыч оборачивается вновь к рисунку, планчикам, заборке. Как удаляющийся гром, бурчание:
– Бессмысленный шум… препятствует… моим классным занятиям.
И опять все в порядке. Карандаши рисуют, снимки щелкают, растушевки тушуют. Михаил Михайлыч, несомненно, безобидный человек.
А в назначенный час бьет звонок. Подымаются, стуча пюпитрами, собирают пожитки и наверх, в класс обычный. Десять минут перемены – урок истории.
Василий Иваныч невысокий блондин с козлино-курчавой бородкой. Когда входит, в глубине легкое блеяние: давно, прочно, для младших, как и для старших, Василий Иваныч вовсе не Каплин, а Козел. Никто против него ничего не имеет, но право блеять при его появлении – право давнее, укоренившееся. Странно представить себе, чтобы Козел запротестовал.
Он и не протестует. Как всегда, он покорен, уныл, равнодушен. Поправит фалду, протрет золотые очки, сядет у своего столика, разложит журнал… Куда пойдешь, кому скажешь? Что может быть интересного среди этих двадцати полуюношей, которых надо вызывать, спрашивать у сына лавочника о католической реакции, у сыновей портных о Карле Пятом?
Во второй половине урока Козел сам рассказывает. Он ходит медленно от окна к двери, медленно разговаривает как бы с собою самим – знает, что никто не слушает. Знает, что все знают о недостатках его речи, путанности ее и несвязности.
– Тогда Император… вот это как… утомившись от дел управления… ну, от дел… он и решил поселиться в монастыре… как его… ну, там в монастыре святого Юста. Флягин, о каком это я Императоре… как там… вот это как… рассказываю?
Флягин писал письмо гимназистке. Вскочил, как спросонья, толкнул Глеба в бок. И к удивлению своему Козел слышит, что дело идет о Карле Пятом. Мало того – не очень складно, сморкаясь и слегка гундося, громкоговорителем сообщает Флягин нечто о могуществе Карла, его армии, флоте.
– Да, ну… флоте. Хорошо… а кто до него по Ан-тлатическому океану плавал для открытия… там… ну?., неизвестных… чего неизвестных? Земель. Неизвестных земель.
Флягин докладывает, что Колумб – с таким видом, будто лично был с ним знаком.
– Ну, Колумб плавал, верно. Это вам подсказывают. Я слышу… вот это как. Колумб плавал.
– Бэ-э-э, – раздается из глубин. – Ан-тлатический! Козел!
Козел знает, что никогда правильно не произнести ему Атлантический, знает, что над ним смеются, но привык. Он себе тянет-тянет. Идет лошадь в обозе, нечего по сторонам глазеть, тащи да тащи, а стеганут кнутом – махнешь хвостом да и дальше.
На большой перемене из-за хорошего дня выпускают на полчаса в сад. Тут едят реалисты свои завтраки – первая половина уроков кончилась.
Глеб гулял в саду по аллейке с Сережей, под мягким солнцем, в бегущих, играющих, текучих тенях кленов поредевших. Церковь Иоанна Предтечи за деревянным забором, на той стороне переулка. Розовое под зеленою крышей Училище, розовый дом директора, молодость, блеск сухих паутинок по траве – слюдяной и сребристой – горький воздух, шуршащие под ногой листья…
Глеб в некоторой задумчивости входил в класс после звонка. Солнце золотой полосою легло на рукав его куртки, когда он сел на свое место, в этом тепле была ласка, нежащий и волнующий привет. В окне верхушки кленов. Над ними лазурь, там вспыхивали порывы ветра, листья клонились, некоторые косым цветным дождем летели вниз. Там вообще все было странное и чудесное, начиналось оно тотчас за окном.
Тот же мир, в котором находился Глеб, вдруг стал кошмаром. В дверях показался с журналом старичок, в вицмундире, со светлыми, нервными глазками, в них беспокойство. Еще бы не беспокоиться…
Глеб знал уже все это. Мсье Бодри полубольной француз, полунормальный, доживающий последние дни до пенсии. Картина всегда одна.
– Que j'eusse, que tu eusses, qu'il eflr[17], – пел класс хором. С задней парты вылетела бумажная стрела и описала дугу над головою Бодри.
– Que nous eussions, que vous eussiez…[18]
Француз медленно поворачивал голову к неприятелю, окидывая его взором артиллериста, определяющего дистанцию. Изогнувшись, вдруг тигром кинулся к столику, хлопнул по нем журналом.
– Замолшать!
Из дальних окопов открыли огонь бумажными фунтиками с чернилами – одни летели в потолок, другие шлепались в доску. Собственно, это уже не урок, а сражение. Француз бросался от одной парты к другой, стучал кулаком, хлопал книгой… – сзади тотчас хохот, свист, вой.
– Замолши, негодяйчик!
Бодри размахивает линейкой.
– Стань в угол, мерзавец! Выйди тотчас вон из класса.
– Гы-ы-ы…
Бодри, весь в поту, кидается на правый фланг.
– Я тебя знаю, негодяй! Твой отец в тюрьме сгнил!
– Сгнил, сгнил… Сам, француз, сгнил…
Глеб сначала смеялся, но быстро надоело. Ни он, ни Сережа в бою не участвовали. Флягин тоже – доканчивал письмо гимназистке.
А солнце передвинулось. Его благодать теплила и золотила теперь Глебова соседа. Лазурь разгулявшегося дня была все такою же за окном. Хотелось окно отворить и уйти. Куда? Не все ли равно!
Урок до звонка не дожил. Бодри выскочил со своим журналом в коридор – не прямо ли в сумасшедший дом? Сережа обтер с носа капельку пота.
– Черт знает что!
Александр Григорьич вошел в класс тотчас после звонка. Все встали. Высокий, худоватый. Вицмундир застегнут на все пуговицы. К столу приблизился с видом таинственным, сел, заложил руку назад, стал ею слегка подбрасывать фалду – точно махал хвостом. Умные карие глаза переходят с лица на лицо. Временами слегка расширяет он их, ясный виден радужно-выцветший зрачок, и все молчит. Приглаживает рукою на боковой пробор разделенные волосы и все смотрит.
– Очень хорошо! И… (расширив опять глаза) и очень хорошо! Великолепно.
Стало совсем тихо.
– Юноши пятнадцати лет, ученики Реального училища, будущие инженеры, техники, агрономы… Вместо того, чтобы выслушивать преподавателя, ведут себя как уличные мальчишки (совсем грозно расширил глаза), издеваясь над старым преподавателем, устраивая безобразную оргию – и это мой класс! Я классный наставник. Благодарю! Да. Признателен. Превосходно! Но предупреждаю: кто хочет заниматься скандалами, для того есть еще время подать прошение об увольнении… Педагогический совет не станет возражать. Не станет-с. Гарантирую. На листе почтовой бумаги написать: по состоянию здоровья прошу уволить меня из Калужского реального училища. И конец. И все-с. Гербовых марок не надо!
Он встал, проверил рукой, хорошо ли застегнуты на груди пуговицы вицмундира – и, подойдя к первой парте, взором заклинателя змей обвел класс. Змеи молчали. Так длилось с минуту. Он на каждого направлял взор.
– И отлично-с. Уволим. Умолять остаться не будем-с.
Он сделал рукой жест в направлении дверей – приглашал, верно, в канцелярию.
Потом перевел дух, в том же застегнутом вицмундире сел за свой стол.
– Весь класс без обеда. На час задержан. При малейшем шуме – на два. При новом шуме – на четыре, и так далее, в гео-мет-рической профессии. В геометрической! И никаких оправданий. Никаких оправданий.
Лицо его приняло выражение спокойной отдаленности. Будто по неким параболам улетал он в ледяные пространства. И голосом безличным произнес:
– Филипченко. Объем усеченной пирамиды. Коротконогий, угреватый Филипченко вышел к доске, стал рисовать мелом усеченную пирамиду. Александр Григорьич сел в профиль к классу, подпер рукою голову и закрыл глаза. Лицо его было бледно и утомленно.
Время же текло. Солнце совсем отошло от Глеба, ушло и из класса, в упор освещало дом директора. Глеб мало занят был усеченной пирамидой. Прохладно, почти равнодушно отнесся и к тому, что придется сидеть лишний час. Он смотрел в окно. Лазурь… Хорошо бы достать холст, краски и попробовать написать всю эту прелесть.
* * *
Красавец привык действовать самостоятельно. Но прежде чем окончательно решить вопрос о Глебе, его переезде к ним, спросил жену. Олимпиада мало знала Глеба, встречала всего раза два – отнеслась вполне равнодушно.
– Пускай живет. Только, чтобы мне не мешал.
Красавец объяснил, что племянник у него нешумный и «серьезный»: его еще в детстве звали Herr Professor.
– Это мне все равно. Какой там профессор, мальчишка, конечно. Только чтобы нос очень не задирал, не важничал: терпеть этого не могу.
Красавец поцеловал ее в шейку.
– Душечка, об этом говорить не приходится. Глеб – мой племянник, нашей породы. Следовательно, воспитанный молодой человек.
– Вот и пусть у себя в комнате сидит, уроки учит. Воспитанный, так и славу Богу.
В первый же день воспитанный молодой человек явился из Училища, опоздав на час.
Глеб считал уже себя довольно взрослым, той затурканности, как в гимназии, у него не было, все же показалось неприятным, что на новом месте появляется он, отсидев лишний урок.
Красавца дома не было. Его встретила Олимпиада, по-домашнему в капоте – свежая, здоровая, жевала тянучку – совершенно покойная.
– Твои вещи привезли нынче со Спасо-Жировки. Все там у тебя в комнате.
И как хозяйка – не враждебная, но и довольно безразличная, провела Глеба на новое его жилье. Об опоздании даже не спросила.
Глеб увидел кожаный чемодан свой. Да, значит, уж поселился. Он все-таки был несколько смущен.
– Вы знаете, у нас в Училище вышла сегодня такая глупость, такое безобразие…
И рассказал о Бодри.
Олимпиада доела тянучку, повела на него великолепным своим синим глазом.
– Это все чепуха. На то и мальчишки, чтобы учителей дразнить. Меня самое сколько раз в гимназии без обеда оставляли. А ты… вон скоро будешь взрослый, за гимназистками начнешь бегать, по углам целоваться… Только уж пожалуйста, никакой не Herr Professor, первый ученик. Не люблю тихонь.
Она улыбнулась, довольно даже одобрительно.
– Комната, кажется, ничего себе? Умойся, приходи в столовую. Дуня накрывает.
Глеб без затруднения выполнил программу. Комната его, хоть и во двор, большая, светлая. Да и вообще квартира славная – свежее все, заново отделанное, добротное. Просторно, паркеты сияют, фасад на Никитскую, напротив церковь. Дом угловой – другие окна в переулок (Глебово тоже). Ему понравилось в этом новом въезде нечто взрослое, сам он себе показался крепче, самостоятельней. Да, он почти «молодой человек». Близкой семьи нет, но живет у дяди, какой он ни на есть Красавец, все-таки доктор известный, у него молодая жена… Тетушки должны быть много старше, толстые и добродушные, и скучные. Значит, не всегда ведь так…
В столовой был накрыт для Глеба прибор. Олимпиада сидела в качалке у окна, выходившего на Никитскую – слегка покачивалась, читала газету. Часы тикали. Глеб молча ел суп. Подымая голову, рассматривал Олимпиаду.
Она совсем была еще молода и недавно замужем, но вполне вошла в роль – так бы и быть ей дамой калужской, наигрывать на рояле «Молитву девы», читать романы Мордовцева, философствовать с молодыми людьми о том, что лучше: иметь и потерять, или ждать и не дождаться. Главное же, есть, есть… за кофе розанчики, за обедом индюшек и пироги, за дневным чаем торты, среди дня конфеты. Олимпиада была вся крепкая и сильная, здоровой купецкой закваски, обильно созданная – женскую стихию ее Красавец верно почувствовал, не разочаровался.
Олимпиада отложила газету, обернулась к Глебу.
– Тебе плохо тут будет по Никитской шататься. Я люблю у окна сидеть и все вижу. Кто кого ждет, кто за кем ухаживает.
Глеб усмехнулся, но не смущенно.
– Да я по Никитской вовсе и не шатаюсь.
– Почему же это?
Олимпиада спросила таким тоном, будто Глеб делает странный промах.
– Неинтересно.
Олимпиада протянула к столу руку, взяла маленький серебряный портсигар, вынула папиросу, не торопясь, закурила. Не меняя позы, пускала дым то из ноздрей, слегка вздрагивавших, вниз, то изо рта – под малым углом вверх. Все это имело такой вид, что вот прочно, у себя дома молодая, приятная женщина курит и покачивается в качалке и никакой силой ее не сдвинешь, что-то она свое чувствует, о чем-то думает, очевидно нехитром, но неколебимом, как неколебима сама Калуга, все Терехины и Фирсовы, Коноплины, Ирошниковы – во всех лавках, магазинах и лабазах.
– Неинтересно! А что же тебе интересно? Учиться? Ты, говорят, хорошо учишься?
Тут Глеб почувствовал некоторое смущение. Даже чуть покраснел.
– Да, учусь хорошо. Но… – слегка запнулся, а потом все-таки досказал: – Это мне тоже неинтересно.
Олимпиада пустила весь дым в его сторону.
– Понимаю. Сама терпеть не могла учиться… Значит, ты вовсе не такой первый ученик, как о тебе рассказывают. Тем лучше.
Глебово смущение оттого еще происходило, что ему казалось – вот сейчас она начнет расспрашивать, допытываться, кто он, да что он… Глеб меньше всего желал бы отвечать на такие вопросы. Он еще основательнее уткнулся в еду, опустил занавес и теперь уж нельзя было бы дознаться, что за этим занавесом: молча сидел и ел ученик пятого класса Калужского реального училища – худенький, с довольно большою головой, нежным цветом лица и прохладными глазами.
Олимпиада, впрочем, не приставала. Она покуривала, покачивалась в качалке, посматривала на Никитскую: «С кем это мадам Левандовская?» Жена акцизного проходила по той стороне с молодым человеком, которого Олимпиада не знала. Завела себе кого-нибудь? Ну, на здоровье. Запомним, но расстраиваться не будем. Впечатлений довольно много: прокатил на нарядной паре Каштанов, розовый сероглазый купчик (наверно к «своей» – всегда в эти часы ездил), прошел тоненький поручик-артиллерист. Капитан Ингерманландского полка Длужневский, красный, с рыжими усами, сильно выпивающий, прополз с худощавою женой – неинтересно. Наконец, подкатил на резинках и Красавец – у него начинается прием.
Красавец разъезжал по больным в палевых перчатках и довольно странном матовом полуцилиндре – считал, что это придает ему солидность. Глеб доедал печеное яблоко, когда душистый, оживленный, слегка покачивая брюшком, на тоненьких ножках в лакированных ботинках, вошел дядюшка.
Увидев Глеба, распахнул объятия.
– Ну, вот! Вот и милый юноша под моим кровом. Рад видеть!
И важно выпятив губы, наморщившись, как любила изображать Собачка, поцеловал Глеба в щеку.
– Надеюсь, что Олимпиадочка хорошо тебя поселила? Сын дяди Коли у меня, как в своем доме. (Красавец всегда называл брата «дядя Коля».)
Глеб поблагодарил: все отлично. Олимпиада чуть-чуть улыбнулась.
– Оказывается, Глеб вовсе не такой зубрила, как я думала.
Красавец был уже возле нее. Для такого русско-польского пана грех было бы задержаться, опоздать к «мурмуровой» ручке пани.
Красавец получил и ручку и сахарную шейку, и с другой стороны шейку – после скучных больных надо же нравственно встряхнуться, тем более что через несколько минут опять больные – теперь в его кабинете.
К нежностям Красавца отнеслась Олимпиада не враждебно, но и без подъема: обычное и каждодневное. Она взяла со стула афишу, помахала ею пред лицом Красавца.
– Видишь? Открывается сезон. Чтобы ложа нам была, абонемент.
Красавец откинул назад остатки волос на голове, губы сложил трубочкой, величественно заявил:
– Душечка, не беспокойся. Потом обернулся к Глебу.
– Олимпиадочка и сама поет. Какой голос! Вот ты услышишь… меццо-сопрано.
Олимпиада поднялась, расправила могучее свое тело – корсет слегка хрустнул. В передней раздался звонок.
– Иди, иди к своим больным.
Красавец еще раз поцеловал ей ручку и тотчас – уже с другим, деловым видом, нахмурив лоб, в сознании докторской своей значительности, вышел: с пациентами будет он или покровительственно-важен (если бедные), или слегка развязен (с дамами среднего возраста), или – если особа с весом – почтителен, даже заискивая. Мудрость жизни постиг Красавец давно. Но шляхетную спесь да и женолюбие удалить из него могла бы лишь могила.
Глеб пошел к себе. Олимпиада в залу, за рояль. И довольно скоро стали доноситься оттуда переливы ее низкого, не без приятности, голоса:
Ми-и-лая, ты услышь ме-ня, Под окном стою-у-у я-а с ги-та-ро-ю!Глеб раскладывал свои книжки, учебники, карандаши, краски. Развешивал в шкафу скромное ученическое снаряжение. Вынул фотографию матери: все правильно, все в порядке. Взгляд матери не мог объяснить смысла, цели Глебова существованья, но говорил безмолвно, на языке убедительнейшем, что хоть и нельзя понять, но делать надо следующее: учиться, ибо так заведено – и отец учился, и она сама. Жить – сохранять порядочность, благообразие. Это благообразие было главной чертой самой матери. Не стараясь навязывать, неизменно отпечатывала она его во всех, кто с ней встречался. И вот мать пришла уже в жизнь Глеба, обликом для сравнения: что близко к ней или похоже, что одобрила бы она, то хорошо. Что нет – плохо.
Та-ак взгляни-и ж на меня Хоть од-дин только раз, Яр-р-че майского дня Чу-удный блеск твоих гла-аз! Ми-и-лая, ты услы-шь ме-н-я…Глеб был несколько возбужден, взволнован. Странный, пестрый день! Уроки готовить не хотелось – решил пройтись, пока еще не стемнело.
На Никитской было прохладно, сентябрьски прозрачно, верхи старинных, с каменными аркадами и зубцами торговых рядов, времен Екатерины, пламенели в закат – скоро угаснут. Глеб спустился по улице вниз, мимо гостиницы «Кулон», где останавливались помещики, приезжие артисты-гастролеры, инженеры. Пересек большую площадь, в направлении к Собору: с трех сторон очерчивали его, прямоугольником, присутственные места и семинария. С четвертой – городской сад. Глеб именно туда и шел. Олимпиада сказала бы: на свидание – и ошиблась бы. Просто прошагал главной аллеей лип к площадке над Окой. Сад, с киоском для музыки, довольно густой и теперь уже темнеющий (гуляющих сейчас мало), остался позади. Глеб на площадке над речкой. Рядом пестренький ресторан «Кукушка» – павильон, куда гимназистам и вовсе нельзя входить. А внизу Ока. Течет справа налево, в верховьях ее Орел. По широким лугам, принимая в себя Угру, Ячейку, подходит она к Калуге.
Когда Глеб смотрел теперь вправо, где за Окою и бором заходило солнце, ему казалось, что река идет из удивительных просторов, сама собою, без конца-начала. Так она шла в раннем его детстве, мимо частокола будаковского сада, так же будет идти, когда самое имя его истлеет и уйдут все, кого он любил. А сейчас протекает эта Ока мимо Калуги теперешней, и он жив, все чего-то ждет. Там, влево – пристань у понтонного моста, где все еще стоят: «Князь Владимир Святой», «Екатерина»… Ниже Спасо-Жировка, два года жизни его, нынче утром еще нечто действительное, а сейчас уж видение, как и те Будаки и Авчурино, как Алексин, Рязань, Илев: смутно мелькнуло все это в его мозгу.
Глеб стоял и смотрел. Солнце садилось. Баржа медленно шла по Оке. Кое-где огоньки зажглись – в слободе за рекой, в Ромодановском, направо на взгорье. Родина расстилалась пред ним в спокойном приближении ночи.
Калуга город старинный, выросший на берегу Оки с той же естественностью, как таинственной силой дуб выгоняется из желудя. Медленно, столетиями заквашивалась и всходила жизнь – не особенно бурно: всегда, кажется, находилась Калуга в стороне от русл главных. Главное происходило неподалеку, все-таки и не здесь. В смутное время участь России решилась севернее – но здесь жила одно время Марина Мнишек, дом ее сохранился. Пытался двинуться сюда Наполеон, но не дошел – видно, судьба места этого была скромнее и незаметней. И весь век девятнадцатый полусонно прошел над Калугой. Наверно, не одна жизнь человеческая протекла здесь с достоинством – а известен и скромный герой Калуги, рядовой Архип Осипов. Все-таки общий дух города на Оке, с торговлею полотном, веревками, с баржами, плотами, ципулинскими пароходами к концу девятнадцатого века слишком уже отзывал безветрием.
Такая, другая ль была Калуга, именно здесь надлежало проходить юным годам учения Глеба. Пока жил на Жировке, чувствовал он себя еще на родном островке – мать, Лиза, Соня-Собачка, это свои, детски-семейный мир. Теперь, на Никитской, своего ничего не осталось, а Калуги появилось много – чуть не вся жизнь Красавца прошла тут, Олимпиада же просто порождение города. С детства возрастала в семье купеческой, не из богатых, но с достатком, среди ситчиков отцовской лавки в торговых рядах, училась в гимназии Калужской, гуляла по Никитской с гимназистами, рано начала целоваться с офицерами, лакомилась калужским тестом – произведением медвяно-мучнистым, очень тогда прославленным (вряд ли кому, кроме калужанина записного, могло бы оно понравиться).
Нельзя сказать, чтобы Глебу Олимпиада была неприятна, или стесняла его. Молодая и синеокая, белорукая, держится просто, почти по-товарищески, разгуливает в халатах, ест тянучки, напевает в зале за роялем сантиментальные романсы… взрослая тетушка, называющая его «ты», нечто в этом и нравилось. Все же Глебово бытие наглухо отделялось и от Олимпиады, и от Красавца, и от Калуги.
Олимпиада мало чем кроме себя занималась, но и она это заметила.
– Я тебя все-таки не пойму, – сказала ему однажды, – что ты за такой за малый? Что у тебя на уме?
Глеб усмехнулся.
– Ничего.
– Нет, это ты врешь. Ты очень приличный, вежливый… Нет, все-таки… почему тебя в детстве звали Herr Professor?
– Это один немец придумал…
Олимпиада осталась при своем: приличный, вежливый… но со странностями. И гордый.
Глеб, однако, ничего странного не делал. Он просто выходил из детски-отроческого, не достиг еще взрослости, был томим и возбужден – и переломным своем возрастом, и одиночеством, и нелюбовью к делу, которым занимался – лишь самолюбие, желание первенства подталкивали. В одном Олимпиада была права: Глеб, хоть и держался вежливо, но того чувства превосходства, которым был отравлен с детства, скрыть не мог. Оно не давало ему радости. Скорее, даже, накладывало на одиночество его еще большую черту горечи – отделяло, уединяло.
К счастию, Олимпиада мало обращала на него внимания и не была самолюбива – иначе могла бы и возненавидеть.
О том, как ему жить самому, чем заниматься, думал он и раньше. Теперь входил в возраст, когда начинает волновать и другое, обширнейшее: что такое человек, для чего живет, что за гробом, есть ли бессмертие. Редко ли, часто ли возвращался он к этому, но вопрос в нем сидел – то заглушаясь, то обостряясь. Ответить на него он не мог, как и не мог представить себе своей смерти: вернее, жизни всего вокруг без себя. Легко было вообразить его, Глеба, в гробу, но какой-то другой, не умерший Глеб смотрит на него со стороны – этого Глеба невозможно погасить. Мир не может существовать без диковатого гимназиста из Калуги! Уходит ли этот гимназист бесследно? Бесследно ли гибнут те, кого любил?
Рассуждать обо всем этом было не с кем. Сосед Флягин занят гимназистками и еще женщинами попроще, Сережа Костомаров погружен в уроки, его красные симпатичные уши, бобрик, капелька пота на веснушчатом носу – все это отдано науке, о бессмертии же он ответит, только если это задано о. Парфением «к следующему разу». Тогда слово в слово, по катехизису, ответ даст, равно и о том, что такое вера. Вообще если «задано», то на все ответит. Оставался сам о. Парфений, но он преподаватель.
О. Парфения не так давно назначили в Училище. Было известно, что он академик, хотя довольно молодой, но уже в городе известный. Высокий, очень худой, с серыми огромными глазами, в коричневой рясе, сверх которой большой золотой крест… Мало похож на учителей вроде Козла, Михаила Михайлыча, Бодри. В класс входил медленно, большими шагами, слегка запахивая рясу, худой рукой придерживая журнал. Класс вставал. Читали молитву. Молча крестились, начинался его час. О. Парфений откидывал рукою негустые волосы, садился боком, слегка горбясь, нередко рассказывал. Спрашивал и уроки. Глеба поражало его спокойствие. Трудно представить себе о. Парфения раздраженным – Глеб его и не видел таким. Но в молчании его и во взгляде было тоже не совсем простое: конечно, он знал нечто, чего не знали Глеб, Флягин, Сережа Костомаров. Иногда лицо его было доброе и задумчивое, иногда вдруг проступало и иное – слегка насмешливое, скромно-высокомерное… «Да, вы этого, разумеется, не запомнили. Вернее – и не прочли. Да, конечно, конечно…» Привык, и не удивляется человеческой нерадивости, равнодушию. Естественно ведь, что пухлый блондин Флягин с полипом в носу, часто сморкающийся, мало занят загробной жизнью.
Глебу о. Парфений нравился. Отношения у них были хорошие, но напряженные. Может быть, они друг другу были нужны, друг друга беспокоили. Глеб находился в том настроении ранней юности, когда все хочется самолично пересмотреть, удостовериться, потрогать руками. Если же не выходит, долой. Истина должна быть моей, или никакой. И так как представить себе до конца бесконечность, смерть, «инобытие» невозможно, Глеб склонен был, вопреки о. Парфению с его коричневою рясой, все это отрицать. Его и тянуло, и мучило, и отталкивало. Говорить открыто с о. Парфением было нельзя, – о. Парфений начальство, а религия обязательна, как математика, русский язык. Явно не соглашаться с о. Парфением насчет бессмертия или ада так же бессмысленно, как с Александром Григорьичем касательно площади круга.
О. Парфений занимал и тревожил Глеба. В нем чувствовал он сильного защитника того, в чем сам сомневался или склонен был отрицать. Тревожил и Глеб о. Парфения – тем, что именно в нем, лучшем ученике класса, ощущал он скрываемое противодействие. С другими было попроще, но и безнадежней. Выучил урок и ответил. Велят пойти в церковь – сходит. Глеб же что-то переживал, а направлено у него это в сторону. Можно было считать, что у него есть свои собственные вкусы и взгляды, пусть и мальчишеские, но упорные.
Однажды ученик Ватопедский, при повторительном курсе Ветхого Завета, рассказывал о пророке Елисее. Когда дело дошло до истории с его лысиной, детьми, посмеявшимися над ней, и медведем, которого Елисей на них выпустил, Глеб довольно громко сказал:
– Какая жестокость!
Сережа с удивлением поднял на него светлые, покорные глаза. О. Парфений таинственно улыбнулся. Эту улыбку можно было перевести на русский язык так: «Всегда найдутся, конечно, задорные мальчики, готовые исправлять Ветхий Завет, но от этого он не проиграет».
Ватопедского о. Парфений прервал и со слегка играющей, даже как бы змеящейся улыбкой, поглаживая золотой наперсный крест, стал говорить о том, как легкомысленно подходить к Ветхому Завету с сегодняшними мерками. Это другой мир, и до пришествия Спасителя душа человеческая была иная. В том-то и величие Нового Завета, что отменено ветхозаветное «око за око».
Глеб опять вмешался.
– А тут и не око за око. Они только посмеялись, а он уж медведя. Какое же око?
Сережа взял под партой Глеба за коленку. Милые глаза его выражали почти ужас. Глеба же точно подмывало – раздражала невозмутимость о. Парфения. О. Парфений посмотрел на него с тою же снисходительной усмешкой, которая еще более его возбуждала.
– Да и вообще, не нам обсуждать действия тех, кого избрал Господь.
– Я хочу только понять, – тихо, но упрямо сказал Глеб. Ватопедский продолжал свой ответ. О. Парфений закрыл глаза, несколько секунд просидел так. Потом открыл их, серьезно, внимательно посмотрел на Глеба, теперь во взоре его не было снисходительной усмешки. Вновь прервав Ватопедского, он обратился к Глебу тоже негромко, так что даже не все слышали.
– Быть может, со временем многое такое поймете, что сейчас вас волнует и кажется темным.
На это Глеб уже ничего не ответил, и ни он, ни о. Парфений не мешали больше Ватопедскому. Тот благополучно кончил повествование свое. Получил четыре.
А после урока Глеб сам подошел в коридоре к о. Парфению, медленно и задумчиво бредшему наверх, во второй этаж. Глеб прямо взглянул ему в глаза – в первый момент они расширились не без удивленности – но тотчас посветлели.
Глеб был смущен, почти робок.
– О. Парфений, не подумайте, что я хотел осуждать, или вообще… мне только интересно выяснить…
О. Парфений улыбнулся.
– Я и не сомневался.
Полуобняв Глеба, он взошел с ним на лестницу и направился не в учительскую, а в дальний конец коридора, насквозь прорезавшего здание. Здесь у окна, откуда видны были заснеженные крыши, сады Калуги, они разговаривали. Глеб был смягчен, перешел в то настроение, когда хочется со всем согласиться, и когда даже приятно ощущение чужой власти и авторитета – силы, к тебе благожелательной, с которой идти в ногу так радостно. О. Парфений говорил уже не об Елисее, а о том настроении – он назвал его верой, – при котором мучительные вопросы сами собою отходят, заменяясь другим. Глебу в эту минуту казалось, что он уже чуть ли не верит, и это зависит не от того, что какие-нибудь доводы его убедили, а от чувства: что-то спокойное, светлое, с чем радостно жить, ощущал он сейчас. И понял бы еще больше, если б о. Парфений сказал ему, что тогда в классе, сначала внутренно раздражившись на Глеба, он сам во время ответа Ватопедского обратился к Богу с молитвою – о собственном своем умягчении… Но этого он Глебу не сообщил.
Раздался звонок – уже к следующему уроку. Надо было спешить, предстояла математика – Александр Григорьич. О. Парфений успел лишь сообщить на прощание, что скоро Калугу и Училище посетит знаменитый протоиерей о. Иоанн Кронштадтский.
– Замечательная личность. Вот кто много может вам дать. Вы увидите!
В дверях класса своего Глеб почти столкнулся с Александром Григорьичем. Высокий, худой, в застегнутом вицмундире, он имел вид загадочный. Не без легкой насмешливости, расширив карие глаза с оранжевым ободком, поджав губы, сказал Глебу:
– Пора, пора. В класс, в класс. Да, это я говорю! (И любезно усмехнулся: нельзя было понять, упрекает он или поощряет, но впечатление всегда – точно подстегивает). – Перемена окончилась, мой урок! Мой. Классного наставника. И богословие окончено.
Он еще раз колко улыбнулся, сел за свой столик, развернул журнал.
Ватопедский тоже видел Глеба с о. Парфением. Нагнувшись к нему, шепнул сочувственно:
– По поведению балл сбавляет?
Александр Григорьич вызвал очередного подсудимого.
* * *
Калужскому архиерею, благодушному старику с рыхлыми руками и сладковато-ладанным запахом, продолжавшему заниматься сочинением стихов, не особенно улыбался приезд Иоанна Кронштадтского. Иерархически он ничто пред епископом. Но о. Иоанн не просто протоиерей. Слава его прошла уже по всей России, а главное, его высоко чтут в Петербурге – в Синоде и при Дворе. По слухам, весьма расположен к нему молодой государь. Мало ли что… шепнут здесь что-нибудь, недовольство выскажут – поди потом, отчитывайся…
Но с этой стороны Владыка мог быть покоен: ни Консистория, ни приходы, ни епархиальные дела нисколько о. Иоанна не занимали. Он приехал к больной, по вызову знакомых, сейчас же начал разъезжать по городу – да и на Подворье у Владыки, где остановился, сразу появилось то возбуждение, оживление, тот народ, жаждущий его видеть, что сопровождало о. Иоанна всюду. «Великой духовности иерей, – говорил о нем Владыка. – Молитвенник, украшение Церкви. Но воодушевление иногда и чрезмерное. Этакая нервность…» Владыка покачивал головой, находил, что, например, «иоаннитки» доходят до болезненности – и этим слегка утешал то ревнивое чувство, которое у него появилось: о. Иоанн держался с ним почтительно, но сразу заслонил собою все. В эти дни не было в городе архиерея, а был приехавший из Петербурга о. Иоанн Кронштадтский – и на служении в Соборе, переполненном как под Светлое Воскресение, все взоры, волнение, обожание были сосредоточены на о. Иоанне. В городе говорили уже об исцелениях по его молитвам, об облегчении страданий, удивительных исповедях и обращениях. Большинство верило, или относилось сочувственно. Но были и скептики.
Красавец наморщивал губы с видом глубокомысленным.
– Без религии, разумеется, невозможно. На ней держится общество, государство… Но увлечения, экстаз… Все разговоры об исцелениях, чуть ли не воскрешениях я нахожу лишними. В этом бесспорно много женской истеричности.
Олимпиада доедала борщ, улыбнулась.
– Вот он и выходит тебе конкурент, тоже целитель… Смотри, практику отобьет.
Красавец слегка вспыхнул.
– Душечка, совершенно не к месту. Я вовсе не о том говорю.
Олимпиада протянула ему через стол белую руку – в перстнях, надушенную, заткнула ею рот и пощекотала пальцем усы.
– Шучу, шучу. Тебя весь город знает. Столько больных, как у тебя, ни у кого нет.
Красавец отлобызал ручку и успокоился, как младенец, которому дали соску.
После слов о. Парфения об Иоанне Кронштадтском Глеб ждал его приезда с интересом. Он немного даже готовился. Взял в училищной библиотеке книгу Фаррара, с увлечением читал об Афанасии Великом, его борьбе с арианами, приключениях, скитаниях, о Вселенском Соборе. Когда о. Иоанн посетит их класс, о. Парфений, разумеется, вызовет Глеба. Вот тогда и покажет, что в Калуге тоже кое-что знают и умеют рассказывать. Глеб мысленно уже видел, как о. Иоанн, восхищенный его познаниями, обнимает его, целует и благословляет.
День посещения не был известен. Глебу очень, конечно, хотелось, чтобы он совпал с уроком Закона Божия – несколько вооружился и в Евангелии, Ветхом Завете, даже и катехизисе, который не любил. Подзубрил покрепче, что «вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых».
В среду (Закона Божия у Глеба как раз и не было) на втором уроке вдруг по классам забегали надзиратели. Учителя, забрав журналы свои, полусмущенно и полуиспуганно уходили, точно в чем-то были виноваты. Ученики строились парами. «Иоанн Кронштадтский! Иоанн Кронштадтский!» Толком никто ничего не знал. Знаменитый священник из Петербурга, а чем прославился, что именно делает – неизвестно, никто не потрудился рассказать. Ясно было одно: начальство встревожено, суматоха такая же, как при появлении окружного инспектора.
Училище вытянули в два ряда во всю длину верхнего коридора. Глеб был доволен, что попал в первый ряд – и он лучше увидит, и его увидят. Ждали несколько минут. Внизу сдержанный глухой гул. Надзиратель, вытянувшись на площадке парадной лестницы, вторым повернутым маршем выходившей в коридор, сделал вдруг страшные глаза: надзиратели при учениках тоже встрепенулись, грозно замерли – в коридоре стало совсем тихо. На площадку, к бюсту Александра III поднялось снизу несколько человек, пред ними низко склонился надзиратель. Впереди всех худенький священник в лиловой шелковой рясе с большим наперсным золотым крестом, который он придерживал рукою. Лицо очень русское, почти простонародное, с редкою бородкой, полуседой, все испещрено морщинками, сложно и путано переплетавшимися – они могли, при нервной выразительности облика, слагаться в те, иные узоры, накидывать свою сеть, снимать ее, освещать, омрачнять. Но над всем господствовали глаза, как бы хозяева местности. Бледно-голубые, даже слегка выцветшие, несли они легкую, поражающую живость, невесомо-духовную, как легок и суховат телом и властными руками был этот о. Иоанн, некоторыми считавшийся почти святым.
За ним шел директор, учителя, слегка побледневший о. Парфений.
Взор о. Иоанна был рассеян. Он сказал что-то директору – полному, средних лет математику с бачками, – тот ответил почтительно. И о. Иоанн оказался прямо уже перед шеренгою.
– Ну вот, дети, ну вот… с вами Божие благословение! Благослови вас Господь!
Глеба удивил его высокий, резкий и довольно неприятный голос, будто даже он выкрикнул это.
О. Иоанн перекрестил их широким, летящим крестным знамением, пошел вдоль рядов. Лицо его как бы отсутствовало. Вполголоса он иногда произносил отдельные слова, долетало: «Господи, сохрани… Благослови, Господи…»
Глеб ждал не без волнения. Старичок поравнялся с ним, шелковая лиловая ряса чуть-чуть задела. Но о. Иоанн не взглянул на Глеба. Бледно-голубые его глаза, мелкие морщинки на лице мгновенным видением проплыли – и вот уже далеко. Продолжалось обычное: директор, Александр Григорьич, учителя… И лишь в самом конце, у окна, где стоял первый класс, о. Иоанн вдруг остановился.
– Поди сюда, поди, рыженький… ну, ты, вихрастенький, выходи…
Соседи подтолкнули. Мальчик лет десяти, в веснушках, с милым перепуганным лицом, выступил из шеренги. Это был сын купца Ирошникова. Фаррара он не читал, учился средне, мечтал лишь о том, чтобы не провалиться на экзамене, – тятенька может выдрать. Теперь, когда его выпихнули вперед, сразу решил, что дело плохо: как-нибудь не так одет, шептался с соседями, шевелился…
Но старичок, от бороды и рясы которого пахло ладаном, ласково к нему наклонился.
– Во святом крещении имя?
– Федот, – прошептал молодой хлеботорговец.
– Федотушка, маленький… вихрастенький. Учись, учись, преуспевай. Как в молитве-то сказано: родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу.
Сеть морщинок разъехалась, улыбка осветила все лицо. Он поцеловал Федота в самый вихор, поднял руку, широким, сияющим крестом благословил.
– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
– Руку целуй, руку… – шептал надзиратель. – Руку-то, батюшке…
Федот потянулся, едва успел коснуться губами сухонькой руки. Директор, Александр Григорьич, о. Парфений ласково смотрели на него – раньше он этой ласковости не замечал.
– Один из примернейших наших учеников, – сказал директор о. Иоанну, уже повернувшемуся назад, быстро направлявшемуся к лестнице.
– Примернейших, лучших… – рассеянно бормотал о. Иоанн и вдруг опять улыбнулся. – Все примернейшие. Детки все лучшие.
Потом собрал свои морщинки, поправил наперсный крест и неприятным, резким и высоким голосом сказал:
– Душевно благодарю, что показали ваших милых воспитанников. А в данное время тороплюсь, меня ожидают в убежище для престарелых…
* * *
Глеб слишком много думал, даже мечтал об Иоанне Кронштадтском, многое со встречей этой связывал. Если в о. Парфении нечто нравилось, укрепляло, что же – прославленный о. Иоанн, сердцеведец, почти прозорливец… А вот он прошел мимо, торопливо, ничего не сказав. Благословил, как обычно священники, внимание обратил лишь на Федота. Почему именно на него?
Глеб был разочарован. Посещение это не только ничего ему не дало, но будто укрепило смутную, неприятную в нем самом область, от которой он рад был бы отделаться.
Через несколько дней, когда о. Иоанн был уже далеко, Глебу случилось выйти из Училища вместе с о. Парфением. Уроки кончились, ученики разошлись – Глеб задержался в библиотеке: возвращал Фаррара.
Всю ночь шел снег и продолжал еще идти. Его навалило довольно много, весь сад хорошо укрыт, беззвучно, безжизненно, но и светло. Лишь к директорскому розовому дому тропка, да к воротам ученики успели протоптать целую дорогу.
О. Парфений был в меховой шапке, шубе, огромных калошах, как всегда, худой, шел, запахивая одежду на впалой груди, слегка горбясь. Глеб стеснялся его, хотел обогнать незаметно. О. Парфений сам его остановил.
– Какое же впечатление произвел на вас и ваших товарищей о. Иоанн Кронштадтский?
Они шли очень медленно, вдоль деревянного забора. Клены училищного сада, где гулял осенью Глеб с Сережей Костомаровым, склонялись в снеговой тяжести над переулком. Глеб чувствовал себя несвободно.
– Он ведь так мало у нас побыл…
– К сожалению. Но здесь все хотели его видеть. Он не мог долго оставаться в Училище.
Глеб чувствовал, что в нем что-то подбирается, стягивается.
– Интересно было бы поговорить с ним… А так что же… он прошел мимо. Вы спрашиваете, о. Парфений, про товарищей… Им это совсем не интересно.
О. Парфений шагал медленно, но большими шагами. Сильно горбился.
– А вам?
– Он со мной и слова не сказал! – В голосе Глеба что-то дрогнуло.
– А почему же бы ему именно с вами говорить?
– Нипочему… С кем хочет, с тем и разговаривает.
О. Парфений поднял на него глаза, слегка улыбнулся – улыбка эта не была его удачей.
– Но я должен сказать, – продолжал Глеб, – если вы меня спрашиваете… Он мне вообще представлялся другим.
О. Парфений шел молча. Усмешка, которую не любил у него Глеб, не сходила с лица.
– Другим! – произнес тихо.
Глеба точно что подмывало. О. Парфений шагал беззвучно, пухлый снег под ним не скрипел. Рукой придерживал ворот шубы на впалой груди. Вид у него был такой: «Я иду и молчу, но отлично все знаю», – Глеб это чувствовал и начинал волноваться.
– Получилось вроде парада, он как будто начальство… мы ему совершенно не нужны… И голос у него странный… скорее даже неприятный… Мне не понравилось.
– Да, уж с этим ничего не поделаешь. Каким Бог наградил. Прошли еще несколько шагов.
– Не думаете ли вы, – сказал вдруг о. Парфений, уже без усмешки, серьезно, но отдаленно, – что в одних почувствовал о. Иоанн равнодушие, в других, неравнодушных… – противление. И вот благословил Федотика Ирошникова – который, говоря по правде, очень славный мальчик, хотя и малозаметный.
Глеб перебросил ранец из одной руки в другую (в старших классах за спиной носить его считалось уже не нарядным).
– Возможно.
– А в общем жаль, что пребывание его было столь кратко… Я думал, что он произведет на учеников больше действия.
– Я тоже от него многого ждал.
О. Парфений опять загадочно усмехнулся.
– Вам, разумеется, хотелось, чтобы он на вас обратил внимание, с вами говорил…
– Мне ничего этого не хотелось, – сказал Глеб, точно дверцей отгородился.
Переулок, по которому они шли, упирался в Воскресенскую, против церкви Иоанна Богослова. Глебу было налево, о. Парфению направо. Глеб снял фуражку и поклонился.
– Какую книгу вы меняли сегодня в библиотеке? – спросил о. Парфений.
– Отдал Фаррара… Там… об Афанасии Великом, Отцах Церкви…
– Хорошая книга. А что взяли?
– Ничего.
– Почему же так?
– Спрашивал Золя, но его в нашей библиотеке не оказалось.
– Золя!
Глеб продолжал тихо, почти с вызовом:
– Придется взять в городской библиотеке.
О. Парфений поклонился и медленно зашагал по Воскресенской вверх. Глеб – вниз.
* * *
Глеб мог быть доволен: насчет Золя вышло отлично, с о. Парфением держался независимо, в конце концов тот ничего ему и не возразил.
Об о. Иоанне Кронштадтском Глеб сказал то, что думал.
Но хорошего настроения не получалось. Он довольно мрачно шагал по Воскресенской, весь побелев от снега, тихо и беззвучно заметавшего эту Калугу.
Когда вошел в переднюю Красавцевой квартиры, из залы донеслось пение. Дверь полуоткрыта, за роялем Олимпиада.
Глеб сумрачно прошел по коридору к себе в комнату. Не хотелось ни слушать пения этого, ни видеть никого. Вот его стол, книги, сплошной снег за окном, прохожие в переулке и медленно наползающая муть раннего вечера. Уроки, учителя!
Положив ранец, он вдруг почувствовал, что никаких уроков к завтрашнему делать не станет, в Училище не пойдет. А что, собственно, делать? Да ничего. Вот взять, одеться, выйти в эту начинающуюся метель, да и зайти Бог весть куда…
Пение прекратилось. В коридоре шаги, тяжеловатые, знакомые. Олимпиада отворила дверь.
– Ты что-то нынче позже…
– В библиотеке был.
Олимпиада села на край постели, заложила могучую ногу за ногу.
– Хмурый сегодня, господин профессор… Как тебя еще в детстве звали?
– Никак.
Олимпиада закурила.
– Я понимаю. Тебе скучно. Уроки да уроки, учителя эти разные…
– Нет, мне не скучно.
Глеб медленно переходил в то состояние упорного противодействия, в котором сладить с ним было нелегко. Олимпиада курила невозмутимо. Ее синие глаза были покойны.
– Вот какое дело: нынче в Дворянском собрании концерт. Замечательный пианист этот, приезжий… Забыла фамилию, но молодой такой. Анна Сергеевна говорит – прямо удивительный. Вот и идем, я тебя беру. Муж Анны Сергеевны сегодня занят, ему нельзя. Она прислала два билета.
– Какая Анна Сергеевна?
Глеб знал какая, но спросил нарочно. Олимпиада объяснила. Глеб сказал: она вице-губернаторша, билет, наверно, дорогой.
– Это тебя не касается. У нас с ней особенный счет. Глеб сперва заявил, что, наверно, ей неприятно будет сидеть с гимназистом. Потом, что у него много уроков.
– Ну, и садись сейчас же. Для того и пришла, чтобы тебя предупредить.
Глеб возразил, что не успеет, а если успеет, то может быть поедет.
– Экий Байронович упрямый, – равнодушно сказала Олимпиада. – Не может быть, а просто к восьми надевай мундир. И все тут. Ведь мундир есть? И никаких гвоздей, – прибавила она вдруг довольно круто. – Не разводи нюни.
Глеб пытался было еще так защищаться: он должен получить разрешение от начальства, а теперь уже поздно… Но Олимпиада встала, расправила великолепное свое тело, потянулась и, не слушая его, сказала, что в половине восьмого у подъезда будет извозчик и одной ей ехать нельзя.
Когда она вышла, Глеб почувствовал облегчение. Он почти рад был ехать, не надо лишь этого показывать… Анна Сергеевна очень изящная дама, он это знал, Олимпиада ей помогает на базарах благотворительных, в человеколюбивых начинаниях. Красавец у нее завсегдатай, играет в винт, лечит. Жутко немножко, что такая соседка, но и занятно, конечно.
Уроки он сделал быстро, все теперь шло по-иному. В седьмом часу занялся собою – с видом жертвы, против воли ведомой на заклание. Однако, агнец вымылся, причесался, надел крахмальный стоячий воротничок, вычистил однобортный свой мундир. Надев его, все вертелся перед зеркалом: крахмальный воротничок должен ровно-узкой полоской выдаваться над мундирным воротником, – а на горле маленький черный галстучек. Несмотря на «мрачное» настроение, Глебу нравилось, что он наряден, бледноват, что, когда садится, надо расправлять фалды мундира: точно он молодой офицер.
Если бы Соня-Собачка видела его сейчас, могла бы похохотать с Лизой и подразнить. Но ни Сони, ни Лизы не было, Олимпиада хоть и запросто держится, все же совсем другая, никак и никогда не своя. Впрочем, для сегодняшнего вечера это и лучше. Глебу нравилось, что он выезжает с молодой и нарядной дамой, старше его, однако, и не такой приятельницей, как Соня, Лиза. С ней выходит параднее.
В начале восьмого он подошел к комнате Олимпиады. Не спеша, не раздумывая, отворил дверь. У большого трюмо горели свечи, Олимпиада, спиной к Глебу, пред зеркалом, как раз в эту минуту подняла вверх руки с легким в них платьем – блеснули белые ее плечи, голая спина, кружевное белье – но мгновенно платье сверху закрыло все.
Увидев Глеба, она усмехнулась, отошла за ширму. Глеб смутился.
– Виноват, извини…
– Ничего. Опоздал, профессор. Если бы минуты на две раньше… а то опоздал.
Олимпиада пошуршала за ширмой, вышла розовая, вся свежая и благоухающая, легкая даже в крупности своей. Улыбнулась весело, оживленно.
– Чего там. Все в порядке.
Взяв с туалета флакон, опрокинула на руку, подушила Глебу лоб, шею, мундир на груди.
– Вот и отлично. Мундирчик хоть куда. Значит, едем. Подошла к окну, отдернула портьеру.
– Кузьма подал. Смотри, пожалуйста, стихло, и даже луна.
Синяя тень лежала на Никитской от их дома – очерчивалась резко и ломанно, дальше снег блестел искрами в луне, сияли накатанные полоски. По ним реяло отраженье дыма из трубы – таяло, уносилось. Церковь на той стороне была зеленая. Лихач стоял у подъезда.
* * *
Он мчал их резво – оцепеневшею в луне площадью, мимо Собора, сахарною громадой воздымавшегося, мимо городского сада к губернаторскому дому и Дворянскому собранию.
Глеб, высаживая Олимпиаду, был не совсем уже тот, что сидел нынче в гимназии, мрачно домой возвращался и дома упорствовал. Но и все было другое – из лунного вечера естественно пронеслись они с Олимпиадою в блеск зала с люстрами, в свет на белых колоннах, рядами вытянутых к эстраде. Там отблескивает он в темном лаке рояля, а в глубине Императрица на стене, Екатерина с розовыми щеками, пудренная, во весь рост у стола, со скипетром в руке – наискосок Александр в белых лосинах, со взбитым на голове коком, на фоне дымных сражений…
Олимпиада вела Глеба средним проходом между стульями, все вперед. В третьем ряду остановилась, взглянула на билеты и взяла налево. Темноглазая, худощавая дама улыбалась ей в нескольких шагах. Олимпиада подошла. Они дружески поздоровались.
– А это племянник мой, разрешите представить. Анна Сергеевна приветливо на племянника взглянула.
– Знаю немножко… заочно.
И протянула руку.
– Любите музыку?
Глеб пробормотал нечто будто и утвердительное. Как, по совести, мог сказать, что музыку очень любит, когда почти и не знал ее? Если же отвечать вполне правильно, следовало бы определить так: знаний не имел, но действию был подвержен.
Анна Сергеевна сидела меж Глебом и Олимпиадою. Глеб смотрел на программу, видел имена: Бетховен, Шопен, Лист, слышал разговор Олимпиады с соседкою, чувствовал себя отделенным. Все на своих местах, все светло и понятно. Прекрасно, что эта изящная дама с нежным профилем, чахоточной тонкостью лица, бриллиантовою брошкой, слабо благоухающая духами, с ним рядом. И он, ученик пятого класса Глеб, случайно на месте вице-губернатора. Но он в то же время (душою своей) и слегка плывет в этом зале, чуть выше, так же легко, как хрустальный и невесомый свет, наполняющий все вокруг.
– А вот и он, видите, какой юный.
В зале раздался мягкий, но полный плеск. К роялю, поднявшись из артистической, подошел молодой человек во фраке и белом галстуке, довольно стройный, с кругло-приятным, полудетским лицом. Анна Сергеевна зааплодировала. Глеб тоже. Молодой человек сдержанно, привычно раскланивался направо, налево. Потом сел за рояль.
По мере того как он играл, Глеб все прочнее отходил в тот особенный мир, уголок которого показался ему нынче в соединении лунного света со светом сияющей этой залы, блеском женских глаз рядом, во всем том острорадостном очаровании, что было вокруг. Нельзя было понять, как именно юноша Гофман вызывал к бытию миры новые – но вызывал: со сверхъестественной легкостью, хрустальною, нечеловеческой, к свету и очертанию присоединялся звук – все эти сложные, тонкие, воздвигающиеся, низвергаемые воздушные и невидимые построения, где-то кем-то созданные, теперь колдовски воспроизведенные.
Они меняли окружающее. Заступали место Калуги и губернаторов, учеников, уроков, чередования дней. Глеб впервые испытал тогда то ощущение от музыки, которое потом приходило и сильнее: казалось, что тяжести и преграды и невозможности вообще нет – в этом полуфантастическом бытии можно, например, двинуться наискосок через всю залу, снизу вверх на хоры или наоборот… – все объято одним потоком, неуловимым и невесомым, в нем все по-иному: взять, например, Анну Сергеевну под руку и беззвучно – не то проплыть, не то вынестись в лунно-зеленоватые мировые просторы.
Гофман играл с антрактом. Глеб вставал, ходил с Олимпиадою и Анною Сергеевной в толпе, в сиянии люстр. Губернская эта толпа не была ли для него отголоском пережитого? Другая толпа, не такая, как всегда. Все другое. Излучение и сияние – в бриллиантах Анны Сергеевны, в звуках Гофмана, в сверкании белых колонн Собрания.
Разговаривая с Олимпиадою, Анна Сергеевна иногда тихо на него улыбалась. Вероятно, вид Глеба и сам говорил за себя.
Когда кончилось и второе отделение, Гофман раскланивался с той же приятностью и легкостью, слегка прижимая руки к сердцу, склоняя полумальчишескую, с боковым пробором, круглую голову. Он стоял на эстраде в своем фраке и белом галстуке, уходил, выходил, улыбался – а наконец и совсем ушел, чтобы, запахнувшись в шубу, на лихаче укатить к «Кулону», поужинать, лечь спать и утром с ранним поездом лететь по сонной России в другой город, обольщать других дам, других гимназистов.
Глеб, Анна Сергеевна, Олимпиада выходили из Собрания. Екатерина, Александр в лосинах, люстры и колонны, Империя, вносившая в каждый город России Европу и антискифское, все это отошло, как и Гофман со своими каскадами. Они вошли в ночь.
Анна Сергеевна спросила Глеба, доволен ли он. Глебу хотелось ответить что-нибудь замечательное, особенное… Но ничего замечательного не получилось, кроме того, что он был сейчас счастлив и этого скрыть нельзя.
Олимпиада обернулась к Анне Сергеевне.
– А ведь как ехать не хотел! Вы бы посмотрели, как приходилось уламывать. Вот уж эти мужики!
Анна Сергеевна засмеялась. Они не могли сразу найти извозчика – шли втроем мимо губернаторского дома, рядом с городским садом. Мороз усилился. Луна зашла, небо темно-звездное – синева с золотом.
Глеб вел под руку Анну Сергеевну. Она ступала осторожно. Рядом, как могучая крепость, Олимпиада в малиновой ротонде.
Анна Сергеевна подняла руку, указала в небе златистое дубль-ве.
– Это какое созвездие?
Глеб полон был сейчас дыханием ночи, звезд, ледяной бесконечности. Но рядом ощущал милую прелесть, земную. На морозе слабо пахло духами…
Он тихо и без колебания ответил:
– Кассиопея.
Извозчик на углу все-таки оказался. Олимпиада хотела было посадить Глеба третьим, между ними. Он ни за что не сел. Он их усадил, сам пошел пешком, ему нравилось так шагать по морозу, по закостенелому снегу улиц, со скрипом, визгом под ногой, нравилось видеть над собой Кассиопею. В ней какая-то музыка, он не мог сказать точно какая, но был ею полон, все теперь другое, где этот странный утекший день, библиотека, о. Парфений, мрак, печаль?
Его ход был легким, может быть даже он почти и бежал. Глаза Анны Сергеевны, бриллианты, запах духов… Глеб был рад, что он один, что восторг теснит его.
* * *
Через несколько дней, в Училище, после урока гимнастики, когда оставалось еще минут двадцать свободного времени, Глеба вызвал к себе Александр Григорьич. Он имел вид спокойный, задумчивый и довольно важный – стоял у окна большого коридора, заложив руку за спину и подбрасывая ею фалду вицмундира: это занятие он любил. Увидев Глеба, слегка улыбнулся – улыбка скользнула по бледному лицу с карими, умными глазами – нельзя было понять, насмешливая или сочувственная.
– Вот, вот именно. С вами и хотел поговорить. С вами.
Глеб относился к Александру Григорьичу с уважением, некоторым смущением. Не совсем он простой. Говорили, что в молодости считался редких дарований математиком, должен был быть оставлен при Университете, но не вышло – попал в провинцию. Теперь он инспектор Реального Училища в Калуге и Глебов классный наставник. Три года назад женился на бывшей своей ученице Кате Крыловой. Живет уединенно близ Никольской, в одноэтажном кирпичном домике. Иногда, проходя по переулку, можно видеть его за окном: укутавшись в плед (из-за склонности к простудам), подолгу, неподвижно читает. Глеб иногда о нем думал. Он представлялся ему вроде астролога или чернокнижника, в жизни его будто некая тайна. Бог знает, может быть, сидя в своих креслах, шарфах, пледах, вдруг да и откроет новое дифференциальное исчисление. Но сейчас он прежде всего начальство.
– С вами, и вот о чем-с…
Александр Григорьич таинственно поджал губы, расширил глаза: не то чтобы они приняли угрожающее выражение, но все-таки на чем-то настаивали.
– Я знаю, что вы хорошо учитесь. Да, да. И превосходно-с. Так и надо. Да, так и надо.
Он медленно повел Глеба за собою по коридору, все побалтывая фалдой вицмундирной – рука его за спиной.
– Но не одно это. Жизнь юноши состоит не из одного учения. Человек живет-с, и юноша живет-с. В юноше слагается будущий гражданин.
Глеб шагал рядом. Смутно он уже чувствовал, куда клонит Александр Григорьич.
– Мне известно, что вы посещаете театры. А на днях были даже и в концерте, не предупредив вашего классного наставника! – Он расширил глаза, повернул голову и настолько приблизил бледное свое лицо к Глебу, что тот увидел все жилки глаза и бледно-оранжевый ободок зрачка.
Глеб признал свою вину. И несколько вспыхнул, сказав, что случайно и в последнюю минуту получил билет от Анны Сергеевны, вице-губернаторши. Ему приятен был звук слов: «Анна Сергеевна» – и то, что как будто она сама его позвала.
– Принимаю во внимание, что вас пригласили за несколько часов до концерта. И, разумеется, не возражал бы ни против музыки, ни против общества, в котором находились. Не возражал бы. Да, да, да! (Он подкидывал рукой сзади фалду.) Не возражал бы. И все-таки – я должен знать, где находятся и что делают ученики вверенного мне класса… – Он опять расширил глаза. – Но это еще не все. Не все-с! Я вообще замечаю в вас в последнее время нечто новое… Мало того, что вы начинаете вести рассеянный образ жизни, да, рассеянный… – в вас наблюдаются и некоторые черты, мало подходящие и к вашему возрасту, и к положению воспитанника Училища.
Маленькие ноги Александра Григорьича, в сапожках на высоких каблуках, негромко, но четко отстукивали. Паркет блестел. Глеб старался идти с ним в ногу – это было не так легко: Александр Григорьич хотя выше среднего роста, но шагал мелко. Они проходили мимо стеклянных дверей, там классы. Привычным взором заглядывал туда Александр Григорьич. За стеклом ученики на партах, учитель за своим столиком.
Что-то они говорили, но отсюда казались тенями, как в немом синема.
Александр же Григорьич припомнил Глебу и странность последнего его русского сочинения («Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось» – Глеб неожиданно осудил Москву), и его теологические уклонения, и наконец…
– Вы, кажется, читаете Эмиля Золя?
Глеб на этот раз был в довольно мирном, быть может, слегка и смущенном духе.
– Да, Александр Григорьич, читаю.
Александр Григорьич высоко подбросил за спиной фалду. Проходя в эту минуту мимо четвертого класса, сделал ученику Евстигнееву, занимавшемуся подсказом, страшные глаза, погрозил пальцем.
– А между тем, Золя пакостный писатель. Да, я вам говорю: пакостный. Засоряет и отравляет душу юноши.
Дойдя до конца коридора, они повернули назад. Золя был вполне разгромлен. Глеб, впрочем, не особенно его и защищал. И когда Александр Григорьич спросил его, чем он больше сейчас занимается, Глеб ответил для него неожиданно, ответ удивил:
– Астрономией и рисованием.
– Астрономией!
Александр Григорьич опять расширил глаза, но теперь не угрожающе.
– И хорошо-с. Но что же вы, собственно, делаете?
Глеб несколько преувеличил, но его ход оказался правильным, да это и не была вполне выдумка: не только потому, что показал Анне Сергеевне Кассиопею, но он действительно этой зимой кое-что читал о небе, достал звездный атлас и находил большую радость в том, чтобы отыскивать и наблюдать звезды. Некоторые вечера, когда Красавец с Олимпиадою уезжали, он действительно проводил над Фламмарионом. Юпитеры и Венеры, Веги и Кассиопеи становились ему друзьями. Они пригодились и сейчас.
Насчет рисования Александр Григорьич Глеба тоже одобрил. Посоветовал обратиться к Михаилу Михайловичу. Глеб промолчал. Он отлично знал, что уж именно этого-то никогда и не сделает.
– А Золя бросьте читать. Пакостный писатель. Я вам говорю. Пакостный.
Раздался звонок. За стеклянными дверьми скучающие муравейники зашевелились. Одна за другой стали отворяться двери.
Тянуло спертым теплом. Держа журналы у левого бока, выходили учителя, вяло и скучновато. Вываливали ученики – коридор сразу загудел.
IV
В то время, когда калужский ученик Глеб готовил свои уроки, читал книги по астрономии и занимался рисованием, те самые звезды и планеты, о которых говорил Фламмарион, текли обычными путями по ночному небу над Европой и Россией, Петербургом и Калугою. Глеб знал теперь много созвездий и умел находить их в морозный вечер над Никитской. Мог слушать музыку и со сладким смущением вспоминать, как сидел с Анной Сергеевной.
Мог любить или не любить Красавца и Олимпиаду, не понимать Иоанна Кронштадтского, подкапываться под о. Парфения – в круговороте Вселенной занимал он едва видимую точку и размышления его, казавшиеся ему бесспорными и впервые высказанными, не меняли волоска в ходе жизни. Но и он сам, его мысли, волнения, стремления тоже были Вселенной, сколь бы ни казались со стороны малы.
Время срисовыванья пейзажиков, зверей, гоголевских типов прошло. Глеб теперь увлекался акварелью. В очаровательном разнообразии растений, зданий, неба, воздуха стремился уловить их формы, краски на сыром листе ватманской бумаги, натянутом на доску. Для других эти упражнения его цены не имели – он их никому и не показывал: трудился в свободные часы подпольно, точно делал нечто недозволенное. Мир никак не пропал бы без Глебовых акварелей, но для него они представляли ценность неизмеримую. Не потому, чтобы он считал их совершенными или значительными – наоборот, всегда страдал от сознания слабости, но все казалось: а вдруг сумеет создать что-нибудь и порядочное? Вдруг да изобразит, например, церковь на той стороне Никитской так, что и самому понравится? Пока что это не удавалось. Именно самому и не нравилось. Но он считал занятие свое первостатейным. Лишь оно и оправдывало его жизнь. С упорством страстно противополагал Вселенной ребяческие свои картинки – но противополагал…
Мир же большой и внешний продолжал назначенный ему путь. Петербург, Двор, правительство готовились к коронованию государя. Заседали комитеты и комиссии, тайные советники, действительные тайные, генералы и министры, архиереи, архиепископы – в Москве должно было состояться торжество, с пышностью необычайной. Государь принимал корону Самодержца Всероссийского, Царя Польского, Великого Князя Финляндского.
Коронация предполагалась весной. Дамы обеих столиц мучились треволнениями нарядов. Портные, портнихи работали. Полицмейстер Власовский, носившийся по Москве на паре в пролетке, уже известный тем, что уничтожил зимой сугробы и ухабы на улицах, молил Бога, чтобы все прошло благополучно.
Этой самой весной приехал в Калугу из Балыкова отец – за последним платежом Ирошникова по Будакам, за расчетами по кирпичному подряду. Отец остановился у Красавца, был весьма мил и весел. Ласков с Глебом – подарил ему велосипед. Более чем ласков и с Олимпиадою – ей целовал ручку, как настоящий гоноровый пан, называл «мамой» и преподнес дорогие духи. А с Красавцем ездили они в кафешантан, где певички упражнялись, помавая задами. Намокал отец с Красавцем и у «Кулона»: по обычаю, «нравственно встряхивались».
Глеб в это время держал экзамены – ровно и удачно. Акварель, астрономию пока отложил. Но настроение было хорошее: предстояло лето на новом месте, в Балыкове. Мать жила уже там, в только что конченном новом доме. Из Консерватории должна была приехать и Лиза. Глеба вез отец.
У отца оказались дела и в Москве, он отправился туда раньше. Глеб должен был захватить его там, дальше путешествовать с ним вместе.
В положенный срок Глеб и уехал.
Он встречался теперь с Москвой как следует в первый раз – один въехал в пыльно-златоглавый этот город ярким майским утром. Глеб, «ученик шестого класса Калужского Реального Училища», считал себя уже взрослым, был хорошо одет, отлично выдержал экзамен и, когда сел в извозчичью пролетку у Курского вокзала, вдруг ощутил всю свою значительность.
– На Неглинный, в номера Ечкина.
Он сказал это без важности, точно Ечкин – «Славянский базар» или «Дрезден». Дал четвертак носильщику в белом фартуке, поставившему ему в ноги чемодан. Извозчик загромыхал. В пролетке что-то дребезжало – как ветхий ковчег, двинулось все сооружение. И Москва охватила Глеба объятием теплым, неотрывным, пестрошумным.
Москва была в крике воробьев, в красном кушаке извозчика сверх синего кафтана, в ярко-зеленой вывеске трактира Бакастова, в индиговых вывесках лавок, веселой толпе на узких тротуарах Садовой, в колокольном звоне близкой церкви, в толчее и азиатчине базара у Сухаревки, в галках, милой зелени и сирени майской – Русь и Азия, истинно «сердце России», та Москва, которую по-мальчишески задел он в недавнем сочинении – а теперь вот она, невыдуманная, настоящая.
Глебу очень Москва понравилась, но и смутила. Она показалась огромной, кипучей… – не без ужаса думал он, как же здесь не заблудиться? Кто может запомнить все эти закоулки, повороты, тупички? Но извозчик привез на Неглинный без затруднений, Ечкина нашел без затруднений.
Раз отец остановился здесь, Глеб заранее уважал Ечкина. В сущности же, это было слишком. Ечкинская гостиница считалась из средних, солидная, но для провинциалов. Хозяин содержал еще и тройки. Ечкинские тройки были по Москве известны, сами же «номера» степенны, с половыми в белых рубахах и штанах (отец называл их «упокойничками»), с кисловатым запахом непроветренных коридоров, с «парой чая», которую на лубочном подносе со скачущей тройкой подавал «упокойничек» в номер: чайник с кипятком (белый) и чайничек с чаем (тоже белый, в синих цветах), филипповский горячий калач, кусок ледяного бландовского масла… Или же – угарный самовар с веерообразным краном, в клубах пара, с искаженным твоим отражением на медном боку.
Отец, в сером свежем костюме, хорошо вымытый, с аккуратно расчесанным боковым пробором, щеткой приглаженными волосами, сидел именно за таким самоваром. Бессмысленно-растянутое его изображение глядело из самоварного пуза. В комнате душно, накурено, слегка и угарно.
– А-а, гимназиаст приехал! Ну, благополучно?
Глеб обнял сидевшего отца, приложился щекой к его теплой, в бородке, с детства знакомой щеке, от которой пахло табаком – отец ласково привлек его к себе, слегка потерся щекой… Все в порядке.
– В шестой класс перевалил? Первым? Молодчина.
Пока Глеб умывался из умывальника с нижней педалью, отец покуривал, налил ему чаю со сливками и сказал, что хотя науки и ни к чему, однако учиться надо – так полагается.
– Да, и по Москве не заблудился? Видно, что охотник.
– Папа, мы долго тут останемся?
– Нынче же трогаемся. И в Балыково мне пора, да и здесь завтра столпотворение начинается – коронация.
Глеб остался доволен. Москва хороша, но сидеть долго в этом номере… – нет, дома и «в деревне» лучше. Отец был прав – Глеб все еще оставался «охотником» калужских лесов. К известию о коронации отнесся вполне равнодушно. Коронация так коронация. Таков же был и отец: другой на его месте, зная, что завтра начнутся такие зрелища, именно и остался бы на денек: но отец терпеть не мог торжеств, не любил генералов, не любил мундиры, треуголки, ордена, толпу, восторги и «народные гуляния». Он уехал бы из Москвы, если бы Глеб и просил остаться.
Чтобы убить время, Глеб решил посмотреть город. Это отец одобрил.
– Ечкина-то найдешь? Помни, около Трубной площади.
Глеб мог бы и обидеться – его все еще считают за ребенка, но сейчас не обиделся: полон был другим. Все-таки, перед ним Москва!
Выйдя на Неглинный, тотчас нанял извозчика и поехал по знаменитым местам – мимо Большого театра с летящими наверху конями, мимо Думы и Иверской, остроугольно-кирпичного Исторического музея, Красною площадью, где Василий Блаженный завивает свои луковицы, Минин с Пожарским смущены академической наготой. Глеб нарочно велел ехать чрез Кремль. Это было первое его посещение, взрослое и странническое, нового города, начало тех радостей скитаний, которыми была благословлена жизнь его. Он с изумлением, почтением смотрел на кремлевские стены, кремлевские башни, сходившие меж зубцов стены вниз к Москва-реке. На Спасской башне били часы. Въезжавшие в темноватое ее устье, ведущее в Кремль, обнажали головы. Глеб не без волнения выполнил старинный обряд московский: снял фуражку, увидел перед собой непокрытую лысину старика-извозчика. А через минуту ехал уже мимо бело-голубого Вознесенского монастыря, мимо Чудова, Успенского собора, Царя-Пушки. Слева за рекой Замоскворечье. Если обернуться немного назад, там белеет Воспитательный дом. Прямо – золотые кресты Кадашей.
Свой же собственный Иван Великий, тонко возносящийся в Кремле, увенчанный золотым шлемом, над всем господствует.
Рядом, в Архангельском соборе, спят в каменных могилах те великие князья, цари, что созидали эту Русь. Цепь длинна! Завтра последний из них, совсем еще юный, родившийся в день Иова Многострадального, должен был въезжать в Москву для коронации.
Чем далее ехали, тем больше испытывал Глеб ощущение новое, радостно-тревожное… Это уж не Калуга с Александрами Григорьевичами и Красавцами. Это та самая Москва, которую зимой осудил он – а вот она расстилается теперь пред ним безгласная, не требующая восхищения, но вызывающая его.
В Третьяковскую галерею попали, переехав Каменный мост, вертясь по переулкам, закоулкам. Тихий Лаврушинский переулок – конец пути. Не очень заметный вход, довольно скромное здание, но что-то прочное, хозяйственно, с любовью устроенное.
Глеб долго ходил по безмолвным залам. Посетителей было немного. Тишина, зелень сада из окон, уединение, особенный, милый запах – смесь лаков и масл от полотен – сознание, что вот он в Третьяковской галерее – как это возбуждало! Новым, прекрасным показались все Репины, Суриковы и Поленовы, Крамские, Левитаны. Глеб с ужасом и восторгом глядел на Иоанна Грозного над окровавленным сыном, хохотал с запорожцами, волновался со стрельцами суриковскими – боярыня Морозова в санях с проклятием своим и двуперстным сложением…
Поленовская Ока – родные Будаки, ушедший рай. Был и художник, особенно его пронзивший, – Левитан. На мысу над слиянием двух русских рек, под сумрачно-величественными облаками церковка в деревьях и погост – «Над вечным покоем» в предвечернем скорбном свете из разрывов туч – так навсегда и легло в сердце. Еще: вечерний месяц над лужком и стогом, лошади деревенские, деревня, Русь, – написано так, как он не видал раньше. Он с грустью, завистью ощутил, что этого не умеет – и сумеет ли когда? Новый мир! Если стоит жить, то вот именно для того, чтобы делать подобное…
Третьяковская галерея так его прельстила, что он в ней пробыл, пока не стало пестреть в глазах, путаться в голове – сколько может вместить человек, столько и вмещает.
Глеб возвращался к своему Ечкину радостно-утомленный, переполненный, с тем чувством, которое дают иногда странствия: не напрасно прожитой день.
После художества и тишины Лаврушинского, Неглинный показался более обыкновенным, менее привлекательным. Времени еще было порядочно. Послонялся он по Трубной площади, посмотрел на продавцов птиц в клетках, на мелкий, пестрый базар этого пестрого и грубоватого места. По узеньким рельсам ходили конки, парою лошадей. Глеб с любопытством разглядывал, как перед подъемом в горку, к Рождественскому монастырю, к основной паре припрягали впереди еще две пары. На каждой верхом по мальчишке. Они нахлестывали своих кляч, галопом разгоняли конку – с размаху удавалось ей взлететь до Рождественского монастыря и Сретенки. А там подмогу отпрягали. Мальчишки шагом, с важностью спускались вновь к «трубе» – до следующего вагона.
Зрелище это Глеба развлекло. Но еще более удивился он, когда сверху спустилась целая группа всадников, впереди некто в театральном, или же маскарадном костюме – в шляпе с перьями, плаще, шпорах и с трубой. Это были герольды. Москву оповещали о том, что завтра начнутся торжества коронации.
Потрубив, собрав вокруг себя кучу народа и прочитав что нужно, герольды поехали шагом дальше – по Петровскому бульвару к Страстной площади.
Глебу все это не очень понравилось. Потому ли, что отцу не нравилось? Трубы, наряды маскарадные, лошади в изукрашенных попонах – не понравилось.
Когда он возвратился к непроветренному Ечкину, «упокойничек» доложил, что «папаша тоже вернулись и дожидаются». Отец расплачивался по счету, давал на чай выползавшим изо всех щелей коридорным, номерным, горничным… Внизу ждал швейцар. Отец давал охотно. Он был весел, бодр, был русский барин, странно было бы для него мало давать.
Через полчаса их с поклонами усадили на извозчика. Ехали они на Казанский вокзал.
* * *
Празднества в Москве начались со въезда государя из Нескучного дворца, загородного, в Москву. Государь был молод, недавно повенчан, все для него и его молодой жены было впереди в этот майский день, когда московский народ восторженно его встречал и, казалось, восторженно его любит – начиналось венчание на царство: вдаль, к Мономаху, уходила вереница императоров, царей, князей, предшественников.
Отец и Глеб мирно катили в глушь нижегородских лесов, когда в Соборе на голову государя, государыни возлагал митрополит венцы. Не так трудно и представить себе всю роскошь мантий горностаевых, блеск риз и митр в Соборе, золотое шитье мундиров, пестроту лент и орденов, пестроту дамских парадных платьев, как и всю сложную, утомительно-грандиозную махину «следований», «прибытий», обедов, балов, иллюминаций, речей, хоров, кантат, «народных толп» и прочего. Все проходило, как и полагалось, по церемониалу коронаций Александра Третьего, Александра Второго. Гудели колокола, палили пушки, вечером Москва сияла иллюминацией – все именно то, что не любил отец и от чего уехал.
Гораздо позже Глебу, уже взрослому, таинственно передавали, что коронация началась сразу несчастливо: когда в первый же раз подвели коня Государю, то едва он вдел ногу в стремя, конь начал биться, встал на дыбы, Государь сел в седло и, будто бы, «смертельно побледнел» – правда ли это? Или легенда? Глеб навсегда принял за правду.
Мать уже расцеловала его на пороге нового дома балыковского, и Глеб вселился в отведенную ему мило-светлую комнатку, где пахло свежекрашеным полом, когда в оставленном им городе произошло нечто особенное и на этот раз вполне историческое.
Всякий, кто выезжал из Москвы по Петербургскому шоссе, помнит за Яром, налево, Ходынское поле, ограниченное с севера лесом. Сюда выходили в лагеря московские гренадеры. Здесь, в назначенное утро коронационных дней, устраивался народный праздник: среди балаганов, буфетов, палаток должны были проходить толпы, которым раздавались бы подарки – эмалированные кружки с царскими инициалами, сайки, угощенья – все как будто очень и приятное. Поле огромно, но и народу в Москве немало. И за подарками тронулась еще с вечера не только «вся Москва» – горничные, кухарки, торговцы, дворники, рабочие – но и крестьяне деревень соседних. Уже к полуночи толпа считалась в сотни тысяч и росла. Глухо, темно – вероятно, вначале и весело было в тот вечер на Ходынском поле. Наряды полиции да сотня казаков, явившихся уже глубокой ночью, должны были сдерживать эту Русь, направлять куда следует.
Но всем хотелось поскорей к буфетам и палаткам. Кто дал сигнал? Его не было, сама утроба толп несла их в темноте вперед, сжимая, давя, расплющивая. Дети и женщины, кто послабее из мужчин поплатились первые. Кто посмелее, посильней, вскарабкивался на соседей и по головам выбегал из давки. Другие, споткнувшись, падали. Стадо затаптывало их. Третьи проваливались в полузасыпанные колодцы. Четвертые – в оставшиеся после выставки ямы, лишь слегка досками накрытые, пятые в канавы…
Утро поднялось над несметною обезумевшею толпой, метавшейся из стороны в сторону. Молчаливо двигались в ней стоячие трупы. Из ям стоны.
…И все было необыкновенно в этот день, о котором Глеб в мирном Балыкове, близ Сарова, при шуме сосен балыковско-саровских узнал много позже, и по молодости лет, по занятости собою, пробуждающейся своею жизнью, не обратил даже особенного внимания: в далекой Москве, которой и вовсе не знал, произошло несчастие с неведомыми ему людьми… Очень печально. Но что же он может сделать?
День же Москвы продолжался. Поздним утром толпы уже не было, трупы убрали, министры съезжались в павильон на Ходынке слушать кантату в честь коронации. Панихиды не было. Днем, когда государь ехал по Петербургскому шоссе, ему встречались мертвецы на подводах – погибло тысячи три.
Вечером французский посол граф Монтебелло давал коронационный бал. Государь посетил его. Был задумчив и бледен, но танцевал.
* * *
Две домны в Балыкове видны были с балкона директорского. Вокруг мелкие строения, контора, склады, дальше луг и речка, а за ней лесок по взгорью – в сторону Дивеева – да деревня, где жили рабочие. Сзади дома парк: часть векового Саровского бора, оторвавшегося от монастырских лесов. Балыково в четырех верстах от Сарова – больше похоже на огромное имение с домнами, чем на завод. И все здесь осенялось лесом, широко-шумностию его и дичью, свежестью.
Тут проходило шестнадцатое лето Глеба. Из Московской Консерватории приехала сестра Лиза. У ней гостила Зина, калужская ее подруга по гимназии, блондинка с пышным ореолом волос над лбом – лоб большой и выпуклый, глаза простенькие, светло-зеленые – все давало оттенок овечий. Зина считала, что слово мышь – мужского рода и родительный падеж будет: «мыша» – отец очень этим забавлялся. Ее в доме и прозвали Мыша. Она вполне была барышня калужская, таинственно фыркала, вся заливаясь краской и смехом, без конца рассказывала Лизе разные сердечные истории. Глеб отнесся к ней покровительственно-равнодушно, мать же считала, что ее пора выдавать замуж. Скромный агроном Борис Иваныч, из соседнего имения, стал бывать у них чаще.
Глеб мог бы про себя сказать, после одинокой, трудовой зимы в Калуге, что отдыхает. Кое-что он читал, купался в речке Вичкинзе. Иногда ездил с отцом на вырубки близ Кастораса, за тетеревами.
Отец еще весной подарил ему велосипед. Глеб каждый день выезжал теперь на нем в лес – осторожно и не быстро катил гладкою боковой тропкой пешеходов. Лес сопровождал его войсками сосен и торжественным напевом их.
Встречные бабы иногда крестились, с ужасом взирая на велосипед. Мужики тоже удивлялись – «сам себя на двух колесах оправдывает».
Глебу доставляло удовольствие являться неким посланцем из иной, высшей жизни. Но увидев, что лошадь осаживает, начинает биться, вырываясь из шлеи и хомута, он слезал, пропускал подводу с пятившимся конем – иногда все-таки тот и подхватывал. Баба жалостно его отпрукивала, натянув вожжи – молотила задом по мешку с сеном. И уносилась в пыли.
Одиноко катил в лесу Глеб. Разумеется, не мог предполагать, что через семь лет, уже в новом столетии, как раз здесь будут тянуться экипажи свиты и Императора – в Сэров, на торжество причисления к лику святых старца Серафима. Если бы он остановился, слез с велосипеда, сел у канавки, под медленный гул сосен представил себе все толпы, которым предстояло стекаться сюда – начиная с Государя и Царицы, духовенства и министров и кончая мужиками, бабами, калеками, хромыми и слепыми, – он, разумеется, поразился бы. Это была бы Русь и Сэров, возжженный для России. Он увидел бы торжественную всенощную в Соборе – и у многих алтарей под открытым небом, среди леса, среди тысяч народа с зажженными свечами, как в Великий Четверг. Он услышал бы на полиалее неожиданно грянувшее: «Ублажаем тя, Преподобие Отче Серафиме и чтим святую память Твою…» – Серафим перестал в ту минуту быть просто старцем: в Русской церкви появился новый святой. Он увидел бы и Императора в белом кителе вблизи амвона, и Царицу в светлом платье. Китель Императора, китель России, которой предсказал Серафим Голгофу, мелькал потом средь всхлипываний баб, в толпе мужиков – беззащитный, но еще без угроз. И в ту ночь многие исцелялись, вставали калеки, рыдали родные над выздоравливающими.
Глеб же, обыкновенный русский юноша, способностью прорыва Времени не обладал, будущего не знал. Пророчествами, как и судьбами Родины, не интересовался. Выедет он из соснового леса, проедет полями и назад, домой, в жизнь покойную: утром можно вставать когда хочешь, в Училище не идти, пить чай в столовой, где за самоваром сидит мать, всегда ровная и прохладная – он подойдет, поцелует ей ручку, она его в висок – и начнется день балыковский: можно почитать нового писателя Чехова, поваляться в гостиной на диване, сходить выкупаться, проехаться на велосипеде… – однообразно, может быть, и полусонно, но зато дома, дома…
Как-то в середине июля собрались они в монастырь – мать решила: «надо же детям посмотреть Сэров». Сама она туда не поехала – развлечений для себя не признавала, а молодежь пусть прокатится. И устроила даже так, что с Лизой, Мышой, Глебом отправился и Борис Иваныч: для Зиночки, полагала мать, не вредно.
Даже к вечеру зной не свалил. Что-то душное, смутное… Парило, овода без устали облепляли лошадей, торжественно ехали на их спинах, жаля, напиваясь кровью. Линейка ровно шла песчаною колеей. Но в Саровском бору пришлось рыси убавить – потряхивало на корнях.
Борис Иваныч, в чечунчовом своем пиджаке, солидно рассказывал Глебу о тетеревах, уборке, монастырском хозяйстве. На другой стороне линейки, за спиной их, Мыша держала Лизу за руку, что-то шептала – вернее, это был ряд сдерживаемых фырканий, прерываемый отдельными словами: «Ватопедский на меня посмотрел… он так посмотрел… а мы – ха-ха-ха…»
Глеб находился в спокойном, туманно-отдохновительном настроении, слушал Бориса Иваныча без интереса, но и без раздражения, как довольно равнодушно и вообще ехал в Сэров.
Деревья поредели, стало светлее. Тройка взяла рысью на мост через реку – темноводный, глубокий Сатис внизу – сверху глядит Собор, купола, корпуса монастырские. Монастырь над рекой на пригорке. Кучер вновь припустил – на огромный двор вкатили как полагается. Высокий послушник, огненно-рыжий, в скуфейке, переходил двор тропинкою диагональной, мимо корпусов с палисадничками, с монашескими геранями, мальвами.
Мыша, взглянув на него, тотчас сжала руку Лизы.
Монах-гостинник считал, что они хотят взять номер, ласково поклонился, предлагая войти. Но Лиза объяснила, что они ненадолго. Он не менее ласково поклонился вторично.
Лиза, уже худенькая консерваторка, взрослая, оказалась вожатым. Она негромко, толково расспрашивала. Худощавое ее личико в веснушках, с карими, как у матери, тонко очерченными глазами, вызывало расположение: именно ей и вести всю компанию, с ней и монахи приветливей. (Иногда, впрочем, она ловко их передразнивала, в сторону, делала старческую обезьянью рожицу.)
Побывали в Соборе, видели пещеры в обрывистом берегу. Парило все сильнее. Солнце поблекло, затянулось мглой. Вдалеке погромыхивало.
Решили идти в дальнюю пустыньку и к источнику. Мыша быстро порозовела от ходьбы, белокурый ее локончик развился. Лиза подстроила так, что Мыша шла с Борисом Иванычем. Глеб помалкивал. Лиза обертывалась иногда назад, ей подмигивала. А Борис Иваныч шагал скромно, лесною дорогой. Спина чечунчового его пиджачка отсырела, он занимал барышню разговорами: вот это Саровский скотный двор, отличная каменная стройка. Молочное хозяйство на высоте, есть сепаратор… На слове «сепарзтор» Мыша фыркнула. Ей показалось это слово смешным. «Сепаратор… а он для чего?» – «Сепаратор, Зинаида Михайловна, это такая машина, которая отделяет в молоке сливки, благодаря действию центробежной силы. Вы получаете очищенный продукт двух категорий. А на дне машины то, что мы называем механически взвешенными частицами. В просторечии – грязь». – «У нас в Калуге…» Мыша была подавлена красноречием Бориса Иваныча – слово «центробежный» опять непонятно и можно бы захохотать, но от смущения она лишь прошептала, зардевшись: «У нас тоже есть монастырь… Тихонова пустынь. А мы ходим… на Калужку (она произносила „л“ мягко, по-французски) – там чудотворная икона».
Источник, куда привозили больных (и погружали в воду), особенно не поразил. В избушке же старца, игрушечно-крохотной, все попримолкли. Мыша по-прежнему держалась за Лизу – так покойнее… и все внимательно, не без серьезности глядели на закопченные бревнышки, убогий столик, сохранившиеся «лапотки», «порточки» Серафима. Какой свет мог к нему проникать сквозь оконце это?
– Ты б могла так вот жить? – шепнула Лиза Мыше. Та к ней крепче прижалась.
– Нет. Я боюсь.
– Чего?
– Сама не знаю.
Борис Иваныч рассматривал все основательно. «Обратите внимание на бедность дерюжной ткани… А вот это – недогоревшая свеча, при которой старец молился в последний день. Смерть застала его на коленях, пред иконою „Умиление“. Свеча упала, вещи вокруг начали уже тлеть…»
Глеб молчал. На вопрос сестры, обращенный к Мыше, он ответил бы, вероятно, в таком же роде. Но ни отвечать, ни говорить не хотелось. Вот так одному, в этой сосновой избушке, зиму и лето, в лесах, с медведями… Говорят, и медведи к нему являлись. Но мирные.
Когда вышли, небо совсем потемнело. Надо спешить!
Быстро, как только могли, шли назад. Сзади росла туча, тучная влагой, чернильная, с тугим серым валиком на переднем краю. Молнии золотом ломали ее уже до земли, уже стреляло вдалеке, вспыхивало фосфорически-зеленоватым. Тот безудержный шквал, что летит перед тучей, с запахом дождя, жутью, тьмою за ним, вдруг взметнувшей все своим дыханием – налетел на них в двухстах шагах от монастыря. Листья понеслись, пыль, смерч завился по дороге, несколько капель дождя – крупного и еще редкого – потом так бабахнуло, что Мыша присела.
Бежать, бежать… Борис Иваныч подхватил ее под руку, все четверо кинулись к той монастырской гостинице, от которой час назад отказались: только чулки, да оборочки белые барышень замелькали… – некогда уж стесняться. Только бы добежать.
И пора! На каменное крыльцо влетели в момент, когда дождь грянул уже белой сплошной лавой. Он сразу заслонил все – не видать ни Собора, ни корпусов, ни леса, только по двору, у самого крыльца, кипят в исступлении светлые пузыри, да начинающиеся ручьи… Кучер едва успел ввести в сарай тройку с линейкою. Монах-гостинник опять ласково кланялся – теперь Лиза сказала: «Да, нужен номер!». – «И самоварчик прикажете?» И самоварчик.
В номере душно, еще догрозовой духотой, тихо, слегка затхло. Клеенчатый черный диван, портрет архиерея на стене, Серафим с медведем. На подоконнике горшок с красными фуксиями. Лиза приотворила форточку – запахом дождя слабо тянуло, и весь этот номер с половичком от двери к столу и дивану, иконами в углу, архиереями и святыми показался вовсе удаленным. Остальной мир – Балыково, мать, отец, все под потопом, а они четверо в этом ковчеге с толстенными каменными стенами: дождь, буря – ничто. Это край Серафима – вон он шагает по стене старческими ногами, с вязанкою дров на спине, согбенный Серафим избушки, ныне заливаемой потопом.
Когда въехал с монахом самовар, в белом облаке, пыхтя, кипя, потянуло слегка угарцем. И чашки с цветами, и варенье вишневое в баночке, и поклон гостинника, все – привет, дружба здешних мест, малое, но доброе расположение ковчега.
Лиза и Мыша поправляли прически, обтирали платья, обчищали туфли. Мыша, вся розовая от бега, волнений, глаза блистают, еще больше похожа на овечку. «А мы как побежали, я думала, сейчас нас зальет… А Борис Иваныч меня под ручку… мы бежим… а мы – ха-ха-ха…»
Лиза хохотала. «Эх ты, Мыша несчастная, тебя бы под дождем оставить…»
Из фортки залетали капли. Втекавший воздух чуть ли не вкуснее самого варенья. Чай пили не торопясь, с блюдечек, и опять барышни бессмысленно хохотали. Глеб и Борис Иваныч были довольно благодушны – Глеб более задумчив.
Борис Иваныч объяснил, что дождь скоро пройдет. Он говорил негромко и небыстро, но основательно. Дождь не мог его не послушаться. И действительно послушался.
Когда через час Глеб вышел опять на крыльцо, летели уж отдельные капли. Над соснами посветлело, с каждой минутой светлело больше. Сзади дымилась еще сизая туча. Но уже все кончилось. И мгновенно наступило странное состояние: совсем стихли капли, пал ветер, тишина, в ней нежно благоухало лесом, дальним лугом, неземной свежестью. И после таинственных переливов, невидных перемещений в небесах радуга, отливая нечеловеческим семицветьем, вознеслась через тучу, конец ее прямо уперся в Сэров, в этот двор огромный.
Глеб стал еще задумчивее. Он безмолвно смотрел на Саровский рай. Как там, на дороге близ Балыкова, не мог предвидеть ни торжеств Серафима, ни судеб Родины, так здесь – откуда мог бы знать о грядущей участи самого Сарова?
Но эта радуга, благоухание, тишина… Глеб был почти взволнован, смущен.
Из сарая шагом выехала тройка, направляясь к крыльцу. Сиденье линейки еще перевернуто – от дождя. Хвосты лошадей подвязаны коротко, тугими узлами.
* * *
Ровная жизнь, «полная чаша». Матери нравился большой удобный дом, хозяйство, слуги, огороды, где она распоряжалась, цветники перед домом, молодой яблоневый сад, который они сажали вместе с отцом.
Цветником много она занималась – цветы любила: сама поливала свои левкои, петунии, маргаритки – ее фигура, искаженная, отражалась в розовом стеклянном шаре на постаменте пред балконом. (Когда протягивала вперед руку с лейкой, из которой дождичком сверкала вода, лейка вырастала в шаре чудищем, а сама мать казалась где-то вдали, крохотной фигуркой. Но достаточно было нагнуться, чтобы поправить цветок – и голова матери принимала громадно-безобразные размеры.) Сама же мать, похаживая во владениях своих садовых, вела и политику, молчаливо обдумывала свои дела.
В жаркие дни июля муть стояла в воздухе, опаловая мгла от далеких лесных пожаров. Глеб валялся в угловой гостиной на диване. Часто вспоминал Анну Сергеевну – изящное и худощавое лицо, черные глаза, бриллиантовая брошка. Все это так туманно, нежно… Ах, какой вечер в Калуге – концерт, Собрание, мороз… «Это что за созвездие?» – «Кассиопея…» Да, Кассиопею не забыть уже теперь. «Олимпиада говорит, что она болезненна, склонна к чахотке. Неужели правда? Боже мой, как грустно!»
Но, конечно, эта грусть была минутной. Находила, все же, себе отзвук в книгах нового писателя – Антона Чехова. Глеб с восторгом его читал, забывал Анну Сергеевну довольно скоро, погружался в мечтательно-поэтическое бездействие и считал это хорошим тоном. Но молодость, здоровье и мальчишество брали свое: иногда вскакивал, бежал весело купаться, бормотал и напевал, насвистывал. Раз так увлекся, что на одной ножке выскочил в залу и проскакал по ней, напевая давнюю, еще с детских времен бессмысленно для него милую песенку:
– Сидор, Сидор, граф Исидор, граф Исидор, граф Исидор… Глуховатый старый лакей вошел в эту минуту в залу. Почтительно спросил:
– Лошадку изволите заказывать? Глеб совсем переконфузился.
– Нет, это я так… я ничего. И от смущения убежал.
Мать же в это время не только обдумывала, но и действовала. Ее главной дипломатической деятельностью было то, чтобы устроить Мышу. Мыша была сирота, жила в Калуге у дальних родственников почти из милости. С другой стороны – при виде мужчин слишком часто фыркала и хохотала, иногда беспричинно плакала – мать окончательно убедилась, что ее надо выдать за Бориса Иваныча. Борис Иваныч упорно к ним ездил на своих дрожечках, потел, скучно разговаривал… – Мыше не особенно нравился. Она была влюблена в Калуге, в одноклассника Глеба, сына околоточного Ватопедского. Лизе рассказывала о нем бесконечно. «Он подошел… Мы идем по бульвару… взял меня за руку…» Понять рассказ ее всегда трудновато. Она помогала себе тем, что всегда кончалось дело одинаково: «А мы – ха-ха-ха, ха-ха-ха!» – и широкое ее лицо покрывалось пятнами от смеха – они подолгу, бессмысленно с Лизой хохотали.
Да, но Ватопедский такой же ученик, как Глеб, едва-едва перебрался в шестой класс и уже мечтает стать вольноопределяющимся. «Зиночка, подумайте о своем будущему, – говорила мать. – Борис Иваныч очень порядочный и приличный человек. Очень вам предан. Его можно устроить в Нижний, по агрономической части. Николай Петрович о нем отличного мнения и похлопочет…» Мыша опять краснела, теперь по-другому – ничего уж не могла пролепетать. Потом шушукалась с Лизой, плакала, хохотала, вспухала, бледнела… А Борис Иваныч добросовестно выхаживал ее – приезжал в пять, до шести гулял с ней в парке, среди полусаровских сосен. «Борис Иваныч превосходный жених, Зиночка», – настаивала мать – сама не замечая, вела она давнюю свою линию: из ее дома должны выходить не «романчики» (чего она терпеть не могла), а браки.
Когда лето подходило к концу, Глебу с Лизой пришлось собираться. Они расставались с жизнию балыковского дома, с Саровом, Вичкинзой, тетеревами Кастораса, летними прогулками, бездельем, Чеховым – все это туманно, полусонно, но несло в себе ощущение шири, вольности, как шум Саровских сосен, когда Глеб катил средь них на своем велосипеде.
Теперь же трогались на Муром, по другой дороге – сто верст в тарантасе муромскими лесами, только что не с Соловьем-разбойником – и вновь к Оке в этом Муроме, древнем городке на нагорном берегу, с видом необозримым на приокские луга и леса. От Мурома железная дорога на Москву – это Глеб знал. Но не знал того, что первый непротивленец русский, святой страстотерпец, имя которого он носил – князь Глеб был именно князь Муромский – отсюда начинал агнчий свой путь.
Когда они уезжали, Мыша много плакала, тиская Лизу в объятиях. Она говорила, что, кажется, уж полюбила и Бориса Иваныча. И Ватопедского жаль, и счастлива она, и боится… – опять фыркала, опять хохотала, вновь плакала…
Мать провела свой план. Свадьба Мыши была назначена на сентябрь.
V
У Красавца и Олимпиады Глеб чувствовал себя теперь уже прочно. Родители в Балыкове, далеко. На каникулы он туда ездит, но живет, трудится здесь. И хотя праздник с буднями несравним, все же не мог бы он сказать, что Красавец его теснит или что с Олимпиадой ему тяжело.
Красавец раз навсегда решил, что если Глеб «сын дяди Коли» и хорошо учится, держит себя безупречно, то чего же больше? Глеб его занимал настолько, насколько он «нашей породы», племянник, которого не стыдно показать гостям, сказать, взяв под руку: «Ну-те-с, а вот позвольте вам представить, сын любимого моего брата Николая, ученая голова, с детства назван Herr Professor, десяти лет убил на облаве лося». Глеб и смущался, и принимал как должное. Конечно, приятнее была бы другая слава, не вечно же этот лось. Но наморщенный лоб Красавца, выпяченные вперед губы столь серьезны, что уж ничего тут не поделаешь.
С тетушкой выходило гораздо проще – в Олимпиаде совсем не было Красавцевой парадности и гоноровости. Красавец из-за пустяка мог вскипеть, обидеться, с ним нужна некоторая политика. Олимпиада же лишена спеси, ведет жизнь праздную, шьет себе платья, ест, выезжает с Красавцем в театр, дома расхаживает в ярких халатах. Сядет за рояль, аккомпанируя себе, напевает: «Так взгляни ж на меня хоть од-дин только раз…»
Она к Глебу относилась как к юноше со странностями. Теперь ее удивляло его пристрастие к живописи. Милое занятие, но увлекаться настолько…
Уроки он все-таки готовил, но это ненастоящее, настоящее начиналось лишь тогда, когда он брал доску с натянутой полусырой ватманской бумагой, вынимал кисти, краски, разводил их, смешивал, погружался в мир безмолвных треволнений. Хотелось, чтобы вышло получше, а выходило все «не то». После Москвы, Третьяковской галереи, Левитана, он был отравлен, доморощенные попытки казались пустяками. И Глеб изводился. Худел, волновался, нервничал. То являлась надежда – вот-вот удастся, наконец-то «выйдет». Он начинал сиять. Но продолжалось недолго. На другой день, а то и через час живопись эта казалась убогой, он впадал во мрак.
Иногда Олимпиада к нему заходила, когда он рисовал. Глеб не особенно это любил.
– Нет, пожалуйста, не смотри, еще не готово. Олимпиада хвалила.
– Чего тебе, в самом деле? Очень мило. Прямо миленькая картинка…
«Миленькая картинка! Миленькая…»
– Ничего в ней нет хорошего.
– Придет Анна Сергеевна, непременно покажи. Ей тоже понравится.
– Нет, уж пожалуйста. И не говори ей ничего.
– Да что ты Байронович право какой? Что это с тобой делается?
По характеру своему Глеб мог бы рассердиться, но на Олимпиаду не сердился. Ответ его довольно покойный, негромкий: «Нет, не надо. Если бы удалось что-нибудь… а так я не хочу. Мне самому не нравится».
Анна Сергеевна редко бывала у Олимпиады. Встречался же он с нею еще реже. Даже когда она приезжала, он не всегда выходил. Случалось, видел вице-губернаторскую коляску, парой, вот она около них остановилась… – и тогда он к себе забирался в комнату, слышал звонок, отворяют двери, а он принимался бессмысленно что-нибудь зубрить. В переднюю квартиры Красавцевой входила худенькая черноглазая дама в мехах, для всех она вот такая, для него совсем другая, та, к кому в одиночестве и тишине тайно он привык. Никому бы не сказал о ней и никто ничего не знал. Но Глеб-то знал. И вот Анне Сергеевне еще показывать его мазню!
– Если ты недоволен собой, бери уроки. Вполне можешь частные уроки брать. У того же Михаила Михайлыча.
Насчет Михаила Михайлыча Глеб даже и возражать считал ненужным. Олимпиада видела, что он недоволен, старалась успокоить.
– Ну, у кого вообще хочешь. Вон я в «Калужском вестнике» видела объявление: приезжая художница дает уроки. Да мне и Красинцева о ней говорила. А то что же это такое, из-за пустяков изводиться.
Олимпиада в пример привела себя: поет и поет, просто для собственного удовольствия: «О сцене-то я не думаю, не петь же мне в Московском Большом театре!»
Может быть, ей и не петь, но Глеба это никак не устраивало. Нет, ему надо жить – по-настоящему. А так просто слоняться невозможно. Он не ребенок, слава Богу, в седьмом классе, весной кончает! И все еще не решил, что с собой делать. Не знает, есть у него дарование, или нет. Это главное. Остальное неважно. Если бы дарования не было, то почему же так влекло его к живописи, мучило? Но если бы дарование было, тогда он отлично и рисовал бы, не томился бы, показывал бы и Анне Сергеевне и другим, его бы хвалили по-настоящему.
Все это опять волновало и томило.
В Училище Глеб равнодушно-успешно скользил по всем «предметам», ни один его не занимал. Но в Законе Божием было нечто беспокоившее. Не то чтобы интересно, но не совсем гладко. Как не совсем гладко и с о. Парфением.
В этом году опять повторяли Ветхий Завет. К Ветхому Завету всегда относился Глеб с противлением – не привлекали ни дела, ни люди его. На уроках о. Парфения он сидел теперь с независимым и скучающим видом. Если бы Олимпиада видела его тут, рассеянного, как бы недовольного, чуть ли не насмешливого, опять назвала бы Байроновичем.
О. Парфений, такой же худой, высокий, со впалою грудью, в коричневой рясе с золотым наперсным крестом, загадочно улыбался, полузакрывал глаза, слушая ответ какого-нибудь Ерохина, снисходительно ставил «четыре» – балл для Закона Божия скромный.
Глеба вообще вызывали редко. Редко спрашивал его и о. Парфений. Глеб к этому привык, текущими уроками, пренебрегал. Его спросят, если какое затруднение, кто-нибудь чего-нибудь не понимает…
Но вот раз о. Парфений, усевшись после молитвы, полузакрыв глаза, обернувшись к ученикам в профиль, а лицом в училищный сад, вдруг назвал Глеба – даже в журнал не заглянул.
Глеб поднялся довольно небрежно. О. Парфений продолжал смотреть в окно.
– Расскажите нам о Всемирном потопе.
Глебу сразу же не понравилось задумчивое и прохладное выражение лица о. Парфения. Он ничего не подумал, но что-то в нем неприязненно передвинулось: считал, что его во всяком случае надо – если не любить – то по-настоящему признавать, сочувствовать (а правильнее всего – любить). Тут же на него и не глядели.
Все-таки начал спокойно. Довольно толково изложил, что сказал Бог Ною, как Ной построил ковчег и взял туда с собою семью и животных. «Семь пар чистых» – это с детства запомнилось, но с размаху Глеб хватил и семь пар нечистых. О. Парфений бесстрастно поправил: нечистых всего по две пары. И так же бесстрастно спросил: «А что же такое нечистые?» Тут Глеб осекся. О. Парфений объяснил, Глеб пошел дальше, но уже не так уверенно. Дождь лил сорок дней и сорок ночей. Пока ковчег плавал, Глеб кое-как еще справлялся. Но когда дело дошло до Арарата, он страшно начал путать. Собственно, все перезабыл: кого выпускали раньше, голубя или ворона, кто что принес, и т. д. О. Парфений молчал, уже не поправлял, только слегка, не без таинственности улыбался. На полуслове, наконец, прервал.
– Костомаров, продолжайте.
Сережины уши слегка горели и просвечивали, он поправил бобрик на голове, отер капельку пота на носу, повел рассказ дальше. Тут уж без промаху. А о. Парфений развернул журнал, с отдаленно-отвлеченным видом поставил против фамилии Глеба цифру два. Вот тебе и Herr Professor.
Глеб никак не мог бы сказать, что двойка эта ему приятна. Но сидел с видом несколько торжественно-насмешливым: двойку, мол, получил, и в ус не дую. С ней даже лучше.
На перемене Сережа Костомаров, приятель и соперник, но беззлобный, скромно спросил: «Что же это ты, Глеб, так в лужу сел?» Глеб засмеялся несколько деланно. «Ах, ну не все ли равно, кто там раньше из ковчега вылетал. Я этому значения не придаю».
Дома он даже довольно развязно рассказал Олимпиаде, что получил двойку по Закону Божию. На нее это не произвело ни малейшего впечатления.
Иначе отнесся Александр Григорьич. Через несколько дней, увидав на перемене Глеба в коридоре, поманил его к себе.
– Да, да, пожалуйте сюда!
Горло Александра Григорьича было завязано, сам он бледноват и худ. Синий вицмундир, как всегда, застегнут, рука за спиной подбрасывает внизу фалду.
Неожиданно для Глеба Александр Григорьич вошел в пустой рисовальный класс.
– Тут спокойнее. Да, спокойнее нам с вами рассуждать. Я вам говорю.
Гипсовые орнаменты, головы мудрецов, пюпитры для учеников, слегка подымающиеся амфитеатром, классная черная доска с рисунком перспективного сокращения (мелом) – владения Михаила Михайлыча. Только кудлатой его головы не видать – «Мы не довольствуемся приблизительным, мы требуем от ученика тщательной разработки всех планчиков».
Глеб скорее даже любил это тихое убежище – греки, римляне, особенный запах гипса…
Александр Григорьич сел в первый ряд, пригласил знаком Глеба. Карие глаза его усталы, несколько и грустны.
– Вот, вот-с, вы и любите рисование. И все рисуете? Да. И астрономией занимаетесь? Знаю. По космографии отличные отметки. Да. Но не по Закону Божию.
Александр Григорьич не был нынче ни язвителен, ни высокомерен.
– По Закону Божию два? Немного. Редкий случай. Редкий случай. Почему же-с, однако?
Глеб довольно скромно объяснил. Понадеялся на свою память, надо было, конечно, получше подзубрить…
– Подзубрить!
Александр Григорьич закрыл глаза. Глеб удивился бледности его лица, прозрачной синеве век.
– Предмет о. Парфения, – тихо сказал он, все не открывая глаз, – говорит о Боге, Вечности, ожидающей каждого из нас. О Божественной любви-с… – о Боге нельзя зубрить! – Глаза его вдруг открылись и со страстию взглянули на Глеба. – О Боге зубрить невозможно-с…
Глеб хотел было возразить, что дело шло не о Боге, а о подробностях потопа, но непривычно серьезное лицо Александра Григорьича остановило его. Он почти смутился.
– Разумеется, невозможно… Я неудачно выразился.
Александр Григорьич опять закрыл глаза и помолчал. Потом улыбнулся.
– Я вас отлично понимаю-с. Занимаетесь вы тем, что вам нравится. Нравится рисовать – рисуем. Нравится астрономия – популярная-с, популярная, Фламмарионова! – ибо настоящая есть почти что математика, которую вы не любите… Но – занимаемся астрономией и готовы даже ею увлекаться!
Глеб ответил довольно серьезно:
– Александр Григорьич, но почему же мне не заниматься тем, что нравится?
– Знаю. Все вижу. Очень приятно. Но одной приятности мало. Жизнь вовсе не есть приятность. Да, да, я вам говорю…
– Я и не возражаю.
– Вы в седьмом классе, весною кончаете. Предстоит высшее образование и вступление в жизнь. Вы, конечно, будете инженером?
Глеб замялся. Но Александр Григорьич не обратил на это внимания. Бледное, болезненное его лицо с карими глазами было совсем рядом. Глеб различал поры, седые волоски в узкой бороде, пылинки на бархатном лацкане вицмундира. Александр Григорьич наседал со спокойным упорством.
– Да, да, инженером, я вам говорю. Вы думаете, это легко? Спросите вашего отца. Тут на приятности далеко не уедешь. Это жизнь-с. А построена на труде, борьбе, преодолении того, что нам не нравится, не по вкусу. И вы должны готовиться к этому. Вы – юноша уже, и вам дано довольно многое, но в вас есть своенравие и своеволие… То вы читаете Золя, то ходите без спросу в концерты, то рисуете. Но вы ученик вверенного мне класса и должны с полным тщанием – полнейшим-с! – заниматься всеми предметами, независимо от того, нравится ли это или не нравится, интересно или нет…
«Ну вот, теперь пойдут наставления!» – Глеб готов был впасть в скуку. Александр Григорьич приостановился, закрыл глаза, замолчал. Минуты через две вновь заговорил, тише и несколько в другом тоне.
– Когда я был молод, то все мечтал о науке. У меня были способности, математические… Хотелось чего-то особенного… кафедру в Университете, труды ученые, науку двигать… Но вот оказался в Калуге инспектором, и до Гаусса, Абеля, Лобачевского весьма далеко-с… Но ничего. Инспектором так инспектором. Значит, так и надо. Трудись, исполняй свой долг. Нравится, не нравится, делай… Жизнь идет и уходит – ничего-с. И болезнь, и болезни угнетают: но ничего-с, надо терпеть и служить… Нездоровится? Превозмогай. Я в юности такой же маловерующий был, как вы, тоже Законом Божиим мало занимался – о чем теперь и сожалею и стараюсь наверстать, сколько могу… и Евангелие, Послания, Ветхий Завет, все читаю-с постоянно. Да. Постоянно.
Он приблизил лицо к Глебу, расширил глаза.
– Вера иногда дается тяжело-с, опытом жизни. Но чем больше живешь, тем труднее переносить жизнь, тем более нуждаешься в непреложности Истины-с. И если в Истину по-настоящему верить, то и жизнь надо принимать не рассуждая, как урок, заданный нам Творцом, приятно или неприятно, выполняй, да, я вам говорю по собственному опыту. Нравится или не нравится…
Раздался звонок. Александр Григорьич встал. Лицо его приняло вновь более отдаленный, холодный оттенок.
– И за работу-с. Да. Я с вами говорил как классный наставник. Не извольте распускаться. Я бы хотел, чтобы у о. Парфения вы вновь ответили и как вам подобает. Да. Поправились бы. Да. И никаких рассуждений. Никаких оправданий. Да. Я вам говорю.
Высокий, худой, побалтывая за спиною фалдою вицмундира, Александр Григорьич расширил строго глаза, подошел к двери, распахнул ее в коридор и жестом указал Глебу способ действий. Мирно-пустынный рисовальный класс с акантовыми листьями из гипса, головою Артемиды, бюстом Юпитера курчаво-бородатого, маскою Цезаря, остался сзади. Жизнь продолжается. Сейчас следующий урок.
* * *
Приближался конец четверти. Учителя выводили средние отметки. Высморкав воспаленный нос, Флягин спросил Глеба «Что же, ты будешь поправлять пару?» Глеб ответил неопределенно.
Конечно, сейчас самое время. Поднять руку в начале урока: «О. Парфений, позвольте поправиться». Ответить подзубренный урок, ответить на два-три вопроса «из пройденного» – отметка за четверть улучшается.
Но Глебу этого-то и не хотелось. Отношение его с о. Парфением по-прежнему были загадочны. Оба молчали. Глеб вежливо кланялся при встрече, внутренно всегда несколько смущался и то обостряющее действие, какое производил на него о. Парфений, нельзя было назвать равнодушием. Не была равнодушием и замкнутость о. Парфения – в мелочах обращения на уроке, в тоне вопросов это чувствовалось. Все же о. Парфений держался на каких-то высотах, за рвами, крепостными стенами.
Глеб не вызвался поправляться. О. Парфений тоже не спросил его. И так же безмолвно, как в свое время поставил два, вывел теперь в четверти из двойки пять. «Да, – сказал Сережа, – значит, он тебе верит». – «Видимо. Тебе тоже, конечно, поверил бы». Глеб в последнее время считал, что из-за балла по Закону Божию спустится на третье, четвертое место. Но оказывалось, что не так. Он первый, Сережа второй. Глеб делал вид, что ему это безразлично, но под всеми его юношескими томлениями, о которых он охотно распространялся бы, сидело вот это мелкое честолюбие. Он стеснялся его, но оно не уходило. Глебу вообще хотелось бы, чтобы его наполняли лишь чувства возвышенные – романтическая влюбленность, мировая скорбь, а в действительности выходило иное. Многое совсем, совсем не романтическое сидело в нем – в его чувстве любви и женщины.
Все-таки несправедливо было бы сказать, что вечные вопросы не волновали.
На одном из уроков, в конце октября, о. Парфений спросил всего двух учеников, очень кратко, потом поднялся, поправил коричневую рясу и, подойдя к OKiry, глядя на облетающие деревья сада, стал говорить об этой, нашей жизни, и той, которой мы не знаем, но обетование о ней получили в Евангелии. Может быть, о. Парфений был нынче в особенном настроении? Он смотрел не на учеников, а в окно, говорил тихо, медленно, но в его согбенной фигуре, глазах огромных, в выражении худой руки, лежавшей на подоконнике, было нечто помимо слов.
Глеб сидел около него недалеко, слушал внимательно. О. Парфений отошел от окна, продолжая говорить, остановился у доски. Глаза его встретились с Глебовыми. И Глеб не мог уже отвести от них взора. Нельзя сказать, чтобы то, что слышал он сейчас, было совсем для него ново. Но не совсем обычно действовало.
– Посмотрите вокруг, – говорил о. Парфений. – Стены, класс, парты, деревья за окном – это же все тлен, дым, мгновение. Сегодня есть, завтра не будет. А мы сами? «Человек яко трава, дни его яко цвет сельный, тако отцветет». Но в то время как волоска не останется от всей внешности здешней, земной, пораженной грехом, внутреннему убежищу нашему – духу предложен путь ко спасению. «Тесен путь и узки врата», но предложен: приобщение к Царствию Божию. Путь же погибели широк и легок – прямо ведет к геенне огненной.
Глеб не противоборствовал. В другой раз он готов был бы насчет геенны сразиться, поспорить, без затруднений стал бы утверждать, что если Христос так милостив, то как же может грозить геенною за человеческие грехи – но сейчас не было желания спорить. Узкий-то путь есть? И погибнуть все-таки можно? Геенна, может быть, и лишь образ, но ведь гибель все-таки возможна? И спасение, свет, добро… О. Парфений придерживал золотой наперсный крест, изредка перебирая по нем пальцами. Вся фигура его высоко-согбенна, серые глаза медиумичны. Вот он говорит… – и ощущает же, наверно, тот, иной, вечный мир, путь к которому тесен. И все смотрит на Глеба, точно с ним именно разговаривает.
Глеб ощущал легкое, пронзающее волнение – беспокойство. Нет, это уже не будни, не класс, не ничтожные отметки. А что именно? Он не сумел бы ответить. Но не мог оставаться равнодушным.
О. Парфений договорил свое. Звонок, молитва, не взглянув на Глеба, медленно-согбенно он ушел. Вместо него приходили другие. Козел мямлил свое «вот это как… просвещенный абсолютизм. Ну, абсолютизм, ну, просвещенный…» Длительный, сомнамбулический монолог все Глеба сопровождал.
Он возвращался домой в задумчивости. Трудно понять, трудно понять… Ну, а все-таки? Может быть, так оно и есть, как он говорит? Спасение, гибель… Что же, новые доказательства? Чем-нибудь доказал это о. Парфений? Не доказал, и как доказывать, но… В этом «но» все и дело.
Когда Глеб вошел в прихожую, в зале пели, но не голос Олимпиады, мужской, тенор.
Гаснут дальней Альпухарры Золотистые-е кра-я! На призывный зво-он гитар-ры Выйди, милая-я моя!Снимая шинель, Глеб в открытую дверь увидал за роялем Олимпиаду – слегка раскрасневшись, она аккомпанировала. Полный блондин, в тужурке путейского инженера, вытягивался на цыпочках, брал верхние ноты. Явно, что какой-то испанец превозносил свою возлюбленную. А кто не согласится, того дело плохо: вызывал на поединок.
Всех, любови-ю-у сгорая, Всех, всех, всех зову на смерт-т-ный б-б-бой!Инженер окончательно устремился ввысь, телом и голосом. Глеб усмехнулся, коридором прошел к себе. Все это он уже знал. Александр Иваныч, заезжий инженер, певец-любитель, нередко бывал у них теперь. Тенор его не волновал Глеба. Он сейчас занят был другим. Снял ранец, умылся, сел к своему письменному столу. Пускай они там поют. Он закрыл глаза. «Есть или нет?» В темноте плыли какие-то круги, рождались и уходили многоцветные пятна. Глеб не услышал голоса «да». Но когда глаза вновь открыл, вдруг ощутил, что прежней уверенности в «нет» тоже нет. Все показалось несколько иным, слегка смещенным с прежних, печально-непоколебимых мест. Он вздохнул. Взор упал на кусок натянутой на доску ватманской бумаги с начатою акварелью. «Да, все-таки надо зайти к этой учительнице. Может быть, Олимпиада и права».
* * *
Театр в Калуге на окраине, площадь, где он стоит, пустынна – немощенная, кое-где травка, корова пасется, жеребенок может промчаться с детским своим ржанием.
Мещанские одноэтажные домики вокруг, деревянные заборы, калитки. Место высокое. Открывается вид на Ячейку, впадающую в Оку, на знаменитый бор. Левее излучина самой Оки.
Солнце низко над бором. Октябрьский ветер тянет могуче, облака идут прямо на Глеба, иногда их прорезывают солнечные снопы, бледные, горькие. Ветер, запах осени, огненные последние рябинки…
Глеб подошел к калитке, отворил. Пес забрехал, заметался в конуре. Из затхлой кухонки вылезла затхлая старуха.
– Тут уроки дает барыня?
Оказалось, что тут. Глеб поднялся по лесенке. На галерейке постучал в клеенчатую дверь. «Полина Ксаверьевна Розен» – да, она. Дверь изнутри отперли, полуотворили.
– Насчет урока, – сказал Глеб несмело.
– Входите.
Пестрая помятая тахта, мольберт (на нем неоконченный этюд – цветы), стаканчики с мутно-цветною жидкостью. Кисти, по подоконнику тюбики красок, окурки, измазанная палитра.
– Извините, руки не могу подать… вся в краске. Однако, этими пальцами ухитрялась Полина Ксаверьевна держать папиросу – правда, отпечатывая на ней узоры.
– Вот, садитесь, этот стул покрепче.
Глеб снял ученическую фуражку, не без робости сел. Полина Ксаверьевна, дама немолодая, худая, с большими глазами, довольно беспокойными, с прической никак не от парикмахера, стояла перед ним, рассматривала его.
– Урок? Учить? Вас? Что же вы хотите делать?
Глеб, как умел объяснил. Она слушала, обтерла пальцы о весьма сомнительное полотенце, закурила новую папиросу.
– Акварелью занимаетесь? Именно акварелью? Просто для себя?
В ней было что-то нервное и непокойное.
Лицо ее не весьма Глебу понравилось – растрепанные волосы, желтоватые крупные зубы, бледные глаза… – но вся она вызывала скорее сочувствие: «странная». Глеб таких не видал в Калуге.
Вымыв руки в умывальнике с мраморною доской и педалью, она стала греть на спиртовке воду для чаю. К Глебу присматривалась, расспросила, кто он и что. Красинцеву знала и фамилию Красавца слышала.
– Ну, ладно. По средам и субботам. Принесите свои работы, посмотреть, в чем дело. Да, конечно, в этой Калуге и показать некому. Дыра! Хотите чаю? Печений и конфет нет, но как артисты мы можем довольствоваться и кусочком сахару. Роскошь не для нас.
Глеб поблагодарил, от чаю отказался.
– Я здесь третий месяц. Мы жили… т. е. вернее, я, – она почти рассердилась, – я жила перед этим в Самаре, там преподавала живопись… сама-то я петербургская. Но Самара тоже мерзкий город – не такой, впрочем, как ваш. Во всяком случае мерзкий. Здесь я поселилась в лачуге преимущественно потому, что место красивое. Вон, взгляните, солнце заходит… – какая прелесть!
Она подвела Глеба к окну. На закате небо расчистилось, осеннее солнце, садясь и краснея, коснулось бора за Ячейкой – крепких зеленых его шлемов. Домики, заборы, полуголые деревья в садах прощально зарделись.
Глеб стоял рядом с Полиной Ксаверьевной. От нее пахло скипидаром, глаза ее нервно блестели.
– Если в вас есть художник, вам должно нравиться это солнце, вид…
Она обернулась. Солнце выхватило огнем кусок красной материи над тахтой – она пылала.
– Какая роскошь! Мы будем писать натюрморты, я научу вас добиваться этого огня в красках. Видите мой этюд? Масло, но и в акварели мы зажжем пожар…
Да, это не планчики Михаила Михайлыча.
– Я был в Москве, в Третьяковской галерее, – сказал Глеб, – мне очень понравились картины Левитана.
Полина Ксаверьевна одобрила. Она стала рассказывать, что знала в Петербурге много художников и муж ее кончил Академию, он портретист… и в Петербурге они отлично жили, но потом пришлось перебраться в Самару.
– Ну да, вообще… – она вдруг поперхнулась и опять достала этюд, – это, видите, упражнения уже в рисунке.
Солнце зашло, огонь над тахтой погас. Бор замер, мир похолодел. В комнате сразу стало сумеречно. Глеб взялся за фуражку.
Полина Ксаверьевна пристально на него смотрела – папироса во рту, сама у двери прямая, худая. Бросила окурок, протянула руку.
– Значит, первый урок в среду?
– В среду.
– Но пораньше приходите, пока светло.
Глеб спустился по лесенке, молча и неторопливо пошел через площадь.
Становилось темнее. У подъезда театра зажгли керосиновые фонари.
Что-то заброшенное, пустынное показалось ему и в площади этой, и в громаде театра. А жилье Полины Ксаверьевны? Мансардная комнатка, сейчас будет лампочка, чай, папиросы, ужин на спиртовке. «Как все печально…» Глеб был и возбужден – несомненно, он может теперь прикоснуться к другому, высшему миру живописи, чему-нибудь научиться. Но Полина Ксаверьевна эта… – табак, запах скипидара, убожество всего вокруг!
Медленно, тучей наползала на него юношеская меланхолия.
Он подошел к театральному подъезду. Здесь по крайней мере лицедействуют. Тут видел он некогда «Уриэля Акосту», позже «Гамлета», в другой сезон «Африканку», «Аиду» (десять статистов изображали египетские войска; уходя в одну дверь – чрез другую калужские египтяне появлялись опять, чтобы вновь уйти, вновь появиться). «Травиата» сладостно умирала, «Кармен» волновала несбыточною любовью. Театр, актрисы, их загадочная для него, блистательная жизнь… Все это уязвляло.
Окошечко кассы светилось. Пара лошадей в коляске у подъезда. Глеб не собирался брать билета, но зашел почему-то в вестибюль. Небольшая худенькая дама в сером костюме отходила от кассы. Глеб чуть не столкнулся с нею – сразу плеснуло кипятком.
Анна Сергеевна протянула ему руку.
– И вы сюда? На «Цену жизни» берете?
– Нет… я так… вообще.
Глеб уже знал, что самое глупое отвечать: «Я так…», но именно это и сказал – окончательно смутился. Черные глаза ласково на него глядели. Пахло духами.
– А как мы тогда славно были на концерте Гофмана! Помните?
– Да, концерт… – Глеб с восхищением и почти ужасом смотрел на нее. Слов никаких не мог найти, но и так все было ясно.
Анна Сергеевна улыбнулась. Коляска стояла уже перед ними.
– Садитесь, подвезу вас.
Глеб поблагодарил, отказался. Соврал, что ему надо в двух шагах к товарищу. Вранье было неуместное, но понятное. Анна Сергеевна вздохнула.
– Никто не хочет со мною выезжать. Значит, так уже мне на роду написано.
Коляска тронулась. Глеб отошел от театра, по Садовой зашагал домой. Тоска, но со сладостно-восторженным оттенком, еще сильнее раздирала его.
* * *
Глеб ходил на уроки исправно – как ни убог мезонин на Театральной площади, все же художница совсем не похожа на Михаила Михайлыча.
Разумеется, она сразу забраковала манеру Глеба.
– Это хорошо для провинциальных барышень, а не для вас. Я вижу в ваших работах любовь к делу и известное изящество, но совсем неправильную школу. Если бы вы обучались пению, надо было бы сказать: голос есть, но неправильно поставлен.
И Полина Ксаверьевна занялась постановкой Глебова голоса.
Они сразу стали писать натюрморт: вазу, плоды, кусок материи. Все это в крупных размерах, со смелостию, Глеба сначала и удивлявшею. Но Полина Ксаверьевна больше всего боялась «зализанности», «мещанства» в приемах.
– Калуга! – бормотала она, нанося кистью резкий удар по какому-нибудь рефлексу на блюде. – Это Калуга. Вышивание бисерных кошельков. Купцы, мещане, раскормленные красотки вроде вашей тетушки, которую я недавно встретила у Красинцевой. Как я все это ненавижу! Буржуа!
Глеб не слыхал в Калуге такого слова, да кроме как от Полины Ксаверьевны и не от кого было бы слышать. Полина Ксаверьевна, оказывается, бывала не только в Петербурге, но и в Париже. От нее он впервые узнал, что там есть художники-импрессионисты.
– Если бы ваша Красинцева увидела, как пишут французы, она бы в обморок упала от ужаса.
Красинцеву Глеб почти не знал, она никак не могла быть «его Красинцевой», но Олимпиада действительно его тетушка, не то чтобы он за нее отвечал, но все-таки с этой новой позиции она стала казаться ему еще более провинциальной.
Олимпиаде Полина Ксаверьевна тоже мало понравилась. Как-то сказала она Глебу:
– Познакомилась с твоей художницей. Выдра, и с претензиями. Курит бесперечь, пропахла скипидаром, масляными красками… Нет, если бы я была в тебя влюблена, я бы к ней не ревновала. Ты на такую не польстишься.
Глебу это не весьма понравилось. Польстился бы он или нет – это его дело. Многое в нем появлялось такое, о чем ранее он не имел понятия. Но все это – тайный, подспудный мир, запечатанный. Тетушке туда ходу нет.
– Голубчик, – сказала ему Олимпиада в другой раз, весьма даже ласково, – уж конечно я понимаю, что тебе скипидар не может нравиться. Но подозреваю другое. Ты, разумеется, такой тихоня и такой скрытник, что ничего не скажешь. Пари держу: Анна Сергеевна.
Глеб рассердился, покраснел.
– А по-моему, ты с этим инженером что-то уж очень распеваешь.
Глеб мало интересовался кем-либо кроме себя. В делах любви был совершенно неопытен, и если сказал это сейчас, то вызванный самой Олимпиадой, в полуигре, самозащите.
Олимпиада отнеслась спокойно, но практически. Подошла к двери, взглянула, нет ли кого в соседней комнате. Потом улыбнулась Глебу, взяла его за уши и поцеловала в лоб.
– Скажи, очень заметно? Глеб засмеялся.
– Профессор-профессор, ученая голова, а вот доглядел… И сразу переменила тон.
– Это все пустяки. Если бы не твой дядюшка, так и говорить не о чем. Подумаешь, правда, попеть нельзя. У Александра Иваныча очень милый тенор, и во всяком случае «Гаснут дальней Альпухары…» у него выходит очаровательно. Да, но дядюшка!
Она слегка и недовольно хмыкнула.
– Выдумывает Бог знает что. И этот гонор польский! Глеба мало занимали отношения Красавца с Олимпиадой.
Все-таки и он заметил, что за последнее время дела здесь стали хуже. Случалось, что Красавец вскипал бессмысленно, за вечерним чаем. Олимпиада упрямо, холодно твердила свое. Вообще же Красавец стал нервнее и раздражительней. Олимпиада прохладно взглянула на Глеба.
– А во всяком случае, для тебя ничего не должно быть. Молчишь – и помалкивай. Ничего нет. Все глупости.
Глеб был несколько даже удивлен. Очень ему интересно, нравится тетушке или не нравится какой-то инженер с милым тенором! Ревнует Красавец или не ревнует – тоже событие не из важнейших. Олимпиада могла быть покойна: ничто со стороны Глеба не угрожало.
Он поглощен был совсем иным. Учился по-прежнему – по инерции хорошо, точно был снарядом, вылетевшим из пушки: надлежит описать дугу и упасть куда надо. Это значило – весной первым и кончить, обратиться на время в «штатского», а там и студенчество. Но «настоящее» вовсе не это, а то: вот теперь, у Полины Ксаверьевны и должно выясниться, есть у него дарование, или нет. Все это надо установить при помощи натюрмортов или этюдов с натуры. Писали и арбуз, и разрезанную дыню, жалкий столик драпировали «восточными» тканями. Полина Ксаверьевна нервничала, курила. Ругала Калугу, жаловалась на безденежье. Время же шло. Воробьи доклевали последние красные рябинки. Колеи пред театром стали мерзло-коляными, из-за Ячейки тянуло холодом. Талант Глеба не спешил раскрываться. «Вы делаете бесспорные успехи, – говорила, как все учительницы, Полина Ксаверьевна, – разве можно сравнить вашу теперешнюю манеру с теми детскими вышиваниями, какие вы мне тогда приносили?» И с удвоенным рвением писали они вид из окна на дворик – так, чтобы и французским импрессионистам стало тошно.
– Да, Париж мало похож на этот город. Но и там художники, пока их не признали, бедствуют. Зато это жизнь! Не мещанство! Латинский квартал, Одеон, Люксембургский сад… Голубизна Парижа, терраса кафе, Обсерваторские аллеи…
Глеба такие рассказы волновали. Он их слушал охотно. Не знал, разумеется, что особо прекрасен Париж для Полины Ксаверьевны потому, что там они с мужем любили друг друга, надеялись выбиться, верили и не думали ни о Самаре, ни об одиночестве в Калуге.
А между тем ход бытия в этой самой Калуге подчинялся всеобщему закону: в одну ночь весь вид на дворик безнадежно испортился – выпал снег, туманно-прохладно все забелил, хоть гуашью пиши по темному картону.
Глеб, выходя от Полины Ксаверьевны, пересекая площадь, всегда впадал в некоторую романтическую тоску, доставлявшую и сладость, и боль, далеко уводившую воображение. Проходя мимо театра, где тогда встретил Анну Сергеевну, каждый раз вновь надеялся ее встретить – другой частью себя самого был уверен, что не встретит. А если бы встретил? Опять что-нибудь буркнул бы и удрал – в одиночестве жаждая встретить. И уж конечно никогда не сделал бы шага действительного, чтобы с нею побыть.
Театр сумрачно теперь воздымался в синеющей белизне сумерек. От желтого света фонарей снег казался еще синее. Глеб меланхолически шагал со своей папкою, где лежали акварели, долженствовавшие затмить импрессионистов. Он выходил на Садовую. В каждой проезжавшей даме мерещилась Анна Сергеевна – теплая волна лилась к ногам. Но каждая была не та. Приближался базар, Глеб сворачивал мимо дома полицмейстера вправо, верхом оврага, сокращенным путем выходя к своей Никитской. По ней, в маленькой фуражке прусского образца, часто сморкаясь, гулял, ухаживая за барышнями, Флягин.
* * *
Так, в медленном своем течении, проходил последний год Глеба в Калуге. По разным линиям шла жизнь – в нем и вокруг него. Сам он ходил в Училище, мучился неопределенностью, тосковал от являвшейся взрослости. Красавец и Олимпиада вычерчивали заданные им кривые. Сережа Костомаров неизменно был вторым. Михаил Михайлыч неизменно требовал заборки и не удовлетворялся «приблизительным». Козел вместо «Атлантический» говорил «Антлатический». Александр Григорьич чаще прихварывал, бледнел, слабел. Полина Ксаверьевна мерзла в своем мезонине и проклинала Калугу.
Калуга же, являясь частью России, вместе с ней и катилась по дороге налаженной, с тяжким грохотом и громоздкостью старомодного экипажа, кучер которого и сидящие в нем не замечают его старомодности. Верхи России тоже жили по-многолетнему. Появлялись одни сановники, сменялись другими, чтобы вновь быть смененными. Казалось, что всегда так и будет в «Богохранимой стране нашей Российской» – все, по неизменным законам, будет управляться одною подписью – той, которая и досель, сменяясь от отца к сыну, поворачивала огромный груз как бы невидимым рычагом. Поворачивая, вела к целям, о которых, разумеется, и вовсе ничего не знала. Как никому не было известно и не есть известно, куда плывет и для каких целей та планета, шестую часть поверхности которой занимает Родина никому не ведомого Глеба.
Глеб же, на Рождестве, приятно и мирно съездил домой в Балыково. Это путешествие – сплошь чувство зимы, снега, мороза – и удивительной теплоты: внешней от превосходной дохи, в которой везли его балыковские кони, от теплого дома, от устроенной прочной жизни. Внутренняя теплота заключалась в воздухе благоволения, куда сразу он попал, материнской любви, музыки Лизы, праздности, удивительного спокойствия.
Глеб жил в маленькой своей комнатке, почти девической, с белыми занавесками. С завода в дом провели электричество (роскошь необыкновенная!). Из окон всюду снег. Парк, Саровские сосны, красный стеклянный шар пред балконом, глупый, но милый, все занесено снегом. Ни в парк, никуда, кроме людской и завода, нельзя выйти без лыж. Глеб мало и выходил, а когда случалось, с наслаждением вдыхал трескучий воздух, слышал стрекот сорок, слушал дальний шум строевых сосен – зимний, отвлеченно-возвышенный гул русского леса. Белизна, белизна, холод, холод, тепло, тепло – в них живешь, не раздумывая.
Глеб в этот приезд не вынимал ружья. Из окна большой комнаты матери радостно – и как казалось – хорошо написал акварелью занесенную снегом голубятню. «Сыночка сделал большие успехи, – сказала мать. – Прелесть, как нарисовал». Отец тоже похвалил. Глеб решил подарить эту «картинку» матери: покойнее будет. Написана-то она хоть и мило, но все-таки… Привезешь с собой, пожалуй, Полина Ксаверьевна забракует. Голубятня в белом снегу так и осталась в Балыкове, радостию для матери, никак не представлявшей себе, что значит для Глеба живопись. Просто мать радовалась, что сыночка, хорошо учащийся, хорошо и рисует – в этом, впрочем, не было для нее ничего удивительного: на то он и сыночка, чтоб все делать как следует.
Прогостив больше положенного, опаздывая к началу учения, Глеб с Лизою ранним утром выехали, наконец, на Муром – в шубах, валенках, глубоко засаженные в пошевни, затянутые бараньей полостью, в меховых шапках – целый день полудремали в сумрачных ардатовских и арзамасских лесах. Прежде пошаливали здесь грабители. Раскольники укрывались некогда в потайных скитах. Люди Мельникова-Печерского, хоть и по ту сторону Волги, жили в таких же лесах.
Ни матери Манефы, ни Фленушки Глеб с Лизой по дороге не встретили, ночевали на горном заводе в «господском доме», в комнатах просторных, с тяжелыми драпировками и застоявшимся воздухом. Утром опять тронулись до свету, чтобы поспеть в Муроме к поезду. И после двух часов пути по лесам выехали вдруг на синеющий простор Оки. Дорога шла теперь в ровной глади – заливные луга, русло Оки – все завеяло снегом, глаз слепнет от однообразной, с легкими цветными кругами, белизны. Вдали крутой берег, по нем колокольни, строения, запушенные сады Мурома.
На безлюдном вокзале муромском Глеб с Лизой весело ели горячий борщ, телячьи котлеты на ножках и ждали поезда. В полдень состав подали, вагон микст первого-второго класса робко подходил к перрону – слегка вздрогнул и остановился. Носильщик понес в него чемоданы. А через полчаса купола, кресты, дома и сады Мурома, туманные леса за Окой – все стало удаляться в погромыхивании колес. Тепло струилось по коридору. Пахло русским зимним вагоном. Поезд ускорял ход.
До Москвы далеко – разные Вязники, выход с муромской ветки на магистраль Нижнего, древний город Владимир со знаменитым собором Дмитровским, леса, топи, болота, подвырубленный уже лес, все укрыто милым снегом – может быть, в чаще безмолвной бродят сейчас рогатые лоси Глебова детства? Все это Россия, глушь, летом комары, торфяники под Орехово-Зуевом, непролазные дебри…
Сторона ли моя, ты сторонушка, Вековая моя глухомань!Не торопясь, но в конце концов появилась и Москва, Глебу слегка уже знакомая. Распрощавшись с Лизою, он один довершил путь.
Калуга тоже подошла снежная, тихая, в карканье ворон, мягких ухабах на Московской, золотых крестах на куполах заснеженных.
В квартире Красавца все было по-прежнему, только его самого не хватало – он уехал в уезд со следователем, на вскрытие. Олимпиада встретила Глеба приветливо, показалась особенно оживленной. «Ну, отоспался, отсиделся, там с медведями? Сытый стал, гладкий…» Она поцеловала его, обдала теплом, здоровьем, запахом духов и молодого тела.
– У нас сегодня отличный обед, – уха, пирог, дичь, даже бутылка шампанского. Будет Александр Иваныч. Я очень рада, что ты приехал.
Глеб не без удивления на нее взглянул.
– А ты похорошела без меня.
– Значит, говорим друг другу приятности. Тем лучше. Глеб вспомнил ту Олимпиаду, с которой здесь же встретился впервые два года назад – сонную и раскормленную, наблюдавшую из окна движение по Никитской – и не узнал ее. Она и не она. Те же черты и не те же, ах, как странно меняется все…
И если бы он был старше, лучше знал жизнь, то отлично бы понял, что действительно Олимпиаде удобнее, чтобы она обедала в доме Красавца не наедине с Александром Иванычем, а при племяннике.
Александр Иваныч подкатил к шести на лихаче, в передней обтирал платочком намерзшие усы, преподнес цветы Олимпиаде, благоухал шипром. Оправляя свой путейский сюртук, входя в столовую, здороваясь, подхохатывая с заливцем, делал все это так, как сотни путейских иженеров того времени. (В живописи он ценил Клевера. Читал Лейкина, обожал оперетку.) Глебу напомнил Александр Иваныч Илев. Но теперь Глеб менее стеснялся. Александр Иваныч с ним держался вежливо, приветливо, как бы со взрослым. Налив себе и ему по рюмке водки, чокнулся «как с будущим коллегою». «Я советую вам поступить в наш Институт. Это лучший в Петербурге. Дорога широкая открывается потом – железная!» Он засмеялся. Олимпиада тоже. «Нет, без шуток. Карьера, я вам доложу. Конечно, летом надо учиться, готовиться к конкурсному экзамену. Зато осень – Петербург, студенчество…»
Сияя синими глазами, Олимпиада заметила:
– Глеб, кажется, предпочитает искусство, живопись.
– Это и великолепно! Он превосходно будет раскрашивать свои чертежи, проекты. Профессора это очень ценят. Чтобы сделать хороший чертеж, надо быть в своем роде художником.
Глеб выпил еще водки, в голове было уже «не то». Олимпиада рокотала ласково, Александр Иваныч считал его почти инженером. Обед получался нескучный. Шампанское Александр Иваныч откупорил превосходно, пробка стрельнула, но пену он ловко спустил в бокалы, она задымилась, поехала вверх, а внизу заиграли вечные, на поверхность взбегающие пузырьки в золотистой влаге. Олимпиада блаженно хохотала. Хорошо, что Красавца не было.
И во всяком случае обед удался. Он закончился дуэтом в зале. «Не искушай меня без нужды». А потом Олимпиада надела ротонду, и они поехали с Александром Иванычем на том же лихаче, на котором Глеб ездил с нею в концерт – «прокатиться по городу».
Глебу тоже не захотелось оставаться. Он оделся и вышел… – никуда не выйдешь, кроме Никитской, главной артерии торговли, катаний, эроса. Идти недалеко – только спуститься с лестницы. Если взять от подъезда налево, с уклоном вниз, то начнутся торговые ряды екатерининских времен, тяжеловесные, с колонками, аркадами, зубцами. Во времена Гоголя купцы играли здесь в шашки у дверей своих лавок. Гоголь тоже иной раз сражался.
Этой частью Никитской менее занимались гимназисты. Эрос процветал выше. Там гуляли стайками барышни разных пород, назначались встречи. Бродили надзиратели, наблюдали, чтобы ученики не слишком возжигались. Классная дама следила за розовощекими своими девицами в коричневых платьях с черными фартучками. Глеб повернул туда.
Лихачи наперегонки с «собственными» катят по середине улицы, дымя снежною пылью, бухая на ухабах. Молодые приказчики, офицеры, дамы, барышни, гимназисты парами и компаниями гуляют по тротуарам – скромен свет уличных фонарей! Пахнет свежестью, снегом, иногда нехитрыми духами.
У табачного магазина Рофэ Глеб встретил приятелей: уши Сережи Костомарова пламенели на холоду. Флягинский нос за каникулы еще подпух, прусская фуражка сидела совсем на затылке. Встреча была дружеская. Прошлись, поболтали. Флягин, впрочем, недолго с ними пробыл. «Этого модистона я не могу пропустить» – и решительно вырвался вперед: не то надо пристать к незнакомке, не то был он уже знаком и делал привычную диверсию.
Сережа Костомаров, ни к кому не приставая – тоненький, в веснушках, опрятно одетый, рассказал Глебу новости по Училищу.
– Знаешь, очень болен Александр Григорьич. С Сочельника слег. Что-то очень серьезное. Говорят, ему не встать.
Сережины голубые глаза были покойны. Нервностью он не отличался.
– В классе хотят, чтобы мы с тобой его навестили. Как представители. Все-таки, он седьмой год наш классный наставник.
«Мы с тобой» – значит, лучшие ученики. Глеб сразу понял.
– Какая же у него болезнь?
– Кажется, что-то в печени. Боли ужасные. Глеб вздохнул.
– Разумеется, надо сходить.
Погуляли еще, поболтали, видели много дам и барышень, но знакомых никого. А потом распрощались. Глеб один, медленно шел вниз. Никитская понемногу пустела. Ему казалось, что она становится и темней. С неба налетал теперь ветер, порывами, взметал мелкие снежинки. Что-то менялось в погоде, может быть, метель начиналась. Глебу вдруг ясно представилось, как этот мелкий снежок начинает стрекотать по окнам красного домика в Георгиевском переулке, где лежит Александр Григорьич. «Боли ужасные… Да, навестить». «Представители седьмого класса». Он никогда не видал тяжелобольного. Сейчас болезнь, одиночество, смерть как-то слились для него с этим слепым небом, заметюшкой, пустынной Никитской. Как печальны и одиноки фонари! Как быстро ушли все люди и остался он один пред этим немым, белесым небом, разверзающимся все сильнее снегом…
Страшно, наверно, умирать. Да, вот прохватывал их Александр Григорьич, говорил «никаких оправданий», ставил пары…
В желтом и убогом свете фонарей, уже заметаемых, Глеб брел назад, к своему дому. У подъезда остановилась вице-губернаторская пара. Из саней вышла дама в каракулевой кофточке с серым меховым воротником. Она явилась откуда-то в эту зимнюю ночь – почему? Знакомый кипяток полился по ногам. Глеб круто повернул и пошел опять вверх по Никитской. Где спокойствие и тишина Балыкова? Там он нежно и сладостно о ней вспоминал, не было там ни тьмы, ни метели. Дойдя до перекрестка, остановился. Он ждал здесь. Ни за что не вошел бы теперь к себе в квартиру. Он ждал ее здесь.
Анна Сергеевна не застала Олимпиаду. Спустившись с лестницы, села опять в сани и поехала вниз по Никитской.
* * *
Отец Сережи Костомарова шил некогда Глебу первую гимназическую шинель. Глеб и теперь одевался у него, в небольшом магазине на Никитской, против гимназии. Брат Сережи, постарше, но такой же ушастый и исполнительный, снимал мерку. (Отмеривая сантиметром на Глебе, диктовал подмастерью: пэ-пэ пятьдесят два, и т. п.). Сережу «пустили по ученой части». Но держали строго – все в семье было сурово, трудолюбиво, деспотично. В детстве не раз доставалось ему от отца – он рос не таким барчонком, как Глеб. Надо так надо, рассуждать нечего. Учись, делай что велят, усердствуй до капельки пота на веснушчатом носу. Сережа и усердствовал. Честолюбив, впрочем, не был: только бы «папочка не заругался».
Он был и усидчивей, и добросовестней Глеба. Добросовестнее отнесся и к поручению насчет Александра Григорьича.
Глебу не очень хотелось идти. Он под разными предлогами оттягивал: «Ну, на той неделе…» А потом: «Ах, у меня как раз сегодня урок у Розен». Но Сережа считал, что раз взялись, надо сделать. Он скромно настаивал: «Знаешь, Глеб, у него все учителя уже перебывали. И Михаил Михайлыч, и Козел… неудобно».
Наконец условились – в воскресенье в два часа. Сережа к Глебу зашел. Он попал не особенно удачно: Красавец только что устроил бурный бенефис Олимпиаде. По квартире прокатились гоноровые его рулады, хоть и тенором, но звонко: «Моя жена не может так вести себя! Это скандал, не допущу!» Был даже удар кулаком по столу. Олимпиада плакала у себя на постели, накрыв голову платком. («Грубый человек, не понимает душу женщины!») В передней Сережа нос с носом столкнулся с Красавцем, красным от гнева, с трясущейся челюстью, надевавшим свой полуцилиндр и желтые перчатки. Увидав Сережу, поджал губы. «Да, к Глебу… да, пожалуйста». И, накинув шубу, с видом оскорбленного, вполне не понятного и одинокого человека проследовал на лестницу.
Сережа очень смутился. Но что поделаешь… Через несколько минут он шагал уже с Глебом по оттепельным тротуарам Калуги.
Солнечный день, сосульки, стеклянная капель… какой воздух! Как блестят лужи, ярятся воробьи! Шуршащим горохом слетает их стайка с полуобтаявшей крыши – налетят на кофейную, протыкающуюся дорогу, разберут что надо, пред первым приближающимся извозчиком опять – пр-р-рх на другую крышу.
Глеб шел в некотором смущении. И дома вышло неприятно, и день этот вызывает блаженную, бессмысленно-стихийную радость, а идут они по такому делу…
Александр Григорьич жил недалеко, в Георгиевском переулке близ Никольской. Пока был здоров, вел прочно сложившийся образ жизни: днем в Училище, вечером дома. Вечером с улицы виден был его профиль – в кресле, укутанный пледом, под высокой стоячею лампой с абажуром читает он книгу, вполне неподвижно. Движется Катя, он нет. Он читает. Так было. Но с Рождества изменилось. Окна завешаны, ничего с улицы не увидишь.
У входной двери Глеб и Сережа заробели. Глеб нетвердо сказал: «Я сегодня ужасно плохо себя чувствую. Может быть, ты вместо меня скажешь? Ты лучше говоришь…» – «Нет, нет, уж как условились». Сережины глаза несколько даже испуганно на Глеба взглянули: «Тебе класс поручил, ты и говори». – «Я не отказываюсь, но…»
Отворила дверь бывшая Катя Крылова. По ее лицу видно было, какая тут жизнь. «Мы… от седьмого класса…» – Глеб поперхнулся, начало ораторства его было не блестяще. «Сейчас узнаю. Если только он не задремал…» Катя вышла. Глеб с Сережей стояли в маленькой передней, сняв фуражки. В квартире совсем тихо. Душно, пахнет лекарственно-сладковато.
Через минуту вошли в комнату Александра Григорьича. Запах лекарств усилился, но не безобидных ипекекуанов, ляписов детства и материнской заботливости. Глеб знал, что у больного должно быть полутемно. Когда сам он хворал, всегда задергивали занавески на окнах. Но здесь все другое. И на обычной постели своей лежит не обычный больной Александр Григорьич с грелкою на животе, а некоторый подсудимый, суд над которым идет в этой же страшно-мертвенной комнате. Сходство с «тем» Александром Григорьичем, ставившим кому надо колы, кому надо пятерки, у этого было. Но отдаленное.
Увидав Глеба и Сережу, он улыбнулся. Они робко сели на диванчик. Глеб собрал все свои силы.
– Александр Григорьич, класс… наш класс, который является… и вашим классом, поручил нам…
Глеб чувствовал себя неважно. Но обязательство на нем лежало, рядом сидит Сережа, скромно посапывает. Александр Григорьич смотрел умным своим, карим взором не то одобрительно, не то чуть насмешливо. И Глеб старался. Класс просил их осведомиться о его здоровье, выразить искреннее сочувствие, пожелать, чтобы скорее он оправился… Выходило натянуто и торжественно.
– Хорошо. Превосходно-с. И сказано красноречиво. Да. Но и само красноречие принимаю с признательностию. Красноречие не такая легкая вещь и в нем надо упражняться. Да. Упражняться-с, – он вдруг расширил глаза, и Глебу показалось, что прежний Александр Григорьич появился: вот сейчас запустит руку под фалду вицмундира, потрясет ею, поставит неполный балл.
Вступил и Сережа.
– Александр Григорьич, у нас в классе все ужасно жалеют, что вы больны.
– Тронут. Глас народа. Жалеют… – он опять расширил глаза. – Это приятно слышать. Двоек некому теперь ставить. Да. Двоек. Но и вы… я рад, что вы тоже обо мне вспомнили. Да. Оба. Катенька, слышишь? Поручение от класса.
– Что же, это очень мило с их стороны. Я тронута.
– Вот именно. Мило. Вполне мило.
Александр Григорьич приподнялся на локте, посмотрел на Глеба.
– Ну, а как же вы сами? Я давно вас не видел. Все по-прежнему? Чтение пакостного Золя? Астрономия по Фламмариону? Живопись? Говорят, вы берете теперь уроки на стороне? Да. На стороне. Без Михаила Михайлыча. А если он обидится? У какой-то заезжей художницы?
Глеб удивился, что и такие вещи ему известны.
– Ничего, ничего. Действуйте, работайте, пробуйте. Не так-то легко допробоваться… – Он опять строго расширил глаза. – Но надо! Урок задан, его надо выучить… и чтобы на полный балл! В жизни ничего легко не дается, ничего-с! Да. И никаких возражений. Даже умереть не так просто. Не так. Да. И никаких оправданий!
Александр Григорьич замолчал, смотрел теперь прямо и строго, не на Глеба и не на Сережу, а мимо. Во взгляде этом было что-то странно-упорное и убежденное. Есть и есть. Надо и надо. И самой смерти мог бы он поставить неполный балл.
Глеб чувствовал себя неуютно. Что-то его томило. Жаль было Александра Григорьича, но, как всегда, что-то в нем и останавливало, стесняло.
Александр Григорьич опять стал проще, расспрашивал об отдельных учениках. («Флягин все сморкается? Да, да. Ленище. В математике понимает, но ленище. Ничего не делает. Останется на второй год»). Спросил, хорошо ли идет у них тригонометрия. Сережа отвечал с точностью, простотою, спокойствием.
– Да, в Императорское Техническое? Превосходно. Я в вас уверен, Костомаров. Вы всегда были серьезным учеником.
Он взглянул на Глеба. Что-то скользнуло в карем его глазе. Он чуть усмехнулся.
«Я чем-то ему не нравлюсь», – не подумал, а смутно как бы ощутил Глеб.
Александр Григорьич замолчал. Поправил грелку, слегка вытянулся на спине, голова взъехала выше на подушке. Полузакрытые глаза стали затягиваться бледной пленкой, как у отходящей птицы. Выражение страдания появилось на лице. Подошла Катя. «Начинаются боли, – шепнула Глебу. – Надо морфий вспрыскивать».
Послы поднялись. Александр Григорьич приоткрыл глаза, сказал раздельно, слабо:
– Передайте классу… искреннюю мою благодарность. Они вышли. На улице Глеб ясно почувствовал, как хорошо, что вышли. Да, были. Что можно, сказали. Но…
– Ты думаешь, он не выживет?
Сережа ответил со всегдашнею простотою:
– Почем я знаю? Глеб помолчал.
– А странный все-таки человек Александр Григорьич…
– Нет, чем же странный? Обыкновенный.
Глеб знал, что странный, не совсем такой обыкновенный, как Сережа думал, но объяснить было трудно, да и разговаривать не хотелось. Легкий укол и тоска были в нем.
Он остановил проезжавшего лихача.
– Ты куда это?
– На урок. Хочешь, подвезу?
Сережа отказался. Глеб один покатил по Никольской. «Да, конечно, умрет…»
Извозчик быстро мчал к Театральной площади. Промелькнули базар, церковь, опять Садовая, дом полицмейстера Буланина. Глебу приятно было быстро ехать, вдыхать полувесенний, такой острый, светлый воздух. Он его и пьянил и несколько облегчал – как бы проветривал.
Полина Ксаверьевна удивилась, увидав отъезжавшего от их домика «резвого».
– Вы нынче на лихаче? Это почему же?
Она смотрела вопросительно, не выпуская изо рта папиросы. Пальцы, как всегда, перепачканы краской.
– Да это… так, случайно вышло.
– Случайно…
Полина Ксаверьевна поставила зеленоватый, глянцевитый в разводах кувшин, задрапировала его материей, достала начатый акварелью этюд.
– Мы были с товарищем у одного нашего учителя. Он очень болен. Вероятно, умирает.
– А! Вот как. Я вижу, что вы сегодня не в себе.
Она опять его оглядела, как старшая, как опытный, близкий человек. И слегка усмехнулась.
– Я вас вообще хорошо чувствую. Все ваши настроения… от меня трудно что-нибудь скрыть.
Глеб подмалевывал рефлексы. Ему не особенно понравились ее слова. Что она ему, кузина, тетка?
Полина Ксаверьевна стояла за его спиной, курила, смотрела на акварель. Как всегда, от нее пахло скипидаром.
– Нет, в этом углу не тот тон. И не надо стесняться, чего-то робеть…
Она взяла у него кисть, смешала краски на дощечке, твердо, решительно очертила тень.
– Пустите, я сяду.
Глеб встал, а она села на его место. Не выпуская изо рта папироски, быстро перемазала Глебово художество, все устроила по-другому. Глеб не мог бы сказать, что ему особенно нравится, как она делает. Может быть, для Парижа именно так и надо, но ему не по сердцу. А его собственное писанье? В другом роде, но тоже не удается.
Глеб мрачно глядел, как она распоряжалась его работой.
– Кажется, – сказал наконец глухо, – у меня вообще ничего не выходит. А… если вы за меня пишете, это мне вовсе не интересно. Конечно, я так не умею. Но хочу сам что-то делать.
Полина Ксаверьевна положила кисть.
– Вы и делаете. Ведь этот этюд вы же и писали.
– Теперь чуть ли не половину его вы сделали, а не я.
– Какой самолюбивый!
– Не самолюбивый, а, наверно, бездарный… вот и все.
– Дарование состоит и в том, чтобы бороться и добиваться. Без упорства никто, ни один талант не может выбиться.
Глеб впал в упрямый сумрак.
– У меня нет никакого дарования.
Полина Ксаверьевна поднялась, обтерла руки, посмотрела на него внимательно и мягче.
– Вы нынче просто в нервном настроении. Вам все и кажется… Может быть, я напрасно стала переделывать? У вас вовсе и не плохо было, но я хотела по-другому…
Она вдруг взяла его за обе руки.
– Не сердитесь на меня, милый…
Глеб с удивлением на нее взглянул. Если бы она была молода, привлекательна, вероятно, был бы и тронут.
– Я нисколько не сержусь…
Полина Ксаверьевна вздохнула.
– Ах, если бы вы знали…
Она нервно, сухой горячей рукой пожала ему руку, потом отошла к окну. Глядела в сторону бора, Ячейки.
– Вы говорите, умирает ваш учитель. И взволновались. Это понятно. Вы так молоды… А может быть и лучше, что он умирает? Вы не знаете ведь жизни, а особенно старости… Вы тоскуете. Вероятно, влюблены… да и тоскуете-то от молодости. У вас все впереди.
Глеб не знал что сказать. Разговор становился странным. Когда он ехал сюда, никак не думал, что так выйдет.
Полина Ксаверьевна отошла от окна, взяла из коробки папиросу, закурила.
– Живопись, живопись…
По ее желтому лицу прошло какое-то дуновение.
– А знаете вы, что такое одиночество?
Глеб не ответил. Она оглядела комнату, холсты, этюды, Глеба.
– Вспомните когда-нибудь, что говорила вам Полина Розен: ничего нет страшнее одиночества.
На Масленице Красавца вызвали в имение под Перемышль – захворала богатейшая старуха. Место такое, куда приглашали и профессоров из Москвы. Для Красавца весьма почетно. Платили как следует. Красавцу льстило все это, однако и не очень хотелось ехать. На Масленице он привык есть блины дома, блины у бесчисленных Терехиных, Барутов, Капыриных. По старой памяти можно было съездить в маскарад, приволокнуться за нехитрой маской – не до такой, конечно, степени, как в холостое время.
В уезд он выехал не в важном настроении. Впрочем, за последнее время чувствовал себя вообще беспокойно, невесело. Ему шел пятьдесят седьмой год. Болела нога, сердцебиение чаще, меньше можно пить. Главное же, с Олимпиадою дела плохи. Когда он сам с собой рассуждал, выходило как будто бы гладко. «Она должна быть мне благодарна. Ну те-с… Положение, достаток… Разве я отказывал ей в чем? Платья, наряды… Сам я тоже не кто-нибудь, меня вся Калуга знает. У нас бывает вице-губернаторша. Где она видела это в фирсовском доме?» Рассуждение будто бы и бесспорное. Но покоя в душе не было. Эта могучая, молодая, синеокая женщина – его жена, и она должна его любить… Тут начиналось какое-то но. Красавец, из уважения к себе, не договаривал. Молчаливая же, не гоноровая часть его души тосковала. Ревнивым он был всегда. Теперь это обращалось в болезнь.
К больной съездил Красавец безрадостно, по уже портившейся дороге, вот-вот и распутица настанет. Старуху лечил как надо, и как надо она умерла, не доставив особого горя окружающим. Но на все это ушло трое суток. Двести рублей, две Екатерины, приятно шелестели в бумажнике. Когда он спускался на тройке к мосту чрез Оку, по обтаявшему перемышльскому большаку, в Калуге звонили уже к мефимонам: пропустил Масленицу – понедельник Великого поста! Красавец не любил пост: церковь нагоняла на него уныние. Хотелось намокать, нравственно встряхиваться, а тут изволь думать о смерти, вечности. Успеется еще.
Когда он подъезжал к своей квартире на Никитской, Глеб сидел у себя в комнате в очень смутном настроении.
Весь вчерашний день он испытывал раздирательную тоску. Делать решительно ничего не хотелось. Олимпиады с утра дома не было. К вечеру Никитская полна была гуляющих, по оттепельным ухабам неслись лихачи, купеческие тройки катали степенно. По мокрым тротуарам сновали приказчики, барышни, офицеры, гимназисты. Глеб, выйдя на улицу, взглянув на пронзительно-розовое предвечернее небо, вдруг чуть не заплакал. Толпа была невыносима. Но все равно. Он один, ему нигде нет места… – да и жизнь – вот эти толстые купцы, чиновники, городовой на углу? Глеб неожиданно решил идти к Полине Ксаверьевне. Это уж потому хорошо, что сворачиваешь с Никитской, меньше пошлых праздничных лиц. Масленица! Он погибает, а они обжираются своими блинами.
Полины Ксаверьевны дома не оказалось. Глеб вернулся домой. Тут происходило нечто необычное. У подъезда стояла тройка, кучер и дворник прилаживали в санях огромный Олимпиадин чемодан. Глеб сразу его узнал. Прошмыгнула горничная Дуня. Наверху, в передней, он столкнулся с Олимпиадой. Она была несколько бледна, глаза сияли, ротонда охватывала могучее ее тело.
– Ах, вот ты, Глебочка… Я ужасно спешу.
– Уезжаешь?
Она не назвала его ни «профессором», ни «Байроновичем». Она вообще была другая. Обняла, дохнула неистребимой силой свежести, духов, молодости.
– Да, к родным. На несколько дней. Так и дядюшке можешь сказать… впрочем, нет, не говори. Я ему письмо оставила. К родным. Под Алексин. Прощай! Некогда. И не провожай. Иди. Ну, с Богом…
Олимпиада быстро его поцеловала, отворила дверь на лестницу. С тем Глеб и остался. Все было кратко, бурно, ни на что не похоже. Он подошел в зале к окну – тройка резво взяла вверх по Никитской. Какие родные под Алексином? Почему у ней такой вид? Глеб решительно ничего не понял. Что за таинственность? Настроение его не то чтобы улучшилось, но перебилось: точно бы он повернул за угол. Но в новом этом направлении было нечто тревожное.
Вечером в понедельник Красавец снял с себя шубу в передней собственной квартиры. Его удивило что-то в лице Дуни.
– Барыня дома?
– Никак нет.
Через две минуты он постучал в комнату Глеба. Вошел оживленно, с обветренными от езды на лошадях щеками, покрасневшим носом. Лоб наморщен, губы с важностию выдаются вперед.
– Здравствуй, душечка.
Он поцеловал вставшего Глеба в лоб.
– Учился? Как всегда. Наша порода. А скажи, пожалуйста, где же Олимпиадочка?
Глеб за эти сутки много передумал. Более или менее представлял теперь себе, в чем дело. Но не знал, как держаться.
– Она сказала, что поехала к родным… под Алексин.
– Под Алексин?
Красавец стал медленно бледнеть. Будто хотел сказать что-то – не сказал. Глеб совсем потерялся. Да не выходит ли так, что и он соучастник? Он сделал над собой усилие – точно проснулся.
– Впрочем… там есть письмо для тебя, в зале, на подзеркальнике.
С этого и надо было начинать. Письмо он, действительно, видел, и вчера вечером и сегодня. Именно вот сегодня не без жуткости мимо него прошел.
Чувство это было правильное. Три минуты спустя в благоустроенной квартире на Никитской началась новая жизнь, предлагая Глебу новые для него картины, открывая новые стороны человеческого бытия. «Полицию! – кричал в зале Красавец. – Силой верну! Похищение! Под суд негодяя!»
Со стены в кабинете слетел портрет Олимпиады – стеклянные осколки брызнули по паркету, когда шваркнулось об него лицо калужской красавицы. Потом был страшный крик на Дуню, дворника, кухарку. Мимо Глеба буря неслась, не задевая, но он был сбит, поражен – все это выходило из обычного.
Глеб не особенно задумывался над тем, что такое брак, но привык считать, что если его отец и мать – муж и жена, – то уж так тому и быть, раз навсегда. Представить себе, чтобы мать сложила чемоданы, уехала и оставила бы письмо, после которого отец стал бы кричать: «Полицию!» – невозможно. Но здесь «такое» именно произошло.
Отгремев дома, Красавец кинулся вон с видом вепря, готового поднять на клыки и врага, и неверную. Неизвестно, где вепрь носился по великопостной Калуге. Можно думать, что полицмейстер Буланин, грустно разглаживая рукою могучие подусники, заправляя их в смущении в рот, уговаривал приятеля «не волноваться, щадить свое драгоценное здоровье. Здоровьице щадить. Драгоценнейшее. Калужская полиция к его услугам – выполнит свой долг. Но здоровье важнее. И не пропустить ли по перцовочке? А утро вечера мудренее». Красавец и кипел, и пропускал, и намокал – домой вернулся поздно. Что делал остаток ночи, неизвестно. Утром же с ним случился припадок сердца. Дуня летала к доктору Гоштофту.
Старик в крылатке, с бакенбардами снежной белизны, Гоштофт всех излечивал непобедимым благодушием, снеговым сиянием бакенбард. Красавец нисколько не вывел его из равновесия. Он ласково гладил свои бакенбарды – одну, другую. Одну, другую. Ушла жена – невесело, но случается. Главное, не волноваться. Это «в нашем возрасте» вредно. Пульсик? Ну да, слегка ускорен. Ничего, все давно известно.
Для Гоштофта действительно было известно. За свою долгую жизнь он не раз сходился и расходился. Похоронил собственную жену, жил с чужими, вторая собственная от него ушла, он женился на третьей – и ее пережил и опять занялся чужими. Считал, что волнения страстей, любви, ревности необходимы, но мало ли еще что необходимо. Относиться же ко всему надо философически, т. е. благодушно-равнодушно.
Прогладив перед Красавцем еще раз бакенбарды, он дал ему ландышевых капель.
Однако, характер Красавца был иной, чем у Гоштофта. Ландышевые капли действовали, но не все могли сделать. Внутренно Красавец кипел. Хорошо, что Олимпиада и Александр Иваныч находились далеко. Вблизи Красавца небезопасно бы им было. Но их укрывала Россия – необъятностию своею. По той самой «широкой дороге – железной!», которою соблазнял Глеба Александр Иваныч, успели они укатить далеко. Ищи ветра в поле! И еще был союзник: время. Оно шло и шло. Красавец кипел и варился в приокской Калуге о тридцати шести церквах, но нельзя кипеть вечно – начнешь остывать.
Сначала казалось, что со дна моря он их достанет. Но каждый прожитой день ослаблял. И даже в погоню никуда он не вылетел, хотя полицмейстеру-другу Буланину и подал жалобу с просьбой: «Найти похищенную его супругу, возвратить по этапу в город Калугу и водворить на законное жительство в квартиру мужа». Буланин меланхолически расправил подусники, завернул их концы в рот и вновь заверил Красавца, что «калужская полиция всецело в его распоряжении».
Глебу все это казалось странным, но очень грустным. К собственному удивлению он заметил, что и ему жаль… – жаль, что не слышно больше из залы: «Так взгляни ж на меня хоть один только раз…» или «Гаснут дальней Альпухары…», что не проходит больше Олимпиада каждый день мимо него, легко неся крупное тело, синеокая, душистая – иной раз улыбнется, обнимет, по-родственному поцелует. Красавца тоже жалел.
Глеб сам еще не испытал страстей, тут впервые видел, как грызут они, томят и мучат. На его глазах Красавец похудел и ослаб – ночи без сна не украшают.
Раз, великопостными сумерками, Глеб неожиданно вошел в столовую. Красавец сидел за пустым столом, на обычном слоем месте, подперев голову рукой. Против него, через стол, должна бы находиться Олимпиада. В комнате было тихо. Увидев Глеба, Красавец быстро поднялся, вынул из бокового кармашка ослепительный платочек. От него пахло духами. «Да, душечка, вот и позднее смеркаться начинает. Весна…»
Как ни быстро отвернулся Красавец, Глеб заметил, что все лицо его залито слезами. Он обмахнулся платочком, собрал на лице привычное, не без важности, выражение, выпятил немножко вперед губы: «Через месяц уж распускают? Экзамены? Незаметно пройдет. Ничего, ничего. Работай. Поддерживай честь нашего рода. Как всегда, должен быть молодцом». Глеб таких разговоров не любил. Но сегодня был тих, покорен. Согласился, что и весна идет, и экзамены скоро. «Кончишь, уедешь… и поминай как звали», – вдруг сказал Красавец – и всхлипнул. Глеб совсем удивился.
* * *
Так же внезапно, как появилась в городе, собралась Полина Ксаверьевна и покинуть его. Глеб узнал об этом за несколько дней до ее отъезда. «Я рада, – заявила Полина Ксаверьевна, – что вы тоже скоро оставляете эту Калугу. Нечего вам тут делать. В винт играть? Нет, вам нужна столица». Глеб мрачно ответил, что теперь он уверился: никаких дарований у него нет, не все ли равно, прозябать в Калуге или Москве?
Из окна видны были цветущие сады, спуск к Ячейке, вечнозеленый, равнодушный бор. Ничто из этого не годилось уже для этюда акварелью. Комната, как и зима, как неудачные уроки – как жизнь Полины Ксаверьевны – все это было уже прошлое. Май своим блеском заметал все.
– Есть у вас дарование, или его нет, в том оно состоит, или в другом, покажет жизнь. А сейчас вам идет восемнадцатый год, это детский возраст. Все для вас впереди. Вы о себе ничего еще не можете знать. Я вас тоже мало знаю, потому что вы скрытны. Но не представляю себе вас через двадцать лет таким, как ваш дядюшка, которого вы называете Красавцем.
– Отец хочет, чтобы я был инженером.
– Ничего не знаю. Но не вижу вас ни инженером, ни буржуем.
Полина Ксаверьевна сидела на уложенном сундучке. Глубокого затянулась, пустила дым из обеих ноздрей, внимательно на струи глядя.
Глеб был отчасти польщен, все же не это могло рассеять его. Май, юность, здоровье, впереди столица… Но все беспросветно. Почему? А вот именно так и было. Занимало лишь это. И Глеб в некотором даже безразличии распрощался с Полиной Ксаверьевной. Уезжает и уезжает. Из живописи его ничего не вышло, остальное не интересно. Ну, будут экзамены, он должен их хорошо выдержать, в июне наденет штатское, уедет в Москву. Если спросить, совсем ли это неинтересно, пожалуй что и не скажешь… Все равно, Глеб принял определенную позу. Может быть, и сама горечь ее доставляла ему удовольствие.
Перед экзаменами их распустили: в Училище не ходить, надо готовиться, люди седьмого класса наполовину уже «штатские», «студенты». Разные разно жили. Сережа Костомаров ни о чем не думал кроме ученья. Флягин был уверен, что на устном подскажут, а письменный он «сдерет». И продолжал жизнь калужского Казановы. Глеб, несмотря на меланхолию, все же готовился.
Красавец уехал на некоторое время в Москву, в Москве разбила временный шатер свой Полина Ксаверьевна, высматривая, куда бы дальше направиться. Заканчивал свое земное странствие в Калуге Александр Григорьич. Не считаясь с экзаменами «вверенного ему класса», он умирал именно в мае этого года – в сияющем, цветущем.
Бывшая Катя Крылова со спокойствием вела его до последнего часа. Час наступил, как надлежало ему, погрузил одноэтажный красный домик в особое состояние, называемое смертью. Ее много описывали и будут описывать, никогда не опишут, никогда не поймут. Катя тоже не понимала. Но чувствовала – началось новое. Одно дело, когда Александр Григорьич, хоть и страдал, был живой, и другое, когда не страдает, но лежит в гробу на спине. Катя прожила с ним три года, считала, что он живой, а не мертвый. Теперь же все повернулось так странно…
Как и Катя, Глеб впервые видел неживого человека. Он много меньше знал Александра Григорьича, чем она. Но тоже не мог понять, что он умер. А между тем сам, с Сережей Костомаровым, Флягиным и другими выносил его гроб из церкви Георгия за Лавками. Сам шел за ним сначала до Училища, где о. Парфений служил литию. Потом, под майским солнцем, через всю Калугу провожал на кладбище у Лаврентьевской рощи: сколько бы ни струило теплом и светом, как бы трогательно ни пели певчие, как бы замечательно ни заливались рядом в полях жаворонки – все равно то видимое, мертвенно-мрамор-но-синеватое, что всегда было Александром Григорьичем, уходило теперь вглубь. Горсть земли, самим Глебом брошенная, непонятно стукнула о крышку, отделявшую свет, май, Лаврентьевскую рощу, Глеба от ушедшего.
Все это довольно быстро кончилось. Директор сказал небольшую речь – назвал покойного образцом долга и порядка. Постояли, послушали, понемногу стали разбредаться. Осталась могила, венки, ленты, над ними небо да жаворонки.
Директор и кое-кто из учителей уехали на извозчиках. О. Парфений сел было в пролетку с псаломщиком, но потом почему-то слез. Глеб оставался дольше – побродил по кладбищу, читал надписи, рассматривал кресты, плиты.
Шестой час, небо прозрачное, стеклянно-златистое. Глеб подошел к опушке Лаврентьевской рощи – пахнуло знакомым, с детства любимым запахом пригретого сосонника. Но под соснами все же прохладней. Тут есть тропка, через рощу тоже можно пройти, пожалуй – и ближе.
Налево сквозь деревья мелькнули два-три столика под деревьями. Женщина в платочке и переднике ставила на один из них самовар с синим дымком. Глеб сразу все вспомнил. Еще давно, когда жили они на Спасо-Жировке, были раз с матерью, Лизой, Соней-Собачкою в этой Лаврентьевской роще. Здесь обычно бабы выносят калужским гостям вот такие медные самоварчики, с угарцем из трубы, с цветистыми чашками. На деревянном столике скатеретка, тарелка с душистою земляникой, табуретки… – наслаждайся природой!
И тогда все так именно было. И день такой, и такая ж сухмень. Синевато-златистая, плывущая по мху светотень. Они пили чай, а потом бегал он с Соней по роще, искали грибов, ничего не нашли. «Да, вот и тропка, оттого я ее и узнал… там ложочек, мелкий сосонник, а потом взгорье».
Он шел теперь уверенно в обволакивавшей его солнечной нежности, легкой, но приятной духоте бора. Как здесь славно!
Легкий холодок прошел под сердцем. «Он лежит там… да, уж теперь навсегда…»
Подойдя к мелкому сосновому подседу, он рукой стал задевать мягкие ветви, иногда срывал шишку, захватывал в ладонь теплые иглы, растирал их: что за запах!
«Где сейчас его душа? Чувствует, что Катя тоскует, плачет по нем?». Глеб вдруг ясно увидел Александра Григорьича в коридоре Училища: застегнутый на все пуговицы вицмундир, бледное лицо с умными карими глазами. «А я вам говорю, что Золя пакостный писатель». Но все это ушедшее. Вечер так удивителен. В Калуге ударили ко всенощной.
Незаметно он поднялся на изволок. Мелкий подсед кончился. Опять стало просторнее, большие сосны медленно что-то напевали вершинами. В нескольких шагах слева, на пеньке, сидел, сняв шляпу, о. Парфений. Увидев Глеба, слегка улыбнулся, приподнял длинную худую руку. Серые его глаза были задумчивы, но приветливы.
– Кажется, я заблудился. Хотел сократить путь, а не вышло ли наоборот?
Глеб подошел к нему, поклонился.
– Нет, вы не заблудились. Тут теперь недалеко от дороги.
О. Парфений внимательно на него смотрел.
– Вы знаете эти места?
– Да, немного.
Всю эту весну Глеб вполне мирно провел с о. Парфением. Никаких больше трещин. Все гладко, как всегда – что-то в о. Парфений волнующее, как бы возбуждающее. Как всегда, что-то удерживает и отдаляет. Сейчас Глеб стоял перед ним и не знал, сесть ли, идти ли дальше, проводить ли.
– У вас взволнованное лицо, – сказал тихо о. Парфений. – Впрочем, это вполне понятно.
Он запахнул рясу, поправил золотой крест на груди, поднялся – сразу стал, как всегда, высокий, худой, согбенный.
– Если вам нетрудно, то проводите меня. Пройдемся. Ведь так прекрасно сейчас тут.
– С удовольствием.
Глеб сказал это не только из вежливости. Ему, правда, нравилось идти с о. Парфением. Его настроению он отвечал.
Сначала шли молча. Потом о. Парфений заметил, что скоро для Глеба начнется другая жизнь – куда именно думает он поступать? Глеб довольно вяло принялся объяснять.
– А как вы вообще себя чувствуете?
– В каком смысле, о. Парфений?
– В смысле отношения к жизни, своей будущей роли в ней, деятельности…
Глеб был настроен довольно скромно.
– Мне трудно ответить. Я ужасно мало знаю и понимаю. О. Парфений кивнул утвердительно.
– Странно было бы, если бы все понимали. Они прошли некоторое время молча.
– Я знаю, – сказал о. Парфений, – что многое внутренно, духовно для вас трудно. Вам хочется все самому решить, добраться собственным умом… Такое состояние душевное очень свойственно юности.
– Хочется, но чрезвычайно мало из этого выходит.
На вопрос о. Парфения, твердо ли он вообще верит и что именно особенно его смущает, Глеб отвечал в том смысле, что иногда ему кажется, что он верит, а иногда, что нет.
– Во Христа-то, в Его воскресение верите?
– Да-а…
Глеб вертел в руках молодую зеленую шишку.
– А смерти все-таки не могу понять. И многого другого. Он бросил шишку. Она ударилась о сосну, отскочила вбок.
О. Парфений таинственно улыбнулся.
– Ничего, ничего. Живите. Чувствуйте. Все придет.
Они подходили к опушке рощи. В закате горел золотой крест монастыря под Калугой. В невесомом полете ласточек, сиянии златистого воздуха, безмолвии, в тихом млении домов и садов под уходящим солнцем было что-то необычайное. О. Парфений остановился.
– Вот он, Божий мир.
Он перевел свои огромные, серые глаза на Глеба.
– Да, пред нами. А над ним и над нами Бог. Им все полно! Разве вы не чувствуете?
Холодок побежал от плечей Глеба к локтям. В боках что-то затрепетало.
– Главное, – тихо продолжал о. Парфений, – главное знайте – над нами Бог. И с нами. И в нас. Всегда. Вот сейчас. «Яко с нами Бог».
О. Парфений говорил как бы заклинательно.
– Доверяйтесь, доверяйтесь Ему. И любите. Все придет. Знайте, плохо Он устроить не может. Ни мира, ни вашей жизни.
* * *
Глеб чувствовал себя ровно, крепко, в том нечрезмерно нервном подъеме, который обостряет способности, но не настолько владеет, чтобы лишать управления ими. Начинались экзамены – скачки с препятствиями. Некогда уже думать, есть у него талант или нет, существует ли Бог или нет. И об Анне Сергеевне некогда тосковать – нынче перескочил через изгородь, там канава, дальше забор и ров: скачи, не оглядывайся, не уставай, работай по десяти часов в день: тренируйся, чтобы завтра перепрыгнуть и чрез ирландскую банкетку.
Молодость несла его. И здоровье, полнота сил восемнадцатого года жизни. Засыпал камнем, камнем спал. В шесть утра вскакивал без головной боли, с одним ощущением, вытянутым в прямую: вперед, да, вперед, впереди других.
Александр Григорьич предсказал правильно: Флягину было трудно. Он старательно списывал, где мог. Сопел, сморкался, ерошил волосы на голове. Белесые глаза его испуганны, щеки пылают. Для устных испещрял он манжеты иероглифами, прилаживал шпаргалки на резинке, действовавшей в рукаве (прикреплялось внутри, у плеча). Получал и предельную меру подсказа. Все-таки единственный в классе он и не выдержал. «Ленище», – говорил покойный. Это было вполне справедливо и в устах Александра Григорьича звучало осуждением. Таков личный его взгляд. Он не обязателен, хотя разделяется многими. Флягин пострадал, предпочтя жизнь науке, но при этом пал духом.
В день, когда поражение его выяснилось, он пришел к Глебу в полупустую квартиру на Никитской – Красавца ждали из Москвы лишь завтра. Глеб только что вернулся домой от Костомарова. В портновском магазине брат Сережи помогал Глебу надевать давно заказанный штатский костюм. Еще более ушастый, еще более веснушчатый, чем Сережа, брат с довольным видом обдергивал на Глебе произведение свое, уже не измерял неприятно – п-п, а любовался: «Как в Москве сшито. В раз. В аккурат». Глеб вертелся перед зеркалом, старался казаться равнодушным, но, конечно, сиял. Сияния скрыть не мог, брату оно доставляло тоже удовольствие: не зря трудился.
Однако, аттестаты еще не выданы. Глеб пока «ученик седьмого класса». И костюмчик надо снять, по Никитской идти в форме, неся пакет под мышкою.
Дома можно было бы показаться Дуне и кухарке в полном блеске, но при Флягине Глеб не решился даже развязать пакета.
Вид у Флягина был ужасный. Он не спал ночь, глаза напухли от слез, щеки багровые. Так знакомые Глебу нехитро-белесоватые, но благодушные глаза глядели детски-жалобно. «Да может еще переэкзаменовку дадут? – говорил Глеб. – Почем ты знаешь, что так безнадежно?» – «Нет, я уж, я уж… – Флягин опять заплакал. – Ты счастливый, ты выдержал… а я… что теперь в Мещовске папаша скажет?»
Глеб чувствовал себя смущенно. Собственно, чем же он виноват, что выдержал? Но с Флягиным годы сидел на одной скамейке, подсказывал, выслушивал рассказы о победах – никогда они не ссорились, прожили дружно. Жалко! Вот послезавтра выдают аттестаты, а потом, вечером, товарищеский пикник в бору за Ячейкой, выпивка – Флягина, разумеется, не будет.
Глеб хоть и не разворачивал своего костюма, но Флягин заметил пакет – сразу сообразил: «Штатский костюм? Шикарно!» Глеб, делая вид, что заказал его лишь по крайней необходимости, признался, что это именно костюм. Флягин усиленно сморкался и настаивал, чтобы Глеб показал его. Пришлось костюм распаковывать. Но надеть Глеб решительно отказался. Флягин щупал материю, прикидывал на Глеба. «Костюмон знатный», – сказал, наконец, убитым голосом. Глеб был рад, когда он ушел: жалко-жалко, но без него лучше.
Красавец приехал на другой день. Хотя в Москве он усиленно намокал, стараясь рассеяться, все же за это время вообще изменился: стал тише, менее разглагольствовал, грудь уж не так «колесом», губы с трудом наморщивались в важно-гоноровую складку.
– Душечка, очень за тебя рад. Первым кончил, прекрасно. Иного и не ожидал. Так и надо. Отец твой в Горном трудился, я в Военно-медицинской академии. Приветствую.
Он расцеловал его, подарил сто рублей и прекрасный портфель («из Москвы, милочка!»). Глеб был совсем смущен. Но еще большее смущение – радостное – произошло в день выдачи аттестатов: Красавец пригласил его обедать в ту разноцветно раскрашенную, пестренькую, со стеклянной верандой на Оку «Кукушку», к которой вчера еще и приблизиться не мог «ученик VII класса Калужского реального училища». А теперь он молодой человек в штатском, сам с усам, попробуй-ка его тронуть!
День был прелестный, безоблачно-июньский. Столик у самого края. Внизу Ока. Солнце явно переходило уж к вечеру. За Окой стекла блестели в Ромодановском. Перемышльский большак подымался за понтонным мостом – уводил столетними березами к Козельску, Оптиной, Устам – странам для Глеба уже легендарным.
Красавец в «Кукушке» был знаменит. Немало оставил здесь денег, все его знали и кланялись. «Человеки» увивались. Он заказал стерлядь кольчиком, утку, мороженое. Появилась и бутылка шампанского.
– Поздравляю еще раз! Нынче в твоей жизни важный день. Продолжай, трудись, поддерживай наше доброе имя. Ну-те-с… и будь счастливее нас. Да, счастливее.
Глаза Красавца слегка затуманились. Но он сдержался.
– Умнее нас ты просто обязан быть, это без всяких разговоров. Но желаю, чтобы именно счастливее.
Красавец вдруг выпятил нижнюю губу, как раньше, в лице его что-то задрожало. «Ну-те-с… да, разумеется…» Он как будто хотел что-то сказать более глубокомысленное, но не вышло. Можно было подумать, что просто сейчас он расплачется.
На веранду вошла небольшая компания, стала рассаживаться за недалеким столом.
– Батюшки мои, Анна Сергеевна! Петр Петрович!
Красавец шумно поднялся, направился к соседям. Они пришли кстати.
– Ручку! Анна Сергеевна, пожалуйте ручку! Глебово окончание празднуем. Оч-чень рад, оч-чень рад!
Глеб привстал, поклонился было издали, но Красавец требовал уже его туда. Анна Сергеевна ласково кивала.
– Глеб, идите, я хочу на вас посмотреть, какой вы в штатском!
Глеб, мучительно смутившись, поцеловал тоненькую ее ручку.
– Совсем взрослый!
– Хоть куда!
– Студентом скоро будете? Поздравляю!
Глебу пожимали руку, незнакомая дама смеялась. Снисходительно улыбался член управы. Анна Сергеевна продолжала глядеть на него огромными сочувственными своими глазами.
– И теперь уж в Москву?
– Да, завтра уезжаю…
– Вы счастливее нас. Москва, студенчество… Ну, во всяком случае я от души, от всей души вас приветствую. Господа, я хочу тоже выпить шампанского за здоровье будущего студента!
Опять чокались.
– Анна Сергеевна, ангел, – говорил Красавец, – вы мне Глеба не спаивайте. У него сегодня еще с товарищами кутеж.
Но Глеб шампанское пил, с Анной Сергеевной чокался – несмотря на дядюшку.
* * *
Все развивалось, как надо, и все ушло. Надо было кончить Училище – кончили. Полагалась по окончании выпивка – выпили, шумно и весело, в бору за Ячейкой. Уславливались «через двадцать пять лет» опять съехаться всем и вспомнить старину, «не забывать друг друга»… – и забыли, и не встретились.
Нельзя было и с учителями не проститься (они тоже бесследно канули). Кудлатый Михаил Михайлыч слегка даже прослезился. «Ну, вот, всем искренно желаю… надеюсь, что те основы… заложенные мною в рисовании… помогут вам и в жизни», – Михаил Михайлыч вполне был уверен, что планчики и заборка от всего помогают.
Козел проявил свое красноречие. «Как это вот там… ну? Где будете учиться? Ну, в Москве, вот это как… в Москве будете учиться… Да. В Москве. Ну, значит, и хорошо».
А о. Парфений был приветлив, прохладен, слегка улыбался таинственными своими глазами. Легкая, но трудно переходимая черта по-прежнему отделяла его от всех – и от Глеба. Все-таки, он благосклонно Глебу улыбнулся, подарил свою фотографическую карточку. На обратной стороне ее было написано его рукой: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (I. Петра, IV, 10).
– Душечка, ты уж меня извини, – сказал дома Красавец, – провожать на вокзал не смогу. Вечером вызван к тяжелобольному.
Может быть, этот больной в просторечии назывался винтом у Терехиных – Глеб не вдавался в подробности. И не горевал.
В десять часов нарядный извозчик «на резинках» мчал его к вокзалу, мимо Николаевской гимназии. Июнь, ранняя ночь синеет. В синеве этой все, что ушло: детские горести, ранцы, уроки. Ветер навстречу ласков. Дуновение его – дуновение Времени, заносящего прахом былое – Московские ворота, влево вдали Лаврентьевскую рощу, сзади Никитскую и Никольскую, Училище, тридцать шесть церквей города Калуги.
Бег рысака вонзал юношу с чемоданом, в канотье, свеженьком костюмчике, в теплую темень будущего. Незаметно долетели до вокзала. Глеб никого провожающих не ждал и не ошибся. Но и без провожающих все протекало, как надо. Поезд пришел вовремя. Носильщик посадил Глеба и в назначенный час поезд тронулся, пошел вдаль за Калугу, посыпая искрами поля под Ферзиковом и Алексином. Глеб один сидел в купе у открытого окна.
1939 г.
Юность*
I
Балыковская глушь нижегородская, зима. Дом занесен снегом, у балкона звездочки следов – ласка пробежала вороватая, прогарцевал зайчик. В дальнем углу покачивается на репее овсянка, выклевывая зерна. Хладное серебро сыплется со стебля. На главной клумбе полузавеянный невысокий столб, сверху розовый стеклянный шар – уродливо отражает он окрестность. Бело кругом, чисто, тихо. По саду, по сосновому парку пройдешь только на лыжах – но какого кристального воздуха наглотаешься!
Отец выстроил и пустил новую домну. Козла не посадил, все обошлось благополучно. Домна славно выплавляет чугун, отец живет в теплом доме однообразно-покойно, ходит на завод и в контору, ездит в Илев, постреливает зайцев по пороше, после обеда спит в кабинете. Вечерами читает или точит на токарном станке перечницы, деревянные подсвечники.
Из окна матери видна та самая узенькая, стройная голубятня, которую писал Глеб акварелью. «Миленькая картинка» висит над кроватью. За голубятнею огород, другой дом в глубине – все замыкается столетними соснами саратовскими, они гудят слабо, вечным, стеклянным тоном.
Мать подолгу сидит здесь – кроит, шьет… – мало ли еще что делает? Поглядывает на Глебову картинку. Да если бы и не глядела, все равно о нем думала бы. Как не думать о сыночке? Началась разлука, более чем когда-нибудь. Он студент, живет один в Москве, даже вот на Рождество не приедет, какие-то зачеты, чертежи, проекты. Не до Балыкова. Лиза тоже в Москве. Учится в Консерватории. За нее менее страшно. А вот Глеб? Снял комнату в другой части Москвы («да, конечно, Императорское Техническое на Коровьем Броду, в Лефортове – иначе ему и нельзя!»). Живет одиноко. Адрес такой странный: «Гавриков переулок». Положим, в Москве все довольно странное… разные Вшивые горки, Собачьи площадки. Вообще герунда. (Мать говорила также: генварь.)
Да. И Глеб молодой человек. Такой возраст. Бог знает, куда попадет, в какую среду. Мало ли там, в столице, разных людей, кружков, студентов. Или встретит легкомысленную женщину, вдову. (Мать более всего боялась вдовы, которая может вполне окрутить сыночку.)
После обеда она ложится на диванчик, но не спит, как отец, а просто лежит, думает, вздыхает – может быть, на мгновенье дремота по ней промчится – и опять соскочит.
К шести в столовую подают самовар. На потолке электрическая лампочка. В ней шестнадцать свечей. Она то сильнее светит, то слегка вянет, в ритме машины заводской. Но среди нижегородских снегов это такая роскошь!
Рыжеватая борода отца теперь с проседью. Он выходит несколько хмурый, с полосатою отлежанной щекой, медленно пьет чай, курит, помалкивает. Мать мешает ложечкой в своей чашке.
– Надо бы послать сыночке еще пятьдесят рублей.
– Да ведь только что посылали?
– То за комнату и стол, но ведь ему надо и одеться, и в театр иной раз пойти.
Отец курит равнодушно. Денег ему не жаль, да и все равно, Глеб безнадежно забалован. Хорошо еще, что порядочно учится.
Подражая воображаемым немцам или чехам (отец любит развлекаться так), – отвечает:
– Зоглазна.
И погружается в «Русские Ведомости». Узнает о тверском земстве и об «оплотах реакции», о нижегородском губернаторе и прениях в Рейхстаге. (Там какой-то Рихтер вечно громит правительство.)
Вечер идет тихо. Рихтер еще раз съязвит, тверские земцы еще раз покажут свое благородство. Может быть, заглянет фельдшерица Синельникова, попросит у матери «Русское Богатство». А может, и никто не заглянет. Мать опять будет шить, читать бесконечный переводной роман («с датского») в «Вестнике Европы», а после ужина разложит пасьянс.
Попивая из большой кружки пиво, отец станет ее поправлять. Мать лишена чувства стратегии. Она аккуратно раскладывает карты, но рассчитывать не умеет. «Туза, туза закладываешь, разве так можно?» Отец болезненно морщится: точно его кто обидел. Мат подымает на него строгие, прекрасные и непонимающие глаза. «Хочешь портить ряд, так по крайней мере один, а не все». Мать иногда слушается, иногда нет. И сурово поглядывая сквозь пенсне (надевает его только для пасьянсов, чтения и шитья) – ведет безнадежную свою линию.
Зимний вечер переходит в ночь. На дворе вызвездило, мороз. Бревна дома потрескивают. Лисы, зайцы поглубже зарываются в снег. В Саровских лесах медведи Преподобного сосут лапу в берлогах, звезды раскаленно пламенеют над вековыми лесами, снега леденеют, воздух колок и вкусен как огненный напиток. Ночь идет, ночь идет над необъятным краем, уже Рождество близко, Орион сияет, Сириус ломит взор синим огнем своим.
В должный час гаснет в доме свет. И отца и мать, каждого в своей комнате, обымает тьма и они не слышат уже гула сосен, стрельбы дерева в доме. Мать спит тонким сном, но в морозной этой ночи, слава Богу, не подозревает, что Глеб снял комнату именно у вдовы, и одинокой – Таисии Николаевны Милобенской.
* * *
Гавриков переулок ничего общего не имеет с Пречистенками и Арбатом. Гоголь, Хомяков, Аксаков не бывали тут. Но когда осенью Глеб, выдержавши конкурсные экзамены в Императорское Техническое, проходил по этому переулку и увидел билетик на подъезде: «Сдается комната», он менее всего думал о Москве поэтической и старинной. Какая там поэзия! Начинаются лекции, надо рано вставать, близко жить от Коровьего Брода, где Училище.
На звонок отворила дама лет тридцати пяти, скромного и приятного вида. Слегка робея, показала в глубине коридора комнату – сама жила в двух смежных. Все в небольшой, тихой квартире тускловатое, как бы подернутое кисеей и несколько меланхолическое. Но Глебу показалось: жить так жить! Да, пусть и тут, не все ли равно? Он сразу согласился. Дама же оказалась хозяйкою, той самой вдовой, которая могла бы окрутить сыночку.
К вечеру из гостиницы Ечкина переехал сюда Глебов чемодан. Глеб вынул и разложил книги, белье. Платье повесил в пустынный шкаф – началась «новая жизнь».
Она состояла в том, что Глеб подымался в утреннем сумраке, умывался, старушка Анфимьюшка подавала ему кофе, он его пил, а потом отправлялся на лекции.
Сумрачно, хмуро! Глеб идет переулками. Вот Немецкая улица, отголосок времен петровских – а сейчас невысокие дома, мелкое купечество, трактиры, булочные. С нее свернешь в проулочек – и на небольшой площади, несколько пониже, к Яузе, огромное белое здание: Императорское Техническое, Технологический институт Москвы.
Входить даже приятно. Светло, просторно, пахнет немного краской, лаком, слегка чем-то лабораторным (но бодрым). Снуют студенты, в таких же нарядных, как у Глеба, тужурках – на плечах золотые вензеля. Здесь встретит он и Сережу Костомарова из Калуги: вместе держали, вместе выдержали, поступили. Оба на химическое отделение. С прежнею жизнью Сережа – единственная связь. Все остальное новое. Нельзя сказать, чтоб и совсем неинтересно. Большие аудитории, кафедры, приборы, черные доски. Пробежит коридором профессор, полный, лысый, помахивая руками, странно покачивая туловищем. Взбежит на кафедру, начнет расписывать, разрисовывать по черной доске чертежи – механику – с видом полугениального маниака. Сам будто летит по этим кривым, в значках алгебраических, закидывая назад голову, постукивая в доску мелом: вот оно тут все, поймал за хвост!
Юноши в тужурках за ним записывают. Глеб тоже. И никто не знает, насколько этот рассеянный, неаккуратный, в смятых штанах, перепачканном вицмундире с перхотью на воротнике человек есть светило науки российской, изобретатель, предсказатель, утвердитель.
Химию слушают в другой аудитории. Тут окна в сторону Яузы, река видна, но за ней лесистый подъем – парк Кадетского корпуса: старинные, желтоватые здания. За ними Анненгофская роща.
Приват-доцент химии не такое светило, но читает отлично – высокий, прямой, в очках, с большим лбом, по-интеллигентски откинутыми назад волосами – их можно во время лекции слегка поправлять. Ясно, толково, все понятно. Тон бодрый и твердый.
Во второй половине дня забираются в чертежную, тоже огромную. На листах ватманской бумаги, натянутой на доску, изображают разные подшипники, разрезы гаек, части машин. «Чтобы сделать хороший чертеж, надо быть в душе художником, – говорил Глебу в Калуге путейский инженер. – Вы занимаетесь акварелью – весьма пригодится. Превосходно будете раскрашивать проекты. Профессора очень это ценят».
Может быть, насчет профессоров и был прав Александр Иваныч. Но не насчет Глеба. Как раз акварель с циркулем и нагоняла тоску. Нет, что же говорить! Это не Левитан, не Репин, это будущий инженер-технолог. «Кончишь Техническое, получишь отличное место колориста где-нибудь в Иваново-Вознесенске».
Покорно благодарю! Неужели отец мог считать, что Глеба занимают ситценабивные фабрики, изучение красок, составление узоров для обоев?
Глеб унаследовал, однако, здравомысленность и отца и матери. Надо работать и зарабатывать – надо. И заглушая в себе нездравый смысл, вот покорно он ходит на лекции, чертит чертежи, готовится к зачетам.
Возвратившись с Коровьего Брода, обедает в небольшой столовой, отделяющей его комнату от Таисии Николаевны. В этой столовой висит портрет покойного ее мужа, в спальне другой, еще больше. В столовой пианино – там зеркальный шкаф, безупречное вдовье ложе под шелковым одеялом. Висячий голубой фонарь, мелкие фотографии на комоде, шкатулочки, искусственные цветы.
Глебу нравилось, что хозяйка приветливая и не надоедает разговорами. Вечером раздастся звонок – это Сережа Костомаров – она сама отворит, слышен ее негромкий голос: «Да, пожалуйста, дома. Осторожнее в коридоре, Анфимьюшка опять не зажгла лампочки» – и шаги Сережи, такого же основательного, как и она. Вот это и есть знаменитая «студенческая жизнь»: слегка застоявшийся, теплый «жилой» запах квартиры, голубой фонарь в спальне Таисии Николаевны, Сережа со своими записями лекций и разговорами о репетициях, за окнами темный Гавриков переулок с керосиновыми убогими фонарями и в осенней тьме Москвы на Коровьем Броду белое здание, куда и завтра идти, и послезавтра. «Колористы в Иваново-Вознесенске зарабатывают по несколько сот в месяц»…
В воскресенье можно спать долго – Глеб в десять еще не подымается. Конец ноября, выпал снег, забелил Москву. Смягчил, приодел и Гавриков переулок. Ломовики не грохочут, за окном слышен скрип саней, не раздражающий. В комнате тепло, Анфимьюшка отлично натопила печку еще в темноте. По потолку отсвет снега с улицы – живое, бодрое в нем. Вот узкое пятно протрусит по потолку: извозчик проехал в санках.
Когда Анфимьюшка подаст кофе, в приоткрытую дверь потянет теплым запахом кухни. Таисия Николаевна уже давно копошится, ходит, присматривает. Варится суп – длинная история. Потом будут печь пирог: к завтраку по воскресеньям бывают Манурины, мать и дочь, родственницы Таисии Николаевны.
Глебу запомнилась первая встреча.
Он одевался, тщательно чистил тужурочку свою с вензелями на плечах. Не дай Бог, чтобы вихор на голове торчал!
Наконец, все в порядке, вышел. В комнате Таисии Николаевны сидели уже гостьи. Вера – высокая девушка лет двадцати семи, прямая, статная. Широкие плечи, прозрачные холодноватые глаза. Мать полнее. Несколько горбится, в наколке, на груди бриллиантовая брошь.
В том, как подала ему руку Варвара Дмитриевна, слегка прищурилась, сказала: «Очень приятно», в том, как блестело кольцо на длинном пальце Веры, как крепко и сухо подала она ему руку, было не совсем привычное, не свое. Глеб знал, что Вера пианистка, окончила петербургскую консерваторию, здесь с матерью проездом – после Рождества уезжают за границу. Но сейчас ни о чем этом не подумал, а ощутил дуновение прохлады, чего-то не вполне женственного, почти жесткого. Это его смущало. Но и подтягивало.
Анфимьюшка подала пирог, перешли в столовую. Глеб сидел против Веры. Она рассеянно осматривала комнату. Варвара Дмитриевна косилась, щурилась на хозяйку. «Таисенька, твой пирог просто прелесть. Забралась в этот Гавриков переулок и развела такое хозяйство… Молодой человек, она вас закармливает?» Глеб улыбнулся. Таисия Николаевна порозовела. «Что ты, Варя, это обыкновенный пирог с вязигой». Вера ела охотно, не стесняясь и довольно просто. «Да, правда, очень вкусно».
Кладя Глебу второй кусок пирога – уже с грибами и ливером – Таисия Николаевна сказала:
– Вера ведь, знаете, настоящая артистка. С золотой медалью окончила. Замечательно играет. Скоро концерты давать будет.
Глеб не без важности ответил:
– Я знаю, что артистка. Да если бы и не знал, все равно, по рукам видно.
Вера подняла на него глаза.
– По рукам?
– Да, у вас руки уж такие – для рояля.
– А-а!
Она усмехнулась. Но Глеб так прочно взял тон знатока, что улыбка не смутила его.
Варвара Дмитриевна спросила, любит ли он музыку. Глеб ответил, что любит, но недостаточно знает. «Впрочем, я слышал некоторых знаменитых музыкантов». – «Кого же именно?» – «Рейзенауэра, Гофмана». – «Ага, значит, вы из Гаврикова переулка и по концертам ходите?» Тут Глеб несколько осекся: «Нет, я слышал их еще в Калуге, учеником».
Вера налила себе воды, прозрачной и холодноватой, глотнула. Ни она, ни Варвара Дмитриевна на Калугу не обратили внимания. Но Глеб обратил. Счел, что марка его невысока. Студент из Калуги! Даже если прилично одет, в новой тужурке, хорошо причесан, все же невелика фигура. Он притих и покорно занялся куриной ножкой под рисовым соусом. Вера усердно обгладывала крылышко. И вдруг, подняв глаза, точно впервые Глеба увидела, спросила: «А что это у вас на погонах за вензеля?» Глеб объяснил, очень скромно: Императорское Техническое Училище, он будущий инженер. «Ну, да это все не интересно».
Вера обтерла губы салфеткой: «Почему же не интересно? Дело и дело, как всякое другое. Отлично будете зарабатывать. Это самое важное».
Глеб был несколько удивлен. От артистки ждал другого. Все-таки было приятно, что она не смотрит на него свысока. Впрочем, хоть внешне мог он и очень смущаться, но внутри крепость со рвами и бастионами сидела, он чувствовал себя в ней довольно прочно, и хоть студент-химик из Калуги, но и сам с усам, никому поддаваться не намерен.
Да Вера его и не задевала. Они обменялись всего несколькими фразами, в тоне вежливо-сдержанном. Когда Глеб на минуту вышел за пепельницей, Варвара Дмитриевна подмигнула хозяйке. «Где ты этого студентика выудила?» – «Ах, ну просто зашел и снял комнату». – Таисия Николаевна опять покраснела: ее вообще-то смущало, что вот у нее, одинокой вдовы, живет молодой человек. «Во всяком случае, – добавила Варвара Дмитриевна, – видно, что из приличной семьи».
После кофе Вера села к пианино, такая же прямая, высокая, покойная. Свет из окна падал прямо ей в глаза, они стали еще прозрачнее, но не теплее. Глеб сидел в углу, спиной к свету и видел ее всю, отлично. Когда длинные пальцы неслись по клавиатуре, глаза продолжали быть бесстрастны. Руки напомнили Софью Эдуардовну – вызвали некоторое сочувствие. Но Вера играла не так, как та. Кто лучше? Он не решился бы сказать. Как виртуозка, наверное, – эта. Но с той связаны были детство, нежность, с музыкою ее – поэзия. В Вере поэзии он не ощутил. Холодный, сияющий блеск шел от клавишей, и от нее самой, от летящего, тонкого бисера звуков. Он слушал с интересом. Что-то бодрило, укрепляло его.
* * *
Перед окном матери на кусту сидела синичка, все встряхивалась, охорашивалась, играла пестреньким своим, с желтизною и сизым, тельцем. Ветка качалась, осыпая снег. Балыковский сад сребристо и безмолвно занесен был этим снегом. Тишина – и среди сосен Саровских, и в самом доме.
Час предобеденный. Отец еще не вернулся, мать только что получила два письма из Москвы, сидит в кресле у окна, в пенсне, под игры синички медленно перечитывает эти письма. Глеб пишет коротко, суховато: жив, здоров, много учится. С ним на одном курсе Сережа Костомаров. Квартирой и столом доволен… Мать вздохнула. Глеб всегда был такой. Разве от него узнаешь что-нибудь? Все в себе. (Она забывала только, что сама именно такая же.)
Лиза другой человек, и письмо ее иное. «Милая мамочка, я так по тебе соскучилась, хочется вас обоих повидать…» Ну, это все очень хорошо, у Лизы нежное сердце, но повидаться, конечно, не так просто. Квартира ее на Арбате, она поселилась с подругой, какой-то Вилочкой Косминской, тоже консерваторкой. «Глеба вижу редко. Он очень занят, да и я тоже. Притом, он устроился далеко, за Разгуляем („Какие в этой Москве названия!“) А все-таки в прошлое воскресенье мы с Вилочкой к нему собрались. У него довольно хорошая комната, он снимает ее у одной вдовы, г-жи Милобенской. Нам у него понравилось, хотя местность там скучная, живет он замкнуто, мало с кем встречается. Хозяйка его милая и простая. Мы его звали к себе, чтобы чаще приходил, у нас все-таки веселее, бывают университетские студенты, вместе ходим в театр. Глебу, по-моему, одиноко жить там. Настроение у него неважное, но ты сама, мама, знаешь, что от него трудно добиться чего-нибудь более ясного».
Синичка улетела, ныряя в воздухе. Мать сняла пенсне, отложила письма на столик и встала. Лицо ее было задумчиво, выражало заботу. Она не заметила, как в дверь просунулась вязанка дров, косолапый мужик Аверьян, в полушубке и валенках, с размаху грохнул ее у печки. Мать вздрогнула, обернулась. Аверьян будто смутился. «Ах, как ты гремишь». – «Дровешек, было, того…»
Мать прошла в столовую. Старый лакей Ипатыч, лысый, с больными ногами, накрывал на стол. «Пива барину достали из погреба?» – «Так точно-с…» Мать оглядела столовое свое хозяйство – как будто все в порядке: графинчик водки перед прибором отца, соленые огурцы, красная капуста.
Кое-что она, все-таки, поправила: весело ли на душе, хмуро ли, хозяйство священное дело, о своих чувствах думать не приходится.
Отец весело раздевался в прихожей. Насвистывая, прошел умыть руки в умывальную, отклеил ледяшку с уса: мороз порядочный. Потом расчесал боковой пробор, пригладил волосы щеткою, явился в столовую.
Мать, в накидке, как бы слегка озябнув, садилась уже на свое место.
– Меню? – спросил отец. И налил рюмку водки. Он, когда бывал в духе, всегда спрашивал меню, «чтобы знать наперед, чему сколько оставить места». Но мать как раз этого слова и не любила. В нем было для нее что-то ресторанное.
Отлично зная, что сегодня рассольник и на второе баранина, она ответила независимо:
– Вот сам увидишь. Отец заедал водку огурцом.
– Для того и спрашиваю, чтобы услышать, а не увидеть. Мать ничего не ответила, позвонила Ипатычу. Через минуту внес он дымящийся рассольник. Отец выпил вторую рюмку и сказал, что опять ему придется ехать в Илев, дня на три: приезжает из Петербурга Ганешин с членом правления.
– Дурачье петербургское, опять начнут мудрить, делать вид, что понимают что-то в заводском деле. А что они понимают? Ровно ничего!
Отец говорил будто бы иронически, но тоном бодрым. Он и действительно вовсе не прочь был съездить в Илев, выпить с Ганешиным коньяку, сыграть в винт – а может, а дамы какие приехали из Петербурга – распустить хвост, похохотать. Мать все это чувствовала. Лицо ее становилось строже.
После баранины была еще размазня. Отец ел ее медленно, намасливая, приглаживая и приминая ложкой – получалось вроде геометрического тела – по правильным секторам он выгребал содержимое.
– Я получила из Москвы письма, – сказала мать. – От Глеба и Лизы.
– А-а! Ну, как, здоровы?
Отец спросил приветливо, но довольно равнодушно.
– Прочти сам.
После размазни отец налил кружку пива, надел пенсне и взял письма.
– Учится, учится. Та-ак.
Он отложил письма Глеба, взял Лизино. Некоторое время читал молча.
– Вдовы Милобенской… хозяйка милая и простая… – снял пенсне, вынул кожаный портсигарчик. Закурил папиросу и хлебнул пива.
– Вот эти милые и простые хозяйки, симпатичные вдовы и любят молоденьких студентов.
Мать строго на него взглянула.
– Что ты этим хочешь сказать?
Отец курил – пускал кольца синеватого дыма. Они плыли плавными мягкими валиками, потом таяли.
– А то и хочу сказать, что говорю. Сколько я таких случаев знал!
– Сыночка по-другому воспитывался, он…
– Твой сыночка совершенно так же устроен, как и все.
– Во-первых, он такой же твой, как и мой.
– Не сомневаюсь.
– Да, и сыночка не станет заводить романов с первой встречной женщиной. Он слишком серьезен.
– В этом возрасте все кажутся очень серьезными, а думают только об одном.
Мать стала еще холодней.
– Если судить по собственному опыту, то, конечно…
– Э-э, брат, при чем тут собственный опыт? Природа! Так человек создан. Против рожна не попрешь.
Мать сама думала почти так же. В молодости любила отца возвышенной, чистой любовью. Но возвышенная любовь – одно, жизнь другое. Долгие годы с отцом доказали это. Теперь она говорила о любви реально, полумедицински. Вглуби же, запрятанное, очень оскорбленное, сидело и прежнее.
– Разумеется, если видеть только животную природу человека…
Отец не поддержал разговора. У него был такой вид, что не стоит спорить: дело ясное, жизнь идет по своим законам, не нами установленным. И по этим вот законам он допьет свое пиво, перейдет в кабинет, где пахнет ружьями, патронташами, медвежьей шкурой у письменного стола – заляжет на турецком диване да так заснет, что просто прелесть.
Это именно и произошло. И вторую часть дня они провели по-разному. Отец, выспавшись, еще раз сходил на завод, вернулся в настроении хорошем. И весь вечер напевал песенку, которая неизменно развлекала его:
Вею, сею, сею, вею, Пишу письма архирею Архирей мой, архирей, Давай денег поскорей.Мать тоже прилегла. Печка, которую знатно растопил Аверьян, потрескивала и бросала на пол красновато-золотистый отсвет. Мать постелила на подушке дивана чистый носовой платочек, прилегла вздремнуть – не так, как отец, но дремотою тонкой, однако отдохновительной. Нынче дремота не шла. «Конечно, одному скучно, грустно в таком городе, как Москва. А тут рядом женщина, опытная, ловкая…» Дальше шли мысли в том же роде. «Да, и не заметит, как она его затянет. Разве у него есть опыт? Он ничего еще в жизни не знает, она этим и воспользуется».
Зимний день кончился. Голубятня, занесенная снегом, стала было погружаться во мглу, но сквозь сосны Саровские сначала бледно, а потом явственней засветилась луна, она катилась бесшумно-таинственно в небесных безднах. То заволакивалась мелочною белизной, то проносилась по лазури в узорах звезд, тогда ярче и чище заглядывала в окна дома балыковского, где на своем диване передумывала Глебова мать те же думы, какими томятся, томились, будут томиться тысячи матерей. В снежной, фантастической пустыне за окном все было хорошо – дыхание Господа сил. В женском сердце все тоскливо, смутно, несмотря на золотые узоры, уже тянувшиеся из окна по полу.
По временам мать переворачивалась, вздыхала, вполголоса произносила: «О, Боже мой, Боже мой!» – полувздох, полумолитва (но если молитва, то бессознательная: сознательно мать не молилась).
Весь этот вечер она была не в духе. И вполне ушла в себя. С отцом больше не подымала разговора о Глебе. Переходя с места на место, садясь, вздыхала. «О, Боже мой, Боже мой!» – как будто тот Бог, к которому была она прохладна, следовал за ней повсюду.
Пасьянс после ужина прошел мрачно. Мать совсем не слушалась советов отца, вся его глубокомысленная стратегия пропадала. Он довольно быстро махнул рукой, усиленно занялся пивом, слегка подпевал: «Архирей мой, архирей, давай денег поскорей!» Мать подняла глаза: «Что тебе нравится в этой песенке? Ничего смешного!» Отец улыбался. «Вею, сею, сею, вею…» Мать смешала карты – пасьянс не вышел: «Просто герунда».
На другой день отец в дохе, серой мерлушковой шапке закатился в Илев. Мать осталась одна, в снежной своей обители. Она много шила, читала роман в «Вестнике Европы», надев валенки, ходила по хозяйству. Многими своими вздохами пришла к некоторому решению. Большие ли решения, малые ли, созданные в одиночестве, крепки. Мать невозможно было сдвинуть с того, что она уезжает в Москву – «Недели на две, чтобы посмотреть, как живут Лиза и сыночка».
* * *
Зима российская катилась – над столицами, над захолустьями. Веял снежок над Петербургом, где молодой царь входил в силу власти, и над Москвой, где правил дядя его, высокий, изжелта-костистый, москвичами не любимый Великий князь Сергий. И Петербург, Москву, далекое Балыково несло одно дыхание равнины русской, с заметюшками, морозами, полузасыпанными снегом избами, заиндевелыми бородами, сизо-мохнатыми лошаденками.
Глеб, живая точка, ежедневно направлялся на Коровий Брод, слушал там лекции, чертил с Сережей Костомаровым части машин, сдавал зачеты, дома ел скучноватые щи – изделия Лнфимьюшки или Таисии Николаевны. Квартирка все так же тиха, Таисия Николаевна так же робка. В спальне по-прежнему голубой фонарь, будто и призывающий, а освещает всего лишь благоустроенную, но одинокую постель. И портрет мужа ничем не смущен.
Приезжали, как прежде, Манурины. Завтракали. Вера как, всегда, много ела, покойно смотрела прохладными глазами. Бриллиант блестит на пальце, отсветы снега в глазах.
«Что же, вы все Рождество сиднем будете сидеть вот так в этой мурье? – спросила она раз, зайдя к Глебу в комнату. Закурила, села за письменный стол, вытянула длинные ноги. – Ведь вы же молодой студент, неужели не хочется на Москву посмотреть, в театр сходить?»
Глеб ответил, что в театр охотно собрался бы. «Да, но нужно, чтобы вам достали билет, посадили на извозчика и сдали в багаж?»
Глеб улыбнулся. Ему отчасти нравилось, что взрослая барышня, гораздо старше его, артистка, разговаривает с ним так запросто. Но хотелось, чтобы его-то она не считала совсем простым. «Я в театрах и бывал и буду бывать, но в общем жизнь настолько не интересна, что пойдешь лишний раз или не пойдешь, она лучше не станет» – «Глупости. Эти философии вовсе ни к чему. Жизнь на что-то дана, нельзя ее прокапчивать». – «Да, вы артистка, для вас…» – «Надо заниматься таким делом, которое интересует. Вы вот говорили, что инженерство вам не нравится. Жаль, что не нравится, но ваша воля. Не нравится – пишите стихи».
Она говорила отрывисто, побалтывая ногой, перебирая пальцами на столе разные мелочи. Вдруг развернула тетрадку, на ней надпись: «Дневник».
– А, вот это что такое! Угадала. Писатель!
Глеб смутился: «Нет, пожалуйста, положите. Никакой не писатель, просто так… Ерунда всякая».
– Ну, не буду.
Он взял рукопись, покраснел и как будто даже рассердился. Вера осталась совершенно покойна:
«Полное ваше право писать, сочинять, ничего дурного в этом не вижу».
Глеб и сам знал, что ничего дурного. Все-таки… Тетрадку эту он завел недавно, записывал разные, казавшиеся ему значительными, свои мнения «о жизни», иногда сценки. Чаще всего изливал горечь. Иногда смутно казалось, что, может быть, следует и серьезней попробовать. Но все это было тайное, никому не открытое, даже Лизе и Соне-Собачке. А тут Вера Манурина сама налетела…
Как бы заглаживая это, Вера встала, сказала решительно: «А в театр поедем. Я вам достану ложу на Шаляпина. Слыхали? Молодой певец, но очень талантливый».
Глеб ответил: Шаляпина знает, в театр пойдет с удовольствием.
Вошла Таисия Николаевна. «Таисенька, я везу вас всех в театр. Знаешь, по-семейному, как в баню. Мы уже уговорились с Глебом Николаевичем. Не смей отказываться». Таисия слегка покраснела: «семейные бани» – это не ее стиль. «Ах, Вера, ты всегда так скажешь…» – «Никаких отговорок. Я все равно скоро уезжаю, пусть и будет вроде прощального бала».
На том и порешили. Вера ушла.
Через несколько дней она прислала номер ложи на «Юдифь», в Шелапутинском театре. Глеб с Таисией Николаевной должны были приехать вместе, Вера одна – Варвара Дмитриевна на несколько дней уехала в Петербург.
И в назначенный вечер извозчик вез Глеба и Таисию по заснеженным улицам Москвы на Театральную площадь. Глеб чувствовал себя напряженно, бодро: впереди, хоть на сегодня только, нечто такое занятное. Рядом в санках Таисия Николаевна в ротонде с меховым воротником, тщательно приодетая, надушенная. Глеб придерживал ее слегка за талию – под скромный трух лошаденки плыла вокруг них в вечерних огнях Москва, все эти Красные Ворота, Маросейки и Мясницкие с вывесками немецких контор, Лубянская площадь в снегу, зеленоверхие башни Китай-города за Политехническим музеем. Они были дома, в родной стране, в сытной и покойной Москве, собиравшейся предлагать им свои дары.
Извозчики подъезжали к театру – ссаживали дам в шубах и капорах, мужчин в мерлушковых шапках. Ботики скрипели по снегу. Подходили и пешком, и все вваливались через хлопающие двери в вестибюль: сразу тепло, светло, нарядно.
Глеб забеспокоился. Ведь билета у них нет? Только номер ложи. Если Вера не приехала еще, то их не пустят…
Он подымался в бельэтаж с неприятным ощущением: вот они скажут, что у них такая-то ложа, капельдинер спросит билет – показать нечего… – он наверно подумает, что они пройдохи какие-нибудь, хотят в чужую ложу забраться.
Все это быстро пронеслось в голове, как легкий, но нерадостный пожар, так же быстро и угасло: да, Вера еще не приехала, но старик капельдинер с пробритым между бакенами подбородком, напоминая писателя Григоровича, не заподозрил их в самозванстве. Очень любезно отворил дверь ложи, снял ротонду Таисии, повесил на вешалку. Глеб успокоился, но не совсем. А вдруг Вера не приедет? Вот тогда и доказывай, что имел право на эти места!
Беспокойство Глеба было недолго. Благоухая духами, высокая, широкоплечая, Вера приехала вовремя – ни раньше, ни позже, чем надо. Уселась с Таисией Николаевной, выложила на барьер коробку конфет, прекратила все треволнения Глеба: никакой Григорович не властен теперь над ними.
Оркестр заиграл, свет погас. В верхних ярусах отворялись для запоздалых двери лож с балконов. Мелькали светлые прямоугольнички и захлопывались. Партер еще слегка кишел – струйками, но успокаивался. Романтический сумрак надвинулся: радость, обольщение театра.
Глеб сидел позади, перед ним Вера и Таисия. Иногда головы их двигались и рисовали какие-то узоры на оркестре, на нижней части занавеса. А потом занавес этот легко пошел вверх. На сцене полутемно. Можно, однако, различить древний восточный город, группы женщин в хламидах, мужчин. Опера началась. Надо было поверить, что это времена Юдифи, Олоферна. Кто хотел – верил, кто не хотел – нет. Глеб не думал об этом. Просто сидел, вдыхал в полумгле слегка застоявшийся, смутный запах театра, за хорами и иудеями не следил, понемногу вдавался в мечтательное, сладостное брожение. Куда оно направлялось? Этого и не мог бы сказать. Ничего он не знал о себе, ничего будто бы и не хотел. Две женские головы перед ним, попри-тихшие, внимательно музыку слушавшие, тоже его не занимали: это свое, обычное. Но из глубины шел зов к необычному и очаровательному, чего точно определить он бы и не мог.
Таисия нагнулась к соседке: «Верочка, где же Шаляпин? Вон тот высокий в плаще?» – «В первом акте Шаляпина нет. Успеешь увидеть. Это просто статист». Таисия скромно умолкла, покраснела: как с ней часто случалось, представилось, что сказала ужасную глупость. Но ее шепот безвестно потонул в скрипках, переливах хора, всех этих биениях рукою в грудь, запахиваниях хламид, подбеганиях, убеганиях. Шаляпина действительно еще не было. Но театр плел уже всю свою и наивную, мило-смешную, но и трогательную сеть.
Во втором акте Глеб не впадал уж в мечтательность. Таисия Николаевна не спрашивала, где Шаляпин: в шатре лежал на низком ложе Олоферн, борода смолянисто-курчавая, Олоферн приподымался на локте, обводил огромным подведенным глазом полную Юдифь, поправлял ожерелье, потягивался – и пел, конечно: разводил бархат свой несравненный. Вот он Шаляпин, волжский плод, в теплых объятиях Москвы растущий. Певчий из Казани, высоченный, с рыжеватыми бровями, почти белыми ресницами! А откуда же Восток, древность, ассиро-вавилонское? Олоферн потянулся-потянулся, да как вскочил, легким тигром, страшным и прекрасным, зашагал вдруг по ковру в шатре своем, поиграл мечом, попугал Юдифь – опять запел.
Слава Олоферна начиналась. После второго акта вой стоял в театре, треск рукоплесканий. С верхов сбегали вниз студенты, «чуткая молодежь», барышни. Лезли в проходы партера, орали, аплодировали: хотелось поближе протискаться к сцене, получше рассмотреть Олоферна.
Глеб чуткою молодежью не был, но, выйдя из ложи, попал в общий поток. Он сам был взволнован, улыбался, хлопал – в тон настроению театра, когда рядом хлопающие кажутся друзьями – все в одной радости.
«Глеб, и ты тут? – Глеб обернулся – сзади держала его за рукав Лиза, веселыми, смеющимися глазами на него глядела. – Вот хорошо! А правда замечательный Шаляпин?»
Глеб тоже ей заулыбался: «Ты что же, одна тут?» И только что это сказал, увидел за нею студента в синем пальто с золотыми пуговицами. Лицо его некрасиво, но мило, над невысоким лбом ровный бобрик, глаза маленькие, длинные усы, горизонтально в разные стороны слегка подкрученные. Тоненькая шея из воротника мундира, под мышкой папаха. Он яростно аплодировал, хоть и мешала суковатая дубинка – на ремешке висела над кистью правой руки. «Браво, Шаляпин! Браво! Та-щыть его сюды, качать зараз, пид потолок его!»
Лиза смеялась: «Разошелся хохол. Теперь не удержишь. Это знакомый мой один. Ну, Артюша, будет вам, вот познакомьтесь лучше с Глебом».
Ярила обернулся, лицо его расплылось улыбкой. Усы поехали вверх. Он пожал Глебу руку.
– Грищенко, Артемий. Третьего курса, медик. Очень рад! А как поет, сукин кот! По сцене як тигр ходить! Браво, Шаляпин, браво!
Лиза отошла с Глебом в коридор. «Первый раз слышит Шаляпина, впал в восторг. Он очень славный. А ты один тут?» Глеб сказал с кем. Лиза сделала хитрую лисью мордочку, подмигнула. «С тихонькой хозяйкой?» – «Брось, глупости! Все так не интересно»…
Антракт кончился. Лиза велела непременно приходить к ним на Арбат.
– С разными Таисиями да Мануриными по театрам ездишь, и к нам с Вилочкой можешь собраться. Моя Вилочка прелесть – вот увидишь.
Глеб обещал. В толпе мелькнули усы Артюши, он весело кивнул Глебу – разные потоки разнесли их – Лизу с Артюшей наверх, Глеб через три минуты был уже в своей ложе. «Ешьте, вот конфеты, для того и привезла», – Вера сидела вся в свету, высокая, прямая, опершись голым локтем на балкон, и ела. Таисия Николаевна рассматривала залу в бинокль: ей как будто покойнее было, уютнее за увеличительными стеклами.
Вера дожевала свою тянучку.
– Я после театра вас с Таисией к Тестову приглашаю. Расстегаев поедим, это будет дело.
Глеб не знал ни что такое Тестов, ни что такое расстегаи. Но принял вид равнодушия и спокойствия: ничем нас не удивишь!
Вновь свет погас, занавес поднялся. Вновь шатры на сцене, иудейки, хламиды, плащи, городские стены, мечи, хоры, много всякого добра, полагающегося в опере. И над всем один хозяин – Олоферн. Как ни распевал, однако, он, как ни гневался, ни ластился потом к Юдифи, дело его обернулось плохо. В последнем акте хитрая еврейка отрубила-таки ему голову – когда заснул. «Правильно, – сказала Вера, – голова отскочила, а сейчас он будет выходить на вызовы, кланяться публике».
Она не ошиблась. Чуткая молодежь вновь орала и аплодировала, самая чуткая наводнила партер и из опустелых первых рядов, бенуарных лож все звала, все звала любимца. Олоферн выходил – высокий и гибкий, тонкий, мягко-тигровый. Кланялся, прижимал руки к груди – так растроган.
Вера поднялась.
– Душенька, я Шаляпина очень люблю, но психопатничать не собираюсь. Есть, есть хочу, меня тянет в кабак.
Таисия спрятала бинокль, покорно собиралась. Но слово кабак не одобрила – не ее стиль. У нее вид был такой: «Что ж, Верочка со странностями, я ее с детства знаю. Какая есть, такую и примем».
* * *
Туман, мороз, у Большого театра два костра. Извозчики, кучера невообразимой толщины, городовые подпрыгивают, притопывают по снегу ногами, хлопают руками в рукавицах: холодно! Господа слушают оперы, в Малом театре смотрят Островского. А на улице пятнадцать градусов, того и гляди нос отморозишь или уши… три, три их! У кого башлык – и слава Богу.
Вера, Глеб и Таисия пешком пересекли площадь, мимо Охотного, отеля «Континенталь», мимо нотариуса Шереметевского. Прямо пред ними часть стены Китай-города, правее громада Думы, и вот подъезд Тестова.
Уже бы и подыматься по нехитрой лестнице, да Вера вдруг передумала.
– Бог с ним с Тестовым. Там одни обжоры. Пойдем в Большой Московский.
Еще несколько шагов, другой подъезд, наряднее. Ряд лихачей («Пожа-пожалуйте, купец, подвезу!»), есть пары на пристяжку – голубки.
В раздевальной сразу пахнуло теплом, светом, верхние одежды переплыли в услужливые руки, перед зеркалом дамы оправили прически. Во второй этаж подыматься по лестнице в красном ковре. Издали музыка. Прислуга в белом, носятся взад-вперед с блюдами, блистающими никелированными кастрюлями, из них вкусно попахивает: стерлядь кольчиком, вареный цыпленок, мало ли что еще.
Метрдотель поклонился, провел в залу. Двусветная зала Большого Московского не из маленьких. На хорах цветы, оркестр, тоже столики, но главная игра здесь.
Вера уселась, взяла карточку.
– Вот это ресторан так ресторан!
Таисия Николаевна устроилась скромно, но привычно: «Очень красиво, Верочка, только таких расстегаев, как у Тестова, не дадут». – «Неплохо будет, не думай». – «Я и не говорю, здесь тоже хорошо кормят, но покойный Михаил Акинфиевич ставил Тестова выше». – «Да, уж твой Михаил Акинфиевич любил покушать. А я хочу, чтобы нынче пошикарней было».
Глеб осматривался. Нарядно! Свет, музыка, духи, туалеты дам, сияние колец, сережек, шей московских…
«Человек» в белой рубахе, белых штанах подал ледяной, запотевший графинчик. Икра, горячий калач, вымоченная в молоке селедка с дымящимся картофелем – машина заработала.
Она работала здесь ежедневно и ежевечерне. Москва торговая, зажиточная и богатая кормилась и кормила Вера, Глеб, Таисия – случайные гости, не типические. Мало ли тут завсегдатаев, разных Бардыгиных и Гавриловых, Грибовых и Тарасовых, не говоря уже об именах всероссийских?
Вера пила водку спокойно. Таисия на нее поглядывала: «Не бойся, выпить могу сколько хочешь». Глеб тоже старался. Вера с ним чокалась. «Видите, это и есть Москва, Опера, Большой Московский…» – «Да, мне очень нравится». – «И Шаляпин понравился?» Понравился и Шаляпин. Значит, все, слава Богу, в порядке. Не зря выплыли.
За осетриною («америкэн, соус пикан») Вера говорила, что все это очень мило и приятно, но Москву она не любит. «Жирно, шумно, пироги, Замоскворечье». – «Как же так, – заметила Таисия, – Верочка, в Москве ведь настоящая Россия. Кто Москву не любит, тот, пожалуй, и Россию не чувствует». – «Ну, уж ты, конечно, со своей Таганки…». – «Вовсе не с Таганки. Я на Чистых прудах родилась, в Москве замуж вышла, в Москве овдовела. Да по правде сказать, вся моя жизнь в Москве прошла, не могу пожаловаться».
Вера налила ей еще белого вина. «Выпей и расскажи, но не впадай в чувствительность».
Таисия Николаевна отпила из зеленоватого бокала, посмотрела на нее ясным, серооким взором: «Я, Верочка, и не собираюсь никак впадать в чувствительность. Мало ли что там. Тебе одно нравится, мне другое».
Глебу показалось, что сказала она очень покойно, твердо – не уступала. «Да я ничего… Таисенька, я тебя не задевала. А тебе нравится это вино?»
Таисия вновь глотнула. «Вино хорошее, но извини меня, я предпочитаю послаще. Это очень сухое. Михаил Акинфиевич любил, чтобы я выпивала немножко Шато Икэм или Барзак». – «Да, разумеется, ты женщина, настоящая женщина. Тебе бы помягче, послаще». – «Ну ведь и ты не мужчина». – «Конечно. Но я одиночка, бродяга, так, какая-то личность, играющая на фортепиано».
Вера показалась Глебу сейчас странной. Показалась – и недолго он на этом задержался. Близкой она не была, не могла быть. Он очень благодарен, что она его вывезла, все отлично и сейчас весело, блестяще в этом зале ресторанном, и Таисия славная, но для него под всем этим он, он сам – все остальное украшение.
Несколько мужчин, дам вошли в зал, приостановились. Метрдотель низко кланялся, показывая рукой на угол. Голова – много выше других – высунулась из-за двери, что-то знакомое в легком, тигровом движении тела, повороте шеи. Но теперь ясно видно, какой блондин Олоферн с Волги, с рыжеватыми бровями, светлыми ресницами. Метрдотель продолжал приглашать к большому угловому столу. Атаман быстро оценил все глазом.
– Не могу же я, голубчик, в общем зале…
Произошло некоторое смятение, лысые головы, дамские шеи и прически обернулись к дверям: «Шаляпин, Шаляпин!»
Ватага повернула обратно – только раззадорила сидевших здесь.
Вера обернулась к Глебу.
– Ну, теперь до утра. Голову ему отрубили, а он в отдельный кабинет и сколько шампанского с этой Юдифью выпьет… Так, Глеб Николаевич, Таисенька, еще раз, за здоровье Шаляпина!
Она подняла бокал. Все чокнулись.
– У него слава большая. И есть и будет. – Вера будто даже задумалась. – Он назначенный к этому человек.
– Верочка, а я за тебя хочу, – сказала Таисия. – За твои успехи, и за твою славу. Не одному Шаляпину этим заниматься. Ты тоже развернись. Так, знаешь, прогреми за границей, возвращайся знаменитой пианисткой. Только тогда тебя в Гавриков переулок не затащишь.
– Слава, слава… Тут, братцы мои, что кому на роду написано, заказать нельзя.
Она говорила покойнее, даже мягче, задумчивей обыкновенного.
– Глеб Николаевич, а вы о славе думаете? Глеб удивился.
– При чем тут я? Какая там слава? Вера пристально на него посмотрела.
– Мне кажется, думаете тайно. Да ничего – думайте! Нечего прятаться. Я вот прямо говорю: я бы хотела славы.
Глеб улыбнулся, поднял бокал, слегка тронул им Верин. Она сказала спокойно:
– Но у меня славы не будет. Таисия Николаевна забеспокоилась.
– Таисенька, не тревожься. Я могу выпить сколько угодно. Все равно, – она говорила почти с раздражением, – славы у меня не будет, да и вообще из жизни моей ничего не выйдет. А за границу поеду, по пяти часов в день за роялем сидеть буду, и так именно надо, а Глеб Николаевич пускай свои стихи пишет.
– Я никогда стихов не писал.
– Все равно, какие-то там штучки… пишет, прячет, все таит, а потом вдруг выйдет, что написал целую повесть.
Глеб не знал, принимать ли всерьез, обижаться ли, нет ли… – все-таки не обиделся.
Вокруг стало просторнее. Кое-где на опустевших столиках потушили лампы. Вера под столом сунула Глебу сторублевую бумажку. Он был в ужасе. «А платить-то ведь надо? Мужское дело! Сдачу мне отдадите!» Таисия Николаевна улыбалась. «Верочка нынче нас угощает, ничего, ничего! Только вы счет проверьте, не приписали бы лишнего».
Глеб обещал, но когда счет подали, проверить ничего не смог: спазма смущения сдавила. Свободнее вздохнул только, когда вернул Вере сдачу.
А еще свободнее – возвращаясь в Гавриков, на морозе, при звездах, придерживая на раскатах Таисию Николаевну. Оба молчали. Глеб полон был собою, сегодняшним вечером, новым виденным, слышанным, пережитым.
Так продолжалось и дома в то время, когда при голубом своем фонаре, заперев дверь, смиренно разоблачалась Таисия Николаевна, тоже взволнованная. Именно вот тогда, менее всего о Таисии думая, вытащил Глеб свою тетрадку. Вера Манурина считает, что он пишет стихи! Никаких стихов, но что-то ему хочется записать, написать. Странно она сказала нынче о славе… Слава! Мурашки вдруг прошли по спине. Шаляпин, театр, аплодисменты…
Глеб развернул тетрадку, стал изливать в нее то, что в подобные же тетрадки изливали и изливают, будут изливать сотни юношей на распутьях жизни. Ему казалось, что лишь он, впервые, именно этими, а не иными словами, в одинокий час ночи изображает свои тяготы – «кровию сердца».
Заснул он не ранее четырех утра.
* * *
Около двенадцати в передней позвонили. Анфимьюшки не было, отворила Таисия Николаевна. Перед ней стояла дама невысокого роста, немолодая, в шляпе слегка старомодной со страусовым пером, в дорожном строгом пальто. И в ней самой показалось Таисии нечто прохладное, строгое, в карих больших глазах будто знакомое. Дама спросила, здесь ли живет Глеб. Таисия ответила: здесь. «Я его мать. Можно его видеть?» – «Ах, очень приятно… разумеется, можно, пожалуйста, входите. Он, кажется, еще не вставал, но это ничего, я постучу».
Мать вошла в переднюю, как в бастион неприятельской крепости. Таисия сразу заробела. Отворила дверь в столовую: «Будьте любезны, присядьте… я сейчас».
Мать вынула старинные золотые часики на тонкой цепочке, взглянула.
«Без десяти двенадцать. Что же, он спит?» – «Право, не знаю. Но из своей комнаты еще не выходил. Мы вчера очень поздно вернулись… моя родственница повезла нас на Шаляпина». – «Разве театры так поздно кончаются?» – «Нет, конечно, но потом мы попали в ресторан». – «А-а, в ресторан!»
Мать смотрела мимо Таисии. У той заколотилось сердце:
«Боже мой, какая я дура! Что же подумает матушка? Вчера очень поздно вернулись!»
Покойный Михаил Акинфиевич говорил о Таисии: достойная женщина, но не весьма сообразительная – он жену свою знал.
– Я сейчас постучу, Глеб Николаевич будет страшно рад. Выражение лица матери не изменилось. Она не нуждалась в том, чтобы от г-жи Милобенской узнать, что сыночка рад ее приезду.
И пока не весьма сообразительная г-жа Милобенская стучала в дверь к сыночке, робея приоткрыть ее – вполголоса, взволнованно объясняла кто приехал, мать сидела в столовой. Страусовое перо на шляпе поколыхивалось. Она рассматривала внутренность вражеской крепости: портреты Михаила Акинфиевича в черном сюртуке и белом галстуке, пианино, на котором играла Вера, в полуоткрытой двери – голубой фонарь. Угол хозяйкиной постели, уже убранной, почти нарядной. Мать слегка вздыхала. Театр, ресторан… какая-то Верочка… «эта» гусыня. Неудивительно, что он спит до полудня. Мать полузакрыла глаза. И вздохнула уже глубоко. А если они его спаивают?
Через несколько минут вышел и сам Глеб, в наскоро натянутой тужурке, еще не умытый, остроугольно-худощавый, но с тем нежным румянцем на щеках, что и есть юность. Мог он и поздно лечь, и волноваться, и чувствовать себя непонятной натурой, обреченной на одиночество и тоску, – но одного никак не мог бы убить в себе: юности, она выпирала изо всех щелей.
Нет, никто его не спаивал. Это все тот же Глеб, только в студенческом обличье.
– А-а, мама! Вот не ожидал! Он ласково ее расцеловал.
– Даже не написала ничего!
* * *
Мать вполне могла бы остановиться в квартирке Лизы на Арбате, но поселилась у Ечкина, на Неглинном. Она знала, что там останавливается отец. Раз отец – значит, хорошо. Комнатку же взяла самую дешевую. И на чай давала умеренно: незачем баловать прислугу.
Лизе сказала, что не хочет ее стеснять. Это было отчасти верно – мать смотрела на свою поездку как на некоторую научную экспедицию: исследование жизни детей. А для этого надо находиться в стороне, чтобы ничто не мешало.
У Глеба, Лизы бывала она постоянно, но не этим одним занималась: делала покупки – отцу, детям (меньше всего себе), по хозяйству (огородные, цветочные семена). «Непременно побывай у моей подруги Матильды Грелль, – весело говорил отец, провожая ее, – на Воробьевых горах, рядом с Ноевым. Пусть вышлет нам свеженьких прививок». Мать недовольно хмурилась: терпеть не могла легкомыслия – какая там «подруга»? Всего два-три раза и видел эту Грелль. Но отец был неисправим.
Первое неприятное впечатление от Гаврикова переулка прошло. Мать приезжала туда обедать с сыночкой, иногда вечером. Познакомилась ближе с Таисией Николаевной. В деле хозяйственном у них нашлось даже общее. «Нет, эта скромная. Ничего тут не будет», – так ее определила. Встретилась и с Мануриными – вежливо, но прохладно. Они ей не очень понравились. («Слишком много о себе думают. А дочь к тому же чудачка. Нет, это герунда»). Но и в них опасности не усмотрела.
А Глеб у нее на глазах жил, как полагается: рано вставал, отправлялся на Коровий Брод, слушал там лекции, чертил чертежи. Вечером совещался иногда с Сережей Костомаровым об учебных делах. Все это вполне естественно. Сережу мать знала еще по Калуге, сочувствовала ему – серьезный мальчик. Тоненький студент с капелькой пота на веснушчатом носу, оттопыренными ушами, был он и в Москве деловит, усерден. Иногда помогал Таисии Николаевне починить стул, перевесить портреты, склеить попорченную шкатулку.
В Глебе же одно не совсем матери нравилось: он как-то печален. Ведь вот и молод, здоров, условия жизни хорошие, впереди карьера. Отчего же у него такой вид, будто его давит что-то?
И у себя в спартански-монашеском номерке на диванчике, в сумерки, мать все о сыночке думала. Вот он и ласков, и мил с ней – упрекнуть не в чем, о себе же не скажет ничего. «Жизнь не стоит того, чтобы ею интересоваться» – такое или в этом роде постоянно срывается у него с языка. Но ведь это не значит открывать душу!
И мать переворачивается на другой бок, вздыхает: «О, Боже мой, Боже мой!»
Лизу нашла она в хорошем виде, но и о ней беспокоилась. Ах, это учение! Дома часами гаммы, в Консерватории уроки, разные сольфеджио, гармонии, контрапункты. А Лиза слабенькая – сколько в детстве хворала! При нраве веселом и даже насмешливом (в отца), всегда была жалостлива и нежна, всегда разные хромые цыплята, котята у ней. Мать считала: за Лизой нужен уход, опека, любовь. Кого-то, как встретит она в жизни? Вон у нее какие маленькие ручки, им приходится изо всей силы растягиваться, чтобы брать аккорды: Вилочка берет их легко, но ведь у ней длинные пальцы.
Так, отдумав о сыночке, мать надумывала о дочери, опять перевертывалась.
Когда же с ними самими бывала, то чувствовала себя лучше.
Однажды Глеб пришел в воскресенье к Лизе под вечер. Мать сидела за пианино, в передней услышал он вальс из «Фауста». Мать улыбаясь играла, как-то странно и по-старомодному пробегая пальцами по клавиатуре. Глебу вдруг ясно представилось, что это не Москва, а Усты, зима, ему лет восемь, Лиза девочка, мать в устовской гостиной играет эти: «Ах, скажите вы ей, цветы мои…» – и она гораздо моложе, спокойная и слегка улыбающаяся, меланхолически-мечтательная мать. А вот вальс оборвался, начался галоп – под него в Устах же преважно разделывали они с Лизой и Соней фигуры кадрили.
Глеб подошел, обнял мать сзади, поцеловал около уха: «Мама, Усты вспомнила!» Она обернула к нему тонкое, сейчас не такое важное, как обычно, лицо – полное любви и ласки.
– Да, сыночка, ты был вот еще какой маленький!
Она показала рукой невысоко от полу. «И кажется, бил иногда Лизу?» – «Нет, это уж ты на себя наговариваешь. Может быть, раз-другой… но в общем вы жили дружно».
Глеб здоровался с Вилочкой Косминской – худенькою, высокою девушкой, блондинкой, часто хмыкавшей носом. Из другой комнаты выглядывали усы Артюши.
– Мама, – спросила Лиза, – ты любила Усты? Мать улыбнулась.
– Мы жили там очень скучно.
– А нам с Глебом нравилось. Глеб, правда, там хорошо было?
Глеб ответил серьезно и как бы задумчиво:
– Лучшее время жизни.
Мать взяла Лизину голову руками, пригладила выбившуюся кудерьку.
– Слава Богу, вам хорошо было. Вилочка хмыкнула носом.
– Господа, чай начинаю разливать.
Мать поднялась, все двинулись в столовую. Усты, на мгновение выплывшие – для одних заря, для других заточение, – вновь канули, чтобы дать место другому.
А другое это – столовая. В студенческом синем сюртуке, с золотыми пуговицами, с бобриком на небольшой голове заседал уже там Артюша, пил чай с блюдечка и, подмигивая не то самому себе, не то всему миру, напевал:
Ай, грайте музыки, Натягайте басы.–начало песенки, продолжения которой лучше бы мать и не знала: впрочем, дальнейшего он при ней и не изобразил.
Чай вышел довольно веселый. Мать не стесняла. И сама нынче была в хорошем расположении: она с детьми, дети ласковы, молодежь тоже приличная. Мать раза два даже так рассмеялась, что Лиза бросилась ее целовать, пощекотала у шеи, как в детстве делала, в знак восторга.
Вспоминали опять Шаляпина. Рассказывали о нем матери. Артюша вдруг вскочил, присел на корточки и как бы в восторге три раза обернулся вокруг себя самого. Бешено крутил усы.
– Як на сцену выйде, як начне петь, то просто-таки… у-у, собачий сын, как поет!
Потом бросился целовать матери ручку, ухватил Глеба, с ним пытался танцевать. Вилочка краснела и улыбалась за самоваром. После чаю Лиза сыграла с ней в четыре руки увертюру «Кориолана». Мать слушала уже серьезно. Артюша тихо сидел. Ей приятно было – Лиза сделала большие успехи.
За ужином ели окорок, приехавший с матерью из Балыкова. Долгий путь – знатный гостинец. Чокнулись и наливочкой за здоровье матери.
– Дай, Боже! – сказал Артюша. – И почаще к нам в Москву наезжать. Глеб, за маменьку! Глеб, коллега! Я Университет, вы Техническое. Вместе и рядышком. У нас забастовка буде, то вы поддержите, у вас что-нибудь, то и мы тут как тут, зараз развернемся.
– Какая забастовка? – спросила мать. – Разве предполагается что-нибудь?
Артюша быстро взглянул на Лизу, будто смутился.
– Это я так… вообще. Никакой забастовки и нет, а я просто на случай… по-товарищески.
– Да, я что-то слышал, – сказал Глеб рассеянно, – будто у вас неспокойно.
Вид у него был такой: слышал да мало заинтересовался.
Разошлись в начале одиннадцатого. На углу Арбата и Староконюшенного Глеб нанял извозчика – завезти мать на Неглинный, а самому дальше, в Гавриков. Вечер был не холодный. Порошил снежок, не то метель, не то оттепель. Глебу было приятно ехать с матерью. У Ечкинского подъезда она его перекрестила, извозчик затрусил далее, по Трубе, где когда-то видел Глеб герольдов коронации, к Сретенке, Красным Воротам. Москва была уже тиха, пустынна. Деревней и метелью веяло с Рождественского бульвара, чем дальше ехал Глеб, тем более завозил его извозчик в темень, глушь ночи. «Ах, скажите вы ей, цветы мои…» – как мило мать играла, как все далеко, Усты, детство, счастье.
«Ну, во всяком случае прекрасно было».
В это самое время мать, раздеваясь в своем номерке, думала о другом. Через два дня надо уже трогаться. Вновь Балыково, сосны, думы. Вновь дети далеко. А сегодняшний вечер был очень приятен. Все-таки…
Что это говорил Артемий о забастовке? Какая забастовка? Из-за чего? А если и в Техническом, у сыночки??
Мать отлично знала, что ни в пользу и ни против забастовки ничего не могла сделать. Все же появилось ощущение, что чего-то она в Москве не доделала – пожалуй, самого главного. Опять она ворочалась. Заснуть было трудно.
II
Глеб сидел в чертежной над листом ватманской бумаги – подшипник глядел оттуда. Сережа с бобриком своим на голове, в веснушках, проводил на чертеже пунктир. В огромное окно сияло небо – весеннее уже, лазурь с кисейными облачками. На той стороне, за Яузой, деревья еще голые, по-мартовски острые – синяя пестрядь бежит от них по земле. Когда облаком прикроется солнце, все темнеет. Скучными становятся рыжие Кадетские корпуса. Анненгофская роща, направо, хмуро синеет соснами. Но опять прыснет светом – опять радость, трепет, струение.
В другое время Глеб взволновался бы весной, молодость заговорила бы томлением пронзительным. Но сейчас он в равнодушии подшипников, винтов, гаек. Вокруг юноши тоже не видят ничего, кроме циркулей и линеек. Все они делают так называемое дело, серьезны, внимательны. И это тоже называется жизнью – в некоторой прописи изображено: «молодые люди учатся, чтобы стать инженерами».
Стеклянная дверь отворилась, вошли три студента. Один постарше, нечисто одетый, с перхотью на воротнике – глаза серо-тусклые, волосы жирные. Спутник, розовый юноша с усиками, очень миловидный и складный, почтительно к нему обратился:
– Клингер, я думаю, здесь?
В руке у него бумажка, он указывает, где бы ее устроить. Тот, кого он назвал Клингером, ничего не ответил. Взяв бумажку, прикрепил к черной доске над кафедрой.
– Коллеги, завтра в три часа сходка – по предложению Университетского комитета, объединенного с нами и, советами землячеств. Все являйтесь. Надо выявить волю студенчества. Тут объяснено.
И так же быстро, как появились, все трое вышли в другую дверь – нечего разговоры разговаривать.
Головы поднялись от чертежей. Теперь трудно было бы сказать, что молодые люди учатся. Все именно перестали учиться. Один за другим потянулись к доске, образовали стайку: каждому хочется прочесть, что там такое. Глеб тоже подошел. Один Сережа Костомаров не оторвался от своего пунктира – запылай здание, он, покуда не жарко, чертежей не бросит.
– Это комитетчики. Клингер третьего курса. Связь с Университетом.
Глеб удивился: «Какие комитетчики?» – «Такие, забастовочного комитета, видите, тут написано». Глеб протиснулся к доске, прочел, что надо.
Бумажка грязно была напечатана, синеватые буквы гектографа кое-где сливались. «Комитетчики!» Глебу не понравилось слово: «Комитетчики!»
Он вернулся к Сереже. «В Университете волнения. Завтра нам предложат присоединиться». Сережа поднял голову. Его милые голубые глаза – давняя Калуга – выражали озабоченность. Левая рука придерживала на бумаге линейку, правую с рейсфедером он приподнял, но никак не забывал, что пунктир еще не доделан. «Куда присоединиться?» – «К Университету. Из чувства товарищества».. Сережа опустил глаза, продолжал свои точки и черточки: две черточки, точка, две черточки, точка. Он нанизывал их с усердием древнего миниатюриста. «Значит, нам предлагают бунтовать? Смешно!»
Неизвестно, что смешного нашел тут Сережа. Тон его был так простодушно-невозмутим, что на него самого можно было бы улыбнуться. Глеб, однако, не улыбнулся. Ничего не ответил. Нечто вошло в него острое, возбуждающее. Опять сел за стол, пробовал работать. Спокойствия Сережи не оказалось. «Комитетчики! Что за комитеты такие? Кто их устраивает?»
Домой ушел ранее обыкновенного. Пообедал один. В сумерки прилег у себя на диване. Они хотят бороться с правительством. Но бороться можно, когда есть надежда победить, хотя бы маленькая. А какая же тут надежда? Ни малейшей! Глеб чувствовал себя беспокойно. Что-то начинается, ясно. Надо понять, объяснить самому себе. Чтобы вышло по здравому смыслу. Но не выходит. Университетские студенты устроили демонстрацию. Нынче в раздевальной он слышал, что во дворе Университета сожгли кипу «Московских Ведомостей» – за что несколько человек арестовано. Ничего хорошего: сидят где-нибудь в участке, в грязи, с клопами. А может быть, и в тюрьме? Противно. Он им вполне сочувствует. Но разве их выпустят, если и мы забастуем? Конечно, нет. Посадят еще несколько наших – и тогда еще кому-нибудь – студентам петровцам, например, придется за нас заступаться.
Вернулась Таисия Николаевна, слышно ее торопливое ворошенье в квартире. Верно, что-нибудь убирает, переставляет. На раздавшийся вскоре звонок отворила сама. «Ах, это вы, Сергей Дмитрич». Да, Сережа. Сквозь полуоткрытую дверь Глеб слышит их разговор, тоже негромкий. «Я так вам благодарна, что вы вазочку склеили – отлично держится, а я уж думала, пропала: это память Михаила Акинфиевича». – «Очень рад, Таисия Николаевна, что смогу, всегда с удовольствием». – «Глеб Николаевич, кажется, заснул. Заходите лучше сюда, ко мне».
Глеб не спал, но не подал о себе вести. Лежа слушал спокойные голоса.
Вот взяли стул, переставили. Сережа влезает на него. «Так хорошо? Повыше?» – «Выше и чуть-чуть вправо. Да, теперь отлично». Молоток забивает гвоздь. «Вы знаете, Таисия Николаевна, университетские студенты начали бунтовать и нас подбивают. Завтра сходка». – «Неужели вы тоже присоединитесь?» Сережа слез со стула, вздохнул: «Я, конечно, нет. Мне надо чертеж кончать, работы еще порядочно, а тут забастовка. Но как другие, не знаю. Завтра решится».
Глеб перевернулся на правый бок. Ну, разумеется, если забастовка, то из всех этих чертежей усердных студентов ничего не выйдет. Какие там чертежи, зачеты? Ерунда! Глеб нельзя сказать чтобы успокаивался. Скорее, наоборот. И самый вечер, закат мартовский с Венерою, засиявшей в огне, только мучил. А если Сережа, и я, и другие все не сдадут чертежей, это тоже неважно. Он одновременно ощутил нелюбовь и к комитетчикам, и к добропорядочным юношам Императорского Технического, ко всем подшипникам, зачетам, пунктирам, своим и Сережиным треволнениям.
* * *
На другой день Коровий Брод не совсем на себя походил. По Немецкой, по ближним переулкам проезжали на сухих лошаденках казаки. Конные полицейские в черных шинелях занимали перекрестки. Появились жандармы.
В Училище – точно бы пред поднятием занавеса: странный дневной спектакль. Вот-вот действие и начнется, а пока молодежь снует по коридорам и лестницам. Нельзя сказать, чтобы было покойно. Не видать прежних профессоров – лысых, седых. Они в сторонке. А волнение, возбуждение в глазах худощавых юнцов в тужурках с вензелями на плечах, с усиками, проборами на головах – головы же начинены технологическою премудростью.
И здесь, и в Университете, и по всей России бурлят они сейчас, бегают, волнуются. Собственно, что случилось? Будто и ничего. Кто-то где-то повздорил с начальством. Но вода закипает внезапно, тогда, когда невидимые силы поднагрели ее.
Как и другие, Глеб оказался в большой аудитории. Со всех концов входили студенты. Огромные подоконники, радиаторы, низ кафедры, все полно. В разных углах задымили. Бумажки гектографа ходили по рукам, путаный, возбужденный концерт-гул со сложнейшей гармонией стоял вокруг.
Он попритих, когда у кафедры, пред черной доской появилась кучка студентов: техники, но с ними и университетские.
Застучали, шум смолк. Выступил студент в очках, слегка подслеповатый, с лысинкою, в мятой тужурке – и сам не первой молодости, и все на нем не такое юное. Говорил спокойно, точно читал лекцию. Рядом Клингер, дальше – вчерашний щеголеватый юноша и другие, Глебу не известные.
– Коллеги, студенчество Московского Университета обращается к вам с призывом поддержать наше движение, вспыхнувшее в связи с актами произвола и насилия правительства.
Глеб обернулся к соседу: «Кто это такой?» – «Вы не знаете? Евстафьев, один из старост университетских. Очень популярная личность». Глеб действительно не знал, чем известен Евстафьев и насколько он популярная личность. Но скромный его тон, близорукость, поношенная одежда не внушали неприязни. В чем состояли «насилие и произвол правительства», не совсем было ясно. Да и Бог с ними. Евстафьев упоминал о «реакционных профессорах», мешавших жить «студенческим массам». «Оплоты реакции» поддерживались «казацкими нагайками и городовиками». Против всех них и предлагалось выступить «единым фронтом всероссийского студенчества» – объявить забастовку.
Глеб слушал довольно холодно. Ближе сердцу было то, что какие-то студенты, сжегшие «Московские Ведомости», исключены из Университета и сидят под арестом – за них предлагалось заступиться. Если бы это рассказать простыми, человеческими словами, сочувствия было бы еще больше.
После Евстафьева говорил Клингер, все о том же, но грубее и резче. Холодные, судачьи его глаза не разгорелись, сальные волосы раздражали. Он добавил, что «студенчество Технического Училища, разумеется, присоединится. Не присоединиться могут только трусы и шкурники».
Эти слова вызвали волнение. «Вы задеваете несогласных с вами», – закричали сбоку. «Шкурники всегда прикрываются идеями», – ответил Клингер. Из дальних рядов крикнули: «Провокатор!»
Все повскакали, поднялся гвалт. Большинство аплодировало Клингеру. Но группа, теснившаяся вокруг плотного брюнета, стоявшего на подоконнике, упорно свистала. «Это оппозиция, – сказал Глебу тот же сосед, который осведомил об Евстафьеве. – Их лидер Андобурский».
Евстафьев звонил в колокольчик, юноша-адъютант с усиками старался изо всех сил, стучал, махал рукой – как бы только утихомирить.
Наконец, Евстафьев смог произнести:
– Слово принадлежит коллеге Андобурскому.
Опять поднялся шум. Часть аплодировала, большинство свистало и кричало: «Белоподкладочник, долой!»
Андобурский скрестил руки на груди, не без вызова, и выжидал. В элегантной тужурке, белом крахмальном воротничке, с самоуверенным взором черносливных глаз, походил он на молодого инженера. (Глебу смутно вспомнился калужский Александр Иваныч: «Вам предстоит широкая дорога – железная»). Когда чуть стихло, начал:
– Господа, меня удивляет самая постановка вопроса. Смелость одних, якобы трусость других – это чистейшая демагогия. Нас хотят запугать словами.
– Долой!
– А между тем дело не в наших качествах, а в разумности или неразумности предлагаемых действий.
Андобурский был слегка бледен, но говорил уверенно. Видно, что говорить умел и любил слушать себя. Баритон его, с тем же черносливно-влажным оттенком, что и глаза, рокотал ровно. Его прерывали противники, аплодировали ему сторонники.
Ни баритон Андобурского, ни осанка, ни довольно полный зад не понравились Глебу. А говорил он почти слово в слово то, что и сам Глеб думал. Конечно, ничем они товарищам не помогут. Училище только закроют. Если же не закроют, то часть студентов будет ходить на лекции и в чертежные. Многих зря повыгоняют, пропадет год работы… «Он совершенно прав, – шепнул рядом Сережа. – Глеб, мы с тобой то же самое говорим».
Глеб помалкивал. Андобурский кончил под свистки, аплодисменты. После него выступали еще другие – одни за забастовку, другие против. Глеб все более нагревался. Ни та ни другая партия ему не нравилась. А дело существенное – это он чувствовал. И как всегда – чувствовал, что сам должен что-то решить, сделать, оно и будет лучшим. Ему казалось, что он поступил бы и сказал разумней Клингера, разумнее и Андобурского.
Аудитория распалялась. Среди комитетчиков, взволнованных, распаренных, вдруг увидел Глеб длинные усы Артюши, его университетский мундир и дубинку на ремешке – видимо, Артюша явился с запозданием. Пахнуло домашним – Лизой, Вилочкой, Арбатом. Глеб сразу ощутил, что должен высказаться. Вскочил, пробрался к кафедре. Измученный Евстафьев пытался навести порядок, но трудно было: говорило уже сразу двое. А тут еще Глеб просил слова. Артюша дружественно ему закивал. Евстафьев крикнул Глебу в отчаянии: «Коллега, вы же видите, что происходит! – И потом, в безотзывное пространство – Коллеги, довольно! Президиум считает вопрос исчерпанным». Глеб перебил: «Нет, почему же, я тоже могу предложить…» Как и многие, Глеб искренно думал, что вот именно он и скажет вполне правильно, но никто уже ничего не слушал, все орали каждый свое. Белобрысый студент рядом с Глебом кричал, что бастовать надо для того, чтобы добиться от правительства конституции.
Глеб раздражился: «При чем тут конституция?» – «А при том, что царизм надо свергнуть». – «Это глупо, разве мы сможем свергнуть правительство? И для чего?» Белобрысый студент крикнул, что поддержат рабочие массы. Глеб долдонил свое – нечто вроде того, что надо ходатайствовать за арестованных студентов – сооральник вполне возмутился: не просить, а требовать. И вообще так могут рассуждать только белоподкладочники и шкурники. «Маменькины сынки, боитесь бастовать, на второй год остаться, чертежей своих не дочертить…» – «Я никакой не маменькин сынок и ничего не боюсь». Белобрысый продолжал громить врагов, принявших для него облик Глеба. Глеб побледнел, у него затряслись губы, перехватывало в горле. Припадки такие он знал – еще минута, еще градус, и он просто вцепится в воротник этого болвана – как некогда, ребенком, сражался с Юзепчуком. «Шкурники все говорят, что не боятся, а дойдет до дела, и в кусты». – «Я не шкурник…» Но белобрысый гремел уже что-то другому, а с кафедры подхихикивали Глебу глазки Артюши. (Вот-вот того и гляди пустится Артюша в самую неподходящую минуту в пляс. Гоп, мои гречаники, гоп, мои…)
Все же наступило голосование. За забастовку – против.
Бледный, злой, Глеб видел тоже бледного Андобурского во весь рост на подоконнике, к нему жались сочувствующие. Большинство теснилось к кафедре. «Я шкурник? Я боюсь чертежей и остаться на второй год?» Если бы Глеб в эту минуту был покойнее, он бы честно признал, что ему вовсе не хочется ни терять года, ни быть высланным – тем более, арестованным. А-а, но если он «шкурник», у которого нет никаких благородных порывов, который ничем не пожертвует для сидящих в тюрьме товарищей и только трепещет – тогда наплевать, вот именно он и покажет, он и докажет… Ничего он не боится.
Когда началось голосование, Сережа Костомаров, пробравшийся к Андобурскому, с изумлением увидал, что Глеб поднял руку – «Да, быть забастовке» – близ самой кафедры. «Что с ним такое? С ума сошел?»
* * *
Глеб с ума не сходил, но забастовку поддержал. Если бы и не поддержал, она прошла бы: большинство было за нее. И аплодировало своей победе. Враги отступали. Андобурский взывал еще с подоконника, но уже тщетно. «Коллеги, – крикнул Клингер, – забастовка начинается немедленно. Комитет сообщит профессорам. Студенчество не пойдет на лекции! Студенчество не должно ходить в чертежные, лаборатории. Мы клеймим именем шкурника того, кто нарушит волю студенчества».
Так как Глеб стоял у кафедры, Артюша без труда протиснулся к нему, обнял. «Я ж так и знал, что вы с нами! Молодчина, настоящий студент! Мы им теперь укрутим хвоста!»
Кругом молодые, возбужденные лица. На многих тоже уверенность, что вот кому-то там («наверху») укрутят хвоста. Одним словом, праздник!
Глеб точно бы перескочил через что-то – прыгнул и теперь летит, как во сне прыгают с четвертого этажа: легко, приятно и не расшибешься.
Артюша подтащил его к Евстафьеву, представил. Евстафьев добродушно улыбнулся, отирал платочком пот с лысины. Глеб чувствовал, что уж он здесь свой, в каком-то потоке, молодом и бурном. Подходили студенты, точно уж давно знакомые, чуть ли не друзья. Даже Клингер не так показался неприятен.
– Коллеги, в чертежную! Выбирать старост, десятских!
Через несколько минут Глеб в чертежной. Вот он в самом ядре, это ближайшие забастовке люди, здесь в несколько минут выбраны старосты, налаживают и десятских. У каждого свой десяток, десятский должен обходить подвластных, убеждать, чтобы держались твердо, объяснять смысл забастовки и так далее. «Коллега, вы согласны стать десятским?» Глеб замялся: «Сумею ли…» – «Тут уметь нечего, надо быть убежденным и не бояться. Шкурникам, белоподкладочникам мы и не предлагаем».
Какой же Глеб шкурник? Или белоподкладочник? Кто посмел бы это подумать? И хотя он не уверен, удастся ли ему… у него нет опыта… – но уже поздно. Он серьезный студент, «сознательный», «нам такие именно нужны».
Недалеко столик, где распределяют десятских. Пришлось подождать в очереди. Бритый студент в пенсне, довольно строгий, записал его адрес в целую колонку других. Самому же ему дал бумажку, на ней десять фамилий, тоже с адресами: подчиненные его, подопечные. Он пастырь, они овцы. «Не забудьте, центр связи – коллега Клингер. Немецкая, дом Шапошникова». Глеб понял – у Клингера главный штаб, туда надо являться, сообщать о десятке, получать указания.
Пока же дела никакого. Глеб спрятал свою бумажку, потолкался в толпе, вышел из Училища. Студенты тоже расходились. Теперь все здесь умолкнет, а если кто-нибудь попытается прийти – на лекции, в чертежные, – то особые группы будут стеречь: не пустят.
Странно все, странно. Вот проезжают на рыжих лошадях синие жандармы. Два часа назад это просто были жандармы. Теперь враги. Враг будет и Сережа Костомаров, с которым вместе учились в Калуге – если вздумает взяться за свой чертеж. А друзья – Артюша, Евстафьев, Клингер… еще разные. Ну, а этот его «десяток»? Фамилии все незнакомые. Он должен их убеждать. Убедит ли? И как это делается? А если они вовсе не хотят ни бастовать, ни поддерживать, ни бороться с правительством? Все равно. Надо пробовать. Трусов-то и маменькиных сынков всегда достаточно. И при этом бастующие заступаются за арестованных товарищей.
Домой пришел он в некотором возбуждении. «Забастовка-то прошла», – сказал Таисии Николаевне. «Прошла?» – «Огромным большинством. Чертежные, аудитории, все закрыто». Таисия Николаевна взглянула на него с осторожностью. «И что же, долго будете бастовать?» Глеб нервно улыбнулся: «Не знаю, ничего не знаю». В улыбке его была и черта таинственности: как один из главарей, он ничего не мог разглашать – мог знать (но не знал), а молчать должен. Да, не совсем он теперь тот Глеб, что прожил уже восемнадцать лет на белом свете, занимался рисованием и акварелью, и вот в дневники что-то начал записывать.
После обеда дома оставаться не захотелось. Он взял записку с адресами. «Сюда зайду, около Разгуляя… а тут на Новой Басманной какой-то Судаков – и к нему…» Остальные в других направлениях: на Немецкой, на Камер-Коллежском валу, где-то около завода Гужона, на Золоторожской… Нет, туда сегодня не хочется, это такие трущобы. Завтра. А с Новой Басманной можно на конке проехать в центр, там пешком до Арбата – сразу представилась светлая квартирка Лизы в четвертом этаже: свое, родное.
Адрес около Разгуляя нашел Глеб скоро. Солидный дом, хорошая лестница. Отворила нарядная горничная – молодого барина нет дома. Ну, что же поделать. Вечером? – Лучше уж завтра утром: вернее.
На Басманную Глеб прошел пешком, в настроении бодром. Странно, конечно: ходит по незнакомым… – проверяет, научает? Во всяком случае, ни на что прежнее не похоже.
Судаков оказался немолодой одинокий студент угрюмого вида, снимавший комнатку «во дворе во флигеле». Принял Глеба хмуро. На столе лежало «Сопротивление материалов», развернутое на 59-й странице. Стоял стакан недопитого чая. В комнате серо, накурено, кровать под коричневым одеялом, на стене гитара. Судаков сразу же, решительно отказался. Нет, нет и нет. Довольно с него. Из Технологического выгоняли, из Межевого… – теперь пора и учиться. Покорно благодарю. Он даже взволновался, плохо бритое его лицо покраснело: «Можете меня считать за шкурника, за кого угодно…» Глеб растерялся. «Нет, что вы… тут свобода мнений… мы никого не принуждаем».
Вышел в настроении смутном. Свобода мнений… Но, конечно, он и убедить его не сумел, даже не пожелал. Десятский! Это и есть его занятие? Слава Богу, на сегодня довольно. К Лизе!
Медленно ползла конка по весенним улицам Москвы. Около Университета стало попадаться больше студентов – бродили они не совсем обычно: кучками. Кое-где проезжали казаки.
У Лизы отворила дверь Вилочка. Увидев Глеба, слегка вспыхнула, хмыкнула носом – нос тотчас покраснел. Лиза играла на рояле. Рядом сидела высокая, довольно полная девушка в мелких светлых кудрях. Она следила по нотам и перевертывала страницы…
Лиза Глебу обрадовалась. Музыка прервалась. «Вот хорошо… Я как раз о тебе думала. Ну, как ты? Что у вас там в Техническом?» – Глеб поцеловал ее: «Мы бастуем, тоже». – «Я так и знала. Да, вот познакомьтесь – Лера, это мой брат Глеб».
Глеб поклонился. Лера не спеша протянула ему руку. Стройное, но и пышное ее тело плавно двинулось. Она была в голубоватом легком платье. Очень большие, шелковисто-серые глаза, прозрачные и покойные. И волосы ее легкие, самовольно и круто вившиеся, вольно произрастали.
Музыка не возобновилась. Разговор сразу перешел на события. Лера сложила ноты. Слушала, но не вмешивалась.
Глеб попал здесь вполне в тот же воздух, что и в Техническом. Лиза и Вилочка были за студентов, за забастовку. Лиза особенно волновалась. «Ты знаешь, это такое насилие правительства… они сожгли „Московские Ведомости“, а их за это в тюрьму… и говорят, полиция избивает. Могут в Сибирь сослать». У Вилочки покраснел нос. «В Сибирь не в Сибирь, а некоторых наверно выгонят. Смотри, Лиза, как бы не Артемия».
Глеб сказал, что сегодня видел Артюшу – он пока цел. Лиза опять заволновалась. «Да, но ты знаешь, он ведь в самом пекле. В Университетском забастовочном комитете. И он такой горячий…» – «Я тоже в Комитете, – скромно сказал Глеб. – Не в центральном, но у нас в Училище».
Скромность была не вполне скромная. Глебу очень нравилось предстать пред барышнями в виде воина. Он даже слегка задохнулся – и лавр сорвал. Вилочка пробормотала: «Разумеется, настоящий студент и не может иначе».
Лиза весело тряхнула челкою – будто в треволнениях за Артюшу ее утешало поведение Глеба.
– Ты всегда был такой консерватор… А теперь вместе со всеми, отлично.
Лиза не договорила, но могла бы добавить: вместе с Артюшей и его друзьями – с истинными борцами за прогресс и просвещение.
Лера сидела покойно. Незаметно, чтобы участие или неучастие Глеба и Артюши в забастовке сколько-нибудь ее занимало. Она поднялась.
– Значит, мы в четверг будем разучивать эту арию? Лиза рассеянно ответила:
– В четверг… да. А почему же вы уходите?
– Maman будет ждать. Она такая нервная. И кроме того, она говорит, что теперь скоро начнется бунт.
Лиза и Вилочка засмеялись, как две вполне современные и прогрессивные барышни.
– Ах, Лера, как это ваша maman еще пускает вас сюда? Лера тоже засмеялась – довольно милым, как Глебу показалось, смехом.
– Maman и боится, это верно. Но я утешаю ее тем, что мы кроме музыки ничем не занимаемся.
Глеб пожал на прощанье ее руку – нежная, как бы тепло-пахучая волна прошла по нем. Он улыбнулся – не зная чему. Лера тоже улыбнулась – плавной походкой своею ушла.
– Она немного поет, – сказала Лиза. – Мы ей аккомпанируем иногда. Дома у них скучища, вот она к нам и ходит. Maman, papa… смешные. Он председатель суда, по гражданскому отделению, а мать такая… знаешь, в кудряшках, на овцу похожа. Тонная дама, с французскими фразами. Государь Император, визиты… Но не шикарные совсем. Живут в небольшой квартирке, на Волхонке.
– Мать дура ужасная, – добавила Вилочка. – Впрочем, и Лера не далеко уехала.
Лиза улыбнулась.
– Ничего, мы к ней привыкли. Да и держится она с нами очень мило.
Глеб посидел у них, но недолго. В передней Лиза поцеловала его.
– Глеб, а если тебя арестуют? Вилочка вспыхнула.
– Лиза, не каркай.
Глеб с видом философа надел студенческую фуражку – что же, чаша с цикутой не так страшна.
– Арестуют так арестуют. Значит, судьба.
С тем и ушел. И неторопливо направился по Арбату, мимо Николы Явленного, Арбатскою площадью, по Воздвиженке к Университету. Мартовский закат пылал за Дорогомиловом – один из романтических закатов Москвы, весеннее ее сияние, не в первый раз сиявшее, Глебом в первый раз принятое. Московские закаты, юность, треволнения! Вот он шагает по Воздвиженке, близок угловой «Петергоф», направо, за стеной, Архив иностранных дел, в розовом небе голы еще ветви тополей в саду его. Прямо подъем в Кремль, Кутафья башня, в Кремле слепительно горит стекло в здании над стеной. Горят золотые купола, кресты. Там, правее, за Моховой Волхонка. Там именно эта Волхонка с maman, тесной квартирой, юристом-отцом.
А надо сворачивать влево. Пройдешь мимо нового Университета, на углу образ св. Татианы с лампадкою, украшает он полукруглое здание. На той стороне Манеж – низкий, тяжело-неуклюжий. Сюда загоняют бунтующих студентов – кроткая великомученица прямо на них смотрит. «Арестуют так арестуют», – сказать пред барышнями легко, а собственно, радости нет. Какая радость? Вот так бы идти, мечтательным вечером, задумчивым юношей – это дело. А сесть в тесноту, за решетку, в компании Клингеров, других разных?
Стало тоскливо. Ах, как все странно! Завтра опять ходить по десятку, звонить у неизвестных подъездов, разговаривать с людьми, которые, может быть, вовсе не желают тебя видеть?
Все равно, взялся – мудрить поздно. Глеб вскочил на конку – не торопясь, погромыхивала она в края Гаврикова переулка.
* * *
«Молодой барин» около Разгуляя оказался изящным юношей. Он встретил на следующее утро Глеба любезно, во всем с ним согласился – будто остался даже доволен, что не надо ходить на лекции и в чертежные: да, он тоже за забастовку! Если бы Глеб знал, что зимой занимался он преимущественно бегами и опереткой, к экзаменам вовсе готов не был, сочувствие это еще менее удивило бы его. Вот и белоподкладочник, а поддержал.
От него Глеб отправлялся по другим. Кого заставал, кого нет. Большинство забастовке сочувствовало. Глеб держался серьезно, говорил везде приблизительно одно и то же и с каждым новым повторением оно меньше ему нравилось. Он был согласен с тем, что говорил, но хотелось ли ему говорить, кого-то убеждать? Да и слова, которые произносил, – принадлежали ли именно ему? Был ли он сам сейчас вполне Глебом?
Вернулся домой в настроении смутном. Поел один, зашел к Клингеру. Табачный дым, суета. Дали еще новые адреса: «Коллега, потрудитесь обойти и этих» – значит, опять шатание… Вот так день! Будто и наполненный, минуты свободной нет. Да… но все-таки…
Таисии Николаевны вечером дома не оказалось. И Сережа не заходил. Ну, да что же Сережа, Таисия – это обычная жизнь, каждодневная, а теперь началась новая, новые люди, иной воздух, вот и он сам чем-то другой.
Ночь спал неважно – нервно, все просыпался, все щемило что-то сердце. Вспомнил мать, Балыково. Вот где сейчас покойно! Мать раскладывает пасьянс, отец набивает папиросы. Пожалуй, началась тяга…
Встал мало отдохнувший. После кофе опять тронулся. «Обойду этих – и будет. Что это, правда, подряд взял?»
Идти довольно далеко – на Золоторожскую. В неприглядном домишке отворили не сразу. Вышел студент в пенсне, косоворотке, встревоженный, недовольный. В полуоткрытой двери, в глубине, мелькнули профили в пиджаках и тужурках – синий табачный дым, как вчера у Клингера, окурки. Дверь быстро захлопнули.
Глеб объяснил цель прихода. «М-м, вас послали?» – «Да, вот ваш адрес». Хозяин сжал узкие, сухие губы. «Вижу. Болваны!» Глеб не знал что сказать. Но неприятно себя чувствовал. «Может быть, это ошибка?» – «Не ошибка. Разумеется, я Кропотов. Но скажите посылавшим вас, что они ослы. К Кропотову с такими глупостями не посылают! Вы первокурсник? Ну, конечно, вы и ни при чем, а они должны знать…» Тон его был такой, что вот полный генерал получил бессмысленную бумагу от каких-то прапорщиков. Как же не возмутиться! «А теперь, извините, я занят».
Глеб вышел несколько раздраженный. Какой-то знаменитый Кропотов, матерый волк революции, с которым первокурснику и разговаривать невозможно! Пожалуй, он сам вроде вождя, заместитель или председатель, а к нему разлетелись. И что это за подозрительные субъекты у него? Тайное заседание?
Для следующего адреса надо было пересечь пустырь – здесь называли его Плац. Вдали Анненгофская роща, справа завод Гужона – там делают гвозди, катают рельсы. А на плацу никого. Глеб шел тропкой, завод гремел вдали, но это не было милое Людиново. Ни леса, ни озера! Пустыня, вагонетки, шлак. Визжит железная пила, дым валит из огромной трубы. Стеклянная крыша мастерской осветилась снизу: выпускают расплавленную сталь.
Опушка рощи – песочные ямы. Вроде пещер. Валяются пустые жестянки, клочья газет. Сосны гудят. Темные типы бродят здесь вечерами – женщинам лучше подальше от этих мест.
Тропка вывела, наконец, начавшимися огородами, близ какой-то ограды, не то кладбищенской, не то церковной, на мост. Внизу дорога. Тут опять окраина города – домики. И застава.
Глеб сел на перила моста. Теперь сзади, там вдалеке и завод Гужона, и Кропотов со своими заговорщиками. Вдаль, за город идет шоссе. Более знаменитое, чем Кропотов. Владимирка! Глеб знал, что это такое, но сегодня в первый раз увидел. – обыкновенное шоссе, правее Анненгофской рощи. И так вот сотни верст, по нему пешочком, с кандалами на ногах, в Сибирь! Кандалы звякают, конвойные идут, тянутся лесочки и овраги.
Что за мрачный край, лачуги, ямы Анненгофской рощи, унылый постоялый двор у заставы: там узенькие бочки для вывоза нечистот, «тараканы». Около них копошатся убогие золотари.
Глеб соскочил с перекладины. Почему он тут, хмурым утром, с тучами и воронами, заводом Гужона, свистками паровозов Курской дороги? Задворки Москвы, Владимирка… – ни луча, ни просвета! Что такое? Что за занятие? Вновь идти, по какому-то еще адресу, разыскивать еще одного студента? Какая ложь!
От Измайловского зверинца трусцой возвращался в город по Владимирскому шоссе извозчик. Пролетку потряхивало. Она миновала прибежище тараканов у заставы – на мосту худенький молодой человек в форме Императорского Технического крикнул:
– В Гавриков переулок! Полтинник! Извозчик остановился.
– Пожалуйте.
* * *
Ну вот, опять своя квартира, коридор, комната. В кухне копошится Анфимьюшка. Таисия Николаевна вышивает в столовой. Нехитрый очаг, но мирный, с ним, отчасти уже сжился – никаких Кропотовых и Клингеров.
Нет, больше никуда не идти, ни с кем не разглагольствовать. Бастуют, не бастуют, Бог с ними. В Училище он не пойдет, к Клингеру тоже – просто будет пережидать: чем-нибудь все это да кончится.
После обеда Глеб даже заснул, в первый раз теперь очень покойно, будто в маленькой комнате с белыми занавесками дома в Балыкове.
Он провел так, в тишине и отдыхе, два дня. Записал кое-что о том закате, когда шел от Лизы по Воздвиженке. Пробовал изображать словами цвет облаков: не то, чтобы удалось, все же приятно было вновь пережить тот вечер, из-за облаков виднелась и Лера с нежно-электрическими кудреватыми волосами, мягкостью, полнотой легкого тела. Вспоминая о ней, Глеб улыбнулся.
Заходил и Сережа. Глеб с ним был мягок, приветлив. О забастовке почти не говорили. Никаким врагом для него Сережа не оказался, напротив, чувствовал он его более своим, чем ранее, калужским. Даже Таисия Николаевна стала ближе. И когда предложила сыграть в преферанс, Глеб охотно согласился. В комнате ее, под голубым висячим фонариком Глеб, Сережа, хозяйка мирно записывали мелками на зеленом сукне Михаила Акинфиевича, сдавали, назначали игру. Можно было подумать, что нет ни забастовок, ни комитетов, ни землячеств. Россия тихо похрапывает.
Однако, на другой день Таисия вошла в комнату Глеба озабоченная.
– Ах, знаете, как все это выходит неприятно…
– Что такое, Таисия Николаевна?
– Да уж все, главное…
Нынче она не робела, усевшись, смотрела на него взором пристальным, почти материнским.
– Глеб Николаевич, скажите, вы ведь в этом… в бунте тоже принимали участие?
Глеб улыбнулся.
– В забастовке?
– Как хотите называйте, все-таки против правительства.
– Да, принимал. Но перестал принимать. Видите, сижу дома.
– Теперь дома, а тогда… Ну, конечно, сгоряча. Я ведь постарше вас, многое понимаю. И не хочу там осуждать или спорить, а для вас получается, все же, не так выгодно.
И тем же серьезным, обеспокоенным тоном рассказала Таисия, что сегодня встретила кума, приятеля покойного Михаила Акинфиевича. Он пристав их части. «Кума, говорит, я вам по старой дружбе: насчет вашего жильца. Ведь он в Комитете! К нам все ихние списки попали и такое распоряжение: у всех обыски произвести, кого арестовать, кого нет, смотря найдем ли что при обысках и на каком кто счету у полиции… Расспрашивал о вас, я, разумеется, с лучшей стороны отозвалась, но обыск все равно будет, так приказано. Глеб Николаевич, очень вас прошу, если есть что, уничтожьте или мне передайте, я спрячу».
Глеб поблагодарил. Нет, ничего нет. Ну, тем и лучше. «Никита Степаныч сказал, что, конечно, уж потревожат ночью».
Когда Таисия вышла, Глеб все-таки стал перебирать веши. Уничтожил адреса своего десятка, сжег и две-три бумажки, напечатанные на гектографе. По наружности старался быть покоен, даже пред самим собой. Но покоя не было. Обыск, полиция… – бесславный конец странного его занятия последних дней.
Эту ночь мать спокойно спала в Балыкове, сном не крепким, но не смущенным: ни она, ни отец понятия не имели, что в Москве беспорядки, беспорядки в Техническом – и всего меньше могли бы поверить, что сыночка сам в них участвует. А представишь ли себе, что глухой ночью, в четвертом часу, квартальный Савелов, помощник Никиты Степаныча, с двумя городовыми и прыщавым «сотрудником» (в штатском), звонят в сыночкину квартиру, входят и прямо идут к Глебовой комнате?
Никита Степаныч не пожелал явиться к куме. Савелов был заспанный и недовольный, тощий и невнушительный полицейский, из непреуспевающих. Вяло сидел в Глебовом кресле, просматривал его паспорт, документы. Сотрудник выворачивал письменный стол, рылся в книгах, перелистывал их. Скучно горела лампа. Глеб, бледноватый, с натянуто-надменным видом готов был каждую минуту возражать, защищаться, если бы его задели. Но никто не задевал. Никому даже интересен он не был.
«Сын горного инженера… Симбирское дворянство… переведен и приписан к Калужскому, окончил Реальное училище первым…» – Савелов зевал. Третью ночь приходится возиться с этими обысками, шататься по разным студентам. «И чего они лезут? Выросли барчуками, маменькиными сынками, выходить должны в инженеры. Папашка, небось, тысячи загребает, вроде нашего Никитки. Ну, у того жалованье, а наш прохвост купцами кормится да бандершами. Эх, жизнь!»
В шесть все кончилось. Листки писем валялись на полу, газеты. Книги – все вверх дном. Ящики стола выдвинуты, комод раскрыт, перерыта постель. И Савелов и сотрудник понимали, что искать нечего, все же стиль сохранить надо было.
С собою не увели. Но взяли подписку: о перемене жительства должен сообщить.
Через два дня Императорское Техническое было открыто. Полиция охраняла входы – ничего не осталось от пикетов забастовщиков. Сережа тотчас отправился кончать чертеж. Из вывешенного списка он узнал, что вместе с другими «зачинщиками забастовки» Глеб из Училища исключен.
III
Таисия чувствовала за Глеба ответственность. В ее доме молодой человек должен произрастать солидно. «Из хорошей семьи» – тем более. Правда, Глеб за зиму не разочаровал ее – но вот теперь какая история! Что подумает его матушка? И не выйдет ли, что и она, Таисия Николаевна, в чем-то виновна? Не досмотрела! Подумать: полиция, обыск… У нее в квартире. Какая неприятность! Конечно, он не ребенок, и вот товарищ-то его сразу понял, чего стоит вся эта забастовка. Но… – перед родителями будто и она в ответе.
Правду говоря, Глеб и сейчас удивил ее. Со странным спокойствием, точно и не о нем речь, заявил:
– А знаете, ведь меня исключили. Она ахнула.
– Что же вы теперь будете делать? Последовал знаменитый российский ответ:
– Ничего.
– Может, прошение подать? Кто-нибудь бы похлопотал у начальства… передумают, простят?
Простят! «Достойная женщина, но не весьма сообразительная», – говорил покойный Михаил Акинфиевич – более сообразительная такой вещи никогда Глебу не предложила бы.
Он, разумеется, не так уж был и покоен. Выгнанный студент! Раньше и в голову не приходило. Но надо держаться, показать нельзя. Жаль ли самого Училища и дела? Нет, нисколько. А учиться надо, что-то делать надо. Глеб молчал, скрывал, томился. Отец любил выражение: «Недоросль из дворян». Вот он теперь и есть такой недоросль.
Домой написал письмо равнодушное, ясное. Была в Училище забастовка, как и другие, он не ходил, его исключили. (Ничего особенного! Исключили и исключили).
Отправляя послание, меньше всего думал о том, какое впечатление произведет оно на родителей. Родители – нечто общеизвестное, главное их занятие – любить Глеба, помогать ему в жизни, устраивать, налаживать. Родители созданы для его благоденствия – это бесспорно. Сами по себе они значения не имеют.
Опустив письмо в ящик, отправился на Арбат. Лизу застал в треволнении. Увидев его, она чуть не заплакала, обняла, поцеловала.
– Ну, слава Богу, хоть ты цел. Вилочка сказала довольно твердо:
– Знаете, ведь Артемия взяли.
Лиза отошла к окну, глаза ее налились слезами.
– Это такая жестокость… они сидели в Манеже… с ними так грубо обращались… а теперь… разослали по тюрьмам в провинцию.
Дальше говорить было трудно. Лиза не любила плакать на людях, выскочила в спальню. Вилочка относилась покойнее.
– Все волнуется. Бегает по разным жандармам, охранкам, в Университете разузнает. Артемия с целой партией отправили в Нежин. Вы знаете, что она надумала? К нему собирается, навестить! Ей кажется, что уж его на каторгу сошлют, вообще всякие страсти. А я уверена, – она понизила голос, – что его никуда не сошлют. Вообще все это она преувеличивает. Ну, а вы? Как вы? Слава Богу, на свободе?
Глеб ответил, все с тем же не вполне естественным спокойствием, что его исключили. Вилочка вспыхнула.
– Это ужас, это ужас! Что же вы теперь будете делать?
Она совсем взволновалась. Даже нос ее покраснел. Отворила дверь к Лизе.
– Слышишь, Глеба Николаевича исключили из Технического!
Лиза вышла с мокрыми глазами и посочувствовала. Но так же была вне Глебовых несчастий, как Вилочка вне Артюшиных. На Глеба известие об отъезде ее подействовало.
– Ты в Нежин собралась?
Лиза молча кивнула.
– Что ж ты там будешь делать?
– Постараюсь его увидеть. Они все в тюрьме сидят, как разбойники. Такие несчастные.
Лиза сдержалась, на этот раз не заплакала. Глеб смотрел на нее. Да, это она – маленькая и худенькая, она-то и поедет. Эта не выдаст. «Несчастные…» – где несчастные, там уж и она. Так в детстве было, с хромыми цыплятами, больными детьми на деревне. И теперь то же самое. Нежин, тюрьма, полицейские…
У него дрогнул голос, когда он спросил:
– Скоро трогаешься?
– На этих днях. Как только из Консерватории отпустят.
– Да, Лиза, – сказала Вилочка, – Лера оставила тебе двадцать рублей. Тоже хочет помочь. Только, говорит, чтобы maman не узнала, что это на поездку к ссыльным. Так что у тебя теперь шестьдесят.
Глеб удивился – не скрыл этого. Собирают на дорогу, почему же к нему не обратились? Кажется, он брат, ближайший человек. Вилочка засмеялась. «Да у вас у самого, наверно, ничего нет!» – «Откуда вы это знаете?» – «Ну, так подумала – вы же студент». Но настаивать не стала. Почувствовала, что Глеб взволнован, вот-вот и обидится.
Двадцать рублей он выложил тотчас. Вилочка осталась довольна.
– Более чем достаточно.
* * *
Когда жалела, Лиза не могла уже ни с кем считаться. Они все там в беде, заточении, Артюша тоже, значит, страшно или не страшно, есть деньги или нет, ехать надо. Просто –*, не поехать невозможно. И Лиза Вилочки не послушалась (та вначале ее отговаривала). Не послушалась бы и матери, отца, если бы те были тут.
Путешествие началось. Никакой суетни, в пору приехали, в пору сели в вагон: дамское купе второго класса.
Место у окна, две приличных соседки. Второй звонок. Глеб и Вилочка на платформе, у окна, в свете дня весеннего; а там и третий. Поезд трогается, вокзальная толпа ушла. Во втором русском классе, неторопливо погромыхивающем, катит Лиза мимо Андрониевского монастыря, мимо завода Гужона, где недавно бродил Глеб, в дальний путь через Тулу, Орел, Курск. Лиза смотрит в окно. В сумочке на груди восемьдесят рублей, все внутри напряжено и собрано, полно силы, порядка. Лиза веса не чувствует, что ни сделает – самый пустяк – все легко. Дальше, дальше, вперед. Все не зря. Все не зря.
Рощи Подольска, Лопасня Чехова. Лиза лежит на диванчике второклассном, он в полосатом чехле. Вагон идет мягко, соседки болтают. Соседкина сумка, подвешенная на крючке, поколыхивается, неторопливо подрагивает. В Серпухове пересекает Лиза Оку.
Тула, Мценск, Орел – та же средняя Русь. Ночь – на том же диванчике, при заснувших соседках, задернутой свече фонаря над дверью, в теплодушноватом воздухе. Лиза спит крепко. Поезд несет ее, поезд несет. Маленькая рука, для которой трудны октавы, придерживает и во сне сумочку на груди. Да никто и не тронет.
В Курске ей пересадка – новое купе, новый молодой сон. Начинается страна Гоголя – зеленая мощь, белые хаты, тонкие тополя. Лиза не видит их, но уже дышит воздухом Малороссии. А Нежин является в сиянии утра. Невысокое здание, жандарм и начальник станции в красной фуражке. С нехитрым своим чемоданчиком Лиза выходит. Новый мир. Он хватает сейчас же своей лапой – добродушной и теплой. Как блестит солнце! Какой крик на базаре! Какие хохлушки, в монистах, запасках, здоровенные, белозубые!
Лиза сильно здесь выделялась по виду – московская барышня, по-столичному и одетая, худенькая, хрупкая. Но не робела. И край этот, домиков с садами, в цветущих вишнях, сливах, с деревянными заборами, не был враждебен. Впрочем, если бы и враждебен – все равно, теперь поздно. Она взяла комнату в первой попавшейся гостинице. Пила чай с удивительными сливками, пуховым белым хлебом.
А потом вышла на базар, спросила, где тюрьма и, не торопясь, точно шла за покупками, под плавным солнцем, сквозь толпу хохлацкую направилась к этой тюрьме. Так же мало себя ощущала, Лизу, как и когда ехала. Так же катила по рельсам, а они уж вели куда надо. Привели в самый обыкновенный острог, столько русских городов украшавший на окраине их: тяжеловесное здание с оконцами в решетках. За решетками вечные «несчастненькие» – на вечерней заре выезжающий в тарантасе из города, взглянув на окна острога, где блеснет луч закатный, вздохнет, погружаясь в вольные поля.
Лиза прошла в низкую комнатку, вроде канцелярии. Она не вздыхала, ей просто нужен начальник тюрьмы. Из другой комнаты вышел тощий старичок, его можно было принять за инвалида.
«Я хотела бы видеть Артемия Грищенко, студента из Москвы. Он у вас, среди политических». Старичок удивился. «А вы кто же будете? Почему о нем спрашиваете?» – «Я его невеста». – «Невеста». Он застегнул пуговицу на тужурке, поправил худородный седой ус. «Что же это вы, из Москвы к нам?» – «Из Москвы». Голубоватые его глазки на морщинистом лице, запеченном и нисколько не грозном, выражали удивление. «Как далеко»… Лиза тихо сказала: «Я хотела повидать жениха».
Старичок слегка фыркнул: «А ведь свидания не разрешаются». – «Я так долго ехала»… – «Ехала зря и доехала, а я что ж могу поделать, когда такой порядок? Нету с ним свиданий и все тут!» Лиза молчала. Она стояла тихо, упорно. И не боялась. Старичок был недоволен. Морщинки на лице собирались, разъезжались. Он вынул бумажку, положил табачку, свернул; проведя языком по бумажкину краю, склеил. Потом вдруг отошел от двери: «Пройдите сюда». Лиза покорно вступила в коридор. Из окна виден был двор. Солнце затопляло его, воробьи заливались на крыше. Старичок закурил. «Как фамилия-то? Жениха-то?» – «Грищенко, Артемий». – «Я не могу вам дать свидания». – «Дайте, пожалуйста». Старичок пустил дым ноздрями. «Я не могу вам дать свидания, но никто не может помешать мне вызвать к себе на квартиру студента Грищенку. Решительно никто не может. А квартира моя вот – пожалуйте в эту дверь».
Лиза вошла в небольшую комнату, вроде гостиной, с фикусами в кадках, зеленой ползучей «бородой». Кот важно прошелся по половичку. Портрет Александра Второго смотрел со стены – пробритый подбородок, бакены, гусарский ментик.
Окно с фуксиями на подоконнике тоже выходило во двор. Через несколько минут стайка воробьев, веселившихся и клевавших посреди двора, в травке между неровными булыжниками, шумно взлетела – прямо на них шел студент в серой тужурке, с бобриком на голове, длинными горизонтальными усами. Он пересек двор, слышно, как отворил дверь, вошел.
Лиза одна была в комнате. Кот сидел на солнышке, грелся, умывался лапкой. Император продолжал быть в ментике.
– Лиза!
Артюша присел, ноги его растопырились, а потом кинулся он к ней, в первую минуту ничего даже не могли они сказать друг другу – в слезах, путаных восклицаниях: «Да как! Да ты, тут! Вот так раз…» Старичок позволил им провести вместе четверть часа.
* * *
Каждый день отправлялась Лиза в тюрьму к старичку – имя его Иннокентий Иваныч. Каждый день приходил к ней Артюша, все в ту же комнатку с Александром Вторым. Солнце украинское так же веселило воробьев, радовало кота и мух. Лиза питалась не солнцем, но любила его, как и Малороссию эту полюбила, базар, хохлушек, хохлов с усами Тараса Бульбы, торговавших дегтем, горшками, колесами – мало ли еще чем! Проходя базаром, вспоминала «Сорочинскую ярмарку» и отца, в Устах читавшего им вслух: «Чого нема на тий ярмарци! колеса, скло… тютюн, крамари всяки…»
Питалась же она собой. В ней жило чувство крепости, силы, она знала, что вот надо так, и хорошо – жить в маленькой нежинской гостинице, бродить по базару, болтать с хохлушками, скоро пронюхавшими, что у ней жених ссыльный – сочувствовали, главное же хорошо: в комнате старичка Артюша; простые слова, но милые, в свете. Лиза чувствовала, что и собою питается. Чем больше питала, тем больше возрастала в ней самой эта пища.
К Иннокентию Иванычу очень привыкла. Точно свой, дядя, дедушка. А подумать только: начальник тюрьмы!
«Иннокентий Иваныч, разрешите мне нынче побыть полчаса!» – Начальник тюрьмы пофукивает. «Да вы и так полчаса бываете». – «Нет, меньше. А нынче хочется…» – «Вам всегда, разумеется, хочется. Из Москвы в Нежин приехала, значит, треба видети. Полчаса, полчаса… Ну, Бог с вами. А когда-нибудь влетим мы оба».
Иннокентий Иваныч хоть и начальство, но не единственное. В тюрьме бывает и прокурорский надзор, и полицмейстер. Лиза довольно скоро в этом убедилась – как и в том, что не все похожи на Иннокентия Иваныча.
На шестой день, подходя к тюрьме, увидала пролетку, парою на пристяжку. Все блестит, лоснится, кучер нарядный. Прошла мимо, в ту же дверь, как всегда. «Нет, нет, нынче нельзя, полицмейстер здесь, уходите», – Иннокентий Иваныч был смущен, раздражен. Лиза покорно исчезла. Недалеко от тюрьмы эта же пара на пристяжку обогнала ее. Высокий человек в полицейской шинели, с темными бакенбардами, крепко сидевший в пролетке, посмотрел на нее внимательно.
Вечером вновь зашла. «Влетели, матушка, влетели! И чтоб духу вашего тут больше не было. А то с жандармами в Москву отправят, да и меня по головке не погладят», – и Иннокентий Иваныч сообщил, что все открылось – полицмейстер знает, что она приехала, недоволен, велел и в канцелярию не пускать. Да и все равно, она жениха больше не увидит: завтра студентов отправляют в Чернигов, тоже в тюрьму. А там будут сортировать. Кого куда.
У Лизы ноги похолодели. «А в Сибирь могут?» – «Куда захотят, туда и могут. А я ничего не знаю-с, ничего… я должен завтра всех их новому начальству сдать».
Лиза провела тягостную ночь. Неужели даже не простится с Артюшей? Вспоминая его бобрик, простенькие, но такие милые глаза (он смотрел ими на нее как на мать, на заступницу), Лиза плакала молча, в тишине непроветренной нежинской комнаты. Нет, все-таки она его увидит! Поезд в Чернигов уходит в десять – надо явиться на вокзал. С тем под утро она и заснула, с тем и день провела: но ни дня, ни ее не было, был впереди только вечер.
А к вечеру гроза грянула, зеленые молнии ломали небо, белый дождь хлестал, малороссийский Нежин весь кипел, пенился в пузырях и брызгах. Разбушевалась Хохландия. Но к восьми смолкло, дождь перестал.
Расплатившись в гостинице, Лиза в десять без четверти вышла с саквояжем своим, так же тихо и деловито, как сюда ехала – направлялась к острогу. Уже сильно стемнело. Никого! После дождя лужи, грязь. Пред знакомым зданием тоже темно – керосиновых своих фонарей еще не зажигал город Нежин, да если бы и зажег, мало от них радости.
Лиза так и ходила, неприкаянной тенью, взад и вперед по тротуару напротив, пока в сумрачном здании медленно, скучно делалось свое дело. Ходили, ругались, выстраивали во дворе арестантов. Винтовки конвойных побрякивали. Лиза ждала. Все равно, надо ждать. Для этого и пришла.
Отворились ворота – шествие началось.
Солдаты, тюремщики. Они окружают, а там, за ними, в средине… Странный звук – позванивание, точно железо об железо. Так и есть. Голова шествия поравнялась с Лизой, она разглядела: куртки, шапочки войлочные, на ногах цепи. Каторжники! Потом без цепей арестанты, а там и они, московские. Лиза задохнулась. Вот где Артюша! За каторжниками ненастною ночью месит грязь гоголевского городка!
Студенты брели ватагою, тоже проходили совсем близко, хотелось крикнуть: «Артюша!», но сдержалась. В каждой проходившей тени он мерещился. И вот все прошли, его не увидела.
Начались подводы с вещами, опять солдаты, стража тюремная. А вдруг и вовсе не увидит, на вокзале? Нет, надо и надо, что тут раздумывать. И по той же мостовой, не по тротуару, как на похоронах, зашагала по той же грязи, какую и они месили, это ведь свои, родные, «несчастные». Так и проделали путь через пустынный Нежин, на странных ночных похоронах – до вокзала. Они месят грязь и она, так и надо, все правильно.
У вокзала их повели налево, к боковому входу, где товарные вагоны. Солдаты стерегли эти ворота. Туда не пройти, Лиза вернулась к главному подъезду. Вошла, взяла билет до Москвы – ее поезд отходит в одиннадцать. Время есть. Была тиха, все делала неторопливо и спокойно. У буфета съела пирожок с видом самым обыденным – путешественницы дальнего плаванья. Но и в движениях ее, спокойствии, сосредоточенности было нечто сомнамбулическое. Ее несла сила – пока не перестала действовать. Лиза знала, куда идти и что делать, хотя ни о чем не думала.
Дожевав пирожок, вышла на платформу, беззвучно по ней пошла, не размышляя, спустилась в конце с лесенки. Вблизи будка с семафором. Товарные вагоны на путях. Красные, зеленые огни меж ними и над ними, движущиеся фонарики пересекают рельсы, фигурки постукивают молотком под вагонами. Пыхтит, выпуская вбок пар, освещенный золотым фонарем, маневрирующий паровоз.
Лиза шла мимо каких-то стрелок, подъезжавших, отъезжавших на другой путь вагонов – то они прицеплялись к составу, глухо бухая буферами, то силою огневевшего паровоза вновь уходили в темноту. Но во всей этой пестрой темени скоро оказалась она, где надо: на запасном пути, у товарной станции. Там грузили арестантов.
Вот они, милые синие околыши, черные шинели с золотыми пуговицами – свои, наши! Борцы за лучшее будущее, вместе с другими светлыми личностями ведущие к тем же огонькам, которые…
Тут Лизе повезло – не то что было тогда у острога: самый лучший борец, с длинными горизонтальными усами, в папахе, тот самый, из-за которого проделан путь до Нежина, оказался прямо под рукою, один из первых ей попавшихся. И темнота, бестолковщина посадки помогли – удалось отойти в сторону, прижать к груди, поцеловать, поплакать… «Господи, куда же вас, в Чернигов? А оттуда?» – «Ничего, ничего… там побачим, а ты не журись, у-у, дурная, зачем плакать…»
Но у борца самого глаза на мокром месте, однако, слезы эти не горесть: волнение, быть может даже счастье – ведь вот явилась же сюда, в последнюю минуту, в темноте среди конвойных разыскала – значит, любит, одиночества нет, пусть Чернигов, ничего.
Это и была удача их в темный нежинский вечер, но удача краткая.
– Вы зачем здесь? Кто вас сюда пустил?
Как внезапно Артюша возник, так из той же тьмы с той же неожиданностию явилась крупная, знакомая фигура в полицейской форме. Нет, это не Иннокентий Иваныч!
– Я прошла…
– Вы не можете тут находиться. Потрудитесь уйти. И нынче же выезжайте в Москву. Если завтра я вас увижу в Нежине, то этапом вышлю к родным. Мне это надоело. Аникин! Проводи барышню до вокзала. И посади в вагон. В одиннадцать, на Москву.
Жандарм сделал под козырек.
– Слушаю, ваше высокородие! Нежинский полицмейстер шутить не любил.
* * *
Ночь, неторопливый ход поезда. Широкая русская колея, тяжкие вагоны – спешить некуда, ехать так ехать, во всяком случае основательно.
В дамском купе фонарик над дверью задернут. Коричнево, теплый и душноватый полумрак, случайное жилье, но уж будто насиженное. У окна Лиза. На другом диване полосатом, второклассном, женщина средних лет, полная, с мягкими карими глазами, в шали, серьгах. На пальцах кольца – жует пряник.
– Кушайте, скушайте еще. Протягивает Лизе коробку.
– Поедите, милая, веселей на сердце станет.
Едут вместе около часу. Уже познакомились, уже начинаются разговоры – из бесконечных русских вагонных, «открывающих душу», иногда заключающих даже дружбы. Уже знает Авдотья Семеновна, зачем ездила Лиза в Нежин. Лиза узнала, что соседке путь совсем дальний – за Москву, за Урал, в Тюмень. А едет из Киева: не так-то мала Россия! Ездила по делам наследства, теперь домой.
Лиза поблагодарила, взяла пряник.
– Вы меня этак закормите.
– Вас чего же, голубушка, и закармливать. Вас подкармливать надо, вон вы какая кволая. Да от слез дородности не наживешь. А только я правду говорю: разливаться вам нечего.
Авдотья Семеновна отложила коробку с пряниками, оправила волосы, уселась поудобнее.
– Первое дело, вы боитесь, что жениха вашего отправят в Сибирь. Это напрасно. Что же он такое сделал? Чем провинился? Забастовка, газету жгли, пошумели… – помилуйте, мы это дело смыслим немного. Видали ссыльных. Другая статья. Это которые в партии, печать тайная, прокламации, рабочих на бунт подбивают.
– Артюша ни в какой партии не состоял.
– То-то и оно-то. Просто: молодой человек, горячий, товарищей поддержал. Посидит, конечно, в Чернигове. Веселиться не приходится, да и убиваться не надо. На доктора, говорите, учится? Вот, подержат до осени, а там опять в Москву, в клиники эти, на Девичьем поле. Клиники замечательные. Меня туда три года назад посылали. Там у вас Снегирев, знаменитый профессор – вылечили, не могу пожаловаться. Москва город богатый, щедрый. Ваши купцы много на медицину жертвовали – что правда, то правда.
Но вот что насчет нашей Сибири, вы, русские, мало ее знаете, и как бы сказать, не цените, даже боитесь. Лиза подала из уголка своего голос:
– Почему вы сказали: «вы русские», разве вы сами не русская?
– Я, понятно, русского происхождения. Но сибирячка. Это особая статья. А Сибирь целый мир.
Лиза не только что Сибирь, свою Россию едва знает. Волги не видала никогда, Кавказа, Крыма, даже Киева. Поезд, постукивая, идет полями Малороссии, мимо разных бахмачей, конотопов, но и это все мгновенно мелькнет в ночи, не оставив следа: да и Нежина беглый след – сон!
Сном окажется, может быть, и сама поездка, эта ночь и соседка с рассказами, но сейчас еще сон длится. Лиза слушает.
– Мой отец из Тюмени родом. Знаете, Западная Сибирь. У нас дом свой в Тюмени, отличный. Мать рано умерла, я сироткой росла, но отец, Царство Небесное, очень меня любил. У него винокуренные заводы были по Иртышу. Большое дело. А меня он отчасти и баловал, отчасти и в жизнь вводил, с ранних лет. Например, когда ездил вдаль, по заводам своим, то меня непременно брал. Ах, это так было интересно! Во мне по наследству, что ли, деловая жилка оказалась. Да и путешествия эти ее развивали. В тринадцать, четырнадцать лет я многое в нашем хозяйстве понимала. И куда мы с отцом ни приезжали, он всегда меня служащим представлял: «Моя наследница, ваша будущая хозяйка».
Отец был деловой человек, но добрый и верующий. И я тоже верующая, с детских лет. А отец был и благотворитель, и в церковных делах деятель. Вот мы с вами, голубушка, все про арестантов да ссыльных разговаривали. А ведь я сызмальства их знаю, можно сказать, даже среди них росла.
К нам в Тюмень очень много их из России присылали. Была и пересыльная тюрьма – огромная. При ней церковь. А отец в ней церковный староста. Так что постоянно около нее и в ней – и я, конечно. Там я и впервые каторжников увидала, которых дальше отсылали, в Восточную Сибирь. Они совсем не казались мне страшными.
Один случай мне особенно запомнился, на всю жизнь. Если угодно, расскажу.
Лиза сказала, что очень хочет послушать.
– Я была еще совсем маленькая, лет восьми-девяти. Мы с папенькой стояли у обедни в этой церкви. А там так устроено было, внизу вольные, а каторжники наверху, на хорax – у них и дверь особенная. Когда их вводили, то всегда такой звон кандалов, знаете, слабый, скорее позванивание, но на меня это действовало. Мне их всегда жалко было. Да и отец жалел, что мог им всегда помогал. И вообще у нас в Сибири принято жалеть ссыльных. Но тут вышло особенно.
Значит, я стою с отцом у клироса, на обычном нашем месте. Литургия идет. Наконец, Херувимская. Хор поет: «Иже Херувимы, тайно образующе…» – как всегда, мы на колени опускаемся и вдруг сверху звук такой, цепи, знаете ли, звенят – вся толпа долу приникает. Хор: «И Животворящей Троице Трисвятую Песнь припевающе» – я подняла голову, а они на полу лежат, над нами, простерлись, и рыдают, рыдают… Тут, помню, мне по спине точно кипятком брызнуло, в глазах блеснуло. Я, знаете ли, к папаше прижавшись… Опять на них посмотрела, отцу шепчу: «Папенька, говорю, а ведь Христос-то с ними».
Папаша говорит: «Понятно с ними, Дунечка. А это ничего. Ты их жалей, так Он и с тобою будет – Он всех страждущих жалеть заповедал».
Она примолкла.
– Вот, душенька, и вы платочек вынули, а меня прямо тогда это потрясло. И сорок лет прошло, папаши давно в живых нет, я замужем, а до гроба доски не забуду, как меня тогда всю, махонькую, такая сила пронзила.
Голос Авдотьи Семеновны оборвался, она слегка отвалилась на диване.
– К этому еще и то могу добавить: о. Виталий, наш священник был тюремный, он их исповедовал и причащал – старый человек, почтеннейший. Он говорил мне, когда я уже была взрослая: «Им у меня нечему учиться. Они так исповедуются, как нам и не снилось. Я полагаю, что настоящие-то христиане они, а не мы». И еще добавлял: «Я им в высшей степени благодарен. Они меня смирению учат». Видите, какие каторжники-то наши.
И наша жизнь там, в Сибири, очень с ихнею переплелась. Они обычно, когда из России в пересыльную попадали, то очень боялись: Сибирь, мол, да то да се, каторга начинается. А как раз наши им к празднику то пирогов, то пряников понашлют, отец мой в первую голову: что ж, хоть и провинились, а вот искупают – несчастненькие, значит. Их жалеть надо. Они и удивлялись.
Или тоже, я помню по детству: отец берет меня с собою в поездку. Садимся на пароход и по Иртышу, путь немалый. Велика наша сторона, ух, огромна! И реки как моря. Ну, вот, плывем, на буксире за нами баржа, с каторжниками: их из Тюмени дальше, в Восточную Сибирь отправляют. Хмуро так, небо серое, вода, вода… а они хором петь начинают. Как поют! Вы бы послушали. Отец мне, например, говорит: «Где бы ты хотела, Дуня, чтобы мы остановились?» (Там разные пристани есть – мимо некоторых мы проходили, у других останавливались.) Я отвечаю, положим: там-то. Он сейчас к капитану: «Вот, наследница моя желает привал сделать». – «Извольте, ваша воля».
Останавливаемся. Сейчас – это нам на пароход всякое добро тащут, с берега. Более всего рыбу – знают, сурьезный купец едет. Осетрина, белуга, мало бы чего… нельма, такая знаменитая сибирская рыба. Пироги разные. Птица.
Отец все берет, цельными корзинами. Неужто ж мы съесть можем? «Это здесь на пароходе оставить, остальное им на баржу», – остальное-то – самая большая часть. И вдруг оттуда через четверть часа «ура» несется. Получили! Благодарят. Да, это у нас уж так заведено. Мы привыкли к каторжникам и не боимся их. И знаете, в Сибири: беглые, например, которые с дальней каторги пробираются – ведь им все помогают. Вы наверно и слышали: в деревнях бабы на ночь им у ворот, околиц хлебушка выставляют, молочка… а то с голоду ведь в тайге помереть можно.
Поезд постукивает себе, постукивает. Не торопясь, бежит. Свеча горит за коричневою занавескою. Лиза слушает да слушает.
– Я сама раз наткнулась… Вы еще не заснули?
Лиза лежит на спине. Нет, не заснула. Нет, уж тут не заснешь!
Голос в тихой ночи русской:
– Мне уж было, может быть, лет четырнадцать. Мы приехали с папенькой на винокуренный наш завод, жили там несколько дней. Место глухое, дикое. Леса да леса кругом – тайга. Раз, знаете ли, собрались служащие в поездку, в воскресный день, для развлечения, верст за десять. В долгуше, самовар с собой, всякого добра довольно. Отец не поехал, а меня пустил: поручил одному там особенно за мной смотреть.
Лизе нравился голос. Как покойно! Мягкий и довольно низкий, но и круглый – вот идет, идет…
– На полянке чай пили, свое угощенье, а потом в лес по грибы. Со мною провожатый мой, да мы вдаль и не собирались, друг другу голоса подаем, а Иван Петрович от меня ни на шаг. Только вышли на прогалинку – вижу, трава в одном месте подымается, точно там что шевелится. Я испугалась: «Иван Петрович, говорю, медведь!» – «Не извольте, мол, барышня, беспокоиться, это не медведь, а как раз человек!»
Мы к нему. Так и есть, человек. Да какой, в каком виде! Уж, действительно, никому не опасен. «Дяденька, говорит, сил моих нет, отощал совсем, пропадаю в этой вашей тайге. Дай хлебушка Христа ради».
Милая, на него только взглянуть! Посмотрели бы вы. Весь волосами зарос, точно дикобраз какой, а уж худ, худ…
Авдотья Семеновна даже охнула – грустно представить себе такого худющего.
– Мы его с собой повели, назад, к нашим. Он совсем смирный – ну, с каторги бежал, это конечно, а сейчас едва на ногах держится. Покормили, чайку дали, ветчины, яичек… Что же с ним делать? Служащие стали между собой совещаться – колеблются. А я говорю: «Мы его домой повезем, на завод, не бросать же тут в лесу». Сначала будто противились, но я настояла. Я, мол, хозяйская дочь. Моя воля. Я перед папенькой отвечаю.
И как бы вы думали – не с собой же его, в лохмотьях, сажать – так пристяжку одну отпрягли, его верхом, а с ним кучера, и вот, шажком, на завод. Конечно, мы на паре в долгуше раньше их домой добрались, но они не пропали, тоже пожаловали благополучно. Я отцу рассказала. Он ничего. Когда того привезли, сразу велел его в баню, новую одежду ему…
Лиза слушает, как отец, запершись с беглецом, с ним поговоривши, позвал Дуню эту – и она увидела совсем другого человека. Начинается вроде милой сказки. О страшном, что в той же Сибири есть, не хочется говорить в эту ночь Авдотье Семеновне – так видит она сейчас свой край. И что же удивительного, что в рассказе ее отец еще денег ему дает на дорогу, усылает стражников с завода в другую деревню, чтобы этому было удобнее скрыться. Как и не удивительно, что тот говорит Дуне: «Где бы вы ни были, барышня, что бы с вами ни случилось, то знайте, что есть всегда человек, который за вас молельщик».
– А что вы думаете, душенька, я очень даже считаю, что вот если жива и благополучна, и жизнь моя, слава Богу, идет хорошо, так это не без его молитвы… того, медведя-то из тайги. Он так навсегда в Сибири и остался – поселенцем стал, в нашей же местности. Женился, хозяйством обзавелся. И мне иногда писал о себе – помнил.
Теперь же, вам сказать по правде, пора нам укладываться. Спать, спать, всех сибирских рассказов не перескажешь.
Авдотья Семеновна стала расстегивать ремни, где в пледе завернуты были подушки. В полутьме медленно устраивалась. Лиза туманно на нее смотрела, глаза влажны, в сердце тихо.
– Вы думаете, наших не отправят в Сибирь?
Авдотья Семеновна встала, нагнулась к ней, поцеловала в лоб.
– Все Сибири боитесь. А хорошая страна, я вам говорю. Ничего, спите мирно. Не отправят. Скоро увидитесь.
Лиза молча заплакала, покорно и благодарно. Поезд тихо постукивает. Не торопясь несет к Курску. Дурные сны сзади.
IV
Среди спокойствия, прозрачных вечеров Балыкова (бледно-зеленеющее небо, Венера на закате, шуршание пузырьков снега тающего, всех пор его) – вот, весна приближается, зимний Орион отходит. Сириус блестит еще над елками, скоро перестанет блестеть.
Мать хотела бы ровного благоустройства дома балыковского, продолжения прошлого, но вместе с годом, звездами, клонящимися к весне, в медленном вращении всеобщем малая ее жизнь тоже поворачивается: не ее одной – всей семьи.
Известие о Глебе пришло, когда отец по распутице уехал в Илев. В теплом большом доме с весенними зорями за двойными еще рамами изживалось оно в одиночестве. Краса Венеры не помогала. Благоухание сосен Саровских тоже. Сыночка исключен! А если его арестуют? О, Боже мой, Боже мой! Мать бродила по дому. Он стал теперь для нее темницей. Что же, второй раз в Москву собираться?
Отец вернулся через два дня, к бедствию сыночки отнесся покойней. Довольно бодро сказал:
– Кэпско коло Витёбска, – любимую свою фразу, означающую, что под Витебском дело плохо.
И решив, что, конечно, Глеб юноша с причудами – в этом, впрочем, никогда и не сомневался – не захотел менять бытия своего, стал готовиться к тяге: разбирал ружья, протирал стволы масляной тряпочкой до блеска, набивал патроны для вальдшнепов – дробью номер шестой. «Книжные они все люди, жизни настоящей не знают», – в этот разряд входил именно и Глеб, книжность объясняла все. А когда через несколько дней пришло новое письмо, где Глеб сообщал, что собирается в Университет, отец махнул рукой, но и успокоился. Он так и знал, что Глеб книжный. Вот и Университет все для книжек. Ну, ладно. Как хочет. Недорослем из дворян не будет, разумеется. Экзамены, латынь, греческий, – что ж, он способный малый, и упорный. Herr Professor. Захотел, так своего добьется.
За ужином, прихлебывая пиво, заявил:
– К экзаменам одному трудно готовиться. Должен будет себе маэстро какого-нибудь раздобыть. Чтобы ему помогал.
Мать вполне была с этим согласна. Но чтобы только возразить, сказала:
– Сыночка настолько хорошо учится, что ему никакой учитель и не нужен.
Отец покачал головой.
– Отказать! Отказать! Ты в гимназии не была. В твоем пансионе Труба древних языков не изучали. А ты попробовала бы косвенную речь… Нет, латинский язык трудный, и замечательный. Его надо учить как следует. Это развивает ум, логику.
Он налил себе еще пива, закурил.
– Civis romanus sum, Cai'um Murium vocant. Nec ad mortem minus est animi, quam fuit ad caedem.[19] Вот как они выражались. Краткость-то какая, сила! Нет, ничего, пусть учится.
Мать хмуро раскладывала пасьянс, отец учил ее, она строго подымала на него глаза, редко советам следовала. И как это он может благодушно разглагольствовать, когда с сыночкой происходят такие вещи!
После пасьянса вечер, как всегда, кончился. Мать ушла к себе. Ночь застала ее в постели за предсонным «Вестником Европы». Долго в ночи весенней светилось ее окно. Отец уж давно похрапывал в кабинете под ружьями, видел во сне вальдшнепов удивительной величины. А мать, во втором часу потушив лампу, долго не могла заснуть. Сыночка, Университет, подготовка… Ведь он уже учил все эти глаголы и латинские склонения, еще маленьким, в гимназии, а теперь опять. О Боже мой, Боже мой! Как трудно все, сложно. Николай Петрович равнодушен. Ему бы пиво да вальдшнепы, да в Илеве полюбезничать с какою-нибудь инженершей… – только и всего.
Утро подходило. Окно проступало, на стене вырисовалась голубятня, Глебово произведение – «миленькая картинка». Нет, не так-то легок Глеб, не так-то.
Скоро и Лиза дала о себе весть.
«Милая мамочка, я недавно вернулась из Нежина, куда ездила повидать Артемия. Он вместе с другими студентами был арестован и выслан в Нежин. Они все страдают по несправедливости, жестокости правительства. Их при мне отправили в другую тюрьму, в Чернигов, а дальше я и не знаю куда. Ты понимаешь, как я взволнована».
Да, это мать понимала. Вообще все понимала. Там сыночка, тут Лиза. Превосходно. Тот исключен, едва не арестован, эта… Вот она, одинокая жизнь в Москве, без призору и руководства. Студент-медик со своими хохлацкими песенками, длинными усами, папахой, дубинкой. Герой! Хорошо еще, если порядочный человек и жених (что же, она сама вышла за Николая Петровича, когда тот был студентом Горного института. Но то Николай Петрович… а какой-то еще этот… Артемий! Артюша! – странная кличка. Может быть, просто соблазнитель?)
И притом: вдруг его и на самом деле из Чернигова вдаль зашлют? Ведь вот в Нежин Лиза за ним собралась, а за декабристами жены и в Сибирь отправились – Бог ее знает, что она еще может устроить.
У матери с ранней юности, когда она ходила еще в Петербурге слушать Сеченова, был весь Некрасов в коричневых переплетах того времени. «Рыцаря на час» она иногда даже декламировала. «Русские женщины», все эти Трубецкие, Волконские, превосходно, но представить себе, что ее Лиза, вместо того, чтобы учиться в Консерватории, заберется к политическим в Нерчинск, Читу…
Так проходили ее дни. Но в треволнениях за детей она не знала, что где-то, для нее невидимо, уж созревала перемена и в судьбе отца, и в ее собственной.
Когда дороги пообсохли и тяга кончилась, отец опять съездил в Илев. В Балыкове летали уже майские жуки, нежно распускались березки, одеваясь зеленоватым дымом. Перед балконом мать завела возню с цветами в клумбах, отражаясь в глупом розовом стеклянном шаре – безобразно он ее уродовал.
Из-за теплого солнышка чай пили на балконе. Отец был несколько задумчив. Мать заметила это, но делала вид, что не замечает.
Может быть, и отцу хотелось бы, чтобы его спросили? Мать не спрашивала. И он сам заговорил.
– Мне в Илеве предложение одно сделали.
Мать молчала.
– Приезжал Кох, из Петербурга. Ну, огромное металлургическое дело. На юге заводы, в средней России тоже. Так вот не согласился бы я к ним поступить? Проведут в правление, у них там инженера не хватает. Но надо жить в Москве.
Лицо матери стало серьезней, как бы и суровей.
– Какие же условия?
– Лучше, чем здесь, понятно.
Когда рассказал какие именно, мать подняла на него глаза.
– Что ж… ты, конечно, согласился?
Отец пустил кольцо дыма, не без задумчивости.
– Сказал, что должен обсудить. Отвечу окончательно отсюда. Москва! Сыночка, Лиза… вдвое больше жалованье, проценты с производства…
Мать начинала волноваться. И чтобы скрыть волнение, стала еще суровей.
– Что же тут обсуждать. Разумеется, соглашайся. Отец помолчал.
– Разумеется, разумеется… Там город. Все другое. Теснота. Вон какая здесь благодать…
– Всю жизнь по медвежьим углам просидели, наконец, в Москву, и он колеблется.
Голос матери стал как бы глуше. Еще немного, и гнев в нем послышался бы.
– Не люблю я города. Ни простора, ни зелени. Охотиться негде.
– Охотиться! В Москве наши дети.
– Да, дети, конечно.
Против детей отец не возражал, это все верно, все же лицо его приняло выражение скучающее. «Кэпско коло Витебска», – мог бы он сказать. Да, здравый смысл. Ничего не поделаешь. Отказываться невозможно.
Отец ясно представил себе Москву, улицы, грохот, правление, и завод, разные заседания с иностранцами – всего этого терпеть он не мог. А охота? Нет, навсегда с ней кончай. Пойдут разные канцелярии, юрисконсульты… Конечно, деньги большие, положение в столице.
Утешало и то – в несколько лет можно стать если и не богатым, то состоятельным – плюнуть на все заводы, купить имение и зажить, как подобает порядочному охотнику, как жили отцы, деды.
Перед ужином он позвонил в Илев – предложение Коха принял.
* * *
Родители не задержались в Балыкове – сбылось давнее желание матери: жить в большом городе, с детьми.
Снят особняк на Чистых прудах – не из роскошных, но просторный, с садом. Заново обставлен – у отца гнутая мебель (обивка бордо, с шишечками), в гостиной зеленая плюшевая, в столовой мореный дубок и матовый полушар электрический на потолке – света много. Все вообще прочно и основательно. В новых комнатах с новой мебелью возобновляется ткань – длинный холст дней от Устов до Людинова и Балыкова, а теперь Москва, все нежданно-негаданно, по таинственным законам, все стремящим, стремящим…
Из особняка на Чистых прудах отец ездил в правление на Мясницкую, заседал там с иностранцами и русскими. Пофыркивал, к работе относился насмешливо («чиновничья служба… пустяки… что они понимают в живом деле?»). Весь вид его говорил: «Я же знал, что это будет неинтересно, ничтожно, так оно и оказалось».
Матери же не казалось ничтожным: служит и много зарабатывает – так ведь и надо. У нее самой теперь много денег. Месячный их извозчик увозил ее ежедневно в город, там действовала она по магазинам. На Чистые пруды присылались ковры, кресла, посуда, бесконечные пустяки хозяйства. Но – надо, это жизнь, мелкое, крепкое ее сложение: «гнездо», мать эти гнезда ценила.
Тот же извозчик возил Лизу на Никитскую в Консерваторию. В большом светлом классе Игумнов, сидя на табурете, змеями сплетая длинные ноги, выслушивал ее упражнения на рояле.
Но у Лизы искусство, музыка. А Глеб просто стал с сентября брать уроки латинского, греческого у известного латиниста, инспектора гимназии на Разгуляв. Угодно недюжинной жизни? Потрудитесь сначала вспомнить правила косвенной речи, abla-tivus absolutus[20] и мало ли еще что. А вот греческий: захотелось сбежать от глагола «хистэми» в Калуге, так поспрягайте его теперь в Москве.
Глеб заявлялся к латинисту своему в четыре. Холодная каменная лестница, крепостные стены – Никифор Иваныч жил на казенной квартире. Рукоятка звонка, обитая клеенкой дверь, молоденькая горничная. Небольшие окна в толстенных стенах – на подоконниках мещанские герани. Гостиная с блистающим паркетом и рододендроном в кадке, иногда невообразимо накрашенная мадам-латинист, а чаще – прямо кабинет с теми же оконцами, с быстро вскакивающим Никифором Иванычем: он отдыхал после классов. Спал честно, крепко – как по загадочному залогу греческому (medium)[21] говорится – «в своих интересах». От интересов этих Никифора Иваныча отрывали внезапно. Он был вообще запуган штукатуренною супругой – взлетал мгновенно, с полоумным видом, конфузливо напяливал пиджачок чечунчовый, вся правая щека его в багровых полосах, отлежана крепчайшим сном. Половина бороды уехала вбок, остатки волос на голове тоже торчат косвенно – он улыбается, пожимает руку Глебу, бормочет смущенно:
– Прилег, знаете ли… тово. Видите ли. На полчасика. Так сказать. Ну, ну… что там у нас сегодня?
Но как только брал в руки грамматику (собственного сочинения, очень известную) – сон соскакивал. Не то чтоб впадал в восторг перед собою как автором. Но преклонялся пред латинским языком – заикающийся, помятый, кособокий Никифор Иваныч в пуху и перхоти…
Глеба он не раздражал. Даже и нравилось нечто нелепое в нем, выставленное насмешке, неказистое и скромное. Не могло быть и речи о самом Никифоре Иваныче. Но попробовал бы Глеб не совсем точно перевести фразу из Цезаря, Корнелия Непота: Никифор Иваныч начинал улыбаться, улыбкою сострадания к несчастному, который спутал один глагол с другим и не принял во внимание, что это косвенная речь. Блаженно начинал сам бормотать: «Цезарь, убедившись, что… ну что там… переправы… переправы, которые, не будучи достодолжно укреплены… не укреплены достодолжно… тогда-то он, имея три легиона и отряд… да… всадников…»
Никифор Иваныч почесывал заросшую бородой щеку. Щека еще пламенела от пламенного сна, борода все еще была устремлена вбок, от него пахло теплозатхлым и домашним. Если бы Цезарь увидел своего поклонника!
Глеб уходил от него нагруженный. Да и дома работа. Весною экзамен, надо одолеть всю гимназию – латынь и греческий. Он засаживался. Было чувство, что времени мало, надо вперед, все вперед, без потери часа. Зажмуриться, пережить, а там… студенческая тужурка как у Артюши, фуражка с синим околышем.
Лиза что-нибудь копошилась в соседней своей комнатке, к ней приезжали подруги. Вилочка Косминская громко сморкалась покрасневшим носом. Иногда из гостиной доносилась их музыка – Глеб мало выходил и не очень любил, чтобы к нему заходили. Исключение одно, старая дружба детства – Соня-Собачка. Она объявилась внезапно.
Узнав, что в Москве поселились «дядечка и тетечка», прикатила Собачка на Чистые пруды с Самотеки, где жила. Хоть и неожиданно, но некоторым веселым обвалом – двадцатилетней мощной девушки с могучим бюстом, яркими щеками, запахом аптеки: она на фельдшерских курсах, работает тоже вовсю. «Дядечка, тетечка»… – Собачка всех целовала, радовалась, жмуря глаза, по-прежнему делала «кота» из своего лица. Глеб потонул в ее объятиях, в черноземе Мценска.
И она получила, молчаливо, но прочно, доступ в Глебову комнату, право отрывать от работы, мешать, но и ободрять.
– Глеб, Глеб, ты опять учишься… ты, по-моему, все и так уже знаешь… все такой же, как в Устах, Калуге, Herr Professor. Опять эти греки, латиняне? Зачем же ты их тогда бросил?
Зачем бросил? Да, вопрос. Но не мог бы он ей толково и на то ответить, куда бросает его самого судьба, так или иначе юную жизнь слагающая.
– «Тэн д'апамейбоменос просефэ нефелэгерата дзеус…»
Глеб декламировал внушительно.
– Ты не можешь этого понять. Здорово сказано: «Ей отвечая прорек тучегонитель Зевес».
– Глеб, Глеб, ты берешь уроки, изобрази своего профессора, это чучело, кажется, первой степени…
И Собачка заливалась, когда Глеб, перекосив физиономию и взъерошив волосы, начинал бормотать: «Цезарь… убедившись, что переправы… не будучи достодолжно… достодолжно не будучи укреплены»…
– Ты еще когда в Калуге зубрил, на Спасо-Жировке – помнишь, тетечка называла: Спасс-на-Жироннь… – я еще тогда знала, что это все чушь. Помнишь, как ты учил: «апетметесан тас кефалас?»
Она опять захохотала.
– Глупость, а засела в голове.
– Вовсе не глупость. «Были обрублены по отношению к головам» – винительный отношения.
– Да это для жизни не нужно, Глеб.
– А ты «Илиаду» бы почитала, вот это вещь…
«Илиаду» Глеб только еще понюхал, но плавная вязь гекзаметров, легкая, вьющаяся, правда ему понравилась. Собачка предпочитала медицину. Этого Глеб не любил – хотя и не знал ничего, но не смущался.
– Медицинские науки? Фу, тоска!
– Нет, нет, наши науки разумные. А названия какие: десмургия, фармакогнозия!
Теперь Глеб фыркал.
– Вот и названия даже у греков сперли.
Собачка защищала. Десмургия полезная наука – о перевязках.
О пользе этой науки, о трудностях зачета могла она рассказать, но при всей к Глебу дружественности не рассказывала, что сама уже вступила, как и Лиза, в круг иной науки, важнейшей: любви. Пылала уже бурным темпераментом своим к доктору Екатерининской больницы, да и он пылал, хоть был женатый. Тут-то все и затруднение. Об этом с Лизой шушукалась Собачка, в ее комнатке, без конца-начала, как и та с ней об Артюше – это относилось к той таинственной области, которая с детства еще называлась «бим-бом»: отсюда Глеба изгоняли, как во времена Устов.
Но о всем другом легко Собачка говорила с ним. И не искала – само шло из того чувства родного, с детских лет близкого, что было между ними. Вспоминали Усты, скарлатину. Калугу, гимназию, Красавца. Глеб достаточно теперь вырос, не мог бы уже прокатиться на Собачке по гостиной, но в существе это было то же: Глеба Собачка принимала целиком, он это чувствовал. И он ее так же. Она это знала. «Расскажи, расскажи, Глеб, как ты там бунтовал, в Техническом?»
Глеб другому и не стал бы рассказывать, но с Собачкой вместе они смеялись, все это казалось ему теперь далеким, странным. «Глупости страшные, – говорила Собачка, – наши фельдшерицы тоже бастовали, из сочувствия, но ты, конечно, должен был показать, что ничего не боишься. Глеб, я тебя понимаю. Помнишь, как Красавец кичился нашим дворянством? У него это выходило чепуха, а все-таки ты ведь барин, и как барин поступил».
Она сделала из своих щек руками кота, потом обняла Глеба и поцеловала.
– Не люблю плебеев… помнишь, нас в гимназии учили? Они все еще на какую-то священную гору уходили? Ну, и пусть уходят. Михрютки! А вот ты не михрютка. Потому у тебя с ними ничего и не вышло.
– Да они не все михрютки.
– Нет все-таки. Глеб, Глеб, я по своим фельдшерицам знаю. И я наших предпочитаю.
«Наши» – значит из Калуги, Мценска, баре. Она сказала это тем же тоном, как в детстве говорила, глядя на картинку: «Мой конь! Мой конь!» Глеб ничего ей не ответил, но такого же, приблизительно, и сам был мнения – не умом, а натурой. Они кровно друг другу отвечали – с ней Глеб чувствовал себя даже свободнее, чем с Лизой. И любил, когда она являлась, с пышущими своими щеками, отрывая от грамматик, но внося живое, теплое, милое и женское, чего так мало было в его жизни.
Около пяти зовут чай пить, в столовую мореного дубка. По бульвару проезжают извозчики, самовар клохчет, угольки в нем краснеют.
Уже сумерки. Мать за самоваром разводит чайную свою деятельность. Отец пьет с блюдечка, со сливками. Около Лизы Артюша, недавно из Чернигова возвращенный – бобрик, горизонтальные усы, в студенческом мундире. Соня-Собачка с Глебом тоже устраиваются. Все течет правильно. Крепко гнездо матери.
* * *
На одном из таких чаев Артюша заявил, что на днях был с товарищем в новом театре. Называется – Художественно-Общедоступный. Ставили пьесу «Царь Федор Иоаннович». Замечательно интересно.
Артюшу стеснял отец. Вообще-то не очень речистый, тут оказался он совсем туманен. «Все там по-новому… толпа так толпа… совсем, ну как толпа, колокола як зазвонят… и царь будто настоящий, и бояре…»
Отец пофукивал папироской, посмеивался. Театры считал пустяками, людей, которые в них ходят – несерьезными (равно и тех, кто любит путешествовать).
Артюша не стал особенно распространяться, но позже, в комнате Лизы разговор возобновился. Глебу показалось, что все это любопытно. «А что же там еще ставят?» – «Ахроменко бачив хороша пьеса одного нового писателя… как его?» – Артюша потянул себя за ус (при отце, наверно, и не вспомнил бы): «Да, Чехова, Антона Чехова. Называется „Чайка“». – «Ну, я Чехова знаю, прекрасный писатель!» Глеб даже удивился, что Артюша так неуверенно говорит. Слыхала о «Чайке» и Вилочка – в этой же комнате сразу решили: взять ложу на ближайший спектакль. Тут же сложились, деньги передали Артюше, он пусть и берет билет. В воскресенье все едут.
Глеб был доволен. Хоть и говорил об «Илиаде» сочувственно, все-таки это древность, далекий мир, чуждый. Чехов же рядом, Чехов – знойный день летом в Балыкове, диван, на котором читаются «Хмурые люди» и «Моя жизнь». Чехов свой и особенный, ни на кого не похожий. А вот теперь он в театре!
Вечером в воскресенье, при некоторых усмешечках отца, Глеб с Лизой покатили с Чистых прудов через Трубную площадь в Каретный ряд. Глеб волновался: не опоздать бы в театр! Артюша говорил, там все по-новому – подняли занавес, так никого уж не пустят, жди конца акта.
Но нехитрый Ванька на санках нехитрых с синею полостью, на среднерусской лошадке, доставил их вовремя. Вилочка ждала у подъезда с билетом.
Все странно, непривычно показалось Глебу в этом театре. Просто, как будто скромно, очень изящно. Серо-коричневый тон, одноцветно, без украшений. На занавесе тяжелой материи белая чайка. В фойе снимки постановок, портрет Чехова.
– Ты знаешь, – вполголоса сказала Лизе Вилочка, – будет еще Лера. Ей очень хотелось, я не могла отказать.
Лиза улыбнулась.
– Скучает с мамашей своей на Волхонке. Ну, вот, Глеб, для тебя и занятие.
Вилочка слегка покраснела. Глеб хотел было сказать, что ему «все равно», да как раз отворилась дверь ложи, Лера вошла. Артюша весело вскочил, раскланялся.
Глеб давно не видал ее, с того весеннего дня у Лизы, во время забастовки, когда изображал из себя деятеля. Нельзя сказать, чтобы он ее позабыл. Наоборот, и тем летом и теперь вспоминал нередко, всегда с некоторым волнением, и не без грусти. Так ему все казалось – ну вот, видел, больше не увижу.
Лера будто бы за это время и похорошела. Сейчас была в сиреневом платье, нарядней Лизы и Вилочки, в духах, в легкой волне очень мягких светлых волос, сильно вившихся. Как бы сам облик прозрачного, свежеиспеченного воздушного пирога, духовитого и сладостного, вошел с нею.
– Maman не хотела меня пускать, но я сказала, что будут одни только барышни…
Она улыбалась, пожимая Лизе руку.
– А вот как здорово maman свою надули, Лера. Тут у нас и студенты.
Лера совсем засмеялась, весело и не так уж смущенно.
– Ну, знаете, мама…
Ее усадили в первый ряд, к барьеру, между Лизой и Вилочкой. Глеб и Артюша сзади – да и пора уже: зазвенел гонг резким металлическим звуком. В зале погас свет. Медленно пошел вбок, раздвигаясь от средины, занавес с белою чайкой.
Лера слегка обернулась.
– Почему же занавес не подымается?
В темноте Глеб не видел ее глаз, но чувствовал их удивленность. Ощущал теплоту волос, от которых слабо пахло хинной водой.
– Н-не знаю… Тут все по-новому.
На сцене вначале было совсем темно. Понемногу взор применился – у самой рампы скамья, дальше группы дерев, меж ними что-то белесое, вроде озера. Мужчина и женщина сели на скамью. «Отчего вы всегда ходите в черном?» – «Это траур по моей жизни. Я несчастна».
«Чайка» началась, юные люди с Чистых прудов и Козихи, Волхонки медленно погружались в ее нервный сумрак. Зала также. Все шло, не торопясь, и не так, как в других театрах и других пьесах. Выбрались к скамье и Тригорин с Аркадиной, появилась Заречная. Худенький Треплев, угластый, похожий на молодого лося, волновался и нервничал – начиналось чтение его пьесы.
Эстрада в саду, за ней доморощенный занавес, Заречная начинает декламировать, слушатели сели спиной к зрительному залу. «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды… все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли».
В зале некоторое движение. У Глеба холодеют руки. Да, ну а вдруг… В партере кто-то засмеялся. На него шикнули. Смех отозвался в другом месте. «Общая мировая душа – это я… я… Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира».
К Глебу опять обернулось лицо с теплыми электрическими волосами.
– Я ничего не понимаю. Теперь Вилочка на нее шикнула.
– Тише! Поймете.
Молодой лось бегает по сцене – горячится непризнанный литератор. Нет, Глеб понимает. Чем дальше идет дело, тем слаще и ядовитее происходящее в полутьме этой, в саду хоть и неведомой, но уже чем-то близкой усадьбы. Нет, это не зря. И не зря зала смолкает, смешков больше нет, слушают очень серьезно. «Как все нервны! Как все нервны! О, колдовское озеро!»
Занавес снова поехал, с боков к середине. Опять чайка на сером его фоне, свет вспыхнул, аплодисменты. «Браво, Станиславский, Книппер…» Артюшины усы победоносны, бобрик крепок, он высовывается из ложи, изо всех сил хлопает. «О цей высокий и есть Станиславский, – показывает его Лизе. – Самый у них главный… то он и есть». – «Чудный, чудный!» Лера скромно помалкивает. Поняла она во всем этом мало, но вообще сейчас очень мило, приятное общество…
Со второго акта спектакль вполне стал на ноги. Больше никто уже не посмеивался. Треплев приносил убитую чайку, Тригорин рассказывал о писании своем, тосковал старый Сорин, и Аркадина появлялась в вечной маске всероссийской актрисы. Все шло вперед, все протекало. С каждым актом те молодые, что приехали с Чистых прудов и Козих, становились старше: узнавали раньше не знаемое и волновались, и затягивались в волшебство театральной выдумки. С каждым действием возрастало их возбуждение. И не их одних. Весь театр непрерывно разогревался, аплодисменты росли. Да, успех! Москва приветствовала скромное свое дитя.
Глеб находился в восторженности. Встретил ли брата, друга? Когда чайка на занавесе отходила, прячась в кулису, и со сцены шел теплый, слегка пыльный, но уютный запах представления, а зал погружался во мглу, Глеб тоже выходил в иное бытие. В бытии том пред ним воздымался – совсем рядом – мягко-пахучий сад Лериных волос, Лерино платье шуршало шелком, слабо поскрипывала косточка корсета. Глаза Леры оборачивались, в них было теплое зеленоватое сияние, прежняя и всегдашняя прелесть и покорное непонимание. Но и никакой самонадеянности. Ну они чего-то волнуются и восторгаются, я не противоречу, хотя сама не волнуюсь, но приятно быть в театре, с молодежью. Чувствовать, что хорошо одета и что нравишься. Худенький молодой человек возбужденно говорит с нею в антрактах – ей хоть и довольно безразлично, что там происходит на сцене, все-таки она охотно слушает (больше смотрит на его глаза, юношеский румянец щек) – во всем соглашается. И тоже нравится, что с ней разговаривают серьезно, «как с дамой».
Глеб в инобытии своем чувствовал, что Лера не такая, как Лиза и Вилочка, совсем «другая», но это не раздражало сейчас, даже радовало. Пьеса радовала его по одной линии, Лера по другой, линии эти не скрещивались, жили отдельно – и уживались.
К последнему действию разогрелись нервы юности в ложе. Нависает беда! Грустно ветр подвывает в усадьбе, хмурь, осень. Горек Треплев, так ничего и не добившийся. И вот – «направо за сценой выстрел».
Долго шумел театр, долго восхищался. Но наконец разошлись. Сивые Ваньки ждали у подъезда господ, везти кого куда. Лере наняли на Волхонку. Она весело села. «Спасибо большое, было очень интересно». Лиза ей крикнула: «Лерочка, приезжайте к нам на Чистые пруды», – Ванька тронул, она из простора московского, из московской ночи еще раз звонко поблагодарила.
А Вилочка покатила ночевать к Лизе. Кое-как втроем уместились на извозчике, не торопясь, до дому доплюхали.
Отец все еще сидел в столовой, читал, потягивал пиво. Ярок свет матового полушара. Тепло. Рядом в кабинете (с мебелью бордо – пуговками) жарко горит камин – бегают отблески его по письменному столу, по дивану, креслам. Хороша молодость! – волнением своим, остротой, новыми мирами, постоянно открывающимися.
Пьют чай, потом забираются в кабинет – в камине жаркий огонь, у камина заново переживают всех Тригориных, всех Чаек, Треплевых. Пусть посмеивается отец: ничего. Важно то, что была благодатная гроза, искусство пронеслось освежающе, сейчас солнце сквозь радугу, капли дождя висят еще в воздухе, но солнце, солнце…
«Ах, какой Станиславский! Книппер!» – «Книппер совсем очаровательна…» – «Главное, это совсем какой-то особенный театр. Я ничего подобного не видела. Играют так естественно, будто это настоящая жизнь, точно вот мы тут сейчас сидим! И такое настроение…»
В окна виден занесенный снегом бульвар, в другую сторону сад – тоже в снегу, замело все дорожки. Фонтанчик завеян, молодые, чуть подстриженные топольки.
Лиза с Вилочкой будут еще болтать в постелях: надо как следует все перечувствовать.
* * *
«Никифор Иваныч, успеем мы пройти курс?» – Никифор Иваныч после дневного сна скромно помаргивает, отлежанная его щека багровеет, борода совсем уехала вбок. Он мучительно перелистывает книгу, подавляя зевоту. Пытается улыбнуться. «Если ничего… особенного, если ничего… как сказать, не произойдет… м-м… если не произойдет ничего… ну, особенного (тут он вздыхает, как перед трудным препятствием) то, полагаю, успеем!» И раскрывает книгу. С блаженным видом начинает бормотать: «Таким образом Ахилл… не удовольствовавшись… ну, там… победой над Гектором… Какой победой? Вот вы и видите тут… определенно точно: „в достопамятном… в достопамятном состязании…“ не удовольствовавшись…»
Классический бред начинался, а январское солнце, потом и февральское, мартовское глядело в оконца толстостенного дома Второй гимназии. Освещало герани на подоконнике, письменный стол с ученическими тетрадками, чечунчовый пиджачок Никифора Иваныча, Глебову упорную голову, склоненную над Ахиллами и Гекторами. Да, Глеб проделывал все, что полагалось, и Никифор Иваныч мог спокойно верить в успех. Но никак не мог знать, что остроугольный и большеголовый его ученик занят, собственно, совсем другим.
«Чайка» – только сгустила это. Вот она литература, жизнь! В промежутках между занятиями Глеб написал нечто. На этот раз принял решение: в великой тайне (ни Лиза, ни даже Собачка не знали) – отправил рукопись в Петербург, в толстый журнал, народнический.
А пока, ожидая ответа, читал и другие журналы. Однажды наткнулся на рассказ, его поразивший.
Что в нем было такого особенного? Весна, разлив, деревню подтопило, плавают на лодках, происходят разные события, сантиментальные и поэтические… – и все это как раз не так написано, как пишут в толстых журналах. Да и журнал не толстый, и под рассказом подпись неизвестная: Андрей Александров. Но как ново, свежо, ярко! Наверно, молодой. Прелестно. А фамилия… очень уж простовато. Неужели писатель с такой фамилией может стать знаменитым? Это Глеба немного смутило, все-таки с книжкой в руке он отправился к Лизе.
В комнате ее пианино, над ним Бетховен. Светлые занавески на окнах, жемчужный свет дня мартовского сквозь них, в садике уж совсем сухо.
Лиза только что кончила играть. Артюша, в кресле, покручивает горизонтальные усы.
– У-у, який сумный Глеб!
– Нет, я ничего… я вот рассказ замечательный прочел.
– Давай сюды, и мы прочитаем.
Артюша протянул руку, взял журнал. Он был уже на ты с Глебом, относился к нему ласково, Глебовы остроугольности ему даже нравились. Глеб это знал. Они были в добрых отношениях.
– Завтра у нас Лера будет к чаю, – сказала Лиза. – Глеб, она здесь уже третий раз, тебе надо бы тоже к ним заехать.
Глеб смутился.
– Ну, чего там…
Лиза подмигнула.
– Чего ни чего, нужно бы… на Волхонку.
Артюша взял его за обе руки, вытянул вперед голову.
– У-у-у, Глебочка, поезжай. Лера складная дивчина, як пава ходить…
Он вскочил, сделал вид, что распускает хвост, прошелся по комнате.
– Ах, что там Лера!
– Да уж знаем, знаем… – Лиза сделала обезьянью мордочку.
Глеб быстро прервал.
– Рассказ лучше читайте, чем пустяки болтать.
И ушел к себе. За учебники не засел, лег на диван. Не лежалось. Он встал, оделся, вышел на улицу. Писать! Так писать, как Чехов, или этот Александров. Ну, разве это возможно?
Весенний ветер бурлил, рвал на Чистых прудах, но весело рвал, тепло, с яростью молодости. Путаные облака неслись по небу, оно было пестрое, но тоже полно света, свет и в ряби луж, вздуваемой ветром, и в чириканье воробьев, и в брызгах из-под резиновых шин пролеток. Но что-то беспокойное, мятущееся. На углу гремела в порывах плохо пристроенная вывеска.
Примут ли в журнал рассказ? То видел он уже подпись свою и фамилию в оглавлении, то ясно представлялось, что его, никому не известного, никуда и не примут. Да и не ответят вовсе.
Глеб прошелся так, в пестрой весенней буре, иногда сладко задыхаясь от ветра, вкусного, как нежный персик, иногда шляпу придерживая, иногда ветер подхватывал его и почти нес. Он весь находился в коловращении стихий.
Возвратившись домой, тотчас явился к Лизе, несколько бледный, будто и усталый. Спросил строго:
– Ну, прочли?
У Лизы был равнодушный вид. Артюша подклеивал ей какую-то коробочку.
– Да, прочли. Ничего особенного.
– Как ничего особенного?
Глеб слегка задохнулся. Артюша мирно поднял от своей клейки голову. С добродушным удивлением взглянул на Глеба.
– Я сам вслух читал. Може, я плохо читаю… а тольки… нам не так уж очень… чтобы.
– Да ведь это превосходная вещь! Что ж вы, читали и ничего не поняли?
– У-у, Глебочка, не журись! Понять поняли, да что-то не тово…
Лиза села за свое пианино.
– Правду сказать, Глеб, я не понимаю, чем ты так восхитился?
Глеб пытался доказать, что все это и по-новому, и с талантом написано, но скоро почувствовал, что слова не доходят – что такое? Лиза, с детства своя, и не понимает? Он стал раздражаться. Гнев его, вероятно, был и смешон, во всяком случае Артюши не взволновал. Наоборот, благодушие его лишь возросло, он вдруг вскочил, ухватил Глеба под мышки, выволок на середину комнаты.
Этот клад, виноград, Нам Нормандия рождает Что за вкус, вот игра, За Нормандию – ур-р-ра-а!Почему русский студент с Козихи так восторгался Нормандией, почему думал, что это родина винограда? Но в Москве пели тогда эту песенку и как честный медик пел ее и Артюша – хотел, чтобы и Глеб помогал. Глеб нервно вырвался. Обругав их обоих, под хохот, марш, неожиданно грянувший на пианино, выскочил из комнаты. Не поняли Андрея Александрова! Не оценили Глебова вкуса!
Это ничего не значит. Не поняли и не поняли, их дело, им же хуже. От этого рассказ не испортится. И он, Глеб, своего мнения не изменит. Наоборот, еще более убеждается, что прав именно он.
Опять диванчик в комнате Глебовой, подушка под головой. Голова горячая и раздраженная, подушка быстро нагревается. Нет. Он, конечно, один. Кто его поймет? Даже Лиза, даже Лиза…
Глеб вертелся, лежал, вставал. Так же, наверно, и его рассказа не оценят в журнале. А вот Александров, может быть, и оценил бы. Но где он? Кто он такой? Если бы знакомым с ним хоть быть?
К ужину Глеб вышел хмурый. Мать сразу это заметила. «Заработался очень, все с книжками, книжками…» Обнять бы его, приласкать, чтобы он что-нибудь про себя сказал. «Разумеется, ведь и возраст его такой… переходный». Но мать отлично знала, что ни обнять, ни приласкать Глеба, когда он в таком духе – нельзя. Отец тоже видел, что Глеб не в порядке, но относился гораздо проще и равнодушнее. Отец вообще считал, что всякие эти «настроения» – чепуха, выдумка «книжных» и «городских» людей, не понимающих ничего ни в деревне, ни в охоте. Теперь бы на тягу хорошо, куда-нибудь в Сопелки или на Касторас, а они опять в Художественный театр соберутся, смотреть какого-нибудь Ибсена или Чехова и потом до зари охать и восторгаться.
После ужина, уходя, Артюша добродушно Глеба обнял.
– Глебочка, не журись… Який сумный! Как тебя в детстве-то называли? Herr Professor?
Глеб прохладно высвободился. Беспокойство, волнение томили его.
– Никак не называли. Никакой не профессор.
– У-у, дурный!
* * *
Мать встречала Леру раза два, но бегло. Из усмешек Лизы, ревнивых вспыхиваний Вилочки, из Артюшиных шуточек понимала, что Лера Глебу нравится. Нельзя сказать, чтобы ей самой она не понравилась. Видная девушка, что и говорить… Очень привлекательная. И из порядочной семьи. То, что отец Леры председатель суда, известный юрист, человек серьезный и с положением – хорошо. В общем же вся «эта» сторона Глебовой жизни все более и более ее занимала: Глеб несомненно в «таком» возрасте, все «это» неизбежно. Отца его она достаточно знала, Глеб, конечно, молчалив и скрытен, но – она чувствовала уверенно – в «этом» совсем такой же. Как ни печально, такой же. При всей его благовоспитанности. Слава Богу, там, в Гавриковом переулке, ничего с ним не приключилось («ну, эта гусыня…»), но произойти может в любой день.
Влюбится, и конец. Или подцепит его какая-нибудь авантюрьерка – еще того хуже. Конечно, он очень молод, о женитьбе что говорить, все-таки лучше уж встретит хорошую девушку нашего же круга. Мало ли, роман может тянуться, еще предстоит высшее образование.
Лизин выбор мать не особенно одобряла, этот Артемий слишком уж демократ, чуть было из Университета не вылетел. Впереди Лизе быть кем? Женой земского врача? Но ничего не поделаешь. Тут дело уж крепко, близко к свадьбе. А насчет Глеба еще все вопрос.
Тем с большим интересом встретила мать Леру в то воскресенье, когда все было так очаровательно пестро, светло от дня погожего, редкого по теплоте и ясности, в залитой светом столовой особняка, за столом с грузом конфет и тортов, изделий Эйнема, и варений домашних, и самовара домашнего, при голубом небе, в котором за окном ветер покачивал тонкие ветки тополей – воздушная тень реяла. Лера явилась тоже вся в светлом, сидела меж Лизою и отцом, прямо напротив матери, свежая и благоуханная, вновь похожая на воздушный пирог. Глеб рядом с матерью – напряженный, нервно молчащий.
А отец распустил хвост. Ему Лера сразу понравилась, мужской нюх не обманывал. Мать степенно расспрашивала ее, отец перебивал, хохотал – Лера держалась довольно мило, была розовая и от некоторого смущения (чувствовала, что мать не то экзаменует ее, не то рассматривает).
Узнав, что она поет, отец вполне воодушевился. «Не искушай ме-ня без ну-ужды, воз-звратом неж-жно-сти твоей…» – он тут же за столом, в четверть голоса, ласково на Леру посматривая, стал напевать романс, чем ее несколько удивил. Матери это не очень нравилось. Она предложила, чтобы Лера как следует спела в гостиной, Лиза поакком панирует.
Чай отпили. Лера помялась, все-таки отказать не решилась.
У рояля стояла она высокая, стройная, спела что надо (более чем средне), отец аплодировал и все порывался устроить дуэт. Но Лера отговорилась: не в голосе, да и дуэтов отца не знает.
– Я ведь вообще мало пою и мало училась. – Она улыбнулась довольно благодушно. – Я просто так, по-любительски…
Мать ласково на нее смотрела.
– А почему же вы в Консерватории не учитесь?
– Ах, знаете, maman… всего боится. Она думает, что в Консерваторию идти, значит, уж там театр, что я буду актрисой.
– Почему же, вот и моя Лиза в Консерватории…
Лиза засмеялась.
– Мамочка, Лерина мама как огня боится Консерватории. Она думает, что консерваторки все богема, что там дурные нравы, примеры.
Мать более серьезно поглядела.
– Правду говоря, я сама вашу Консерваторию не очень люблю. Много и грубоватого, и профессора разные бывают… и ученики.
Лера складывала ноты.
– Я нисколько не опасаюсь Консерватории, но maman… впрочем, она вообще немного… retardataire[22].
И они с Лизой опять весело улыбнулись.
– Лерочка, а вас нынче легко отпустили?
– Ну, знаете, ваш дом солидный.
– Так что даже и без горничной?
– Что вы, я и в театре с вами была одна. Отец отворил балконную дверь.
– Вот денек! Вот денек! Эх, нынче вечером тяга какая в Балыкове!
– Что такое тяга? – спросила Лера.
– А, вы городская барышня, вы не знаете.
И стал объяснять. Это Лере не так было интересно. Но на балкон она вышла. За ней Глеб.
– Какой славный садик!
– Хотите пройтись?
Лера с Глебом спустились. Отец, в виду солнца и тепла, вынес на балкон пиво и уселся.
Он был прав. День удивительный. Вчера бурлило, трепало, нынче все тихо, задумчиво, тепло, золотисто. Лера шла легко по дорожке, легко входя в музыку весны. Песок еще чуть влажный, но ничего, нет уже сырого, неприятного. Все приятно. И все звучит – как надо. В Лериных волосах нежно сияет свет, ореолом. Движения тела стройного лучше поют, чем было там, у рояля. Вот она полуоборачивается, Глеб видит мягкую, сильную шею, глаза полны улыбки, зеленоватого блеска. Разговор ни о чем, да и не разговор, просто отдельные слова, но все радостно, интересно. Вон свежая крапива выбилась у забора, какой запах! Какая зелень! Ведь первая. Рядом желтенький одуванчик – прелесть!
За садиком, вокруг, разумеется, и Москва, там пролетки гремят, но здесь тихий пригретый рай.
Глеб с Лерой прошли в дальний конец рая, сели на скамейку, лицом к дому, и вот солнце их пригревает, голубой дым в небе, золотой свет на земле. Так бы все сидеть, сидеть.
– У нас в Астрагани тоже очень хорошо. И весною, и летом.
– Астрагань… это что?
– Наше имение, под Смоленском. Там станция Духовская и к нам несколько верст, на лошадях.
Лера смотрела ему прямо в глаза, немного откинувшись на скамейке. Он видел, как билась у ней нежная жилка на шее, завиток волос, мягко золотевший, очень легкий, почти его касался.
– Много лесов, озеро внизу. Приезжайте после экзаменов, вот и увидите. Мама будет очень рада.
– Спасибо… да… после экзаменов.
Глеб довольно бессвязно еще что-то пробормотал, но красноречия не обнаружил – да его и не надо было. Лера раздумчиво улыбалась, он сам тоже улыбался.
Может быть и Астрагань, а пока и тут хорошо, как прекрасно! Вот бабочка прилетела, разноцветная, уселась на веточку, в том блаженстве тепла и света, как и они сами. А другая, ярко-желтая, показалась совсем бесплотной, летит зигзагами, сама весна летит, Психея. И это непременно так, она не зря, она ведь возвестила нечто невесомым и бесшумным своим полетом.
Глеб сказал тихо, для себя неожиданно:
– Как нынче хорошо!
Лера смотрела на бабочку. Но подняла на него глаза.
– Хотите… давайте запомним сегодняшний день, и как мы сидели вот тут на солнышке.
– Хочу. Это чудесный день.
Они верно назвали, не слукавили и не ошиблись.
Жизнь же обычная шла своим ходом, по своим законам. Посидев на солнышке (ничего ведь и не произошло!), благовоспитанно они вернулись.
Отец продолжал тянуть пиво на балконе. Когда Лера сказала, что пора ей уже уходить, он изобразил изумление и, как нередко делал с теми, кто ему нравился, взял ее руку в свою и погладил.
– А я думал, вы у нас ночевать останетесь и завтра отобедать… Куда вам спешить? Оставайтесь, поселяйтесь у нас.
Лера отца не знала, шуточек и приемов его еще не усвоила – удивленно, но весело рассмеялась.
– Нет, поселяться не собираюсь.
В дверях появилась мать. Она слышала отцовы слова. Некоторая тень прошла по ее лицу, но легкая. Она приветливо обратилась к Лере:
– Очень рада буду видеть вас у себя и еще. Приходите, голубчик, запросто.
И, обняв, прохладно поцеловала в лоб. Лера чуточку покраснела.
* * *
На звонок Глеб вышел сам. Почтальон подал почту. Одно письмо, с бланком петербургского журнала, именно и должно было попасть прямо к нему, без всяких вопросов, расспросов, Лизы ли, матери или Артюши. Письмо ударило горячим в ноги. Глеб перемогся, сунул его в карман, а «Русские Ведомости» положил отцу на стол.
Свое письмо вскрыл, заперев дверь. Писал редактор. По мере того как Глеб читал, ноги его холодели, в горле сохло. Длинно, благожелательно и почти ласково народник сообщал, что хотя в присланном есть бесспорные достоинства, но в общем это «не подходит», напечатано не будет. «Ну, конечно, я так ведь и знал…» – Глеб старался быть покойным, отложил письмо, принялся было за Тита Ливия. Но сейчас же, с болезненной остротой, вновь развернул бумажку, опять перечел. Да, разумеется. Чтобы утешить, говорит о даровании, это слова, вот если бы напечатал…
Глеб лег на диван, закрыл глаза. Едко и жестоко ныло сердце. Да, и тут пролетел, как раньше в рисовании и живописи. Все равно, пусть и на экзамене провалится, один конец: не удалось, не удалось… Жизнь не удалась – ну и Бог с ней. Это очень мило, разумеется, что народник такой благожелательный, но и Глеб не ребенок, пустяками его не умаслишь. Нет, он не боится правды. Недоросль так недоросль, неудачник так неудачник. Что же. Это его доля. Жизнь пройдет быстро. И, конечно, в страданиях. Никому до этого дела нет. Вот он, Глеб, бездарный художник, бездарный писатель, лежит сейчас на диване, но никто никогда не узнает, что он чувствует и к чему стремится. Ах, если бы вот взять, вздохнуть… – и не проснуться.
Он лежал на спине, с закрытыми глазами, но не засыпал. Конца не наступало. Напротив, жизнь, таинственный поток, в котором плыл и он, и Лиза, мать, отец, Москва, Россия – продолжался. Солнце милой весны медленно, неотвратимо все перемещалось, все вело ковер свой золотой из окна по полу, ковер всползал к Глебу, нежно золотил руку его, протянутую вдоль бедра. В этой руке кипела кровь, в такт биениям ее, как великое радио, сотрясалась его душа, посылала вокруг волны. Глеб был юн, так был полон сил, тоски, непонятного ему самому напора, так сжигался огнем, которому и конца-края еще не видно было…
Он не мог больше лежать. Встал, снял пиджак, снял ботинки, оглянулся – в зеркале увидал побледневшее лицо с блестящими (точно бы небольшой жар) глазами. Медленно, чуть приседая, стал красться вдоль стены, потом на диван – вроде леопарда в штатском – прижимаясь к спинке его. Это ему нравилось. Это было хорошо. Раздирало сердце, но и раздирание такое утоляло.
В дверь постучали.
– Нельзя.
– Глеб-Глеб, это я, отопри.
Голос Собачки. Не труба Иерихона – глас детства, ныне курсистки с фармакогнозией и десмургией. Не отворить невозможно.
Вид Глеба Собачку удивил, но – по сообщающимся сосудам родного, чутьем женщины безошибочным – она его приняла, поняла, обняла и поцеловала.
– Глеб, Глеб, ты тут в одиночестве распространяешься? У тебя от дураков-греков голова кругом пойдет. Вон ты без башмаков, ах ты милый Глебочка, что же ты тут выделываешь?
Глеб смотрел на нее серьезно.
– Я путешествую.
– Как так?
– Странствую. Вот в этой комнате.
Он сделал рукою кругообразный жест.
– Зачем же это?
– Мне так нравится.
– Глебочка, ты на четвереньках?
Собачка спросила таким тоном, точно на четвереньках – самое обычное, точно все происходит в Устах и в детстве. Так же спокойно и Глеб ей ответил:
– Нет, не на четвереньках. Но вот башмаки снимаю. Чтобы диван не замарать – тут у меня и дорога по дивану.
– Глеб, Глеб, давай вместе! Запри дверь.
И Собачка сняла ботинки. Путешествие возобновилось. Но теперь уже в виде маленького каравана: впереди Глеб, за ним, в шаге расстояния, стараясь попадать в след его – Собачка, Под могучим телом ее скрипнул диван, в одном месте она чуть не опрокинула вазочку. Все же благополучно и даже легко сделали они два тура. На третьем она обхватила его сзади за шею, обняла и захохотала.
– Глеб, Глеб, отпутешествовали! Довольно. И обрушив его на диван, сама села рядом.
– Ну вот и будет. Я тебя понимаю. Ты чего это такие глупости выдумываешь? Влюблен, что ли, Глебочка, влюблен?
Она гладила ему голову, слегка ероша волосы. Глеб лежал на спине, побледневший, закрыв глаза.
– Я ничего… нет, я ничего.
– Уж я вижу… да ведь ты не скажешь… и не говори. Лежи, Глебочка, отдыхай, тосковать вовсе тебе не надо.
Глеб лежал, он не говорил, но и не гнал ее. Ему, правда, сейчас было покойнее, время же будто бы шло назад, к дальнему домику Тарховой, невыдержанному экзамену, первому утешению этой же самой Собачки. Как и тогда, мягкая ее ладонь на лбу и на лице заглаживала зыбь в душе – тягостную и мучительную. Но в Калуге Собачка могла поделиться с ним детскими горестями, а теперь любовные свои томления только Лизе поверяла. Также и Глеб словом не обмолвился о неудаче, да Собачка не так и допытывалась, в чем дело. Она считала Глеба не совсем обычным, еще с детства – особенным. Сердцем понимала, что у него есть что-то на душе – а что именно? Не все ли равно? Если и влюблен, она не Вилочка Косминская, ее это не задевает. Да нет, причина не та.
Она сидела у него, как всегда, до вечернего чаю. Разговор понемногу наладился – совсем обычный. Глеб перед нею не козырял. Лежал на диване тихий, немного грустный, но с каждой минутою чувствовал, что жизнь именно не уходит – не словами думал, а ощущение такое было: не иссякает жизнь, а прибывает, вместе с теплотой тела Собачкина и лаской.
В столовую вышел почти уже нормальный. И никак не боялся, что выдаст его Собачка.
В нем было теперь и новое, твердое, без его воли всплывшее: продолжать. Писать, писать, писать! Не Никифор Иваныч, не греческие глаголы, не Ливий и «Илиада». И не старый народник. Новое, все другое, все свежее…
Ближайшие дни Глеб отдал на розыски Александрова. Адрес его не так легко было и достать. В тишине, полной тайне Глеб все-таки раздобыл. Ехать к совсем незнакомому человеку! Он холодел. Может быть, дерзко? Не принято? Как Александров посмотрит? Но не ехать нельзя. Все равно, одержим, болен желанием. Невозможно сидеть, «Илиаду» читать… хочу и хочу, поздно, не остановишь. И откладывать нечего.
В три часа, в пятницу, вот подходит Глеб к дому № 15 по Владимиро-Долгоруковской. Серая улица за Садовой, к Грузинам. Дворника не оказалось. Спросил худенькую девчонку, тащившую лохань с помоями, где здесь живет писатель Александров. Девочка указала вход, добавила: четвертый этаж. На лестнице у Глеба стали леденеть ноги. Куда он идет? На какой Монблан с черного хода? (Лестница оказалась именно для прислуги.) Глеб сжимал портфельчик с рукописью, но и ледяных ног остановить не мог. Полутемными закоулками, где иногда попадалось ведро, метла, пахло чадом кухни, поднялся на четвертый этаж. Перед дверью, обитой клеенкой, на мгновение остановился. Ну, да уж что там!
Вся кухня была в пару – он ходил сизыми, влажными облаками. Посреди корыто, в нем стирала белье немолодая женщина с худеньким, приятным лицом простонародного типа. Она удивилась, но приветливо, карими глазами посмотрела на Глеба.
– Я… собственно, я… можно видеть Андрея Иваныча?
Женщина улыбнулась, обтерла руки, приотворила дверь в коридор.
– Сынок вот тут, пожалуйте. Сейчас направо.
Она пошла вперед, в темном коридоре постучала в дверь.
– Андрюшенька, к тебе.
Глеб был настолько взволнован, что не обратил даже внимания на то, что бедно одетая эта женщина с засученными рукавами оказалась матерью Андрея Александрова.
Да и некогда было внимание обращать. Дверь отворилась, Глеб вошел в небольшую комнату. Тут никто не стирал. Обставлено очень скромно – кожаный диван, над ним портрет Толстого, у окна письменный стол, полочка с книгами. Жилье литератора российского, с пепельницей, окурками, табачным дымом.
Андрей Иваныч оказался темнокудрым, темноглазым, быстрым в движениях сыном своей матери. Как и она, очень приветливо поднялся навстречу. Да, это он. Это он, даже лучше, чем он. Глеб давно о нем думал, воображал, старался представить себе его. Андрей Александров был отчасти его наваждением, посетителем одиноких часов и мечтаний. Теперь вот он здесь, – Андрей Иваныч, «Андрюша» и «сыночек». Блестящие, нервные глаза – очаровательные. Нет, не ошибся. Страх сразу пропал.
– Извините, – сказал негромко, но не погибая, – что побеспокоил вас. Я читал ваши произведения, мне настолько понравилось… я и решил…
Тут Глеб начал немного путаться. Но на него пристально, доброжелательно смотрели глаза Андрея Иваныча, сама папироса в руке дымилась сочувственно. Показав рукой на портфельчик Глебов, он улыбнулся.
– А там, конечно, рукопись?
Глеб на улыбку не обиделся, обижаться было бы глупо: Андрей Иваныч, хоть и старше его, но тоже молодой и держится по-товарищески, совершенно просто.
Так оно началось, так и продолжалось. Глеб сидел скромно на стуле, хозяин, непрестанно куря, разгуливал взад-вперед, блестя глазами, то поворачивая к Глебу тонкий профиль со вздрагивающими ноздрями, то в упор на него глядя, как бы магнетизируя. Дымящейся папиросой рисовал на ходу узоры в воздухе. Правой рукой по временам поправлял волосы на голове.
Все Глеба затягивало: и комната, и диван, и почерк хозяина – на столе лежал исписанный им лист. Более же всего он сам – то, что у него прекрасные глаза, нервно-меняющееся лицо, Мягкий говор московско-орловский, такой простой, светлый тон с незнакомым. Опьянение Глеба росло. Покорение завершалось.
Может быть, это чувствовалось и в лице его. Подделать восторженный взгляд нельзя, нельзя веру подделать и обожание. Андрей Иваныч сам еще молодой писатель, недавно начавший – вот пришел к нему неизвестный поклонник, который – если бы и захотел – не может скрыть чувств. Все написано на юношеском лице.
Андрей Иваныч не знал еще, в каком роде и как пишет Глеб, но заранее был к нему расположен. Избалован еще не был. Не первый ли почитатель и заявился к нему, вот так с улицы, преодолев робость?
– Я прочту, прочту тотчас, и напишу вам. Нет, толстый журнал, конечно, не годится. А тут скоро будет выходить новая газета и меня как раз просят заведовать литературным отделом. Вот что-нибудь нам маленькое, импрессионистическое, знаете ли. Эту вашу рукопись я прочитаю, но она велика.
Он стал листать ее, просматривая.
– Ну да, в форме лирического дневника. Я так и думал… – Он опять улыбнулся. – Разумеется, для того журнала не подходит.
– Да я… эту вещь вовсе и не для печати… это так, для себя.
Тут Глеб преувеличил. Но настолько был увлечен, настолько любил сейчас Андрея Иваныча, что охотно ему уступил бы эту рукопись (всю слабость которой вдруг почувствовал). Нет, это не то, конечно. Он напишет другое, настоящее, что воистину понравится.
А хозяин курил уже третью папиросу. Держа ее меж вторым и третьим пальцем левой руки, расхаживал все быстрее. Говорил о литературе. Довольно эпигонства, пережитков реализма! Идет новое, только оно может освежить…
Ясно, что именно это новое и вычерчивает узоры своей папиросой. Глеб не спускал с него глаз. Да, тайное желание не обмануло. Решительный день! Не напрасна была тоска, все томление последнего времени. Да, сюда, в эту узкую комнату с кожаным диваном и портретом Толстого. Да, все правильно.
Матушка принесла на подносе чай с вареньем. Андрей Иваныч сел.
– Мать, готовь нам еще по чашке. Самое время.
Он ласково погладил ее по плечу – как старую и милую игрушку.
– Да мне не жаль, Андрюшенька, ты не подумай… Мне не жаль. Кушайте с Богом.
Эта мать уж нисколько на Глебову не походила! Но он от всего сейчас был в восторге.
Андрей Иваныч стал Глеба расспрашивать о его жизни, семье. Рассказывал и о себе.
Время шло. Оно полно было для Глеба высшего значенья. Он себя чувствовал так, будто уж давно они знакомы, будто и ничего нет удивительного в том, что вот он распивает чай со своим старшим братом, которого вчера и в глаза еще не видал.
Расстались на том, что, прочитав рукопись, Андрей Иваныч Глебу напишет, они опять поговорят, а когда выйдет газета, Глеб попробует свои силы на небольших вещах.
V
Первый класс был как полагается – синий вагон с длинным коридором, купе с диванами красного бархата, на спинках белые вышивки. Пустынно, тихо, в фонаре над входом полузавешенная свеча. Никифоры Иванычи, латынь и греческий и треволнения зимы московской, экзамен в Шестой гимназии – все вчера, навсегда ушло. Начинается новое.
В известный момент поезд с полупустым первым классом, везя новоиспеченного, нарядного студента, отошел. Поезд не торопился. Он составлял часть той небыстрой, крепкой и наполненной России, что могуче воздвигалась на своих пространствах. Огоньки близ Ваганькова уходили, путь лежал мимо Кунаевых, Голицыных, подмосковными лесами и полями, вблизи разных Архангельских, Ильинских по Москва-реке.
Глеб стоял у окна, смотрел пред собою на тучу, во мгле тогда обнажавшуюся, когда дальние молнии раздирали ее сухим золотом. Этот свет был прелестен. Он таинственно блистал Глебу в сердце – освещал, вновь во мрак погружал, возбуждал, но и успокаивал. Одиночество нужно было ему сейчас. Вновь переживал он происшедшее. Для других, может быть, и неважно. Для него важно.
Второй день Пасхи – поздней Пасхи конца апреля. Глеб в волнении едет на извозчике на Волхонку. Разные молодые и немолодые люди летят с цветами и конфетами на лихачах, все с такими же целями, что у него: с визитами. И разноголосый, пестро-светлый гром колоколов Москвы все это веселит, подгоняет: мчитесь, летите, везите свои цветы – Христос Воскресе!
Это же Христос Воскресе Глеб привез в узенькую прихожую четвертого этажа на Волхонке, и почтительно поцеловал ручку овцевидной Лериной матери (отец, слава Богу, уехал в Петербург). Среди куличей, красных, зеленых яиц сама Лера сияла молодостью и приветом. И потряхивая кудряшками на лбу, maman, Поликсена Ильинична, угощала Глеба заварной пасхой кондитерской, пасхой собственного изделия, пасхой Лериной и куличами. Тесна и скромна квартирка, но в окно пестрый свет, в окно светлый звон, вся Москва входит этими колоколами, грохотом пролеток, воробьиным щебетом, нежной зеленью тополей из Архива иностранных дел. Входит вся эта прелесть и отражается, и усиливается в светлой младости Леры, в пышном нежном теле ее, отсвете зеленоватых глаз. Глеб смущен, остр, но радостен. Не слова важны, другое.
«Maman, Глеб Николаевич раньше начала июня в Астрагань не сможет попасть, у него экзамен»… Maman любезно кивает, улыбается. (Нет, это приличный молодой человек, она его не боится.) «Очень рада буду вас видеть… Тем более, знаете, мы там одни, Лерочке скучно…»
Кондуктор идет. Глеб опять чувствует себя взрослым, нарядным пассажиром первого класса. О, теперь разница с тем днем пасхальным! Теперь он студент. Не напрасно учил его Никифор Иваныч. Не зря, значит, все «апетметесан тас кефалас».
Постояли на глухой станции, дальше двинулись. Туча так же далеко, молнии реже. Но такая же тишь, ширь полей российских. Утоляющий мрак. На нем ярче совсем-совсем недавний день солнечный, переулки замоскворецкие, знаменитая решетка двора Шестой гимназии, острый запах краски, холодок волнения… в большой зале экстернов за зеленым столом экзаменаторы, и Титы Ливии a livre ouvert[23], и спокойный, медлительный, как вечность, Гомер.
Все это было, да как бы и не было. Сном ушло в ряд других снов, тоже бывших, тоже минувших. Сном станет и это странствие. Но пока что оно продолжается. Не век стоять в коридоре. Ноги устали, Глеб перебирается в купе. Там вынимает из чемодана подушечку и ложится. Мягко идет вагон! Чуть вздрагивает пальто на крючке подле фонаря. Астрагань, Лера, Поликсена Ильинична… Что это за такой шаг? В синеющей мгле вагона ясно он видит Леру, с некоторым замиранием, как рад встретить завтра! Но кто он? Что он ей? Ничего не знает, едет и едет, что там будет увидит, а сейчас вот лежи так, слушая погромыхивание колес.
Он долго не мог заснуть. Вспоминался и Александров – Глеб вновь у него побывал. Рукопись он прочел и одобрил, но, конечно, надо дать для печати что-нибудь покороче. Все неясно, все впереди – все-таки в будущем что-то уж скрыто. Это наверно. А сейчас Александров на даче, в Царицыне под Москвою. Надо к нему тоже съездить, он зван.
Глеб перевернулся, вздохнул. Давно не чувствовал себя таким и взрослым, серьезным – важным даже, что ли?
Поезд идет. Где надо и остановится. И пока Глеб с надеждами своими, силами и помыслами покачивается в купе, на диване бархатном, мимо проходят Можайск, Бородино с полем сражения, Наполеоном, Толстым. Скромная Вязьма с пряниками. Вдали, очень еще вдали, сквозь поля и суглинок, сквозь леса – много их тут! – далее Духовской сам Смоленск. Древний, славный, многострадальный Смоленск.
* * *
Глеб не так представлял себе Астрагань. Уж на Духовской слегка удивился, увидев не коляску тройкой с кучером в плисовой безрукавке, а пару в тележке с вихлястым парнем на козлах. Все подержаное, более чем скромное. Езда трухом. Более часа до Астрагани.
Там тоже получилось странно. Со Смоленского шоссе, на полугоре, свернули направо, проселком в лес. Парень слегка оживился, хлестнул пристяжную. Обернулся к Глебу: «Она самая и есть, Астрагань».
На лесной поляне, не так давно и разделанной, завиднелся дом – деревянный, небольшой, скорее по-крестьянски, чем по-барски срубленный. Только мезонин выдавал – да и тот сидел слишком уж грузно. Никаких колонн, парка, старомодно-тургеневской поэтичности. Вернее бы сказать: на довольно некрасивом месте, где наверно много комаров, лесной хутор с пристройками и молодым садом.
Парень все-таки подкатил рысью, изо всех сил. Стал накрапывать дождичек. Пассажир первого класса не весьма был покоен. Новое место, все здесь чужое. Разумеется, Лера… – но Поликсену Ильиничну он почти и не знает. Жутко.
В прихожей неловко улыбнулся, покраснел, поцеловал ручку Поликсены Ильиничны.
Лера была в скромной кофточке, по-деревенски, букетик незабудок на груди, вся свежая и улыбающаяся. Как всегда, на голове светлый дым волос.
Как ни любила приличия, как ни боялась всего овцевидная maman со своими кудряшками, выпуклым лбом, институтскими манерами, все же полна была гостеприимства и благодушия всероссийских. «Не устали в дороге? Ну, слава Богу! Вот и прекрасно, у нас после экзаменов отдохнете. Да? Трудно, наверно, экзамены-то? Очень трудно! Ну, Лерочка, надо Глебу Николаевичу комнату его, ну показать его комнату. Вы кушать, наверно, хотите?» Она говорила быстро, не совсем внятно, смотрела на него, вытягивая вперед голову, светлыми, слегка навыкате близорукими глазами с выражением благожелательной бессмысленности. Во всей ее худоватой фигуре, в небрежности одежды, в общем духе бестолковости, от нее исходившем, было и чуть смешное и почти трогательное.
Лера повела Глеба наверх, по узенькой, скрипучей лесенке. Ему показалось, не в курятник ли какой? Но он лез покорно. Мезонинчик был, правда, скромный. С площадки две двери – Лера толкнула одну, парень втащил за ней Глебов чемодан.
«Это ваше жилье, – весело сказала Лера. – А напротив мое. Я очень рада, что вы приехали. А вы?»
Глеб улыбнулся: «И я рад. Очень рад».
Лера ушла, он стал разбираться. Комната невысока, вся пахнет свежим деревом, довольно чистая. Нет, не курятник, а быть может, вроде дачи под Москвой. Стеклянная дверь выходит на балкончик, крытый, тесный, выходящий на поляну. За ней лес.
Глеб вдохнул густой, прелестный запах леса. Что-то и чужое, и свое здесь, милое и ненужное. Вон он куда заехал! Вдаль. Как-то все будет? Как-то? Ну, за несколько дней…
В деревне для приезжего трудней всего первые часы – надо войти, примениться к чужому складу. Да и претерпеть некоторые обряды.
За завтраком, внизу в столовой, Глеб чувствовал себя еще несвободно. Кроме Поликсены Ильиничны и Леры оказался тут гимназист Митя, Лерин двоюродный брат, толстый, здоровый и веселый малый лет четырнадцати. Так же, как Глеб, усердно уплетал яичницу, но считал себя дома и совсем не стеснялся. Поликсена Ильинична иногда с ужасом на него взглядывала – он беззастенчиво вылезал с локтями на стол. «Les coudes, Ies coudes!»[24] – шептала она грозно. Кудряшки ее подрагивали. Но грозности не получалось. «Виноват, тетенька, я сейчас…» И сняв локти, вдруг начинал ковырять в носу. Лера смеялась – и на него и на мать. Митя всех обгонял в еде, болтал ногами, вскакивал иногда с места – ловить муху.
«Глеб Николаевич, я после завтрака покажу вам нашу Астрагань, – говорила Поликсена Ильинична. – Знаете ли, нашу усадьбу, все постройки, службы, сад… это, видите ли, так сказать… любимое детище мужа, но его сейчас вызвали в Петербург в министерство. Я покажу вам все его хозяйство».
Земляника со сливками имела успех. Митя так на нее навалился, что Поликсена Ильинична с ужасом зашептала: «Dmitri, ru auras un flux de ventre»[25]. Митя усмехнулся и ахнул еще тарелку.
Дождичек перестал. Все было сребристо-жемчужно, нежно в воздухе. Из-за облачков, слабо видимое, пригревало солнце. Капли сияли по траве, на кустах сирени. Но все так быстро сохло, что не побоялась Поликсена Ильинична тотчас вести Глеба по хозяйству. Лера улыбнулась: «И я с вами». Она видимо была в добром настроении. Поликсена Ильинична надела калоши, какую-то удивительную тальму, взяла в руки палку. Митя убежал рыть червей. Караван тронулся.
Хозяева считают, что гостю все должно быть интересно. Как бы чего не позабыть! Не пропустить какой достопримечательности. «Вот тут, знаете ли, у нас свинья… да, видите, какая свинка, это их закута… свинья. А вон там загородка для цесарок. Александр Степаныч цесарок любит…»
В конюшне стояла пара только что вернувшихся лошаденок. Глеб узнал, где и когда они куплены, сколько заплачено. Особенное уныние навели на него бессмысленные коровы – вечный облик вялости и тупоумия. А меланхолические индюшки? «Александр Степаныч, по характеру службы… ну, должен в столице работать. Но сохранил эту дворянскую привычку к земле, имениям, хозяйству. Большого, настоящего имения мы, разумеется, приобрести не могли, ну вот он и завел… так сказать… un petit mon repos»[26].
Глеб улыбался, поддакивал, делал вид, что ему все это интересно.
Скоро они оказались с другой стороны дома в молодом фруктовом саду. Тут он узнал, что Александр Степаныч сам сажал все эти яблони, сам выбирал их сорта, и вон те груши тоже его рук дело, и сливы, и крыжовник. Осенью, когда приезжает в отпуск, сам обрезает их, даже окапывал в прошлом году. «Но это вредно. Для его возраста, и такая тяжелая работа. Нет, нет, я этого боюсь». – «Maman, вы всего боитесь, я же знаю, – Лера подмигивала за ее спиной Глебу зеленым глазом. – Maman, вы, наверное, опасаетесь, что меня забодает этот теленок». – «Ах, теленок в саду Александра Степаныча… пошел вон, пошел вон! – Поликсена Ильинична замахала на него палкою. – Если б Александр Степаныч увидел, то рассердился бы. Может прививки поломать».
Теленок особенного внимания на нее не обратил – подпрыгнул, махнул хвостом, продолжал траву пощипывать.
«Лерочка, как же так, нельзя же его оставить…» Тут для Леры и Глеба открылась интересная деятельность – кинулись его выгонять. Лера махала шарфиком, Глеб усердно прыгал между молодых яблонь, обдававших мокрым серебром, по мокрой траве, тесня врага к калитке. Враг козловал довольно забавно, задирая хвостик, но отступил, выскакал на двор обратно. Лера смеялась, приподняв край платья. «Я совсем промокла, только не говорите maman, она сейчас же вообразит, что у меня начинается воспаление легких. Да впрочем… знаете что? Пройдемся лучше одни, к озеру. Хорошо?» Разумеется, это было хорошо. Лера крикнула матери, что здесь мокро, они лучше пройдутся с Глебом Николаевичем по шоссе к озеру. Поликсене Ильиничне пришлось согласиться. А Лера живо вывела Глеба на то самое шоссе, по которому он приехал с Духовской. Но теперь они спускались вниз, под гору – в противоположную Духовской сторону. «Maman может вам наскучить своим хозяйством. Мы лучше одни погуляем». – «С удовольствием».
«Ах, в этой Астрагани действительно скучно, вы очень мило сделали, что приехали». – «Чем же вы тут занимаетесь?» – «Немного играю на пианино… там у нас в гостиной. Пою. Да все это так… Романы читаю. Правда, у меня сейчас есть очень интересный. Знаете, Дюма „Монте-Кристо“».
Глеб Дюма не читал. Но презирал заранее. У него был твердый взгляд, что Дюма ничего не стоит. Он, однако, прямо этого не сказал, промямлил нечто неопределенное.
– Я очень люблю романы. Терпеть не могу будней, хозяйства. Я люблю такие, знаете ли – возвышенные чувства и приключения в романах. И чтобы любили друг друга на всю жизнь…
– Да, конечно…
Лера начала воодушевляться. Редко приходилось ей говорить о литературе и «своих слов» у ней было маловато, но сейчас ее несла та сила, что таилась в ее молодости, в жажде того, что составляло стержень существа ее.
– Мне нравятся такие романы, где, если друг друга любят, то уж на каторгу один за другого пойдет. Вот это, по-моему, любовь!
Озеро было как бы двойное, по обе стороны шоссе. Чрез узкое его место мост и далее шоссе опять в гору, к Смоленску. Все вокруг в лесах. Лес направо, на той стороне, отражался зеркально, березы стеклянно белели в воде, их листва реяла зеленью прозрачной – тихо струилась. Солнце сияло, уже предвечернее, золотеющее в погожем после дождя дне.
– Помните, мы в Москве раз гуляли у вас в саду, у Чистых прудов? Такое солнышко тоже было. А вы не забыли, что мы тогда друг другу сказали?
Лера прислонилась к перилам. Солнце ее заливало. Глеб улыбнулся.
– Нет, не забыл. Тот вечер был тоже очень хороший. Я его помню.
– Значит, помните?
– Помню.
Как бы слегка смутившись, она вдруг обернулась назад.
– А вон там, ниже, видите, мельница. Но туда мы редко ходим. Там Митя рыбу ловит. Целыми днями с удочкой пропадает.
Они спустились, сели на бревно, валявшееся у шоссе. Над озером плавными, легкими качаниями летел рыболов – коричневатый, с белым брюшком. Глебу напомнил он детство, Калугу, Будаки. А потом вдруг выплыл занавес Художественного театра, с той, его чайкой. Теперь он спросил Леру:
– А вы помните один вечер в Москве, в театре? Мы еще смотрели «Чайку»?
– Разумеется! Было так весело.
– Может быть, около такого вот озера и жила Нина Заречная.
– Кто это Нина Заречная?
– Да… в пьесе.
Лера слегка смутилась.
– Ах да, в пьесе… Там еще такая темнота на сцене и говорят довольно непонятное.
– Ну, пьеса замечательная!
– Конечно, очень миленькая, но только странная…
Лера чувствовала, что почва под ней зыбкая – поспешила отступить: стала расспрашивать о Лизе, Вилочке Косминской.
Если б расспрашивала Поликсена Ильинична, было бы так же неинтересно, как о молодом саде. Лера же дело другое. Ей самой важна не Лиза и не Вилочка. Потому и считали они оба, сидя на бревне пред астраганским озером, что проводят время занимательно-плодотворно.
Солнце ласково их освещало, со всегдашней своей, неземной ласковостью. Но из-за них не задержалось бы и на минуту. Когда нижний край его был уже близок к верхушкам берез, Лера поднялась.
– Я вас проведу по другой дороге.
И они пошли берегом в сторону усадьбы, а потом тропинкою поднялись к дому.
Там вступили вновь в круг деревенского обихода российского: не так давно от стола, а уж вечерний чай с булками и со сливками, маслом, вареньем, с жужжащими над ним осами. «Вы, наверно, проголодались, Глеб Николаевич… знаете, у нас запросто… но все же поправляйтесь после столицы», – Поликсена Ильинична рада, что они вовремя вернулись, что ни бык не забодал их, ни медведь не съел.
И вот – хоть и в Москве не голодал – Глеб будет здесь всходить на сливках, масле, сыре шестичасового чая. Но это, разумеется, не значит, что в девять не подадут ужина.
Вечером Лера пела чувствительные романсы, аккомпанируя себе на пианино. Митя поймал несколько окуней. Требовал, чтоб их тотчас зажарили. В кухне налаживались уже вареники, телятина, компот.
* * *
Дни в Астрагани проходили медленно, довольно ровно. Глебова соседка мило держалась. Утром долго мылась, полоскалась, к чаю выходила свежая и веселая – от нее пахло хинной водой. Светлые ее волосы вились сами, а когда дождь собирался, завивались в тугие кольца, очень легкие. Глебу нравились эти кольца, нравились белые батистовые кофточки ее. Нравилось, когда она за крокетом, после кофе, неловко и смешно крокировала молотком свой шар, но смеялась весело, легко пробегала по площадке. Ему многое в ней нравилось. Уходя к себе наверх, сидя один на балкончике с книгою, он о ней думал. А как следует не мог надумать. Улыбался про себя, но и смущался. Еще со времен Анны Сергеевны знал то сладостное и томительное, грустно-радостное волнение, какое внушает образ женщины недостижимой. Не так давно стал испытывать и другое – очень уж весомое и ясное, острое, мутившее разум: к женщинам более простым. Этой силы в себе и стыдился, и скрывал ее, сколько мог. Но она жила и не убывала, скорей разрасталась.
Лера не принадлежала ни к тому типу, ни к этому. Он ее слишком видел, чтобы она стала для него фантасмагорией. Но и не смел попросту желать, она прелестна, но и за чертой.
Что же такое он? Ну, молодой студент, заехавший сюда, вместе они гуляют, играют в крокет, обедают и ужинают… а дальше? Как вообще с нею быть, как ее считать? Если действительно… – то все должно всерьез кончиться. Но это уж выходит как-то странно, почти жутко.
На той стороне тоже была неясность. «Maman, как вы находите Глеба Николаевича?» Поликсена Ильинична беспокойно встряхивала кудряшками: «Он, Лерочка, ничего… порядочно воспитан. Вежлив. Но все-таки… странный».
Лере и самой кажется, что странный. Но хочется возражать. «Что же в нем такого? Просто серьезный». – «Ах, я не осуждаю. Ну, из новых, знаешь, и я опасаюсь, что среди студентов, всегда такие… разные идеи… Вот ему и Императорское Техническое пришлось бросить». – «Он вовсе не левый и не революционер, совсем даже этого не любит». – «Боже упаси, я и не говорю, он серьезный, я понимаю. Очень иногда задумчиво смотрит. У себя наверху начнет из угла в угол ходить… Молодому человеку не надо много думать. А ты заметила, Лерочка, когда ест, то удивительно переворачивает во рту ложку, я никогда раньше… ну, так сказать, не видела, чтобы так делали».
Тут Лера засмеялась. «Maman, вы бы послушали, как он пальцами щелкает. Заложит руки за спину и стреляет. Но ведь это же не такая беда».
Лера и без матери понимала, что Глеб совсем непохож на тех лицеистов в треуголках, с красными воротниками, которых иногда она встречала. Или на кандидатов на судебные должности, молодых товарищей прокурора, бывавших у отца. Совсем другое… – из иного мира, из иного теста. Лера вообще мало думала, но все-таки, ложась у себя наверху спать, раздеваясь, засыпая на деревенской постели, водруженной на двойных козлах, старалась себе объяснить, почему он такой замкнутый, почему будто и мил с нею, ласков, но всегда сдержан, а потом вдруг и холодноват. А может быть, он меня уже любит, но не умеет высказать? От застенчивости?
Однажды, перед вечером, они вышли вместе на прогулку. Дождь только что кончился. Было тепло, серо, очень тихо и как-то загадочно в природе. Лера несла корзиночку для земляники. Глеб себя нервно чувствовал. Но ему нравилось идти за ней, попадая в легкие ее следы. С большой Смоленской дороги свернули в березовый лес, потом пошел смешанный – осинки, ели. Земляники тут оказалось мало. Но тишина… – капли иногда падали с деревьев, пахло очаровательной горечью сложенных невдалеке дров, душным дурманом какого-то белым цветущего кустарника. Горлинка закурлыкала – полусказочная птица лесов русских.
Понемногу, тропинкой дошли до вырубки. Стало теплей, светлее, зажемчужилось в облаках. Появился розовый на длинных стеблях иван-чай, ежевика, брусника. Кой-где рыхлые холмики кротовых нор.
Лера подошла к кусту – вдруг как бы выстрел раздался оттуда – с треском, грохотом, обдав ее серебром брызг, вылетел краснобровый черныш, весь черно-блестящий, могучий, мужчина, самец. Он летел с силою господина этой вырубки – и умчался вдаль. Лера вскрикнула, отшатнулась. «Фу, напугал…» Она чуть прислонилась к Глебу, как бы и под его защиту. Локоны выбились из-под платочка. От нее пахло хинной водой.
Глеб молчал. Сердце его тяжело билось. Во влажной духоте леса, при комариках, неустанно разыгрывавших свой танец колонкою близ можжевельника, он чувствовал на себе тяжесть крупного, всегда столь легкого, а теперь ослабевшего девичьего тела. «Испугались?» – «Ну… теперь нет». Но она не высвобождалась. Оба они были несколько бледны, точно бы и оба испуганы. И глаза совсем близко, дыхание почти сливалось. В лесу все так же тихо, только дятел медленно, с упорством и старанием надалбливает песнь свою скромнейшую. Глеб через силу улыбается. «Вот… черныш какой здоровенный… и как вас напугал». Лера вдруг подняла корзиночку с земляникой, отодвинулась. «А мало мы с вами собрали. Maman будет недовольна». Глеб пробудился. «Надо бы постараться, надо бы», – он нервно оживился, заговорил, точно и вправду было ему интересно набрать земляники для maman. И усердно стал лазить между мелких кочек в ковыле, где больше попадалась волчья ягода да тетеревиный помет. Лера тоже как будто собирала. Была рассеянна.
Земляники набрали немного, но вернулись не совсем такие, как вышли – по дороге даже мало и разговаривали.
Вечером Лера усердно засела за рояль, пела какие-то упражнения, разводила гаммы. За ужином нервно смеялась. Спать ушла ранее обычного, у себя в комнате долго возилась. Глеб с балкончика видел полосы ночного тумана у леса, ранний месяц луком своим не мог преодолеть серебра низин. Глеб чувствовал себя взволнованно и неясно.
Весь следующий день Лера была очень оживлена, почти резва. Весело играла в крокет. Она рассказала почему-то, что прочла недавно о знаменитой Нинон де Ланкло, как та почти до старости пылала сердцем и встречала ответ. Во время этой болтовни вставляла иногда французские выражения. Глеб попытался тоже, но неудачно. Вместо je desire que vous… – сказал je vous desire[27]. Лера шумно его осмеяла, он сам сконфузился, но тоже улыбался и ему не было неприятно.
После ужина, когда поднялись наверх, Лера зашла к нему. Было еще не совсем темно, тихий вечер. «Тут вам наверно неудобно, все такое простенькое… даже стола хорошего нет». – «Благодарю вас, все что нужно». – «А вам вообще не скучно у нас?» Глеб уверил, что вовсе не скучно. «Завтра в Смоленск поедем. Вы, я и Митя. Согласны? Мне там кое-что купить надо».
Лера села на диванчик с видом как бы хозяйственным, близкого, своего человека. Глеб присел тоже. «Мне очень нравится в Астрагани у вас, а время так быстро идет, уже скоро домой». – «Куда это так спешить?» – «Пора… я здесь уже вторую неделю». – «Что же из этого?» – «Из дому на две недели уезжал… так и матери сказал». Лера засмеялась. «Вы как маленький… Мамы боитесь». Глеб немного вспыхнул. «Не боюсь, все-таки нельзя же тут поселиться». – «Ну, до поселения далеко. А в деревне принято подолгу гостить». Но Глеб стоял на своем. Лера усмехнулась. «А ваша мама серьезная. И верно с характером. Оттого вы и послушный. Я ее немного боялась тогда, на Чистых прудах. Но она такая… distinguet[28]».
Месяц подымался над лесами. Мутным пятном светлел за облаками, почти невидимый. В комнате темно, чрез стеклянную дверь маячат столбики и перильца балкона. Вытянув на табурет ноги, Лера полулежит на диванчике, Глеб рядом. Разговор медленный, вполголоса. «Если бы вам очень нравилось здесь, вы бы остались, несмотря на маму». – «Мне очень нравится». Пауза. Комар, долго напевая тоненькую свою песнь, садится на лоб Леры. Она его отгоняет, но не сердится. «Вы понимаете большую любовь? Ну вот так, на всю жизнь?»
Как может молодой человек, в таинственный и тихий вечер, и в уединении, с милой соседкой ответить, что любви не понимает? Разумеется, понимает. Ему хочется сказать что-нибудь глубокомысленное и серьезное, никем еще не сказанное, вроде того, что любовь есть «таинственное стремление души в вечность». Лера воодушевляется. Разговор принимает еще более острый оборот. «Если бы человек, которого я полюбила, оказался в несчастии… например, в тюрьме или на каторге, я бы за ним пошла. Вот ваша сестра поехала же за своим женихом в Нежин и наверно в Сибирь поехала бы, если б его туда сослали. А вы… вы могли бы пойти на каторгу за любимой женщиной?»
Глеб был очень молод, но считал себя взрослым, даже опытным, с горестным взглядом на жизнь. Сейчас вдруг оказался чуть не мальчиком. Это даже понравилось, освежало и расправляло. «Я тоже мог бы пойти на каторгу за любимой женщиной», – он сказал это тихо, но искренно, теплый свет освещал для него тысячекратно повторявшиеся, милые в наивности своей слова. Вместе со светом этим ощущал под ногами разверзающуюся неизвестность – вот-вот ухнет он туда, и уж тогда…
Лера чуть было не сказала: «И за мной бы пошли?» Но не решилась. Только взяла его за руку – этим как бы и сказала. Но все-таки и ответа ждала. Неизвестно, в словах или не в словах, но ответная молния должна бы блеснуть. Глеб молчал. Он ощущал растроганность, почти и умиленность, но рядом – рядом тут прыжок. Дух захватывало. Что-то в нем самом прочное и устойчивое держало крепко.
Месяц подымался, полусумрак. Тонко звенел комар. Они были одни в ночи таинственной, Лерина рука в его руке. Некоторое время она держала ее так, потом отняла.
– Отчего вы вдруг стали грустный?
Она спросила тихо и ласково. Глеб рассеянно пробормотал:
– Нет, я ничего… Я не грустный.
– Так что же?
Он не ответил. Потом вдруг спросил:
– А тут сколько верст до Смоленска?
– До Смоленска… Ах, это насчет поездки. – Она немного перевела дыхание. Не совсем прежним голосом ответила: – Кажется, двенадцать. Вас это интересует?
Глеб ясно почувствовал, что и не интересует и вообще он сказал глупость, но поправляться было поздно.
– Нет, я так, вообще.
Лера поднялась, вышла на балкончик. Глеб за ней. Балкончик низкий, головы их чуть не касались наката на потолке. Лера обвела взглядом двор, строения, леса.
– Все спит. И нам пора. Вам, кажется, Глеб Николаевич, и особенно.
Она подала ему руку, пожала и осторожно вышла с балкона и из комнаты.
Глеб остался один. Разделся, лег, и все один был, только со своими мыслями. Они тучкою над ним стояли – эта тучка из него исходила, ему же и не давала спать. Что с ним такое происходит? Вот только что Лера была здесь, теплая и живая, полулежала на диванчике, с ним рядом. О, разумеется, она прелестна, даже с романами Дюма, «миленькой» пьесой «Чайкой», с намерением пойти на каторгу за любимым человеком. Глеб напрягал воображение. Ну, она ему очень нравится, что говорить… очень. Видит ли он себя с нею? Видит ли жизнь надолго – навсегда? Если бы они были муж и жена, как его отец и его мать? Тут воображение его слабело. Нет, он другое что-то видит. Сказать, что maman, с овечьим лбом, кудряшками и близоруко-белокурыми глазами будет его belle-mere[29], что тестем – юрист, педант, занятый гражданским правом… И сама Лера… – ей нужны туалеты, квартира, общество провинциальных дам, столько же понимающих в литературе, как она сама. А в то же время: какая тайна, радость в расцветающем ее существе!
Вместо одного комара теперь заявилась целая компания. Не уставали они тонко звенеть над Глебом. Он ворочался, отгонял их, перекладывал теплую подушку. Может быть, даже комната поднагревалась от его томлений. Тучка мыслей-чувств росла. И балконная дверь стала сереть в рассвете, а он все не спал.
Вдруг в Лериной комнате раздался шум, не очень сильный, но ясно было – что-то упало. Глеб смутился. Не знал, как быть: пойти ли помочь? Но удобно ли, в такой час? На лесенке раздались шаги – снизу подымались. Потом слышно было, как Поликсена Ильинична вошла к Лере, внося мигающий свет свечи. Что-то двигали, переставляли. Видимо, дверь осталась открытой, да и Глебова не вполне притворена. Недовольный голос Леры: «Потому что это убожество, я все время говорю… на такой постели нельзя спать. Дурацкие козлы… Конечно, они разъехались, я могла руку себе сломать». – «Лерочка, такой грохот, я испугалась даже…»
Глеб улыбнулся. Ему и жаль было Леру, но скрыть улыбку все-таки он не мог. Бедная Лера, чуть руку не вывихнула!
К утреннему чаю он вышел позднее обыкновенного. Но и Лера задержалась. Она была в белой кофточке – это бледнило, да и так вид усталый и недовольный. На Глеба почти и не глядела. «Может, нам бы в крокет сыграть?» – Глеб спрашивал неуверенно. «Хорошо, сыграем», – она откусывала кусок хлеба с твердым, глянцевито-желтым маслом, вид у нее был равнодушный. Допила чай, вяло поднялась. Вслед за ней потянуло слегка свежестью и хинной водой.
Играла на площадке рассеянно, как бы и раздраженно. В середине партии вдруг выпрямилась, обернулась к Глебу. «Если вам не хочется ехать в Смоленск, вы можете остаться. Я с Митей поеду». У ней было сейчас другое, чем обычно, лицо. Как холодны зеленоватые глаза! В них совсем нет прежней приязни. «Нет, почему же, я с удовольствием». – «А то Митя отлично меня довезет».
Крокет кончился сумрачно. Лера молча ушла. Глеб поднялся к себе наверх. Все представилось ему смутным и холодным. Грустно. Он здесь не свой. Этот лесной хутор mon repos1, деревянный дом со смешным мезонином, кроватями на разъезжающихся козлах, близорукая maman в кудряшках… Лера? Ах, Лера, но вот она в хмурых туманах, что он ей, в конце концов? Студент первого курса! Она выйдет замуж за какого-нибудь товарища прокурора. А я совсем не то. Глеб не мог сказать, что такое он, но с товарищем прокурора разницу чувствовал. Нет, он один тут, «как всегда и везде» – к меланхолическим размышлениям склонность его не ослабела.
После завтрака, часам к четырем, вихлястый парень подал все ту же скромнейшую пару в тележке. На козлы сел Митя, Глеб с Лерой рядом – в передке тележки корзинка, мешочки для покупок. «Лерочка, не забудь манной крупы у Нефедова и полголовы сахару». – «Да, да, помню». Митя тронул. «И еще горчицы…» Лера нетерпеливо махнула рукой. Поликсена Ильинична, с вытянутой вперед шеей, выпуклым лбом, мелкими над ним кудряшками осталась позади, на крыльце? Деревенское путешествие началось.
Оно по-разному протекало для разных. Митя веселился открыто. Счастлив был, что сидит на козлах, «за управляющего», в руках вожжи, кнут под сиденьем… «Но-о, вы, любезные» – под гору к мосту пустил вовсю, подсвистывал, подкрикивал – в горку любезные едва втащили. А потом поплелись трухом средь полей, лесочков по шоссе к Смоленску.
Лера сначала совсем хмурилась, потом слегка отошла – но не для Глеба. Особенно ласкова была с Митей, лишь с ним и разговаривала, будто Глеба и нет.
А ему теплый серенький день скорей бы и нравился, и езда на нехитрой паре, блеск подков, толчки на выбоинах дороги – все свое и родное, Русь. Но на сердце невесело. Что же, он провинился в чем-нибудь перед этой Лерой? Не так сделал? За что? В малоопытности своей еще этого не понимал, просто чувствовал одиночество, как бы покинутость.
Смоленск издали завиднелся куполами церквей, башнями древней стены – так, туманно, в теплом облачном дне и запомнился. Как сквозь сон! Незаметно подъехали, тележка остановилась у городской стены, или у бульвара? Или это только казалось так? Смутно, так смутно осталась в памяти Глеба эта поездка.
Точно бы где-то благовестили. Башня вековой седины воздвигалась совсем близко, над тьмой зелени лип. Липы как будто цвели – медово.
Останавливались у разных лавок. Потом Глеба оставили с лошадьми, на какой-то лужайке. То он сидел на козлах, то прогуливался взад-вперед, ошмурыгивая ногами траву, пощелкивая за спиной пальцами. Смоленск как бы обнимал, заключал его. Но казался пустынно-тихим. Там вон остатки древних стен, вроде кремлевских. Кто-то осаждал, кто-то и защищал этот город, и века прошли, теперь ворона, каркая, бессмысленно летит, мещанин проходит, везут воз сена, да вот он, Глеб, в смутной грусти, ожидает Леру с Митей – может быть, они, наконец, притащат «полголовы сахару от Нефедова», или от кого там еще?
В некоторый момент они, правда, появились. Шли, весело болтали, а подходя, стали просто громко смеяться. Глебу показалось, что над ним. Но это ничего! Все проходит. И этому Смоленску с вековой историей его осталось несколько еще минут жить в Глебе – чтобы опять кануть в небытие.
* * *
Два следующих дня прожил он в странном состоянии – смесь грусти, одиночества, недоумения. Точно другая стала эта Лера, которую одной, прохладной и разумной стороной своей он ясно видел, понимал, даже несколько свысока улыбался на нее, но другой его части так была она и мила. Между тем – отходила. Сомневаться нельзя. Едва вежливость соблюдала, да и то не всегда. Раз, когда он вошел в комнату, пощелкивая за спиной пальцами, резко сказала: «Перестаньте, пожалуйста, вы мне на нервы действуете». Это, конечно, правда. Нервы у ней в неважном виде.
Глеб решил теперь твердо: он стал ей почти неприятен. Может быть, надо бы выяснить, договориться? Но на это уж мало он был способен. С детства рос в безотчетной уверенности, что его вообще надо любить. И совсем не привык переносить нелюбовь, хлопотать о любви. Никакого «выяснения отношений» не произошло.
В теплый летний вечер, выдавшийся необыкновенною тишиной, райской безоблачностью и миром, вихлястый парень подал к подъезду все ту же немудрящую пару. Поликсена Ильинична, Лера и Митя провожали Глеба. Расставание прошло правильно. Глеб почтительно благодарил Поликсену Ильиничну, Лера вежливо ему улыбнулась, и лесная полянка Астрагани с деревянным домом и мезонином, с новым садом знатока римского права навсегда осталась позади. Парень вез его по шоссе в прозрачном вечере. В Астрагани этим же вечером, в сумерках, Лера наигрывала на пианино Шопена. Позже, у себя наверху, тихо плакала.
Глеб на станции Духовской вновь взял билет первого класса, теперь до Москвы. И в назначенный час вновь такой же поезд катил его по знаменитым местам России. Он опять стоял у окна. Закат пышно, торжественно-золотоносно разметался, торжественный хорал в небе звучал и в самом этом исполнении было уже умирание – золото переходило в пурпур, пурпур гас понемногу, малиновел. Отойти от окна Глеб никак уж не мог. Во всем нем была такая взволнованность, такой сладкий и мучительный полет…
В вагоне стемнело. Он сел в купе, прислонился головой к дивану, сидел, полузадремал. Постукивание колес, мерный их ритм, будто дирижерская палочка ведет разыгрывающуюся в нем пьесу. Может быть, музыка эта не звуков – слов?
Он опять вышел в коридор. Звезды стояли на небе, леса медленно проходили. Вот река, луга. По лугам туман. Поезд прибавляет ходу – под уклон. Звезды так же важны, но теперь вдруг туманы сливаются в грохоте поезда с тем остросладостным и пронзительным, что в самом Глебе… да, да, вот так, это и есть слова – они летят, как никогда не летели в нем раньше, он их не произносит, но он чувствует их ритм – этим нервным потоком и изобразит ночь, одиночество, полет под звездами, среди туманов неизвестной никому реки, несущейся и проносящейся. О, это, наконец, не детское, вот это настоящее…
Глеб был один – и счастлив. Звезды его видели. Господь благословлял.
Река, туманы, все давно сзади. Он стоял, смотрел, в тихом полоумии. Знал, но словами бы не мог сказать о самом главном, с ним случившемся в июньский вечер у окна вагона.
* * *
Он вернулся домой покойный: по крайней мере таким казался. Но ни мать, ни отец, ни Лиза не могли знать, что вернулся иным. Он об этом никому не сказал, да и не надо было. Просто на другой же день сел у себя в комнате к письменному столу, чуть не в один присест написал то, что и надлежало написать. Это было то новое, чего долго он ждал, долго и упорно добивался, о чем мучился и не знал, придет ли оно и когда. Это была ночь, звезды, туман над рекой, грохот поезда, все в полете лирическом, без конца и начала, обрывок Млечного Пути души.
VI
Отец правильно угадал будущее: ему в Москве все-таки не понравилось. При неодобрении атери на второе же лето стал он присматривать себе «монрепо» – с тем, чтобы бросить службу.
Смотреть имения ездил один, иногда с Глебом. В одну из таких поездок забрались они в глушь Тульской губернии, от станции далековато. Ехали, ехали – Глебу казалось, после ночи в вагоне – Бог знает куда заехали: поля и лесочки, опять поля, деревеньки… Все что-то среднее, отчасти и миловидное, но не нарядное.
Хутор помещика Кноррера стоял на юру, в поле. Молодой фруктовый сад вокруг, – хозяин тоже молодой, чернобровый, в рейтузах и дворянской фуражке, вокруг гончие, в домике беспорядок. Ружья, рога и табак суть основа жилья этого.
Кноррер ждал их. Весело сел в дрожки, повез осматривать Прошино. «Значит, соседями будем? Вы тоже охотник? Ну, да охота у нас неважнецкая. Зайчишки, а по перу совсем плохо».
Пока к этому Прошину ехали, налетел дождь, светлый, скорый, блеснул сквозь солнце каплями летящими, да и умчался, все славно осеребрил, примял пыль на дороге. Ржи вдвое заблагоухали, так и ходили серо-зелеными волнами вокруг Кнорреровских дрожек, тарантаса отцова.
Мысок рощи завиднелся из-за буфа, верхушки берез – Прошино. Ну, как скудно! Косогор какой-то, там ниже, по склону, очевидно усадьба.
Миновали березы по канавке, проехали мимо флигеля, под уклон – влево к дому, довольно скромному: одноэтажный, обшит красноватым тесом. У подъезда ждал немолодой человек, типа управляющего. Сняв картуз, обнаружил лысину, почтительно поклонился.
В доме все ветхое, давно не жили. Мебели мало. Слегка затхло и сыровато, и грустно. Распахнули стеклянную дверь на балкон – полуживой, перильца шатучие, половицы чуть держатся, но навстречу кинулся такой куст жасмина цветущего, в такой роскоши бело-золотистого оперения, в каплях сияющих, светоносных, в таком благовонии – голова кружится. «Это именьице давно без хозяина, – сказал Кноррер. – Видите, как все заросло».
Заросло фантастически! Пред балконом лужайка – запущенный луг. На него затесались даже побеги соседних тополей. Все спутано, но все цветет, благоухает, сияет в искрах под солнцем, все радость и хвала Божия.
Шатучею лесенкой спустились вниз, лужайку пересекли, мимо старых лип. Пруд тоже очарованный, дымно-зеркальный, с водяными комариками по ртути вод, с мелкими всплесками рыбешек. Там ниже яблоневый сад, еще прудок, все задичавшее, все в тишине и сиянии после дождя. Отец посмотрел на Глеба. «Ну, нравится?» Глеб был взволнован. Вот тебе и убогий косогор! Глухо он ответил: «Очень». – «Да, братец ты мой, мне тоже!»
Осмотревши усадьбу, вернулись. Жена управляющего накрывала уже во флигеле – лысый Иннихов припас водчонки. И яичница на сковороде, щи, престарелый петух – все в сопровождении национальной нашей славы: «Чи-ик! По единой, ваше здоровье!» – все развивалось естественно, при жужжании мух, нежном веянии июньском из окна.
Водочка благотворно действует и на отца и на Кноррера. Начинаются охотничьи рассказы. Глеб все это знает, все отцовы прибаутки, и веселый его хохот над воображаемым русским немцем, языком его. («Он бегу-иль, я стрелу-иль – с дробами!» и т. п.) Известна и ближайшая программа: отец начнет называть Кноррера «кумом», потом ляжет вздремнуть, потом пойдут межи осматривать, сверять землю с планом.
Глеб под шумок вышел. Около людской, налево, Иннихов разговаривал с двумя тощими типами – длинные палки у них в руках, за спиною котомки. Запыленные лапти, спутанные бороденки, рубахи в заплатах. Нечто смиренно-покорное и усталое.
Вот отошли они, сели на лавочку, вынули по ломтю хлеба, стали жевать. Медленно, как бы с вековой утомленностью. «Кто это?» – спросил Глеб Иннихова. «А так, барин, мордва… Работки нет ли, спрашивают. Мордвины, значит. Издалеча. На работку набиваются. Да нам не для ча. Ежели папаша купят, хозяйство заведут, а у нас тут делов никаких нет, только с супругой караулим усадьбу». Глеб вздохнул, почему-то взглянул в небо. Иннихов на него посмотрел – взором этих сараев, людских, конюшен. «Именьице, если в порядок привести, золотое дно. Пусть папаша решаются».
Глеб опять пошел мимо дома, жасмина, двух прудов вниз по склону сада – вновь любовался и волновался сказочным оцепенением краев этих. Солнце обсушило теперь влагу. Тропинкой чрез кусты акаций – изгородь фруктового сада – спустился к речке. Сладко, мучительно-нежно пахло пригретою луговою травой. Тут же песочек прибрежный, поблескивающая вода, легонькая трясогузка… – все это уж он знал, в этом рос с младенчества и не было все же конца очарованию простодушной речки с лозняком полуплывущим в ней, медленно вьющимися, по теченью, бархатно-зеленеющими подводными травами, скользящими как угри, со стайкою мелких гольцов под золотой рябью солнца. Да будет благословенно имя Господне!
На той стороне прошел рощей березовой – всегдашняя девическая чистота! – поднялся в поле. Отсюда Прошино казалось зелено-кудрявой чашей. Далекий вид открылся на поля в блеске солнца, на взгорья, леса. Прямо внизу, но в другой стороне серела деревянная колокольня. Это Поповка, село и ближайшая церковь, он вспомнил, что видел ее, когда подъезжали.
Глеб сел на меже, у опушки, в тени берез, нежно за ним струившихся. Ему нравилось, что вот это его страна, его солнце, небо, свет, воздух, все такое, о чем может он и должен сказать. Волнение продолжалось. Да, это поэтическое волнение! Пусть Иннихов рассуждает о коровах. Он, Глеб, для другого. Так было, так будет.
Внизу, слева, меж серо-зеленых ржей появились на тропке две фигуры. Медленно они подвигались. Рыжеватые бороденки, в руках длинные палки, за плечами котомки. Ржи точно пред ними раздвигались. Потом вновь смыкались, в серебристых волнах. Глебу нравилось смотреть на мордвинов этих, мирно среди ржей шагавших, с ними будто сливавшихся. Милая Россия, тихая, смиренная! Он полузакрыл глаза. А может, они ржами и порождены? Вон шагают, и все дальше, ржи все загребают, все их поглощают. Из ржей вышли и во ржах потонут.
Он вернулся возбужденный, острый, точно наполненный. Отец кончил уж осмотр хозяйства. Говорил теперь с Кноррером. «Ну, покупаем?» – сказал Глебу вполголоса, садясь в тарантас. – «Покунаем, конечно».
* * *
Посевы, пахота, работники, поденные, покос, уборка, целый круговорот земли, с хлопотами и заботами, волнением от заходящей тучи, огорчением, когда нет дождя, боязнью ранних холодов весенних, для садов опасных, – все это жизнь деревни. Отец бросил Москву. Ездил теперь по полям тульским на дрожках, сердился на Иннихова, выставлял водку косарям, учил кучеров объезжать молодую лошадь – занятие занятное. Мать ведала цветником, огородом, амбарами. Во все это Глеб вклинивался довольно-таки инородно. Из Москвы приезжал в Прошино и зимой, летом же подолгу жил, у себя во флигеле. Жил и жил, был еще один, и часто ему казалось, что вот в Прошине этом хоть и милая усадьба, пруды, сад, а все-таки скучно. Благодати же этого жития деревенского, напояющей силы России, приволья ее и свободы еще не понимал, не ценил – в этом с Устов рос. Так и надо. Другого не знал.
Землю, поля, мужиков принимал родственно, душою и поэтически, но с огромного расстояния. Да, родина. Но насколько иной мир, хоть и отделенный всего огородом. Времена Савосек, Сасеток, детской общительности отошли. Владимир Соловьев, греческая скульптура, переписка Флобера. Мужики, бабы, девки – в чем-то родное и милое, но и далекое. Он их стеснялся. Частью – даже робел. Странный он в их глазах, «чудной».
Все-таки, на покос иногда выходил. Навивал с девками воза сена, хохотал с ними, валялся на копнах, беглые поцелуи проносились легко да и незаметно, среди вечных шалостей, возбуждения, подъема и радости русского покоса. Кареглазая Паша, крупная и свежая, вся благоволение и сила полей наших, ему даже нравилась. Раза два он ее провожал на заре до риг, там среди ржей дружелюбно они целовались. Но все это скользило, летело, оставляя след лишь мгновенный.
Настоящее, чем он жил, было внутреннее – писание, искание. Он много работал у себя во флигеле. Днем сам писал, ночью читал. До рассвета иной раз горела у него лампа и его можно было принять за чернокнижника. Но скорее он был белокнижник. Соловьев проводил по высотам – Бог, человек, мировая душа, ход Вселенной. Уже не Глеб простодушной Калуги, о. Парфения, подходил к вечным тайнам, а молодой писатель начинавшейся новой эпохи русской. Голосу русской души и поэзии надлежало издать свой звук, отличный от прежнего. Но и самой душе надлежало определиться. Это не сразу давалось. Бог, Вечность, бессмертие мучили. Соловьев раздвигал нечто, стройный и величавый, многоводный и гармонический. Глеб уходил в него с возбуждением, страстью молодости. Мир и его движение восхищали. Все же надо было на чем-то остановиться, иметь и свой взгляд. Он колебался, нередко томился, изнемогал. Но река уносила его, светлая и многоводная, все дальше и дальше от безысходности отрочества.
Против такой жизни Глеба мать ничего не имела. Правда, слишком он много с книгами, но такой уж был с детства, Herr Professor. А теперь, раз литературой занялся, так еще и понятнее. С родителями мил, как всегда, замкнут и несколько отдален, но уж это его характер. И свою роль мать понимала так, чтобы к полудню, когда сыночка соблаговолит встать, кофе ему на балконе подали бы горячее, и со сливками, и по возможности оттянуть обед, чтобы к цыплятам он успел проголодаться. Чтобы к обеду, ужину было то, что он любит. Чтоб во флигеле у него был порядок, чтоб его верхового конька не брали на работу.
На второе лето, однако, многое изменилось. По внешности будто и то же: Глеб перешел на следующий курс, приехал в той же студенческой тужурке и фуражке с голубым околышем, был такой же худощавый и остроугольный, но такой, да и не такой.
Как и в прошлом году, мать до трех, четырех часов видела наискосок, со своей постели через садик свет в окне флигеля: Глеб занимается. Косари, мерно позвякивая косами, побрякивая брусками, проходили по утренней росе в Салтыково, а он растворял окно, смотрел на любимую свою яблоню аркад через дорогу, на ракиту, под которою любил сидеть. Все это и раньше было. Но теперь стал он нервнее и порывистей, еще замкнутей, иногда вдруг раздражался или впадал в возбуждение, много писал, потом рвал. Ждал писем, много сам отправлял их. Видимо, падал духом, когда чего-то не получал. Усвоил привычку забирать ружье, уходить в лес. Нравилось переходить через Апрань, забираться в осинник по взгорью, сидеть, лежать там, воображая себя лейтенантом Гланом Гамсунова «Пана», слушать – в воображении – «первую железную ночь, вторую железную ночь», наблюдать ход облаков, полет ястребов – их иногда он и стрелял. А потом вдруг мучительно в Прошине становилось скучно. Глеб впадал в уныние и замолкал. Лунатически вокруг комнаты не ходил, но к обеду являлся хмурый, точно в туче.
«Что это с ним такое? – спрашивал отец у матери, потягивая пиво. – Обиделся на что-нибудь?» – «Ничего не обиделся, просто такое расположение духа». Отец качал головой. «Книжные люди… книжные люди. Он бы что-нибудь полезное сделал, за уборкой бы понаблюдал». Тогда мать, недовольно: «За уборкой может и твой Иннихов понаблюдать». – «Иннихов такой же мой, как и твой. Да я и всегда думал, что он болван. Так и оказалось». – «А если болван, так зачем же ты его держишь?»
Отец отмахивался с таким видом, что спорить все равно нечего. И подперев рукой голову, поникал над очередным стаканом пива, после которого, вместо того, чтобы ссориться с матерью, самое разумное просто отправиться на боковую: что он и делал.
На следующий день Глеб выходил, как всегда, к кофе на балкон около двенадцати. Отец давно все отпил что следует. Но сидит за столом, читает. Когда Глеб появляется, то закладывает страницу спичкой, чтобы не забыть, где остановился: память стала плохая.
Глеб, по привычке детства, целует его в лоб. «Что поднялся спозаранку, ангел? – говорит отец. – Или спал плохо?» Глеб хмур. «Нет, ничего. Я ведь поздно ложусь». – «Знаю, знаю. И не одобряю. Вредно для здоровья. Отказать».
Глеб молча наливает себе кофе. Жарко. Балкон этот хоть и крытый и выходит на север, а и на нем душно.
– Читаю, брат, Щедрина. Вот это писатель! Не то что твой Андрей Белый.
Глеб тянется, чтобы отрезать хлеба, и задевает рукавом спичку в книге.
– Э-э, нет, братец ты мой, ты мне закладку не сдвигай, а то придется сначала читать, забуду, где остановился.
– А я нынче в Москву собираюсь, – неожиданно говорит Глеб.
Отец поправляет закладку, успокаивается. Из того же кожаного портсигара, что еще в Устах носил, вынимает новую папироску.
– По что едешь?
– Так… надо. По делам.
Отец закуривает. По делам! В самый покос и вдруг такие дела. Каждая лошадь, каждый человек на счету, а ему в Москву…
Из-за берез над ригами выезжают два воза с сеном, медленно двигаются к сараям. Отец встает, грузно прислоняется к перилам. Малый, ведущий за недоуздок переднюю лошадь, останавливается пред сараем. «Из Салтыкова сено?» – кричит отец. «Из Салтыкова». – «Ты куда же его прешь?» – «Иннихов в энтот сарай велел…» – «А я твоему Иннихову ноги повыдергаю… матери его черт! Что же вы мне его сгноить, что ли, собираетесь? Из Салтыкова! Сейчас же разваливай, здесь, и пускай девки растрясут… сырое сено в сарай!» Отец вовсе расстроен. Хотел бы сочувствия сына – сырое сено в сарай! – но тот равнодушен. Чепуха все эти покосы, копны и растряски. Отец оборачивается к Глебу. «Вот лучше бы посмотрел, как они его растрясут, или сам бы помог». Глеб невозмутимо пьет кофе с ледяным маслом. Никуда он не пойдет кроме флигеля. Все будет как всегда. Отец покипятится, прогорит и опять возьмется за Щедрина. А Глеб во флигель отправится, дочитывать о милетской скульптуре. В затянутые от мух сетками окна чуть-чуть будет тянуть ветерок. Душно! А за обедом опять цыплята, опять отец будет ворчать, опять жара. Что делает теперь в Москве Элли? Ах, все эти истории с разводом, как тягостно! Глеб ест цыпленка и отсутствует. Мать непокойна. Почему отсутствует? Можно себя утешать тем, что ведь он Глеб, Herr Professor, со странностями. Беспокойство же остается. Что он в Москву едет, она уже знает. По литературным делам… по одним ли литературным?.. Да, но во всяком случае, если он едет, то должен ехать с удобством. «Никанор, чтобы к вечеру коляску готовил, тройкой». Девушка Поля почтительно слушает. (Глеба в столовой уже нет.)
«Тройкой в коляске? – Отец подымает голову, полусонно, от своего пива. – В самый покос!» Поля уходит. «Не на палочке же верхом ему ехать». Отец качает головой и впадает в безнадежность.
Термометр показывает 27 в тени, по Реомюру. Собаки лежат на боку, высунув языки. Во флигеле Глеба жарко. Забрав мохнатую простыню, он идет купаться мимо двух своих прудов вниз на Апрань. Жара и блаженный дух пригретой травы и песочка, и трясогузочки, и прохладная тьма – зеркало воды, куда радостно погрузить изомлевшее тело, все как в детстве, все что в природе, стихии – вечность, и сам он, конечно, вечность, но течет и меняется и в зеркальные струи сейчас не тот Глеб входит, как некогда в воды Жиздры. Неужели все так же нервничает Элли, мучится из-за развода и мужа? Непременно надо ее повидать. А в Москве ли она? Может быть, укатила уж в Углич этот или под Новгород, всюду у ней друзья, тетки какие-то, и что в голову ни придет, то она вмиг и сделает. Да, не станет раздумывать.
Пока Глеб купается, за Прошином вырастает туча. Ах, скорей! Надо спешить. Он одевается освеженный и бодрый. Пора, пора! Через сад, с полотенцем на плече. Только успел добежать, трахнуло, разорвалось и ударили первые капли. А потом двинуло. Понесло белою дождевою стеной, дымящейся и шуршащей. Отец на крытом своем балконе, после дневного сна, оказался отрезанным. Сено, по его приказу утром пред сараями разваленное, так и не собрали, так и не успели. Ах, анафемские души!.. Дождь молотит по рядам как хочет, и как хочет по толевой крыше балкона, кое-где протекающей. Отец, чтобы не намокнуть, должен придвинуть стол к самой стене и туда прижаться. Ну, да такой ливень и вообще забивает полбалкона.
* * *
В вечерний час, после дождя, во влажном благоухании гречих и ржей и при фантастически-громоздких облаках, раскинувшихся над закатом, при первой звездочке на севере Глеб трогается на станцию. Беззвучно плывет луна над ржами, шлепают копыта, мерно поколыхивается коляска.
Мир деревенский, простой, земледельческий проходит полупризраком, милым, привычным – близким и дальним. Вот он вокруг в угасающем сиянии зари, все эти поля, риги, сажалки и деревушки с первым огоньком в избе, детишками на улице, блеянием овец, мычанием коровы: все свое, а от него бежит он, чрез огни станции и небыстрый бег поезда к столице, новому и живому для него.
Уехала ли уже Элли в Углич? Как она? Нет, без нее невозможно.
И пока кучер шажком возвращается домой, Глеб катит в Москву, навстречу жизни своей и молодости и того, в чем захлебывается человек и без чего жить не может. Сколько бы ни ворчал отец, поражаясь странностям «городских» людей, как бы мать ни вздыхала, подозревая где-то вблизи «авантюрьерку», чаша предложена и не старости отклонить ее. Глеб съездит в Москву, повидает Элли в квартирке ее на Кисловке, где все – легкий и быстрый, шумно-изящный беспорядок, как и сама хозяйка с вечно развивающимися локонами волос. Побегает с нею по бульварам, проводит на дачу к какой-нибудь тете Лотте, повыяснит, сколь нужно, отношения. Узнает, как дела по разводу, какое кольцо закладывает она, как с осени думает снять квартиру и сдавать в ней комнаты, а впрочем, возможно, уедет еще к подруге под Новгород. А может… – в остролицей голове с большим опоясывающим ртом, нервными зеленоватыми глазами, легкими, нежно-беспомощными волосами, от которых идет тепло и свет и слабый запах духов, все возможно: смех, радость, отчаяние – ничего неизвестно заранее, все Божий дар, щедрость, стихия, мечущая направо, налево. Корень глубоко-русский, прививка Италии и Германии, родительский дом у Ильи Пророка на Земляном валу, раннее и неудачное замужество, бегство и после богатого круга богема, где впервые некто Сандро дал прочесть Гамсуна. И Художественный театр, Чехов, Ибсен. «Когда мы мертвые пробуждаемся» (в полупустом зале Элли, в огромной своей черной шляпе, синем суконном платье в талию, исступленно хлопает пьесе). Люди серьезные могут считать ее истеричкой. Люди богемы любят. Такова Елена Москвы, Элли из дома Ильи Пророка, путница, встреченная на перепутье. И если Глеб вновь уезжает в деревню, это значит только, что отца и мать ждут там новые неожиданности.
Заявляется, например: необходимо съездить в Петербург и Финляндию. Отец покряхтывает. «Тебе что же, денег с собою надо?» – «Нет, благодарю. Деньги есть, я аванс взял в журнале». И опять загадочное молчание. Если что и удастся узнать, это – что надо повидать водопад Иматру. «Необходимо, – думает отец, попивая пиво. – Без Иматры не обойтись. Никак без Иматры не проживешь». Но если попробует острить и задевать Глеба пред матерью, отпор тотчас же возникает. «Не понимаю, что же тут странного. Не сидеть же сыночке вечно с тобой и мною. Ему впечатления нужны, чтобы писать». И пред сыночкиным отъездом, обнимая его, мать сует ему полнощекую Екатерину с тоненькой подписью (под Кредитной канцелярией): «Э. Плеске». Глеб будто и отбояривается, потом все же берет. Что-то Екатерина да значит, в пути невредно.
И вот он далеко, в том Петербурге, где некогда мать слушала Сеченова, читала стихи Некрасова, где отец был худеньким, тихим студентом Горного института – счастливые дни Васильевского острова, маленькой квартирки, дружной и любовной жизни. А теперь от Глеба иногда открытка: купол Исаакия, белая пена водопада средь лесов. С кем он? Что делает? О, не один, в этом она уверена. Это жизнь, это закон.
Но осенью, наблюдая, как ссыпают в амбар зерно из-под веялки, не об одном Глебе думает мать. Лиза выходит замуж – конец длинной истории. Артюша кончает Университет, с осени врач. Тоже новая жизнь. Разумеется, к этому давно шло, возражать не приходится, все-таки, все-таки… хотелось не так. Не такого мужа. Какого? Может быть, всякий бы не понравился, но «другого» она не знает, а уж Артюша со своими усами хохлацкими, словечками и дубинкой, нежинской тюрьмой… Будет где-нибудь земским врачом в дыре, вот Лизе и Консерватория, Бетховены. Правда, что Лиза слабенькая, трудно ей в Консерватории – все-таки..
Так проходила для нее эта осень, одна из многих осеней осенней ее жизни – в прохладных, серебристых тонах сентября.
Глеб же в Прошино не вернулся, прямо проехал в Москву, писал редко, таился там, жил жизнью матери неизвестной. Ну, если бы еще это была та, «судейская девушка», из хорошей семьи. Но о Лере давно и помину не было, да и отца ее, кажется, перевели в Петербург. Нет, из поездки под Смоленск ничего не вышло.
Чувствовал Глеб родителей или не чувствовал, понимал или не понимал, но однажды пред Рождеством в Прошине получили телеграмму: «Будем четверг». Отец отнесся философически: лошади свободны, Глеба он всегда рад видеть. «Наверно, из товарищей кто-нибудь с ним». Мать промолчала. Приказала Поле приготовить молодому барину во флигеле, а товарищу его рядом в комнате. Да как следует протопить.
Утром, когда отец встал, морозило. Солнце огненно-красным диском всползало за липами. Отец пил чай в столовой, глядел на запушенный снегом сад.
– Доху-то ангелу выслали ль? – спросил у матери, когда та вышла к самовару.
– Ах да, ну конечно…
Странно такие вещи и спрашивать. Но отцу хочется поговорить. «И валенки?» – «И валенки». – «А тулуп товарищу его?» Мать вздохнула, сдержалась. «И тулуп». Отец успокоился, стал соображать, когда они могут приехать. Выходило, около десяти. И свой чай, перемежающийся с папиросами, он тянул медленно: одновременно читал «Пикквикский клуб» и временами хохотал так, что глаза наливались слезами. Он их вытирал платком и продолжал.
В одиннадцатом у подъезда раздался скрип саней. Поля выскочила чрез сенца в «фонарь», хлопнула дверью. Послышались голоса, глухой шум. Понемногу он приближался, наконец, отворилась дверь в теплую прихожую. Глебова доха вперед ввалилась, за ней черный тулуп с поднятым воротником. В дохе кто-то барахтался и хохотал, высвобождаясь из-под платка, которым была повязана голова в шапочке. «Нет, не замерзла… ух, сейчас упаду, не привыкла в таких шубах… – и доха опустилась на сундук. – Глеб, снимайте с меня валенки, я как чурбан, сама ничего не могу…» Черный романовский тулуп легко соскочил Поле на руки. Под ним оказался Глеб в обычном студенческом пальто, с намерзлым лицом, но живой и улыбающийся. Он, слегка смущаясь, стал снимать с дохи на сундуке валенки – из них выглянули длинные, тонкие ножки в легеньких чулках. Теплый платок на голове тоже размотался – обнаружил острое, веселое женское лицо, кой-где в веснушках, все сиявшее смехом, светом, со спутанными легкими волосами на голове. Глеб обнял стоявшую в дверях мать.
– Мама, вот позволь тебя познакомить с Еленой Геннадиевной… Я хотел, чтобы она немного отдохнула у нас.
Элли поднялась с сундука, оказалась статной, с гибкой талией молодой дамой. Улыбаясь, протянула матери руку. «Очень рада… ах, мы так чудесно ехали, вы и представить себе не можете… ну, замечательно! Мороз, сани враскат, воздух… роскошь какая!»
Мать поздоровалась с ней вежливо, но сдержанно. Отец смотрел с любопытством.
– Вам, наверно, надо умыться, привести себя с дороги в порядок, – сказала мать, глядя, как она поправляет свои локоны.
– Да, благодарю вас, если можно.
Мать провела ее в свою скромную комнатку. Элли смеялась, возбужденно рассказывала, как они ехали на лошадях, и на каждом слове прибавляла: «Чудно! это было чудно!» Мать была покойна. Вынимая из комода чистое полотенце, показывая, где мыло, все время ее рассматривала. Нет, это не «гусыня» Гаврикова переулка, и не Лера. Это, разумеется, «она».
– Комната ваша будет рядом с моею. Иногда Глеб в ней живет, когда очень сильные метели и ему неудобно идти во флигель.
Она отворила дверь в небольшой кабинет. Над турецким диваном висели рога, на них ружье, патронташ. Стену завешивал ковер, довольно пестрый. Медвежья шкура на полу. Окно, пред которым стоял стол, выходило в сад, на балкон. Там снежный мир, от него беловатый отсвет по всей комнате, светлый отблеск на изразцах печи голландской, дышавшей глянцем, теплом.
– Ну, какая прелесть! Зима, тишина! Я так рада, что сюда приехала. Благодарю вас!
И Элли вдруг обняла мать, горячо ее поцеловала.
– Я и уверена была, что у вас тут все прекрасно.
Мать слегка улыбнулась.
– У нас самый обыкновенный дом.
– А мне ужасно нравится.
– Ну, тем и лучше.
Элли стала вынимать нужное из саквояжа, раскладывать туалетные вещицы. Глеб принес чемодан.
– И мы ждем вас кофе пить, – сказала мать, уходя.
Элли занялась мелкими женскими делами, водворяя в эту мужскую комнату с запахом охоты и медвежьей шкуры свой мир: все ее воротнички и кофточки, платья, гребенки, духи мигом столпились в оживленный беспорядок, будто бы и бестолковый, но живой, благоуханный.
Так начался для Элли новый день нового бытия. Она ехала сюда с некоторым опасением: кто она? что? почему? Собственно, Глеб ее пригласил. Ни она родителей, ни родители ее вовсе не знают. Но сегодня, с утра, она правда была в подъеме, хотелось бегать, петь, всех обнять и поцеловать.
Она вышла в элегантном синем платье в талию, с материнской камеей из Неаполя на шее – очень стройная и изящная. Только локоны плохо поддавались: слишком мягки и нежны. На шнурке висел черепаховый лорнет с мелкой золотой инкрустацией по ручке.
За кофе Элли восхищалась горячими ржаными лепешками, ледяным маслом, сливками. Ела охотно. Глебу нравилось, что вот она здесь, в его родном доме, такая особенная, изящная, ни на кого не похожая. Как всегда, он считался только с собой: если ему нравится, должна и всем нравиться. Если же им не понравится, тем для них хуже. Поэтому он ничего не замечал и не хотел замечать.
– Ну, какая прелесть ваша Лиза, прямо чудо. – Элли снова обращалась к матери. – Глеб Николаевич нас не так давно познакомил, но мы уже на ты. Нет, она чудная! Мы вместе вчера ходили по магазинам, кое-что ей выбирать к свадьбе. Артюша тоже… нет, он не ходил, но он тоже очень славный. Я его, впрочем, и раньше знала. Еще во время студенческих волнений. Он ко мне заходил. Мне иногда удавалось устраивать заключенным передачи, он и просил помочь. А потом он и сам ведь попался. Да, мне Лиза рассказывала, как она к нему в Нежин ездила… ведь вот подумайте, такая маленькая, будто бы и слабенькая…
Мать сидела за самоваром молчаливо. Лицо ее было замкнуто, холодновато. К ней подошла Поля, что-то вполголоса спросила. Мать ответила почти сурово: «Нет, не во флигеле. Барину там, а барыне здесь. В кабинете ей постелишь».
Отец все присматривался к лорнету Элли, – разговаривая, она нервно его вертела. Раза два вскинула к глазам.
– Вы плохо видите? – спросил отец.
– Нет, ничего. А это у меня привычка такая… мне лорнет нравится. Вот так возьму да и погляжу.
Она засмеялась; опять подняла лорнет, ласково посмотрела сквозь него на отца.
– Вам не нравится? Вы находите, что это глупо? А по-моему, он такой славный.
И, опустив лорнет, погладила его ручку.
– Мне иногда кажется, что предметы тоже живые, тоже вроде людей, думают, чувствуют. Этот лорнет мне друг. Я его люблю и он тоже… он знает, когда я счастлива, когда несчастна. И сочувствует мне. Потом у меня еще есть любимая шкатулочка, с разными вещицами. Там образок один, старушка подарила: Николай Чудотворец.
– А вы серьги любите? – спросил отец.
– Люблю.
– И брошки?
– И брошки.
Отец покачал головой.
– Бесполезные вещи. Бесполезные вещи.
Он не одобрял все это, но считал, что женщины так уж устроены, что вот занимаются разными пустяками. Ничего не поделаешь.
Глеб улыбнулся.
– А сам ты предпочитаешь, чтобы женщины хорошо одевались.
– Ну да, хорошо, значит, удобно. А это ненужные вещи. Это все пережиток дикости. Перья в волосы, амулеты на шею. А то можно еще серьгу в нос, знаете, как у папуасов…
Элли захохотала.
– Нет, серьгу в нос себе не собираюсь, но полезного не люблю. По-моему, даже самое лучшее – бесполезное. Вот, прекрасный вид, музыка, стихи…
«Неосновательные люди, – про себя решил отец. – Городские, книжные, жизни не знают».
А неосновательные люди допили свой кофе.
– Пойдемте посмотреть мой флигель, – сказал Глеб. – А потом на лыжах пройдемся. Хотите?
– Ах, чудно!
Отец пустил длинный клуб дыма.
– Только вы лорнета своего не позабудьте! Рассмотрите в него хорошенько, нет ли заячьих следов. Мне потом расскажете.
– Ах-а-хаа… – Элли веселилась. – В лорнет заячьи следы! Хорошо, я вам постараюсь самого зайца поймать.
* * *
На лыжах Элли ходила неважно, но это ее не стесняло. За ригами смело полезла она в овраг салтыковской рощи, весь в тихом инее дубов, блеске искр по снегу, в белых мохнатых лапах его, нависающих с ветвей, с кустов. Эти лапы осыпали ее сухим серебром, жегшим щеки. Лыжи разбегались из-под длинных ножек, наконец, и вовсе выскользнули, со смехом села она в сугроб на дне оврага и со смехом Глеб вытаскивал ее из снега, целовал горевшие на морозе щеки. Кто их тут видел? Белочка, стреканувшая по старому дубу вверх, помахивая рыжеватым хвостом – опахалом? Заяц, в ужасе выскочивший из-под куста, вознесшийся на другой бок ложбины и потом дальше в поле?
– А лорнет-то ваш цел? Вы еще должны в него заячьи следы рассматривать!
Обедали во втором часу. Была индюшка, отец находился в довольно добром настроении. Глеб и Элли чокнулись с ним водочкой, к которой он прикладывался усердно. На рюмку Элли мать посмотрела внимательно. Держалась отдаленно, сумрачно, как гора в таинственных облаках.
После обеда Глеб возил Элли кататься в небольших санках. Правил сам. Он любил иногда выезжать так в поля, делать небольшой проезд к роще, откуда открывался вид просторный. Сейчас рядом с ним сидела востролицая Элли, обо всем спрашивала, все ей занятно. Это что за деревня? Можно ли тут встретить волка? Какой смешной мужик проехал в розвальнях!
Было тихо. Торжественно-покойно и прозрачно разливался вечереющий свет по полям русским, нежно-зеленым стекленело над снегом небо, иногда впадая в золотистый, у заката алеющий оттенок. На севере преобладал цвет радужной закаленной стали. В этом спокойствии зимы, при тонком как бы тумане, кое-где завешивавшем горизонт в лесочках, важно восходил дым над избами, молочно-сиреневыми струями.
На повороте Глеб взял слишком круто, санки наклонились, левый бок приподнялся и они чуть не опрокинулись. Что-то крякнуло. Глеб остановил конька. Вылез из накренившихся санок, где из дохи выглядывало острое личико Элли – вот тебе и раз! – оборвалась плохо подвязанная оглобля. Конек, будто понимая, покорно стоял, дымясь на морозе, кой-где покрывшись седым инеем. Глеб пошарил на дне санок и под сиденьем – нет ли запасной веревки – ничего не оказалось. Солнце близилось к лиловому леску, краснело и ширилось, готовясь сесть в морозном тумане – до дому версты три.
Глеб был в некоторой растерянности: что же тут делать? В это время навстречу показался резвый жеребец в легеньких санках. Подкатив, остановился. Кноррер в тулупчике с серым мерлушковым воротником, в белых валенках и ушастой шапке выскочил из них.
– А-а, сосед! Здравствуйте! Что с вами такое?
– Да вот видите, какая история…
Кноррер весело поздоровался, ласково оценил Элли, раскланялся с ней любезно. По-деревенски он был даже изящен, худ, жив, вишневые глаза бойки, щеки морозно-румяны. Короткие усы обледенели.
– Мне нужно оглоблю подвязать… Нет ли у вас бечевочки?
– А, вон оно что… Поглядим, поглядим… да, как следует хряпнуло, не поедете… – он рассматривал оглоблю, – и какой же это болван запрягал вам? Ведь веревки давно перетерлись, сразу видно!
Все-таки, Глебу с Элли не дано было ночевать в поле. Краснощекий Кноррер вытащил из своих санок кусок бечевки. Глеб сунулся было подвязывать, но он молча его отстранил, крепкой деревенской рукой быстро перевязал ранение, блестя карими глазами, обратился к Элли:
– А теперь, сударыня, запахивайтесь получше в доху и пусть вас Глеб Николаевич потихоньку доставляет в Прошино. Николаю Петровичу поклон! В воскресенье заеду.
Он подходил уже к нетерпеливому своему жеребцу.
– Кучеру не забудьте намылить шею! В каком виде выпустил… Всего наилучшего!
И легко вскочив в санки, легко покатил Кноррер, борзятник и соблазнитель девиц. Он был, как всегда, беззаботен – одно маленькое затруднение занимало его: кто же эта «штучка»? Видимо, из Москвы. Он покачал головой. Тут было и сожаление, и некоторая зависть. Вот, тихоня писатель, до полуночи с оглоблей бы возился, а какую подцепил фигуру. Да, это московская. Сейчас видно, московская, хоть и в прошинской дохе. Вот подцепил! – Кноррер даже с некоторым раздражением послал лошадь вожжами.
Глеб же и Элли вернулись благополучно. Мир и покой еще вели их – рано было в вечерний час Прошина поражать горем.
Прошли прямо во флигель. В комнате Глеба печь жарко топилась. Гудела сильною тягой, в полуотворенные дверцы видно было трепетавшее, потрескивая, золото пламени, текучее, струящееся. Отблеск его летал и по ножкам стола письменного, и по дивану. В окнах стоял еще полусвет заката.
Элли прилегла на диване, лицом к печке. Стала тише, задумчивее.
– Я немного устала.
Глеб укрыл ее, сел рядом. Тихо они разговаривали.
– Мы славно катались, отличный день… и этот такой ловкий ваш сосед. И все было очень хорошо. – Она взяла руку Глеба, слегка погладила. – И вы со мной очень милы. А вот мы пришли сюда, тут тепло, печка, мне стало что-то грустно.
– Почему?
– А так, это со мной бывает. Я вот будто такая полоумная, говорят: «веселая, веселая», а когда одна останусь, на меня иной раз такой мрак нападает, прямо… тоска!
Глеб взял ее руку, тихонько поцеловал.
– Вы сейчас не одна.
– Да, слава Богу. У-ух, одна бы я здесь долго не усидела. У вас дом такой серьезный, чинный. Все… в порядке. Мне и мама ваша очень нравится, хотя мы совсем, совсем разные. Но я ей не нравлюсь. Совершенно не нравлюсь. Да и правда, что во мне может нравиться? Ни семьи, ни дома. С мужем в разводе, какое-то неясное мое положение – что я, собственно, из себя представляю?
Она помолчала. Печь звонко стрельнула, золотой звездой выскочил на железный лист уголек.
– Мне все кажется, что моя жизнь удивительно как бессмысленна. Я ничего не знаю, ничего не умею… взбалмошная, пустяковая личность.
Глеб наклонился к ней, прислонив лоб к теплому, душистому ее виску. Знакомые, мягкие и легкие локоны, всегда воздушные, слегка щекотали лицо. Он сказал тихо, почти шепотом:
– Вам дан дар жизни, дар любви. Это большой дар, вы не думайте. Талант любви.
Глеб даже воодушевился.
– Уменье гореть, зажигать, это и надо, это самое главное. В вас светлый огонь, да и сам свет, вы его вокруг распространяете, сами того не видя. Добрый свет – это ваше излучение.
Она слушала, потом приподнялась, близко, в упор стала смотреть в Глебовы глаза. В них мелькали золотые точки – отсвет печи. Вдруг она обняла его, горячо и тесно.
– Если ты меня любишь, то я живу, а если нет… Ну, да, да, для меня только и есть любовь.
Она впала в некоторое исступление, дрожала и целовала его. Так бормотали они друг другу нежные слова любви, повторяя вечный путь человеческих существ, отданных друг другу.
Полумесяц означился в хрустально-ледяном небе, проплывая меж звезд, и его свет овеял пустыню снегов, излучил таинственное из них сияние, как и из инея, царственно и мохнато одевшего деревья окрест. Лунный свет проник и в комнату флигеля Глебова, сквозь стекла в узорах сам лег узором на руки Элли, на ее глаза. В этом лунном свете, перемежавшимся с отблеском печи, Элли плакала счастливыми слезами, мочила ими щеки Глеба и его ресницы. Смеялась, потом опять плакала, а потом стала тише и покойнее. В некий момент, откинув слегка назад голову, вдруг глубоко, детски-простодушно и заснула. В лунном свете блестели еще в углах глаз и в ресницах слезинки. Лицо стало особенно бледным и прекрасным. Глеб сидел очень взволнованный, тихий, все смотрел на нее. Над ней висела Микель-Анджелова «Ночь» из гробницы Медичи. Почему Элли изогнула во сне именно так нежную свою руку, подпирая голову, чтобы было удобно? Чрез какую тайную связь крови ее с Италией разлился по лицу отпечаток той же таинственной печали, что и в Микель-Анджеловом творении? – Глеб не пытался разгадать. Сидел и смотрел. «Да, мы соединены. Да, это уж теперь так, где-то за нашим земным пределом мы соединены навеки. Мы, конечно, умрем, но любовь наша перейдет в вечность».
Элли ровно дышала. Он ее не будил. Но в седьмом часу из большого дома раздался протяжный трубный звук. Это Поля трубила в рог – зов к чаю вечернему. Элли сначала продолжала спать, потом во сне лицо ее приняло тревожное выражение, и как будто отчалив от того, блаженного брега, она вдруг вздохнула и проснулась.
– А? Это что такое?
– Ничего, ничего, – говорил Глеб, целуя ей глаза. – Это просто нас зовут чай пить.
VII
Великая колесница России катилась. Все было по-прежнему – города, люди, власти. Император, в день Иова родившийся, так же принимал с докладами министров, так же молчалив был и загадочен: неизвестно, как поступит завтра. Одни возвышались, другие падали. Одни наживались, других уносил удар мстителей, по углам таившихся, пулю, бомбу куда надо направлявших. Хитроумные же азиаты еще большее готовили: в вечер Нового года, когда русские, в порте Тихого океана беспечно пировали на своих кораблях, тут-то исподтишка и напали. По всему миру и по всей России прокатился этот звук. Война началась.
С разных вокзалов и по разным дорогам тронулись поезда – на Дальний Восток, все вливаясь перед Азией в гигантский путь через Сибирь. Молодежь и бородачи в серых шинелях, папахах и валенках, офицеры, штабы, лошади, пушки и снаряды медленно, не без сумбура покатили на край света к Океану.
А Россия пребывала в тишине и равнодушии. Были войны и будут. Без беды не обойдешься, а до нас японцам далеко.
В Прошине каждый день читал отец о войне в «Русских Ведомостях», надевая пенсне, под вечерней лампою в столовой, с каймой зеленою внизу по абажуру: чтобы не резало глаз. Прочитавши, вздыхал, складывал газету: «И куда их несет только? И куда, и зачем? Сидели бы дома, да водку пили». Отец терпеть не мог войн, шума, беспорядка. Но вздохнув, принимался за пиво – до следующей газеты.
Лиза, уже замужем, тихо жила под Москвой на фабрике, Артюша служил врачом. Ей вовсе уж было не до войны; она на седьмом месяце, в ней новая жизнь – мальчик ли, девочка? Как все произойдет? Все теперь к этому. Артюша ходит в пальто с барашковым воротником, в мерлушковой шапке, заламывая ее по-хохлацки. Усы его так же невозбранно малороссийские, как и во времена Нежина и студенческих волнений. Он покручивал их, подраздумывал и не прочь был бы уехать на войну с Красным Крестом. Но из-за Лизы невозможно. Мирно, скучновато ходил в больницу, лечил рабочих, резал нарывы, прописывал аспирин.
Глеб и Элли поселились в переулке у Арбата, в четвертом этаже нового красно-кирпичного дома, довольно просторного и бестолкового. Большая комната с фонарем, выходившим на улицу, открывала вид на переулок и церковь, купола которой как раз рядом. Липы в церковном садике, дальше крыши Москвы, то нехитрое, пестро-миловидное, что и есть Москва приарбатских краев, венчаемая вдали куполом Храма Спасителя.
В комнате этой в одном конце столовая, в другом, за ширмою, Эллина постель и женский угол, полный тою же шумной, небрежно-изящной хозяйкиной жизнью. Глеб в другой комнате, за коридором. У него, как всегда, книжки, письменный стол – пристанище – там в ящике рукопись, что-нибудь свежеиспеченное для журнала или альманаха полудекадентского. Третью же комнату сдают.
Вся квартира светлая, легкая, в ней идет новая, очень на прежнюю не похожая, Глебова жизнь. Занят ли он войной, дальними краями Маньчжурии, Порт-Артуром? Как и все вокруг – очень мало. Разумеется, ужасно, что погибли в новогодний вечер наши корабли. А за тридевять земель наши солдаты сражаются с неведомыми японцами, неизвестно из-за чего. Все это страшно и горестно. Но при чем тут он, Глеб, жизнь которого только еще раскрывается? Что ему делать с этой войной, когда рядом есть Элли – с ней живет он как на вулкане, но с незнаемой доселе яркостью, то в восторге, то в плаче и слезах, вновь в примирение и подъем переходящих? Что интересного для него в войне, когда весь он в литературе и надо прочесть Верхарна, Бодлера, Тютчева, определить для себя, кто он сам – «лирик», «импрессионист» или «мистический реалист»? – и самому писать, и бывать у Александрова, и вести знакомство с разными молодыми литераторами и философами и поэтами. Это ведь и есть жизнь – настоящая. Как не похоже на Калугу! На Москву раннюю, с Гавриковым переулком, Таисией, инженерным училищем…
Для Прошина, матери, отца – Элли одна странность и удивление. Но для Москвы нет. Для Глеба, его и ее друзей – нет. Для разных студентов с артистическими наклонностями, для молодого художника Равениуса в крылатке, для босоножки Майи, обитающей в Толстовском с длинноусым портретистом Косинским, для естественника Воленьки, живущего в их же доме и читающего Андрея Белого, все это как раз по мерке. Равно и для того козлорогого Сандро, который просветил Элли Гамсуном. Как и для приятельницы Элли – Люси, жены профессора университетского.
Дружба Элли с этою Люсей была восторженная. Люся носила прямые платья «реформ», как и Элли, восхищалась новою литературой, вместе они выезжали в Литературный клуб, хохотали там, аплодировали кому надо, удивляли, а иногда возмущали честных буржуа. Но для Элли вообще море по колено. Живет она так, какова есть – стихией, любовью. Не задумываясь, может отдать последнюю юбку, не размышляя, любит своего Глеба. В солнечный, весенний день Арбата, встречая Люсю, становится на колени – Люся, потряхивая черными кудряшками над тоненьким большеглазым лицом, тоже перед ней на колени, они обнимаются и начинают хохотать. Потом вскакивают, бегут дальше, среди удивленных взоров проходящих. «Непременно ко мне завтра, Воленька будет читать. Это такая прелесть! Воленька ангел». Люся помаргивает темным газельим глазом, где блестит солнце теплой весны. Да, конечно, придет. Но сейчас некогда, надо дальше, к портнихе, в цветочный магазин, нынче у них обед в Неопалимовском, взять еще сыру и вина. И они разбегаются, у каждой свое: у Элли Глеб, у Люси свой роман.
Элли сегодня в добром дне. Ей легко. С Глебом хотя недавно и поссорились, но вчера помирились и оба плакали, просили друг у друга прощения. Потом целовались и заснули счастливые и сейчас пока счастливы. Главное – он ее любит. Это бесспорно. И она его. Остальное неважно.
С этим она заворачивает во двор дома, где живет Коленька, брат Воленьки. В первом этаже Коленькина квартира. Дверь прямо со двора, попадаешь не то в комнату, не то в каюту с койкой наверху. Черноволосый и чернобровый хозяин, крупный довольно, с бархатно-сливными глазами, свежий и вымытый, в халате, сидит за письменным столом, курит сигару.
– А-а, Элли! Каким ветром? По Арбату носишься?
– Коленька, я на минуту. Не забудь, у меня завтра Воленька читает, ты обязан быть.
– Воленька-Воленька! Опять чушь свою какую-нибудь декадентскую?
– Ничего не чушь. Вот увидишь.
– Ну, я вас знаю, вы все там козлороги какие-то… Он захохотал весело и скорей одобрительно.
– Я вот подрядами занимаюсь, электричество провожу – и все-таки не могу пока разбогатеть: видишь, в какой дыре живу! А вы и ничего не делаете, кроме как по Арбату бегаете, а все как-то выворачиваетесь…
– Ты врешь, Глеб работает.
– Ну, да, Глеб… когда ему вздумается. Возьмет и напишет что-нибудь.
– Не что-нибудь, а он настоящий писатель. Понял? Не поденщик.
Коленька поболтал ногой в красной туфле, выпустил клуб дыма сигарного.
– Ты не кипи, не накаляйся. Я твоего Глеба не трогаю. Пишет и пишет, его дело. Да он, кажется, и не такой полоумный, как ты и остальная компания… Братец-то мой тоже под стать… вашему Андрею Белому. У них как полагается. Чем нелепее, тем, значит, гениальней. А во всяком случае я приду. И вина захвачу. Пусть так и будет: вы начинающие «гейнимы», а я буржуй, тоже начинающий, но буржуй убежденный. И со временем богат буду.
Элли подтвердила ему, что он буржуй. Но от вина не отказалась.
* * *
Воленька единоутробный брат Коленьки. Оба отца давно умерли: Воленькин профессор, Коленькин интендант. Братья мало похожи друг на друга, как их отцы. Коленька много нарядней, Воленька некрасив, крупен, угловат, с большой головой, детскими голубыми глазами, детским смехом. Он живет с матерью, маленькою старушкой, его обожающей, в том же доме, что Глеб и Элли, в первом этаже. Как и Глеб, он студент, но естественник и постарше, на последнем курсе. Занимается же не только естественными науками, но и философией, мистикой, ходит в церковь (редкость в этом кругу). Некоторые считают его чудаком, мать же любит его больше, чем Коленьку, для нее он особенный, на других непохожий. «Володичка мой очень правильный, Богом отмеченный».
Элли недавно с ним познакомилась, сразу же полюбила. Хоть она и не старше его годами, тотчас же ощутила и свое как бы материнство: настоящая мать, разумеется, Клавдия Афанасьевна, но и она, Элли, в чем-то ему родная, в чем-то и опекающая, матерински заботливая.
В беззаботном кругу богемы скоро они перешли на ты, Элли стала его щитом, покровительницей. Если бы кто решился плохо сказать о Воленьке, он имел бы дело с Элли, а это не шутка.
Воленька увлекался Андреем Белым. Потому и назначила Элли чтение его стихов.
Майский ветерок повевал. Пролетки дребезжали, светлая занавеска на окне колыхалась, солнце вечернее Москвы клонилось ниже. Теплота, золотая пыль в воздухе – из фонаря Элли Люся, потряхивая черными кудряшками, поглядывала вниз в переулок, липами Спасопесковскими обрамленный, поджидала гостей, понемногу собиравшихся в майском дуновении Москвы. Элли рядом с ней. Уже Майя пришла со своим усатым художником, в профиль похожим на волка. Она мрачно ежилась, иногда поводила огромными прозрачными глазами: считала, что она загадочная личность и на ее пути трагедия. Художник присматривался больше к выпивке. Но с прибытием Коленьки дело улучшилось. Он принес огромную бутыль донского. «Елена, от московской буржуазии. Цени. И не презирай».
Глеб сидел с Воленькой. Вблизи барышни Колмаковы. «Ты пойдешь Бальмонта слушать? Об Оскаре Уайльде? Страшно интересно…»
– Я с вами согласен, – говорил Глеб тоном молодого, но солидного литератора («книжные люди», сказал бы отец). – Белый, конечно, замечательное явление. Когда на него нападают, особенно люди, далекие от литературы, я его всегда защищаю. Все-таки, с вашей оценкой не могу согласиться.
Воленька сидел против него большеголовый, неуклюжий, смотрел приветливо небольшими зеленоватыми глазами с нездоровыми под ними одутловатостями.
– А мне все в нем нравится. Вот, смеются: «Завопил низким басом, в небеса запустил ананасом…» – а мне и это нравится. Бессмыслица, а нравится. Потому что это он сам такой, а-ха ха-ха, – Воленька вдруг залился громким, дурашливым смехом. – Сам в небо ананасом залетает и, может быть, плохо кончит, а вот мне он родной. Подошла Элли.
– Элли, Элли, ты Андрея Белого любишь?
Элли положила Воленьке обе руки на голову.
– Глеба, конечно, больше, но и его тоже. Он такой же полоумный, как и ты.
Воленька опять захохотал.
– Да ведь и ты сама… того… не из очень крепких.
– Ты мне нынче не нравишься. Желтый какой-то, мешки под глазами.
– А сам не знаю. Голова все болит. В глазах иной раз стрекает. Доктор мне сказал – это от почек. Ну, ничего! Ну, что там почки!
Воленька не унывает. В светлом вечере майском пьет чай с баранкою, подхохатывает козлиным смехом и поджидает, когда все соберутся.
Мимоходом, легко пробегая, целует его в лоб Люся: «Милый Воленька, очень милый!» Но потом шепчет в сторонке Элли: «Воленька прелесть? Ну, ангел! Но мой Курилко лучше». А студент Курилко, тоненький, розовый, с темными усиками, и сам знает, что лучше – томно перемигивается с Люсей.
К Воленьке подсела Майя. Вращая огромными глазами, начинает разговор о вещих снах, видениях. Майя мрачна, у нее вид почти трагический. «И вот я прохожу по подземелью, у меня из-под ног синие змеи, а потом огромная змея, а из ее пасти вылезает мой же собственный ребенок. Я начинаю ему глодать череп и у него такая мягкая кость и мозг такой вкусный…»
Художник с волнообразным профилем и длинными усами присоседился к Коленькину донскому.
– Она вам еще не того расскажет, – кричит он через стол, из своего угла, – она еще превратится в собственного отца!
Майя строго на него оборачивается. «Вижу, что уже выпил. Я в отца никогда не превращалась, а что вкус мозга моего младенца и сейчас еще чувствую, это правда».
Воленька козлино и добродушно подхохатывает.
Входят новые гости: сатировидный Сандро, с рано облысевшей головой, небольшими острыми и слегка плутоватыми глазами, с ним молодой человек в темном костюме с красным цветком в петлице – в руке у него цилиндр. Сандро здоровается с Элли.
– А-а, вот, позволь тебе представить… – он говорит бойко, почти развязно, – мой земляк, тоже из Ставрополя – поэт Погорелков.
Молодой человек любезно кланяется. От него слегка пахнет дешевыми духами, галстук уж очень пестр, желтые ботинки, голубые носки.
Полуобнимая Погорелкова, Сандро обращается к присутствующим с видом как бы импресарио.
– Только что из Парижа!
Погорелков скромно, но с достоинством улыбается.
– Да, действительно… прямо с Монпарнаса и Монмартра, из кабачков поэтов, студий художников…
Барышни Колмаковы, слегка повизгивая, обступают его.
– Ах, как интересно…
– У меня есть и личные знакомства: Поль Фор, Жан Мореас. Мы встречались нередко в кафе Closerie des Lilas и дружили. В Париже все очень просто.
– Он хороший малый, – говорит Сандро вполголоса Глебу, – я его знаю с детства, в семинарии вместе учились в Ставрополе. А теперь он поэтом заделался. В Париж попал секретарем русского профессора, знаменитого и богатого. Вот теперь только и бредит Верленами да Метерлинками.
Погорелков слегка тает в окружении барышень. Элли приветливо подсаживает его к Воленьке. Ему дают чаю. Он не знает, куда поставить цилиндр – Майя надевает его себе на голову. Все хохочут. И цилиндр идет по рукам, водружается, наконец, на зеркальном шкафу.
Подходит Коленька с четвертною бутылью.
– Я угощаю поэта вином, так сказать, с Дона, родным напитком… чего там чай! Хочу чокнуться с ним.
Коленька наливает, Погорелков мило улыбается.
– Да, – говорит скромно, – я немало безумствовал в кабачках и клоаках Парижа с лучшими из тамошних поэтов.
– Ну, и здесь поезжайте к Брюсову на Цветной бульвар, там разные переулочки близко, теплые… – кричит из угла длинноусый художник.
– Я уже сделал визиты Бальмонту и Брюсову.
Погорелков чокается с Глебом и говорит, что рад познакомиться с ним – представителем молодого русского искусства. Буты. чь Коленьки начинает действовать. Настроение повышается. Погорелков чувствует себя отчасти Полем Фором.
– Я уверен, что новая французская литература благодетельно отразится на молодой русской…
Сандро в это время шепчет Элли:
– Ничего он не француз, такой же семинар ставропольский и остался.
Воленька, наконец, усаживается с книгами к столику у окна. Одной книги название: «Северная Симфония», другой «Третья драматическая». Свет вечера майского падает сзади на Воленьку, золотит худые его виски со впадинами, вся его крупная, костлявая и неуклюжая фигура как-то трогательней в этом нежном обрамлении. Он читает так себе, скорее, неважно, но ведь тут все свои. Свои слушают благожелательно. Люся с Курилкою в углу, что-то уж очень близко друг к другу. Майя прямо на него смотрит раскрытыми, несколько бессмысленными прозрачными глазами. Художник в другом углу прикладывается с Коленькой к донскому. И чрез комнату со страниц пролетают, в туманных созвучиях, то кентавры, то гномы, то московские зори, Владимир Соловьев в темной крылатке, красавица Московская с фиалковыми глазами.
Погорелков сидит в кресле довольно важно, покачивая слегка ногой в желтой ботинке – в такт лету фраз, как меломан в концерте.
– Чепуха, разумеется, но здорово! – вдруг выкрикивает из угла длинноусый художник. Майя грозно оборачивает к нему неподвижные глаза.
– Как бы ты на меня ни глядела, от этого Андрей Белый не станет толковее.
Коленька с ним чокается.
– Браво, художник.
Элли утихомиривает их. И вот ей – нравится.
– Воленька, прочитай что-нибудь из стихов его. Воленька отирает платком крупное свое лицо. Берет книгу «Золото в лазури». Погорелков сочувственно кивает головой.
– Я уверен, что если бы это было переведено на французский, то имело бы успех в кругах Closerie des Lilas.
Элли сидит в кресле, оживленная и порозовевшая. У ее ног на медвежьей шкуре Сандро – в руке у него стакан с вином.
– Я, как Бахус, у твоих ног… а-ха-ха… или, может, Сатир?
Воленька начинает:
Даль – без конца. Качается лениво, Шумит овес И сердце ждет опять нетерпеливо Все тех же грез. В печали бледной, виннозолотистой, Закрывшись тучей, И окаймив дугой ее огнистой Сребристожгучей – Садится солнце краснозолотое…Погорелков оборачивается к барышням Колмаковым и Глебу.
– Это бесспорно новые формы. Так называемый вольный стих. Его проповедует теперь Верхарн.
Весны давно никто не ожидает И ты – не жди. Нет ничего. И ничего не будет И ты умрешь Исчезнет мир и Бог его забудет. Чего ж ты ждешь? Огромный шар, склонясь, горит над нивой Багрянцем роз Ложится тень. Качается лениво, Шумит овес.Элли задумалась. Потом вдруг подняла на Воленьку глаза. Он смущенно складывает книгу, но в лице его возбуждение, блеск.
– Ну, вот… ну, вот, я, кажется, зачитал вас?
– Воленька, ты прочитал, что Бог мир забудет. Как же это… сам создал, да и забудет.
Сандро положил голову ей на колени.
– Дитя, ты Белого спрашивай, он писал, а не Воленька. И все равно ничего не узнаешь, он и сам ничего не знает, а так сболтнул, как поэт – а-а-ха-ха-ха!
– Я хочу знать, как Воленька думает. Зеленоватые глаза Воленьки стали серьезней.
– Что же я думаю? Я мало ли что думаю. Я, например, думаю, верю – что именно детей есть Царствие Божие. Это даже наверно. А вот ты спрашиваешь, забыл ли Бог мир… – этого быть не может. Нет, это у Белого просто минута, по-моему. Настроение. «Нет ничего и ничего не будет».
Элли встала.
– Как же так нет? Любовь есть. Значит, все уж есть.
Сандро тоже поднялся.
– Да, коли до любви дошло, тут с тобой спорить нечего.
Коленька поднялся из дальнего утра с бокалом.
– Если пьют за любовь, то я охотно. Я все жениться собираюсь, но пока неудачно. Но я за любовь и за солидные основы жизни, как семья, например, а не за такую толчею богемы, как у вас.
– Его надо женить! – закричали кругом.
– Зиночка, выходите за Коленьку!
Зиночка Колмакова взвизгнула и захохотала.
– Да он мне и предложения не делал!
Поднялся шум, говор, смех. Коленька вновь вытащил свою бутыль донского, налил всем и, не споря, все на том объединились, что надобно выпить за любовь. Загалдели, закричали, зачокались, а московское солнце, вовсе не столь печальное, как у Андрея Белого, в тот майский вечер окропило их из окон теплым и живым золотом – Господним.
И они выпили и даже Майя не сказала ничего ни загадочного, ни людоедского.
Потом просили Погорелкова прочесть свое. Он подзамялся немного. А затем встал, обвел всех взглядом довольно миловидных карих глаз.
– Ну, это после Андрея Белого будет… того! – шепнул Сандро Элли. – Некоторый самогон в цилиндре, ты понимаешь…
Погорелков провел рукой по темным усикам, отставил немного вперед ногу.
Как весна я молод И как пламя жгуч, В моем светлом сердце Бьет надежды ключ…Далее вполне полагался он на солнце, радость, счастье свое и удачу. Читал бойко и довольно мило.
– Вот напрасно только так надеется на счастье, – сказал Воленька Глебу вполголоса. – С этим надо бы поосторожнее.
Погорелков разгорался. Ему казалось, что он ловит сочувственные взоры Элли, барышень Колмаковых, Майи. Он немного начал уж выступать шантеклером парижским, послом Монпарнаса. Французского столько же в нем было, как в самом Ставрополе и семинарии, его вскормившей. «Погорелков, работайте!» – крикнул художник из угла. «Еще, еще, поддай жару!» Он читал охотно.
Ему аплодировали. Он мило улыбался, чокался. Температура подымалась. Хохотали, болтали. Зажгли лампу. Свет ее мешался еще с отсветом голубоватой майской ночи, все неясно, зыблемо, тепло и духовито в беспорядочной комнате с выступающим фонарем на улицу, где Люся с Курилкой разглядывают уже ночные звезды. Лицо Воленьки кажется усталым, под глазами сильней круги.
Элли смотрит на него не совсем покойно. Глеб хочет налить ему вина, Воленька прикрывает стакан ладонью. Улыбается большим своим ртом.
– Нет, мне нельзя. Доктора не позволяют.
Глеб с докторами мало еще знаком. Ему ничего не запрещают, его стакан полон, но скоро будет пуст. Глеб в возбуждении и подъеме.
– Я, знаете, все последнее время об Италии думаю. Читал кое-что… ну вот о Леонардо да Винчи… мне в Италию хочется.
Воленька полузакрывает глаза. На лице его разлито что-то мирное, почти нежное.
– Я раз в Аббации жил, с отцом еще. Мы в Венецию ездили.
– Вам понравилось?
Воленька вдруг козлино захохотал.
– Понравилось! Не то слово. Как о рае вспоминаю. Есть жизнь, дни, будни, а есть рай. Вот я и побывал тогда в нем…
– Элли, слышишь?
Глеб доволен. Но Элли и не надо подгонять. Да, вот Италия… А много денег надо, чтобы съездить? Этого Воленька не знает, он тогда не интересовался. Да наверно немного, особенно если скромно.
Элли в восторге.
– Едем, и все вместе! Глеб аванс возьмет, я кольцо продам, ты, Воленька, тоже с нами.
Воленька улыбается детской улыбкой.
– Нет, уж я, знаешь…
– С нами, с нами!
Барышни Колмаковы уходят. Погорелков их провожает. За ними и Люся с Курилкой. Бал затихает. Услыхав об Италии, Майя подает голос:
– Я бы в Италию не поехала. Я бы уехала в Африку или в непроходимые леса Америки и там бы жила среди змей.
Художник мрачно покручивает ус.
– До Люберцов на билет денег не хватит, а ей в Африку! Он обнимает вдруг Коленьку.
– Если жениться собираетесь, то не стиль модерн, пожалуйста! Прошу вас, на простой бабе. Умоляю. А то, видите, по ней змеи соскучились.
Коленька подтверждает: ему надо жену-хозяйку.
– Пан-нимаю! Которая яичницу сумела бы приготовить. После гостей беспорядок страшнейший. Но преданная Марфуша с огромными серьгами, худенькая, с виду похожая на нищенку, не зря ведет хозяйство в этом доме – скоро все убрано. Господа веселились, она в кухне подремывала, а теперь, при бледнеющих предрассветных звездах и ветерке одиноком, улегшись на своем монашеском ложе, засыпает сном чистых сердцем, до семи, когда для тех же господ побежит в булочную и за молоком, позже самовар поставит. А господа еще не скоро утихомирятся. Элли будет мыться, чиститься, Глеб у отворенного окна в фонаре, куря, глядеть на церковь Спасопесковскую в темных липах. Москва спит, май нежно трогает утреннюю зарю, над зарей жизни человеческой волшебный воздвигает полог.
– Элли, а насчет Италии-то как?
– Ах, чудно, чудно!
Она завивает последнюю, светлую косичку, закалывает ее шпилькой.
Глеб продолжает смотреть в уходящую ночь. А внизу, в первом этаже, Воленька уже улегся, но заснет не сразу. Он спит плохо. В полусумраке зари видней, ясней темные провалы под глазами.
* * *
Май пролетает над Москвой, над Спасопесковским, над Глебом и Элли, одевая нежною листвою липы вокруг церкви, Глеба же все завлекая Италией. Да, этой осенью ехать! Да, непременно.
И он взял для подкормки работу попроще – правил перевод, корректировал Метерлинка, собрание сочинений. Кое-что сам перевел. Кое в чем Элли помогала. Так надеялись они подсобрать денег сверх обычных авансов. Так неслися их дни, среди Зиночек, беготни с Люсей, в дружбе с Воленькой. Но именно Воленька и тревожил. Экзаменов держать не смог, все сидел дома, а потом просто слег – воспаление почек.
По лестнице с просторным пролетом вниз чуть не каждый день бегала теперь Элли навещать его, в первый этаж. Он лежал в комнате направо, окна прямо в церковный сад через улицу. Клавдия Афанасьевна копошилась в кухне.
Воленька лежит огромный, худой. Когда чувствует себя получше, читает Владимира Соловьева, Белого. Эллину приходу всегда рад – залетает она сюда, заносит свет мая, свой легкий локон, нежные духи, быстрый, веселый говор. Иногда цветов притащит. Воленька улыбается: «Ты, пожалуйста, почаще так… Мне лежать скучно. А вставать нельзя. Ну, рассказывай, как там ваши козлороги поживают?»
Элли докладывает: Майя с Косинским ссорится. На Пого-релкова Равениус сочинил эпиграмму.
– А-ха-ха, га-га! – хохочет Воленька, дико и неожиданно громко. – Знаю. Мне Глеб говорил. Здорово! «Он копирует Европу на передней стороне…» – А-га-га-га..! Только вы его не задразнивайте, он хороший малый. Парижско-ставропольский семинар!
– Ты слушай, ты подумай, – говорит Элли, – мне Косинский через два дня на третий присылает записку: «Дайте рубль. Умираем с голоду». Марфуша несет, это недалеко, в Толстовском. Ну, Бог с ним. А представь, вчера забегаю к Майе – крик, слышно на лестнице. Звоню, отворяет сам, разъяренный, усы висят, рожа красная. Майя рыдает. «Он меня избил!» – «И еще изобью, психопатка!» Я на него: «Как это вы женщину смеете трогать! Гадость, вы мерзавец!» Ну, понимаешь, он того стоит. «А, мерзавец?» Хватает меня за плечо: «Я и вас сейчас изобью. Не смейте в чужие дела вмешиваться». Я его обругала и выскочила. Подумай, какой хам! На другой день записка: «Умоляю, хотя бы полтинник. За вчерашнее прошу извинить».
– Хорошо! Ах, хорошо! – Воленька воодушевляется. – Люблю полоумных. А мне, знаешь, Андрей Белый прислал визитную карточку: имя, фамилия, а ниже, где ставят – ну, «инженер-механик», или «доктор медицины», там: козлорог-еди-норог. А? Это профессия такая? Неплохо? Оказывается, многим такие разослал.
Так развлекаются Элли и Воленька. Но долго у него сидеть нельзя: надо нести корректуры издателю, взять новые, переписать Глебов рассказ для журнала. Да, жизнь полна. Длинные ножки Элли резвы, как весенний дух, носится она по Арбату туда-сюда.
Забот много, особенно чужих: не слишком ли далеко зашел роман Зиночки? Откуда Коленьке взять невесту? Или Люся – с ней постоянные истории.
Теперь этот Курилко. Все отлично, но от нее не отстает. Она на дачу, он за ней, она в Неопалимовский, он тут как тут. Но вот однажды Люся подкатила на извозчике, с чемоданчиком поднялась наверх. Огромные глаза заплаканы, черные локоны не в порядке. В передней остановилась, тряхнула кудряшками.
– Элли! Я к тебе! Ты у меня единственная. Я больше дома не могу! Он такой негодяй…
Значит, очередная ссора. «Ты понимаешь, мне ведь деваться некуда, вот я к тебе как к другу…» Слезы, Элли ее обнимает. «Понятно, понятно! Ну, счастье мое, располагайся, как дома». – «Я так и знала, ты прелесть…»
Через полчаса Люся уже покойна, попила с Элли чайку в золотом послеполудне летнем, в грохотании пролеток по Арбату, визге ласточек вокруг Спасопесковской церкви. После чаю ложится на постель, вынимает записную книжечку, погружается в нее.
Элли стучит на ремингтоне. Листы вставляет неаккуратно, пишет с пропусками – э-э, ничего! Одушевлена работа, все равно выйдет хорошо, потому что «Глеб отлично пишет». Это самое важное.
Наконец, кончила. Подходит к Люсе.
– Ты тут что считаешь?
– Записываю. Хочу точно знать, сколько раз меня Максютка обидел. Видишь, теперь в порядке.
И показывает книжечку. Там две графы: «Мои обиды» – «Его обиды».
– Ты видишь, мы пять лет женаты, он меня уж восемнадцать раз оскорбил.
– А ты его?
– Все указано. Погоди.
Она ведет пальцем вниз по другой графе.
– Семь, восемь… одиннадцать. Девятнадцать с половиной! Подымает огромные глаза на Элли, не без изумления. Черные кудряшки тонко выделяют голову на подушке.
– Значит, я все-таки больше! Элька, слышишь? А я его девятнадцать с половиной!
Элли хохочет.
– Какая дура! Ах, какая ты у меня дура!
И они обе хохочут и целуются. Настроение Люси меняется. Значит, все правильно, не такая она казанская сирота, за себя постоять сумеет.
– Но я к нему, разумеется, не вернусь.
Начинаются планы. Да, поселятся вместе. Глеб, Элли и Люся. Квартиру надо побольше. Деньги? Ну, откуда-нибудь да появятся.
Глеб в эти дела посвящен. И сочувствует. Максютка, хоть и профессор, а болван первосортный. Давно пора Люсе удрать. Насчет денег, конечно, устроится. Вообще настроение Глеба: все хорошо! Все интересно, все ярко, осенью путешествие, а сейчас вот он пишет, и хотя жутко – каждый раз как кончает рассказ, кажется, что это последний, дальше ничего не напишешь: жутко, а под всем этим такой напор сил, чувств, такая острота молодости. Все бы взять, испытать, видеть!
На другой день Люся пытается помогать кое-что по хозяйству. Марфуша, потряхивая огромной серьгой в ухе, поминутно почесывая в голове, отстраняет ее: «Нет уж, барыня, я сама… что уж. Нет уж». Люся мила и скромна. Курилко приходит. На том же балконе они воркуют. Перед вечером вновь лежит Люся на постели, опять записывает. Элли смеется.
– Обиды считаешь?
– Нет, теперь не обиды.
Люся снова серьезна. Теперь графа только одна, но с заметками. Элли опять заглядывает.
– Ах, дура, дура! Романы!
– Послушай, я отчасти перед Максюткой и виновата, конечно. Но что же мне делать, если уж я такая? Я ведь, когда увлекаюсь, то всегда искренно.
Элли хохочет. Люся продолжает задумчиво:
– Ведь Максютка не всегда груб. Он иногда со мной и очень ласков. А я… я ведь отчасти выхожу перед ним дрянь?
Входит Марфуша, как всегда, быстро, точно срываясь куда. Почесывает в голове пальцем. Серьга в ухе покачивается, в руках письмо – подает его Элли.
– От ихнего барина. Андрей принес.
Элли читает сперва покойно, потом смеется и вспыхивает, с оттенком гнева.
– Твой Максютка совсем одурел. Что, он с ума сошел?
– Да что такое?
– О тебе, конечно. Ну, это понятно, он сердится. И уже знает, что ты тут. Ах, идиот!
Элли бросает Люсе письмо.
– Грозит, что если ты не вернешься, он на меня в суд подаст… за похищение его жены! Глеб, иди сюда, я, оказывается, похитила у Максютки Люсю!
Глеб появляется, Элли хохочет, Люся болтает ногами высоко в воздухе и слегка повизгивает.
– Прелесть, Максютка мой, прелесть! Глеб тоже в очень веселом настроении.
– Люсенька, да ведь он болван.
Но Люся не совсем так считает. Отсмеявшись, становится снова задумчивой.
– Вот, значит, все-таки любит. Я плохая жена, а он меня любит.
К вечеру впадает она в меланхолию. Конечно, и Глеб и Элли очень к ней милы. Но все-таки… это ведь не ее дом. Ну, вот, поживешь день, два, а дальше? Все на этой постели валяться?
Глеб и Элли вышли пройтись, на Пречистенский бульвар. Люся одна, в теплых летних сумерках. Она лежит, начинает опять, теперь мысленно, подсчитывать: сколько раз она вот так, в грустную минуту, ложилась под бок к Максютке, головой на плечо, у себя в доме, в собственной комнате. «Нет уж теперь, если здесь, то никогда я не лягу к нему под мышку, нет, уж никогда… – Из ее черных глаз капает на Эллину наволочку слеза. – Никогда не увидеть мне Максютку».
Ночью спит она в Глебовой комнате, а Глеб с Элли здесь. В девять они подымаются. Марфуша подает самовар.
– А что же барыня встала? – спрашивает Элли. – Сейчас чай будем пить.
Марфуша оборачивается, встряхивает головой. Серьга в ухе отчаянно прыгает.
– Нету барыни. Только я это в булочную собралась, они уже одетые, и со мной вместе вышли, и чемоданчик с собою… скажи, мол, благодарю… меня муж ждет. И мне за услуги полтинник дали.
* * *
В это время Цусима гремела. Тонули русские корабли, тонули русские моряки – вдали, на краю света. Некоторые надеялись, что победа Японии будет России полезна.
Глеба политика не занимала. Но читая об этом, он содрогался: можно ли себе представить, что вот тысячи людей просто-напросто утонули в пучинах? Или задохлись в трюмах опрокинувшегося крейсера?
Элли оплакивала знакомого. На одном из броненосцев погиб граф Нейрод – года два назад встречалась она с ним в Севастополе. Не пожелав сдаться, пустил себе пулю в лоб. «Это что-то ужасное! – говорила Элли. – Я как сейчас помню его на набережной у отеля Киста, весь в белом, нарядный моряк… совсем юный. Как у них там называют… мичман, что ли? Или лейтенант? Глеб, ты понимаешь, он всегда немного тем форсил, что вот он барин, граф. Да, и не захотел сдаваться».
Элли волновалась и кипела, искренно ей было жаль и графа, и других, но в кипении этом быстро и разряжалась. Зашла в церковь к Николе Плотнику, помолилась, поплакала, поставила на канун свечку, вспомнила Севастополь, как с мамой туда ездила – в самый разгар разрыва с мужем. Белый Херсонес, скалы Георгиевского монастыря, синий туман моря, солнце – блеск его ослепительный в ряби волн – Боже мой, на таких волнах, может быть, и в такой же день погиб бедный Нейрод и никогда уже не увидит их. Все это грустно! Все очень грустно, но за церковию Николы Плотника снова Арбат, то же солнце, летний грохот пролеток и ее молодая жизнь, Глеб, любовь… Осенью Италия. Боже, как хочется жить! Как иногда страшно и скорбно на душе, потом как сияюще!
И война, ужасы Цусимы, все неслось, уносилось, светлою рекою замывалось.
Глеб, из-за работы, не мог тронуться в Прошино. Июнь, жаркий июль проводили они в Москве. Хотя к летнему городу мало привычен был Глеб, но сейчас чувствовал себя хорошо. С утра за работой – сам ли писал, поправлял ли переводы, корректуру ли держал – весь день его погружен в литературу. Иногда Элли уезжала к Люсе на дачу в Люблино, Глеб один сидел над гранками, относил их на Молчановку издателю, жарким московским вечером – дело свое, нужное. Это не лекции в Техническом и не Коровий Брод. Даже не Университет, куда он так стремился, а теперь все больше холодел. И отец мог недовольно удивляться: «Чего он там сидит в Москве? Жарища, пыль! Неосновательные люди! Городские». Мать тоже могла сколько угодно огорчаться, что это «она» удерживает его. «Ей, конечно, в деревне скучно!» – Глеб с Элли пустили в Москве корни.
Днем солнце туманным огнем висело в небе, по ночам духота. А в один из послеполудней, за Тверской зашла страшная туча, с зеленоватым оттенком, с грозным валиком-оторочкой впереди. Она двигалась на Арбат, Спасопесковский. Поначалу шла медленно, в угрожающей силе, потом вдруг завились в пыли смерчи над московскими улицами, листья откуда-то полетели и – вихрь, вой, окна хлопают, где-то стекло вылетело, надвинулась зеленоватая тьма, ломавшаяся огненными извивами. Било, стреляло! Белый дождь хлестал. Задыхаясь в урагане, едва успел Глеб затворить окно (чуть не сорвало занавеску). Элли побледнела: «Глеб, это что-то ужасное! Ты посмотри только…» – И на всякий случай к нему привалилась: все-таки, мужчина, муж. «Да, знаешь…» О, что за силы! Нечто, может быть, и мистическое? Не таков ли будет и конец света?
Но конец света еще не наступил. Буря отвыла, отгрохотала сколько ей полагается, и отошла. Наступила минута – можно окно отворить. Капли еще летят, но уже над Тверской светлеет и душистый, прохладный воздух входит снаружи в жар комнат.
Элли бежит вниз к Воленьке. В его комнате лужа: не успели окна закрыть вовремя, Клавдия Афанасьевна возится с тряпкою. «Ну, как ты, Воленька, прелесть моя?» Воленька лежит на спине, дышит довольно тяжко, но улыбается, протягивает Элли огромную руку: «Ничего, ничего!» – «Боялся грозы? Я ужасно!» – «Грозы не грозы… я, знаешь, стал задыхаться очень». – «Еще бы, духота какая». – «Я рад, что ты пришла… ты, Элли, такая веселая. И ты ласковая…» Клавдия Афанасьевна кончила вытирать пол. «Он всегда уж вас ждет. Как, говорит, Елена Геннадиевна придет, так мне и лучше». Элли смеется: «Ну, тогда надо у тебя вечно сидеть?»
Когда Клавдия Афанасьевна вышла, Воленька поцеловал Элли руку.
«Да, всегда… а нынче рад особенно. Гроза, ты говоришь, от духоты задыхаюсь… Нет, хуже. Мне, Элли, очень плохо. Я уж при маме не хотел говорить. Мне все хуже. Заливает меня… вот… – оттого и дышать трудно. – Он сел на постели. – По ночам тяжко. Не могу спать и все мрачные такие мысли. Ну, конечно, все умрем, а все-таки… Элли, знаешь, страшно умирать». – «Да Господь с тобой, ты двадцать раз оправишься, чего тебе умирать? Осенью в Италию вместе поедем!» Воленька посмотрел на нее внимательно, чуть улыбнулся. Наклонил голову, будто разглядывал свои руки. Огромные впадины на висках полоснули Эллино сердце. «Ты помнишь, я тогда читал, у вас на вечере, Андрея Белого: „Исчезнет мир и Бог его забудет“ – нынче ночью как раз это вспомнилось. Неправильно, конечно. Бог есть и не забудет, помни это, я завещаю тебе, ты светлая, но путаная голова, я тебе завещаю: „Бог есть, и не оставит, но пути Его… ах, Его пути не по нашим головам. Мы знать не можем. Ах, мы иногда изнемогаем“». Он вдруг взял голову обеими руками, закрыл лицо ладонями. Элли вся задрожала – в нестерпимой жалости: «Воленька, Воленька, милый…» Припала к нему, он слегка отстранил и вдруг всхлипнул. «Не надо, не надо, добрая душа, полевой ветер… у тебя Глеб есть, тебе еще долго жить с ним…»
Когда Элли поднялась наверх, прозрачно-золотеющий, зеленоватый вечер наступал уже. После дождя все просияло и промылось, искрится в благоухании. Глеб занялся корректурами.
– Ну, как?
– Ужасно, ах, ужасно.
Элли ходит, садится, опять встает.
Воленька так страдает, ему надо помочь, но как? Чем? Элли не прочь была бы просто болезнь из него вытащить, задушить… да, но это ребячество.
– Ему делают теперь сухие воздушные ванны… страшно горячие, чтобы выпаривать воду. Такое мучение… а потом, когда спину трут, то ему легче. Я буду к нему ходить, у него дежурить, вот так растирать спину.
Марфуша внесла самовар. Золотые серьги ее блестели в вечернем солнце. Пар забивал лицо – маленькая, проворная и худая, походила она на обезьянку.
– Барыня, гроза-то была… Вихорь-то! В булочной сейчас говорили: Анненгофскую рощу снесло. Пря-ямо! Как на покосе, говорит, скосило. Ни деревца! А то еще, будто, товарные вагоны в Дорогомилове посбросало, как есть с насыпи вниз под откос…
Элли села за самовар. В тихих сумерках, прозрачных и безмятежных, пили они с Глебом чай, ели теплые савостьяновские калачи с маслом Бландова – может быть, и из прошинского молока. Чайная колбаса, ломтики ветчины. Глебу казалось, как грустно, и радостно вот так сидеть, так уединенно, средь бурь и сияний, здесь вдвоем и в любви, и в приятельстве, а там, внизу, темная бездна со стонами Воленьки. И они на самом краю, на самом.
Элли вдруг приподнялась, обняла его. В полусумраке вечера он совсем близко увидел знакомые, милые, сумасшедшие зеленоватые глаза.
– Глеб, не умирай! Ты… не умирай! Я не могу, не могу…
Ее теплое, легкое, такое знакомое тело со слабым запахом духов, с мягкими, путаными волосами на голове, иногда такое бурное, кипящее, в детской беспомощности на нем повисло.
– Не умирай!..
* * *
Сандро бегал по Москве с видом неунывающего сатира, заговаривал молодых дам Гамсуном и Пшибышевским, бурно хохотал, много ел и откуда-то умудрялся доставать деньги. Погорелков исследовал кабачки и клоаки, прицеливаясь на московского Верлена – в боковом кармане всегда носил тетрадочку стихов, только что написанных: охотно почитает, были бы слушатели. Цилиндр все красуется на нем, красная гвоздика в петличке. И в конце концов он отдаст и тому же Сандро и вообще, кто попросит, последнюю трехрублевку, считая, что так поэту и полагается. «Как весна я молод, и как пламя жгуч», – но и следующая трехрублевка неизвестно ему самому каким способом все-таки у него появится.
Люся успела к Курилке за лето остыть, ее больше занимал теперь студент в Люблине, сосед по даче. Заезжая на Арбат к Элли, она сияла агатовыми своими глазами. «Ты понимаешь, он слушает археологические лекции, сам работает, его при Университете оставят. Очень, оч-чень интересный. Он про мозаики Кахрие Джами страшно занятно рассказывает. Ты как смотришь на Кахрие Джами?» Элли вряд ли могла сказать нечто о Кахрие Джами, но Люся тряхнула кудряшками и неслась уже дальше: «Да, а ты знаешь, тот ураган, помнишь… ну, у нас весь огромный лес, за озером, как косой скосило».
Итак, все в порядке. День набегает за днем, июль идет за июнем, липы вокруг церкви Спасопесковской отцвели. В передовом журнале появилась статья о Глебе – Элли всем показывает: «Вы читали? очень хвалят…» Глеб делает вид, будто недоволен, что она раззванивает, да и сама статья… ну, разумеется, сочувственно. Сам-то он перечитал ее не раз – первая цельная статья, а еще книги нет, отдельные рассказы. Свое имя в печати кажется особенно нарядным, да, неплохое имя. Сразу из других выделяется.
В это же самое время Воленька внизу задыхается. Его мучат ваннами. Элли к нему бегает вниз-вверх, легким эльфом на длинных ножках, они не устанут носить ее, не устанут. «Глеб, это такой ужас, он так страдает!» Глеб тоже ходит и тоже сочувствует. Но у него нет дара Элли, он и стесняется, и робеет, и так расстраивается, что мало дать может. Поднявшись наверх, широко вздыхает: да, тут его рукописи, там лист метерлинков-ской корректуры, здесь журнал со статьей, книги об Италии… – все дело в этом, и в этом главное.
А вот входит Косинский. Он красен, усы его вниз, глаза воспалены, воротничок помят. Элли является. Он грузно сел. «Да, так-то… Глеб, у вас папироса найдется?» Глеб подает. С видом идущего на казнь, вкушающего последнюю радость, Косинский затягивается – жадно и самозабвенно. «А психопатка-то моя сбежала…» Он на Глеба смотрит тяжким взором. «Ну, куда… как сбежала?» – «Да уж так. Бросила. С прохвостом». Молчание. «Послушайте, вам приходилось когда-нибудь видеть вырожденскую стерву с поэтическим именем?.. – Майя! Нежно и волшебно. Но в ней знаете какая душа? Кухарки-с! Ах, что там, я вашу Марфушу обижаю, это золото рядом с моей феей. Нет, сколько она кровушки моей попила, этого не расскажешь. У вас вина нет?»
Вина не оказалось. Все равно, гость не смолкает. Профиль его волкообразный еще резче, усы еще ниже и длинней.
– За моей спиной завела шашни с проходимцем, – будто офицером, он казацкую форму носит, у него и кинжалы, и газыри, какой-то фантастический казак. Морда красная, играет на гитаре, сам белобрысый и брови белые – а имя? Все врет, разумеется. Фамилию явно сочинил: Мельгау де Граф Энлевейн Гурри. Подумать только! Этой фамилией мою дуру и доехал. Мельгау де Граф… нелепость, для психопаток! Уверяю вас, будь этот жулик просто Сидорчук, ничего бы и не было. Но бестия продувная: подговорил тайно бежать, в мое отсутствие (я уезжал в Абрамцево). Вещи все забрала. Свои, да и моих не постеснялась! И главное – все мои деньги! Возвращаюсь, ни копья! Совершенно обчистила.
– Много ваших денег увезла?
– Десять рублей. Элли засмеялась.
– Какая прелесть!
– Да, вы смеетесь, потому что вы помещица. Взяли да и уехали в деревню.
– Я помещица?
– Разумеется. У вашего мужа имение. Для вас десять рублей не деньги.
Элли вспыхнула.
– Ну, это уж вы чушь порете! Глеб вмешался.
– Единственно, что мне в политической экономии нравилось, нам в Университете читали: психологическая теория ценности, Бем-Баверка.
– Эти Бем-Баверки хороши, когда деньги есть.
– Элли, понимаешь: у кого рублей больше, тот каждый рубль меньше ценит. А у кого их…
– Именно, у нас с тобой страшно много!
– А у него еще меньше. Десять что тысяча. Бем-Баверк успокоил волнение. Было признано, что последние десять целковых унести очень жестоко, ну, а насчет причин внутренних…
У Элли на этот счет взгляды ясные.
– Если она его полюбила, то это все. Любовь все. Тут ничего нельзя сделать и она права. А деньги… фу! ничего.
Художник долго бурчал. В знак сочувствия Элли дала ему три рубля. Он пошел утешаться в «Ливорно».
В тот же день, возвращаясь домой в сумерки, Элли у двери Воленькиной квартиры увидела большой темный гроб – он приставлен был к стене стоймя, рядом крышка с глазетовыми кистями. Похолодевшею рукою толкнула она дверь, никогда теперь и не запиравшуюся. В передней было темно. Клавдия Афанасьевна брела из кухни, шаркая туфлями. Дверь к Воленьке приотворена. Букет огромных колокольчиков – Люся привезла из Люблина – на столе. «Ослабел, ослабел, – зашептала Клавдия Афанасьевна. – После ванны совсем слабеет». – «А… а, да»… Элли взяла Клавдию Афанасьевну за рукав, попятилась назад к двери. «Ничего, вы и здесь можете говорить, он заснул сейчас, ничего…» Они вместе выступили на лестницу. Ни гроба, ни крышки не было. Элли перевела дух. «Я нынче еще зайду… ночью у него посидеть, потереть спину». – «Спасибо, душечка, вы замучитесь с ним».
Элли медленно побрела наверх: «Что ж, я сумасшедшая, на самом деле? Психопатка?»
Взошла к себе потихоньку, сняла перчатки. Все было мирно, обычно: Марфуша возилась на кухне, Глеб зажег у себя лампу и писал что-то. Она его позвала, прошла в большую комнату с фонарем-балконом на Спасопесковский.
– Глеб, слушай… ну это что-то ужасное. Я сейчас гроб видела. У Воленьки. А там никакого гроба нет.
И она рассказала все как было.
Глеб взял ее за руку. Рука очень холодная.
– Померещилось тебе… от нервности.
Она сидела на постели очень бледная. Потом вдруг ослабела и мягко, как-то безответно завалилась на спину, поперек кровати. Глеб знал – с ней такое бывает, обморок. Знал, и всегда боялся таинственной этой силы, сразу жизнь останавливающей. Бездыханна, беспомощна! Он ее поднял, руки висели. Положил голову на подушку, расстегнул ворот, одеколоном потер виски, дал понюхать. Опять приподнял и к себе прижал. Кто-то хотел отнять ее у него. Нет, мое, не отдам! И встряхнул.
Точно сорвалось что внутри с петли, глубоко она вздохнула – да, да, жизнь! Глеб целовал ее лоб, пахнувший одеколоном, слышал стук собственного сердца, но теперь это не тот, страшный и безмолвный мир, а она, настоящая, хоть и такая по-ребячески сейчас слабая Элли. Она его обняла: «Ты тут… ну, ничего, значит, все хорошо. А мне плохо было». – «Да, да, лежи, я тебя укрою».
Этот вечер был тих, так уединен. Элли лежала, Глеб кормил ее супом, она съела крылышко цыпленка, из Прошина присланного. «Нездорова барыня? – шептала Марфуша, почесывая в голове пальцем. – А я им чайку горяченького…» И уже бежала назад в кухню, потряхивая серьгой на ходу.
Элли просила, чтобы Глеб спал нынче здесь. Марфуша постелила ему на диванчике. А сама вниз спустилась – сказать Клавдии Афанасьевне, что сегодня барыня не придет, «сами нездоровы».
– Глеб, – говорила Элли, – ты не уходи из комнаты. Тут и занимайся. А то мне без тебя страшно.
– Чего же страшно?
– Не знаю. Страшно.
Через несколько минут она спросила:
– А по-твоему, Воленька умрет?
Глеб вздохнул.
– Да, мне кажется.
– И я так думаю. Бедненький он. Дай мне руку.
Глеб подошел, сел на постели.
– Ничего, спи. Господь с тобой.
Она погладила его руку, потом поцеловала ее.
– А что там будет, Глеб? Ты себе представляешь?
– Нет, мало. А верить надо.
– Мы не расстанемся и там, – сказала Элли тихо, твердо. – Иначе быть не может.
С этим вдруг младенчески и заснула, лежа на спине, тем сном чистым и невинным, точно ей лет семь. Глеб минутку посидел, потом поднялся. В комнате, во всем доме, во всем, показалось ему, городе и мире было тихо. У изголовья Элли лежало маленькое Евангелие. Глеб взял его, наудачу развернул. Открылось о блудном сыне. Он прочел, поцеловал и положил книжку на место, рядом с головой Элли. А сам сел к лампе. Он был взволнован. Он себя странно чувствовал. Но легко, как будто полон сил. Да, вот этот круг света лампы, тут он и Элли, а дальше тьма, и внизу бездна, где Воленька близится к отходу. Но в этом свете жизнь, что-то страшно важное и таинственное, и грозное, но это все надо. Все хорошо. Страшно, грустно, радостно – все надо.
Элли тихо спала. Во сне безраздумно подняла руку, жестом вековечным женственной нежности, слегка изогнув ее в локте. Положила на нее голову, опять как Микельанджелова «Ночь».
Глеб смотрел и смотрел – вот эти грусть и очарование спящей молодой женщины. «И она все же уйдет, так же умрет, как и я. Значит, так уж дано. Боже, не разлучай нас в вечности».
* * *
Липы внизу пожелтели. Хмурилось, дождь. В комнату вошла Марфуша, не стремительно. Вид у нее будто бы и смущенный: «Там, барыня, снизу пришла женщина. Барин ихний… скончались».
Глеб и Элли перекрестились. Через несколько минут были уже внизу. Огромный, безмолвный, со сложенными на груди руками, лежал Воленька на спине, навсегда уснувший, смотрел в ту же вечность. Распростершись над ним, Клавдия Афанасьевна исходила вечным материнским стоном – от начала рода человеческого до его конца.
Элли поцеловала теплую еще руку: «Воленька, милый…» – но вся нежность ее никогда бы не могла поднять этого и худого и костистого человека с огромным лбом и провалами на щеках с его смертного ложа. Элли просто по-женски его оплакивала.
Скоро и Коленька появился. Он тоже был и взволнован, и расстроен, но в меру. Обнял мать, посадил ее. Умер брат – очень жаль. Но его надо хоронить, надо все это и устроить, и о квартире позаботиться. «Коленька, – говорила сквозь слезы Элли, – он ведь был чудный, чудный!» – «Ну, да, разумеется… Да что же теперь поделать. Теперь надо его хоронить».
А через несколько времени сообщил Глебу, что сам как раз женится. «Все так и выходит, в той квартирке, в каюте-то моей, где же мне с женой бы устроиться. Теперь будем с мамой здесь жить». Они стояли у окна. Карие, живые, жизненные глаза Коленьки уже осматривали, как бы и примерялись к размерам комнаты – где что поставить, что внести и что вынести. «А вы с Элли, мне говорили, в Италию?» Глеб вздохнул: «Да, собираемся».
Глеб был грустен, вполне в этом искренен. Могила и бездна зияли пред ним. Но хотелось другого… И это другое уже воплощалось – в круговом маршруте билета: Варшава – Вена – Венеция – Флоренция – Рим – Неаполь – andata ritorno[30]. Одна часть души была здесь, а другая уж там и ничто не могло этого изменить.
Коленька правильно и прилично соорудил похороны. На другой день утром, у двери Воленькиной квартиры Элли очень ясно увидела тот самый гроб, прислоненный к стене, рядом с ним крышку, которые были уже ей знакомы. Холод знакомый прошел по спине. Но на этот раз через несколько минут гроб вносили уже в квартиру, туда полагали Воленьку, чтобы завтра везти на кладбище в Дорогомилово.
«Значит, я сумасшедшая? – сказала Глебу Элли. – Как же могла видеть тогда… все, до мелочей глазета то же, что и теперь?», но Глеб не задумался. «Не сумасшедшая, а способна к экстазу. В ту минуту вышла из времени. Гроб видела все тот же, но до нас и до тебя обычной он дошел только сейчас». Элли не очень поняла, но успокоилась. Раз Глеб сказал, значит, верно. Он и читал недавно что-то о четвертом измерении. Значит, не сумасшедшая.
Через несколько дней после смерти брата Коленька въехал в квартиру матери. Глеб же и Элли, наволновавшись, наплакавшись, сколько надо, подъезжали в то время к Варшаве, откуда скорый поезд, мимо пограничной Тшебинии, должен был мчать их к Вене, Италии.
VIII
Думая, что в деревне будет жить вольной и милой сердцу помещичьей жизнью, отец ошибался: ни широты, ни общества, как в Людинове, ни занятного дела не оказалось. Хозяйство скромнейшее, охота плохая. Завел было гончих, выезжал с Кноррером, но и из этого ничего не вышло.
Он старел и мрачнел. Уходила веселость, остроумие молодости. Все дольше, унылее сидел над своим пивом в столовой ли, или на балконе, подперев рукой голову, придираясь, где можно, к матери. Мать же была, как всегда, – в холодноватой ее сдержанности невелика власть времени. Но оно шло. В столь знакомой с детства прическе с пробором посредине все больше замечал Глеб седины. Но так же спокойно она являлась, в кухне ли, или в гостиной, с поденщицами или работниками – со всегдашней непререкаемостью и властью. Так же вздыхала, так же ложилась днем, после обеда, прикрыв голову и глаза носовым платочком – лежала и не спала, думала.
Лиза с Артюшей под Ставрополем, в глуши. Там он лечит каких-то калмыков. Вот Лизе и приходится разыгрывать в Башанте Бетховенов, растить и обучать пятилетнюю дочь.
Глеб здесь, в Москве, и «эта женщина», видимо, крепко его взяла, они живут, как им нравится: шумная молодежь, рестораны, клуб литературный. На авансы издательств ездят в Италию. Вообще же ничего у них нет, все на фу-фу, все на фу-фу, лето проводят в Прошине и только об этой Италии и говорят… Кажется, осенью опять собираются.
Мать от истины недалека. Летом во флигеле живут у нее как бы дачники. Укромное это Прошино для них только станция, передышка. А настоящая жизнь: вновь увидеть Флоренцию и Тоскану, Рим, сокровенные и священные края.
Теперь у Глеба во флигеле было довольно уж много книг об Италии, карты, путеводители. Хорошо, что отец редко к нему забредал! «Городские люди, неосновательные, – сказал бы, увидав разные Сиенны и снимки венецианские. – И куда это вы все торопитесь уехать? Разве здесь плохо?»
Разумеется, плохо тут не было. Но когда на вечерней заре выходили они в поля, на прогулку, то мечтали все больше о том, как бы снова закатиться подальше – на этот раз, скажем, в Ассизи, Урбино, или еще куда. «Помнишь, совершенно так же солнце садилось, когда мы были на Сан-Миниато и еще смотрели на Флоренцию? Ах, чудно, чудно». – Все, что Италию напоминает, «чудно». – «А из Фьезоле спускались вечером в Сеттиньяно и еще светляки летали? И мальчишки дохлую крысу под мост бросили?»
Даже крыса итальянская и та радовала на полях тульских – а плохие ли были поля? И русский закат? Если же пред ними русские луга в слабом тумане, это значит Равенна, ее окрестности, около S. Apollinare: «Ах, какой запах сена! Как в Равенне».
С матерью ничего у Элли не выходило. Хотелось бы, например, полить цветы на клумбах перед домом – «Нет, милая, зачем вам беспокоиться, я велю Кате». Или Глебу что-нибудь заштопать – «Ах, нет, у нас портниха на днях будет, она все и устроит».
И подобно Глебу Элли вела в Прошине жизнь в своем духе: мечты, прогулки, чтение.
Любила с детьми болтать. С кухаркиной дочерью Таней и другой девочкой с деревни – звали ее Манька-Клавиш – ходила купаться. Тут их увеселяла, изумляла. Ноги у Элли, правда, знаменитые. Раздевшись, прежде чем лезть в воду, она сидя закладывала их одну за другую – заплетала венком. Потом пальцем ноги чесала за ухом – ни на что подобное прошинские девы не были способны. «Танька, Танька, гляди! Пря-а-амо!» Манька-Клавиш с восторженным изумлением смотрела, как белые и точеные ножки барыни завивались чуть не узлом. «Вы не думайте, – говорила Элли, – у меня ноги особенные. Они у меня волшебные». Манька-Клавиш разевала рот, полный огромных зубов – за это и прозвана Клавишем. «Они как живые. Любят друг друга, ласкаются. Видите? – Она гладила ступню одной пальцами другой. – Иногда плачут. А то смеются. Они разговаривают друг с другом и со мной». – «О чем же разговаривают?» Элли, все сидя, подняла левую ногу, приложила палец к уху: «Да вот левенькая говорит: пора, говорит, Маньке в воду лезть. И пускай там раков в бережку поищет». – «Барыня, да неужто правда?» – «А еще, говорит, словам моим только дуры не верят».
Но на это звание ни Таня, ни Манька-Клавиш не зарились. Для них вся вообще Элли была волшебная, особенная, ни с чем прошинским не сравнимая. Как же не верить, что и ножки ее, никак на деревенские не похожие, могут болтать, любить друг друга, ссориться и мириться? И под зноем солнца июньского, при запахах – речки Апрани, лозняка, травы, и при всем очаровании лета российского, кидались они в воду – Таня и Манька казались рядом с Элли мулатками. Брызги летели, они визжали, плескались, топили друг друга – скромное развлечение погожего дня.
Но вот однажды, вернувшись с такого купанья, Элли нашла дома смущение. Глеб, в светлой своей чечунчовой блузе, повязанной ремешком, встретил ее еще на скамеечке, у входа в большой сад. «Ты знаешь, нарочный с почты. У Лизы плохо». Глеб был расстроен. Элли побелела. «Нет, ну все живы… но ты понимаешь, девочка тяжело захворала. Дизентерия». – «Ну, это что-то ужасное…» Элли даже села от волнения на ту же скамеечку – Таня и Манька-Клавиш замерли. «Да, понимаешь, они там одни, в степном поселке. Лиза, конечно, из сил выбилась». Элли вскочила – точно молния пронеслась по ней. «Я туда еду. К Лизе. Сегодня же». – «Уж не знаю… да, хорошо бы, но ведь так далеко». – «Идем, живо… Нет, это что-то ужасное. Нет, я уж не могу сидеть в этом Прошине, когда там…»
Остановить Элли теперь было бы не так и легко. Что-то в ней сдвинулось и понеслось – никакая умеренность прошинская не могла бы ее остановить. С мохнатою простыней, влажная и прохладная телом, но с высоким давлением внутри, быстро она прошла садом – Глеб едва поспевал. На балконе накрыто к вечернему чаю. Отец, хмурый после дневного сна, побалтывает ложечкой в стакане. Мать, в белой кофточке, за самоваром – сдержанная, но в тревоге.
– Какой ужас! Галочка захворала?
У Элли такой вид, тон такой, что все тотчас должны впасть в то же волнение и возбужденность, как у нее. Мать на нее не смотрит.
– Да, нездорова.
– Ну, так ведь одна же Лиза там не может справиться?
Мать подымает глаза от чайника.
– Наверно, нелегко. Вам сейчас наливать чай, или вы зайдете сначала во флигель?
Мокрые локоны висят у Элли со лба, она их откидывает кое-как. И садится, отложив простыню.
– Я поеду к ней.
Мать слегка бледна. Налила чашку, передает Элли.
– Это очень далеко. Зачем вам тревожиться?
– Ах, я просто сегодня же и уеду! Неужели ж ей там одной быть?
Собственно, мать сама думает так же. И сама бы поехала, но живет в рамках и правилах – жизни, хозяйства, привычек – и как же так, вдруг взять да и бросить Прошино и поскакать за тысячу верст… Ну, «она», конечно, куда угодно может поскакать, на то она уж такая… И, как бы действуя сама против собственной дочери, мать медленно начинает приводить доводы: наверно, сегодня и лошадей нет, и потом неизвестно, когда из Москвы поезда идут на Кавказ, и конечно, пока доедешь туда, все может так или иначе кончиться. Надо все вперед выяснить, «а там посмотрим».
Но Элли смотреть не может. В той же волне подъема, несмотря на противоречие – медленное и упорное – матери, тотчас она начинает укладываться. «Если лошадей нет, я на станцию и пешком дойду. Чемодан мне Глеб донести поможет».
Представить себе, чтобы сыночка шел пешком, еще чемодан бы нес!
И лошади, разумеется, отыскались. Тем же вечером, при затаенных вздохах матери и отца («все не по-людски делается!»), Элли садилась со своим чемоданом, в черной большой шляпе, в ту самую коляску, на плавных рессорах, которую берегли для серьезных поездок. Мать подставила щеку для прощального поцелуя. Отец, хмуро облокотясь на балконные перила, глядел, как Элли устраивалась в коляске. Глеб провожал ее до станции. «Левого пристяжного придерживай, – крикнул отец, – он опять у тебя будет горячиться. На нем на одном и поедешь!» Эллина шляпа проплыла мимо балкона в зачинающихся сумерках. И светлая блуза Глеба. «Городские люди! Городские. Неосновательные». Отец тоже понимал, что на помощь Лизе отправиться надо, но тоже чем-то был недоволен.
* * *
Насчет поездов мать напрасно тревожилась: поезда шли отлично и Элли без затруднений катила в сером дне московском мимо скошенной ураганом Анненгофской рощи, чрез Перово, Люберцы, к Фаустову со знаменитыми пирожками на вокзале, чрез Рязань, где Ока разворачивает луга бесконечные, заливные, в края Ряжска, Козлова, Воронежа. Жуя шоколадную плитку и глядя в окно, видела бесконечно-распаханные поля, жирные, черные земли и созревающие моря хлебов сизо-желтеющих, и далекие, за рекою, леса. Деревни разбросаны реже, чем под Москвою, размером же больше. Вообще все здесь крупнее и диче. Вместо плугов сохи, на бабах поневы, каких нет уже под Москвою, мужики первобытней, как и далекою стариной отзывают курганы, иногда вдалеке маячащие.
Чем далее за Воронеж, тем степей больше. Где уж тут Прошину и Подмосковью! Вон оттуда, из-за черты горизонта на востоке, шли эти орды, из-за Каспия. Астрахань, низовье Волги, да и дальше ездили на поклон русские князья, погибали там, мученические венцы стяжая. И прошло все – как гроза, как ураган, косивший Анненгофскую рощу, – лишь курганы сторожевые остались.
По донским просторам докатились к Ростову, он мелькнул хмурой массой, в постах, элеваторах, что-то скучно-торгово-промышленное. Мутный Дон льется, а там, за ним, новые степи – опять сотни верст. Не так уж тесна Россия!
Элли вылезла на Тихорецкой и опять новый путь, железнодорожная ветка до станции Сандата. Край калмыцкий, начинается Азия, хоть на карте Европа. Здесь, в московской своей шляпе, светлом костюме, с чемоданчиком, Элли садится в тарантас – и по ровной дороге, по ровной, вдали голубеющей, бесконечной степи дальше куда-то катит. Куда? Кто кроме ямщика знает! Степь везде одинакова, знойный ветер из-за Астрахани и Каспия, солончаки, кочевья калмыцкие, кое-где селения в зное струящемся проплывающие. А вот ясно она видит село: церковь, избы, акации, пруд огромный, зеркально-ясный, бродят коровы, вдали верблюд – будто дремлет все в пекле. Под селом тонкая, стеклянно-зыблющаяся полоска по горизонту. И совсем недалеко, и совсем ясно видно. «Это что ж за село такое? Скоро доедем?» Ямщик оборачивается: «Какое село?» – «Да вон, впереди, направо?» – «Энто, барыня, и не село никакое». – «А я его вижу». – «Оно, пожалуй, что и село, только нам по нему не ехать. Оно, может, сзади нас или сбоку». Элли изумлена. Как же сзади, когда перед собой его видим? «А это уж у нас так в степу бывает… одна видимость оказывает, от горячего-то воздуха».
Элли слегка взволнована. Мираж! Только бы еще пальмы увидеть, караваны пустыни. Да, странный край, странный, чужедальний. А ведь и это Россия. Как-то Лиза здесь вообще живет? Как-то девочка? И опять, как не раз в пути, темное волнение. А если уже опоздала? Господи, спаси и сохрани!
Перед вечером, при склонявшемся солнце, показался в степи одноэтажный дом, в стороне другой, поменьше, несколько деревьев да журавль-колодезь. «Башанта! – сказал ямщик. – Самая эта Башанта». – «Может, опять марево?» – «Нет, барыня, теперь настоящая. Тут еще год назад ничего не было, а теперь дохтур живет. Мне самому недавно грызь вправлял».
Да, вот где Лиза! Элли знала, что в глуши, все-таки не так себе представляла. Ни поселка, ни даже соседей.
Тарантас остановился. Золотой зной заливал чистый домик, легкая тень мелких акаций только бродила, скользила по палисаднику. Пес забрехал. Из-за угла выскочил Артюша, в русской рубахе, загорелый, с длинными хохлацкими – вбок – усами. Увидав Элли, весь расплылся.
– У-у, як живо обернулась! О то молодчина!
Элли соскочила, кинулась его целовать.
– Ну, ну, а Галочка?
– Ничего, слава Богу.
И Артюша тащил уже чемодан, крутил ус, болтал с ямщиком. Лиза, в легком капоте, увидав Элли, задохнулась, заплакала.
– Как ты быстро… Как ветер. Мы сегодня не ждали. Элли, сама в слезах, целовала мокрые ее глаза.
– Я в тот же вечер выехала, как телеграмму получила. Я уж сидеть не могла в этом Прошине.
В комнатах было прозрачно, знойно. Очень чисто, все новенькое, с иголочки. Со стороны солнечной ставни закрыты. Пока Элли, в волнении и возбуждении, умывалась, Лиза рассказывала про Галочку. Ах, натерпелись… Да и теперь еще все неясно. Измождена ужасно. Ну, а раньше…
– Ты понимаешь, бывали дни, когда Артемий сам голову терял. Мы тут одни, и врача нет другого, не с кем посоветоваться – поезжай в Ростов или Ставрополь. А ее несло так, понимаешь, безостановочно, с кровью. И она все говорила: «Мама, больно!» Вот, ты посмотришь, во что она обратилась. У ней локоны были светлые, такие милые волосы, все обстригли, а уж как исхудала!
Через несколько минут Элли осторожно входила в комнату Галочки. На постели лежало существо крошечное, с остриженною головкой, неподвижными в истощенности ручками, в той и слабости и покорности, как бы привычке к страданию, что так трудно переносить видящему.
– Это тетя Лена, – сказала Лиза, – от бабушки приехала. Тебя навестить.
Элли наклонилась, обняла маленькое тельце. Девочка слабо улыбнулась.
– Мама, есть хочется!
– Есть!
Лиза взглянула на Элли – удивление, робкая радость… (во взгляде).
– А животик болит?
– Не-ет, сейчас ничего. Есть хочется.
– Ну, если папа позволит.
– Позволит. Он позволительный. Мне курочки хочется. Узнав, что попросила есть, Артюша дернул себя за ус и присел, раскорячив ноги.
– То питочки все просила, а теперь источки. Источки просит – добре, курицы еще не дам, а бульону с рисом.
И сам побежал на кухню: чтобы сейчас же суп варить, как он укажет.
Суп сварили на совесть. В сухом зное комнаты Галочка его ела. Артюша сам кормил. «Не журись, не журись, дивчина», – приговаривал, когда слабеньким горлом проглатывала она ложку. Выйдя от нее с пустой тарелкою – несколько рисинок всего на ней – прошелся по столовой на раскоряченных ногах драконом, приседая чуть не до полу, делая страшную рожу и загребая руками, как лапами. Лиза сама улыбалась: «В первый раз за болезнь драконом пошел. Значит, развеселился». Лиза обняла Элли. «Это ты привезла нам кусочек радости. Господи, только бы сохранить».
Ужинали втроем, при багровом, заходившем в степи солнце, казавшемся огромным в таинственных азиатских туманах. По временам Лиза вставала, заглядывала к Галочке. «Нет, кажется, ничего…» Маленький человек спал тихо, в измученности, истощенности болезни.
Вечер провели вместе. Лиза расспрашивала о Прошине, о родителях, Глебе. Легли рано. Элли крепко спала, хоть и на новом месте, в комнате докторовой квартиры калмыцкой степи. А с утра сразу к Галочке: нет, лучше, лучше! Хороший сон, меньше жалуется, температура упала. И есть просит. Артюша совсем воспрянул. «Жива будет. Теперь выкрутится дивчина, хоть ты тут што…» Лиза тише держалась. Но и она оживилась: «Ах, не сглазить бы. И Артемий такой легкомысленный, – говорила она Элли. – И увлекающийся. Знаешь, за что схватится, уж и не оторвать. Он, правда, очень намучился. А теперь уж считает, что она совсем выздоровела. Ему все нипочем». – «Ах, нет, он прав, ты увидишь, увидишь! Все будет хорошо». Элли была в запале. Как в запале из Прошина вынеслась, как летела сюда, так и здесь неизвестная ей самой светлая сила ее несла. Башанта! Странное место. Из окон вечный горизонт степи, в версте дом начальника по управлению калмыками, рядом приемный покой Артюши – сюда приезжают к нему калмыки лечиться; колодезь, чахленькие акации, верблюды, миражи. Ах, жить здесь! Но все-таки все, как надо. Злые духи уходят. Жизнь возвращается.
Начались однообразные дни в одиноком домике; на солнцепеке, среди подсолнухов, арбузов, тыкв. Теперь Элли больше сидела у Галочки и разговаривала, даже читала немного вслух. Забавляла ногами своими, как и девчонок в Прошине. Галочка искренне посмеялась, когда Элли чесала себе пальцем ноги за ухом.
Настал день, когда она стала рассказывать даже сама: «Тетя Лена, ты знаешь, у меня такой другой есть, Яшка. Ему восемь лет. И вот раз мы сели с ним на лошадей верхом, за холки держимся, так весело, а они вдруг других в степи увидали, да как помчатся… Тетя Лена, как страшно было! Целый табун. Мы за холки держимся, скачем и-и, скачем! Заскакали в табун, а там лошади все трутся, другие фыркают и брыкаются. Нас насилу калмык снял, сосед».
Вечерами, когда она засыпала, Элли с Лизой выходили пройтись – Артюша этого не любил, как и отец в Прошине, считал делом пустым. Поливал огурцы в огороде. Или на флейте наигрывал.
Солнце только еще садилось – но уже затуманенное, за-кровавевшее, теперь безопасное: можно смотреть простым глазом. Они шли прямо на него. «Видишь, там три креста?» – Лиза показала налево. «Вижу. Огромные какие! Это что такое?» – «Огромным в степи кажется иногда и то, что вовсе не огромно – обман зрения. Но эти действительно огромные.
Тут когда-то калмыцкого князя убили, вот его память. Знаешь, место такое, что ни церкви нет и ни кладбища – умрешь, и зароют так, в степи, хорошо еще, если крест поставят». – «Ты не любишь этих мест?» – «Не люблю. Я люблю Москву, наше Прошино. А ведь тут вроде азиатчины. Знаешь, у них, у калмыков, здесь храм есть, буддийский, там их Будда. Мне это все чужое Истукан такой деревянный, сидит, ноги скрестил, вот как ты умеешь… – Она засмеялась. – Но на тебя Будда этот не похож. Ты легкая и веселая, а он… истукан».
Они подошли к крестам. Правда, кресты большие. И длинные, дорожками, тени ложились от них по ровной степи «Калмыцкий князь, – сказала Элли, задумалась. – Какой он был? Почему его убили?» – «Да такой же, как они и все, наверно… руками баранину ел, если до водки дорвется, так сразу уж допьяна Их здесь сколько угодно таких. Вон, к Артюше на прием ездят».
«А зачем вы забрались в такую глушь? Неужели же нельзя было поближе устроиться?» Лиза слегка улыбнулась. «Так, Артемий вдруг заторопился. Вскипел, и по первому объявлению в газете взял место».
Они повернули от крестов. Теперь в доме начальника края, вдалеке, окно запылало закатным пожаром. «Это отчасти начальство наше, но милейший человек, по фамилии Грсгоровиус. Сейчас на несколько дней уехал, ты с ним и не > спела познакомиться. Он нас очень во время болезни подбодрял, и помогал, чем мог».
Солнце ушло, пожар в окне стих, багряный сумрак наступил. Еще пройдясь, они присели на бревно, недалеко от дома. «Когда Галя здорова была, к нам этот Грегоровиус часто ходил, каждый день. Цветы мне присылал. Ну, немножко за мной и ухаживал, что ли, хотя немолодой, ему за пятьдесят. Нет, он очень славный. И музыкант. Так что мы даже трио устраивали, я рояль, он на скрипке, Артюша флейта Вот мы так в пустыне и развлекаемся».
«А скажи, пожалуйста, – вдруг спросила Элли, – почему Артюша так вскипел тогда, и взял первое попавшееся место?» Лиза несколько замялась: «Так, меня хотел увезти… – Через минуту добавила: – Ему показалось, что мне один человек нравится».
Когда подходили к своему дому, звезды уж появились на небе, быстро засиневшем. Лиза слегка к Элли припала. «Я тебе рада, что ты приехала. Я в тебя верю, ты porte bonheur[31]. Знаешь, как слоники бывают. А то здесь жуткий край. У меня суеверное чувство, тут разные малые их божества, кроме Будды – этот еще ничего! – а то божки какие-то злые, все это несчастием отзывает». Элли ее обняла: «Ты за Галочкину болезнь очень изнервничалась».
* * *
Сидеть в Прошине одному, без Элли, не так было Глебу весело. И охотно он принял поручение съездить в Москву по хозяйственным делам: раздобыть у Мак-Кормика запасную шестеренку к жнее, зайти к Бландову, продать тысячный билет в Купеческом банке.
Марфуша встретила его как родного (считала вообще вроде ребенка). Побывав у Мак-Кормика и у Бландова, Глеб направился в Купеческий банк – там процентные бумаги отца.
Купеческий банк на Ильинке, за стенами Китай-города – приземистый, неказистый и многомиллионный, был знаком ему. Все же, сходя вниз, к несгораемым шкафам, ощущал он стеснение. А вдруг почему-нибудь не выдадут? Мало ли какой предлог можно выдумать? Или подумают, что он получит отцовские деньги да и растратит их?
Знакомый заведующий любезно его принял – Глеб писал что-то и тот писал, ордер готов, сейчас сторож проводит к сейфу. Служащий вынул свой ключ, поиграл им, вопросительно посмотрел на Глеба. «Дайте, пожалуйста, и второй», – вдруг бессвязно сказал Глеб. Служащий улыбнулся: «Второй ведь у вас должен быть». Боже мой, что за ужас! Посланный именно за деньгами, взрослый, писатель – и не только забыл дома ключ, но и спрашивает такую глупость! Глеб покраснел… «Ах, ну конечно… он у меня дома! Вы через полчаса еще не закроетесь?»
Когда лихач мчал его на Арбат, он и смеялся на себя, и сердился: «А тот, наверно, подумал, что я в отцовском сейфе безответно хочу похозяйничать. И вдруг я ключ еще куда затерял?»
Но ключ отыскался, тот же «резвой» вовремя доставил Глеба на Ильинку. Он сконфуженно опять спустился, думал, что заведующий все еще его осмеивает. Но тот давно уже работал над другим, принимал, отпускал разных клиентов – Глеб, как всегда, ошибался, считая, что все лишь вокруг него, Глеба, вертится.
Во всяком случае, вышел из Банка в смущении. Но как только вышел, сразу повеселел, пришла хорошая мысль: ладно, сделал глупость, но все исправлено, тысяча прочно лежит в бумажнике, он не пропьет ее, завтра в целости передаст отцу. А из своих собственных сделает ему и подарок.
И тотчас, взяв простого извозчика, мирно покатил на Петровку. Там ему повезло. У солидного и прохладного, в полутьму погруженного Вандрага, где не так много и покупателей, но все основательные, где не раз и они с отцом бывали, сразу нашел что надо: летнюю фуражку, как бы капитанского вида, с белым верхом, твердым, блестящим козырьком – очень изящно и серьезно, совсем в духе отца.
Этой фуражкой и окончились его странствия по делам. Он посидел днем в знакомом кафе грека Бладзиса на Тверском бульваре, встретил там Сережу Костомарова – инженер-технолог, все такой же спокойный и аккуратный, как в Калуге, как в Гавриковом переулке. Но теперь женат – на Таисии Николаевне, и из Гаврикова переулка переехали они на Немецкую. Глеб поздравил его, и в знакомом бобрике на голове, в веснушках на лице, в капельке пота на носу опять мелькнуло что-то давнее, часть своей жизни, уже навсегда ушедшей. «А ты, кажется, литературой занимаешься?» – «Да, понемногу…» – «Что ж, это обеспечивает твою семью?»
Расставаясь, они обещали друг другу повидаться, когда Глеб осенью возвратит – и оба мало словам своим верили. Сережа уплыл куда-то незаметною тенью в сутолке Москвы летней, Глеб же, в вечерний час того дня, напутствуемый Марфушей, с шестеренкою в чемодане, тысячью рублей в боковом кармане и с картонкою от Вандрага, благополучно покатил в Прошино. Этот путь, взад-вперед, на Каширу-Мордвес, чрез Оку, предстояло ему совершить еще много раз, отмечая им краткие станции быстротечной своей жизни. Он ездил и летом и осенью, и зимой, и в мирные дни, и в войну, во времена революции. Всячески ездил: и с удобствами, и на тормозах, в первом ли классе, или в теплушке, набитой мешочниками, – во всяком случае, чем больше так ездил, тем яснее чувствовал, что это и есть жизнь, вплоть до последнего путешествия, не по этой уже дороге.
Теперь же все совершалось в спокойствии и медлительности мирной России: лишь к утру он добрался до своей станции и, забрав почту, на тройке, все в той же коляске, что недавно везла сюда Элли, так же неторопливо отбыл в Прошино.
Отец, как всегда в это время, сидел на балконе, читал Короленко. Спичка так же заложена в страницы, чтобы не забыть, где остановился. Он был нынче в добром настроении.
– Ну, как, ангел, хорошо ли съездил?
– Ничего, слава Богу.
Глеб подошел, обнял его, ласково поцеловал в пробор на голове, как всегда делал в детстве. Только волосы отца стали седые. Но в конце концов это именно его отец, тот, кто когда-то мастерил ему кораблики, учил плавать в Жиздре, читал вслух Гоголя. Отец ласку почувствовал и потерся слегка щекой о ладонь Глеба – тоже с детства знакомая ласка ответная: прежде он и матери так отвечал.
– Деньги привез, шестеренку тоже. У Бландова был. Да, вот и тебе кое-что привез – это уж от меня… (Глеб показал картонку от Вандрага.)
Вошла мать, тоже с улыбкою: сыночка возвратился, он здоров, весел, чего же лучше! Да притом один, без нее! Мать обняла его. Глеб почтительно поцеловал ручку.
– Слышишь, – сказал отец (у него глаза вдруг стали влажны, он отер их платком), – он мне подарок даже привез!
Глеб вынул из картонки фуражку, поправил белый верх, передал отцу.
– Вот, надень. Впору ли? У нас, кажется, одного размера головы.
– От Вандрага? Хороший магазин.
Отец взял фуражку, с видимым удовольствием примерил. Как раз! Опять снял, внимательно оглядел.
– Охотницкий, братец ты мой, картуз! («Охотницкий» на языке отца значило превосходный – что может быть лучше охоты и охотников!).
Мать сидела за самоваром в светлой летней кофточке, чистая и прохладная, но сейчас будто и недовольная. Потом вдруг сказала:
– Отличная фуражка. Но для тебя совершенно неподходящая.
Отец как бы смутился, надел ее вновь.
– Почему же неподходящая?
Мать была холодна и покойна.
– Именно потому, что для тебя слишком нарядно. В твоем возрасте сидеть на балконе в Прошине в такой фуражке…
Отец был в недоумении. Фуражку снял. Глеб вмешался.
– Да почему же? Теперь именно такие носят. И папе очень идет.
Мать взяла фуражку у отца.
– Нет, нет, глупости. У него есть серый картуз, совершенно достаточно. А для сыночки это отлично.
И она надела ему подарок на голову.
– Мало ли, к Кнорреру поехать, в Каширу или в Москву.
– Да я вовсе не для себя его купил. Я папе подарок делаю.
И он снял с себя фуражку, передал отцу. Мать опять повторила: «Глупости. Ему некуда выезжать. У него для дома есть серый картуз – прекрасный».
У отца в лице что-то изменилось. Он вдруг подтянулся, как бы помолодел, что-то прежнее, времен Людинова и насмешливых ответов начальству в нем выступило. Он отстранил руку Глеба.
– Нет, нет, спасибо. У меня и действительно есть серый. Носи сам.
– Да ведь это же для тебя, мне не нужно…
Но отец стал холоден, сдержан, замкнут.
– Расскажи, что ты с Бландовым говорил.
– Ах, с Бландовым…
Глеб почти раздражился, но все же сдержался. На повторное предложение отец вновь отстранил фуражку и с тем вместе сам отстранился. Он стал очень вежлив, но далек. Из него ушел тот отец, которого радостно целовать в пробор, расспрашивать об охоте, набивать вместе патроны.
Глеб тоже стал сумрачен. Допив кофе, пошел во флигель. В передней метнулся в глаза белый верх картуза на вешалке – мать повесила его уже. Глеб с ненавистью на него посмотрел. Стоило ездить к Вандрагу! И вместе с тем знал, что вот в этом мать сильнее его, что он, взрослый, сейчас как ребенок… И конечно, не миновать картузу именно его, не отцовой головы.
Во флигеле было другое, знакомое, и по своему милое: в первой комнате книги, письменный стол с бронзовым, зеленоватым Данте – подарок соседки. Книг много! Вот классики, с детства знакомый Толстой – маленькими томами на тонкой бумаге, Тургенев, тихонравовский Гоголь – переплеты жиздринского еврейчика – по этим именно книгам отец вслух читал в Устах «Тараса Бульбу». Пушкин – менее значивший. Там дальше Тютчев и Фет, Лесков, все свои, все отцы. Вот полка Италии. Вот французские символисты, там Флобер в светло-желтой коже, Соловьев в красном сафьяне, Герцен. А в другой комнате, где две постели – наполовину царство Элли, наполовину же и его: полки современников, много с автографами. И сквозь все это, через сетки от мух в окнах все-таки тянет из сада и огорода теплым июньским благоуханием – и пригретою парниковою землей, и цветущими липами, дальними ржами… – чуть колеблется легкая занавеска, да, после обеда здесь станет жарко, ну, он пойдет на Апрань купаться.
Рядом с Данте лежали на столе письма – одно из них Глеб сразу узнал, улыбнулся, вскрыл. Легким, небрежным почерком, торопясь, иногда не дописывая, иногда валя строки на сторону и сбивая в кучу, Элли писала-бежала, из-за тысячеверстной дали: «Милый, как я по тебе соскучилась! Как живешь? Что делаешь? Пишешь ли, купаешься ли? Ради Бога не утони. Умоляю, будь осторожнее. Это последнее мое письмо, больше не жди, завтра уезжаю. Слава Богу, Галочка поправилась. Мы с Лизой жили чудесно, она прекрасная, я так ее полюбила, кажется, еще больше. У них песик прелестный. И Артюша славный. Вначале подавлен был, а теперь отошел, как прежде стал. Устраивает глупости всякие, ходит смешно драконом. В степи я верблюдов видела. Вчера, когда утром спала, он в окно мне всунул целую акацию, будто сама влезла. Галочка уже играет. У ней друг Яшка, мальчишка восьми лет, но, кажется, шельма. Дорогой мой, я очень все же соскучилась. Теперь, как и до болезни, у них по вечерам иногда музыка, трио. Лиза на рояле, Артюша на флейте, а один такой, начальник края над калмыками, сосед их, ходит тоже, этот на скрипке. Довольно хорошо играют. Но я бы ни за что здесь не осталась. Как это Лиза живет? Ей, правда, тоже не нравится. Но она покорилась. Терпит. Ты представь себе, совсем голое место, в степи, и никого… Калмыки эти ужасно мне не нравятся. Часто ездят к Артюше лечиться. Привозят ему овец, поросят. Нет, грязные и противные. Ах, у нас тут недавно что случилось! Калмычка одна молодая, из богатой семьи, более просвещенная, сошлась со своим же кучером, молодым тоже калмыком. Я ее видела, знакома с ней, вроде барышни все же. А он сумасшедший какой-то азиат, ее ревновал. Жениться все равно нельзя. Она и к нам приезжала, он катал ее верст за тридцать, это для здешних ничего. И вот на днях, уж не знаю, родители, кажется, замуж ее хотели выдать – он взял ее и зарезал. Такой ужас! Прямо горло перерезал. А она все-таки успела еще по лестнице к себе взбежать. И там кровью истекла. Он и сам тут же зарезался. Артюшу вызвали как врача. Ну, он приехал, а они оба уже мертвые. Нет, тут все не в моем вкусе. Унылая эта степь, верблюды, миражи, калмыцкие могилы… Милый, то ли дело Италия! Я только и мечтаю к тебе вернуться. Осенью ведь едем? В сентябре? Правда?»
Глеб закончил письмо, отложил, опять улыбнулся. Ставропольские калмыки, Рим…
Вечером, на закате, он один шел межою за Салтыковом, ошмурыгивая сухую полынь. Иногда срывал горсть серебряную, растирал в руке – пахло горько, терпко-очаровательно. Полевая мышка выскакивала из норы, стрекала по скошенному клеверу. Закат раскинул шелковый венецианский полог, розово-облачный, за дубами и рощами Прошина. Розовый пепел гас по копенкам. Элли летела в это время на север в экспрессе московском, прочь от степей, Азии и калмыков. Глеб, глядя в Веронезову глубину неба, сейчас зачешуившуюся нежно-алыми раковинами, вспоминал первый свой приезд с Элли в Венецию, в год смерти Воленьки.
IX
Прошла война дальней Азии, прошел год волнений, начались Думы и иллюминации усадеб деревенских (Прошина никак не коснувшиеся). Постреливали губернаторов и министров, интриги при Дворе свивались вокруг Императора, из своего Царского Села все по-прежнему молчаливо назначавшего, молчаливо кого надо смещавшего. Россия богатела, крепла, к рубежу подходила.
Живые точки ее, в Прошине ли, Москве, Ставропольской губернии, продолжали свой путь по своим начертаниям, для каждого разным, несхожим. Отец старился над Короленко, Щедриным, Диккенсом. Мать бездумно владычествовала. Лиза разыгрывала Бетховенов в Башанте и домашние трио с Артюшей и Грегоровиусом. Артюша лечил калмыков и собирался перевестись под Москву.
А в Москве Глеб и Элли утвердились и возрастали. Жили, любили и ссорились и мирились, взрослели и крепли. Рим и Флоренция, Ассизи, Венеция мелькали сиянием, и летнее Прошино тихим пристанищем. Арбат заменен Спиридоновкой. Но все тот же мир, Люси и Сандро, Майи и Погорелковы, чтения, выступления, выставки и премьеры, ресторан «Прага» и кафе грека Бладзиса на бульваре, где молодые поэты разводят неврастенические излияния.
Глеб по-прежнему предавался рисованию. Все сильней, неотвязней. Шум, пестрота Москвы иногда утомляли. Он сбегал в Прошино – на две, на три недели.
Так и в том году было, одном из последних мирных, а феврале, близко к марту. Но еще зима, вьюги! К флигелю утром хоть траншею прокапывай, так заносит. И Глеб, к удовольствию матери, поселился с ней рядом, в кабинете с медвежьей шкурой, рогами и ружьями – в комнате, где в первый свой приезд останавливалась Элли.
Тут жарко топили печь, изразцы ее нежно сияли в тепле, а из северного угла тянуло прохладою. Глеб подолгу работал у небольшого стола. Пред глазами окно, все залепленное белыми снежными звездами, узорами и рисунками. В белой мути за ним, у балкона, качается в ветре куст и снежный вихрь метет его вправо и влево, куда захочет, свистом, воем наполняя окрестность. Но ведь это зима, предвесенняя метель. Это все такое свое, так знакомое, близкое с детства. Как и в детстве, за стеной мать, за другой дверью гостиная с пианино, фотографиями отца, среди разных инженеров, с ковром и диваном, с двумя печками, от которых тоже тепло.
В кабинете, при закрытых дверях, пред столом, повестью, над которой сидит так рьяно, Глеб чувствовал себя в тихом пристанище, под защитой домашних благих сил. Там мать, ложась вечером, привычно вздыхает: «О, Боже мой, Боже мой!» Дальше, у себя в комнате, отец громко откашливается, громко чихает («причем нос его звучал как труба») – все такое ж, как в детстве, и он сам не Herr ли Professor Устов, мальчик Глеб с белобрысыми залысинами? Но меж этим и тем уж легла бездна и теперь он взрослый, пишет, к сроку должен сдать повесть – в келье своей Глеб в подъеме, в заряде, пишет и утром, и днем, и вечером. «Ты бы, ангел, на лыжах лучше прошелся, – говорит отец. – Что же, так засидишься совсем. Метель, кажется, стихла, смотри – зайчишку какого подымешь».
И отец, надевая пенсне, старается разглядеть термометр за окном столовой, разобрать, откуда ветер, какая завтра будет погода – вечное развлечение деревенских жителей. «Вот, я и говорил, стало холодней, ветер с северо-востока, значит, к вечеру вызвездит». Мать раскладывает пасьянс. «Ну, положим, ты и вчера говорил, что нынче будет хорошая погода, а метет так, что боюсь, как бы молочник с Мордвеса не заблудился».
Глеб на лыжах сегодня не выходит. Над последними страницами сидит упорно, его несет все та же сила, что и те снежные вихри за окном, и они ему не мешают, может быть, даже помогает этот белый зимний день с визгом иногда стучащего железного листа, судорогами куста за окном, воем в трубе и постукиванием ставень. Пусть там смятение снеговое, он здесь в малом углу своем, с бумагою и чернилами, с силой молодости и созидания, через всю жизнь огненной чертой протянувшегося. Пусть и ночью так же грохочет метель, пусть отец и ошибся – ничего, в громе вихрей снеговых Глеб крепко спит под рогами и ружьями, а наутро встает – все иное. Вот он, северо-восток! Тихо, мороз, солнце, бледная бирюза неба, нестерпим блеск стекляшек по снегу. Да, все кончается. Глеб утром дописывает последние строки. Вот, облегчение! Один путь окончен, что там ни написалось, а написалось, теперь можно на лыжах, теперь отдых, молчание – и теперь долго не усидишь в этом Прошине?
– «Кончил работу, ангел?» – говорит за обедом отец. «Кончил». Отец наливает себе и ему по рюмке. «Ну, поздравляю! Чи-ик! – И, мучительно проглотив рюмку, как бы приняв какого яду, закусывает огурчиком и крякает. – Меню?» Следует обязательная перестрелка с матерью. Потом вторая рюмка, третья. «А ты бы нам почитал свое сочинение. Что ж, писал, писал, ты бы и почитал». – «Сыночка устал, наверно», – говорит мать, чтобы только возразить, – ей и самой хотелось бы послушать, но зачем отец предлагает?
Глеб им до сих пор никогда не читал. Но тут сразу согласился.
Чтение происходило за чаем, в столовой, на вечерней заре. Отец, после дневного сна, встал несколько ранее, грузно сидел на своем вместе за столом, поблескивая ровным пробором на голове, тщательно умытый и причесанный. На лице все же легкие узоры, отпечатавшиеся от подушки. Мать за самоваром, в белой кофточке, придающей нечто снежно-прохладное. Алый отсвет из окна с балкона освещает Глебу рукопись.
Начал он смутно, покашливая и стесняясь. Каждая фраза казалась странной. Он ее принимал и слушал теперь не как Глеб, а как отец с его Щедриным, мать с Тургеневым. Наверно, все чуждо, не нравится. Конечно, из сочувствия и любви этого не скажут, все равно, он уже знает…
Отец медленно тянул с блюдечка чай, с сахаром вприкуску. Мать бледна и серьезна, быстро выпив чай, надела песне, стала что-то чинить.
Понемногу он успокоился. Читать стал лучше, ровнее. В тишине этой столовой, в прозрачном, меркнущем закате водворялась не совсем ему понятная серьезность. Отец молчаливо откусывал сахар, как в Устах еще делал; мать упорно шила, иногда вздыхая глубоко, но не томительно. Понемногу Глеб, читая, сам стал впадать в ту поэтическую реку, что несла его уже сколько времени над этой повестью, средь предвесенних бурь и метелей Прошина. Нет, он идет теперь такой, какой он есть, эта река – его река, этот звук – его звук и не с кем ему более уже считаться.
Кончив, сложил рукопись. «Вот и все», – сказал глуховатым голосом. Отец неподвижно сидел. Мать отложила работу. Потом отец вынул носовой платок, внимательно и основательно отер глаза. «Да, братец ты мой, вот это все ты сильно перечувствовал… Ярко выходит, правдиво, ничего нельзя сказать». И своею теплой, мягкою рукой в веснушках, со следами ожогов взрыва в лаборатории студенческой, он погладил холодную руку Глеба.
Мать сняла пенсне, отложив работу. Лицо ее было еще бледнее, чем когда Глеб начинал… «Это вроде Тургенева… Конечно, ты видишь жизнь возвышеннее, чем она есть…»
Глеб все складывал, все выравнивал рукопись. В горле у него слегка пересохло.
Он встал, подошел к ней. В весеннем сумраке на него глядели те же огромные, прекрасные глаза, что когда-то наклонялись в бреде скарлатины, что были с ним рядом на пароме Мокши, что за него мучились и тосковали позже. Мать обняла его, поцеловала. «Очень хорошо написал». Потом, взяв руками голову его, слегка отстранив, пристально посмотрела прямо в глаза. «Тебя, разумеется, не поймут. Ты не увидишь… тебя позже оценят».
Глеб что-то пробормотал. Отец снова вынул платок, вновь провел по глазам и кивнул головою: редкий случай – одобрил мать. «А теперь пройдись, прогуляйся, пока еще не совсем темно, сиднем все эти дни просидел».
Все это верно. Глеб и послушался. Он даже взял лыжи, вышел за усадьбу с ними, за старые сторожевые березы в поле. Там всунул носки валенок в ремешки лыж и целиком, по февральскому насту, побрел прямо, все прямо.
Справа дубы Салтыковской рощи, впереди, вокруг и над ним синяя ночь, синий свод в пестром золоте звезд. Глеб шел не быстро, не тихо – ровно, твердым, возбужденным, но и радостным шагом. Вечная слава звезд и создания кипела над ним, переливалась лучами. Малое Прошино сзади. Там свое, там родное, вот там он писал и читал сейчас, и мать говорила. Да, как сказала… – Ведь это о жутком и тайном, от чего холодок пробегает по спине. «Тебя позже оценят»… – Боже, какая же тайна, все тайна и загадка, и ночь эта, и он, вот на лыжах сейчас идущий под любимыми звездами, под любимого сердца напутствием, ничтожество перед Богом и все-таки – целый мир и сейчас весь дрожит, напряжен молодостью, творчеством, силой. Идти да идти, дышать да дышать, слушая, как сухо хряскает под ногой корочка предвесеннего снега.
И он выходит на изволок, на дорогу проезжую. Теперь можно снова снять лыжи, неторопливо тащить их за собой – путь укатан. Отсюда вся страна перед ним, все эти рощицы, поля, овраги, Поповка внизу с серой колокольней, и хуторок Кноррера, и на Апрани занесенная снегом мельница. Глеб останавливается и оглядывает четыре страны света, четыре ветра земли русской, по которой долго еще идти, все еще идти, как и отцу и матери, Элли, Лизе, Артюше, всем, кого любит, как и тем, кого не любит – к той же всевеликой, всетворящей Вечности, что произвела и возьмет.
Он назад шел медленно, мирно, волоча за собой лыжи, как бы слегка и радостно усталый. Важно гудели в вышине сторожевые березы усадьбы. Собака лаяла. Сквозь яблони садика был виден свет в доме: отец читал своего Диккенса.
1944 г
Древо жизни*
Последняя Москва
О, вей, попутный ветер, вей тихими устами
В ветрила кораблей!
БатюшковВесна пришла в Прошино, как приходила сотни лет, как будет приходить тысячи: в сырых теплых ветрах, половодье, в пестроте обтаявшей земли и снега, в первых фиалочках, в тех запахах апреля, вспоминая о которых можно плакать.
Мать знала все это и относилась почти равнодушно. Разумеется, была довольна, что зима кончилась: вторая зима полного ее одиночества. Кончилась, ну и слава Богу.
Если б жив был отец, он подходил бы к термометру за окном, следил бы за ветром, неудачно предсказывал бы погоду. Но отец давно покоился на кладбище Поповки, оставив мать наперекор всему обитать в Прошине в лето от Рождества Христова 1922.
С матерью оставалась Прасковья Ивановна и Ксана. Их связь с домом шла из глубины времен. Ксана при матери и родилась, и возрастала в длительном к ней почитании, а Прасковья Ивановна длительно готовила в кухне на всю семью: была полна, тиха, покойна, обожала дочь.
Матери шел семьдесят пятый год. Старилась она медленно. Трудно было ее сломить. Войны, революции гремели, близкие умирали, жизнь менялась, мать же со своей всегдашнею прохладой в прекрасных с молодости глазах, в темно-скромной одежде, опираясь слегка на палку, когда выходила, являла все тот же, прежний непререкаемый облик, призраком проплывавший над окружающим, – все уже другое, она одна прежняя, для Ксаны – «бабушка» (так, впрочем, ее многие называли), для взрослых, даже для комиссара Федора Степаныча, которому говорила «ты» – «барыня». Нос ее резче означился тонкой горбинкой, и когда теперь, одинокая и вполне без защиты – ее можно было в любой момент обобрать, выгнать, убить – проходила мать в теплой своей шапке и с палкой мимо амбара, будто амбар ей еще принадлежал, явно напоминала она, особенно в профиль, Данте Алигьери Флорентийца, о котором знала лишь то, что его переводил Глеб (значит, хороший поэт), тут же в Прошине.
И вот теперь, когда весна шла дальше и дальше, уже пообсохло, дрозды весело перелетывали в большом саду и почки тополей у балкона стали развертываться, полные сладкого духа, комиссаров сын Петька, восьми лет, принес ей однажды письмо.
Время было перед вечерним чаем. Мать лежала в столовой на диванчике, накрыв лицо носовым платком. Приняла потомка комиссара милостиво, дала даже кусочек сахару. Он покорно подал ей пенсне в футляре со стола и удалился.
В окно смотрел тихий вечер, в нежных отсветах заката. Мать прочитала, положила письмо рядом на стул и вновь накрыла лицо платочком. Трудно было сказать, что она чувствует.
Прасковья Ивановна внесла самовар в клубах пара. За ней появилась Ксана. Прасковья Ивановна ни за что не осталась бы с барыней в столовой. Но Ксана, девочка лет двенадцати, медлительная и слегка лимфатическая, оставалась.
Теперь она принесла свою чашку, осторожно села за стол напротив и сквозь всю скромность свою чувствовала, что «бабушке» с ней все-таки веселее.
Как прежде, во время войны, при отце, когда Глеб приходил к этому чаю из флигеля, а Элли сидела с маленькой Таней направо, мать села сейчас за самовар. Это ее капитанский мостик. Пока ноги носят и руки служат, пока бьется сердце, она не покинет его, хотя бы корабль шел ко дну. И в этот апрельский вечер, при розово-зеленоватом отсвете из окна – по закатному небу тянулись нежные космы облачков – мать тою же твердой рукой наливала чай Ксане, в ее цветистую чашку.
Когда Ксана налила на блюдечко и, дуя на него, поднесла к губам, мать сказала:
– Я получила письмо от Глеба, из Москвы.
Ксана подняла на нее бледные, со слегка золотушными веками глаза.
– Они, наверно, скоро приедут?
Таня была двумя годами моложе ее. Здесь же, в этом Прошине, во время войны и начале революции проходили ее детские годы. Ксана ее обожала.
– Нет, не приедут.
– А как же… в Москве летом жарко. Она говорила негромко, робко.
– Совсем не приедут?
Мать налила себе в чашку и положила кусочек сахару.
– Глеб пишет, что они уезжают за границу. Ему разрешили. Он хворал, ему нужно оправиться.
– Надолго уедет?
– Не знаю.
Ксана допила с блюдечка, отодвинула чашку. Смотрела она теперь выше стола, на фотографическую группу в рамке на стене – среди инженеров там сидел моложавый еще и веселого вида отец.
– И Танечка уезжает?
– И Танечка. И тетя Лена. Все.
Мать вздохнула и перевела разговор на школу, на новую учительницу в Поповке, куда ходила Ксана. На уроки. Труднее ли теперь задачи? (Арифметика всегда была бедой для Ксаны. Когда Глеб жил здесь, он спасал ее иногда от курьеров, которые неизвестно где встретятся, или выручал по части бассейна, который неизвестно когда наполнится. Но теперь она была беззащитна.)
Мать надела пенсне и не без строгости на нее поглядела.
– Ты что же это, не слышишь? Почему ты не отвечаешь? Плечи у Ксаны вдруг дрогнули, она всхлипнула и неловко припала головой к руке «бабушки».
– Я теперь… Танечку… никогда не увижу. И тетю Лену… Мать всегда считала ее слабой и нервной.
– Перестань, перестань… Как не стыдно… И Таня вернется, и тетя Лена, и Глеб.
Но Ксана продолжала плакать.
– Нет, я уже знаю… бабушка, я уже знаю…
– Ничего ты не знаешь и не изволь хныкать. Неси тетрадки, я подиктую тебе.
Ксана повиновалась. Но не Бог весть что вышло из этой диктовки. Слезы промыли по щекам Ксаны, пухло-бледным, дорожки. Кой-где блестело в них влажное серебро. Голова же плохо работала.
Взяв тетрадку, мать сквозь пенсне строго посмотрела на ее произведение. Ошибок было достаточно.
– «Хлеб» пишется через ять, – сказала она.
Серые, слегка воспаленные глаза Ксаны от слез покраснели. Она была теперь покорна, безучастна. Зачеркнула е, написала ять.
– В школе у нас учат без ять..
– Да, новое правописание… Я забыла. Ну, зачем же ты поправляешь? Если учат так, то и оставь.
Ксана молча взяла ее руку и поцеловала.
– Я хочу так, чтобы тебе нравилось.
Мать улыбнулась.
– Дурочка, дурочка… Я старая. Мало ли что мне нравится. Теперь все по-другому.
Она обняла Ксану и поцеловала в прямой пробор на голове – редкий знак нежности.
– Я скоро умру, а тебе еще долго жить. Ты должна делать, как другие.
Ксана подняла на нее глаза. В них было нечто серьезное и не совсем детское.
– Нет, я хочу, как ты. Я тебя люблю.
Мать не весьма одобряла чувствительность. Полагала, что это расслабляет, а теперешняя жизнь сурова. Поэтому перевела разговор на арифметику и другие уроки.
Вечер протекал, как полагается. Через комнату отца, где стоял все еще его верстак и на рогах висело ружье, старый патронташ времен Устов и сетка для дичи, мать проходила к себе, что-то разбирала в комнате, вынимала, перетряхивала, выносила в столовую. Что-то штопала и чинила, потом ужинала и раскладывала пасьянс. Теперь отец не мешал ей, не учил стратегии. Из его комнаты шло то же молчание вечности, которое наступило, когда затихли последние его хрипы, два года назад.
Мать раскладывала карты беспрепятственно. Ксана спала в кухне. Прасковья Ивановна также.
– О, Боже мой, Боже мой! – вздыхала мать, скрываться было уже не от кого.
Перед тем, как ложиться спать, она вдруг взяла свечку и подошла к окну – взглянуть на термометр. Это делал всегда отец. Нередко она говорила ему: «Не понимаю, для чего это тебе каждый день смотреть на термометр?» Но сейчас не могла объяснить, для чего это ей самой нужно и почему она это сделала.
* * *
Зима была нелегка для Элли, но она чувствовала себя бодро. Огромная комната в Кривоарбатском, где посреди помещалась печь, сложенная слепым каменщиком, в этом году обогрелась. Таня в ушастой шапке и валенках ходила в школу. Глеб в литературную кооперацию – работал среди своих. Но хозяйство – на Элли. Дрова, печка – на Элли. Ее быстрые ноги таскали салазки и по Арбату, забредали и дальше: вплоть до родительского дома на Земляном валу, где у Курского вокзала росла она некогда нервной, болезненной девочкой, потом вы росла и окрепла, распустилась пышным цветом жизненности и горячности. Как всегда бывает, из родного гнезда ушла. Иногда даже ссорилась с отцом, Геннадием Андреичем (но никогда с матерью), опять мирилась, вновь вскипала гневом и потом таяла в слезах – но теперь многое уже навсегда прошло, жизнь с Глебом сложилась, на Земляном валу положение было признано (как великая держава признает, наконец, после долгих колебаний, вновь возникшее, не совсем подходящее государство).
Глеб бывал там иногда, вполне благополучно. До войны Геннадий Андреич угощал даже его красным вином (Brane Cantenac, бочонки которого выписывал из Бордо.)
Кроме Исторического музея, которым заведовал, нумизматики, где имел европейское имя и сфрагистики – науки о древних печатях, отцом которой для России почитался, любил Геннадий Андреич и литературу.
– Разумеется, не эту современную-с, – говорил, презрительно потряхивая головой, вскидывая пенсне на карие, умные глаза. – А Пушкина.
Пушкина он обожал, как и Петра Великого. (Элли с детства помнила страшную, с выпученными глазами, маску императора в кабинете отца.) Когда бывал в добром настроении, то, наливая Глебу за обедом вина, он приговаривал многозначительно и весело:
Но ты, бордо, подобен другу, Который в горе и беде Товарищ завсегда, везде Готов нам оказать услугу Иль тихий разделить досуг. Да здравствует бордо, наш друг!– Да-с, это винцо. Пушкин в нем понимал.
Теперь времена Brane Cantenac'ов ушли. Дом на Земляном валу, приземистый, с полуподвальным этажом, палисадником на Садовую и садом слева, где рос дубок из желудя Элли-девочки, дом с бюстом Юпитера при входе, копией Каналетто в зале с роялем и фикусом в кадке, с восковыми слепками монет, медалей, древних печатей в кабинете Геннадия Андреича, был теперь уплотнен. Охранные грамоты музея охраняли еще некоторые комнаты, в кабинет со слепками не въезжал еще товарищ деревообделочник, но уже корабль дал течь и шел с креном.
Из этого-то давнего гнезда, с Земляного вала на Арбат, по Воронцову полю, мимо Хитрова рынка по Солянке и влекла раз зимой, этой зимой 1922 года, Элли салазки с барахлишком – среди коего целый комод: напрягала в горку молодое еще, резвое тело, когда у Варварских ворот неожиданно встретила отца.
Геннадий Андреич в мерлушковой черной шапке, в пальто на меху, с бобровым воротником, шел из Исторического музея, где принимал нынче на хранение архив князя Урусова. Увидев дочь, тащившую, как ему показалось, целый воз, содрогнулся.
– Что же ты извозчика не взяла?
Элли была в запале, усмехнулась лишь. Он нахмурился.
– Нет, так нельзя-с, в гору невозможно одной…
И став рядом, взявшись за бечевку, пошел с ней рядом, помогая тащить.
– Зачем, папа, не надо…
– Нет-с уж, в гору одной невозможно. Уж я повезу тоже. Элли знала характер отца: раз сказал – кончено. И действительно, он помог до самого Политехнического музея.
Но это было одно только из ее странствий, одно из испытаний зимы.
Странствовала она и за дровами, и с Глебом вместе на Воздвиженку за академическим пайком. Зимой возили муку, сахар, бараний бок на салазках, а весна подошла – на деревянной тележке со скрипучими деревянными же колесиками.
Но главное в этой весне была тяжкая болезнь Глеба: та самая, о которой писали матери в Прошино. Эта болезнь, когда тринадцать суток Глеб лежал без памяти, в жару, когда, казалось, все было потеряно и только Элли продолжала верить и бороться (в смертный час положила на грудь Глебу икону Николая Чудотворца и к утру он ожил) – болезнь эта и выздоровление стали в семье легендой и рассказывались друзьям долгие годы, всегда волнуя.
Да и как мог не волновать рассказ о полуживом Лазаре, верою и любовию спасенном – никогда потом Элли не жалела свечей Николаю Угоднику, никогда не пропускала служб ему.
В конце апреля Глеб – худой, стриженный наголо, с ощущением обруча, надетого на голову, мог уже выходить. У него появился волчий аппетит. В Москву навезли в это время с севера рябчиков и куропаток – он съедал в день по куропатке. Вскоре начали хлопоты об отъезде: предприятие, давно занимавшее головы их обоих.
– Мы всего на год, на полтора, – говорила Элли, говорила так и на Земляном валу (Геннадий Андреич покачивал головой), так написал Глеб и матери, и они действительно считали, что так вот оно и будет: сядут и уедут, поживут в Берлине, а потом в Италию. Эта Италия, как и в юные годы, виднелась вдали в голубом сиянии, и туда вели все пути. Ну, а дальше? Очень просто, все переменится, можно будет в Москву вернуться.
В начале июня, после месяца хождений, мытарств, Глеб получил, наконец, все бумаги и свидетельства: направляется за границу в отпуск по расстроенному здоровью.
Таня раннее свое детство провела в Прошине – во флигель Глеба въехала годовалой девочкой в начале войны, там же и укрывалась с родителями в бурные времена. Пока мирно было, Глеб и Элли нередко уезжали в Москву. Таня оставалась с бабушкой, Прасковьей Ивановной, Ксаной. В десятилетней ее душе иерархия создавалась такая: Ксана приятельница, с ней можно ходить на деревню, летом купаться в речке, петь «Костромушку-Кострому». Прасковья Ивановна полудруг, полуприслуга. Элли – мать: особый, хоть и ежедневный, но всегда праздничный мир, шумный и светлый, несколько странный (как и мир отца) – во всяком случае необыкновенный. Здесь нерассуждаюшая любовь. Бабушка же в своем роде вершина.
Мать могла бурно ласкать, потом вспыхивать, говорить что-нибудь наперекор себе самой и здравому смыслу, волноваться или восторгаться. Бабушка всегда ровна и покойна. С ней нельзя ни ласкаться, ни ссориться, ни по-своему поступать. Матери можно еще не послушаться. Бабушки невозможно.
Когда Глеб и Элли возвращались из поездок в Москву, бабушка встречала их, держа Таню за ручку, и на вопрос, как без них было и все ли благополучно, отвечала:
– Слава Богу, отлично.
Однажды добавила, когда Таня, с болтающимися косичками, тщательно заплетенными, побежала с Ксаной на огород:
– У вас такая дочь, которой вы оба никак не заслужили. И все трое тогда рассмеялись.
А теперь, этой неуклонно надвигающейся весной, с каждым днем приближавшей к отъезду, мать однажды, в сопровождении Ксаны, собралась в Москву – предприятие и нелегкое теперь, и даже небезопасное. Но не такова мать, чтобы остановиться, раз решила.
Не в коляске, как в былые времена, а в простой тележке добрались до города Каширы, прославленного вишнями, Окой и пьесой «Каширская старина». По знакомству достали им билеты до Москвы, по знакомству посадили в облепленный мешочниками поезд, а утром на другой день извозчик высадил их на Плющихе, у подъезда Сони-Собачки.
Собачка давно уже была замужем, за инженером полупольского происхождения. Жили они на своей Плющихе в небольшом двухэтажном особнячке, не уплотненном: Мстислав Казимирович был спец, служил в таком советском учреждении, имени коего все равно не запомнишь – охранная же его грамота была много сильнее, чем на Земляном валу.
Собачка встретила мать и Ксану восторженно: еще бы, времена Устов, Калуги, да и этой же Москвы, когда она училась еще на фельдшерских…
– Тетечка, дорогая, я так счастлива… ты у меня будешь в отдельной комнате, все по твоему вкусу. Как скажешь, так и будет… Я хочу, чтобы ты у меня себя как дома чувствовала.
Мать поцеловала ее прохладно-ласково, но, правда, была довольна. Да и Собачку любила. Та устроила ее в большой, лучшей комнате, рядом с гостиной. Ксана жалась к бабушке, ей полагалось спать тут же, смиренно на кушетке. Так оно все и вышло. Так и оказалась Ксана невидным охранителем своей «бабушки».
– Ксана, Ксана, ты не робей, – говорила Собачка, – раз ты с тетечкой, ты мой гость, мой друг.
Ксана с тихим восторгом смотрела на эту веселую, полную женщину с румяными щеками, тискавшую бабушку в объятиях. Но не могла развеять своей сдержанной задумчивости.
А Собачка продолжала хохотать.
– Когда я была девочкой, как ты, Глеб любил, чтобы я кота делала, вот так… – и она сжимала с боков свежие свои щеки, щурила глаза, что-то кошачье появлялось в ней, правда.
К завтраку пришел Мстислав Казимирович, высокий, бородатый, довольно красивый, и тоже обнимал мать, хотя мало знал ее: по доверию к Собачке. А потом пил какие-то воды, принимал пилюли, волновался, захлебываясь, говорил о путешествии Глеба и Элли.
– Вы не беспокойтесь, они отлично доедут, у нас из учреждения многие в Берлин ездят, там все превосходно устроено, мы в Германии многое закупаем, и меня самого, очень возможно, отправят в приемочной комиссии.
Он воодушевился, закатывал под лоб небольшие, голубые, вечно нервные и тревожные глаза, и всякие главметаллы, севе-ролесы, промторги, как рой небольших кошмаров, так и летели, пригоршнями, с его языка. Вести общий разговор было невозможно.
– Никому слова не даст сказать, – шепнула Собачка матери. – Но ничего не поделаешь.
Мать была довольно покойна. Еще со времен отца разных инженеров, толпившихся у них в Людинове и Москве, привыкла она слушать не слушая, думая о другом. Мстислав Казимирович не был ей интересен. Она терпеливо ждала конца завтрака, чтобы идти к Глебу.
– Тетечка, тетечка, – говорила Собачка, когда Мстислав Казимирович, выпив последний глоток минеральной воды и с беспокойством взглянув на себя в зеркало (всегда казалось ему, что заболевает), уехал в свой главметалл, – оставайся у нас подольше. Отдохни. Они уезжают в пятницу, а ты поживи здесь недельку-другую, да вообще сколько понравится.
– Нет, нет, спасибо. Мы послезавтра трогаемся.
Почему именно послезавтра, Собачка не знала. Подумала: до отъезда Глеба на вокзал. Но, помня с детства характер «тетечки», не настаивала.
* * *
Родители Элли держались на Земляном валу прочно, Глебову мать Собачка звала жить к себе в Москву (но та ни за что не хотела бросать Прошина), во всяком случае Глебу Собачка поклялась, именем детской дружбы и любви ко всему их дому, что «в случае чего» тетечку не оставит и перевезет к себе.
Глеб и Элли считали (или обманывали себя, бессознательно), что уезжают на год, полтора. Тяжело расставаться, но они оставляют близких устроенными, покидают их временно.
Для Глеба, однако, во всем этом был один слабый пункт: хорошо, мать остается в условиях неплохих, но… мог ли бы он пожертвовать для нее своей деятельностью, свободой?
Вспоминая впоследствии не раз это время, Глеб лишний раз уверялся, что тогда его несла неодолимая сила, ему надо было жить, осуществлять то, для чего он пришел в этот мир – это главное, и этого нельзя было здесь сделать. Значит… что могло его остановить? И он, и Элли летели сейчас безудержно, как бы не по своей воле – он не спрашивал, кому от этого больно.
Мать держалась покойно. С любопытством рассматривала огромную комнату Глеба со сложенною слепым печкой. Поцеловала Элли приветливее, чем раньше – о болезни Глеба все знала уже подробно («она выходила его, нечего говорить».)
Прощаясь, негромко сказал ей:
– Там его берегите. Ну, Господь с вами.
Ксана во всем подражала здесь «бабушке»: тоже не плакала, накануне отъезда ушла только с Таней на Никитский бульвар. Там сидели они довольно долго. О чем разговаривали – неведомо. Вернулись бледненькие, с холодными ручками.
– Я тебе из Берлина сейчас же напишу, – сказала Таня, когда вечером Ксана с «бабушкой» уходили к Собачке (завтра утром уж уезжали).
Таня была серьезна, она сейчас взрослая и все понимает.
Глеб рано утром ушел на Плющиху к Собачке провожать мать. И видение матери на извозчике, медленно отъезжавшем от ворот дома, матери все в той же шляпе со страусовым пером, с Ксаною рядом – они махали ему платочками и скрылись за углом переулка… – вот это видение навсегда в нем осталось: будто не прошлое, а всегда есть, не уехала мать, а уезжает, и где бы Глеб ни был, что бы ни делал и как бы ни жил, мать со страусовым пером всегда уезжает в вечность.
А дома был уже полный разгром. Через два дня и сами трогались. Эти два дня Элли носилась по Москве, целовалась и плакала со своей матерью, сестрами, одним раздаривала остатки вещей, другие приносили чемоданы, примеривая, как бы удобнее укладываться. Шкура медведя с огромной головой и стеклянными глазами, убитого еще отцом в Устах, служившая им ковром, отправилась кончать дни свои к знакомому доктору. Шкаф – к сестре Анне, Глебов письменный стол к приятелю.
Накануне отъезда Геннадий Андреич, кончив занятия в музее, нанял извозчика в Кривоарбатский. Извозчик вез его по знакомой Воздвиженке, чрез Арбатскую площадь, Арбатом. Было почти жарко. Но на всякий случай Геннадий Андреич надел пальто, на голове теплая шляпа, из-под брюк рыжеватые голенища сапог, внизу ярко начищенных.
– Да, да, четвертый номер, вот тут и остановись, товарищ извозчик, тут вот и остановись…
Чтобы не ошибиться в мелочи, вынимая из кошелька, надел пенсне тем же привычным жестом, каким вскидывал его на нос в Историческом музее, когда какой-нибудь мещанин приносил монету, утверждая, что она древняя.
Расплатившись, медленно стал подыматься во второй этаж, к Глебу и Элли.
Огромная комната их являла вид довольно-таки ужасный – незапертые чемоданы, все разбросано, беспорядок полнейший. И Глеб и Элли в изнеможении. Таня сидела на подоконнике – ее сейчас должны были отправить к Собачке, чтобы хоть немного дать спокойствия.
Элли бросилась и обняла Геннадия Андреича.
– Вот чудно! Папа!
– Да-с, заехал повидать перед отъездом. Ну, как вы?
Сняв пенсне, улыбнувшись, протянул Глебу руку очень приветливо.
– Слава Богу, Геннадий Андреич. Устали, конечно, но завтра все кончится – едем.
– Понимаю-с. После болезни надобно вам отдохнуть. Вы такой стали худой и вот стриженый-с, я не совсем еще к вам привык.
Подошла Таня. Он к ней наклонился, ласково поцеловал.
– Ну, а ты рада ехать?
– Я с мамой, папой…
– Тебе тут было плохо?
– Не-ет… я в школе даже очень интересно училась.
Геннадий Андреич засмеялся.
– Довольно-таки дипломатический ответ.
Таня не совсем поняла, что значит «дипломатический» – отчасти смутилась, но не чувствовала осуждения, скорее обратное. Дедушку Геннадия Андреича знала она мало, но он ей нравился, и со своими книгами на Земляном валу, монетами, медалями казался даже особенным, на других непохожим. В нем было для нее нечто почти загадочное.
Сейчас она была смущена беспорядком в комнате (все-таки такой важный посетитель! Вроде генерала) И отступив тихонько на задний план, за папу и маму, незаметным образом положила подушку на место и заперла чемодан.
– Радость моя, – шепнула матери, – эту картонку можно поставить на шкаф, так будет лучше.
Косички ее деловито покачивались, и весь вид – спокойной, толковой девочки очень русского типа – как бы говорил: если б она уезжала, никогда бы такого кавардака не было.
– Да, да, Танечка, я сейчас… Ах, может быть, папе чаю? Вон там чайник, Таня, спроси хозяев, есть ли у них кипяток? Тогда я сейчас заварю… чай, кажется, там остался, в коробочке… Ах, нет, он не в коробочке, а вон в той баночке…
Но Геннадий Андреич отказался решительно. Не время, не место. Не привык он пить чай в этакой суматохе (так он подумал, но выразился иначе).
Глеб придвинул ему уцелевшее кресло, Геннадий Андреич расположился удобно, посидел полчаса, расспрашивал, как именно едут, когда будут в Риге, Берлине.
– Ив Италию собираетесь?
– В Италию у меня даже виза есть, – отвечал Глеб.
– Так-с, так-с. Хорошее дело. Я, когда молод был… мы с Агнессой Ивановной тоже в Италии были, даже до Неаполя доехали… но не при таких обстоятельствах, как вы теперь. Меня там интересовали некоторые монеты из Сицилии… И тогда в Неаполе находился в научной командировке профессор Цветаев, основатель музея Александра Третьего. Давно было – конец семидесятых годов.
– Вот хорошо бы, папа, если б ты и теперь собрался туда, – сказала Элли. – Знаешь, устрой себе научную командировку, возьми маму, вот бы чудно во Флоренции встретиться…
Геннадий Андреич всегда считал Элли отчаянной головушкой. «Фантазерка… впрочем, и муж у нее такой же. Только более тихий».
Он надел пенсне, посмотрел на нее почти строго.
– Времена не те-с. Нет, голубчик, мы во Флоренции не встретимся.
Потом встал, вынул из жилетного кармана небольшой предмет, тщательно завернутый в мягкую бумажку. Протянул его Тане.
– Это старинный образок, твоей прабабушки. Николай Чудотворец. Береги его, ты девочка умная и основательная. Будешь молиться, вспоминай дедушку. А когда вырастешь, передашь своим детям. Вот так и будет хорошо.
Элли и Глебу он подарил по золотому империалу.
– Для усиления эмиграционного фонда, – сказал, улыбнувшись. – Ну, а теперь прощайте.
Элли обняла его и заплакала.
– Папа, мы увидимся… скоро, в Италии. Он ее перекрестил.
– Нет, мой друг. Господь вас храни. В этой жизни мы больше никогда не увидимся.
Два извозчика везли их через всю Москву – два вековечных извозчика московских, не невидных лошаденках, трусцой, погромыхивая железными шинами по булыжной мостовой, направляя неторопливый бег от краев Арбата, по Воздвиженкам, Лубянкам, Сретенкам к Сухаревой и Виндавскому вокзалу. Вещи, чемоданы, картонки подрагивали на толчках, извозчики понукали лошаденок и все это странствие напоминало путь двух баркасов, нагруженных добром, увозящих во время наводнения подтопленную семью.
На вокзале встретили их сестра Анна, Соня-Собачка да несколько друзей. Носильщики, все еще в белых фартуках, как и в юности Глеба, подхватили их чемоданы, на тележке повезли к вагону дальнего следования «Москва – Себеж». Первый класс, отдельное купе. Еще Россия, но какой-то уже новый мир, иной воздух – как бывает, что в окно доносит запах дождя, которого еще не видно.
– Глеб, Глеб, ты за тетечку не беспокойся, я ее в обиду не дам, а если что – сейчас же к себе возьму… Я и навестить ее съезжу, и она к нам приедет… Ну, с Богом! Элличка, дорогая, обнимаю тебя, пишите! Таня, Христос с тобой! Расти.
Сестра Анна – высокая, с огромными глазами луиниевской мадонны, мать многочисленной семьи, сдержанная и строгая, крепко обняла Элли. Глаза ее были влажны, но собою она владела.
– Ну вот, ну вот… Елена, в добрый путь.
Добрый путь начался в назначенную минуту. Вагон дрогнул, и платформа с остающимися в солнечном июньском дне поплыла назад, не уходя из Москвы. А Глеб, Элли и Таня, из окна махавшие идущим по платформе и тоже махавшие, медленно, но все же убыстряя ход, отдалялись от Москвы. Москва шла еще за ними будками, семафорами, водокачками, потом пригородами, но когда они кончились, лишь голубой ветер полей российских стал веять над уходящим.
Земляной Вал
Некогда Геннадий Андреич учился в Коммерческом училище, носил фуражку с темно-зеленым околышем. Его отец, Андрей Тихоныч, был уверен, что хотя Геннадий слишком пристрастился к книгам, все же отлично поведет кожевенное дело, тут же на Земляном валу основанное дедом, выходцем из земли Владимирской, Егором Колесниковым.
Но не так вышло Андрей Тихоныч рано скончался, много раньше, чем думал Геннадий Андреич рано женился, рано стат обладателем всех средств, доходов дела – мог свободно теперь изучать любимое: историю, археологию. Это сидело в нем крепко.
Вскоре женился на Агнессе Шмидт, юной барышне из московско-немецкого коммерческого мира. Мать Агнессы была итальянка, жена известного русского художника времен Гоголя. Он изобразил ее некогда в виде вакханки, в венке из виноградных листьев. В Агнессе ничего не было вакхического, но глаза ее сияли бледной синевой редкостной чистоты, нечто эмалевое было в их ласковом, приветливом блеске: являлся он и отражением ее далекой родины. Весь ее характер, доброта, некоторая восторженность и сентиментальность, ранняя полнота, плодовитость – все отвечало московско-германо-итальянскому корню.
Кожевенное дело на Земляном валу понемногу заглохло. Появился Исторический музей, где Геннадий Андреич получил место по сердцу.
Элли девочкой помнила еще кожевенные склады на дворе, но при ней приказчиков, живших тут же, в полуподвальном этаже, не гоняли уже ко всенощной в церковь Ильи Пророка, через улицу, и не запирали на ночь («чтобы не ходили в город баловать»). А другие остатки прежнего сохранились: старая прислуга, приживалки, повар Иван Лукич, как всегда повара тех времен – пьяница.
Жива была еще и бабушка Ульяна Семеновна, занимала флигель во дворе. Некогда была она красива и дородна. Так дородна и так неподвижна, что знаменитый московский врач, талант и самодур, невозбранно грубивший купцам и бравший огромные деньги, сказал ей однажды: «Если будете так есть и неподвижно жить, кончите кондрашкой».
Полакомившись сам особыми конфетами, которые ему выставляли, он уехал, Андрей же Тихоныч и она сама не обратили на слова его никакого внимания. Как же так меньше есть? Иван Лукич обидится: у Потаповых повар берет цельный ростбиф, у Евстигнеевых тоже, чем же Колесниковы хуже? И неужели Ульяне Семеновне ходить к Илье-Пророку пешком, как простой мещанке, когда есть пара вороных, летом пролетка, зимой сани с синей сеткой, и – хотя церковь всего в ста шагах – все же приличней Колесниковой подъезжать на своих лошадях.
Этих лошадей, сани с синей сеткой тоже отлично помнила Элли. Когда кучер возвращался, отвезши бабушку, то сестер-девочек Анну, Лину и Элли возил он катать по Воронцову полю около дома Вогау: вот, мол, у Колесниковых тоже хоть куда лошади.
Все же знаменитый доктор не ошибся. Ульяну Семеновну рано разбил паралич, и она несколько лет прожила в своем флигеле во дворе – еще не старая, прежде почти красавица, ныне жалкая туша, которую дворники подымали и переворачивали, перекладывали на простынях.
Но ее несчастная жизнь шла как бы на окраине колесниковского бытия и с ее уходом исчез последний след давнего.
Анна училась в гимназии, Элли в пансионе Виноградской и вместе с сестрой Линой играла в детском оркестре Эрарского – Элли на цитре, Лина на рояле.
У Агнессы Ивановны был абонемент в симфоническом: музыку она очень любила. По вечерам – духовитая, в нарядном платье с турнюром, сияя эмалевыми глазами и бриллиантовой брошкою со стрелой, крестя и целуя детей на ночь, уезжала она слушать Рубинштейна (а Элли, по нервности своей, часто не могла заснуть без нее, томилась и плакала. Ей казалось, что мать погибла и никогда не вернется, мерещились ужасы вплоть до минуты, когда та же пара вороных в санях высаживала у подъезда Агнессу Ивановну. Через несколько минут по комнате проплывало чудесное для Элли шуршание шелка и ручей духов. Мать снова ее целовала и тогда блаженно засыпала она). Но случалось, когда мать бывала и дома, и в зале с картиною Каналетто играла Шопена, Элли у себя в постели плакала. О чем? Не могла бы сказать.
Позже, когда подросли, сами ездили с матерью в сияющий зал Дворянского Собрания, в Охотном ряду близ церкви Параскевы-Пятницы. Там видела Элли впервые на эстраде худенького седого человека во фраке, неважно дирижировавшего собственную симфонию, но что бы он и как бы ни дирижировал, овации ему были обеспечены. Звали его Петр Ильич Чайковский.
Все это было то прошлое, что удалялось теперь с Элли, Глебом и Танею на дальний запад, но никогда не умирало, так и жило в душе, как в Глебе отец, Усты, Прошино, мать за самоваром, разливающая чай.
– Браво! Браво Чайковский!
Это хлопает и вызывает дядя Карлуша, мамин брат, музыкант и поклонник Данте. Он розов, несколько пухл и мягок, с такими же синими, как у сестры, глазами, ходит как бы приседая, энтузиаст и фантазер. Данте читает ежедневно, по нескольку строк, как Евангелие. Кроме него, никого и не признает в литературе. Собрал целую о нем библиотеку. Совершил поездку по его следам в Италии и считал некоторых поклонников Данте и его исследователей, даже умерших, личными своими друзьями.
– Ах! Озанам! Озанам! Вы читали Озанама? И блаженно закатывал небесные свои глаза.
Геннадий Андреич знал Данте мало, но понаслышке уважал. А к Карлу Ивановичу относился и покровительственно и слегка насмешливо.
– Чудак-с! Настоящий дилетант и чу-у-да-к-с!
(Считал, впрочем, дилетантом каждого, кто не знал монет царя Митридата или не понимал ничего в аптекарской посуде Петра Великого.)
Геннадий Андреич времен детства Элли был крепок и даже суров. Пустяков не любил. Почитал силу и волю, как у любимого им Петра. Если Агнесса Ивановна сентиментальна, это еще ничего, она женщина. Но мужчине впадать в слезу из-за Озанама считал он зазорным. А слез вообще не любил (на всю жизнь осталось у Элли, как девочками они собрались в театр, на «Евгения Онегина» и мать была уже одета, и все заранее условлено.. – отец вдруг запретил, отменил выезд по каким-то своим соображениям – объяснять даже не стал. Обида была неожиданна, но воля, хоть и далекая от Петра, в семейном владычестве оказалась непоколебимой. «Нет, нет-с, незачем по театрам таскаться…». Плакали, но не поехали).
Летом выезжали на дачу, в Царицыно. Это Элли любила с детских лет и еще больше, когда подросла, когда близилось шестнадцать-семнадцать и она вытянулась в легкую, стройную девушку. Мелкие кудерьки светлых волос, очень мелких, всегда в беспорядке, нежный румянец, дух ветра и света носил ее невозбранно по рощам Царицына, над прославленными прудами, беседками, руинами Екатерининского дворца, недостроенного и брошенного. Геннадий Андреич снимал из году в год огромную дачу в Кавалерственном замке. Окна выходили на озеро, было просторно, светло, свободно. Геннадий Андреич не каждый день приезжал из Москвы – Исторический музей для него важнее Царицына («дачи все эти для дам-с, – говорил, – дамы, барышни там вот и пусть любуются природой и катаются на лодках!».)
Без него было свободнее. Больше мир матери, блаженно сиявшей эмалевыми глазами, полневшей, немало вкушавшей разных тортов, печений, конфет, варений.
Дядя Карлуша невозбранно вращался здесь, приезжала и тетя Лота, благодушная, как сестра, но еще могущественней: пройти в вагонную дверь ей было уж трудно.
Являлись разные юноши, дальние мамины родственники, больше с фамилиями немецкими. Вокруг жили тоже дачники. Немало московских немцев, любивших пить пиво в саду Дипмана, шумевших вечерами там – иногда и танцевавших. Но была и молодежь, студенты, барышни из Москвы. Анна держалась серьезней, она и вообще была строже. А Лина – веселая, белокурая, со склонностью к полноте, и Элли – шалили как хотели. Устраивали, например, состязание: кто больше съест конфет? Забирались в беседку, усаживались с удобствами, ноги в ноги, распускали корсеты и ели, ели… – Эйнемы и Флеи, и Абрикосовы беспрекословно работали на колесниковских девиц.
– Какие дур'ы! – говорила Анна, слегка картавя, поблескивая серьезными своими, великолепными глазами. – Совершенные дур'ы!
– Невеста, осторожнее! – кричала Лина, потрясая светлыми, как и у Элли, локонами. – Мы не дуры, а отчего же нам и конфет не поесть?
Вот в жаркий полдень встречают они в аллее дядю Карлушу. Он в светлом костюме, соломенной шляпе – снимая ее, отирает с розового лица, безбородого, рыхлого, капли пота.
– Ах, душеньки мои, я только что перечитал… начало «Чистилища»… вы понимаете, Казелла, музыкант. Это во второй песни. В милой жизни, там наверху, был другом Данте, и вот у входа в Чистилище, ну знаете, это мистическое утро, таинственная ладья, привозящая души… там ведь такой лазурный воздух, и загадочные камыши по побережью – вдруг Данте встречает Казеллу, и тот его узнает и тотчас начинает петь лучшую канцону самого Данте… Лина толкает локтем Элли.
– Да, знаем, знаем канцону! Дядя доволен.
– Какие умницы! Вот, значит, недаром я Ратисбоннов перевод давал с итальянским текстом…
– Сейчас, сейчас! Мы сейчас споем… Элли, слушайся меня, я регент…
И Лина начинает. Дуэт недлинен. Слова из Ратисбонна:
Оркестр играет, А Дант шагает, И шум и гром, И Беатричин вой Что такой?Дядя меняется в лице.
– Что такое? Что за идиотство?
Но дуэт крепнет.
Когда была я крошкой, Я Данте обожала, К нему одной дорожкой Всегда бе-е-ежа-ла!Тут дядя уже в ярости.
– Прекратить! Немедленно!
И бросается на них. Но это-то и забава. Они быстрее, ловчей его, с хохотом, визгом удирают по аллее, за ними бежит с палкою дядя Карлуша. Но куда же догнать быстроногих! За ними юность, солнце, полет.
Из-за поворота долетает последняя строфа Казеллы:
Ах, я к Данте, Я к Данте хоч-ч-ч-у-у!Платьица мелькают в чаще, и их больше нет.
Пофыркивая, отирая лоб и обмахиваясь соломенной шляпой, Карлуша направляется к Кавалерственному замку, где колесниковская дача.
Агнесса Ивановна полулежит в летнем кресле у раскрытого окна, в своей комнате – очень просторной, беспорядочной и изящной. Внизу видно озеро, на нем лодочка. Светло, легкий ветерок, зыбь на озере, зыбь в занавесках, в мягких локонах Агнессы Ивановны. Благословение погожего лета, запах лип цветущих, веяние света и тени в эмалевых невинных глазах.
Стриженая приживалка Маркан раскладывает на столе гадальные карты.
– А-а, Карлушенька, раскраснелся, такая жар-р-ра! (Агнесса Ивановна, как и Анна, слегка картавит.) Ты пиджак бы снял, тут все свои… Хочешь шоколадинку? Флеевские, замечательные…
На подоконнике коробка с голубой ленточкой. Но Карлуша отмахивается.
– Конфеты, конфеты! Только и делаете, что конфеты едите… Вот и девицы тоже, вместо того, чтобы учиться, читать серьезные книжки, вечно что-то жуют, носятся по парку, придумывают всякие глупости.
– Карлушенька, они молоденькие, им хочется побегать…
– Пускай бегают сколько угодно, мне их ног не жаль, но надо, чтобы культуру уважали. Дочери известного нумизмата – и такое отношение к великой поэзии…
– Да что же они такое сделали?
Дядя Карлуша слушает уже только одного себя.
– Я и не жду от них, чтобы они были знакомы с большим комментарием Скартаццини, но сочинять пошлые куплетики и распевать их, издеваясь над Данте… – верх безобразия!
Волнуясь, рассказывает, наконец, о преступлении. Агнесса Ивановна съедает шоколаднику (уже которую!), поколыхивается от смеха.
– Карлушенька, ведь это они не со зла…
– Еще бы со зла! У вас в доме ничего не делается со зла, все всегда мило, благодушно, как ты сама, и потому все распущенно… А Геннадию, разумеется, не до того.
Маркан встает из-за гаданья. Стриженые седые волосы ее торчат, в коричневых от табаку пальцах недокуренная папироса.
– Не понимаю. Туз червей, дама пик… Какой-то пожар в зимнее время… к чему бы это? Не понимаю.
Дядя Карлуша отмахивается рукой.
– Вот, вот! Вместо музыки, Моцарта, Баха… гаданье… А юношество оскорбляет Данте – и где же? В доме Геннадия!
– Карлушенька, ты преувеличиваешь. Девочки учатся и на рояле играют, даже недавно «Кориолана» исполняли в четыре руки очень недурно. А ко мне Павлик иногда приходит, читает вслух Герцена… он так хорошо читает!
Маркан курит и презрительно пофыркивает.
– Барон! Его все и чтение-то в том, что он у вас рублик-другой выпросит.
– Ну, уж ты, Маркан, всегда недовольна. И несправедлива.
– Потому что жизнь знаю. Разве я не верно говорю? – Она оборачивается к Карлу Ивановичу. – Вот и про Уменышкина всегда говорила, что он бабник. Он и бросил жену с детьми. Разве не правда?
Маркан, некогда Марья Аркадьевна, некогда барыня, дама со средствами, потом учительница, ныне околачивалась около сытых столов – гадала и отличалась несколько мужским складом натуры, и главное мрачностью: ее звали Кассандрой. Уменышкина этого, мелкого служащего и прихлебателя Агнессы Ивановны, она всегда ненавидела и теперь радовалась падению его и своей проницательности.
Но Карлу Ивановичу это мало интересно. Да и Маркан раздражает гаданьями, зловещестью своей и – с его точки зрения – невежественностью.
– Прорицатели, прорицатели! – бормочет он. – Данте считал это страшным грехом… Тирезий-то у него где сидит? Тирезий сидит в глубоком аду, в самых нижних кругах.
Маркан ворчит, что ее не надо ни в какой ад спускать: довольно и тут навидалась, намучилась, ее адом не удивишь…
Но это для него тоже вовсе не важно. Если бы нашелся сочувствующий, с кем можно бы поговорить о графе Уголино, поспорить о знаменитом 75-м стихе, оживился бы. Но Маркан понятия не имеет о Данте, а сестра Агнесса сентиментально вздыхает, но дальше Франчески да Римини ничего в сущности не знает. Нет, в этом распущенном доме ему совершенно нечего делать.
Вид у него недовольный, но в конце концов он тоже съедает две-три шоколадных конфетки, а там близится уж и завтрак. Чтобы развлечься, он идет к пианино. Тут нет ни дерзких девчонок, ни Марканов, ни Павликов, выдающих себя за баронов и знатоков Герцена. Вот Бах не выдаст. В его бесконечных и строгих лестницах дядя Карлуша успокаивается, глаза его приобретают мечтательно-потустороннее выражение. Так что, когда к столу, преизобильно насыщенному Иваном Лукичом, являются – как ни в чем не бывало – Лина и Элли, он уже вполне мирен: нет, это не враги, не обидчицы, просто юные девушки, полные жизни, огня, света. Может быть, завтра залезет Элли с каким-нибудь Павликом на такую развалину, что потом неизвестно как ее снять оттуда, может быть, через неделю поедет с отцом на раскопку древней могилы, тут же вблизи Царицына. (Когда поперек разрывают курган, Геннадий Андреич важно шепчется с бородатым археологом, а потом Элли видит, с замиранием сердца, останки – браслеты, кольца: тоже была молодая девушка, тоже резвилась, цвела, смеялась, а теперь из разрытого глядит череп да пряди волос, да тонкий скелетик.) Но самой Элли долго еще бегать и восторгаться, страдать и радоваться, болеть и быть здоровой, любить и быть любимой.
* * *
Время идет, юность проходит. Анна первая вышла замуж – за доктора, много старше ее: неизвестно зачем, но уж так получилось. За ней Лина и Элли. Всех выдавал Геннадий Андреич основательно, с шумными свадьбами и приданым, свадебными путешествиями и устройством квартир в Москве. Анна осела крепче. Нельзя было понять, любит она мужа или не любит, но у них оказался особнячок на Девичьем поле, муж лечил, зарабатывал. В первые годы, когда пошли первые дети, первые внуки и внучки Геннадия Андреича, все шло покойно: Анна жила прохладно, с той же серьезностью, что и в девушках, для детей, в детской, озаренной прекрасными ее глазами – напоминали они мадонн Луини. Лину постоянно ревновал муж-адвокат. Элли наобум вышла за молодого инженера, и ее дела оказались особенно плохи: не без ужаса она скоро убедилась, что совсем мужа не любит Но жить с ним без любви…
Когда дочери были детьми, Геннадию Андреичу трудно не приходилось – это особенный мир, там Агнесса Ивановна, гувернантки и приживалки. Но вот теперь свадьбы сыграны, все будто бы на своих местах в некий час полагается девицам Колесниковым менять фамилии. Так делали матери, бабушки – достойно менять, достойно плодить потомство. А он бы, Геннадий Андреич, по-прежнему ходил в Исторический музей, писал бы статьи о печатях Иоанна Третьего, составлял бы описания монет древнего царства Боспорского, беседовал бы с седобородыми археологами об интереснейших вещах, потчуя их славным вином Brane Cantenac… – и вообще жил бы вполне покойно, ожидая внуков и внучек. Потом делал бы им подарки, но все это «на полях» жизни А вот оказывается, что Лина того и гляди сбежит от своего адвоката, хотя у него отличная практика и человек он порядочный. Элли уехала в Новгородскую губернию, и муж жалуется ему, ищет поддержки, утешения. Анна при всей серьезности своей не удовлетворена, заводит знакомства с какими-то декадентами.
– Помилуйте, ходит в литературный кружок и в этот, знаете ли, новоявленный театр Станиславского! Смотрит Ибсенов и прочую чепуху-с…
Так теперь жалуется он, Геннадий Андреич, сослуживцу Чижову, знатоку скифских древностей – как и он сам, ходит Чижов в сапогах с рыжими голенищами под брюками, в отложной крахмальной сорочке при черном галстуке поперек.
Чижов играет пальцами в длинной бороде, точно перебирая струны арфы.
– Мода, Геннадий Андреевич. – C'est la mode[32], как говорят французы. Ничего не поделаешь. У меня племянница, хорошая девушка, недавно вернулась домой, с какого-то там собрания, прямо и заявляет: «Я хочу горящих зданий…». Да, и безо всяких…
Геннадий Андреич надевает пенсне, смотрит на него строго. Умные его, карие глаза довольно-таки суровы.
– Что же она этим хотела выразить-с? И откуда эти бессмысленные стихи?
Чижов поглаживает рукой старинный кубок, фигуры зверей на котором ему очень нравятся.
– Я, разумеется, этих стихов не знал. Но она объяснила: современного поэта Бальмонта.
– Так ведь моя Анна с этим Бальмонтом знакома-с! Ко мне зять заявляется и сообщает, что Бальмонт этот у них недавно обедал и потом читал подобную же ахинею-с. Анне же и еще там каким-то молодым барышням это как раз нравится… Вместо Пушкина они восторгаются Бальмонтом!
Но одно дело жаловаться Чижову, другое объясняться с Анной. Анна дочь своего отца, и в луиниевских ее глазах нет благодушной эмали матери. Что нравится, то и нравится, чего она хочет, того и хочет и мнений своих не меняет, даже для отца, которого в детстве боялась, а теперь нет.
– Эти люди мне интереснее всяких археологов и приживалок, которыми кишит ваш дом. И я жить буду, как хочу и как умею…
После такого разговора настает полоса мрака: Анна перестает бывать на Земляном валу. Агнесса Ивановна полутайком ездит к ней на Девичье поле, вздыхает. После блинов, сидя в глубоком кресле в комнате Анны наедине с ней, старается все смягчить. Московский закат глядит в окна, мартовский закат, освещающий на стенке «Остров мертвых» Беклина, гравюру Штука, на столике книжку Пшибышевского «Homo sapiens». Анна волнуется. Она разрумянилась, огромные ее глаза блестят почти сурово.
– Мама ты понимаешь, я не девчонка и мной поздно командовать. У меня свои вкусы, у отца другие, но меня не переделаешь…
– Милая, тебя никто и не собирается переделывать, у папочки же такой характер… ты понимаешь, я-то его хорошо знаю, за всю жизнь много терпела и переносила. И ты будь поуступчивей… сдержанней.
– Нет, нет, переносить, уступать не намерена. Тебя люблю и отца люблю, но подчиняться не намерена и в ваш распущенный дом, где всякие твои приживалки, кормежка, как в Большом московском, и деспотизм отца – я не ходок. Пускай он любит Пушкина, а вот я – Бальмонта! И никто мне не указ.
Некоторое время и не бывает Анна в Большом московском, где Иван Лукич удивительно приготовляет рябчиков и для супа делает прехитрейшие фрикадельки – потом вновь появляется, но за это время Геннадий Андреич успел уже поссориться с Линой: та слишком много играет в преферанс, ездит по ресторанам, к Яру – Геннадий Андреич находит, как и муж ее, что это легкомысленно.
С Элли же получается совсем странное. Тут он не знает, что и подумать. Элли всегда ему была мила (хотя он и скрывал это) даже более других дочерей, он, пожалуй, ее и любил, хотя считал слишком нервной и неуравновешенной… Все-таки, все-таки… – во-первых, она тоже знакома с Бальмонтом, не вылезает из Художественного театра, читает «бессмысленного» писателя Гамсуна и восторгается им, окружена еще более юной и бесшабашной компанией, чем Анна, но главное: с некоторого времени совсем бросила мужа, поселилась одна, начала развод и через знакомства, связи двинула его довольно успешно. Сняла большую квартиру, сдает в ней комнаты, помогает разным студентам во время забастовок и чуть ли не видели ее около Бутырок – там она хлопотала об арестованных студентах, устраивала им передачи. А в своей среде, «среди разных поклонников Гамсуна и никому не понятного модного Ибсена», выделила юного студента, начинающего писателя. («Воображаю, что он такое пишет! Наверно, какую-нибудь современную галиматью-с!») И как будто бы даже она собирается выходить за него замуж. Ну, разумеется, без всякого родительского благословения. «У них все теперь так: обведет вокруг аналоя какой-нибудь захудалый попик, и готово дело!».
Домой Элли давно не являлась, и знает он о ней только от Агнессы Ивановны да еще от Дмитрия Дмитриевича. Этот Дмитрий Дмитриевич состоял другом семьи, другом музея и поклонником учености нумизматической. Элли знал еще девочкой и всегда любил – он-то и смягчал все, сколько мог, пред Геннадием Андреичем. А так как был очень богат, сам отчасти собиратель древностей, так как к дому Колесниковых был особо внимателен: присылал девочкам корзины цветов к именинам, Геннадию Андреичу дарил дорогие книги, а Историческому музею завещал библиотеку, то Геннадий Андреич весьма считался с ним.
Как бы то ни было, Геннадий Андреич удивился, когда раз, в музее, когда он рассматривал восковые слепки печатей Василия Темного, услыхал от служителя, что его хочет видеть «ихняя дочь Елена Геннадиевна».
– И с ними молодой человек-с!
– Ну что же, зови!
Встал, несколько и нахмурился, застегнул пуговицу пиджака, поправил пенсне, будто для встречи с некиим странным и чуждым миром – если не сказать: враждебным.
Чуждый мир заявился, однако, довольно скромно. Элли хотя и была в большой шляпе и элегантном синем платье в талию, с лорнетом в руке, легко двигая тонким, стройным телом, распространяя запах духов, однако сказала отцу даже слегка смущенно:
– Если мы тебе не мешаем, папа, может быть, ты покажешь нам кое-что в музее… вот позволь представить Глеба Николаича, ему хотелось с тобой познакомиться, он много о тебе слышал как об ученом… хотел бы посмотреть… тут у тебя столько интересного…
Геннадий Андреич улыбнулся. С Глебом поздоровался весьма вежливо.
– Всякое обо мне могли слышать-с, от одних хорошее, от других худое, как и всегда бывает в жизни. Во всяком случае я ничего интересного из себя не представляю и что же меня смот-реть-с… (в этом месте Элли вдруг показалось, что сейчас отец рассердится – и тогда все пропало. Но это была лишь минута).
– Меня смотреть нечего, а в музее нашем есть действительно хорошие вещи. Разумеется, интересно это тому, кто имеет расположение к истории, археологии…
Перед ним стоял худенький студент в университетской тужурке, с остроугольным лицом, юношеским румянцем на щеках, пробивающейся бородкой клинышком – она еще удлиняла лицо. Вид у него был совсем не воинственный: как на экзамене перед профессором.
Геннадий Андреич поправил пенсне на носу и спросил тоном именно экзаменатора:
– Филолог? Историк?
– Нет, юрист.
– Юрист! Что же, вас интересует какой-нибудь особый отдел? Скифские древности или памятники Москвы? Или доисторические времена?
Глеб сбивчиво, явно стесняясь, объяснил, что специального ничего… а так хотелось бы… вообще посмотреть…
Геннадий Андреич знал это тип посетителей и не весьма ценил. («Так, вообще… посмотреть. Несерьезно».)
Но, продолжая быть вежливым, повел любителя древностей по своим залам. А залы правда свои.
В некоторых находились предметы, которые сам он и доставал, покупал или выкапывал из вековых тайн погребения. В других плод трудов других знатоков, таких же одержимых ушедшим, как и он сам, иногда друзей его, иногда научных врагов А в общем все это истинный и бесспорный его мир, из-за которого стоит жить, который действительно сущее, а остальное так себе, вроде призрака, вплоть до дома на Земляном валу, где живет Агнесса Ивановна и где жили дочери, а теперь разлетелись, и их жизнь – для него странная – дает новые уже ростки, в новых детях, его внуках, внучках. Это все изменяющееся, это все движется А вот тут – прочно, вечное. Для других – пестрый набор отжившего, для него вечно живое, всегда важное и замечательное.
Проходили по залам Киевской Руси, Новгородской. Кое-где Геннадий Андреич останавливается, серьезно постукивал пальцем, как будто барабаня, или ласково гладил стекло витрины. Глеб и Элли покорно следовали, где надо было удивлялись и где надо восхищались Во всяком случае смиренно вели себя. Углубляясь в века, дошли до каменных баб юга.
– Вот это так называемый тмутараканский болван-с, изволите видеть, глыба, по виду ничем не замечательная, но обратите внимание, на ней надпись, гласящая, что князь Борис измерил по льду ширину Керченского пролива… Вероятно, во время одного из походов на юг России, где, как известно вам, находились некогда и греческие колонии. Эта область называлась в отдаленные времена царством Боспорским.
– Странно, – сказал Глеб, – Босфор же ведь очень далеко, почему назвали Босфорским?
Геннадий Андреич усмехнулся.
– Босфор и Константинополь ничего общего не имеют с царством Боспорским, монеты которого вот, ваш покорный слуга изучает более четверти века. Оно находилось в России, по берегу Черного моря. Киммерия входила-с в него тоже.
Глеб никогда не слыхал о таком царстве. Почувствовав, что вопрос его неудачен, покраснел.
Геннадий Андреич понимал, что со студента юриста, да еще столь юного, много не спросишь. И сказал примирительно:
– Это мало кто знает и обычно удивляются, обычно путают. Но вот Киммерия больше вам говорит? Вы бывали в Крыму?
– Да был раз. В Ялте.
– Ялта, Ялта… извините меня, город для дам-с. Шашлу есть да с проводниками по горам катать…
– Я был и в Феодосии…
– Вот это другое дело. Значит, знаете Киммерию.
Дошли до скифских чаш, кубков. Геннадий Андреич воодушевился, а у Глеба пестрело уже в глазах и голова тяжелела. «Ничего я не знаю, и наверно не узнаю никогда во всей этой путанице, а все-таки лестница замечательная». Она, может быть, и была для него путаницей, в действительности же вела извивами, темными своими путями в таинственную даль бытия.
«В нашей науке ничего не понимает, но довольно приличный, все-таки молодой человек», – определил одновременно Геннадий Андреич, не словами собственно, а неясным ощущением, которое потом можно словами означить – и всегда приблизительно.
Про Элли он даже и не подумал. Она женщина, что же ей знать… Хорошо еще, что относится уважительно.
Несмотря на то, что, как выяснилось на обратном пути через Киевскую залу, Глеб не помнил даже года, когда были убиты те князья Борис и Глеб, имя одного из которых он носил (помнил какого-то Святополка Окаянного, помнил, что жалостно они погибли от подосланных убийц – и только) – и вопреки всем этим прегрешениям Геннадий Андреич Глеба не отверг. Удивился, что его интересует Данте, был даже любезен, на прощанье поцеловал Элли.
– Давно что-то не была у нас, – сказал ласково. – Приходи как-нибудь к обеду. И Глеба Николаевича приводи.
Потом обратился к Глебу.
– Мой шурин Карл, человек очень увлекающийся и неплохой музыкант, весьма поклоняется Данте. И знает его. Он может быть вам полезен.
Глеб был польщен приемом. Искренно благодарил.
* * *
Так произошла встреча нумизматики с начинавшейся литературой. Глеб действительно стал бывать в доме на Земляном валу, не весьма часто, но с постоянством, хотя не был еще ни мужем, ни даже объявленным женихом Элли (в какой-то момент Геннадий Андреич решил на все махнуть рукой: время другое, жизни не переделаешь.)
Он оказался прав. Все протекало довольно благополучно. Агнесса Ивановна приняла Глеба сразу как близкого, благодушно потряхивала кудряшками на лбу, улыбалась доброй улыбкой и, сияя небесно-эмалевыми глазами, закармливала пирогами и жареными индюшками. Он целовал ей ручку, она обнимала его и он тонул в теплых ее изобилиях. А за спиной тихо шипела Маркан: «Вот, появился еще молодчик! Добра не быть!». Но ничего недоброго не случилось. Так же, как и во времена дачи в Царицыне, всегда здесь кишели приятели, полуродственники и прихлебатели, и родные настоящие: то Анна приезжала с детьми, то Лина, в меру того, кто из них не был в ссоре с отцом. Юный «барон» подрос сильно, все еще, однако, был и молод, сухощав, элегантен. Играл в теннис, являлся с ракетками и без денег, читал теперь Агнессе Ивановне Диккенса, наедался за двоих и элегантным жестом «изымал» у двоюродной тетушки то «тройку», то «пятерку» – «заимообразно, в виду стесненных обстоятельств».
Дмитрий Дмитриевич присылал на именины цветы – неизменно, иногда зимой драгоценную клубнику, являлся и сам, высокий, худой, изящный. Когда в Большом театре танцевала его жена, знаменитая балерина Занетти, присылал ложу. Но Занетти никогда почти не бывала у Колесниковых – вела жизнь замкнутую и скромную, при божественном своем даре, сверхземной легкости полета на сцене, в жизни была робка и застенчива: занималась воспитанием дочери, принимала поклонение Дмитрия Дмитриевича и сама очень его любила. А он так был богат, что не проживал десятой доли доходов своей мануфактуры, хотя раздавал направо и налево, хотя рабочие его были устроены не в пример другим фабрикантам: исключительно.
Глеб впервые видел столь богатого и непонятно простого человека. («Да-с, совершенно верно-с…» Он ни с кем не спорил, на Геннадия Андреича смотрел с благоговением нескрываемым, и у него был такой вид, что вот сейчас он вынет чековую книжку, кому-нибудь поможет, за кого-нибудь похлопочет.)
– Дмитрий Дмитриевич странный человек, особенный-с, – говорил о нем Геннадий Андреич. – Редкостный. Если бы все богатые люди были такими, то возможно, что было бы похоже на рай. К сожалению, однако, это вовсе не так-с. До рая весьма, весьма далеко. И даже вовсе не похоже.
Дядя Карлуша временно перестал бывать на Земляном валу, обиделся за Баха, о котором непочтительно отозвался у Колесниковых один зоолог.
Но потом вновь стал появляться. Глеб познакомился и с ним. Узнав, что Глеб уже был в Италии и даже поклонник Данте, он ласково закивал ему пухлым женоподобным лицом с лазурными, как у сестры, глазами.
Но когда выяснилось, что Глеб собирается даже переводить Данте, на лице его изобразился почти ужас.
– А вы его хорошо знаете?
– Ну, не особенно, конечно.
Начался экзамен. Оказалось, что «Рая» вовсе не читал, «Чистилище» приблизительно, с литературою о Данте почти не знаком. Подумать только, о любимом Озанаме даже не слыхал. Ни Витте, ни Скартаццини…
– И вы собираетесь переводить Данте…
Вид у него был такой, что он разговаривает с безумцем. Но, наверно, смущение Глеба подействовало. Он налил себе и ему белого вина и сказал более мирно:
– Если вы обещаете, что будете обращаться с книгами аккуратно, я дам вам – для начала – Крауса, это очень полезно. А там посмотрим. Имейте в виду, что переводу «Божественной комедии» люди отдавали целую жизнь.
Глеб так сам еще был полон жизни, так хотел брать, а не давать, что это мало ему подходило. Тем не менее дядю Карла искренне поблагодарил.
– Вот видите-с, – обратился к Глебу, с вежливо-покровительственной улыбкой Геннадий Андреич. – Я всегда полагал, что Карл вам подходит и будет даже полезен.
Сам он считал, что и Карл, и Глеб каждый в своем роде со странностями. Один носится с Данте, другой примыкает к «новой-с» литературе, «делает вид», что понимает «самоновейшего психопата с нелепым прозвищем Андрей Белый».
Эта «новая литература», к которой Глеб отчасти и себя причислял, могла бы послужить поводом к раздору для него на Земляном валу, но не послужила. Глеб охотно пил с Геннадием Андреичем Вгапе Cantenac, охотно слушал рассказы о Рейнаке и поддельной тиаре Сайтаферна, изготовленной в Одессе, почтительно рассматривал медали, в которых ничего не смыслил, но Геннадий Андреич тоже понимал, что этот будто бы скромный и вежливый студент с весьма малыми познаниями очень самолюбив и упрям, в некоторых вещах совсем не уступит и задевать его не надо. Глеб тоже не приставал к нему с Блоком и Белым, а когда Геннадий Андреич восторгался «Русланом и Людмилой» на сцене («каждый раз хожу-с»), Глеба это не раздражало.
Вооруженный мир продолжался. И весьма тем поддерживался, что Глеб занят был писанием своим и любовью, а Геннадий Андреич монетами царя Митридата.
Развод Элли кончился, подошло время брака. Венчание так и устроилось, как предвидел Геннадий Андреич: без всяких оповещений.
На Земляном валу да и в Прошине о нем узнали, когда оно уже совершилось. За сокрытие Геннадий Андреич довольно долго дулся. Виновные не бывали временно в доме у Ильи-Пророка, но потом произошло объяснение. Глеб волновался и убеждал, что «никак не хотел обидеть, но думал, что просто это неинтересно». «Неинтересно!» Геннадий Андреич был поражен. Такого взгляда на дело он еще не встречал. «Ну, да у них, у молодых, все по-особенному». И это его успокоило.
Понемногу все и прошло и забылось, снова стали бывать. Земляной вал все прочнее входил в жизнь Глеба. Занимал меньше места, чем Прошино, все-таки занимал.
А теперь, вытянувшись, на мягком ложе вагона, неторопливо катившего его к Себежу, Глеб, усталый, замученный последними днями в Москве, все-таки навсегда увозил с собой все облики прошлого, не говоря уже о матери и отцовской могиле, Собачке, но и Геннадия Андреича и дядю Карлушу, Агнессу Ивановну и приживалок, и множество тех мелочей, которые казались иногда и неважными, но из них складывался весь план бытия его.
Разве не важно было то лето перед войной, которое провели они с Элли целиком как раз в доме на Земляном валу? Геннадий Андреич уезжал в Крым на два месяца – Элли была несоразмерно толста, ходила в широчайшем капоте, но веселая, оживленная. Они занимали небольшую зеленую гостиную, обращенную теперь в кабинет Глеба, и жили счастливо. В книжных шкафах за стеклами книги Геннадия Андреича – переплеты их основательны. Наверху маска Петра Великого выпучивала белые, страшные глаза. Окно выходило в тот сад, где Элли девочкой посадила желудь – из него вырос теперь славный дубок. Росли там и клены, и липы, и сквозь зелень их лилось золото погожего лета. Зеленовато-золотистые струи его ложились в комнату с зеленым бархатным диваном, наполняли прелестью прозрачного полумрака. Здесь целыми днями работал Глеб над своей рукописью, а рядом в зале, под копией Каналетто, Элли перестукивала на машинке написанное.
В доме, кроме них, жила только Агнесса Ивановна, топившая их в поцелуях.
Из этого дома ездили иногда по вечерам на Тверской бульвар в маленькое кафе грека Бляциса и сидели в тени дерев, и встречались с юными своими приятелями из литературной богемы – пили турецкий кофе в крошечных чашечках.
И однажды, когда выходили, некто сказал, обернувшись на Элли:
– Вот поэтому-то в Москве и растет население!
А в один светлый августовский вечер, в тот самый, когда Глеб поставил точку в последней фразе рукописи, Элли увезли к Красным воротам, где дядя Штраус, муж тети Лоты, известный в Москве гинеколог, устроил ее в своей лечебнице.
Мог ли бы Глеб забыть о тех часах, когда вместе с Агнессой Ивановной сидел он в гостиной у телефона и ждал звонка, и наконец, ровно в полночь раздался он. Голос из лечебницы сказал:
– Благополучно, девочка.
Эта девочка, с порядочными уже косичками, сидела теперь у окна в вагоне. Подъезжали к Себежу. Поезд остановился. Прошли таможенники. Потом он тронулся и явились другие. Они тоже рылись и спрашивали. Но и они ушли. Поезд постоял, постоял, да и двинулся.
– Мама, теперь Россия кончается?
Элли лежа на нижнем диване, тоже в изнеможении.
– Кончается. А что?
– Нет, радость моя, ничего.
Таня вышла в коридор. В сквозняке покачивались ее косички. Ленточки на концах трепетали. В руке у нее были две незабудки, остатки того, что им поднесли на вокзале.
Она постояла у открытого окна и возвратилась. Незабудок не было больше в ее руке.
– Россия теперь кончилась, – сказала она. И отвернулась.
Берлин
В пансионе фрау Бок на Тауэнцин-штрассе мебель в чехлах, полы сияют – пахнет жареным кофе.
Элли раскладывает вещи из чемодана в большой комнате – на столе портрет Вильгельма в рамке с засушенными цветами. Через коридор, в маленькой комнатке, поселился Глеб.
– Мы теперь тут и будем жить? – спрашивает Таня.
– Да, пока тут. А потом, наверно, поедем к морю. Правда, славная у нас комната?
Таня вежливо вздыхает.
– Да, отличная… Все-таки в Москве, пожалуй, была больше. И как бы спохватившись, добавляет: зато здесь гораздо чище.
– Вот твои книжки… «Серебряные коньки», «Лорд Фаунтлерой», Пушкин.
Таня покорно берет книжки, складывает их на столике и принимается помогать матери.
В том, что она говорила, все правда: хорошо и просторно, внизу в столовой отлично сидеть за отдельным столиком и, слава Богу, «радости моей» не надо самой готовить, подает все берлинская горничная в чепце и белом переднике. Это очевидность. Но под очевидностью нечто, что высказать ясно не могла бы она, а сидело в ней это прочно: все тут чужое, и так не похоже не только на Прошино, где летом она купалась в Апрани, гоняла в ночное лошадей и с девчонками распевала «Костромушку-Кострому», но даже и на последний год жизни в Москве (морозы, салазки, пайки, валенки, ушастая оленья шапка, хождение в школу, где девчонка спрашивала ее: «Твой папанька в кооперативе служит?» Таня отвечала внушительно: «Мой папа писатель». И однако же, там была Москва, Россия…).
А Берлин был Берлин, ни с каким Прошиным и Кривоарбатским ничего общего не имевший.
Первое время Глеб и Элли много бегали по Берлину этому, то с знакомыми русскими, то в одиночку – город хотя и серый, но как живо, свободно все, разные Кадевэ полны, сколько платья выставлено, обуви, толпа в Романишес кафе против Гедехтннс Кирхе, сколько цветов на Курфюрстендамме. Зелени вообще много – цветы на окнах, на верандах кафе, у входов в рестораны, целые фасады домов увиты ползучими растениями – это все Берлин. И не только сад-лес Тиргартен с вековыми деревьями, с той громоздкостью и размахом, что Пруссии свойственны, но и разные зеленые Лютцоф-Уферы и Кайзер-аллее, все полноцветно, кипуче и смягчает казарму Берлина.
Вечером, проходя по Тауэнцин-штрассе, в веселой толчее человеческой, под отблеском павлиньего заката за Гедехтнис Кирхе, Глеб испытывал иногда ту смесь оживления со щемящею грустью, которое и есть острое чувство жизни: да, свобода, писание и Европа, и даже этот шумный Берлин… – но и не он, от него тоже дальше.
Как в юности, бродя по полям Прошина, на закате, так теперь на Тауэнцин-штрассе… Италия! Так ли, иначе, в Италию надо пробраться.
А пока что ходили они с Элли по вечерам в кафе – Таня покорно засыпала одна, бывали и в ресторанах.
В одном из них некто Чашин, знакомый еще по Москве, почти вместе с ними и выехавший, заявил Глебу, что собирается на море, в Хагенсдорф, близ Штетина.
– Нечего тут сидеть, уверяю вас, – говорил он, поблескивая карими, влажными от нервного возбуждения глазами, – Хагенсдорф вам понравится. Лес, море, рыбаки, проста…
Когда на другой день Элли сказала Тане, что собираются на море, та тоже оживилась.
– Там деревня? И лес есть, как у нас в Прошине?
– И лес, и море. Это называется Балтийское море. Моря Таня не видела никогда. Это ее занимало. Про Берлин ничего матери не сказала. Но могла бы сказать, что тут ей не нравится. Что иногда, когда мать и отец, уложивши ее, уходят, она потихоньку плачет, вспоминая бабушку, Ксану, Прасковью Ивановну, Прошино.
* * *
Леса, настоящие, «как в России», укрывали Хагенсдорф, море шло к северу, за серебряной его далью остров Борнгольм и невидные дальние берега Скандинавии. На песчаном пляже детишки, из сосновых лесов благоухание, в окнах домика немолодой фрейлейн Пабст, честной германской девы, белые занавески чистоты безупречной. Окно Глеба прямо в зелень – березы сада, там улица, сбоку дворик, где сушится белье фрейлейн Пабст. Элли с Таней на пляже. Глеб по утрам пьет жирный кофе с булками, маслом. Два яйца всмятку, потом завтрак, потом… – доктор в Берлине велел питаться, и он с каждым днем крепнет и ведет жизнь хоть нешумную, но и деятельную – литература, печатание, гранки: то, чем всегда занимался.
В небольших двух комнатках деревянного домика как светло! От зелени снаружи приятный отсвет, и все вообще здесь удобно и прочно, основательно: живут – знают зачем. Над кроватями на квадратах матери вышиты надписи: «Трудись и не забывай Бога» или: «Честного не одолеет никто, но он сам заслужит высшую похвалу». Фрейлейн Пабст, девственница высокая, худая и трудолюбивая, неукоснительно стирающая и развешивающая во дворе сорочки, кофточки, белые длинные свои панталоны с фестонами, сама – воплощение всех этих надписей. Долгими зимами Померании, когда ледяное море бушует, вековые сосны гудят грозно, как и во времена давних предков гудели, вышивает она новые глубокомысленные изречения на покрышки для одеял, спинки кресел. Библия, пророк Исайя, Иезекииль, апостол Павел – никого не оставит она в покое.
С Элли и Таней она в лучших отношениях, Глеба немножко боится, как представителя высшего племени мужчин, в племени этом есть и страшное, и вызывающее преклонение. Глеб для нее «Негт Doktor», вечно сидит над книгами, рукописями, ему каждый день идут письма и пакеты из Берлина. Не совсем ведь обычно, сразу видно: Herr Doktor.
Глеба это не удивляло. С детства, со времен Устов и Людинова он привык, чтобы его звали Herr Professor, и любезно-почтительная улыбка фрейлейн Пабст ничего не меняла.
Элли была для нее Frau Doktor (хотя и довольно странная: слишком живая и быстрая). Даже Таня – это особенно весело было слышать: Fraulein Doktor.
Таня смеялась, говорила матери:
– Чудо мое, меня никто так в Москве не называл.
В этом смехе было уже нечто от нового мира, куда они погружались понемногу, незаметно даже для себя – нечто от того Запада, где пока чувствовали себя гостями, мало понимая еще свои судьбы. И дни Хагенсдорфа летели, заметая былое, хотя и казалось, что Москва совсем близко, хотя на пляже Таня играла и с русскими детьми, а Глеб и Элли встречались с русскими взрослыми.
Приходили письма из Москвы, Прошина – Элли волновалась всегда особенно… но вокруг был германский мир. Таня знала уже кое-что по-немецки, могла пойти в лавку купить масла, яиц. Хоть и с русским Чашиным, Глеб сидел иногда вечером в немецком кафе с пестренькими настурциями по окнам и, потягивая Таррагону, слушал рассказы Машина об Испании и небольшой вилле его на юге Франции, близ испанской границы.
Чашин был фантазер и авантюрист, русский барин с эстетической закваской, читал стихи, выступал в Москве в Камерном театре, а сейчас, поблескивая карими орловскими глазами на умном и порочном, бритом лице, уверял Глеба, что больше в Россию не вернется – никогда.
– Вспомните, как жили мы с вами последние годы! Это жизнь? Я Европу еще молодым всю исколесил, в Кэмбридже учился, все музеи, театры знаю, слушал великих музыкантов; и теперь вместо того, чтобы прививать себе родной тиф, как вы изволили в Москве сделать, или вместо сидения по чека и стояния у стенки, я опять, пока хватит сил, буду по этой старой Европе проживать то – не весьма многое – что удалось спасти.
Он и действительно не терял времени. То в Берлин, то с каким-то знакомым в древний Каммин, то на рыбацком судне на всю ночь с рыбаками в море. А вдали Париж, Италия.
Глеб же более скромно дышал прохладной, лесной и морской Померанией, она казалась ему необильной и даже бедной в суровой некрасоте севера. Все же по вечерам, выходя к морю, не раз любовался он закатом. Какие радужные перья разлегались по небу! Как медленно гасло все потом, лес погружался в сумрак, море серебряною, хладной пеленой проступало, на багровом теперь западе черным призраком стояла на зеркале шхуна, черные паруса трех мачт, слабый зеленеющий огонь… Еще позже Большая Медведица означалась, указывая: там Петербург. А на другом конце неба, за Берлином – Италия. И опять сердце сжималось.
Жить, жить! Впереди еще так много. И не зря в небе звезды.
* * *
Они стояли и над бедным (некрасотою своей) Берлином, над берлинской зимой Глеба, Элли и Тани.
Теперь это Фробенштрассе. Тихий серый дом, фасад увит диким виноградом – осенью славно краснеют листья его. Лестница в безукоризненном коврике вводит в безукоризненную квартиру, теперь уже не фрейлейн Пабст, а полковника кавалерии Бунге. Священная тишина, священная чистота – ковров, мебели, кроватей, окон. Худой, еще стройный и молчаливый полковник, полная и болезненная жена, простор, меланхолия ушедшего – тут у путников русских две комнаты, ванна и Kuchenbenutzung[33] – та же кухня, что у хозяев, но в ней Элли отчасти стесняется стряпать в удобном своем саркофаге хозяева, разоренные войной, иедут полуголодную жизнь. В огромных шкафах коридора висят платья фрау и костюмы герр Бунге, но со своей молчаливой внимательностью готовит он для себя и больной жены только одни картошки.
Ходит дома в туфлях и полувоенной куртке. Всегда чисто выбрит, священнодействует, проходя коридором или зажигая газ в кухне.
На русских смотрит со спокойным и сдержанным сожалением – сверху вниз. Дай Бог, чтобы восточные люди не просидели дивана, обоев не замусолили, не перебили посуды и хоть кой-как убирали ihre beide Zimmer[34].
Элли здесь тоже Frau Doktor. Странная Frau. Приветлива и даже ласкова, говорит по-немецки, но… – верно, это так и полагается у русских? – никакого уважения к хозяйству. Поставит кастрюлю на огонь и уйдет, с таким видом, что ей все равно, подгорит рагу или не подгорит, выйдет из этого что-нибудь или нет. Fraulein Doktor более основательна. Кофе мелет спокойно, за покупками ходит исправно, а по-немецки начинает говорить даже с берлинским акцентом.
Если бы Herr Бунге понимал по-русски, он и еще больше был бы удивлен, слыша, например, как Fraulein Doktor с детским спокойствием спрашивает Frau Doktor:
– Чудо мое, ты поставишь это на огонь?
– Ах, да, конечно… что-нибудь там да получится… ну что-нибудь вроде бефстроганов…
И действительно что-то получалось, при быстроте Элли могло выходить только скоро созидаемое, но при счастливой ее звезде выходило все же неплохо. Длительное же и методическое – не ее мир. И даже подметая коридор, не могла она довести дела до конца.
– Радость моя, ты оставила там кучу сора, я сейчас подберу на совок…
Незаметно Таня обуздывала ее стремительность и не удивлялась ничему – в этом с Бунге не было у нее ничего общего. Напротив, здесь на чужбине образ матери, всегда летящей и кипящей, воплощал для нее еще полнее все, что в детской своей жизни успела она полюбить на родине. И когда ласкалась к Элли, прижимаясь к ней, говорила:
– Ты самая хорошая, самая красивая…
И не зная, что бы еще сказать посильнее, добавляла:
– Главная всей России.
Это название Глебу нравилось. Он улыбался про себя, вспоминая, как его самого называла Таня в Прошине. Когда из большого дома он уходил к своим книгам во флигель, Таня кричала ему вдогонку:
– Книгель пошел во флигель!
Здесь в Берлине из всех троих Таня имела наибольший успех у Бунге. Подавая жене, всегда что-то вышивавшей, из кухни дымящийся Wassersuppe[35], полковник иногда говорил:
– Die Kleine ist sehr klug.[36]
(Он только что видел, как Таня в кухне хозяйничала вместо матери.)
Фрау Бунге перекладывала больную ногу поудобнее на скамеечке и вздыхала.
– А что же сейчас делает Herr Doktor? Полковник загадочно подымал ввысь белесые глаза.
– Если он есть писатель, то значит и пишет.
– А не пачкает ли чернилами стол?
Полковник наливает суп, она садится к столу, он напротив нее, в том же торжественном молчании, как до войны, когда были они богаты, комнат не сдавали и питались не только картофелем.
– Я не знаю, запачкает ли он стол, но у них бывает много гостей. Я боюсь, что они попортят пружины в диване.
Опять тишина, говорящая о страшных возможностях: а вдруг протопчут дорожку в ковре, или разобьют вазу? Но страхи напрасны. Хотя Frau Doktor со своей быстротой в движениях, несколько возбужденным, почти восторженным немецким языком и явной нелюбовью к хозяйству казалась им совсем странной, все же то, что Глеб – Herr Doktor и постоянно за письменным столом, и что вот время идет, а в их beide Zimmer никаких горестей, с мебелью и обстановкой нет, понемногу успокаивало. Ну, русские так и русские. Во всяком случае, платят исправно, несмотря на обилие знакомств живут тихо, в кухне держатся вежливо и приветливо, a Frau Doktor откалывает иногда даже Witz'ы. Пожалуй, все обойдется.
Однако весною вновь испытали они беспокойство. В начале марта и Herr и Frau Doktor одновременно заболели.
– Die beide sind krank[37],– сказал мрачно полковник, подавая жене утром кофе (происхождением из померанского ячменя). Фрау Бунге встревожилась. Не заразное ли? Русские – мало ли что может быть: тиф, холера, чума?
Полковник не мог объяснить. Но находил, что вряд ли холера. Во всяком случае это было ему неприятно.
Ни холеры, ни чумы не оказалось, но Глеб и Элли действительно заболели, и довольно серьезно. На огромной постели с торжественно взбитыми подушками, под стеганым желто-златистым одеялом возлежали они рядом, как в некоем саркофаге, и наперебой кашляли.
Для Fraulein Doktor наступили трудные дни – но и время показать себя.
На Тане оказалось все хозяйство, вся квартира. Тут не Прошино, где бабушка, Прасковья Ивановна, Ксана. Тут Берлин, надо самой все. Но в Тане была же кровь бабушки – той бабушки, которая ничего не боялась ни в мирное время, ни в революции, войны. Таня ко всему отнеслась деловито, покойно: убирать комнату некому, она будет убирать. Есть-пить надо – всего она приготовить не может, но дойти в ресторан русский, захватив с собою посуду, не так уж хитро. Кофе же или чай сварить тоже нетрудно.
– Aber die Kleine ist sehr klug[38],– говорил сумрачно repp Бунге, глядя, как Таня, со своими косичками за плечами, с судком и крынкою для молока спускается по ковровой лестнице. (Ему не очень нравилось, что вот и русская девочка, а делает не хуже немецкой.)
Лечил Глеба и Элли доктор Зальцберг – худенький, бритый, быстрый в движениях.
Осмотрел, выслушал, вид имел такой, что все заранее ему известно.
– Разумеется, разумеется… Вот что-с, барышня, – обратился вдруг к Тане, – вы, я вижу, здесь вроде хозяйки, и слава Богу. Действуйте. За папой-мамой надо ухаживать как следует.
Таня внимательно его слушала. Получалось так, что он с ней больше имеет дело, чем с Глебом и Элли.
– А какая же у них болезнь? Зальцберг обернулся теперь и к родителям.
– Слов не будем бояться. Врач друг больного и как друг помогает ему. Имеете листик бумаги? Надеюсь, в квартире писателя… Так. Благодарю. У обоих гриппозное воспаление легких, – на этот раз обратился уж к Тане. – Слава Богу, что не крупозное. Ничего страшною, температура невелика, сердце в порядке, но кончится все не завтра. Нет, на завтра мы не имеем надежд Мы их не имеем. Запаситесь терпением. Сейчас кое-что пропишу, но главное надо компрессы, все туловище в компрессах.
Что такое гриппозное, что такое крупозное, Таня не знала. Но… «воспаление легких» на всех троих произвело впечатление.
Однако доктор был очень добр, его самоуверенность действовала.
– Ничего, ничего. Вечером зайду, покажу, как их заворачивать, будете папе-маме помогать, они чтобы тихенько в согревающем лежали, и все будет замечательно. Да, и питание… Лимонами, кроме всего прочего: больше всего лимонами, медом… Питание при этой болезни необходимо.
Вечером сам он их забинтовал – Глеб и Элли стали похожи на мумии, а он все говорил, рассказывал об Италии: в Монтекатини одно время жил, работал с итальянским доктором в санатории.
– Италия! Что за страна! Что за народ! Будто Россия.
– Мы и сами туда собираемся, – сказал Глеб негромко, из теплой своей скорлупы (компресс начинал уже греть), – если деньгами удастся разжиться, осенью хорошо бы и тронуться.
– Да, да, ешьте побольше лимонов. Это целительно. Это волшебно.
Маленькое, гладко бритое лицо его с седоватыми висками принимало восторженное выражение. Главные несчастья человека от печени. Главные друзья его – мед и лимоны.
Он приходил очень часто. От денег отмахивался («Не дурите мне голову»…) А собою действовал хорошо. В особенности на Таню. В этом немолодом, бойком живчике чувствовала она союзника, чуть ли не друга. Иногда ночью, слыша из другой комнаты кашель отца, которому мать вторила, впадала вдруг и в тоску: ну, а если… – ах, лучше об этом не думать. Считать до ста, как бабушка учила, чтобы заснуть. А завтра за молоком, хлебом, варить кофе, менять компрессы… – да, доктор Зальцберг. Его подвижная, неутомимая фигурка с глазами как бы заклинателя, вроде восточных волшебников – все хорошо. «Мед, лимоны…». Нет, он свой, он союзник, не выдаст.
Волшебник помогал ей перепеленывать родителей, называл ее «барышня», иногда «медицинский персонал».
– Если б я был хирургом, то для операций непременно выбрал бы такую помощницу.
Таня слегка конфузилась, но была довольна. А он с каждым днем чувствовал себя у них прочнее, точно свил гнездо. Таня покорно покупала лимоны и мед, Глеб и Элли покорно вкушали – это было и вкусно, действительно: но были слабы, в этой комнате, на двуспальной кровати, отравленные болезнью, жили они как бы за сценою, едва слышно. Владевшие ими силы даже сравнивали – в вялости и бездейственности – их характеры, столь в обычной жизни различные.
И тянулось все медленно, несмотря на камфару и компрессы. Глеб находился в том равнодушии болезни, в той тоскливости, когда кажется, что ничто никогда не кончится, так вот всегда и будет: рядом ослабевшая Элли, в движении милая Таня, во второй половине дня доктор со своими лимонами.
Но как раз этот Зальцберг и оказался прав: одновременно с прибавлением дня, с марто-апрельским светом, возраставшим в астрономической неторопливости, но и с астрономической неуклонностью, слабела сама болезнь, падала температура и убавлялись хрипы.
– Ну вот, я и говорил! Терпение, правильный метод борьбы – и мы одолели. – Доктор продолжал быть безупречным.
Встретив его однажды на лестнице, герр Бунге сумрачно сказал жене:
– Der Arzt ist ein Jude.[39]
Последствия оказались довольно странны. Фрау Бунге заметила, что евреи часто бывают хорошими врачами.
– Спроси, довольны ли они им?
Бунге узнал, что очень. Тогда фрау Бунге решила позвать его и посоветоваться.
Доктор Зальцберг был с нею так же бодр, приветлив и самоуверен, как и с ее жильцами. Так же напирал на лимоны, назначил кое-что новое, но главное – предписал теперь же, не дожидаясь сезона, неукоснительно – bad Kissingen.[40]
Бунге переглянулись. Для этого нужны деньги. Но полковник вдруг вспомнил что-то, повеселел и сказал:
– Abgemacht.[41]
Решил ли он заложить припрятанную драгоценность, или продать шубу последнюю, или взять под вексель у ростовщика – неведомо. Но известно, что вскоре фрау Бунге уехала в Киссинген.
Был конец апреля. Потеплело. Над Берлином пролетали в лазури кисейные облачка – светлый привет весны. Тиргартен нежно зазеленел. Глеб и Элли уже ходили, доктор торжествовал, Тане стало полегче.
– Чудо мое, – говорила она, прижимаясь к матери. – Я рада, что вы выздоровели. Я иногда боялась.
– Фу, глупости.
– А мне страшно бывало.
Потом, посмотрев на распустившиеся внизу деревья, вдруг прибавила:
– У нас в Прошине, пожалуй, яровое сеять начали. Элли ее поцеловала.
– Ты помещица. Тебе бы с бабушкой в деревне хозяйничать. Элли могла бы добавить: а мы с папой богема, голытьба.
– Что ж что в деревне… В деревне даже очень хорошо… Разве в Прошине плохо?
Таня была слегка задета: деревню при ней никак нельзя было трогать.
Их собственные же судьбы слагались сейчас так, что от всяких деревень уводили все дальше, направляя на отчасти желанные, но и неожиданные пути.
Однажды к ним явился, на Фробенштрассе, Ника Бартенев, молодой поэт с антропософскою прослойкой – худенький, изящный, с большими карими глазами. Глеб и Элли хорошо знали его еще в Москве. Теперь он получил наследство, и немалое – покойный дядя хорошо заработал в Дании.
– Датские кроны, – сказал он, и вдруг по-детски, но как-то и очень громко захохотал. – Датские кроны это не здешние марочки, которыми скоро будем оклеивать стенки… вместо обоев! Дешевле! Да, кроны!
Он весело потер руки – маленькие, тоже изящные, явно негодные для транспортного дела дяди, но пересчитать датские кроны способные.
– Вот я и намерен основать издательство…
Дальше все было ясно. Приглашает Глеба, дает аванс, и так как знает, что Глеб любит Италию, то вот и возможность пожить там, тем более что и Ника сам, с женой своей Мариной, собирается туда.
– Будем там жить, под Генуей, на итальянской Ривьере – а? Таня – а?
Ника знал Таню тоже еще по Москве. И они дружили. Таня считала, что он хоть и взрослый (даже есть жена), но и как маленький, с ним можно бегать, играть, хохотать, как с прошинскими девчонками, а притом он особенный, ни на кого не похожий.
Он и сейчас вдруг вскочил, прошелся драконом по коврам Бунге (на корточках, сильно загребая руками), подскочил к Тане, схватив, высоко поднял.
– В Италию, в Италию!
Победоносный клич, всеми подхваченный. Таня в Италии не бывала, но так как и «радость моя» о ней постоянно и восторженно говорит, и Книгель, то она вполне верила, что это нечто замечательное.
По разным соображениям решили, что тронутся в сентябре. Ника же с Мариной поедут позже.
* * *
– Чудо мое, Бунге нынче какой-то странный… Я вхожу в кухню, а он у плиты приплясывает, напевает. Обернулся, лицо такое красное.
Элли засмеялась:
– Выпил, наверное, лишнее.
– Он всегда серьезный и молчаливый, а тут начал со мной болтать… Да, от него пахло водкой, это верно.
– Вот видишь…
Весна оказалась для полковника Бунге веселой. Откуда раздобыл он денег? Неведомо, но достал. Не только отослал жену, но и сам зажил по-новому. Таня видела часть, только часть его жизни – об остальном не догадывалась, да по-детскому своему положению и не поняла бы.
Глеб однажды проснулся часа в четыре. Светало. С улицы слышался галдеж. Он подошел к окну, приотворил его. Элли тоже проснулась.
– А? Кто это там орет?
Глеб прикрывал уже окно.
– Я сейчас маму во сне видела, будто она угощает меня пирожками, а потом вдруг огромная собака, и залаяла… я и проснулась.
Элли бормотала в полусне. Она всегда видела сны. Для нее заснуть – значило погрузиться в новый мир, всегда очень яркий, хоть иногда и нелепый.
– Спи, спи.
Поет пьяный Бунге. Его ведут под руки две девицы.
Элли зевнула, перевернулась на другой бок.
– Старый идиот.
И заснула тотчас, по-детски крепко, как Таня. Сны опять повели ее, куда хотели.
«Kennst du das Land…»[42]Фрау Бунге давно вернулась. Полковник давно обратился вновь в трезвенника, мрачно варящего для жены Wassersuppe. Русские не попортили мебели. Без спору заплатили за разбитые чашки, попрощались любезно – фрау Бунге Таню даже расцеловала. Герр Бунге был значителен, серьезен и изящен. По отъезде их сказал жене:
– Aber die Kleine war die kltigste.[43]
Умнейшая из трех катила в это время на автомобиле к Anhalter Bahnhof'у[44], сидя между отцом и матерью.
На вокзале несколько приятелей, приятельниц облобызали их, напутствуя. И доктор Зальцберг весело приветствовал: он расценивал теперь Глеба и Элли как своих питомцев. Сказал, что если будет в Монтекатини, то навестит их.
– А вас, – крикнул Тане, когда поезд трогался уже и она, улыбаясь, кивала из окна, – вас беру помощницей себе в клинику.
Через несколько же минут поезд бурлил, громыхал и летел сквозь предместья Берлина, унося в некоем вихре, начавшемся еще в Москве, троих русских все дальше и дальше в начертании их судеб.
Новый мир, Тане вовсе не ведомый, приоткрылся на другой день за Мюнхеном, где ночевали, в стране гор и лесов. Он сгущался, темнел полосами елей по скатам, кипел внизу бурными речками, уходил в поднебесье облачными вершинами. То хмурилось, то прорывалось солнце, и тогда вершины зажигались, все светлело, веселело.
– Папа, какой замок! Это очень древний? А вон на горе лысое место, лес вырублен. Да, понимаю. Смотри, бревна прямо вниз спускают, они катятся по горе.
К вечеру Таня устала, привалилась в купе к матери и задремала. Глеб один стоял в коридоре, смотрел. Это он любил, с детства привычен был в поезде часами глядеть в окно, в одиночестве.
Сейчас самые близкие его сидели в купе, а ему одиночество, как и всегда, было необходимо. Да, вот почти двадцать лет назад въезжал он с Элли тоже в Италию – из Вены чрез Земмеринг на Венецию. И тоже граница к вечеру, тоже горы, замки австрийские… – хоть и двадцать лет, а как сейчас помнится предзакатное сияние в одном месте на вершине Альп, в облаках. «Смотри, точно ангелы проходят», – Элли указала тогда на световые снопы, выкатившиеся из краев тучи, победоносные, эфирно движущиеся. Потом был какой-то Понтафель – Понтебба: началась Италия.
Скоро она и сейчас начнется. Глеб стоял, вдыхал из окна мягкий вечерний воздух – он считал уже: итальянский, иногда и с паровозным дымком. Он был весь полон желанием радости. Не думал ни о России, ни о матери, Прошине, ни о том переломе, который свершился в судьбе их – вот теперь ведь летят они, в грохоте поезда, с маленькой девочкой, с малыми средствами, в страну жизни их, сами как дети, несмотря на все пережитое. Значит, уж так им указано.
Верона издали дала о себе знать в темноте россыпями огоньков. Золотые точки, цепочки их и ожерелья то выскакивали, то прятались за поворотами, но все росли, ярче блестели, как бы говоря: «Большой город».
Большой город принял их в теплом благоухании синей прозрачной ночи. Было часов девять. Веттурин, похлопывая бичом, покрикивая на лошадь, вез их в коляске к Albergo Academia[45]. Таня сидела на скамеечке напротив, усталая, но сейчас все-таки оживленная. Косички ее побалтывались в такт хода лошади.
– Это теперь уж Италия?
Она говорила не то с гордостью, не то ожидая подтверждения. Но сейчас же сама подтверждала, не дожидаясь.
– Верона! Италия! – слова, так часто слышанные от родителей.
Albergo Academia, указанный еще из Берлина – некогда дворец – оказался серьезен и старомоден. Высокая большая комната, куда провели их, была расписана старинными узорами – потолок в милых гирляндах плодов и цветов, амуры и стрелы, летящие гении по карнизам стен.
Ужинали внизу в ресторане. Потом Элли и Таня поднялись к себе, Глеб же пошел побродить. Не хотелось еще ложиться, да и Вероны он не знал вовсе.
В итальянской ночи незнакомого города, когда по узкой улочке сплошь в ровных плитах, перед освещенными еще витринами преходят изящные офицеры в голубых плащах, черных сияющих крагах, позвякивая длинными саблями, когда слышится женский говор и легкие девушки пробегают, постукивая каблучками, пахнет сигарами, духами, овощами и тем нерассказуемым запахом древнего южного города, что пленяет всегда – в этом есть великое очарование и прелесть, навсегда западающие. Да, вот теперь «настоящее», мог бы сказать Глеб, в волнении и поэтическом возбуждении неторопливо направляясь к могильному памятнику Скалигеров. Да, это не Тауэнцин-штрассе. Совсем не Тауэнцин-штрассе.
Данте встретил Глеба на небольшой, слабо освещенной и пустынной площади, по которой некогда ходил. Теперь стоял перед Palazzo del Consiglio[46], на каменном пьедестале, каменно молчаливый, в венке из лавров, всегда похожем на венец терновый. Нос его, как всегда, горбился, нижняя челюсть выступала. У ног спали голуби. От шагов Глеба сонно вспорхнули и перелетели под аркады дворца.
Глеб сел за столик простенького кафе, под открытым небом. Оно скоро уже закрывалось. Никого больше не было, Глеб сидел за чашечкой кофе. Данте был безглаголен. «Вот бы куда Карла Ивановича!» Глеб улыбнулся даже. «Ну, конечно, он здесь бывал, все отлично знает…». Но не хотелось ни о чем думать, он сидел в тишине итальянской ночи, на этой площади города – единственного не проклятого каменным молчальником – сидел и молчал и сам наполнялся безглагольностью вечности.
Башенные часы пробили одиннадцать. Глеб допивал свой кофе. Шляпа его лежала рядом, Данте смутно белел в нескольких шагах. Над ним, как и над Глебом, стояли звезды. И в этой тишине, чуть прерываемой иной раз одинокими шагами проходящего да негромкими словами камерьере, собиравшего и уносившего внутрь кафе столики – вдруг сверху медленно, винтообразно кружась в полете несколько таинственном, спустилось голубиное перо, маленькое и легкое – село на плечо Глеба. Оно было почти невесомо. Оно было почти не вещь. Откуда пришло? Голуби спали. Сколько оно плавало, куда носил его теплый ток? Но прилетело.
Глеб снял его в некоем волнении. Данте безмолвно стоял. Данте был совершенно безмолвен.
С этим перышком Глеб возвратился в альберго. Элли и Таня спали.
– Ах, это ты…
Элли сонно приподнялась, улыбнулась и легла на другой бок.
– Я рада, что ты вернулся. Я рада, что ты жив.
И мгновенно опять заснула.
* * *
Утром он рассказал ей о перышке. Это вполне было в духе Элли, ей очень понравилось.
– Мы теперь всюду будем возить его с собой. Таня, правда, мы будем беречь перышко? Оно будет у нас волшебное.
Таня могла поправлять ее в делах кухонных и хозяйстве, но в таких беззаветно склонялась.
– Будем возить, моя радость. Мы его всюду с собой повезем и будем его любить.
Глеб передал женщинам маленький свой палладиум, и с Танею перышко следовало теперь всюду за ними. Побывало на Piazza delle Erbe, любовалось сутолокой, пестротой рынка, над которым скромно восстает мадонна, журчит фонтан и воздвигаются разноцветные дворцы. Подымалось за рекой в отвесные сады Джусти, откуда видна вся Ломбардия чуть ли не до Милана, и на другой день уехало с хозяевами в Венецию.
– Оно у нас чудное, – говорила Элли, разглаживая его нежным прикосновением. – Оно будут нам помогать, охранять нас.
Элли любила такие штуки. В заповедной шкатулочке везла с собой щепотку московской земли. («Когда умру, это со мной в могилку», – говорила Глебу.) Ехала с ними в коробочке и горсть флорентийской земли, память их молодости. Некогда на вилле Петрайя Элли в итальянской восторженности вдруг стала разрывать в саду землю и собирать в сумочку. Подошел старичок садовник, посмотрел не без удивления. На вопрос, для чего это, Элли ответила, что увозит с собой в Москву, на память: потому что любит Флоренцию. Старичок улыбнулся, сказал:
– Signora е molto entusiastica[47].
Так и странствовал этот прах, мелкий, серо-коричневый, в русской сумочке по русским землям, а теперь вот, в смиренном облике, возвратился на родину, рядом с московской землей.
* * *
Во Флоренции Таня не без удивления смотрела, как мать целовала бронзового кабана близ рынка. (А в молодости подвязала ему раз на морду ленточку.) Струйка кристально-хладной воды лилась из кабаньего зева, Элли смеялась, брызгала на Таню водой и сквозь смех даже слезы блистали в ее глазах под сентябрьским солнцем Флоренции.
– Он чудный, кабан, чудный, Таня – посмотри какой удивительный!
– Очень красивый, радость моя…
Таня была еще мала. Она выросла в том, что все, что делает или говорит «главная всей России» – необыкновенно и непредсказуемо. Так что удивление длилось минуту, а потом быстро все вошло в норму: если чудо мое восхищается, значит есть чем – духа критики в Тане еще не было, и хоть сама она кабана этого никак бы не поцеловала, все-таки восхищалась сейчас без затруднения: по доверию.
Глеб, как и Элли, находился в состоянии некоего блаженного полоумия: дня ему было мало, глаза неустанно глядели, ноги неустанно носили. Эти дни во Флоренции как бы повторяли для обоих времена молодости, как бы побеждали само время – побеждали и страшное пережитое российское.
Таня покорно ходила, покорно смотрела и одобряла, но утомлялась, и для нее это было, конечно, не то. И Глеб и Элли вполне понимали, что держать ее долго в таком мире нельзя.
И они тронулись на тихую жизнь в Барди, близ Генуи.
Рыбацкий этот поселок, на берегу моря открыли революционеры царских времен.
Некогда русский писатель поселился недалеко, в Сочи, вокруг него стали ютиться более молодые, так и отпочковалась некая горсть для Барди, понравившегося чудесным пляжем (редкость на генуэзском побережье), простотой рыбацкого населения, прелестью окружающих гор в лесах, мирно благоухавших. Немирные русские, вроде тех, что в бандитских шляпах разгуливали по Арбатам и чьи шрифты, прокламации прятала Элли у себя в московском диване – именно они и поселились среди Лигурийских рыбаков, понемногу привлекая к себе и других.
Глеб и Элли бывали здесь и до войны, Барди любили, как итальянское Прошино. Странный быт изгнанников был им знаком. Помнили «каторжную виллу»: высоко, в виноградниках и оливках, целая компания русских сняла большой дом – все они вместе бежали из Бутырской тюрьмы: времена довольно-таки простодушные! С ними бежала и их надзирательница. И над Барди, среди виноградников, пред дивным видом на море, основали они как бы коммуну. Только не трудовую. Трудиться не приходилось – их поддерживали со стороны, а они, как и все эмигранты в Барди, вели жизнь праздную, достаточно горестную и неврастеническую.
Но подошла революция. Сколько восторга, надежд! Барди опустело. Все, кто выжили – почти сплошь народники – уехали в Россию, сначала в опьянении успеха, а потом чтобы вновь познать прелесть борьбы с прежними своими соперниками по революции: но не такими противниками, совсем не такими, в каких прежде бросали бомбы. И Сибирь, лагеря, стенка вновь выросли перед ними в небывалых размерах.
Из прежнего населения Барди остался один Эдуард Романыч, давний знакомый Глеба и Элли, литератор-народник. С этим Эдуардом Романычем Глеб и списался. Он нанял им целый этаж в доме синьоры Джулии, несколько выше здания станции.
Джулия, полная и благодушная итальянская mamma, встретила их как своих, давно знакомых. По-настоящему знакома она и не была, но это russi, amici del signore Edoardo[48], русские же находились здесь вообще на хорошем счету: странные люди, конечно, но простые. Иногда шумные, много пьют, но вполне обходительные и часто добрые – такой же, приблизительно, взгляд был и у русских на обитателей Барди.
– Я помню синьору, – говорила Джулия, ласково блестя карими глазами, – еще до войны. Но тогда у синьоры не было дочери.
И отворив во втором этаже ключом дверь, ввела в просторную светлую квартиру окнами на дорогу, на станцию и за ней море.
– Ах, прелесть!
Элли чувствовала в себе самой кипение итальянской крови. В глазах, в улыбке синьоры Джулии было для нее нечто от собственной mamm'ы с Земляного вала. Море как будто бы ей принадлежало – в сиреневой его тишине был тот мир, какого и надо ей было. Когда Джулия привела ее в кухню, и, объясняя по хозяйству, отворила окно, выходившее в другой, горный, садовый и лесной мир, и оттуда потекло сладкое благоухание лимонных и апельсиновых дерев, смешанное с запахами овощей в огороде, а издали донеслось веяние смолистых лесов, Элли даже ослабела от блаженного ощущения отдыха и какого-то райского привета.
– Да, да, molto grazie[49],– бормотала бессмысленно, и не очень-то слушала объяснения Джулии, где шкафы для белья, где посуда, как затапливается плита. Это все не было важно. Но здесь Италия, а не герр Бунге. За небрежение кухонное тут никто не осудит.
Обзор хозяйства закончился указанием на укромное место – Джулия распахнула дверцу и перед некоим мраморным сидением с торжеством заявила:
– Latrina inglese![50]
Это была гордость виллы, недавно проведенная канализация. И в подтверждение слов мощно дернула она за рукоятку, мощный ток воды, как в фонтане Треви, вскипел в раковине и омыл каррарский мрамор.
Въехали и разместились быстро. Все пришлось сразу к месту, и уже через час и Элли, и Таня чувствовали себя дома. Глеб раскладывал свои книжки, рукописи. Таня поставила на комод с раковинками московский образок Николая Чудотворца, а рядом перышко из Вероны. Тут же, в коробочке, земля Москвы и Флоренции – все в порядке.
– Таня, у нас нет сахару! Пойдем, купим… тут где-то близко, я помню… такая лавочка, синьоры Кармелы.
– Идем, чудо мое.
Лавочка Кармелы оказалась действительно через дорогу.
– Погоди, Таня, как это по-итальянски? Ну, сахар, конечно, zucchera[51], вроде как по-немецки. А кусковой?
Таня скромно заметила, что по-итальянски еще ничего не знает.
– Ах, конечно, я просто сама стараюсь вспомнить…
И в момент, когда входили в лавочку, Элли вдруг просияла, – вспомнила, вспомнила!
Теперь Кармелы, некрасивой итальянки с усиками, уже не было. Ее дочь, тоже с тенью на верхней губе, приветливо им улыбалась.
– Signorina, prego… zucchera… in pezzi…[52]
От прилавка обернулась к ней лицом худенькая высокая девушка с миндалевидными темными глазами, тонким носом без переносицы, как на этрусских вазах. Когда увидела Элли и Таню, по лицу ее пробежало нечто, как бы тень облака, и когда тень прошла, открывая прошлое, вдруг сдавленным, приятным, но и неуверенным голосом она сказала:
– Elena?
– Мариуччиа! Это я, Elena, милая, мы опять здесь…
Пред глазами Кармелиной дочери Элли и Мариуччиа обнимались и целовались.
Да, это и была та тоненькая девочка Мариуччиа, что с давних времен приросла к русским. Жила некогда с бабкой, fratello[53] служил в Специи, а в конце концов просто она сиротка. Около наших народников прижилась, как бы дочь полка. Понимала по-русски. Некая Леечка выучила ее читать, она вовсе овладела языком, говорила лишь с милым итальянским акцентом. И забираясь на гору Сант Анна, пред сиреневым морем читала она вслух Леечке Толстого.
Глеб и Элли хорошо ее знали, одно время, когда Элли носила Таню во чреве, Мариуччиа даже служила у них, помогала на вилле. И теперь вот тут…
– Ну как? Что? Хорошо живешь? Замужем?
– No, no, Elena, cara…[54]
– Да ты по-русски ведь говорила?
Мариуччиа засмеялась.
– Да, прешде… теперь забивать стала.
– А это дочь моя, Таня, ты ее никогда не видала.
– Oh, che bella fanciulla…[55] А муш?
Элли подтвердила о Глебе.
Таня была смущена, но поняла, что ее одобряют. Мариуччиа со своим длинным и тонким носом, этрусским профилем ей очень понравилась.
Волнуясь, перебивая друг друга, перескакивая с одного на другое, бессвязно они болтали – Элли и Мариуччиа.
– Senta[56],– сказала, наконец Элли, – мы тут рядом у Джулии. Пойдем к нам, расскажешь про себя…
Мариуччиа подобрала свою сумку с покупками и сказала, что сейчас не может, должна идти кормить бабку – все еще она жива, хоть и полупарализована.
– А как можно будет, то сейчас же… vengo subito[57].
– Да, непременно. Слушай, Мариуччиа, а твой брат?
Мариуччиа опустила голову.
– Morto[58]. Убит на войне…
Голос ее дрогнул.
– Я одна теперь. Что поделаешь. Бабушка совсем старая. Не слышит. С ней почти нельзя говорить.
Она опять улыбнулась, как бы через силу. Кивнула Элли, загрубелой рукой нежно провела по голове Тани и быстрой, изящной, как бы древней походкой предков с этрусских ваз, удалилась.
Элли была взволнована. Барди точно бы раскрывалось. Выпускало былое. Ощущение это усилилось, когда, поднявшись к себе, увидала она в столовой Эдуарда Романыча.
– Батюшки! Вот чудно! Милый, здравствуйте… Это моя дочь.
Эдуард Романыч, маленький, волосатый старичок в чесучовом пиджачке, в очках, пожимал ей руку.
– Извините, что не встретил. Никак не мог, никак. Нельзя, даже для такого случая.
В Барди считался Эдуард Романыч вроде алхимика, колдуна и великого знатока болезней. Нынче ему пришлось идти за три километра в горы: девочка одна обварилась, он мазал ей маслом ножку и заговаривал ожог.
– Ничего не поделаешь. Знаете, туда в ущелье, наверх. Там одна casa[59] такая, синьоры Лукреции. Вот девчонка и дала маху, пришлось ее подправлять. Лукреция говорит: «Я докторам не верю, а вот если синьор Edoardo захочет, сразу бамбину вылечит».
Джулия, помогавшая нынче, для первого дня, обратилась к Элли.
– Синьор Edoardo очень хорошо помогает. У нас все его тут зовут.
Эдуард Романыч притворно хмурился.
– В Италии медицина не совсем на высоте. Посмотрели бы вы их деревенских врачей.
Джулия поставила фиаску темно-тяжеловатого Barolo[60]. Спагетти и курица, горгонзола из Генуи – все должно было согревать путников, подымать, веселить встречу. Оно так и вышло. Все были в духе. Даже Таня, трудней других привыкавшая к чужому, шепнула матери: «Мне тут очень нравится», – она всего не договаривала, да и не могла бы словами передать, но простота, простор, что-то домашнее в этой вилле казалось знакомым – не возводило ли незаметно и ко временам Прошина?
Глеб охотно вкушал Barolo и чокался с Эдуардом Романычем. Элли рассказывала, как она встретилась с Мариуччией.
– Хорошая девочка, – говорил Эдуард Романыч. – Нелегкая жизнь. В работе, в работе… Замуж не вышла, все с этой бабкой. Постоянно вспоминает наших русских, которые тут жили. Кажется… это лучшее было для нее время.
Разговор перешел на русских. Вспоминали общих знакомых, прежнюю жизнь. Эдуард Романыч стал волноваться, несколько пыхтеть. Бородавки на его лице русско-лигурийского колдуна и клочья небритой шерсти зашевелились в такт душевного возбуждения.
– Да, были, да… Не отрицаю. Люди были. Но вот революция… – ну, это Бог знает что, а не революция. Должно было быть все другое… А они все одурели, сейчас же домой бросились – этот будет министром, тот послом… Все пустяки. Вот теперь и населяют тундры севера.
То, что в Россию не возвратился, Ленину не поверил, Эдуард Романыч ставил себе в заслугу. Он всегда Ленина презирал, не за то, что тот был революционером, а за то, что революцию делал, не спросясь Эдуарда Романыча.
– Проходимец… над народничеством всегда издевался. Русского крестьянина… не понимал. Общину никогда не ценил. Вот его городам жрать сейчас и нечего. И приходится выдумывать разные нэпы…
Глеб спросил:
– Эдуард Романыч, вам в деревне подолгу приходилось жить?
Эдуард Романыч налил себе еще вина.
– Более в острогах проживал-с и ссылках. Да это неважно. Вовсе и не нужно жить в деревне, чтобы быть народником. Есть наука, есть статистика… есть политическая экономия. Наука утверждает, что победит община, как бы там разные марксисты ни шипели. А вот вы изволили как раз в деревне немало жить… если не ошибаюсь, в одной из центральных губерний? Как там народ? Наша партия?
Неожиданно вмешалась Элли.
– Эдуард Романыч, я в деревне голосовала за вашу партию…
Он одобрительно посопел.
– У нас Кимка был, работник. Болван страшный, но хороший малый. Когда началась война, он мне раз говорит: «Лена, Лена, знаешь… Италия такая… гы-ы-ы… ну, Италия… так тоже воевать начала… гы-ы…» А когда подошли выборы в Учредительное Собрание, спрашивает: «Лена, Лена, за кого будем подавать?» Я говорю: «За эсеров, Кимка, за номер третий». Он задумался, почесался. «А нам с тобой за это по шее не дадут?» – «Да кто же даст-то?» – «Да большевики… смотри, дадут нам по шее». Ну, мы все-таки за вас голосовали.
Глеб добавил:
– И никто по шее не дал. Так что при всей мудрости своей народной Кимка тут ошибся.
Эдуарду Романычу рассказ этот не весьма понравился. Он посапывал и тянул свое Barolo. Кое о чем, однако, и сам спросил, тоже остался недоволен. Выходило не совсем так, как ему нужно было.
– Во всяком случае статистика и политическая экономия сильнее случайных наблюдений. Община победит.
Разговор, однако, на общине не задержался. Итальянское солнце спокойно ушло за Тирренское море, к Генуе пролегли по нем серебряные дороги, фиаска понемногу пустела и предметы более мирные заняли внимание русских: Эдуард Романыч показал Тане камешки, которые он собирает на пляже. Это любимое его занятие и одно из немногих развлечений.
Тут он имел много больше успеха, чем с общиной. Не только Таня, но и Элли и Глеб ахали над изящными голышами – веками обтирали и облизывали их волны, веками шуршали они среди других своих сотоварищей по пляжу, и стихийный труд этот создавал из разных их пятен и прожилок иногда удивительные узоры, а то и целые рисунки – морду льва, лестницу, башню.
Таня воодушевилась.
– Эдуард Романыч, я тоже буду вам помогать. С завтрашнего же дня.
* * *
Глеб вышел с Эдуардом Романычем, вместе шли они в синеве ночи до поворота: Эдуарду Романычу вверх по тропинке, Глебу налево, к морю – он хотел побродить в одиночестве.
О, как знал он этот проход под насыпью, по которой проносятся поезда в Рим, Геную! Мягкий песок пляжа, где сначала нога как бы тонет, а потом привыкаешь, и дойдя до узкой полосы, атласящейся от вечных набегов волн, идешь по ее твердой, лоснящейся поверхности уже совсем вольно.
Глеб именно шел. Месяц стоял над Сестри, Венера в златисто-зеленоватой прозрачности клонилась к водам, ночь влажна и душиста. Мягко ухает море – все так же мягко, как и много лет назад, в другой жизни, когда впервые попал он в это Барди и вот так же, в благоуханной тишине ночи вышел к морю. Как смятенна была его душа! Как нуждалась в спокойствии и умиротворении! И как сразу же это мерцание звезд, аромат лесистых долин, запах моря и слабо-бухающий, довременный плеск его вдруг обняли, омыли, успокоили… Стало легче дышать, и вот он тогда так же шел, и на тоненькой кампаниле Барди, где позже он ггрочитал надпись: «Dominus det tibi fortitodineni»[61] – часы медленно стали бить, возвещая с высоты Божьего дома мир и благоволение всем душам, всем бедным, заблудшим и грешным, как и великим святым.
«Да, этого никогда не забыть…» Но сколько перемен! Вот в доме Джулии Таня завязывает косички, Элли ложится, а как легла и о чем думает сейчас мать в Прошине? Ксана, Прасковья Ивановна… Вот прошло больше года. А они все дальше заезжают, и эта Италия – лишь остановка. Там, за горами, за Альпами уж и Париж.
В комнате Кривоарбатского, заваленной чемоданами, Геннадий Андреич обнимает Элли. «Чудно бы во Флоренции встретиться…» – «Нет, голубчик, мы во Флоренции не встретимся…» И на другой день извозчик, увозящий мать в пролетке, огибает угол Плющихи и мать медленно уплывает с ним в пространство.
Возвращаясь домой, Глеб прошел несколько в сторону и подошел к церкви. На кампаниле, в свете высоко стоящего месяца, он разобрал надпись: «Dominus det tibi fortitudinem».
Тишина Барди
Сколько бы Элли ни увлекалась в юности Ибсенами, Гамсунами, российскими символистами, как бы ни ужасался тогда Геннадий Андреич, что вот она принадлежит к богеме и «декадентам-с», в ней сидел дух земель московских, русских предков, рода, семьи. С годами это росло. А за границей еще сильней проявилось. В России отец, мать, Земляной вал, сестры Анна и Лина и нисходящее потомство, неукоснительно разрастающееся. Все это ее мир, в нем она родилась и выросла, потому и менее замечала, пока была в Москве – как не замечает человек воздуха, которым дышит: воздух и воздух, так и надо. Когда же он заменяется другим…
В Германии слишком еще была занята новизной жизни, да и Россия казалась под боком, ну, уехали, Глеб отдохнет, оправится, в это время и дома многое переменится – можно будет вернуться, свободно работать. Так что все это – лишь некоторые каникулы. А свой, московско-семейный мир Земляного вала всегда с ней и разрыва нет.
Все-таки и тогда переписывалась она с домом жадно, главнейшее с Анной. А теперь, основавшись более оседло, первым делом занялась письмами в Москву – матери, отцу. Писала быстро, восторженно, фразы мчались, обгоняя друг друга. Глеб, Таня, Италия, Барди… – тот самый отец, с которым раньше и ссорилась, и которого в детстве боялась, теперь придвинулся, да, это всегда свой, кровный и настоящий. Вот Анна пишет, что ее старшая, Лизочка, уже замужем, скоро будет младенец, у Лины тоже не сегодня-завтра внуки, все это и восходит к отцу с его монетами и печатями, к матери и небесным ее глазам. Являлась у Элли и некая семейная гордость.
– Мой отец очень известный нумизмат, – говорила она Эдуарду Романычу, бывавшему у них постоянно. – Его знают и европейские ученые, а про Москву и говорить нечего.
Эдуард Романыч набивал табачком гильзу из вековой интеллигентской машинки, приехавшей еще из России, совершенно такой же, какой отец Глеба набивал свои папиросы в Прошине.
– Нумизматика, археология… почтенно, но далеко от жизни. К живой жизни русского крестьянства не имеет отношения.
– А что же, чтобы все общиной вашей занимались?
Эдуард Романыч придерживал желтыми от табака пальцами папироску, мрачно ею попыхивал.
– Община не моя, а российская. Россия крестьянская страна… социальный вопрос все равно впереди всего, а в России приводит он тотчас к общине.
Элли к общине была вполне равнодушна. Но сочла, что нечто тут задевает отца, рассердилась.
– А по-моему, мужики только и хотят каждый иметь свое, какая там община.
Тут он запыхтел уже не без грозности.
– Об общине вы знаете мало. А если бы были осведомлены в специальной литературе, то…
– Какая там специальная литература? Я сама годы в деревне жила…
Стычка могла бы быть бурной, но вот входит Таня.
– Эдуард Романыч, какая завтра будет погода?
Он побуркивает еще, но при виде Тани смягчается. Она поклонница его камешков приморских, восторгается сама и даже недавно подарила ему довольно ценный образец.
– Погода, погода… Я разве предсказатель?
– Мне Мариуччиа говорила, что вы все знаете. Вы как-то по луне, по облакам, по ветру высчитываете… А мне бы хотелось, чтобы завтра хорошо было – Мариуччиа обещала свести в горы.
Он подходит к окну, посвистывает, рассматривает море, белые барашки на нем, садящееся солнце.
– Когда Корсика на закате видна, значит, завтра хорошая погода…
Отворяют окно настежь, облитые нежным закатным огнем, ищут в вечернем ветерке Корсику.
– Вон она, вижу…
Таня видит, действительно, в эфирной дали полупрозрачный силуэт – не то горы, не то замки – еще какой-то новый волшебный мир, кроме особенного этого, полного уже вечернего благоухания апельсинных рощ и тихих лесов по ущельям Барди, в одно из которых, в гости к синьоре Лукреции, поведет завтра Таню Мариуччиа. Ну, вот и слава Богу, что хорошая погода.
* * *
Элли и Мариуччиа сидят на высокой скале над дорогою в Сестри. Место это называется Сант Анна. Некогда тут был монастырек, близ древней римской тропы-дороги: по ней шествовали мулы легионов с поклажей в Галлию.
Сейчас тут лес, благоухание, тихий гул, звон в вершинах сосен, солнце. Мелкие ящерицы по камням на припеке, и перед глазами, как туманно сияющая бездна – море. Оно дышит смутно. Как будто само входит в воздух, сливается эфирною своею синью с ним, под солнцем же местами блестит белым, как снеговое поле.
– Под этой пинией, Elena, я любила сидеть с Леей… Мы тут читали вместе. Она мне рассказывала о вашей стране. Она была худенькая такая… хорошая, и как это по-русски: una еbrea?[62]
– Еврейка.
Элли вздохнула.
– Мариуччиа, как у вас тут прекрасно… Да, прекрасно, но вот мне сейчас грустно… не знаю сама. Все о своих думаю, там, в России. А тебе бывает иногда грустно?
Мариуччиа подняла на нее огромные, продолговатые глаза.
– Мне, Elena, всегда грустно. Вот я и вспоминаю… вот, что раньше было. Лею вспомнила. Ах, я рада, что с вами опять встретилась.
Мариуччиа опустила голову. Предвечернее солнце обрисовало на камне тонкую тень ее носа.
– Elena, я ведь совсем одна.
Элли полуобняла ее, поцеловала в белую полоску посредине головы, узенькую, ровно разделявшую смоляно-черные, гладко причесанные и блестевшие волосы.
– Мать тоже умерла?
– Si[63]. Когда узнала, что убит figlio…[64] Она, она… Мариуччиа спрятала лицо на плече Элли.
– Как прочитала телёграмму… побледнела и… eccola morta. Subito.[65]
Она откинулась немного, как бы изображая: вот так мать умирала.
Элли гладила ей на голове волосы.
– Ты всегда была ласковая, Elena. Ты, как это сказать по-русски: светлая? Ну, come il sole[66].
И неожиданно поцеловала она ей руку.
– Я отлично помню и тебя, и too marito[67]. Но тогда вы приезжали сюда будто в гости. А теперь… emigranti?[68]
Элли стала рассказывать. Мариуччиа понемногу успокоилась. Но задумчивость продолжала ее осенять, как на них самих надвинулись удлинившиеся тени сосен.
Мариуччиа будто о чем-то думала. Потом тихо спросила:
– Значит, ты оставила там, a Mosca, всех родных? И Glieb тоже?
– И Глеб.
Мариуччиа подняла на Элли темнеющие свои, с влажным блеском глаза.
– А тебе не было страшно?
Элли слегка смутилась.
– Как страшно? Почему?
– Sono molto vecchi…[69] старые. А если без вас умрут?
– Мы ведь надеемся вернуться.
Элли произнесла именно это, и уста ее лучше говорили, чем сердце. Хотелось еще что-то добавить словами, увязать сердце покрепче, чтобы вернее было.
– Да, да, ты понимаешь… как сейчас в России. Невозможно. Глебу там нельзя писать, пока не изменится, нельзя.
И она почувствовала, что дело крепче. Стала рассказывать, какая в России жизнь, что происходит. Мариуччиа лежала теперь на спине, закинув руки под голову. Слушала внимательно.
– Non c'e liberta…[70] – a Lea говорила тогда, что они стараются, чтобы в России была свобода. Значит, не удалось, Elena?
– Не удалось. Из тех, прежних, многие как раз погибли или оказались в ссылке.
– A Lea жива?
– Не знаю. Может быть, Эдуард Романыч знает. Он из одной с ней партии.
Мариуччиа усмехнулась.
– Signor Edoardo…[71]
– Ты чего это? Он особенный, но достойный человек.
– Я знаю, – скромно ответила Мариуччиа. – Конечно.
Потом вдруг поднялась и уже сидя, глядя на Элли прямыми, без всякого лукавства глазами, в которых опять была грусть, добавила:
– Не люблю его. No, Elena[72], я его не люблю.
Элли несколько удивилась.
– За что же?
– Гордый. Очень. Я его знаю. Почти одним хлебом и чаем питается – ему чай присылают da Parigi[73], у него там друг. А от нас, здешних, ничего не возьмет.
Дочь полка знала все. С детских лет, когда мать еще была жива, помнила она этого signore Edoardo, так же, как теперь, жил он в той же пыльной комнате у синьоры Марты, вдовы рыбака, высоко над Барди, средь оливковых деревьев.
– Когда я была девочкой, он дарил мне такие же камешки, как теперь твоей Tania. Он не похож на других, е vero[74], я его не совсем понимаю.
– А ты Глеба моего понимаешь?
Длинные глаза Мариуччи выразили некое замешательство, смесь смущения и сочувствия. Она даже слегка покраснела.
– Русские все писатели. Я их много видела.
Элли улыбнулась.
– И все чудаки?
– Нет, Elena, я не то говорю.
Она опять полуобняла Элли, посмотрела на нее долгим взглядом.
– Я тоже тебя… е tuo marito[75] давно знаю, но это другое. Elena, я вас всегда… вы уж будто родные. A signore Edoardo – другое. Он… конечно… но он вроде stregone[76].
– Колдун?
– У нас некоторые так говорят. Но я не верю. Не колдун, а колючий, еж…
Элли вспомнила заросшую, в буграх и клочковатостях голову Эдуарда Романыча, его маленькую сутулую фигурку, нескладность и действительно какую-то шершавость – и засмеялась.
– То колдун, то еж…
– Наши девушки ходят к нему гадать, он карты хорошо раскладывает, но его все боятся.
– Очень уж вы робки, ragazz'ы[77]. А вот погоди, к нам приедет Ника с женой, увидишь еще русских и тоже, пожалуй, скажешь, что они stregoni.
Мариуччиа замолчала, несколько была смущена. Не слишком ли много наболтала? Про русских, про signore Edoardo?
Они вскоре поднялись и по старой римской дороге, а потом просто по тропинке чрез оливковую рощу с серо-змееобразными стволами в буграх и мелкой серебристой листвой спустились вниз к Барди.
Здесь вечер сильней чувствовался. Солнце уж за горой, глубокие тени на прибрежных скалах и весь пляж в тени, и линия железной дороги. В клубе белого дыма резво катил в Рим экспресс. У переезда шоссе женщина с огромным животом подняла флажок и опустила шлагбаум – перед ним остановился ослик в двуколке с худым стариком в соломенной шляпе.
Поезд весело прогрохотал и влетел в туннель, откуда медленно стал выходить потом дым, как из ружейного ствола после выстрела.
Мариуччиа простилась с Элли: надо идти к бабке. Элли же, не доходя до своего дома, издали увидала Глеба и Таню. Они, видимо, возвращались с пляжа.
Таня тряхнула косичками, побежала к ней.
– Радость моя, без тебя телеграмма: завтра приезжают Ника и Марина.
Глеб сидел на скалах, недалеко от пляжа. Рядом туннель и дорога в Сестри. Внизу волны играли – набегали и отпрядывали, оставляя белый узор-кайму. А сами, зеленые и прозрачные, охватывали в лобзании прощальном все неровности, шишки, ложбинки камней этих, некогда свергшихся с гор, а теперь мирно лежавших – русские часто на них сидели.
Но скатилась волна, а потом вновь как ухнет! – тут уж белые брызги фонтаном. Да еще это сентябрь, в ноябре так будет заливать дорогу, что и не пройти по ней в Сестри.
Нынче теплый вечер, облачный. Море покойное, серо-сиреневое. Корсики не видать.
Утром Глеб получил письмо из Москвы, от приятеля. Читал уже его, сейчас перечитывает.
Приятель провел часть лета в Прошине – мать, которую все называют, как и прежде, «бабушка», все еще живет там, даже в прежнем доме. «Бабушка все такая же, то есть изумительная. Здорова, бодра, бесконечно хлопочет по хозяйству и не поддается ни на какие уговоры – хоть сколько-нибудь передохнуть. Во флигеле теперь изба-читальня, летом пустовавшая. В цветнике были цветы, дорожки расчищены, по-прежнему перед главным балконом шар. А другая терраса, деревянная, почти завалилась. Там нельзя уже пить чай, как прежде…»
Да, терраса, утренний чай. Теперь завалилась, да и все завалится, это уж так. На террасе этой по утрам отец пил чай, курил, читал Диккенса или Щедрина, хохотал над ними до слез и закладывал страницу спичкой, чтобы не забыть, где остановился. «А то придется опять перечитывать все с начала». На Глебовы именины на этой террасе к обеду подавали пирог, индюшку, являлась и бутылка шампанского. Приезжали приятели из Москвы. И вот пишет-то это как раз один из уцелевших.
Мать, слава Богу, здорова. А лет ей уж много, клонит к восьмидесяти. Он иногда видит ее во сне. Но не так, как изображено в письме. Не в этом простом жизненном тоне. Во сне и она, и все Прошино погружены в печаль. Все как будто на месте, и дом, и флигель, но и все в мертвом запустении. Мать, с палочкой, в зимней бобровой шапке безмолвно проходит мимо амбара, останавливается, опять куда-то бредет. Да, уж конечно сон, а все-таки и другой мир, все будто с того света.
Сны эти действовали на Глеба довольно сильно. Отец ушел вовремя, на своей постели скончался еще в Прошине. А мать… – Как о ней не думать? Иногда начинал он даже впадать в фантазии – как бы ее сюда выписать, если они останутся за границей долго.
Но сейчас в это не стал вдаваться. Вдалеке, на пляже, видны несколько рыбаков, Таня и Ника разговаривают с ними. «Рыбу, наверно, вышли покупать, только что пойманную…»
Он подымается, спрятав письмо в карман, медленно идет вниз по тропинке и потом по пляжу, по твердой атласной полоске у самой воды, с ракушками, медузами, всяким морским добром.
Рыбаки отплывают. Босоногий юноша отпихнул лодку от берега и, пробежав несколько шагов по кипуче-набегавшей волне, вскочил на корму. Другие два ставили в это время парус – оранжевый в заплатах. Чуть поколыхиваясь, двинулось суденышко, подобно тем, вечным, на Генисаретском озере, в простодушный путь к Сестри. Кое-что выловили, кое-что продали, и домой.
Ника и Таня не видали Глеба. Они шли по прибрежью вдаль. У Тани в руке маленькое ведерко, она им слегка помахивает. Вдруг они подхватились, болтая что-то веселое, побежали вдоль прибоя, по твердому песку. Потом Таня остановилась, взмахнула ведерком и выплеснула из него что-то в море. Ника, худенький, элегантный, в светлых штанах, с тонкою длинной шеей, выходившей из отложного воротника рубашки (что давало ему вполне юношеский вид), вдруг присел и на согнутых коленах, страшно загребая вперед руками, обошел два раза вокруг Тани – это называлось у них ходить драконом. Вряд ли в эйритмии доктора Штейнера такой номер существовал. Он являлся собственным творчеством Ники – выражал добро-восторженное состояние его духа.
Теперь они Глеба увидели. Таня со всех ног к нему бросилась.
– Папа, ты нас застал на месте преступления!
Но у нее был такой веселый вид, что на криминал походило мало.
Глеб улыбался.
– Что такое? Почему Ника вытанцовывает?
– Да ты понимаешь… Мариуччиа поручила нам купить рыбы у рыбаков, она там дома сейчас готовит. Мы и купили, а рыбки начали плескаться в ведре, нам стало жалко… их сейчас жарить начнут, или варить. Я говорю Нике: «А если мы их назад, в море? Ты как думаешь?» Он даже обрадовался, говорит: отлично, мне самому жалко. Бросай скорей, чтоб никто не увидел. Я и бросила. А ты как раз и увидел.
Подошел Ника и сделал Глебу некий приветно-торжественный знак рукою.
– Рыбы возвращены морю по голосу сердца ребенка. Приветствую стихию моря!
И он воздел над ним руки, как бы вступая в тайнодействие. Глеб обнял Таню.
– Вон рыбы ваши, наверно, знакомым теперь рассказывают, как было страшно, когда их поймали и кинули в ведерко.
Дома Мариуччиа действительно занималась на кухне – Элли и Марина сидели в Марининой комнате и разговаривали.
– Е dove sono pesci?[78] – спросила Мариуччиа.
– Niente pesci[79],– слегка разводя руками, ответил Ника.
– Мариуччиа, – сказал Глеб, – тебе придется сходить к Кармеле, взять… ну, ветчины, что ли, или спагетти, чего там вздумаешь. Они знаешь что сделали – вот эти две фигуры: рыбу купили, а потом пожалели и выпустили. Прямо так в море и бросили…
– Santa Maria! Tania, правда, e vero?[80]
– Мариученька, я сама схожу к Кармеле, папа даст денег. Ника вынул пачку лир.
– Ессо denari…[81]
И направился к себе в комнату. Там лежала на письменном столе кипа листков – он писал нечто мистико-философчиеское в штейнерианском духе.
Мариуччиа, оправившись слегка от итальянского остолбенения скромной девушки, для которой каждое сольдо ценно («выбросили в море!»), будто вспомнила что-то давнишнее, полузабытое, улыбнулась, вздохнула.
– Russi, russi…[82]
И вместе с Таней, по мраморной лестнице мимо кабинетика с седалищем из каррарского же мрамора, побежала к Кармеле восстанавливать положение.
* * *
Элли и Марина подымались по тропинке. Она шла зигзагами – вправо, влево, иногда прямо вверх. Из-под плит ступеней пробивалась кой-где травка. За невысокой оградой, местами и развалившейся, тянулись серо-блестящие оливки. По тропинке этой ходили некогда мулы, нагруженные корзинами с тучной землей, – на каменистую почву упорно выгружали ее, и вот теперь на подсыпанных террасах то ли огороды, то ли виноградники: все это многолетний труд.
Кой-где навоз дымился еще, пестрели тряпочки в мусоре – удобрение с генуэзских фабрик. Пахло чем-то острым. В других местах виноградные гроздья свешивались за ограду. Их можно бы и срывать проходящим, здесь это дозволяется. Но ни Элли, ни Марина о винограде не думали: постоянно его ели.
– Высоко живет колдун, – сказала Марина, слегка задохнувшись. – Погоди, переведем дух. Ты знаешь, при моей склонности к туберкулезу и слабом сердце…
Остановились на небольшой площадке. Марина прислонилась к парапету, спиной к горе.
– Море, море! Прелестно…
Сквозь мелкий узор листьев оливковых, а правее и совсем открытое, лежало внизу море, тихо серебрясь, сияя беззвучным струением. Серые, большие и выпуклые, кругловатые, как нередко у полек, глаза Марины трепетали – некоей нервностью.
– Очаровательная страна, но и странная. Вы, русские, очень ее любите, я знаю, да и мы, впрочем.
Марина все это время была в непокойном, тревожном настроении. Все представлялось ей в жизненном ее устройстве не совсем правильным, и с Никой не весьма налажено – она была за ним вторым браком – теперь ей казалось, что это из-за того, что у нее нет детей. Скучала и по концертам, музыке. Конечно, Ника хочет работать, писать, ему тут удобно, но Барди дыра, даже рояля хорошего у Джулии нет. В Сестри убогое синема…
– Странная страна, – повторила она с оттенком нетерпения. – Подумать, у Ники все бумаги в порядке, а мы лезем на эту кручу к stregone[83].
Элли засмеялась.
– Не сердись, Марина, влезешь.
Элли знала ее хорошо. И была уверена, что ничего у ней нет ни с сердцем, ни по части туберкулеза. Просто живое воображение и мнительность.
– Италия есть Италия. Эдуард Романыч здесь живет годы, его действительно все знают – и в Сестри, и в Киавари. Мы сейчас придем, он будет очень рад тебе помочь. Не спорь только с ним об общине. Это его злит.
– Мне, золотко, до вашей общины никакого дела нет. «Вашей» значило русской. К русским относилась Марина со своей польской высоты несколько пренебрежительно. Она считала себя «европейской» женщиной.
«Casa»[84] Марты, вдовы рыбака, находилась теперь в двух шагах. Такая же давняя, благородно-ветшающая, как и разбросанные кое-где здесь другие лигурийские cas'ы.
Все-таки два этажа, двор с курами и девчонкой, робко указавшей древнюю лесенку, по которой они поднялись, постучали в древнюю дверь. Да, тут жилье Эдуарда Романыча.
Комната поклонника общины тоже ветхая и не без пыли. Много книг, пачки газет, журналы. Деревянный стол, на котором брошюры и машинка для набивания папирос, просыпанный табак, раковинки и обласканные морем голыши. У старой чернильницы порыжелая от годов ручка пера.
Хозяин, в люстриновом пиджачке, поднялся на стук – такой же сморщенный и волосато-клочковатый.
– Очень рад…
Он и действительно был рад. Не так легко оказалось усадить пришедших, но и это устроилось. Два шатких стульчика все-таки нашлись, сам же он приладился, именно притулился с папироскою во рту (в комнате и так накурено, душно) на краешке аскетической постели.
Марина огляделась.
– Тут у вас по-особенному…
Эдуард Романыч молчал, покуривал, рассматривал ее. К Элли он уж привык. Считал хоть и фантазеркой, и неосновательной, но давно ее знал, будто своя. А эта нарядная дама, тоже нервная, но по-другому, со своими браслетами, кольцами, запахом дорогих духов и слегка капризным, если не сказать, надменным выражением выпуклых глаз казалась ему тоже не совсем обычной рядом с его старыми газетами.
– Вы уж меня извините, что побеспокоила не предупредивши. Элли сказала, что можно. У меня к вам маленькое дело. Я просительница.
Эдуард Романыч сочувственно наклонил голову.
– Представьте, мой муж получает из Дании от отца деньги. Едет в банк в Киавари, показывает паспорт, ему говорят: это, конечно, так, но мы вам все-таки по чеку не выдадим. Вы иностранец, приезжий, фамилия трудная – мы вас не знаем.
Эдуард Романыч улыбнулся.
– Обыкновенная история. Не роман Гончарова, а повседневность здешняя-с…
Марина закипала. В живом ее воображении вновь возникала сцена в Киавари, когда Ника смущенно мялся перед чиновником, путал слова и, заплетаясь, пытался доказать, что он именно и есть тот, о ком говорит чек. Чиновник же уперся и ни с места.
– Обыкновенная… мне дела нет до Гончарова, но ведь денег он нам не выдал. Хороша обыкновенная… Наконец, говорит: «А-а, вы из Барди… Да, знаю, там всегда русские жили. И там есть один такой… signor Edoardo. Его мы отлично знаем. Если он подтвердит, что вы действительно signor Bar-te-ni-ev, тогда выдадим. А так нельзя. Ведь и сумма большая – тридцать тысяч лир!» Вот какие у вас тут порядки. Так что приходится вас беспокоить…
– Видите, Эдуард Романыч, какой вы могущественный, – сказала Элли. – Вас на всем побережье знают и вон как ваше слово расценивают.
Эдуард Романыч вынул изо рта папиросу. Легкая краска проступила на его лице. Не желая выдавать чувств, он сказал преувеличение мрачно:
– Не первый случай. Когда наших тут было много… и получались переводы, меня не раз в Киавари возили. Помните – он обратился к Элли: у нас был такой… Косарев, тоже наш, хороший товарищ. Но вы над ним почему-то смеялись… хм-м… и звали Кобыльей головой.
– Помню. Я на него раз из второго этажа водой плеснула, мы были тогда молоды и всякие глупости устраивали. Я думала так, пошутить, брызнуть, а вышло, что здорово его облила, он даже обозлился.
– Вот, вот, Кобылья голова. Ему особенно не везло. Как из Парижа деньги, так чиновник не верит, что он Косарев… именно скорее за Кобылью голову считает, как и вы тогда полагали. Значит, подавайте сюда Эдуарда Романыча, для удостоверения личности. А он был серьезный член партии, верный товарищ.
«И в общину твердо верил», – чуть было не сказала Элли, но вовремя спохватилась.
Эдуард Романыч, конечно, охотно согласился доказать свое могущество.
– Мы возьмем хорошую коляску, отвезем вас с удобствами в Киавари, позавтракаем там…
– Это все несущественно. Это неважно-с…
Марина немножко отошла. Другой ветер подул в существе ее, вдруг стало казаться, что все хорошо, даже это логово отшельника с книгами, камушками, ракушками. Она попросила показать камушки. Он стал выкладывать свои коллекции.
– Этот особенно ценю: видите, на нем вырисовалась как будто японочка с зонтиком. Ведь это игра волн и трение голышей-с! В собрании моем номер первый.
Он пыхтел, клочковатости на лице его задвигались, он оживился и начались мечтания: коллекция его драгоценна; он продаст ее американцам за большие деньги, уедет в Париж и там издаст свою книгу об общине.
Элли знала все это наизусть – книгу он пишет годы и всегда переделывает и всем рассказывает, но толку никакого. Глеб весьма даже подозревал, что вообще книга – миф, дающий ему возможность жить – груда бессвязных листочков, мелко и неразборчиво написанных. Не зря Мариуччиа считает, что все русские – писатели.
Сейчас в голове Элли было другое. Она чувствовала это, но не сознавала ясно. И только когда, поблагодарив, собрались уходить, вдруг спросила:
– А вы знаете что-нибудь о Кобыльей голове? Что он? Как?
Лицо Эдуарда Романыча изменилось.
– Знаю.
– Что же?
– Он имел глупость уехать в Россию. Вы вот верующая… в церковь ходите. Так поставьте свечку за упокой души раба Божия Василия.
Элли глухо спросила:
– Как же это случилось?
– По нашим сведениям-с, – холодно ответил Эдуард Романыч, он вначале занимал какой-то «пост», а потом его нашли неподходящим, заподозрили и вывели в расход. Дело простое.
Спускаться от Эдуарда Романыча было гораздо легче, чем к нему подыматься. Спускались в обратных настроениях: Марина в нервном, почти веселая, Элли помалкивала. Уже близ виллы Джулии, проходя мимо неказистого двухэтажного дома с закрытыми сейчас ставнями, она сказала в задумчивости:
– Тут мы и жили с Глебом тогда… Еще и Танюши на свете не было. Из этого окна, из озорства, я и плеснула водой на Кобылью голову.
Когда подымались к себе наверх, по насыпи за дорогой пролетал, гремя, римский экспресс. В тишину Барди внес он свою обычную бурю, мелькая роскошными вагонами, рестораном. Элли вошла в столовую. Промелькнул последний вагон с надписью: «Roma-Parigi». В полуоткрытую дверь в комнату Ники видно было, как Ника, вскочив из-за стола, в такт бега поезда выбивал ногами дробь, барабанил пальцами по столу и прикрикивал-подпевал:
Яро мчится дирета-ч-ч-ио, Диретанан-идра-ка-ка-ччио! Яро мчится диретиссимо, Диретанандра-ка-киссимо!Марина махнула рукой.
– Что с вами русскими поделаешь! На каждый поезд вскакивает и приветствует своей чепухой, с Таней рыб в море обратно пускает…
Элли улыбалась.
– Оставь, он чудный у тебя.
– Да уж конечно, раз стихи пишет и занимается философией, надо что-нибудь такое вытворять.
Элли прошла к себе в комнату, по другую сторону столовой.
Благословенный свет наполнял ее, лился из открытых окон вместе с благоуханьем апельсиновых, лимонных рощ – это был тот свет Италии, который всегда пробуждал в Элли волнение и восторженность.
У комода со всякими безделушками, с фотографиями родных Джулии в рамках из раковинок, Таня стояла с метелочкой, перебирая мелочи, смахивая пыль. На лице ее была тихая улыбка.
– Радость моя, я как раз перед твоим приходом вынимала из чашечки папино перышко, которое в Вероне на козлика нашего спустилось. Я его поцеловала, обмахнула и опять поставила, и вот даже под этот стеклянный колпак, видишь, где Джулиины бронзовые часы – пусть под колпаком хранится, а то Мариуччиа будет убирать комнаты, по ошибке и выбросит.
Элли обняла ее.
– Храни, храни. Люби нашего Книгеля. Таня засмеялась.
– Это я его так называла, когда маленькая еще была, в Прошине. А ты знаешь, мы сегодня с Мариуччией ходили на кладбище, там ее мама похоронена. Она плакала на могилке. А потом сказала, что у них первого ноября праздник Всех Святых, и у кого близкие на кладбище, то на могилках вечером зажигают свечи, цветы приносят, сидят – будто в гостях у своих. И недалеко показала могилку, говорит: Tania (знаешь, она не может хорошо выговорить наше я), тут один русский похоронен, это давно было, но твоя mamma, наверно, помнит, она как раз тогда тут жила.
– Помню… нет, не при нас, но мы скоро потом сюда приехали, и все говорили об этом. Он, кажется, утонул?
– Да, купался, утонул.
Таня прижалась слегка к матери.
– Он там один лежит. Мариуччиа сказала: к нему никто не приходит. Эдуард Романыч знал его, но он ничего этого не любит, а больше никого нет.
Таня помолчала.
– Его звали Антон. Он был из простых. Вроде рабочего. Я за него молиться буду… что ж он, так один. А еще, знаешь: в этот день, Всех Святых, пойдем к нему в гости. Снесем цветов, свечечки зажжем.
Элли слушала молча. Потом вскочила, обняла ее и поцеловала.
– Пойдем. Зажжем.
Свет вливался эфирной влагой, его волны втекали из окон, наполняли, переполняли комнату виллы Джулии. На глазах Элли блестели слезы.
* * *
Так, медленно и незаметно, из вседневных малых событий, слагалась жизнь их теперь, в этом Барди – таинственная ткань, которая с таким же постоянством, в разных направлениях прядется и для всех людей, пока дано им видеть свет Божьего дня. В Прошине были у матери в это время свои заботы и свои одинокие дни, в музее у Геннадия Андреича другие, а для Глеба, Элли, Ники и Марины на мирном побережье генуэзском третьи.
Взгляд Мариуччии на русских («все – писатели») подтверждался. Слева от столовой, в комнате с окнами на море, строчил Ника. Справа, с окнами вдоль дороги и на горы, Глеб. Но не так упорен был, как Ника, занимался лишь до завтрака. Ника тоже прерывал труд к часу дня, выходил худенький, побледневший, наскоро глотал что надо, острил в духе Владимира Соловьева (т. е. несмешно, но сам радовался), и пока Глеб еще утешался красным вином, горгонзолой и фруктами, убегал вновь к столу, на котором кипа листков росла с каждым днем.
Путешествие в Киавари оказалось удачным. Эдуард Романыч хмуро сидел в коляске рядом с Мариной – Ника напротив на скамеечке, как ученик. В банке все обошлось сразу хорошо. «Ah! Signor Edoardo, come sta? Sta bene? Anch'io, grazie. Sono i suoi amici? A, tanto meglio…»[85] – на этот раз не спросили даже документов. («Е amico del signor Edoardo»[86]…). Марина была в восторге. Забрав у Ники половину денег, тут же угостила signor Edoardo завтраком в хорошем ресторане с polio arrosto[87]и бутылкою Asti. Тут же клятвенно обещала теплый зимний жилет. А на обратном пути, когда проезжали мимо воспитательного дома, велела извозчику остановиться, долго осматривала здание, восхищалась белыми младенцами-пеленашками на голубом эмалевом фоне над входною дверью – вечные медальоны della Robbia – и остальную дорогу, до дому, была задумчива.
Пеленышки эти произвели в ней некий перелом. Не первый уже день, тоскуя, что у ней нет ребенка, мечтала она взять приемную дочь – именно девочку, ангельски-евангельского ребенка (в Евангелии, смутно помнила, очень восхвалялись дети).
А теперь эти изящные медальоны. И надо же так, что проезжали как раз мимо них! Нет, не зря – указание. Из высших духовных сфер подаются знаки.
Вернувшись домой, она почти и забыла о всей истории с банком – какие пустяки! Есть кое-что поважнее. О чем бы ни заговаривала с Элли, сводила на это. О чем бы сама ни думала, кончалось тем, что девочка, очевидно, должна быть итальяночкой – черноглазый ангел, которому она даст отличное и воспитание, и образование.
Ника отнесся к предприятию туманно. Мало занял был подобным – у него свое дело.
– Да, конечно! Как хочешь… странно немного… итальянская девочка.
Потом вдруг вскочил и оживился.
– Знаешь, как в анекдоте, приглашает к себе в гости: «зову, но не настаиваю…».
Ему очень это понравилось, он дико захохотал и, пройдясь драконом, все повторял:
– Но не настаиваю! Не настаиваю!
Марина осталась недовольна. («Ах, эти русские!») Но у Элли имела еще менее успеха. Элли в молодости сама была склонна к сумасбродствам, но сейчас вдруг проснулся в ней здравый смысл колесниковско-владимирской крови.
– Знаешь, Марина, это все чушь. Выдумки.
Тут уж Марина рассердилась, а потом и заплакала. («Ты мой друг, а меня не поддерживаешь».) Но Элли все-таки не поддержала. И Марина дулась на нее. От намерения же не отказалась и решила написать старой русской даме антропософке, одной из помощниц доктора в Дорнахе. Вот как она скажет, так и будет.
Но дома не отвечала, время шло, Марина совсем изнервничалась. Наконец, решила во что бы то ни стало ехать в Киавари в воспитательный дом.
Опять коляска, пара лошадей, опять путешествие по приморской дороге на Лаванью, мимо октябрьского, белокипящего прибоем моря. Только вместо signore Edoardo – Глеб рядом с Мариной, а Ника опять мальчиком напротив на скамейке.
Когда переезжали по мосту в Лаванье через реку, здесь впадающую в море, Глеб сказал:
– Это Энтелла. Река Энтелла. Упоминается в «Божественной комедии».
Марина рассеянно, нервно слушала.
– Энтелла… да, «Божественная комедия»… Данте, конечно, был посвященный.
Ника встрепенулся на своей скамеечке.
– Как и Рафаэль.
В приемной воспитательного дома встретили их вежливо. Но не без удивления. Пуская в ход весь свой итальянский арсенал, Глеб объяснил, в чем дело. Их повели к директору. В другой приемной, более обширной и довольно сумрачной, они ждали несколько минут. Наконец, вышел доктор, немолодой и серьезный итальянец – Глеб опять рассказал, в чем дело. Постарался изобразить так, что вот люди со средствами, бездетные, хотят взять и хорошо устроить как собственного ребенка – впоследствии он получит наследство.
Глеб сам на себя удивлялся. По-итальянски говорил вообще плохо, но тут разошелся. Почему собственно, неизвестно. Все предприятие казалось ему авантюрой, но этот странный театр, полусумеречная комната старинного дома в мало кому ведомом городке Киавари, серьезное лицо доктора – все было необычно, точно на сцене, и Глеб, на чужом, но милом ему языке, в необычных обстоятельствах, ощутил даже некое вдохновение. Ему захотелось убедить! – редкий для него случай.
Доктор слушал внимательно. А когда Глеб кончил, сказал тихо, любезно и непреклонно: «Это совершенно невозможно. По закону мы можем отдавать детей только итальянским подданным, и при условии, что взявший живет в Италии».
После краткого молчания, неопределенных полувозгласов, полувздохов, оставалось только подняться и раскланяться.
Назад ехали в ином настроении. Марина молчала – явно была расстроена. Глеб же и Ника помалкивали загадочно-весело. Когда подъезжали к реке, Ника вдруг сказал:
– Вот опять и Энтелла, до которой ни нам, ни Данте нет делла!
И захохотал. Марина гневно на него взглянула.
– Вечные дурацкие остроты!
«Ничего, – думал Глеб, – скоро будет Барди, позавтракаем, все пойдет и спокойно, и правильно».
Когда подъезжали к вилле Джулии, из окна высунулась Таня.
– Козлик, где же bambina?[88]
– Niente bamaina[89],– весело крикнул Ника, выскочил из экипажа расплачиваться.
В тот же день, к вечеру, подали телеграмму из Дорнаха:
– «Dievotchke otdajitess».
Элли улыбалась.
– Я рада, – тихонько сказала Глебу. – Все вышло хорошо. Ot-da-j-i-tess!
* * *
Дни, однако же, шли, незаметно накопляясь, незаметно уходя, но оставляя след, как на горе Сант Анна благоухание фиалок с ветерком из Пармы. Это именно было то, за что и Глеб и Элли любили Италию и поклонялись ей.
По утрам два писателя, подтверждая взгляд Мариуччии, трудились пред раскрытыми на море окнами, в кухне Мариуччиа скромно главенствовала в свободные от бабки часы. На побережье у моря виднелись иной раз две фигуры – старый и малый: Эдуард Романыч с Таней собирали камешки.
После провала девочки Марина впала в еще большую нервность, стала торопить Нику с отъездом. Теперь непременно надо в Сицилию, и именно в Таормину. Никуда больше. В этом райском месте найдет она истинное успокоение. Ника не возражал, но сказал, что Сицилия это почти то же, что Цецилия, – Марина, блеснув круглыми серыми глазами, заметила, что это глупо. «Ты утомляешь меня своими бессмысленными остротами».
За несколько дней до отъезда их, в день 1-го ноября, Элли, Таня и Мариуччиа зашли перед вечером на кладбище. День был серый. Вдали море шумело. Белое ожерелье его ярко очерчивалось по пляжу.
Пожилые итальянки с цветами и свечечками, приодетые девочки бродили среди мраморных памятников. Несколько кипарисов, дальний вид на пустынность вод моря – так остался этот день Всех Святых в памяти Тани, так и ушел с ней в дальнейшую ее жизнь. И отец, и мать говорили уже, что недолго теперь оставаться здесь, к декабрю надо трогаться в Париж, устраиваться оседло, начинать учить Таню.
Положили цветов на могилу матери Мариуччии, подошли и к Антону. Засохший букетик лежал еще у креста. Прибавили и ему цветов и поставили свечку. В начинавшихся сумерках светила она слабо, невещественно-тонко. В одинокой свече одинокой могилы было нечто пронзающее. Это все трое чувствовали.
– Мариуччиа, – сказала Элли. – Когда мы уедем, ты заходи иногда к нему.
– Si, – ответила Мариуччиа. – Понимаю. Он русский. И родных нет. Буду заходить. Пожелай мне, Elena, чтобы, когда умру, и ко мне кто-нибудь зашел.
Элли вздохнула.
– Милая Мариуччиа, мы разбросаны все по свету. Вот и мои родные остались в Москве, и не знаю, увижу ли их когда… А ты живи, ты надейся, Мариуччиа. Где Господь нам укажет, там и ляжем. И будем друг друга всегда помнить и любить.
– Ах, Elena, вы забудете меня скоро в Parigi… Parigi e una citta splendida[90], не то что наше Барди.
– Я тебя не забуду, Мариуччиа, – сказала Таня. – У меня и в России есть подруга, дочь нашей кухарки Прасковьи Ивановны. Я ее никогда не забываю, и она меня не забудет – мы так условились, когда в Москве прощались. А ты теперь вторая. Я тебя тоже люблю и не забуду.
Мариуччиа наклонила к ней тонкое, остроносое лицо свое, обняла ее и поцеловала.
– Tu е buona, Tania, come mamma[91]. Как твоя мама, – добавила она вдруг ясно по-русски, точно чтобы крепче было.
Прошино
– Что ты все читаешь? – говорила мать, с утра неторопливо занимаясь шитьем – стежки клала ровно, сквозь пенсне неотрывно глядя на иголку. – Успеешь со своими уроками. Смотри, опять голова разболится.
Она сидела в небольшом кресле у окна, в столовой прошинского дома. Ксана несколько сзади, у стола, подперев голову руками – мать не могла видеть, что читает она сейчас не учебник, а письмо.
– Нет, ничего. Не разболится, бабушка. Я сейчас, кончаю.
За эти годы Ксана подросла, но была такая же слабенькая, лимфатичная. Школу кончала, думала о бухгалтерских курсах. Все это было еще неясно, трудно. Мать обернулась к ней.
– Да это опять Танино письмо. Ты ведь его уже читала!
Ксана слегка покраснела.
– Хочется лучше все запомнить…
Мать вздохнула.
– Все равно тебе Парижа не видать. И не думай, пожалуйста.
Ксана тихо ответила.
– Я знаю. А все-таки интересно.
Мать продолжала шить, Ксана продолжала читать.
«Мы теперь переехали на новую квартиру. Я учусь в лицее. Квартира хорошая, три комнаты, небольшие, но светлые. Окна у папы и у нас с мамой выходят на улицу, против нас старый домик и сад, огромные каштаны, весной цветут белыми и розовыми свечками. Это очень красиво. Квартира называется меблированная, потому что мебель хозяйская, а у нас своей еще нет, потому что надо много денег. Я утром как встаю, так сейчас же бегу на метро, часто даже быстро бегу, потому что в лицей нельзя опаздывать, а мне утром очень хочется спать…».
Ксана остановилась.
– Бабушка, что такое метро?
Мать сняла пенсне.
– Мне тоже и Таня, и тетя Лена писали, что там всюду надо ездить по метро. Город большой – это подземная железная дорога. Электричеством движется.
– И так-то вот все под землей?
Глаза Ксаны, слегка воспаленные, со всегдашним выражением кротости и некоей вялости, сейчас оживились, чуть расширились.
– Небось, страшно, под землей-то?
– Глупости. Устроено, ездят, чего ж тут страшного. Ведь тебе Таня же не пишет, что боится?
– Не пишет.
– Ну, вот видишь…
Ксана помолчала.
– А она, может быть, храбрая. Она всегда была храбрее меня.
Мать усмехнулась.
– Да, ты не очень воевода, знаю. Пойди сюда.
Ксана покорно встала, покорно подошла к ней. Мать поцеловала ее.
– Бабушка, а ты сама в Париже бывала?
– Нет. Никогда не была.
– Может быть, и ты туда уедешь?
Мать несколько замялась.
– Вот, ты еще выдумаешь…
Ксана опять села на свое место, сложила письмо.
– Таня мне ничего не пишет, что вернется… Бабушка, а, по-твоему, они вернутся? Что они тебе пишут?
По лицу матери прошло недовольство.
– Вернутся, не вернутся… что это за разговоры. Пойди лучше посмотри, готов ли самовар.
Ксана поднялась, бледным пальчиком почесала слегка в волосах, медленно направилась в кухню, во владения Прасковьи Ивановны.
Мать осталась одна. За окном был утихший после метели день, ясный, с бледной голубизной неба, с алмазным блеском наметенного на балкон снега – ветки жасмина никли под белыми в искрах хлопьями. Вернутся, не вернутся… Она и сама, без покорной и вялой Ксаны все время об этом думает. Да не так-то все просто.
Мать давно уже начала недоумевать. Время идет. Вначале считалось – на год, полтора… А уже почти три как уехали. Жили в Германии, Италии, теперь поселились в Париже. По временам пишут, и очень ласково, Глеб присылал даже немного денег. О возвращении же ни слова. «Мама, как было бы хорошо, если бы ты к нам приехала. Мы бы тебя тут отлично устроили» – в таком роде, значит, сами в Россию не собираются.
Тут она и задумывалась. Просыпаясь по утрам очень рано, переворачивалась с боку на бок, не смогла уж заснуть.
Возраст немалый. Увидит ли «сыночку»? Если они не приедут, значит, она… – да, но бросить здесь все, хозяйство, Прошино… За четверть века так вросла в дом этот, во весь склад жизни…
Ведь не вечно же так будет. Надо сберечь, передать «сыночке» – во всяком случае стараться, даже во враждебном стане, когда чуть не каждый месяц отнимают то одно, то другое, и она медленно отступает, защищая каждую яблоню, каждого теленка, поросенка. Ей самой мало что нужно, а вот сохранить сыночке…
До последнего времени сама мысль, что все можно бросить и куда-то уехать, казалась чудовищной. А сейчас изменилось, и резко. Видимо, ее не станут и спрашивать, хочет она оставаться, или нет – прошло распоряжение свыше: всех «бывших» выселять, без разговоров. Для видимости, по суду.
Мать стала просыпаться еще раньше, еще чаще вздыхать и повторять в одиночестве: «О, Боде мой, Боже мой!» – переворачиваясь на другой бок. Но для всех с виду оставалась прежней и со спокойствием философическим выслушивала, что оленьковского барина выселили, из Дуракова Настасью Ивановну тоже, и в таком роде.
Единственный кто был в Москве близкий – Соня-Собачка. Ей обо всем она и отписала. И когда подошел день суда над Прошином, Собачка приехала – три дня назад. С тем же работником Кимкой, последним пережитком прежнего, с которым голосовала Элли за эсеров, в розвальнях, сохранившейся дохе отца укатила она на суд в уездный город. Там являлась представительницей матери.
А теперь долго не возвращалась. Слишком долго. Мать беспокоилась: вчера была метель, такая страшная, ехать-то ведь тридцать верст.
Мать встала и подошла к окну. Термометр, мохнатый от налипшего снега, показывал двенадцать. Два воробья, присоседившиеся на теплой раме, что-то поклевывавшие, взлетели.
Из прихожей отворилась дверь.
– Приехали! Бабушка, приехали…
У Ксаны был довольно оживленный вид. За ней ввалилась доха, из дохи улыбались глазки Сони-Собачки, горели румянцем щеки. На голове ее мерлушковая шапка, от нее несет свежестью, зимой.
– Ну вот, тетечка, слава Богу и добралась. Ксана, Ксана, снимай валенки!
Могучая, пышущая морозом, снегом, но и всегдашнею своей жизненною стихией, села Собачка на сундук, под висевший на вешалке верхней одеждой прошлого: заячьим тулупчиком отца, шубою матери с бобровым воротником.
Мать подошла, они расцеловались. Ксана неловко стягивала один за другим валенки. Прасковья Ивановна внесла самовар – он кипел, от него несло и угарцем.
– Чаю… Это я с удовольствием… тетечка, тетечка, если бы ты знала!
– Я тревожилась за тебя. Такая метель, ты ночевала где-нибудь, что ли?
– Погоди, все расскажу. Дай в себя немножко прийти. Она оправляла волосы, прошла к матери умываться.
– Я два дня не раздевалась.
Через четверть часа сидела она уже за столом.
– С чего начинать? Тетечка, с чего начинать уж не знаю… и суд этот, и сама я к тебе чуть жива добрались. Ну, что ли, про суд…
– Ксана. пойди скажи матери, чтобы покормила Кимку, да чтобы рюмку водки дала, из той, что привезла тетя Соня.
Ксане как раз хотелось послушать «про суд», а «бабушка» находила, что именно про суд и не надо.
– Я тебя тогда позову.
«Тогда» – это значило, что без нее расскажут самое интересное. Ксана, однако, забрала свои книжки, письмо, беспрекословно отправилась.
– Суд, суд… тетечка, дорогая, это ж комедия… Горячась, сама себя перебивая, дважды рассказывая (от волнения) одно и то же, Собачка бурно повествовала.
– Ты понимаешь, сидят эти михрютки полуграмотные… и делают вид, что они судьи… Им все заранее предписано, они двух слов связать не умеют. Народным образованием в городе знаешь кто заведует? Бывший пастух! Ну вот, ну вот, тетечка, дела все были о выселениях, и быстро разрешались… некоторые там кланялись, просили оставить коровку, лошадь. А я, знаешь, сидела и кипела. Я всю эту шушеру ненавижу и вот, думаю, не пристало тетечке моей унижаться…
Мать сидела спокойно, несколько бледнее обычного и слегка поигрывала снятым пенсне.
– Ты знаешь, я у тебя не спрашивала, когда уезжала, но я подумала, постаралась представить себе, как бы дядя Коля поступил, как ты… как мой отец покойный… и тетечка, знаешь, может быть, ты будешь недовольна – когда очередь дошла до нас, я сказала, от твоего имени… что мы ничего не просим, от всего отказываемся… хотела было добавить: плюем на вас, да уж так, не добавила, по малодушию. В чеку не захотелось садиться.
Мать продолжала быть бесстрастной.
– Да, конечно, – сказала негромко, слегка глухим голосом. – Сделать ничего нельзя было. Ты правильно поступила. А резкостей им говорить не надо.
– Тетечка, как мне хотелось! Там один старый слесарь был, тоже судья… Он на меня с особенным бешенством смотрел. Все шипел. Потом в коридоре встретил, проходя, мне сказал – вполголоса – слово… я не могу повторить при тебе.
Мать вздохнула.
– Ну, это герунда. Мало ли они каких слов ни говорят…
– Тетечка, милая, ты не меняешься… Я с детства ведь помню, ты говорила: «герунда», «генварь»… Ты все такая же.
Собачка вскочила, обняла ее, стала целовать и вдруг заплакала.
– Когда я маленькая была и жила в вашем доме с Глебом, Лизой… я ведь ничего, кроме добра, от вашей семьи не видела, ни от тебя, ни от дяди Коли… Усты, шахта, «генварь»…
Мать слегка улыбалась.
– Тише, тише, задушишь…
– Тетечка, ты все тут бросишь в этом твоем Прошине, переедешь ко мне в Москву. Ты будешь в моем доме, как у себя. Я чувствую это, я знаю. Я так нынче молилась, знаешь, ведь я чуть не погибла вчера, но это рассказ отдельный. А теперь ты мне скажи: ты ведь к нам переедешь? Правда? Не будем у них выклянчивать угол, какую-нибудь корову? Ты переедешь?
Она действительно тискала «тетечку» в объятиях. Натура ее, как море при сильном ветре, расколыхалась. В ней сливалась молитва со слезами, умиление и негодование, все вместе, все давало некую бурную музыку.
– Посмотрим. Там посмотрим. Спасибо тебе за все, – говорила мать.
Успокоившись несколько, за чаем Собачка рассказывала, почему именно так запоздала. Мать, как всегда, сидела за самоваром. Ксана теперь присутствовала, неотрывно глядела на рассказчицу.
– Ты понимаешь, тетечка, выезжаем мы с Кимкой вчера из города, день был ничего себе, серенький, так, в поле немножко подувает, но на мне дядечкина доха – дай Бог ей здоровья, легкая и хорошо греет. Сижу в розвальнях, закуталась, ну, думаю, дуй, дуй, все равно меня не продуешь. Все-таки – ветерок все сильнее, просто уж настоящий ветер, и знаешь, поземка начинается… метет снизу сухим снегом мелким, колючим, Кимка на облучке ногами побалтывает, а у самого лицо снегом начинает залеплять. И дорога становится трудней. Хотя едем пока еще большаком, но уже чувствую, что кобыла едва дорогу находит, иной раз и сбивается – ткнется в сторону, а там прямо сугроб.
Мать вздохнула.
– Да, это опасно. Помню, покойный Николай Петрович ужасно попал однажды так…
– Тетечка, я с детства знаю этот рассказ и всегда в метель вспоминаю. Это еще когда он молодым инженером был?
– Да, поехал, и недалеко, и заблудились они с кучером. Всю ночь прошгутали, друг друга в метели потеряли, и лошадь.
Николай Петрович утром оказался на заборе, около нашего же дома, а кучер забрел в овраг, его позже нашли.
Ксана слушала теперь с расширенными глазами. Обычная вялость ее ушла.
– Что же кучер-то? – спросила тихо.
Мать спокойно ответила:
– Замерз. Да и Николай Петрович чудом спасся.
– Тетечка, вот именно чудом… Ты подумай, едем мы с Кимкой по большаку, метель уже по-настоящему разыгрывается, и там за Климухином поворот, знаешь, до нас, до Прошина еще верст десять. Вот мы и едем – ну, что за езда, кобыла просто шагом бредет… Вижу, Кимка начинает беспокоиться. «Куда там, к лешему, чего поехали… чего? К лешему!» Знаешь, как он всякую чушь порет. «Кимка, – говорю, – нам бы поворота не пропустить». – «Не пропустить, не пропустить… кол ему в хрен, ищи тут, где вертать… ищи сама, где вертать». Одним словом, начинает злиться. Только вдруг догоняют нас другие розвальни – и представь, лошаденка небольшая, а бежит трухом довольно-таки прилично. В розвальнях старичок, легенький, мне показалось, вроде мужичка, и очень так просто, по цельному снегу нас обгоняет – не проваливается. За ним и наша кобыла встрепенулась. Знаешь, как всегда, лошадь за лошадью. И он нас как раз на этот поворот вывел, мы свернули, но тут кобыла наша отстала – он как явился внезапно, так и исчез, просто одна белая мгла перед глазами и метель воет, воет, теперь уж разыгралась как следует. Кобыла едва бредет – да, это наш проселок, но заметен еще больше, чем большак. Кимка ругается, снег вовсю лепит, и я чувствую, что скоро начнет смеркаться. Вот, наконец, кобыла чуть что не по брюхо вязнет – то ли так проселок занесло, то ли мы его вовсе потеряли, одним словом, дело совсем дрянь.
Собачка остановилась, даже слегка задохнулась. Всегдашний ее румянец стал еще ярче. Она глотнула чаю, продолжала: «Господи, думаю, неужели нам тут и погибать? Ну просто вот так в метели?» Стала молиться. «Поддержи, укрепи, настави, не покидай меня, Христе Боже! Матерь Пречистая! Николай Угодник!». А кобыла вовсе остановилась. Тяжко дышит, пар от нее валит, и ни тпру, ни но… Кимка соскочил, меня даже стал ругать. «Из-за тебя тут околевать будем…».
Я бы в другое время прямо по шее его треснула, он бы своих не вспомнил, но тут не до того. Молчу, только про себя шепчу: «Помоги… поддержи, не остави…».
Так вот мы и стоим в чистом поле и метель нас заносит. Не могу сказать, сколько это было, я вроде как во сне находилась, или в дреме какой. Только вижу, опять настигает нас кто-то. И опять мимо нас та же лошаденка, в розвальнях старичок… но теперь не торопится. Ничего нам не говорит, и мы тоже точно оцепенели, просто только на него смотрим. Кимка утих. Сел на облучок, вожжами тронул, кобыла двинулась, шагом пошла – старичок в розвальнях впереди, мы за ним. И довольно легко, сразу путь оказался, кобыла шагает себе, а куда – Бог весть. Старичок иной раз пропадает из глаз, иногда вот он, рядом, а мы едем и едем. Наконец, деревня. Но это не Прошино, что-то другое. Он тоже впереди нас, теперь будто трухом, рысцой.
Она замолчала.
– Ну, что же дальше? – спросила мать.
Собачка не сразу ответила – задумалась. Продолжала спокойнее, но как бы в усталости.
– Деревня-то незнакомая. И в стороне. Не на нашей дороге. Да, вовремя добрались… Через полчаса и вовсе темно стало. Но на улице еще были бабы, ребятишки бегали – метель стихла. Мы заехали в одну избу, нас пустили ночевать.
– Как же деревня называется? – спросила мать.
– Клементьево.
– Никогда не слыхала.
– А старичок? – прошептала Ксана. (Сидела она вся похолодавшая, чуть не дрожа.)
– Мы там рассказывали, как он нас вывел… И спрашивали. Мы то видели, как он через всю деревню проехал. А они говорят: никакого старичка в розвальнях тут не было. И никто, кроме вас, не проезжал.
Мать отодвинула свою чашку, надела пенсне, не без строгости взглянула на Собачку. Взор ее как бы говорил: «герунда».
– Просто не обратили внимания. Когда метель, так не очень-то будешь рассматривать.
– Тетечка, – тихо сказала Собачка, – когда мы въезжали в деревню, метель стихла. И отлично я видела, что он проехал мимо этих избенок, мимо баб и детей, а потом вдруг исчез.
* * *
Вечером мать, как всегда, раскладывала пасьянс. Ни о суде, ни о планах своих не заговаривала. И Собачка ее больше не спрашивала. Говорили о Москве, о Мстиславе Казимировиче, Собачка рассказывала, как работает она у себя в больнице Точно бы ничего не случилось – но Собачка слишком хорошо знала «тетечку», чтобы не чувствовать, что под этими сдержанными разговорами было совсем другое.
Несколько раз входила Прасковья Ивановна. Мать вынимала ей постельное белье из комода, Ксана таинственно с нею шепталась. Все это значило, что Собачку устраивают на ночь во флигеле – там отлично натоплено и теплее, чем здесь: тут никак не нагреешь, выдувает. Слишком все обветшало.
Чтобы не было жутко Собачке, отрядили туда спать и Кса-ну – она была счастлива: все это необыкновенно. И после ужина, при месяце, под морозными звездами, поскрипывая по синему снегу валенками, отправились они на ночлег.
И флигель этот, и вообще Прошино мало Собачка знала. Но хорошо знала Глеба. Глеб был даже частью ее существа, ее детства и юности, как и Элли, которую хоть и позже она встретила, все же ранняя их молодость и богема Москвы была также частью ее жизни.
Войдя в первую комнату, где нетронутыми стояли еще на полках книги, все эти Пушкины и Толстые, и Тютчевы, Соловьевы, и современные символисты, итальянские издания, фотографии Флоренции – сразу почувствовала она такое знакомое, будто сама провела тут полжизни. Глеб, Элли, Таня вдруг пред нею явились – она вздохнула. «Ну, да что же поделаешь. Последние дни. Удивительно еще, что пока все уцелело. Вполне удивительно».
Печь была жарко натоплена, в другой комнате приготовлены две постели, как для Глеба и Элли. В полузамерзшее окно глядел все тот же одинокий, полукруглый сейчас странник неба, дробясь искорками в узорах инея по оконному стеклу.
– Спать, спать, – заявила Собачка, – решительно, будто сама отгоняла от себя ненужное. – Ксана, теперь спать. Я ужасно устала.
И начала разоблачаться.
– Тетя Соня, – спросила Ксана, скромно укладываясь в постель, накрываясь тулупчиком, – а кто же был этот старичок, который в метель вас привел в деревню? Ведь он вас спас?
– Спас.
– Куда же потом делся? Я не поняла. Въехал в деревню и вдруг пропал…
– Да, вот так и пропал.
Собачка повернулась мощным своим телом. Кровать под ней скрипнула. Она вдруг сказала:
– Сделал свое дело и пропал. Это был не простой старичок.
Ксана кашлянула.
– Не простой, а какой же? Кто же?
– Николай Чудотворец.
Ксана приподнялась.
– Чудотворец!
– Да, не удивляйся, я так чувствую. Он всегда бедствующим помогает, помогает… и на морях в бурю, и в болезнях, и на суше… я ему там в метель молилась, вспомнила тетю Лену, она ему в церкви свечки ставила, очень его почитает. Она мне рассказывала, он и Глеба в болезни в последнюю минуту спас, когда уж надежды не было. Он всегда в последнюю минуту… Может быть, и она там, вдали, за границей обо мне вспомнила, обо мне ему помолилась.
Ксана замерла. Потом тихо пробормотала:
– Николай Чудотворец… я и сама подумала, что старичок это особенный. Только при бабушке боялась сказать. И не знала, кто это… а вот теперь знаю. Николай Чудотворец!
У Собачки была благодарная слушательница. Тут сомнений быть не могло, Ксанино сердце сказало ясно, как всегда это случалось с подобными ей: да, конечно, святой.
В эту ночь обе они долго не засыпали. Месяц уже отошел от окна, другое окно, в другой комнате, искрилось в его загадочном свете и полузанесенная усадебка с ее обитателями, с уходящею жизнью смиренно предстояла перед ним – он одевал своим сиянием и крыши, и деревья сада, и большие липы – все сейчас в мохнатом и волшебном инее, все сказочное и безответно предстоящее пред вечностью.
Утром, за обычным кофеем, мать объявила Собачке, что оставляет Прошино. Предложение ее принимает: переезжает к ней в Москву.
* * *
Собачка на другой день уехала, мать же стала готовиться к переселению. Осознать это было нелегко, и никто не считал бессонных ее ночей. Но когда сдвинулось все окончательно, и в душе осело на новых местах, стало легче. Помогала и новая мысль, в ней возникшая: раз Глеб не возвращается, то из Москвы она сама начнет хлопоты о выезде. Если не оставаться в России, то, конечно, уехать можно только из Москвы. Значит, все-таки смысл есть. И это поддерживало.
Отступление свое она совершала в порядке, с тем спокойствием, твердостью, как ей и полагалось – меняться было уже поздно.
Прошннский дом и Глебов флигель даже оживились, как бы предсмертным оживлением: весть об отъезде «бабушки» разнеслась быстро. С разных концов в пошевнях, розвальнях, в разных санках стали съезжаться покупатели, прасолы, мельники, мещане, хозяйственные мужички – все, кто надеялся на чужой беде поживиться, кто не думал еще, что недалек час, когда его собственная судьба будет не хуже ли бабушкиной.
На Глебовы книги покупателей не оказалось, да мать и не хотела бы их продавать – их укладывали тщательно в ящики, и комиссар Федор Степаныч, чья дочь Дунечка, как и Ксана, выросла под крылом бабушки в «господском доме», по давней дружбе и уважению согласился поставить всех Пушкиных, Данте и Соловьевых к себе в сарайчик до новых распоряжений из Москвы. А разные стулья, сундуки, комоды и диваны, кровати, табуретки, столики уплывали бесследно и безостановочно, возмещаясь пачками бумажек, на которые почти ничего нельзя было купить. Многое раздавала мать и даром, кое-что обменивала на съестное – надеялась провезти в Москву.
Прасковья Ивановна была в волнении. По мягкости характера своего и нервности не могла так стоически, как мать, относиться к разорению Прошина, с которым для нее связано было многое. Ксана ходила тенью. При каждом удобном случае принималась плакать, за что получала сумрачные увещания «бабушки»: но все-таки не могла с собой совладать.
И вот наступил, наконец, день, когда у крыльца почти уже голого дома остановилось двое розвальней – одними правил Кимка, в них запряжена была та самая кобыла, что вывезла-таки Собачку из метели, в других меринок Федора Степаныча и сам комиссар управлял им. Розвальни нагрузили последним скарбом, в передние села мать в своей шубке и бобровой шапке, в задние Прасковья Ивановна с Ксаной – они тоже переселялись к Собачке. Что можно и что нужно уже было отплакано, все-таки провожать вышло много народу из деревни. Для баб, детей, да и вообще для многих развлечение. Походило отчасти и на похороны Николая Петровича, тоже зимой, несколько уже лет назад.
– Ну, с Богом, – сказала мать, усевшись в розвальнях. И хоть двуперстным знамением, как боярыня Морозова, увозимая в ссылку, себя не осенила, все же вид у нее был внушительный. Когда розвальни проезжали мимо баб, мужиков, детей, многие шапки безмолвно снимались. Мать ответно кланялась.
День был тихий, серый, дорога ровная, только что запорошенная свежим снежком. Розвальни бесшумно плыли. Проехав Поповку и поднявшись в гору, где кладбище, мать велела приостановиться. Так же провожала она сюда мужа, тоже в зимний прошинский день. Здесь лежали, под замшелыми плитами, князья Вадбольские, прежние владельцы Прошина. Николай Петрович князем не был и скончался в год от Рождества Христова 1919-й, когда ни о каких плитах говорить не приходилось. Он лежал тут же, под простым могильным холмиком, сильно сейчас занесенным снегом. Деревянный крест все-таки возвышался над ним. Мать подошла к могиле, постояла минуту, перекрестилась и опять села в розвальни.
Летопись Земляного Вала
Еще со времен давних, когда отец попивал пиво на балконе Прошина, а Геннадий Андреич столь же невозмутимо разглядывал чрез пенсне древности, само собою установилось, что Прошино и Земляной вал – два совсем отдельных мира. Странность состояла в том, что хотя Глеб и Элли давно уже были мужем и женой и Таня потряхивала своими косичками, но Геннадий Андреич никогда не видал отца и мать Глеба. Правда, миры эти разделялись расстоянием. Но и мать, и отец наезжали иной раз в Москву, а вот как-то не выходило. Не то, чтобы существовали предвзятости, недружелюбие, а просто обе стороны жили в своем кругу, твердо и навсегда очерченном, не выходя из него.
Смерть вывела отца из всяких земных кругов, крушение прежней жизни привело мать на Плющиху – чрезвычайно приблизило к Земляному валу географически. Но внутренне мало что изменилось. Мать с Ксаной, Прасковьей Ивановной въехали в дом Собачки (квартиру неуплотненную) с обычной своей ровностью и прохладой. Ксана поселилась с ней вместе, а Прасковья Ивановна заняла в кухне положение выдающееся: таких клецок, как она готовила, таких шкварок, а иной раз и «генсиса-можоного» Мстислав Казимирович давно не видел. Это его утешало и радовало. В волнении он закатывал под лоб голубые нервные глаза и тотчас же, перед отъездом в свое учреждение, выпивал какую-нибудь целебную воду или лекарство.
– Тетечка, тетечка, ты на него не обращай внимания, он вечно лечится! Этого уж не переделаешь. И притом совершенно здоров.
Мать и не беспокоилась. Ни о чем таком она вообще не беспокоилась. Собачка с ней была безупречна. Ни малейших царапин не оказывалось, все-таки это не дом «сыночки». (Собачки дом родственно преданный, но не совсем свой: Мстислав Казимирович даже вовсе не свой. И мать не чувствовала себя вполне дома.)
Она жила внутренним своим миром. Он заключался в судьбе сыночки и его семьи, в известиях от них и проектах – пока одиноких и тайных – как с ними встретиться.
Земляной же вал, при всей близости его, весьма мало входил в ее горизонт.
Также и в жизни Земляного вала появление матери на Плющихе произвело мало действия и последствий не вызвало.
Сообщила об этом Анна: она находилась теперь в полном примирении с родителями. С мужем давно уже разошлась, и ее жизнь все сильнее внедрялась в жизнь собственных взрослых детей и своих родителей. Нечто монашеское и жертвенное появлялось в ее неизменно-прекрасных глазах, у ней подрастали теперь и внуки. Есть о ком пещись: и малые, и средние, и старые – все представительство таинственного круговорота бытия.
С Собачкой она находилась в добрых отношениях. От нее и узнала о переезде матери – у нее с матерью вновь встретилась. Своей собственной матери сказала:
– Ты знаешь, мама, Варвару Степановну из имения совсем выселили. Она живет теперь у племянницы, на Плющихе.
Агнесса Ивановна мотнула своей большой, в мелких кудерьках головой. Небесно-голубые глаза ее повлажнели.
– Как же так, Аничка, из собственного дома?
– Вот ты и поговори с ними, станут они спрашивать или не станут. Бога благодари, что сама тут сидишь еще с папой, хоть и в уплотнении.
– Тише, Аничка… могут услышать.
В глазах Агнессы Ивановны появился страх: вообще-то она не из воинственных, а тут и, правда, кругом кишели жильцы, со своими детьми, сварами, примусами.
Вошел Геннадий Андреич. Он слегка постарел, но одет все так же – в серьезном и солидном духе. Довоенный костюм не сдавался еще.
– Аничка, здравствуй. Рад тебя видеть.
И сняв пенсне, подставил голову для поцелуя.
Анна почтительно приложилась к нему. Отец не был теперь для нее, как некогда, далекой, почти грозной силой. В том общем утеснении, как сейчас жили, вечно угрожаемые, в нужде, бесправии, она острей, чем раньше, ощущала тайную, кровную связь с отцом. Близкая ему по характеру, с чертами властными, теперь весьма ему же и предалась, всей прямой и яркой своей душой. А притом считала, что он сам менялся. («Ты не можешь себе представить, – писала она в Париж Элли, – как папа добр и ко мне, и к внучатам. Сколько внимания в нем открылось, любви…» Элли плакала над этими письмами.)
– Папочка, – сказала сейчас, сияя глазами, – ты, как всегда, подтянут, элегантен…
– Глупости, глупости-с… Какая там элегантность, и к чему она теперь. Я вот принес интересную брошюру, мы получили в музее, от английского нумизматического общества.
Геннадий Андреич был доволен, что встретил тут именно Анну: хоть в нумизматике мало она смыслила, но уважение и почтение к науке унаследовала от отца.
– Ты возьми, прочитай, но потом, непременно мне верни…
На Агнессу Ивановну надежда была слаба. Она восторженно моргала глазами, легко наполнявшимися слезами, но в ее душу монеты царя Митридата входили туго.
– Да, папа, да, конечно… А я вот только что мамочке рассказала: Варвару Степановну, мать Глеба, выселили из деревни. Она теперь здесь.
Геннадий Андреич смотрел на нее не без задумчивости.
– Не удивляюсь. Ничуть не удивляюсь. Всего можно ожидать, и худшего, и худшего-с… Я от этих людей всего жду. Во всяком случае передай Варваре Степановне мое искреннее сочувствие.
Посидев немного, он поднялся, направился к себе в кабинет.
– Когда будешь уходить, – сказал Анне, – зайди ко мне. Я там кое-что припас малышам.
* * *
Новая жизнь нелегко давалась Геннадию Андреичу.
От дома остался островок: кабинет, где он спал, комната Агнессы Ивановны да столовая, откуда шла лестница вниз, в полуподвальный этаж. Некогда там помещались «молодцы» кожевенного дела, а теперь кишели всякие насельники, довольно разнообразные. Жильцы занимали и разгороженную на трое залу наверху – любовались там копией Каналетто. Целая семья разместилась в зеленой гостиной, где некогда Глеб и Элли проводили лето перед рождением Тани – и все это журчало, гудело неумолчным шумом, неизбежным и необходимым в таких ульях. И советским служащим, и рабочим, и «полуинтеллигентам» тоже хотелось жить, поскорее вкусить всех сладостей бытия – им представлялось еще это весьма простым и легким.
Разные попадались среди них, и лучше, и хуже, но повсюду готовили на примусах, сушили в комнатах белье, стирали, гладили, ругались, ссорились, мирились. Столовая, хотя и считалась колесниковской, но скорей ее можно было назвать узловой станцией – снизу вверх непрерывно шныряли бабки, бегали дети, проходили к жильцам посетители. Пар от корыт с пеленками то подымался снизу, из подземных царств, то просто, очень откровенно расстилался над маскою Петра и Венецией Каналетто.
Все это с жизненного конца понятно, даже и неоспоримо. Все-таки тягостно: Агнесса Ивановна просто боялась, по ночам запирала дверь на ключ – мало ли кто может забраться и поискать, не спрятано ли чего. Иногда Маркан ночевала у нее, чтобы не было так жутко. Или барон, облысевший, но такой же элегантный, как и прежде, работавший теперь в советском теннисе, пристраивался на ночь на сундучке. Но от Маркана с ее предсказаниями и мраком становилось еще жутче, барон вел жизнь таинственную, полную авантюр – Герцена же Агнессе Ивановне вслух более не читал.
Геннадий Андреич тоже запирался на ночь. Но не из боязни: для порядка. Он ничего никогда не боялся, всегда чувствовал свое превосходство и силу. В ранние годы это выражалось иногда резко: то, что называется крутой характер. Теперь же не только Анна, а и другие, и он сам стали замечать в нем изменение, смягчение. Преодолеть отталкивания от муравейника он не мог – слишком уж это не по нем. Но в жизни его не все было по-старому. Например, стал он ходить в церковь, чего раньше не делал, с удивлением замечая, что церковная служба с ее ритмом, глубоким благообразием, так далеким от хаоса и некрасоты вокруг, действовала успокоительно. Как бы настраивала душу и размягчала.
Когда после всенощной (все у того же Ильи-Пророка через улицу, куда некогда возили рысаки его покойную мать) он возвращался домой, в осажденную крепость, то взгляд его на осаждающих смягчался. Не то, чтобы они особенно приближались. Но его более светлый и покойный внутренний мир менее задевали. «Что говорить-с, – думал сам с собой, снимая в кабинете потертое довоенное пальто, – что говорить, все это величайшая катастрофа. Господь, однако, попустил ее. Его святая воля, значит, так нам и надо-с, заслужили…»
Когда же вновь погружался в свои книги, слепки монет, фотографии, тот мир, в котором прожил жизнь, приобретал двойную прелесть.
А на службе появились для него и новые трудности.
В музее все осталось как бы прежнее: во главе старый безобидный князь (ему прощалось даже его княжество), Геннадий же Андреич, как и раньше, старший хранитель: душа и глава всего.
Делами наук, искусств заведовала в Москве сановная дама.
При музее от нее комиссар, молодой и задорный, как все тогда упоенный властью – он и являлся прямым надзором за Геннадием Андреичем. Сановница подчеркивала свою культурность и некоторый европеизм – в молодости подолгу жила в Париже и Женеве. Иной раз заезжала и сама в музей. Геннадий Андреич почтительно ей показывал, как некогда Великой княгине, свои владения. Она держалась вежливо, но отдаленно. Иногда делала мелкие замечания, которые он исполнял в точности. «В нашем деле не понимает», – говорил потом князю, крупному старику с татарским лицом, который и сам мало что понимал: но могло быть и хуже.
С комиссаром, товарищем Баландой, получалось труднее. («И откуда у них такие фамилии? Ну были раньше Семеновы и Петровы, а теперь разные Якиры, Ягоды… Удивительно!»)
Товарищ Баланда, краснощекий герой гражданской войны, молодой, бурный, считал свое комиссарство при музее делом временным и малоинтересным. Ему мерещились гигантские осуществления – постройки новых городов, заводов, отвод русл рек, переделка вообще всего мира, а тут какие-то каменные бабы да скифские резные украшения, кинжалы, чаши…
Он задыхался. Чтобы сколько-нибудь дать себе ходу, предпринимал неожиданные шаги: в Киевской зале надо все переставить, а для Московской воспользоваться прежней Новгородской. Немедленно разобрать ящики в архивах частных дарений и в свезенном из разных углов России в революцию.
Геннадий Андреич повиновался, вещи переезжали из залы в залу. Он хмуро надевал пенсне, которое обычно носил на отвороте пиджака, сумрачно наблюдал за работами, которые, по его мнению, были ни к чему, иногда вздыхал, но в глубине души радовался, что до его любимых монет и древних печатей Баланда пока не добрался.
«Ничего не поделаешь, надо терпеть» – шумный, полуграмотный мир так был ему чужд! Но держали стены. Самые стены музея, где десятки лет он работал, сами предметы и коллекции, среди которых жил, стали убежищем. С ним же самим Баланда держался довольно прилично. Называл «товарищ заведующий» («Какой я ему товарищ, он просто мальчишка, понятия не имеющий ни об истории, ни об археологии…») – иногда даже спрашивал: «Какая это монета?» Или: «Что такое ваза? Чем знаменита?»
Отвечать приходилось осторожно. Это не Глеб студенческих времен, это начальство, считающее, что оно все знает и во всяком случае сумеет сделать все и переделать много лучше прежнего.
Однажды Баланда наткнулся на небольшую фотографию – снимок с гипсовой плакеты. Изображался на ней Геннадий Андреич: сидит за столом с книгами, в руке увеличительное стекло. Большой лоб, переходящий в лысину, усы, бородка клинушком, на отвороте пиджака вечное пенсне – старый русский ученый, сподвижник Забелиных, Кондаковых, ничего тут не скажешь.
– Вас похоже сделали, товарищ, – сказал Баланда. – А что это вообще такое? По какому случаю?
Геннадий Андреич не весьма был доволен, что снимок попался на глаза Баланде. (Обычно лежал у него дома, и даже ближайшим своим не очень-то показывал он его.)
– Да, я затащил в каких-то книгах из дому, это все прежнее, ненужное… – и с недовольным видом протянул он руку, чтобы взять фотографию.
– Тут цифры римские. Что значит? А, да пожалуй, юбилей?
– Вы совершенно верно угадали: юбилей. Ну, что об этом говорить.
Но Баланда стал рассматривать и не сразу отдал. Цифры на плакете указывали: 1883–1913 – тридцатилетие службы в музее.
– В вашу честь медаль выбили, дело хорошее, товарищ заведующий. Значит, вы и при старом режиме являлись показательным работником. 1913! А теперь много больше, и при нашей власти герои труда также получают отличия. Работайте, работайте, орден Ленина получите.
Геннадий Андреич промолчал и недовольно сунул себе в карман фотографию. Баланда же считал, что обошелся очень милостиво со стариком, и чуть было даже не похлопал его одобрительно по плечу.
Домой Геннадий Андреич возвращался в тот день хмурый. Ничего, собственно, не имел против этого Баланды, но неприятно действовали его обмотки на ногах, гимнастерка, вихры на висках. «У меня и Государь в музее бывал, и другие ордена есть, но Государь по-другому держался… Баланда-с… одолжил бы орденом Ленина! Вот бы одолжил-с…».
У Геннадия Андреича были действительно ордена. Была и треуголка, в которой приходилось иногда ездить к генерал-губернатору на прием. Но он вообще всего этого не любил, ордена прятал подальше. Однако назывались они: св. Владимир, св. Анна… – а тут отличить собираются Лениным! «Нет-с, уж с меня достаточно. Никаких орденов, никаких героев труда».
То, что Баланда счел его чуть ли не героем труда, особенно раздражало. Герой труда! Самое выражение это приводило его в дурное настроение.
Прежде, подходя к своему дому, он подымался с улицы на несколько ступенек, мимо палисадника, звонил у подъезда. Теперь парадная раз навсегда заперта, ходили низом с черного хода – там всегда открыто.
Как обычно, он уверенно дернул за ручку входной двери: кисловатый, невеселый и несветлый воздух полуподвала. Но вот оглашается он детским воплем – прямо перед Геннадием Андреичем искаженное, позеленевшее лицо худого, рваного человека, в ногах у него визжит и бьется мальчишка, которого он лупит ремнем.
– Я тебе покажу колодки мои таскать, я тебе, сукину сыну, всю провизию искровеню…
– Дяденька, ей-ей не крал, я только поиграть хотел… дяденька…
Геннадий Андреич знал этого сапожника, «кустаря-одиночку» и терпеть его не мог: раздражали жилистые руки, яблоко на тонкой шее, потное чахоточное лицо, вечная озлобленность.
Увидев Геннадия Андреича, мальчишка метнулся к нему.
– Дяденька… ей-Богу не крал…
– Это что за безобразие? – строго спросил Геннадий Андреич. – Кто это позволил драться?
– А он что у меня, сукин кот, колодки таскает? Ах ты, стерва трехшерстная, я тебе покажу…
И сапожник ринулся вновь на мальчишку, успевшего уже вырваться из костлявой руки и ловким вольтом перекинувшегося за спину Геннадия Андреича.
– Нет-с, нет-с, никаких драк…
Сапожник задохнулся. Яблоко на горле его нервно бегало вверх и вниз, белесые глаза с яростью уперлись в Геннадия Андреича.
– А ты кто тут, распоряжаешься? А? Кто ты такой, чтобы мне приказывать?
– Молчать-с! У себя в доме безобразничать не позволю…
– У себя! У себя! Был твой дом, а теперь наш, общий.
Но Геннадий Андреич уже не слушал. Так решительно двинулся вперед, к лестнице, что сапожник отскочил.
Да, конечно, не его дом, он и сам знает, но уж переделать его трудно: в эту минуту, пусть и бессмысленно, вдруг ощутил он опять власть, силу, превосходство. Это же ощутил в нем и Сенька, как щенок, укрывшийся у ног «барина» и с ним вместе, одним махом, обгоняя его, вкатившийся по лестнице прямо в столовую, где под висячей лампой Маркан раскладывала свое гаданье, а Агнесса Ивановна, потряхивая кудерьками, следила с детским любопытством за движениями судьбы.
– Геничка, это что там за крик внизу?
– Чепуха-с, чепуха. Один мерзавец скандалил.
Сенька остановился, увидев дам, лампу. Лицо его было еще в смятении, он вздрагивал, но уже понимал соображением бойкого мальчишки, что здесь его не обидят.
– Вот-с, этот индивидуум чуть не пострадал…
– Бедненький, смотри, Маркан, он весь дрожит… Ну, пойди ко мне, не бойся…
Глупо, конечно, бояться полной дамы с бирюзовыми глазами. Сенька скромно приблизился.
– Я, тетенька… я не воровал… на что мне колодка.
Он вздрагивал еще и всхлипнул, но уже тише.
– Только поиграть хотел, там домишко строил, в углу, из всяких штуковинок…
Седая голова Маркан не весьма одобрительно покачивалась.
– Поиграть, поиграть. Знаем мы ваши поиграть.
В прежнее время Агнесса Ивановна сунула бы ему пригоршню конфет от Флея, но теперь Флеев больше нет, остается лишь то же сердце, все еще бьющееся сочувствием, расположением. Мягкая рука мягко провела по вихрам пролетария, от этой руки зла не будет. Сенька не думал ничего, но чувствовал, что теперь он в спокойном, мирном месте, где никто не обидит. И хотя о флеевских конфетах речи быть не могло, все-таки в тихой пристани, куда его занесло, из какой-то похоронки нашелся для него кусочек сахару.
– Маркан, налей ему чайку.
Седая стриженая голова продолжала выражать неодобрение. Сумрачно попыхивал мундштук – чем набита была самодельная Марканова папироска? – все же гость получил нечто теплое, на устарелом языке называвшееся чаем.
– Это Дарьи Григорьевны сын, – сказала Маркан. – Там, внизу…
Гость опять всхлипнул.
– Мамка на работе, при ней он бы не посмел.
Маркан собрала карты, сказала строго:
– А ты чужими вещами не балуй. Нынче поиграл, а завтра в карман запрячешь. Они его всему научат, – со всегдашней мрачностью добавила она. – Будет воровать.
– Ну, уж ты, Маркан, непременно такое… Он еще маленький, бедненький…
– У вас все бедненькие.
Но Агнессу Ивановну поздно было переделывать: Сенька получил еще кусочек булки.
Геннадий же Андренч только у себя в комнате, затворив плотно дверь, умывши руки в умывальнике с мраморной доской и педалью – только тут почувствовал себя привычно и в укрытии. Все-таки губы его слегка дрожали и внутри тоже вроде дрожи, вызывавшей в теле холод. «Зверская жизнь-с, дикарская, ничего не поделаешь. Это еще все пустяки. Есть почище штучки, почище…»
Он вынул из кармана фотографию плакеты, сунул в ящик письменного стола. Зажег лампу с зеленым окаймлявшим абажуром – она бросала свет только на стол и чернильницу. Это успокаивало тоже. «Мальчишка, может быть, и озорной, а уж в этой среде свихнется наверно, все-таки истязать детей у себя в доме я не позволю… не позволю-с», – вдруг угрожающе добавил он, точно невидимому противнику. В детстве он сам видел много тяжелого. И нельзя сказать, чтобы так уж сентиментально принимал этого Сеньку. Но тот мир, откуда сейчас шло это насилие, глубоко ему был противен. Да и вообще все это противоречило его взглядом на нравственность и духовный мир.
В тот же вечер, несколько позже, в дверь к нему постучали.
– Войдите.
Геннадий Андреич сидел у стола, под зеленой лампой. Не без суровости взглянул карими, умными глазами, из-под пенсне, на посетительницу.
Притворив за собой дверь, женщина невысокого роста, с усталым лицом, по виду нечто среднее между советской учительницей, конторщицей или просто работницей, несмело остановилась близ входа.
– Извиняюсь, может быть, помешала. Но всего лишь на минутку.
Серые глаза ее, очень простонародные (как и неказистый нос, довольно широкий) смотрели открыто, но в глубине их чувствовалось подавленно волнение.
– Садитесь.
Геннадий Андреич глядел на нее все так же серьезно, почти строго.
Она осторожно села.
– Я пришла поблагодарить вас, что заступились за моего сына.
– Это пустяки-с. Благодарить не за что.
Она вдруг смутилась.
– Вы, наверно, подумали, что Сеня украл…
– Нет, как раз не подумал. Решительно ничего не подумал, допустить же происходившего не мог.
Он говорил внушительно, так же неотразимо, как и тогда, когда двинулся на сапожника.
– Но конечно, бить баклуши мальчику там нечего-с, в нашем подвале.
Посетительница встрепенулась.
– Знаю, конечно. Жить очень трудно, всего не устроишь. И опять же я одна… целый день на работе. Если бы муж был… Ну, а Сеню все-таки в школу устрою, очень скоро теперь, хотя он и маленький.
– Вы вдова?
– Нет… но мы разошлись.
– Жить, говорите, трудно: верю. Верю-с, а особенно одной.
Геннадий Андреич снял пенсне и привычным жестом зацепил за отворот пиджака. «Трудно, трудно, – повторялось как бы само собою в душе. – Да, вот в этом подвале, среди всяких сапожников, разных баб, мастеровых…».
А потомство его росло и росло, разрасталось как в самой Москве, так и за границей. Лиза, старшая дочь Анны, совсем недавно еще прелестная девочка, игравшая в Москве в куклы, вышла замуж за шведа из посольства и жила в Стокгольме. У нее самой появился сын. «Правнук мой полушвед, – говорил Геннадий Андреич помощнику своему по музею, тихому археологу Игнатию Иванычу. – Лизочка пишет, что будет учить сына русскому языку отдельно, особенно, чтобы знал его. Да я сомневаюсь. Где же в чужой стране сохранить нашу речь?»
Вторая дочь Анны вышла в Москве за советского служащего. Сын Лины Петр тоже женился, и у него тоже дети. Таня, как оказывается, ходит в Париже в лицей и на присланной фотографии вовсе не та десятилетняя девочка, которой он на прощанье подарил образок Николая Чудотворца. «Никогда не увижу, конечно, – говорил сам себе, разглядывая сквозь пенсне фотографию, – ну, да что же поделать. Так получается».
В том и страшном, и тягостном, что надвинулось в жизни, для него оставалось – кроме древностей и музея (это главное) – еще странная, прежде не существовавшая сторона деятельности: давала радость близость с дочерьми, их потомством. Нравилось переписываться с Элли, Таней. Нравилось привозить в Москве детям подарки, какое ни на есть принимать участие в елках, именинах, днях рождения. Подарки, для Запада показавшиеся бы убогими, здесь принимались с таким воодушевлением, что Геннадий Андреич сам веселел.
– Я становлюсь неким Дедом-Морозом, или Knecht-Ruprecht-ом[92],– говорил, улыбаясь, Анне, глядя, как дети возятся вокруг елки с разными его приношениями (кое-что вытаскивалось и из похоронок Земляного вала: ископаемые предшествующей геологической эпохи).
– Я теперешних детей весьма жалею-с, – сказал он неожиданно, и скорей для себя самого, чем для этой незнакомой и далекой ему женщины. – В детстве сам видел много тяжелого, хотя тогда все было по-другому. А теперь…
– Сеня все-таки не какой-нибудь беспризорный. Я его мать. Вы увидите, я его устрою, постараюсь дать образование, чтобы он счастливее оказался, чем мы…
Теперь волнение ее проступило явственно и слегка разрумянило незамечательное лицо.
– Ив добрый час, помогай Бог, – произнес вдруг Геннадий Андреич с такой простотой, точно говорил не с неведомой посетительницей, а с родной дочерью Анной.
– Жизнь даже очень трудна-с, но мы не должны ей уступать. Мы должны жить и действовать так, как считаем правильным.
Женщина поднялась.
– Еще раз благодарю. Простите, что побеспокоила. Вы человек ученый, занятой.
– Ничего, ничего. Если чем смогу помочь насчет сына, то охотно.
* * *
В молодости Геннадий Андреич был равнодушен к детям. Женившись рано, полагал, что дети неизбежность, ничего не поделаешь. Так первую половину жизни и прожил. Но с годами многое изменилось. К внукам появилось у него уже не то отношение, как к своим детям. Анна, в письмах к Элли, не преувеличивала, да и сама Элли это чувствовала – уже по одному тому, что теперь Геннадий Андреич писал отдельно и Тане, целые письма: вещь невообразимая в детстве самой Элли.
Анна сияла.
– Папа, ты всегда так добр к детям, они тебя обожают.
– Обожать меня не за что-с, а что могу для восходящего племени, то, конечно, охотно…
Он теперь не стеснял детей – внуки, правнуки не боялись его, как некогда его собственные дети. И в себе самом мог он наблюдать более общую перемену: стало менее нетерпимости к молодым, тем, которые жили своей жизнью, далекою от его интересов, но для них важною. Петр учился в авиационной школе, Катенька занималась водным спортом. Даже барон, не такой уже молодой, но все еще Юрочка, для Геннадия Андреича часть мира и своего и чуждого, не раздражал своим теннисом. «Мы сходим, они появляются, конечно другие, как меняется жизнь, как течет все и не удержишь, да и удерживать нельзя… Нет, нет, нельзя». Вместе с тем его удивляло, и отчасти радовало, что теперь не только дети, которым он приносил игрушки, но и более взрослые из молодых его мира, такие не близкие по интересам, относились к нему даже с большим, чем раньше, почтением: как к историческому монументу.
Однажды явился к нему в музей барон. Геннадий Андреич удивился.
– Дядя Гена, мне нужно с тобою поговорить наедине.
Если бы это случилось раньше, во время чтения Агнессе Ивановне Герцена, Геннадий Андреич подумал бы, что сейчас он попросит денег. Но теперь не подумал.
Предчувствуя, все же, разговор серьезный, застегнул обе пуговицы двубортного довоенного пиджака.
Барон начал издали.
– Может быть, тебе покажется странным. Я в твоих глазах легкомысленный тип, вроде авантюриста. Профессия моя несерьезная и уж очень мало подходящая к твоим монетам.
Он оглядел кабинет Геннадия Андреича.
– Сколько книг! Вон, разные рукописи. А я в теннис играю, так-то вот с ранних лет. И вообще чем Бог пошлет, тем и промышлял всегда. Но я около твоего дома вырос. Помню Аню и Элли, и Лину девочками, а тетя Агнесса так всегда ко мне добра была… Короче говоря: люблю ваш колесниковский дом, ныне разоренный, со всей его смесью учености и – прости меня – нелепицы, русско-московской бестолковщины. Раньше я тебя одного боялся, дядя Гена, а теперь даже и тебя не боюсь, а считаю тоже своим, даже люблю… Неожиданно? Да ведь я сентименталист, в своем роде тоже устарелый тип.
Барон вдруг остановился, сделал руками изящный жест, как бы воздушный поцелуй.
Геннадий Андреич усмехнулся. По нервному и тонкому лицу барона прошла зыбь.
– Для тебя, конечно, человек, у которого пятая жена, уважения внушать не может.
Геннадий Андреич надел пенсне.
– Пятая-с! Как это ты успеваешь? И как управляешься?
– Вот уж так, пятая и никаких рябчиков.
Портрет Забелина, седого, с длинной бородой, смотрел серьезно со стены: домашний быт русских царей.
– Но сколько бы у меня ни накопилось грехов, долгов, романов, приключений, жен, полужен, я к вашему Земляному валу прирос с детства. И вот теперь, когда уезжаю, особенно это ощутил.
Он остановился, обвел взглядом комнату, понизил голос.
– Надеюсь, не подслушивают?
– Некому, некому…
– Дядя Гена, я зашел к тебе проститься. И к тете Агнессе зайду, конечно. Но там я ее обниму… – матери я не помню, не знаю. Обниму именно вот как мать, и оба мы заревем.
– Да в чем дело? Куда это ты собрался?
– Т-сс!
Барон встал, даже слегка вытянулся вверх.
– Молчание! Silentium, как сказал гениальный Тютчев. Со своей пятой женой, очаровательной Клавдией, я уезжаю на Кавказ и даже далее. В Баку, дорогой дядя Геня, но не с тем, чтобы повысить добычу нефти, а как главный инструктор спорта. Да, Клавдия в балет, я же по спорту. А там, знаешь, недалеко Турция, Персия…
Геннадий Андреич снял пенсне.
– Понимаю.
Барон добавил еще тише:
– Москвы более не увижу. И России тоже. Все это здесь надолго, очень даже надолго. Я не политик. И никого свергать не собираюсь. Но тут больше не могу. Клавдия тоже. Дядя Геня, ты должен это понять.
Барон сделал руками жест – воздуха не хватает.
– Как не понять-с…
Помолчали. Барон сидел тихо и грустно. Геннадий Андреич сказал спокойно:
– Мы, старые, здесь и ляжем. Нам оставаться. А молодые рвутся. Жить хочется. Понимаю.
Барон вдруг подошел и обнял его.
– Дядя Геня, ну какой ты милый… Смотри, как бы я и с тобой не заплакал. Ты ведь для меня тоже детство, Москва, Земляной вал…
– Ну это, уж знаешь, насчет слез… – мы мужчины. Это уж слишком.
Барон вдруг засмеялся, почти детским смехом.
– Ах, что я вспомнил! Какой пред тобой грех, вот теперь и покаюсь.
И рассказал, как давно, в мирные времена, еще мальчишкой, зашел он раз в кабинет Геннадия Андреича на Земляном валу, стал там рассматривать восковые слепки монет, что-то двинул неосторожно, слепки эти упали и некоторые разбились.
– Мне было лет восемнадцать, но я боялся тебя как огня, и говоря попросту удрал, месяц в доме не показывался, а обвинили во всем кота, будто бы он к тебе в кабинет забрался и свалил. Ты очень рассердился.
Геннадий Андреич улыбнулся.
– Помню. Так это ты тогда натворил…
Барон еще раз его обнял и ушел. Никогда не был он, конечно, близок, но сейчас удалялся с ним тоже осколок давнего. И Геннадий Андреич не без задумчивости продолжал заниматься своим делом, в окне же летел снег, тихими, крупными хлопьями – тихо все укрывал. Перед сумерками он оделся и вышел.
Кроме обычного своего путешествия в музей и домой обратно, редко выходил теперь Геннадий Андреич в город. Но сейчас надо было зайти на Кузнецкий, в книжный магазин: хотел купить к Рождеству Пушкина одному из внуков.
Москва сильно изменилась. В некоторые ее части он и вообще бы не пошел: на Сухаревку, где снесли Сухареву башню, на площадь Храма Спасителя, золотой купол которого некогда издали, за двадцать верст блестел над Москвой, в туманном сиянии: теперь на его месте зияла дыра, обнесенная забором.
Сейчас тоже невесело было проходить мимо пустого места Иверской часовни. Но прошел. И пересекши Театральную площадь – над Большим театром, на фасаде, все еще неслись победоносные кони – мимо прежнего Мюра и Мерилиза вышел на Кузнецкий мост.
Снег усилился, сумерки надвигались. Непрерывность белых хлопьев, их беззвучность, как бы невесомость, придавали некую таинственность самим местам. «Заносит и заносит, так и меня скоро занесет на Введенских горах…».
Пушкина в книжном магазине он достал без затруднения. Надев пенсне, рассматривал и другие книги, современных авторов. (При виде Маяковского содрогнулся, подавляя вздох, отошел.) Неожиданно глаза наткнулись на название: «Белый свет» – легкая нервная волна вдруг прошла по нем: на обложке стояло имя Глеба. Он взял книжку.
– Это антиквариат, довоенного издания, – сказал заведующий. – Несколько экземпляров осталось.
– Вижу, вижу…
Геннадий Андреич почти ничего не читал Глеба, считал его тоже «модернистом», и не близким. Но сейчас его имя взволновало. Все-таки муж Элли, отец Тани. Он купил и этот «Белый свет». («Напишу Елене в Париж, ей, конечно, будет интересно».)
Когда вышел из магазина, уже стемнело. Как и в прежние времена, блестели сквозь снег фонари Кузнецкого и шаги едва слышались: едва поскрипывали зимние его калоши по спокойно нараставшему на тротуаре снегу.
На углу Неглинного худенькая женская фигурка остановила его.
– Не узнаете?
Из-под старомодного капюшона выбивались полуседые волосы, знакомые глаза ласково светились.
– Аделаида Антоновна, батюшки мои, как не узнать, как не узнать-с.
Знаменитая Занетти взяла его под руку.
– Я могу пройти с вами немного вот тут по Неглинному? – говорила она с легким иностранным акцентом. – Если бы я была молодая, я могла бы вас компрометировать, но теперь ничего.
– Идемте, идемте-с, очень рад встретиться. Ну, как вы, как ваша Катенька?
Дмитрий Дмитриевич умер два года назад, так из Москвы никуда и не бежав – умер вовремя, до него не успели еще добраться. На его похоронах Геннадий Андреич был. Видел иногда и Аделаиду. Но редко. А теперь искренно обрадовался, встретив ее.
– Катенька служит в Комиссариате иностранных дел. Ничего, а я уроки даю, ничего, вы замечаете, мы не погибаем. Я получаю сорок два рубля в месяц.
Геннадий Андреич улыбался.
– Блестяще. Замечаю. Слава Богу!
– Как это у вас в церкви поется: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение…». Я хотя иностранка, но Дмитрий Дмитриевич это любил, он очень любил, и я поэтому знаю…
Так шли они по Неглинному, неторопливо разговаривая, все более белея от снега, все неслышнее ступая по его нарастающему покрову. Пересекли Софийку, приближались к Театральному проезду.
Занетти обернулась в сторону театров.
– А вы помните, я ведь неплохо танцевала?
– Танцевали божественно-с. Это я вам говорю.
Занетти остановилась, сделала легкий жест рукой в направлении театра.
– Да, вот там моя слава, и вообще, этот город Москва, здесь прошла моя жизнь… – довольно удивительно! Я была тут очень счастлива. Вы ведь любили Дмитрия Дмитриевича? Вы его друг, я знаю…
– Прекраснейший человек-с, я его всегда очень ценил.
– Знаменитая балерина… но представьте, счастлива я оказалась потому, что вот Дмитрий Дмитриевич так меня любил.
Они стояли на тротуаре, снег медленно и прохладно заносил их.
Занетти продолжала с неким как бы удивлением.
– Даже не понимаю, за что он меня так любил… Но вот все и прошло. То есть, эта счастливая жизнь, а не любовь. Любовь же всегда существует, и за гробом. И он меня по-прежнему любит – оттуда! Да, любит. И я его – отсюда. А уж теперь скоро встретимся.
Она вдруг улыбнулась, по-детски взяла рукой руку Геннадия Андреича у локтя и слегка погладила ее.
– Я рада, что вас нынче встретила, потому что вы его друг. Да, да, а в общем я заговорилась и зашла далеко, мне пора. И мне совсем в другую сторону.
Она пожала ему руку.
– До свиданья!
И вдруг тут же на тротуаре, точно стряхнув года, в шубке своей и калошах сделала то волшебное па, от которого замирал некогда Большой театр.
А потом, легко взмахнув ручкой, будто собираясь улетать, быстро и беззвучно потонула в снежной мгле.
Геннадий же Андреич взял извозчика. Потряхивая на ухабах, извозчик медленно вез его чрез Москву на Земляной вал. Геннадий Андреич прочно держал свой пакет с книгами. «Да, да, такая же осталась… Все в порядке. Несмотря ни на что-с…»
И ему было даже странно, но как-то и радостно, что вот на Неглинном, в полуголодной Москве, при убогой жизни, пред ним вдруг явилась волшебница.
Малая летопись Плющихи
Дом на Плющихе не весьма был наряден, но доволен удобен: двухэтажный, с просторным двором, разными сарайчиками, закутами, даже кой-где с зеленой травкой и собственной липой на дворе – половина ее свешивалась над чужим владением. Можно сказать о нем: средней давности особнячок в Москве, ныне обогнанный планетарным ходом истории.
Верх занимали Мстислав Казимирович и Собачка. Там же и мать. Ксану перевели вниз к Прасковье Ивановне, а в комнате рядом жила Евдокия Михайловна, специалистка по дефективным детям – худенькая, невысокая дама, скромно одетая, с остроугольным лицом и задумчивыми глазами.
Мстислав Казимирович пропадал в своем учреждении, Собачка – в больнице – как всегда, к свежести и здоровью тела присоединялся в ней некий лекарственно-больничный привкус. Ксана училась на бухгалтерских курсах, иногда плакала, готовясь к зачетам.
Евдокия Михайловна отдавалась своим дефективным. Здоровье ее было слабовато – начинался диабет.
Собачка за ее здоровьем наблюдала, как и за сердцем матери.
– Душенька, душенька, – говорила Евдокии, – вы со своими идиотами не надрывайтесь. Диабет такая вещь, утомление для него первый враг. Идиоты все равно такими же болванами останутся. Здоровье важнее возни с выродками и всяких ученых изысканий.
Евдокия Михайловна улыбнулась.
– Они вовсе не выродки. Просто очень несчастные дети. Хорошо еще, что не беспризорные…
– Знаю, знаю. Вы там со своим профессором разводите образцовый питомник. Знаю и уважаю, и даже ваше учрежденьице колом выпирает из всего окружающего, ну, да вы интеллигентка, аптечки и библиотечки, отдавать себя народу-богоносцу…
– А вы сами в больнице с утра до вечера и тоже стараетесь.
– И как же мне надоели эти родильницы, представительницы великого коллектива! При первых же схватках начинают пищать: «Ах, никогда больше не буду», а через год та же самая… ненавистница мужчин у нас же, как миленькая, и я принимаю нового гражданина для трудового отечества. Как выберется на свет Божий, так и готовый стахановец.
Евдокия Михайловна все улыбалась.
– Появляются и появляются. Ничего не поделаешь. Закон жизни. Да ведь, и вы так говорите, а если с вашей родильницей какое-нибудь осложнение, так вы в лепешку для нее расшибетесь…
– Ну, это во мне профессиональное.
– То-то вот и профессиональное. А меня интеллигенткой дразните.
Евдокия Михайловна и действительно была интеллигентка (как и сама Собачка, только сильнее выраженная). Училась некогда на Бестужевских курсах, слушала всех Кареевых, Гревсов, замуж вышла за студента-технолога – позже крупного инженера – и разошлась с ним. Сейчас жила затворнически. Кроме работы, занималась только церковью, в ближнем приходе о. Виктора, священника из молодых, которого весьма почитала.
– Тетечка, тетечка, – говорила о ней Собачка матери. – По-моему, наша Евдокия вроде монашки. Живьем хочет быть взята на небо.
Насчет небес и монашек у матери у матери взгляды были прохладные. Но к Евдокии Михайловне она относилась с уважением.
– Образованная женщина и достойная. Наверное, хорошая воспитательница.
Про себя мать думала: «Странно, что образованная, а так отдается религии».
Как и покойный отец, как все то поколение, считала, что священники, церкви, обедни – для простого народа. Люди «нашего круга» этим не занимаются. И с удивлением узнала, что именно о. Виктор окончил университет, да еще по естественному факультету, и вообще весьма просвещенный.
– Тетечка, знаешь, знаешь, у Евдокии было ведь большое горе. Ах, ужасная история. В самом начале революции, помнишь, когда она еще бескровной называлась, февральская, в первый же день в Петербурге убили ее сына – он молоденьким офицером был выпущен в Измайловский полк. У меня детей никогда не было, но я так понимаю… я бы с ума сошла.
– Да, – сказала мать, – страшное горе, конечно. Оно может вызвать в человеке всякие странности.
Горю Евдокии Михайловны мать весьма сочувствовала. Но у ней являлось и объяснение: по слабости, стараясь найти утешение, и обратилась она к религии. Это больше понятно.
– Тетечка, ты подумай: Сережа почти накануне всего этого окончил Павловское училище, в первом десятке. Ему дали вакансию в лучший гвардейский полк – он и стал измайловцем. Я его еще мальчиком помню – его отец товарищ Мстислава по технологическому. Трудный был ребенок, горячий, нервный, сколько она с ним возилась, но вырос красавцем юношей – очень прямой при этом и честный – знаешь, с оттенком рыцарства, как раз того, что для теперешних сволочей меньше всего требуется. А дальше идет уже судьба или воля Божья, понимай как знаешь. В день 27 февраля – не тем денек будь помянут – этому Сереже пришлось быть дежурным по полку. Нарядный, в фуражке офицерской, все с иголочки, ремни снаряжения, в кобуре револьвер. Дежурный по полку в день революции!
Мать подняла глаза – она чинила белье – сквозь пенсне серьезно посмотрела на нее.
– Да, какая случайность!
– Случайность ли, нет ли, только он по полковому двору расхаживает – а уж беспорядок полнейший, все почти разбежались и солдаты, да и офицеры, он один в своей новенькой форме, со стеком. Около полудня у ворот толпа. Ворота заперты. А калитка открыта. Он и вышел к калитке. Тетечка, ты понимаешь… – Голос Собачки дрогнул, на мгновенье она задохнулась. – Он загородил дорогу богоносцам. А они тут же и закололи его штыками, изрубили саблями. Это и называется бескровная. А Евдокия находилась в Калуге, работала там в своей школе. Ну, и приехала, разумеется, в Петербург. Можешь себе представить, как все это происходило…
Мать сняла пенсне и отложила шитье в сторону.
– Добралась до Петербурга через несколько дней. И нашла тело сына, совершенно обнаженное, все исколотое, полузамерзшее, в каком-то сарайчике. Обобрали на всякий случай для утверждения свободы. Пропили всю его одежду, ремни, револьвер, это уж как полагается. Насилу добилась выдачи тела. А потом похороны, под улюлюканье, свист… Тетечка, она большой крест несет. Но посмотри ты, как…
* * *
В однообразии дней время текло для матери довольно мирно, и даже часть прежней жизни будто бы сохранилась – эта часть была Ксана, Собачка, Прасковья Ивановна, возможность жить по своим привычкам, вечерами раскладывать пасьянс.
Делала она это, как и в Прошине, тоже в столовой, и Ксана, почти взрослая уже девушка, такая же все тихая и болезненная, нередко присутствовала (если не уходила куда-нибудь на собрание клуба или в театр): в ней смешивалось прежнее, прошинское, в чем выросла, с окружающим новым, но и в новом этом было неожиданное – с Евдокией Михайловной часто ходила она теперь в церковь, чего раньше не знала. И это ей нравилось. Нравилось и сидеть с «бабушкой», когда та раскладывает пасьянс, робко смотреть на знакомые карты, ложившиеся причудливыми узорами, слышать знакомые с детства вздохи, иногда прислоняться к бабушкину плечу, как к опоре незыблемой.
– Иди спать, смотри, глаза слипаются. Завтра опять ученье…
Сама же мать, чем дальше шли дни, сильнее внедрялась в мечтания об отъезде. Говорила об этом мало, но действовала. Просто она начала хлопоты. Заполняла анкеты, потом добавления, доставала свидетельства: новые анкеты. Ждала ответов – или это были отсрочки, или требования новых сведений. Но ничто ее не смущало; она отыскивала другие связи. Теперь уже и Собачка, и Анна были вовлечены в дело. Куда-то ездили, хлопотали о том, чтобы сильные мира сего поддержали ходатайства. Матери было все равно куда подавать. Она убедилась теперь в одном: Глеб с Элли и Таней не вернутся. Значит, надо самой трогаться. Значит, надо хлопотать.
В небольшом, суховатом от годов теле будто бы это только и жило, и двигало – вынь устремление, существо, называемое «бабушка» или «мать», затихнет, как многолетние часы с ослабевшей от годов пружиной.
Евдокия Михайловна тоже вошла в круг бабушкиных домогательств – содействовала, чем могла: вспоминала прежние знакомства и давала письма. Иногда ездили осведомляться вместо матери. Это сближало их. Евдокия Михайловна заходила теперь к ней нередко и без дела, просто в свободную минуту.
– Славная у вас девушка эта Ксана, – сказала она однажды матери в разговоре. – Нельзя сказать, чтобы быстра и расторопна, но верна. На нее можно положиться. Как это вы ее такую вырастили?
– Нет, что же, просто у нас в доме выросла вместе с моей внучкой Таней. Она хорошая, но слабовата здоровьем и робка. Для теперешней жизни не совсем подходяще.
Евдокия Михайловна молчала. В доме тоже было совсем тихо, окна в столовой, где они сидели, отворены, золотой июльский вечер входил со двора – липа благоухала и слегка струилась листиками в предзакатном солнце.
Мать, по обыкновению, шила. Евдокия Михайловна сидела лицом к окнам, в кресле, маленькие ручки на подлокотниках.
Точно бы она отдыхала. Большие карие глаза разглядывали задумчиво не то липу, облитую блеском, не то небо кристально-златистого вечера.
Она вдруг глубоко вздохнула – будто страница перевернулась в ней с этим вздохом.
– Как вам сказать, а может быть, робость, кротость и некоторое смирение как раз и помогут ей в теперешней жестокой жизни.
Мать покачала головой:
– Сомневаюсь. Помолчав, добавила:
– Вот, собираюсь уезжать, а о ней сердце непокойно. Кто за ней без меня присмотрит?
– Ну, Бог даст и устроится…
– Я знаю, что вы к ней очень добры. Не бросайте ее, когда меня здесь не будет. Только не делайте из нее… монашку. Она еще молода, ей жизнь нужна. В будущем семья, дети.
Мать не добавила «любовь». Все «такое», любовное и романтическое, считала она пустяками.
Евдокия Михайловна улыбнулась:
– Я никакой монашки из нее делать и не собираюсь. А что она в церковь теперь чаще ходит и к кружку о. Виктора стала ближе, это, я считаю, только ей на пользу.
– Кружки, кружки… опасно по нашим временам. Смотрите, как бы вас на цугундер за эти кружки не потянули.
– Нет, почему же?.. Мы при храме, у нас сестричество. Мы занимаемся помощью бедным и обездоленным, с о. Виктором читаем Священное Писание, он нам объясняет. Тут политики никакой нет.
Мать посмотрела на нее недоверчиво.
– Само то, что вы божественными делами занимаетесь, уже опасно.
– Варвара Степановна, – ответила она тихо, но довольно твердо, – что же в жизни теперь осталось, кроме этого? Если отказаться от высшего, то ведь чем же жить именно вот в этом страшном мире? Опасно или не опасно…
Мать ничего не ответила. Евдокия Михайловна продолжала:
– Ведь у вас есть свой высший мир, своя любовь. Вы стремитесь быть с сыном, его семьей, служить ему. Я понимаю это. У меня и самой был сын, я ему так же, как вы, все отдавала.
Она вдруг умолкла. Мать вздохнула.
– Да, знаю. Мне племянница кое-что рассказывала.
Отворила дверь. Вошла Ксана. На ней было светлое платьице с передничком. От ходьбы она чуть порозовела, обычная лимфатичность смягчалась, – это ее украшало. Евдокия Михайловна улыбнулась.
– Как раз о тебе говорили…
Ксана подошла, поцеловала ее и бабушку.
– Я заходила к о. Виктору. Он просил передать, известить всех – собрание будет не в четверг, а в пятницу.
– Вот и отлично, – сказала Евдокия Михайловна, – мне как раз и удобнее.
Ксана взяла со стола, на тарелке, яблоко. Как бы извиняясь, обратилась к матери:
– Жарко, яблочко хорошее…
Яблоко было «коричневое», яровое, сладкое. Ксана неторопливо откусила, поглядела на Евдокию Михайловну неяркими, несколько золотушными глазами, улыбнулась.
– Это наши, прошинские яблоки. Мужики знакомые из деревни приезжали, бабушке привезли в подарок.
Евдокия Михайловна поднялась.
– Мне надо еще к докладу готовиться. Ваша племянница подсмеивается надо мной, что я все с дефективными вожусь, но уж кто к чему приставлен.
– Смотрите, не надорвитесь…
– Трудно теперь отстать, если бы и захотела. Но я не хочу. Это очень интересно.
Когда она вышла, мать подняла на Ксану от шитья глаза, сняла пенсне.
– Тебе она нравится?
Ксана помолчала. Потом тихо ответила:
– Очень.
– Ну вот, я покойна буду, что оставлю тебя с такой, как она.
Ксана подошла к ней, взяла руку и поцеловала.
– Мне тебя никто заменить не может.
Мстислав Казимирович легко воспламенялся, вскипал, потом, как неврастеник, впадал в уныние и меланхолию. Чтобы утешиться, читал тогда Библию.
Инженером считался он отличным, всегда много зарабатывал, но никак в инженерство свое не мог вместиться. По энциклопедическому словарю изучал медицину, лечил сам себя от воображаемых болезней и одновременно составлял планы немедленного спасения России (входила сюда и надежда на помощь Римского Папы). По Апокалипсису высчитывал сроки. Иногда, закатывая под лоб голубые глаза, он лихорадочно изводил Собачку своими мечтаниями и доказательствами того, что «этому» срок – 2 года и 5 с половиной месяцев.
По натуре отзывчивый, он раздавал много, но порядочно и собрал, несмотря на то, что раза два прогорал еще в прежней жизни на рискованных предприятиях. В революцию у него скопилось некое золото – он считал, что хранить его надо непременно – и Собачке надлежало выслушивать и стараться понять, для чего монеты эти назначаются: то ли на случай войны, то ли для бегства, или помощи в свержении режима. Планы менялись в связи с нервами, и Собачка привычно впускала рассуждения его в одно ухо, а в другое выпускала: никак в ней они не задерживались.
На какую бы цель ни назначались полуимпериалы эти, императорских времен, покоились в земле, в жестяной коробке, как раз в двух шагах от липы во дворе. Там лежал большой булыжник, если его отвалить…
Это место было для него священно. Иногда по ночам, волнуясь, и даже шепча молитву, он с потайным фонариком, когда все спали, выходил проверять сокровища – хоть на скупого рыцаря не находил вовсе.
– Бабушка, – сказала раз утром Ксана, зайдя к ней, – я нынче ночью как перепугалась…
– Чего же пугаться? Дом полон жильцов, все тихо. Разве сон какой-нибудь плохой видела?
– Не сон. Я читала на ночь, потом легла, долго не могла заснуть… до рассвета уж недалеко, но темно все-таки. Вдруг вижу – по двору огонек движется. Я испугалась. Думаю, а вдруг воры?
– Герунда! Какие тут могут быть воры?
Воры-то отлично могли быть, но мать всегда считала, что ничего страшного и необычного произойти не может: пережив и войну, и революцию, никак не могла выйти она из внутреннего равновесия, совершенно несокрушимого.
Ксана тихо почесала себе пробор пальчиком на голове.
– Это и не воры были, бабушка. Я встала с постели, потихоньку, чтобы маму не будить. Подошла к окну поближе – вижу, Мстислав Казимирович с фонариком, и прямо к камню под липой. Там он сидел, что-то отвалил, как будто вынимал или клал, я уж не рассмотрела. У меня очень сердце билось, ноги холодные, прямо отнимаются… И что там он делал, как ты думаешь?
Мать чувствовала себя в это утро вообще усталой. Тоже плохо спала ночь, болело где-то внутри, ниже левого плеча. Была сейчас сумрачна.
– Это все тебе примерещилось. И, пожалуйста, не вздумай еще кому-нибудь рассказывать.
Ксана робко подняла на нее глаза, будто в чем провинилась. Глаза эти были слегка воспалены, как бы и натружены чтением.
– Нет, правда-правда не примерещилось! Три раза правда.
– Вот будешь на ночь каши много есть, и не такие еще вещи увидишь.
Ксана замолчала. Она наверно знала, что это вовсе не сон, и видела она именно Мстислава Казимировича, но раз бабушка находила, что не видела, у нее не хватало сил настаивать.
Поняла она только, что рассказывать о виденном нельзя, в этом есть что-то тайное. И Мстислав Казимирович мог быть покойным: ничего Ксана не разболтала бы.
Мать же перевела разговор на другое. О зарытых монетах знала, но распространяться об этом, даже с Ксаной, считала излишним. Так и осталась официальная версия: Ксана наелась с вечера каши и видела во сне всякий вздор.
Для самой же матери день этот оказался невеселым. Было жарко. В жару ей вообще становилось хуже, замирало и трепетало сердце. Так вышло и нынче – приходилось много лежать.
Перед вечером к ней зашла Евдокия Михайловна.
– Душно, – сказала она. – Вы не находите? Гроза будет, небо заволокло, дышать нечем.
Мать слабо ответила со своего диванчика:
– Ничего, пройдет!
Евдокия Михайловна была особенно утомлена, видимо, и расстроена. Сидела у диванчика в кресле с таким видом, что вот бы так и сидеть, не двигаться, не вставать вовсе.
– Ездила ваша племянница к тому коммунисту, который из Одессы приехал? Я еще письмо к нему дала.
– Ездила.
– Что же он?
– Обещал на днях сделать. Евдокия Михайловна вздохнула.
– Я ему в прежние времена много помогала. Значит, не забыл. От него много зависит. Теперь, Бог даст, скоро можно будет вам трогаться. Сколько раз вам отказывали?
– Пятнадцать. В шестнадцатый подаем.
Мать говорила тихо, но в самом слабом голосе ее был такой спокойный, непоколебимый оттенок, что все равно: если откажут в шестнадцатый, подаст в семнадцатый.
– Нет, теперь вы получите. Если он согласился поручиться… да ведь он и Глеба Николаевича знал здесь.
В комнате понемногу темнело. Собиралась туча – сумрачная и неотразимая, иногда в ней поблескивали дальние молнии. На ее фиолетовом фоне дым из маленькой фабричной трубы казался почти белым.
Несколько времени молчали.
– У нас в кружке горе, – сказала вдруг Евдокия Михайловна. – У Поповой давно уже был арестован сын. И вдруг перестали принимать передачи. Вчера окончательно выяснилось: расстрелян. Там же, в подвале, как они это делают. А возраст его – девятнадцать лет.
Мать сняла платочек, которым обычно прикрывала глаза от света, и повернулась лицом к ней.
– Да не может быть! Это который у нас тут бывал и помогал делать задачи Ксане? Павлик?
– Да, Павлик Попов.
– За что же?
– Ну, пристроили к какому-нибудь заговору… мало ли за что. Не его одного. Никогда не узнаешь.
Опять замолчали. Только вдалеке урчал гром, да ветер пролетал по Плющихе вихрем, взметая пыль.
– Когда мой сын погиб, – продолжала Евдокия Михайловна, – на меня нашло странное, как бы стеклянное спокойствие… точно я от всего мира отделена. Они там, а я здесь. Некоторые считали, что я холодна или там бесчувственна. Для меня Сережа был всем в этой жизни, и его взяли. Но Господь не оставил меня тогда. Он не дал мне впасть в отчаяние. Я себе говорила: «Да будет воля Твоя!» Взял, – значит к лучшему. Значит, для чего-то надо было. Могло быть и хуже. У Поповой и вышло хуже – Бог знает, что они там в тюрьме претерпели.
Мать опять повернулась на спину и накрыла лицо платочком. Из-под угла его медленно выползла слеза.
– О, Боже мой! Боже мой!
Евдокия Михайловна сидела тихо, прочно, как бы вновь была за стеклянной стеной.
– Я иногда мечтаю… фантазии, конечно. Дожить бы до того дня, когда во славу всех убиенных и умученных будет построен храм… Спаса на Крови, и вот там молиться о них, и там их любить. И там другие помолятся о нас, страждущих матерях, которым никогда уж не забыть детей своих… никогда, как бы мы ни казались сдержанными.
Она вдруг отвернула лицо к спинке кресла. Лоб прижала к бархату его, потертому и запыленному, точно не хотела, чтобы кто видел ее лицо. Но никто не смотрел, а Господь все равно видел. И в разразившихся ударах грома, в блеске молний и сплошном белом ливне отделены были опять обе эти женщины – лежавшая и сидевшая – от остального мира, клокотавшего в стихийных страстях.
Дождь был бурнейший, но продолжался недолго. Ветер пронес грозу дальше, в трепете молний и серо-зеленой туче, теперь уходившей. Евдокия Михайловна встала и отворила окно.
Понемногу дождь стал стихать. А потом перестал вовсе. Гром гремел, уходя. Бездна разверзлась – тишины, глубины, благоухания. В окно втекал посветлевший легкий, сияющий знаком Царствия воздух.
– Легче стало дышать, – произнесла тихо мать.
Вошла Ксана. Она тоже подошла к окну, высунулась даже из него. Плющиха была безмолвна. Ни человека, ни лошади. Не очнулась еще жизнь от грозы.
– Бабушка, – сказала Ксана, – смотри – радуга… Радуга вознеслась, правда, райскою дугой, упиралась нижним концом чуть ли не в их дом. Вся пела неземными переливами цветов.
– У нас так в Прошине пахло, помнишь, бабушка, после дождя? Еще жасмин у балкона цвел.
Евдокия Михайловна поднялась, подошла к Ксане, слегка ее обняла.
– Ксана, завтра мы служим панихиду у о. Виктора. Павлика Попова расстреляли.
* * *
Солнце ярко светило, небо чистое, крепкое, кое-где пухлые облачка, прохладный ветер – начало русского августа, когда в деревне убирают овес, когда ястреба одиноко плывут в синеве, их особенно много в августе. Этот день был свеж, бодр и везде, и на старой Плющихе, выходящей на Девичье поле, где у Погодина жил некогда Гоголь, где не так давно трудился в клиниках муж Анны.
В двухэтажном особняке с липой во дворе и зарытым сокровищем все текло жизнью обычной: Ксана училась, Евдокия воспитывала, Собачка лечила, Мстислав Казимирович ездил в свой главметалл, пробовал новые средства против печени, сочинял новые планы спасения человечества. Но именно в этот сияющий день, заметавший великолепием своим безвестную могилу Павлика, в особняке на Плющихе произошло некоторое событие.
Мать и Собачка с утра выехали на дребезжавшем извозчике в те места центра Москвы, откуда управлялась вся громадная страна, где решались разные судьбы – жизни ли, смерти, удачи, гибели. Мать, как обычно, прямо и непоколебимо восседала на извозчичьей пролетке, августовский ветер потрепывал на ее шляпе то страусовое перо, которое всегда было, всегда будет. Собачка была так же румяна, могуча, раз навсегда полна ненависти к хозяевам и дворцам их, так же должна сдерживаться, чтобы не повредить себе или матери.
Ехали они в шестнадцатый раз все за тем же. И как всякий день отличается от предыдущего, так и этот тем был особенный и замечательный, что в одиннадцать часов двадцать минут мать получила те бумаги, что нужны ей были для выезда – восьмидесятилетнею рукой, писавшей с твердым знаком и через ять, но не дрогнувшей, расписалась в их получении.
С той минуты дом на Плющихе перестал для нее существовать. Извозчик вез с Лубянки некую иную даму со страусовым пером, уже уплывавшую в дальние пространства Запада. Мать находилась еще здесь, у Собачки, но ее как бы и не было. Париж вовлекал ее в свой давний, неизменный оборот.
Продолжение в Париже
Подъемник плавно возносил Глеба, слегка гудя. Глебу нравилось это нематериальное восхождение. Нравился, впрочем, весь тихий июльский день в опустевшем Париже. Так легко, много сил, все куда-то идти, думать, делать… (делать – значило для него писать).
Отворила французская горничная. Редактор был свой человек, русский, жил в Пасси, в хорошей квартире.
– Мсье просил подождать, он сейчас вернется.
Черненькая девушка провела его в кабинет и ушла.
«Подождать так подождать, ничего не имею».
Мягкий ковер, книги, тишина, отличное кресло – Глеб сел в него, глубоко погрузившись. В открытую на балкон дверь – свет. Бездна неба, дальняя сиреневая тучка, сетка мелкого дождя, а правей сноп солнца вырвался, играет по земле. Налево Эйфелева башня. Внизу Сена, к ней сходят сады, а дальше – по коричневато-серой пелене домов бродят тени тучек, или солнце выхватило теплым своим объятием церковь, сад, крышу.
Сиамский кот, любимец хозяина, неслышно выплыл откуда-то, сел на книжную полку, уставился на Глеба зеленовато-радужным, стеклянным взором – драгоценный мех его тоже отливал светлыми, голубовато-рыжеющими тонами в искрах. Он сидел неподвижно, магически завораживая взглядом. Что-то электрическое исходило от этого великолепного кота с бессмысленными глазами.
Глеб встал, подошел к двери, вышел на балкон. Кот перевел на него стеклянный взор. Глеб вздохнул. Он не был даже недовблен тем, что приходилось ждать. Облокотившись на перила, в некоем колдовском наваждении смотрел вниз.
Пасси! Много лет назад, юношей был он здесь с Элли впервые – там позади жил русский поэт, тоже в шестом этаже, но тогда подъемников почти не было, как и автомобилей. Налево особняк Метерлинка. Жизнь казалась необозримой. В ней прочное, всегда существующее и неизменное – Россия, Москва, Прошино, куда после скитаний заграничных и возвращаются. Это само собой понятно.
Зазвонил телефон. Глеб обернулся. Черненькая француженка держала уже трубку, там что-то слабо рокотало.
– Oui, monsieur.
Она передала приемник Глебу. Знакомый голос, несколько взволнованный, горячо извинялся: совсем не ожидал, задержали по делу, но настолько, что прямо боится, вряд ли ранее часа сможет и выбраться.
Глеб улыбался. Ему было все равно. Не хотелось вообще никого видеть, ему лучше было в этом пустынном кабинете, с азиатским котом, с безмолвным небом и светом с таинственным былым, вызванным как бы магически.
Некий внутренний ток нес совершенно в другую сторону, и сами эти слова приятеля казались совсем ненужными.
– Ради Бога не беспокойтесь. В другой раз увидимся. Это все пустяки.
И, повесив трубку, испытывал чувство, что даже жаль, что надо уходить.
Но жизнь продолжалась. Взяв шляпу, должен он был спускаться вниз, держать путь в Otel.
Неторопливо проходил Глеб по склону улицы Ренуар, а потом знакомыми местами мимо новой церкви, мимо богаделен в парке – остатке лесов, где некогда охотились французские короли. Автомобилей было мало. По тротуарам сыро, но вообще тепло, набежит тучка, потом солнце, лицо неба смиренно, мало даже подходяще для Парижа.
По улице Буало он подходил уже к своему дому. В домике напротив старые каштаны начинали чуть буреть, коричневые листья кое-где виднелись сквозь решетку на земле – их опалило зноем. И сейчас все это было в странном молчании, тоже как бы в тихом обворожении. На углу Глеб поднял голову и взглянул на свой дом, наверх, к четвертому этажу. Из окна выглядывала Таня, ее продолговатое личико показалось ему грустным. Она робко ему махнула, улыбнулась. Он вдруг почувствовал в ногах холод, медленно стал подыматься по винтообразной лестнице. Когда дошел до своей площадки, дверь в квартиру оказалась приотворенной. Таня стояла в прихожей. Лицо ее было как будто такое же, но и совсем другое, чем всегда.
– Из Москвы телеграмма…
В окне виднелись каштаны, теперь верхи их на высоте взора, могуче-зеленые, с коричневыми подпалинами – и они странно плывут в небе. Таня хотела сказать что-то, но лицо ее вдруг исказилось, точно судорога прошла по нему. Она прикрыла его рукой.
Глеб взял телеграмму, вошел в свою комнату и бессмысленно сел на диван. В телеграмме было сказано, что мать внезапно скончалась.
* * *
Через несколько времени пришло письмо.
«Глеб, – писала Соня, – ты ведь знаешь, как тебя и тетечку я люблю, и как трудно мне писать это письмо Но, конечно, пишу – надо. Чувствую твое горе, но ты должен знать, что тетечка и жила у меня и скончалась, окруженная любовью и уважением. Да вообще, она такой была человек, которого и нельзя не уважать – так всегда с ней и получалось.
Ты, наверное, знаешь из ее писем, что все последнее время она только и жила отъездом. Трудное дело, но она проявляю упорство удивительное. Глебочка, ты подумай, ей исполнилось восемьдесят лет, но по живости, с какой она всем этим занималась, ей можно было дать чуть не вдвое меньше. Ведь она хлопотала полтора года! За это время менялись правила выезда, ей приходилось доставать кучу бумажек, удостоверений, подавать анкеты, клеить марки… – Разумеется, ей помогали. Не можешь себе представить, как все сочувствовали! Она сама говорила, что тронута участием иногда даже полузнакомых людей, хлопотавших за нее, дававших рекомендации, добивавшихся свиданий. В моей квартире живет одна дама, святой жизни женщина, ученая и церковная, вот и она помогаю В последнюю минуту вспомнила какого-то прежнего своего знакомого коммуниста, дала письмо к нему, и на шестнадцатый раз тетечке разрешили.
Мы с ней вместе и ездили, конечно, она очень волновалась. Но ты ее знаешь: волнения своего не выдавала. Только вздыхала иногда. Приехали домой с разрешением в кармане, и осталось только уже билет брать; она была бодра, но к вечеру почувствовала усталость – это и раньше случалось с ней – много лежала. Дни эти выдались жаркие, грозы, конечно, для старого сердца неважно. Но на другое утро ей стало уже лучше, днем была довольно бодра, разбирала даже свои вещицы, письма твои перебирала и читала. Так продолжалось дня три – то лучше, то немножко хуже, ты понимаешь, конечно, меня тревожило, как это она поедет такая слабая – хотя до Берлина у нее нашелся попутчик, один инженер, Мстислава знакомый по службе – его посылали на приемку заказов, в Германию.
И вот утром во вторник, часов в семь, слышу, она у себя в комнате что-то застонала. Я к ней. Вижу, дело неважно. Держится рукой за грудь, шепчет: „Больно“ Я сейчас же воды согрела, знаю, что при синкопах помогает, приложила резиновый пузырь, будто лучше стало… Подняла Ксану, жилица уже встала. Прасковью Ивановну за доктором. А тетечке опять хуже. Слабеть стала, холодеть, и вдруг говорит: „Нет, мне уже не уехать. Плохо мне, Соня. Должно быть, конец“. Я, понятно, говорю: „Что ты, тетечка, сейчас доктор придет, вспрыскивание сделает и все будет хорошо..“ Она мне сказала тогда: „Я хочу причаститься. Пошли за священником“. Евдокия Михайловна сейчас же побежала. А она все слабеет. Молчит, лежит, я держу руку и чувствую – плохо, пульса почти нет.
И представь, является Евдокия к своему же священнику, такой о. Виктор, молодой, очень хороший, а он служит в церкви раннюю литургию. И, как полагается у них, во второй части ее священник уже не может прервать, уйти… – пока литургия не кончится. Она возвращается и говорит подождать надо. Через полчаса придет со св. дарами. А тетечка очень уж ослабела, сказала: „Не дотяну, Соня. Глеба обними, Елену, Таню“. И правда, не дотянула. Глеб, Глеб, она тихо отошла, клянусь тебе нашей детской дружбой, она как бы уснула и не мучилась. Батюшка о. Виктор когда пришел со св. дарами, она уже успокоилась. Он поклонился ей в ноги, а нам сказал, что, по верованию Церкви, когда отходящий просит причастия и отпущения, а этого нельзя сделать из-за внешних препятствий, то мистически причащает св. Великомученица Варвара. И обрати внимание: ведь сама она как раз носила имя Варвары. Отпевал ее в своей церкви то же о. Виктор, мы похоронили ее на Дорогомиловском кладбище, ты знаешь где это, недалеко от нас, за мостом через Москва-реку».
Через несколько дней Таня получила письмо от Ксаны.
«Я тебе не сразу написала, дорогая моя Танечка, о нашем горе, потому что трудно было. И сейчас трудно, все плачу, а все-таки написать хочется, потому что ты у меня одна подруга и осталась, новых нет, да и тебя, наверное, никогда не увижу.
Бабушка скончалась внезапно, и теперь у нас стало так тихо и грустно, не можешь себе представить. Я ее очень любила и привыкла к ней с детства, я от нее только хорошее видела. Слава Богу, у меня есть еще и своя мама, но она тоже стала слабее, и все жалуется на печень. Танечка, я боюсь остаться совсем одной. Я вообще боюсь. Мне все кажется, что моя жизнь будет ужасно несчастная. Ну, не хочу тебя расстраивать. Вот еще только сообщу о бабушке: о ее кончине очень скоро узнали в Прошине, и представь, третьего дня заявился к нам сын комиссара, Сенька, он с нами еще в палочку-постучалочку играл, а теперь уже взрослый парень, кажется, комсомолец, и привез от крестьян Прошина бабушке на могилку сноп овса с нашей земли – теперь как раз овес убирают. Подумай, какое внимание! Мы его очень благодарили, Софья Владимировна угостила его чаем, он много рассказывал о деревне. Все теперь изменилось, все другое.
У нас тут живет одна дама, очень скромная и богомольная, хотя и очень образованная. Она сказала мне, что бабушка, незадолго до кончины, когда думала, что уезжает к вам в Париж, говорила с ней обо мне, вроде как бы завещала меня ей. И вот мы вчера с ней снесли этот сноп на могилку бабушки, на Дорогомиловское кладбище. Там хорошо. Много деревьев, зелени, и как будто за городом. Есть еще тут один священник, о. Виктор. Он на могилке отслужил панихиду, а мы поставили сноп стоймя в ногах бабушки».
Таня читала это письмо и сама, и вслух отцу, матери. Обнимала и целовала Глеба. Ложась вечером в постель, вдруг вспоминала, как бабушка говорила ей в Прошине «там посмотрим» (значит – нельзя), или на ночь, уложив, приносила карамельку: ну, и вот бабушки этой нет, никогда она ее не увидит. Вновь сжимало горло. И вдали виднелось – так же вот уйдут однажды и отец и мать…
Засыпала с мокрыми глазами. Но ей было всего семнадцать лет. В следующем году кончает лицей, а теперь собирается на юг, к морю, там будет лагерь, молодежь, экскурсии, купанье… Столько дел, столько жизни! Жизнь-то еще начинается, все впереди, в кипении юной крови, былое и было, и вот оплакивается, но жить не прошлым, а будущим. Утром, вскочив, бежать мимо соседнего домика с каштанами и старичками под ними, по солнечному проулку на улицу Микель-Анж, к подруге: та тоже едет на юг, надо советоваться об отъезде, нарядах, хохотать беспричинным девическим смехом, говорящим о молодости и скопившихся силах.
* * *
Таня в начале сентября и уехала. А в Париже началась теплая и прозрачная осень. После летней пустынности город начинал оживать. Медленно, все же безостановочно приливала к нему жизнь, больше виднелось детей, чаще на улицах молодые, загорелые лица, обвеянные морем, ветром. А парижское солнце сдержанно, бледновато, изящно, как все тут. И как все – далеко.
Церковь, панихиды, сочувствия, письма, все то раздирающее, что всегда бывает, было, как и само горе, которое неизбежно. Хочет человек или не хочет, а из горькой чаши вкусит. Через все пройдет – и пойдет дальше. И увидит, как неудержимо все течет вокруг, и как сам течет он, изменяясь, не совсем таким входя в следующий месяц, как входил в прошлый.
Безветренный сентябрь стоял в Париже, с голубоватой дымкой над Булонским лесом, первыми бурыми листьями под ногами, дальними свистками поездов. Глеб много бродил один. Подымаясь боковой аллейкой в парке, мимо ипподрома, за живой изгородью из кустарников, выходил несколько выше к двухсотлетнему кедру, простиравшему вширь темные, зонтикообразные лапы. Суровое и вековое, суховатое и чужеземное было в этом дереве из Ливана, наперекор годам все утверждавшим бытие свое. Но за ним начиналась небольшая полянка и газон, там стояла скамья, там уединение и свежая зелень и уступы оранжерейных садов вниз, и дальний вид за Париж на туманно-синеющие холмы. Здесь можно было подолгу сидеть, смотреть и дышать, и если слеза набежит, отереть ее, не торопясь.
Этот вид успокаивал, погружал в прозрачную ясность.
Да, слилась его жизнь с Парижем и отлилась от России. Помнил он первое время – Германия, итальянское побережье… – но только тут, в этом Париже, едва въехав в него ранним декабрьским утром из Италии, ощутил прочно: вот теперь начинается.
Начинается то, о чем вовсе не думали, уезжая из Москвы. Началась просто другая жизнь, эмигрантская. Это изгнание. Никаких Прошиных нет, нет Москвы, нет былого, все это осталось там, и живет лишь в душе.
И мать прочно жила в ней, прочнее, конечно, всех. Жила в письмах, желаниях. Она должна была быть здесь, он так много думал об этом и так мечтал, и так сочинял планы-фантазии, с возможностью принять ее, устроить в довольстве и благополучии. Пусть знал, что все это вымыслы, но они становились и частью жизни. Теперь это кончилось. Все ясно и очень просто закончилось.
Вокруг зеленел газон, впереди голубые елки питомника, дальше холмы, сзади простирал ветви, как раздвинутые руки, кедр. Проходя назад мимо него, Глеб как бы ощущал объятие. «Был, есмь и буду». Вечность воздымалась в этой ясности, в ней ушедшее было и недосягаемо, и близко.
Геннадий Андреич
На похоронах матери Анна присутствовала. Высокая, несколько постаревшая и как бы надломленная, но все с теми же луиниевским глазами, некоторой суровостью и резкостью движений, она на кладбище господствовала. В своей накидке, старомодной шляпке нервно ежилась, смахивая иногда слезу.
Бросив горсть земли в неглубокую могилу, обняла Ксану довольно повелительно.
– Не плачь, все пройдет. Тебе учиться, жить надо, а не разливаться…
И поцеловала в лоб властно. Ксана испугалась. Хоть и знала «тетю Аню», но вообще несколько боялась ее, а теперь вдруг почувствовала себя виновной. Но рядом была Собачка, Евдокия Михайловна, Мстислав Казимирович, все тоже взволнованные и печальные – и вообще это теперь хоть и новый для Ксаны, но отчасти уж свой, верный и прочный мир. И смущение ее было минутным. Анна же обратилась к Собачке.
– Не увидела Варвара Степановна своего Глеба. Ну, что же – значит, так надо было.
Глаза ее блистали. В них было нечто и восторженное и решительное.
– Священник у вас хороший, – сказала она Евдокии Михайловне. – Вашего прихода? Я о нем слышала.
О. Виктор заправлял под скуфейку недлинные волосы, укладывая в портфель кадило.
Евдокия Михайловна вздохнула.
– Да, хороший. Устает он очень.
На кладбище было пустынно. Августовский ветер, теплый, сухой, налетал, шурша травками пожелтевшими. Но покой березок, лип был нерушим. Курлыканье горлинки в огромной иве лишь усиливало его.
– Душечка, Анна Геннадиевна, – говорила у входа Собачка, слегка запыхавшаяся и раскрасневшаяся. – Заходите к нам, помянем бабушку чайком, мне недавно меду достали…
– Спасибо, не могу, мой друг, у меня Женя родит, муж утром в лечебницу отвез, может быть, уже внук или внучка появились… я спешу, да и сердце непокойно, знаете, всегда при этом… Так вот и выходит: умираем, рождаемся, без конца, все без конца. Сейчас тороплюсь, в другой раз с удовольствием. А пока – прощайте.
Анна действительно спешила. Обгоняя медленно возвращавшихся с кладбища, за Москвой-рекой вскочила на трамвай, и по Арбату покатила к своей Жене, на другой конец Москвы: надо было попасть вовремя к новому внуку, новому пестованию и заботам, трудам, волнениям. Ко всему, что и составляло ее жизнь. «Пока держусь, – говорил вид ее, – так вот и буду носиться с Дорогомилова за Зацепу, а оттуда на Земляной вал, так вот и буду встречать, провожать, кормить, нянчить, стеречь… А свалюсь – дело другое».
И она увидела в этот день на Зацепе нового наследника, обнимала Женю, а уже к вечеру, полуголодная, но возбужденная, летела на Земляной вал с новостями.
Там еще ничего не знали, все шло по-обычному. Агнесса Ивановна, в светлом капоте, мелких, легких кудряшках на голове, сидела в столовой, смотрела, как Маркан раскладывает гаданье. Когда Анна сказала о матери, эмалево-небесные глаза ее стали вдруг влажны. Она тряхнула слегка головой – завитки волос вздрогнули.
– Глебочка будет теперь в Париже плакать…
Маркан оторвалась от гаданья, сумрачно посмотрела на Агнессу Ивановну.
– И хорошо сделала, что упокоилась. Подумаешь, какая радость околачиваться тут…
– А у Женички, ты говоришь, чудный сынок? – перебила Агнесса Ивановна, обращаясь к Анне. – Очень мил? Херувимчик? Ты подумай, Маркан, настоящий херувимчик!
Лицо ее приняло привычное, восторженно-сентиментальное выражение, но у нее было столько внуков, внучек, а теперь вот новый и правнук, что вся нежность, умиление ее натуры изливались как бы на всех сразу. На каждом же в отдельности – когда они рождались, болели, иногда умирали, – она сосредоточиваться не могла.
Маркан закурила папироску и встала. Лицо ее выражало явное неодобрение. И к чему это разводить новую жизнь? Со старой не разделаешься.
Вошел Геннадий Андреич. Он был несколько задумчив, хмур. Все-таки сказал:
– Анна, рад тебя видеть…
– Я сегодня, папа, и с похорон, и с рождения, – говорила Анна, все еще блестя глазами, несмотря на морщинки, утомление. – Такой выдался денек.
Геннадий Андреич сел.
– Неудивительно-с… Так всегда и бывает.
Узнав о кончине матери, перекрестился, ровным тоном сказал:
– Царство Небесное. А каков ее возраст?
– Восемьдесят.
– На два года меня старше. Ничего, все к тому клонится. Ничего, все хорошо-с…
– Папочка, а твоего правнука мы с Женей думаем назвать Геннадием, в твою честь.
– И напрасно-с. Имя тяжеловесное. Одно дело – пятнадцатый век и архиепископ Геннадий, другое – двадцатый и современная жизнь. Нет, назовите попроще, например, Алексеем. Прекрасное имя. Можно именины на Алексея митрополита, как ты знаешь, заступника и поборника Москвы, или же на Алексея Божьего человека, это, пожалуй, еще лучше, облик смирения и кротости.
Анна усмехнулась.
– Я сама очень люблю имя Алексей, и если уж называть, то, конечно, Алексей человек Божий. Ах, папа, кротость, смирение… в наше время.
Геннадий Андреич оживился.
– Все прямо противоположное-с. И вот поэтому-то и хорошо так назвать. Столько же противоположно, как Нагорная проповедь противоположна злу, но само имя это и несет в себе всегдашнюю и величайшую истину-с, которой не одолеть никаким силам адовым…
– Папа, да ты прямо превосходен!
Анна обняла его и поцеловала. Он слегка будто смутился.
– Ничего не превосходен-с. А все это правда.
Анна вдруг припала к нему. Ее мокрые глаза блестели. Позже, уходя к себе в кабинетик, Геннадий Андреич более спокойно, улыбнувшись, сказал:
– Это раб Божий, ныне появившийся на свет, который же по счету мой потомок? Кажется, пятнадцатый?
И чтобы не ошибиться, стали они втроем перебирать и пересчитывать детей, внуков, правнуков. Чуть было не пропустив Таню в Париже, насчитывали действительно пятнадцать. Маркан смотрела с неодобрением. Порождать, по ее мнению, вовсе не следовало. Но ее никто и не спрашивал.
* * *
Давно, еще до войны, случилось однажды Геннадию Андреичу приобрести для музея скифский сосуд с удивительными изображениями зверей – сам Чижов был в восторге, а уж он в этом деле понимал. Геннадий Андреич только и жил тогда чашей этой. Он ее любил. Если бы был ребенком, клал бы себе на ночь под подушку.
Это любовь длилась довольно долго. Но время шло, восхищение поостыло, даже стало сменяться другим. Однажды, проснувшись утром, он с каким-то странным чувством вспомнил мещанку, принесшую ему в музей чашу, вспомнил этого кабана с клыками…
Раньше обычного покатил на Красную площадь. Чаша была как чаша, кабан как кабан, но вдруг ощутил он, взглянув, что в сердце точно бы скрипнуло. Стал рассматривать вновь, так и этак, взял лупу. Будто и ничего, но вот трещинка в сердце осталась. Стали чаще являться мрачные мысли. И он обратился в Петербург, к известному старику археологу, с которым не раз спорил. Знал, что это соперник и скорей недруг. Но знаток превосходный.
Старика удивило это обращение. Приехав в Москву на съезд, он с великим вниманием рассмотрел чашу, с Геннадием Андреичем был чрезвычайно любезен, почтителен и приветлив, а затем сказал так:
– Чудная чаша. Я подобной работы в жизни не видел. Скажу даже, что слишком чудная. Боюсь только, дорогой Геннадий Андреич, что она много моложе нас с вами. Изготовлена по лучшим образцам, но техника слишком совершенна. Скифам далеко до этих голубчиков, а они на этот раз переиграли. Рад буду, ежели ошибусь.
Но не ошибся – да Геннадий Андреич и сам смутно чувствовал то же самое: чаша слишком совершенна!
Мещанку вскоре арестовали. Целая шайка в Одессе художественно изготовляла древности, сбывала куда придется. Оставалось утешаться знаменитым Рейнаком, в Одессе же купившим тиару Сайтаферна – того же производства. Чаша погибла. Геннадий Андреич, не сморгнув, вернул музею пять тысяч рублей.
Конечно, о беде своей помалкивал. Даже дома долго не знали. Угрызался и страдал один – в семье был мрачнее обычного.
Теперь все это являлось историей, частью того зона жизни – в своем роде первобытного – когда случалась полемика, собирались съезды, съезжались ядовитые старики, устраивались обеды, приемы, велась переписка с иностранными учеными. Вместо этого оказался Баланда.
Но вот именно дни, когда хоронили на Дорогомилове мать, как и позже сентябрь, который проводил Глеб в одиноком бродяжничестве по Парижу – это-то и оказалось для Геннадия Андреича временем куда трудней истории со скифской чашей.
В музее, в отделе свезенного в революцию, открылись хищения – пропали какие-то ящики, в которых не совсем ясно, что и находилось. Они просто уплыли, в неизвестном направлении. Началось следствие. Ясно, что ни Геннадий Андреич, ни старый князь не увозили же на грузовиках этих ящиков. Но они высшее начальство, и они ответственны.
Князь был еще старше Геннадия Андреича, и другого характера – сразу пал духом и решил, что все кончено.
– Мы с вами, государь мой, разумеется, ни при чем. Кто это может усмотреть за каждым ящиком в подвале? Но мы начальство и прежний мир, нам не спустят. Подождите, пришьют нам, что мы этими вещицами расторговались.
– Посмотрим-с, – ответил Геннадий Андреич. – Увидим в ходе дела. Во всяком случае уступать не намерен я ни малейше. Ни крошечки-с, – сумрачно добавил он. – А там, что Бог пошлет. Дней же наших, ваше сиятельство, осталось вообще немного.
Говорил он одно, думал же совершенно другое, гораздо более мрачное. Но о чем думал, никому не говорил. Во всяком случае сопротивляться решил до конца.
Баланда был в ярости. Товарищ Колесников, которого он считал героем труда! Чуть ли к ордену не готовил – и вдруг прозевал воров!
В первый же раз, когда коршуном налетел он на него с упреками, Геннадий Андреич, побелев сколько мог, с жестким спокойствием заявил:
– Не я нанимал ваших молодцов-с, не мне за них и отвечать. Я ученый сотрудник, старший археолог музея, но что ночью взломали замки и на грузовике вывезли, это меня не касается. На это есть полиция.
– Во-первых, полиции теперь нет, а есть угрозыск, и вы, товарищ, со всем этим старым арсеналом на суде вообще будьте осторожнее.
– Я на суде скажу то, что есть, что знаю. Ни больше и ни меньше-с. Пусть воров и судят. Я же не имею к тому отношения.
– Да мне черт ли в том, что вы ученый археолог, важно, что пропало государственное имущество, и вы будете отвечать.
Но Геннадий Андреич смотрел на него таким безразлично-ледяным взором, так был сух, краток и как будто из другого мира, что, попылав, Баланда приутих.
– Я ведь вас и не обвиняю в том, что вы им помогали… Да, но они все-таки у нас с вами из-под носа сперли…
Этим Баланда отчасти и выдавал себя. Раз он комиссар музея, то куда ж сам-то глядел?
Следствие началось. Были подозрения, кое-кого из низших служащих арестовали, Геннадия Андреича допрашивали. Он тоже ждал ареста. Но его не тронули, хотя к суду, как и князя, привлекли.
В точности Агнесса Ивановна ничего не знала, как и тогда в истории с чашей. Но чувствовала, что что-то происходит, «Генечке тяжело», «у него неприятности в музее». Расспрашивать же не решалась, страх перед Геннадием Андреичем сидел в ней с юных лет. И сквозь синеву глаз ее чаще влажнела слеза: видела, что он худеет и желтеет.
Анна сказала ей наконец:
– В музее украли ящики. Кажется, суд будет.
Агнесса Ивановна сразу поняла, заплакала:
– Ганечку судить? За что?
– Ах, мама, я не знаю. Ну, конечно, не его, а тех, кто взял. А он будет давать показания.
– А если заодно и Геню?
– Мамочка, успокойся, он тут ни при чем.
Анна сама не знала и сама волновалась. Очень мать любила, но склонна была по-отцовски переносить горе. Слез и сентиментальностей не выносила.
Маркан мрачно тасовала карты.
– Теперь уж засудят. Там не станут разбирать. Все на Геннадия Андреича и свалят.
Анна вспыхнула:
– Перестань, Маркан, вечно каркаешь. Никто ничего не знает. Только маму расстраиваешь. Бог даст, все обойдется. Свидетели все за папу, я же знаю. (Она ничего не знала, но сказала так для матери.)
– Обойдется… Все к худу. Как я говорю, так и сбывается. Был царь, говорили – нехорошо. Теперь Ленина дождались. Была полиция, теперь милиция. Что ж, это лучше?
– Папа ни в чем не виноват, – твердила Анна, в нервности, – его обвинить никто не может.
Говорила она смело, как бы сама себя опьяняя, а в глубине мало верила: мало ли что невиновен – он начальство. Кому, собственно, и отвечать, как не начальству?
И к обычным ее делам и заботам прибавилось новое: тревога за отца.
Сама она жила сейчас в маленькой комнатушке под небесами, заставленной мебелью – остатками прежней ее обстановки. На стене висел тот же репинский Толстой и беклиновский «Остров мертвых» и остроугольное личико Элли, еще молоденькой барышней, в летящих мелкими кудряшками, нежных волосах. Жилище Анны походило и на келию, и на какой-то склад, на крошечный музей уходящего (по временам она продавала кое-что или выменивала на продовольствие). А кругом, в коридоре, как и на Земляном валу у родителей, гудело и рокотало новое племя, среди которого чувствовала она свое одиночество.
Но некогда было особенно его переживать: ежедневно неслась она с пятого этажа вниз по разным трудам – ныне к дочери Жене и новому колесииковскому отпрыску. Новорожденный приобрел от отца фамилию не родовитую: Сковородкин, или, как называла его Собачка, «де Сковородкин».
Женин муж был пролетарий, но хорошо устроенный. Его явившийся в мир сын (полупролетарий, носящий священное имя Алексей) мигал смутными глазками, сосал мать усердно и никак не понимал бабушку Анну, с горячностью объяснявшую матери его, что прадедушку обвинить никак нельзя, и она уверена, что его оправдают. Женя, молодая женщина, с отголосками колесниковской крови, но погрубее и проще, слушала более спокойно, продолжая кормить насельника.
– Ты ужасно горячишься, мать, и нервничаешь, все равно ничем не поможешь, только себя изведешь. Если дедушка не виноват, его не тронут. А если найдут виновным, тогда дело другое. Ведь подумай, он все же ответствен за государственное имущество.
Тут Анна старалась отвлечься, чтобы не вспылить – у нее с дочерью вообще были неровные отношения: не на все в окружающем смотрели они одинаково, и в этом была тайная боль Анны.
– Вы, прежнее поколение, были слишком нервны, чувствительны. Вырастали в теплицах. Занимались поэзией, музыкой, а жизнь меньше знали. – Женя улыбалась, кормя младенца.
– Мама, ты вообще больше fette-poette[93], как говорил Юра, сбежавший из Союза. И ты, и тетя Лена. А я – товарищ Сковородникова.
– Ах, глупости, глупости! Чем это хуже Колесниковых?
– Тем, что нет дома на Земляном валу.
Постояв за примусом, сходив за пшенкой, Анна направлялась дальше, то ли к Катеньке, занимавшейся гребным спортом, то ли к племяннику Петру, где, кроме авиации, были тоже дети, и всюду несла с собой тяжелую тоску, думу о судьбе отца и ощущение своего одиночества. «Мои дети, и люблю их, а что-то есть и другое. Они растут в этом, уже другом воздухе. Сына назовут Алексеем, но чувствуют это совсем не так, как мы с папой».
И получалось, что свободнее, легче ей было в доме Собачки, с самой Собачкой, Ксаной, Евдокией Михайловной. Там случившееся с Геннадием Андреичем принималось совсем по-другому. Ее нервности никто не удивлялся.
* * *
В день суда Анна пошла к ранней литургии в церковь о. Виктора. Было еще почти темно. На клиросе Евдокия Михайловна читала часы. В алтаре о. Виктор совершал проскомидию (шепча над вынутыми частицами, таинственно сводя на эту землю высший мир, и отсюда вынимая безвестных отошедших, возводя лестницу в горнее).
Голос Евдокии Михайловны струился ровно, бесстрашной и непрерывной речкой, легкой, чистой. О. Виктор негромко подавал возгласы. А когда отдернул, наконец, завесу Царских врат, торжественно прозвучало:
– Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа…
Литургия началась. Хора не было. В церкви почти никого, Евдокия Михайловна одна пела и читала. Анна одна молилась, но у нее было ощущение, что так и надо, она именно там, где надо быть в этот день. Она почти не ощущала веса. Все вокруг было легко. Как литургия шла одновременно и сейчас, и в веках прошлых, и будущих, так она сама, Анна, находилась и здесь в церкви, и на Земляном валу, где сейчас встает отец, чтобы идти на суд и поношение, и уже на самом суде, где враждебные люди допытываются и разбирают, и решают его участь.
Это сопровождало ее не только на литургии, не только когда причастилась она и хладеющими устами прикоснулась потом к св. Чаше, но и позже, во весь день, прошедший для нее как в сновидении.
Она была у Жени, помогала ей, потом с детьми Петра ходила по Никитскому бульвару, говорила, унимала, веселила – и все время отсутствовала. Где именно была, не могла бы сказать. Но ощущение остроты, напряженности почти сверхъестественной, не оставляло. Она чувствовала все время, что куда-то должна идти и все эти мелкие жизненные дела – дети, примусы, очереди в лавках и кормежки – все нужное, необходимое, но это только так, главное впереди. И около пяти часов, все в состоянии того же полета, с каким начала день в церкви, устремилась на Земляной вал. Трамвай вез ее не так мало, но ей казалось, что все очень быстро, плавно и легко. Все делалось само собой и так, как надо.
С детства знакомая калитка во дворе, рядом ступени лестницы парадного входа, но туда теперь не ходят, надо в калитку.
В подвальном этаже был полумрак, из прежней детской раздавались голоса жильцов, в кухне горела плита – Анна, не переводя духу, поднялась наверх. В столовой никого. Дверь в кабинет приотворена. Анна обернулась. В дверях своей комнаты стояла Агнесса Ивановна. Голова ее слегка вздрагивала.
– Аничка, вернулся. Сейчас у себя, лежит… устал очень. Оправдали…
Анна бросилась к двери в кабинет. Геннадий Андреич действительно лежал на постели, укрывшись пальто. Был очень бледен.
Анна припала к нему, обняла и поцеловала.
– Знала, что не посмеют… знала, знала. Уверена была. – Она задыхалась.
В дверях, не без робости, появилась Агнесса Ивановна.
– Геня, мы не помешаем? Ты устал, Геня?
Геннадий Андреич улыбнулся.
– Нет, ничего. Устал, но рад, что вы обе со мной. Хорошо, что я дома. И что вы…
– Папа, но как… все-таки, как было?
Геннадий Андреич приподнялся, поправил шапочку на голове, передвинул подушки – Анна подбросила ему еще и с дивана.
– А так вот и было-с. Правду говоря, я считал, что нам с князем конец. Виноваты мы не были, но надо же с кем-нибудь расправиться, а уж чего легче с нами.
Агнесса Ивановна, в своем старом капоте, заполняя все кресло, слегка вздрагивая, не отрывала от него взора.
– Геня, они чувствовали… судьи… начальники, что вы с князем честные.
Геннадий Андреич опять улыбнулся.
– Вряд ли поэтому, душенька. Правда, свидетели все были за нас, и мы сами довольно ясно все рассказали. Но я считаю, что спасло другое-с: у них там свои разделения, своя грызня. У Баланды, видимо, оказались враги. Они на него и накинулись, он главный ответчик получился. Он хотел отстраниться и свалить на нас, но они как раз на нем и сосредоточились: все в каких-то уклонах обвиняли. А мы оказались в стороне. Воров-то все-таки нашли и засадили. Баланду же сместили вовсе.
– За мелкобуржуазную психологию-с! Геннадий Андреич засмеялся.
Весть о его оправдании распространилась быстро. Приехала дочь Лина, располневшая, радостная, в слезах целовала отца. Принимал он и других и скромно благодарил, но был очень слаб. Появились даже головокружения. В музей он ходить не мог и все лежал. Слабость не уменьшалась.
Кроме ближайших родных, проходили перед ним остатки прошлого, кое-кто из сослуживцев, знакомых. Появился любитель Данте – Карлуша, как и прежде дававший уроки музыки, теперь совсем тощий и грустный. Старенькая Занетти улыбнулась приветливой итальянской улыбкой.
– Спасибо, спасибо, – сказал Геннадий Андреич негромко. – В Коппелии никогда вас не забуду-с. Помирать буду, вспомню…
Появлялось и новое – внук Петр а авиационной форме, его дочь, девочка лет восьми. Пришла даже та Дарья Григорьевна, сына которой он защищал от сапожника.
Пускали к нему, однако, ненадолго: ослабело сердце, предписан был полный покой.
Он, впрочем, по-другому и сам жить бы теперь не мог. Головокружения понемногу прошли, но не прошло то странное состояние, в которое впал он после суда. Это была и смертельная усталость, и спокойствие, и какая-то отрешенность. Был ли он болен? Не мог бы сказать ни да, ни нет, но стал другой, и ему иногда казалось, что он видит себя со стороны: вот лежит в кабинете, в черной шелковой шапочке, прикрывающей лысину, Геннадий Андреич Колесников, нумизмат и отец русской сфрагистики, старший хранитель Исторического музея, всю жизнь проработавший в своей науке, чуть было не осужденный, но все же оправданный. Ни на что, в сущности, он не может сейчас пожаловаться, по теперешним временам участь его еще очень благополучна.
Но это не тот Геннадий Андреич, который с самого дня рождения своего жил в этом доме, тут и женился, тут родились, выросли дети – отсюда пошли внуки и правнуки. Тут, живя, он работал в музее, писал статьи, спорил, радовался, огорчался. Это все верно. Это было. Он и теперь есть, существует. Вот он лежит на своей постели, читает кое-что по истории. На столике в изголовье маленькое Евангелие, довольно потертое. Страницы кое-где закапаны воском. Это Евангелие еще покойной матери. Раньше он мало им занимался.
Все это идет и движется, все по заряду прошлого. Нового для него нет. Нет и желания нового.
Он не знал, да и не очень интересовался тем, что именно у него за болезнь. Но появилось спокойное, безграничное чувство, что больше сил нет. Были, да ушли. Дни шли за днями, он не вставал.
– Ну, как? – спросил раз Карлуша, зашедший навестить. – Как чувствуешь себя, Геннадий?
Он негромко ответил:
– Никак.
– Ну-у, ты уж и скажешь…
Но Геннадий Андреич именно больше и не сказал, и закрыл глаза.
Несколько минут посидев, Карлуша поднялся. Выходя, взглянув на книги в шкафу, вдруг вспомнил: у Геннадия есть редкий, старый немецкий перевод «Божественной комедии» с комментариями. Пропадет все это, пропадет. Никто ничего не понимает. Растащат. И на цигарки труждающиеся раздерут. Агнессе сказать – но, он махнул рукой. Агнесса такой же ребенок, как была шестьдесят лет назад, в родительском доме. И вспомнив сестру девочкой, на даче, еще в Сокольниках, на шестой просеке, Карлуша улыбнулся с грустью.
Агнесса Ивановна как раньше боялась мужа, так и теперь. Но ходила за ним верно. И все опасалась: вдруг не так что-нибудь сделает? Иногда он бывал к ней теперь милостив, иногда, – особенно когда начинались боли, не пускал к себе вовсе. «После, потом…» – и движением руки останавливал на пороге.
Боли являлись и проходили, он не спал иногда по ночам, но как раз тут-то и запирал дверь на ключ. А потом боли стали реже, прошли почти вовсе. Зато слабость росла. Есть не хотелось – он почти ничего и не ел, худел неудержимо.
Однажды – был мартовский московский закат – отблеск фантасмагории неба лежал на старом зеленоватом диванчике, на книгах, на шифоньерке, где хранились за стеклом слепки монет. Геннадий Андреич чувствовал себя особенно тихо и мирно. Он недвижно лежал на своей кровати, на спине. Смотрел, как медленно переползает розовеющее закатное пятно по стене к двери – над ней на полочке стояла маска Петра.
Вошла Агнесса Ивановна. В руке у нее был подносик – на нем стакан в старинной серебряной оправе с ручкой. В чае плавал ломтик лимона.
Она поставила поднос на столик рядом, села на постель. Губы ее вздрагивали.
– Геня, – сказала она вдруг, не своим обычным как будто голосом, – Геня, что же ты все молчишь? Что с тобой, Геня?
Мелкие кудерьки ее трепетали. Эмаль глаз влажнела в закатном свете. На этот раз что-то прорвалось в этой полной и нежной женщине, затопило даже многолетнюю робость.
– Геня, мы же прожили вместе жизнь… ведь я с тобой с семнадцати лет. И вот… и вот, когда тебе сейчас плохо, ты от меня уходишь. Ты прячешься… ты молчишь, Геня, когда страдаешь, ты не хочешь, чтобы я была с тобой. Ты мне ничего о себе не говоришь… Геня, за что?
Она вдруг припала тучным своим телом к его коленам – таким исхудалым и острым сквозь одеяло – и заплакала.
Геннадий Андреич молчал. Так продолжалось некоторое время. Потом он положил ей руку на голову, в эту путаницу легких, пухово-теплых волос, и стал гладить. Продолжая все плакать, она взяла руку эту и поцеловала.
– Не целуй, – сказал он тихо. – Я этого не заслужил. Я тяжелый, трудный человек. Колесниковская кровь.
Она опять сильней стала всхлипывать.
– Агнесса, я перед тобой виноват. Наверно, за всю жизнь несу вину. Ты дитя, ты ребенок, хотя и старая сейчас. Ты всю жизнь отдала мне, а я… что я дал? А теперь уже поздно. Агнесса, мне теперь мало жить…
– Нет, нет, Геня…
Но он продолжал покойно, с той нерушимой уверенностью, от которой холодело ее сердце.
– Я жил только для себя, только собой, своими книгами, занятиями. Я всех вас недостаточно любил – тебя первую, но и детей. Вот я теперь это чувствую, и не только сейчас, но и все последнее время, а теперь особенно. Только теперь поздно. Мне и осталось только просить милости у Господа, и у тебя прощения.
Она поднялась и села. Все ее полное лицо в обрамлении легких, сейчас спутанных волос, было залито слезами.
– Тебе не за что просить у меня прощения, Геня. Не уходи только! Не умирай! Нет, никак не умирай, – бормотала она, как в полусне. – Ты болен, но это ничего не значит. Ведь ты когда молоденький был, у тебя же туберкулез появился и вот ничего, выжил.
Она вдруг оживилась, точно волна света всколыхнула ее.
– Геня, помнишь Оспедалетти? В Италии, на Ривьере? Там еще пальмы такие удивительные… и мы как хорошо там жили… целую зиму… Ты меня любил тогда, и ты выздоравливал. Я была счастлива, что ты выздоровел. А ехала туда, ужасно боялась… Какое море! Геня, я этих вечеров прозрачных, под пальмами, на закатном солнышке никогда… никогда…
Она опять не могла уже дальше говорить.
– Да, – сказал Геннадий Андреич, – Оспедалетти помню. Даже пальмы помню. А это было давно. В 1878 году. И я действительно ведь выжил.
Эту ночь спал Геннадий Андреич особенно мирно. Ангел охранял его. Перед зарею, проснувшись, он опять вспомнил Оспедалетти, такое же сияющее в красоте Лигурии, как сияла тогда юною прелестью семнадцатилетняя Агнесса, дитя Москвы и Италии, ныне эта полная, робкая женщина, так и оставшаяся простодушным ребенком. «Я, конечно, виноват перед ней неизбывно, но она простила, и Господь, может быть, тоже простит меня».
Маска Петра, некогда воздвигавшаяся на книжном шкафу в зеленой гостиной и путавшая Элли выпученными, страшными глазами, со времен уплотнения переехала в кабинет. Тут она помещалась над входной дверью, не над таким великолепным шкафом с редкими изданиями (книги в дорогих переплетах задернуты были шелковой занавеской) – а просто на полочке. Но главенствовала все же над небольшой комнатой: всякий, находящийся в ней, как бы приглашался почтить Императора, давнюю любовь и преклонение Геннадия Андреича.
Теперь, во время болезни, он постоянно видал эту маску, кровать так стояла, что лицом он всегда был обращен к двери. Было правильно, что из гостиной ее взяли, там теперь целое семейство кондуктора, для чего им она? Но к некоторому своему удивлению, стал Геннадий Андреич замечать, что и ему она будто не нужна, хотя по тому, как она начинала смутно белеть в конце ночи, можно было узнать, что рассвет близок. И вообще… это же неплохая вещь. Вот взял же он ее в ученую келию!
Вечер в начале мая выдался тихий. Весна была ранняя, сирень уже цвела, букет ее стоял недалеко в глиняном кувшине – эту сирень торжественно преподнес «дяденьке» Сенька, сын Дарьи Григорьевны. Со двора, из полуоткрытого окна слышно было, как резво, мягко и небесно-пронзительно щебечут стрижи, ласточки. Солнце выбрало на закате путь в щелке и залило маску розовеющим золотом. Мертвые щеки и выпученные глаза странно засветились, точно бы они и приблизились. Совершенно для себя неожиданно Геннадий Андреич испытал неприятное чувство и отвел взор.
В дверь постучали. Вошла Анна. Он оживился.
– Вот и хорошо. Рад видеть, рад.
Анна поцеловала ему руку.
– Ну, как, папа?
– А ничего, ничего-с, все хорошо. Ты мне руку не целуй. Я не архиерей. А ты вот что целуй – всегда целуй и всегда люби.
И поправив на голове шапочку-ермолку, с тем знакомым ей, серьезным, очень живым видом, как рассматривал медали, взял с ночного столика книжку, довольно потертую, с красной вышитой закладкой.
– Это Евангелие-с… И вот тут заложено, 6-я глава от Луки. Нагорная проповедь. Тут все. Вот и читай. И люби. И детям внуши, передай им, чтобы читали и почитали… Это все-с. Больше ничего нет, в этой книжечке все-с. Жизнь будет идти, миры рушиться, новые создаваться, и мы ничего не будем понимать, но будем жить и любить, и страдать, и умирать, и друг друга мучить и потом угрызаться. А это вот будет себе существовать и вечно будет светить. Это ты помни, Анна.
– Папа, папа…
Она гладила ему руку, огромными, сияющими глазами глядела на него. Вот это он, тот отец, которого в детстве она боялась, который был некогда так далек, даже жуток строгостью своею и суровостью – вот он лежит перед ней и худенькой предсмертной рукой потрясает в воздухе Вечной книгой.
Несколько успокоившись, он сказал ей тихо, спокойно и просто:
– Давно хотел поговорить с тобой, душа моя. Именно с тобой. Мама слабее, она будет плакать. И вообще все напутает. А ты более крепкой закваски. Моей породы. Я в тебе очень себя чувствую, только ты тоньше-с, мы были грубее. Так вот в чем дело…
И в комнате, где майский свет понемногу гас и маска Петра отходила в тень, Геннадий Андреич дал Анне последние распоряжения насчет своей смерти. Некоторые книги ей, Пушкина, например. Специальное и научное – в музей. Маму беречь как дитя, любить и холить. Его непременно отпеть дома по-церковному – «там они, наверное, в музее гражданские похороны устроят, с красными флагами, я этому помешать не могу-с, пусть устраивают, но хочу, чтобы дома меня по-человечески, по-христиански отпели, и когда надо будет, пока я жив, чтобы священник пришел, я исповедую ему свою грешную жизнь и он причастит меня».
Анна смотрела бледная, внимательно слушала. Все оставалось в ней будто записанное.
– Да, вот, душа моя. Чуть было не забыл. Прошу тебя нынче же снять эту маску Петра и поставить подальше. В столовую, или куда-нибудь в шкаф. Как хочешь, – прибавил он равнодушно. – Куда хочешь. Но чтобы я ее не видел.
– Папа, она же всю жизнь с тобой была. Ты всегда так Петра почитал…
– Совершенно правильно, мой друг. И была, и почитал-с. А теперь вот – пусть уберут.
* * *
Геннадий Андреич просил позвать помощника своего, Игнатия Николаевича, довольно долго наедине с ним беседовал о музее.
Успел исповедаться и причаститься. Был покоен, ровен, далек. Иногда только улыбался Агнессе Ивановне.
Анна все запомнила из его распоряжений. Маску Петра на другой же день вынесли. Агнесса Ивановна удивлялась и охала, но Анна строго сказала: «Такова воля папы». Она затихла.
В гробу Геннадий Андреич лежал с неземной важностью, держал в окостенелой руке образок.
Отпевали на дому, а потом в музее торжественно совершились гражданские похороны. Как и предполагал он, гроб накрыли там красной материей. Но этого Геннадий Андреич уже не видел. Не видел и множества провожавших его, полубесчувственную Агнессу Ивановну, бледную Анну, под руку ее поддерживавшую с видом строгим, почти суровым, – заплаканную Лину и других, других…
Летописец мог бы помянуть целую нисходящую лестницу потомков, провожавших его прах до кладбища: дочери, внуки и внучки, правнуки и правнучки, с непокрытыми головами шли за гробом нумизмата и отца русской сфрагистики – в числе пятнадцати, находившихся в то время в городе Москве.
Путешествие Глеба
…Элли очень нравилось, как «Ариадна» проходила Кильским каналом. Зелень датских лугов, датские рощи – также ж могучие, как и небольшие стада на пастбищах – подступали к самому берегу. Почти задевали ветками белую «Ариадну».
– Смотри, Глеб, коровы, как у нас… и пастушонок…
А Балтийское море, развернувшееся за каналом, просто уже омывало берега России. Расстилалось оно в этот июльский день, в утренние его часы с таким зеркальным спокойствием, в такой светлой дымке, слегка только голубеющей, что его можно было счесть мирным озером… «Ариадне» нетрудно было направлять бег к северу. И постукивая машиной, слегка лишь подрагивая, оставляя за кормой лазурно закипающий в белых звездочках след, корабль безостановочно бежал к острову Борнгольму. Этот Борнгольм появился на вечерней заре, медленно проплыл со своими утесами, зеленью, красными крышами домиков. «Ах, какая прелесть! – говорила Элли возбужденно. – Я хотела бы поселиться тут!» Глеб, зная ее восторженность и нервность, только улыбался.
А когда Борнгольм ушел, спустились вниз обедать. Глеб чокался с финским капитаном рюмкой датской водки. Русские юноши, ехавшие в Гельсингфорс, весело хохотали. Финская горничная безмолвно подавала, убирала – странная морская жизнь шла как полагается.
Позже других потом Глеб сидел на палубе, в прохладной ночи – это было всегдашнее его занятие: одному глядеть в окно вагона, одному сидеть под туманными звездами, смотреть, как клочья дыма летят из трубы, и красные, зеленые огни указывают нос корабля, идущего уже мимо берегов Швеции – к тому рубежу России, куда приводила судьба. Лето в Финляндии! Два месяца назад показалось бы это фантазией, а теперь просто во вторник должна подойти «Ариадна» к набережным Гельсингфорса.
Ночь на вторник он плохо спал. Слегка покачивало. Подвешенные в сетке мелкие вещицы Элли описывали мягкие, но небольшие дуги. В иллюминаторе уже светлело – Глеб смотрел на качания сетки – приезд этот и все путешествие возбуждали его. Гельсингфорс, – дальше по железной дороге к границе России, дача Симы, который он никогда не видал в жизни. Как-то все будет?
Ясно, что уж не заснуть. Чтобы не будить Элли, младенчески спавшей (ей все нравилось – и «Ариадна» и пассажиры, и каюта, и предстоявшая встреча с дальней родственницей) – Глеб потихоньку оделся, вышел на палубу. Погода менялась. Облачно, хмуро-зеленоватая волна. И какой-то другой воздух.
Он прошел на нос, хотя там сильнее качало. Все стоял, вглядывался, потом сел, возбуждение не унималось. Иногда брызги обдавали его, вскипая легким туманом, это даже и нравилось – на губах соленая влага. А там, впереди, впереди…
– Ах, ты здесь, ну, слава Богу. Проснулась – тебя нет. Я испугалась. Думаю, а вдруг он вышел и как-нибудь там упал в море? Ну нет, ты здесь. Все хорошо. Значит, скоро приедем? Это что там виднеется, точно земля, леса какие-то?
Элли хорошо видела вдаль, лучше Глеба. Но и он, всматриваясь, разглядел под мрачными облаками узкую полоску земли, действительно синевшую щетинкой – лес.
– Это Финляндия, – сказал он. – Берега Финляндии. А там, справа, Россия.
Финляндия! Элли охотно приняла, но насчет России стала сначала спорить – ей всегда все казалось фантастическим: указала совсем в другую сторону.
Глеб засмеялся. Она быстро сдалась.
– Ну, мне все равно. Там так там. Главное, что Россия. Ты подумай: мы будем от России в десяти верстах!
Потом она вдруг задумалась и сказала:
– Как удивительно! Ведь если бы папа не умер и я бы в газете не напечатала благодарности сочувствующим, то Сима и не узнала бы, где мы, не пригласила бы нас, и мы вот не стояли бы здесь на палубе.
Глеб взял ее руку.
– Я думал уже об этом.
Она ответно пожала руку. Глеб вздохнул.
Нос «Ариадны» сильнее клюнул, солнца прорвался с неба, блеснул в мутной зелени волн, испещренных кипящими белыми звездочками. Жарче налетели брызги. Элли отерла лицо платочком. Кроме соленых брызг, на платочке остались, быть может, и следы слез.
А берега близились. И настала минута, когда оба увидели, легко и отчетливо, одно и то же: на узкой береговой полоске пятно иного цвета, чем леса вокруг. Кое-где возвышались колокольни, а особенно высоко воздымался в одном месте над приземистою башней шпиль, несоразмерно длинный.
– Смотри, смотри, Петербург! – закричала Элли. – Адмиралтейская игла, или там шпиль Петропавловской крепости.
– Хоть и не Петербург, а видно, что младший брат.
И через час, в виду крепости Свеаборга, с финской точностью, в назначенный час пришвартовывалась «Ариадна» у набережной Гельсингфорса.
Молчаливый носильщик взял вещи Глеба и Элли, услыхав русскую речь, улыбнулся и назвал Элли «барыня». Чемоданы же понес через площадь к вокзалу.
– Глеб, это Петербург, я тебе говорю… Смотри, что за здания. Это же вроде нашего Сената. Только памятника Петру нет. И вон там собор… конечно, Исакий больше, а все-таки…
Но если и Петербург, то совсем молчаливый, еще более, чем их носильщик. Глеб и Элли смеялись и радовались. Им нравился этот новый для них народ, частью с отголоском Империи, но вообще очень современный, необычно тихий, необычно – после Парижа – чистый.
Все ходили тут никуда не спеша, не толкаясь и не болтая. На огромном вокзале в духе северного модерн Глеб и Элли сидели в зале, поджидая поезд. Как елисейские тени, проходили через залу обитатели этой страны, на загадочном своем языке загадочно произносили иногда – очень редко, негромко – нечто никому не понятное. И все тонуло в великом молчании.
Старушка с длинной палкой и каким-то приспособлением на конце ее бесшумно проходила по зале, довольно пустынной, подбирала машинкой бумажки, окурки: их вообще почти нет, но надо, чтобы и вовсе не было.
Бесшумно подали поезд, неторопливо пошли финские тени занимать места. Непривычные русские, всегда склонные переспросить: «Так это поезд на Выборг?» – и получить в ответ тихое: «Виипури» – тоже безмолвно, как в немом синема, заняли без затруднения места.
Вовремя свистнув, паровоз повез финский поезд в сторону России, по берегу моря, дикими лесами, хвоей и березовыми рощами, в вольном благоухании летней страны. На остановках Элли высовывалась в окно и не по-фински громко, восторженно говорила:
– Глеб, ты понюхай! Это лес, это наш лес! Глеб, даже земляникой пахнет, Россия…
* * *
Сима устроила Глеба и Элли в русском пансионе у моря. Был это большой дом с мезонином – просторный, с нехитрой обстановкой, но с тем духом прежней России, от которого отвыкли они в Париже.
В мезонине две светлые и просторные комнаты, одна окнами в лес, другая в цветник и на лужайку, за нею дорога и сквозь финские сосны узкий кусок моря. Поскрипывающая лестница вниз, там огромные сени, обширные комнаты, населенные русскими на отдыхе из Гельсингфорса или Выборга. Большая столовая, стеклянная терраса, прямо в цветник выходящая. Это, может быть, все что угодно, только уж не Париж.
Утра Глеба были так светлы, как эти ясные дни июльской Финляндии. Кофе им подавали сюда. За столом у дивана они быстро пили его, потом Элли уходила наверх, по лесистому взгорью, мимо станции железнодорожной на дачу к Симе. Глеб же садился за свой письменный стол, погружался в спокойные, многолетние уже занятия. Необычайная тишина и глубокое, как бы подземное соответствие всему действовали хорошо. Он чувствовал себя в ритме, тоне всей той русской природной жизни, которая произвела и его, и Элли, Таню (ныне уехавшую с молодежью под Тулон), в некоем лоне, где его связь с землей, лесами, птицами, зверями и людьми являлась первообразной. И питала, и одушевляла.
Элли же эти утренние часы проводила на даче Симы, чаще всего среди роз ее сада, близ небольшого водоема со светло-зеленоватой водой.
– Да, вот представь себе, Элличка, как довелось встретиться, – говорила Сима – высокая, легкая в движениях, приветливо улыбаясь довольно широким лицом с карими глазами. – Если бы ведь не кончина Геннадия Андреича, я бы так ничего о тебе и не узнала… И твоего Глеба никогда не увидела бы. Вот как все удивительно выходит.
Сима была права. Жизни их некогда шли очень близко – ребенком жила одно время Сима с овдовевшею матерью на Земляном валу, весь колесниковский мир с детством ее тесно связан, а потом пути разошлись. В Петербурге Сима вышла замуж и вошла в богатый полунемецкий промышленный круг, муж приобрел эту дачу в Финляндии, куда в революцию и переселился. Здесь же и умер. Сима осталась одна, но по общительному своему нраву, обращенному к людям добротой, никогда в одиночестве не пребывала: всегда гнездились вокруг и друзья, полудрузья и опекаемые, и бездомные. Сима любила помогать. Делала это легко и спокойно, без подчеркивания, но с тем здравым и практическим смыслом, который всегда был в ней: колесниковская кровь – ее бабушка была теткой Геннадия Андреича. И теперь Сима мирно процветала на своей даче, в десяти верстах от границы бывшей Российской Империи, деля время между хозяйством (все на даче сияло и блестело), заботами о людях и розах, прогулками: у нее был такой взгляд, что она должна всегда двигаться, как можно больше ходить: это полезно для здоровья и самой нравится. Потому и встречали ее постоянно летом в шерстяной белой накидке и белой шляпке, зимой в лисьей шубке, быстрой походкой проходящей то по взморью, то вдоль рельс железной дороги, то в сосновых лесах по шоссе к Выборгу. Можно было считать ее неким легким духом местности.
После утренних дел Глеб любил в одиночестве выходить перед завтраком на прогулку. Обычно шел по шоссе к России. Сквозь редкие сосны виднелся направо пляж, бледное море, вдали, сквозь зеркальный туман, неясные пятна – Кронштадт. На приморском песке кой-где русские, некоторые смотрят в бинокль: за полуденным маревом над бесцветной водой Родина. Почти нет таких, у кого не осталось бы там близких. У Симы тоже в России сестра – Наталия. И таких нет, кто спокойно и равнодушно рассматривал бы с прибрежья тот край. (Слез же изгнаннических, капавших иногда на песок, не считал никто.)
Слева начинались леса, уходившие в глубь страны, подымавшиеся по взгорью. Тут попадались старые дачи, иногда обитаемые, а то и заброшенные, в заброшенности своей молчаливо говорившие о былом. Как просторно жили! Деревянный дом в два этажа с десятком комнат, застекленные балконы и террасы, иногда в разноцветных стеклышках – половина окон выбита, в комнатах пустота и паутина.
Глеб любил забредать в этот финско-российский лес, просто слоняться в нем, вдыхать неповторимый горько-пряный его аромат, с легким грибным духом, иногда вдруг с запахом покоса на лужайке. Он считал птиц друзьями, его друг была и белочка, мохнатая и смешная, шурша, невесомо возносившаяся по красноватому стволу сосны – оттуда, в безопасности помахивавшая хвостом, казавшимся могущественней, чем она сама. (Теперь он не застрелил бы ее, как некогда, ребенком, в Будаках!)
Особый друг у него считался дятел на грибной поляне близ полуразрушенной огромной дачи. Это место было странно и отчасти таинственно. Глеб любил заходить сюда, садиться на поваленную березку, слушать дятла. Дятел не боялся его. С удивительным упорством выстукивал по стволу, медленно подымаясь все выше, потряхивая пестро-красной грудкой, погружая Глеба в легендарный туман детства, когда такие же русские дятлы с такими же грудками выстукивали напевы свои в лесах Устов, в разных Сопелках, Чертоломах. И иногда Глеб смеялся и говорил ему: «Ну, как у тебя голова не заболит?» – старался представить, что произошло бы, если бы вот его, Глеба, заставили целый день так стучать носом в дерево. «Видно, братец ты мой, лоб-то у тебя медный». Когда громко произносил это, дятел оглядывался, на минуту замолкал или на всякий случай перелетал – неверным, ныряющим полетом – на соседнюю сосну, продолжал там свою деятельность. В конце концов, она и культурна: очищал дерево от жучков, насекомых. Возвращали в детский мир и грибы – перед этой дачей было их особенно много, Глеб захватывал даже для них кошелку. Выбирая из земли тугие, в сырости и прохладе возросшие средь прошлогодних листьев боровики, любовался атласно-златистой подкладкой их, крепкой, налитой ножкой, матово-коричневым шеломом… – и все пахло таинственными земными недрами.
А сама дача представляла мир иной. Глеб и к ней подходил, а однажды влез даже, сквозь разбитое окно внутрь, и как в огромном склепе прошелся по пустым, гулким комнатам. Поднялся во второй этаж – паутина висела в углу целым парусом. Некогда покачивалось тут на веревке тело странного персонажа предреволюции Гапона, заманенного сюда и тут же революционерами повешенного.
…К завтраку Глеб возвращался. Те же цветы в цветнике, стеклянная терраса, огромная столовая, русский говор. Из раскрытого окна пахнет покосом.
* * *
По вечерам ходили наверх к Симе, в тихо сиявшую чистотой дачу, погружались в особый ее уют и приветливость.
Или дома Глеб перечитывал – в который уже раз! – «Анну Каренину». Некогда при той же лампе-молнии, с такими же наивными выпуклыми украшениями на резервуаре готовил он в Калуге уроки гимназистом, и освещение казалось слепительным. Теперь читал, поднося книгу к самому свету, и улыбался про себя, но и эта лампа, и пансион, и Сима, постоянно вспоминавшая мелочи Земляного вала, и сама «Анна Каренина» неотрывно уводили в былое.
Бабочки налетали на лампу из отворенного окна, настурции на подоконнике пестрели в свете ее и на черном фоне ночи прожекторы над Кронштадтом проводили сияющие лучи. Левин выходил на покос и состязался с косарями, все там же в Тульской губернии, в шестидесяти верстах от Прошина, где молоденьким студентом Глеб сам косил и навивал с девками возы. А сейчас в окно тянуло тем же самым сеном. Лужайку перед цветником только что скосили. На другой день будут трясти сено и Элли тоже возьмем грабли, даже Глеб, посмеиваясь, будет помогать финну, барышням и какому-то работнику.
А вот тележка запряжена, он за кучера, сзади Элли и молодая дама из пансиона. Едут за несколько верст – на русскую границу.
Запах ременных вожжей, песчаные колеи, сосенки, мрачный еловый лес, похлопывание вожжей по вспотевшей спине меринка – овод устроился на ней, нужно согнать… – что это, собрались с отцом на Касторас за тетеревами?
Лошадь привязывают в укромном месте, накрывают попоной от оводов, пешком, точно на тайное дело, пробираются к полянке. Там уже несколько русских. Некоторые с биноклями.
Внизу склона речка, извивами, в ольхах, как все речки русские: это граница. Таинственная черта, отделяющая от тебя твое же. Неизвестно, кто там. Говорят, речку стерегут. Говорят, из кустов могут выскочить и увести… – мало ли что еще говорят, но бесспорно, что и там где-то оберегают ее, и здесь на сторожевых пунктах сидят низкорослые финские вояки.
Но пока что никто никого не умыкает, никакой стрельбы нет и от речки вверх идет ровным подъемом луг, дальше виден посев, а левее не то дом двухэтажный, не то барак.
– Возьмите бинокль…
Глеб подносит его к глазам. Теперь ясно все видно. Вот вышла баба, простая русская баба, каких море видел он на своем веку. Хворостиной подгоняет корову. На бараке что-то вроде вышки, над ней флаг.
– Это наблюдательный пункт ихний, – говорит сосед. – Нас оттуда, наверно, тоже рассматривают. А баба, не думайте, это не здешняя. Всю пограничную полосу выселили – тут жили карелы. Их загнали подальше, вглубь, а сюда навезли русских из других мест.
Облака плывут медленно по бледному небу. Но тепло. Припекает скупым финским солнцем. Из России тянет покосом.
* * *
Сима и Элли подходят к просеке, спускающейся к пансиону.
– Нет, понимаешь, я ведь помню столько мелочей из жизни вашего дома на Земляном валу. И дядю Карлушу с его Данте, и Маркана… А то вот, например, тетя Агнесса была в концерте и рассказывала потом. Играл Антон Рубинштейн. И ведь он такой был могучий пианист, кроме того, что гениальный, еще очень сильный… Под его ударом лопнула струна, но ничего, тут же пересел за другой рояль, его силу знали, иногда ставили рядом запасной. Я отлично помню.
Обе засмеялись. Подходили к спуску, широко раскрылось из-за леса бледно-сиреневое море. Сима остановилась. Ветер играл прядями ее волос, белая накидка слегка отлетела. Немолодое, загорелое лицо сияло всегда живыми, карими глазами.
– Элличка, мой друг, все это прошлое, и все – Россия. Вон там Кронштадт, за ним Ораниенбаум, мы жили тоже там, а левей Петербург. И там где-то моя сестра Наталия… Ты понимаешь, понимаешь, вот близится день св. Адриана и Наталии, я посылаю ей посылку, и все хочется, чтобы скорей дошла, прямо бы к именинам.
Элли тоже была взволнована. Да, Петербург, а за ним дальше ведь и Москва, где жива еще мать, сестры, где прошла молодость, где она встретила Глеба и соединились жизни их. Вот живут они здесь, вдыхают Россию, как бы прощаются и с ней и с самым дорогим, что было в ней. Недолго уж прощаться. Время идет, осень близится. Скоро Таня вернется в Париж, пора…
– Ты понимаешь, – быстро говорила Сима, когда они спускались по тропинке вниз – день Адриана и Наталии – день и русской страды – Бородинский бой. Сколько полегло наших… А само житие св. Наталии? Ты его помнишь?
Сима воспламенялась.
– Для меня это с сестрой связано. А как в житии-то написано? Наталия давно была христианка, а муж нет. Он какой-то выходил вроде судьи или начальника, как раз христиан преследовал. И как нередко случалось тогда, сам же при этом и обратился. Ну, его и взяли. А Наталия его ободряла…
Когда они сошли вниз, Сима не могла уже идти дальше, остановилась, в волнении продолжала о том, как мужа Наталии допросили и отпустили, как он возвратился домой, но Наталия, думая, что он отрекся от Христа, приказала ему идти вновь в темницу.
– Ты пойми, ведь она его обожала. Он был самый дорогой для нее человек, но какая сила… именно если обожаемый, то и должен быть героем… а не отступником. Да он и не отступался, это было недоразумение, она ошиблась. Все равно, он опять попал в тюрьму, и на этот раз уже как следует…
И перебивая себя, почти задыхаясь от возбуждения, Сима рассказывала о том, что происходило чуть не две тысячи лет назад с такой горячностью, будто вчера пережила все это, будто сама видела – главное мучение Наталии в том-то и состояло, что на ее глазах потом истязали любимого человека, а она его ободряла и поддерживала, чтоб не отрекался, значит, чтобы больше его еще мучили.
– А он, наверно, я уверена, только и говорил или кричал: «Свет, свет! Христос, Тебя люблю, к Тебе иду!» Элличка, я уверена, что мучеников поддерживает именно любовь… Такой вот восторг. Иначе нельзя выдержать, но это Богом и посылается. А Наталии было труднее, потому что она и сама мучилась за любимого человека. Ее-то, в конце концов, тоже замучили.
Сима вдруг приостановилась и смолкла. Как будто усталость и тишина прошли по ней.
– Да, свет, – сказала тихо. – Все дело в свете. Она вынула платочек и обтерла лицо.
– Элличка, ты родная мне по крови и вообще единственная близкая, оставшаяся здесь. Могила брата тут на кладбище, около озера, там в лесу. Мы пойдем туда с тобой, и скоро это сделаем, а то вы уедете. А в живых одна сестра Наталия, но та в России… я о ней вспоминала и разволновалась.
– Понимаю, – тихо сказала Элли. – У меня в России мать и сестры, и я никогда их не увижу.
Обе замолчали, не сговариваясь двинулись. Дальше шли молча. У калитки пансиона Сима улыбнулась и кивнула Элли. Легким, быстрым шагом, вновь как бы окрыляемая, в развевающейся белой мантилье, оттенявшей загар лица, зашагала по шоссе к Выборгу.
Элли же в задумчивости проходила темной аллеей елок к себе в пансион. Сени были пустынны. Жильцов сейчас никого дома. У них в мезонине так же сияли на узком балкончике многоцветным огнем настурции. Солнце послеполуденное светило мягко. В комнате Элли, на столике под иконой лежали реликвии: коробочка с московской землей и флорентийской, образок Николая Чудотворца и Евангелие. С недавнего времени, после смерти Геннадия Андреича, на первой пред текстом пустой странице, рукою Элли, как всегда, торопливо и неосновательно было написано: «Мой папа на смертном одре велел читать главу 6-ю Луки Евангелиста».
Она обернулась и в комнате Глеба, на столе с пестрой скатертью увидела вдруг письма – их подали в ее отсутствие. На одном конверте сразу узнала почерк Тани и схватила его.
Таня вернулась уже в Париж с юга, и пока жила дома одна. Поездкою очень довольна, ждет их возвращения.
«Дорогие мои, – писала она, – есть и печальные вести. Проездом в Америку, куда его посылают по каким-то инженерным делам, был здесь муж Сони, Мстислав Казимирович, заходил к нач. Такой нервный, всего боится и все лечится, хотя вид у него цветущий. Рассказывал о последних днях бабушки, с большим почтением к ней. Он очень горячо и длинно рассказывает, но все-таки это ужасно: представь, у них там арестовали близко знакомого им священника, их жилицу, еще других, и нашу Ксану. Всех будто бы за участие в каком-то тайном религиозном кружке. Священника сослали, жилицу тоже, а Ксану продержали сколько-то, а потом выпустили, но она теперь лишенка. – Ты подумай, какой ужас! Моя подруга Ксана…»
Дверь отворилась. Вошел Глеб. Элли сидела бледная.
– Элли, что с тобой? Что ты на меня так странно смотришь?
Увидев письмо Тани, Глеб сам побледнел:
– Таня?
– Нет, слава Богу… Благополучна. Ждет нас. Но вот… ты увидишь.
И она протянула ему письмо.
* * *
Глеб лежал на песке, подперев голову руками. Было тихо, солнечное утро. Нынче он не работал в своем мезонине. Все кончалось. Завтра уезжают, Элли укладывается, все перебуравлено. Опять Гельсингфорс, опять долгий путь на «Ариадне».
Финский бледный залив был зеркален. Вода чуть плескалась. Как пустынно! Леса вокруг, а вдали, над светло-сиреневой гладью, узкая полоса как бы стеклянного мрения – чуть колышется, переливается, над ней смутные силуэты, будто дома. В одном месте более темное куполообразное пятно. Глеб берет бинокль, всматривается. Кронштадт, Андреевский Собор. Порт, вдали направо должен быть маяк, бороздящий золотым снопом тишину финской ночи. Отсюда отплывал фрегат «Паллада», тут проповедовал Иоанн Кронштадтский, тут же убивали офицеров, еще позже убивали красных матросов – в их же восстании. А все вместе называется Россия.
Сзади подходила Элли. Он узнал ее быстрые шаги и обернулся. Высокая и стройная, в большой летней шляпе, она легко шла по песку взморья. Глеб слегка улыбнулся. «Все такая же… в Москве, Париже, Италии».
– Ну, вот, я так и знала, что ты тут.
Лицо ее было озабочено.
– Не могу найти ключа от чемодана. Все уложено, завтра ехать, а ключа нет.
Глеб сел, отряхнул песок с брюк и запустил руку в карман.
– Ключ у меня в портмоне, вот он…
– Ах, слава Богу! Значит, завтра с утра… Хозяин дает для вещей тележку, русские все пойдут провожать.
Она замолчала и тоже села на песок. Лицо ее стало серьезнее и покойнее.
– Я рада домой ехать и видеть Таню, но мне здесь было хорошо. Жаль уезжать.
– Да, – сказал Глеб, – и мне жаль. И мне было хорошо. Очень было тут мирно и светло, и даже когда грустно, тоже хорошо.
– И Сима жалеет, что мы уезжаем. Она вчера уж так много ходила… уж очень много. Это у нее признак волнения.
Глеб встал.
– Да, так-то вот нам и странствовать с тобой по свету. Так-то и жить милостью Божьей. Много видели, много пережили, а вот еще, слава Богу, не лишенцы… Ах, Ксана, Ксана!
Элли опустила голову.
– Не говори. Из головы не выходит. А те, сосланные? Все эти Соловки, Мурмански?
Оба замолчали и поникли. Точно бы дыханье преисподней вдруг прошло по ним. Элли очнулась первая.
– Смотри, Сима идет к нам.
По самому краю прибрежья, совсем у воды, в белой накидке, с зонтиком, в белых туфлях быстро шла в направлении к ним Сима. Увидев их, вынула белый платочек и, высоко подняв над головой, помахала. Элли ответно салютовала.
– Два дружественных корабля приветствуют друг друга в море, – сказал Глеб, улыбаясь.
И они пошли навстречу Симе.
Май, 1952
Приложение
О себе*
…Я начал с импрессионизма. Именно тогда, когда впервые ощутил новый для себя тип писания: «бессюжетный рассказ-поэму», с тех пор, считаю, и стал писателем. Мучительны томления юности, когда себя ищешь, не находишь, временами отчаиваешься, впадаешь во мрак и все кажется бессмысленным. Но уж, очевидно, через это надо пройти.
Мне было около двадцати лет. Писать хотелось, внутреннее давление росло. Но я знал, что не могу писать так, как тогда писали в толстых журналах «повести и рассказы». Долго довольно ходил вокруг да около, и наконец «это» пришло. Разумеется, новое уже носилось в воздухе. И собственная душа была уже душой XX-го, а не XIX-го века. Надо было только нечто в ней оформить.
Я возвращался однажды весною в Москву из Царицына, дачной местности, где жил Леонид Андреев. Мы только что познакомились. Провели с ним целый вечер на его даче, на опушке березового леса, были молоды, возбуждены, что-то ораторствовали о литературе; барышни, сестры его, в светлых летних платьицах, слушали нас почтительно, разливая чай на террасе, при благоухании нежных берез, гудении жуков майских. Потом в теплой мгле ночи он меня провожал. И вот поезд помчал меня к Москве. Я стоял у окна и смотрел, в волнении и почти восторге. Поезд прогрохотал по мосту над рекой, туман расползался над лугами. Вдалеке блестела огнями Москва. Легкое зарево стояло над ней.
У этого вагонного окна я и почувствовал ритм, склад и объем того, что напишу по-новому. Нечто без конца-начала – о грохоте поезда, тумане, звездах, лугах, никак не «повесть» для журнала «Русская мысль» – попытка бегом слов выразить впечатление ночи, поезда, одиночества.
Записал я это на другой день. А через месяц Леонид Андреев напечатал мою «Ночь» в газете.
Она и определила раннюю полосу моего писания. Впрочем, может быть, составной частью прошла и через все.
Первая моя книжка вышла в 1906 г. в Петербурге. Вся она, как из зерна, выросла из этой «Ночи», хотя самую «Ночь» я забраковал – казалась она мне слишком слабо написанной.
Теперь, издали, так могу определить раннее свое писание: чисто поэтическая стихия, избравшая формой не стихи, а прозу. (Поэтому и проза проникнута духом музыки. В то время меня нередко называли в печати «поэтом прозы».) Это основное, «природное», свое. Оно оправлено влияниями литературными – вырастаешь в известном воздухе. Воздух тогдашний наш был – появление символизма в России (собственного) и усиление влияния западного символизма – преимущественно французского. Очень ценили у нас Бодлэра, Верлэна, Метерлинка, Верхарна. Мне лично нравился тогда Роденбах. В северных литературах – Ибсен, Гамсун. Среди же своих – Бальмонт, Брюсов были на первом плане, Федор Сологуб, Леонид Андреев.
Не могу сказать, чтоб какой-нибудь отдельный писатель – русский или иностранный – наложил печать на мою молодость литературную, но вот атмосфера известная была и, наверно, действовала. Для внутреннего же моего мира, его роста, Владимир Соловьев был очень, очень важен. Тут не литература, а приоткрытие нового в философии и религии. Соловьевым зачитывался я в русской деревне, в имении моего отца, короткими летними ночами. И случалось, косари на утренней заре шли на покос, а я тушил лампу над «Чтениями о Богочеловечестве». Соловьев первый пробивал пантеистическое одеяние моей юности и давал толчок к вере.
Все это, вместе взятое, – и литература, и философия – возбуждало и толкало. Замечательным вдохновителем, несколько позже, оказалась также Италия. С ней впервые я встретился в 1904 г. – а потом не раз жил там – и на всю жизнь вошла она в меня: природой, искусством, обликом народа, голубым своим ликом. Я ее принял как чистое откровение красоты. Тогда же полюбил двух спутников моих навсегда – Данте и Флобера.
Когда сейчас перелистываешь написанное до революции и следишь за своим изменением во времени, то картина получается такая: возбужденность первых годов понемногу стихает. Стремишься несколько расшириться, ввести в круг писания своего не только природу, стихию, но и человека – первые попытки психологии (но всегда с перевесом поэзии). Отходит полная бессюжетность. Вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные – довольно еще невнятно («Миф», «Изгнание») – все же в христианском духе. Этот дух еще ясней чувствуется в первом романе «Дальний край» (1912), полном молодой восторженности, некоторого прекраснодушия наивного – Италия вносит в него свой прозрачный звук. Критик назвал бы «Дальний край» романом «лирическим и поэтическим» (а не психологическим). К этой же полосе относится пьеса «Усадьба Ланиных», с явным оттенком тургеневско-чеховского (всегда внутренно автору родственного), и также с перевесом мистического и поэтического над жизненным.
Великая война внешне не отразилась на моем писании. Внутренно же эти годы отозвались ростом спокойной меланхолии (кн. расск. «Земная печаль»), еще ближе подводившей к Тургеневу и Чехову.
В 1918 г., в самом начале революции, появилась повесть, которую я считаю самой полной и выразительной из первой половины моего пути – «Голубая звезда». Она прозрачнее и духовней «Земной печали». Вместе с тем это завершение целой полосы, в некотором смысле и прощание с прежним. Эту вещь могла породить лишь Москва, мирная и покойная, послечехов-ская, артистическая и отчасти богемная, Москва друзей Италии и поэзии – будущих православных.
Дореволюционное – и в форме, и в содержании кончилось. Странным образом революция, которую я всегда остро ненавидел, на писании моем отозвалась неплохо. Страдания и потрясения, ею вызванные, не во мне одном вызвали религиозный подъем. Удивительного в этом нет. Хаосу, крови и безобразию противостоит гармония и свет Евангелия, Церкви. (Само богослужение есть величайший лад, строй, облик космоса.) Как же человеку не тянуться к свету? Это из жизни души. Из жизни же чисто художнической: если бы сквозь революцию я не прошел, то, изжив раннюю свою манеру, возможно, погрузился бы еще сильней в тургеневско-чеховскую стихию. Тут угрожало бы «повторение пройденного».
Годы же трагедий все перевернули, удивительно «перетрясли». Писание (в ближайшем времени) направилось по двум линиям, довольно разным: лирический отзыв на современность, проникнутый мистицизмом и острой напряженностью («Улица св. Николая»), – и полный отход от современности: новеллы «Рафаэль», «Карл V», «Дон-Жуан», «Души Чистилища». Ни в них, ни в одновременно писавшейся «Италии» нет ни деревенской России, ни помещичьей жизни, ни русских довоенных людей, внуков тургеневских и детей чеховских. Да и вообще русского почти нет. В самый разгар террора, крови, автор уходит, отходит от окружающего – сознательно это не делалось, это просто некоторая evasion, вызванная таким «реализмом» вокруг, от которого надо было куда-то спастись.
Не могу тут не вспомнить чтения «Рафаэля» – в саду особняка покойной Е. И. Лосевой, собиравшей вокруг себя поэтов, художников, писателей. Был удивительный майский день 1919 года. Я читал за столом, вынесенным из дома под зеленую сень, в оазисе среди полуразоренной и полуголодной Москвы, в остатке еще человеческой жизни, среди десятка людей элиты – слушателями были, кроме хозяйки, Вячеслав Иванов, Бердяев, Георгий Чулков. Помню, когда я закончил, солнце садилось за Смоленским бульваром. А часы показывали полночь, время было передвинуто вперед на четыре часа. Помню удивительное ощущение разницы двух миров – нашего, с этим золотящимся солнцем, и другого.
В 1922 г. я покинул Россию. Началась вторая половина жизни и писания моего.
То религиозное настроение, которое смутно проявлялось и ранее, в ударях же революции возросшее особенно, продолжало укрепляться. Первой крупной вещью в эмиграции был роман «Золотой узор». Он полон откликов «Ада» жизни тогдашней. В нем довольно ясна религиозно-философская подоплека – некий суд и над революцией и над тем складом жизни, теми людьми, кто от нее пострадал. Это одновременно и осуждение и покаяние – признание вины. Характерна и небольшая дальнейшая работа: «Преподобный Сергий Радонежский» – жизнеописание знаменитого русского святого 14-го века. Разумеется, тема эта никак не явилась бы автору и не завладела бы им в дореволюционное время.
Вообще годы оторванности от России оказались годами особенно тесной с ней связи в писании. За ничтожными исключениями все написанное здесь мною выросло из России, лишь Россией и дышит. В произведениях моих первых лет зарубежья много отголосков пережитого в революцию. Далее – тон большего спокойствия и объективности.
Кажется, я могу уже сказать о себе, что литературное мое развитие шло медленно. Я рано начал писать, но зрелости художнической достиг поздно. Все, что написал более или менее зрелого, написано в эмиграции. И ни одному слову моему отсюда не дано было дойти до Родины. В этом вижу суровый жребий, Промыслом мне назначенный. Но приемлю его начисто, ибо верю, что все происходит не напрасно, планы и чертежи жизней наших вычерчены не зря и для нашего же блага. А самим нам – не судить о них, а принимать беспрекословно.
Но продолжаю о писании своем. Как в России времен революции был я направлен к Италии, так из латинской страны вот уже двадцать лет все пишу о России. Неслучайным считаю, что отсюда довелось совершить два дальних странствия – на Афон и на Валаам, на юге и на севере ощутить вновь родину и сказать о ней. В «Жизни Тургенева» – прикоснуться к литературе русской золотого века, в «Преподобном Сергии Радонежском» – к русской святости. Даже в романе «Дом в Пасси», где действие происходит в Париже, внутренно все с Россией связано и из нее истекает. Что же сказать о таких вещах, как «Анна», «Странное путешествие», «Авдотья-смерть» – пусть в них и много страшного, горестного, но если (по утверждению критики) это наиболее удавшиеся из моих законченных писаний и наиболее зрелые – то и живопись фигур, и природа, и музыкальный их фон есть проекция каких-то русских звуков, ветров, душенастроений и благоуханий – в литературу. Если есть за что-то мне благодарить тут, то – Россию. Если есть чем болеть и страдать, то болезнями, уродствами и искажениями той же России.
Девять лет назад начал я самое обширное из писаний своих, роман-хронику-поэму «Путешествие Глеба». И в других вещах, в зарубежьи мною написанных, уже нет раннего моего импрессионизма, молодой «акварельности», нет и тургеневско-чеховского оттенка, сквозившего иногда в конце предреволюционной полосы. В «Путешествии же Глеба» это видно особенно. Ясно и то, что от предшествующих зарубежных писаний это отличается ббльшим спокойствием тона и удалением от остро-современного. «Путешествие Глеба» обращено к давнему времени России, о нем повествуется как об истории, с желанием, что можно, удержать, зарисовать, ничего не пропуская из того, что было мило сердцу. Это история одной жизни, наполовину автобиография – со всеми и преимуществами, и трудностями жанра. Преимущество – в совершенном знании материала, обладании им изнутри. Трудность – в «нескромности»: на протяжении трех книг автор занят неким Глебом, который, может быть, только ему и интересен, а вовсе не читателю. Но тут у автора появляется и лазейка, и некоторое смягчающее обстоятельство: во-первых, сам Глеб взят не под знаком восторга перед ним. Напротив, хоть автор и любит своего подданного, все же покаянный мотив в известной степени проходит через все. Второе: внутренно не оказывается ли Россия главным действующим лицом – тогдашняя ее жизнь, склад, люди, пейзажи, безмерность ее, поля, леса и т. п.? Будто она и на заднем плане, но фон этот, аккомпанемент повествования чем дальше, тем более приобретает самостоятельности. И затем: Бог с ним с Глебом лично, но ведь он такой же (ребенок, позже подросток, юноша), как тысячи других, значит, говорить о его исканиях цели жизненной, томлениях, сомнениях религиозных и пути приближения к Истине, о его попытках творчества и культе творчества – значит, говорить о человеке вообще. А это ведь, пожалуй, и не так не нужно?
Как бы то ни было, это «Путешествие» заняло автора очень надолго – и до сих пор не закончено. Но уже сейчас можно сказать: «Голубая звезда» замыкала первый, русский период писания, «Путешествие Глеба» – второй, зарубежный. Их писал тот же автор. Но никак не скажешь, что он прежний. Писание – как хорошая светочувствительная пластинка. Все принимается и отмечается. Каждый лишний жизненный опыт, каждая горечь сердца, каждая морщинка на лбу сейчас же отзывается на красках, звуках, на архитектуре созидаемого. Оттого писатель немолодой, пересматривая работу свою на протяжении лет, по ней следит изменения жизни своей: разные ее полосы разными сигнальными значками отмечены на той телеграфной ленте, которая есть литературный его путь.
Настанет ли для него период третий, вновь русский? Это вот неизвестно. Настанет – тем лучше. Что может быть радостней для писателя, чем оказаться вновь на своей земле, вновь печатать книги свои в типографиях Москвы, Петербурга? Если же не так случится, то и то хорошо. Значит, так вычерчен узор жизни «Да будет воля Твоя».
Париж, июнь 1943
Константин Мочульский. <Ясновидение любви>*
Борис Зайцев. Путешествие Глеба. I. Заря. Петрополис. 1937.
В первой части «Путешествия Глеба» рассказывается о детстве и отрочестве «небольшого, большеголового и довольно важного мальчика с белобрысыми залысинами» – Глеба. Он – сын инженера, заведующего рудниками Мальцовских заводов, живет в усадьбе в селе Усты на реке Жиздре; у него мать «красивая, с холодноватым выражением правильного, тонкого лица, спокойная и небыстрая в движениях»; сестра Лиза, кузина Соня, прозвищем Собачка, бабушка Франя, полька и католичка – «гоноровая пани Франциска Ивановна», няня Дашенька «с благообразно-увядшим лицом, кроткими, бесцветными глазами, запахом лампадного масла» и гувернантка – «балтийская светловолосая Лота». Простая русская семья, простая русская деревня, спокойное и ровное течение обычной жизни, внешне ничем не замечательной, с ее немногими и нехитрыми событиями.
Тихое и счастливое детство, гармония которого не нарушена ничем. В чем она? Что просветляет и одухотворяет это, казалось бы, столь обыденное существование – без блеска и грохота событий? В чем загадка того очарования, которое охватывает с первых же страниц зайцевского романа? Автор пишет о мире, исчезнувшем безвозвратно, о той помещичьей, деревенской России, лицо которой мы не перестаем разглядывать с мучительной любовью. Столько о ней было написано: нам казалось, что мы так хорошо ее помним и знаем. Но чем больше читаем и вспоминаем, тем яснее чувствуем: нет, тогда мы ее не знали; только теперь, отделенные от нее пространством и временем, мы научились видеть ее настоящую. И Зайцеву дано это ясновидение любви. Он описывает с поразительной простотой и сдержанностью; его рисунок несложен, краски неярки; он боится эффектов, пафоса, идеализации; его скорей можно упрекнуть в прохладности, чем в излишней чувствительности. Но он изображает мир, который он любит – и в свете этой любви самые обыкновенные люди и самые незатейливые вещи становятся прекрасными.
Рассказ начинается с одного «июльского утра, ничем от других не отличавшегося». Но на это утро смотрят чистые и строгие глаза маленького Глеба – и все, привычное и «не раз виданное», – двор, конюшня, огород, луга, ровное взгорье, зубчатый лес, – вдруг преображается. «Какой невероятный, ослепительный свет, что за жаворонки, голубизна неба, горячее, душистое с лугов веяние… Благословен Бог, благословенно имя Господне! Ничего не слыхал еще ни о рае, ни о Боге маленький человек, но они сами пришли, в ослепительном деревенском утре…»
А вот другой пример этого двойного зрения. Зимний день. Дети возвращаются с катания на салазках. В господском доме освещаются окна. После чая, под висящей над столом лампой отец читает детям «Тараса Бульбу».
И этот вечер, тоже «ничем от других не отличающийся», обычный зимний вечер в деревне переживается Глебом, как решающее событие его внутренней жизни. «Впервые он переживал поэзию, касался мира выше обыденного. Эта поэзия была и в окружающем, не только в книге. По младости не мог он, разумеется, ценить всей благодатности того дыхания любви, заботы, нежности, которыми был окружен. Лампа над столом, Гоголь, близкие вокруг, большой уютный дом, поля, леса России – счастья этого не мог еще понять, но и забыть такого вечера уже не мог».
Серьезный, задумчивый и мечтательный «большеголовый мальчик» Глеб только смутно чувствует поэзию и счастье, которыми окружено его детство. Второе зрение растет и обостряется от разлуки, испытаний, тоски. Автор знает будущее своего героя: он с печальным умилением смотрит на его счастье; его личный голос, голос «из настоящего» по временам врывается в хрупкое благополучие мира прошлого; этим последовательно примененным приемом создается двупланность повествования. Исчезнувший мир действительно становится «поэзией», так как на него падает резкий трагический свет от настоящего. Этот незыблемый быт, спокойное благоденствие, мирная, налаженная жизнь, на которой лежит печать такого изящества и благородства, – все это погибло навсегда. Зайцев вызывает своим искусством тени прошлого; нам так легко полюбить их, сжиться с ними, почувствовать их живыми и близкими; но голос автора постоянно напоминает о том, что эти люди, эта жизнь, эта прекрасная страна стояли под знаком гибели, что уже тогда, в «невероятном, ослепительном свете», в «благодатности дыхания любви» – все они были обреченные.
В конце книги мотив судьбы звучит с огромной силой; это одна из самых замечательных страниц во всем творчестве писателя. Рассказав об охоте, на которой Глеб убивает лосиху, о смерти бабушки Франциски Ивановны и о торжественной встрече губернатора, автор заканчивает первую часть романа такими словами: «И отец, и мать, и Глеб и другие совершали таинственно данный им путь жизни, приближаясь – одни к старости и последнему путешествию, другой – к отрочеству и юности. Никто ничего не знал о своей судьбе. Глеб не знал, что в последний раз видит Людиново. Отец не знал, что через несколько лет будет совсем в других краях России. Мать не знала, что переживет отца и увидит крушение всей прежней жизни. Губернатор не мог себе представить, что через тридцать лет вынесут его больного, полупараличного, из родного дома в Рязанской губернии и на лужайке парка расстреляют».
Немногочисленные действующие лица романа – Глеб, его отец, мать, бабушка, сестра и кузина, приятели отца, подруги сестры, учителя гимназии, – изображены немногими простыми чертами, но их образы не забываются. С особенной любовью изображен герой книги – маленький Глеб. Черты, его характеризующие, типичны для всего творчества Зайцева: замкнутость в себе, стыдливая сдержанность в проявлении чувств, «тихость» и задумчивость, любовь к уединению и внутренней жизни, изящество и мягкость – таков Глеб.
В Людинове мальчику «особенно нравилась тишина, чистота и свет верхних комнат…Он проводил здесь много времени, читал и рисовал… За окнами холодными зимний день… Ему нравилось, что он один, что снизу доносится музыка, а он со временем будет художником…»
В этих словах о Глебе слышится какое-то личное признание автора. Тишина, чистота и свет большой комнаты, заснеженный сад за окном, музыка, рисование, уединение… Это – «пейзаж души».
Комментарии
В четвертой книге Собрания сочинений Б. К. Зайцева публикуется его главное произведение, которое он писал на протяжении почти двух десятилетий, – автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба»: романы «Заря» (Берлин, 1937), «Тишина» (Париж, 1948), «Юность» (Париж, 1950) и «Древо жизни» (Нью-Йорк, 1953). Как писатель создавал «самое обширное из писаний своих, роман-хронику-поэму», он рассказывает в автобиографии «О себе» (1943), включенной в этот том. Здесь же печатаются мемуарный очерк дочери писателя Натальи Борисовны Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю…» (1998) и рецензия выдающегося литературоведа русского зарубежья К. В. Мочульского на первый роман тетралогии. Впервые в полном объеме «Путешествие Глеба» было издано на родине писателя, в Калуге, в 1996 г. тиражом 1500 экз. Текст романов в собрании заново выверен и исправлен по прижизненным изданиям.
Заря*
Главы «Зари» в 1935–1937 гг. печатались в парижских газетах «Возрождение», «Русский инвалид» и в журналах «Современные записки», «Иллюстрированная Россия». Первое книжное издание – Берлин: Петрополис, 1937. Печ. по этому изд. В России роман впервые напечатан в журнале «Волга». Саратов, 1990, № 8, 9.
…Бежин луг с тайною его и поэзией. – В «Записках охотника» И. С. Тургенева «Бежин луг» – один из самых поэтичных рассказов.
…«брал Варну и Силистрию»… – то есть участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг.: освобождал черноморский порт Варну 29 сентября 1828 г. и порт на Дунае Силистрию 18 июня 1829 г.
…пред иконою Ченстоховской Божией Матери… – В костеле польского города Ченстохова хранится древняя (XIV в.) икона «Ченстоховская Богоматерь», в копиях имеющаяся и в других храмах.
…слушала физиологию у Сеченова и носила… гарибальдийский берет. – Иван Михайлович Сеченов (1829–1905) создатель российской физиологической школы. Гарибальдийские береты носили во многих странах сторонники и поклонники Джузеппе Гарибальди (1807–1882), вождя Рисорджименто – итальянского национально-освободительного движения против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии.
…профессор богословия опровергал Дарвина. – Чарльз Роберт Дарвин (1809–1882) – английский естествоиспытатель; в монографии «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) обосновал материалистическую теорию эволюции, названную дарвинизмом.
…дерутся… на Успенье или на Славущую. – Успенье Пресвятой Богородицы – один из двенадцати главных православных праздников, отмечаемый 15(28) августа. Славущая (славная) – «праздник обновления Христова воскресения, славущее воскресенье, первое по Пасхе» (В. И. Даль). Одно из старинных развлечений в эти праздники – кулачные бои.
…сочувствовал Гектору и троянцам, терпеть не мог Рейнеке Лиса… – Гектор – один из главных троянских героев в «Илиаде» Гомера; он погиб в поединке с Ахиллом. Рейнеке Лис (Лис-Ренар) – персонаж стихотворного «Романа о Лисе», памятника французской литературы XIII в.
…отбояривала пьесы – увертюру к «Семирамиде», Венгерскую рапсодию– Венгерская рапсодия – одна из 19 венгерских рапсодий Ференца Листа (1811–1886).
…дальше марша из «Аиды» не ушел… – «Аида» – опера, созданная в 1870 г. великим итальянским композитором Джузеппе Верди (1813–1901) по заказу правительства Египта в связи с открытием Суэцкого канала. В марше из «Аиды», ставшем популярным концертным произведением, композитору удалось мастерски воссоздать своеобразие музыки Востока.
…исполняли «Эгмонта». – Увертюра Людвига вал Бетховена (1770–1827) к трагедии Гете «Эгмонт».
…как юродивый Древней Руси при отъезде боярыни Морозовой– Имеется в виду знаменитая картина Ивана Васильевича Сурикова (1848–1916) «Боярыня Морозова» (1887), на которой сидящий на снегу полуодетый юродивый шлет благословение уезжающей в санях нераскаявшейся раскольнице Феодосии Прокопиевне Морозовой (Соковниной; 1632–1675).
…слышал нечто и о… Бисмарке. – Отго фон Шснхаузен Бисмарк (1815–1895) – первый рейхсканцлер германской империи, осуществивший объединение страны.
…бабы в кичках… – Кичка – «бабий головной убор, с рогами, род повойника» (В. И. Даль).
…На Херувимской или перед причастием… – Херувимская – духовная песнь православной церкви, получившая свое название по первой фразе «Иже херувимы, тайно образующе…»; исполняется на литургиях («обеднях») в честь Иоанна Златоуста и Василия Великого. Музыку «Херувимской» писали композиторы Д. С. Бортнянский, М. И. Глинка, П. И. Чайковский и др. Причастие, причащение (греч. евхаристия – благодарность) – одно из главных таинств христианской церкви; оно состоит в том, что верующие во время богослужения вкушают хлеб и вино, в которых воплощены тело и кровь Христа, и это является символом духовного единения причащающихся
…лиловая его камилавка – Камилавка – головной убор священника.
Начинались Святки.. – Святки («святые дни») – 12 праздничных дней – с 25 декабря (7 января) по 6 (19 января), установленные православной церковью в память рождения и крещения Иисуса Христа.
…с Казанскою в руках… – то есть с Казанской иконой Божией Матери. В 1579 г. в Казани эта икона чудесным образом обретена была в земле («явлена») и помещена в Благовещенском соборе; ее копии, также считающиеся чудотворными, находятся во многих храмах, в том числе в Москве.
Флердоранж – белые цветы померанцевого дерева; в некоторых странах включаются в свадебный наряд невест.
Случалось препираться и над «Нивой»… – «Нива» (1870–1918) – иллюстрированный еженедельный журнал семейного чтения, один из самых популярных в России; основан книгоиздателем А. Ф. Марксом. Тираж «Нивы» к 1917 г. достиг рекордной по тем временам цифры: 275 тыс. экз.
…блестят кресты Оптиной – Оптина Введенская-Макариева Пустынь находится в Калужской обл., близ Козельска; основана в XIV в. раскаявшимся разбойником Оптою, принявшим в иночестве имя Макарий После большевистского переворота закрыта. Возвращена церкви в ноябре 1987 г.
…слышал. о старце Амвросии – Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков; 1812–1891) – один из самых почитаемых иеромонахов Оптиной Пустыни; его благочестием, высочайшим нравственным примером восхищались много с ним беседовавшие Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Вл. С. Соловьев, а для Н. К. Леонтьева он стал духовным отцом. «Вы не можете себе представить, – писал Леонтьеву из Ельца В. В. Розанов, – как колоссально его влияние здесь!.. Здесь в редком доме Вы не найдете портрета о. Амвросия» (Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. С. 471).
…Алеша Карамазов в подряснике своем, переживая Кану Галилейскую перед возлюбленным Зосимой. – Алеша Карамазов и старец Зосима – персонажи романа Достоевского «Братья Карамазовы». Кана Галилейская – город, в котором Иисус Христос превратил воду в вино и где исцелил заочно сына одного из царедворцев Капернаума (Евангелие от Иоанна, гл. 4, ст. 46–54).
…о царе Давиде не имел представления. – Давид – царь Израильско-Иудейского государства (конец II в. – ок. 950 до н. э.). Зайцев написал о нем рассказ «Царь Давид» (напечатан в «Новом журнале». Нью-Йорк, 1945, № 11).
По Оке ходили скромные ципулинские пароходы. – И. К. Ципулин – владелец пароходной компании; с 1887 по 1901 г. – городской голова Калуги.
…два экземпляра «Квартеронки»… – «Квартеронка» (1856) – роман английского классика приключенческого жанра Томаса Майн Рида (1818–1883).
…по указке Малинина и Буренина… – А. Ф. Малинин (1834–1888) и К. П. Буренин (ум. в 1882) – педагоги-математики, авторы школьных учебников (некоторые написаны ими совместно) по арифметике, алгебре, геометрии, физике, по которым учились в 1880– 1890-е гг.
«Лунная соната» – один из шедевров Людвига ван Бетховена (1770–1827) – 14-я фортепьянная соната.
Слышал… о Марате, Робеспьере. – Жан Поль Марат (1743–1793) и Максимильен Робеспьер (1758–1794) – деятели Великой Французской революции, вожди якобинцев; первый – убит жирондисткой Шарлоттой Корде; второй – казнен термидорианцами.
Петров день – христианский праздник, отмечаемый 29 июня (12 июля) в честь «первоверховных апостолов» Петра и Павла, учеников Христа и проповедников его учения.
…учившаяся и в Смольном… – Смольный (Екатерининский) институт благородных девиц в Петербурге (1764–1917) – первое в России общеобразовательное заведение для дворянок (с 6 до 18 лет).
«Не искушай меня без нужды» – начальная строка романса Михаила Ивановича Глинки (1804–1857) «Разуверение» на слова Е. А. Баратынского.
Собирались перейти на «Руслана и Людмилу»… – Имеется в виду опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (по мотивам поэмы А. С. Пушкина).
…альбом гоголевских типов Боклевского. – Имеется в виду один из альбомов литографий и рисунков Петра Михайловича Боклевского (1816–1897): «Галерея гоголевских типов. „Ревизор“» (1858), «Бюрократический катехизис. Пять сцен из „Ревизора“» (1863), «Типы из поэмы „Мертвые души“» (1895) и др.
«Исторические письма» Миртова… – «Исторические письма» (1868–1869) идеолога революционного народничества Петра Лавровича Лаврова (1823–1900), опубликованные под псевдонимом «П. Миртов», стали для семидесятников программным документом, увлекшим их идеей «хождения в народ».
…профиль леонардовского урода… – Об одном из уродов, которых любил рисовать Леонардо да Винчи (1452–1519), рассказал Вазари в «Жизнеописаниях». Великого живописца однажды попросили расписать щит. «Леонардо… стал раздумывать о том, что бы на нем написать такое, что должно было бы напугать каждого, кто на него натолкнется, производя то же впечатление, какое некогда производила голова Медузы. И вот для этой цели Леонардо напустил в одну из комнат, в которую никто кроме него не входил, разных ящериц, сверчков, змей, бабочек, кузнечиков, нетопырей и другие странные виды подобных же тварей, из множества каковых, сочетая их по-разному, он создал чудовище весьма отвратительное и страшное, которое отравляло своим дыханием и воспламеняло воздух. Он изобразил его выползающим из темной расселины скалы и испускающим яд из разверзнутой пасти, пламя из глаз и дым из ноздрей, причем настолько необычно, что оно и на самом деле казалось чем-то чудовищным и устрашающим… И вот когда однажды утром сер Пьеро вошел к нему в комнату за щитом и постучался в дверь, Леонардо ее отворил, но попросил его обождать и, вернувшись в комнату, поставил щит на аналой и на свету, но приспособил окно так, чтобы оно давало приглушенное освещение. Сер Пьеро, который об этом и не думал, при первом взгляде от неожиданности содрогнулся, не веря, что это тот самый щит, и тем более что увиденное им изображение – живопись, а когда он попятился, Леонардо, поддержав его, сказал: „Это произведение служит тому, ради чего оно сделано… Таково действие, которое ожидается от произведений искусства“» (Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. III. М., 1970. С. 19–20).
…читает Боборыкина, роман «Василий Теркин». – Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) – прозаик, драматург, литературовед. «Василий Теркин» (1892) – один из первых русских романов, посвященных предпринимательству.
Тишина*
Главы «Тишины» в 1938–1940 гг. печатались в парижской газете «Возрождение», журнале «Современные записки» и в рижской газете «Сегодня». Первое (и единственное) книжное издание – Париж. Возрождение, 1948. Печ. по этому изд. В России роман впервые издан в кн.: Зайцев Б. К. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М.: Художественная литература; Терра, 1993.
…тургеневский «Фауст»… – Повесть Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) «Фауст. Рассказ в письмах» (1856) посвящена теме трагизма любви и крушения индивидуализма. В ней нашли отражение принципиальные расхождения Тургенева со взглядами Гете и его «Фаустом», впервые высказанные в статье о русском переводе шедевра немецкого классика (см.: Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения. Т. 1. М.: Наука, 1978. С. 197–235).
А «Обрыв» явно за частоколом… – Имеется в виду роман Ивана Александровича Гончарова (1812–1891) «Обрыв». Упоминаемые далее Марк Волохов и Вера – герои этого романа.
«Господи, хорошо нам здесь быть… Сделаем здесь три кущи…» – Цитата из Евангелия от Матфея (гл. 17, ст. 4); эти слова говорит апостол Петр Иисусу Христу после Его Преображения на горе Фавор.
…губернаторский дом, где некогда Смирнова принимала Гоголя. – К губернаторше Александре Осиповне Смирновой-Россет (1809–1882) Н. В. Гоголь приезжал погостить много раз, а в июле 1849 г. он провел здесь три недели, редактируя второй том «Мертвых душ».
…за Одигитриевской и древним жилищем Марины Мнишек.. – Памятник XVII в. Одигитриевская (греч. одигитрия – путеводительница) церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери. Польская авантюристка Марина Мнишек (ок. 1558 – ок. 1614), по преданию, скрывалась в Калуге вместе с Лжедмитрием II (?–1610) в доме Коробовых.
…знаменитый бор, что идет к Полотняному Заводу Гончаровых – Имеется в виду фабрика по изготовлению парусных полотен в селе Полотняный Завод (в окрестностях Калуги), принадлежавшая родственникам жены А. С. Пушкина. Поэт побывал здесь дважды: в 1830 и 1834 гг.
Государь скончался! – Император Александр III скончался 20 октября 1894 г. В этот же день на престол вступил Николай II.
…слушал Стороженок и Ключевских… – Николай Ильич Стороженко (1836–1906) – литературовед, исследователь Шекспира и его эпохи; профессор Московского университета. Василий Осипович Ключевский (1841–1911) – выдающийся историк; профессор Московского университета.
«Гаудеамус» (лат. gaudeamus – будем радоваться) – известная со средних веков студенческая песня на латинском языке.
На Татьяну плакал пьяными слезами… – Имеется в виду день памяти святой мученицы Татианы, отмечаемый 12(25) января. Татьянин день стал традиционным праздником студенчества.
…о том, что он родился в день св. Иова Многострадального, никто не вспомнил. – Николай II родился 6 мая 1868 г., в день памяти св. Иова (см.: Библия. Книга Иова).
…читать Цезаря… – До наших дней дошли две книги римского полководца и диктатора Гая Юлия Цезаря (102 или 100 – 44 до н. э.): «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданских войнах».
…подписывал консисторские бумаги… – В русской православной церкви консистория (лат. совет) – учреждение при архиерее, ведающее управлением делами епархии.
Панорамов-Сокольский изображал Уриэля Акосту.. – Уриэль Акоста – герой одноименной трагедии немецкого писателя Карла Гуцкова (1811–1878), ставившейся в России многими театрами в переводе П. И. Вейнберга.
…играли «Грозу», ставили «Цену жизни». – «Гроза» – пьеса Александра Николаевича Островского (1823–1886). «Цена жизни» – драма Владимира Ивановича Немировича-Данченко (1858–1943).
Приезжал на гастроли… Рейзенауэр. – Альфред Рейзенауэр (1863–1907) – немецкий пианист-виртуоз, много раз гастролировавший (с 1887 г.) в России.
…сидел в первом ряду театра с видом графа Потоцкого или князя Радзивилла.. – Потоцкие и Радзивиллы – родовитые польские семьи, занимавшие высшие государственные посты начиная с XIII в.
…с видом Захарьина… – Григорий Антонович Захарьин (1829–1897/98) – знаменитый терапевт, усовершенствовавший метод анамнестического исследования.
Он чувствовал себя вроде Пржевальского пред Средней Азией– Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888) – путешественник, исследователь Центральной Азии.
…«величавое войско стогов»… – Из стихотворения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877/78) «Рыцарь на час».
Где Арарат? – Во время библейского потопа ковчег Ноя остановился на горах Араратских (Библия. Первая книга Моисеева. Бытие. Гл. 8, ст. 4).
…а он вроде «адоратора». – Адоратор (фр) – обожатель.
…назначая малые шлемы. ремизился.. – В карточной игре: шлем (от нем. Schlemm) – не дать партнеру ни одной взятки; ремиз – «недобор взятки» (В. И. Даль).
…с огромной челюстью Щелкунчика. – «Замечательный человечек», ловко разгрызающий орехи и совершающий подвиги, – герой сказки немецкого классика Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822) «Щелкунчик и мышиный король», вошедший в первый том книги «Серапионовы братья». Сказка Гофмана вдохновила П. И. Чайковского на создание знаменитого балета «Щелкунчик» (1892)
...как делается карамболь– В бильярдной игре карамболь – удар, при котором шар, отскочив от другого, попадает рикошетом в третий, направляя его в лузу.
…не то хижина дяди Тома, не то Эрмитаж романтического философа. – «Хижина дяди Тома» – роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811-18 %). Эрмитажами (от фр. ermitage – место уединения) назывались парковые павильоны и загородные виллы. С 1764 г. Эрмитаж – личная художественная коллекция Екатерины II в Петербурге, выросшая в один из крупнейших музеев мира.
…замечательный чок-бор– Чок-бор – ружейный ствол с зауженным дулом (для кучности боя дробью).
Оркестрион – известный с XVIII в. самоиграющий механический музыкальный инструмент, имитирующий оркестровое исполнение.
Большой монастырь… там этот старец жил. Серафим.. – Речь идет о Саровской (иначе Сатисо-Градо-Саровской) мужской пустыни (Тамбовская обл.), основанной в XVII в. Старец, пустынножитель и затворник Серафим Саровский (в миру Прохор Сидорович Мошнин; 1759–1833) прославился благочестием, а также тем, что стал устроителем Серафимо-Дсевской, Ардатовской и Зеленогорской общин.
читал «Борьбу за Рим». – «Борьба за Рим» (1878) – исторический роман немецкого прозаика Феликса Дана (1834–1912).
Вы слыхали про польское восстание 1863 года7 – Восстание 1863–1864 гг. охватило Королевство Польское, Литву, Западную Белоруссию и Правобережную Украину; несмотря на то что оно было жестоко подавлено, Александр II вынужден был провести в Польше аграрные и другие реформы.
Нижний в свое время выручил Россию.. – В 1611–1612 гг. в Нижнем Новгороде Козьма Минин (?–1616) создал и возглавил 2-е народное ополчение, отличившееся в боях за Москву и в разгроме польских интервентов.
играли в четыре руки «Кориолана». – «Кориолан» (1807) – увертюра Людвига вам Бетховена (1770–1827) к одноименной трагедии немецкого драматурга Г.-И. Коллина (1772–1861).
…даже сам Сафонов. – Василий Ильич Сафонов (1852–1918) – выдающийся пианист и дирижер; с 1889 г. – директор Московской консерватории.
«Царю небесный. Утешителю, Душе Истины, Иже везде сый и вся исполняй…» – Из утренней («начинательной») молитвы – обращение к Святому Духу: «Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде находящийся и все исполняющий…» (Молитвослов с акафистами. Пг., 1915. С. 4).
…тушевал голову Артемиды. – Сестра-близнец Аполлона целомудренная Артемида – греческая богиня охоты и природы; почиталась также как богиня девственной непорочности, покровительница супружества. Художники традиционно изображали Артемиду в образе охотницы во время купания с нимфами и сатирами.
…спрашивать… о Католической реакции… о Карле Пятом – Католическая реакция (контрреформация) – церковно-политическое движение в Европе XVI–XVII вв., вызванное расколом католицизма и появлением протестантизма. Контрреформацию возглавили папы и монашеские ордена, создавшие для борьбы с инакомыслием инквизицию. Активным сторонником истинного католичества стал Карл V (1500–1558), император «Священной Римской империи» из династии Габсбургов; в войне с германскими протестантами он потерпел поражение и, отрекшись от престола, окончил дни в монастыре (см. новеллу Зайцева «Карл V» в т. 2 нашего собрания).
…наигрывать на рояле «Молитву девы», читать романы Мордовцева… – «Молитва девы» – пьеса для дилетантов, принесшая громкую славу ее сочинительнице Теклс Барановской (урожд. Бондаржевской; 1834–1861). Даниил Лукич Мордовцев (1830–1905) – русский и украинский прозаик и историк; автор популярных исторических романов.
Ми-и-лая, ты услышь ме-ня – популярная цыганская песня; автором слов и музыки считается С. Гердель.
скромный герой Калуги, рядовой Архип Осипов– Солдат Архип Осипов (1802–1840) отличился в Кавказской войне, участвуя в обороне Михайловского укрепления на Черноморском побережье. А героем Отечественной войны 1812 г. стал калужанин унтер-офицер С. А. Старичков: в сражении под Аустерлицем он спас полковое знамя. Его именем была названа улица в Калуге.
…знаменитый протоиерей о Иоанн Кронштадтский. – Преподобный Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич Сергеев; 1829–1908) – выдающийся церковный проповедник и духовный писатель, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, обретший славу «народного святого». О посещении легендарным проповедником калужской епархии Зайцев (он был тогда, в 1890-е г, гимназистом) рассказал также в мемуарном очерке «Иоанн Кронштадтский» (1929).
…взял в училищной библиотеке книгу Фаррара.. – Фредерик Уильям Фаррар (1831–1903) – английский духовный писатель; в романе, очевидно, имеется в виду его книга «Жизнь и труды отцов и учителей Церкви», в которой Глеб «с увлечением читал об Афанасии Великом» (293–373) – епископе Александрийском, авторе многих острополемических сочинений (они, как и книги Фаррара, изданы на русском языке).
Подзубрил покрепче, что «вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». – Цитируется Послание апостола Павла к Евреям из Библии (гл. 2, ст. 1); слова апостола включены в Катехизис (в ответе на вопрос «Что есть вера?»), по которому велось обучение в школах в конце XIX века.
…спрашивал Золя, но его в нашей библиотеке не оказалось. – Французский классик Эмиль Золя (1840–1902), автор популярной в России серии из 20 романов «Ругон-Маккары», многие из которых для гимназистов были чтением запретным из-за, как считали наставники, «фривольности содержания».
…юноша Гофман вызывал к бытию миры новые… – Иосиф (Юзеф) Гофман (1876–1957) – польский композитор и пианист-виртуоз, начавший исполнительскую деятельность в семилетнем возрасте; с 1895 г. неоднократно приезжал на гастроли в Россию.
«Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось».. – Из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, гл. 7.
Некоторые вечера… проводил над Фламмарионом– Камиль Фламмарион (1842–1925) – французский астроном, автор научно-популярных книг по астрономии.
Государь принимал корону Самодержца Всероссийского.. – Коронация царствовавшего с 1894 г. Николая II (1868–1918) состоялась в Москве 14 мая 1896 г. Торжества омрачены были трагическими событиями на Ходынском поле. Здесь 18 мая во время раздачи царских подарков в пятисоттысячной толпе произошла давка, во время которой, по официальным данным, погибло 1389 и изувечено 1300 человек.
…кусок ледяного бландовского масла… – Сливочное масло фирмы братьев Бландовых в 1901 г. завоевало Гран-при на Парижской выставке.
Был и художник, особенно его пронзивший, – Левитан. – Исаак Ильич Левитан (1860–1900) – живописец, мастер пейзажа. Далее упоминаются его картины «Над вечным покоем» (1894) и «Сумерки. Стога» («Вечерний месяц над лужком и стогом»; 1899).
Государь был молод, недавно повенчан… – Венчание Николая II с Александрой Федоровной состоялось 14 ноября 1894 г.
Он увидел бы торжественную всенощную в Соборе… – 18 июля 1903 г. в Успенском соборе состоялось торжественное всенощное бдение, во время которого Серафим Саровский был причислен к лику святых. Об этом событии Зайцев рассказал также в очерке «Около Св. Серафима. К столетию его кончины» (1933).
Он услышал бы на полиелее… – Полиелей (от греч. «многомилостив») – одна из составных частей утреннего воскресного и праздничного богослужений («утрени»), состоящая в пении стихов из псалмов 134 и 135.
и до Гаусса, Абеля, Лобачевского весьма далеко-с. – Карл Фридрих Гаусс (1777–1855) – немецкий математик, физик и астроном. Нильс Хенрик Абель (1802–1829) – норвежский математик. Николай Иванович Лобачевский (1792–1856) – русский математик, создатель неевклидовой геометрии.
«Человек яко трава, дни его яко цвет сельный, тако отцветет»– Из Шестопсалмия, Псалом 102.
«Тесен путь и узки врата…» – Неточная цитата из Евангелия от Матфея (гл. 7, ст. 14).
Гаснут дальней Альпухарры. – Серенада Дон-Жуана из драматической поэмы А. К. Толстого «Дон-Жуан», положенная на музыку П. И Чайковским, Ф. М. Блуменфельдом, Б. В. Гродским и др.
Тут видел он… «Африканку», «Аиду».. «Травиата» сладостно умирала, «Кармен» волновала… – Названы оперы: «Африканка» французского композитора Джакомо Мейербера (1791–1864), «Аида» и «Травиата» итальянского композитора Джузеппе Верди (1813–1901), «Кармен» французского композитора Жоржа Бизе (1838–1875).
Люди Мельникова-Печорского., жили в таких же лесах. – Павел Иванович Мельников-Печерский (1818–1880) – автор эпопеи «В лесах» и «На горах»; далее упоминаются героини этой дилогии Манефа и Фленушка.
…вагон микст первого-второго класса… – то есть вагон смешанного типа (от лат. mixtum – смесь, мешанина).
Сторона ли моя, ты сторонушка.. – Романс «Сторона ль моя, сторонушка» Павла Петровича Булахова (1824–1875) на слова В. П. Чуевского.
В живописи он ценил Клевера. Читал Лейкина… – Юлий Юльевич Клевер (1850–1924) – живописец, мастер пейзажа. Николай Александрович Лейкин (1841–1906) – прозаик, издатель популярного сатирического журнала «Осколки» (1882–1905), в котором дебютировал А. П. Чехов.
…звонили уже к мефимонам… – Мефимон (грсч.: с нами Бог) – вечернее богослужение в дни Великого поста.
…о. Парфений служил литию – Лития (от греч. lite – усердная молитва) – часть всенощного богослужения накануне православных праздников, а также совершается во время похорон, поминовения умерших и во время крестного хода.
(1. Петра, IV, 10) – Библия. Первое послание апостола Петра (гл. 4, ст. 10).
Юность*
Главы «Юности» в 1940–1948 гг. печатались в нью-йоркской газете «Новое русское слово», парижской газете «Русская мысль» и нью-йоркском «Новом журнале». Первое (и единственное) книжное издание – Париж: YMCA-Press, 1950. Печ. по этому изд.
…в Рейхстаге… какой-то Рихтер вечно громит правительство. – Евгений Рихтер (1838–1906) – немецкий политический деятель, вождь партии прогрессистов; с 1871 г. член рейхстага, прославившийся смелыми нападками на рейхсканцлера германской империи Бисмарка.
…Хомяков, Аксаков не бывали тут. – Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) – поэт, философ, публицист; один из вождей славянофилов. Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859) – прозаик, мемуарист, критик, журналист; автор знаменитых книг «Записки ружейного охотника», «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и др.
…над Москвой, где правил. нелюбимый Великий князь Сергий. – Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) – четвертый сын Александра II; московский генерал-губернатор и командующий войсками Московского военного округа с 1891 г. Убит в 1905 г. террористом И. Каляевым.
…прислала номер ложи на «Юдифь»… – «Юдифь» (1862) – опера Александра Николаевича Серова (1820–1871) на сюжет библейской ветхозаветной легенды о благочестивой вдове, спасшей свой город от осадивших его ассирийцев Навуходоносора. Обольстив вражеского полководца Олоферна, она ночью отрубила ему мечом голову.
…в Малом театре смотрят Островского– Малый театр – старейший драматический театр в Москве (основан в середине XVIII в.); прославился постановками классики (русской и зарубежной), особенно – пьес Александра Николаевича Островского (1823–1886). У здания Малого театра в 1929 г. поставлен памятник великому драматургу работы скульптора Н. А. Андреева (1873–1932).
…услышал он вальс из «Фауста». – «Фауст» (1859) – лучшая опера французского композитора Шарля Гуно (1818–1893), созданная по мотивам одноименной трагедии И.-В. Гете.
«Ах, скажите вы ей, цветы мои..» – ария Валентина из «Фауста»
…сыграла., увертюру «Кориолана». – См. примеч. к с. 210 «Тишины».
…справа завод Гужона.. – Старейшим московским металлургическим заводом акционерного общества «Гужон и К°» (ныне «Серп и молот») управлял отец Зайцева Константин Николаевич (1849–1919).
…ходила еще в Петербурге слушать Сеченова… – См. примеч. к с. 38 «Зари».
«Рыцаря на час»… декламировала. – «Рыцарь на час» (1860) – стихотворение Н. А. Некрасова.
«Русские женщины», все эти Трубецкие, Волконские… – «Русские женщины» – цикл исторических поэм Н. А. Некрасова, посвященных женам декабристов Екатерине Ивановне Трубецкой, Марии Николаевне Волконской и др., совершившим подвиг самопожертвования – последовавшим за мужьями на сибирскую каторгу и в ссылку.
…Игумнов… выслушивал ее упражнения на рояле. – Константин Николаевич Игумнов (1873–1948) – пианист и выдающийся педагог, с 1899 г. профессор Московской консерватории.
…перевести фразу из Цезаря, Корнелия Непота.. – Римский диктатор Гай Юлий Цезарь (102 или 100 – 44 до и. э.) – автор «Записок о галльской войне» и «Записок о гражданских войнах». Корнелий Непот (ок. 100 – после 32 до н. э.) – римский писатель; из его сочинений сохранились: книга «О выдающихся полководцах иноземных народов» (22 биографии), биографии Катона Старшего и Аттика из книги «О латинских историках». Благодаря простоте и ясности языка сочинений Непота они издавна используются при изучении латыни.
…в новом театре. Называется – Художественно-Общедоступный Ставили пьесу «Царь Федор Иоаннович». – 14 сентября 1898 г. в помещении «Эрмитажа» открыл свой первый сезон Художественно-Общедоступный театр (впоследствии – знаменитый МХАТ) К. С. Станиславского (1863–1938) и В. И. Немировича-Данченко (1858–1943). Премьерой стал спектакль «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Константиновича Толстого (1817–1875). А 17 декабря 1898 г. театр триумфально дал новую премьеру – «Чайку» А. П. Чехова (за два года перед тем она провалилась на сцене Императорского Александрийского театра в Петербурге). В ночь после спектакля Немирович-Данченко отправил Чехову в Ялту телеграмму: «Только что сыграли „Чайку“, успех колоссальный». В русском театральном искусстве началась эра новаторской режиссуры.
Браво, Станиславский, Книппер… – Создавший замечательную партитуру спектакля Станиславский в «Чайке» неудачно сыграл роль Тригорина, а Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (1868–1959) была блистательной в роли Аркадиной.
…Ахилл… не удовольствовавшись… победой над Гектором… – Герой «Илиады» Гомера Ахилл совершил немало подвигов у стен Трои, но погиб от отравленной стрелы Париса.
…отправил рукопись… в толстый журнал, народнический. – Очевидно, имеется в виду журнал народнического направления «Русское богатство» (1876–1918), редактировавшийся социологом, критиком, публицистом Николаем Константиновичем Михайловским (1842–1904) и прозаиком, публицистом Владимиром Галактионовичем Короленко (1853–1921). К ним обратился Зайцев со своими первыми литературными опытами.
…смотреть какого-нибудь Ибсена… – Генрик Ибсен (1828–1906) – классик норвежской и мировой драматургии.
…принялся было за Тита Ливия. – Тит Ливий (59 до н. э. – 17 н. э.) – римский писатель-историк, автор «Римской истории от основания города».
…труба Иерихона.. – Иерихон – первый город, захваченный евреями на пути из пустыни к земле Ханаанской. Во время осады крепости полководец Иисус Навин прибег к хитрости: в течение шести дней священники в сопровождении воинов с высокими серебряными трубами молчаливо обходили иерихонские укрепления, деморализуя противника, а на седьмой день трубы взревели, да так оглушительно, что стены и башни крепости рухнули. Город сдался и был до основания разрушен.
…дал прочесть Гамсуна. – Кнут Гамсун (1859–1952) – норвежский прозаик, поэт, драматург.
…Микель-Анджелова «Ночь» из гробницы Медичи. – «Ночь» – одна из лучших скульптур во флорентийской капелле Медичи, шедевре Микеланджело Буонарроти (1475–1564). «Перед нами, – как сказал о „Ночи“ Вазари, – не только спокойствие спящей, но и печаль и уныние того, кто потерял нечто почитаемое и великое» (Вазари Дж. Жизнеописания. Т. 3. С. 251). В этой скульптуре Микеланджело выразил свою боль утраты родной Флоренции, унижаемой и разоряемой семейством Медичи.
Император, в день Иова родившийся. – В день Иова 6 мая 1868 г. родился Николай II.
…прочесть Верхарна, Бодлера… – Популярные, самые переводимые в России Серебряного века поэты: бельгиец Эмиль Верхарн (1855–1916) и француз Шарль Бодлер (1821–1867).
Ты пойдешь Бальмонта слушать? Об Оскаре Уайльде? – Поэт, один из основоположников русского символизма Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) 18 ноября 1903 г. выступил в Литературно-художественном кружке с докладом об английском прозаике, поэте, драматурге и критике Оскаре Уайльде (1854–1900).
«Завопил низким басом, в небеса запустил ананасом…» – Неточная цитата из стихотворения А. Белого «На горах» (1903).
…есть и личные знакомства: Поль Фор, Жан Мореас… – Поль Фор (1872–1960) – французский поэт-символист. Жан Мореас (наст, имя Яннис Пападиамандопулос; 1856–1910) – французский поэт, грек по происхождению.
…бредит… Метерлинками. – Морис Метерлинк (1862–1949) – бельгийский драматург и поэт, лауреат Нобелевской премии (1911), автор знаменитого шедевра мировой драматургии – драмы «Синяя птица» (1908), впервые поставленной в России К. С. Станиславским на сцене МХТ 30 сентября 1907 г.
Одной книги название: «Северная Симфония», другой «Третья драматическая». – Названы первые повести поэта, прозаика, теоретика символизма Андрея Белого (наст, имя Борис Николаевич Бугаев; 1880–1930): «Северная симфония (1-я, героическая)» и «Симфония (2-я, драматическая)». С подзаголовком «Третья симфония», впоследствии снятым, печаталась повесть «Возврат». «Четвертой симфонией» А. Белый назвал повесть «Кубок метелей».
…заговаривал молодых дам… Пшибышевским… – Станислав Пшибышевский (1868–1927) – польский прозаик и драматург, пользовавшийся популярностью в России начала века.
…психологическая теория ценности, Бем-Баверка. – Эйген Бем-Баверк (1851–1914) – австрийский экономист и политический деятель, автор монографии, в которой опровергает теорию стоимости К. Маркса.
Древо жизни*
Главы «Древа жизни» в 1952 г. печатались в нью-йоркском «Новом журнале». Первое книжное издание – Нью-Йорк: Издательство им. А. П. Чехова, 1953. Печ. по этому изд.
О, вей, попутный ветер… – В эпиграфе строки из стихотворения Константина Николаевича Батюшкова (1787–1855) «На развалинах замка в Швеции» (вольный перевод элегии немецкого поэта Фридриха Маттисона; 1761–1831)
…копией Каналетто в зале. – Джованни Антонио Каналетто (1697–1768) – итальянский живописец, мастер архитектурного (городского) пейзажа.
…принимал нынче на хранение архив князя Урусова – Очевидно, имеется в виду архив князя Александра Ивановича Урусова (1843–1900), выдающегося адвоката, увлекавшегося также искусством и много о нем писавшего.
Виндавский вокзал – с 1946 г. Рижский.
играла в детском оркестре Эрарского… – Анатолий Александрович Эрарский (1839–1897) – пианист, дирижер, педагог; в 1887 г. вместе с женой организовал в Москве детский оркестр при Синодальном училище.
…уезжала она слушать Рубинштейна… – Антон Григорьевич Рубинштейн (1829–1896) – пианист, композитор, дирижер, концертные выступления которого пользовались огромной популярностью и в России, и за рубежом.
Ах, Озанам! Озанам! Вы читали Озанама? – Антуан Фредерик Озанам – французский писатель; автор монографии о Данте.
…не знал монет царя Митридата… – Митридаты – представители рода Аршакидов и царской династии, правившей в государстве Понт с IV в. до и. э.
Эйнемы и Флеи, и Абрикосы беспрекословно работали на колесниковских девиц – Имеются в виду известные в дореволюционной Москве кондитерские фирмы: фабрика Ф.-Т.-К. Эйнема – ныне «Красный Октябрь», фабрика товарищества «А. И. Абрикосов и сыновья» получила имя П. А. Бабаева.
…перечитал… начало «Чистилища»… – «Божественная комедия» Данте состоит из трех частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай». Зайцев перевел ритмической прозой и издал в 1961 г. «Ад».
Тирезий сидит в глубоком аду… в самых нижних кругах. – «Тирезий – Фиванец, предсказатель в греческом войске, осаждавшем Трою… Он побил двух змей, соединившихся любовно, и за это был превращен из мужчины в женщину; через семь лет, увидев вновь змей и вновь ударив их, вновь стал мужчиной. Овидий» (примеч. Зайцева к «Аду». Песнь двадцатая).
поговорить о графе Уголино… – Уголино деи Герардески, граф Доноратико – знатный пизанец из партии гвельфов (сторонников римских пап). Песнь тридцать третья «Ада» рассказывает о нем как о мстителе, гложущем затылок архиепископа-предателя Руджиери, погубившего его и его семью: они мученически погибли в Башне голода.
…поспорить о знаменитом 75-м стихе… – Вот этот стих: «…А затем сильнее горя оказался голод». В своем переводе «Ада» Зайцев комментирует строку так: «Знаменитый стих, вызвавший целую литературу, Скартаццини объясняет его в том смысле, что „голод оказался сильнее горя, и убил меня“. Он очень резко, по обыкновению, отзывается о тех, кто с ним не согласен. Однако надо сказать, что стих весьма загадочен. Если принять во внимание то, что в ст. 61–62 говорят Уголино-отцу – дети и что с другой стороны во льду он с бешенством грызет череп врага своего Руджиери, то невольно приходит в голову, что голод преодолел в нем другие, отцовские и человеческие чувства, и он стал есть их. Говорят, что если допустить это, то все сочувствие рушится. Мне кажется, это не так. Быть может, именно здесь показал Данте великий трагизм двойственности человеческого существа Уголино и жалок, и ему сочувствуешь, но, конечно, он и страшный, свирепый, и необузданный человек тех суровых времен» (Данте Алигиери. Ад. Перевод Бориса Зайцева. Париж: YMCA-Press, 1961. С. 333).
…дальше Франчески да Римини ничего в сущности не знает. – О трагической судьбе Франчески да Римини Данте рассказал в песне пятой «Ада». Красавица Франческа, против воли выданная замуж за урода Малатесту да Римини, полюбила его сводного брата Паоло. Синьор Римини убил обоих влюбленных. Этой любовной драме посвятил свою знаменитую увертюру «Франческа да Римини» П. И. Чайковский.
…закат, освещающий «Остров мертвых» Беклина, гравюру Штука… книжку Пишбышевского «Ното sapiens». – «Остров мертвых» (1880) – аллегорическая картина швейцарского живописца-романтика Арнольда Беклина (1827–1901). Последователь Беклина немецкий живописец Франц фон Штук (1863–1928) – автор фантастико-аллегорических произведений. «Homo sapiens» Ст. Пшибышевского – роман, в котором более всего отразилась своеобразная стилистика польского писателя: сочетание патетики молитвенно-эротического экстаза с натурализмом и патологией душевных состояний.
Киммерия входила-с в него тоже – Киммерия – Северное Причерноморье, где в VIII–VII вв. до н. э. жили племена киммерийцев, изгнанные скифами.
Ни Витте, ни Скартаццини.. – Карл Витте (1800–1883) – немецкий юрист и переводчик, знаток итальянской литературы; издал в 1862 г. комментированный перевод на немецкий язык «Божественной комедии» Данте. Дж. Скартаццини – автор трехтомной «Дантовской энциклопедии» (Милан, 1896–1905).
…дам – для начала – Крауса. – Франц Ксаверий Краус (1840–1901) – немецкий католический богослов и археолог, автор монографии «Данте» (1897).
Вот твои книжки… «Серебряные коньки», «Лорд Фаунтлерой»… – Названы популярные книги американских писательниц для детей: повесть «Серебряные коньки» (1865) Мэри Додж (1838–1905) и роман «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886; рус. пер. 1889) Фрэнсис Элизы Бернетт (1849–1924).
…направляясь к могильному памятнику Скалигеров… – Скалигеры (делла Скала) – итальянский феодальный род, представители которого правили Вероной с 60-х гг. XIII в. до 1387 г., когда Верону захватили правители Милана Висконти.
…маленький свой палладиум… – Палладиум – статуя вооруженного божества; в тексте в значении – талисман-хранитель.
…а теперь разные Якиры, Ягоды… – Иона Эммануилович Якир (1896–1937) – советский военачальник, репрессированный Сталиным; посмертно реабилитирован. Генрих Григорьевич Ягода (1891–1937), возглавлявший органы внутренних дел, был одним из главных исполнителей массовых репрессий и сам стал их жертвой: расстрелян.
…сподвижник Забелиных, Кондаковых… – Иван Егорович Забелин (1820–1908/1909) – историк, археолог; председатель Общества истории и древностей российских, руководитель Исторического музея в Москве; почетный академик. Никодим Павлович Кондаков (1844–1925) – историк византийского и древнерусского искусства, академик.
Silentium, как сказал гениальный Тютчев. – «Silentium» («Молчание») – один из лирических шедевров Федора Ивановича Тютчева (1803–1873).
...мимо пустого места Иверской часовни. – У Воскресенских (Иверских) ворот, ведущих на Красную площадь, в 1790-х гг. была сооружена каменная часовня для иконы Иверской Божией Матери – точной копии величайшей святыни Афона, привезенной в Москву в 1648 г. Часовня разобрана в начале 1930-х гг. Ныне восстановлена на прежнем месте.
…мимо прежнего Мюра и Мерилиза… – «Мюр и Мерилиз» – английский торговый дом, которому принадлежал универмаг в Москве на Петровке (ныне ЦУМ).
…«Белый свет»… на обложке стояло имя Глеба. – Одна из многих деталей, подчеркивающих автобиографизм романа: «Белый свет» – так называется последняя книга рассказов Зайцева, вышедшая в России (1923).
…на старой Плющихе… где у Погодина жил некогда Гоголь… – Н. В. Гоголь гостил в московском доме Н. П. Погодина на Плющихе с сентября 1839 по май 1840 г. Москва провожала автора «Мертвых душ» на торжественном приеме, устроенном в день Николы вешнего – именинный день Гоголя. А. И. Тургенев в дневнике отметил: «9 мая… к Гоголю на Девичьем поле у Погодина, там уже молодая Россия съехалась… Стол накрыт в саду: Лермонтов…» Здесь состоялась встреча двух гениев – Гоголя и автора только что вышедшего «Героя нашего времени».
…о. Виктор совершал проскомидию… – Проскомидия (греч. принесение) – первая часть литургии, на которой совершается приготовление хлеба и вина и чудесное их пресуществление (преобразование) в тело и кровь Иисуса Христа для таинства причащения (евхаристии).
…6-я глава от Луки. Нагорная проповедь. – Нагорная проповедь – «заповеди блаженства», морально-этические нормы христианства. Согласно Евангелиям от Матфея (гл. 5–7) и от Луки (гл. 6) Иисус Христос проповедь перед народом произнес, стоя на горе (отсюда ее название). В первой части перечисляются требования, предъявляемые от имени Бога людям. Каждое из них начинается словом «Блаженны». Блаженны: нищие духом, ибо их есть Царство Небесное; плачущие, ибо они утешатся; кроткие, ибо они наследуют землю; алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся; милостивые, ибо они помилованы будут; чистые сердцем, ибо они Бога узрят; миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими; изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное; поносимые и изгнанные за Бога, коим уготована великая награда на небесах. Во второй части Нагорной проповеди изложены основы кодекса Нового завета в форме противоположения его кодексу Ветхого завета. Как теперь уточняют богословы, Христос не отменяет прежнего закона, но ставит в генетическую связь с ним свой закон: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон, или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 17). Речь Христа здесь изложена так: «…сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе… Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого». Или: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». В Нагорной проповеди показывается идеальный облик высоконравственного христианина.
Отсюда отплывал фрегат «Паллада»… – 7 октября 1852 г. из Кронштадта на фрегате «Паллада» ушел в двухлетнее плавание Иван Александрович Гончаров (1812–1891). В 1858 г. он издаст свою двухтомную книгу путешествия «Фрегат „Паллада“».
О себе*
Мемуарный очерк с таким названием написан в июне 1943 г. Напечатан в литературно-политических тетрадях «Возрождение». Париж, 1957, октябрь, № 70. Печ. по этому изд. Самая полная из автобиографий Зайцева. За свою большую жизнь он написал их много (включая ответы на анкеты и интервью). Вот основные из числа тех, что включены в «Библиографию» Рене Герра (Париж, 1982):
Автобиография. Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете. 1811–1911. М., 1911.
Автобиографическая заметка. В кн.: Русская литература XX века. Под ред. С. А. Венгерова. Т. III. Кн. 8. Мир, 1916.
Русские писатели о современной русской литературе и о себе. Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Своими путями». Прага, ноябрь 1925/январь 1926, № 10/11.
Ответы на анкету. Орган русской национальной мысли «Возрождение». Париж, 1926, 11 января, № 223; 18 января, № 230; 4 февраля, № 247; 18 февраля, № 261; 4 марта, № 275.
Прыжок. Из автобиографии. Ежедневная газета «Дни». Берлин – Париж, 1926, 12 декабря, № 1183.
Ответ (на анкету «Литературной недели»). «Дни». Берлин – Париж, 1927, № 1215.
Ответ на анкету. Двухнедельник литературы и искусства «Новая газета». Париж, 1931, 1 марта, № 1.
Ответ на анкету. Сборник «Числа». Париж, 1932, № 6.
Ответ на анкету. Журнал «Иллюстрированная Россия». Париж, 1934, 8 декабря, № 50.
Essai autobiographique. Биографическое. Июль 1960. Trad. En espagnol du manuscrit par S. J. Arbatoff. Maestros rusos. Т. VI. Barcelona, Ed. Planeta, 1962.
Интересные материалы для биографии Б. К. Зайцева содержат его девять интервью, данные корреспондентам следующих изданий: иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни «Новая Нива». Париж, 1929, № 9; Echo de Paris. 1930, 10 Janv.; La Russi en Exil. Paris, 1930; «Иллюстрированная Россия». Париж, 1931, 22 августа, № 35; «Возрождение». Париж, 1931, 13 января, № 2051; еженедельный литературно-художественный журнал «Рубеж». Харбин, 1932, 16 апреля, № 16; ежедневная газета «Новое русское слово». Нью-Йорк, 1932, 1 мая, № 7035; ежедневная демократическая газета «Заря». Харбин, 1935, 10 февраля, № 335.
А через месяц Леонид Андреев напечатал мою «Ночь» в газете. – Л. Н. Андреев 15 июля 1901 г. в газете «Курьер» напечатал первое произведение Зайцева, которое, однако, называлось не «Ночь» (ошибка его памяти), а «В дороге» (этюд опубликован в т. 1 нашего Собрания).
…а я тушил лампу над «Чтениями о Богочеловечестве» – «Чтения о Богочеловечестве» – цикл неоднократно изданных публичных лекций по философии религии, с которыми выступил в январе– апреле 1878 г. выдающийся русский философ Вл. С. Соловьев. «Чтения» имели шумный успех; как вспоминал Достоевский, лекции посещались «чуть ли не тысячною толпою», среди которой постоянно бывали и он сам, и Л. Н. Толстой.
Константин Мочульский. <Ясновидение любви>*
Журнал «Современные записки». Париж, 1937, № 64. С. 461–463. Печ. по этому изд.
Автор рецензии (опубликована без названия) – Константин Васильевич Мочульский (1892–1948), выдающийся литературовед и критик русского зарубежья; автор монографий «Духовный путь Гоголя» (1934), «Владимир Соловьев. Жизнь и учение» (1936), «Достоевский. Жизнь и творчество» (1947), «Александр Блок» (1948), «Андрей Белый» (1955; вступ. статья Б. Зайцева), «Валерий Брюсов» (1962).
Выходные данные
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ
Собрание сочинений
Том 4
ПУТЕШЕСТВИЕ ГЛЕБА
Автобиографическая тетралогия
Составитель и автор примечаний Т. Ф. Прокопов
Издание осуществляется при участии дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб
Разработка оформления К. Ф. Алексеевой
Шрифтовое оформление В. К. Серебрякова
Редактор В. П. Шагалова
Художественный редактор Г. Л. Шацкий
Технический редактор И. И. Павлова
Корректор Н. Д. Бучарова
Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10 96. Подписано в печать 17.08.99.
Формат 84 х 108/32 Бумага писчая. На вкл. мелов. Гарнитура Таймс. Печать высокая.
Усл. печ. л. 32,87 (в т. ч. вкл. 0,11) Уч-изд л. 38,20 (в т. ч. вкл. 0,03).
Тираж 5000 экз. С-13. Зак № 901. Изд. инд ЛХ-166.
Издательство «Русская книга» Комитета Российской Федерации по печати.
123557, Москва, Б. Тишинский пер, 38
Отпечатано в типографии «Правда Севера»
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32
Примечания
1
Стой спокойно, Глеб, стой спокойно! (нем.)
(обратно)2
Дети, домой! (нем)
(обратно)3
Девушка из Риги (нем)
(обратно)4
Глеб курит (нем).
(обратно)5
Положение обязывает (фр).
(обратно)6
Скамья для молитвы (фр)
(обратно)7
От лат extemporalia учебные упражнения – тексты для перевода на латынь или древнегреческий.
(обратно)8
старый лев подобен больному (лат).
(обратно)9
винительными с неопределенными (лат)
(обратно)10
женщина (лат.).
(обратно)11
Благодарю (пол)
(обратно)12
Польская скороговорка: стрекочет кузнечик в тростнике.
(обратно)13
Может, пан инженер озверел? Встал и не играет! (пол)
(обратно)14
кляча (пол)
(обратно)15
председателя (пол)
(обратно)16
бездельник, лентяй (пол)
(обратно)17
Что я имел, что ты имел, что он имел (фр.).
(обратно)18
Что мы имели, что вы имели… (фр)
(обратно)19
Я римский гражданин, меня зовут Кай Муриум. В смерти не меньше души, чем в убийстве (лат).
(обратно)20
косвенная речь (лат)
(обратно)21
средний (лат)
(обратно)22
отсталая (фр).
(обратно)23
с листа, без подготовки и без словаря (фр).
(обратно)24
Локти, локти! (фр)
(обратно)25
Дмитрий, у тебя лопнет живот (фр)
(обратно)26
скромное место для отдыха (фр).
(обратно)27
я хотел, что бы вы. я вас хочу (фр)
(обратно)28
разборчивая (фр)
(обратно)29
теща (фр).
(обратно)30
туда и обратно (ит).
(обратно)31
приносишь удачу (фр)
(обратно)32
Мода есть мода (фр)
(обратно)33
Помещение, приспособленное под кухню (нем)
(обратно)34
обе комнаты (нем)
(обратно)35
Вегетарианский суп (нем)
(обратно)36
Малышка очень умная (нем)
(обратно)37
Оба больны (нем)
(обратно)38
Но малышка очень умна (нем)
(обратно)39
Доктор – еврей (нем)
(обратно)40
курорт Киссенген (нем).
(обратно)41
Решено (нем).
(обратно)42
«Знаешь ли ты эту страну…» (нем)
(обратно)43
Но малышка была самой умной… (нем)
(обратно)44
Вокзал в Анхальте (нем).
(обратно)45
Академическая гостиница (ит).
(обратно)46
мэрия (ит).
(обратно)47
Госпожа очень любознательна (ит).
(обратно)48
русские друзья господина Эдуарде (шп).
(обратно)49
большое спасибо (ит)
(обратно)50
Английская уборная (ит)
(обратно)51
сахар (ит).
(обратно)52
Синьорина, пожалуйста… сахар кусковой (ит).
(обратно)53
брат (ит).
(обратно)54
Нет, нет, Елена, дорогая (ит).
(обратно)55
О, какая симпатичная девчушка… (ит)
(обратно)56
Послушайте (ит).
(обратно)57
тотчас приду (ит).
(обратно)58
Погиб (ит)
(обратно)59
дом, хижина (ит)
(обратно)60
Бароло (ит) – сорт винограда и вина.
(обратно)61
«Да хранит тебя Господь» (лат).
(обратно)62
еврейка? (ит)
(обратно)63
Да (ит)
(обратно)64
сын… (ит)
(обратно)65
…и вот померла. В одночасье, скоропостижно (ит).
(обратно)66
как солнце (ит).
(обратно)67
твой муж (ит).
(обратно)68
…эмигранты? (ит)
(обратно)69
Они очень старые… (ит.)
(обратно)70
Нет свободы… (ит)
(обратно)71
Синьор Эдуард… (ит)
(обратно)72
Нет, Елена (ит).
(обратно)73
из Парижа (ит).
(обратно)74
это правда (ит).
(обратно)75
…и твоего мужа (ит).
(обратно)76
колдун (ит).
(обратно)77
девушки (ит)
(обратно)78
А где рыба? (ит)
(обратно)79
Нет рыбы (ит).
(обратно)80
Пресвятая дева! Таня, это правда? (ит)
(обратно)81
Вот деньги… (ит)
(обратно)82
Русские, русские (ит)
(обратно)83
к колдуну (ит)
(обратно)84
хижина Марты (ит.).
(обратно)85
А! Синьор Эдуард, как поживаете? Хорошо! Я тоже. Это ваши друзья? А тем лучше (ит).
(обратно)86
Приятель синьора Эдуарда (ит).
(обратно)87
жареным цыпленком (ит)
(обратно)88
ребенок (ит)
(обратно)89
Нет ребенка (ит)
(обратно)90
Париж город великолепный (ит).
(обратно)91
Ты добрая, Таня, как мама (ит).
(обратно)92
слугой Деда Мороза (нем).
(обратно)93
Иронич. новообразование «ломоть поэта» (ит).
(обратно)



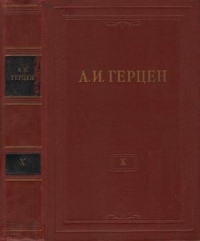
Комментарии к книге «Том 4. Путешествие Глеба», Борис Константинович Зайцев
Всего 0 комментариев