Зинаида Николаевна Гиппиус Собрание сочинений в пятнадцати томах Том 5. Чертова кукла
Чертова кукла*
Жизнеописание в 33-х главах
Глава первая Юруля
Они чуть не столкнулись – оба шли так быстро. Подняли друг на друга глаза. Девушка, одетая скромно, даже бедно, первая заговорила:
– Здравствуйте. Вы ли?
– Наташа! Я бы и не узнал. Ну, да ведь так давно не видались.
– Давно… правда… Вы – точно вчера это было. Точно вам семнадцать лет.
– Тем лучше. А мне ведь уже за двадцать. Вы здесь живете, в Париже?
Наташа после первого движения как будто раскаялась, что окликнула его. Сказала неопределенно:
– Да… Вот и встретились. Может, еще встретимся, Двоекуров. А теперь я…
– Хотите проститься? Как хотите. Я не стал бы искать вас, Наташа, говорю по правде. Но уж встретились, так поболтаем. Я забыл и вас, и Михаила, и других, и себя немножко, какой я был тогда с вами. Просто забыл, не думал, о своем сегодняшнем думал. А вот случайность – встретил вас и с удовольствием вспоминаю. Зачем же отталкивать приятную случайность?
Он говорил и улыбался. Изумительная улыбка: сияющая и умная.
Наташа тоже улыбнулась невольно.
– Я уезжаю опять в Россию, – продолжал он. – Теперь уж надолго, верно. Пожалуй, больше и не увидимся.
– В Россию? – задумчиво сказала Наташа.
Они медленно шли вместе по широкому тротуару. Малонарядная и молодая толпа большого бульвара, близкого к Сорбонне, такая живая в этот час, толкала их. Зимние, бледные парижские сумерки свисали с неба.
– Так что же, Наташа? Простимся?
Она еще помолчала.
– Нет, все равно. Пойдемте, посидим. Вот хоть в Люксембурге.
И двинулась вперед, через улицу, к решетке сада.
Холодный, зелено-алый ранний закат над серыми тенями деревьев. Холодный стук голых веток, – стук костяшек. Точно поздняя ночь мая под Петербургом.
– Расскажите о себе, – сказала Наташа, вздрагивая от холода.
Они сели на скамейку недалеко от бассейна.
– Да я все тот же. Здесь занимался химией…
– Химией? – удивилась она.
– Да, да… А вы, верно, вспомнили, что я прежде в Германии изучал философию? Химия удобнее, как я рассудил. Что до философии – довольно мне и своей. Ну, да это скучный разговор. Химия так химия – не все ли вам равно? Уж я знаю, что для меня лучше.
– И едете в Россию?
– Да. Надо с Петербургским университетом развязаться. И хочется пожить в Петербурге. Вы здесь одна, Наташа? А Михаил? А… Кто там еще? Где они?
Наташа помолчала.
– Не знаю… – промолвила она неопределенно.
– Не хотите говорить? Ну, не надо. Я ведь не любопытен. Для меня и они, и вы, Наташа, – прошлое. Милое, приятное, живое прошлое, оттого я и хотел вспомнить его. Но смотрю на вас и думаю, не уйти ли. Лицо у вас грустное, неприятное.
– Подождите. Это я по привычке бояться всех так говорю с вами, Юруля. А вас нечего бояться, вы – счастливый.
– Я счастливый, – сказал он просто.
– И вы не лжете.
– Нет, непременно лгу, когда нужно. Непременно. Но только, когда нужно.
Наташа встала.
– Милый Юруля, сейчас никакой радости вам разговор со мной не даст. Лучше простимся. Только вот что: вы едете в Петербург? Отыщите там брата. Я завтра утром вам для него маленький пакет пришлю. Хорошо? Где вы живете?
Юруля тоже встал. Он был тонкий, крепкий, высокий, как молодая елка.
– Я живу недалеко, Наташа, но пакета вы мне, пожалуй, и не присылайте. Не буду искать Михаила. Он мне не нужен. Не огорчайтесь, милая, мне будет больно. Я говорю точно, как думаю, как чувствую. Если я нужен Михаилу – он меня разыщет, и я бегать от него не стану. Поймите, что мне сейчас за радость искать Михаила, что мне передавать, везти этот пакет? Это дело чужое, а чужие дела я забываю, плохо исполняю. Не сердитесь, милая.
Наташа засмеялась. Опять села. Вдруг вспомнила его, – такого, каким знала когда-то, не вполне похожего на других людей, ее окружавших. Вспомнила, что ей всегда весело было, любопытно смотреть на него, слушать, что он говорит. Любили его все, неизвестно за что; но Наташа не столько любила, сколько приглядывалась. Потом забылось. Уж очень много с тех пор пережито.
– Вы смеетесь? Не сердитесь?
– Нет, нет. Ну, какая я глупая. Я с вами встретилась, точно не с вами. Не надо никакого пакета. Я к весне тоже приеду в Петербург. Захочется мне или Михаилу – найдем вас.
– Вот это отлично! Вот теперь легко с вами стало… Нет, впрочем, не так, как прежде. У вас лицо измученное. Ах, Наташа! Зачем? Я ведь знаю. И вас, и Михаила.
– Что знаете?
Юрий молчал. Ему не хотелось говорить. Стало скучно. Рассказывать он любил, рассуждать избегал. Через две минуты после встречи с Наташей он, припомнив ее и ее брата, уже представил себе с ясностью, какие они должны быть теперь, если учесть все с тех пор. Стоит ли говорить?
– Михаил прежний, – сказала Наташа.
– Ну, да, да. Может, и не прежний, а живет по-прежнему, из долга. Пленник.
– Что же делать? Как жить? – тихо сказала Наташа.
– Ах, не знаю… Я другим не советчик. Просто живите, вер никаких не ищите. Вы – скептик, Наташа, но темный скептик, а не светлый. Вы никогда ни во что не верили, но злились за это на себя. Бедная вы, бедная!
Он с нежной жалостью глядел на нее.
– Прощайте, милая. Ну, ничего, вы все-таки по-своему гармоничная, ничего.
Он уже спешил уйти. Уже не хотелось и вспоминать. Какая она невеселая… И нарастала досада, было неприятно.
– Вот вы меня жалеете, – сказала Наташа, – а я вам часто завидовала. Михаил – тот нет. А Кнорр бранил и завидовал.
– Что же? – сказал Двоекуров. – Я счастливый, потому что так хочу, так сам выбрал. Будь у них немножко больше соображения и заботы…
– О себе? – подсказала Наташа.
– О ком же?
Наташа смотрела на него задумчиво. Не уходила. Кажется, не думала о том, что он говорил. У нее яркие глаза, яркие и светлые, точно пустые.
– Хесю помните, Юруля? – сказала она вдруг.
Он сдвинул брови. Сияющая красота его вдруг потемнела.
– Какая у вас жадность вспоминать неприятное? Я с досадой вспоминаю Хесю! Я совсем не хотел ее любви. Нисколько она мне не нравилась. А впрочем, до вас это не касается. Нет, Наташа, я каюсь, что начал разговор с вами. Вы не умеете вспоминать, не умеете радоваться, не умеете жить. Мне с вами скучно и досадно.
Он повернулся было, чтоб уйти, но остановился и ласково положил ей руку на плечо.
– Не будем ссориться, я не хочу. Вы все для меня – милое, хорошее прошлое, кусок жизни. Как я рад, что тогда столкнулся с вами! Помните, какое было время? И какие все тогда были живые, молодые, веселые…
– Верующие… – тихо сказала Наташа.
– Пустое! Моя вера и тогда была та же, что и теперь, а я был с вами. И разве я что-нибудь скрывал от вас? Говорил громкие слова, поддерживал ваши идеи? Разве обманывал вас даже тогда, когда мы вместе в Москве сидели, когда ни за один день отвечать нельзя было, когда я ваши поручения исполнял, а вы, случалось, мои? Разве я старался уверить вас, что я ваш, что по гроб жизни буду заниматься революцией, что думаю, как вы…
– Тогда было не до рассуждений…
– Да, а я все-таки уловил минуту и сказал вам и Михаилу правду. Сказал, что я не ваш, а свой. Делаю ваше дело потому, что мне оно сейчас приятно, увлекательно, нравится, – и должно оно нравиться молодости. Без этого, если б я тогда со стороны глядел, а не жил, – молодость была бы неполна, ну, и жизнь, значит, неполна. Вы это помните все.
– Помню, помню, – сказала Наташа грустно. – Что ж, вы правы. Но и Хеся не виновата, если ничему этому не поверила, полюбила вас по-своему.
Двоекуров нетерпеливо пожал плечами. Хотел было сказать, что да, не виновата и что все это не важно. Не сказал именно от ощущения неважности и скучной досады.
– Сейчас запрут решетку, пора, простите, – спохватилась Наташа. – Я ухожу… И… все равно, – прибавила она решительно, – я рада, что встретила вас; будьте, каким вы есть, если нельзя иначе. Будьте счастливы.
– Буду, буду!
Он, улыбаясь, крепко пожал ей руку и долго смотрел вслед.
Она пошла от него, серая в серых сумерках. И вся стройная, благородная, несмотря на скромную одежду, точно переодетая принцесса.
Юрий вышел на бульвар, где теперь горели огни и толпа переливалась синим и желтым.
•«Наташа скорее бы понравилась мне, чем Хеся, – думал Двоекуров. – В ней своя гармония… или дисгармония какая-то. Это привлекательно. Да вот в голову отчего-то не пришло…»
– Oh, le joli garcon![1] – крикнула ему, не останавливаясь, веселая «кофейная девочка» и блеснула глазами.
Юруля привычно улыбнулся ей, но прошел мимо, вперед, все еще думая о Наташе, переставая думать о ней понемногу.
Глава вторая По-студенчески
У старого сенатора, Николая Юрьевича Двоекурова, опустившееся, бритое лицо, бессильно злые глаза и подагра.
Подагра серьезная, он все время почти не вставал с кресел, давно уже не выезжал.
Его забыли. Он это понимал. От злобы и от скуки он все что-то писал у себя, не то мемуары, не то какие-то записки, и не хотел даже завести секретаря.
Он был скуп и беден, зол и одинок. К нему, на его половину, случалось, никто не заходил целый день, кроме дочери Литты.
Эта «половина», отведенная ему графиней-тещей, была особенно мрачна; и некрасива, несмотря на молчаливую торжественность высоких потолков и темной, старой, тяжкой мебели.
Шестнадцатилетняя Литта жила при графине-бабушке. Старуха завладела девочкой сразу, как только умерла ее дочь. Не прощала внучке, что она – Двоекурова, но ведь все-таки это дочь ее несчастной дочери. Пусть, по крайней мере, девочка получит надлежащее воспитание.
К зятю, Николаю Юрьевичу, закаменевшая старуха питала спокойное и даже мало объяснимое отвращение. Не видались они по месяцам.
Но удивительно: Юрия, сына Николая Юрьевича от первого брака, старая графиня с годами все больше и больше миловала. Оттого ли, что мать его, как она знала, тоже была, хоть и бедная, но «хорошо рожденная» (удается же этаким «Двоекуровым»!), оттого ли, что сам он ей весь нравился, – она благосклонно говорила с ним и даже верила ему.
– Decidement, ma petite, e'est un garcon tres bien eleve![2] – говорила она после каждой аудиенции и трясла головой. Нравился Юрий.
Литта краснела от удовольствия. Еще бы не нравился! Кому это он может не нравиться!
Случилось, что ни отцу, ни тем менее графине не пришло в голову ни разу ограничить в чем-нибудь свободу Юрия. Он взял ее сам, просто, как неотъемлемую собственность. Мало того, с семнадцати лет никому даже и не рассказывал, что делает, куда уходит, куда уезжает. Денег никогда не просил, что графиня ценила, а отец принимал, как должное, не заботясь, хватает ли ему положенных ста рублей.
Впрочем, на первую поездку за границу, в Германию, и на вторую, в Париж, отец дал какие-то лишние гроши, и графиня прибавила без просьбы.
В конце зимы Юрий вернулся из Парижа и тотчас же объявил дома, что взял себе для занятий комнату на Васильевском острове. Он не переезжает, – только не всегда будет дома ночевать, вот и все.
Отец ничего не сказал, графиня приняла просто, Литта огорчилась, но втайне. И так оно и пошло.
– У тебя отличная комната, настоящая студенческая, – говорил Левкович грустно. – Только вот никогда тебя не застанешь. И дома у тебя бывал, – нету. Сюда третий раз прихожу, разузнал адрес.
– А тебе нужно что-нибудь?
– Да нет, я так. Ведь подумай, с тех пор, как ты вернулся, всего второй раз тебя вижу.
Комната, может быть, и отличная, но тесноватая. В углу длинный стол занят какими-то банками и склянками. Юрий, в тужурке, лежит на клеенчатом диване и курит тонкую папироску. Левкович снял шашку, но все-таки неловко теснится на стуле, поджимая ноги.
– Химия? – спрашивает он, косясь на склянки.
– Да… Ну, здесь это так. Здесь разве серьезно можно заниматься.
Левкович – троюродный брат Юрия. Ему под тридцать. Он ни дурен, ни красив. Если Юруля смахивает на узкую flflte[3] для шампанского, то Левкович, рядом с ним, похож не на стакан, а на большую, обыкновенную рюмку из толстого стекла, с коротковатой ножкой.
В лице что-то ребячески простое, незамысловатое. Не глупое, а именно простое. Такие люди умеют честно и сильно влюбляться.
Левкович – офицер. Но будь он лавочником, почтальоном, чиновником – это изменило бы его язык, его привычки и отнюдь не его самого.
Они всегда встречались редко, но Левкович обожал Юрулю. Верил ему, советовался с ним. У Юрули – заботливая и снисходительная нежность. Говорил он с Левко-вичем мало, но всегда терпеливо слушал и точно оберегал.
– Я все занят, Саша, – сказал он кротко. – Ты бы написал мне строчку домой, условились бы.
– А к нам ты уж не придешь? – грустно проговорил Левкович. И, не дожидаясь ответа, вдруг заспешил: – Ты отчего переменился ко мне? Ну, не переменился, а что-то есть. Я решил спросить тебя… Так нельзя.
– Что же спросить?
– Да вот… Я не знаю. Когда, после твоего приезда, мы увиделись и я сказал тебе, что женился, ты обрадовался. А узнал, что на Муре, и вдруг говоришь: «Напрасно!» С тех пор и не зашел ко мне. А я так счастлив, так счастлив. Что это значило, твое восклицание?
– Если ты счастлив, Саша, больше ничего и не нужно.
Глава третья Шикарные цветы
На Преображенской улице Юрий соскочил с седла у подъезда одного из новых домов.
В швейцарской, как всегда, пусто. Юрий прислонил к лестнице велосипед, поднялся в третий этаж и бесшумно отворил большую черную дверь своим ключом.
В передней прислушался. Тихо. Он, впрочем, так и знал, что никого нет дома.
Передняя была большая, с претензией на роскошь. Женское кружевное пальто висло лентами чуть не до полу. Сдавленный воздух едва-едва пах хорошими духами и хорошей сигарой.
Не снимая фуражки, Юруля отодвинул темную портьеру, ловко закрывавшую маленькую дверь направо, вошел, и дверь за ним закрылась.
В пустой квартире все так же было тихо. На столе в гостиной, убранной с тем безнадежным безвкусием, которое дает поспешность роскоши, стоял свежий букет роз с длинными стеблями. Такой же дорогой, вероятно, как его тяжелая, некрасивая ваза.
Через десять минут Юруля, переодевшись, неслышно вошел в гостиную, вынул букет, отставил вазу. С большой ловкостью завернул он цветы в белый лист бумаги, заколол булавками, – совсем как в магазине!
И потихоньку вышел, – но не прежней дорогой, а через коридор и кухню, убедившись предварительно, что и она пустая.
От черной лестницы у него тоже был ключ.
Глава четвертая На кошачьей лестнице
– Да ну его, провались он! Очень мне нужно! – говорила Машка, фордыбачась.
На минутку остановилась на углу Казачьего по дороге из булочной с Аннушкой из десятого, что напротив.
Аннушка посолиднее, а то, может, просто вялая. Машка – вся огонь. Серый платок у нее на одном плече держится, даром что весенний ветер, пыльный, вонючий и холодно едкий, лезет в рукав и за ворот, теребит передник.
Белесые Машкины волосы подняты «по-модному», широкий рот молодо хохочет, сдвигаются глаза, блестя.
– При-дет. Да хоть бы и что, вот не видали, – жмется она, притоптывая каблуком по тротуару.
Аннушка не очень верит.
– Ишь ты! Небось заскучаешь! Ведь хорошенький.
– Никогда он мне и не нравился, – нагло врет Машка. – Он ничего, да вот не нравится. Уж ходит-ходит, и всякий раз с букетом. Да я евонные цветы к барыне ставлю. Что мне? Браслета мне хотелось, так небось не подарил браслета. А что цветы-то из магазина таскает…
– На Моховой, что ли, магазин?
– А я почем знаю! Спрашивает наша кухарка раз: что это, говорит, Илья Корнеич, какие у вас все цветы шикарные? А он ей: у нас, говорит, магазин шикарный, оттого и цветы шикарные. А цветы, говорит, приятнее всего дарить, ежели кого любишь. Наша-то кухарка с ума по нем сходит. Самовоспитанный, говорит, такой, и не сказать, что приказчик.
– Да чего, конечно, хорошенький. А вот я, девушка, видела третьеводни на Невском, – барыня с письмом посылала, ввечеру, – вижу, катит студент, ну, как есть твой Илья. И этакое ландо, и в ланде содержанка. Очень похож, помоложе разве.
– Ну, уж студенты-то известно безобразники, – равнодушно сказала Машка. – Прощай покуда, заходи…
И вдруг обе визгнули тихонько и засмеялись.
Под незажженным угловым фонарем мелькнуло веселое лицо. Кто-то снял новенький картуз и встряхивал недлинными, пышными волосами.
– Откуда это вы взялись? – бойко начала Маша.
– Да уж откуда ни взялся, а, признаться, к вам пробирался. Дома ли Степанида Егоровна?
– А придете, так узнаете… Буду я еще с вами по углам на свиданьях стоять… Есть мне…
И Машка, вся покрасневшая, вильнула прочь. Через два дома кинулась в ворота и совсем пропала.
Простившись за руку с Аннушкой, которая вздохнула, Машкин обожатель пошел в те же ворота.
И через минуту был уже в просторной, светлой и грязной Машкиной кухне.
Он сидел за белым столом у перегородки, чинно, вежливо и весело поглядывая на Степаниду Егоровну, пожилую кухарку из важных. Она поила его чаем с вареньем и поддерживала деликатный разговор. Деликатность и хороший тон были коренной слабостью Степаниды Егоровны. Она считала себя знатоком хороших манер, любила вежливость и уважение до такой степени, что даже извозчикам говорила «вы».
Скромность, изысканную почтительность Ильи Корнеича она тотчас же оценила и взяла его под свое покровительство.
Рассуждали тихо, мерно, разумно. Послушать Степаниду Егоровну – так никогда не поверишь, что у нее строптивый и злобный характер, что Машке от нее нет ни житья, ни покою.
– Ну, чего ты вертишься туда да сюда? – огрызнулась на нее кухарка. – Села бы посидела. Вон опять Илья Корнеич чудные розы какие принес. Понимаешь ты много, деревня!
– Чего вы? Я чай господский убираю. А что они букеты носят, так мы не просим, – добрая воля!
И Машка опять убежала.
Но сердце не камень. И, понемногу приближаясь, кокетничая и дичась, как молодая звериха, она уже очутилась у черной двери, около табурета Ильи Корнеича. Хохотала чему-то, угловато вертелась, и каждая жилка ее большеротого лица играла.
– Я вот предлагаю удовольствие сделать, – говорил Илья Корнеич. – Марью Петровну сопровождать, если им угодно, в театр. Или же на бал, на Пороховые. У меня знакомые есть. А Марья Петровна упираются.
– Понимает она много театр! – презрительно сказала Степанида Егоровна.
– Оне, Степанида Егоровна, утверждают, что вы им разрешения не даете отлучиться. Позвольте мне нижайше быть посредником и самолично просить у вас этого требуемого разрешения.
Приказчик говорил что-то уж слишком витиевато, но Степанида Егоровна вся таяла, а когда, получив разрешение, Илья Корнеич встал и сделал вид, что хочет у Сте-паниды Егоровны ручку поцеловать, она даже застыдилась, спрятала руки и была в упоении. Во-первых, от сознания своей власти, а во-вторых, от знакомства с таким воспитанным человеком.
Машка выскочила провожать его на лестницу.
Пахнет, как всегда, тяжелыми, холодными кошками. Бледный мрак бледной ночи, точно паутина, тянется из окон.
– Машенька, душенька, и что вы все какие сердитые, – улыбаясь, говорил Илья. – И что вы все какие неласковые…
Внизу, в сенях, где было темно-серо, он обнял девушку без дальнейших слов. Прижав ее к стене, целовал свежее, некрасивое лицо, большой рот.
Машка дернулась было, хотела что-то сказать свое, вроде «без глупостев нельзя ли», «да ну-те вас» – и ничего не сказала. Только задышала скоро-скоро под его летучими поцелуями.
– Ты моя душенька, Машенька, – шептал он, и в шепоте была слышна улыбка. – Поедешь со мной? Ужо приду, смотри, не отказывайся. А пока цветочки мои нюхай, меня вспоминай, глупенькая!
Наконец Машка вырвалась и убежала наверх. Он не держал ее больше.
Отворил дверь с блоком, вышел на серый, туманный двор, потом на такую же серую, посветлее, улицу.
Глава пятая Пленник
Однако идти назад, на Преображенскую, в Лизочкину квартиру, нельзя: или слишком поздно, или слишком рано. Хотел было взглянуть на часы, да вспомнил, что с ним нет часов. Он обыкновенно оставляет их, потому что они золотые, очень дорогие.
Куда же деваться? Одет он совсем не маскарадно, но все-таки скверное, новое и длинное пальто не по нем, и синий картуз странен на волнистых кудрях. Нельзя поехать туда, где его знают.
Ему было ужасно весело. Нравилась ему и Степанида Егоровна с бонтоном, и Лизочкины цветы, которые он упорно приносил Машке, словно барышне, и очень нравилось некрасивое, свежее Машкино лицо, которое он целовал на кошачьей лестнице.
Забаве своей, случайно выдуманной, он радовался: радовал его бледный паучий свет печальной улицы, и свернувшийся калачом на козлах горький ванька, и уставший, добрый городовой на безлюдном перекрестке; и радовал себя он сам, – веселый студент, простой, средний человек, так просто и свободно живущий.
Куда бы зайти, однако? Везде хорошо.
Он вспомнил про небольшой, средней руки, трактиришко в переулке с Гороховой. Бывал там, нравилось. Не совсем извозчичий, а так, мелкий люд, всякие попадаются.
В трактире было пустовато. Двое каких-то ели в углу селедку, странно запивая из чайника. Толстый торговец с обеспокоенным лицом, за бутылкой пива, все что-то шептал про себя и заботливо писал на бумажке.
Веселый Машкин обожатель спросил себе чаю, положил картуз на столик, встряхнул по привычке волосами и стал оглядывать комнату.
Но почувствовал, что на него кто-то смотрит, обернулся, и карие с золотом глаза его сразу встретились с другими, синими, тяжелыми.
Кто это? Не вспомнишь сразу. Кто это, в самом деле?
Одет так скромно, что и не поймешь, интеллигент ли бедный или рабочий. Узкое молодое лицо с черной бородкой, бледное. И вот эти синие глаза…
Ага, вспомнил! Стало еще веселее. Хотел встать и подойти, но не встал. Во-первых, старая, бессознательная привычка осторожности, связанная вот с этим синеглазым; во-вторых, соображение: ведь он, синеглазый, ему не нужен. Захочет, узнает, – а узнать вовсе не трудно, – сам подойдет.
Человек с черной бородкой встал и, не торопясь, подошел к столику приказчика.
– Нельзя ли к вам мне подсесть?
Тот встретил его смеющимися глазами и сказал, тоже не повышая голоса:
– Садись, садись. Чай будешь пить или пиво? От Наташи поклон, если она еще не приехала.
– Нет еще. Спасибо, я чай буду. Что это ты так?
– А что?
– Да здесь… И… Ты ведь студент? От Наташи знаю, вы встретились.
– Вот и с тобой встретились. Если от Наташи знаешь обо мне, так уж, верно, все знаешь. А это… – он показал глазами на свой приказчичий картуз, – это случайно… Шалости… Никакого отношения ни к чему не имеет. Михаил, скажи лучше о себе.
– Я давно тебя хотел повидать, – проговорил Михаил, не отвечая на вопрос. – Да не выходило как-то… К тебе не решался. Рад, что встретил.
– Значит, я тебе нужен? От Наташи ты должен знать, что я не намеревался искать ни тебя, ни других, что все вы для меня – только милый, хороший кусочек моего прошлого, – только!
– Ты не связан, – холодно сказал Михаил.
– Я и не могу быть связан, я говорю это для тебя, чтобы тебе все было ясно. Но от своего прошлого я не отказываюсь; я сказал и Наташе, что не буду бегать от тебя, если ты меня найдешь.
– Юрий, вот в чем дело… Впрочем, нет. Я лучше приду на Остров, если выяснится необходимость. Ты ведь на Острове теперь живешь? А я вполне могу прийти. Дело не во мне.
– Все равно. Будь добренький, приходи на Фонтанку. Поверь, там лучше. И скажи теперь же, когда придешь.
– К графине? Ты и там живешь? Хорошо. Через десять дней приду. Шестого мая. Да! Кнорр у тебя бывает?
– Кнорра я видел. Так, мельком. Он хотел зайти. Я не знал, что вы с ним продолжаете…
– Не близко. Ну, так прощай теперь. Яша хотел зайти сюда; поздно, должно быть, не придет.
– Ах, еще Яша! Ну, этот… Я рад, что не видел его. Михаил угрюмо промолчал.
– И ты, помню, с Яшей не дружил.
– Он мне лично не был симпатичен, – сказал Михаил. – Цинизм в нем есть, понятный впрочем, но я не люблю цинизма. Повторяю, это просто мое личное чувство, и я себе никогда не позволял ему поддаваться.
– Господи, Михаил! Что ты только говоришь. Не поддаваться… личным чувствам… Ну, да оставим.
– Ты тоже циник…
– Однако я тебе не был антипатичен никогда. Вспомни.
– Это опять необъяснимый каприз личности.
– Нет, Михаил, это просто, пойми: разве мы похожи с Яшей? Вот мне приходит в голову как раз интересная вещь, ты скажешь – парадокс, но послушай: я откровенно забочусь прежде всего о себе, но мне важно делать это с наименьшим вредом для других; а Якову, который, по-моему, глупее всех глупых людей, важнее всего повредить; он воображает, что это самый верный путь хорошо позаботиться о себе. Может быть, я ошибаюсь, но такое у меня впечатление.
Михаил насупился.
– Оставим и психологию, и Якова. В сущности, ты так же мало его знаешь, как и я. Я знаю, что в деле Яков незаменим, этого с меня довольно.
Он встал. Юруля не улыбался, лицо потемнело, в глазах была досада.
– Подожди, Михаил. Еще одно слово о тебе. Сядь, прошу тебя. Не стоило бы, но уж так нашло на меня, хочется сказать.
– Ну, что? – нетерпеливо и болезненно сказал Михаил, садясь.
– Ты мне глубоко неприятен, – ты несчастен. Зачем это? Пленник мой бедный, заставляешь себя думать о «свободе других», а сам-то? Я понимаю, тяжело признаться, что не веришь в то, чему верил (хотя это тяжесть предрассудка) – однако есть же разум, есть же свобода, есть же очевидность! Не веришь ты больше никому и ничему! И остаешься, стиснув зубы, все с теми же людьми, – из-за чего, ради чего? Ради «долга»? Что это за тупость? Весь в веревках, – да еще в каких-то воображаемых!
– Оставь, оставь, – строго сказал Михаил.
– И оставлю. Ведь я тебя не убеждаю, не к себе зову, мне никого не нужно; я только советую: попробуй опомниться. А это что же такое? Это безобразно. О, идеалисты! Досада, отвращение… – И вдруг перебил себя: – Извини, Михаил. Мне ведь все равно. Увидел тебя – и сказал. Будь себе, каким хочешь. У меня сердце нежное… нет, глаза у меня нежные. Когда смотрю – жалко.
Они были теперь одни в трактире. Михаил заторопился.
– Прощай, – буркнул он. – Так я приду шестого. А не то через Кнорра дам знать, когда.
Слов Юрия он как будто и не слышал. Сидел задеревенелый.
Юрий сам, выйдя минуты через две из трактира, уже смеялся и удивлялся.
«С чего это я ему? Да ну его совсем! Какое мне дело?»
Пошел пешком на Преображенскую и уже на Невском совершенно забыл неожиданную встречу.
Глава шестая Разнообразие любвей
Белые до голубизны электрические пузыри меж черных сучьев, едва опушенных, то надувались светом, словно пухли, то ежились с шипом. Где-то уж слишком вверху честно желтеет бесполезная луна.
Злая ночь мая, петербургская, дышала ледком. Небо светло-серое, как оберточная бумага, с висящим ненужным месяцем, было глупо.
Внизу, напротив сцены, сидел за столиком безбородый мальчишка в цилиндре.
– Двоекуров! – крикнул он вдруг. – Послушайте! Двоекуров!
Тот, высокий и тонкий, в студенческом мундире без пальто, остановился равнодушно.
Оркестр молчал. Слышен был песочный скрип под подошвами вялой толпы. Щелкнула где-то пробка.
– Это вы, Стасик? – сказал Юруля. – Здравствуйте. Мальчик в цилиндре поспешно поднялся.
– Послушайте, Двоекуров. Послушайте, сядьте со мной. Ведь вам все равно. Вот у меня шампанское… Мы с вами мало знакомы, но что ж такое. Ведь вы один?
Двоекуров сел.
– Пока один. Что это вы нервничаете? – прибавил он участливо.
– Скажите правду, раз навсегда: вы меня очень презираете?
Юруля поднял на него свои карие, с золотыми искрами глаза, сдвинул со лба фуражку и улыбнулся.
– Вы, должно быть, проигрались, Стасик?
Стасик залепетал:
– Ну да… Откуда вы знаете? Но это все равно. Я один, растерян. Чувствую, вся жизнь моя как-то гибнет. Все меня презирают, я знаю… И я сам себя презираю. Я низко пал…
– Да будет вам, – равнодушно проговорил Юруля. – Не думаю я вас презирать.
– Ах, Бог мой, точно я не понимаю… Но увидел вас… Вы такой странный. Не видишь – не помнишь, а видишь – почему-то любишь. Вы такой красивый. Не сердитесь.
– Я никогда не сержусь, Стасик. Но вы не кокетничайте со мной. Ваш номер у меня, вы знаете, не в ходу. А денег я вам не дам.
– Да разве я… – начал Стасик.
– Нет, не дам.
– Если б вы могли… Немного… До четверга.
– Могу, но не дам. Не вижу, какое мне удовольствие дать вам денег?
Стасик растерялся. Он совсем не затем позвал Двоекурова, чтобы просить денег. Совсем за другим. Позвал, но зачем – он не помнил, и как уверить, что не хотел просить денег, – не знал.
Беспомощно обиделся, вскипел.
– Вы, пожалуйста, не оскорбляйте меня, Двоекуров. Я никому не позволю… Я еще не потерял понятия о чести…
– Ох! – шутливо вздохнул Юруля. – То самоунижались без меры, а то вдруг польский гонор заговорил… Экий вы глупенький мальчик.
Музыка опять играла какую-то подпрыгивающую дрянь. Старые присяжные поверенные с женами и дамы без мужчин, в светлых пальто, с обыкновенными бабьи-продажными лицами, заходили повеселее.
Но было еще пустовато – было рано.
– Вон, кажется, Саша Левкович, – сказал Юрий, присматриваясь к офицерскому пальто вдали.
Стасик взмолился:
– Двоекуров, не уходите еще! Лучше Левковича позовем, когда он мимо пройдет. Я знаю Левковича, я знаком…
Юрулю стал забавлять Стасик. Очень уж волновался.
– Разве так проигрались, что плохо приходится?
– Да нет… Не то… – начал Стасик. – Конечно, проигрался. Но меня как-то вся моя жизнь мучит. И, право, не с кем слова сказать.
– Какого же вы слова хотите? – участливо спросил Юруля.
– Я не знаю… Вы меня осуждаете?
– Полноте, Стасик. Бросьте вы. Хотите, лучше я вас вон с тем толстяком познакомлю?
– Я?.. Зачем мне? А кто это?
– Писатель, поэт, довольно известный. Раевский. Он теперь не на виду, худенькие молодые затерли, а когда-то одним из новаторов считался.
– Ах да… Я слышал… Нет, нет, Двоекуров, подождите. Я вам хотел одну вещь сказать…
Знакомства Стасика были больше в чиновничьем, богатом кругу и среди офицерства. В круг литературный он как-то не попадал, не успел, хотя и считал себя «эстетом скорее». Юрий легко дружил со всеми. Всех знал, и все его любили.
– Вы отговариваетесь, – продолжал Стасик, – а ведь вы такой откровенный. Отчего вы не скажете мне, ведь вы очень меня осуждаете? Осуждаете?
– Да, – произнес Юрий. Стасик горько поник.
– Ну, вот так я и знал.
– Не то что осуждаю, – продолжал Юрий, – и не за то, за что вы думаете, а просто жалею, что вы так неумно живете и скверно о себе заботитесь.
Стасик удивленно взмахнул на него черными, может быть, немного подведенными, ресницами.
– Если бы ваш способ добывания денег был вам приятен, доставлял вам удовольствие – вы были бы вполне правы. Если бы даже он вам был безразличен – ну, куда ни шло, ничего. Но так как вы вечно дергаетесь, мучаетесь, нервничаете, глядите совсем в другую сторону – то, ей-Богу, глупо так над собой насильничать. До того навинтились, что уж о самопрезрении заговорили. А себя крепко любить надо. Поняли?
Мелькая черными тенями и белесыми пятнами света, подошла маленькая, стройная женщина, очень хорошо одетая. Лицо у нее было совсем кукольное; только у дорогих кукол бывают такие нежные, черные глаза, такие ровные черные брови, такие светло-белокурые волосы, такой хорошенький ротик. Одни веселые ямочки на щеках были не кукольные, а живые.
– Лизок! Здравствуй! – сказал Юруля, улыбаясь. – Хочешь, садись к нам?
Она подобрала юбки и села, глядя на него и тоже улыбаясь.
– Ну вот, ты Стасика развесели, а то он нос на квинту повесил. Говорит, что никому не нравится.
– Стаська-то? – засмеялась она. – Как же? Это такая воображалка, думает, что лучше него и на свете нет!
Она весело и просто поглядывала на Стасика, говорила добродушно, как незлая маленькая женщина, которая не завидует другим, когда ей самой хорошо.
– Правда, он недурен, – продолжал Юрий с серьезным видом. – Вот ты, Лизочка, могла бы в него влюбиться?
Лизочка захохотала. Качалось нежное белое перо на ее шляпе.
– В Стасика? Ха-ха-ха!
Юрий по-прежнему серьезно, но со смеющимися глазами настаивал:
– Ну вот, Лизочка, почему нет? Он, я знаю, давно в тебя влюблен. По крайней мере, нравишься ты ему очень.
Лизок все еще смеялась. Потом передохнула.
– Да ну вас обоих с пустяками. Стасик, красный, волновался.
– Видите, Двоекуров, вот и она… А это несправедливо. Это правда, Лили, – прибавил он вдруг, – вы мне очень, очень нравитесь.
Лизочка, не смеясь, передернула плечом.
– Да брось, глупенький, точно я не знаю! Поумнее тебя.
Теперь тихонько смеялся Юрий.
– Конечно, ты умнее, милая. Вот и я без тебя то же Стасику доказывал. И хоть правда, что ты ему нравишься, однако тебя ему не видать, пока он не на «собственных лошадях» ездит.
– Да хоть бы и на собственных… – начала Лизочка, ничего не поняв.
Юрий уже с кем-то разговаривал издали. Толстый Раевский и Левкович подошли вместе. Через минуту Юруля подозвал еще двух: пожилого приличного и молодого неприличного.
Первый, со смуглым выразительным лицом нерусского типа (говорили, что он не то из болгар, не то из армян), был известный критик-модернист, талантливый, углубленный и запутанный, Морсов; второй – поэт «последнего поколения», грубый, тяжелый, небрежно одетый, с толстой палкой в руках и скверными зубами во рту – Рыжиков.
Незнакомых Юрий перезнакомил. Должно быть, каждый приплелся в этот холодный сад одиноко и праздно, потому что все с удовольствием уселись за столик Юрули. Даже два столика составили вместе.
Раевский и критик Морсов спросили шампанского, Юрий тоже, и все подливал Лизочке и Стасику; поэт с палкой презрительно пил пиво, а Левкович не пил ничего, сидел, молчаливый, на углу и смотрел на скатерть.
Морсов уже разливался соловьем, напрягая голос, потому что в это время на сцене куча толстых баб кругло разевала рты в такт музыке, которая дубасила во все тяжкие.
Морсов везде и всегда разливался соловьем. У него были круглые и красивые периоды, которые катились мягко, точно разубранные колеса. Они ласкали и баюкали слух, а в конце еще оказывалось, что и мысль у него не лишена оригинальности, даже парадоксальности, и всегда приятной.
Раевский и Рыжиков, хотя познакомились, не сказали друг другу ни слова. Перекидывались молчаливыми взглядами; поэт «конца века» судил поэта «начала века» и обратно; оба друг друга, видимо, презирали. Раевский, «лирик дореволюционного периода», презирал Рыжикова за то, что он пьет пиво, скверно одет, худ и молод: эстет «новейшего периода» так же искренно презирал Раевского за его элегантность, непомерную толщину и французские словечки. Впрочем, в презрение Раевского вмешивалась зависть: он чувствовал, что от чего-то отстал. И чрезмерность полноты его немного мучила, хотя обыкновенно он утешал себя сходством с Апухтиным.
– Я провожу удивительные вечера в кругу молодых моих друзей, – продолжал катить Морсов колеса и кивнул в сторону Рыжикова. – Как мне жаль, что поэты предыдущего поколения, поэты уже определившиеся, уже сделавшие много, вроде глубокочтимого Анатолия Борисовича, – тут он кивнул в сторону Раевского, – не помогают начинающей молодежи, не соединяются с ними, уходят в уединение, прочь от литературной семьи…
Раевский, точно еще никогда не сдавался на приглашение Морсова, избегал всяких новых «литературных» вечеров, хотя никак нельзя было сказать, что он живет в «уединении».
– Вы, дорогой Юрий Николаевич, знаете наши интимные вечера прошлого сезона, вы бывали, – не унимался Морсов. – Должен сказать, что теперь дела идут несколько иначе. То, что было, было прекрасно, однако время изменяет все. Приток новых сил и новые запросы духа…
Юрий улыбнулся, вспоминая.
– Да, запросы духа… – произнес он рассеянно и прибавил вдруг: – А вон Жюличка… Она одна? Лизок, позови ее к нам… Да нет, сама идет. Жужулинька! Не угодно ли присесть!
Подошедшая девица была брюнеткой, поплотнее Лизочки, хуже одета, вульгарнее, но тоже очень хорошенькая.
Она развязно улыбнулась всем, вдвинула стул между Рыжиковым и Морсовым, спросила раков и белого вина, отказавшись от шампанского.
Раевский не обратил на новопришедшую никакого внимания. Он давно уже и Морсова не слушал, и даже на Рыжикова не глядел: присоседившись к Стасику, он что-то говорил ему вполголоса, колыхаясь мягким телом. Тот отвечал, хотя строил мины, вскидывал ресницами. Порой, исподтишка, бросал трусливый взор на Юрулю. но Юруля не глядел в его сторону.
Все болтали между собою, кроме Морсова, который разглагольствовал для всех.
Пользуясь шумом, Юруля сказал Лизочке почти на ухо:
– Отчего ты здесь?
– Воронка телефонировал: в комиссии. Будет во втором часу. Чтоб его! Это значит – всю проваландается. Ты, коли надо, потихоньку.
– Ладно. Знаю. Вот молодец, что дома не высидела.
– Да, как же, буду я! Молчи, – прибавила она тише, – вон уж Юлька уставилась на нас. Ест глазищами… Ей-Богу, дуру ей сейчас скажу…
Но Юрий сурово толкнул ее под столом ногой, – он терпеть не мог бабьих выходок, – и Лизочка сейчас же весело заговорила о пустяках с Левковичем. Левкович ей, впрочем, почти не отвечал.
Воронка, или «дядя Воронка», про которого Лизочка сказала: «в комиссии», был очень богатый южный помещик Воронин, депутат. Юруле он приходился троюродным дядей со стороны матери. В доме графини изредка бывал, даже обедал; графиня к нему благоволила. Хотя Воронину перевалило за пятьдесят, он глядел еще молодцом и с Юрулей сразу вступил в приятельские отношения.
И так хорошо сошлось: у Лизочки покровитель был неважный, а дядя Воронка томился случайностями петербургской жизни давно. Юруля знал, что Лизочка ему понравится. Действительно, так понравилась, что дядя Воронка еще недавно, на лестнице графини, с лукавым взглядом поблагодарил Юрулю, а Лизочкина квартира на Преображенской стоит полторы тысячи, обстановка самая новая. Все остались довольны.
Морсов начинал иссякать, тем более что никто его не поддерживал, и приставал теперь главным образом к Юруле.
– Вы мне всегда казались художником, Юрий Николаевич. Я знаю, вы ничего не пишете, но разве нужно причастие к какому-нибудь известному искусству, чтобы быть художником? Отнюдь. С таким лицом, как ваше, с таким… я бы сказал, рисунком всей вашей личности, можно не написать ни одной строки, но не быть поэтом – нельзя. Вы занимаетесь философией…
– Нет, – сказал Юруля, – Я занимаюсь химией. Морсов запнулся.
– Как, химией?
– Да, у X… в Париже. Очень серьезно. И буду продолжать.
– Химией? Да… Ну, все равно. Разве химия – не та же поэзия? Важно отношение. Вы увлеклись химией…
– Да нисколько я не увлекся… Простите, ради Бога, одну минуточку… Здравствуй, милый, – сказал он, вставая и подавая руку подошедшему к нему высокому студенту, мешковатому, с болезненным, темным лицом.
– Мне надо тебя на несколько слов…
– Сейчас, Кнорр. Ты спешишь?
– Нет.
– Ну так присядь к нам. Я вместе с тобой выйду. Мне тоже скоро надо.
Кнорр знал почти всех, а у Морсова даже бывал, потому что раз написал целую поэму. Он сел, залпом выпил бокал шампанского. Слегка опьянел, лицо сделалось еще бледнее и еще трагичнее.
Лизочка глядела на него со страхом и отвращением. Грубоватая Жюлька захохотала и не высунула ему язык только потому, что Юруля был с ним ласков. Потом опять обернулась к Рыжикову, с которым они давно оживленно переговаривались короткими и выразительными словечками.
– Я с удивлением только что узнал, что Юрий Николаевич изменил философии ради химии, – завел опять Морсов, обращаясь уже к студенту Кнорру. – Я говорю, что самое разнообразие запросов духа в наше время…
Кнорр грубо прервал его:
– В Эльдорадо за раками о запросах духа еще начнем разговаривать…
Нежданно уязвленный Морсов не успел ответить, вмешался Юруля.
– Везде можно разговаривать о чем угодно, Кнорр, не в том дело. Георгий Михайлович не дослушал меня. Я, действительно, химией занимаюсь, но вовсе не потому, что особенно увлечен ею.
– А почему же? – с любопытством спросил Морсов. Юруля объяснил просто:
– Да видите ли, я давно рассчитал, что к зрелым годам у меня явится желание некоторой, хотя бы просто почтенной, известности, некоторого уважения… А об этом надо заранее позаботиться. Выдающихся способностей у меня нет, на гениальные выдумки я рассчитывать не могу. Химия, как я убедился, скорее всего другого позволит мне приспособиться, сделать какое-нибудь даже открытие небольшое… В меру моего будущего сорокалетнего честолюбия… За многим я не гонюсь, я человек средний…
Раевский вслушался и повернул к Юрию грузное тело.
– А-а! Blaise Pascal! Да, да, вспоминаю: «Qu'une vie est heureuse grand elle commence par natour et qu'elle finit par l'ambition!»[4]
– Вот именно! – улыбнулся Юрий.
В Морсова это объяснение, несмотря на всю его простоту, как-то совершенно не вошло. Рыжиков неожиданно закричал:
– Какая поза! – Но, встретив удивленный взгляд Юру-ли, сник и прибавил: – Это, конечно, расчетливо…
Кнорр не слушал. Долго не сводил глаз с Юрия, облокотившись, положив голову на руку, и вдруг сказал:
– Черт тебя возьми, какой ты красивый, Рулька!
Юрий спокойно улыбнулся.
– Счастливый. Потом все такие будут.
– Красивые?
– Счастливые.
– Это когда мы рылами несчастными сдохнем?
Юрий развел руками.
– Ну, конечно. Надо людям еще очень долго умнеть…
– Поехал на свое.
– Это не мое, а общее. И что ты с красоты начинаешь? Ты начинай с ума и счастья…
Кнорр опять закричал капризно:
– Не хочу я в Эльдорадо с девчонками о счастье разговаривать! Не хочу! Не место здесь никаким «вечным вопросам». Не желаю!
Лизочка, как всегда, ровно ничего не поняла, но горячо вступилась за Юрулю. Перебранка ее с Кнорром делалась забавна, когда Морсов, вдруг осененный новой мыслью, принялся уговаривать Юрия непременно прийти на одно собрание через десять дней.
– Новое общество «Последние вопросы»… Вы не были?.. Закрытое, но очень, очень многолюдное. Приходите, приходите. Я пришлю повестки. Будет собеседование по поводу «Приговора» Достоевского. Приходите, говорите. У нас все говорят…
– Я приду, – мрачно сказал Кнорр.
Морсов начал приставать к Раевскому, который не слушал.
– А? Что? Куда? – поднял он жирные веки на Морсова.
– Вот если и вы, молодой человек, интересуетесь, пожалуйста… – обратился тот к Стасику.
Стасик взволнованно согласился, польщенный. Раевский тоже стал благосклоннее. Юруля молчал, а Морсову именно его-то ужасно захотелось.
– Обещайте! Придете?
Был уже двенадцатый час. Сад не то что оживился, но весь как-то двигался, за столиками почернело; на сцене, с прорывающимся сквозь музыку шипом, тряслись серые тени, серые мертвецы кинематографа.
– Посмотрите, не символ ли это нашей сегодняшней, белопетербургской, ночной жизни? – спрашивал Жюльку сильно подвыпивший Рыжиков.
Но та равнодушно отвертывалась.
– Надоел уж синематошка-то… Повсюду теперь это… Нашли, чем угощать.
– Мне пора, господа, извините, – сказал Юрий, поднимаясь. – Георгий Михайлович, милый, если мне захочется – я непременно приду в ваше общество. Не очень их люблю, но иногда мне весело покажется, и прихожу.
– Порассуждай, порассуждай о «вечных вопросах», – мрачно усмехаясь, сказал Кнорр.
Морсов обещал прислать Юрию как можно больше повесток.
– Нет, что у нас за аудитория!
Раевский тоже поднялся, тяжело, собираясь уходить. Нерешительно кусая розовые губки, поднялся и Стасик, стоял поодаль.
– Саша, – тихо сказал Юрий, наклоняясь к Левковичу. – Что с тобой? Какое у тебя лицо. Молчишь все время…
Левкович весь опустился.
– Так, неприятности… Заботы.
– Какие?
– Хотел сказать тебе. Да не стоит, брат. И неудобно здесь, сам видишь. После.
– Зайди ко мне, Саша. Или я приду… Левкович вдруг вспыхнул.
– Нет, нет. Я сам приду, сам.
Юрий неуловимо пожал плечами. Начинается досада!
Лизочка взглянула на него искоса, быстро; Юрий таким же быстрым взором ответил ей «да, да», – и отвернулся к другим.
У Лизочки времени было мало, но она еще осталась на минутку и рассеянно слушала вежливые нежности Морсова. Юрий ушел с Кнорром.
Глава седьмая Солома на башмаке
Когда они миновали мало освещенную выходную аллею, Юрий заметил, у самой будки, скверно одетого господина, рыжеватого, с веснушчатым лицом и синими под-глазниками.
Он только что входил в сад и прошел мимо очень быстро, но Юрий успел заметить, что они с Кнорром переглянулись.
– Этот еще тут что делает! – морщась, сказал Юрий, когда они через кучу карет, извозчиков и автомобилей выбрались на проспект.
– Кто? – нерешительно произнес Кнорр. Хмель с него давно соскочил.
– Ну, кто… За тобой, что ли, следит? Верно ли поручения исполняешь?
– А ты… узнал?
– Эту-то прелесть вашу не узнать? Всегда он мне был неприятен.
– Отчего ты Яшу так… – начал Кнорр. Юрий вдруг остановился.
– Послушай, Кнорр, у меня нет времени. Я должен ехать далеко, переодеться и успеть еще попасть в одно место. Говори скорее, что тебе нужно. Ты, как я вижу, не от себя…
– Я от Михаила.
– Ну отлично. А всего бы лучше, оставили бы вы меня в полном покое! Я совершенно не интересуюсь ни вашими делами, ни вашими настроениями. Был бы рад и не знать ничего. Ведь я вам не мешаю.
Кнорр нервно поправил фуражку.
– Конечно, если ты этого хочешь… Никто не будет насильно… Я так и скажу Михаилу. Извини.
– Да говори уж! – досадливо крикнул Юрий. – Я очень жалею Михаила и Наташу, и если я могу что-нибудь сделать для них мне не неприятное, я сделаю. Не понимаю твоей роли. Ты ведь всегда был сбоку припеку… Говори скорее… А то я уеду.
– Михаил у тебя тогда был. Сказал, что надобность пока миновала.
– Ну? Михаил у меня раза три уже был.
– Так вот… А теперь явилась надобность. Дело в Хесе.
– А! – холодно проговорил Юрий. – Тем хуже.
– Выслушай, прошу тебя! Ради меня. Я не вижу исхода, если ты… Яша говорит, что…
– Для Яши я ничего не сделаю. Да раз дело касается Хеси, то я и для Михаила тут ничего не стану делать.
Кнорр весь потемнел, хотя и без того был зелено-серый во мгле дневной ночи.
– Не Яша, не Яша, – залепетал он. – И не ради дела, я знаю, ты от него ушел. Ради меня, просто… Ты знаешь, и я ведь к делам их не так уж близок. Просто… Но, конечно, если ты и слушать не хочешь… Пусть сам Михаил.
– Пусть.
Они прошли молча несколько шагов. Юрию стало жаль Кнорра: жаль той досадной, скучной жалостью, которую он чувствовал к несчастным и глупым. Кнорр мешал ему, влекся за ним, как солома, приставшая к башмаку. Хотелось сбросить его во что бы то ни стало – и сейчас.
– Кнорр, – сказал Юруля кротко. – Ты объясни, в чем именно дело. Воспоминание о Хесе мне неприятно, потому что она тогда влюбилась в меня, а мне совсем не нравилась, и это создавало прескучные истории. Но я ничего не имею против нее. Ты, я знаю, любишь ее или воображаешь, что любишь. Мне это все равно, но тебя я жалею. Скажи, в чем дело.
Кнорр забормотал:
– В подробностях пусть уж Михаил… А я только два слова. Они ее сюда вызывают. Или не вызывают, но только она должна сюда приехать на некоторое время. И ей очень, очень рискованно, именно ей. Надо ее хорошо устроить. Места же теперь нет такого. С внешней стороны она обеспечена, а места вот нет…
– Что ж так обеднели? – презрительно спросил Юрий. И добавил: – Не понимаю, при чем я тут…
– Ты в стороне… Графиня… Юрий рассмеялся.
– Что же, я ее графине в виде любовницы своей представлю? Или в своей комнате на Васильевском поселю?
– У тебя знакомые…
– Брось, Кнорр, это все ребячество. Да, наконец, зачем я стану?.. – Спохватился и опять кротко прибавил: – Ну, я подумаю… Спрошу еще Михаила… А теперь прощай. Вот последний порядочный извозчик, там уж не будет. И без того опоздал.
Не предлагая Кнорру подвезти его (еще согласится!), Юруля быстро вскочил в пролетку и поехал на Остров. Только его Кнорр и видел.
А по дороге на Остров Юруле пришла вдруг в голову забавная мысль… Правда, почему нет? Они будут довольны, для Хеси это будет невинно-поучительно, а Юруле, – и это главное, – будет весело. Отлично, так и решим.
А пока – ну их всех к черту, и Кнорра, и Хесю, и всех. Юруля спешит к себе. Надо снять мундир. Неловко.
Глава восьмая Бай-бай
Проходят, проходят ночные часы.
Тихий стук, щелк французского замка. Тихий, тише нельзя.
Кругло вспыхнул свет в передней, мелькнул котелок на подзеркальнике, рядом с белыми перьями широкой шляпки кругло вспыхнул свет, на полмгновенья – и сгас. Отворилась, затворилась внутренняя дверь. Совсем шепотом. Точно ничего не было. Так, просто тишина вздохнула.
Но кто-то чуткий слышал.
Прошуршали по коридору быстрые мелкие шаги, – босые ножки, точно мышиные лапки. Опять отворилась та внутренняя дверь.
Лизочка просунула в нее свою кукольно-белокурую голову.
– Юрик, ты? – позвала чуть слышно.
На дворе теперь обнаженно светло и страшно, потому что по-ночному мертво. Но в комнате шторы сдвинуты, горит граненое яйцо на потолке. Юруля – в кресле, усталый; как был – в черном пальто, мягкую шляпу только сбросил.
В комнате хорошо пахнет, ковер, низкий диван, за бледной ширмой свежая постель.
Притворила дверь, босая, вошла, в открытой сорочке, с продернутой в кружева лиловатой лентой у плеч.
– Я проститься… Дрыхнет Воронка. Терпеть этого не могу, когда он на всю ночь располагается. Ну что?
– Все продул, Лизок.
И Юруля устало и весело улыбнулся, сладко зевнул. Она тоже улыбнулась.
– Экий какой! А весело хоть было?
– Весело. Я тебе завтра расскажу. Все четыреста просадил. А сначала – вот везло!
– Четыреста? Не больше?
– Откуда ж больше?
– То-то. Мне Юлька третьеводни хвасталась… Да врет? Смотри, ты не ври. У Юльки ничего не брал?
И она вдруг ревниво сдвинула брови, смешно черные под кукольными волосами.
Юрий устало протянул руки и посадил ее к себе на колени.
– Вот глупая! Если тебе веселее, чтоб я твои деньги проигрывал, так зачем мне лгать? Да мне сегодня больше и не надо было.
Лизок обнимает его голыми, похолодевшими руками и счастливо смеется. Шершавое сукно пальто царапает ей тело, цепляет кружева.
– Ужасно я в тебя влюблена. Ты такой… такой… – Не нашла слова, подумала. – Не знаю, какой. А только все бы сейчас тебе отдать и чтоб ты был доволен. Юлька вон так и ест тебя глазами. Тоже! И врет, врет… Коммерсант, говорит, у меня… А сама прошлогодние перья на шляпку нацепила. У ней за душой и с коммерсантом всего ничего.
– Вот постой, я ей получше кого-нибудь найду, – шутливо сказал Юрий.
Лизочка вся вспыхнула, дернулась, чуть не заплакала. Юрию не захотелось ее дразнить.
– Ну, хорошо, хорошо, – протянул он сонно. – И Юлька славная. Ты мне больше нравишься, вот и все. Знаешь меня, понравилась бы Юлька больше… Будь довольна тем, что есть. А теперь уходи, я спать хочу. Вот увидит еще Воронка, что тебя нет…
– Не проснется, храпит, как медведь. А веселый какой приехал, шут его дери, и даром, что прямо из комиссии, ухитрился, заранее прислал цветов, дорогие, белые, роскошнейшие! В горшке. Вот завтра, коли хочешь, тащи своей хамке!
Лизочка знала немножко про шалости Юрия с переодеванием. Не сердилась, – да и разве бы помогло? – а умирала-хохотала.
– Цветы? Так куда это я их с горшком потащу?
– Оборви, да и неси! Вот еще!
– Ну, завтра лень… – Он зевнул и прибавил опять: – Иди же, Лилька, право! Ну, гоп!
Она поцеловала коричневую волнистую прядь у него на лбу и соскочила.
– В тебя все влюблены, а вот ты со мной. И комната твоя у меня. А я больше всех влюблена. Ну прощай, спи и то. Небось уж час пятый, коли не больше.
У дверей она еще обернулась.
– Спи поздно. Мой-то часов в десять уедет. А мы завтракать станем.
– Ладно.
Она, вспомнив, засмеялась.
– Какой этот твой потешный, говорун-то… Сегодня в Эльдорадке… Так и плывет из него, так и плывет… Ведь это он и есть, к кому ты Верку нашу тогда возил? Расспрошу ее завтра…
– Да иди ты, наконец!
– Ну уж и Кноррище этот… Вот ненавистный! Чисто чугунный! Иду, иду, спи!
Тихо, опять по-мышиному, убежала. Юруля с наслаждением зевнул еще несколько раз, вскочил, сбросил с себя все, повернул кнопку – и огонь электричества провалился.
Глава девятая Симпозион
Утром дождик. В Лизочкиной столовой «под дуб», с одним широким надворным окном – темновато. Завтрак смешной: дорогие сыры, закуски и фрукты из Милютиных лавок, прекрасное вино, а из горячего только и есть, что яйца всмятку.
Но Юрию и Лизочке это нравится, им весело, они смеются.
Подает на стол высокая, черноватая горничная, совсем молодая еще, но худая, точно болезненная. У нее короткий нос и лицо совсем не неприятное, волосы острижены и вьются.
– Верка! – кричит ей Лизочка. – Ей-Богу, вот смешной-то! Так и катит, так и катит! А видать, что ни скажи, – сейчас поверит! Дурынды они все, должно быть. И выдумает же этот Рулька, право! В курсистку играть!
Верка смеется, показывая тесные, белые зубы.
– Да как же ты? – пристает Лизочка. – Расскажи по порядку.
– Уж забыла, должно быть. У меня после больницы, от тифа этого, память такая стала…
– Ну, не ври! Чего тут, садись с нами. Я тебе икема налью. А ты расскажи. Мне интересно, потому что я вчера в Эльдорадке этого Морсова все слушала. Садись, садись.
Верка – давняя Лизочкина подруга. Года полтора тому назад, когда Юрий знал ее, она хорошо была пристроена, с богатеньким офицером, и даже Лизочке покровительствовала. Лизочку – тогда еще глупенькую, еще черноволосую девочку, Юрий однажды у нее видел мельком. С тех пор дела повернулись. Верке сильно не повезло. Запуталась в какую-то глупую историю, потом заболела воспалением легких, а выздоравливая, – схватила в больнице тиф. К весне едва выписалась. Ни кола ни двора. На улицу идти у Верки свой гонор, да и соображенье есть.
Лизочка – добрая душа, а тут и Юрий посоветовал: «Да возьми ты ее к себе в горничные. Сама все ноешь, что с „хамками“ не можешь сладить. Кухарку брось, дома ведь никогда не обедаешь, лакей у тебя при карете, а с Веркой отлично будет. И мне уж надоели эти соглядайки. Не повернись».
Так и устроились. Верка была довольна. Она после болезни слабая. А в белом переднике дверь дяде Воронке отворить, да с граммофона пыль смахнуть – отдых, а не работа. Они обе – Лизочка-госпожа и Верка-горничная очень естественно приняли данное положение. Так оно есть – чего же еще? Верка называла Лизочку «барыней», а Лизочка, при других, говорила даже ей «вы», как следует.
Порой они ругались, Верка «отвечала», но не более, чем настоящая горничная.
Старые «дела» Юрия с Веркой решительно никого не смущали. Они были забыты. Впрочем, Верка и прежде никогда Юрию не нравилась особенно. У нее осталась к нему послушливая преданность.
По приглашению развеселившейся Лизочки Верка, не жеманясь, села за стол и вино выпила.
– А ты его в гости не звала? – спросила она Лизочку про Морсова, переходя на дружеское «ты». – Вот интересно, еще узнал бы меня.
Лизочка захохотала.
– Никогда бы не узнал! Порожела ты с той поры здорово!
– Вот еще! Я поправлюсь, – сказала Верка, нимало не обижаясь.
– Ну ладно, ты мне расскажи обстоятельно! От него ничего толком не добьешься, – кивнула Лизочка на Юрулю. – Вот, сидит и смеется. Ну говорит, двоюродная сестра, ну курсистка, а ты что?
– Да я что? Мне тоже интересно. Он всегда, бывало, выдумывает… Научил меня, а память у меня была хорошая…
– Ну, ну? – нетерпеливо допрашивала Лизочка. – Чему ж он тебя научил? И как же там было?
Юруля, улыбаясь лениво, поощрил:
– Да расскажи ей, Верка. Я уж и сам забыл. Теперь уж этого и нет ничего.
– Нету? – спросила Лизочка с сожалением. – Что ж они? Рассорились все?
– Ну, много ты понимаешь. Я говорю про те вечера, на который я Верку повез. Да тебе не втолкуешь. Пусть Верка расскажет.
– А и смешно было, Лиза, – начала та с одушевлением. – Говорит он мне вдруг, хочешь, говорит, я тебя в самое что ни на есть утонченное общество свезу? Настоящие, говорит, аристократы, и ты между ними будешь. Я гляжу на него, а он смеется: аристократы. Как? духа, что ли? Это, мол, еще выше, да и забавнее. Наилучшие художники и писатели, говорит, строго между собой собираются и утонченно по-своему веселятся, и лишнего никто не допускает. А я тебя привезу.
– Ишь ты! – сказала завистливо Лизочка. – Я бы боялась. Выгнали бы еще скандально, если строго и на дому.
– Ну, я не боялась. Во-первых, что какие это там такие аристократы, точно мы их не видим, а затем он меня научил ловко. Оделась я в простую юбку и блузку белую, ну, пояс кожаный, однако все новенькое. Волосы наушниками, и будто я его двоюродная сестра, курсистка из Москвы. И будто я тоже, не хуже их, стихи могу писать, и стихи дал на бумажке, велел наизусть на случай выучить. А у меня память была о-отличная…
– Неужели помнишь? – воскликнула Лизочка. – А ну-ка, скажи! Скажи, душка!
– Теперь, после больницы, уж не знаю… Вспомню, так скажу. Ты слушай по порядку.
– Ну?
– Ну вот, и будут тебя, говорит, звать София, что значит премудрость.
– Сонька, попросту.
– Не Сонька, а София. И должны там все, самые солидные, и господа, и дамы, надевать костюмы, а меня, когда мне костюм станут предлагать, научил, что ответить.
– Что же?
– А вот погоди. И должны там все лежать…
– Это что же? – разочарованно фыркнула Лизочка. – Сразу же и ложатся?
Юрий усмехнулся.
– Глупенькая! Это они за столом должны возлежать… Это давным-давно такая мода была…
– Ну да, возлежать, – поправилась Верка. – На столе кушанья, вино, а они вокруг, только вместо стульев обязательно кушетки, на них и возлагаются.
– И ты возложилась?
– Погоди. Он научил меня: больше все молчать и глядеть строго и скромно, И если, говорит, пакости какие увидишь, – мало ли что покажется! – не обращай внимания, не хохочи, гляди строго, с благоволением, и не думай чего-нибудь: это они по примеру самых благородных древних фамилий.
Лизочка не выдержала.
– Нет, ну и дура же ты, Господи! Уж я бы не попалась. Это просто он тебя надувательски надул, вот и хохочет теперь! Просто повез тебя в самое последнее место. Хороша!
Верка смутилась было. Но Юрий, продолжая смеяться, сказал:
– Не бойся, Верка, не слушай! Я тебя ни капельки не обманывал! Настоящее было место, и аристократия настоящая.
Лизочка не унималась.
– Нет, Морс-то, Морс-то! Посмотреть – манеры самые деликатные.
– А ты на него напрасно, он ничего, ни-ни, вежливый, и все так гладко. И костюм на нем такой длинный был, пестрый, ногами даже путался. Другие многие, действительно…
– Похабничали?
– Ну… Мне что? Я гляжу да молчу. И все, милая моя, говорят, говорят… Вино в чашках. Чашку не выпьет, в руках держит, говорит-говорит, насилу опрокинет.
– И все стихами?
– Всяко. Я не слушаю, свои в уме держу, кабы не забыть. На головах венки из цветов, живые, ну и повяли, потому на проволоках.
– И ты с венком?
– Нет. Я не приняла. Ты слушай. Когда это уж достаточно поговорили и поугощались, Юрка вдруг встает и объявил: София, говорит, желает теперь высказать свою причину, почему она отказалась надеть костюм и остается среди всех в своем обыкновенном платье.
– Так и объявил? Ух ты батюшки! А ты что ж?
– А я уж знала. Взяла свою чашку, подняла вот так… – Верка подняла стакан с икемом, – ну и сказала…
– Да что ж ты сказала?
– Вот забыла, как сказала, – вздохнула Верка. – Вот уж и не сказать теперь так ни за что, хоть убей. С голосом учила. Я между вами, говорю, одна без костюма потому…. потому…
– Эх, да ну тебя!
– Потому, мол, что костюм – это… полумера, что ли?.. Она беспомощно взглянула на Юрулю. Но тот коварно молчал, улыбаясь.
– Одним словом, постой, – продолжала Верка. – Одним словом, что они все трусы, что желают все… да, освобождения от условий и, кроме того, красоты, а что для этого, – я будто чувствую и знаю, – надо собираться совершенно обнаженно, потому что в теле красота, а не в костюме. И в красоте чистота, и я, мол, одна это понимаю, потому что я вот, чистая девушка, сейчас бы готова на это, но вижу, что они еще не готовы, и сижу в своем платье скромно, а в костюм, однако, наряжаться не согласна, это, мол, только себя обманывать. Не истинная красота.
Верка проговорила все это одним духом, глядя на Юрулю. Тот покачал головой.
– Забыла ты, забыла, – сказал он. – Много чепухи наплела. Тогда лучше у тебя вышло.
Лизочка только руками всплеснула.
– Батюшки, срам-то какой! И неужели ж они тебя за этакие вещи об выходе не попросили?
– Ничегошеньки. Я думала не то. Думала, скажу – да вдруг они все поснимают. А не то закричат: хвастаешь, так раздевайся, а мы не в бане. Мне же, признаться, не хотелось. Однако, милая моя, ничего подобного, а прямо фурор. За мое здоровье чашками так и хляскают, кричат, что я вернее всех сказала, что выше их понимаю, что они, действительно, не готовы. Говорили-говорили, Морсов в хламиде путается, другой там был, черненький, в коротенькой юбчонке, на кушетке лежит, кричит: мы старые люди, но мы идем к новому! Скандалили довольно.
– Весело, значит, было?
– Нет, милая моя, скучища. У меня уж глаза повылезали. Да и они – поговорит один, выпьет, другой об том же начнет. Вот и веселье. Ну, наугощались, конечно. А так чтоб особенного – ничего.
– Мне было забавно, – сказал Юрий. – Я все на Верку смотрел. Вот важничала, курсистка.
– Наконец, того – сон меня стал на этой кушетке клонить. А Морс пристает: София, скажи стихи свои!
– На «ты» уж к тебе?
– Все на «ты», по условию. Дамы там, солидные видно, им тоже все «ты». Ну, я сначала, конечно, ломаюсь. После говорю, хорошо, только что припомню из старого. Не будьте строги. Все он меня научил, да уж потом я и сама разошлась, вижу, как с ними надо.
– Неужели помнишь стихи? – спросил Юрий. – Помнишь, так скажи Лизочке.
Стихи тогда Юрий сам старательно – не сочинил, он не умел сочинять, а составил для Верки. Составил с расчетом и со знанием как дела, так и вкусов тогдашних.
Теперь Юрий, конечно, не помнил ни одного слова. Так давно все это было, так устарело. Но ему забавны казались воспоминания Верки: ведь для нее это приключение осталось свежим и важным.
– Ах, не припомню я, – сказала Верка. – После больницы уж не та у меня память. Погоди-ка.
Она встала в позу, опустив руки, наклонив голову, и начала нараспев, густо. Голос у нее был довольно приятный.
Я вся таинственна, Всегда единственна, Я вся печаль. И мчусь я в даль, Как бы изринута Из чрева дремного… Не семя ль темное На ветер кинуто? В купели огненной Недокрещенная, Своим безгибельем Навек плененная… Душа скитальная…Верка запнулась. И повторила беспомощно:
Душа скитальная…– Ну? Что ж ты? – поощрил Юруля. – Вали дальше. Длиннее было.
Он тогда очень старался, чтобы стихи составить средние, чтобы не пересолить в пародию. И действительно, пародии не было.
Верка припоминала:
Душа скитальная…– Так вот хоть ты что! Больше, ей-Богу, ни-ни, ничего не помню!
Лизочка была разочарована.
– Ну-у! – протянула она. – Я думала, интереснее что-нибудь. И так заунывно и говорила?
– Так надо.
– Что ж они? Понравилось?
– Должно быть, понравилось. Руки мне жали и объясняли, что это значит.
– Что же?
– Ну, я уж не слыхала. Устала, беда! Целый вечер на этой кушетке, да гляди строго, да молчи, – оно доймет!
– Ишь ты, бедненькая! – пожалела Лизочка. – Я бы не выдержала. И, главное, ради чего, коли веселья никакого не было.
– Нет, в начале смешно. После только наскучило. Ну, побаловались они еще, затем платья свои понадевали – и по домам. А уж потом я не знаю, было ли у них еще, нет ли.
– Может, они потом без костюмов, Юрка, а? – спросила Лизочка.
Юрию надоело. Он зевнул.
– Не знаю. Я больше не был. А потом за границу уехал. Да нет, теперь уж ничего этого нет. Мода прошла. Теперь не дурачатся, теперь серьезно, лекции читают.
– Ну, лекции…
– Ничего, ты пойди как-нибудь, послушай, я тебе билет дам.
– И мне дай, – попросила Верка. – Не выгонят?
– Нет, нет, в общей зале. Садитесь смирно и сидите.
– Скука?
– Еще бы. А надоест – уйдете. Вот, признаться, вы мне теперь обе ужасно надоели. У меня к тебе дело было, Лизок, да скучно, и некогда теперь. Как-нибудь после. Отдохну и поеду. Обедаю я в одном месте нынче.
Он встал и открыл окно. В столовой было накурено. Верка, превратившись в горничную, принялась убирать со стола.
В эту минуту в передней зазвонили. Лизочка прислушалась и вдруг вскочила, подхватив ленты своего капота.
– Вера, Вера, – зашептала она. – Живо! Все со стола вон! Это Воронка, я его руку знаю! Ключа-то не даю, дудки! Не иначе как опять забыл что-нибудь утром, растеряха! В спальной не убрано? Ладно, я прямо в постель, скажи, барыня еще не вставала… Юрунчик, прощай.
Она подскочила к Юрию, на лету чмокнула его и исчезла.
В один миг стол опустел, как будто ничего на нем никогда и не стояло. Юрий неслышно скрылся. И Верка уже отворяла дверь, скромная и ловкая в своем белом переднике, извинялась перед барином, что не сразу услыхала звонок, докладывала, что барыня опять започивали и не велели себя будить.
Дядя Воронка доверчиво пошел сам в спальню. Он только на минутку. Он, действительно, забыл утром у Лизочки какой-то, никому, кроме него, не нужный портфель.
Глава десятая На Фонтанке
Необыкновенно унылая квартира – квартира графини. Весь дом унылый, старый, – ее собственный. Такие бывают казенные дома, казенные квартиры. Окна темные, высокие, с мелкими и будто всегда грязными стеклами.
Комнат непомерно много, половина из них – бесполезны. Какие-то буфетные, какие-то угловые. У графини своя гостиная, своя столовая, где с нею обедает Литта и две чрезвычайно приличные приживалки. Николаю Юрьевичу подают особо, да, кажется, и готовят особо. Юрий, когда жил на Фонтанке, обедал тоже с сестрой и графиней.
К отцу Юрий чувствовал дружеское сожаление. Он болен и в зависимости от графини. Считал, однако, что отец малодушен и слишком рано озлобился. Мог бы, если б не капризничал, поддерживать некоторые связи, и вообще жить гораздо приятнее.
Он ласково и шутливо выговаривал ему подчас. Николай Юрьевич махал рукой, но потом оживлялся и даже начинал доказывать себе и Юрию, что вовсе он не так опустился и вовсе не так уж его забыли. Вряд ли он любил сына, однако ценил посещения: они развлекали и утешали его. Веселый, красивый, уверенный и здоровый Юрий ему нравился.
На дочь Литту он не обращал никакого внимания. Графинина внучка.
В этот день Юрий пришел часа в два, посидел у отца, а после пил чай с сестрой. Графине нездоровилось, она не выходила.
– Отчего ты теперь не живешь с нами? – спрашивает Литта тихо.
В доме все тихо говорят.
Юруля смотрит на сестру, на ее еще по-детски распущенные волосы, бледные, связанные черным бантом, и улыбается.
От его улыбки в комнате делается уютнее.
– Почему не живешь с самой заграницы? – опять спрашивает Литта.
– Разве я не живу? Я часто ночую. Там, на Острове, мне ближе к университету, ты знаешь. И заниматься удобнее.
Но Литта качает головой.
– Разве здесь мешают? Твоя комната самая хорошая. Большая. И прямо из передней. Ничего не слышно. Да ведь у нас нигде ничего не слышно.
Юруля опять улыбается.
– Скучно у вас очень.
– Юруля, а я тебя боюсь.
– Неправда. Меня никто не боится. Это глупости. Литта краснеет и делает сердитое лицо.
– Да, не боюсь. Это не то. Но как-то я тебя не понимаю. Не знаю.
– И я тебя не знаю, сестренка. А зачем знать друг друга?
Литта удивилась, но ничего не сказала. Помолчала, подумала.
– И от отца, и от графини – такая скука идет, – сказал Юруля искренно. – Я тут бы не мог все время жить. А иногда люблю.
– Юра, мне хочется в гости к тебе. Да ведь бабушка не пустит.
– Ничего, потом пустит. Ты с кем выходишь?
– С ней выезжаю, в Летний сад. Или, иногда, с Марьей Владимировной.
Марья Владимировна – одна из важных графининых приживалок.
– Прежде было лучше, когда miss Edd жила, – продолжала Литта. – Но выдумала бабушка вдруг, – не надо гувернанток, порча – гувернантки, и вот я теперь одна-одинехонька. Только учителя и учительницы целый день, приходящие. Надоело уж.
Юруля глядел на нее и думал что-то свое.
– Ну, не ной, – сказал он. – Ты пока слушайся старухи. Понемножку будешь свободнее, со мной станет пускать. О гувернантках не жалей. Графиня это не глупо выдумала – вон их. Характер только портят. – И вдруг добавил, по какому-то внутреннему сцеплению мыслей: – Что, Саша Левкович у вас бывает с женой?
– Отчего ты спросил? Да, был раз, еще когда ты не приехал, когда только что женился. Ах, Юра! Она прехорошенькая, но ужасно странная. А ты, оказывается, давно с ней знаком?
– Давно, прежде… Когда еще отец ее был жив. Еще и Саша ее не знал.
– Ну, когда это давно? Ей и теперь с виду четырнадцать лет. Бабушке она не понравилась.
– А тебе?
– А мне… Видишь ли, сначала я ужасно обрадовалась. Думаю, вот Саша женился, grand-maman[5] к нему благоволит, станут бывать у нас, я с ней подружусь… Она ведь такая молоденькая. Ну, а потом…
– Что же потом? Grand-maman не одобрила?
– Да нет… Не то. А она сама какая-то… Я, впрочем, раз только ее и видела. У нее такие манеры…
– Манеры! – засмеялся Юрий. – Ну, милая, ты сама по-бабушкиному заговорила.
Литта вдруг ужасно рассердилась.
– Как тебе не стыдно! Я вижу, ты ничего не понимаешь. Прежде, когда мы маленькие были, ты понимал, и я тебе все говорила, а теперь ты, как все. Вот и правда, что я тебя боюсь, то есть не боюсь, а не знаю, мы как чужие. Точно я об манерах забочусь! Я не про то. Но и пусть мы чужие, если так. Я сама тебе теперь давно не все говорю про себя, и не нужно.
Юрий нежно притянул ее за рукав.
– Ну прости, детка. Про манеры я тебе нарочно, это правда. И мы совсем не чужие. Хотя и думаю, что «все про себя говорить» никому не следует, и ты хорошо делаешь, что не говоришь. А на меня не сердись. Лучше расскажи про Муру, что она тут делала. Я уж пойму, почему она тебе не понравилась.
– Да не то что не понравилась… – начала Литта, усаживаясь ближе к Юрию и успокаиваясь – А просто… дикая она какая-то. Вот приехали они, grand-maman к ней сначала ничего. И она ничего, только все вертится. Коса за спиной. Об отце ее grand-maman спрашивает – помню, говорит, генерала, – а Мура так странно: «Да, жалко старика!» Потом вдруг ко мне: «Пойдемте, покажите мне вашу комнату, познакомимся!» Пошли.
– Ну, что ж тут такого?
– Да, ничего, я даже рада была, но grand-maman уже насупилась. Я повела ее в классную, потом и в спальню. Она шляпку сбросила, совсем гимназисткой стала, хохочет, по стульям прыгает. И о тебе тут стала говорить. Что ты у них бывал и что она тебя Юрулей звала. Поцелуйте, говорит, его от меня крепко, когда он приедет, скажите, чтоб он в гости ко мне приходил, что я теперь замужем. Да ты у них уж был?
– Да… Раз был.
– Ну, так она тебе рассказывала?
– Что? Ничего не рассказывала. Говорила, что ты хорошенькая девочка, только…
– Только что?
– Ничего. Ведь она глупая, Мура Вот и весь секрет.
– Конечно, глупая. Ты послушай дальше. Она опять о тебе. Он, говорит, ужасно красивый и притом негодный, но оттого-то мне и нравится. Я не выдержала и говорю холодно: пожалуйста, не отзывайтесь так о моем брате. Я к этому не привыкла.
Юруля крепко поцеловал ее.
– Ах ты, защитница моя глупенькая. Ну?
– Она никакого внимания, хохочет, как бешеная, и вдруг, нет, ты вообрази! начала меня щипать, честное слово, и пребольно! Согласись, что это… что это…
У Литты при одном воспоминании разгорелось ухо под пышными волосами.
– Дда… – протянул Юруля. – Какая дура! Это противно.
– Еще бы! Когда они уехали, grand-maman говорит: «Я очень люблю этого бедного Сашу, а что касается ее…» – и ко мне: «Вы, говорит, должны понять».
– А ты?
– Рада была. Vous avez parfaitement raison, grand-mere, d'ailleurs elle ne me plait nullement[6].
Она засмеялась, вскочила со стула и сделала реверанс.
– Вот ты к ней и ходи, а я не хочу! По-моему, и Саша стал хуже, с тех пор как женился. Растерянный какой-то.
Юрий не улыбался, думал. Должно быть, о Левковиче. С того вечера в Эльдорадо, где Левкович сидел, как в воду опущенный, он у Юрия еще не был.
– Юруня, ты уходишь? – И девочка тревожно на него посмотрела.
– Я приду к обеду. И вечером останусь.
– Ах, Юра! А можно мне к тебе в комнату прийти вечером?
– Не знаю.
Литта огорчилась и молчала, не смея ничего больше спросить.
– Сестренка, ну чего ты? Ведь я тебя никогда не гоню. А сегодня ко мне сюда кое-кто придет.
Она взглянула осторожно исподлобья.
– Может быть, Михаил придет?
– Да, и Михаил тоже…
Литта вся просияла.
– О, Юра! Ну я не говорю про сегодня, пусть я сегодня не приду, если и другие еще у тебя, но когда Михаил – я так рада! Знаешь, я его мало видела, но я его еще тогда помню, еще до твоей поездки, еще я маленькая была, он к тебе приходил. И теперь сразу узнала, хоть он изменился. Ужасно мне нравится. Все молчит, но у него такие глаза… такие, точно он про себя молится.
Юруля усмехнулся.
– Ты не смейся. Он все молчит… И я чувствую тут тайну.
– А чувствуешь, так и не болтай. Глупо вредить людям. Я вот сейчас жалею, что ты ходила ко мне и видела Михаила. Это, пожалуй, лишнее.
Литта покраснела до слез.
– Да разве я… Как это жестоко, Юра. Вот как ты меня не понимаешь. Я и не хочу ничего знать. А с кем я разговариваю, болтаю, подумай? Ведь у меня никого нет. Как ты мог, Юра!
Он уже опять улыбался.
– Знаешь? Ты права. Я глупость сказал. Зато у меня презабавная мысль, и я тебя сейчас утешу. Тебя Михаил занимает. По-моему, он в жесточайших ошибках, которые заразительны, – но что до того? Ты сама по себе, сама должна разбираться… Всякому свобода полезна. Твоя учительница математики уехала. Хочешь, я посоветую бабушке будто бы своего товарища прежнего? «Madame… Если я смею рекомендовать… quelqu' un qui est tres sur[7]» …и так далее. А это будет Михаил. Хоть ненадолго, – тебе удовольствие, ему заработок. Он математик здоровый… Чего ты пугаешься?
– Юра… Да как же? А если тут тайна? Как же он будет приходить?
– Глупая ты девочка. В этой-то могиле нашей – кому до кого дело? Папа с кресла не встает, а если графиня разок на него сквозь лорнет посмотрит – поверь, ничего не увидит. Небось хочется?
Конечно, Литте очень хочется. Она, веселая и умная девочка, в одиночестве перечитала всю Юрулину библиотеку. Знает и понимает больше, чем говорит. Она часто, полуневольно, наивничает, – даже с братом. Ей свободнее казаться ребенком. А сама с собою – она, хотя еще ребенок, – уже человек. И бессознательно женского в ней уже много.
Рассказывая про Муру Левкович, она искренно и совсем по-детски возмущалась. Воспоминание о Михаиле вдруг сделало ее серьезной, взрослой.
– Хорошо, Юра. Попытайся это устроить. Я тебе буду очень благодарна. И скажи Михаилу, что ему нечего опасаться моей болтливости.
– Ого, вот мы какие серьезные барышни! Ты, впрочем, не рассчитывай на него очень. Он с тобой, может, и слова не скажет ни о чем, кроме математики. Веселья не жди.
– Ничего я не жду. И с разговорами к нему приставать не буду. Не беспокойся.
Юруля обнял ее и поцеловал в голову.
– Знаешь, Улитка, если б ты была братишкой у меня, а не сестренкой, мне бы с тобой весело было! А то сейчас графиня, сейчас нельзя, и все-таки ты кое-что не поймешь никогда! Ну, ничего, будь умница. За обедом увидимся. А вечером я, может, успею Михаилу сказать словечко…
Он повернулся, чтоб идти.
– Да! Вы нынче опять на Царскую дачу поедете? Забыл спросить…
– Ну, конечно. И не скоро. Папа бы поехал, да grand-maman ни за что раньше, чем в середине июня. А ты разве не приедешь, Юра?
– Не знаю. Терпеть не могу эту дачу. «Красный домик» совсем забросили.
Литта вздохнула. Она сама не любила скучную Царскую дачу. У графини была другая, в Финляндии, она-то и называлась «Красный домик». Давно, прежде, они жили там. Но уже лет шесть, как она стоит пустая. Большая, старая, но еще крепкая, заколоченная. Там умерла мать Литты, и графиня ненавидит дачу, хоть не продает и внаймы не отдает. Юрию дача нравится. Летом во флигельке живет сторож, и Юрий бывал там года два тому назад. Сыро немножко, дача под горой у речки, но пустынно, кругом лес. Страшно, говорит графиня, дичь… Мать Литты очень любила эту дачу. Стоила она дорого.
Когда Юрий тихо затворил за собой темную дверь, Литта подошла к окну. Думала о чем-то. Облачный день, сухой, небо – как пыль. Едва видно его, небо. Вода в канале – как черная пыль. Кривая панель, решетка, у решетки барки тяжелые, на барках доски, доски, доски… Пахнет, должно быть, там дегтем, деревом и гнилой водой… Должно быть, – а может, и нет, Литта не знает, пыльное окно еще не выставили. Вон и ломовой трясется, верно, грохочет – а чуть слыхать. Скука, скука-Унылая и торжественная квартира – квартира графини.
Глава одиннадцатая Француженка
Наташа, сестра Михаила, уже больше недели сидела в номере гостиницы на Морской, мучилась и не знала, что ей предпринять.
Положение было запутанное и трудное. Когда нынче зимой, в Париже, она встретила Юрия Двоекурова и разговаривала с ним в Люксембурге, она была неискренна. Ни малейшей бодрости в ней не было уже и тогда. Нарастал хаос в душе. Она медленно отдалялась от людей, прежде близких, и вышло, что с Михаилом у нее тоже прекратились связи, – по крайней мере, она ничего о нем уже не знала и перестала его понимать.
Это было мучительно. Почему-то казалось, что только он, брат, любовь ее жизни, поможет ей. И хотя Юрию сказала Наташа не без надменности: «Михаил прежний», – не верила, что совсем прежний. Но какой?
И явилось у нее острое желание, томление, необходимость увидать Михаила. Потом пусть будет, что будет – но увидаться надо. Ни в какие дела она входить не станет, о них расспрашивать не будет, ей нужно только видеться с ним.
Необыкновенно сложно и мучительно устроить это. Чтобы приехать в Петербург – ей нужна помощь людей, ставших далекими. Чтобы принять эту помощь – кое-какие поручения, хотя бы минимальные, – она должна взять на себя… Ну, пусть, все равно. Наташа должна видеть Михаила. Она вся сузилась на этой мысли.
Устроилось и внешне очень неудобно. Французская гражданка m-elle Thirese Duclos[8], певичка, приехавшая в Россию искать ангажемента, – как ей принимать в номере с пианино такого человека, как Михаил? Да и как искать его? Наташа обещала самой себе быть осторожной до щепетильности, до последнего предела. В певичку решила – перевоплотиться. И петь пустое. А вот как Михаила добыть, не изменяя своему плану осторожности «до смешного», – она не знала.
Ждать? Очень трудно ждать. И страшно. Для себя приехала, надо быть вдесятеро осторожней. Были у нее адреса для поручений, но она никуда нейдет. Лучше ждать. Петербург ей – как чужой. Все изменилось, все другое… а что? Неопределимо.
Вспомнила вдруг Юрия. Вот кого легко принять во «Франции». И адрес графини вспомнила. Написала ему французское надушенное письмо. Подумала: «Не пересаливаю ли?» Нет, пусть. По почерку узнает.
И опять ждет. Ответа нет.
Каждый день Наташа долго гуляет по Морской. Ни одного знакомого лица. Пристают офицеры, франты. Она отбояривается резко, но не сурово, чтобы не изменить своей роли. Ведь она – певичка, и одета, как певичка, которая не должна быть сурова.
Ответа все нет. Написать еще раз? Измученная Наташа опять шла по Морской, уже ни о чем не думая и ни на что не надеясь, – и вдруг остановилась.
В нескольких шагах от нее, у витрины перчаточного магазина, стоял хмурый, ненарядный офицер и глядел на перчатки, которые явно его не интересовали.
Наташа видела его раза два, давно, издали, – и все-таки сейчас же узнала. Это родственник Юрия. И приятель. Юрий показывал ей на него в древние странные времена, на многолюдном собрании, в какой-то зале. Ее он не знает. Это хорошо. Но как объяснить, что она его знает? Положим, если сказать, что она уже была в Петербурге… Трудно. Ну, да все равно.
– Monsieur… Je vous demande bien pardon[9], – начала она.
Офицер, не улыбаясь, обернулся и взглянул вопросительно.
Наташа, изо всех сил стараясь не смущаться (не подходило к роли), затараторила по-французски:
– Monsieur… Вы, кажется, родственник Юрия Двоекурова. Не знаете ли, где он теперь живет? Я недавно приехала… Хотела с ним повидаться. Мы такие добрые друзья…
Саша Левкович слушал, не понимая от неожиданности, чего хочет эта разодетая дама, и хмуря брови.
Из перчаточного магазина вдруг выскочила миленькая девочка лет пятнадцати, в круглой шляпке, и, подняв задорную мордочку, подбежала к Левковичу.
Тот беспомощно обернулся.
– Вот, Мура, эта дама, кажется, француженка… Кажется, спрашивает Юрия.
– Юрия?
И Мура, не теряя ни минуты, кинулась к Наташе и затараторила с ней по-французски чуть не быстрее самой Наташи. Мура была в восторге от приключения. К француженкам она имела слабость. В одну минуту она узнала все, что Наташа ей могла сказать. То, что mademoiselle артистка, парижанка, что она здесь почти без знакомых и что все это имеет отношение к Юрию, – привело Муру в еще больший восторг.
Наташа не знала, что думать. Эта девочка говорила, указывая на офицера, «mon mari»[10] – а между тем трудно было представить себе, что она замужем. Восторженной любезности ее она тоже не понимала. Адреса Юрия она еще так и не узнала. «Муж» – офицер стоял хмуро и молчаливо.
– Да, да, он переехал, – заболтала Мура, когда Наташа осмелилась вновь спросить о Юрии. – То есть не совсем переехал, но больше живет на… на другой своей квартире. Я не помню точно где, вот беда! И «mon mari», наверно, не помнит.
Тут она бросила на Левковича значительный взор: молчи, дескать! И продолжала:
– Но если mademoiselle будет так любезна… мы живем в двух шагах… вот здесь, этот переулок… зайдет к нам, выпьет чашку чая… И я дам самый точный адрес.
Наташа растерялась, не знала, как ей к этому отнестись. Но Мура прибавила вдруг.
– Да у нас даже есть номер его телефона! Мы можем вызвать его по телефону!
Как ни странно это все было, даже подозрительно, – Наташа решилась. Все равно! Уж слишком тяжко ждать.
Взяла себя в руки. Опять сделалась веселой француженкой. Мура увлекла ее, смеясь, за собою. Расспрашивала, сколько слов знает она по-русски, и выведывала насчет Юрия.
Саша Левкович молчаливо следовал за ними. Он очень скучный был последнее время.
Глава двенадцатая Забава
– Вот, пожалуйте, как раз по телефону вас спрашивают, – сказал швейцар Двоекурову, когда тот опускался по лестнице.
Юрий терпеть не мог этих телефонных вызовов. Особенно из своей василеостровской квартиры, где телефон был внизу. И швейцару запретил раз навсегда его тревожить. Но теперь уж все равно, идет мимо.
Лениво взял трубку.
– Ну, кто там?
– Ха, ха, ха! Нельзя ли повежливее! C'est moi, Moura[11].
Юрий сделал досадливое движение.
– Вы, Мура? Что такое? Саша просил что-нибудь сказать?
– Ах, Боже мой, почему Саша! Я сама имею вам нечто сказать!
– Что же?
– Сейчас. Не будьте нетерпеливы. Comme il est grincheux![12]
– Я занят, Мура, я ухожу.
– Нет, нет! А если уходите, то приезжайте к нам. Вот, в самом деле! Здесь вам сюрприз. М-elle Therese у нас. Для нее-то я вам и звоню. Ей необходим ваш адрес. А на письма вы не отвечаете.
– Какие письма? Какая Тереза?
– Ах, Боже мой! Очаровательная Тереза, которая стоит около меня и жаждет вас видеть. Желала бы проникнуть в наш разговор, но ничего не понимает. Да пусть сама говорит!
Слышно было французское тараторенье Муры, и затем другой голос, показавшийся Юрию чуть-чуть знакомым, стал говорить, тоже по-французски, о каких-то письмах на Фонтанку, о свидании, о прежнем времени…
– Извините, я вас не знаю…
Ему послышалось отчаяние в голосе говорившей, хотя болтала она скоро и веселые вещи. И так, будто он давно узнал ее и очень рад встретиться с m-elle Therese.
«Мурка, очевидно, слушает, – подумал Юрий. – Тут что-то не то». И сказал по-русски:
– Да вы не одна? Вас просто стесняют? Вы понимаете?
– Mais oui, mais oui[13], – радостно зашелестело в ответ.
– Вы сейчас у Левковичей?
Опять облегченный французский ответ.
– Так подождите, я сейчас приеду. Там видно будет. Ваше имя Therese Duclos?[14]
Он бросил трубку и вышел из подъезда. Мысли его были за сто верст от Наташи, поэтому он и не узнал ее голоса. В чем дело? Любопытство разгорелось, было весело.
Он давно не был у графини, а туда, очевидно, эта фальшивая француженка и писала. Заехать разве за письмом. Не стоит. Так интереснее.
И вдруг перестало быть весело. Пришло в голову, что это не какое-нибудь забытое любовное приключение, а опять эти старые «дела». Ну, конечно. Как он сразу не догадался! Просто потому, что не думал о них давно. Переодеванья, скрыванья… Только все-таки кто же это? И почему Левковичи? И он, Юрий, зачем понадобился?
Ну, что ж делать. И Юрий улыбнулся. С ними так скоро не распутаешься. Да и они недурные люди. Жаль не помочь, коли к случаю придется.
Подъезжая к дому Левковича, Юрий взглянул на часы. Собственно, он торопился в другое место. Ну, на десять минут. Только взглянет на эту загадочную знакомку.
Мура принесла Левковичу хорошее приданое, жить они могли недурно. Однако вся квартира была какая-то безалаберная, беспорядочная, все новое уже казалось старым. Кушетки и диваны, на которых валялась Мура, – яркие, глупые, подушки взлохмаченные; нельзя было понять, живет ли тут кокотка или пять человек детей.
Юрий хотел пройти к Саше в кабинет, но из столовой вылетела раскрасневшаяся Мура.
– Ага, прилетели небось! Идите, идите, скорее! Она – прелесть, надо признать! Мы уже подружились. Только о вас она ничего толком не рассказывает.
И Мура, ребячливо шумя, тянула его за рукав.
Вошел в столовую, взглянул быстро – увидел стройную фигуру, старающееся улыбаться смуглое лицо под громадной шляпой, светлые, точно пустые глаза, – и сейчас же узнал, кто это. Мало того: даже как будто понял, почему на ней такая шляпа, почти догадался, зачем она здесь и зачем он, Юрий, ей нужен.
Опять надо чужими делами заниматься. Ну, скорее кончить. Ничего трудного и серьезного он делать для нее не будет. Лучше пусть и не требует.
Началась болтовня. Юрий, глядя в Наташино лицо, стал бояться, чтобы она себя не выдала. А ему не хотелось объясняться с Левковичами. Особенно Мура его раздражала. И надо же, такая глупая случайность! Увезти, что ли, Наташу с собой? Нет, Мура еще хуже пристанет.
– А Саши нет дома? – спросил он вскользь.
– Дома! Сейчас его притащу! И Мура выскочила из комнаты.
В ту же секунду Наташа быстро наклонилась к Юрию и прошептала:
– Вы будете у меня сегодня?
– Сегодня… не могу.
– Завтра?
– Постараюсь… утром. Но не обещаю. Очень трудно завтра.
– Боже мой!
Наташе это казалось несчастьем. Неизвестно, почему. Ведь ждала же она целую неделю. Но, быть может, оттого и не могла больше ждать ни дня.
– Вы знаете адрес Михаила?
– Я? Нет, не знаю.
Она побледнела и вдруг совсем потерялась. Слышны были раскаты Муриного голоса вдали. Сейчас, конечно, придет.
Юрий между тем соображал, что ему делать с Наташей, как помочь делу. Подумал еще – и вдруг веселая, почти шаловливая мысль пришла ему в голову. Какой день завтра? Суббота? Отлично.
Он, улыбаясь, кивнул Наташе головой. Она не поняла, но ободрилась и ждала.
– Здравствуй, милый, – говорил Юрий Левковичу. – Ты был занят? Мурочка тебе помешала? Я тоже занят, сейчас ухожу. Только вот хочу сейчас написать у вас рекомендательное письмо для этой очаровательной моей приятельницы. Два слова, нужный нам человек как раз сегодня принимает. Мурочка, можно у вас?
– Конечно. Кому? Кому?
Она вскочила и побежала вперед. Юрий пошел за ней.
– Много будете знать – скоро состаритесь.
Наташа осталась вдвоем с Левковичем. Молчала. Ей почему-то неприятно было притворяться перед ним, сыпать фальшивые французские слова. И устала от глупой комедии, и жалко было этого нахмуренного, бледного человека с добрым лицом. Он казался не то больным, не то глубоко опечаленным, страдающим. Совестно лгать перед ним.
Вернулась вертлявая Мура. Вскоре вошел и Юрий, держа в руке незапечатанный конверт.
– Вот письмо. Вы его прочтите. Туда же я вложил инструкции вам, когда и как удобнее отправиться. Еще запутаетесь! Завтра или послезавтра непременно буду у вас. А теперь, простите, бегу! И так опоздал!
M-elle Duclos рассыпалась в благодарностях, мгновенно спрятала письмо и тоже встала, торопясь уйти.
Входили новые гости: толстый офицер и молодой, неприятно красивый штатский, которого Мура громко приветствовала.
– Борисов! Достали ложу?
Саша Левкович вышел за Юрием в прихожую.
– Кто сей? – морщась, спросил Юрий. Левкович не ответил, только повел плечом.
– Приходи ко мне, Саша, пожалуйста. Поговорим.
– Приду. Давно собираюсь. Раз уж из дому вышел – воротился. Как с тобой говорить, когда и самому себе не знаешь, что сказать.
– Ничего. Приди, милый. Я вечера нарочно буду дома сидеть, до двенадцати, тебя ждать. Только в ту пятницу занят, обещал на одно заседание общества «Последние вопросы» пойти. Погляжу, может, речь скажу.
– Да? Где это? – думая о другом, спросил Левкович. Юрий назвал адрес.
– Нет, ты не жди. Застану, так застану. Ты нарочно не жди.
Юрий посмотрел на друга с досадливым сокрушением, крепко пожал ему руку и ушел.
Глава тринадцатая Свидание
Литта жаловалась брату напрасно: в угрюмом доме, где до нее никому не было дела, она жила свободнее, чем живут иные девушки. Требовалось только приспособиться к графине, слушаться ее в мелочах, и это было не трудно. Никто не интересовался Литтой; с отъезда последней гувернантки она целые дни могла быть одна, когда не приходили учительницы и учителя. Книг у Юрия в комнате было довольно всяких.
За уроками внучки графиня тоже не следила. Когда брали нового учителя, графиня посылала на первый урок свою скромную приживалку, – тем дело и кончалось.
Занятия Литты с Михаилом сложились очень хорошо, хотя немного неожиданно. Михаил являлся утром, скромно одетый, проходил в классную, сидел ровно столько, сколько было нужно. Никаких посторонних разговоров не происходило. Литта оказалась очень способной к математике – и они оба искренно увлеклись занятиями.
У Литты бывали минуты, – хотелось заговорить с ним, спросить… и она робела. Так далеко и холодно, и чуждо глядели синие глаза.
В это утро они занимались решением новой, трудной для Литты задачи. Классная, большая, пустая комната, выходила окнами на двор. Сквозь опущенные белые шторы солнце матово желтило воздух.
Дверь приотворилась. Пожилая горничная в белом чепчике поманила Литту.
Девочка нетерпеливо пожала плечами.
– Сейчас!
Немного удивленная, вышла в светлый коридор.
– От Юрия Николаевича, – тихо сказала горничная.
В доме графини все говорили тихо. Горничная Гликерия, степенная и вымуштрованная, так любила Юрия, что даже имя его произносила громче обыкновенного.
– Записочка вам от них. И барышня там ждут ответа.
– Какая барышня? От Юрочки?
Литта поспешно разорвала конверт. Всего несколько строк:
«Улитка, прими сейчас же подательницу этого письма. Прими в классной, если у тебя учитель мат. – А там видно будет. Она хорошая. Сестра. Буду скоро. Целую, детка. Записку порви».
– Гликерия… Пожалуйста… Он пишет… Проводите эту барышню ко мне в классную. Там учитель, – ничего… На минутку. Нет, нет, – прибавила она, увидев, что Гликерия смотрит обеспокоенно, – Юрий здоров, сам приедет, он только ее просил передать мне две книжки…
Вбежала назад в классную. Разрывая письмо на мелкие кусочки, растерянно заговорила:
– Это брат Юрий… Он всегда так, ничего не объяснит толком… Но уж, верно, нужно. Она сейчас сюда придет…
– Вы заняты? – сказал Михаил, поднимаясь. – В таком случае позвольте мне…
– Нет, нет, она должна сюда именно прийти…
– Но я не могу…
Наташа уже входила. Скромно одетая, в черном. Матовый солнечный свет желтил воздух.
Несколько секунд они с Михаилом молча стояли друг перед другом. Литта, взволнованная, ничего не понимающая, глядела на них обоих.
Неизвестно, на что бы они решились, столкнувшись так нежданно в чужом доме, оба осторожные, оба потрясенные, – если бы Литта не сказала наивно, не зная сама, что говорит:
– Юруля написал, чтобы в классную… Что сестра…
– Так вы знаете? – быстро обернулась к ней Наташа. И сейчас же подошла к Михаилу, крепко и безмолвно обняла его.
– Это мой учитель математики… Мы занимаемся математикой… – продолжала, спеша, Литта.
Она уже поняла чутьем, что надо объяснять, что Юрий, по своему обыкновению, устроил без лишних слов неожиданность.
Все-таки Наташа не знала, как себя держать, что говорить при девушке. Громадная радость видеть Михаила вдруг куда-то спряталась. Ну, вот она хотела – их столкнули лбами. А дальше?
Записка Юрия к Наташе была еще короче Литтиного письма: «Завтра в 11 часов подите с этим письмом к моей сестре, скажите, что ждете ответа, что вы от меня. Оденьтесь просто, говорите по-русски».
И все. Она, не рассуждая, исполнила. Теперь как же?
Выручила опять Литта.
Схватила свои тетради. Заторопилась.
– Я пойду в комнату Юрули. Там эту задачу еще посмотрю. Это рядом. А сюда никто не придет. Я сейчас.
Наташа взяла девочку за руку и вдруг неожиданно поцеловала. Литта вся вспыхнула от радостного волнения, от внезапной уверенности, что эта «сестра» – друг. И тихонько выскользнула за дверь.
Наташа и Михаил остались одни.
Глава четырнадцатая В чем грех
Юрий не думал быть свободным в это утро. И ночевал не дома. Однако случилось, что около половины двенадцатого он был неподалеку от дома графини; решил заехать на минутку, посмотреть, что там делается. Интересно, как справилась сестренка с его запиской…
У него и тут свой ключ.
Вошел незаметно в свою комнату. Удивился. Сидела Литта, тихо, как мышь, с красными от волнения ушами, пристально глядела в книгу. Вздрогнула, когда дверь отворилась.
– Ах, Юруля! Ну, слава Богу!
Спеша, запинаясь, рассказала ему все. И что они в классной… И уж давно… Она не смеет туда пойти… А скоро завтрак…
Юрий нахмурился.
– Да… Лучше пусть они как-нибудь вечером… Чего ты волнуешься? Я сейчас устрою.
И он пошел в классную.
Через пять минут вернулся с Наташей.
У Наташи блестели глаза, и губы крепко были сжаты.
– Это моя сестренка, – сказал Юрий весело. – Она славная. Вы познакомились?
– Я уж ее полюбила…
И Наташа, светясь внутреннею радостью и новой заботой, опять привлекла к себе девочку.
– Хорошо, а теперь, Улитка, марш в классную, отпусти учителя и приходи ко мне. Простилась с Наташей?
– Ах, до свиданья! Вы уходите? Уходите скорее! Так вас Наташей зовут?
– Не знаю, – улыбаясь, сказала Наташа.
– Да, да… Я понимаю… Только бы мы увиделись еще…
В классной она заторопилась что-то сказать Михаилу и ничего не сумела. Он глядел на нее с нежной добротой и улыбался.
Литта овладела собой и сказала деловито:
– Ваша сестра, верно, не здесь живет…
– Не здесь…
– Так вам с ней у Юрия очень удобно видеться. Особенно вечером. Никого не бывает…
– Мы уже обо всем сговорились, – сказал Михаил. Простился и ушел.
В комнате Юрия Наташи уже не было. Юрий о чем-то думал.
– Литта, – сказал он вошедшей сестре, – ты сделай милость не…
– О, разве я не понимаю!
– Не то, а надо тебе знать, что я теперь в их дела не вхожу, не интересуюсь и тебе не советую. Но, впрочем, как хочешь. Если я позволяю им устраивать у меня свидания и говорю с ними при случае, то лишь потому, что помочь им тут могу, и мне это легко. Не увлекайся и не делай неосторожностей. Вредить другим можно лишь в крайнем, в самом последнем случае.
Литта смотрела на него широкими глазами.
– Вредить? Да разве я не знаю! Никогда нельзя!
– Никогда от глупости, никогда от неосторожности. Никогда для собственного удовольствия. Но вот единственный случай: если приходится выбирать между другим и собой, – то надо, разумно, неизбежно повредить другому, а не себе.
– О, Юра! А если маленький вред себе?
– Никакого. Вред другому – это неприятная глупость, вред себе – это, как бы сказать? Ну грех, что ли…
– Я не понимаю… – начала Литта решительно, но Юрий перебил ее:
– Бросим. Ты достаточно поняла. Будь осторожна. А таких крайних положений, где можно впасть в грех, при удаче легко избегать и следует. Прощай, милая, я завтракать не останусь.
Глава пятнадцатая Сашины дела
Левкович все не приезжал повидаться с Юрием. Зато вертлявая и хорошенькая Мурочка весело прилетела к Литте, не обращая никакого внимания на кислую мину графини. Опять утащила Литту в классную.
– Душечка, вы так все и сидите дома? Какая весна! Уж на островах все зелено. Я вчера туда ездила, вот было весело! Скажите брату, чтобы он с нами поехал и вас взял.
– Я никуда не езжу, – отозвалась Литта угрюмо.
– Да плюньте вы на эту старуху! Что она вас взаперти держит! Юрулька не в вас, он бы не высидел! Ах, какой он смешной! Вы подумайте.
И она подробно рассказала случай с красивой m-elle Duclos.
– Преизящная! Удивительнее же всего, что Юрий уже успел ее куда-то спрятать! Я через два дня пошла в гостиницу, – преинтересная француженка! – вообразите, говорят: съехала и адреса не оставила!
– Почему же вы думаете, что Юрий?..
– Да он же ей какие-то письма у нас писал, давал… рекомендательные, что ли… Обещал потом приехать к ней…
– Потом? Письма? – Литта задумалась и неосторожно прибавила: – А какие у нее глаза?
– Вы ее видели? Красивые глаза, светлые очень.
– Где ж я видела? Я только не понимаю, при чем тут Юрий. Ну и уехала. Да и вы при чем?
Мура засмеялась, но вдруг сделала печальное лицо.
– Боже, какие вы все несносные, скучные! Вот вам бы за моего мужа выйти, кузиночка! Он тоже вечно насупленный, вечно с вопросами… То я не так, это не так… Претя-желый характер!
Литта удивленно посмотрела на нее.
– У Саши? У Саши тяжелый характер?
– Ну да! Еще бы не тяжелый!
Мура соскочила с классного стола, где сидела, присоседилась к Литте, на широкое старое клеенчатое кресло, и начала полушепотом, как барышни секретничают:
– Он невыносимо ревнивый, глупо ревнивый. Не могу же я в траппистки записаться? Я уж такая, как есть. Я не виновата, что мне с ним скучно.
Литта слушала ее в неизъяснимом ужасе. Скучно! Зачем же она замуж выходила?
– И главное, – продолжала Мура, – я такой человек, что пусть лучше он меня не доводит до крайности. Все ему выскажу и уйду. Очень нужно.
– Как уйдете? Да разве вы его не любите? – прошептала оцепеневшая Литта.
– Люблю, люблю… Не люблю… Ах, Боже мой… Мурочка рассеянно и нетерпеливо прошлась по комнате.
– Почем я знаю? Пусть не надоедает. И такое непонимание! Меня надо понимать… Вот Юрий– это другое дело…
– Юрий понимает?
– Коли я плоха – какая есть! Не я себя такой сделала! Ну, и нечего теперь меня учить. Хуже будет.
Безмолвно вошла Гликерия. Графиня решила, что неприятная гостья слишком засиделась у внучки.
– Не пойду я к старухе, – заявила Мура, когда горничная вышла. – Мне еще надо в одно место… А вы, пожалуйста, Литта, Юрию этого нашего разговора не передавайте. Я такая горячая. Наболтаю всегда… А он…
– Так отчего же… – начала Литта.
– Оттого! У Юрия последнее время всегда я виновата! Забота, подумаешь, братец! Ну, я не очень боюсь!
Лицо у нее, однако, было испуганное. Литта твердо решила все рассказать брату и пошла провожать гостью.
– А француженка прелестная, – болтала Мура в передней. – Похожа немножко на m-elle Leontine, мою последнюю гувернантку. Только красивее. Ах, Боже мой, вот и Юрий Николаевич!
Юрий, действительно, входил в переднюю. Литта испугалась: ну, теперь эта Мурочка ни за что не уйдет! Однако Юрий понял положение.
– Вы уходите, Мурочка? До свидания. Спешу к графине.
Раздосадованной Муре ничего не оставалось, как тоже выйти. А Литта побежала за братом, нагнала его в коридоре, спеша, рассказала о Муре и неожиданно прибавила:
– А эта француженка, Юрий, это… Юрий рассердился:
– Какое тебе дело? Как это скучно и глупо! Неужели нельзя меня оставить в покое? Просто жить нельзя в Петербурге! На Остров ходят, ноют, сюда приду и здесь то же самое!
Литта побледнела.
– Ты несправедлив, Юра. Он уже улыбался.
– Да, я несправедлив. Прости, сестренка. Это Сашины дела меня растревожили. Что ж, сам он виноват… – Задумался, потом прибавил: – Я сегодня обедаю у вас. После останусь, отдохну хоть немного.
Глава шестнадцатая Самоубийца
Отдохнуть не пришлось.
Чуть только Юрий после обеда прилег на турецкий диван в своем просторном кабинете, в дверь постучали.
– Студент вас спрашивает, – зашептала Гликерия. – Уж он раз шесть приходил, пока вас не бывало. Прикажете отказать?
– Какой еще студент?
– Длинный такой, бледный. Очень просит.
Юрий махнул рукой.
– Ну, хорошо… Все равно. Позовите.
Вошел Кнорр, мешковатый, темный, как никогда, с потерянными глазами.
– Як тебе… по делу, – начал он, запинаясь. Чувствовал, что Юрий ему не рад.
– Опять по делу?
– Да… А вернее так, просто… Сам не знаю, зачем. Искал тебя давно, а зачем – не знаю…
Юрий взглянул на него остро.
– Ну, садись, я велю чай подать.
Кнорр сел.
– Не надо чаю… Я так…
– Все равно. С кем видался последнее время? – спросил Юрий тихо, продолжая приглядываться к гостю.
– Видался? Ни с кем. Один был. Всех потерял. Точно вес сгинули. Точно сторонятся от меня. Даже Яков этот… ты, впрочем, его не любишь. Я нисколько не жалуюсь, я и прежде близости не искал. А теперь я так утомлен.
Юрий ходил по комнате, морщась от неприятного чувства.
– Ну, что я с тобой буду делать? – сказал он, вдруг останавливаясь. – Ты в таком состоянии, что тебе слова утешения нужны, за ними ты и пришел. А мне слова пустые противны.
Кнорр сидел неподвижно, темный, как мертвец.
– Ведь с тобой ничего не случилось? Если б беда стряслась, подумали бы вместе… А так – чего приходить? Только неприятно смотреть.
Кнорр грубо захохотал. Он был, действительно, неприятен: слишком измученное лицо.
– Ничего не случилось? Все случилось. Вот что со мной случилось.
Но Юруля пожал плечами, опять прошелся по комнате и сухо сказал:
– Тогда уходи, пожалуйста. Я не люблю смотреть на несчастных, которым не могу помочь. Если б у тебя заболела мать, я бы помог отыскать доктора. Если б ты был голоден, я бы тебя накормил. Если б ты впутался в историю, я постарался бы выручить тебя. Но теперь, ей-Богу, это нелепость, что ты ко мне пришел. Надумал себе несчастие и хочешь показывать его? Уйди, сделай милость.
Кнорр встал. Он уже не смеялся. Весь засутулился, мундир точно на вешалке, рукава точно пустые.
– Так пойду. Прощай. Юруля остановил его за плечо.
– Кнорр, милый, ведь это глупость, больше ничего. Ведь у тебя сейчас неврастения. Ты так потерял себя, что пойдешь и пулю себе в лоб пустишь. И очень будешь важничать, точно это не величайшая банальность. У тебя нет одной большой беды, но, наверное, было много маленьких, и ты устал… Ты подожди. Ты отдохни.
Юруля ласково обнял его и посадил опять в кресло.
– Ведь устал? Правда? Тебе все не нравится. Все кажется ненужным, скучным… Или даже отвратительным? Так?
Кнорр покорно подался в кресле. Слушал – или не слушал. Вдруг поднял голову.
– Да, напрасно я пришел к тебе сегодня, – сказал он кратко. – Да, устал. Да, может, и умру сегодня. А пришел так. Вспомнить. Может, Хесю увидишь. Она тебя любила тогда.
Юруля встрепенулся.
– Ты знаешь. Она мне не нравилась. Я ее жалел и боялся. Глуп был. Нечего было ни жалеть, ни бояться.
– А что же? – усмехнулся Кнорр. – Впрочем, все равно. Ну, я любил Хесю. Ну, она тебя любила. Что мне? Я и не знаю, где она теперь. И уж давно, должно быть, не люблю.
У Юру ли мелькнула какая-то мысль.
– Так ты не знаешь, где она? И ничего не знаешь? А как же, помнишь, тогда, в саду, просьбу ты передавал?
Кнорр покачал головой.
– Говорю же, никого с тех пор не видел. Я, кажется, и из комнаты не выходил.
– Ну, вот что, Кнорр, – заговорил Юруля оживленно. – Все это ты успеешь, и убить себя успеешь, если захочется. А сегодня сделай мне удовольствие. Поедем вместе.
Кнорр поднял удивленные угрюмые глаза.
– Куда это? Сейчас?
– Ну, да, сейчас. Для меня. Сделай мне удовольствие.
– Не понимаю. Да хорошо. Мне все равно.
Глава семнадцатая Портниха
Лизочка была в нервах.
Она считала, что это так и следует, что необходимо иногда быть в нервах.
Нынче она целый день ругалась с Веркой, по телефону поругалась с дядей Воронкой, не позволила ему приехать. В разнастанном капоте лежала в гостиной, под граммофоном, и злобно скучала.
На одном окне штора была спущена, и яркая ночь неярко входила в комнату.
Юрий, приехав с Кнорром, церемонно позвонил.
– Дома. Оне не так здоровы, – сказала жеманная Вера, взглянув на студента, который шел за Юрием.
Юрий был весел.
– Ну, вот отлично, что дома. А больна – мы вылечим, – смеялся он, бросая пальто на руки Веры.
Лизочка, собственно, дулась на Юрулю. Давным-давно не был. Но все-таки обрадовалась.
– Что это вас не видно, – протянула она. – Являетесь вдруг. А кто с вами? Кноррушка!
– Прости, Лизок, милый, – весело сказал Юрий. – Я знаю, ты у меня умница. Что, твоя портниха дома?
– Портниха, – протянула Лиза разочарованно, – вы к портнихе? Так бы и говорили. Когда же она вечером дома бывает?
Но, увидав, что Юрий сдвинул брови, поспешно прибавила:
– Должно быть, еще не ушла. Я разговор слышала.
– Пошлю Веру купить чего-нибудь к чаю, – сказал Юрий и вышел из комнаты.
Кнорр и Лизочка остались вдвоем.
– Это вас, что ли, он к портнихе привез? – спросила, наконец, Лизочка, утомленная молчанием Кнорра.
Не очень любила его.
– Я не знаю, – с усилием отозвался Кнорр.
– Не знаете? Юрка такой шалый. Никогда не знаешь, кого он куда везет и зачем. Да вы какой-то больной?
– Нет, я так, – сказал Кнорр и замолк.
В дверях, в ночной яркости, показалась маленькая женщина, черноголовая, большелицая и бледная. На ней было темное платье, вязаный, дикенький платок на плечах.
– Вот, Кнорр, Марья Адамовна хочет с вами поговорить, – сказал Юрий, который тоже вошел вслед за маленькой женщиной. – . Вы ведь знаете его? Узнали?
Марья Адамовна подошла ближе к студенту и крепко пожала руку.
– Лизок… Ну, пусть студент с портнихой поговорят. А ты поди пока сюда! – продолжал Юрий. – Иди, мы чай приготовим.
Довольная его ласковостью, Лизочка забыла о своих нервах и убежала за Юрием.
В душной гостиной пахло какими-то противными пыльными духами.
Марья Адамовна, неслышно ступая, подошла ко второму окну и откинула занавес. Стало светлее и серее.
– Вы не унывайте, Норик, – сказала она тихим, ровным голосом и опять взяла его за руку. – Говорят, вы унываете. Не надо. Я вас помнила. Совсем еще вот недавно говорила о вас. Я бы вас нашла.
Кнорр прокашлялся.
– А зачем я вам нужен? И как вы здесь, Хеся?
– Да уж нужны. Главное, не падайте духом. Вон вы какой. Пожалуйста, будьте бодрее. И мне не весело, а раскисать неблагородно.
– Почему вы здесь?
Хеся грустно улыбнулась и замигала глазами. Глаза у нее были большие, с длинными ресницами; улыбаясь, она всегда мигала часто-часто.
– Вы же знаете, мне надо было. Двоекуров устроил меня портнихой к этой… госпоже.
Кнорр вспыхнул.
– Как он смел?
– Оставьте, оставьте, – зашептала Хеся. – Пусть, это хорошо. Иначе нельзя. Я скоро уеду. А иначе нельзя было.
В эту минуту в передней слабо позвонили.
– Мне сейчас нужно уходить, – сказала Хеся поспешно. – Дайте мне слово, Кнорр, обещайте мне… Что вы не будете такой, что вы ободритесь. Опять с нами будете…
– Разве я могу помочь? Да и хочу мало.
– Ну, хоть для меня, – сказала Хеся печально и равнодушно. – А Яков совсем недавно говорил о вас.
Звонок повторился. Хеся замолкла, глядела тревожно. Слышно было, как Юрий пришел в переднюю и отворил дверь.
Отворил, тотчас же сказал удивленно и грубо:
– Что это? Зачем вы сюда?
Ответили ему совсем тихо. Голос Юрия настойчиво повторил:
– Да что вам от нее нужно?
– Два слова. Необходимо, – с нетерпением, хрипловато сказал пришедший.
Хеся бросилась в переднюю, шепнув Кнорру:
– Это Яков. Что-нибудь случилось.
На пороге, под рожком электричества, стоял элегантно одетый молодой человек с противным, бритым, зеленоватым лицом. Он не то улыбался, не то гримасничал, обнажая редкие зубы.
– Да вот же она! – воскликнул он, увидав Хесю. – Барыню мне, пожалуй, и не нужно. – Обернулся к Юрию. – А вы что же здесь распоряжаетесь? Я и не знал, что вы хозяин.
– Во всяком случае – хозяин положения, – ответил Юрий холодно. – Говорите ей ваши два слова и затем убирайтесь к черту!
Яков любезно раскланялся. Хеся зашептала:
– Двоекуров, пожалуйста, ничего, он сейчас уйдет… Яков, что случилось?
Юрий повернулся и вышел, захлопнув за собой дверь.
– Вот как! И Кнорр здесь, – сказал Яков, успевший заглянуть в гостиную. – Отлично, голубчик. Чего это вы пропали? Хеся, а я пришел сказать, чтоб вы сегодня туда не ходили, куда собирались. Ловко застал. Надо будет в другое место поехать. А раз уже Кнорр здесь, так и его можно прихватить.
– Куда? – спросила Хеся. Яков сказал.
– Хорошо. Идите с Кнорром. Я выйду по черному ходу.
И она исчезла.
Кнорр молча взял фуражку.
– Местечко тоже, – проворчал Яков сквозь зубы. – И этот субъект еще важничает.
– Как ты мог, Яков, – начал Кнорр, – чтоб Хеся…
– С паршивой собаки хоть шерсти клок. Ну, да ладно. Идем.
Они ушли. А в столовой Лизочка шептала Юрию:
– Знаешь, я все для тебя, а сама боюсь до смерти. Не иначе как вляпаешься с ними в историю. Мне что, наплевать! А я за тебя дрожу. Ночью проснусь, и то дрожу. Убери ты от меня эту жидовку. Ну их! Пусть пропадают сами, людей чтоб только не впутали.
Юруля нежно обнял Лизу и поцеловал ее кукольную головку.
– Верно, умница моя! Мне и самому они надоели. Пристают, пристают, я от жалости и глупею. Жидовочку мы от тебя уберем, коли сама не уберется. Она ничего, жалкая только очень. Кнорр тоже… Ну, и пусть их…
Он встал и зажег электричество. На столе был приготовлен чай, стояло вино и тарелка с орехами.
– А Верка-то пропала! – закричала Лизочка. – Самовар, верно, вскипел. Пойдем, сами его из кухни притащим!
Но Вера уже входила с закусками.
Сейчас будет самовар. Лизочка и Юруля мирно станут пить чай дома, точно барин с барыней. Никуда не поедут, за разговорами время пройдет. А потом Лизочка возьмет Юрулю к себе в спальню и до самого утра не отпустит. Он у нее не ночевал давно, с тех пор, как эта портниха живет… Вот еще! Очень нужно было стесняться!
Глава восемнадцатая Общие места
– Наташа, уезжай, – опять говорит Михаил тихо, наклоняясь к ее плечу.
Она молчит, идет, не прибавляя шагу, по влажной полевой тропинке.
Только что прошел дождик, остро, утомительно грустно пахнет весеннее поле, пахнут белокурые березы. Рассеянно покоится на вершинах позднее солнце.
Наташа уже давно не француженка. Она живет здесь, в этом забытом дачном местечке по Варшавской железной дороге, таком забытом, что и дачи там все сгнили, развалились и стоят, точно после погрома. На берегу речушки есть две-три хибарки около бедной деревни. В одной из них и приютилась Наташа, снимает комнатку у вдовой дьячихи.
Сегодня Наташа с утра ждала Михаила. Он приезжал уже раза два, они вместе бродили по грязному, свежему и болотистому лесу, а потом Наташа провожала брата через поле на полустанок.
Меньше всего она ждала, что он приедет не один. И вдруг сегодня приехал с Яковом и Хесей. Как это могло случиться? Зачем Михаил сказал им, что она здесь? Или сами узнали? В чем дело?
Был долгий, тяжелый разговор. Тяжелый для Наташи, потому что она не хотела говорить с ними так, как с Михаилом, да и не смела при нем. Какие они те же! Все те же. Хеся печально мигала длинными ресницами. Яков держал себя так, точно они вчера виделись. Говорили о Юрии Двоекурове, между прочим. Михаил в первый раз твердо высказался против того, чтобы пользоваться его квартирой, его услугами… Но на грубый намек Якова резко возразил, что Юрия он не боится и подозревать его не позволит: не хочет же просить его дальнейших услуг лишь потому, что Двоекуров сознательно с ними разошелся.
Вспыхнула и Хеся.
– Как вы можете, Яков! Даже шутя не надо говорить таких вещей о Двоекурове! Вы его не знаете.
Яков только пожал плечами.
– Ваше дело. Как бы не покаяться.
Теперь они идут все четверо на полустанок. Хеся и Яков впереди. Маленькая Хеся едва поспевает за Яковом, тонконогим. Хеся привыкла ходить по городским камням; на полевой дождевой тропинке скользит и спотыкается.
А Михаил опять печально шепчет сестре:
– Наташа, уезжай. Ведь уж все равно.
Легкое покрывало Наташи зацепилось за ветку, и огнистые солнечные капли падают ей на голову. Остановилась, освобождает покрывало.
– А ты?
– Уезжай, Наташа. Ты обо мне знаешь… почти все.
– Что я знаю? Ты говорил, я слушала. Как будто понимала. Но я перестаю понимать. Не то хочешь делать дело, не то не хочешь.
– Я жду.
Он взял ее за руку, и опять они двинулись вперед, в полевой тишине.
– Наташа, я тебе говорю то, чего почти себе не могу сказать. Не думай, тот ужас неверия людям, когда мы, как потерянные, выслеживали друг друга и себя, когда многие упали и не поднимутся, – то я давно пережил. Прошло. Осталась еще более крепкая вера в правду дела и в правоту погибших. Святой долг перед ними, неизбытный и радостный. Только новый какой-то смысл для меня в прошлом и в будущем открылся…
Наташа пожала плечами.
– Новый смысл… Новый смысл… Это общие слова, Михаил. Я не виновата, что не понимаю тебя. Общие слова никаких дел не дают.
– Ну, а не общих слов у меня еще никаких для тебя нет. Не понимаешь – верь просто. Не понимаешь – оттого я и прошу тебя скорее уехать. А я – буду ждать.
– Прости, Михаил. Договори о себе. Скажи только, ты сам-то для себя знаешь, что надо делать?
– Знаю. И хочу делать, – но не могу с ними. Люди – старые, Наташа, те же, точно ничего не пережили, точно не открывали глаз.
– И я старая? – сказала Наташа, усмехнувшись.
– Да… И ты… Пойми: нас разбросало в стороны; одни ужаснулись, не хотят больше ничего, ушли; другие остались, но они почти и не почувствовали толчка, упрямо и тупо стоят в том же болоте. Ты – одна из ушедших. Оставшиеся хотят делать, но они с головой старые, в старом, – значит, и в старых возможностях. И ведь будет, будет опять то же!
Поезд длинно, жалобно свистнул вдали. Яков и Хеся далеко ушли вперед, едва виднелись.
– А я все-таки с ними, – продолжал Михаил. – Я пленник, правду сказал Двоекуров. Только пленник не дела своего, не веры своей, – а пленник этих людей, в которых я не верю, которые хотят делать то же, что я, но без моего внутреннего знания. Может быть, они меня погубят и себя погубят, бесцельно. Но уйти сейчас нельзя. И я жду.
Наташа остановилась.
– Михаил, уезжай! Это тебе надо уехать! Ты говоришь о внутреннем, но ведь есть и внешнее. Да, это старое, все может повториться. Да, и я им не верю… И вот вглядись, Яков…
– Молчи, – строго сказал Михаил. – Никуда я сейчас не уеду. И не называй никого. Я увлекся в догадки и чувства Не хочу я верить в бессмысленную гибель. Не бойся, я жду, я не брошусь вперед слепо, но и не пойду назад. Сейчас – пленник, но пусть, иначе нельзя, надо жить до конца.
Наташа прибавила шагу. В перелеске было совсем сыро и скользко. За кустами уже краснела крыша маленькой станции.
– Михаил…
– Что, милая?
– Чего же ты ждешь? Новых людей?
– Нет, нет! Вот это настоящие «общие слова». Не надо новых людей… Как «новых» дел нельзя ждать, пренебрегая старыми, так и новых людей. Надо, чтобы в старых, в прежних что-то переломилось, перестроилось… Вот что надо. А новых людей ждать– это, во-первых, на себе крест поставить и руки сложить…
Наташа недоверчиво улыбнулась.
– И ты ждешь, что вот эти, вот Хеся, Яков, Юс и остальные – что они переменятся? Как, почему? Ты сам не знаешь, чего ты хочешь.
– Я жду, чтобы видеть яснее. Больше ничего. Если не они, так есть другие, должны быть другие! Свободно растущие, открытые к движению жизни. Но на ком поставить крест? Как осмелиться? Для этого надо лучше видеть, больше знать. Я и жду, смотрю. В себя и в них.
Наташа задумалась.
– А о «новых людях», совсем новых – ты прав. Их ждать страшно. Кто знает, какие они, новые-то? А если вроде Юрия Двоекурова?
– Двоекуров? Да, он совсем новый. Или уж совсем старый. Человек ли?
– А кто же?
– Существо… Организм… Особь…
– Рода человеческого? Михаил, а мне иногда кажется, что мы все, такие, как мы были и есть, – выродки, случайности, что мы дикие еще, а вот Юрий – это нормальная особь человеческая, и будущее для таких, как он…
– Брось, пожалуйста, – перебил ее брат, смеясь. – Мы пришли, сейчас поезд. Простимся лучше, некогда болтать.
Яков и Хеся дожидались их у последнего поворота, на тропинке.
– Вот мой поезд, – сказал Яков. – Прощайте. Бывайте здоровеньки.
Справа, за кустами, беззвучно подкатывался толстый, черный, большетрубный поезд.
– Вы разве в эту сторону? – спросила Наташа.
– Да, уж лучше в эту.
И Яков, придерживая пальто, надетое внакидку, вбежал по деревянной лесенке на платформу и скрылся за будкой.
Поезд, вздохнув, остановился и через полминуты, опять шумно вздохнув, пополз дальше.
– Я пройду с вами, – сказала Наташа, – сейчас будет другой.
На мокрой деревянной платформе было пустынно. Грязный мужик возился у забора, около тачки. Собака, желтая, худая, бродила между рельсами. Солнце хотело и не могло закатиться. Старалось изо всех сил – и все-таки светило. Пронзительно, точно кузнечики, пели вечерние жаворонки. Под насыпью из канавы уже белый вечерний пар подымался. Больная сырость. А солнце все так же золотило мокрые березы.
Они трое ходили по платформе, не зная, что делать, что говорить.
Хеся, между ними двумя, казалась особенно маленькой и беспомощной. Михаил ласково смотрел на нее, но Наташа с ужасом чувствовала, что начинает ее ненавидеть. Зачем – она? Что она путается под ногами? Каких таких перемен ждет от нее Михаил? Напрасно. Наташе хочется еще многое Михаилу сказать, а при ней нельзя. И, однако, он едет с Хесей, а Наташа остается. Да, он пленник. Вот кто держит его, вот такие Хеси, которых нельзя покинуть… и с которыми все равно он не пойдет вперед.
– Вы уедете, Наташа? – спросила вдруг Хеся.
Наташа взглянула на нее жестко.
– Не знаю. Должно быть, уеду. Мне хочется уехать.
Опять они ходят молча. Слушают жаворонков, трещащих как кузнечики, глядят на мокрое солнце, которое не хочет закатываться, и ждут поезда, который увезет Михаила и Хесю.
Наташа хочет спросить у Михаила, когда они увидятся, увидятся ли еще, – и молчит.
Глава девятнадцатая Приговор
Юруля превесело провел несколько дней. Никто ему не надоедал, он дурачился с Лизочкой, два раза, и опять очень удачно, виделся с Машкой, преображаясь в приказчика цветочного магазина. Машка его еще забавляла; и даже трогала своей первобытной беззаботностью и малыми претензиями. Ей, кажется, и в голову не приходило спросить франтоватого приказчика, женится ли он на ней. Эта радость сегодняшнему дню и нравилась Юрию.
«Не понимает ведь ничего, а как верна настоящему человеческому инстинкту! – думал он весело. – Лизочка уже подмочена, да ничего, и она славная!»
Хесю у Лизочки Юрий не заставал, спросить о ней забыл, а так как Лизочка не заговаривала, то он и решил, что портниха, слава Богу, исчезла с горизонта. Ну их совсем! И Кнорра не видно. Должно быть, пристроила его Хеся опять… Тем лучше. Юрий очень рад, что увез его тогда от слюнявой пули прочь. Чем бы дитя ни тешилось!..
Одно только неприятно вспоминалось Юрию: Саша Левкович. Без глупых хлопот не обойтись. Уж очень Мурочка ненадежна, уж очень Саша угрюм. Чем-нибудь разразится. Припугнуть бы Мурочку? Да лень сейчас к ним ехать. Там посмотрим.
Получив кипу повесток в закрытом пакете, Юрий вспомнил, что это из общества «Последних вопросов», где завтра будет заседание. Он хоть и не дал Морсову обещания быть, но самому захотелось пойти, любопытно вдруг сделалось: что они там?
Послал повестки, кому только вздумалось. Хорошо бы сестру Литту у графини из-под носу утащить. Позабавится девочка, «умные разговоры» послушает. Возиться с ней нечего, только привезти да отвезти.
Поехал домой и стал улещивать графиню-бабушку. Так ловко повел дело, что старуха согласилась. На повестке стояло: «Собеседование о „Приговоре“ Достоевского».
Юрий, чтобы не пугать графиню именем Достоевского, не показал ей повестки, а только уверил, что общество «научное» и основано «лучшими нашими силами», да к тому же еще «закрытое». Литта замерла от волнения: не верила, что пустят. Но графиня даже не навязала Литте ни одной приживалки, отпустила без условий. Юрий заслужил ее доверие.
– Будь завтра готова, деточка, – говорил Юруля в передней. – Подбери волосы, чтобы взрослой казаться. Да ведь ты уж взрослая. Вот тебе еще две лишние повестки, захочешь – отдай кому-нибудь.
Раскрасневшаяся девочка молча кивнула головой. Подумала, что отдаст Михаилу завтра… если он возьмет, если… ему можно.
«Однако, что это, черт, за „Приговор“! – подумал Юрий. – Ничего решительно не помню. Канитель какая-нибудь метафизическая…»
В эту минуту Литта, будто угадав, о чем он думает, сказала:
– А я знаю «Приговор», Юруля. Это такое коротенькое, в «Дневнике»… Это о самоубийце… Я ведь всего Достоевского очень знаю, у тебя же брала в кабинете. Как интересно. Только страшно.
– В «Дневнике», ты говоришь?
– Да. Я знаю где. Хочешь, принесу?
Через минуту она принесла ему потрепанный томик старого издания и перегнула его на нужном месте.
– Помнишь? Юрий взглянул.
– Захвачу с собой. Пробегу дома. Забыл, в чем тут дело. На Острове Юрию сказали, что был Левкович, ждал его, но потом ушел. Досадно. А может, к лучшему.
Вечер у Юрия был занят, но он успел проглядеть забытые странички Достоевского. С первых же строк понял, что должны тут говорить Морсов и его присные, – и стало еще веселее. «Приговор» ему понравился своей простотой; как просто и легко его… если не наизнанку вывернуть, то в настоящую сторону подвинуть.
Юрий совсем не прочь иногда от «умных разговоров»; это ведь тоже игра, да еще какая! Единственная, допускающая искренность, правдивость; игра без условностей – и все-таки самая настоящая игра. Юрий за то и жизнь любил, что такое в ней разнообразие игр.
Глава двадцатая Чертова кукла
Собираются.
Пожалуй, уж и собрались – такая куча народу. Почти все толпятся в столовой, в смежных комнатах, – в зал еще не идут. В зале торопливо занимают места только старые, – худые и толстые, – дамы и скромные посетители из новеньких.
Помещение обширное и какое-то глупое, неизвестно для чего приспособленное. Впрочем, есть и библиотека, позади, темноватая и прохладная. А залу, когда в ней собирается общество «Последних вопросов», устроители налаживают по-своему, довольно странно: длинный стол с эстрады несут вниз, на середину комнаты, а стулья для публики ставят кругом, в несколько рядов. Это не очень удобно, – зала длинная и узкая, – но уж так решил Морсов и его помощники: они ненавидят «эстрадность» и даже хотели бы совсем искоренить «публику»; им мечтается собрание, где каждый подает голос и во всем принимает участие.
Это, конечно, мечты, и большинство собравшихся именно «публика»; не совсем обыкновенная, но публика.
Юрию все очень понравилось, едва он вошел.
Усадив испуганную Литту в зале, где нагло-яркий свет ее еще больше смутил, Юрий через столовую медленно пробирался дальше. Какое странное собрание! Что могло толкнуть этих людей на одни и те же половицы? Мода? Безделье? Интерес к «последним вопросам»? Наивность? Игра? Что?
Юрий должен был сознаться, что, вероятно, есть всякое: интерес и безделье, игра и скука.
«Литературы» очень много. Вот и толстый Раевский, похожий на Апухтина, поэт «конца века», мирно разговаривающий с неприличным Рыжиковым, поэтом «начала века». Вот бесстрастный и любезный Яшвин, везде одинаковый – у себя дома, в гостях и в собрании, всегда ровный – в полдень, в обед и за ужином в пять часов утра. Ему что-то медлительно объясняет бритый и лысый беллетрист Глухарев. Этот Глухарев издумал собственную религию, исповедует ее, но, впрочем, никому не навязывает и спорит всегда небрежно.
Вот маленький профессор Рындин, у которого в толпе такой вид, точно он сейчас же убежит, потому что толпу он очень любит, но в отдалении, лучше всего с кафедры. Пылкий черненький историк Питомский уже спорит с целой плеядой журналистов, плотно засевших за чай.
Юрий стал пробираться к Питомскому: он ему поможет найти Морсова. Оглянулся налево: там у дверей стояли совсем другие люди: все степенные, молодые и старые, в сборчатых поддевках, в больших сапогах. Невдалеке Юрий заметил блеск священнического креста за чьей-то синей рубахой навыпуск.
Юрий даже к лицам не успевал приглядываться, так они были разнообразны; пожалуй, разнообразнее одежд. Шмыгали девицы, вроде курсисток, и даже была одна женщина, не «дама», а явная женщина. Она, впрочем, стояла у стены, не двигаясь.
«Вот так сборище! – весело думал Юрий. – Чего хочешь, того и просишь!»
Совсем около Питомского Юрий столкнулся с молодым, очень талантливым поэтом. Поэт обратил к нему красивое деревянное лицо.
– Здравствуйте.
– Как, и вы тут! – удивился Юрий. – Вы такой отшельник.
– Нет. Отчего? Я даже реферат здесь читал… «Чудеса!» – подумал опять Юрий и окликнул Питомского:
– Сергей Степанович!
Питомский обрадовался ему немного преувеличенно (у него это было в характере) и предложил провести в библиотеку.
Пока они шли, Юрий заметил еще много знакомых лиц в толпе, совершенно непредвиденных и, казалось, вовсе сюда не идущих.
– Всегда у вас такая толпа? – спросил он Питомского, когда они задами пробирались в библиотеку.
– Бывает… Да это что, публика. Но среди нее есть замечательные единицы.
Морсов стоял у библиотечного стола и что-то пространно изъяснял робкой пожилой даме. Около него нетерпеливо жался юный секретарь: ему казалось, что пора начинать.
У камина, в глубине, тихо разговаривали несколько человек профессорского вида.
Морсов почему-то схватился за Юрия.
– Вы будете говорить? Будете? Какая тема! Вот вы увидите нашу аудиторию!
– Я уж видел. Не знаю, буду ли говорить. Тут у вас решительно все. Кому же «говорить»?
– Все? Ну вот и надо говорить всем. Именно со всеми-то и надо говорить!
Юрий улыбнулся.
– Знаете? А вы ведь правы. И подумал:
«Говорить вовсе не нужно, но если игра, то почему же не со всеми?»
Секретарь нетерпеливо зазвонил. Библиотека наполнилась. Девицы подбегали то к Морсову, то к Рындину, то к Питомскому и вполголоса приставали. Одна заговорила с Юрием. Несколько рабочих тихо убеждали в чем-то темноволосого господина, похожего на профессора. Появился Вячеславов и прошел вперед нежной, немного припадающей походкой. Юрий мало знал его, почему-то недолюбливал этого замечательного писателя и теперь с любопытством приглядывался к его лицу в золотом ореоле негустых, пушистых волос.
«Наверно, и он скажет о „Приговоре“ что-нибудь вроде Морсова, если будет говорить», – подумал Юрий, вспомнив, что Морсов как-то называл себя поклонником писателя.
Из библиотеки двинулись в зал, к столу, пробираясь между рядами стульев.
Зал полон. Свет и предчувствие духоты обняли Юрия. Стол был невелик, сидели за ним тесно, – почти все знакомые Юрию. Он огляделся внимательнее. К удивлению, оказалось, что литературные и другие «сливки», – люди, которых он так назвал, проходя по столовой, – ютятся в задних рядах, а ближе, почти вокруг стола, Юрий увидел степенных кафтанников и несколько молодых малых в косоворотках под пиджаками – явно рабочих.
«Эге, местничество своего рода, – подумал Юрий. – Демократничает Морсик».
Разглядел, впрочем, и задние ряды: нашел Литту. Рядом с ней какая-то дама, лица не видно, только начесы темные, сидит наклонившись. Кнорра Юрий не заметил. Никому бы он уже не удивился. Стало казаться, что непременно все тут, видит он их или не видит.
– Господа, – начал Морсов, – у нас председателя нет, как всегда, мы избегаем всякой официальности, не любим ораторов и стремимся, чтобы наше собеседование не принимало характера прений. Каждый может вступать в разговор, делать замечания, какие ему вздумается, я буду только следить за самым необходимым порядком. Открываю беседу докладом моего взгляда на данный отрывок Достоевского.
«Ну, посмотрим, то ли ты будешь говорить, что тебе следует»… – подумал Юрий.
Морсов говорил то, и, хотя особой новизны сущность его речи не представляла, он говорил красиво, интересно и умно. Немного длинно и непросто, но умно. Начал с того, что это «выдуманное» письмо «самоубийцы от скуки, разумеется, материалиста» – лежит в основе почти всех реальных самоубийств, сделавшихся повальной болезнью нашего времени. Если бы смог или сумел каждый уяснить себе до конца предсмертное состояние своей души, он оставил бы точно такое письмо. Каждый самоубийца думает, что «нельзя жить», потому что не для чего «соглашаться страдать». В самом деле, думает он, для чего? Какое право природа имела производить его, без его воли на то, страдающего бросить в жизнь, какова она есть? И дальше: пусть жизнь изменится, пусть можно «устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не как было доныне». Опять он спрашивает: для чего? Ведь сознание говорит ему, что завтра же все это будет уничтожено, превращено в нуль, и вся «счастливая» жизнь, и он сам. Вот под этим-то условием «грозящего завтра нуля» и нельзя жить. «Это чувство, непосредственное чувство, и я не могу побороть его».
Морсов очень тонко и ярко распространился насчет «непосредственного чувства». Он доказывал, что с ним, с таким, в самом деле, нельзя жить ни секунды, и проникнись им действительно все, – хотя бы здесь сидящие, – они не дожили бы до завтрашнего утра.
– Я знаю, – прибавил Морсов, – многие искренно воображают, что они убеждены в полном уничтожении своей личности после смерти, – и все-таки о самоубийстве не помышляют. Но это-то последнее и доказывает, что они просто над вопросом не думали, этого «завтрашнего нуля» воочию пред собой не видели, а их «непосредственное чувство» находится в противоречии с воображаемым о нуле знанием. Таким образом, я утверждаю, что понятие личности…
«А еще, ораторства рекомендовал избегать, – подумал соскучившийся Юрий. – Да ему нет и предлога кончить. Сейчас до христианства дойдет».
Но Морсов христианства едва коснулся, он занесся куда-то совсем в сторону, заговорил непонятнее и круглее, – и кончил.
Никто не сделал никаких замечаний, да и не успел бы, так как слова Морсова тотчас же были подхвачены Пи-томским. Этот сразу заговорил о вере, о христианстве, об учении личного бессмертия, о проникновенности – и о грубых ошибках Достоевского. Говорил с такой пылкостью, что Юрий даже удивился. Следить за ним трудно, но слушать почему-то было приятно. Юрий видел, как старые дамы протянули вперед сухие шеи и впивались в черненького историка, у которого от волнения все время слетало pince-nez.
Он кончил как-то внезапно, вдруг оборвал.
«Для кого это они? – про себя усмехнулся Юрий. – Ежели для степенных сектантов, то ведь они и так веруют, а если для Раевского, Глухарева, Стасика и Лизочки моей, то на что они надеются?»
Впрочем, сейчас же сообразил: «Ни для кого. Для всех… Для себя. Ведь это же игра!»
Когда Питомский кончил, в ближайших рядах стали двигаться. Откашлялся какой-то молодой малый с широким лицом и приподнятыми бровями, синерубашечник, может быть, рабочий.
– Вы хотите сказать?.. – предупредительно обратился к нему «неофициальный» председатель.
Тот опять кашлянул и отрывисто, хотя без всякой робости, начал:
– Да я вот… по поводу вашей речи. Что же нам так пристально сразу же о смерти думать, нуль там или еще что… Живем мы; ну уж просто, значит, действует инстинкт самосохранения. Скажем, нуль, дознано, скажем… Природный-то инстинкт будет же действовать. Голод, скажем, будет у меня? А если будет, так я стану пищи искать, нуль мне предстоит иль не нуль…
– Ага, – вскрикнул Питомский, уловив только одно. – Значит, по-вашему, дознано, что там нуль? Наука дошла, определила раз навсегда? А где это она определила?
Морсов слабо замахал рукой.
– Позвольте, позвольте, это не по вопросу…
Но Питомский уже сцепился с парнем, оба говорили свое, мимо друг друга. Ввязалось еще несколько человек, выходила путаница. Степенный старец в сапогах гудел, поглаживая серую бороду:
– Нет, оно, конечно, правильно… Как это можно, чтобы без бессмертия души. Однако излишне мудрствуют… То же и церковники тут напутали… Веру отшибают…
– Вот вы говорите – вера… – звонко кричала сзади какая-то девица и тянулась к Питомскому и Морсову. – А как ее приобрести, как, если она утеряна? Вот я бывала здесь, слушала, ждала; думала – услышу что-нибудь такое…
Морсов, делать нечего, зазвонил. Утихли немного. Поднялся молодой или моложавый человек с простым-простым мужиковатым лицом, довольно приятным, и острыми глазами.
– Я так полагаю, господа, что трудно нам за всех решать. Да и тоже, собравшись, всенародно говорить. Я полагаю, что, конечно, теперь у всякого внутри свой Бог есть или, так сказать, своя правда, что ли, во имя чего он себя не убивает, живет. По-своему домекнулся – и живет. Однако время еще не приспело, чтобы эту правду на людях, вот как мы сейчас здесь, выворачивать. Не приспело и не приспело. Иной и знает вполне, и верит, что для всех она годится, а по совести, совсем в открытую, не скажет. Слов ли нет ни у кого еще для общей-то правды или мест таких нет, где говорить, а только окончательно и открыто никто не станет говорить. И это ко благу…
– Значит, вы думаете, – вскипел Питомский, – что я… что мы… неискренно-Остроглазый грустно поглядел на него.
– Не про то я, – вздохнул он и хотел продолжать, но в эту минуту звонко, спокойно и весело прервал его Юрий:
– Вы не правы. Отчего никто не скажет? Не все, но есть такие, которые скажут. Я вот, например, везде и всегда, если только меня спросят, могу «в открытую» сказать, чем я живу и как живу. Это моя правда, и думаю еще я, что она годна для всех. Я ее не проповедую именно потому, что слишком убежден в ее всеобщей годности. Многие и теперь живут ею, да, к беде своей, этого не знают. Знать, понять, – очень важно. Потом все будут знать. Непременно. А когда, скоро ли – я не забочусь, мне это все равно.
– Что ж вы загадки-то загадываете, говорите, – протянул остроглазый, не сводя взора с красивого, живого лица Юрия;
– Говорите, говорите! – захлопотал Морсов и, забыв, что он не «официальный» председатель, возгласил: – Господа! Слово принадлежит Юрию Николаевичу Двоекурову!
Юрий со своего места не видел только сидящих позади него. Но он слышал, что и там задвигали стульями. Остроглазый человек сидел прямо перед ним, старики в кафтанах тоже близко. Из-за них вдруг блеснули чьи-то знакомые синие глаза, но чьи – Юрию некогда догадываться. Очень уж все весело и занимательно.
– Я не отойду от нашей темы, – начал Юрий. – Мне это письмо самоубийцы очень поможет сказать то, о чем меня здесь спросили. И говорить буду попросту, иначе не умею. Ведь самоубийца Достоевского толкует о своем сознании. Дошел будто бы до высшей точки сознания, потому что ставит себе разные вопросы. Ну, а я думаю, что вовсе у него не высшая точка, а больная кривизна. Или, в лучшем случае, некоторое перепутье. Он же и сам себе противоречит. Говорит: «если выбирать сознательно, то уж, разумеется, я пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь». Вот это правда. Сознательно пожелать быть счастливым, пока я существую, – в этом, собственно, и вся правда человеческая, даже, если хотите, и «спасение» человечества. Только сознательное пожелать: это надо запомнить. Бессознательно или малосознательно, глуло и неумело, большинство людей (если не все) этим одним живут и всегда жили.
От неясности желания или от неумелости взяться, от вечных поэтому неудач, – люди мечутся в своих и чужих сетях и страдают. Наконец, выдумывают себе вопросы, со злобой говорят, что жить нельзя, потому что их нельзя решить, а между тем ни эти вопросы, ни ответы людям совершенно ни на что не нужны. Я не грубо как-нибудь говорю «нужны», нет, просто-таки никого из нас они не касаются. «Для чего?» – спрашивает самоубийца и продолжает: «Все, что мне могли бы ответить, это: чтоб получить наслаждение». Таким ответом он не удовлетворяется.
Я, мол, не корова и не цветок, я человек, потому что я «задаю себе беспрерывно вопросы» о смысле жизни. А по-моему, даже одно это хвастовство и презрительное отношение к животным – признак, что он еще не полный человек, а выскочка, и сознание его – еще так себе, полусознание: мечется, измышляет вопросы и «беспрерывно их себе задает», хотя и знает втайне, что ни одного не решит.
Впрочем, на вопрос «для чего?» он как бы отвечает: «ни для чего». Прекрасно. И я то же говорю; ответ «ни для чего» – правильный (раз уж навязались вопросы да ответы); но почему надо умирать, если мы живем ни для чего? Напротив, это именно ответ, утверждающий жизнь, толкающий жить.
«Буду нуль. Не желаю быть нулем. Провались лучше тогда все и вся». Скажите пожалуйста? Какая гордыня! Сидор Сидорович, который сотни веков был нулем и ничего себе, стал размышлять и решил: или мне чай пить, или пусть мир проваливается. Нет, высшее сознание сделает человека прежде всего смиреннее и проще. Христиане называют себя смиренными. А по-моему, христианство-то и создало величайшую гордыню, потворствуя капризам каждого Сидора Сидоровича, который «не согласен», чтоб мир существовал, если ему не обещают чаепития в вечности. К христианству я еще вернусь, а пока скажу, что с этими вопросами «для чего?», «зачем?» да «куда?», со всеми «исканиями смысла жизни» мы непременно должны будем кончить. Это придумки, освященные предрассудками. Считается уважительным – «искать смысл» жизни, а не искать– стыдным. Ну да со временем все это выяснится и поймется, как должно. Понял же я, – поймут и другие. Я убежден, что никакого смысла жизни нет, и твердо знаю, что он мне не нужен. Больше: знаю, что и никому он не нужен, только я это сознаю, и говорю, и так живу, как говорю, а другие, даже кто и живет по-моему, – молчат.
– Это старо, старо! – закричал Питомский. – И все давным-давно известно. И довольно пусто! А христианство-то вы зачем приплели?
Кто-то, изо всех сил спеша, боясь, верно, чтобы его не остановили, громко заговорил:
– Да вы не про то! А как же это: пожелать быть счастливым, и что ж? Разве от пожелания сделается? Жизнь без смысла, и тогда сделается? Я не понимаю, вы отрицаете же сознание?
Юрий терпеливо улыбнулся.
– Как отрицаю? Я ведь сказал – надо сознательно пожелать себе счастья, именно сознательно, умно и смиренно, себе самому, на то время, пока я живу. Заботиться о себе разумно и с волей. Довольно для каждого человека одной жизни и одной заботы.
Остроглазый человек заволновался, хотел что-то сказать, но другой, рядом, постарше, перебил:
– Это как же-с, себя устраивать, значит, в первую голову? Это мы слыхали. Это на каких же правилах? Да ежели каждый станет так рассуждать, чтобы ему одному чай пить…
Прежний голос, задыхаясь, выкрикнул:
– А такие правила, что «все мне позволено»! Стара штука!
– С чего вы взяли? – весело подхватил Юрий. – Отнюдь не все позволено! Отнюдь! Я только что хотел сам об этом сказать. Сознательно и умно устраивая свое счастье, я не должен вредить другим. Вот это надо все время помнить. Кстати, чтобы не вышло недоразумений, скажу сразу, что я понимаю под «вредом». Причинить другому вред – это значит поставить человека в такое положение, которого он сам для себя не хочет. Глубже этого «не хочет для себя сам» – я не сужу. И одним тем, что я нисколько не буду заботиться о пользе других, я избегну громадного вреда, какой мог бы тут принести, вмешиваясь в чужие желания. Еще, конечно, хуже, если я прямо вздумаю строить что-нибудь для себя на вреде другим, – это уж будет вконец неумно, это не усмотрение жизни, а данное жизни – обычная «борьба за существование».
– Скажите, – обернулся Юрий вдруг к старику, – а вы что же думаете, что чаю на свете очень мало? И вам уж не хватит, если я его попью? Хватит, с умом да мерой. Мера – вот тоже хорошая человеческая вещь, у животных ее нет. Я не прошу, чтобы вы мне чай добывали, я сам себе добуду, а вы сами себе. Если я о вас не стану хлопотать и вы обо мне, – право, мы лучше промыслим. Ведь вы не знаете, какой я чай люблю. А вредить вам мне и расчета нет.
Сделался шум. Кричали: «Это верно!» «Нет, слова!» «А если интересы встретятся?» «Да бросьте!» «Все теории обычного эгоизма, старого, как мир!»
Морсов хотел уже звонить, но Юрий сильно повысил голос:
– Пожалуйста, не мешайте! Я сейчас кончу. Да, конечно, пока нормально-сознательных людей мало, интересы часто сталкиваются. Бывает так по глупости людской, что либо сделай вред, либо тебе его сделают. Тогда уж волей-неволей надо вредить; вреда себе – никак и никогда допустить нельзя. Но, право, этих случаев при желании не трудно избегать. Гораздо чаще бывает наоборот: кого-нибудь пожалеешь, – жалеть естественно, но ведь неприятно, – поможешь ему, если тебе ничего не стоит, вот и удовольствие, и другому хорошо.
– Какая идиллия! – презрительно вставил Питомский. – Зла-то, по-вашему, значит, нет?
– Есть зло. Есть зло и в людях, и в природе. Но оно вполне победимо человеческими силами. Смерть непобедима, но она и не зло; зло – страдания, а они, конечно, со временем исчезнут. В людях еще много зла. Этим они очень вредят себе. Зло всякие «вопросы», например, а то еще любовь. Я называю любовью чувство к другому человеку более сильное, чем к самому себе или даже «как к самому себе». И оно, это ненормальное чувство, – в каких бы формах ни проявлялось, – всегда несомненное зло, всегда ведет к общему вреду. Я хотел прибавить о христианстве. Очень достойно уважения историческое христианство за то, что исподволь устранило формулу: «любить, как самого себя», и давно уже настаивает на любви ко всем, то есть ни к кому, и на «charite», то есть, в сущности, на жалости. Я кончаю, господа, простите, что так долго занимал вас своими простыми мыслями. Я «в открытую» говорил, чем я живу. Живу добыванием себе счастья, удовольствия, наслаждения, забавы, – при старании как можно меньше вредить и мешать другим. Я желаю каждому того, чего он сам себе желает, но только пусть он сам это и добывает. Конечно, мое единственное «правило» (о minimum'e вреда другому) устраняет всю сложную старую мораль. Я этого не скрываю. Многое мне позволено из того, что вам еще кажется непозволительным. В подробности не буду входить, это лишнее. Я не застрахован от печальных случайностей, но что ж делать? Ведь я живу в очень еще малосознательное время. Но живу по своей правде, то есть без заботы о других, без исканий смысла жизни, без любви, без особенного страха; я ищу только своего счастья и, право, постоянно его нахожу! Вот и все, господа, я кончил.
Он кончил, но все молчали. Соскучились, одобряли или от ярости молчали – нельзя было понять. Может быть, полминуты так прошло. Кто-то захлопал, хотя «рукоплескания» были запрещены. Вдруг поднялся остроглазый человек с простецким лицом, ввинтился в Юрия взором, поднял бледный палец и среди общего молчания явственно произнес:
– Чертова ты кукла – вот ты кто, да! И пусть черт с тобой играет, а я и видеть-то этого не хочу – жалко, тьфу!
Все произошло так быстро, что, когда оцепеневший Морсов опомнился и яростно зазвонил, человек с острыми глазами был уже далеко. Он протолкнулся между сидящими и сразу сгинул в толпе. Сектанты в кафтанах тоже поднялись с мест. Зала заволновалась, где-то хихикали, но звонок Морсова все покрыл.
Морсов был красен и сконфужен. Шептал Юрию какие-то извинения:
– В первый раз подобная выходка… Мы этого члена совсем не знаем… Трудно всех знать… Но, конечно…
– Да вы не беспокойтесь, пожалуйста, – остановил его Юрий. – Я нисколько не обижен.
Он действительно не был смущен. Длинный, представительный журналист Звягинцев, – демократ, несмотря на свой непобедимо барственный вид, – наклонился к Юрию с другой стороны:
– Я не метафизик, но решительно не понимаю, как можно так обращаться с метафизикой. И вы говорили таким нарочито примитивным языком, что прямо вызывали на фанатический протест…
Морсов кончил звонить.
– Два слова… – сказал худощавый господин из второго ряда, очень хорошо одетый, в высоких воротничках.
– Мы хотели сделать перерыв, – начал Морсов. – После перерыва мы все будем возражать господину Двоекурову. Но если ваше слово кратко…
Морсова, кажется, подкупили корректные воротнички. Понадеялся, что неловкость будет смазана.
– Очень кратко, – сказал тот и блеснул синими глазами на Юрия, который только теперь узнал говорившего. – Что же тут можно возразить? Г. Двоекуров говорил искренно, играл немножко в циническую наивность, но игра у него тоже искренняя. Я хочу только сказать, что все это не имеет никакого отношения ни к кому, кроме него самого. Он считает себя нормой и свое сознание – высшим человеческим сознанием, – но это невинное самообольщение. Невинное, так как никого серьезно не соблазнит рабское счастье г. Двоекурова. Свойство человека – искать сначала свободы, а потом уж счастья. Тут же мы встречаемся с полным отсутствием даже понимания свободы. Освобождая себя от всяких крайних исканий человеческого разума и чувства, г. Двоекуров должен признать случайность (он и признает ее), то есть произвол, но непременно признать навсегда, на вечные времена. Если быть последовательным, то бороться с таким произволом, с постоянными случайностями нельзя, не имеет смысла, а можно только лавировать между ними в напряженной заботе о своем удовольствии. Это лавированье, эту погоню я и называю самым унизительным из рабств. К тому же оно непрактично: в конце концов случай, превращенный тобою в вечный закон, тебя же должен погубить. Г. Двоекуров хочет смотреть на жизнь, как на игру в рулетку, и хочет выиграть. Желаю ему долго выигрывать. Но не следует забывать: в конечном-то счете всегда выигрывает банк. Впрочем, повторяю, все это не касается человечества, поскольку оно человечно и не смотрит на жизнь, как на рулетку; а есть ли основания утверждать, что норма для всякого из нас – сделаться игроком? Относительно же «последних вопросов» я должен присоединиться к тому оппоненту г. Двоекурова, который только что вышел… то есть, к его замечанию перед речью г. Двоекурова. Если и есть у многих из нас свои вопросы, свои ответы и своя правда, то нет еще слов для нее и нет места, где говорить о ней.
Морсов шумно поднялся со стула. – Господа, объявляю перерыв!
Поднялись все, начался грохот и гул. Морсов спешил в библиотеку. Он был красен и взволнован. В последней речи тоже было что-то не то. Она и публике не очень понравилась. Юрий (теперь это было видно) вызвал гораздо более симпатий; он так искренен; да и так красив. Но Морсову и от Юрия было не по себе. Он надеялся уладить что-нибудь во время перерыва; пусть во втором отделении говорят профессора, попросить Вячеславова, Звягинцева, даже Глухарева можно. Пусть говорят о метафизике, о христианстве вообще, о Достоевском вообще, Глухарев заведет о собственной религии, о махосадо-эготизме, ну да ничего, он немногословен и туманен. А потом Морсов скажет резюме…
В библиотеке Юрия сразу окружили, затеснили, заговорили. Он не мог даже понять, что от него хотят, выражают ли ему сочувствие или требуют пояснений. Вдруг, через головы двух распаренных, взволнованных девиц, он увидел, что ему делает знаки служитель.
Юрий ловко выскользнул из толпы.
– Вас там… в швейцарской… г. офицер спрашивают.
– Меня?
– Да-с. Студента Двоекурова.
Окольными коридорами Юрий сбежал в швейцарскую. Сразу почему-то пришел на ум Саша Левкович; стало беспокойно, хмуро, досадно.
Прислонившись к стенке, за зеркалом, стоял офицер. В пальто и в фуражке. Лицо у него было странное, темноватое, с отдутыми губами, так что Юрий на секунду его не узнал.
– Саша, это ты?
– Поезжай домой. На Васильевский. Я тоже… к тебе.
– Саша, да ты разденься, поднимись. Потом поедем, если хочешь.
– Нет, я уж входил… на минуту. Я от тебя. Поедем к тебе. На Васильевский.
Юрий сжал брови. Подумал. Очевидно, надо ехать. Левкович говорил глухо, ровно, глядел вниз и не двинулся. Надо ехать. Вся эта канитель с вечером Юрию, кстати, уже и надоела. Но вдруг он вспомнил:
– Я не могу, Саша, я должен сестру домой отвезти. Сестра Литта здесь.
– Видел в зале. С француженкой твоей рядом. Ты и ей француженку нанял?
Левкович открыл рот и визгливо захохотал, впрочем, сейчас же умолк. Юрий не понял решительно ничего; от неожиданного хохота ему стало противно.
– Отвези сейчас и приезжай. Я буду у тебя, на Васильевском. Ждать буду. Приезжай! – закончил Левкович опять визгливо и повелительно.
Дернулся вбок, неловко повернулся и пошел из швейцарской.
Юрий с нестерпимой досадой повел плечами. Однако надо действовать. Идти через всю толпу отыскивать Литту чрезвычайно не хотелось. В просторной швейцарской, затемненные горами разных пальто и накидок, одевались молча какие-то люди. Юрий быстро подошел к одному из них, тому самому, в высоких воротничках, который только что ему возражал.
– Послушайте, – сказал он вполголоса и равнодушно, как малознакомому. – Не будете ли вы так любезны… передать моей сестре, что мы уезжаем, что я жду ее внизу. Необходимо. – И прибавил совсем тихо:
– Как ты здесь? Смотри, не очень ли раскутился?
Господин в высоких воротничках ничего не ответил, но быстро, с шапкой в руках, пошел наверх, на лестницу.
Другой, уже совсем одетый, пробираясь мимо Юрия к двери, слегка засмеялся и, тоже совсем тихо, проговорил:
– Уж очень заботитесь… насчет чужих кутежей. А еще хвастали, что об одном себе заботу имеете.
Перед Юрием мелькнуло испитое лицо Якова и его зеленые зубы.
Было томительно. Литта не шла. Юрий поднялся на несколько ступенек и заглянул в полуотворенную дверь, где стоял гул и дым. Опять его заняло на минуту «вавилонское смешение», увидал барственного демократа Звягинцева, знакомую сухую курсистку, профессора с худыми щеками и между ними симпатичного батюшку, который очень серьезно и внимательно слушал какие-то объяснения Звягинцева. Поодаль Раевский, поэт, похожий на Апухтина, говорил так же серьезно с каким-то купцом, не менее толстым, чем он сам.
«Э, да ну их», – подумал озабоченный Юрий и опять пошел вниз.
На верхней площадке показалась Литта. Она торопливо прощалась с черноголовой дамой, которая в зале сидела около нее.
Юрий узнал Наташу. Сразу вспомнил странные слова Левковича о «француженке». И совсем рассердился.
«Нет, это черт знает, как они неосторожны! С ума, что ли, сошли! А если бы Саша сел рядом? Пришлось бы мне врать на все четыре стороны!»
– Ты хочешь ехать? – спросила Литта сухо.
Он не обратил внимания на странно-строгое выражение ее лица. Да, он спешит, он сейчас же должен отвезти ее домой.
На тротуаре нужно было ждать минуты две, пока звали графинину карету. Дождя не было, но хуже: острая, проклятая изморозь напитала белесоватую ночь, и ночь отяжелела, как мокрая перина.
Человек в длинноватом пальто прошел неторопливо мимо; затерся было в изморози, и вот опять идет назад. Юрий узнал острые глаза. Это тот, что чертовой куклой его обозвал. Чего он тут дежурит? На такого какого-нибудь не похож…
Уже садясь в карету, Юрий увидал выходившего Михаила. В ту же минуту к нему подскочил остроглазый и что-то сказал. Несколько мгновений Михаил стоял неподвижно, не отвечая. Высокие его воротнички белели, франтоватое пальто быть распахнуто. Остроглазый продолжал говорить, не повышая голоса. И вдруг они пошли вместе, сразу пропали за паутинным пологом изморози.
«С единомышленничком, что ли, моей чертовой кукле захотелось познакомиться? – подумал рассеянно Юрий. – Нет, а те-то как раскутились! Ну да шут с ними со всеми! Не до них!»
Юрию, действительно, было не до них. Беспокойная досада его грызла, желание скорее быть дома. Он думал о Левковиче, соображал, что удобнее с ним делать. Но сообразить трудно, пока не знает, в чем именно дело.
Литта молчала, как убитая. Юрий почти и забыл о ней. Цокали копыта по деревянной мостовой.
– Юрий!
– Что тебе? – полуудивленно откликнулся Юрий, точно разбуженный.
Голос Литты странно звучал из темноты, строгий, как у взрослой.
– Юрий, ты не должен был так говорить. Я тебя всегда любила, Юрий, и теперь люблю, но если ты в самом деле такой… то я тебе не сестра, вот и все!
– Да ну? – рассеянно усмехаясь, проговорил Юрий.
– Нечего смеяться, я серьезно. Я так рада была, что Михаил после тебя сказал, как это стыдно. И тот, первый, тоже верно. Грубо, я сознаюсь, но он правду, правду! Как же это можно, Господи! И при всех ты это!
– Да что ты, сестренка, с ума сошла? – искренно изумился Юрий. – Много ты понимаешь. Подумай-ка молча.
Но Литту уже нельзя было остановить. Она взволнованно и горячо продолжала свое, и с такой настойчивостью, что Юрий стал даже вслушиваться.
– Меня Наташа, вот кто меня поразил! – говорила Литта. – Вдруг согласна, что ты много верного! Ты! Уверяет, что тут есть своя мудрость. Как она могла!..
– Ты бы лучше не толкала людей на лишние глупости, – строго прервал ее брат. – Ведь это ты им дала повестки? Ты? А знаешь ли, что Саша Левкович был в зале? А если бы он услышал, как эта твоя Наташа по-русски жарит? Не понимаешь ничего, глупости и гадости делаешь, так уж молчала бы с проповедями. И те тоже хороши, связались с девчонкой! Ну да мне, извини за выражение, наплевать; только сделай милость, оставь меня сейчас в покое. У меня очень серьезное дело, и болтать сызнова о пустяках некогда.
Карета стала у графининого подъезда. В белой бесфонарной мгле Литтино лицо казалось старым от обиды, гнева и внезапного ужаса. Хотела было удержать Юрия, сказать еще что-то, самое необходимое, но не сказала, точно язык отнялся.
Пошла наверх по ковру, а Юрий уехал. Торопился, взял ту же графинину карету.
Глава двадцать первая Случай с выстрелом
Лампу зажгли поспешно и небрежно; она горит скверно, воняет. У стола Левкович, как был, в фуражке и пальто, скрючившись, торопливо что-то пишет. Дописал, сложил, толкает в конверт, но так нелепо, что листок не входит. Скривив усы, Левкович комкает бумагу, гнет, но все-таки она не влезает в конверт.
– Ты не хотел меня дожидаться, Саша? – говорит Юрий в дверях. – Ты мне это писал? Еще рано. Всего одиннадцать в начале.
Левкович встал.
– Ага! Я думал, не придешь.
– Почему же? Да раздевайся. Поговорим.
– Поговорим? Раздевайся? Нет-с, мне не до говоренья. Кончено со мною. Да и с вами.
– Ты с ума, что ли, сошел? – прикрикнул Юрий, не сводя глаз с неподвижного лица приятеля. – В чем дело?
Левкович дернул рукой вперед и выстрелил. Невольно отпрыгнув влево, к двери, Юрий опрокинул стул и сам едва не упал. Белый клубок дыма посерел, распустился на всю комнату, лампа сделалась желтым пятном, бледно-лиловый четырехугольник окна затмился.
Левкович обернул длинный, офицерский револьвер к себе дулом и опять выстрелил. Юрий уже был около, успел схватить руку, но толкнуть как следует не успел. Выстрел был глуше, но опять – клуб белый, завеса дыма еще плотнее, и в дыму криво и тяжело валящийся офицер, боком на угол стола, потом ниже, на пол, задев этажерку.
– Саша, Саша… Саша!
Дым сл глаза, Юрий ощупью, наклонившись, искал, где лицо упавшего, где может быть рана.
В незапертую дверь уже вбегали, отрывисто кричали, спрашивали. Дым немного поднялся и пополз, качаясь, в коридор.
– Пожалуйста, доктора… Шишковского… тут на площадке, – заговорил Юрий. – Мой двоюродный брат ранил себя… нечаянно…
Левкович был жив. Он хрипел, странно дергался и что-то говорил; что – в хрипе нельзя было понять.
Когда минут через пять пришел доктор, толстый, рыжий и добродушный, Левковича уже положили на диван. Юрий сообразил, что рана должна быть в левом плече. Тут где-то дымилось, мундир пах гарью.
Терять время было нечего. Юрий согласился с доктором, что самое лучшее – перенести раненого в частную лечебницу наискосок, где ему будет подана нужная помощь всего скорее.
Через полчаса Юрий в скудно освещенной приемной лечебницы уже выслушивал слова другого доктора, хирурга из евреев, очень внимательного и точного. Пуля еще не извлечена, рана мучительная, но не смертельная, легкое едва ли задето. Больной почти все время в памяти, жалуется на свою неловкость (или неосторожность?), говорит о жене.
– Она могла бы его видеть? – спросил Юрий.
– Лучше не сейчас… Мы ему скажем что-нибудь…
– Как найдете нужным. Но она все равно приедет, ее надо же предупредить.
Еще почти час Юрий провозился дома со всякими формальностями скандала. Кажется, в неосторожность офицера мало поверили, но какое кому дело? Офицерский револьвер Юрий отдал приставу.
А полувсунутую в конверт записку он догадался спрятать сразу, еще в суете. В приемной успел пробежать ее и кое-как понял, в чем дело. Понял, по крайней мере, как нужно действовать.
Болела голова от дыма, от трескотни, тошнило от досады и от жалости к этому глупому, несчастному человеку. Завтра уж будет поздно помочь ему. Вот эта возня с дураками, от которой не всегда отвертишься, самое противное, что есть в жизни.
Юрий не останавливался на бесполезных рассуждениях о том, что было бы, если б Левкович случайно не промахнулся, когда стрелял в него. В этом идиотском состоянии естественно было промахнуться. Да и дело прошлое.
Уже в первом часу ночи Юрий позвонил в квартиру Левковичей.
Мура, в капоте, немного растрепанная, лежала на широком диване и грызла леденцы.
– Ах, Юруличка, – запела она, увидев Юрия, который остановился на пороге. – А я думала, кто это так поздно? Ну, я не удивляюсь, капризник! Саши нет, идите ко мне… Что вы? – прибавила она, вглядываясь в лицо гостя, и немного приподнялась.
В квартире было тихо. Юрий плотно запер дверь, подошел к Муре, цепко взял за руку повыше кисти и дернул так, что Мурочка сразу отлетела от дивана.
– Ты вот на что поднялась? Вот на что? Ах ты, дрянь, дура полоумная!
– Юрочка… Юрочка…
Он схватил ее за косы и таскал по ковру из стороны в сторону.
– И еще врать? Врать пакостно, себе и другим во вред… Нет, ты у меня эти штуки забудешь… забудешь…
Бил ее сосредоточенно, упорно, с серьезным лицом, как мужик «учит» жену. Она тряслась и тихо визжала, но не вырывалась.
– Юруля… миленький… Юрочка… клянусь тебе… Больно, Юра…
– Когда я тебя с Леонтинкой твоей развращал? Когда? Было это? Было? Не бросил я и Леонтинку, когда узнал, что вы за дряни обе, и барышня, и гувернантка? Тронул я тебя когда-нибудь пальцем, а? Для чего ты это наплела человеку, который только тем и виноват, что такую дрянь любит! Для чего? Отвечай!
Мура скорчилась на ковре, трепаная, запутанная в складках розового капота. Захлебываясь, всхлипывая и закрываясь руками, как виноватая баба, лепетала:
– Юрочка… Я нечаянно… Он меня не понимает… Я ему сказала, что не люблю его… И жить с ним не буду… А он…
– Что-о? – грозно закричал Юрий, опять схватил ее за руку и посадил на ковре. – Ты что сказала? Не будешь жить? Не любишь?
Ни малейшей злобы в нем не было. Была досада, но понемногу и она проходила, было смешно. Однако помнилось, что дело еще не кончено.
– Ты осмелилась сказать, что бросишь его? Кто тебе позволит? Да ты знаешь, что я с тобой за это сделаю? Знаешь?
По совести, Юрий сам не знал, что он может еще сделать, но это ничему не мешало.
– Я не буду, Юрочка… Я не буду… Прости меня… Я сама не помню, как это вышло. Юрик, не сердись!
Он шагал по комнате, сдвинув брови и сурово глядя, как она, все еще не смея подняться с ковра, следит за ним глазами.
– Ты, голубушка, помни… Я тебя везде достану… Если я еще хоть тень на Сашином лице увижу! И жить с ним будешь, и такой женой ему будешь, какую ему нужно. Любишь, не любишь – я знать этого не хочу, мне надо одно: чтобы у него и сомнений никогда не было, что любишь… Поняла?
– Да… Юрочка…
– Ну, иди сюда.
Он сел на низенький диван, приподнял Муру и посадил рядом. Она прижалась к нему и снова тихонько заплакала.
– Не реви, а слушай хорошенько. Ты петая дура, но не настолько все же глупа, чтоб не понять, когда я говорю с тобой серьезно. Я не шутки с тобой шучу, ты могла убедиться.
Она не отвечала, только вздохнула прерывисто, как дети после плача.
– Я Сашу сумею защитить, если ты опять за свою дурь примешься, – продолжал он. – И уж тебя тогда не пожалею, извини! Сама себя погубишь. К чему ты идиотски про меня еще наврала? Умеешь врать, когда не нужно.
Мура начала робко:
– Юрочка, право, я сама не знаю, как это случилось. Слово за слово… Я ему сказала, что и не любила его никогда, а так… Он назвал меня испорченной, лживой и что-то о тебе упомянул, что ты мной пренебрегаешь… Я рассердилась и говорю: ну уж какая есть, такой и буду… И чтобы ему назло – тут и сказалось у меня: не я себя такой сделала, спросите у вашего Юрия, что он со мной устраивал, когда мы тогда все в Царском жили, какие книги нам приносил, и гувернантку мою Леонтину спросите, он и с ней недурно поступил, кстати уж… Юрий, Юрочка, прости же, я ему скажу, что неправда, скажу, ей-Богу!
– Стоило, подумаешь, с тобой, дрянью, тогда церемониться! – проговорил Юрий сквозь зубы, опять оттолкнув Мурочку. – Да уж очень мне и Леонтинка стала противна после всех ее гадостей с тобой…
– Я виновата, виновата… Ты добрый, Юрочка, удивительный, я в тебя одного всегда…
Она испугалась и не кончила. Юрий брезгливо повел плечами.
– Ну, некогда теперь, я не за пустяками приехал… А подумала ли ты, что твои выкрутасы могут довести Сашу черт знает до чего? До такого скандала… Вдруг он застрелится? Что ты тогда? Ведь ты как червяк погибнешь…
Почему она должна погибнуть как червяк – было неизвестно. Но Юрий это сказал тоном, не допускающим сомнения, и у Мурочки внутри все даже похолодело.
– Нет… не надо… не говори…
– Ничего не говори. Соображала бы раньше. А теперь, матушка, учись: Саша уж в больнице лежит, у меня стрелялся, и если б я под руку не толкнул – может, наповал бы.
Мурочка охнула и хотела было истерически захохотать и заплакать, – но очень уж была напугана, да и наплакалась раньше.
– Пошла, одевайся, едем к нему. Он тебя спрашивал. Если не пустят – сиди все равно там до утра. А только что пустят – сейчас же объяснись с ним, как надо. Ничего, от радости хуже не будет. Да помни, ты меня не видала, от меня ничего не слыхала, тебе из больницы дали знать… что он «по неосторожности».
Мурочка была уже на ногах, слушала внимательно и кивала головой.
– Да, понимаю. Понимаю, ты не думай. Я сейчас буду готова. По неосторожности? Ну да… Я сама будто догадалась… Ах, Юрик, ах, Юрик…
Она убежала, поправляя по дороге волосы. Юрий не рассудил ей сказать, что Левкович стрелял сначала в него. Не хотелось, да и можно бы еще напортить. Мурочка, пожалуй, цену бы себе стала придавать или пожалела бы его, а это все лишнее: ей не для чего рассуждать, на нее нужен страх. Просто себе страх, и чтобы она из этого страха не выходила. Тогда она сумеет и хитрить с тактом.
В больницу он ее сам не повез. Посадил на извозчика, сказал адрес и сурово напомнил ей:
– Так не уезжать без свиданья! Ясно? Завтра я обо всем справлюсь.
Мура впопыхах, от испуга, от пережитых волнений, даже не спросила, какая рана, как все произошло. Но Юрий не тревожился: должно все обойтись хорошо.
Как он устал! Руки и ноги даже ломило. Спать, спать! Куда? На Васильевском, верно, беспорядок еще… К Лизочке лучше всего потихоньку, и запереться сейчас же, чтобы не прилезла.
Изморозь продолжалась, только вся побелела, и дома сквозь нее смотрели точно опухшие. Спать! Спать!
Глава двадцать вторая Копыта по крыше
– Я с пятницы его не видала, понятия не имею, – говорила Наташа раздраженно, стоя на крыльце своей дачной хибарки. Куталась с головой в рыжеватый платок, потому что было холодно, как осенью, шел дождик.
Неожиданно приехали гости: опять Яков, Хеся да еще двое других, – Наташа их знала раньше, но давно не видала: молодой, высокий, сутулый, по названию Юс, и пожилой, низенький – Потап Потапыч.
– Так не видали, не знаете? – приставал Яков. – Очень странно. Странно и опрометчиво так исчезать, когда он нужен.
Наташа сердито поглядела на него.
– А это не опрометчиво приезжать ко мне целой толпой? К чему, спрашивается?
– Ну, извините, – басом сказал Юс. – Я и то сомневался, да все Яков. Говорил, такое у вас здесь кладбище, что и собаки только одни дохлые. А Шурина, мол, у вас добыть можно.
Михаила часто звали «Шурином».
– Уж приехали, так идите в комнату, – проговорила Наташа и повернулась. – Не на дожде же мокнуть. Я попрошу хозяйку самовар поставить.
Гости двинулись за ней.
– Вот это ладно, – бросил Яков, снимая и встряхивая длинный мокрый кожан. – Я точно знал, две бутылочки рыженького захватил. Здесь ведь глушь.
Низенькая, просторная горница была темновата, но чисто прибрана. Наташа брезгливо покосилась на бутылки коньяку в руках Якова и вышла поискать свою дьячиху.
Гости расселись у стола с розовой скатертью. Хеся поодаль, молчаливая.
– Да коли этого… того… коли он уроки какие-то в графинином доме все давал… так графинин этот внучек должен знать… Ходы-то близкие… – медленно произнес Юс.
Яков так и вскинулся.
– Что? что? Какие уроки? Кто говорил уроки? Хеся, вы говорили…
Хеся пожала плечами.
– При чем же тут я? Ничего я не знаю…
– Да, может, напутал, – сдался Юс. – Я человек приезжий. Я к тому, что Шурина-то очень нужно. Не сидеть же нам зря без него? Либо так, либо этак.
Наташа вернулась, села к столу у мутного оконца и, положив голову на руку, неласково глядела на гостей.
– Давненько я вас, Сестрица, не видал, – обратился к ней Потап Потапыч.
– Кашляете?
– Да, это уж всегда. А теперь еще простудился на сырости. Вот чаю хорошо.
– С архиерейскими сливочками! – развязно подхватил Яков. – У меня и штопор в кармане!
За чаем опять Потап Потапыч стал заговаривать с Наташей. Она отвечала отрывисто, потом вдруг сказала, обращаясь ко всем:
– Я ничего не знаю и желала бы и впредь ничего н$ знать. Михаил со мной ни о чем не говорит, я виделась с ним как сестра, больше ничего. Отсюда я думаю через неделю уехать.
Потап Потапыч удивленно вздохнул и закашлялся.
– Уехать? – хихикнул Яков.
– Да. Совсем.
– Ого, Сестрица, вот как! – удивленно протянул Юс. – Это что ж, официально? Это новость.
Яков вмешался.
– Смотря для кого. Наталья Филипповна давно нам давала понять, что у нее… другие задачи. Шурин знал.
– Нет, какие же «другие задачи»… – заговорила Наташа, сдерживаясь. – Просто я утомлена, измучена, ни на что не гожусь… Решительно ни на что. Мне хотелось бы пожить где-нибудь одной, собраться с мыслями, заняться чем-нибудь для себя…
Потап Потапыч опять вздохнул, а Яков опять засмеялся.
– Ну да, ну да, всем нам пора бы собраться с мыслями да начать каждому о себе заботиться! Эту новую проповедь благополучия всех и каждого мы тоже слышали! Да и без проповеди уж на то пошло! Занятий много есть: кто науку избирает, кто искусству хочет послужить… Вы что же, Наталья Филипповна, цветы по фарфору в вашем уединении будете рисовать?
– Яков! Вон! – вскрикнула Наташа, поднимаясь со стула. – Как вы смеете так со мной разговаривать?
Все разом вскочили. Юс замахал руками на Якова.
– Ну, ну, что это, в самом деле? Сестрица, да ведь так нельзя! Плюньте, господа!
Яков уже сам струсил, побледнел и бормотал что-то извинительное.
Наташа махнула рукой и села. Потап Потапыч, кашляя, заговорил примиряюще. Понемногу обошлось. Гости веселели. Не то что веселели, а становились говорливее, Яков развязнее, хотя к Наташе прямо уже не обращался.
– А что, Сестрица, вы Петю видали прошлым летом? – спросил Потап Потапыч.
– Да, видела. Случайно. Недолго.
– И я видал, уж под осень, – сказал Юс. – Что, Сестрица, у вас насчет стенок, ничего?
– Хозяйка глуха. А работника нету дома.
– Я видал, – повторил Юс. – Ничего себе, он ничего. Назад ему все равно ходу не было, да он, как понял, и сам не требовал. Поверить же ему поверили. Ясное дело.
– Ясное дело! – подхватил Потап Потапыч. – Я при первых вестях о нем разобрал, в чем штука, и хоть посейчас ничего подробно не слышал, а знаю. Лучше ему кончить и нельзя было, раз уж пришло это в голову, свернулся.
– Дикая мысль, – сказала Наташа, кутаясь в платок.
Она знала, что Петя был младший брат Потапа Потапыча, которого он чуть ли не воспитывал. Судьба Пети решилась этой осенью и была ужасна. Тем не менее и Потап Потапыч, и другие, и сама Наташа говорили о Пете спокойна, с привычной простотой и без большого интереса. Потап Потапыч с давнего времени не видал его, ну так сообщали подробности.
– Мысль не дикая, – промолвил Юс. – Понять можно. Сидели, засиделся немного, а тут его этой нашей катастрофой азефской сразу ошарашила И на воле-то скольких пришибло. Он так понял, что всему общему конец, и каждый за свой страх пусть действует. Фантазия разыгралась, сдержки соскочили. Коли оттуда мог один человек столько дел наделать, так и отсюда может. Тот хороших людей обманывал для подлых дел, а я, мол, буду подлецов обманывать для хороших дел.
– Нельзя же так! Невозможно же! – заволновалась все время молчаливая Хеся.
Потап Потапыч кивал головой с довольным видом.
– Ну да, да, я именно так его и понял. Человек был молодой, нервный. Не всем под силу. Вон Бабушка, тоже сидела, как узнала про Ивана Николаевича. Эта выслушала, помолчала, подумала – плюнула: тьфу! И только. Осталась, как была. А что, – прибавил он, обращаясь к Юсу, – Петя-то что же говорил?
– Вот это самое и говорил. Сознавал уж, что свернулся и что назад ходу все равно нет. Ничего. Рассказывал, как трудно было выдержать. Его два раза из тюрьмы в охранку требовали и назад отсылали. Потом уж, когда ушел да с воли опять письмо написал, – поддались, поверили. С воли пишет – ну, значит, действительно. Да и то…
– А что? – спросил Потап Потапыч.
– Нелегко было. На умницу одного здешнего наскочил. Уж он его и так, и этак. Петя все держится. Наконец тот взял его за плечи, толкнул к зеркалу, – большое зеркало у него в кабинете, – и шепчет: «Посмотри. Хорошо вы рассказываете, а глаза-то у вас лгут. Ну да ладно!» Бросил Петю и вышел за портьеру. Петя не будь дурак, – к портьере – и заглянул. А там – двое… и кто!
Юс наклонился и шепнул что-то на ухо Потап Потапычу.
– Да нет? – изумленно проговорил тот.
– Право. Иван Николаевич и… сам. Петя утверждал положительно.
Потап Потапыч вздохнул и улыбнулся.
– Что ж, все возможно. Ну и как же?
– Да, так же, приняли все-таки. Умница-то, однако, себе на уме. Не пошел тогда на Выборгскую, к Пете в гости, цел и остался.
В комнате все те же ненастные, неподвижные сумерки. Самовар погас. Одна бутылка была уже выпита, давно начали другую. Яков заговорил у чем-то с Юсом в сторонке, кажется, собирался уезжать. Хеся бесшумно вышла из уголка и подсела ближе к Потапу Потапычу и Наташе. Должно быть, разговор о Пете, которого она знала мало, навел ее на какие-то тревожные общие мысли. Высказать их она, однако, или не хотела, или не умела.
Чай, коньяк, Наташа, такая строгая и куда-то уходящая, вдруг посторонняя, да еще воспоминания о Пете разнежили Потапа Потапыча. Ему хотелось вести обыкновенный, неделовой разговор, вспоминать о своем, хотя бы о том же Пете, но, главное, рассказывать бесполезно, просто чтобы рассказывать. Дьячихина комнатка – дача, куда он приехал в гости к этой милой барышне, уже не «товарищу», не «сестрице», а просто славной чужой девушке. Когда Потап Потапыч бывал «в гостях»? Он и не помнит. Хорошо бы даже совсем о чем-нибудь другом поговорить, но хочется говорить о Пете, да и не знает он ничего такого «другого».
– В Петиной жизни странные случаи бывали, – начинает он. – Если б написать – сказали бы, что придумано. Вот когда в первый раз… знаете, с рабочим Гришей?
– Нет, – откликнулась Хеся. – Я про Петю вообще мало знаю.
Наташа спросила:
– Он ведь в Заволжье был учителем сначала?
– Да, да, как же! Вы слышали?
– Мы сами с Волги, – тихо и тепло сказала Наташа. – Да, мы уж давно там не были… И место другое… Я так, стороной, слышала…
– Ну вот, это было после его учительства. Не очень давно рассказывал мне Петя, – чуть ли не в последний раз мы и виделись с ним тогда! – Хожу, говорит, я по комнате, хожу, а Гриша, рабочий, тут же в ступке… толчет. Толчет и растирает. Вечером дело было. Стал я думать: зачем это он так толчет? Лучше бы он поосторожнее. И хочу ему это сказать. Только что хотел – как сразу все провалилось, исчезло, и Гриша, и ступка, и я сам, точно меня не бывало. Однако, через сколько-то времени, чувствую – опять я; кругом темнота, но все же немного видно (ночь была светлая, и снежок). Лежу я на полу и как будто умираю. Разглядел близко Гришине лицо. Тоже лежит, а лицо такое, что этот-то, уже и сомненья нет – умирает. Тихо Гриша посмотрел на меня, шепчет: прости меня: я провокатор… И умер сейчас же. Я полежал еще немного и пополз.
– Какая же рапа у него была? – спросила Наташа.
– В ноги и в живот. Он ведь и потом плохо поправился, больной был.
– Так как же он полз?
– А так, на руках. Ноги, как мертвые, за собой тянет. И, главное, ползти-то надо с лестницы, со второго этажа. Едва, говорит, сволок их, все отдыхал. И пока отдыхает – без сознания.
– Ну и выполз? Ушел?
– Выполз наружу, двором ползет и, наконец, уж этак задворками, по снегу. Вдруг слышит шум (после узнал, что долго не понимали, где взорвало) – и бежит ему навстречу баба. Бежит, запыхалась, увидала и начала кому-то: «Здесь, здесь, сюда, вот он, вот он!» Петя говорит – горько ему как-то тут стало, поглядел он на нее и только смог сказать: «Ты ведь женщина»… Она будто поняла, замолкла и зашептала вдруг: «Ну, ну, ползи сюда, ползи сторонкой…» – и указывает за сарай. Сама будто ничего, дальше пробежала. А он мимо сараев, у забора, в переулок выполз. Дальше ползет. Канава глубокая. Ему канаву не перелезть, ноги мертвые мешают. На перекрестке три мужика стоят, глядят – и ничего. Один говорит: «А ведь уползет». Другой говорит: «Нет, околеет». А третий: «Все равно начальство поймает». Подошел и ноги ему в канаву скинул сапогом. Ну, Петя в канаве без сознания сколько-то полежал, очнулся, вытащился и опять дальше. Уж как будто и к утру дело. Видит, извозчик порожний едет шагом и на него глядит. Петя взмолился: «Голубчик, возьми ты меня, свези вот туда-то!» Извозчик смотрит, что за ним кровь по снегу, и головой качает: «Нет, говорит, санки испортишь». – «У меня вот с собой пятьдесят рублей, возьми двадцать пять, только свези». Извозчик подумал, сошел с козел, деньги взял и говорит: «Ну, так и быть, лезь».
– Неужели довез, куда надо? – недоверчиво спросила Хеся.
Потап Потапыч махнул рукой и засмеялся:
– Довез! Он довез! Петя, как вскарабкался в санки, опять сознание потерял, и верно уж надолго. Очнулся – извозчик стоит, светло, галдят, кругом народ, мужичье, на санки напирают, а над Петей, как наседка, человек со светлыми пуговицами, лицо знакомое, кричит, зовет кого-то и своим телом Петю от народа заслоняет. Извозчик-то, не будь дурак, в участок его привез; народ собрался, озлобились и с Петей хотели расправиться, долго не дожидаясь. Исправник только и спас.
– Исправник?
– Да, надо же! Он этого исправника самого с год тому назад от смерти спас. В половодье тот Волгу переезжал, тонуть стали, а Петя ловкий был, сильный, кинулся, и его вытащил, и лошадей спас. Исправник тоже человек, он как узнал его – попомнил. Вот я и говорю, – удивительно! В романах даже и то так не случается.
Наташа печально посмотрела на Потапа Потапыча и ничего не сказала. А Хеся шепнула:
– Взяли его, значит, все же тогда?
– Взяли. Да дело всячески стали заминать, потому что, действительно, этот Гриша-рабочий был провокатор, боялись на суде этого не обойти. Не знаю, чем бы кончилось. Только Петя и тогда ушел, совсем еще больной на руки товарищам выбросился.
– Я одного не понимаю, Потапыч… – начала робко Хеся.
Ее прервал Яков. Они с Юсом все, должно быть, переговорили. Коньяку больше не было.
– Я двигаюсь, – сказал Яков. – Теперь сейчас идти – можно еще даже на дальнюю платформу попасть. До свиданья, Наталья Филипповна, благодарим на угощеньи.
– Да что ж, ехать так ехать, – поддержал Юс. – Я с тобой на дальнюю, а Потапыча мы сюда доведем, и Хесю.
Все поднялись. На дворе были те же незакатные, ненастные сумерки, нельзя было понять, рано или уж поздно.
– Ну, прощайте, милая вы моя, – ласково сказал Потап Потапыч. – Пошли вам судьба чего хорошего. Каждый в своей жизни волен, это не надо забывать. – И вдруг прибавил тише: – А вас как здесь зовут-то?
– Анна Максимовна. Разве не знаете?
– Прослышал. Так путь вам добрый, Анна Максимовна, спасибо за чай и за беседу, еще раз спасибо!
Он жал ей руку, и опять хотелось ему думать, что вот он побывал на даче, в гостях у своей знакомой, Анны Максимовны, попил чайку, как все добрые люди, и поболтал о своем.
Хеся поглядела-поглядела, помигала черными ресницами и сказала:
– А я, пожалуй, ночевать здесь останусь.
И взглянула на молчаливую Наташу. Наташе было не жаль ее, но почему-то страшно показалось остаться сейчас совсем одной в этой низкой, серой комнате. И она сказала:
– Оставайтесь.
Дождик к ночи усилился, с высоких берез ветер сгонял крупные капли на крышу, и тогда они стучали по дереву странно, и глухо и гулко, словно лошадь била копытом.
От розовой дьячихиной лампадки на цепочках (дьячиха зажигала ее у Наташи каждый день) ходили по потолку лапастые тени, оконца потускли.
Хеся лежала на полу (не согласилась лечь на Наташину кровать) на какой-то подстилке, укрывшись своим пальтецом. Наташе тоже не спалось. Ветер шумел в березах, стучали копыта по деревянной крыше.
– Как я его люблю, ах, если б вы знали, как я его люблю, Наташа! – говорила Хеся полушепотом, одним вздохом. – Вы не спите, Наташа?
– Нет, не сплю.
Хеся повернулась на подстилке, и видно было, как она закинула смуглые руки за голову.
– Простите, Наташа, я сама не знаю, зачем это я говорю. Но так тяжело мне. И ничего я, ничего для него не могу сделать. Эта… девочка, к которой он меня пристроил теперь, разве он ее любит? Нет, Наташа, и она его не любит, да и никто, никто его не любит! А он и не знает, какой он несчастный!
– Хеся, вы про Юрия говорите? Ну, так я вас не понимаю. Его, напротив, все любят, и, право, он счастливее нас с вами.
– Какая жизнь, Бог мой, какая жизнь! – продолжала шептать Хеся, не слушая. – У него матери не было, он матери не знал, Наташа. Я его, должно быть, за несчастие и полюбила. Матерью, сестрой родной хотела бы ему стать, вот бы чем! Разве я для себя?
Помолчала и снова:
– Я одно время, Наташа, думала, что вас он полюбит. И вы… вы бы поняли. Я так радовалась. Но ведь нету этого?
– Нет, – сказала Наташа медленно. – Нет. Да разве его…
Она хотела сказать: разве можно Юрия любить? Но не сказала, поправилась:
– Разве нужно его любить? Если для него, то ему никакой такой любви, о которой вы говорите, не нужно. У него своя мудрость, Хеся. Вы его не знаете. А я недавно вдумалась в то, что он говорит, и право… разве только позавидовать ему можно.
Хеся приподнялась в тоске и села.
– Ах, Наташа! Не надо этого! Не надо! Он сам себя не понимает, и вы его не понимаете, и никто, одна я, потому что люблю! Я сказать не умею. Вы вот завидуете его счастью; что же, вы его «мудрость» приняли, что ли? Вот вы из прежнего уходите, так хотите разве быть, как он?
– Нет… я хотела бы… но не могу, – с усилием сказала Наташа. – Я уж устала, измучилась, состарилась, отравлена… Но я бы хотела.
Хеся примолкла; не умела ответить; а Наташа думала, думала со злобой о том, что, действительно, она уже разбита и отравлена и ничего из ее новой жизни не будет. Разве она сумеет быть веселой для себя, просто веселой оттого, что живет? Разве сумеет легко влюбиться в первого, кто понравится, и потом забыть его, отвернувшись, искать игры и невинной пены дня? Одно это осталось, потому что прежнее обмануло; но на это сил так же нет, как и на прежнее.
«В самом деле, цветы, что ли, я по фарфору буду рисовать?» – вспомнила она и злобно усмехнулась над собой. Повернулась опять к Хесе.
– Хеся, скажите мне. Все равно, так уж случилось, что мы начистоту говорим. Скажите, отчего вы… не уходите из дела? Юрий ушел, вы бы все-таки ближе к нему могли быть, если бы тоже… Узнали бы его лучше… Может, он прав?..
– Нет, Наташа, – тихонько сказала Хеся. – Я уйти никак не могу. Как я уйду? Не умею выразить, но чувствую, что тогда и любить мне Юрия будет нечем. Не могу я все равно без идеи жить, – прибавила она жалостно и наивно. – Он в своем, он не думает, – так неужели я откажусь… не буду жить… и за него, и за себя?..
– Вы странная, странная… И глупая… Упрямая… – рассердилась Наташа. – Все это пустое. Самообман. Душе-спасение, если хотите. Не могу жить «без идеи»! Скажите! А если идея-то гораздо лучше будет жить без вас? Тогда как? Идея должна двигаться, менять форму, должна крылья новые растить, а вы, может, ей только мешаете?
Хеся ничего не поняла, испугалась за Наташу.
– Я не знаю, о чем вы… – прошептала она. – Я не про то говорила. Да зачем нам об этом? Вы не сердитесь, ну, будем спать.
Молчание. Вдруг из темноты опять зашелестел было голос Хеси:
– Михаил…
– Молчите о Михаиле! Молчите! Наташа чуть совсем не вскочила с постели.
– Ни слова о Михаиле! И я не знаю, что с ним будет, и вы не можете понять, где он теперь и чего хочет! Личиками еще мы с вами для этого не вышли, да и не надо! Но судить впустую я тоже не хочу. И не позволю.
Хеся совсем затихла, даже дыхания ее не было слышно.
– Ну, спите, Хеся, ничего, – мягче сказала Наташа, опомнившись. – Ведь это не обида. Так… Я зла, очень зла. Оттого, что и я, может быть… тоже очень несчастна. Я никого не люблю и, кажется, не могу уж никого любить. Не знаю, нужно ли даже любить. Я – как Юрий… только в том и разница, что все ему дает радость, а мне все – страдание… Прощайте же, Хеся, спокойной ночи. Простите меня.
Она отвернулась и закрылась с головой одеялом, пряча глаза от лапчатых теней лампадки. Шумели березы. Деревянно и гулко стучали по крыше копыта дождя.
Глава двадцать третья Троебратство
В чайной на барке, где всякого люда бывает довольно и всякие разговоры ведутся, Михаил опять сидел со своим новым знакомцем – Лавром Иванычем. Это уже в третий раз они виделись.
Тогда, после собрания, Лавр Иваныч подождал Михаила на тротуаре, сразу с ним заговорил, потом они походили по улицам часа полтора. И стали встречаться. Михаилу понравились острые глаза, говор и то, о чем заводил беседы новый знакомец. Несмотря на привычку обязательного недоверия, Михаил не мог отнестись к нему с подозрением: видно было, что это человек совсем из другого какого-то мира, неизвестного, занят чем-то своим, занят Михаилом потому, что «о мыслях его любопытствует», а больше ничего.
Жизнь Михаила так сложилась, что он почти отвык от людей. Давно уже знал немногих и все одинаковых; разговоры между этими одинаковыми тоже были почти всегда одинаковые. И от Лавра Иваныча дохнуло на него если и не свежим воздухом, то во всяком случае другим, незнакомым.
Михаил уже знал, что Лавр Иваныч не «сектант» (как сначала подумалось), а бывший старовер. «После пошел в единоверие, ну, и это как-то у меня не вышло, – признавался он. – Ныне, можно сказать, ни там, ни здесь, прямо нигде, все книжки почитываю, мир пытаю». Он и в самом деле был очень серьезно начитан. «Времени много, торговля налажена, идет себе потихоньку, а человек я одинокий».
Михаил в этот вечер был пасмурен. Раздражал граммофон, раздражали и двое парней за соседним столиком, пьяных, которые, однако, говорили о «божественном». Старые мысли о себе раздражали, наянливые. «Что ж, думалось, и я, как Лавр Иваныч: ни там, ни здесь, прямо нигде».
– А вот еще желал я вас нынче спросить, – сказал Лавр Иваныч, – знаете вы тут троебратство одно?
– Троебратство? Нет, я ведь никого не знаю. Это что же, секта какая-нибудь?
– Нет, зачем? Так мы между знакомыми называем. Я нынче туда побывать хочу, в гости, так вместе, если угодно, поехали бы.
Михаил насупился.
– Я не могу ехать неизвестно к кому. Да и зачем мне?
– Отчего же? Вот мы с вами побеседовали, сдружились. Их бы поглядели тоже, коли не знаете. Это старец один, потом племянник его, хроменький, ну, и мастеровой еще с ними живет.
– Старец? Как же вы говорите – не секта? Учитель, что ли, ихний?
– Нисколько не учитель. Старец – я сказал в том смысле, что уж почтенных лет человек…
К великому изумлению Михаила, Лавр Иваныч объяснил, что «старец» – профессор и фамилия его Саватов.
– Как, тот самый Саватов, известный?
– Да, он многим известен. Теперь уж он лекции только на одних женских частных курсах читает. Неприятности у него в свое время бывали. Да он такой еще бодрый.
– А племянник?
– Племянник здоровья слабого. Он археологией, что ли, занимается.
– Я не понимаю, о каком же вы троебратстве? И при чем тут мастеровой?
– А они втроем живут, вместе и как бы в одних мыслях. Ничего, в согласии живут. И Сергей Сергеевич мастеровой этот, ихний же. Сергей-то Сергеевич семейный, да жена не захотела, не согласна, что ли, в чем-то, ну, так она отдельно живет с детьми, в гости друг к другу ходят.
– Странно! – сказал Михаил. – Какие же у них мысли? Право, на секту похоже.
– Мысли обыкновенные, разные, я к тому сказал, что они у них согласные. Вы сами спросите, коли поедете. Гостям там всегда рады. Между прочим, иные их еще «временщиками» зовут, ну, да это так: потому что у них свое мнение о временах.
– О временах?
– Да, насчет истории. Что всякое время свою правду оправдывает и нужно прежде всего времена узнавать, ну, и так далее.
– Пожалуй, поедемте, – сказал Михаил, вставая. – Я что-то вас не понимаю, но, если это Саватов, я могу поехать на часок. Куда ни шло. Только как же вы повезете незнакомого? Ведь и вы меня не знаете.
– Это что! – улыбнулся Лавр Иваныч, махнув рукой, и они отправились.
Дорогой, пока ехали в трамвае, Михаил старался припомнить все, что когда-нибудь слышал о Саватове. Но ничего определенного не вспомнил. Говорили о нем просто, как об «известном ученом»; когда-то он «пострадал», но это было давно и, главное, все вне тех интересов, которыми последние годы жил Михаил.
Идя по узкому переулку рядом с Лавром Иванычем, у самого дома Саватова Михаил вдруг вспомнил, что он одет нынче рабочим, в синей рубашке и в картузе. Стало стеснительно почему-то и кстати пришло в голову, что же о нем Лавр Иваныч думает?
– Я… в таком костюме сегодня…
– Это ничего, ничего, – ободрил его Лавр Иваныч. – Они и так узнают, какого вы звания человек.
Михаилу стало совсем не по себе.
– Что такое узнают? Что им знать? Да куда вы меня ведете?
Лавр Иваныч удивился. Поглядел остро.
– Экий какой у вас дух неспокойный, Господи Боже! – сказал он с грустным упреком. – Страха человечьего бояться – с человеками не знаться. Да вот уж мы и пришли.
Маленькая чистая квартирка в деревянном доме. В длинной столовой – накрыт чай. Дверь гостям отпер коренастый человек в такой же синей рубашке, как у Михаила. Провел их в столовую, сам сел за самовар.
Худенький старичок с подстриженной белой бородкой поднялся с кресла. Михаил заметил, что кресло было старинное, красивое. Тут же, у стола, сидел за книгой третий человек, рыжеватый, с бледными щеками и очень веселыми, темными глазами.
– Ага, здравствуйте, – сказал старик живо, подавая руку Михаилу. – Вы с Лавр Иванычем? Вас, Лавр Иваныч, я как будто давно не видал.
Лавр Иваныч отер бородку ситцевым платком и сел.
– Давно-с, давно. Зачитался я. Людей позабыл. Ну, как вы?
– Да ничего, помаленьку, – ответил человек в синей рубахе, Сергей Сергеевич. – У меня сынишка болен был на этой неделе, чуть не помер.
Рыжеватый весело улыбнулся.
– Отходили, теперь ничего, – сказал он.
Разговор завязался. Лавр Иваныч стал рассказывать о собрании, о речи Юрия Двоекурова и стал опять волноваться. Рассказал очень связно и понятно.
– Ну, не чертова ли кукла? – закончил он сердито. – Ну, статочное ли дело?
Саватов улыбался.
– Браниться-то не для чего, не для чего. Ведь никого не вразумили? А впрочем – что ж? И побраниться иной раз хорошо. – Подумал, прибавил: – Я этого студента знаю. Хорошо. И давно. Красивенький. Не очень интересный, а неприятный.
– Вот вы как, осуждаете! – сказал Михаил, все время молчавший. – И это неверно: Двоекуров именно приятный.
– Я не в осуждение сейчас сказал, хотя почему нельзя осудить? Студент, если хотите, не неприятный, а страшный.
– Почему это?
– Да потому, что он не интересен, а кажется интересным. Его, может быть, вовсе нет, а кажется, что он есть.
– Этой мистики я не понимаю! – резко сказал Михаил. Рыжеватый племянник взглянул на него удивленно.
– Отчего вы сердитесь?
Они все трое глядели на него с удивленной ласковостью.
Михаил смутился, но вдруг вспыхнул.
– Оттого, что я не понимаю ни себя, ни вас! Для чего я к вам пришел? Точно у меня так много времени! И что вы все такое? Почему у вас троебратство, что за чепуха?
Старичок Саватов, глядя на него, тоже рассердился.
– Достаточно у вас времени, не торопитесь! Почему чепуха? Называйте как хотите, хоть пустогоном, от слова не станется. А почему нам не жить вместе, если мы этого хотим и нам это нравится?
Действительно, почему не жить? Михаил не знал.
– Если друг другу в глаза посмотреть, – сказал Сергей Сергеевич, – да увидишь там согласное, так уж захочешь вместе жить, да!
Племянник засмеялся.
– Сережа запроповедовал!
– Нет, какая проповедь! – начал торопливо Михаил. – Раз уж я здесь, то мне, действительно, хотелось бы понять, что вы за люди, какие это такие у вас «согласные мысли», что вас связывает и что вы делаете вместе?
– Сколько вопросов сразу! – засмеялся Саватов. – Мы люди самые обыкновенные. Мысли тоже у нас обычные, в некоторых самых главных мы действительно согласны. Это нас и связывает. А делаем мы вместе… очень мало делаем. Вот это беда! Очень мало.
– Куда нам! – грустно сказал племянник. – Мы книжные, мы тряпки. Живем – и все.
Сергей Сергеевич вздохнул.
– Что ж! Я бы поделал. Да не выкрутиться. Пристать не к кому. Свое заводить – некогда.
– Вот вы бы свое завели, – вдруг сказал Саватов, пристально глядя на Михаила.
Племянник кивнул головой.
– Да, он непристанный. Ему бы хорошо свое. Рано?
– Что такое свое? Что рано? – опять рассердился Михаил. – Загадки какие-то! Ничего не понимаю.
Саватов поднялся.
– Пойдемте-ка, друзья, в кабинет. Там сидеть лучше. Поговорим попросту. Да не сердитесь вы, – кивнул он Михаилу, – мы сами сердитые, и между собой-то бранимся, а тут вы еще! У нас никаких секретов нету, вы простых самых вещей не понимаете!
Идя сзади, Сергей Сергеевич бурчал:
– В чужие-то глаза глядя, мы наметались людей признавать. Сейчас же уж и маячит. Привычка!
Давно ушел Лавр Иваныч, к полночи приближалось, а Михаил все еще сидел в тесном, мягком кабинете Савато-ва, уставленном книгами. Хроменький племянник умостился в кресле. Сергей Сергеевич на подоконнике – он курил толстые папиросы.
Говорили все, говорили о простых вещах, и так, будто и хозяева, и гость давным-давно друг друга знают. Случилось это незаметно. Михаил перестал недоумевать, зачем они живут вместе и зачем он к ним пришел.
Лавр Иваныч ему больше нравился; Саватов же казался похожим на старую, беспокойную птицу; рыженького он жалел за хромоту; но с ним и с Сергеем Сергеевичем говорить было свободнее, чем с Лавром Иванычем, который все гнул на возвышенное.
– Я сам был партийным человеком, – рокотал Сергей Сергеевич с подоконника– Это дело хорошее. Ну, однако, приходит такой момент, что сколько слов одинаких ни говори, а настоящего согласия не получается. Тут ведь не такое какое-нибудь «товарищество» деловое, торговое, тут весь человек требуется. А партия – она на мнениях. Скажете – и на делах. Да ведь на каких? И по делам ничего не узнаете в человеке, если захочет он от вас скрыться.
– Как ты путано говоришь, – перебил Саватов. – Но, конечно, теперь слово «партия» должно больше обозначать, и чтобы крепко было, как прежде, нужно бы друг друга знать куда полнее. Основы глубже подводить.
– Не могут же триста человек так знать друг друга, как трое? – сказал Михаил.
– Отчего? Могут! Откуда взглянуть на человека. С одним два слова сказать, с другим чаю напиться, с третьим помолчать вместе важно. Вы не смейтесь, голубчик, я совершенно серьезно это говорю.
– Не думаю смеяться. Если у вас есть секрет, как узнавать людей, научите!
– Какой секрет! Да не бойтесь, сами научитесь, все придет. Не обойтись. Ширится человек – ну и надо на него повнимательней смотреть, не протокольно: где родился да когда скрывался, какой у тебя послужной список.
– Идеалисты вы… – усмехнулся Михаил и прошел по комнате.
– Мы книжные, – вздохнул хроменький, – это правда. Поздно уж самим в жизнь опять бросаться. Но идеализмом я эту нужду в более серьезном и широком сближении людей не считаю.
– Нужда великая! – проговорил Сергей Сергеевич. – И что ж! Я-то пошел бы еще, поработал бы с хорошими людьми. Вот к вам бы пошел, – прибавил он, глядя на Михаила. – Люди есть. Небось и у вас есть, да не знаете вы их.
Михаил опомнился на минуту. О чем они говорят?
– Есть, есть люди, – подхватил Саватов. – Люди всегда есть. Хотя бы учениц моих взять, курсисток, – сколько их у нас бывает! Я это говорю для примера. Во скольких великолепный огонь горит! Двадцать пять лет тому назад она бы Перовской, Верой Фигнер очутилась, а теперь уж ей этого мало; у нее душа-то шире; надо идти, – а некуда, не к кому. И бросится скорее, не знаю куда, в Троице-Сергиевскую лавру пешком пойдет, вконец и себя, и огонь свой погубит, а в Веры Фигнер не пойдет. Хоть и святое место, да уж прошлое, остыло оно. Нынешние хорошие люди там не помещаются.
– Значит, на прежних-то людях крест поставить?
– Ну, какой крест! Человек во времени всякий меняется.
Хроменький вышел, ковыляя, принес бутылку белого вина и четыре стакана.
– Экий ты какой, – сказал Сергей Сергеевич и посмотрел на него нежно. – Сказал бы, я бы сам принес.
А Саватов опять к Михаилу:
– На вашем месте вам перегодить хорошо. Осмотреться. Что ж так бежать, по инерции.
– Уйти, что ли? Как? Различно уходят. Юрий Двоекуров ушел… просто надоело. Сестра моя ушла… или уходит – руки опустились. Да что об этом говорить: нельзя мне уйти. Некогда осматриваться.
И он опять рассердился на себя.
– О чем мы говорим? И с какой стати?
– О вас говорим, – сказал хроменький. – Право, не торопитесь. Будет вернее. Как же не оглядеться? Времена уж двинулись, и у самого-то у вас, должно быть, требований прибавилось.
– Нет, что мы намеками да намеками, – произнес Михаил взволнованно и сел. – Я вижу, вы кое-что знаете, но мало, как все со стороны. Я верю, что вы друзья (вот, толкую с вами!). Но и вы мне поверьте: не могу я уйти теперь, именно теперь, именно я! Не могу. Все равно, что там во мне ни делается, это все равно. Это я должен в карман спрятать, как будто и нет ничего, и не ради же себя! А ради тех, которые не переменились, не выросли, но и не изменили! Куда же я их-то деваю? Расшаркнуться, до приятного свиданья, я по-своему буду делать, у меня, мол, кругозор расширился, вам за мной не угнаться? А как они это поймут? И они не виноваты, что поймут, как предательство. Ведь я не их мнения о себе боюсь, я действительно боюсь предать их, бросить, непонимающих, разбитых, на тяжком повороте дороги. Шли-то вместе? Не могу я их тут оставить, ведь это даже не перед одними живыми будет измена, но и перед мертвыми!
– А если дело требует? – крикнул на всю комнату Сергей Сергеевич. – Небось думка-то уж есть, не отвертитесь, что на старых дрожжах, в старой корчаге тесто замешивать, – старые хлеба взойдут? Есть думка? И взойдут. Тогда как?
– Пусть, – дерзко сказал Михаил. – И я не дорого стою. Куда мне! Высоко не залечу, все равно. Меня к земле тянет. Лучше со своими солдатами помереть, чем улепетнуть, чтобы свежий полк набирать. Где мне? Пусть уж свежие, как знают.
Наступило молчание.
– Впрочем, что ж? – сказал Михаил тише и поднял голову. – Я скрывать не стану, мне и без вас об этом обо всем думается. Оттого, может, и разговорился тут… Вперед лбом я теперь и хотел бы, так не мог бы уж сунуться. Я жду, жду, пока есть малейшая возможность. Совсем в потемках нельзя. А потемки я вижу. Надо ждать. Вы мне верите?
– Верим, – сказали Саватов и хроменький. А Сергей Сергеевич прибавил:
– Трудно это, на точке долго удерживаться. Ну, может, надо еще. Много чего нынче в потемках вьется. Кабы глаза кошачьи, так рассмотреть можно.
Михаил вдруг поднялся порывисто.
– Ну, прощайте. Поздно. Я пойду. Спасибо вам… Не знаю, за что, а спасибо. Сергей Сергеевич, правда: нет у нас кошачьих глаз, и даже человечьих нет, чтобы человека видеть, как надо. В этом и беда вся.
Хроменький улыбался ему весело.
– Будут, будут глаза. Это все будет, не бойтесь. Покато держитесь крепче. В свое, что есть в вас хорошее, верьте.
– Мало хорошего! – печально усмехнулся Михаил, и тут же, словно за нитку кто перед ним продернул, увидал он свои дни и себя в них, то самоуверенным, то бессильно злым, то порывисто-самоотверженным, то мальчишески-дерзким, часто пошлым, часто холодным, но всегда, тупо ли, остро ли, страдающим.
– Что ж, я привык… один, – пробормотал он, отвечая на какую-то свою неясную мысль. Все пошли провожать его в переднюю.
– Нет, одному нехорошо, – сказал Сергей Сергеевич. – И привыкать не к чему. Одному – это уж нехорошо.
Хроменький предложил:
– Может, ночевать останетесь? У нас в квартире никого. Прислуги не держим. Приходит утром старуха…
– Нет, нет, спасибо, я пойду, – отказался Михаил. – Спасибо вам.
– Зайдете еще когда?
– Вряд ли… теперь. Вряд ли увидимся.
– Увидимся, – с уверенностью сказал Сергей Сергеевич. – Не теперь, так после. Я бы с вами пошел бы еще, поработал, право! Старые-то дела да на новых дрожжах ух как взошли бы!
Михаил только вздохнул.
– Прощайте. Мне вот одно жаль: говорил столько о себе… А об вас ничего толком не знаю. Порассказали бы, что вы, как так живете.
Друзья рассмеялись.
– Да что ж тут рассказывать? – удивился хроменький. – Каких видите, такие и есть. А о чем думаем, живя, – это мы и друг другу не все успеваем рассказывать. Ваше же дело спешное.
Сергей Сергеевич подумал-подумал, поставил свечку на подоконник и поцеловал Михаила.
– Ну, простите. До свиданья, до будущего. Пошли вам… Старик Саватов, когда Михаил уже взялся за ручку двери, окликнул его:
– А я вам не говорил, как я этого студента знаю, Двоекурова? Я ведь у графини бываю, у старухи. Редко, но бываю. Древнее у нас, древнее знакомство. Графиня – особа ясная, жесткая, но она с неожиданностями. А девочка, внучка, приятельница моя, очень она хорошая. Глаза такие молчаливые.
– Вы ее видаете? – быстро спросил Михаил. – Да, хорошая девушка, я знаю.
– Вот еще что, милый: если бы вам что понадобилось… мало ли что, может же случиться… если прислать кого… или известить кого… Ну так прямо сюда, на имя племянника. Орест Федорович Ден. Это я на всякий случай.
Орест закивал головой, улыбаясь:
– Да, да, на всякий случай.
Глава двадцать четвертая Черные улыбки
Когда старая графиня узнала, что Саша Левкович ранен и лежит в больнице, то сжала сердито губы, помахала в лицо батистовым платком и произнесла многозначительно:
– Rien de plus naturel![15] Несчастный глупый мальчик! Я этого и ожидала. Стоит раз увидать эту… на ком он имел глупость жениться…
Юрий, который докладывал графине о происшествии (очень кратко, в общих чертах, просто, что Саша неопасно ранен и случилось это у него, Юрия), удивился. Невольно подумал, что старуха не лишена проницательности.
– И что за манера! – продолжала графиня. – Ездить по чужим квартирам! Мог бы и дома делать свои глупости.
Помолчала сердито и прибавила:
– Таких женщин, как его жена, надо уметь воспитывать. Нужно уметь на них руку положить, – перевела она с французского. – А не умеешь – так не женись! Не женись!
Юрий весело улыбнулся. Решительно графиня рассуждала с толком.
– Vous avez raison, madam[16], – сказал он почтительно и лукаво. – Сашиной жене не хватало воспитания. Но, слава Богу, тяжелый урок не прошел для нее даром. Она очень потрясена. Дни и ночи проводит в больнице, около мужа. Будем надеяться на лучшее.
– Что ж? Прекрасно. Если она исправилась, прекрасно. Я только говорю, что и ему надо бы исправиться. А от глупости трудно исправление, вы это знаете.
Юруля опять мысленно похвалил графиню. Сам он не унывал, так как в отношении Мурочки надеялся на себя, а не на Сашу. У таких Мурочек память крепка на уроки.
В первый раз Юрий навестил Левковича в больнице, когда пуля была уже вынута и раненый поправлялся.
Он полулежал на высоких подушках, желтый, с отвисшими усами, но чистенько выбритый и с беспомощным, радостным лицом. Мурочка сидела у постели в кресле, розовая, хорошенькая и серьезная.
Увидав Юрия, больной зашевелился, и лицо у него стало еще беспомощнее.
– Прости… прости… – шептал он, ловя здоровой рукой руку Юрия. – Прости меня… за беспокойство, – прибавил он, оглянувшись на Муру. – За всю тревогу, за все, что я…
– Ну, полно, полно, – весело перебил Юрий, – пустяки, слава Богу, дело прошлое.
– И поверь мне, Юруля, я…
– Верю, фу, какой ты скучный! Все к лучшему, а он опять начинает.
Мура нежно приникла к мужу.
– Саничка, тебе вредно волноваться. И говорить много вредно. А то Юрий уйдет.
Больной робко, счастливо поглядел на Юрия, потом на Мурочку и замолк.
Стала говорить Мура. Сообщила, что у них план: только что позволят доктора, они поедут за границу. Саша возьмет долгосрочный отпуск.
Юрий одобрил план.
– Отлично, поезжайте! Может, и я вас там навещу. Он не собирался за границу, сказал это для Мурочки.
Она вся расцвела, кивала головой и глядела так, будто хотела сказать: «Ты не беспокойся, я помню и понимаю, видишь сам, я умница».
Выходя из лечебницы, Юрий облегченно вздохнул. «Фу, наконец-то! Тут пока налажено. Отпустили душу на покаяние».
Шел пешком, по длинной, горячей линии Острова, к Неве. Стояла жара. Внезапно свалилась откуда-то, должно быть с полиловевшего неба, и стала недвижно на петербургских улицах, стала над бледной рекой. Разгорелись решетки каналов и еще прозрачных садов, разогрелся булыжник, томно и скучно запахло пылью; а на набережной от деревянных торцов понесло дегтем, тающей черной смолой.
Во внезапной и настойчивой петербургской жаре – безнадежность, как и в дожде: лиловеет небо, сереет незакатное солнце, потеют торцы черным потом, и точно никогда не кончатся эти неподвижные, безликие, пыльные дни.
И Юрию стало скучно. Захватила, утомила небодрая жара. Показалось время ползучим, дома и люди маленькими, линялыми. Круглое небо теснило. Чудилось что-то, чему нет слов. Чудилось, что сквозь фиолетовую небесную воздушность проступают злые черные улыбки, темные пятна, словно томился воздух под напирающим на него совнс бессветным и безгранным пространством.
Стало уже не скучно, а странно-жутко, неуютно и холодно, несмотря на жару.
Юрий остановился над Невой, тупо глядел на воду, на какой-то пароход, на барки, на мужиков, таскающих тес.
Все было, как и раньше было. Однако небо продолжало казаться ему чернеющим, точно во время затмения, с железными отблесками. Мир мерк, притворялся, что хочет закатиться. Издевательски улыбалась над миром медленная, внешняя чернота.
– Да я просто нездоров! – вслух прикрикнул на себя Юрий, стараясь освободиться из-под нежданного дневного кошмара. И двинулся быстро вперед.
«Какой вздор. Как нервы утомились. Надо на Фонтанку, к графине, запрусь и лягу. И буду лежать один, спать до завтрашнего утра. Этакие пустяки».
Ему сделалось легче. На Фонтанке, действительно, заперся, лежал, потом крепко, без снов, спал.
Глава двадцать пятая Детская затея
Утром от кошмара, от нездоровья осталась только неприятная память. И Юрий решил пожить на Фонтанке дня три, никуда не выходя. Потом он опять отправится на Васильевский. Уехать скоро не рассчитывал, были еще дела с университетом, и он думал об экзаменах почти весело. Даже хотелось не трудной, обязательной работы.
Как-то утром, часов в десять, Юрий шел из столовой к себе. Проходя по коридору, он услышал из классной знакомый голос.
Удивился. Неужели эти уроки Михаила с Литтой все еще продолжаются? Он и забыл о них. Да и о Михаиле совсем не вспоминал последнее время.
Юрию было легко и весело. Свежевымытый китель приятно холодил его. В квартире графини, впрочем, жара не чувствовалась, даже веяло пофебом, и это было отрадно.
Классная, куда заглянул на голоса Юрий, – душнее; там солнце; но белые занавески спущены и чуть вздрагивают от движения воздуха.
– Здравствуй, – сказал Юрий приветливо. – Давно не встречались. А вы тут как будто спорите?
– Нет, так, – сказал Михаил, здороваясь.
Литта молча поглядела на брата и опустила глаза. Юрий давно приметил, что она молчит, к нему в комнату не ходит. «Дуется сестренка», – усмехнулся он как-то про себя и больше уж этим не занимался.
Литта казалась изменившейся, выросшей. И выраженье лица у нее другое – может быть, оттого, что волосы она стала подбирать, как взрослая. Если спрашивали, сколько ей лет, – она очень серьезно отвечала: «Скоро осьмнадцатый».
– Ты не досадовал тогда на мое возраженье? – сказал Михаил, чтобы сказать что-нибудь.
– Что ты! Очень радовался. Ведь это же игра. А теперь я, признаться, уже и забыл о знаменитом сборище.
– Напрасно! – взволновалась вдруг Литта. – У тебя все игра!
Юрий засмеялся.
– Сердитая стала у меня сестренка! Тебе завидно, что ли? Вот в Царское поедешь – в лаун-теннис будешь играть.
Литта вспыхнула.
– Ненавижу я это Царское! Комедия там жить! Я лучше в деревню к тете Кате поехала бы, если уж нельзя в Красный Домик.
– Да, я сам Красный Домик люблю, – сказал Юрий серьезно. – Он старый, но я попробую нынче летом пожить там один недели две. Внизу велю окна отколотить. Глухо там, хорошо.
– Это в Финляндии? – спросил Михаил. И прибавил с усмешкой, остановив на Юрии тяжелый взор синих глаз: – Да разве ты можешь прожить две недели один в глуши?
– Еще бы! Это ведь тоже радость; в одиночестве, порою, так же весело бывает, как и с людьми. Ни от чего я не отказываюсь, что радость дает.
– Нет, я думал… – начал Михаил и замолк. Юрий поднялся.
– Ну, прощайте, дети мои. Ужасно вы скучные. Право, Михаил, всякий раз я тебя сызнова жалею, когда вижу. Ты мне нравишься; развеселить бы тебя – да я не умею.
Одни – Литта и Михаил – несколько времени молчали. Каждый, верно, думал свое.
– А мне его, его жалко! – сказала Литта. – Да, впрочем, всех жалко. Ах, как жалко! – Она всплеснула руками и вдруг заплакала.
Михаил поглядел на нее сбоку и тихо произнес:
– Ну, что это. Не люблю, когда плачут. Самому сейчас же хочется.
И он улыбнулся из-под нахмуренных бровей. Литта уже не плакала.
– Михаил Филиппыч, я только одно хотела… Да я не умею, как сказать. Вы, может, думаете, что Юруля нехороший человек, но это неправда! Он даже добрый… Зла никому нарочно не сделает… Только он странный, говорит при всех, чего нельзя говорить… Ну, я не знаю, я с ним не согласна, и сержусь, а все-таки я его не могу не любить.
– Да нет, – задумчиво сказал Михаил и встал. – Он вовсе не дурной человек, как же не видеть? Он ведь ничего не скрывает. Отчего вы подумали, что я его считаю дурным?
– Так… – Литта опустила глаза. – А мне бы не хотелось. Потому что он, право… только странный. Разве он виноват? – Прибавила поспешно: – Вы уходите?
– Да. Я еще приду во вторник. Вероятно. А уж больше не приду.
– Помню. Вы говорили, – бодро сказала Литта. – Наташу мне хотелось еще увидеть. Но если она уехала, – так пускай, не хочу и видеть ее.
– Какая вы строгая!
– Вы хотите сказать, что я ничего не понимаю? Что я девочка? Что ж, это правда. Я мало знаю, мало понимаю, а если молода, так ведь, в сущности, это хорошо. Много времени впереди.
– Тратить, значит, не жалея? – пошутил Михаил.
– Нет, нет, именно жалея тратить. Чтобы на многое хватило. Я расчетливая. И упрямая, – прибавила она совсем серьезно, по-взрослому. – Я ведь и вас сужу, насколько поняла. Хоть бы пришлось вас больше никогда не увидать, я все равно сама пойду, по-своему, к своему.
Михаил ничего не ответил, крепко пожал ей руку. У дверей обернулся и спросил:
– А скажите, Юлитта Николаевна… Вы знаете Саватова? Профессора Саватова?
– Дидусю? – весело вскрикнула Литта. – А то как же! Он у бабушки всегда бывал. Теперь давно что-то не был. Его Дидим зовут, Дидим Иваныч, он старенький, я его и прозвала Дидусей. Ах… А вы почему спросили? – спохватилась она.
– Я познакомился с ним… с ними. Случайно, они меня совсем не знают.
– Они? Да, и Ореста я знаю. Сергея Сергеевича нет. Понравились вам?
– Очень.
– Вот, вот. Дидуся со мной по-настоящему только один раз говорил. И так просто, совсем как с большой. Уважаю я их всех.
– Не совсем понятно… – сказал раздумчиво Михаил. – Они религиозные люди, что ли? Бога общего ищут?
– Бога? – удивилась Литта. – Чего же Его искать? Ведь Бог же тут же… для них. Конечно, общий.
Они глядели друг на друга молча и оба почувствовали, что слова у них еще разные и договориться в чем-то они все равно сейчас не могут. Литте показалось, что это она ничего не знает, она – маленькая и глупая. А Михаил думал, как грубы, плоски, бессильны его слова, чуть он касается одной великой, неизвестной и непривычной ему части души человеческой. Отчего?
Он заторопился.
– Так до вторника.
– Да. Хорошо, что вы с Дидусей… Он приедет. Они с бабушкой очень спорят, но бабушка его так уважает. Даже странно! До свиданья, до вторника.
Подумавши, она вдруг сказала, как бы про себя:
– Этот Орест такой бедный… У него брата убили.
– Кто убил? Когда?
– Давно уж. Я не знаю подробно, мне тогда не рассказывали, но что-то было очень страшное. Я потом вспоминала, думала… На заводе его убили. С того времени и Сергей Сергеевич с ними живет. В Ново-Колымске был завод, громадный, Оресту и брату его, инженеру, вместе, дядя завещал. Как дядя умер, тут вскоре все и случилось.
– В Ново-Колымске? Послушайте, расскажите мне… В памяти Михаила вдруг вспыхнуло что-то знакомое, какое-то странное, интересное дело, о котором он слышал, но не вдумался, а потом забыл: не касалось оно близко того круга людей и мыслей, где он жил.
– Что же я расскажу? – беспомощно начала Литта. – Я мало знаю. Их было два брата: Орест и Виктор. Орест жил с Дидусей, а Виктор у другого дяди, заводчика, очень богатого. Кончил инженером и был у дяди, на заводе этом, главноуправляющим. Потом дядя умер и оставил завод и деньги все – обоим братьям. Виктор вдруг приехал сюда, с Орестом они сговорились и вместе на завод отправились.
Потом и Дидуся был с ними. Стали предлагать новые порядки. И вышло, что рабочие Виктора убили. После завод закрылся.
– Постойте, Юлитта Николаевна! Какие же новые порядки?
– Не знаю. Хорошие. Все по-новому, по-своему. Говорят, что этого все равно нельзя было завести, что не позволили бы. И вообще нельзя… если на других заводах не так. Ну, а тут этот случай ужасный.
– Они все хотели самим рабочим отдать? – сказал Михаил, вспоминая.
– Да, да, кажется, так! Конечно. Чтобы рабочие между собой сговорились, выбрали тех, кому доверяют, плату бы сами себе назначили и Виктору, какое хотят, жалованье. Даже если Виктора не хотят, то пусть другого нанимают. У Ореста должности не было на заводе – так братья согласились, чтобы Оресту ничего не получать.
– Вы говорите – давно… Это всего два года тому назад было?
– Два года, правда. Михаил Филиппыч, так ведь разве это плохо для рабочих? Ведь они всегда этого и хотят. Их только просили сговориться твердо между собою, и чтобы завод шел. Шел же он при дяде, и какие еще деньги ему давал. Рабочие жаловались, – ну, как везде, – однако шел.
– А тут стал?
– Не могли они сговориться. Отделились какие-то. И Виктора на заводском дворе ломом железным убили. Еще кричали: «Разоритель!» Прямо ужасно.
– А Орест что же? Бросил все и убежал? Литта взглянула строго.
– Зачем вы так нехорошо? Не убежал. Он бы и один тогда не бросил, да все дело пропало. Закрыли завод, а Ореста даже судить хотели. Вот, больше я ничего не знаю.
– Это не мало… – в раздумье сказал Михаил. Он так и стоял у двери, собираясь уйти. Не уходил.
– Вы сами об этом с ними поговорите, – добавила Литта. – Они расскажут. Сергей Сергеевич с завода, при нем и Виктора убили. Дидуся мне говорил, что этого забыть нельзя, что Орест очень мучается. Они хотели хорошего, а вот что вышло, сколько людей попропадало. Да… Я пока рассказывала вам – сама все лучше вспомнила и поняла. Дидуся верно говорит: это хорошо, так надо, только еще нельзя, после. Они, конечно, виноваты. Сами теперь видят, что сначала надо, чтобы много еще чего случилось… а тогда уж и это.
Михаил шел по жаркой, темной Фонтанке и думал. Сквозь полудетские слова Литты и сквозь свои собственные воспоминания он глядел на то, что было в действительности, многое угадывалось; и, благодаря этому наивному и страшному делу – новые друзья становились ему все понятнее. Понятнее и ближе. Раньше он только верил, что это друзья, а теперь знал, что и не могут они не быть друзьями. Мысли их – как бы они широко ни шли – близкие мысли. Вот одну Михаил уже видит ясно. Не рассуждениями, а тяжким опытом, сознанием вины и болью пришли они к тому, что надо узнавать свои времена, что многое еще должно совершиться сначала, и только потом – только потом! – из хороших, тихих дел хороших людей будет выходить хорошее.
Глава двадцать шестая Молчания
Едет Юрий на узких дрожках, на славном графинином рысаке Хваленом, вдвоем с сестрой.
Они были у Левковичей, прощались: завтра Саша уезжает с Мурочкой за границу. Графиня решила, что Литте следует навестить больного родственника. Графиня все больше и больше доверяет Юрию, Литту отпускает с ним охотно.
У Саши недолго посидели. Юрий предложил еще прокатиться – и вот они едут на острова.
Литта задумчива. И у Левковичей она все молчала да с удивлением присматривалась к тихой и нежничающей Мурочке. Мерно и редко цокают копыта по мостовой Каменноостровского. Юрий разговаривает с кучером Ли-патом. Расспрашивает о Хваленом – ему нравится лошадь. Когда графиня хотела продать ее, Юрий отсоветовал.
Любовь к хорошим лошадям, к дорогим и красивым предметам у Юрия очень сильная и какая-то бескорыстная. Он нисколько не страдает от сознания, что он беден, и не занят мыслью о богатстве. Ему все равно, принадлежит ли Хваленый ему или графине. Может быть, оттого все равно, что знает: если бы захотелось денег, захотелось того или другого – деньги всегда легко даются тем, кто от них не зависит. Деньги всегда будут. Юрий не тщеславен и не жаден.
Весело. От Малой Невки несет мокрой прохладой. Еще пахнет пылью, – но уже и лягушками: всегда сырые острова близко. Сестренка такая хорошенькая под серой прозрачной шляпой. Что-то свое думает, стала спорить с ним последнее время. Пусть ее! Все-таки милая, славная сестренка. Пусть будет сама по себе…
– Юрий… – проговорила она вдруг… – Что это было? Отчего Саша… стрелялся?
Проговорила тихо, чтобы и Липат не слышал.
Юрию вдруг захотелось рассказать сестренке все про Левковича и Муру, все как было. Отчего ж не рассказать? Чувствовал он ее сейчас таким славным товарищем.
И рассказал, тихонько, почти на ухо, коротко, весело и точно.
Литта помертвела. Широко открыла глаза.
– В тебя? В тебя? Боже мой! А если бы он… От какой случайности зависело! Боже мой! Нет, я этого не понимаю…
Юрий подумал, что она чего-то не поняла в его рассказе, стал объяснять сызнова, как он вошел…
– Нет, нет. Я не то не понимаю… Но как это возможно? Из-за Мурочкиного вранья…
– Ну, разве во вранье дело… Вижу, ты еще глупенькая у меня сестренка… Чего испугалась? Все отлично обошлось. Дурочку я приструнил. Шелковая сделалась. И Саша счастлив.
– Да… да, Юра, ведь на лжи все устраивается, на лжи и на случайности! Вот чего я не могу понять. Мне противно, если так. И страшно.
– Ну, милая, – протянул Юрий. – Мало что. Такова жизнь, хочешь – бери, хочешь – не бери, твое дело. По-моему, куда умнее и человечнее было тогда отправиться к Мурочке и поучить ее, нежели тут же распустить слюни, предаться размышлениям о лжи и правде мира, да как я к этому миру отношусь. Ох уж эти твои мировые вопросы!
Литта замолкла. Что бы она возразила? Действительно, будь она на месте Юрия, она бы ничего не устроила, и к Мурочке не поехала, и Бог весть, что бы еще из этого всего вышло.
Темная, сочная зелень, мягкая дорога, на островах не людно в этот предобеденный час.
– Хочешь, пройдемся пешком до Стрелки?
Они вышли. Пошли по боковой дорожке, под деревьями. Литта взяла брата под руку. Очень они были милы вместе. Оба тонкие, крепкие, высокие, точно две елки молодые – Литта сильно выросла последнее время, – оба красивые и значительные. Черты у них схожие, но лица все-таки разные. Золотисто-карие глаза Юрия веселее и потому привлекательнее. Литта иначе складывала губы, глядела строже, была бледнее и даже казалась старше брата.
– Улитка, гляди, как славно! Брось ты думать о пустяках! Если начать бояться – и не кончишь. Мало ли что может случиться! Вдруг налетит гроза, вдруг сломит дерево, вдруг оно упадет на нас и убьет! Однако пока грозы нет и мы живы и здоровы – отчего не поглядеть вон на те барки, направо? Видишь, какой тес на солнце? Точно золотой!
Литта поглядела и улыбнулась. Правда, совсем золотой. А все-таки…
Подходили к взморью. Тут стояло несколько экипажей. Лошади перебирали ногами, вздрагивали, туповато и громко шебарша сбруей. Кое-кто ходил по Стрелке, нарядные дети бегали с собакой.
– Посмотри, кто это сидит, вон, на лавочке? – торопливо шепнула Литта. – Вон, с газетой, в пальто?
Юрий сощурил пушистые ресницы.
– Не знаю… Постой, кажется, это тот… Дидимов племянник. Куда ты? На что тебе хромулю?
В самом деле – на что? Но Литта уже устремилась к скамейке, ничего не слушая.
– Орест Федорович, здравствуйте! Вот неожиданно встретились!
Хроменький поднялся, приветливо смотрел на девушку, не узнавая.
– Я, Литта, Юлитта Двоекурова, внучка графини… Помните?
Орест улыбнулся.
– Не узнал. Я больше году вас не видел. Какая вы стали… выросли как.
– Ну, еще бы! А что Дидуся? Отчего он так давно к нам не приезжает?
Подошел Юрий и тоже поздоровался.
После нескольких слов приветствия Литта умолкла: не о чем было говорить. Они с Орестом весело и радостно глядели друг на друга, и Литте было странно: так она бежала к нему, так много чего-то у нее в душе, каких-то вопросов, рассказов, – и ни одного слова для них нет. Впрочем, это ничего. Орест смотрит, точно понимает все, о чем она молчит, точно знает, что не для пустых приветствий, а для этого молчания она и подошла к нему.
Юрий что-то сказал, они не слыхали и через минуту разошлись, оба улыбаясь, без слов.
Литта рассеянно глядела вперед и долго еще улыбалась.
Юрий заметил ее улыбку.
– Вот не знал, что ты этого хроменького помнишь. И чем он тебе нравится?
– Нравится? Да. Мне и Дидуся очень нравится, – сказала Литта и сделалась серьезной.
Юрий пожал плечами.
– Да, они ничего. Старые ребятишки. Дидусь твой лучше бы пристальнее своей наукой занимался, пока силы есть; как бы не отстать. Нет, все мудрует. Слышал я что-то о них недавно… Да уж не помню. Дети.
– Это Дидуся-то дитя?
– Конечно. Стоит на него взглянуть.
– Ну что ж, это разве плохо?
– Еще бы не плохо. Не мудри и ты, милая. Не забывай банальных истин, они самые истинные. «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел…»
– Ты все смеешься, Юрий.
– Деточка! Честное слово, я серьезно.
– Ты надо всем смеешься, Юрий.
Он остановился и удивленно посмотрел на нее.
– Тебе все игра, игра, – продолжала она, и в голосе уже явственно были слезы.
– Вот что, сестренка. Поедем-ка домой. Ты, должно быть, устала. Я три дня готов не смеяться, только чтобы ты сейчас не заплакала.
Заторопились к Липату, он их ждал у моста. Литта шла молча. Потом вздохнула и, сдерживаясь, проговорила чуть слышно, точно отвечая на свои мысли:
– Вот и Наташа… Я думала, она какая… А она вон какая! Уехала уж теперь, должно быть…
Юрий обрадовался предлогу переменить разговор, который ему надоел и расстраивал сестренку. Стал говорить о Наташе, рассказывал о ней, что приходило в голову. Вспоминал, что прежде она не такая была, а гораздо красивее. Измученное, злое лицо… Это к ней не идет.
Литта слушала внимательно. Они нашли экипаж и сели, а Юрий все еще говорил о Наташе. Ему понравилось говорить и думать о ней. Вдруг понравилось, что она уехала (вероятно, разошлась с Михаилом), и то понравилось, что она как будто умнее многих, как будто поняла те простые вещи, которые часто говорит Юрий и которых вот сестренка не понимает же.
– Она славная, Наташа, – уверяет Юрий. – Я ее, кажется, теперь лучше вижу, чем прежде. Она только больна. И хотела бы жить, как следует, всему радоваться, да не может, ей все невкусно. Больному все невкусно. Где она теперь? За границей?
– Не знаю. Должно быть.
Ехали очень быстро, горячий воздух клочьями летел в лицо, упруго подскакивали резинки, Литта придерживала край своей широкой шляпы.
– К зиме поеду за границу, найду ее там, – продолжал Юрий. – Хочется помочь ей, развеселить ей душу… И могу, пожалуй; она – умница.
«И красивая, очень красивая, когда веселая»… – думал он дальше. О Литте даже забыл, так заняла его мысль о Наташе. Нравилась Наташа.
Литта, верно, тоже забыла о спутнике. Не заметила она и дороги. Вот едут мимо крепости, скоро-скоро, только мелькнули серые, грязные стены. Вот крепость уже позади, бледно-золотится злая ее игла. Вот они уже около дома.
– Нет, – сказала вдруг громко Литта. – А я в Бога верю. В Бога.
На какие свои мысли ответила?
Юрий слышал. А может быть, не слышал. Протянул рассеянно:
– Как хочешь, милая. Как хочешь. Ну, мы приехали. Приехали. Юрий потрепал по спине фыркающего Хваленого, поговорил с Липатом и побежал наверх.
На минутку. Только зайдет к отцу и к графине. А потом домой, на Остров, заниматься. Он с охотой и много занимается, ему весело уставать.
Вспомнил, что Лизочка прислала утром какую-то глупую записку, просила нынче непременно быть, нужно, жаловалась: «Твоя портниха надоела»… Этому Юрий неприятно удивился: так, значит, Хеся до сих пор там путается? Пора бы, однако, и честь знать. Да, наверно, еще не убралась, потому что Лизочка дальше приписывала: «И Кноррище этот не ко времени шатается. Давеча пришел не то выпивши, не то уже не знаю что; все со мной сидел и о судьбе своей плакался. Между прочим, говорит: Юрию не доверяйтесь, он в вас не влюблен, а я теперь знаю, в кого он влюблен: в высокую брюнетку с голубыми глазами. И это, говорит, взаимно. У него, говорит, всегда взаимно, а я вот один такой несчастный. И пошел, и пошел. Я, конечно, на его глупости внимания не обращаю, но желала бы я знать, какая это брюнетка у вас завелась, в кого вы влюблены»…
Утром, читая наскоро эту записку, Юрий ничего не понял, да и внимания не обратил. Но, вспомнив ее теперь, вдруг что-то сообразил и засмеялся про себя.
Ну, конечно! Кнорр, прилипнув к Хесе, путается теперь постоянно и с распрекрасным Яковом. А у Якова всегда была упорная склонность воображать, что Юрий к Наташа неравнодушны друг к другу. Вот и высокая брюнетка!
Как Юрию раньше не пришло в голову: очевидно, Яков сам влюблен в Наташу! Только пикнуть об этом не смеет. Да и не посмеет.
«Тоже любовь! – презрительно усмехнулся Юрий про себя. – Гадость, злость одна паучья, если и есть, а не любовь».
Ну, к Лизочке Юрий сегодня не поедет. Черт с ней, не развалится, подождет. Сегодня домой, домой, заниматься. А для развлечения есть у него новая, веселая мечта – о Наташе. Ведь уехала, умница, от всех этих паучьих Яковов и тряпочных Кнорров. Умница. И красивая.
Понравилась Наташа.
Глава двадцать седьмая Неполученное письмо
Конверт дорогой, длинный, гладкий. Верно, барынин, со стола. В конверте сероватый листок с красной линейкой, выдранный из кухонной расходной книги. Сплошь, вкривь и вкось, листок исписан мазаными закорюльками, однако со стараньем.
«Многоуважаемый Илья Корнеич! В первых строках пишу вам это письмо, как вы сказали, что у вас хозяин строгий и что если писать письмо, то на почтамт до востребования и проставить одне буквы И. и К. А затем, что вы не ходите, то я не из-за того, потому что я ни в ком не нуждаюсь. Если вы из таких, что погулять и прощайте на все четыре стороны, то мне очень даже безразлично, а вы себе не воображайте. Вчерась и сегодня я слез не осушаю, потому что если меня заметят, так я главнее Степаниды боюсь, она охальная, и начнет страмить, и тогда с места очень просто долой. А впрочем, как был у вас разговор еще при Иван Мокеиче, при старшем дворнике, под Николин день, и разговаривали вы, что „я еще в подлецах не бывал“, то на ребенка, значит, будете выдавать, чтобы мне не страмиться. Степанида эта мне житья не дает, как меня заметит, съест. Однако я ее не боюсь, я и сама ей отвечу, я не из таковских, мне наплевать, и за кавалерами не бегаю, очень нужно. А затем в последних строках целую тебя несчетно раз, миленький дружочек Илюша, остаюсь в ожидании скорого ответа известная вам Мария Сухарева».
Вот какое было письмо. Пришло оно в почтамт тринадцатого июня, до востребования, но никто его не требовал. Юрий и забыл, что сказал Машке о строгом хозяине, о том, что письма ему пишут только до востребования. Он, должно быть, и не знал, грамотна ли Машка.
Не заходил к ней давно, это правда; последнее время не до того было, совсем вылетела Машка из головы.
Он вспомнит, он пойдет. Но все нет и нет его, а гордая Машка второго письма писать не будет. Не знает она, что и первое валяется в своем атласистом конверте праздно, ждет востребования и нет востребования.
Много чего не знает Машка. А все же чует, что если б даже совсем сгинул ее Илюшенька, все-таки он «в подлецах не был», просто себе судьба вышла тут этакая горькая.
Глава двадцать восьмая Каюк
Девять часов.
Литта заспалась после вчерашнего катанья. Устала, да и ночью все думала, думала… Странные у нее какие-то мысли.
В маленькой белой спальне темновато, хотя шторы белые. Должно быть, не солнечный день сегодня.
– Барышня, барышня!
Литта открыла глаза. У постели, – тихонько, словно ящерица, вползшая в комнату, Гликерия. Стоит, шепчет, белая наколка на боку.
– Что, поздно? Отчего ты меня не разбудила? Да что с тобой?
– Барышня, милая! Беда у нас! Давно хотела будить, не смела.
Литта вскочила с постели, в длинной ночной рубашке, босыми ногами прямо на пол.
– Ох, да что? Да что такое?
– Беда. Заарестовали его. Увезли. Барина.
– Папу?
– Что вы, барышня. Господь с вами… Молодого барина. Солнышко наше красное, Юрия Николаевича.
Гликерия тряслась, шептала и плакала. «Вот оно!» – подумала Литта, а сама не знала, что «оно» и почему «вот».
– Гликерия, толком скажи. Да разве он здесь ночевал?
– Не здесь, не здесь! С Васильевского, с той квартиры увезли. Ночью. Там покончили, да сюда, в его же кабинет. В бумагах, в книгах роются.
– Как роются? Здесь?
– С восьмого часу здесь. В передней солдат. Сряду к их превосходительству, с бумагой, что, значит, приказано обыскать у Юрия Николаевича в кабинете.
– Что ж папа?
– Да что ж, они только ручкой махнули. Ведь ничего не поделаешь. Ихнюю половину не тронули, на один-единственный кабинет Юрия Николаевича приказ, где они жительство имели. Человек их шесть народу. Господи, батюшка! Беда-то, беда!
– А почем ты знаешь, что арестовали?
– Уж знаю. Слышала. Барышня-голубушка, что ж это будет?
Литта, дрожа, хваталась то за чулки, то за рубашку, и все у нее падало из рук.
– А бабушка что?
– Не звонили еще их сиятельство. Не смеет никто доложить. В доме этакая вещь! Двое их, никак, в прихожей, у двери, сидят. Опрашивают. В девятом часу пришел тут с парадного из мебельного магазина главный, счета их сиятельству доставил. Так сейчас по телефону удостоверяются, точно ли он из магазина и к кому, не к Юрию ли Николаевичу.
– Гликерия, – сказала Литта спокойно, но побледнела так, что даже голые ножки у нее побелели. – Сегодня какой день? Вторник?
– Вторник. Барышня милая, да извольте вы одеваться. Уж десятый час.
– Десятый час?
Темный холод так и обливал Литту. Еще не разобралась, еще не поняла, как должно, этой новой своей мысли, а мысль уже ее придавила и заледенила.
Сидят у двери Юрьевой комнаты. В передней. Удостоверяются по телефону. Десятый чао. Вторник. Последний вторник.
Через полчаса придет Михаил. Придет ли? Все равно, может прийти. Придет, придет. А прийти ему нельзя.
Вот это одно: придет, а нельзя приходить, – это одно высеклось у Литты в душе глубокими буквами, и ничего другого не было.
Гликерия молча смотрела на барышню: пяти минут не прошло, Литта была одета. Скоро, но без всякой суетливости, она вынула из шкафа старенькое короткое платьице, расплела и по-прежнему, по-детски, распустила бледные, пышные волосы. Еще словами не сказала себе, что будет делать, и уже делала.
– Гликерия, слушай. Ты пойдешь со мной. Дай мне круглую черную шляпку, что с резинкой.
Гликерия так и присела.
– Барышня, да что вы? Да куда это вы пойдете? Никуда нельзя идти. Как я смею, барышня, милая?
– Ты пойдешь со мной, – повторила Литта. – Ты провожаешь меня на урок музыки. Учительница заболела, не выходит, я иду к ней сама. Поняла?
– Господи помилуй, да какая учительница? Сроду я вас к ней не провожала. Не осмелюсь я, барышня…
Литта стиснула зубы и схватила Гликерию за руку.
– Не пойдешь? Не скажешь? Нет учительницы? Ну так помни: Юрию худо будет. Худо, если не пойдешь. Я знаю, что делаю.
Ошеломленная Гликерия совсем подсеклась. Только рот раскрывала и закрывала. Но Литта уже не заботилась о ней: пойдет.
Скользнув в сумрачную, пустую залу, Литта схватила старую папку с какими-то старыми нотами и с золотыми буквами «music», поправила детскую шляпу на кудрявых волосах и пошла в коридор.
Там металась Гликерия, уже в легком платке на плечах.
– Барышня, дождика не было бы… В одном платьице. Литта молчала, шла к передней.
– Барышня, может, по черному ходу…
Отчего, в самом деле, не по черному ходу? Нет, Литта не хочет. Там еще остановит домашняя стража, там удивятся, узнает графиня… И даже не это, а просто кажется, что лучше не по черному ходу.
Была нерешительная остановка в большой полутемной передней. Нерешительно спрашивали, сомневаясь, нужно ли спрашивать, шептала что-то Гликерия. Литта сама кому-то протянула было папку с нотами, ее вежливо не взяли.
И вот барышня с горничной уже на лестнице.
«Господи, Господи! Куда же идти? Направо или налево? Господи, дай угадать, куда идти, чтобы встретить!»
Ей подумалось, что если они разойдутся, если он придет с другой стороны, и поднимется, и станет спрашивать барышню, и начнут ее искать, а о нем справляться по телефону, то выйдет еще хуже; наверно, выйдет совсем, совсем худо. А если б не бежать навстречу, ведь, может, и обошлось бы. Или нет?
«Господи, Господи! Направо или налево?» В последний раз она случайно видела с балкона, как он подходил: подходил справа. Не послать ли Гликерию в одну сторону, а самой идти в другую? Нет, нельзя, невозможно. Гликерия ничего не поймет, его пропустит, а Литту потеряет.
Ноги у Литты ослабели, стали как ватные. Терпко в душе от страха.
«Господи, Господи! Тогда он справа, пойду налево. Господи, помоги!»
Пошла налево, слабыми ватными ногами.
Гликерия плелась за ней. День мутный, белый. Ветер порывами взметывал булыжную пыль и кидал в глаза. Грохотали пустые ломовики. Болтались мужичьи ноги, свешенные с телег. На тротуарах пустовато. Дальше, дальше… До которых же пор идти по Фонтанке? А если он из переулка?
«Господи, нет, все погибло! Что я наделала!»
Остановиться, остаться тут совсем, у решетки канала, с папкой «musk», не знать, не знать, что будет.
Да вот он. Он, он! Из переулка идет, его шляпа черная, его сутулая походка… Он бритый последнее время, точно актер, это не очень хорошо, но, верно, так надо. Он. Чуть не бросилась к нему через улицу бегом, ноги сразу другие, окрепли, но сдержалась, опомнилась, шагу только прибавила.
Он смотрит – узнает и не узнает. Как узнать? Волосы, шляпа детская, а под нею такое строгое, такое бледное лицо. И ей ли тут быть, на улице?
Вот она уже около него. Гликерия отстала.
– Не ходите… Не ходите к нам. Я убежала навстречу. Как хорошо, что встретила. Господи, слава Богу… – Задохнулась, потом тише: – Обыск у Юрия. Его увезли. Еще сидят в передней. Идите назад!
Он быстро поглядел на нее.
– Спасибо… милая. Прощайте.
– Мне только чтобы знать о вас. После, потом. Как-нибудь?..
– Да, да, не бойтесь. Не забуду, найду способ.
– Может быть, Дидусь…
– Спасибо, да, знаю. Милая.
Он свернул на мост, дальше, прямо, и вот уже не видно его. Так скоро это все случилось, так скоро, что он пропал за углом, а Гликерия только подходила.
– Барышня, никак, учитель ваш…
– Молчи, Гликерия, слышишь – никому никогда ни слова! Скажешь слово – Юрию нашему гибель, гибель! Поклянись мне на церковь.
И она тащила обезумевшую женщину вправо, в тот переулок, из которого вышел Михаил.
– Матушка, барышня… Да что вы это… Да разве я Юрия Николаевича не люблю… Да разрази меня Царица Небесная, помереть мне наглой смертью…
И она под платком крестилась мелко, глядя на золотой крест какой-то церкви, чуть видный далеко, над крышами.
Сразу нельзя было возвращаться: рано. Что ждет их дома? У Литты страха нет. Она и не думает. Главное удалось, а там пусть хоть на куски ее режет графиня. Да не разрежет. Главное – удалось, значит, счастье, значит, и все удастся.
Бродили они по каким-то незнакомым Литте улицам и переулкам; так было странно, дико, ново. Сколько времени прошло?
– Барышня, уж вертаться бы… Бог даст, – взмолилась Гликерия.
Подошли к дому с другой стороны.
– Барышня, да нам по второй черной лестнице, по бариновой! – догадалась глупая горничная. – Оттуда, с бариновой половины, на нашу через буфетную идут. А може, и унесло уж их всех.
Литта перестала соображать. Пусть Гликерия, как хочет.
Чудом прошли. На половине Николая Юрьевича – пустыня. Даже ни одного лакея. Через темные ходы и переходы, шляпа снята, под платком у Гликерии, – и вот Литта в родном коридоре, у дверей своей спаленки.
Было ли все, что было? Не снилось ли?
Литта сбросила старое, короткое платьице, подобрала волосы. Руки дрожат, верно, от тяжелой папки. Сама все время несла.
Гликерия опять тут.
– Милая барышня, ушли, унесло их десять минут не больше, узлы увезли громадные.
– Бабушка?
– Очень расстроены их сиятельство. У них сейчас барии Николай Юрьевич, да Модест Иванович, да еще за кем-то послано. Изволили спрашивать вас, им доложено, что вы почиваете, из спальни не выходили. Уберегла Царица Небесная. Меня-то хватились, да я что…
Литта уже не слушала, надо идти сейчас же. Постучалась у двери графининого будуара.
– Кто там? Entrez![17]
Графиня, прямая и сухая, со сдвинутыми серыми бровями, сидела на своем месте, в кресле с высокой спинкой.
Против нее Литта увидела отца; это было необычайно, он никогда не ходил к теще. С палкой, в мягкой домашней курточке – больные ноги в туфлях. У окна ютился Модест Иваныч. Он – отставной генерал, безобидный; давнишний приятель графини; испокон веков живет тут же, в графинином флигеле; ее сиятельство часто посылает за ним, когда соскучится, или за советом. На советы Модест Иваныч, впрочем, не мастер.
Графиня обмахивалась платком и нюхала соль.
– Где вы были? – холодно обратилась она к Литте, когда та подошла поцеловать ей руку.
Литту словно ударило. Как она надеялась, что обойдется?
Но графиня продолжала:
– Это стыд для такой большой девушки дрожать, запираться в своей комнате, когда в доме несчастье, когда ваш родной брат претерпел такое несчастье, такой незаслуженный позор! Как вы малодушны! Взгляните на себя: лица нет!
Бледная, как бумага, – девочка вспыхнула от радости. Господи, спасибо тебе! Как хорошо!
Молча она поздоровалась с отцом и села в сторонке. Графиня уже не обращала на нее больше внимания.
– Да, я требую этого, требую! – жестко и властно продолжала она разговор с Николаем Юрьевичем. – Вы обязаны сделать для вашего сына возможное и невозможное. Ваши болезни… Тут не до ваших болезней. Поезжайте куда хотите, и завтра поезжайте, и послезавтра… Нет связей? Были связи. Восстановите их. Ah! mais c'est inoul'e![18] Приходят без разговоров в порядочную семью… И такой прекрасный, такой прекрасный юноша. Если в нонешние времена из таких юношей мятежников делают, это значит, у нас у власти стоят революционеры. Да. Я уже достаточно стара, чтобы не бояться говорить правду. Да, революционеры, которым не надобны настоящие сыны отечества, они их берут и бросают…
– Madam la comtesse[19], – в ужасе заговорил робкий Модест Иваныч.
– Не боюсь, милый мой, не боюсь… Одурели с этими свободами, хватают, как пьяные дворники… Вот она, ихняя хваленая демократия… Этого так нельзя оставить. Хотя бы пришлось до государя дойти… – Она обмахнулась платком. – У юноши нет матери. А если в вас, Николай Юрьевич, засохли первоначальные отцовские чувства… то я заставлю, заставлю их… чтобы они пробудились.
– Но, графиня, я готов, – начал Николай Юрьевич. – Я сам потрясен. Убит, расстроен, и притом я совершенно болен. Только вчера вот и нынче брожу. Не могу собраться с мыслями.
– Собирайтесь и немедля поезжайте.
– Но куда? К кому? Надо обдумать. Наконец, может быть, это все… une fausse alerte[20]. Может быть, его завтра же выпустят.
– Вы – бездушное сердце! – закричала графиня. – Он хочет ждать, пока этим сбившимся с последнего толку городовым вздумается выпустить несчастного страдальца! C'est le comble!..[21] Нет, я еще жива. Еще есть где-нибудь правда. И вы поедете!
Николай Юрьевич совсем струсил. Мягкие бритые щеки его тряслись.
– Я поеду, графиня. Я сделаю все для моего несчастного сына. Но вот… у меня мысль: теперь новые порядки… гм… как бы новый строй… Прежде чем начать… nos demarches[22]…не посоветоваться ли с Валерьяном Яковлевичем? С Ворониным? Он депутат… И вместе с тем il est tres bien vu[23]. Родственник.
Графиня подумала.
– Можно послать за ним. Конечно, послать. Но это не мешает вам действовать с вашей стороны. Депутат, депутат… Как бы на него ни смотрели, раз он депутат, он– ничто. Нам нужны люди власти, а не депутаты…
Литта ушла к себе и целый день одна, без мыслей и без книги, сидела в классной.
Гликерия приходила, докладывала ей шепотом, что у графини все разные люди, а барин Николай Юрьевич куда-то выезжали в карете, только скоро вернулись.
И пошли бестолковые дни. К упрямой графине было не подступиться.
Она неутомимо возмущалась, неутомимо гоняла каждый день Николая Юрьевича, писала письма, советовалась с какими-то старыми генералами. Но толку, кажется, еще не было. Николай Юрьевич поездил три дня, а на четвертый слег. Знал, впрочем, что чуть станет полегче – опять поедет; графиня три раза в день справлялась о его здоровье и даже сама пришла как-то посмотреть, не притворяется ли. С депутатом Ворониным, то есть с «дядей Воронкой», который приехал только через два дня, вышло странно. Приехал растерянный, злой. Принял участие – но все озирался, точно был чем-то в корне напуган, раздосадован и оскорблен.
Графиня не могла, конечно, знать, что дядя и сам попался в переделку: у Лизочки неожиданно сделали обыск. Ничего не нашли, и ее не тронули, но когда приехал дядя Воронка (хорошо еще, что не был в самую ночь обыска!), Лизочка обливалась слезами, тряслась с перепугу, и так как-то вышло, что все узналось: и что обыск был из-за портнихи, а что портниху рекомендовал Юрий; портниха же только последнюю ночь не ночевала, ушла совсем и унесла свое, – с узелком ушла. По слезам и отчаянию Лизочки дядя Воронка догадался, что Юрий весьма близок ее сердцу. Холодно отнесся к Лизочкиным мольбам насчет Юрия. Что же тут может сделать дядя? Арестовали и арестовали.
Удивительное дело: не открылось одно – что у Лизочки в квартире была комната Юрия. Случайно он увез оттуда все, что могло на него указать. Случайно в ночь обыска Лизочка спала не у себя в спальне, а у Юрия (любила там спать, когда наверно знала, что он не придет).
И про комнату не узнали. Но и то, что узнал дядя Воронка, не могло привести его в хорошее расположение духа. К Лизочке он был привязан; однако… темные истории, темные истории! Как бы его еще не впутали?
Графиня кончила тем, что выбранила его и чуть не выгнала.
– Вот вам! Депутаты! – жаловалась она потом. – Может, и умный был человек, а попал в депутаты – вертится, как карась на огне, мычит, слова путного не добилась. Оглядывается. Заяц, не человек. Посадить бы депутатов этих всех, вот имело бы смысл.
Литта бродила, как тень. Несколько раз хотела что-то сказать бабушке и не решалась.
Наконец узнали, что Юрий в крепости.
Графиня поглядела на внучку круглыми, жесткими глазами и объявила:
– Ваш брат в равелине. Вот до чего дошло! La forteresse[24]! Ничему теперь не удивлюсь. Но тем менее мы не должны терять энергию. Его должно освободить.
Литта вспомнила, как они ехали тогда с островов мимо крепости. Грязные серые стены. Такие обыкновенные, привычные. И там теперь где-то, за стенами, Юрий. Да ведь не один Юрий-Юрий – ничего, за Юрия не страшно, бабушка права, не за что его было, да и выхлопочут Юрия. Но не один там Юрий. И что, если?..
– Бабушка, – сказала Литта робко, решилась наконец. – А у вас Дидуся… Дидим Иваныч, – не был? Он бы, может, что-нибудь посоветовал…
Графиня посмотрела на нее.
– Дидим? Не был. Mais vous avez raison, petite[25]. Он очень умен. Его не лишнее спросить, он имел свои столкновения… в этих делах. Давно не был. Чудак, mais est tris fort[26].
И графиня задумалась. Потом сказала:
– Пусть побывает в Царском. Мы переезжаем послезавтра.
– Мы уедем? А как же?..
– Оттуда все это еще удобнее. Папа лучше. Будет ездить оттуда, к кому понадобится. Дела, кажется, идут хорошо. Ne vous tourmentez pas, mignonne[27], – прибавила она с торжественной ласковостью. – Vetre pauvre frire nous sera rendu[28].
Литта, подумав, написала Саватову записочку. Просто, что grand-maman хотела бы видеть его, что они переезжают в Царское. Прибавить к этому ничего не посмела.
Глава двадцать девятая Море соленое и море зеленое
На крылечке садовникова домика сидит Литта. Около нее – Раичка, маленькая дочка садовника, которую Литта нынче за лето выучила азбуке. К столбику крылечному прислонилась пожилая, степенная баба в темном, новом платке. Глядит, вздыхая, на длинные, ягодные гряды садовничьего огорода, за которым вдали рдеет заревая полоса, и лицо у бабы тихо-довольное.
Это мать садовниковой жены, Анюты. Приехала к зятю погостить. Садовник старый, а жена у него молодая. Из горничных взяли, модница, ну а мать – деревенская, тамбовская, что ли, она.
Графинина дача выстроена по-старинному; дача-усадьба, а не городской дом. Поместительная, широкая, и сад порядочный, и двор; за домиком, где живет садовник, – огород, гряды с клубникой и викторией. Литта не любит скучной террасы с цветами и парусиновыми занавесями. Все ее тянет на это крылечко, и простор закатный, заогородный, ей нравится, и девочка Раичка ей нравится. Анюта слишком бойка, хитра и почтительна. Вот с этой бабой, Варварушкой, Литте ловчее.
– Бабка мне сказку вчерась сказывала, – болтает Раичка. – Хо-орошую сказку.
– Правда, Варвара? – спросила Литта. – Ты сказки знаешь?
– Ну, что наши сказки деревенские, барышнечка. Уж и позабыла их все. Мы-то, старухи, много чего знали. А теперешних, возьми-ка, и нет за ней ничего.
– Мама не умеет сказки, – опять шалит Раичка.
– Мамка твоя зато в книжке читает. И ты читай. – Варвара вздохнула и продолжала: – Эка жисть-то, жисть-то у вас какая! Тишина, благодать. Так это чисто, укромно. Попала моя Анютка, глядеть не нагляжусь. Старенек зятек, старенек по ей, это слова нет, да ведь благодать! Словно королевна за им живет. У нас, Господи батюшка! Чего бы ни навидалась, хоть бы за какого богатея пошла.
– Да что ж худого, Варвара. Ну, вышла бы за мужика… Жила бы в родном месте. Я не про Анюту, она уж городская, а вообще. Разве так уж плохо, если муж любит.
Варвара пригорюнилась.
– Не знаете вы, барышня, нашей жисти. Было нам житье, а теперь уж вовсе последнее время приходит. Что мужику трудно жить, бабе вдесятеро. Любит муж! Он любит, да что с него, коли пьет. Пьет да бьет. Слышно, бывали по нашим местам непьющие мужики, на моей памяти бывали, ну а теперь такого мужика нетути. И уж повсеместно. Заиграла Россия, запила, – горе веревочкой завила, дрался народ, кружился, – в канаву завалился, да и посейчас там. Раичка засмеялась.
– Странно ты говоришь, Варвара, – промолвила Литта. – И страшно как-то. Впрочем, я ведь ничего не знаю.
– То-то, барышня беленькая, где тебе знать. Наша жисть тесная, мы тебе не покажемся. За двумя морями живем, за двумя непереходными: одно море соленое – слезы бабьи, другое море зеленое – вино мужицкое. Где ж тебе знать! Не знаешь.
Варвара говорила все это, не жалуясь, голосом довольным, даже веселым. Баба бывалая, терпелая, прибаутчица. Литте, однако, хотелось переменить разговор.
– А что, муж у тебя жив еще?
– Старик-то! Ништо. И-и, пить как стал!
– И он еще пьет?
– Неужто нет? Летось, на Тихвинскую, ишли мы с ярмарки, так он, пьяный, как взялся меня бить, как взялся – насилу господский конюх встречный отнял. Ништо старик, здоровый; на ноги вот маленько стал припадать, как в остроге посидел. И вином-то шибче после того избаловался: что праздник, что будень…
– В остроге сидел? За что? Долго сидел?
– Долго, милая, долго. Как не долго. Наперед его посадили, с одной, значит, партией, а Гришутку, меньшенького-то мого, уж после. У нас это все, что поделаешь? все, почитай, в остроге насижены. Иные попропадали, рази узнаешь? И Гришутка мой так пропал; а другого, глядишь, возворотят. Пришел старик. Божья воля.
– Какая Божья воля, ничего не понимаю, – рассердилась Литта. – Ты скажи, за что? Или это давно было? Четыре года назад тому было?
– Всяко, милая, всяко. В четвертом годе сгоняли сильно, что говорить. Сгонят, да сряду всех и угонят, это было. Которые, значит, возворотятся, – ну, других сейчас берут. Гришутка-то, я и не взвиделась, попал. Молодой мальчонка, не шустрый такой был. Мы ждали, вернут; а заместо того и слухов нет. Что в те года, что ныне – бывает это, милая, бывает. Ныне, думаешь, не садятся в острог-то? Садятся, милая, садятся.
Жужжал тихо довольный голос Варвары. Литта уж не слушала, вся ослабела. Садятся, садятся… Все пьяные, все каторжные… Ни одного не пьяного, ни одного не каторжного. И два моря: море соленое да море зеленое. Садятся… Божья воля.
Шурша юбками, вынырнула откуда-то из-за угла Анюта.
– Ах, вы здесь, барышня? С маменькой, никак, сумерничаете? Деревенскими прибаутками развлекаетесь? – заговорила она скоро и слащаво. – Затейница у нас маменька! Для господ интересно, сказку мужицкую расскажет, или песню…
– Ну, я пойду. Прощай, Варвара. Прощай, Раичка. Литта поднялась со ступенек.
– Там гость, барышня, к их сиятельству приехали, – тараторила ей вслед Анюта. – Мне Гликерия Спиридонов-на сейчас попалась, сказала. Вероятнее всего – к обеду. А за барином, за генералом, Липат к поезду выехал. Да что-то еще не видать, не возвращались. Ах, батюшки, как стемнело! Рано темнеет. Август месяц…
Литта пошла в дачу через двор. В большой, тускло освещенной передней спросила графининого Никиту; спросила, думая о другом:
– Кто у нас?
– Господин профессор Саватов к ее сиятельству. Дидусь? Господи! Наконец-то! В первый раз! Столько времени прошло, он в первый раз. Литта и ждать перестала. Кажется, он тогда написал графине, что болен, и еще что-то написал. Литта перестала ждать.
И вот приехал. Чему тут радоваться – Литта не знала, но радовалась.
Бежать сразу к бабушке – нельзя. Не любит этого бабушка. Нельзя. Он останется обедать. А вдруг не останется?
Пошла к себе, на вышку, пригладить волосы, переодеться к обеду. Она живет нынче на самом верху, в комнатах Юрия. Выпросила у графини.
Зашуршали у крыльца колеса, это Николай Юрьевич с поезда, из Петербурга. Белеют глазастые фонари. Сейчас, значит, и обед.
Николай Юрьевич нынче не тот. Из-под палки графини начал выезжать, сначала было вовсе слег, – но палка графинина неутомима. Николай Юрьевич понял это и покорился. Сперва покорился, а потом сам втянулся. Возник. Пободрел, помолодел, и нога не смеет болеть. Кое-какие связи, действительно, подновил, и это ему нравится. О Юрии хлопочет искренно, но исподволь; и радуется, видя, что из-за «несчастной случайности» с сыном на него нисколько не косятся. Напротив, – ободряют, утешают, обещают… Пожалуй, выгорит дело. Прав был Юрий, не следовало опускаться. Николая Юрьевича еще очень и очень могут вспомнить.
Загудел глупый гонг. В городе обходились без него, но на даче уж так повелось, – гонг.
«Остался, остался! – думала Литта, весело сбегая с лестницы. – Сейчас увижу!»
В деревянной столовой – обе приживалки (третью графиня куда-то сплавила). Пришел Николай Юрьевич, с тростью, но бодрый, наконец вплыла графиня, – под руку с Саватовым.
Он– маленький, беленький, похожий на птицу, но очень корректный и прекрасно одет.
– Какая большая барышня! Совсем курсистка! – полуудивленно протянул он, здороваясь с Литтой, улыбнулся и сказал ей глазами что-то такое хорошее, близкое и доброе, что Литта от радости покраснела.
– Вот, берите ее с будущего сезона на свои курсы, – сказала графиня по-французски. – Я ничего не имею против курсов, руководимых вами.
Саватов поклонился, а взволнованная Литта пробормотала:
– Ах да, grand-maman. Только ведь мне нужно еще экзамен…
Когда сели за стол, графиня обратила свою французскую речь к Николаю Юрьевичу:
– Monsieur Саватов привез мне очень интересные и ценные сведения… Но мы поговорим об этом после обеда.
И она покосилась на молчаливых компаньонок.
Разговор пошел обыкновенный. Литта молчала, изредка вскидывала глаза на своего Дидусю, и каждый раз он отвечал ей хитрым, ласковым, знающим взглядом.
Кофе велено было подать в маленькую угловую. Компаньонки остались, а Литта решительно пошла за графиней. Она должна все знать.
Профессор в самом деле сообщил графине кое-что новое. Он слышал, что в ближайшие дни после ареста Юрия было арестовано много лиц в связи будто бы с найденными у Юрия бумагами; следствие ведется, но собственно Юрию никакого обвинения еще не представлено. Если оно будет, то, конечно, откопают что-нибудь старое, вернее же так ничего определенного и не будет: есть признаки, что дело хотят замять, по крайней мере, в отношении Юрия.
– Ну да, ну да, мы сильно хлопочем, – сказал Николай Юрьевич, кивая головой. – А откуда это вы все знаете? – прибавил он, простодушно улыбаясь.
– Я за верное не выдаю. Так, слухи носятся. Хлопотать очень не мешает.
– Ну вот! Ну вот! – сияла графиня, не теряя, впрочем, величественности. – Дидим Иванович, мы получаем от него вести. Побывавшие в руках этих… geoliers[29], но все же… Материально он нами устроен насколько возможно лучше. Не теряет присутствия духа. Это удивительный юноша! Сильное сердце! Пишет, что здоров и спокоен.
– Он очень наблюдательный, – сказал Николай Юрьевич. – Будет потом рассказывать нам свои тюремные впечатления.
Графиня замахала руками.
– De grace![30] Избавьте! Какие впечатления? Совершенно никому уже эти тюрьмы не интересны. Я старуха, но и молодым давно оскомину набило. Кинулись, как безумные, и в обществе, и в литературе: ах, революция! ах, заключенные! ах, то! ах, се! Ну и надоели сами себе. C'est demonde[31].
– Вы правы, графиня, – сказал Саватов. – Очень demonde[32]. Об этом не говорят. Но, однако же, это все есть. И революционеры, и заключенные есть. Вот хоть бы Юрий.
– Никаких революционеров, надеюсь, нет… Уж не говоря о мерах, предпринятых в свое время, все эти гадости в их собственной среде… должны их в корне уничтожить. А если правительство настолько глупо, что продолжает хватать и заключать юношей вроде Юрия, то ему же хуже. Я это говорила. Такие gaffes[33] не могут продолжаться вечно. Где теперь мятежники? Покажите мне мятежника! Чуткое правительство и старых-то всех выпустило бы. Они бы осмотрелись и наверно занялись чем-нибудь таким… с пользой, мирным.
– Ну, для амнистии… пожалуй, рано, – надув щеки, сказал Николай Юрьевич.
– Я за чуткое правительство, мой милый. За то, чтобы правительство стояло в курсе… comment dites vous?[34] в курсе общественного состояния. А то ловят по сю пору крамольников, когда о крамоле никто ни думать, ни слышать, ни читать не хочет!
– Ну, и слава Богу, графиня, что не хочет! – весело сказал Саватов. – А Юрия Николаевича зря засадили, тут вы совсем правы, я говорил: напрасно, напрасно!
– Вот и мужиков… – неожиданно сказала Литта, волнуясь, охрипшим от долгого молчания голосом, – Садят, садят… Неизвестно, за что?
– Comment? – удивилась графиня и подняла брови. – Каких мужиков? D'ou prenez-vous tout ca?[35] Мужиков, очевидно, садят за пьянство и распущенность. Да, я где-то читала: деревня очень распущенна. Но какое это имеет отношение к нашему разговору?
– Это особая статья, особая, – усмехаясь, поддержал Саватов и встал, чтобы проститься.
– Нет, нет, вам еще рано… Я велю заложить лошадь… И графиня позвонила.
Николай Юрьевич давно осоловел. Поднялся, опираясь на трость, чтобы проследовать в свои апартаменты.
– Какая ночь славная! И теплая, – сказал Саватов, увидев в соседней комнате черное пятно открытой на балкон двери.
– В сад темно, – поспешно заговорила Литта. – А вы посмотрите, как у нас на балконе хорошо! Grand-maman боится сырости, чай мы по вечерам там не пьем….
Саватов пошел за девочкой. Остановились у перил в душистой, теплой августовской черноте.
У Литты билось сердце, искала самых коротких, самых нужных слов – и не находила.
– Милая… – сказал тихо старик. – Умница. Догадливая. Хорошая.
Литта подняла на него глаза. Увидела, в луче света из комнат, его лицо, ласковое-ласковое, без улыбки.
– Вы, Дидуся… знаете разве?
– Знаю, знаю… Чего не знаю – о том догадался. И вести вам хорошие… о том, о ком думаете.
– Обошлось? – радостно вскрикнула Литта. – Ох, как я рада!
– В другой раз приеду – может, письмецо вам привезу. Только вы уж, деточка, это письмецо…
– Да знаю, знаю!
– И правда, что мне умницу учить.
– Я к вам приеду, Дидусь. Вот как мы только в Петербург переберемся.
– Приедете? Как же так? Он помолчал.
– Разве вот что придумаем? Вы про экзамен говорили. Хотите, мы вас с Орестом осенью приготовим? Живо. Приезжать к нам будете. Это мысль!
– Дидуся! Как хорошо! Я способная, я скоро, Оресту не будет трудно. Только бабушка…
– Я предложу графине, – сказал Саватов серьезно. – Это ведь не сейчас.
– Рада – рада, рада – рада, – по-детски затвердила Литта и чуть-чуть не запрыгала. – Ах, рада. И то – удалось, и то – благополучно… Миленький Дидусь! Все будет! Как хорошо на свете!
Саватов поглядел в ее блестящие глаза, хотел рассердиться, но не мог. Опять улыбнулся ласково.
Через минуту она стояла в передней, смотрела, как Дидуся надевает пальто, ищет свой клетчатый плед, – и радость не проходила.
Даже стыдно стало потом. Чему обрадовалась, как девчонка? Хорошо на свете! Чем хорошо? Попробовала нарочно вспомнить Варвару. Все каторжные, все пьяные… Одно море соленое, другое море зеленое….
Ну что ж. Ну пусть. Это потом. А сейчас она рада. Рада, что удалось то дело – сохранил Бог! И что вести она станет получать, и к Дидусе с Орестом станет ездить – рада, рада!
Хорошо на свете. Ничего еще нет – зато все будет. Это-то и хорошо, что будет.
Глава тридцатая Явное и тайное
Темны дни осенние.
И ленивы: чуть приоткроет день ресницы, – медленно приоткроет, поздно, – поглядит серым, оловянным глазом – и опять уже завел его. Опять темно. Слезится темнота или потеет – не поймешь: но грязный свет фонарей дрожит на тротуарах лоснистыми пятнами. Свет, а грязный. Не вступи – запачкаешься.
И вот совершилось, наконец, в эту пору долгожданное событие. Рано, еще день едва расклеил слипшиеся веки, вернулся домой Юрий.
Приехал просто на извозчике. Думал, спят еще. Какой там. Люди бросились к нему. Гликерия целовала руки, обливалась слезами. Выскочила Литта, совсем одетая, и повисла у него на шее. Через пять минут немного удивленный Юрий уже сидел в столовой за кофеем в присутствии самой графини и, что еще необыкновеннее, – отца. В его колыхающиеся объятия Юрий перешел из сухих и сильных рук графини, которая даже прослезилась, – когда это бывало?
В старых домах, где к тому же электричество проведено давно и лампы переделаны из керосиновых, свет особенно несветлый. А когда в черные, петербургские дни зажигают его, – он едва рдеет, словно красная кучка, безлучно.
Таким рдяным комком висела в столовой лампа над Юрием и счастливыми его родственниками. Лица у всех зеленые – от раннего часа и двойственного света. И странно, что свежее всех Юрий, хоть и просидел почти пять месяцев «dans un cachot»[36], по выражению графини.
Лицо чуть-чуть вытянулось, но так же оно девически нежно, и по-прежнему блестят карие с золотом глаза. Он острижен короче, а надо лбом вьется, однако, коричневая прядка.
Юрий говорит мало, весело вглядывается в лица.
Решительно, отец помолодел. И палку за собой так только таскает, для важности. А Литта постарела. Не выросла, а просто постарела. Чуть не двадцать лет ей можно дать. Бледная, строгая, платьице темненькое. А все-таки хорошенькая. Другая она какая-то.
После путаных разговоров, отрывистых вопросов и ответов первой встречи графиня не замедлила объявить Юрию свое решение. Впрочем, назвала это решение советом.
Графиня полагала, что Юрию теперь лучше всего уехать на полгода или даже на год за границу. Конечно, если он и здесь останется, – может быть спокоен: пальцем больше не посмеют тронуть. Довольно. Стоит ли, однако, оставаться? Dans ce pays de произвол…[37] Здоровье не пошатнулось, но если не подумать о нем вовремя – все еще может отозваться…
С обычной прямотой графиня прибавила, что «о средствах к путешествию» Юрий может не беспокоиться.
Литта посмотрела на брата. Ей показалось почему-то, что он не согласится. Понравилось бы, если б он не согласился.
Но Юрий с живостью встал и поцеловал старухины кольца.
– Чего же лучше, chere, chere madame?[38] Как мне благодарить вас за все ваши заботы? Я и сам думал уехать… Куда-нибудь в Германию; мне хочется заниматься. Если не устроюсь в Германии – тогда уж в Париж, опять в лабораторию к X.
– Куда хотите, дитя мое, – сказала растроганная графиня. – Ваша любовь к занятиям достойна уважения, но помните: вам нужен и отдых.
Юрий улыбнулся молча. Еще бы! Конечно, ему нужно и то и другое, нужно все.
Уехать – его толкала и мысль о Наташе. За эти долгие недели он не забыл внезапно пришедшей, веселой мечты о Наташе. И ему нравилось, что не забыл.
Только где Наташа? Где искать ее? Хоть бы приблизительно указал кто-нибудь. В Париже – вряд ли.
Решено было, что Юрий уедет через неделю. Чем скорее – тем лучше.
Легко, с усмешкой Юрий заговорил о своем тюремном затворничестве. Но графиня все-таки морщилась: действовало на нервы. Да и то: дело прошлое. Юрий перестал рассказывать.
Когда можно остаться с ним вдвоем? Литте так нужно, так хочется. Он – как был, но столько надо сказать ему, узнать от него; он как был, но не совсем же, как был? Литта заметила морщинку над правой бровью; она у него всегда, когда ему досадно или заботливо.
Не рассказов о тюрьме она ждет. Бог с ними, с его рассказами. Нет, другое.
И, однако, робеет. Вот не посмела пойти за ним, когда он отправился в свою комнату умываться и устраиваться. Ну, пусть отдохнет.
Завтракали вместе. Но после завтрака – уже готова карета, надо ехать на урок. Литта ездит одна на Петербургскую сторону в квартиру Саватова. Готовится к экзамену.
Обедали опять вместе. Но после обеда Юрий ушел к отцу, а потом куда-то уехал.
К ужасу и недоумению Литты, прошло три дня, а она так все и не успевала поговорить с братом. Он совсем ее не избегает. Один раз даже как будто сам хотел подойти, позвать ее к себе, вероятно, а она не поняла.
Графиня устроила торжественный завтрак в честь «неблудного сына», как она говорила. Были всякие генералы, важные и неважные, военные и статские. Был «дядя Воронка», только что приехавший из имения к открытию Думы. Присутствовал, конечно, и неизменный Модест Иванович. Графиня хотела позвать и Саватова, но в последнюю минуту отдумала. «Он друг интимный, эти его не поймут»… Графиня – женщина с тактом.
Юрий за завтраком был необыкновенно весел, необыкновенно мил. И Литте казалось, что все важные генералы должны радоваться, что своевременно приняли участие в судьбе такого прекрасного, скромного юноши.
Приехала в этот день Литта домой с урока, к обеду, – и решилась твердо: иду сегодня, буду с ним говорить.
Узнала, что Юрий дома не обедает. «Все равно, вечером дождусь его».
Поздно, в одиннадцатом часу, блуждая по коридору, услышала, что он вернулся и прошел к себе.
– Юруля. Ты здесь? Можно?
Он стоял у письменного стола, в светлом кольце лампы, и читал какую-то записку. Быстро обернулся.
– Кто это? Улитка? Входи, входи…
– Ты не занят? Ты сейчас не уезжаешь?
– Нет, не поеду. Погода отвратительная, да у меня, кстати, и голова немножко болит.
Он бросил письмо на стол, сделал два шага навстречу сестре и взял ее за руки.
– Иди, иди, Улитка. Ты еще ни разу у меня не была. Отвыкла, дичишься? Стала такая чужая.
Они сели рядом, на большой диван, в затенении.
– Я не дичусь, Юрий. Я все время собираюсь прийти… Да как-то не выходило.
– Ну, поболтаем. Ты теперь умная, большая барышня. Самостоятельная. К Саватову ездишь? Занимаешься?
– Да. Только я не хочу болтать. А мне о серьезном, об очень важном хотелось с тобой говорить.
– О чем же серьезном, детка? Ну, говори.
– Юрий, вот ты уже скучаешь. Я так не могу.
– А я что могу? Я не знаю, чего ты хочешь. Не знаю, как ты тут жила, с кем виделась, с кем не виделась. И о чем сейчас думаешь. Что же я-то тебе скажу?
Она помолчала. Хотела решиться на что-то – и не смела. Было так больно от страха и от недоверия. Сдержанно вздохнула.
– Ну, хорошо. Я ведь тоже не знаю, как ты это время жил, с кем виделся, что и кому говорил… Ты о Михаиле знаешь?
Юрий взглянул на нее остро. Смущение ее и недоверие он отлично заметил и, пожалуй, понял. Очевидно, за это время она кое с кем сталкивалась и кое-чего наслушалась. Но неужели говорить с ней серьезно? Да и зачем? Ответил просто:
– Михаила, к счастию, тогда не арестовали. У меня в бумагах вряд ли могли найти на него указания. И как хорошо, что я решительно ничего о нем не знал, ни адреса его, – ничего.
– Хорошо, что… не знал? А если б знал? Юрий рассмеялся.
– Теперь-то понятно, что некий милый человечек и на это, между прочим, рассчитывал, то есть что я о Михаиле что-нибудь знаю. Пусть, мол, объяснит, а я в стороне… – На этих неясных словах он вдруг перебил себя: – Да, да, очень рад, не пришлось тут никому в руку сыграть. И за Михаила рад. Ему плохо попасться. Многие из них славные люди. Михаил и Наташа в особенности. Я их не забываю. И вот теперь, когда я, по счастливой случайности, узнал нечто очень для них важное…
Литта в волнении приподнялась.
– Юрий… Что? Что такое?
Но Юрий покачал, улыбаясь, головой.
– Так, об одном человеке… Не для тебя ведь важное, – для них… – сказал он лукаво. И прибавил: – А что Михаил? Ты, очевидно, имеешь о нем известия. Где он? Здесь? С него станется.
– Он… – начала Литта и вдруг запнулась. Опять странно у нее сжалось горло, останавливая слова. Говорить? Не говорить?
Юрий нахмурился. Надоело это, стало скучно. Он потянулся к столу, закурил папироску и произнес спокойно:
– Ты, Улитка, сделалась ужасно конспиративна. Так и запахло от тебя конспирацией, точно ты банка со старыми духами. Ведь не я этот разговор начал! А уж коль начинаешь, так разговаривай по-человечески.
Литта вспыхнула.
– Юрочка, ты прости. Мне ведь тоже очень трудно. Я ведь не знаю многого… Михаил не здесь, но близко, – прибавила она с усилием. – Я получаю от него вести… Коротенькие записочки, у Саватова.
– Дидусь? Вон он какой ловкий. Тряхнул стариной…
– Нет, так… Они любят Михаила. Раз я даже виделась у них с Михаилом. Только раз. Не следует ему…
– Конечно, не следует. Ну что ж он тебе говорил? Что писал?
– Разное… Коротенькая записочка. Говорил, между прочим, что тебя должны скоро выпустить, что уж теперь ясно. И правда-Юрий подумал.
– А о письме, которое я, тайными путями, получил от него в тюрьме, говорил тебе?
Она вздрогнула.
– Писал? Нет, я не знала. О чем? Он о чем-нибудь спрашивал?
– Да, спрашивал, – с улыбкой проговорил Юрий. – Так, кажется, догадываешься? Он хотел узнать прямо от меня, как… как прошли мои допросы. Верил, что я ему не солгу. С удовольствием ответил бы теперь… если возможно это.
– Юрий… – начала Литта и привстала немного. В ней горела душа, хотелось спросить, что же ответит он? Что? И слова не шли с языка.
– Очень, очень трудно с письмами, – сказала она тихо. – Он сам давно не пишет, разве случайно, окольная записочка Оресту… И передавать трудно. А возможно. Все возможно.
Юрий вдруг перебил ее, не слушая:
– А ты не знаешь, где именно теперь Наташа? Вот вовремя уехала умница.
– Не знаю, – сухо сказала девочка.
– Михаил знает?
– Вероятно. Я у него не спрашивала. Юрий помолчал.
– Ты чего же, сестренка? Обиделась? Я тебя прервал.
– Нет, так. Все равно.
– Ах, что за скука! Точно тебя подменили! И чего хочешь? Ведь вот я без всяких секретничаний, открыто говорю с тобой, попросту говорю, что с большим удовольствием даже повидался бы с Михаилом, будь это возможно. Целых три дела к нему. Во-первых, ответ на его письмо, прямой и точный. Во-вторых, очень хочется преподнести документик! Люди милые, только слепы, жалею их. Если случайно узнал, с достоверностью, кто их обманывает, – как не сказать, не помочь, уезжая? А в письме этого не скажешь; не напишешь. Третье дело… ну, это уж мое личное, пустяк, насчет адреса Наташи. И вот, я…
Литта не выдержала. Покраснела вся, стала прежней девочкой, схватила брата за руки, папироской его обожглась.
– Ах, Юрик, милый! Нет, я верю, верю… Ах, как хорошо, чтобы ты повидался с Михаилом. Он мне то же говорил, то же, что очень бы это хорошо… если ты сам захочешь, конечно. И вот ты сам. И еще у тебя такое важное… Спасибо тебе.
Юрий ходил по ковру темноватого кабинета и думал. Замолкла и Литта. Опять чего-то испугалась.
– Послушай, сестренка, говори прямо. Свидание возможно?
– Это как ты…
– Что я? Я свободен, обо мне не толк, я и за границу уезжаю. Он-то где?
– В Петербурге нельзя свидеться. Никак нельзя…
– Я тебя не о том спрашиваю! – крикнул Юрий. – Я спрашиваю, где Михаил?
– Он… Он в Финляндии, Юра, – заторопилась она. – Прости меня! Я сама не знаю, что со мной. Я путаюсь. Но верю тебе, верю! И Михаил верит. Он в Финляндии, да. Не живет на одном месте. Но вы могли бы съехаться…
– Съехаться? Да, ты путаешь много, детка. Чему это ты веришь? Что я на допросах не оговаривал всех направо и налево, не выдавал то, чего не знаю и что знаю, не вредил другим ради вреда? Еще бы! Нет, не в этом дело, а…
Он, размышляя, прошелся по комнате.
– Что же, Юра! – шепнула Литта робко.
– Не знаю, право… Не очень удобно… Куда это к нему тащиться…
– Юрий, ведь ты сам… Ну, не надо. Юрий еще помолчал.
– Правда, сам… Я бы повидался. Жаль их, бедненьких. Уедешь – там уж не до них. Забуду я. А сказать бы надо Михаилу. Письмо-то послать, значит, можно?
– Трудно очень… Да можно. Но ведь ты сказал, что в письме самого важного не напишешь?.. Лучше бы записку, где свидеться, около Гельсингфорса или где… Ты бы назначил.
Он опять задумался.
– Ну да, поеду я к черту в трубку в Гельсингфорс еще… Нет, детка, не выйдет. Не стоит. Письмо дам завтра, отправляй, как знаешь.
Говорил с лаской, и лицо у него делалось все веселее.
– Ну, что, конспираторша, надулась? Право, если б не отъезд скорый, я бы еще погадал. Помимо всяких дел, – забавно напоследках окунуться в самую гущу «конспирации», ехать тайно и среди финляндских скал и снегов идти, «закрыв лицо плащом»… Снегов-то, положим, нет пока, а без «плащей» бы дело не обошлось…
Литта встала, бледная.
– Я тебя прошу, не смейся. Можешь делать что угодно, но смеяться не над чем. Я не позволю. Это тебе не игра, не игра!
– Ой, какая сердитая! Ну, маленькая моя, ну, сестреночка моя, улиточка моя светленькая, улыбнись скорее! Разве я тебя хочу обижать? У меня, может, своя манера конспирировать? Вот одна максималистка все смеялась, смеялась, шутила-шугила, а между тем так себя законспирировала, что окончательно пропала, близкие товарищи даже не могут узнать, где она? Детка моя хорошая, смотри ты, пересерьезничаешь!
Он тормошил ее, целовал нежную щеку около уха, заглядывал в глаза. И она не выдержала, улыбнулась.
– Ага, не сердишься, смеешься! Мы еще ребята с тобой, нам пошалить не грех. Как давно не видались, а ты ко мне с важностью. Ну иди, маленькая, поздно. Еще успеем наговориться, я раньше того четверга вряд ли уеду. – И прибавил серьезнее: – А письмецо я завтра тебе приготовлю. Помудрите с Дидусей, как его переправить. Не бойся, я тоже постараюсь так и этак, обиняками… Что можно написать – то и напишу. Подумаю.
Литта ушла. И было у нее на душе мутно, вопросительно, недоуменно. Не о себе, не о своем, не о Михаиле… Нет, в глубине – ясно, тихо, твердо. А вот тут, близко, около, вьется что-то, и грозное, и неуловимое, и непонятное – серое. А она как слепая.
«Ну пусть… Ну пусть… – думает Литта, медленно раздеваясь в белой своей спаленке. – Может, и надо мне тут чего-то не знать. Я свое буду знать. Юрий милый – и страшный. Отчего страшный?»
Завернулась с головой в одеяло, сердце колотится, все – страшно. Она глупая, глупая, еще маленькая, еще слепая. Открыла глаза – темно, черно совсем, точно и вправду она слепая.
Нет, ничего, ничего, это темнота. Зажечь лампадку Гликерия забыла, – вот и все.
Думает дальше, уже не о Юрии, а о нем, о Михаиле. Он не страшный. И даже за него не страшно. Не случится с ним худа, не случится. Может, никогда не увидятся они больше?.. Ну что ж, Литта и одна пойдет… куда? К своему, по-своему, как сумеет. Все равно.
Но они увидятся. Нельзя, чтоб не увиделись. Такая длинная, длинная жизнь впереди, и никогда? Нет, нет, она знает, все будет. Все будет.
Литте уже не страшно. Кругом темнота, – а внутри, в глубине, – засветлело, точно лампадка горит. Там ясно, там она не слепая.
Туда и смотреть. Смотришь туда – нет страха. Опять вера: все будет.
Глава тридцать первая Вокзальные люди
С вечерним поездом прибыл на городской вокзал человек, по виду из купеческого звания, бородатый, в синей чуйке и в картузе.
Прошел вместе с другими пассажирами в буфетный зал, высокий, холодноватый. Вокруг было шумно, хлопали двери.
Кто ехал дальше – спешил перекусить. Толпились у буфетной стойки – там светло и даже будто теплее: дымятся блюда с макаронами, котлетами, сосисками, пахнет вкусно горячим кофеем.
Солидная финка разливает кофе и покровительственно следит за пассажирами: они сами берут тарелки, накладывают, что приглянется, и отходят к столикам, в глубину.
Бородатый пассажир навалил себе полную тарелку макарон, спросил пива и пошел в самый дальний угол. Сел там за непокрытый столик у окна, высокого, черного. Есть начал медленно. Пиво выпил, еще взял.
Зазвонили, задвигались, двери пуще захлопали… И вдруг сделалось тихо. Ушел поезд.
Кое-кто остался за столиками. Остался и пассажир в чуйке; его почти не видно в затененном углу. Финские девицы, в чистых передниках, хлопочут у буфета, новые блюда с сосисками откуда-то вытаскивают: сейчас опять поезд, с другой стороны. Да и он не последний.
Не русский вокзал. В том, как стакан стоит, как двери хлопают, даже в самой суете чувствуется не русское, не российское. Пассажиры в такой вокзал не вваливаются, а входят. Суета без растерянности. У финки за буфетом лицо благожелательное, но двигается она не поспешно, да и все девицы-прислужницы не столько служат, сколько надзирают. Работать они совсем не прочь: руки сильные, тащит девица корчагу с супом или кофейник ростом с самовар, – ничего, даже не согнется. А «служить», то есть метаться в стороны, как мечутся русские вокзальные лакеи в прожиренных фраках, – этим девицам несвойственно, верно, и в голову не приходит.
Опять звонок, опять захлопали двери, опять толкотня у буфета, – и вкусно пахнет свежезаваренный кофе.
Два пассажира, с тарелками, с какой-то бутылкой и стаканами, пошли к дальнему столику, где тихо и невидно ютился человек в картузе, сели почти рядом с ним.
Одеты оба незаметно; так незаметно, что видишь их – словно и не видишь. Есть одежда, – в ней как в шапке-невидимке. Не всякому и не сразу дается эта шапка-невидимка. Без долгих стараний ее не добудешь.
Бородатый человек, однако, заметил обоих. Удивился про себя. Он ждал одного; другого, – высокого, сутулого, с длинными сильными руками, – даже и не знал.
А потому, не глядя в сторону соседей, принялся пока допивать свое пиво.
Ближайшие столики были свободны. Там, к буфету, – еще сидят, едят, говорят невнятно: тихое жужжанье ползет по вокзалу.
– Не угодно ли нашего испробовать? – сказал бородачу ближайший из его новых соседей. – Хорошее питье. Здешнее. Не без крепости, однако ничего.
Тот поглядел из-под бровей.
– Можно и здешнего.
– Я стакан принесу да, кстати, еще бутылочку, – сказал длиннорукий и пошел к буфету.
Бородач поглядел на другого, на того, кого знал и ждал, и произнес:
– Письмо.
– Ага. Очень хорошо. Вы не беспокойтесь, Сергей Сергеевич. Это мой товарищ, Юс.
– Он что же, знает?
– По этому нашему делу? Да так. Что надлежит. Сергей Сергеевич помолчал.
– А я уж рукой было махнул, – сказал он раздумчиво. – Второй день по вокзалам. Уж боялся, как бы с хвостом не очутиться. Да нет, незаметно. В лицо они меня никто не знает.
– Не видать, – подтвердил весело Михаил. – Вчера было мне туда не попасть. А нынче вот счастливо.
Говорили не тихо, не громко. Обыкновенно. Слушать было некому.
Незаметным движением Сергей Сергеевич положил на стол около тарелок небольшой синеватый конверт и отвернулся, доедая охолодевшие макароны. Так же незаметно и быстро Михаил распечатал конверт и пробежал крупно исписанный листок, не снимая его со стола.
Потом взглянул на Сергея Сергеевича, еще раз проглядел письмо и спрятал.
– Он сам вам привез?
– Нет… Она. Просила на словах передать, если можно будет…
– Что?
– Да вот, что он очень хотел… свиданья, что сам первый даже заговорил… но потом отдумал. Не может, уезжает. И за вас беспокоится. Оно, правда, по вокзалам-то вам с ним путаться – куда же? За ним бы уж теперь семь хвостов волочилось, поезди он, как я. Привез бы вам угощение.
– Пожалуй. Больше ничего она не говорила?
– Говорила, что будто бы очень он жалел, что важное дело у него к вам, про которое в письме не напишешь. Какое – говорит, не знаю. Вот, однако, дал письмо.
Михаил кивнул головой.
– Да. Да. Хорошо. Так, значит, и будет.
– Ответ?
– Ответ на словах: да, хорошо. Это ей завтра же скажите, чтоб она ему передала. Я и написать это могу ей.
– Не надо. Не забуду. Ну их, не ровен час, у них в Белоострове. «Хорошо» – ну и ладно.
– Так ей скажите еще… ей, собственно… ну, что вот видели меня, что я… что мы с ней увидимся, я верю.
– Да уж скажу. Как не увидеться! Переходят времена у человека.
– Хорошо, хорошо… А давайте-ка выпьем лучше! Вон Юс несет и стаканчик, и все прочее! Переходят времена, а наше еще не перешло. Много его перед нами! Пожалуй, минут сорок, а то и час.
Подошел Юс и сел.
– В городе не остаться ли мне? – спросил он Михаила. – Или ты останься.
– Зачем? Пустяки! Проводим его степенство, и со следующим айда вместе. Девицы здесь, слава Богу, такие нелюбезные, что ни малейского внимания на нас не обратили. Выпьем-ка лучше в компании!
Налили. Выпили. Крепковато «питье», но Сергею Сергеевичу не привыкать же стать.
Михаил тоже не пьянел, хотя, должно быть, уже пил и раньше. У него странное сегодня, жесткое и темное лицо, синий взор не тяжел, но остр и горек. Сергею Сергеевичу под этим взором не то жутко, не то совестно. Сам даже удивляется.
– Вот и выпьем нынче с вами по-хорошему, дорогой вы Сергей Сергеевич, – смеется Михаил. – Иной раз следует выпить. Мы не святые. А у вас как, по вашему уставу, не возбраняется?
Сергей Сергеевич пожимает плечами.
– Ну чего. Какие там уставы. А только вот на вокзале-то сидеть да разговаривать… Что уж за место для компании.
Юс засмеялся.
– Для нашей компании самое место. Мы ведь так и живем, будто на вокзале. Приехали – глядишь, зазвенел звонок, фьюить, засвистело – уехали, и нет нас.
– Это вот верно! – сказал Михаил. – А вы, Сергей Сергеевич, нынче привыкли с удобствами разговоры разговаривать? В собственных креслицах, в невозбранной тишине? Тут, конечно, беспокойство, пассажиры, двери хлопают… Да мы-то уж такие этакие; дело наше такое, – вокзальное, неприкаянное…
– Чего ты, Шурин? Брось, – сказал Юс.
– Не беда. Вы не сердитесь, Сергей Сергеевич? Я ведь любя. Давайте на «ты» выпьем. Ладно? И с вокзальными людьми на «ты» можно выпить.
– Можно, – согласился Сергей Сергеевич. – А сердиться за что же? Не пойму только вас…
– Непонятен стал? Вот как. Ничего. В глаза поглядите – поймете. Сами говорили, всякого человека по глазам понимаете. Пока что – выпьем, голубчик!
Выпили. И Юс выпил. Они с Сергеем Сергеевичем нравились друг другу.
– Вот, Юс, – начал опять Михаил, – есть у нашего Сережи два друга. И они, и Сережа – славные люди, умные, и нам, вокзальным каинам, сочувствуют. Советы дают, наверно, хорошие, да очень уж для нас, глупых людей, туманно, непонятно. Между собой они дружны, все живут вместе и вид такой имеют, точно секрет знают, да не скажут. Хорошо им. Кому сочувствуют – советы. Эх, Юс, завести бы и нам троебратство, не мыкались бы мы по вокзалам!
– Ну, однако, дудки! – сказал Сергей Сергеевич, сдерживая голос. – Пьян ты – или не пьян, а я тебе этак говорить не позволю. Ты у меня замолчишь. Либо говори по-серьезному. Я тебе отвечу.
– Могу и серьезно. Даже хочу серьезно. А пьяным я никогда не бываю. Нету здесь друзей твоих – все равно. Я всем вам говорю.
– Оставил бы, Шурин… – опять вмешался Юс.
– Нет, пусть говорит! – чуть не закричал Сергей Сергеевич. – Может, это правда в нем говорит. Пусть.
Михаил поглядел на него и сказал печально:
– Я про то, Сережа, что теперь всякому, кто хоть на волосинку больше знает, дальше видит, – всякому надо пойти к нам, вот к таким, на перепутье, как я, например, и помочь.
Некогда разговоры между собой за чайком, в тишине разговаривать. Сочувствия да туманных советов ваших, коли так, – вовсе не нужно. Ведь это же сектантское да обывательское сочувствие.
– Нынче и обывательское, и оно редкость, – сказал Юс. Сергей Сергеевич помолчал.
– На волосинку, – произнес он, наконец, – на волосинку-то больше, может, и знаем. Да что с нее, с волосинки-то? Чем поможешь?
– Чем? Эх, Сережа! Как это не знать, чем помочь, коли хочешь? Делом маленьким, словом ясным… Слово ясное – великая сила, когда за этим словом весь человек стоит. За советом не стоит, оттого советы и не помощь, советы издали, от «сочувствующих», от непомогающих. Вот ты с письмом сюда на вокзал приехал, – так и то даже больше совета. А думаешь, слово-то ясное, про которое говорю, что за ним весь человек стоит, – не нужно оно? Волосинка-то?
Но вдруг махнул рукой.
– Нет, и этого не умею сказать. Хорошо вам, ну и живите себе по-своему. Мы, вокзальные люди, вам не товарищи.
– Да ты погоди рукой махать! – опять крикнул Сергей Сергеевич, сам испугался и продолжал тише: – Вот давеча Юлитта Николаевна про то же. Коли «сочувствие», говорит, так неси, что имеешь, а сидеть нечего. Сидеть! Тебе креслица наши показались. А того не понял, путаная ты голова, что мы и сами такие же люди вокзальные, три штучки непри-станные? Чего с наших вокзалов на свои зовешь? Давай в одно место съедемся, землицу купим, давай свой домок строить! Вот будет дело. Вот тогда и всякая волосинка пригодится. И будет оно! Не миновать. Это ты верно, чтоб человек за своим словом весь стоял, а не советы для приходящих. А креслицами не попрекай: вокзал это наш, а не креслицо. У самого оно вот уж где сидит!
Юс не равнодушен. С любопытством слушает разговор, но удивляется:
– Аллегории уж какие-то пошли. Дома хотят строить. Это что же должно обозначать? Скажи ты мне, милый человек, путем: какое это троебратство, чего надо-то? Шурин толкует…
Сергей Сергеевич озлобился.
– Глупые люди наболтали, троебратство! Коли хочешь знать, вот тебе. Дело одно случилось тогда на заводе. Худое было дело…
– Знаю, знаю, – прервал Михаил. – Помнишь, Юс, я тебе рассказывал на ночевке? Юс кивнул головой.
– Ну вот, – продолжал Сергей Сергеевич. – Нехорошо обернулось. Тут Орест хроменький чуть рассудка не лишился. Да и меня прихлопнуло. Как же, думаю, так? Не без меня оно все и делалось. А я, хоть и партийным был человеком, давно уж во всяких разных мыслях находился, в смятении душевном. Ну, я к ним; к старику да к хроменькому. Много тут вместе поплакало, умом пораскидано. Думаем: как это нет ни в чем удачи? Что ни возьми: хотят люди по-хорошему – а идет на худое. И дело пропадает, и сами пропадают. Хоть бы вас взять… Прежде-то ведь не так.
– Ну? – с любопытством спросил Юс.
– Ну, ясное дело: перемена в людях, по времени. Сердце в них выросло, а они того сами не знают: зачем, чего хо тят – не знают. Они хотят-то, чтоб всякое дело по-Божьему устроить, а сами думают: это мы по-человеческому, для человечества. Сердце у них не в работе, ну и пропадает работа.
– Эх… завел, – разочарованно протянул Юс. – К чему это ты?
– А к тому, что и ты, миленький, хочешь no-Божьи, да слово тебе непривычно, говоришь: нет, я по-человеческому, по-хорошему, как отцы, так и мы.
– Да ведь на одно же выходит?
– То-то, что не на одно. Коли сердцу тесно – удачи не жди. И не принижай ты человека. Человек всегда на полголовы себя самого выше. Забирай, забирай, как бы по-Божьи сделать, не стыдись; тогда и по-человечески хорошо выйдет.
– Дело, в облака лезть, – усмехнулся Юс. Михаил сдвинул брови.
– Чего споришь? Он просто рассказывает. У него слова только другие, свои…
– А хочешь переведу? – крикнул Сергей Сергеевич. – Думаешь, я твоих слов не знаю? Вольным переводом, а переведу. Программа максимум подгуляла у вас, поизносилась, не греет, оттого и минимумы трещат. Соглашайся – не соглашайся, а понимай.
– Идеологии у нас нет… – тихо вставил Михаил. Юс принужденно засмеялся.
– Да ну вас! Вон поезд какой-то опять пришел. Не твой ли, старец Божий? И затеяли, право! Иде-о-ло-гии! Нам думать, как с вокзала на вокзал целыми перепрыгнуть, а они об идеологии!
– Не мой ли, и то! – забеспокоился Сергей Сергеевич. – Народ повалил, с Иматры, должно; мой поезд.
Стало шумно. Зазвенел звонок. Юс поднялся.
– Я погляжу. Кстати в буфете рассчитаюсь. Михаил допил оставшееся вино. Измененным взором посмотрел на Сергея Сергеевича.
– Скучно мне, Сережа! – проговорил полуслышно. – Спорим, беседуем, вопросы решаем, а ведь у каждого и свое есть. У меня вот мать умирает. Давно, две недели как получил письмо, что совсем умирает. Теперь умерла уж, да я рад, что не знаю. Не знаю, ну и думаю, как о живой. И Натуся, должно быть, не знает; лучше это: ведь не поедешь все равно. Маленькая такая старушка, мама-то, сухенькая; я ее, бывало, по комнатам на руках носил. Только у нее двое нас и есть. Умерла уже, верно, да я не знаю.
Сергей Сергеевич положил свою руку на руку Михаила.
– Друг ты, хороший мой. Думай, думай, как о живой. Не бойся, любовь-то всегда живая. Христос с тобой.
Юс подошел поспешно.
– Есть. Как раз твой поезд. Сергей Сергеевич заторопился.
– Пойду, пойду. Пока толпа, оно лучше. Скажу там, что надо. Помню все. Чего прощаться, теперь уж ясное дело – увидимся. Кончай последнее, Михаил, увидимся. И с тобой не навек, – обратился он к Юсу. – Ты мои слова лихом не поминай, ты небось кое-что и сам уже знаешь.
Схлынул народ, ушел поезд, увез Сергея Сергеевича. Михаил достал письмо, опять, внимательнее, перечел его.
– Что? – спросил Юс.
Михаил сунул письмо в карман и встал.
– После.
Они вышли на платформу, в черную, как печная сажа, ночь. Ходили, ожидая своего поезда, вдалеке, где уж и деревянных досок не было, где и слабые фонари не мерцали.
Юс поежился от сухого, терпкого холода, все что-то ворчал, бормотал себе под нос:
– Да, вон чего… И-де-ология… Вон куда еще… Михаил, впрочем, не вслушивался.
Глава тридцать вторая Красный домик
Дни ли осенние с тяжелым, как сырой войлок, небом, близкая ли память о нежданном, досадном, длительном случае с крепостью, но только Юрию осточертел Петербург. Потерял он к нему всякий вкус.
Съездил туда, сюда, – люди зеленые, вялые, злые, точно октябрьские мухи линялые. Тянет прочь, подальше, где воздух еще голубой. Может, в Италию проедется. Он Рим очень любит. Но прежде всего, конечно, найти Наташу. А там будет видно.
Забрел он как-то к Лизочке. Но на прежней квартире ее нет, а разыскивать, расспрашивать – скука. Не стоит. Вряд ли дядя Воронка ее бросил. Ну, тем лучше. Вот когда вернется Юрий в Петербург, можно и разыскать, кто разыщется.
О Машке вспомнил мельком. Ну, и она разыщется со временем. Не наряжаться же теперь в картуз, не идти в Казачий. Не до того, наскучило, после.
Уехать – да; и вот еще мысль о последнем, передотъездном приключении, которое он себе выдумал, занимает его. Стильно будет окончено его петербургское житье.
Да и надо сказать Михаилу точную правду о том, что было с Юрием в крепости, чего не было. Михаил, зная его, знает, конечно, что Юрий на допросах не молчал, говорил ровно настолько, насколько было нужно, чтобы не повредить самому себе. Ничего не поделаешь. По счастливой случайности вышло так, что если и не избег Юрий кое-какого вреда другим, то разве очень незначительного. Хесю, например, взяли не из-за него; пришлось говорить о ней, но после, вдолге, когда ей уж это было все равно. А о многих и совсем умолчать посчастливилось.
Конечно, Михаил слишком умен, чтобы сплошь поверить всему, что Яков взвалил на Юрия. Но хотя бы Кнорр несчастный… Его-то уж Яков, наверное, убедил, что Хеся погибла именно из-за Юрия.
Впрочем, Юрий без всякой злобы или негодования думает о Якове: скорее, с брезгливым удивлением. Предательство, особенно систематическое, всегда казалось Юрию нерасчетливой и неумной вещью. Странно позаботился о себе этот хитрый дурак! На что надеялся? Рано или поздно не Юрий, так другой, но вывел бы его кто-нибудь на чистую воду. А последствия невеселые…
В общем же Юрию и поведение Якова, и сам Яков, далекий и ничтожный, глубоко безразличны. Противно, конечно, что этот человек ради своих каких-то целей и выгод заставил его потерять несколько месяцев в тюрьме, тянуть допросную канитель и хоть слегка, но повредить другим… Не без удовольствия преподнесет Юрий Михаилу документик, который так счастливо попал ему в руки. Они-то! Слепые, слепые! У Михаила чувства зрячие, да ведь ему, пленнику бедному, со своими «личными чувствами» не позволено считаться.
Ну, ладно, пусть слепенькие теперь с фактом сочтутся, коли не поздно.
Никто не должен знать о том, что писал Юрий Михаилу. Черт возьми, конспирация так конспирация! И романтика так романтика!
А Юрий назначил Михаилу свидание в Красном Домике.
С удовольствием, тщательно обдумал все мелочи. И тогда написал письмо, которое через незнающую Литту и верного Сергея Сергеевича попало, наконец, в руки Михаила.
День отъезда за границу назначен. Пятница. За последним обедом Литта, бледненькая, молча смотрит на брата. Странный он, а добрый. Такая ясная у него красота.
Юрий весел, но не слишком; графине была бы неприятна излишняя веселость: ведь все-таки разлука. Но и сам Юрий с нежностью поглядывает на графиню: она щедро обеспечила его путешествие, он доволен. От темно-синей дорожной курточки, прекрасно сшитой, Юрий еще свежее и моложе: восемнадцать – девятнадцать лет. Ласково, чуть-чуть покровительственно, говорит он с отцом. Николай Юрьевич не успел опять распуститься, держится, бодр.
– Что ты, сестренка, печальная такая у меня? – говорит Юрий, наклоняясь к сестре. Они сидят рядом. – И продолжает: – Заучилась? Это хорошо, только, если уж учиться будешь – лучше бы тебе в заграничный университет какой-нибудь, а не здешней курсисткой делаться.
– И поеду, – говорит Литта, но так тихо, что ее слышит один Юрий.
Графиня возражает Юрию:
– Она будет на частных курсах… Которыми наш добрый Дидим Иванович заведует. Прекрасно ведутся, как говорят.
– А я слышал, что Саватов оставляет курсы. Хочет будто ехать за границу с хроменьким племянником, там что-то такое затевать, неизвестно что.
– Молчи, Юрий, – шепчет опять Литта. Графиня подняла брови.
– Вот как? Нет, куда же. Это у них фантазии, – равнодушно заключает она.
Однако время идет. Пора на вокзал. С Юрием только чемодан и сумка. Терпеть не может, чтобы его провожали на железную дорогу, а потому торжественное прощание происходит тут же, в большой гостиной. Все присаживаются, молча. Первая встает графиня, заключает Юрия в сильные, сухие объятия, целует и даже крестит какими-то маленькими незначительными крестами.
– До свидания, Юрочка! – шепчет Литта, и печально падает у нее сердце.
В передней выскочила откуда-то Гликерия и с воплем припала к руке Юрия. Она целый день нынче ревет. Юрий даже засмеялся.
– Да что вы, Гликерия, Бог с вами! Не навек же вы меня провожаете! Полно!
За ним закрылась дверь – сразу все стихло.
Литта медленно идет по коридору к себе.
«Вот и нет Юрия, – думает слабыми, одетыми в печаль мыслями. – Нет, опять нет, точно и не было никогда. Был? Не был?..»
А Юрий мчится по черным улицам, мимо фонарных мокрых бликов, на варшавский вокзал. Перед ним широкая, темная спина Липата. Хваленый крупно забирает ногами, разжирел он, однако, за лето.
Дождя нет. Точно подсыхает. Или подмораживает.
Вот и мост на канале, вот и высокие часы… Вот за углом и темный проезд.
– Ну, Липат, счастливо оставаться. Кланяйся всем, Хваленого береги.
Липат снимает шапку.
– Дай вам Бог, Юрий Николаевич. Много вами довольны. Уж будем стараться.
Юрий видит, как Липат поворачивает жеребца. Скорей, скорей! Времени чуть не в обрез. Чемодан отдан на хранение. Не сегодня Юрий выедет за границу, только завтра, в десять часов утра.
А теперь – на другой конец города, на другой вокзал.
Как будет скорее? Извозчика взять? Или вскочить в трамвай?
Через полтора часа Юрий уже дремлет в низеньком, холодноватом и пустом вагоне финляндской дороги. Дремлется хорошо, приятно. Сквозь дрему думает, не словами, а так; представляет себя на пути к милому, старому Красному Домику. Идет пешком. Дорогу не забыл, отыщет, как бы темно ни было. Да и не хитрая дорога. Сторож жил вблизи только летом, но и он, летний, нынче в августе умер. Второе крыльцо не заколочено, – на замке и болтах. Предусмотрительный Юрий и о ключе позаботился. Незаметно, будто шаля со старой графининой связкой ключей, узнал нужный и взял.
Как, однако, холодно! Чем дальше в ночь, чем дальше от Петербурга, тем холод суше и острее.
Повозился-таки Юрий с замком и с болтами. Ему уж не холодно, – жарко. А холодок только бодрит. Славно было идти в сухой черноте от станции. А здесь какая глушь, какая тишь и чернота! Юрию кажется, что сосны вокруг выросли и сдвинулись, теснее стоят. Верно, и днем не видно Красного Домика в десяти шагах, разве только башенка торчит над серой, тяжкой зеленью угрюмых деревьев.
Юрию положительно весело, забавно. Вспоминает, как рисовал Литте возможность свидания: среди финских снегов он идет, «закрыв лицо плащом». Плаща нет, но зато есть Красный Домик, уж чего таинственнее? А что касается снега, то вот редкие, сухие, первые звездочки… Падают на лицо и томно, нежно тают.
В сенях Юрий зажег свечку. Жаль, о фонаре не позаботился. Ну, ничего, и так ладно.
Света в нежилом доме никто не увидит: все окна заколочены. Да и кому увидать, если б даже не заколочены? Кто пойдет сюда в глухую, осеннюю ночь? Красный Домик так стоит, что, быть может, не только ночью, не только сегодня, но и совсем, до самой весны, никто не пройдет тут мимо.
Из сеней через маленькую пустую «буфетную» Юрий прошел в следующую комнату, бывшую «нижнюю столовую». Тут и надо, по условию, основаться.
Однако и холодища же! Посмотрел на часы. Михаил придет минут или через двадцать, или через сорок. Смотря по тому, с каким поездом приедет. Надо спешить устроиться поуютнее.
Комната длинная, четыре окна слепо глядят внутрь: за стеклами бурые доски. Голый стол, решетчатые ветхие стулья. Против окон, в углу, у самой двери – камин.
Хорошо бы его затопить. Вот и пригодится старый хлам, который отсюда не вывезли. Легко сломал Юрий два стула, соломенные решетки занялись.
Теперь надо стол ближе к дверям – ближе к огню. На столе – высокая свеча в бутылке, вино – красное, пеклеванник и еще что-то в бумаге.
Уж какое есть угощение: и его пришлось добывать по дороге на вокзал, а потом еще сюда тащить пять верст.
Юрий стоял на коленях перед камином, когда в соседней комнате скрипнула половица и распахнулись двустворчатые старые двери из буфетной.
– Ты, Михаил?
Михаил вошел быстро, темный, кое-где напудренный первым снегом. Заговорил поспешно, прерывисто, – должно быть, очень торопился по дороге.
– Уходи, Юрий. Сейчас же. Нельзя. Наше свидание известно.
Юрий вскочил.
– Известно? Фу, какая нелепость! Ну… ты-то уходи скорее.
– Нет, не то, что ты думаешь.
– Да в чем дело? Кому известно?
– Не расспрашивай, некогда, уходи. Есть другая дорога?
– Скажи в двух словах. Ведь это же глупо! Чего ты боишься?
– Ничего, ничего… Я только хочу, чтоб ты сейчас же ушел. Наше свидание известно Кнорру…
– Каким образом?
– Я сегодня узнал, что ему сказал Юс. Юс не виноват: ведь я говорил с ним обо всем, и о том, какое опасное обвинение на тебя взводят, я ему даже намекал о… но пока только намеками. Юс должен был приехать сюда вслед за мной. Я хотел…
– Что?
– Чтобы ты при нем сказал все, точно, о себе. О крепости. Тебя тяжело обвиняют. Очень тяжело.
– Это неправда…
– Знаю, что неправда… И хотел я, чтобы при нем же, при Юсе, ты сказал о Якове.
– О Якове? Да разве ты догадался, кто он?
– Давно. Мне не верили. Не верят.
– Не нужно ничьей веры, – холодно произнес Юрий и вынул из бокового кармана узко сложенную бумажку. – Возьми. Собственноручная. Очень рад, что услужил.
Михаил взглянул, спрятал записку, побледнел еще больше.
– Теперь уходи; уходи же! Пойми, Кнорр знает, что мы с тобой сегодня здесь… А если Кнорр… так и этот… Яков.
– Ладно, уйду. Ты успокойся, выпей вина, а я сейчас уйду. Вместе бы ушли.
Юрий обогнул стол и налил вина в тонкий стаканчик. Темное, тяжелое, – оно дрогнуло и перелилось багровыми слезами, когда упал на стекло каминный отсвет.
– Не буду пить, не надо, – нетерпеливо сказал Михаил. – Ты не ребенок, ты должен понять, что нужно уйти. Яков способен решительно на все, ему безмерно важно помешать тебе видеться со мною. На все он способен. И у него такие верные помощники, как этот Кнорр несчастный… В нервную больницу бы Кнорра, а он, черт знает что, путается последние дни с Яковом, спаивает тот его… Безобразие. Безумие.
Юрий торопливо взял свое пальто со стула.
– Михаил, но если Яков подозревал, что у меня была та бумажка, то ведь понял же, что его дело у нас все равно пропащее. Он будет действовать в открытую. И в этом случае вернее нам убираться обоим.
Подумал мгновенье.
– Или не разумнее ли подождать? Скорее, можно столкнуться по дороге. Что же лезть на глупую случайность?
– Не знаю, не знаю… Нет, я почти уверен, что Яков в открытую не станет еще действовать. Юрий, не надо нам оставаться здесь вместе. Яков одно знает, что ты ему поперек дороги. Черт с ними, конечно, уходи…
Они понизили голоса почти до шепота. Юрий, с пальто в руках, оглянулся, ища свою шапку. Хотел что-то сказать, остановился. И вдруг оба стали прислушиваться.
Но было тихо-тихо. Только неуловимым звоном, как бы подземным гулом чуть гудели сосны от тихого ветра. А может быть, и того не было. Может быть, это звенела кровь в ушах от тишины.
Вдруг Юрий досадливо тряхнул головой.
– Что ж, уходить так уходить, – произнес он громко. – Этакая нелепость! Весьма неромантично теперь удирать, – однако в угоду тебе… Дело мы одно сделали…
– А другое оставь, сам знаю.
– Мое? Да, Михаил, ты должен знать сам, что я не молчал на допросах, но говорил настолько, насколько это было нужно для меня. К счастью, нужны оказались пустяки. Хеся бедная…
Михаил почти не слушал, нетерпеливый и взволнованный. Он стоял против Юрия, спиной к камину. Сухие доски сгорели быстро и теперь, шурша, обваливались.
– Хеся умерла в тюрьме.
– Да, бедная… Облила себя керосином и сгорела. И ламп-то, кажется, керосиновых нигде уж нет… Жаль.
– О ней ты говорил, Юрий? Кнорр убежден, что ты…
– Ее не из-за меня арестовали, ты теперь знаешь. Пришлось говорить о ней, да; но это все после… Ну, прощай, ладно. Уходил бы ты тоже…
– Уйду… – как-то глухо произнес Михаил. – Вот Юса только дождусь… – И прибавил: – Прощай. Я уйду. Я ухожу… совсем. Куда ухожу, там уж мы с тобой, верно, не встретимся. И не надо.
Юрий точно понял скрытый смысл этих странных слов. Улыбнулся, пожал плечами.
– Как знать? Со мной – везде можно встретиться. Я люблю всякие пути, все дороги. Столкнет еще судьба. Пока желаю тебе счастья… только вряд ли ты будешь когда-нибудь счастлив.
Придерживая одной рукой пальто, Юрий другую протянул через стол Михаилу.
– Юрий!
– Что? Да ухожу, ухожу! Поклон Юсу. И не бойся, я все тропинки тут знаю. Ты-то не заблудись.
И, все еще улыбаясь чуть-чуть побледневшими губами, он шагнул к двери.
Но с жидким треском она разломилась перед ним надвое; черной пулей ворвалось, влетело что-то, – человек или зверь, – налетело, загрохотали, опрокидываясь, стулья, стол подломился на слабых ножках и рухнул, зазвенела, рассыпаясь, посуда, свеча погасла. Михаил упал навзничь, головой к догоревшему камину {только нитка красная тлела там), упал, – и стол на него, больно, краем.
А то, ворвавшееся пулей, – человек или зверь, – в темноте кричало, возилось, выло, не то рычало, не то бормотало, точно темнота сама рычала, сама разъяренная зве-риха, многолапая, многоротая, душит черной шерстью.
Михаил отбросил край тяжелого стола, оперся на руку, обжег руку, потом обрезал руку, вскочил, опять упал, наконец, хватаясь за торчком торчащую доску стола, поднялся. Должно быть, кричал, но сам своего голоса не слышал.
Первая ясная мысль: огня! Да ведь у него фонарь, – тут, на камине. Вот фонарь, цел. Сейчас сейчас, только открыть боковую стенку…
Надежды, впрочем, не было. Не знал, что случилось, но знал, что непоправимое.
Узкий красноватый луч потянулся от камина вниз. Михаил шагнул вперед, за доску стола.
– Юрий, Юрий! Боже мой, воды!
На ногах у Юрия, скорчившись, как маленькая темная обезьяна, сидит Кнорр. Еще подвывает обезьяна, еще бормочет, но уже ослабела. Вертит безумными, пустыми глазами, странно трясет пальцами.
– Я решительно… ничего не мог поделать с ним, – говорит скрипучий голос около Михаила. – Он в таком состоянии…
Подсунув руку под плечи Юрия, Михаил пытается его поднять.
– Воды, воды!
И вдруг, по тяжести тела, по спокойствию лица в луче света – понял, что Юрий уже умер. Без слова, без стона, вероятно, без борьбы – умер.
– Право же, я не мог… удержать его, Михаил, – скрипит опять Яков, и зеленая маска его дергается, собирается в морщины. – Мы остановились, слушали. Ведь этот признался тебе… ну и не было никаких сил сладить…
Пониже левого плеча, на синей дорожной курточке Юрия торчит темная рукоятка финского ножа. Ослабевшая обезьяна тянется к ней скрюченными пальцами. Выдернуть хочет? Испугалась? Но нет силы.
И нет времени. Михаил цепко схватился за трясущиеся руки и откинул Ккорра далеко к стене. Отлетел, грузно шлепнулся на пол и сидит там, распялив ноги, глядит белыми глазами, бормочет свое.
Перед Михаилом, на пороге раскрытой в темноту двери, – Юс. Он только что пришел, стоит, длинный, сутулый, весь в снегу.
– Это что?
– Юс. Убили. Яков опоил Кнорра и толкнул его с ножом из-за угла. Рассчитал, что время. Что убитый не успел… Он успел, Юс. Яков – предатель. Доказательство у меня.
Яков кошачьим движением сунул руку в карман. Но Юс грубо и быстро кинулся на него, схватил за горло и перегнул, как слабую трость, назад.
– Убийцы… – хрипел Яков. – Бейте, бейте, с… дети.
– Юс, прочь! Это не наше дело!
– Бейте… бейте…
– Бей предателя! – мелькнули вдруг ясные слова в сплошном, зверином бормотаньи Кнорра.
Он глядел без мысли, сидел на полу, качался. Безумно облизывал чем-то запачканные пальцы. Чем? Вином пролитым? Не вином?
Михаилу удалось оторвать руку Юса.
– Прочь, я тебе говорю!
Яков с омертвевшим лицом стоял, опершись о стену.
– Юс, ты не смеешь, я тебе приказываю его оставить!
– Чего оставить! Как это оставить?
– Скрути ему руки назад. Слышишь? Юс, я не хочу, я не позволю.
Юс, тяжело дыша, повиновался.
– Крути, крути крепче… Вот ремень. Больше ничего нельзя, нельзя, довольно! Пусть о нем другие позаботятся, не мы. Не марайся теперь об этого… Нельзя. Ну, скорее! Пора идти. Вместе уйдем.
– Да вы что это? – вдруг плаксиво застонал Яков. – На смерть меня тут бросаете? Голубчики…
– Смерть, смерть предателю! – опять явственно и монотонно выкрикнул Кнорр, лижа безумно мокрые пальцы.
– Пожалуй, опамятуется этот к утру, развяжет… Эх! – бормотал Юс, туго крутя ремни. – Чем он, дьявол, так опоил его?
Михаил с фонарем в руке наклонился к телу Юрия.
Как побледневшее лицо просто. Мертвое, – оно точно и не было никогда живым. Мертвая красота. Глаза полузакрыты. Михаил смотрит, смотрит – и в мертвых чертах боится узнать черты другие, милые, близкие, навеки ему дорогие… Брат! Вот оно, непоправимое!
Непоправимое? Или только незабвенное?
– Готово! Идем, что ли?
Подойдя, остановился и Юс около тела. Посмотрел.
– Экий… случай какой несчастный…
И снял шапку.
Михаил поднялся. Переступил через длинные, темные лужи на полу, – что это? вино пролитое? или не вино? – и оба они с Юсом пошли, не оглядываясь, вон.
Красноватый луч света прыгнул на стену, соскочил, побежал вперед. И сник совсем.
В темноте остались трое: мертвый, безумный и связанный.
Глава тридцать третья Черепки
Тихий март.
Даже не март еще, – конец февраля, но воздух мартовский, светы мартовские, небо мартовское, да и земля: кое-где лишь по равнине, у низких холмов, белеют пятна снега. Зима была несуровая, и рано зажглись небеса обещанием весны.
По равнине размашисто круглится железнодорожный путь. Далеко-далеко сверкают рельсы, тонут в редких сосновых перелесочках. Вот сбоку тоже небольшая кучка таких корявых сосенок. Около нее, без ограды, – серая бревенчатая церковь. Просто сруб, и бревна потемневшие тонки, и стоит сруб высоко, на четырех подставах, внизу пустота. Странная церковь, – ни дать ни взять сказочная избушка на курьих ножках.
В этой серой церкви в это радостное утро отпевают Машкиного ребеночка.
Маша стоит у маленького дощатого гроба, прислушивается к неизвестным и невнятным возгласам торопливого попа в короткой, обшмыганной рясе. Дьячок частит-частит – и опять поп. Не плачет Маша, только вздыхает да утирает лицо платком. Наплакалась вволю вчера с вечера, как приехала, да нынче, обряжая в гробик младенца.
Сторожиха-кормилка говорит – в два дня свернуло. Уж она к доктору его, уж она и то и се… Сама очень жалеет.
Стоит теперь тут же, около Машки, в ковровом платке, и девочку свою взяла, Машка на нее не сетует; что ж, видно уж судьба.
Егорушка желтенький, ресницы склеились, и все-таки хорошенький. Маленький-маленький, носик тонкий, из-под чепчика на лоб падает вьющаяся светлая прядь.
«Мальчик-то какой… Кудрявенький… Илюшечка…» – думает Маша тупо теми же словами, как всегда о нем думала. Когда крестили, все хотела сказать батюшке, чтоб Ильей назвал, а батюшка дал имя Георгия. Вышел Егорушка, но для Маши он в мыслях – Илюша.
Читает нараспев священник, частит дьячок, сторожиха сморкается, а Машкины мысли все ползают около ее «мальчика кудрявенького». Вот закопают его сейчас, и не будет… Ничего не будет, как не было ничего.
Родился он после нового года. Машка уж не на старом месте жила: там – съела Степанида. Новые господа попались ничего. Барыня Машку заметила, расспросила мельком, и говорит: ну, мы теперь уезжаем, тебя не гнать же, оставайся при квартире с кухаркой, а приедем – ты уж тут справишься.
И уехали. Машка стала жить. О воспитательном справлялась. Жить было ничего. На дворе только страмили, а то ничего, и кухарка женщина добрая, самой доводилось.
За последнее время, перед родами, Машка совсем об Илье не стала вспоминать: сгинул – и сгинул; сквозь землю точно провалился; точно он ей во сне привиделся; одна смутная память о нем, какой он. По осени, когда она еще на старом месте жила, – еще скучала, хоть не признавалась. По осени вышел раз такой случай.
Шла Машка в сумерки по Загородному с Анютой из двадцать четвертого. И видит – стоят у самой панели санки (только первый снег выпал), а в санках – Илья.
Он. Серая мерлушковая шапка на лоб надвинута, его глаза веселые.
Машка и себя не помнит, кинулась к саням.
– Илюша, Илюшенька!
Он глядит на нее, молчит, а Машку Анюта за платье давай дергать.
– Какой тебе Илюша? Чего ты? Разве не видишь, это барышня!
Совсем у Машки в глазах помутилось. Вот так Илюша. Дворники у ворот смеются. Заревела Машка от стыда и от страху.
А барышня к ней из санок наклоняется, расспрашивает, ничего понять не может. Тут бы им уйти, да Машка вцепилась в барышню и, плача, толкует про Илюшу. Кучер дворников кликнул: не пьяная ли? Но барышня вынула из кармана книжечку, написала, оторвала листок и дает Машке:
– Вот, милая, вы по этому адресу придите ко мне, там и расскажете, на какого я Илюшу похожа. Все мне тогда расскажете. Да не плачьте.
Вышла из магазина дама, села к барышне в санки, – укатили.
Адрес у Машки остался. Но обдумалась Машка. И заробела. Чего к чужой барышне идти? Какой там Илюша? Помстилось ей в сумерках. Так и не пошла тогда.
Пока не родила – думала про воспитательный, как все думают: куда же еще? А подали ей тоненького, беленького, кудрявенького, взял он грудь, поглядел темными глазами. – Машка обомлела. Как она такого мальчика хорошенького, кудрявенького – в воспитательный?
Взяла да и привезла на квартиру. Лукерья-кухарка разахалась.
– Ты, девка, ополоумела. Разве мы смеем? Господа приедут, на улицу, что ли, с ним пойдешь?
– Да мальчик-то, гляди, какой хорошенький, Лукерьюш-ка! Лучше же его, коли так, на вольное воспитание отдать. Илюшечка мой!
– Разве что, – соглашается Лукерья. – Есть у меня женщина. По балтийской дороге сторожева жена. Берет.
Две недели кормила Маша младенчика. Приехали господа. Удивились. Барыня похвалила ребенка, узнала, что Георгий – Юрочкой назвала, а потом говорит:
– Ну, Маша, я тебя вполне понимаю, однако натешилась, две недели кормила, пора и честь знать. К Лукерьиной знакомой отдаешь? Завтра же и вези.
Так и свезла Маша Егорушку к сторожихе. Барыня добрая, на первый месяц деньги дала, а там будь что будет. Христом-Богом заклинала Машка сторожиху беречь кудрявенького, рожок мыть, черной соски не давать. Пососал напоследях в сторожке материнскую грудь Егорушка, и Маша уехала.
Тут уж она затосковала. И о ком тоска – не понять. О Егорушке ли, об Илюшеньке ли… Места не найти. Вспомнилась та барышня. Хоть расскажу ей. Взяла да и пошла искать барышню.
Дом богатый. Не опомнилась Машка, а уж ее адресок швейцар на подъезде читает.
– Барышню видеть невозможно, а ее сиятельство нынче просительниц не принимают.
– Як барышне… – робеет Машка. – Оне мне сами вот написали.
– Когда это написали? Русским языком говорят – невозможно их видеть. За границу они уехали, уж месяца три.
– Уехали? – шепчет Машка. – Нездешняя, значит, барышня-то?
Швейцар рассердился.
– Да что ты, голубушка? Чего тебе надо? Сама не знаешь, кого спрашиваешь. Коли написано Юлитта Николаевна, так это будет внучка ее сиятельства, а ты – нездешняя!
– Илья тут у вас не служил ли? – совсем бессмысленно спрашивает Машка и сама чувствует, что никакого ответа не получит, что надо поскорее уйти, пока швейцар не толкнул ее на панель.
Ушла. И чего ходила?
Сторожиха редко письма присылает. Стала Машка привыкать, забывать немножко. Вдруг письмо: «Приезжайте, мать, Егорушка плох, не помер бы». В тот же вечер приехала Маша в сторожку, а он уж давно кончился, хоронить ждут.
«Вот и похороним», – думает она тупо, слушает непонятные слова и глядит на огонек тоненькой свечки. В солнечном луче, что косо и дымно тянется из окна церкви, огонек – словно прозрачно-желтая мушка вьется над воском. Желтее огня и воска Егорушка в гробу. А волоски золотятся, как живые.
«Может, несчастненький был бы…» – хочет утешить себя Машка, вспомнила сторожихины слова. Но не утешают они, не верится им. Счастливый. В сорочке ведь родился. И вон, кудрявчик. Кудрявые – счастливые. Как же так – помер?
Отпели. И невзвиделась Машка – гробик заколочен, взял его дьячок и понес из церкви. Вниз по шаткой лесенке, по солнцу, туда, где меж корявых, низкорослых сосен частые кресты.
И скоро как все обернулось. Вот уж закопали, вот батюшка с дьячком ушли, мужик ушел, что рыл могилку, остался только маленький сырой горбик, да Машка над ним, да сторожиха в ковровом платке, – девчонку свою за руку держит.
– Полно-ка, милая, не убивайся. Упокоил Господь младенческую душеньку иде же праведные… Поклонись-ка, землицы возьми на память с могилки, да и пойдем. Чайком попою, помянем младенчика…
Рядом со свежим сырым горбиком – другие горбики, большие и малые, тесно-тесно; желтая, мертвая трава на них, а между, по местам, снежок белеется. И еще что-то все белеется середь темных комков земли.
– Это что же такое, тетенька? – говорит Машка, приглядываясь. – Словно кости…
– Черепочки это, милая, черепочки… Что поделаешь, такое уж у нас кладбище. Мелко роем, потому нельзя, вода. А мелко роем, – веснами и размывает могилки, которые постарше. Старое ведь у нас кладбище, беда, старое.
Она наклонилась и подняла маленькую круглую чашу, такую чистенькую, такую белую на ласковом солнце.
– Вот черепок-то, вымыло его; тоже, видно, младенчик был… Этого у нас много. Летось барышня одна, дачница, увидела это и забрала; возьму, говорит, на письменный стол к себе положу. А потом невдолге гляжу я – обратно несет. Нет, мол, им у меня, должно быть, без спокою: снятся мне. Лучше их земле отдать, землей покрыть. И зарыла. Что ж поделаешь.
Машка стала накапывать себе с могилки земли, да повалилась лицом вниз и завыла.
– Илюшенька! Егорушка! Кудрявенький мой. И на кого вы меня, бесталанную… На кого вы меня… Да на кого вы меня…
Голубая круглая чаша вверху такая чистая, такая ласковая. Обещание весны такое верное. Близок юный март. Сторожиха тянет за кофту, с добротой уговаривает.
– Полно-ка, молодушка, встань, встань. Грех так убиваться по младенчику.
Встала Машка, всхлипывает.
– Что ж это… Илюшечка… Кудрявенький. Черепочки теперь… Куда теперь?
А сторожиха все тянет за рукав.
– Пойдем, милая, пойдем. Землицы-то взяла? Христос с ним. Пойдем, чайку попьем, вспомянем… Пойдем-ка скорее.
Голубая круглая чаша над ними, над светлым кладбищем, над серой церковью бревенчатой, – голубая чаша такая чистая, такая ласковая. Обещание весны такое верное.
Близок юный март.
Роман-царевич*
История одного начинания
Глава первая В буре и грозе
– Чего я желал бы?..
Разговаривали полушутливо, о каких-то пустяках. Ведь они едва знакомы.
Кругом тихо и темно. Так тихо, темно, притайно, как бывает днем в летнюю пору перед сильной грозой.
– Чего желал бы…
И ветер, со стоном, внезапно сорвался, – будто сама туча взмахнула темно-синими крыльями.
Сразу ударил ветер, зашумел сырым холодом около девушки, сидевшей на ступенях балкона; длинные, волнистые пряди ее бледных волос вырвались из косы и повлеклись по ветру. По ветру, с жидкими, торопливыми жалобами, влеклись вершины берез, клонились, тянулись, стлались, влеклись длинными прядями, зеленые июньские листья сыпались вбок и улетали…
– Что, что? Не слышу! Ветер! и гром! – прокричала девушка, стараясь вдохнуть, глотая ветер и смеясь.
Собеседник ее, молодой человек в синей косоворотке, сделал два шага вперед, навстречу ветру, и крепче надвинул полотняную фуражку.
– Хорошей грозы желал бы… Ветра, ветра…
Слова с ветром летели, пролетали мимо девушки, едва слышные, едва понятные.
– …желать? Быть может, еще жениться на вас… Конечно, ей послышалось. Ветер отнес, запутал, исказил слова. Как смешно.
– Что вы говорите? Что? – крикнула она опять сквозь сухой шум испуганных берез и переливчатое воркованье грома.
А вдруг он повторит? Как быть тогда? Ведь это или насмешка, или наглость, или сумасшествие. Они едва знакомы. Но такой странный человек…
Гром поднял голос, зарычал, раскатился и закатился, но не смолк. Ветра вдруг словно не бывало. Словно улетел весь – ничего не осталось.
В синеватой тишине прозвучали спокойные слова:
– Я сказал: «чего желать? О, так желаний много…» Вы не помните этого стихотворения?
Тишина была мгновенна. Опять налетел ветер, второй, опять покорно вытянули березы свои зеленые волосы, опять, опять… А над ними, по синей туче, словно кто-то пальцем прочертил огненные слова. Сквозь железный грохот освирепевшего грома не слышно было, как стукнула балконная дверь.
– Лилька, безумная! Что ты здесь делаешь? Иди скорее домой. Такая гроза. Наверху уже, кажется, окно разбило.
Девушка, поправляя выбившиеся волосы, поднялась.
– Иду, тетя Катя. А так хорошо!
– Ничего нет хорошего. Подумаешь! – кричала тетя Катя, молодая, пышная, красиво освещенная молниями: от них то розовел, то червонел ее белый капот.
– Батюшки! Да и Роман Иванович тут с тобой. Роман Иванович! Идите! Убьет непременно.
Сменцев обернулся.
– Нет, не убьет. Я люблю ветер. И он меня любит. Не бойтесь.
Зашагал прочь от балкона и сгинул за деревьями, за сизой мглой начинающегося, еще летучего дождя.
– Экий сумасшедший. Ведь ливень будет. Ох, вот опять! Иди же, Илюша, я дверь ставней прикрою.
Они вместе вошли в длинную, низкую комнату, где стояли сумерки, – хоть огонь зажигай.
– Пойдем наверх, к детям, – сказала Катерина Павловна. – Там и светлее, да и Витя меня беспокоит, позеленел весь, явно трусит грозы, а не признается. Такой нервный ребенок.
По угловатым, нелепым, темным коридорам они дошли до прихожей и стали подыматься по лестнице.
Лестница широкая, дубовая, винтом – потому что в башне. В круглом окне трепыхались молнии.
– И не знаешь, что делать нужно, что говорить, вот хотя бы в грозу, – болтала Катя, путая по ступеням складки капота. – Вот я была маленькая, в деревне у нас, в Шишкове, так когда гроза – няня свечки под образами зажжет, удар – она сейчас «Свят, свят…» и нам велит креститься, и рассказывает что-то такое интересное и утешительное… А с Витей сидит эта идиотская бонна ученая столбом, да равнодушно мямлит: «Это электричество. Займитесь книжкой».
Девушка улыбнулась. Очень похоже передразнила Катерина Павловна Витину деревянную бонну.
– Вавочке – той все равно, а Витя ужасно впечатлительный. Громоотводом его, что ли, утешить… Да громоотвод у нас испорчен, неудачный такой…
Пришли в детскую. Там было все словно по писаному, четырехлетняя Вавочка мирно занималась кубиками на ковре, бонна сидела равнодушным столбом, а Витя забился в дальний угол.
Вавочка – общительная, ласковая, в меру шумная, толстая девочка. Коротенькая и черноглазая – в мамашу. Витя неизвестно в кого. Он рыжеват, бледен и тонок. Брови у него тоже светлые, как будто и вовсе их нет. Но часто морщит брови, и тогда лоб краснеет.
– Мама… – приветливо пропела Вава, че оставляя кубиков.
Но Катерина Павловна позвала Витю.
– Куда ты спрятался? Уже гроза проходит. Иди. Кто же боится грозы? И ведь уже тебе скоро восемь лет.
– Я и не думаю бояться. С чего ты взяла? – проговорил Витя быстро, дрожащим голосом. – Просто неприятно. Стучит. И потом ветер.
– И ветра нечего бояться. Лиля, ты слышала, как Роман Иванович крикнул, что ветер его любит, и отправился в парк? Экий чудачина. Пожалуй, и дождь его любит. Гляди, что делается.
Окна облились сплошными потоками воды. Точно ведро на них опрокинули. Но так же внезапно дождь прекратился, шумел только ветер. Молнии становились реже.
– Ветер его любит… – как-то задумчиво сказал Витя, выполз из угла и присел на ковер около дивана. Потихоньку.
Вавочка полезла на колени к матери. Занятая собственными однообразными мыслями, однообразно, нараспев повторяла: «ма-ма, ма-ма!» Потом потянулась к сидевшей рядом девушке: «У-ля, У-ля!»
Но та не обратила на нее никакого внимания.
– Ты, Катя, давно знаешь Сменцева? – спросила она.
– Давным-давно. Ведь он Алексеев давнишний приятель. Знаю-то давно, да почти не видала. Мельком. Живет он с нами в первый раз. Говорят, интересный. Алексей в нем души не чает. И представь, Люлюша, ему лет под тридцать, а кажется юношей.
– Нисколько не кажется, – возразила девушка.
– Ну да, это потому, что он такой широкий, крепкий, плечи точно четырехугольные. Но он высокий, это при высоком росте красиво. А лицо у него совсем юное.
Девушка ничего не ответила, хотя и тут, кажется, не согласилась. Смуглое лицо Романа Ивановича встало вдруг в ее памяти ярко. Беспокойное лицо. Красивое? Некрасивое? Не в том дело: беспокойное. Изогнутые, длинные, будто нарисованные брови; плотные усы, небольшие, похожие на кусочки черной ваты; притом и брови, и глаза, и все в этом лице – чуть-чуть криво. Усмехался он тоже немного вбок. Вот эта кривизна, должно быть, и беспокоила.
– Да, он красивый, – протянула Катерина Павловна, играя с девочкой. – Красивый… Ах, я вспомнила. Он уже как-то говорил, что любит ветер. Студентом, давно, в ссылке, бедствовал; нанялся в машинисты или в истопники, что ли, на железную дорогу. Рассказывал, хорошо на паровозе. Ветер, говорит, так и бьет в лицо…
– Сам на паровозе? И не боялся? – робко и жадно спросил вдруг Витя.
– Он-то! – засмеялась Катя. – Не всем же быть такими трусишками, как ты. Я думаю, Роман Иванович в твои годы…
Остановилась, заметив, что Витя покраснел весь и нахмурился.
– Я… не трусишка… – проговорил он. – Вот Уля пусть скажет. А про него я… знать ничего не хочу… Ничего, да.
Девушка нежно обняла Витю и прижала к себе.
– Конечно, ну его! Почем мы знаем, где он там ездил, чего боится, чего нет. Страшных вещей нужно бояться, это не трусость, а чего не надо, того и ты, Витя, не боишься. Я же знаю.
– А вот и солнце! – сказала Катерина Павловна, вставая. – Можно и окно отворить. Совсем прошла гроза.
Глава вторая Стройка
К обеду ждали из Петербурга хозяина, Алексея Алексеевича Хованского, и так как погода совсем разгулялась, то накрыли на террасе.
Алексей Алексеевич приехал кислый и сумрачный. Сумрачен он был, положим, всегда. Стоило взглянуть на его длинные, бледные, вялые усы, чтобы понять характер этого человека: тихое уныние. Умелый инженер-архитектор – он проявлял большую деятельность, но порывами. А потом опять кис, сидел небритый дома по неделям, молча раскладывал пасьянс и с отвращением вспоминал свои работы. Он, впрочем, был мягок, добр, нежен к семье, никогда не ворчал и не сердился. У Хованских было порядочное состояние, и это, к несчастию, позволяло Алексею Алексеевичу месяцами предаваться своему унылому безделью.
Катерина Павловна прошла в спальню, где муж умывался и переодевался с дороги.
– Гроза тебя где застала? Не здесь?
– Нет. Ехал от станции – уже солнце было.
– А где же тебя так вымочило?
– Не вымочило. Ефим меня в грязь опрокинул. Катерина Павловна всплеснула руками.
– Господи! Да как же это?
– Да как же. Очень естественно. Дорога хороша: пока до этого скверного лесного острога доберешься, все кости сломаешь.
– Почему острог, – обиделась Катерина Павловна, – сам же строил, сам выдумал и кирпичи эти, и башни довольно нелепые, а теперь бранишься. Мог бы и о дороге позаботиться, хоть о той, что по нашему лесу идет. И всего-то шесть верст…
Алексей Алексеевич молча отвернулся, отыскивая пиджак. Еще дорогу строить! Ему смертельно и так надоела возня с этим глупым имением, которое он с чего-то приобрел года три тому назад. Имение, имение! Просто громадный кусок земли с грязными болотистыми лесами. На берегу небольшого озера Хованский выстроил замысловатый каменный дом, с круглыми башнями, с водопроводом, неудобный и холодный. Расчистили вокруг лес, сделали аллею к озеру.
Пока строилась новая дача – оба радовались, и Катерина Павловна и Алексей Алексеевич: у нас будет имение. Но вскоре дача надоела Хованскому: нелепая. И глушь, и вся Новгородская губерния какая-то нелепая, сырая, кислая.
Не хотели сгоряча давать название своей даче: долго обдумывали. Называли просто «стройкой». Привыкли незаметно, и так эта дача и осталась навсегда под глупым и нелюбовным именем «Стройка».
Хозяйства на Стройке порядочного не было. Какой же Алексей Алексеевич хозяин? Ближняя деревня, пьяная, убогая, – в двух верстах. Станция захудалая. И на Стройке жилось, действительно, не очень уютно.
Уныло сказал еще что-то Алексей Алексеевич о Петербурге, об одном деле, которое «ему навязали» и которое он кончал. Пошли обедать.
На террасе влажно и жарко. Невысохшие березы недвижны, и листья ровным светом горят на солнце.
Дети ужасно обрадовались отцу. Мальчик, как подошел, прижался, так и не выпускал отцовской руки.
– А, Улинька, «сияющее видение»! – сказал Алексей Алексеевич, целуя в лоб подошедшую к нему белокурую девушку и грустно улыбаясь ей под усами. – Рад видеть вас в добром здоровье, прелестная моя родственница. Не утонули еще в болотах? Привет от бабушки.
– Видел графиню? – спросил Сменцев, который сидел рядом с хозяином. Сменцев был в такой же синей косоворотке, очень, однако, приличной и красиво облегающей широкие его плечи.
– А ты разве… Да, ты знаешь ее сиятельство. Был, был я на минутку с докладом, вот насчет того, что внучка ее к нам прибыла и находится в вожделенном здравии. Сама графиня доклада потребовала.
– Могли бы и не трудиться, – холодно сказала девушка, которую Хованский называл гоголевской Улинькой – сияющим видением, дети – просто звали Улей, тетя Катя – Лилей, а бабушка и отец – Литтой.
– Бабушка-графиня вам не нравится, Юлитта Николаевна? – удивленно сказал Сменцев и поднял длинные, тонкие брови. – Изумительная она, графиня.
Литта поглядела строго.
– Что значит «не нравится»? Не понимаю.
И, обратившись к Алексею Алексеевичу, прибавила:
– Бабушка до сих пор не стесняла меня излишней заботливостью, я и за границу ездила одна. Не понимаю, что это вдруг. К вам нынче едва отпустила.
– Сильно она переменилась, – задумчиво сказала тетя Катя, – не постарела, а скорей помолодела. Я, впрочем, редко у нее бываю. Родня мы дальняя…
Разговор на минуту сник. Литта, скучная, глядела в тарелку. Хованскому было неприятно, что он как будто расстроил девушку, хотя не понимал – чем.
Был благодарен Сменцеву, когда тот заговорил о постороннем.
Роман Иванович не молчалив. Правда, споров он избегает, но рассказывает охотно и весело.
– Катерина Павловна, – говорит он, – не странно ли, что я Алексея сто лет знаю, а с вами до последнего времени почти не знаком был?
– Да, – мечтательно сказала Катя. – Я помню, какие мне тогда из Петербурга Алексей о вас письма писал. Восторженные. Я ничего понять не могла, но очень жаждала с вами познакомиться. И не вышло. Приехала в Петербург, а вас уже там нет.
– Да, друг, скоро тебя тогда убрали: я и не опомнился. Девятнадцатилетнего мальчишку, первокурсника…
– Вы где были в ссылке? – спросила вдруг Литта.
– В местах не столь отдаленных. Да я не жалею. Рад, что сразу же, без проволочек это случилось и по пустяш-ному поводу. Успел без потери времени, на свободе, и продумать нужное и прочувствовать.
Катерина Павловна засмеялась.
– Это в ссылке-то – «на свободе»?
– А еще бы. Чего лучше: одиночество, отсутствие всякой среды, – среда в юности очень влияет, – полная самостоятельность (я ведь не в тюрьме сидел) и полное отсутствие денег. Прекрасные условия для того, чтобы выработать характер и научиться думать.
– Пустяки, – сказал Алексей Алексеевич и слабо махнул рукой. – И мы в молодости… второй курс в институте пребуйный у нас был… Меня раза три засаживали… Кое-кого и высылали… Вернувшись, позлобились слегка, – после так же, как другие, в свое время угомонились…
Роман Иванович резко, неожиданно засмеялся.
– Да ты понимаешь ли, что говоришь? – крикнул он, вставая.
Встали все, обед кончился. Шли пить кофе на другой конец террасы, где он был уже приготовлен на плетеном столике.
– Угомонились! – продолжал Сменцев. – На втором курсе пошалили – и довольно? Вот тут и беда наша, корень бед, что вся интеллигентная Россия только шалит на вторых курсах, а зрелому человеку, видите ли, не до пустяков, он о своем гнезде подумывает, он службу ищет, дело похлебнее, птенцов кормить, – самому позабавиться, либо попокоиться…
– Что ты? О чем ты? – в удивлении сказал Хованский, закуривая сигару.
– О том, что студент наш смотрит на учение не как на дело, он «пребывает» в университете, потому что это нужно для будущего его самоустроения; и развлекается, от безделья, делами «общественными». Молодость требует развлечения! Но ведь надо же помнить, что это стыдно.
Алексей Алексеевич рассердился, хотел что-то сказать, но Литта подошла близко к Сменцеву и спросила:
– Что стыдно? И кому?
– Стыдно прежде всего недорослям, которые хватаются за общественные дела как за временное развлечение. Но стыдно и всем нам… всем зрелым российским обывателям… Ведь благодаря их своевременному «угомону», дела общественные и переданы в ведение недоучкам, как одно из увлекательных занятий для молодежи.
– Вы резки и грубы, – сказала Литта.
– Может быть. Но тут правда.
Сменцев уже был спокоен, легко улыбался.
– Тут правда, – повторил он. – И рад бы я был, если бы другие поняли ее, как я понял. Положим, мои условия исключительные. У меня было счастие по два дня не есть, в мерзлой избе в тифу валяться, а потом кочегаром на паровозе в морозе и в жару ездить… На паровозе-то, под огнем топки, под ветром, срывающим дыханье и таким веселым, свободным, благодатным, – многое можно понять. Он ведь не сказки мне, ветер, рассказывал; пусть поэты воображают, что ветер небесные песни поет; нет, я голос ветра знаю; я слова его разумею.
– Скажите, пожалуйста! – лениво проговорил Алексей Алексеевич. – Поэтов бранишь, а это ли у тебя не поэзия? Голос ветра…
Маленький Витя устроился на коленях отца. Молчал. И все время, украдкой, не сводил глаз с Романа Ивановича.
– Улинька, милая, – продолжал Хованский. – Вы не сердитесь, коли что, на моего приятеля. Уж у него свои мнения. И он в них тверд. Подумайте, как вернули его из ссылки, пошли времена такие-этакие, самые зажигательные, – он нет, ничем не соблазнился, в Германию уехал учиться. Отучился, – домой. Да жаль, дома-то делать уж нечего оказалось.
– Авось найдется, – небрежно сказал Сменцев.
– То-то нашлось. А для чего ты год в духовной академии вольнослушателем проторчал? Нет, как хочешь, я тебя не понимаю. И давно уже понимать перестал.
Роман Иванович ничего не ответил. Отошел от стола, медленно спустился в сад. Там было желто и тихо. Просвечивала желтым мокрая трава. Близко, настойчиво свистела какая-то птица, собираясь спать.
Катерина Павловна давно ушла с бонной и девочкой. На балконе теперь оставались только Алексей Алексеевич с Литтой и Витя, притихший на ступеньках.
– Скука унылая, – сказал Алексей Алексеевич. – И споры – тоска, и деревья – тоска… Делать нечего; да и не хочется.
Сменцев, вероятно, не отходил от балкона. Вступил на нижнюю ступеньку и сказал:
– Тебе, Алеша, влюбиться нужно. Вот что.
– Влюбиться? Ты бредишь? Или смеешься?..
– Нет, я серьезно. Для таких тихих нытиков – это единственное спасение. Влюбиться поздно, несчастно, с препятствиями, с волнениями, непобедимо. Ты, я знаю, жалуешься иногда: ах, если б верить во что-нибудь. Но это вздор. Человек, который в себя самого не верит, вообще на веру не способен; ему под силу только любовь, и даже не любовь – влюбление.
Литта засмеялась.
– Алексей Алексеевич, – сказала весело, – а если правда? Наверно, вы не скучали, когда были в Катю влюблены?
– Глупости, глупости, – закричал Алексей Алексеевич. – И вы туда же, Улинька. Что за разговоры!
Литта поглядела на него удивленно. С чего он так рассердился? Простая шутка…
– Витя! – обратился вдруг Сменцев к тихонькому, забытому всеми мальчику. – Что вы тут? Пойдемте гулять. Со мной, в аллею, к часовне…
Но Витя не двигается, смотрит исподлобья, морщит реденькие, светлые брови.
– Витя! – сердится Алексей Алексеевич. – Что же ты, не слышишь? Иди с дядей.
– Не хочу. Не выйдет, папа.
– Что такое не выйдет?
– Да вот не хочу. И к чему это лгать? Какой он мне дядя? Сами же не велите все лгать, а потом «дядя, дядя».
Хованский удивился и с любопытством поглядел на сына.
– Да зови Романа Ивановича как хочешь. Но будь вежлив.
– Я, папа, вежлив. Но я не хочу идти с ним. Вот и все. Вступился Роман Иванович.
– Я просто предложил, Витя. Сказали бы, что не расположены.
Витя поглядел на него, открыл рот и молчал. Хотелось, нужно было сказать много, но слова не говорились.
– Иди тогда к маме, – сердито сказал отец. Мальчик сорвался с места, но не пошел в комнаты, а, насильственно прыгая, ринулся в сад, в темнеющую березовую аллею.
– Однако с норовом мальчишка! – проворчал Алексей Алексеевич. – Пессимист, и непонятности какие-то в нем.
Литта, все время молчавшая, поднялась со стула и пошла в сад, за Витей. Проходя, бросила короткий взгляд на Сменцева, усмехнулась:
– Не любит он таки вас, непонятный этот пессимист. И прошла в глубь сада, под березы. Роман Иванович слышал ее тихие слова, пожал плечами, точно Витя, улыбнулся. «Не любит!» Глупенькая, злая, упрямая девочка. Много ты понимаешь.
Глава третья К жениху-богомольцу
Наверху, в своей просторной белой комнате, кругловатой (потому что в башне), сидит за столом Литта и пишет письмо.
Белые шторы не спущены. Одно окно совсем раскрыто. Сырая, светло-серая северная ночь за окном. Внизу в просвете между березами уже краснеет тонкая полоска неба.
Литта пишет письмо не на листке почтовой бумаги, а в толстой синей тетрадке. В начале тетрадки несколько страниц оторвано.
«Милый мой, вот и второе письмо пишу тебе. То, первое, я уже вырвала из тетрадки и уничтожила; я уже отлично знаю его наизусть. Ты все удивляешься странностям моей памяти; а я рада, что такая зубрилка. Могу писать тебе под свежими впечатлениями и притом знать, что ты письмо непременно прочтешь, хотя пишу в России, никуда не пошлю, через день сожгу. Верно и надежно перевезу через границу – в своей памяти, забуду разве тогда, когда слово в слово отдам тетрадочке, такой же, как эта, но ее уже ты прочтешь. Рада, рада, что так запоминаю написанное, что могу поэтому каждый день с тобою беседовать. После не рассказала бы так.
Прошлое письмо мое было довольно дикое, признаюсь: но уж очень меня обрадовала русская деревня. Я ведь ее никогда, настоящую, не знала. Чудится мне, что и тут не все настоящее, дом какой-то ни на что не похожий, и Хованские оба – горожане, всему чужие; но ведь озеро-то и березки – они настоящие, и сирень, и болотца… Особенно болотца эти я полюбила. Я писала о них, о березках, и радовалась, что могу писать, не опечалю тебя: ведь и ты сейчас в той же России, те же луга и цветы видишь. А теперь мне уже стыдно моего восторга; и больно. Стыдно, что ведь это все в громадной степени – эстетика барышни, которая в восемнадцать лет, после петербургских дач, наконец, очутилась „в сердце России“, где, во-первых, все так неожиданно, а во-вторых, должно быть любимым, – как же? родное. Цветочки, ручеечки… а ведь я каждого мужика, если увижу издали, на дороге, когда одна гуляю, – боюсь: вдруг – пьяный? И постоянно пьяный. Бегу мимо, не глядя, с отвращением; что он говорит – не понимаю, не хочу понимать, хорошее ли, дурное ли, – все мне одинаково чуждо, не нужно. Вот я какая. Надо, чтобы ты это знал про меня. Я барышня. Многого ли стоят мои умиления перед осинками да болотцами?
Еще я тебе признаюсь: опять приполз ко мне тот страх, – за тебя. Нет-нет и взглянет желтыми глазами. У страха именно желтые глаза.
Ночью просыпаюсь и дрожу: ты – в России! Милая, страшная, невинная, укрой, ухрани, защити его… но от кого? От себя же. Нет, нет, „они“ – не „она“, это я твердо знаю, чувствую насквозь. Я молюсь, я вспоминаю, почему и как решил ты провести это лето в России, – и мне легче, страх закрывает глаза.
Где ты сейчас? Поздно. Может быть, спишь на сеновале с другими богомольцами, положив голову на котомку. Я даже не знаю, как тебя зовут, Семен или Игнат, не знаю, какой у тебя паспорт. С худым ты не пойдешь, тут я спокойна.
Михаил, ведь это счастье же, что ты можешь так, три месяца проходить с котомкой среди неизвестных, родных и чужих, грубых и мудрых людей, идти рядом, идти как они, слушать их молча, только слушать. Это не дело, ты прав, это лишь малая крупица в деле твоего личного приготовления к делу, но как я понимаю, что это нужно»…
Она остановилась, задумалась нечаянно, с пером в руке. Вспомнила, что он не любит долгих рассуждений, возвращений к решенному, сделанному. Для кого же она пишет? Для себя? Не письмо выходит, – дневник. Бесцельный.
Как просто разговаривали они в ее высокой парижской комнате об этом простом плане. Пойти походить с «народом» несколько месяцев, посмотреть на этот народ с новой стороны, с той, с которой никогда еще ни Михаил, ни «товарищи» его, давние и недавние, не смотрели. Смотреть, а самому непременно всегда молчать; и от выводов даже остерегаться, – ведь он, Михаил, тут новичок, не знающий… Так, кое-что в свою памятку записать.
Дело маленькое, узкое, личное. Михаил еще сузил его намеренно, он не пойдет к сектантам. Не хочет сейчас. Литту это успокаивало. Опасности меньше. Но опасность все-таки большая. Ведь Михаил-странник в России должен так же скрываться как Михаил-революционер.
Литта невольно улыбнулась. Нелегальный богомолец. Нет, все-таки нечего ей бояться. Старый опыт поможет Михаилу.
Красная полоска внизу, на востоке, чуть просвечивала теперь, залитая мягким, вдруг наплывшим и все наплывающим туманом. Какой страшный. Затворить, что ли, окно? Нет, пусть его. Литте даже интересно, дотянется ли он до самого дома и как полезет в окно.
«…не о том хотела я писать тебе. А как живу здесь, кого вижу. Тетя Катя и Алексей Алексеевич, в сущности, мало интересны. Катя, что называется, „славная“. А Хованский – „бедный“. Он не глуп, и все у него есть, вот уж не обижен! Однако „бедный“. Никакого упора жизни. Сменцев советовал ему влюбиться… трагически как-нибудь. Да, Сменцев; вот еще человек, которого я постоянно вижу, болтаю с ним, гуляю; и, вообрази, совсем не знаю. Я писала тебе, что с первого взгляда он мне скорее не понравился: беспокоит что-то в его лице. Теперь я привыкла, но все же с ним неспокойно. Иногда кажется, что ему надо сказать очень важное, ждешь (хотя что?), а он говорит пустяки. Но так говорит, будто нарочно. Зачем он живет у Хованских – не понимаю. Катю он мало замечает, а к Алексею Алексеевичу относится с пренебрежительным, хотя и дружеским сожалением».
Опять остановилась. Мелькнуло воспоминание о грозе, о тех странных словах Сменцева, которые почудились ей в волне ветра. Господи, какая чепуха. И как это не забылось.
«Он, кажется, человек с характером, – продолжала она. – Это ведь чувствуется. То, что о нем рассказывал Алексей Алексеевич, мне нравится. Восемнадцати лет разорвал с теткой, у которой воспитывался (он внук декабриста, барона Розена; оттого, кажется, и фамилия у него такая нарочная, выдуманная). Сам, один, прожил; сначала в ссылке, потом в германский университет поехал. Вернулся – и еще год в духовной академии вольнослушателем пробыл. Вот это обстоятельство, да еще то, что он у моей знаменитой бабушки-графини в салоне бывает, довольно непонятно и подозрительно. Главное – не подходить к нему. Представь, ведь он теткиным наследством не пользуется; он там, в ее имении, устроил…»
Литта очень устала. Перо вываливалось у нее из рук. Распущенные волосы, пышные, бледные, не очень длинные, лезли на глаза. Хотелось спать. Вытянувшееся личико побледнело. Литта – хорошенькая девушка. На узеньком подбородке у нее глубокая ямочка, детская. Но глаза совсем не детские, взрослые, печальные, упрямые. Теперь так хочется спать, ресницы щурятся.
«Я потом, завтра, допишу тебе это письмо…»
И вот пышная головка уже лежит на столе, пряди волос упали на тетрадку. Литта спит. А в открытое, мертвое окно лезут длинные струйки тумана, тянутся серые лапки. Их почти нет, и все-таки они есть, тянутся явственно, лезут в окно и, втянувшись в комнату, совсем делаются невидимыми. Но они, лапки серые, цепкие, мокрые, – тут. И все новые тянутся в окно, тонкие, длинные, от самого озера болотного – до окна, до стола, до пышных волос, упавших на тетрадку.
Литта устала. Литта спит.
Глава четвертая Враг или друг?
Петеньку называют «блаженным», а он только одинокий, болезненный и тихий парень. Живет в избушке под лесной горой, молчит. Грибы ходит собирать. Ничего не работает. На горке часовня крохотная, темная, серая. Считается, что Петенька за часовней глядит, – ну, и блаженный. За хлебом на деревню, а теперь и в дачу приходит.
– Вы разве тут никогда не были? – спрашивает Роман Иванович Литту, пробираясь с ней через ветки и валежник к Петенькину жилью.
– У часовни была… А здесь нет.
В избушку, желтую на солнце, дверка прорублена, вместо лестницы – два чурбаша, а окон не видно. Литта удивляется.
– Да ему там темно.
– Зачем! На той стороне есть окошечко. Так зимой теплее. А летом вон он на солнышке у стенки сидит.
Петенька, точно, сидел у стенки; безбородое серое лицо его равнодушно было обращено к солнцу.
– Здравствуй, Петя. Мы тебя проведать пришли. Узнав Сменцева, Петенька вскочил и низко-пренизко поклонился ему. На Литту не обратил ни малейшего внимания. А с Романа Ивановича не сводил глаз и нет-нет – опять поклонится.
Сели. Сменцев ласково заговорил с Петенькой. И тот отвечал, толково, чуть заикаясь, благоговейно. Эта благоговение неприятно удивляло Литту.
– Грибков принесу… тебе, – сказал Петенька. – Не взросли… да пошарю. Кушай… во спасенье, во мое. Тебе.
– Спасибо. Ты корзинку мне сплети. Поучись, дай труд.
– Поучусь, – покорно отозвался Петенька. – Ты говори, что надо. То и буду делать.
Около лесу показалась какая-то баба. Приглядевшись, повернула к ним и запричитала издали:
– Барин-то, барин, здравствуй, солнышко ты мое меженное, солнышко красное, прекрасное, головушка золотая, барин любезненький…
Петенька неожиданно вскочил и сурово замычал на нее, размахивая дубинкой.
– Чего ты, Петруша? – безбоязненно сказала баба. – Я только поклониться. Твой гость. Я рази что.
– А я, было, Домна, тебя и не узнал. Богатой быть, – весело говорил Сменцев.
Подойдя, баба вежливо поклонилась и Литте, но тотчас же опять обратилась к Роману Ивановичу и глядела на него, сияя всеми своими коричневыми морщинами, так же неотрывно, как Петенька.
– Положительно оба эти влюблены в вас, – с усмешкой сказала Литта, когда они уже шли верхним лесом, прочь от Петенькиной избушки. Лес был мшистый, сыроватый, темный, но тропа широкая.
– Это все приятели мои, – отозвался Сменцев. – У меня их много. Всякий народ есть.
Литте почему-то было невесело. В сущности и Петенька ей не нравился, и чувствовалась даже неприязнь ко всему, ко всем «приятелям» Сменцева и к нему самому. Неприязнь и чуждость.
– Юлитта Николаевна, вы не устали? Вам Петенька надоел?
Литта вспыхнула.
– Почему надоел? Я только не понимаю, что в нем любопытного.
– Да ничего. Разве вы из любопытства к нему в гости шли?
Ей почудилась насмешка. Захотелось сказать многое, захотелось резкости. Но не могла найти слов, все было смутно, неопределенно. Сменцев остановился.
– Сядем, вот сосна хорошо лежит, сядем, – произнес он так серьезно и так настойчиво, что девушка в ту же минуту повиновалась.
Роман Иванович снял фуражку и провел рукой по волосам. Они у него были коротко острижены, но все-таки упруго курчавились и спереди вставали жестким, темным хохлом. Солнце сквозь колеблющиеся тихо листья пятнами падало на смуглое неправильное лицо, и лицо от этих колебаний казалось еще беспокойнее.
– Юлитта Николаевна, я хотел с вами поговорить о Ржевском. Я хочу его видеть.
Литта задержала дыхание. Но тотчас же спокойным, очень спокойным голосом сказала:
– Какой Ржевский?
– Ржевский, Михаил. Вы же знаете. Я все равно его увижу, у меня есть свои возможности. Но не хотелось бы помимо вас. Он теперь в Париже?
Литта молча поднялась, бледная. Не было сил произнести ни одного слова. Не было, кажется, ни одной ясной мысли в голове.
Сменцев глядел на нее снизу вверх, спокойно и усмехался, чуть скривив яркие губы.
– Подождите, не спешите. Я вас взволновал. Виноват. Вечная моя вина, – иду к делу без вступительных слов.
Литта молчала, но не двигалась с места.
– Я ищу союзников, – продолжал Сменцев. – Помощников у меня много, а вот союзников пока нет. Я слышал о Ржевском. Хочу попытать, не найду ли около него союзников. Не найду ли и в вас союзницы…
– Ваших дел я не знаю, – произнесла Литта, с трудом разомкнув губы. – Вас я не знаю. И что вы говорите, о ком и о чем, не понимаю.
– Хорошо, сядьте же. Ведь это в трех словах объяснить можно.
– Нет. Я иду домой. Оставьте меня. Оставьте! Чего вы от меня хотите? Я не желаю с вами разговаривать. Не желаю ничего знать.
В нелепой, необъяснимой истерике она двинулась было от него. Но он цепко, твердо схватил ее за руку и произнес холодно:
– Куда вы? Что с вами? Придите в себя. Ведь если я враг, то вы ведете себя уж совсем непозволительно.
Литта с отчаянием подумала, что он прав. И ослабела вся, не противилась больше ни его взгляду, ни его прикосновению, покорно опустилась опять рядом, на сломанную сосну.
Молчание.
Потом Сменцев тихо произнес:
– Я не враг, Юлитта Николаевна. Я, может быть, ближе вам, чем сам это думаю. Мне хотелось, чтобы вы поняли это раньше доказательств, раньше представления рекомендаций. Но вы слишком напуганы. Так вот: о Ржевском, да и о вас мы говорили много с Сергеем.
Литта не подняла головы. Потом пролепетала неслышно:
– Как я могу верить?
Сменцев пожал плечами, нехотя полез в карман, достал из бумажника узко сложенное письмо и протянул ей.
– Вы почерк Сергея знаете?
Дрожь солнечных бликов по бумаге, по знакомым крупным и кривым буквам.
«Друг Роман Иванович, видно уж до осени не свидимся, коли завтра едешь. Приходи осенью, потолкуем. Дидко по осени обещался быть, хоть ненадолго. А милой-то нашей крепко от меня кланяйся, куда едешь. Познакомишься, сам поклонишься. Ну, значит, до свидания пока от Сергеича».
Литта, прочитав, молча отдала письмо. Его тотчас же Сменцев сжег на спичке, – не без торжественности: больше, мол, не нужно. А, в сущности, можно бы и не торопиться сжигать: письмо самое безобидное, да и Сергей Сергеевич не опасный человек, – петербургский мастеровой, последнее время ни в чем не замеченный. Года два тому назад он жил вместе со старым одним профессором и с его больным племянником; кое-кто называл эту странную семью «троебратством». Но теперь и «троебратства» уже больше не существовало.
– Вы давно Сергея знаете? – спросила наконец Литта.
– Подружился не так давно; а знаю много лет… И с Дидимом Ивановичем, со стариком, раза два встречался. Хочу как следует с ним теперь повидаться. Хотя…
Он не договорил, быстро взглянул на Литту и прибавил тише:
– Юлитта Николаевна, да ведь я и с вашим покойным братом встречался. Он меня очень интересовал. Никогда я не думал, что он кончит трагически. Не шло к нему.
– Случайность… ужасная, – проговорила девушка, едва двигая побелевшими губами. – Мне тяжело вспоминать это… Но вы… вы что знаете? Считается неоткрытым, кто убил его тогда ночью в пустой финляндской даче… А что говорят – вздор, неправда.
– Говорят, что его убил Ржевский… Но, конечно, это вздор. Ясно, что вздор.
– Да, да. Убийца – несчастный, подговоренный негодяем. Больной, безумный… Он и умер в больнице… А нарочно говорят… И многие верят. Вот, бабушка моя, графиня… Вы ее знаете. Она уверена, что Юрия заманили в Красный домик и убили «революционеры». Зачем, о Господи!.. И о Ржевском она тоже… В чем уверилась, – кончено. С тех пор стала совсем иная. Жестокая она и сильная. Отца моего вовлекла туда же. Окружила себя…
Литта вдруг оборвала:
– Да вы знаете, кем. Вы ведь в ее салоне – гость нередкий.
– Знаю… – задумчиво сказал Сменцев. – Это целый мир. Графини и ее присных жаль было бы не видеть.
– Делаете наблюдения? – неприятно усмехнувшись, спросила Литта.
– Нет. Я не наблюдатель. Созерцаниями заниматься некогда. Если вы мне не доверяете, – так тому и быть. Но все же лгать не буду. Я ищу себе союзников, говорю вам. Для этого надо видеть всех, чтобы потом выбрать.
Литта встала.
– Пойдемте. Что мне доверять – не доверять. По-прежнему я вас не понимаю. Там – союзников! Если гости графини могут быть вашими союзниками…
– Могут, – твердо и открыто сказал Сменцев… – Все могут, если я захочу. Последнее слово, подождите…
Он тоже встал. Солнце закрылось набежавшим облаком. Лес потемнел, посерел, притих. Прямо в глаза Литте глядели неблестевшие глаза под выгнутыми, точно нарисованными бровями.
– Чего вы желали бы, к чему Ржевский пришел, о чем Сергей мечтает, – того хочу и я. Должно создаться новое движение. Более широкое, с иными основами, с иными горизонтами. Но для этого надо считаться с существующими силами и пользоваться ими. Довольно романтических утопий да эмигрантских мечтаний. Что есть, то есть.
Он сдвинул брови и прибавил, ближе наклонившись к ней:
– Над созданием такого движения я работаю. И я – сделаю.
Это шепотное, но ясное «сделаю» прикрыло Литту душным туманом. Ей казалось теперь, что она Сменцеву и верит до конца и в то же самое время до конца не верит. Захотелось быть далеко от него, забыть его, чтобы вовсе не было его, – но и странно влекло ему покориться, согласиться с ним в чем-то совсем, и пусть все сбудется, чего он хочет.
– А теперь пойдемте, – произнес Роман Иванович громко, почти весело. – Мы к обеду опоздали. И ведь это длинный разговор. Сразу всего не скажешь. Еще не раз к делу вернемся.
В тот вечер долго сидела Литта над своей тетрадкой. Писала, думала, опять писала… Но кончила тем, что под утро все листы разорвала. Не надо. И запоминать этого не надо. Ничего не выходит. Ничего не вышло. Не надо.
Глава пятая Мудрый обман
Роман Сменцев крепок и вынослив. Сложение – как у юного богатыря. Но когда-то, при ужасных условиях, он перенес тиф, который оставил ему расстройство в печени. Слабое, потому что лишь изредка возвращалась глухая боль в боку, но Сменцев нетерпелив и раздражается от всякой боли.
Никто не знает этого. Он всегда одинаково ровен с людьми, скорее весел, и почти незаметна желтизна его смуглого лица. Но у себя в комнате, один, – он порою киснет, капризничает, злится, красивые брови его не хмурятся, а жалобно кривятся. Боль не такая, чтобы нельзя было заснуть, но он нарочно не засыпает; есть что-то и в боли, и в этом его одиноком тайном раздражении, в капризах наедине с собою, ему сладкое.
Может быть, нравится уверенность, что войди кто-нибудь, понадобись что-нибудь сейчас, – и Роман Иванович преобразится во мгновение ока: точно ни боли, ни раздражения, ни слабости никогда не бывало, да и не могло быть. Наедине с собою он позволял себе все. Все, кроме обмана. Такое у него правило. Без мудрого, постоянного обмана всех, с кем соприкасаешься, нельзя жить, нельзя сделать с людьми ничего. Не ложь, – ложь большею частью глупа, – а именно мудрый обман. Но зато надо уметь никогда не обманывать себя; больше – позволять себе все перед собою. И Роман Иванович любил как холодную ясность мыслей своих тайных, так и отдыхи свои, слабости свои, – их не подглядит чужой взор.
Сменцев был очень недоволен разговором с Литтой, нелепым и, главное, незаконченным; кое-что сделано, однако можно бы сделать больше и лучше. Неужели оттого не вышло, что ему уже несколько дней нездоровится и внутреннее раздражение сказалось в резкости слов? Надо принять меры. Во всяком случае после вчерашнего надо переждать несколько дней. Девочка нервная, но крепкая и, кажется, вымуштрованная. Вот с ней – ложь никуда бы уж не годилась. Он и не лгал ей, как никому, впрочем.
Из окна его комнаты видна узкая, мшистая дорога, прямо бегущая вдаль между березами и елями. Теперь на нее ложилось полосами низкое, желтое солнце.
Комната Сменцева – наверху, недалеко от Литтиной, но обращенная в другую сторону. И не круглая, а вся какая-то кривая, с острыми и длинными углами. Такая удалась, благодаря фантазии Хованского.
Сменцеву она нравится. Нравится и кривизна ее, – и пустота: постель, белый комод, стол с ворохом бумаг, – ничего лишнего.
Бумаги – это постоянная работа Сменцева. Он, не торопясь, пишет очень серьезное историческое исследование, немножко чересчур серьезное, почти сухое. Целая книга. Отдельными кусками она уже появлялась в научном журнале. Сменцев относится к этому своему делу добросовестно и доброжелательно. Считает гигиеничным иметь такое приятное и отвлекающее упражнение для мысли.
Чуть слышно, жалобно зазвякали бубенчики. Вот слышнее, связнее, ближе. Кто-то едет со станции.
Роман Иванович взглянул в окно, на дорогу. Но никого еще не было видно.
«Ах, да! – вспомнил он вдруг. – Это ведь прекрасный журналист наш катит».
Алексей Алексеевич нынче распоряжался послать лошадей на станцию за своим приятелем Звягинцевым.
В конце прямой солнечной дороги показался тарантас. Острые глаза Романа Ивановича различили тотчас же представительную фигуру Звягинцева. Растрясло, видно. Сбочился, и глупый котелок свой придерживает. Но кто рядом? Шляпка чья-то. И тоже набок съезжает. Под сбитой шляпкой вдруг сверкнули на солнце огненные волосы.
Не может быть! Но тарантас уже совсем близко. Уже совсем ясно видно Звягинцева. А рядом с ним – Габриэль.
Роман Иванович нахмурился. Этого еще не хватало! Габриэль! Ну, сам виноват. Нашел, кому доверить свой адрес.
Все его раздраженье направилось теперь на Габриэль. Прогнать, что ли, ее поскорее? Да этим не поможешь. Своевольная дура. Постой же.
Глава шестая Мужичий университет
В громадных сенях, вышиною во всю Стройку, уже столпились и гости и хозяева.
Снимая пальто, Звягинцев что-то весело объяснял и смеялся тенорком; тенорок мало подходил к его крупной фигуре и мягко-барственным движениям.
Рыжая девушка в белой шляпке, коротконогая, миловидная, стояла тут же.
Выяснилось, что Звягинцев заметил ее на станции, мечущуюся, пристающую ко всем с расспросами, как попасть на Стройку. Ну, он и довез ее.
– Я сейчас же обратно, – смущенно зачастила девушка. – Сейчас же. Я к Роману Ивановичу Сменцеву. По нужному делу. Извините, что так, незнакомая… Я сейчас же…
– Да полноте, куда обратно! – приветливо остановила ее Катерина Павловна. – Раздевайтесь, обедать будем. Нынче и поезда уже нет. Снимайте шляпку.
Сменцев наблюдал эту сцену с верхней площадки. Не торопился к приезжей.
К обеду вышел на террасу. Рыжая Габриэль уже весело болтала с кем-то, освоившись. Но так и бросилась к Сменцеву.
– Ах, Роман Иванович. Вот наконец! Я так внезапно… Такое дело…
Сменцев посмотрел на нее холодно и жестко. Молча отошел к сторонке; она, уже робко, осекшись, последовала за ним.
– Роман Иванович, я сочла нужным. – Напрасно. Я вам не давал инструкций ездить за мной.
– Роман Иванович, но вы просили сохранять вашу корреспонденцию… И вот пришло письмо из Луги. Я знаю, вы ждали письма из Луги. И вот я думала… свезти вам и тотчас же назад…
Опять осеклась под недвижным взглядом Сменцева.
– Вы не смели делать того, что я вам не приказывал, – медленно и раздельно проговорил он. – Не смели.
– Роман Иванович… Да, я понимаю. Я опрометчиво… Больше никогда, Роман Иванович… Молю вас…
– Где письмо?
Она заторопилась, стала рыться в сумочке, что-то выронила из нее, подняла, наконец отыскала смятое письмо и протянула Сменцеву.
Взял, не глядя сунул в карман.
– Вот что, Габриэль. Завтра утром я уезжаю. А вы потрудитесь остаться здесь, уедете тотчас же после моего возвращения. Поняли?
Она открыла рот, но от ужаса ничего не сказала. Вот так попалась!
Сменцев чувствовал, что зол до последней степени. У него даже угол рта дергался. Не стоило, конечно; злиться на эту дуру, да еще из-за пустяка. Пустяк – но не пустяк самоволие. Следует его прекратить.
Сели обедать. Габриэль, после выговора, сначала замолкла. Но потом, не видя Сменцева, – он поместился вдалеке, заслоненный Катериной Павловной, Литтой и букетом длинных колокольчиков, – охотно сообщила, что она кончила педагогические курсы и уже полтора года учительницей в школе за Невской заставой.
– Там и квартирку нам дают, мне и подруге. Очень мило. Далеко только. Но зимой ближе, по кладкам, по кладкам, а потом на паровой. Дети милые, – фабричные… Летом свободно. Как бы я хотела путешествовать! Да не удается…
Внезапно перескочила на другое:
– Меня, собственно, уж не Габриэль зовут, это так, привычка у всех… Я семнадцати лет перешла в православие, назвали Аделаидой… Родители мои тогда тоже перешли в православие, они французы, только давно обрусевшие. С тех пор оба уж умерли, я одна, сама себе голова. И всегда я чувствовала себя такой русской…
– Зачем же, однако, в православие перешли? – спросил с интересом Звягинцев.
– Ну, во-первых, родители… Да и я тогда так увлекалась, так увлекалась. Много было побудительных причин. Боже мой, я опомниться не могу: неужели я в русской деревне. В Новгородской губернии? Какая тишина! А что это музыка? Поют…
– Нынче праздник, – сказала, усмехаясь, Катя. – За озером по дороге, верно, гуляют. С гармоникой.
– Правда? Ах, если б пойти!
– Какая вы, однако, деточка, – добродушно сказал Алексей Алексеевич. – Поживите у нас, полюбуйтесь Россией.
Габриэль смутилась, вдруг сделалась серьезна. Да, пожить придется. Вспомнила встречу Романа Ивановича. И чего она разболталась. Ведь он это все слушает.
– У меня дела, – степенно проговорила она. – Но на несколько дней, если позволите, я бы осталась.
Литта молча приглядывалась к странной девице. Впрочем, что же в ней странного. Такие бывают, курсистки, учительницы… Немного невзрослые.
В Габриэль, действительно, было что-то невзрослое; и однако, немного спустя, она вмешалась в довольно серьезный разговор Звягинцева и Алексея Алексеевича, притом вмешалась кстати и не глупо. Видно, много читала, не без толку.
Журналист Звягинцев, полный, приятно-мягкий, с длинными выхоленными черными усами, держался культурно-демократических взглядов и считал себя левым. Специальности он не имел, но ничто не было ему чуждо. Интересовался даже церковными вопросами, толковал о них постоянно, и все с той же высококультурной точки зрения. Он и говорил большею частью о культуре вообще, и о культуре русской, от него и самого веяло культурой, несло культурой, – порою даже с неуловимым оттенком барственности. Этого он, конечно, не замечал и огорчился бы, если б заметил.
Теперь ему хотелось вовлечь в разговор Сменцева, но тот пока отмалчивался.
За кофе Звягинцев, вкусно куря бледную сигару, прямо обратился к Сменцеву:
– А скажите, как теперь дела в Пчелином у вас? Толкуем о народном образовании… Ваше дело, вот это, во многих пунктах мне представлялось неясным… Превосходное дело, но вопрос, как оно поставлено и что из него в конце концов выйдет…
– Вы говорите о моем «мужичьем университете»? – усмехнувшись правым углом рта, спросил Сменцев.
– Да, именно так мне его называли. Подробностей совсем не знаю, но чрезвычайно интересовался.
Роман Иванович пожал плечами.
– Я не придаю этому делу никакой особенной важности. И оно очень просто. По наследству мне досталось порядочное имение на юге Воронежской губернии. Я сдал всю землю мужикам в аренду на самых льготных условиях. Оставил только небольшой дом, где у меня живет управляющий и где устроена школа. Это школа для вечерних занятий со взрослыми. Учительствует – тот же управляющий, он мой близкий друг, молодой техник, с высшим образованием, да кроме того ездит батюшка из соседнего села, из-за речки. Приятель мой читает мужикам и курсы по земледелию, кажется, успешно…
– Скажите! – восхищенно протянул Звягинцев. – Просто чудо что такое. Но как вам разрешили? И посещается эта школа?
– Отчего же ей не посещаться. Она ведь не весь год сплошь функционирует. Кроме того, слушатели – те же мужики, выгодно арендующие у меня землю. Арендная плата идет на школу, на жалованье священнику и дьякону. Приятель мой работает «идейно». Имеет свои средства. Что же касается разрешения…
– Ну, да у вас, конечно, есть свои ходы в Петербурге… – подмигнул Звягинцев.
Но Роман Иванович докончил сухо:
– Наша программа очень скромна, да и это считается просто частным «чтением». Местный священник на прекрасном счету…
– Ах, сколько бы можно сделать, если б не ускромнения, да неразрешения! – мечтательно потянулся Звягинцев. – Но и за то вам спасибо. Не любят у нас нынче малых дея.
– Однако, – прибавил он, помолчав, – это вы мне дали сведения формальные. А дух каков у вас там? Уклон?
Роман Иванович рассмеялся.
– Дух самый хороший.
– Нет, позвольте, – пристал Звягинцев. – Что значит «хороший»? Это весьма двусмысленно.
Алексей Алексеевич вмешался.
– Ну, вы от него тут ничего не добьетесь. Кто их разберет. С одной стороны – приятель мой Роман Иванович, в коем подозреваю дух мятежный, с другой – «священник на прекрасном счету»… Вот и пойми, что у них такое затеяно.
– Какой же тип, однако, этот священник? – настаивал Звягинцев. – Ведь не союзник же все-таки? И какие он лекции у вас читает? Неужели лекции?
– Право, не умею вам ничего сказать, – холодно проговорил Сменцев. – Мне не случалось присутствовать. Батюшка и занят, и не очень здоров, часто его заменяет дьякон, того же прихода. У нас это условлено.
Звягинцев задумчиво повторил, дымя сигарой:
– Да, дьякон… Дьякон… Так. Иногда попадаются дьяконы, особенно из молодых, гораздо образованнее местных старых священников… Да. А кто у вас там епархиальный?
– Преосвященный Феодосий. Он мне знаком лично.
– Лично? Ах, вы у него бывали?
– Нет.
– Нет? Так, верно, по академии. Или…
Тут деликатный Звягинцев оглянулся. На террасе никого не было. Только Хованский, лениво прислушивающийся к разговору. Катерина Павловна увела куда-то Габриэль, должно быть, устраивать; Литта, которую Звягинцев только что видел, исчезла неслышно.
– Вы, я думаю, со всеми нашими заметными иерархами сталкиваетесь у этой… у сиятельной бабушки Юлитты Николаевны? Прелюбопытный салон. Я и рад бы в рай – очень этим миром интересуюсь, – да грехи не пускают! – докончил он с комическим вздохом.
Хованский пожал плечами.
– Вот нашел! Скука и ханжество, я думаю. Непостижимая старуха. Я ожидал, что она в теософию ударится, ну туда-сюда. Так нет, за православие схватилась. У нее и епископы, и архиепископы, и монахи, и прорицатели… Федька Растекай, говорят, бывает.
– Федька? Растекай? – заволновался Звягинцев. – Правда, Роман Иванович?
– Да. Я его там видел раза два. А ты напрасно, Алексей, удивляешься, что графиня не пошла в теософию. Ей там нечего делать, а не делать не в ее характере. И ханжества в ней капли нет. Разве когда нужно, – показное. Вот зять ее, старик Двоекуров, тот не прочь поханжить… Да графиня над ним власть забрала полную.
– Удивительно! – начал было что-то Звягинцев, но в эту минуту на террасу вошли Габриэль и Литта. Габриэль была уже в каком-то беленьком платочке на рыжих волосах.
– Мы идем на озеро, где поют, где гармоника, – восхищенно объявила она. – Юлитта Николаевна согласилась.
Хованский взглянул на них с удивлением.
– Да что вы! Ведь там пьяным-пьяно. Безумие. Теперь шагу вам одним за усадьбу выйти нельзя.
– Я с удовольствием пойду тоже, – сказал Звягинцев. – Охотно буду защищать барышень от дикарей… ежели таковые встретятся…
– С непривычки испугаетесь, – заметил Хованский. Но Звягинцеву загорелось идти.
– Роман Иванович, да пойдемте тоже с нами. Хозяин мне барышень не доверяет.
– Пожалуй, пойдемте, – сказал Сменцев. – Мало удовольствия получите. Далеко, и дорога пыльная. А дикари… как вы называете, – что их наблюдениями тревожить, они веселятся. Пойдемте, впрочем.
И он вышел за фуражкой.
Глава седьмая Мужичий бал
Дорога, точно, пыльная. В дождь тут грязь по щиколотку. Народ попадался редко. Только за полуразваленным черным мостом, ближе к деревне, подвывающие тоны гармоники стали явственнее.
– Ах, что это они играют? Что поют? Это они в деревне, значит? Может, хороводы водят? – волновалась легкомысленная Габриэль.
– Хороводов нет. Советую вам успокоиться, – оборвал ее Сменцев, впрочем, не резко.
Встретилась пожилая баба с девчонкой. Спешливо месила пыль босыми ногами, сапоги, громадные, тащила в руках. Подоткнула подол «хорошего» платья.
– Ты с праздника, Авдотья? – спросил ее Роман Иванович, когда она ему низко, «в особину», поклонилась. – С гостинцами?
Баба тотчас же радостно рассыпалась подробными, малопонятными для всех, кроме Сменцева, рассказами, торопливо стала развертывать смятый платок.
– Пирожка несу. Пирожка не отведаете ли? Пирог-то хороший, с ягодами.
Звягинцев и барышни не знали, как будет тактичнее: отказаться или взять у бабы кусок белой, толстой непропеченной булки, из которой, в разломе, торчали две бледные изюмины.
– Спасибо, Авдотьюшка, мы сыты, спасибо, – сказал Сменцев. – Неси гостинцы-то, дома, чай, рты найдутся. Да поторапливайся до ночи, путь не близкий.
Баба весело завернула опять свой пирог, распрощалась, накланявшись, и ушла.
– Боже мой! – взвизгнула вдруг Габриэль. – Боже мой! Мертвый!
В сухой канаве около дороги, под кустарником, лежал вверх пузом матерый мужик. Борода с проседью, а лицо багровое, в фиолетовый цвет даже ударяло.
Над мертвецом наклонились.
– Он дышит, – сказал Звягинцев. – Я боюсь, что это просто пьяный.
Сменцев нетерпеливо засмеялся.
– Да и бояться нечего, напился и спит, ведь ясно же. Оставьте его. Не беспокойте.
Пошли. Габриэль вздыхала.
– Какой ужас! А я думала – убитый…
Куча девок в ярких кофтах, сшитых чуть не «по-модному», показалась на краю дороги. Девки по временам однообразно визжали какую-то песню, замолкая враз. Три парня шли за ними, шли не очень твердо, и тоже тянули свое. Один подыгрывал на гармонике.
Остановились. Девки расселись на пригорке, за канавой.
– Что это они поют? – заинтересовался Звягинцев. – Подойдем – перестанут, жаль.
Но веселые поселяне, видимо, не смущались. Частили себе свое и, кажется, одно и то же. Вот и слова уж можно разобрать:
Ты, сударушка, ништо, Меня били ни за што, Меня били не гораз, В леву щеку восемь раз…– Ах ты, Господи, – простонала Габриэль, – ах, что они поют, что поют!..
А песня весело продолжалась:
Меня били, колотили В три кнута, четыре гири…И еще веселее подстегивала ее скрипучая икота гармоники.
– Роману Ивановичу наше с кисточкой! – заорал один из парней, когда компания господ, невольно ускоряя шаги, проходила мимо. – А мы, значит, гуляем. По-хорошему нынче гуляем, не то чтобы что. По всей деликатности.
Проходил я верхом, низом, У милашки дом с карнизом…Другой парень, с гармоникой, подхватил и, кажется, некстати:
Я под лесенкой лежал, Кверху ножичек держал…Господа уже отошли, а все за ними неслась, прискакивая на тот же лад, гармоника и слова последней песни:
Я, мальчишечка, башка, Не хожу без камушка, Меня в Сибири дожидают, Шьют рубаху из мешка.– Ну и глупые песни, нескладные, глупые, гадкие, – обиженно шептала Габриэль, не смея почему-то сказать этого громко.
Роман Иванович предложил идти домой в обход. Предложил очень решительно. Поздно, солнце уже закатилось, да ему и некогда.
– Право, ничего здесь достойного ваших наблюдений не видите, – сказал Звягинцеву со своей чуть презрительной улыбочкой. – Лучше я вас полями к дому проведу.
Собрались повернуть. Но откуда-то сразу, из-под спуска вероятно, на дорогу вынырнула кучка сильно пьяных мужиков, бородатых, уже не парней. Они шли по дороге вразброд, покачиваясь, и потому их казалось очень много.
В золотистом вечернем свете, на зелено-золотистом поле, вырезывались они четко и темно. Что-то орали, но, подойдя вплотную, замолкли и приостановились.
Вдруг один, вглядевшись, со стремительностью, с нежданной порывностыо кинулся в пыль, прямо в ноги Сменцеву. Размашисто перекрестившись, нырнул головой к земле и глухо завопил:
– Прости!
Звягинцев растерянно пятился к канавке. Габриэль цеплялась за него. Литта с любопытством глядела на Сменцева.
– Прости!
– Бог простит, – сказал Роман Иванович равнодушно и ясно.
Мужик поднял голову и, все еще стоя на коленях, опять перекрестился на Сменцева с умилением, как на икону.
– И Бог, и ты прости!
– И я прощу, – так же ровно отозвался Роман Иванович, не двигаясь.
Мужик с усилием поднялся на ноги.
– Ну то-то же. Слышали, ребята? Простил.
– Слышали, чего. Он простит. Встрелся, значит, к часу тебе, – нелепо гудели мужики.
– Душа-то одна, – совсем неожиданно заключил прощенный, ударил себя для чего-то по бокам, и все они гурьбой двинулись дальше.
Звягинцев и Габриэль были уже на боковой дорожке. Литта немного устала. Ее догнал Роман Иванович.
– Испугал вас Федор-кузнец, Юлитта Николаевна? Она отрицательно качнула головой.
– Богомольный человек, о душе все думает, ну и пьяница здоровый, – продолжал Сменцев.
Литта подняла глаза и сказала со злой насмешливостью:
– Чего богомольнее! На вас крестится. Но Сменцев точно не заметил насмешки.
– С пьяного что ж спрашивать? – произнес он спокойно и тотчас же прибавил, немного тише:
– Я завтра уезжаю, Юлитта Николаевна. Она ничего не сказала.
– Вернусь через несколько дней, может быть, через неделю. Извиняюсь, что гостью мою здесь вам подкидываю. Да я уж говорил Алексею.
– Вы не с ней уезжаете, значит?
– Боже меня сохрани. Я ее не звал; за ее фантазии не отвечаю, да вы и сами видите, что с ней серьезных дел иметь нельзя. Останется здесь, так вы… если будете разговаривать…
– Что – я? – резко обернулась к нему Литта. – Что вы меня предупреждаете? Я не знаю ни ее, ни ваших дел, да, по правде сказать, и не желаю в них входить.
Она ускорила шаги, догоняя Звягинцева и Габриэль.
– Какая вы вспыльчивая, – говорил между тем Сменцев тихо, наклонившись к ней. – Рассудите, – увидите, что сердиться не на что. А я приеду, тогда как следует еще поговорим.
Добрели до дома уже почти ночью, в молчании. Даже Звягинцев как-то осел и сник. Ботинки, что ли, ноги натерли.
У самого крыльца Габриэль неловко отстала и обернулась к Сменцеву:
– Так, значит, мне здесь быть, Роман Иванович?
И тотчас же почувствовала, что опять провинилась, нечего переспрашивать раз сказанное. Залепетала, путаясь:
– Я понимаю, верно, письмо это… по письму… заставляет вас…
– Письма, вами привезенного, я еще не читал, – произнес холодно Сменцев. – Прекратим теперь это таинственное совещание.
Габриэль осталась одна у крыльца Стройки. Вплелась в сени, а потом пошла блуждать по незнакомым коридорам. В этом доме все сразу точно проваливались, никого не отыскать.
Глава восьмая Отец Варсис
На пути к станции Роман Иванович прочел наконец привезенное ему письмо.
Ничего неотложного в нем не было. Был адрес, которого он ждал, за которым все равно приехал бы в Петербург, не теперь, так через неделю.
Ну, неважно. Имеет адрес – поедет теперь.
Солнце вечерним золотом обливало песок, серые сосенки и тес новеньких дачек, когда Сменцев в тот же день подъезжал к Луге. В Петербурге он не останавливался, только с вокзала на вокзал переехал.
Без багажа, в той же синей рубахе, с толстой палкой в руках он был похож на гуляющего дачника; шел себе, не торопясь, по улицам запыленного городка. Старался держаться левее. Миновал несколько песчаных, кривых улочек, полузастроенных дачами. Вот, должно быть, и старое шоссе.
Пыльное, широкое. Дач не видно, а в ряд идут темненькие старые городские домики. Внизу лавки кое-где, – хлебная торговля, железная…
«На углу лабаз, а за ним домик диконький, двухэтажный, вдовы Якимовой. Квартирка самая приличная, из залы балкончик, весьма чисто…» – было написано в письме.
Лабаз – вот он. А вот и домик диконький.
Роман Иванович, стукнув калиткой, вошел во двор.
– Кого вам? Чего надо? – неприветливо крикнула подтыканная баба, занятая мытьем какой-то лоханки.
– Здравствуй, милая. Я к постояльцу вашему, в гости. Дома ль?
– К батюшке? – смягчилась баба. – Да никак их нету, на прогулку вышли, воздухом пользуются.
Подумав, прибавила совсем ласково:
– Да вы к хозяйке пройдите покеда, к Домне Васильевне. Чай в беседке, в саду, оне пьют. С ними и обождите. Проводить, что ль?
Через минуту Роман Иванович сидел уже со вдовой перед стаканом крепкого чаю.
– Так, так, – говорила степенная старуха, помахивая обвязанной темным платком головой. – Очень приятно. Я, извините, с первого началу об вас подумала – студент. Ну, да и то сказать, студенты разные бывают.
– Мы с отцом Варсисом вместе студентами были, духовными. Он, как нездешний, сразу постригся и во иереи. А я еще вот гожу.
– Так. В молодости-то трудно это снести. Подвиг-то велик.
Молчаливая старица, тут же сидевшая за столом, вздохнула.
– А уж как я рада, что постояльцу такому квартирку сдала, уж и не сказать. Я под дачу ее, каким-нибудь таким, не сдаю. Она у меня – архиерею жить не стыдно. И зальца, и спаленка, все как должно. Келейника вот нет, да отец иеромонах все сам. А в отсутствие мать Матрения ходит, прибрать что. Странница она. Воздух же у нас вольный, – батюшка, отец Варсис, скоренько здоровьем поправится.
Из-за малинника показалась высокая, тонкая фигура монаха.
– Вот они и сами, – глухо сказала Матрения.
– Друг! Кого вижу! – закричал отец Варсис. Сменцев поднялся ему навстречу. Смиренно склонился, принял благословение, потом друзья обнялись и трижды облобызались.
– Наверх я вам самовар велю подать, отпили мы, с гостем-то за чайком побеседовать захотите, – говорила Домна Васильевна. – А на ночь в зальце на диванчике им постелем.
В уютном зальце сидят друзья за столом. Поздно. Занавески спущены, две свечи на столе порядочно обгорели. Давно сладким сном почивает вдова Якимова, да и старица Матрения, конечно.
Стол не пуст. Хотя нет самовара, зато стоит бутылка отличного красного вина. Это уже вторая. У отца Варсиса всегда запас.
– Значит, Варсисушка, так и запомни, – говорит Сменцев. – И уж точности держись.
– Разве когда я, Роман Иванович, что забывал? Не исполнял? Вот уж второй раз, вы только кликнули: Варсис! Явись! – Я как лист перед травой.
У отца Варсиса молодое, белое с румянцем лицо. Ис-синя-черные волосы недлинны, чуть волнисты. Круглую бородку, которая у него растет как-то из-под низу, он беспрестанно выглаживает, особенно когда смеется. Не русский; не русские глаза, маленькие, маслянистые, быстрые, похожие на черные смородины; и губы у него слишком ярки. Сложены бантиком.
– Я, Роман Иванович, точен как исполнительный комитет. Куда линию проведете, по линии и я. Пали пути мои к вам, и сказал я тогда в сердце моем: эй, держись сего человека. Ибо это король-человек. Да.
– Ну, разболтался. В меру ли пьешь?
Отец Варсис фыркнул.
– От этакого медока-то опьянеть? Масло от него только в душе, да экстаз некий умилительный. Будьте покойны.
– Листки, значит, мы с тобой до завтра просмотрим, и ты, после меня, свезешь их в Петербург, за Невскую заставу, к Любовь Антоновне. Она их возьмет и что нужно сделает.
– Это ведь не рыженькая? А рыженькой тоже показывать?
– Нет. Рыженькой там не застанешь. Вообще держи себя с ней, если случится, осторожно… И скромно, – прибавил он, хмуря брови. – Вот это еще, смотри. Знаю тебя. К юбке слаб. Говоришь, по первому моему кличу являлся, все бросал. А что бросал-то? Думаешь, мне неизвестно, какие там за тобой дома дела значились?
Отец Варсис хладнокровно усмехнулся.
– Есть-таки страстишка. Спорить не стану. Не всем святой жизни быть; а кому дано. Вам, например, дано, – я с вами не тягаюсь. Я цветочки придорожные люблю. Только, Роман Иванович, сами должны знать: от этой страстишки я с линии моей не сверну. Можно – ладно, а благопотребно воздержание – воздержимся; было бы ради чего. Там я, у себя, в монастыришке этом, разве рассчитывал оставаться? Ну, от безделья… проводил время, пока что. Селенье близко… Да и турчаночка там была одна, недалеко. Господь с ними, однако. Ждал все, что кликнете опять. Кликнули – вот он я. За вами не пропадешь. Куда сами выедете, туда и меня вывезете.
– Любовь Антоновне отдашь листки, ну, сколько она там найдет нужным, – останешься, только не дольше дней трех, – продолжал Сменцев, не отвечая. – Потом опять сюда. Надолго ли у тебя квартира снята?
– Да я на год, думаю, Роман Иванович. Полтораста всего, год-то. А сами видите, уютно, спокойно.
– Пожалуй. Теперь весь июль сиди здесь смирно. И пиши те листки, другие, для Пчелиного. Ты это умеешь. У тебя слог живой.
– Выходило.
– Помни только, общее как можно. Ничего чтобы ясного, против кого, за кого, без всякой определенности. Призывай вставать за правду, да так, чтоб по сердцу хватало, – и кончено. Встанут, тогда видно будет, куда путь указать. Разных там «аще» да «какожде» не бойся. Помни, для кого пишешь. А оно иногда полезно, и для трогательности, и для затемнения.
Отец Варсис кивал головою.
– Да, понимаю, понимаю.
– А потом, своевременно, поедешь в Пчелиное. Ну, еще столкуемся, тогда скажу, что тебе в Пчелином делать, как себя держать.
– Понял.
Задумался, погладил бородку.
– Не знаю вот, ловко ли мне эдак все иеромонахом. Связа сильная. В Пчелином к попу надо будет явиться. А какой предлог, чего я туда? Чего, мол, не здешней церковью ставленный иерей по усадьбам таскается?
– Ладно, придумаем. Ни Боже мой в России рясу не снимать. Попроще одеться, это можно. А переодеванье не годится. Еще зацепимся на пустяках.
Отец Варсис опять кивнул головой. Налил новые стаканы.
– Эх, Роман Иванович, чокнемся в последний разок, да и за дело. Один листик хорошо у меня вышел, что для рабочих. Похвалите. Говорить так не умею, это уж вы пусть, а написать иной раз ловко выдастся.
– И говорить надо. Мне – не следует, нельзя.
– Вы скрываться должны, Роман Иванович, разве я не понимаю. Вас никто почти и знать в лицо не должен. Дух присутствует, ну, значит, есть где-то человек, а кто – неизвестно.
– Не пересаливай в таинственностях. Впрочем, и тебе раньше времени выставляться незачем. Кое-где твоя ряса козырь, а в другом месте она сейчас все дело перепортить может.
Отец Варсис сузил губки, блаженно сощурил маслянистые глаза. Хмель не баюкал, не туманил его, а только слегка, приятно острил.
– Я уж вам отдался, Роман Иванович, так уж на вас и кладу все надежды. Ничего, выплывем.
Чокнулись. Варсис продолжал:
– Теперь я не отлипну, Роман Иванович. Да и вам какой же расчет верного слугу покидать? Расчета нет. К тому же я, Роман Иванович…
Он вдруг наклонился над столом, ближе к собеседнику, и шепнул:
– Я вашу тайну знаю.
Сменцев приподнял брови, усмехнулся одним углом рта.
– Тайну? Какую тайну?
– Сказать?
– Скажи, сделай милость.
– Никто не знает, я один знаю. Вы, Роман Иванович, в Бога не веруете. Вот что.
Сказал неторопливо, тем же шепотом и откинулся на спинку стула.
Сменцев продолжал улыбаться и молчал.
– На Боге все строите, а сами не веруете, нет! – сказал опять Варсис.
Еще помолчали.
– А ты – веруешь? – спросил Роман Иванович, глядя на него прямо.
Монах торжественно встал, тонкий, черный, поднял правую руку, – взметнулся рукав рясы, как черное крыло. Произнес громко, с заражающим волнением:
– Верую! Верую в Господа моего, во вселенскую церковь верую! И в Россию, второе мое и любезнейшее отечество, верую, в силу и мощь народа ее, в правду, кровью омытую, – верую! верую!
Сменцев глядел на него с удовольствием, почти с восхищением. Такой человек ему и нужен: тонкий, неглупый, верный и притом увлекающийся, способный вдруг прийти в экстаз от собственных слов, зажечься внезапно. Это одна из форм мудрого обмана – вдохновенная искренность мгновенья.
– Ну, довольно. Сядь, успокойся, – произнес Роман Иванович ласково. – Что там? Поговорим лучше мирком.
Тот уже сел и немножко сник.
– Ежели так, вот что объясни мне, Варсисушка. Допустим на минутку, что ты прав, что я все на Боге строю, а сам в Бога не верую. Как же ты-то со мною в одних делах? Тебе бы проклясть меня, да прах отрясти…
– Нет, что ж?.. – забормотал Варсис– Это особая статья. Вы – король-человек, Роман Иванович. Как вы хотите – так и будет. Куда ж я без вас?
– Отлично. Особая статья, так особая. Чего ж ты так торжественно о «тайне» объявлял? На что она тебе? Раскрывать ее кому-нибудь, что ли, будешь? Ведь не будешь. Да и кому? А вздумал бы, разве тебе поверят?
– Не поверят, – признался Варсис. – И, действительно, что мне об этом… Я не рассудил, Роман Иванович, так сказал, в дружеской беседе. Я о вас наедине часто думаю, про себя, для себя, гадаю; очень ведь вы любопытный человек.
– Благодарю. А теперь, – проговорил Сменцев другим тоном, строго, – будет. Ври, да не распускайся. Неси листки, просмотрим пока; я завтра утром уеду.
Отец Варсис встал, схватил со стола пустую бутылку и стаканы.
– Эх, свечи-то догорели совсем. Да ладно, там у меня в шкапике новые есть.
И он поспешно двинулся к двери в спальную.
– Варсисушка, – окликнул его Сменцев, опять ласково. – Погоди, еще тебя спрошу, последнее. Вот ты в Бога веруешь, в церковь веруешь, в Россию, в народ… Ну, а как… в царя? Тоже веруешь?
Варсис ухмыльнулся. По лицу его бегали трепетные светы догорающих свечей.
– Зачем это вы столь определительные вопросы задаете, Роман Иванович? Сами же говорили, – чем общее до поры до времени, тем дело спорее. Что нам о частностях. Они сами определятся, их трогать нечего.
И он скрылся в темных дверях спальни.
«Неглупый мальчик, – опять подумал, усмехнувшись про себя, Роман Иванович. – А все-таки с ним осторожно. За границу я его не возьму, дудки. К ее сиятельству тоже рано подпускать. Два ему сейчас места: Пчелиное да Застава. И то с прикровенностью. А там – поглядим».
Глава девятая Добрый старичок
В Петербурге есть у Романа Ивановича постоянная квартирка. В новом доме, громадном, выстроенном по всем правилам гигиены. Дом в переулке, недалеко от того, непохожего на Невский проспект, Невского, что тянется от Николаевского вокзала до самой Лавры.
Квартиры в доме все мелкие. У Романа Ивановича две комнатки, но чистые, белые, свежие и как стеклышко светлые.
Мебели почти нет. Прислуги Роман Иванович не держит. У него, кажется, никогда в жизни прислуги не было, ему и представить трудно, как это он приказывал бы, а другой исполнял бы его приказания – за деньги.
Мало кто знал о существовании этой квартиры Сменцева. Так спокойнее. Адреса, для самых необходимых писем, он давал разные, чаще всего на Любовь Антоновну, учительницу, что живет вместе с Габриэлью. Нынче, так как Любовь Антоновна уезжала в экскурсию (уж вернуться должна), он и просил Габриэль сохранять его письма; и, хотя сказал, что будет гостить у Хованского, пересылать туда письма, не позволил. А Габриэль вон какую штуку выкинула. Пустая девчонка. Жаль: усердная и с огоньком.
Приехав из Луги, от Варсиса, Роман Иванович отправился домой.
Только два дела еще предстоит: предупредить Любовь Антоновну насчет приезда Варсиса, а затем побывать у милого друга, Власа Флорентьевича.
Ну, а после – Сменцев хорошенько отдохнет, дома, в полном одиночестве. Торопиться некуда. Раньше недели-двух он к Хованским не вернется, и Габриэль оттуда не выпустит.
На другой день, часов около двенадцати, Роман Иванович отправился за Невскую заставу. Пока добрался…
Во дворе, чистенько огороженном, солнечно и уютно. Береза кудрявая, куры бродят.
Любовь Антоновна увидала его в окно.
– Здравствуйте. А я вчера только вернулась. Высокая, угловатая девушка в белой кофточке, синей юбке. Молодая, но немного старообразная. Бледное лицо, серьезное и приятное. Волосы гладко зачесаны за уши, губы сжаты.
– Габриэль куда-то пропала. Оставила мне сумасшедшую записку, ничего не пойму, – сказала Любовь Антоновна Сменцеву, когда они уже сидели в светленькой комнате ее за чайным столом.
Сменцев в коротких словах рассказал о Габриэли.
Любовь Антоновна молча пожала плечами. Она вообще была неговорлива и нетороплива.
Молча слушала она Романа Ивановича и дальше, когда он говорил о Варсисе. Внимательно глядела серыми, немного выпуклыми глазами.
В конце концов решили, что Любовь Антоновна теперь только примет листки и сама немного приглядится к Варсису. О листках позаботится. Экземпляров триста можно будет изготовить, а то и побольше. Осенью, может быть, о. Варсис и лично понадобится. Даже наверно.
– Смотрите, Любовь Антоновна, только бы не преждевременно.
– Нет, я рассчитаю. За кого только я лично смогу поручиться, тех и допущу, – ответила она своим ровно-неторопливым голосом.
Разговор не затянулся. Кончили хорошо и быстро. Теперь домой, переодеться – и к Власушке. Застанешь ли еще его? На даче, пожалуй, торчит.
В прекрасно сшитом пальто, в дорогой, мягкой шляпе и, высоких воротничках – Романа Ивановича не узнать. Он кажется старше, но и красивее. И еще кажется, что он в этих воротничках и родился, что только они, а отнюдь не синяя рубаха какая-нибудь, – его настоящее одеяние. Как удивилась бы Литта. Ей, не видавшей его иначе, как в синей косоворотке, часто думалось, что никакая другая одежда к нему не шла бы; недаром все эти Петеньки да Федоры-кузнецы ему как свои.
В Ковенском переулке– низенький дом-особняк. Красивый, темный, уютный, – такие в Москве бывают, а в Петербурге редки.
– Спиридон, как живешь? – окликнул Роман Иванович представительного старика, входя в громадную, чуть ли не двусветную швейцарскую.
Тот встрепенулся.
– Слава Богу, Роман Иванович. С приездом честь имею.
– Что Влас Флорентьич?
– Никак отдыхают. Откушали недавно.
– Вот отлично. Здесь, значит?
– Вчерашний день из Петергофа. До завтрева, кажись. Роман Иванович уже быстро снимал пальто.
– Отлично, отлично. Не докладывай, не надо. Ведь никого у них нет? Где, говоришь? Во втором кабинете, что в сад выходит? Знаю, пройду.
Легко взбежал на лестницу. Прошел одну большую залу, другую, третью… Холодновато, мебель в чехлах, люстры под кисеей… Какие хоромы! Вот комната вся деревянной мозаики, вот биллиардная, – с ее стен смотрит ряд старинных портретов… А направо концертный зал: в полуоткрытую дверь тускло поблескивают трубки высокого оркестриона.
Вот и первый кабинет хозяина, строгий, темный, – деловой. Не любит его Влас Флорентьич. Особенно не любит он принимать тут каких-нибудь важных персон, оборони Бог, ученых, профессоров… плохо с этими себя чувствовал. Что ж, что миллионер и миллионы своим собственным умом нажил; что ж, что чуть не самый крупный русский издатель и газета его Земля Русская в сотнях тысяч экземпляров расходится; он все-таки мужичок, ум у него коренной, природный и хоть всеми делами самолично заправляет, – а при каком-нибудь сверхкультурном журналисте, вроде Звягинцева, или напыщенном профессоре – у него всегда может вырваться неловкое словцо. Они в нем заискивают, и не из-за денег одних, а чувствуя тоже, что в самом журнальном да издательском деле он чище их понимает; однако при каком-нибудь неудачном словце Власа Флорентьича не преминут усмехнуться в усы и запомнят.
И Влас Флорентьич избегает лично таких приемов. Есть у него на то другие люди, специально нанятые, да и два зятя, оба магистры, к редакции приспособлены. Ну, а во всем прочем – иное дело: во всем прочем хозяйский глаз и хозяйская рука.
Второй кабинет проще, уютнее и меньше. У широкого окна в сад, в удобном, стареньком кресле, отдыхает Влас Флорентьич.
– Кто это? Что надо? Ты, Василий? Да кто там, Господи Иисусе!
Привстал на кресле. Небольшой, крепкий, кряжистый, с седоватой бородой, – приятный старичок.
– Это я, Власушка, не узнал? – с лаской проговорил Сменцев, подходя.
– Да неужто же ты, Роман Иваныч? Откудова, скажи на милость? Ну, здравствуй, здравствуй. Вот негаданно обрадовал-то!
Поцеловались. Старик, действительно, рад был. Глядел, улыбаясь, гостю в лицо. Потом вдруг, точно вспомнил что-то, оглянулся пугливо на дверь, закрыта ли, и зашептал:
– Тебя видел кто? Кто пропускал?
– Спиридон видел. Да что ты, Власушка? Ведь у тебя и дом-то пустой. А люди разве не знают, что мы знакомы, приятели? И не такой я страшный или зазорный человек, чтоб тебе от всех сплошь меня хоронить.
– Да я так, спросонков… Сам не любишь на людях. Постой, ты скажи, может, случилось что?
– Спросонков, Власушка, вижу… Или уж к старости пуганой вороной становишься. Ничего не случилось. Угомонись.
Старик вздохнул, потом тихонько засмеялся.
– И рад-то тебе всякий раз, а что правда, то правда: трусу праздную. Дел твоих не знаю, одно знаю: худых не будешь делать и кашу большую заварить можешь. Ты ведь не простой, ты у нас Иван-царевич, – Роман-царевич. А только стар я в новое чего впутываться, мне бы что есть дохранить. Пусть любовь моя, помощь да благословение пребудут в тайности.
– Эх ты, Власушка, старец Божий! – весело усмехнулся Роман Иванович. – Я ли твои тайности не уважал. В дом к тебе в гости не хожу, в газете твоей не пишу… Хотя отчего бы? – прищурился он, поддразнивая. – Я ведь мастер… Ежели на цензуру не глядеть, остро можно… Под псевдонимом, а?
Влас Флорентьич замахал руками в ужасе.
– Чего ты, чего ты! Под каким псейдонимом тебя скроешь? Да после не расхлебать, коли что. Голубчик, ты и не мни. Такие времена теперь… А я ли тебя не люблю? Флорешку тебе моего отдал, сам благословил, он человек молодой, пусть ищет, где глубже, ты на худое не поведешь. А я уж свое отжил, меня не пугай, ради Христа самого.
– Да пошутил я, папенька. На что мне твоя газета? А за любовь и за Флорентия спасибо.
– Как он у тебя? – с интересом спросил старик. – Пригождается? Ученый парень, только все мнилось мне – с какой-то он с придурью.
– С придурью! Коли чего папенька в сынке не понимает, то и придурь? Нет, он славный мальчик, тонкий, я им доволен.
Влас Флорентьич опять вздохнул.
– Тонкий. Вот где тонко, там и рвется. Да уж будь что будет. Пущай его. Вам с ним виднее.
Помолчали. В комнате с прикрытыми занавесями окнами сильно темнело.
– Угостить бы тебя чем, Роман? – встрепенулся старик, – Вина может, ликеров… Я велю Василью, в минуту.
– Нет, не надо, поздно, – отозвался Сменцев. – А вот что: денег ты дай.
– Будет ли у меня? Поглядеть надо. Ведь много, чай, опять возьмешь?
– Не очень. Чека не станешь давать?
– Нет, нет, что чек. Лучше я тебе наличными, из рук в руки. Меж четырех глаз. Коли не хватит – скажи, когда опять придешь? приготовлю.
– Ладно. Пока дай тысячи две.
– Две? Ну, это найдется. Вчера тут лежало…
Влас Флорентьич достал откуда-то ключи и пошел в угол к темному шкапу.
– Электричество поверни. Вон хоть там, у двери. Дверь-то заперта?
Комната осветилась мягким, неярким светом.
– Я ведь не на дела твои даю, я их, дел этих, и знать не знаю, – говорил Влас Флорентьич, возясь у шкапа. – Я тебе даю, лично. Тебе ведь взять неоткуда. Тстенькино-то наследство мужикам роздал, как это у вас там идейно полагается.
– Конечно, конечно, мне даете, – смеялся Роман Иванович. – Уж это все давно решено и подписано. Мне разве пить-есть не нужно. Одеться тоже… Вот осенью думаю за границу поехать. Ну, до тех пор свидимся.
Влас Флорентьич аккуратно запер шкап и повернулся к гостю.
– За границу?
– Да, в Париж. Славный город. Недаром говорится: заедешь – угоришь.
– В Париж?
– Ну да, ведь сказал же. Что, мне туда поехать – покутить, что ли, нельзя?
Старик остро и умно глядел на него из-под седеющих бровей. Глядел и Сменцев; глаза его откровенно смеялись. Улыбнулся и Влас.
– Кто говорит. Пути соколу ясному не заказаны. Вот тебе, пока. Хочешь считай, хочешь нет. Пачки считанные.
Опустил глаза и, вздохнув, прибавил прежним тоном:
– Вот и Флореша частенько, пришли ему, да пришли. Мне не жалко, что ж, дело его молодое.
– Я знаю, Власушка, ты на лодырничанье не скупишься. Умница ты у меня, старичок.
И он ласково похлопал его по плечу.
– Что ж вина-то не выпьешь?
– Нет, милый, я уж пойду. К тебе еще кто бы не пожаловал. Ведь знают же, что ты в городе.
– И то, – заволновался Влас Флорентьич. – Весьма даже возможно. Да я сам лучше поеду. В типографии человека надо повидать.
– Вот видишь. Прощай же, голубчик. Спасибо тебе.
– Не на чем. Мы што, люди – люди, а ты ведь Иван-царевич. Прощай, Романушка; Христос с тобой, благослови тебя Матерь Божия.
В дверях Сменцев обернулся.
– Ах, старик, старик. Ведь вот иной раз думаешь: типография у него своя, народ известный, как бы подчас удобно это. А жалеешь тебя и соблазну ни-ни, не поддаешься.
– Что топография? Ну что еще типография? – торопливо отозвался Влас Флорентьич. – Свинчаток этих, что ли, нет? Эка! На наличные-то, друг, свинцу сколько хочешь закупить можно…
– И то правда… Не совсем на одно выходит, ну да уж Бог с тобой. Хороший ты старик. Прощай, лихом не помянешь.
Глава десятая Чистый
Жарко.
И сухо, и как-то скучно, – ветрено. От суши и ветра уже падают ранние листья в аллеях. Но за озером, в лесу, болота не сохнут, хотя свежести от них никакой.
Литта гуляет много – одна. Ей хочется быть одной. Такая тоска, такие думы. Впрочем, есть главная дума. Вопрос, который нужно решить. А как его решить?
С отъезда Сменцева прошла не одна неделя, а целых две, – может быть, больше. Габриэль живет на Стройке и живет, освоилась, кажется, очень довольна Весела, болтлива и не глупа. С Литтой пыталась было дружить вначале, – но как-то не сошлась. Катерина Павловна вечно в суетливых хлопотах, ну и вышло так, что Габриэль больше всего бывает с Алексеем Алексеевичем. Сумела его растормошить, они спорят, гуляют вместе, даже ездят куда-то на кривой таратайке, – Габриэль правит толстопузой деревенской лошадью и хохочет. Веселая.
На опушке леса недалеко от ручья есть большое дерево с низкими развесистыми ветвями. Литте оно почему-то нравится. Любит сидеть, прислонившись к стволу, глядеть вправо, где так просторно, где над волнистыми холмами лиловеет небо. Хорошо и лежать в траве; траву, первую, давно скосили, но выросла вторая, тоже зеленая и цветистая, – ручей близко.
«Мне надо освободиться, это главное. Надо освободиться, – думает Литта свою вечную надоедливую думу. – Надо непременно… Как? Посоветоваться не с кем. С Михаилом нельзя, даже когда она его и увидит… если увидит. С Дидусей? Где он? Да нет, нет, она понимает, что это ее дело, и надо самой, одной все придумать. А положение трудное».
Графиня-бабушка тогда, во времена доверия к старому профессору Дидиму Ивановичу, который готовил Литту на курсы, отпустила ее учиться за границу. Отпустила странно легко: со своей приживалкой и верной Гликерией. После всей этой ужасной истории с братом Юрием графиня точно забыла о внучке. Не замечала, тут ли она, там ли; бросилась в ханжество, и вышло у нее ханжество свое, действенное, деятельное, властное, – даже не ханжество, а что-то совсем другое.
Отца Литты, старого сенатора, подагрика и брюзгу, графиня быстро перевернула на свой лад, – Литта едва узнала Николая Юрьевича. Сколько лет жил он в доме графини, на отдельной половине, одинокий, злой, закутанный в пледы, растерявший все связи, забытый. Теперь он, покорный графине-теще (которая, впрочем, всегда его ненавидела), восседает в ее салоне, благословляется у епископов и архимандритов, крестится мелкими, приятными крестами и, кажется, состоит каким-то опекуном каких-то благодетельных учреждений.
Литта приехала из-за границы весной, пробыла дома недолго и не успела понять, что именно творится. Одно поняла с ужасом: за границу ее больше не пустят. Окончательных слов не было сказано. Графиня к ней милостива. Разрешила ехать к Хованским гостить. Но… что же обманывать себя? Вот приедет осенью в Петербург, и окончательные слова скажет графиня.
Бежать?
Литта не наивная девочка. Даже если б удалось бежать без паспорта, без копейки денег – недалеко она убежит: графиня со дна моря достанет ее, несовершеннолетнюю, «возвратит отцу», если захочет. И уж, конечно, захочет.
Бежать и тайно обвенчаться с Михаилом за границей? Думала она и об этом и бросила мысль. Какие законы охранят жену человека, живущего вне законов? И как это она будет его «законной» женой? Пустое, пустое.
Да если б и можно было, – она не хочет. Много причин, почему не хочет. Она должна быть его другом, помощницей, участницей дел его, а не связой, обузой, беспомощной девочкой, которую он должен кормить и поить, да притом эмигранткой ни с того ни с сего, глупо и безнадежно лишенной права приезжать в Россию…
Есть еще одно: покориться, жить три года в салоне графини, лицемерить, тайно и редко сообщаться с Михаилом, оставить его…
Но Литта знала, что этого не сделает, а потому выхода не было.
– Юлитта Николаевна! Дорогая! Вы тут? Спите?
Ее нашла Габриэль, вынырнувшая откуда-то из чащи. Литта вздрогнула от неожиданного оклика.
– Жара-то какая! – Габриэль уселась под деревом рядом с Литтой. Белый платочек скинула, и рыжие волосы ее сверкнули под ломаным солнечным лучом. – Я вам не мешаю? Немножко прошлась. Как жар спадет, мы с Алексеем Алексеевичем на мельницу поедем. И обеда ждать не будем. Там, верно, есть молоко. А то стемнеет.
Литта молчала.
– Здесь хорошо. Еще лучше лечь, вот так, на спину, в траву и смотреть в небо. Вы любите небо, Юлитта Николаевна?
Литта молчала. Но стыдно было молчать. За что она обижает Габриэль?
– Здесь хорошо, – произнесла она вяло, еще думая о своем.
Габриэль приподнялась на локте и тряхнула рыжей головой.
– Вам, может быть, неприятно, что я так внезапно явилась и живу да живу? Я понимаю, это странно…
– Что вы, Габриэль? – вспыхнула Литта. – Отчего вы так подумали. Здесь и дом не мой, я сама в гостях. Вы оттого, что я редко с вами разговариваю? У меня уж характер такой просто.
Габриэль закусила травинку.
– Здесь хорошо, и Алексей Алексеевич премилый, и все… Но, конечно, я бы давно уехала, если б могла. Не могу. Слово дала Роману Ивановичу дождаться его здесь. А мне даже и не пишут. Ни он, никто.
Засмеялась и прибавила:
– Алексей Алексеевич да и все, верно, думают, что я влюблена в Сменцева. Мне безразлично, однако вздор какой.
Литта поглядела на нее с внезапным любопытством, но промолчала.
– В него можно влюбиться, – продолжала Габриэль, уставив на Литту круглые, ярко-голубые глаза. – Он чистый человек, чище других… Да я-то не влюблена. Иногда, признаться, и жалко, что не влюблена.
– Жалеете? Почему?
– А он мне больше доверял бы. Он думает, что на женщину только тогда можно вполне положиться, когда она любит, то есть влюблена. В женскую любовь к делу не очень верит; в любовь к себе – да.
Литте вдруг стала противна рыжая Габриэль, и ее слова, и Сменцев. Хотела сказать что-то, но Габриэль спокойно продолжала:
– Он был бы прав, если б не смотрел узко. Без влюбленности женщина, конечно, никуда не годится. Но влюбленной можно быть и в дело, а перед душой дела, перед Романом Ивановичем, преклоняться.
– Так вы перед ним преклоняетесь?
– Конечно.
Литта не находила слов. Но рядом с негодованием в ней росло любопытство, – глупое и неодолимое, – к этому Сменцеву. Если в него не влюблены, перед ним преклоняются… Но ведь неприятный же он…
– Я за ним всюду пойду и всегда, – болтала Габриэль. – Он – раскрывающая горизонты сила. Я бы, пожалуй, и влюбиться в него могла, если хорошенько подумать, да ведь он меня не полюбит…
– Ах, вот в чем дело! – сказала Литта зло; тотчас же, впрочем, раскаялась.
Габриэль и не заметила возражения.
– Он этим просто не занят. Энергия на другое направлена. И некогда. Это ведь очень большая трата времени – любить.
– Прямо ужас, что вы говорите, Габриэль, прямо ужас. Я даже разобраться не могу. И вашего Сменцева окончательно не понимаю.
– Его не сразу поймешь. Многих, например, увлекает его строгая жизнь. Какой, говорят, чистый, святой. Конечно, красиво, но это вовсе не банальный аскетизм. Роман Иванович выше. Я уверена, он никогда не станет бороться со страстью, если бы страсть такая пришла. На борьбу уходит еще больше сил и времени, чем На самую «любовь». Он цельный, цельный – вот что поймите.
– Ну, тем лучше для него, – сказала Литта с досадой и встала. – Я пойду, пора, скоро обед.
Габриэль тоже вскочила.
– Да и мне пора. Мы до обеда с Алексеем Алексеевичем уезжаем. Он меня ждет.
Двинулись по опушке вместе.
– Замечательный человек Алексей Алексеевич. Какая глубокая душа! И сил – правда, скрытых – много. Неужели Роман Иванович не говорил вам, что Хованский в сущности наш, наш?
Литта остановилась.
– Послушайте, Габриэль. Вы ошибаетесь. Вы обо мне, должно быть, неверно думаете. Я ничего не знаю. Со Смен-цевым почти не говорила. Что значит «наш», не «наш» – я даже не понимаю.
– Вот как! – протянула Габриэль. – А я думала, Роман Иванович с вами откровеннее. Впрочем, он еще приедет.
Вдруг вскрикнула, перебив себя:
– Смотрите, сколько незабудок! Вон внизу, у ручья. Привыкнуть не могу к этой прелести. Сейчас нарву.
И она кинулась под горку. Литта не пошла за девушкой и ждать ее не стала. Двинулась медленно вперед, потом повернула в лес, по глухой тропинке.
Как скучно. Господи, как скучно и тошно. Чужая она всем – и всему: березам, лугу, незабудкам… Или оттого так кажется, что смутно на душе, неизвестность впереди, непонятность около, а она – одна?
Глава одиннадцатая Любовь – зла
Никогда еще никто не видел Катерину Павловну в таком состоянии.
Литте даже показалось, что она похудела с утра. За обедом молчала, на себя непохожая, и будто сдерживаться старалась ради бонны и детей. Но когда подали пирожное, она вдруг из-за пустяка раскричалась на горничную, потом на бонну, закрыла лицо платком и убежала.
«Что-то случилось», – подумала изумленная Литта.
Вавочка даже удивилась, маленькая, и протянула:
– Мама… Мама капризничает… Ай-яй-яй!
И покачала головой, как фрейлейн качает, когда раскапризничается сама Вавочка.
– У мамы головка болит, я знаю, – сумрачно сказал Витя. – Надо теперь только не шуметь.
Кое-как дообедали. Бонна, сжимая губы многозначительно, увела детей, а Литта сейчас же отправилась наверх. Постучала в дверь спальни:
– Тетя Катя. Можно?
Спальня – громадная комната с круглым окном. Она же будуар Катерины Павловны, а за тяжелой занавесью стоят две белые супружеские кровати, отделенные друг от друга ночным столиком.
На одной из этих кроватей лежала Катерина Павловна, лицом в подушку, виден был только тяжелый черный узел волос.
– Катичка, милая, – взволнованно заговорила Литта, подходя. – Я так не могу. Случилось что-нибудь? Или ты нездорова? Скажи мне.
Катя обернулась, охватила Литту обеими руками, неловко прижав к себе, и зарыдала с новой силой.
Наконец успокоилась и, сев на постели, проговорила:
– Разве можно? Да я не знаю… Да я голову потеряла. Меня как обухом…
– Что? Что?
– Пришла ко мне и объясняет, что они с Алексеем любят друг друга… Какой-то там не той, а этакой любовью, ну, да шут их знает, все равно. Любят друг друга! Никому, говорит, до этого, конечно, нет дела, но вам я сочла нужным сказать, так как вы находитесь в известных отношениях с Алексеем, а я живу у вас в доме. Я надеюсь, говорит…
Тут Катя не досказала и залилась новыми слезами.
– Да кто это? Кто говорил? – повторяла ошеломленная Литта.
– Господи! Лиля, ну кому еще, рыжая, рыжая! Литта онемела и почувствовала себя оглупевшей. Вот тебе раз. Вот тебе и Габриэль. То-то она в лесу бегала и о влюблениях разговаривала. Но все-таки как же это?
Катя между тем перестала плакать и, радуясь, что есть с кем говорить, заспешила:
– Нет, подумай только. Вот ты поражена, а каково мне было? Я совершенно потерялась.
– Постой, а он-то? Что же Алексей-то говорит?
– Что же он, когда я его не видала? Его не было. Она утла, а я как громом пораженная… Сижу, не знаю, сколько времени прошло… Потом под окном голоса, выглянула, – они вдвоем на таратайке, и уехали… Как еще я к обеду сошла. Не понимаю.
Литта, бледная, задумалась. Обняла Катю. Тихо проговорила:
– Пустое, мне кажется. Она чудная, фантазерка. Подожди огорчаться, ведь мы еще ничего не знаем. Бог весть, про какую любовь она плела…
Катя не совсем утешилась, но вытерла глаза и заговорила о том, как она всегда счастлива была с Алексеем, какой он хороший, как любит ее и детей, а что характер у него иногда сумрачный – так он сам говорил, ему нужна именно такая жена, бодрая, веселая, именно она, Катя… Мало ли он видал народу, у них в доме молодежь, и ни-ни! Не ухаживал даже ни за кем. Не такой он человек…
– Постой, – перебила ее Литта. – А когда она тебе это сегодня сказала… ты что же? Неужели перед ней заплакала?
– Ничуть. Я сначала окаменела. А после что-то сказала, уже не помню, кажется «хорошо» или «вот как», пустое что-то. А после, она уж выходила, я вслед сказала о разводе, что если Алексей захочет развод, то я готова… Только она, должно быть, не слышала, я тихо сказала.
– Ну, и прекрасно, какие разводы! Право, мне кажется, все это сон какой-то.
– Просто проклятие, а не сон. Надо же Сменцеву, подкинул нам эту неизвестную особу – сам исчез. Какая бесцеремонность!
Тетя Катя встала с постели и теперь ходила по комнате большими шагами.
Литте вспомнилось вдруг, как Сменцев желал Алексею Хованскому для излечения от хандры влюбиться. Вряд ли думал, что пожелание это так скоро исполнится. Впрочем, тут совсем что-то не то. Чепуха какая-то.
– Я с ним всю ночь сегодня буду говорить, – решила Катя. – Пусть прямо скажет. Все равно.
– Только спокойнее будь, Катя. Право, лучше. Не серди его напрасно.
– А завтра утром я к тебе приду и все расскажу. Длить этого нельзя.
До темноты сидела Литта у Катерины Павловны. Уложила ее и, сойдя вниз, сказала, что барыня не так здорова, чай пить не будет, да и ей, Литте, чаю не надо: она тоже уходит в свою комнату. Пусть приготовят для барина и для барышни.
Ей подали письмо. Случайно работник привез со станции.
«От кого бы это?» – думала Литта, поднимаясь по лестнице.
Почерк длинный, острый и такой черный, ровным нажимом. Письмо, к удивлению, оказалось от Сменцева. Очень короткое. Роман Иванович надеется, что она здорова, что он застанет ее на Стройке, куда скоро вернется. У него есть интересные для нее новости. Просит передать почтение всем, а Габриэли, которая, по всей вероятности, еще у них, его покорнейшую просьбу отправиться в Петербург не позже и не раньше двадцать пятого числа.
Вот и все.
Но у Литты губы побелели от злобы. С какой стати ей – это письмо? И, главное, передача приказаний Габриэли – через нее.
В какое он положение ее ставит? А тут еще эта история… Положительно невыносимо.
Разорвать письмо и ни слова никому. Пусть как хотят. О, если б убежать, уехать завтра же и со Сменцевым этим не встречаться больше…
Но уехать некуда. И Катю бедную ей жаль. Ничего она не понимает; и Литта, правда, мало понимает, но как же оставить одну?
А не лучше ли, если эта Габриэль уедет? Ведь двадцать пятое завтра… Стиснуть зубы, спрятать в карман все свои самолюбия, наплевать внутренне на всякие – «что вообразит Габриэль», пойти сейчас вниз (Литта слышит, они вернулись, пьют чай на террасе, говорят) – и объявить «приказ» Сменцева. И кончено. Она послушается. Фантазии – фантазиями, а послушается.
Да, так и сделать. Не стоит дольше рассуждать.
Письмо в кармане, опять Литта идет по надоевшей круглой лестнице. У порога на террасу останавливается дух перевести. Уж очень ей противно.
На столе самовар; свечи в круглых стеклянных колпаках освещают снизу ближайшую зелень, и она кажется тяжелой, серой, чугунной.
Говорят; громко, – дружески, кажется. Говорит Габриэль. О чем-то возвышенном; нельзя понять, не то о философии, не то о какой-то «народной правде»… Литта, впрочем, не вслушивается…
– А, Лилиточка! – весело крикнул Хованский. – Так вы не спите? Что, у вас голова болела?
– И теперь болит. Очень. Я на минутку сошла. У меня дело… Вот Габриэль… Федоровна… – продолжала она с усилием, – я сейчас только получила письмо от Романа Ивановича. Он просит меня передать вам… его покорнейшую просьбу отправиться в Петербург… не раньше и не позже двадцать пятого. Этими словами он пишет. Габриэль удивленно вскинула глазами.
– Вам он пишет? Просит приехать? А сам что же?
– Я ничего не знаю, – сдерживаясь, проговорила Литта. – Вот я передала.
Повернулась, чтобы выйти. Но Габриэль вскрикнула взволнованно:
– Я удивляюсь! Почему же он мне прямо не написал? И разве почта была?
Литте захотелось бросить ей проклятое письмо в лицо и убежать; но усилием воли она вдруг совершенно успокоилась, даже улыбнулась.
– Кузьма привез мне письмо со станции. Оно со мной. Хотите взглянуть сами? Я передаю точно. А если Роман Иванович не адресовал письмо вам, то, вероятно, имел на то основания.
Габриэль опомнилась. Сделала серьезное лицо.
– Да, да, я понимаю. Конечно, имел основания. Зачем же мне письмо? Надо ехать – ну и поедем. Когда у нас двадцать пятое?
Хованский, с удивлением смотревший на эту сцену, сказал:
– Мне самому нужно к двадцать седьмому в Петербург. Я бы вас проводил…
– Нет, нет, я поеду, как сказано. Там увидим.
– Спокойной ночи, – поспешно перебила ее Литта. – Простите, ужасная мигрень…
И она ушла.
Думала, что долго не уснет, – но спала крепко, сладко, радостно, забыв все, что мучило.
Утром ее разбудила поцелуями тетя Катя.
– Милая, здравствуй. Знаешь, он меня разговорил. Совсем в другом свете представил…
Лицо, однако, у нее было не веселое, а какое-то недоумевающее:
– Он засмеялся и говорит, что это я виновата, а никакого трагизма нет. Что я, должно быть, сама чем-нибудь вызвала эту Габриэль на объяснение, а к тому же она фантазерка и все слова у нее со своим собственным смыслом. Говорит еще, что действительно любит Габриэль… но так, как если бы это была наша большая дочка… Ты понимаешь?
– Д-да. Понимаю, – протянула Литта, которая, однако, ничего не понимала.
– Ну, вот. Еще говорил, что и я ее должна любить, и что мы с ним много ей можем помочь. Она такая увлекающаяся, хотя и умная, у нее очень интересные идеи, но необходимо, чтобы около нее был трезвый человек, иначе она себя погубит. Ты знаешь, она сегодня уезжает. Получила какое-то известие от Сменцева.
– Да, знаю. Трезвый человек… Ведь она со Сменцевым… ведь с ним у нее какие-то дела. – Я то же говорила Алексею. Про Сменцева-то. Да Сменцев будто и сам неизвестно какой, да и не любит ее вовсе. Алексей сказал, что она сама по себе ценность. Что нельзя ее покидать.
Литта вскочила и с притворной веселостью обняла бедную Катю.
– Катюша! Видишь, все и объяснилось. Конечно, всякий человек ценность. И это очень хорошо, если Габриэль полюбила Алексея, полюбит тебя. Она так одинока.
Катя еще недоверчиво, но уже улыбалась.
– Так ты это поняла? Веришь?
– Ну, как же! Напрасно только сцены было делать Алексею. Он к этому не привык.
Катя повеселела.
«Какой все это вздор! – думала между тем Литта. – Друг друга обманывают, сами себя обманывают, – не разберешь. И я Катю обманываю… Ну, должно быть, так надо».
С мутной головой сошла она вниз.
Габриэль уехала к вечеру. С ней все были приветливы. Катя робко и неловко старалась тоже проявлять ласковость.
Алексей Алексеевич сам отвез ее на станцию.
Глава двенадцатая Брат
Никогда Сменцев не был рабом своих собственных планов и расчетов, – в подробностях, конечно. Планы у него были гибки и лишены механичности. Требовал точности, механичности исполнения – от других; но без этого нельзя: исполняющий должен быть послушен.
Так, Роман Иванович вместо недели пробыл в Петербурге больше трех. Сделал там, кроме намеченных, еще несколько дел. О. Варсиса решил пока в Пчелиное не посылать. А спешно вызвал из Пчелиного друга своего, Флорентия Власовича, съехался с ним на станции и привез на Стройку.
Это случилось на другой день после отъезда Габриэли.
Не прошло недели, как Флорентий Власович сделался на Стройке общим любимцем. Витя от него не отставал, притом держал себя с ним весьма независимо; тетя Катя звала его, как Сменцев, Флоризелем; Хованский, который ездил на два дня в Петербург, вернулся превеселый, – шутил и смеялся с Флоризелем, точно мальчик.
Но удивительнее всего было отношение Литты: недо-умелая злоба и мрачность, с которыми она ждала Романа Ивановича, отошли от души при первом взгляде на Фло-ризеля, и сам Роман Иванович показался ей светлее, проще. Совсем не страшный. Это она в одиночестве и тоске все себе навообразила, точно маленькая девочка.
А Флоризель… Какое родное в нем, близкое, детское, братское. Тонкий мальчик он, прозрачные волосы мягко завиваются, глядят открыто светло-карие глаза, а на подбородке, как у самой Литты, милая ямочка, только глубже и резче.
В лесу часто гуляют они вдвоем с Литтой или Витю прихватят с собой; Роман Иванович держится в сторонке; много сидит у себя, что-то пишет.
Рада Литта бегать по лесу. Ей легко, весело. Флоризель вырезывает палки, разводит костры на лесных полянках; как-то захватили картошку в корзиночке, пекли. Грибов много, и молоденькие: чуть видны во мху, надо откапывать.
У Флоризеля чистый, нежный тенор; поет над озером старые какие-то романсы, и очень хорошо выходит. А раз вечером запел вдруг «Да исправится молитва моя», и тоже хорошо вышло.
– Откуда вы знаете, Флоризель, церковное пение? – спрашивает Литта, задумчиво вглядываясь в сумеречную тихую печаль озерного простора.
Флоризель старательно, перочинным ножиком дорезывает какую-то дудочку и встряхивает головой, потому что кудри лезут на глаза.
– Да разве я знаю? Я не знаю, а так… По слуху. А после я вам баптистский псалом спою. Интересно. Однообразно только.
– Флоризель, отчего вы мне такой родной? – продолжает Литта, не глядя на него. – Вы на моего брата похожи… Нет, впрочем, нет… на друга моего одного… Не лицом, – лицом скорее на брата…
– Эх, клапанов не успел прорезать… Темно. А увидите, хорошая будет дудка. Я вас, Юлитта Николаевна, сразу полюбил, вы простая. У вас, верно, горе какое-нибудь есть, беспокойство?
Литта вздохнула и помолчала.
– Много, Флоризель, много чего есть. А я все одна.
– Ну, чего, вы очень не думайте. Вы простая. В Бога ведь верите?
– Верю…
– В Христа?
– Да, Флоризель. Как вы хорошо, прямо, спросили. Я верю… А вот он… он не верит. То есть нет, верит, только не знает, верит ли… И в этом его мука.
– Его? Чья? Вы про кого говорите?
– Про него… Про того, кого я люблю. Ах, мне все кажется, что так давно мы дружны, что давно я вам все рассказала…
– Нет, понимаю. Вы, верно, о Ржевском говорите. Я слышал. Я скоро его увижу, верно. Очень хочу.
Литта не удивилась и не расспрашивала ничего. Так было все просто, печально и хорошо – в сумерках.
– А я было подумал сначала – вы о Романе Ивановиче заговорили, – сказал Флоризель, улыбаясь.
– О Романе Ивановиче? Нет… Бог с ним. Вы его любите, Флоризель?
– Ну, еще бы. Мы же вместе, в одном деле.
– В каком? – неожиданно для себя спросила Литта.
– А в Божьем и в мужичьем. Как не быть в этом деле? Люди кругом – я про всех говорю – бедные и глупые. Не знают, как жить, не знают, что делать. Думают, что не верят, а если и верят, так неправильно, и вера им жить мешает. Надо работать с ними.
Сырой туман давно длинными, качающимися столбами подымался над осокой. У Литты вздрогнули плечи.
– Флоризель, мне холодно, пойдемте домой. И пойдемте наверх, в мою комнату. Расскажите мне дальше и подробно не вообще, а все, как есть. Я знать хочу. Мне надо знать, то ли это, о чем я… мы думали… Не то? Надо мне.
– Хорошо, – сказал Флоризель и встал. – Пойдемте, пожалуй. Только о чем рассказывать? И не мастер я. Мне же Роман Иванович говорил, что вы все знаете…
– Почему говорил?
– Как почему? Да Бог с вами, Юлитта Николаевна. Да разве тут все в словах дело? Оно само понимается. Вот гляжу я на вас, вижу, что вы такая простая, а лицо у вас печальное, беспокойное… Гляжу и чувствую, что вы вся тут же, с нами, и должны все знать… Холодно. Давайте, побежим по аллее к дому. Наперегонки. Живо согреемся.
И они побежали. Длинноногий Флоризель был проворнее, но близорукость приучила его к осторожности, теперь же под деревьями стояла плотная ночная чернота, – и потому Литта не отставала от спутника. Деревья гуще, темнота чернее, едва видится впереди серое пятно просвета.
– Ох, устала… Не могу… Кто это?
Она в темноте набежала на кого-то, почувствовала чьи-то сильные руки на плечах.
– Ну и бегаете же вы! – сказал невидный Роман Иванович, смеясь. – Едва успел руки протянуть. Вы бы упали.
Флоризель в это время уже наткнулся на скамейку.
– Вот и я едва не свалился, – заявил он, хохоча. – А зато ведь согрелись, правда, Литта?
Они все пошли к дому, тихо. Литта действительно согрелась, ей было весело. И Роман Иванович, которого она не видела, казался ей таким близким.
– Роман Иванович, послушайте. А куда девалась Габриэль? Она больше не приедет?
– На что она вам? – шутливо спросил Сменцев. Флоризель подхватил:
– Это рыженькая? О, у нее широкие задачи. Во-первых, на основании историческом создать новую субстанциональную философию…
Говоря эту чепуху, Флоризель пресмешно передразнил «рыженькую», и голос ее и тон. Литта засмеялась:
– Ну, Флоризель! Как вам не стыдно? Роман Иванович тоже смеется, а сам же водворил ее в мирный дом… Мало ли что могло случиться. Какие трагедии…
Роман Иванович действительно смеялся. Потом сказал спокойно:
– Да, я знаю. Чего не знаю – догадываюсь. Литта умолкла. Замедлила шаги.
– Мне сам Алексей обо всем поведал, – продолжал Сменцев. – Два дня рассказывал. Помните, я ему советовал влюбиться? Это, конечно, не совсем то, чего я ему желал, объект неподходящий. Однако посмотрите, возник, бодр, пасьянса даже не раскладывает.
Литта услышала в голосе Романа Ивановича улыбку, вспомнила ее, неприятную, чуть-чуть вбок, – и ей стало опять холодно.
– К чему тут насмешки? – сказала она с сердцем. – Вы бы подумали о Кате… Да и я ничего не понимаю. Начало какой-то гадкой чепухи.
Но Роман Иванович не хотел ссориться.
– Право, я не смеюсь. Я согласен, что чепуха, то есть вещь обычная, заплетенная всякими искусственностями. Алексею я советовал большую осторожность, убеждал, что вовсе Габриэль его не любит, знаю ведь я ее. Но подите вы. Он клянется, что и сам в нее не влюблен, а что-то между ними такое… этакое. – Да вы не беспокойтесь, – прервал он себя, – пока это никакими трагедиями и не грозит. А дальше увидим.
Литта пожала плечами.
– Я и не беспокоюсь. К слову пришлось. Флорентий Власович, где вы?
На площадке около дома было немножко светлее. Флоризель неприметно исчез.
– Он, верно, ко мне пошел, – сказала Литта – Я его звала в свою комнату.
Сменцев остановился, помолчал, как будто колеблясь и соображая, потом произнес очень серьезно:
– Юлитта Николаевна, а я хотел попросить вас к себе на полчаса. Мне надо сказать вам нечто весьма важное.
Она молчала.
– Если Флорентий ждет вас, мы можем пройти и к вам. Это все равно. Вы к нему дружески относитесь, а у меня от него нет секретов.
Литта еще помолчала.
– Ну, хорошо. Пойдемте.
Глава тринадцатая Предложение
Флоризель часто заходил в белую, просторную Литтину комнату. Случалось, они тут разбирали травы, цветы, грибы. Он ей исправил как-то лампу, которая все коптила. Теперь он, дожидаясь, заботливо эту лампу зажег. Лампа горела хоть куда, преярко.
– Садитесь, гостем будете, – сказала Литта Роману Ивановичу с преувеличенной веселостью. – Флоризель не гость, он у меня часто даже на оттоманке валяется.
Она опустилась в кресло у окна. Сменцев сел против нее, около письменного стола.
– Что вы, Литта, когда я валяюсь? – запротестовал Флоризель с оттоманки. – Я просто люблю сидеть вот так, низко. Разве я валялся?
– Ну, хорошо, хорошо, – а если б и валялись? Беды нет. Роман Иванович, вы мне что-то хотели сказать.
Опять неприятен был он ей, смугло-бледный под светом лампы, с черными, точно вырисованными бровями, с неуловимой усмешкой вбок. И какие приготовления! Противная торжественность. Литта уже решила как можно скорее оборвать разговор.
Флоризель в эту минуту поднял глаза и спросил просто:
– О Ржевском ты хочешь, Роман? Еще не говорил с ней?
– И о Ржевском, да… Но пока вот что, Юлитта Николаевна. Я был у Сергея. И был у графини.
– Что Сергей? – перебила Литта. – Он живет все там же? Мне надо написать ему… Да пусть лучше так, через две недели поеду, увижу…
– То-то что не увидите. Он отлично устроился, на шесть месяцев за границу уехал. Ведь он мастером, так как-то от завода себе исхлопотал отпуск вроде командировки… не вникал я. Словом, они увидятся там с Дидимом. Старик нынче не приедет.
Литта онемела. Не приедет! И Сергея нет. Он один еще был, последний. Хотела с ним посоветоваться… А Сменцев продолжал:
– Мне самому это неприятно. Я на Сергея кое в чем рассчитывал. За границей повидаюсь, да он мне здесь бы нужен… Вам просил передать…
– Что? Что?
– Он какое-то письмо получил. Я просил дать его мне для вас, но он уничтожил. Просто, вас ждут в начале сентября и ждут из Парижа, хоть на два дня, туда… Я адреса не знаю… В Пиренеи…
– Боже мой! – вскрикнула Литта. – Да неужели нельзя как-нибудь устроиться с письмами? Ведь я же не могу так сидеть, ничего не зная. Мне теперь особенно нужна определенность.
Она вскочила с места в волнении и прошлась по комнате.
– Конечно, можно устроить, – сказал успокоительно Флоризель. – Эта всегда можно устроить.
Роман Иванович вступился.
– Еще бы. Но, вероятно, ваши друзья так убеждены, что вы через несколько недель будете за границей, что и не заботятся сейчас о письмах.
Литта вспомнила: сама была против всяких писем на это краткое время. Так условились.
– Между тем, – продолжал Сменцев ровным тоном, – я должен откровенно вас предупредить… Насколько я понял, – графиня думает, что вы эту зиму проведете в Петербурге…
– Что такое? Я? Зачем вы говорили с бабушкой обо мне?
– К слову пришлось… Я раза три был в Царском. Мы ведь с графиней в очень хороших отношениях. Есть и дела кое-какие.
Литта в неистовом волнении остановилась перед Смен-цевым.
– Роман Иванович… Мне все это очень жаль… То есть что вы тут запутаны. Но раз уж так вышло, и вам более или менее известно… Я сама думала, что она меня не пустит… сама, сама. Вы в хороших отношениях… Не можете ли вы устроить… попросить ее… уговорить?..
– Что вы, Юлитта Николаевна? Точно вы графиню не знаете. И как объяснить мое отношение?..
– Да, да… я сама не понимаю, что говорю… Флоризелю очень стало ее жалко.
– Милая, сестричка (иногда звал ее так), да не горюйте раньше времени. Ведь обойдется. Ну, надо вам за границу, Роман чего-нибудь придумает. Придумаешь, Роман? А письмо я свезу, я ведь скоро поеду и как раз к этому Ржевскому.
Он подошел к ней, взял за руку и нежно стал гладить эту холодную, дрожащую ручку.
– Не бойтесь, Роман уж придумает, что надо…
Тихая, детская ласка и ясные глаза Флоризеля немного успокоили девушку. Слов его она почти не слыхала.
– К чаю звонят внизу, Катерина Павловна опять сердиться будет, что никого нет. Роман, ты идешь? И вы идите, сестричка. Успокойтесь немного и сойдите. Хорошо?
Он все еще держал ее руку.
– О Ржевском мы лучше потом поговорим. И о том, что вы меня просили нынче, я, пожалуй, расскажу вам после, как сумею. Ржевский – ведь он хороший, мы все вместе будем в одной работе. Правда, как вы думаете? И старика этого, вашего друга, Дидима, я тоже хочу повидать. Не знаю его, а что-то он мне нравится…
Литта вздохнула, глубоко, точно ребенок после плача. Чуть-чуть улыбнулась. Роман Иванович тоже стоял около нее, серьезный, без усмешки.
– Право, я не знал, что вы так огорчитесь. Ну, авось, придумаем…
Она подняла глаза. Нет, он добрый. И умный. Отчего она ему так не доверяет? Сергей же с ним. И Флорентий. Насколько она могла понять, хочет он того же, чего хотят Дидусь и Михаил, делает то, что они бы хотели делать… Откуда неприязнь к этому сдержанному, твердому человеку? Никого нет около нее. А одна она не справится, вот просто с обстоятельствами личной своей жизни не справиться ей.
Флоризель поцеловал руку Литты и ушел.
– Что ж, – сказала Литта тихонько и опять вздохнула. – Пойдемте и мы. Еще подумаю. Мне стыдно, это все мои дела глупые, вы ими занимаетесь. Не пускают барышню к тайному жениху, – как важно! Ну и не пускают. Пойдемте же вниз.
Она было усмехнулась, но Сменцев глядел на нее очень серьезно и не двигался с места.
– Юлитта Николаевна, – произнес он наконец, не спуская с нее глаз. Эти глаза, черные, без блеска, опять немного испугали ее. – Послушайте. Мне пришла в голову одна мысль…
– Правда? Какая?
– Хотя мы и мало говорили, я понимаю положение ваших дел. Когда окончательно выяснится, что вы… в плену и на продолжительное время, то… я знаю средство помочь. Оно очень действительное.
– Говорите. Скорее.
– Сейчас? Но посмотрим, может, все еще устроится…
– Нет, сейчас, сейчас.
– Хорошо. Если средство будет не нужно или вам не подойдет, разговор останется между нами… Да?
– Я обещаю.
– Вам есть время обдумать мое предложение. Потому что это действительно предложение. Надо выйти за меня замуж.
Ей показалось, что она не расслышала.
– Что? Как?
– Я могу жениться на вас.
Вспомнилось, как во сне: буря, сухой шум берез, переливчатый рокот грома, ветер, ветер… и в ветре тот же голос, те же, но с ветром улетающие, неясные слова… «жениться на вас»… Конечно, ей тогда послышалось. И теперь тоже.
– Вы удивляетесь? – мягко сказал Роман Иванович. – Что же тут удивительного.
– Нет. Я не понимаю. Как вы могли? Я люблю Михаила Ржевского, я его невеста… Вы знаете. Как вы могли?
Сменцев улыбался.
– Неужели вы никогда не читали, что это была очень распространенная вещь в прежнее время? Девушки, которые хотели ехать учиться, хотели свободы и не могли уйти от семьи… Они…
– Да, да, знаю, помню… Так это вы мне предлагаете? Я поняла. Мне надо ценить, такая жертва с вашей стороны. Но ужасно, ужасно. И никогда…
– Вы думаете никогда графиня не согласится? Я не думаю. Напротив… А что же тут ужасного? Вы будете свободны… Или вы рассчитываете обвенчаться теперь с Ржевским?
– Нет… – сказала Литта и отвернулась. – О, я ничего не знаю! Прошу вас, оставьте меня теперь одну. Оставьте же меня!
Сменцев хотел еще что-то сказать, сделал шаг к ней… Но ничего не сказал, повернулся и быстро вышел.
Глава четырнадцатая Хутор пчелиный
Как-то, скуки ради, поплелся дьякон отец Хрисанф за реку, на хутор, в непогожий сентябрьский вечер.
Очень уж тоска взяла, думал Флорентия повидать, узнать что-нибудь.
Флорентия не застал, а к изумлению своему, восхищению и некоторому ужасу увидел самого Романа Ивановича.
– Батюшка! Да как же вы?.. Да когда ж прибыли-то? – воскликнул он, разводя руками и проворно сдергивая намокшую шляпу.
В маленьком зальце флигеля, где жил Флорентий, на некрашеном столе горела свеча в высоком шандале. Большой, светло вычищенный самовар бурлил и фыркал, пуская пар в потолок. Самовар и какую-то затейливую закуску только что принес хуторской работник Миша, румяный и коренастый, вечно улыбающийся парень. Миша – на все руки. Он и Флорентию Власычу во флигеле служит, он и при доме, при школе, сторожем. На весь на Пчелиный он один. Хуторской дом хоть не велик, а его под школу хорошо приспособили: перегородки повыломали, помещение вышло порядочное. А в боковой комнате библиотека.
Сменцев сидел у стола, собирался чай пить. При виде отца Хрисанфа чуть-чуть нахмурился.
– Не ждали, верно?
Дьякон, конфузясь мокрого подола своего и грязных сапог, неловко усаживался на деревянном стуле.
– Да как сказать, Роман Иваныч? Ждем-то вас – ждем постоянно. А только не знаешь, когда, где вы. К Флорентию Власычу я этак часто вечерком… Не слыхать ли чего? И Флорентий Власыч отлучался; недели с три всего дома… Да он сейчас где же?
– Не знаю, я ведь прямо со станции. Не видал еще его. Придет.
Дьякон съежил костлявые плечи. Светлая, светлее лица, острая бородка уныло торчала вперед; все лицо у него было унылое, но упрямое.
– Непогодь! – сказал он, вздохнув. – Чего бы, Господи Иисусе, не поздно, а так и льет, который день. Убрались-то давно, это положим…
– Чайку, отец дьякон?
– Ежели соизволите, я бы выпил… Сменцев достал ему из шкапика стакан, налил.
– Так уж рад я вашему прибытию, Роман Иванович, так уж рад… – начал дьякон, поперхнулся, погладил плоские, длинные волосы, как мокрая солома висевшие вдоль щек, и умолк.
– Я бы за вами завтра на село спосылал, увидались бы. А что, дело какое есть ко мне спешное?
– Да собственно спешного такого что же… Нет, я вообще. Дело, Роман Иваныч, – прибавил он, оживляясь, – всегда у нас одно. А вы, так сказать, своим присутствием…
Опять не кончил, замялся. От неожиданности встречи или от чего другого, но еще не успел разойтись.
Сменцев подождал, помолчал.
– Ну что, как у вас? – спросил совсем серьезно.
– Понемножку. Слава Богу. Что ж, сами знаете, летнее было время. Занятия правильные не шли. Флорентий Власыч в отлучке. Так все.
– Пустое, я не про занятия. Лето – летом, а вы что-нибудь же делали? Или между собой не собирались?
– Ну, как же нет… Флорентий Власыч знает. Все своим чередом.
Помолчал, помигал белесыми ресницами и вдруг прибавил:
– Роман Иванович, а когда же нам объявление будет? Благословясь бы, право. А то многие из наших скучают уж. И мне, признаться, надоело.
– Не понимаю, что именно вам надоело. Погодите. Отец Симеоний как?
– По-прежнему сидит у себя за рекой, на огородах. Работника второго на ваши, на школьные денежки принанял. Благодушничает. Разве он во что вникает? Он о школе-то и позабыл.
– На то и рассчитывали, – резко сказал Сменцев. – Этим и надо пользоваться.
– Я пользуюсь. Я и в школе, и…
Он подвинулся ближе вместе со стулом.
– Таинственно со многими тоже разговаривал нынче. Человек сорок есть, наверняка пойдут.
– Мало.
– Знаю, что мало. Да ведь без малого зерна дерева не вырастить. Ну, еще десяток наберется.
– Нет, мало. И чего вы-то, отец дьякон, торопитесь рясу скинуть?
– Эта ряса ихняя, все равно, сейчас – обман. А истинную я не сниму. Коли же бояться – чего мне бояться? Един аки перст.
Роман Иванович решительно нахмурился. Уже не впервые заводил дьякон этот разговор. Хотелось «объявиться», то есть легализовать общину, которая как бы начинала образовываться среди крестьян села Заречного; были мужики из окрестных деревень, все больше ученики хуторской вечерней школы. Дьякон вел линию, с самого начала ему указанную, и теперь искренно не понимал, чего медлить. Но никакая «объявленная» община не входила сейчас в планы Сменцева.
Дьякон кашлянул и опять заговорил:
– Роман Иваныч, а позвольте спросить, как относиться к слухам среди наших? Говорят, будто есть на примете епископ из господствующей. Что пойдет, мол, в наше согласие и у нас иереев будет ставить. Таким образом, если кто усомняется насчет священства…
Сменцев разозлился. Однако не удивился очень.
– Послушайте, отец Хрисанф, да вы понимаете ли, что говорите? Во-первых, этого нет, а во-вторых, и не нужно ничего подобного. Я вам говорил о рукоположенном священнике, правда… Ну, пусть бы он был на первое время… для некоторых не мешает… А епископ-то на что? Рассудите… Еще насчет «объявления» мечтаете. Куда вам! Пожалуй, сразу о новом епархиальном начальстве затоскуете.
Дьякон обиженно раскрыл рот, поднялся, запахнул рясу. Хотел сказать, что он понимает, что просто слух передал… и не посмел. Мечту о настоящем архиерее, который ради их «нового согласия» совлечется всего, кроме благодати, – эту мечту он сам лелеял. Очень уж пришлась по душе. И он не сдался.
– Дело трудное, Роман Иваныч, и, конечно, необходимости нет. Но если священнику рукоположенный не мешает, то чем же епископ?.. Напротив того, ежели рассудим…
– Нет, отец Хрисанф, вы это бросьте. И о поспешных объявлениях думать бросьте. Дело ведь не в вас и не в тех одних, с которыми вы «таинственно разговариваете». Ваших если сейчас в общину устроить и объявить, – так она и замрет, ни старая, ни новая, отколотая, да еще сама себя не понимающая.
– А коли вы о наших здешних баптистах думаете…
– Ни о ком я не думаю, – резко оборвал его Сменцев. – Вам вот следовало бы подумать кое о чем, да пошире глядеть. Ну ладно, в свое время столкуемся.
Дьякон сник. Было скучно. Одиноко мерцала свеча. Сентябрьский дождь бил в окна. Не такого разговора хотелось дьякону, и он уж подумывал, не уйти ли; но все сидел, поглядывая то на свечу, то на длинные, задумчиво сжатые брови Сменцева.
«Сердитый, – думал про себя, – может, не ладится что у него там? Лик сумный. Рассказать ему еще чего? Да говорить я с ним не умею. Хуже бы не расстроить».
Залаяла собака на дворе. С крыльца донесся веселый голос Флорентия, и через минуту вошел он сам, такой высокий в маленькой комнате флигеля, мокрый, в длинных сапогах, в кожаной куртке.
– Роман, добрый вечер. Сейчас надо переодеться. Потоп на дворе. Отче, здравствуй. Ты как тут?
– Да я было к тебе, Флорентий Власыч… Гляжу – гость. Флорентий ушел в следующую комнату флигеля, – просто за дощатую перегородку, – и оттуда, смеясь, упрекал дьякона:
– Совсем от рук отбился. Не ходишь. Я про ваши заречные дела давно что-то не слышу.
Вернулся свежий, переодетый в другую куртку, улыбающийся, и сел за самовар. Самовар уже не кипел, а тянул длинную, скрипучую песенку.
По лицу дьякона и по нахмуренным бровям приезжего друга Флорентий догадался, что разговор тут не сладился. Но так как было до дьякона дело, то Флорентий решил не обращать на это внимания и действовать по-своему; коли захочет Роман, может и отменить потом.
– А я, отец Хрисанф, – начал Флорентий, – хотел уж спосылать за тобой. На днях думаю чтение устроить, – собрание то есть. Но чтобы поменее народу. Тебя, значит, с твоими, да только не со всеми, а по выбору, и еще у меня есть некоторые, совсем с другой линии… Думалось, не пора ли вместе потолковать.
Дьякон и обрадовался и насторожился.
– Тут из баптистского поселка, из Кучевого, должны быть люди… может, и подходящие для беседы, – сказал он осторожно.
– Вот, вот. Но только, извини меня, отче, ты в беседу пока не вмешивайся. Так, послушаешь, повидаешь, – здешние ведь люди, – а не налегай. Потом. Церковности в тебе еще много, а у них не тот дух. Прости за откровенность.
– Да понял, понял! – рассердился дьякон. – Не глупее тебя. Ты думаешь, я с этими баптистами не разговариваю? Из Кучевого скольких знаю, да на селе у нас, слава Богу. Не первый год вместе живем. А нынче я многим удочку закидывал.
– Напрасно, – произнес молчавший Роман Иванович. – И со своими у вас дела не мало.
Флорентий вступился.
– Да ведь тут много таких, которые с места сдвинуты и к баптизму склоняются. Их важно по дороге перехватить. Иван Мосеич Карусин вот, например. И в семье у него брожение.
– Да и Фокины, – подхватил Хрисанф. – Нет, у нас места благодатные.
Роман Иванович поднялся.
– Вы, отец дьякон, зайдите на днях, еще потолкуем вместе насчет собрания. Теперь ли его или погодить. Должен один петербургский человек приехать. Вам, отец дьякон, будет он в большое подспорье. Спасибо скажете.
Дьякон вскочил, стал собираться. Флорентий зажег фонарь, вышел с крыльца посветить.
Дождик унялся. Капала только откуда-то вода, стуча мелко и звонко. Темно, – будто черный занавес вокруг фонарного кольца. В кольце желтеют деревянные ступени и видны полы дьяконовой рясы, которые он суетливо запахивает.
– Прощай, отче. В яму не свались.
– Ничего, вылезу. Будь здоров. Да, Флорентий Власыч. Вот что?
– Чего еще?
– Ничего, так. Два слова тебе хотел сказать. Мишка-то где?
– Где, – на кухне, верно. Говори.
Дьякон сделал шаг по светлому кольцу фонаря, придвинулся туда, где, полагал, была невидна голова Флорентия, и зашептал:
– Скажу тебе, какой чудный слух у нас есть. Не у наших, а так, мне через пятых людей пересказывали. Может, и наши знают, да мне-то про это им неловко… Худого ничего, а только чудно несколько.
– Не мямли, дьякон. Начал, так и кончай.
Еще ближе пригнулся дьякон и дул прямо в ухо Флорентию, щекоча ему шею острой бороденкой.
– Насчет хозяина, Романа Ивановича. Мало его видят по здешним местам, говорить сам не говорит, все ведь ты да я. Но, конечно, слышат, вот приехал, вот уехал. Что такое?
– Дьякон, тебе говорю – не мямли! – уже совсем нетерпеливо и громко сказал Флорентий.
– Ну-ну, тише. Так вот, шушукаются, что, мол, не тайный ли царский доверенный… Да. За правдой следит, как на Руси правду отыскивают. Помогать послан. Втихомолку, потому везде враги, кругом окружили, так надобен один верный человек, чтобы дело праведное в глубокой тайности пока вел… А? Чего? Врут, небось?
Флорентий даже онемел на минуту. Потом опомнился. Сдержался.
– Дьякон, дьякон, и тебе не стыдно! И не глуп ты после этого? Извини меня. И что у тебя в голове делается? Нет, надо с тобой серьезно поговорить. Не о Романе Ивановиче, – о нем оставь, – о тебе, да о деле поговорим при случае. Иди-ка теперь с Богом.
– Да я, Флорентий Власыч, слух только… Надо ж знать, чего болтают. И не худое что…
– Не худое! Ладно, ладно, прощай.
В горницу Флорентий вернулся задумчивый. Сменцев уже прошел за перегородку, где против кровати Флорентия на широком, старом турецком диване была приготовлена постель.
– Ты уж ложишься, Роман?
– Да, меня порядком растрясло, дорога плоха. А ты чего кислый какой?
– Нет, так…
Флорентий махнул рукой.
– Дьякон этот несуразный, ей-Богу. Глупый, что ли? Роман Иванович потянулся под одеялом.
– Ничего, поумнеет. Варсиса вызываю сюда, хоть на недельку. Боюсь одного, как бы он духовное согласие не испугал. Не сам, – сам он ловкий, а ряса. Ты, Флоризель, не спешишь ли с общими-то собеседованиями? Чем от-дельнее кружки до времени, тем лучше.
Флорентий присел на край дивана.
– А ты надолго, Роман?
– Дня через два поеду в Лаптево, оттуда в Корзухино, еще куда-нибудь… Вернусь – еще поживу. Тебя хочу недели на три за границу отправить.
– Как, теперь? А здесь-то?
– Здесь не убежит. Варсис приедет. Да здесь найдутся люди. Нам спешить некуда.
Флорентий оперся подбородком на руку и задумался.
– Сестричку жаль, Роман. Тот промолчал.
– Ежели я в Париж поеду, к Ржевскому, так письмо бы хоть от нее свезти. Ты не взял?
– Может, будет записочка… Да я сам после тебя поеду. К Ржевскому, Флоризель, только не в Париж. Ну, поговорим вовремя, как следует. Теперь давай спать.
– Нет, постой… Не хотел было, да скажу, все равно. Сейчас дьякон меня расстроил.
И он подробно передал Сменцеву слух о «тайном царском доверенном».
К удивлению, Роман Иванович остался совершенно спокоен. Усмехнулся под усами, чуть-чуть вбок.
– Легенды какие-то пошли, – жалобно сказал Флоризель. – Да легенды ничего, без этого нельзя, но пустяки такие…
Сменцев поднялся на локте и пристально поглядел на друга.
– Дитя ты Божие, Флоризель, – произнес он почти с нежностью. – Будь спокоен, нечем тут расстраиваться. Легенды! Не то, что нельзя без этого, а так надо. Чем больше легенд, тем вернее успех. Таков народ наш. Во всякой легенде есть правда его порыва… А без порыва, без тайны, русский народ мертв.
– Но я только… – начал было Флоризель и не кончил, улыбнулся светло, по-детски.
– Ну пусть, не говори… Знаю сам. А ты все знаешь еще лучше меня. Пусть легенды, пусть сказки. Ты ведь у нас Иван-царевич, – Роман-царевич. Помнишь?.. Дьякон глупый, ну… а теперь давай спать.
Сменцев отвернулся к стене, затих. Раздевшись, Флорентий долго еще сидел неподвижно на своей кровати. Крепко сжал руки, глядел прямо перед собой не мигая, и лицо у него было строгое и хорошее. Должно быть, молился.
Глава пятнадцатая Там и здесь
Река Стрема, что отделяет хутор от села Заречного, – с весны полная, а к середине лета лысеет и узится, выкидывает острова, так что перевоз сводят пониже, а близ села, в узком месте, городят кладки. Село большое, церковь каменная. Село великорусское, но есть и малоруссы, да и так в укладе жизни, подчас в одежде, в говоре чувствуется близость южных губерний. Кругом живут по-всячески: есть и хутора, и деревни, и поселки. На хуторе Пчелином, за сажалкой, десятка два изб; вся земля в аренде; крошечным хуторским хозяйством заведует Флорентий Власыч и нынче даже не держит при усадьбе постоянных работников, кроме дюжего Миши. На кухне стряпка Анисья да Миша. Коли что нужно по усадьбе, свои мужики за охотку придут, поделают.
По кладкам перебрался Роман Иванович в Заречное, в гости к отцу Симеонию. Погода стояла неприятная: ветреная, темная, острый дождь то летел, то не летел.
– А-а! Милости просим! Гость петербургский. Орел наш залетный. Надолго ль, – шумно встретил Сменцева отец Симеоний. Тучный, рыхлый, сырой какой-то, с круглым носом, круглыми глазами, круглым ртом, растопыренными, редкими, впроседь, волосами, поднялся он с кресла навстречу гостю. Темно-лиловый подрясник, хоть и не поношенный, уже успел замаслиться на круглом животе.
Роман Иванович подошел под благословение, потом они вкусно облобызались.
– Как раз к пирогу, к воскресному. Я только из церкви, отдохнуть сел. Матушка! Римма Васильевна! Ты погляди, кто пожаловал! Да где это она?
– А я нынче с дороги обедню проспал, – выговорил Сменцев, улыбаясь.
– Бог простит, дело ваше профессорское. Надолго ль собрались?
Пришла матушка, вскорости двинулись к столу. Матушка была сухая, длинная, любила бонтон и даже говорила в нос. Губернского протоиерея дочка, видавшая Москву, она долго не примирялась с Заречной глушью. Теперь ничего, тем более что жили они отлично, приход был не из бедных. Дом большой, крепкий, земли много – и не возиться с ней: всю сдали, себе только огороды оставили, к Стреме; любит отец Симеоний огородное дело.
Два сына у них взрослые; один священствует в дальней губернии, а другой студент, чем весьма довольна матушка: дорога широкая. Этот студент, Геннадий, большой друг Флорентия; жаль, по зимам дома не живет.
Теперь он здесь, рослый, румяный, молчаливый. Пощипывает черный пух на подбородке и глядит с любопытством на Романа Ивановича. Второй раз только с ним встречается.
– Профессор, деревенского пирога, пожалуйста! – тянет в нос сухая матушка. Всегда его профессором зовет.
Отец Симеоний благодушно качает животом.
– Ну, что слышно, что видно? У нас все по-хорошему. Намедни Флорентий Власыч забегал. Думает скоро курсы наши открыть: народ сер, что правда, то правда, однако отлично Флорентий Власыч предметы свои читает. Я однажды слушал, прекрасно это он по практической физике.
– А вы что ж, батюшка? – сказал Роман Иванович, усмехаясь. – У вас тоже хорошо выходило, рассказы из священной истории.
– Буду, буду… Как можно! Прошлую-то зиму недомогал я… Дьякон, спасибо ему, шустрый, помощник… Книги у него завелись, читает… Такой стал острый, обмялся. С сектантами тут у нас, слышно, беседует. Это уж, пожалуй, и ни к чему. Бог с ними. Дадена им теперь своя свобода, ну и пусть их. Для них миссионера, когда нужно, пришлют. А я не вхожу. Да признаться, – между нами, конечно, – они благолепнее в поведении. Раз что не пьют, да и грамотные.
– Ах, мужик всегда мужик! – сказала матушка. – Я за просвещение. Прекрасное дело эта ваша вечерняя школа. Но Флорентий Власыч все один. Вы редко наезжаете… я это понимаю, но все-таки. А дьякон – что же? Хотя он и развился, но необразованный, некультурный человек.
Отец Симеоний добродушно засмеялся.
– Образуется сколько надо. Оно, Роман Иванович, хорошо дьякону за речку к вам беспрестанно, и вдовый он, без забот, и сухонький, легкий. Я бы рад иной раз, а немощи-то и не пускают.
Сменцев с готовностью ответил, что это вполне понятно и что батюшка должен себя беречь. Заговорили о том о сем, сошли на местного владыку: его лично знал Сменцев.
– Ну, а что, как, преднамереваются нынче собрания опять эти… у графини Соловцовой? – спросил отец Симеоний почтительно.
– Я графиню нынче в Царском видел. У нее большие планы.
– Так.
Геннадий поднялся из-за стола, но из комнаты не вышел, а стал поодаль, у окна.
– А вот, батюшка, кстати: один почтенный иеромонах нынче в Питер прибыл; очень всякого рода школами интересуется и вообще церковно-просветительными нашими начинаниями. Весьма деятельный, у графини тоже намеревается бывать. Я его по нашей академии помню, так вот пригласил к себе, в Пчелиное, пусть посмотрит.
– Так. А позвольте узнать, это какого же он монастыря? Ежели академист…
– Да он болгарин, там и пострижен был. В академии петербургской только воспитывался. Очень способный.
– Так, так. Весьма буду рад познакомиться. Нездешний, значит. И у графини принят.
– Он Россию очень любит. Духовная, говорит, моя родина.
– И скоро ожидаете? – вмешалась матушка. – Ах, он будет разочарован. Не школой вашей, конечно, я совсем не про нее… А так, вообще. Серостью, глушью… И где вы его поместите? Флигелек такой маленький…
– Да он без претензий, Римма Васильевна. А в доме у меня за библиотекой есть комнатка удобная. Он ведь только взглянуть; благо мы товарищи. К вам, отец Симеоний, я его запросто познакомиться приведу.
Отец Симеоний имел привычку смутно пугаться при всяком известии о новых людях, особенно петербургских; впрочем, немедленно же и успокаивался. И если чего не понимал, то любил об этом вовсе не думать. По правде говоря, он не совсем понимал, ни что это за «курсы» в Пчелином, ни что такое Роман Иванович. Но давно привык и наслаждался покоем, а Сменцева почитал за его знакомства. Оклад, исправно получаемый за «чтения» на «курсах», весьма к ним располагал. Чтения же не обременяли: дьякон Хрисанф с такой охотой заменял отца Симео-ния чуть не всякий раз, что жаловаться на утруждение было нельзя.
Поговорили еще кое о чем. Видя, что отец Симеоний слегка позевывает (привык отдыхать в это время), гость стал откланиваться.
– Вы домой? – спросил вдруг Геннадий. – Я бы с вами пошел. С Флорентием на минуточку повидаться.
Роман Иванович пристально поглядел на него, что-то вспоминая, потом сказал:
– Пойдемте.
Дорогой они молчали. Только уже за рекой, поднимаясь к хутору, Геннадий вдруг обернулся и сказал несколько угрюмо:
– Вы меня извините. Я вас совсем не знаю. С Флорентием дружу. Так вы, собственно, его взглядов держитесь?
В Геннадии-студенте еще сидел недавний семинарист. Это было видно.
– Не понимаю вашего вопроса, – с мягкостью сказал Роман Иванович. – О каких вы взглядах?
– Ну… мало ли? Трудно определить. Мне в духовном училище сильно всякую веру отбили. Но я понимаю, что высшая культурность, даже высшая наука… ну, словом, они чистым материализмом не удовлетворятся. Я не могу быть положительно верующим, как Флорентий, но я с ним согласен.
– Так что же вы от меня хотите?
– Да насчет некоторых деталей. Меня и во Флорентин детали смущают. А вы, например, к папаше под благословение подходите. Флорентий – нет.
– Что же вас тут смущает? Считаю нужным – и подхожу. Разве я не свободен?
– Но Флорентий же ваш друг. И курсы эти… беседы, ваши же? Флорентий так о вас говорит… Впрочем, он ничего не говорит, он только отзывается о вас… Ну, словом, неужели вы в церковь веруете?
Роман Иванович пожал плечами и ускорил шаги.
– А это длинный разговор, и лучше его не начинать. С Флорентием как-нибудь потолкуйте. Удивляюсь: дружите с ним, а между тем ничего толком он вам не объясняет…
Геннадию почудилась легкая насмешка в последних словах. Он думал обидеться, но как-то не посмел. Невольная почтительность и даже робость перед Сменцевым связывали его; он злился и раздражался на себя, но ничего не мог поделать. Относительно того, что «папашку-то Сменцев за нос водит», Геннадий не сомневался и этому сочувствовал. «Однако же слишком хитер, и что за иеромонах приедет и зачем, не разберешь».
Когда уже подошли к самой калитке, Геннадий сделал новое усилие победить робость и проговорил, ни к селу, впрочем, ни к городу:
– Всякая общественная пропаганда должна иметь ясную общественную идею. Самую ясную и определенную. И вот, собственно, идея-то ваша… То есть я хочу сказать, что она не совершенно ясна…
– Вам, может быть, рано? – тихо и осторожно сказал Роман Иванович, пропуская Геннадия вперед и запирая калитку.
– Что это – рано?
– Да вот… насчет ясности общественных идей. Вы на втором курсе… Надо заботиться о том, чтобы к окончанию университета у вас были ясные общественные идеи; не превратились бы в ясные идеи… обывательские.
– Как вы можете?.. – вскипел Геннадий, но осекся: они были уже во дворе, в двух шагах от флигеля. А на крыльце флигеля, на ступеньках, сидел Флорентий и 242 что-то с жаром, но не громко, говорил стоявшим подле него людям.
Погода начинала разгуливаться. Бледное, точно заплаканное солнце то и дело вылезало в прорывы туч, бледно золотя короткую, обшмыганную, еще мокрую травку, которой зарос двор.
– Геннадий, здравствуй! – весело сказал Флорентий. – Пройди, коли хочешь, в комнату, подожди. А ты, Роман, узнаешь? Это все наши, пчелиные. Дедушка Акимыч, он с богомолья только вернулся.
– Ты Мишин дедушка? – ласково спросил Сменцев.
– Его, его, а это, вон, тоже внучка моя, сестра Михалкина. А это, вот, зять мой. Флорентий Власыч наказывал, как, мол, с богомолья вернется, так пусть побывает.
Старик был крепкий, бодрый, даже не вовсе белый, а только с сединой в курчавой бороде.
– Ему бы работать, а он, ишь, в такое время на богомолье поплелся, – сказал Тимофей, зять, тоже крепкий мужик, веселый, молодой.
– Много, много в дому работников без меня, – подхватил дед. – А что ж, коли так назначили? По сроку народ и двинулся.
Круглолицая девушка, статная, с бойкими карими глазами, засмеялась и тотчас же прикрыла рот кончиком платка.
– И чего ходил? Ноги только стер. Ведь сказывал тебе, небось, Флорентий Власыч, вперед сказывал… Да и Митька с Заречного…
– Мало што. А ты, шустрая, гляди! Я-те не погляжу, что ученая. С дедом спорится. Спрашивали ее.
– Нет, Ленуся у нас умница, – заступился Флорентий. – А что, Ленуся, свадьба-то как? Не иначе, что ль? Митя нынче хотел…
– Не ко время, – отрезала девушка. – Нехай еще погуляет. Крутиться-то не ко время.
Дед покачал головой. Внучку любил, даже баловником считался, однако «шустрость» ее сильно не одобрял. Семья, впрочем, была дружная; большая и с достатком. У Лены был жених в Заречном, – Дмитро из малороссов. Невесту он звал Олеся, но она этого не любила и сама кликала его Митькой. В дом Дмитрия взять было нельзя, и со свадьбой все тянули: «очень уж неохота мне в Заречное», говорила капризная Ленка.
– Ладно, выдадим, не посмотрим, – сказал добродушно Тимофей.
Третий мужик, стоявший справа, поодаль от Жуковых, имел вид немножко особенный; не то он чище, аккуратнее был одет, не то в лице его меньше простоты было, чем у Тимофея, например, и больше достоинства. Лицо еще молодое, светлая, недлинная борода.
– Иван Мосеич, ты бы тоже в горницу, что ли, зашел, обратился к нему Флорентий. – Или садитесь все на крылечке, чего стоять-то?
Иван Мосеич поглядел на Сменцева.
– Да я и в другое время, – произнес он негромко. – Павел-то Акимыч не станут при нас про богомолье рассказывать, – прибавил он, усмехнувшись.
– Чего не стану? Чего мне? Я Флорентию Власьичу рассказываю. А ты хоть слушай, хоть не слушай. Это у вас тайности, ну ваше и дело.
– Напрасно ты, Павел Акимыч, – кротко возразил мужик. – Сам знаешь, несправедливо. Какие у нас тайности? Не за горами живем.
– Ну ладно, ладно, – вступился Флорентий. – Сидеть, так садитесь, а ты, Ленушка, пойди к Мише, самоварчик наладьте, сюда пусть на крыльцо и притащит; тесновато, да в комнате еще тесней. Погода вон совсем разгулялась.
Жуковы уселись на левом широком выступе крыльца. Тут же примостился и Геннадий. Отдельно, направо, сел Иван Мосеич.
Пройдя по ступенькам наверх, мимо Флорентия, Сменцев направился в комнаты. Скоро вышел опять, но остался у самых дверей, под крылечным навесом.
Старик, обращаясь к Флорентию, тотчас же завел обстоятельный рассказ о своем богомолье. Он ходил за полтораста верст, в «нижнюю губернию», где было недели две тому назад торжественное «перенесение святыни».
Рассказывал со вкусом и не стесняясь.
– Вот это я им, дома, значит, объясняю, как оно вышло, – говорил старик, размахивая руками и указывая на Тимофея, – они ко мне, поди да поди к Флорентию Власычу, ты, говорят, нам все наперекор, а теперь сам убедился. А чего я убедился? Только одно, что к святыне действительно не попал.
– Куда ж попал-то? – не без тонкой усмешки спросил Иван Мосеич.
Флорентий перебил его.
– Постой, Иван Мосеич. Ты мне, дед, скажи, с чего ж не попал?
– Куды! Народу это нашего, богомольцев-то то есть, – сила Ну, а жандармов, прямо сказать, вдвое. Сряду же оцеп-ка, и не то в церкву или там к ходу крестному, а до города, и до того не допустили. Дожж это, грязь, темнота, народ так в лужах, вповалку, больные, кто куда Мы просимся, а нам говорят, – чего народ серый, попов сколько было, со своими пришли, так и батюшек не пропущают. Плакали даже, хорошие батюшки. За цепой так и провалялись.
– Ну, а потом как же? Утром-то пустили же?
– Утром-то самое оно-то и началось, – где ж пустить? Помаленьку мы к городу это двигаемся, да куды! Войско, и ходу нет. Кто с больными, из простых, воют, сколько, мол, верст шли, а им начальство объясняет: погодите, мол, нельзя, потому должны сначала все генералы на просторе отмолиться, с барынями и с прочими высокопоставленными лицами, и когда высокопоставленное духовенство и другие особы отбудут по окончании религиозных торжеств, то после и вас, под присмотром войск, допустят.
– Под штыком, значит, молись, коли сер… – опять усмехнувшись, заметил Иван Мосеич.
Старик сжал губы.
– Зачем?.. Для порядку они думали, понятное дело. Они, может, и старались по-хорошему, им тоже от всякого начальства строгости. Ну, не вышло. Кой народ остался, конешно, потому экое место тащились, где уж разбирать? И на зуботычины не посмотришь, доберешься хоть когда, лишь бы поклониться. Ну, а я, грешный, что-то закипело сердце – закипело, пойду, мол, прочь, не стану, мол, дожидаться, пока они там народу место ослобонят, не надо, молитесь, коли уж такое вам счастье. Поклонился главам соборным издаля, через цепу, да пошел. Многие тоже так-то. И паренек этот, что ко мне пристал, и он со мной. Занятный паренек.
– Где же он?
– Э, он теперь, небось, за Киевом. Он туды, к Киеву, махнул. Такой, право, милый паренек. Матвеем звать. Мы с ним как сошлись под Лебедянском, так всю дорогу вместе. Молчальник он, глядит да вздыхает, а тут, признаться, первый ко мне: пойдем, дедушка, прочь, неправильно это они народ к святыне, как стадо ровно скотское, не допуща-ют. Надо, говорит, свое достоинство иметь. Ну и пошли.
Студент Геннадий с удовольствием усмехнулся.
– Умный человек. Насчет мощей, я там не знаю, может, совсем и не нужно было туда непременно стремиться. А что народу необходимо помнить свое достоинство, – это верно.
Дед неожиданно, со злобой накинулся на студента. Повернулся к нему, замахал руками, все даже удивились. Дед кричал что-то насчет мощей, и что пусть студенты о них не рассуждают, особливо те, которые «от рождения своего отказываются».
– Ты есть духовного рождения, а я тебя знаю, рассуждаешь в виде самого ученого студента. Довольно стыдно.
Флорентий хотел вступиться, но дед так и наскакивал на Геннадия. Миша принес на крыльцо самоварчик и стоял, слушая, пока Лена перетирала стаканы.
– Что духовное звание? – ввязался вдруг Иван Мосеич. – Вы про звание духовное, а выражаетесь «духовное рождение». Разве духовное рождение то означает? Сказано: кто не родится духовно… А вы про звание. Звание что? Ну что? Может оно, например, от пьянства воздержать? Может?
– Не может! – грянул дед, нисколько не смущаясь таким оборотом дела. – От пьянства не может. Но коли ты, Иван Мосеич, хочешь знать мои окончательные мысли…
– Погоди, Акимыч, – ласково и твердо сказал Сменцев, выступая вперед. – Погоди. Мы еще о твоих мыслях успеем особо потолковать. И о студентах. Всякого звания и рождения человек святыню должен уважать.
Голос Романа Ивановича внезапно успокоил старика. Притих, головой закивал:
– Вот, вот…
– Лучше иди-ка сюда, выпей стаканчик, да ладком скажи еще, чего припомнишь. Про Матвея этого, что ли, расскажи…
Акимыч послушно полез на ступеньки.
– Ишь, слушай хозяина-то, – кивнул он Геннадию. – Сказал, как отрезал: уважай святыню.
– Да я… – начал Геннадий, но смолк, пожал плечами и покраснел.
За чаепитием повели разговор о пьянстве.
– Ой, есть озорство на селе, есть. Пчелиное далеко ль, а народ не сравнить, справнее, тише. Правда, тесноты этой нет, ну и поправились…
– Не от тесноты, от души все идет, – наставительно произнес Иван Мосеич. – О душе не понимаете, оттого у вас и безобразие.
С Иван Мосеичем тихо заговорил Флорентий, боясь, что старик опять рассердится. Но Акимыч глядел на Сменцева. Очень уж его уважал. Путем не говорили никогда, но Акимычу нравился Сменцев. Хозяин, – сейчас видать. Понятие в нем, глаз соколиный.
– В эту, в школу-то в твою, к Флорентию Власычу, я стар ходить, а наши сказывают… – толковал он Сменцеву. – Много чего сказывают. И дьякон этот Заречный, заведет у нас, заведет… Ничего, многое правильно. Я пареньку-то, что со мной ходил, Матюше, и то говорю: вот бы тебе с дьяконом нашим про божественное достоинство. Не с попом, поп что – сыр, да больше по дому, у огородов, а дьякон, что в хозяйской у нас, в Роман Иванычевой школе, – этот весьма доточен. Ну, он слушает. Да неграмотный. Письма совсем не знает.
– Молодой? Чего ж он по богомольям?
– Да как сказать? Обещался. Я ему письмо писал к сродственнице, так с того и знаю, что обещался. Может, грех какой на душе. А парень богобоязненный, смирен, милый парень. Новгородский он.
– Новгородский. А зачем же ты письмо ему писал?
– Да вот, поди ж ты. Христом Богом просит, напиши да напиши. А я какой писатель? Писывал, да ведь ныне годы мои… Ты, мол, баю, другого кого… Нет, вот, некого. Уж это мы когда прочь повернули. Ну, в селе, у дворника бумажку выкупили, написал я ему. Улите какой-то, – в людях, видно, живет; может, и невеста, Бог его знает.
У Романа Ивановича вздрогнули веки. Странная, дикая мысль мелькнула в голове. Вспомнились самые последние разговоры с Литтой. Ее полуоткровенность. Сдержанная она, даже когда начинает верить. Но проскользнули слова… именно о богомолье, о странствии… Да, это вероятно, если сопоставить… А мир так мал: все и все – встречаются.
– Новгородский он, значит, – спокойно продолжал Роман Иванович, наливая еще стакан старику. – Туда, значит, и письмо писал, Улите этой.
– Туда. Жив, мол, и здоров, обещанье исполняю по силам, чего и вам желаю.
– Досада, что ты, дед, сюда его с собой не привел.
– Да я звал. А он, – нет. Пиши, говорит, что теперь опять к святыням иду, а потом уж сряду и домой.
Роман Иванович еще острее взглянул на старика. Помолчал минуту.
– Акимыч, а ведь я, пожалуй, твоего паренька знаю. Знаю такого одного, тихий, разумный и к Улите сватается. Слышишь, Флорентий, к Улите сватается.
Флорентий давно глядел на него удивленными глазами.
– Что, не помнишь? Верно, тот. Коли в Питере бывал – тот.
Старик покачал головой.
– Обознался. Мой-то Матвей в Москве бывал, да и ту обегал. А Питирбурха и не нюхивал. Это верно знаю. Он смирный. И сюда-то не шел. Кабы знакомый, – пошел бы. Домой ему спешка.
– Да… Может, обознался…
Роман Иванович равнодушно пожал плечами. Он нарочно сказал о Петербурге и нарочно больше не расспрашивал. Не сомневался, что этот Матвей – Михаил. Понятнее стало многое. Нравилось это в Михаиле, и нравилось, что мир так мал и что столкнулись они со здешним Аки-мычем, который сидит и ему про Михаила с Литтой рассказывает. А теперь он – «дома»… Уж, конечно, сумел благополучно переправиться.
Чай между тем отпили. Говорили еще о том о сем. Сменцев мало вслушивался.
Стали прощаться. Зять старика, Тимофей, мирно и скромно разговаривал с Геннадием.
– Роман, – сказал Флорентий, отзывая его в сторону. – Вот Иван Мосеич просит меня в Кучевой послезавтра к вечеру. Старики желают беседу. Может, и ты пойдешь?
Иван Мосеич прибавил:
– Сделайте милость, пожалуйста. Поговорить.
– Не знаю, Иван Мосеич. К вам?
– Ко мне. А старики… Я сам хорошо понимаю, но им желательно.
Поселок Кучевой был едва в полуверсте от Пчелиного. Кучевых зовут разно: кто баптистами, кто духовными, кто молоканами.
– Коли можно будет, он придет, – заверил Флорентий. – А то я. Ладно, с Богом, вы скажите, кому надо.
Разошлись. Оставался Геннадий, сумрачный и сконфуженный. Флорентию стало его жалко. Увидев, что Роман Иванович взял ключ и пошел через двор к дому, вероятно, в библиотеку, Флорентий решил приласкать Геннадия. Пригласил его во флигель, – «так, посидеть».
Глава шестнадцатая Разные бумажки
На следующее утро спозаранку уехал Роман Иванович. Он часто уезжал так: возьмет узелок или чемоданчик и отправится в тележке куда-то.
Флорентий рассчитывал, что он скоро вернется, отложил беседу в Кучевом, но и два дня прошло, и три, а Романа Ивановича все не было.
Иван Мосеич опять явился.
– Будьте столь добры, Флорентий Власыч, пожалуйте хоть завтрашний день со стариками побеседовать. Хозяин-то в отлучке, да мы желаем с вами поговорить, как давно с вами знакомы.
Флорентий понял, что Иван Мосеич даже опасался немного Сменцева, – для «стариков». Не знал ведь его вовсе. А он, Флорентий, свой, здешний, и как говорит, – известно.
– Ладно, приду завтра, – сказал Флорентий и пожалел, что откладывал: Роман Иванович сам держится вдали, верно, так надо. Надо, чтоб он с Кучевыми пока не разговаривал.
В эту минуту к хуторским воротам, где стоял Флорентий с Иваном Мосеичем, подкатила бодрая пара. Тарантас дребезжал, знакомый мужик со станции махал руками и подпрыгивал на козлах.
Из тарантаса выглянула черная голова.
– Здесь, что ли?
– А как же не здесь? Вон и сам управитель. Флорентию Власычу наше. Гостей привез, Флорентий Власыч. Батюшку привез.
Из тарантаса выскочил длинный отец Варсис. Монах одет был скромно, в старенькой рясе, на голове, даже не по-монашески, просто черная шляпа.
– Здравствуйте, – сказал он, живо протягивая руку Флорентию. – А я бы вас узнал, право, узнал. Кому бы чемоданишки мои велеть вынуть, тяжеленьки, Бог с ними.
– А сейчас все сделаем. Да можно в ворота въехать. Отвори, Василий, да въезжай.
И, обернувшись к Ивану Мосеичу, Флорентий прибавил:
– Так до завтра, значит, друг. Прощай, покуда.
Иван Мосеич тихо произнес: «прощения просим», и пошел. Отцу Варсису он не поклонился, глядел на него все время пристально, и лицо осумрачнело.
Пошли между тем во флигель, и чемоданы вынесли (тяжелые действительно), и мужика отпустили, и самовар в горницу Миша успел подать.
Монах говорил много, вкусно, добродушно. И ни словом не обмолвился о Сменцеве, точно его на свете не было, так что Флорентий сам уж сказал, что Роман Иванович в отлучке, – на днях, верно, приедет.
Никогда еще Флорентий не видал Варсиса. От Романа Ивановича имел о нем все нужные, точные, хотя и скуповатые, сведения. Теперь вглядывался пристально в розовое лицо монаха, в его выпуклые красивые губы и глаза, быстрые, умные, маслянисто-черные, похожие на две спелые владимирские вишни. Не то, что не нравился монах, а как-то не понимал еще его Флорентий, не ожидал, кажется, встретить его таким ярким, красивым, шумным.
– Погляжу я на вас, Флорентий Власыч, совсем вы детенок, – говорил между тем Варсис– Или это лицо у вас уж такое нежное… Я как, – здесь помещусь? Чемоданчики бы вместе разобрали.
– Нет, отец Варсис, Роман Иванович хотел вас в доме поместить, у нас за библиотекой есть комната. А чемоданы… это, смотря, можно кое-что и здесь разобрать.
Флорентий думал в это время о том, как досадно, что Иван Мосеич встретил у ворот этого монаха Ничего особенного, – ведь не скрывать же его? А все же неприятно сразу.
Отец Варсис встал и молча мигнул на дверь.
– Кому войти? Миша свой, да и он не придет. Чемоданов было три. Один из них отец Варсис отпихнул ногой.
– Тут ничего, мои принадлежности житейские. А вот эти откроем. У вас где переплетная-то?
– Станок в доме, в мезонине. Но… я кое-что здесь держу, вот за перегородкой, в спальне, в шкапу.
– Вот, видите ли, здесь у меня, значит, брошюрки. В Москве сам выбирал. Без выбору все же нельзя. Чтобы не очень безобразно, а между тем самые что ни на есть одобренные. Не угодно ли взглянуть? Есть посомнительнее, тех у меня по пятку, не больше. В случае не понравятся Роман Иванычу, глупы, – ну их и выкинем.
Флорентий бегло просматривал заглавия брошюрок «для народа». Клал их на пол хрустящими, белыми, желтыми и розовыми кучками. Ничего. Сойдет. Выбраны не очень плохо.
– Я уж одного издательства держался, чтобы по образцу. Глядите, ладно? И бумага и печать… Насколько возможно – как есть…
Открыл другой чемодан, поменьше. Он полон был широкими листами печатной бумаги, плотно связанными в пачки. Отец Варсис вытянул одну, быстро сложил ее вчетверо и прикинул к брошюрке.
– Что, ладно? Подрежете края, так в самый раз. Флорентий взял лист, развернул, посмотрел с обеих сторон. Придется. И печать ничего, подходящая.
Невольно пробежал, там и сям, несколько отдельных фраз, – сами глаза схватили: «…зовем мы тех, кому правда на земле нужна…», «…чтобы народ не пошел искать украденную правду, сильные отняли у народа еще и волю. Знают, что без воли ни правды, ни земли не добудешь…», «…а разум отнимают, спаивают народ так: взяли водку в казну…», «у них, но это неверно: Христос и по земле ходил с народом, а не был с теми, кто в каретах ездит да служит в золотых ризах…».
Видя, что Флорентий просматривает листок, отец Варсис ухмыльнулся:
– Да вы потом лучше почитаете. Тут есть всякие бумажки: есть и одобренные… нашим «высочеством» строгим… – отец Варсис значительно подмигнул, – а есть еще на одобрение идущие. Вот, в этом конце у меня «рабочие» брошюрки, самообразовательные. Для них и листки особые, под розовой бечевкой. Не для сего они места. По искусном вашем внедрении я их с собой обратно в Питер свезу.
Листки из чемодана аккуратно сложили в шкап, половину брошюрок потащили отец Варсис и Флорентий в дом. Туда же снес Миша и чемодан с Варсисовыми «житейскими принадлежностями».
Комнатка за библиотекой была крошечная, но светлая и удобная. Флорентий оставил гостя устраиваться и ушел. Как-то было не то скучно, не то одному побродить, подумать хотелось.
Может, что прослышал дьякон Хрисанф, может, опять случаем забрел, но только Флорентий, возвратясь к ранним сумеркам домой, нашел у себя в горнице, во флигеле, их обоих вместе: дьякона и отца Варсиса. Переливы голоса Варсисова с крыльца были слышны. А дьякон даже вспотел от внимания, слушал как очарованный.
– Хороший у вас дьякон, о-отличный, – встретил отец Варсис Флорентия и блеснул черными глазами. – Вот это так понимающий человек! Вот так поработаем, во славу Божию!
Флорентий не знал, что отец Варсис говорил дьякону, чего не говорил. Но, видя покорный дьяконов восторг, подумал невольно, что монах на слова ловок и промаху не даст. Тут же стало Флорентию совестно: чего он съежился сразу от этого отца Варсиса? Глаза не понравились? Да разве так можно? А если он хороший, искренний человек? Дельный-то уж во всяком случае. Роман ему доверяет, надеется на него.
И Флорентий, улыбнувшись открыто, спросил:
– Значит, поладили?
– Да как же, как же, уж чего же? – заговорил Хрисанф, тряся бороденкой. – Прекрасно поговорили, прямо по душе. И многое мне, как бы таинственное доселе, открылось. Уразумел. Право, руки даже похолодали.
– А пусть не холодают, – наставительно сказал Варсис. – Огня нужно больше, отец дьякон, огонь в деле нашем – вот что наиглавнее требуется.
Дьякон от волнения даже не усидел, стал прощаться. Отец Варсис вышел его провожать до ворот.
Перед Романом Ивановичем отец Хрисанф благоговел, но и боялся его, тайно, без понимания; а приезжий монах сразу как-то сумел, помимо благоговения, внедрить в душу дьякона некоторую самоуверенность и веселость.
– Обольстили вы нашего Хрисанфа, – шутливо сказал Флорентий, когда Варсис вернулся в комнату.
– Ну уж и обольстил. Он ничего дядя, только умишко заячий. Да мы его подправим. Вдохнем, так сказать, желательную энергию. Погодите, вот представлюсь я попу вашему, огляжусь, – такое мы с отцом дьяконом собеседование у вас соделаем, что прямо – благо ти будет. Оглядеться вот надо.
Прибавил тонко:
– У вас тут сектанты, говорят, водятся. Ну я пока от касания сего воздержусь. Мы с дьяконом насчет православных; а те – народ робкий, видимости весьма пугаются. Напугается сразу – после не сдвинешь.
Флорентию это понравилось. Он даже рассказал Варсису про Кучевой, про Ивана Мосеича и про завтрашнюю свою беседу со «стариками».
– Так. Дело хорошее. Нужное дело. Помолчал и прибавил:
– А теперь что? Ужинать, что ли, будем? Поужинаем, благословясь, да я бы вам кое-какие бумажки-то показал, из одобренных. Потолковали бы, что, к чему, когда.
Так и сделали. Поужинали и сели разбирать «бумажки».
Глава семнадцатая Старики
Вся трудность в том, что с разными людьми, вернее – с разными косяками людей, надо говорить разно. Об одном, – а брать с разных концов. Флорентин знал это, всегда помнил, что нужна выдержка, медлительность, вечная прикидка; делал так, – но порою ему было тяжко. Все соображать, слова взвешивать, как бы лишнее не вырвалось… Не такой он. А надо.
По правде сказать, и некоторые «бумажки» Варсисовы, из «одобренных» Романом Ивановичем, не очень ему нравились. Слишком общо, да и слишком просто. А между тем – да, пожалуй, именно это и следует.
«У меня характер портится, – думал Флорентий, шагая по бурым полям снятого хлеба. – Надо в руки себя взять».
И далее он не позволил мыслям слагаться, течь туда, куда их влекло. Идет в поселок, к Ивану Мосеичу, – ну об этом и следует думать.
Темнело. Осенние тучи, белые, на темных, серых подбоях, низкие, гомозились над пустыми полями. Сейчас, тут, за рощицей, и поселок.
Флорентий обогнул рощицу. Подойдя, стукнул в крайнюю избу.
Чернеют в сизых сумерках крепкие, недавно ставленные избы. Их немного, строены хорошо, хозяйственно. Поселок сплошь – «христианский», то есть баптистский, что ли… разно их называют. Есть «христиане» и на селе за рекой, которым выселяться еще неохота. Да и на селе им жизнь не тесная; чтобы вражда – вражды нет.
Иван Мосеич – мужик молодой еще, да к нему от старого Мосея, недавно помершего, уважение перешло; если Иван Мосеич в хуторские речи вслушивается – значит, и другие слушать будут. Это знает Флорентий.
Встретили его в избе ласково. Сам хозяин, да брат младший, веселоглазый, рыжебородый, да три бабы, одетые чисто. Чистая изба, просторная. В красном углу, как водится, вместо икон – занавесочка: за ней книги – священные.
Огонь засветили – совсем смерклось.
– Никита Дмитрич хотел прийти, да Сахаров, Сидор Миколаич, – сказал хозяин. – Старики наши хорошие, только Господь с ними, невразумительные. Знает свое, и весь тут. Годы крепкие.
– Федор с Ипатом придут? – спросил Флорентий.
– Придут, обязательно. Промежду них вчера беседа была, все об вашем. Однако не соглашаются. Я не вступался.
Первым пришел Сахаров. Древний, белый, с палкой, молчаливый, злой. За ним явился Ипат с Федором. Совсем молодые, Ипат щупленький, хиленький, заморенный, Федор – крупный, с выпяченными губами.
Только что уселись порядком за стол, как дверь опять стукнула: вошел бодрый еще, высокий старик – Никита Дмитриев.
После приветствий и он сел к столу, в сторонке. Глядел нахмурившись. Потом сказал:
– Мне послушать. Чего наши братья спорятся? В толк не возьму, чего еще надо-то?
– Вот и послушай, – произнес Иван Мосеич, хозяин, ласково. – Разве от тебя кто скрывается? Сам разбери.
Бабы тоже присели, на лавку, сбоку. Двое ребят, не очень маленьких, свесили головы откуда-то сверху.
Молчание. Флорентий кашлянул, обвел глазами собрание и медленно, серьезно проговорил:
– По-моему, так и спориться не об чем. Раньше говорил и теперь скажу: вера ваша правая, хорошая, – а неполная. Все по кусочкам, – полноты нету.
Лицо у Флорентия слегка побледнело и совсем теперь было не детское, – такое серьезное и сосредоточенное.
– Мы вашу веру испытывали, – продолжал он. – Ну и заскучала душа. Душа человеческая – как птица. И на земле живет – а под небеса летает. Вы крылья-то ей не то что пообрезали, а вроде гуся она у вас домашнего: крылом похлопает – а все тут же.
Старик Сахаров злобно пожевал губами, воззрился на Флорентия, но ничего не сказал. Щупленький Ипат, уже бывавший на беседах и понимавший, в чем дело, горячо вступился:
– Ты подумай, это нашему-то духу связа? Нашему-то? Знаешь сам, как собираемся, как в любви Господа хвалим. За обедней, за церковной, лучше, что ли? Больше душе простору, как поп перед иконами кадит?
– Погоди, Ипат, ведь мы ж не церковники… Нежданно и грозно заговорил Никита Дмитрич, – бодрый старик:
– Так ты к идолам оборочаешь? Слыхали мы эдак-то. О церковниках-то – и думать забыть. Во лжах живут – ихнее дело. Ты войди в избу-то к ним. Правильно живут? Икон полон угол, а кругом грязь, да чернота, да пьяные, – это, значит, no-Божьему? А мы, благодарение Богу…
Флорентий мягко остановил его:
– Ты недослышал, Никита Дмитрич. Я не церковник, в российскую никого не зову. На твои же слова, что вы хорошо живете, отвечу тебе вот что. Не похваляйся счастьем перед несчастными. И коли за то вы вашей духовной веры держитесь, что она к достатку ведет да к жизни сытной, так тут кичиться нечем. Домашняя чистота – ладно, а только разве этого будет? Вокруг тебя хорошо, чисто, правильно, свое гнездо крепко свито, – ты, значит, и доволен? Благодарю, мол, тебя, Господи, что не таковы мы, как вон те, рядом… Кто это говорил, помнишь?
– Ну, фарисей говорил, дак что? Куда ты клонишь-то?
– А вот: коли церковники, или там кто рядом, – неверные, несчастные, – так разве написано, чтобы каменной стеной от них отгораживаться? Дома хорошо, а что за воротами, – ихнее, мол, дело? О себе, да о своем только и думки? Вот она где, нехватка-то ваша. Не тому Христос учил. Не то в книгах ваших писано.
Старик Сахаров внезапно застучал палкой по полу. Закричал зло:
– Негожее! Негожее говоришь!.. Никита Дмитриев перебил:
– Да это про что? Нетто мы в чьем несчастьи виноваты? По вере правой будут жить, так и будет бодро. Вижу, куда ведешь. Вспомни-ка наших, али не настраждо-вались за правую-то веру? Мучеников тебе мало? Ныне, значит, дадена свобода. А совращать нам никого не велено.
– Не велено! – вскрикнул Флорентий в нетерпении. Но сдержался и продолжал тише:
– Так. Апостолы по земле ходили, им это велено было иль не велено? Кем из начальства дозволено? Христос учеников на проповедь посылал, они чьего дозволения спрашивали? Сам Христос проповедовал, это как было? Божье повеление ясное, а вы чье выбираете? Ты мне ответь про Христа: посылал он учеников?
– Ну… посылал. Дак разве которые из нас не говорят? Не исповедуют? Слава тебе, Господи, довольно у нас мучеников. Негожее ты. И чего надо?
Иван Мосеич поглядел, поглядел и вымолвил:
– Это, Никита Митрич, что правда, то правда, насчет чужого народа мы не печемся: Апостолы, вон, к язычникам ходили, не боялись. Ревновали, значит, о Христе. А мы о христианах, да не наших, мало ревнуем. Это слова нет.
– Вера ваша такая, не ревнивая, – подхватил Флорентий. – Стоять на ней – стой, а идти – не пойдешь. В самой вере вашей нехватка. Дух не тот; христиане вы духовные, а дух не тот. Апостолы потому ходили, что в них вера-то не стоячая была, сама перед ними бежала.
Молчали все. Заговорил плотный Федор.
– Так вы скажите прямо, где, по-вашему, нехватка? Ревновать по всякой вере можно. Да ведь во смирении.
– Во смирении! Коли хочешь знать, вот тебе: не смирения, а любви в вашей вере мало, оттого она и стоячая. О ближних что думаете? Кто наш ближний? Да вот, Россия, кругом, это что, не ближние? Нет, мол, это все неверные, все самаряне, пусть дохнут, а мы, братья, во смирении будем жить промеж себя да оглядываться, что дадено, а что не велено…
Закричали все, даже как-то вышло неблаголепно и неожиданно. Сахаров опять застукал палкой об пол. Но тотчас же опомнились, сдержались, стихли. И Флорентий сдержался. Помолчал, потом другим голосом, передохнув, медленно стал говорить.
Говорил теперь с некоторой монотонностью, намеренно повторяясь. Знал по опыту, что повторения вразумляют. Отошел пока от всякой конкретности, старался брать ихнее, привычное, – тексты и образы. Тут не годились слова «бумажек»: слово «правда» – в народных и «совесть» – в рабочих. Это люди с известным религиозным образованием, с начитанностью, с определенным мировоззрением. У «церковника», обыкновенного православного мужика, – вера мутная, ему самому неведомая. Никогда он еще о ней не думал. У рабочего – та же, только еще рассеяннее, одно место готовое для веры. Там с начала начинай. Не то – сектанты. Узки – да крепки. Дороже – да нелегко растопить твердое, закаменелое.
На стариков Флорентий и не надеялся. Единственное, чего хотел достичь с ними, – это меньшего недоверия. Пусть увидят, что никто веру их не отрицает, а все новшество в том, что любви надо больше к ближним.
А в общем – задача была трудная, почти невыполнимая: объяснить «духовным» христианам, как материалистичен «чистый» дух; и с другой стороны – духом же оправдать материю.
Слушали внимательно. Привычная отвлеченность успокоила, убаюкала стариков. Никита Дмитрич как будто утвердился в том, по крайней мере, что о совращении в «российскую» речи нет.
Что касается молодых, с ними Флорентий говорил не в первый раз. Конечно, если б не бродили в них самих, уже давно, какие-то слепые, ответные силы, Флорентий не достиг бы ничего. Но и здоровый Федор, которому тесно было в уютном поселке, и нервный Ипат, склонный к мистике, и умный, рассуждающий Иван Мосеич – все они дружили с Флорентием не первый месяц и, по-своему воспринимая верное, приглядывались к делам на хуторе. Иван Мосеич даже бывал на «лекциях», не на дьяконовских только.
Закончил Флорентий, когда уж прощаться было время, неожиданно:
– И скажу вам: наших везде много, потому что всякий – наш, кто истинно верует, хочет, чтоб все люди, как братья, по-истинному жили и человеческой злой власти не покорялись, а одной праведной Христовой. Сговор только между нашими нужен, слово крепкое, знаки друг другу подавать. Без общения ничему не быть.
– А ежели церковник? Так тоже вам идет? – спросил вдруг Ипат.
– Откажется от неправильной веры да от власти человеческой, которая ныне в церкви православной, – и он. Отказался апостол Павел от язычества, – не стал разве праведником?
– Это что ж, это конечно, если откажется, – согласился Никита Дмитрич. – Это давай Бог.
Флорентий, однако, заметил, что Иван Мосеич был в этот вечер молчалив. На дороге, в темноте, провожая Флорентия, сказал:
– Ну, спасибо за разговор. Ничего старики-то, крепкие только. А вот я хотел, Флорентий Власыч…
Замялся, продолжал:
– Так это, промежду нас, вопрос. В избе-то не желал я. Вот это что монах теперь к вам прибыл, он из каких? К нашему тоже согласию?
– Не российского он монастыря, Иван Мосеич. И тебе его смущаться нечего. Сам как-нибудь ко мне зайдешь – словечком перекинетесь, так увидишь, какой это монах. В большом деле рясу снять тоже вовремя нужно.
– Да я понимаю… Я насчет братьев. Ну, ин так. Простились по-хорошему. Флорентий зашагал к черному полю. Легкий дождичек капал. Голову освежал. Усталость чувствовал Флорентий. А назавтра – большая работа, по брошюровке. В несколько дней надо ее кончить, вшить во все эти «законные» брошюрки по незаконному листку. Кроме Флорентия, некому сделать. Он на все руки мастер.
«Что-то теперь сестричка? – неожиданно вспомнил он Литту. – Верно, в Петербурге томится. Поеду, – хорошо бы через Петербург. Письмо бы свез»…
Глава восемнадцатая Дача с башней
Лето? Или весна? Май? Октябрь?
Зелены ивы… Желты дороги. Бархатно-зелены покатые луга перед замками. Здесь все замки, все дачи – замки. Чисто тихое небо. Жарко солнце. Но крепительно свеж воздух, из уютных ущелий тянет душистой свежестью, и свежестью снега дышит белое-белое ожерелье гор. Белое оно, с голубыми тенями, близкое и такое далекое.
Нет, не лето. Уже несколько дней как не лето, с той дождливой ночи, когда к утру низко, до пояса, побелели горы и посвежел янтарный воздух.
От «замка» – дачи с башней – такая бархатная к дороге, к ограде, спускается поляна. Как не выжгло ее солнце? Нет, здесь росы летние глубоки, июльские теплые дожди часты. Милая страна. Улыбка юга лежит на тонких северных березах, на родных, но бодрых и веселых ивах.
Лужайка обрамлена темными высокими деревьями, точно зелеными стенами. Около дома, около башни, рядом с березой – тонкая пинния, высокая – выше башни.
Обитатели «замка» – все на лужайке в это нежное, солнечное утро. Они завтракают здесь, у стены деревьев. Завтрак кончен, подали кофе. Наташа наливает чашки, и по белым узким рукам ее так ласково мелькают солнечные тени.
– Орест, вам разбавить? – спрашивает она, заботливо наклоняясь к соломенному креслу больного.
Орест молод, лицо у него худое, желтое, но не страшное, потому что не злое, и даже не очень печальное. Он болен – и спокоен. Сейчас, после завтрака, его кресло раздвинут, он тихо будет лежать здесь на солнце, покрытый серебристым пледом, тихо думать о чем-то, глядя на милые голубые снега. Наташа останется с ним, когда уйдут другие. Она часами сидит близко, у стола, наклонив темную голову над работой. Хорошо молчится в такие дни.
Сегодня разойдутся не скоро. Сегодня у них гость. Вот он сидит рядом со стариком-профессором. Какой молодой, тонкий, нежный мальчик, с белокурыми, прозрачными волосами, с ямочкой на подбородке. А глаза взрослые, серьезные.
– Ждали Сергея вчера из Англии, да вот нету, – сказал Дидим Иванович, повертываясь в кресле всем своим живым сухоньким телом. – Вы уж подождите его, Флорентий Власыч.
– Несколько дней поживу, – ответил Флорентий и взглянул на Михаила.
Думал о нем часто, но не таким представлял себе. Загорелое до темноты лицо, прямое – и холодное. Нет, не холод в чертах – скорее тяжесть. И взгляд тяжелый. А глаза синие-синие.
Одет он щеголевато, удобно, так же, как и сосед его справа, высокий, бритый, молодой человек, простолицый, с длинными руками, Савва Мелетьевич. Михаил и другие звали его Юсом.
– Хорошо у вас, – сказал Флорентий, щурясь на солнце. И вдруг, повернувшись к старику-профессору, Дидиму Ивановичу, спросил:
– Скажите мне, а как же «троебратство» ваше? Я много слышал. Ведь вы с Сергеем Сергеевичем вместе жили. Мне так было понятно, хоть я вас и не знал. Вдруг – распалось. Или, может быть, я напрасно спрашиваю? Вам неприятно?
Дидим Иванович погладил острую беленькую бородку и засмеялся.
– Да вы разве для того приехали, чтобы разговоры о погоде вести? Что захотите, то и спрашивайте. И мы тоже будем без стеснения. Троебратство… Слово-то, положим; другие выдумали. А было. Жили втроем. И хорошо. Только – знаете пословицу о калашном ряде? Ну вот. Мы люди хорошие, однако так себе, индивидуалистишки. У нас вперед обстоятельства, а уж идеи потом. Я человек старый, покой люблю, книги свои люблю, работу. Да еще Ореста. Заболел он – увезти надо. А Сергею тут что делать? На аэропланах кататься? Он человек русский, рабочий. Да жену, да детей кормить. Идейки-то остались, а под ними-то ничего. Обстоятельства.
Он помолчал и добавил:
– Никого я не обманывал, всегда говорил: не мы, – другие будут делать. Камень твердый, были бы ноги.
– У тех камень, да ног нет; у этих ноги, да камня нет, – произнес Михаил, пожав плечами, и поднялся из-за стола.
Сестра его, темноволосая Наташа, быстро взглянула сбоку, из-под ресниц, и опустила глаза.
– Так много нужно сказать вам, что уж и не знаю, – начал Флорентий. Вдруг засмеялся: маленькая, кругломор-дая, дымчатая собака, с ушами как у филина, сидела перед ним на хвосте и махала лапой точно рукой.
– Чего он?
– Это Кокошка, – улыбнулась Наташа. – Он палку просит. Вот палка.
Размахнулась, бросила какую-то палочку вниз, далеко, к забору. Коко помчался за ней клубком. Так весело и так все кругом было ярко, живо и молодо, что Флорентий не удержался: точно мальчик бросился вниз, по траве, за тонко лающей собачонкой. Все невольно рассмеялись.
Дидим Иванович ласково поглядел на Флорентия, когда он, розовый, весь в сиянии волос, пронизанных солнцем, вернулся назад с собакой.
– Флоризель! Право, Флоризель! Так ведь вас Роман Иванович зовет?
И прибавил серьезнее:
– Я в вашим другом встречался. Но больше от Сергея о нем знаю. А так – он мне показался… не умею высказать, право. Загадочный.
Флорентий промолчал.
Заговорили о Литте. Уже говорили о ней много утром, когда приехал Флорентий, привез Михаилу коротенькую и смутную от нее записочку. Флорентий – прямо из Пчелинаго, в Петербург не заезжал, записочку от Литты отдал ему Роман Иванович.
Литту все здесь хорошо знали, все очень любили.
– Чем у нас тут, под Пиренеями, не пятибратство? – сказал Дидим Иванович. – Приедет девочка наша – будет шестибратство.
И тотчас же прибавил задумчиво:
– Нет, я шучу. Не сердитесь на старика, Флорентий Власыч, я ведь понимаю.
Серьезный разговор у Флорентия с Михаилом произошел в тот же вечер.
Темнело рано. Вечер свежий, по-осеннему ярко переливались вверху крупные звезды. Михаил и Флорентий сидели на скамейке у самой террасы. Из широких окон дачи падал желтый свет, и Флорентий видел ясно лицо Михаила, серьезное, внимательное.
– Я приехал к вам, Михаил Филиппович, чтобы рассказать о нашем деле, узнать, как вы на него смотрите. Буду вполне откровенен.
И Флорентий рассказал все. Не забывал мелочей, описывал собрания, давал характеристики. Старался быть деловитым, но в конце одушевился, заговорил по существу.
Странно: в ясном рассказе его облик одного Романа Ивановича оставался в тени. Михаил слушал, все понимал, и только этот человек по-прежнему был для него смутен.
– Михаил Филиппович, вам наша мысль близка, я знаю. Роман и я – мы ищем в вас союзника, помощника.
– Я связан, – сказал Михаил.
– Вы? Но чем?
– Я еще связан. Связан старыми отношениями, прежними друзьями. Связь слабая, почти невидимая теперь, но она есть. Разорвать ее окончательно, совсем отойти я не могу. Говорить им об этом, – они не поймут.
– Но ведь вы… – начал Флорентий. Михаил резко перебил его:
– Стойте, и не это главное. Связа во мне самом. От этой связы – и та, первая, держится. Как я… если я не верю?
– Не верите? Не видите, что такое Россия, не понимаете, какая сила дремлет в ней, не чувствуете, что пропаганда чисто интеллигентская, старая, слепая, не может разбудить душу народную? – Да нет, послушайте…
– Флорентий Власыч, – опять остановил его Михаил тихо и строго. – Я не о том. В силу новой революционной пропаганды, религиозной, – я верю. Больше – я тут уверен. Два месяца я ходил странником по русским дорогам. Сколько мог, – глядел в душу народную. Темнота, слепота, дикость, несчастие – и такая огненная жажда правды. Вот слово наше русское: правда. В нем все уже есть, – и ни крупинки нельзя отнять. Как земля – нужен Бог, как Бог – земля, Бог – оправдание земли, земля – оправдание Бога. Так я видел, так понял; а они в смуте, в обмане, свет нужен – его нет еще. Кто свету поможет? Тот, кто верит, как они, и понимает больше, чем они. Но верит, верит. Я понимаю, а… если я не верю? Если я не знаю, верю ли я в Бога?
Флорентий вдруг вспомнил летние сумерки у пруда. Дудочку тростниковую, которую резал. И тихие слова «сестрички»: «…он не верит в свою веру. И тут его мучение. Ах, и мое».
Флорентий успокоился. И улыбнулся.
– Михаил Филиппович, вы «сестричку» любите? Литту, ведь да? И она вас? Вы ей верите?
– Она… да она только одна… – начал Михаил и оборвался.
– Ну вот, так в этих делах… то есть насчет своей веры, себе верить нельзя. Надо тому верить, кто нас любит. Если она говорит, что вы верите, – значит, так, ей в этом и верьте.
Михаил вынул портсигар и закурил папиросу. На мгновение желтый огонек осветил лицо. Флорентию показалось, что на глазах у Михаила слезы.
– Оставим это пока, Флорентий Власыч, – сказал он ровным голосом. – Личное это, мой вопрос личный, редко говорю. С вами, вот, сразу как-то вырвалось. Очень вы Искренний, кажется. Давайте пройдемся по нижней аллее. Хочу еще о некоторых подробностях вас расспросить. Мне кое-что неясно. Да не знаю, как вы и Сменцев представляете себе мое данное положение относительно людей, с которыми я до последнего времени…
Встали, пошли в темноту, вниз. Долго еще вспыхивал там красный огонек Михайловой папироски, долго еще ходили они рядом и тихо разговаривали.
Глава девятнадцатая Calvaire[39]
Флорентия и здесь полюбили все с первого дня. Как-то нельзя было относиться к нему без доверия и нежности. Должно быть, оттого, что он естественно любил тех, к кому приближался. Не равно: одних больше, других меньше, но тех, кого меньше – все-таки любил. Он и говорил об этом очень просто:
– Я по-толстовски: не мешаю себе любить, вот и все. Если не мешать – непременно любить будешь.
– А вы ненавидеть умеете? – спрашивала Наташа.
– Людей? Нет. То, в чем люди бывают, злое, ужасное, – то ненавижу.
– Значит, вы никогда, ни при каких обстоятельствах не могли бы… убить человека? И кто убил, тот навеки осужден?
Флорентий улыбался.
– Два вопроса сразу. На второй сначала: осужденных, думаю, нет. Не мне же осуждать, да еще навеки. А вот убил ли бы я – не знаю. Думаю – и убил бы. Если б… как это выразить? Утонул бы человек в том, что мне злом кажется, что ненавижу. Иначе нельзя было бы ложь эту убить, как сквозь человека. Ну, и убил бы. Не представляю себе ясно, а допускаю. Убийство ведь каждый сам для себя мгновенно решает. Очень свое дело.
Гордая Наташа была неожиданно открыта с Флорентием. Он знал, что она смотрит на себя спокойно и безнадежно, – кончена жизнь. Слишком устала душа, до смерти не хватит времени, чтобы отдохнуть. Потеряв веру в то, чем жила ранее, Наташа не нашла и даже не искала новой. Рада, что удалось ей сойтись с хорошими людьми; тихо любит их, самоотверженно, как сестра ухаживает за больным Орестом. И больше ничего.
– Тебя, Михаил, я осуждаю, – говорит она сурово брату, при Флорентий. – Ты не прав.
Они втроем ушли далеко по ущелью, теперь сидят недалеко от маленькой, белой, одинокой церкви. Это – Calvaire de Notre-Dame. Узкая площадка. А перед ними, в небе, два гигантских старых деревянных креста. Было три, но левый упал, лежит, серый, и крошится, на нем и сидят трое.
– Чем не прав Михаил, по-вашему? – спрашивает Флорентий с любопытством.
– Не верит в старое, а боязливо за старое держится. Верит новому, а боязливо к нему нейдет. Заметь, Михаил, я сказала: новому, а не в новое. Довольно и такой веры, чтобы идти. Будь у меня такая…
– Неужели нет? – удивленно сказал Флорентий. С лаской взял ее за руку, заглянул в глаза.
– Вы – хорошая, умная, гордая только. Вы еще отдохнете, выздоровеете.
Наташа вспыхнула, отняла руку.
– Нет. Я бурелом. Стану жить-поживать… пока могу. И кончено.
Флорентий проговорил будто про себя, упрямо:
– И ничего не кончено. Я знаю. Я верю.
– А ты, Михаил, – сказала опять Наташа, – ты просто… боишься революции. Да, да, ты ужасный консерватор. Я говорю про революцию в своей жизни. Ее надо уметь делать. Если на это не имеешь силы…
Михаил молчал. Глядел на два серые креста в небе.
Долго ли им? Упадут и они, старые, старые…
Дольше трех дней Флорентию нельзя было оставаться. Сергей так и не приехал. Жаль, потому что Сергей хорош со Сменцевым, мог бы тут помочь Флорентию. О Сменце-ве трудно говорить, слишком близок ему Флорентий.
– Если б Роман Иванович сам приехал… – осторожно сказал Михаил.
– Он приедет, немного позднее. Он приедет уже деловым образом. Михаил Филиппович, я вам показывал некоторые наши листки. Принцип вам показался верным. С печатанием не совсем налажено. Ваша помощь нужна. Сменцев привезет другие листки, хотел бы с вами их редактировать и затем… если бы взялись их здесь напечатать и, может быть, переправить… Такова, в общем, деловая сторона моей миссии.
– Я вам отвечу завтра, – сказал Михаил и ушел к себе.
Целую ночь он не спал, ходил по комнате. Перечитал странную записочку Литты. Она писала, чтобы не ждать ее раньше Рождества. Большие неприятности дома, но пусть он верит в нее, она бодра, весела и знает (было подчеркнуто), что все устроится к лучшему. Лишь бы он был бодр и верил в новое (опять подчеркнуто). А она не одна, ей помогут друзья, которые, может быть, станут и его друзьями.
«Почему не написать проще, яснее? – с досадой думал Михаил, отшвырнув записку и шагая по комнате. – С Флорентием могла бы и без экивок».
Михаил боялся в себе этой злобы, нерешительной и бессильной. Литту он любил, но кроме того был влюблен в нее. И чувствовал, что, помимо внутреннего страдания души, личного, помимо привычного недоверия к неизвестному человеку – Сменцеву, помимо сложности всех обстоятельств, его мучит еще совсем постороннее чувство, глупая, беспричинная ревность. Как не приехать, если хочешь? При чем семейные неприятности? Флорентий объяснял ему, но Михаил едва слушал. Пустое.
И как это Сменцев ей поможет? Влюблен в нее, наверно.
Тут же Михаил понял, что путает, смешивает. Хотел – и не мог разобраться.
Но решил: пусть приедет Сменцев. О личных своих глубоких сомнениях Михаил сказал только Флорентию и взял слово молчать. Принципиально же, идейно он во всем согласен. Отсюда до дела совместного далеко еще… Все равно, видно будет, пусть приедет Роман Иванович.
Всем было грустно, когда уезжал Флорентий. Даже Юсу, хотя они мало разговаривали. Дидим Иванович положительно чуть не заплакал, – «к старости все слезливы становятся».
– Ей-Богу, – говорил он, – вот кого нам, индивиду-алистишкам, в гроб сходя, благословлять надо. Разве одно: прост уж очень Флоризель. Похитрее надо.
Но Флорентий уверял, что, где следует, он «очень хитрый». И поддразнил старика:
– Когда у меня «троебратство» будет – уж нет, я его из рук не выпущу, на книжки не променяю.
Наташа с грустной нежностью прощалась, с волнением. Глядела на Флорентия – и что-то милое, молодое, забытое вставало в душе. Веяния живых дней чуялись. На кого похож он? На Литту? Нет. На брата ее убитого, на Юрия. И похож – и не похож. Другое совсем лицо. Ямочка вот только на подбородке. Юрия тоже любили все, но иначе, без нежности. Просто за то, что в нем жизнь чувствовалась, бодрая, играющая; жизнь – и счастие. Счастьем он точно заражал. А погиб – и вспоминается странно, без грусти, как тень, как сказка небывшая. Наташа свою молодость, свою душу живую вспоминает, – себя прежнюю чувствует, какою была во времена встреч с Юрием. И оттого приятно ей, что в облике Флорентия мелькнул Юрий. Но хорошо, что Флорентий другой. О, другой! Как-то думала Наташа, что у Юрия вместо души была только музыка. Разбился инструмент – погасла музыка. Человеческая, стойкая душа смотрела из глаз Флорентия.
– Увидимся ли? – сказала Наташа, подавая ему руку в последний раз.
– Как захотите, – ответил Флорентий и улыбнулся. – Я-то захочу. Выздоравливайте только. Право, надо.
– И могу?
– И можете, можете. Уж я знаю. Уж мне верьте…
Михаил длинное письмо написал было Литте. Изорвал его, не понравилось, написал короче. Главное – просил приехать. Что письма? Только недоразумения плодят.
В конце октября Михаил увидит Сменцева в Париже. С тем и расстались.
Вечером, в круглой столовой, за чаем было немножко грустно. Молчала Наташа, сумрачно молчал Михаил. Больной Орест один улыбался.
– Славный человечек! – сказал он вдруг, кивнув, старику-профессору, который сосредоточенно раскладывал пасьянс.
Все поняли, что это относилось к Флорентию. Дидим Иванович быстро взглянул на племянника.
– Ну еще бы. Однако прост. Страшно за него. Перед ним – стыдно, за него страшно. Не то, что за него, а…
– Дидим Иванович, – перебил его Михаил, – а что это за человек – Сменцев? Что вы о нем знаете? И вы его видели?
– Видел. Я знаю от Сергея. Как тебе сказать, Михаил? Стар я, и уж когда сам над собой крест поставил, уж опасаюсь о других судить. Может, и хороший человек. Влияние большое имеет, а неразговорчив. Лицо – кривое.
– Кривое?
– Да, неровное какое-то. Улыбается – вкось, брови нарисованные, одна выше другой. Не то красив, иные просто красавцем его считают, не то – не знаю, как будто и противен. Замечательный.
Юс, до тех пор молчавший, кашлянул и сказал басом:
– Провокатор, может. Вот и все.
– Ну, нет, – уверенно сказал Дидим Иванович. – Уж это нет. Что угодно, а только поручусь, не «про». Мелко плаваете, Юс. Стар я, а тут глаза у меня острые. У господина Сменцева – характер потяжелее.
– Крупный провокатор, тем хуже, – зло проговорил Михаил.
Но Дидим Иванович не сдался. Его поддержал Орест, который тоже видел Романа Ивановича.
Спорили бесцельно. Михаил, видимо, злился. Был несправедлив.
– Если и провокатор, – объявил Дидим, – то все же такой, что не Юсу об этом судить. Дело его – дело иное, в нем и провокаторы иные. Как бы вовсе не провокаторы. Знаешь, Михаил, как его называют? Иваном-Царевичем, Романом-Царевичем. А брови кривые.
Михаил покачал головой и глубоко задумался.
Глава двадцатая Ввысь
– Доложите княгине, – сказал Роман Иванович, сбрасывая теплое пальто в громадной темностенной швейцарской – сенях.
Час довольно необычный: девятый в половине. Лакей, однако, уже склоняется подобострастно: «пожалуйте».
Медленно входил Роман Иванович по дубовой лестнице с широкими перилами. С досадой думал, что через полчаса ему опять надо трястись на извозчике через весь город. А на улице плохо: черный, холодный пот в воздухе, на камнях, на блестящих и скользких тротуарах. Октябрь Петербурга, тупой, мокрый и зловонный.
Здесь, в этом далеком и богатом особняке, – тоже не тепло и не уютно. Слишком высоки, должно быть, комнаты. Желание уюта есть: ковры, много вещей, длинные на лампах абажуры; а пустынно все-таки и грустно.
В первом салоне – никого. Роман Иванович прошел его и направился к темной портьере налево. Но портьера поднялась.
– Ami, c'est vous![40]
Поцеловала его в голову, пока он, склонясь, целовал ее бледные, сухие руки, холодные камни ее колец.
– Сюда, ко мне, здесь теплее. Давно ли? Ах, Боже мой! Надеюсь, надолго?
Прошли в большую гостиную, длинную, очень заставленную, но тоже неуютную. Впрочем, тут действительно было теплее: в углу неярко, но все же топился камин.
– Давно ли, княгиня? Всего три дня. Стремился к вам, и вот первые свободные полчаса… Сегодня вечером мы еще увидимся, вероятно?
– Ах, вы будете? Я собиралась. С того вечера, две недели тому назад, состоялось только одно собрание. Сегодня же… Ах, Боже мой, поговорим после об этом. Я так рада вас видеть, наконец, у себя. Ведь с прошлой весны ни разу, да, ни разу не заглянули. Тот вторник, две недели тому назад, когда обедали, – я не считаю…
Она сидела на кушетке, у камина, среди кучи разноцветных шелковых подушек. И, надо сказать правду, была между ними совсем некстати. Подушки нежные, мягкие, а она сухая, длинная, угловатая, в длинном суконном платье, строгом, темном.
Княгиня Александра Андреевна никогда не была красивой; но, как говорят, elle avail du style[41] со своим плоским, лошадиным лицом, суховатой фигурой, и могла в свое время нравиться; ее портило вечное выражение сладкой плаксивости в глазах, в губах, неожиданная истеричность движений. Глаза, полузакрытые поблекшими веками, вдруг расширялись восторженным испугом, – и это было очень неприятно.
– Но вот – я у вас, княгиня, – сказал Роман Иванович серьезно, даже несколько строго, присаживаясь на низенький стул около кушетки. – Я очень желал с вами говорить. Мне надо говорить с вами.
– О, мой друг… – произнесла княгиня испуганно-нежно и, с робостью протянув руку, на которой звякнул платиновый браслет, положила ее на руку Романа Ивановича.
Он медленно поднес к губам руку княгини и так же медленно отвел ее.
– Вы единственный, единственный, – шептала княгиня, прикрывая глаза. – О, как я понимаю, чувствую вас! Сила высшая между нами… Ей сладко покоряться, носить вечно в сердце покорную память.
– Княгиня…
– О, зачем?.. Так далеко, так чуждо… Разве не друг вам моя душа…
– Алина, – произнес Роман Иванович, – Алина, мы друзья. Нас соединяют общие стремления. А в тот памятный вечер, когда вы проникли в тайну и святость досмертных обетов чистоты… с того вечера наша связь ненарушима.
Все это Роман Иванович говорил без малейшего чувства, голосом деревянным, слегка повелительным. А деревянность и повелительность действовали на княгиню как самая нежная музыка. Покорный восторг заиграл в ее глазах. И стала она томно тяжелеть среди своих подушек.
– Я вас не люблю, Алина, – продолжал Роман Иванович с той же монотонной твердостью. – Я не должен, не хочу и не буду знать любви к женщине. Женщина могла бы мне быть другом и помощником. Увы! Таких женщин я не встречаю. Одну лишь встретил – вас.
Княгиня молча кивала головой.
– И, Алина, женщины для меня – или предмет жалости, или… орудие. Да, орудие, когда они могут, не сознавая, послужить мне, моему святому делу. Хотя бы тем уже, что спасутся сами.
Весьма было темно и запутанно. Роман Иванович это заметил, – он говорил, мало слушая себя, занятый другими мыслями. Заметила и княгиня, пролепетала:
– Куда вы хотите прийти?
Он улыбнулся неприятной своей улыбкой, немного вбок, и сам взял княгиню за руку.
– Алина, мне нужен ваш совет, ваша поддержка… Вы слышите, – поддержка. Я приму ее, если вы меня поймете. Несколько дней тому назад я решил… обвенчаться с молодой девушкой.
Княгиня приподнялась на подушках, вытянула черный стан и раскрыла глаза.
– Вы? Вы женитесь? На ком? Да нет, бросьте шутить. А как же?.. Впрочем, я ничего не понимаю.
– Не понимаете, княгиня. Возможно. Тогда надо верить.
Она не нашла ответа. Все глядела на него выпученными рыбьими глазами и, кажется, не знала сама, что с ней: верить ли (чему?), сердиться ли (на что?), и как спросить его (но о чем?).
Роман Иванович, помолчав, продолжал спокойно:
– Это обстоятельство удивляет вас потому, княгиня, что оно должно видоизменить несколько мои планы… Наши планы, хотел я сказать. Клубок черный, а следовательно, и белый отодвигаются вдаль. Но, княгиня, я не боюсь. Я уже говорил: все надо делать вовремя. Для этого моего шага время далеко не настало. Вот где вам нужна вера в меня.
– Друг мой, но я… Конечно, и это меня сражает, – проговорила княгиня срывающимся голосом. – Мне так ясен был ваш путь в святом деле. На вас смотрят с определенными надеждами, очень благосклонно, я достигла этого. Теперь же… Да кто она? На ком вы женитесь?
Роман Иванович, усмехнувшись, отметил ревнивые нотки в последних вопросах и сказал успокоительно:
– Я ни на ком не «женюсь», Алина. Я «обвенчаюсь» с бледной барышней, которую вы видели у нашей милой графини: это ее внучка. Я ее не люблю, конечно, как и она меня. Неужели нужно мне говорить вам, что никакого «брака» между нами не будет?
– Нет, я поняла… Но я не понимаю, зачем же…
– Алина, это входит в мои расчеты.
– Внучка графини. Помню, кажется… Une petite personne insignifiante[42]. Помню.
– Да, входит в расчеты. Вы умны, вы догадаетесь о многом сами. Я скажу еще, что, с другой стороны, la jeune personne etoit mal surveillee[43], попала за границей в дурное общество и… жаль мне, если она будет послушным орудием – не в наших руках.
– Та-ак! – протянула княгиня. – Ах, ее брат был убит этими нег… несчастными, – поправилась она смиренно. – Значит, она еще в то время… Вы хотите из маленького врага сделать маленького слугу? Ах, у меня голова путается. Но я начинаю понимать… прозревать. Так сразу, этот эпизод… Едва прихожу в себя.
– И вы скажете, Алина, скажете графине-бабушке об этом? Вы одна можете объяснить ей все… что найдете нужным. Я мог бы поговорить с ней сам, она, конечно, пошла бы навстречу, но будет лучше во всех отношениях, если сделаете вы. Полунамеком откроете ей то, что следует… скроете остальное. Да, Алина?
Он поднялся со стула и присел на ее кушетку, к ее подушкам. Близко заглянул ей в глаза, чуть-чуть наклонившись. Бедная княгиня Александра Андреевна никогда не могла выдерживать без волнения божественного этот властный, темный взор, смотреть на черные, точно нарисованные брови. И она сладостно опустила ресницы. «Сила высшая между нами», – отрывочно пронеслось у нее в голове.
– Да… Да… Я понимаю, я верю… О, друг!
– Чистым поцелуем брата целую вас, – почти прошептал Роман Иванович и действительно поцеловал княгиню в длинный лоб…
Это было много месяцев тому назад, в той же гостиной, на той же кушетке. Роман Иванович сумел оградить себя от жестких объятий Алины, и так как был он не прекрасный, а умный Иосиф, то сумел сделать это, сохранив неприкосновенными и страсть и преданность жены Пентефрия.
О, она помнит его в блаженную минуту! Помнит бледное, смуглое лицо, вдохновенно-суровый взор. И слова: «нет! нет! Да не будет этого со мною! И вы, Алина-Выше, выше! Я вознесу вас до себя»…
И вознес. Она, по крайней мере, так чувствовала. Сменцев не тратил на княгиню много труда и времени. А поссориться с нею не входило вовсе в его расчеты.
– Я скажу, я сделаю… – шептала Алина, опять тяжелея в подушках. – Мой друг, мой… ах, нет слов…
Легкий не то стук, не то шелест, царапанье портьеры заставили Романа Ивановича подняться, – не торопясь, впрочем, – с кушетки.
– Что такое? – спросила резко Александра Андреевна, выпрямилась, и лицо у нее стало сразу сухо и злобно.
Вошедший лакей доложил, что карета подана, тотчас исчез.
– Прощайте, дорогая. Нет, до свиданья… через полчаса. Благодарю за эти минуты.
– Когда же сказать? Сегодня? Нет. Сегодня там, вы знаете… Будет наш милый Федя. О, в нем сила, я не отрицаю. И такая народная, коренная, наша русская, непочатая…
Княгиня даже бледные пальцы сжала, чтобы показать, какая непочатая сила.
– Я не удивлюсь, что его любят… «там». На днях был о нем такой разговор… Впрочем, это после, после. Через несколько дней – да, в конце недели, я буду вас ждать снова. В этот же час… Многое сообщу вам. Храни вас Господь, друг, друг…
Наконец-то Роман Иванович опять на улице. Очень скверно и мокро на улице, но у княгини Сменцев пересидел и теперь даже улице рад. Не пройтись ли пешком на Фонтанку? Пожалуй. Не так далеко, а опоздать немного даже следует. Пускай съедутся. Федька Растекай, забравшись в хороший дом, любит посидеть.
«И ведь неглупая женщина, – думал Роман Иванович о княгине, шагая по лоснящимся черным третуарам. – Нет, пожалуй, только хитрая. И с бабьей дурцой, очень полезной».
Он отлично понимал, что из всего, что он ей наговорил, решительно ничего нельзя понять. А она вот «поняла». Это-то и ценно.
Глава двадцать первая Блаженный балаган
В своей старенькой «классной» сидела Литта одна.
Все тут осталось, как было: шторы белые на окнах, клеенчатый письменный стол, – за ним когда-то решала она математические задачи для Михаила, – полка с книгами, зеленый диван в углу и милое, такое глубокое-глубокое, тоже зеленое, штофное кресло.
В этом кресле и сидит сейчас Литта. На столе, около нее – большая керосиновая лампа, с детства знакомая. Когда проводили электричество в старый дом графини, в классной по ошибке сделали только одну лампочку под потолком. И для занятий у Литты осталась ее прежняя «молния», затененная лапастым абажуром. Литта знает на нем каждое пятнышко.
В эту осень долгие вечера проводит Литта в классной одна, в зеленом кресле. Что делает? Ничего. Даже не читает. Думает. Но часто рвутся мысли, и мутная наплывает тоска. Ей нельзя поддаваться, и Литта очень борется. По природе душа у нее веселая, – еще тяжелее тоска веселой душе.
Графиня не предложила внучке занять вместо «классной» пустой кабинет брата Юрия, да Литта бы и не согласилась. Книги она оттуда берет, но редко. Не любит заходить в эту мрачную комнату.
Память Юрия для графини священна. Ведь со времени трагической смерти его в финляндской даче «от рук революционеров» и начался их домашний переворот. Угрюмая квартира на Фонтанке неуловимо изменилась: загорелись лампадки перед появившимися киотами, запели тихие голоса странниц в задних комнатах, а в парадных – зашелестели шелковые рясы высокочтимых иерархов. И старый сенатор Двоекуров, отец Литты, – теперь «деятель православия». Живет на своей половине, – но не по-прежнему замкнуто: вечно у графини, и на собраниях и так, выезжает по «делам»: графиня пристроила его куда-то каким-то опекуном. Представительно и нехлопотно.
Дамам, бывающим у старой графини, нет числа; княгиня Александра Андреевна ближе других. Чего-то во всем этом Литта не понимает. На собраниях ей скучно, смешно, и подчас и страшно. Люди есть умные, но они же и хитрые и глупые, так странно все смешано. Кощунство с верой, интрига с Богом, тщеславие со смирением. И почему он, Сменцев, тут? Раз видела она его на собрании. Молчал, только с преосвященным Евтихием в углу долгий какой-то разговор вел; Литта помнит, что преосвященный волновался, и цепь поблескивала у него на груди.
Иногда Литте хочется присмотреться ближе, понять врагов. Потому что это враги, – она не сомневается. Может быть, Роман Иванович умнее делает, что входит во вражеский стан? Но отчего графиня так отзывается о нем? И с такой таинственностью: «этот человек высоко пойдет. Это одна из наших надежд».
Их надежда. Не враг ли он тоже?
Нет, нет. Как не стыдно возвращаться опять к старым мыслям. И ведь кончено, она приняла его помощь, согласилась… Не из таковских Литта, чтобы идти назад. Что-нибудь да будет.
Совсем задумалась. И вздрогнула, когда в комнату, тихо-тихо ступая, вошла горничная Гликерия.
– Барышня, – зашептала с порога. – Ее сиятельство приказали вас просить… В большой салон…
– Там уже есть кто-нибудь?
– Мне Василий передавал, барышня, да я видела с коридора, многие там, и владыки…
Гликерия ездила с Литтой за границу, жила при ней в Париже. Но томилась и расцвела, вернувшись на старое пепелище. Новости в доме, обилие святости, золотые кресты и рясы гостей прямо потрясали ее благоговением и восторгом. Еще тише стала она ходить и говорить, считала за счастие благословиться в передней у какого-нибудь прибывшего иерарха и уж, конечно, ни за что не поехала бы теперь за границу «для барышниного капризу». Очень одобряла, что старая графиня и разговоров о Литтиных заграницах больше не допускает.
– Так пожалуйте, барышня, – настаивала Гликерия.
Литта медленно поднялась. Одета была, как надо: темно-серое гладкое платье, белый воротничок. Платье старило ее, да и прическа: слишком туго затянула назад бледные пушистые волосы.
Посмотрела в зеркало, – маленькое, высоко повешенное. На секунду проснулась в ней веселая, молодая душа.
«Не хочу. Вот еще. Маску постную для них надевать».
Вытянула с боков пышные пряди, улыбнулась в зеркало сразу похорошевшему лицу. Потом взяла из длинного бокала одинокую желтую розу (сама купила себе вчера, увидав в окне цветочного магазина) и, обломав длинный стебель, приколола к поясу.
«Воображаю бабушку, если заметит розу, – думала по-детски Литта, идя по длинному коридору. – Ведь у нас в квартире никогда ни цветочка. Роза – это для розового масла, да елеем помазуются».
Но шаловливость сразу исчезла, едва вступила Литта на скользкий как лед паркет холодного «большого салона».
Старая графиня сидела на обычном своем месте, в центре. Величественная, крупная, черная, с черной тюлевой наколкой на седых волосах. Полукругом стояли кресла и стулья. Литта не сразу узнала всех сидевших.
Кто это рядом с бабушкой? Совсем незнакомый. Странный. За бабушкиным креслом стоит русобородый Антип Сергеич, или, как его называют, генерал Антипий Сергиевич. Генерал, положим, статный и недавний; лицо у него хитрое и курносое, как у рязанского мужичка, стан же привычно, по-чиновничьи, склоненный. Это ничего. Антипий Сергиевич все-таки чувствует, что он генерал; мечтает, что и джентльмен к тому же, – но порою сомневается: есть слухи, что подолгу советуется он с супругой и домочадцами, какой куда галстук благоприличнее надеть, не слишком бы яркий и не очень бы «так себе».
Графиня благоволит к Антипию, хотя ни генеральством, ни джентльменством его не занимается. Снисходительно прощает дурной тон за «ум, нужность и сообразительность».
Была тут и грузная игуменья какого-то монастыря, важная. В цепи иереев, владык разного объема и вида, Литта сейчас же заметила преосвященного Евтихия. Полная фигура его в золотистой шелковой рясе занимала все кресло. Две звезды, одна побольше, другая поменьше, сияли на груди, цепь дорогой панагии путалась с цепью креста узкого, из голубой эмали. Немолод, но и не удручен годами: лицо белое, поседела лишь у нижней губы, а конец – такой смолевой, черный, курчавый. Насмешливо-острые, презрительные глаза владыки тотчас же остановились на Литте.
Литта его терпеть не могла. Не знала почему, но всем существом отталкивалась от него, даже как-то презирала его, чувствуя, что и он ее презирает. Очень было неразумно, однако, всякий раз, подходя под благословение (попробовать бы ни к кому не подходить!), дрожала от брезгливости, особенно, если широкий рукав задевал ее по лицу.
«Неужели это теперь ко всем подряд?» – не без испуга подумала Литта.
– Вот внучка моя, Федор Яковлевич, единственная, – широким жестом указала графиня на Литту, обращаясь к незнакомому человеку, который, сутулясь, сидел на кресле рядом.
Литта поклонилась издали. Не знала, как быть дальше; но, к великому счастью, приход запоздавшей княгини Александры Андреевны отвлек от нее общее внимание. Княгиня строго, ловко и смиренно обошла всех, кое-где благословилась, с большинством просто поздоровалась, с графиней дважды поцеловалась, а сутулому Федору Яковлевичу долго жала руку, кланяясь. Литта думала, что о ней забыли, что можно скользнуть в уголок куда-нибудь и притаиться. Но княгиня Александра неожиданно обратилась к ней, и так любезно было ее лошадиное лицо, что Литта даже смутилась. Не знала, как отвечать. Через минуту она уже сидела, но вовсе не в уголке, а между княгиней и странным незнакомцем Федором Яковлевичем.
Собрание на этот раз было не интимное, – слишком многочисленное. Литта сразу это заметила. Громоздкий, немного дикий монах, толстогубый, с нерусским лицом, – архимандрит Вонифатий, произнес густо:
– Мы бы по-окончили с о-обсуждением до-оклада, и то-огда во-озможно бы перейти к о-очередной беседе.
Княгиня Александра подняла глаза на Антипия. Он тотчас же выступил из-за кресла старой графини, кашлянул и начал:
– Доклад мой по существу был одобрен всем нашим высокоуважаемым кружком, лишь некоторые встретились возражения, и несогласие выразилось лишь в отношении предлагаемых мною способов приведения главного положения в наискорейшее действие… Далее покатилось ровно.
– Так как некоторые из присутствующих здесь сегодня не ознакомлены с сущностью доклада, то я позволю себе в кратких чертах…
Сначала казалось, что Антипию не хватает только портфеля, – так он почтительно сгибал стан, такие кругленькие и официальненькие были у него фразы. Однако вскорости Антипий разгорячился, и речь его зазвучала дерзостнее, с обличительными и даже грубоватыми словечками.
Доклад просто-напросто был против свободы совести; наново импровизируя его, Антипий вдохновенно доказывал пагубу и той свободы, которая уже есть.
– Опасность разрастается… – гремел он. – Теперь возражу я несогласным вот что…
– Да где несогласные? – сердито и бесцеремонно прервала его старая графиня. – Ты, батюшка, переходи сразу к тому вопросу, что намедни подняли. А тут что еще толковать?
Архимандрит Вонифатий одобрительно покачал смуглым лицом.
– Так, так. Какая же сво-обода, ко-огда, го-оворю я, христианство экскоммуникативно…
– Мы не о христианстве говорим, – о православии, позвольте вам заметить, отец архимандрит, – сказал бесстрастно преосвященный Евтихий.
– А то тем бо-о-лее…
Начался довольно странный спор, неизвестно о чем. Его поддержала княгиня Александра. Как будто не хотелось ей, чтобы вопрос о «способах» был поднят и решаем в таком «не интимном» собрании. Старуха графиня поняла ее и больше не возражала.
Литта слушала плохо. Все присматривалась к своему соседу и соображала, кто бы это мог быть. Так одетых людей – не то «по-мещански», не то богато по-мужицки – она уже встречала в салоне бабушки. Блестящие сапоги бутылками, синяя шелковая рубаха. Не стар – лет тридцать, тридцать пять. Голова острая, яйцом; и оттого, что черные волосы плоско ложатся все от темени вниз, вниз, и растут низко, – голова кажется в черной монашеской скуфейке. Мужицкий нос, – дулей. Складки на щеках, складки над переносицей. От складок лицо – не поймешь, скорбное ли очень, лукавое ли очень. Надвое. Порою мужичок с усилием морщил нос, особенно сжимая, складывая губы, и «скорбность» сильнее проступала; но забывался, поглаживая длинную, редковатую, кустиками растущую бороду, – и вновь лукаво и хитро змеились складки на лице, выдвигались вперед мокрые, мягкие губы. Вот он поднял на Литту глаза. И они надвое: мутные – и яркие, серо-голубые, оловянные – и усмехающиеся.
Тихо протянул он черноватые пальцы и дотронулся до розы, приколотой к Литтиному поясу. Роза уже успела поблекнуть, и два листа упали на пол.
– Что это у тебя, беленькая, а? Розочка? Опадает уж. А люблю я цветочки. Небось, и ты любишь?
Он сказал так тихо, – при общем говоре слышала его только Литта. Смутилась от неожиданности. И в ту же секунду поняла. Выбранила себя за рассеянность, за недогадливость. Да ведь это Федька Растекай! Тот самый, о котором так много она слышала, который бывал и раньше у графини, – только без нее. Вот он, значит, какой.
Невольно улыбаясь, с любопытством глядела на него, забыла ответить.
– Что же сокол-то наш ясный нынче молчит да сзаду прячется? – продолжал между тем Федька и дернул головой влево.
– Вы молчите, так уж мне и Бог велел, – услышала Литта ровный голос Сменцева позади себя.
Обернулась. Да, он. Незаметно вошел во время разговора и сидел теперь в тени, за креслом княгини Александры Андреевны. Только что полушепотом они обменялись несколькими фразами.
– Я – что ж? Я человек маленький, куда уж мне в такие резолюции вступаться, – прищурился Федька и погладил шелк своей рубашки. – Да постойте; помолчу-помолчу, а потом и поговорю.
Он произнес это уж совсем громко, и тотчас же случилось, что спорящие замолчали, внимание обратилось на него.
– Дружка-то моего давно видели? – не смущаясь, спрашивал Федька Сменцева. – Неподалеку ведь он от ваших мест. Божье дело, Божье дело делает. Навещу его по весне. Да сам приедет, Бог даст.
– Вы о нашем иеромонахе Лаврентии говорите, Федор Яковлевич? – почтительно осведомилась княгиня Александра.
– О нем, о нем, красавица. Господний вояка. Архангелов и ангелов с мечами огненными пошлет ему Господь во подмогу. И повержен будет к стопам его дракон многоголовый…
– Давно бы, кажется, пора… – сердито сказала старая графиня.
– А ты, матушка, ваше сиятельство, пожди. Ты свое работай, ан все и будет. Все будет. Сжалится Боженька-то, упредит сроки. Велико и сильно воинство Господне. Я – что? Мушка. Но и мушку малую устроит Господь для вразумления сильных.
«Ну да, юродствует», – подумала Литта. Он вдруг повернулся к ней.
– Что, беляночка? Горят глазки-то, хочешь, небось, послужить Божьему делу? Послужи, послужи… Вон Сашенька, княгинюшка наша, она знает, небось, что всяк с Господом велик, всякая мушка, да букашка…
Слушали Федьку, молчали. Старуха медленно кивала головой. Антипий Сергиевич, вытянув шею, замер в почтительном внимании.
Не повышая голоса, монотонно и без затруднений Федька нес ахинею. Самое странное, что в ней была убедительность. Оловянный взор его, медленно скользя, останавливался чаще всего на Литте. Журчали слова, тупые, гладкие, бессмысленные, и тупо росла их непонятная убедительность.
Литта совершенно ни о чем не думала и совершенно ничего не понимала. Глупое спокойствие сошло на нее, полусон, мара какая-то, довольно безразличная.
Толстая игуменья все чаще вздыхала, наконец прослезилась.
Вошел с палкой отец Литты, старый сенатор и опекун (сильно опоздал, будет ему от графини!). Остановился у дверей, боясь прервать речь. На желтом, бритом лице его стало проступать умиление. Немножко было оно казенное. Всегда одинаковое, что бы у графини-тещи ни происходило: совещались ли, как вернее сказать «наверху» насчет «свободных опасностей» (а то и насчет забытых милостей), распевались ли монастырские «канты», пророчествовал ли юродивый. Двоекуров столь же мало знал толк в «кантах» (его слово), как и в юродивом. На всякий случай неизменно, притом искренно, умилялся.
Федька, заметив сенатора, закивал ему издали, но ахинеи своей отнюдь не прекратил, а понес ее даже с некоторым прискоком.
В маре, в тупости Литта глядела перед собой, почти не видя. Но случайно взор ее остановился на лице владыки Евтихия. Литта вздрогнула и опомнилась. Такая насмешка, такое бездонное презрение было в этом лице, так пронзительны и злы казались глаза. Не на нее одну они смотрели, и с отвращением Литта – не подумала, скорее почувствовала: «А он сейчас прав. Что это за дикость? Что мы слушаем? И я..»
Круто оборвал Федька свою речь и всем телом повернулся в кресле.
– Так-то, милые, так-то, родименькие… А я уж и бай-бай, пожалуй… Каретка-то, небось, дожидается…
Зашевелились, заговорили.
– Куда вы, дорогой, дорогой Федор Яковлевич? – сказала, глубоко вздохнув, графиня. – Пожалуйста. Не покидайте нас так скоро. Вот чай. Прошу, Федор Яковлевич. Одну чашку чаю.
На громадных подносах лакеи разносили чай. В углу воздвигся стол с какими-то яствами.
Федор Яковлевич принял чай, деловито подвинулся с ним к столику и долго забирал еще что-то с подноса.
Говорили сдержанно, группами. Княгиня Александра, Антипий Сергиевич и старая графиня совещались вполголоса о том, когда назначить следующее собрание. Антипий Сергиевич предлагал «как можно скорее: время положительно не терпит». Порешили, кажется, на той неделе.
Смуглый архимандрит приналег на закуску и мирно беседовал с игуменьей Таисией, которая разводила жирными руками и жаловалась на свое имя:
– Что оно значит? Та-и-сия. Та, что в миру была, и сия, нынешняя. Та-и-сия. Как это понимать?
Оглянувшись пугливо в сторону Федьки Растекая, перебила себя, зашептала:
– Замечательный старец. Видимо, возлюблен Господом. Сила какая в нем замечательная. Тоже отца Лаврентия я видела. Великого духа человек.
Преосвященный Евтихий встал, взял подле него лежавший клобук свой, черный, но с бриллиантовым крестом впереди, и, красиво взмахнув рукавами шелковой рясы, точно золотистыми крыльями, надел его на голову.
«Почему мне казалось, что монахи носят только черное?» – подумала Литта, глядя на золото коричневого шелка, переливающееся под электричеством. Весь преосвященный блестел: и панагия на груди, и звезды.
Федька Растекай, покончив с чаем и печениями, внезапно сорвался со стула.
– Ну, пойду, пойду. Мир компании. За беседу много благодарю. Любят меня, все меня любят, малого, мушку этакую, все родные, милые. Прощай, матушка, графинюшка, Христос с тобой, пресвятая Богородица, прощай, Сашенька, небось, увидимся, красавица… Отцы святые…
Кланялся на все стороны. Литта, встав, хотела отойти, но Федор Яковлевич цепко схватил ее за руку и не выпускал.
– Прощай и ты, беленькая, послужите, послужите Христову делу, глазки востренькие… Буду еще когда у бабки-то – выходи, смотри, любимочка…
И Литта почувствовала на лице прикосновение мокроватых усов, за которыми шевелились мягкие губы. Федька ее поцеловал.
И уже семенил, не обращая больше ни на кого внимания, к выходу.
– Это он всегда, это ничего, – проговорила княгиня Александра, улыбаясь Литте, которая совершенно остолбенела от неожиданности. – Полюбит и непременно поцелует. II n'y a rien de guoi vous alarmer, ma petit amie[44], – прибавила она, видя, что девушка в негодовании хочет заговорить, порывается к уходящему Федьке.
– С волками жить… – прошептал Литте на ухо Роман Иванович и тотчас же сказал громче:
– Такой уж обычай у старца. Успокойтесь. Видите, никто и внимания не обратил.
Но Литта не желала больше оставаться тут. Довольно. Как бы только уйти незаметнее. Подплыла старая графиня.
– Какой он… проникновенный, n'est ce pas, princesse? Il etait tres gentil avec vous[45], – несколько равнодушно заметила она внучке. И повернувшись к Роману Ивановичу:
– Il vous appelle toujours сокол ясный. Quelle jolie expression[46] – сокол ясный.
– Графиня, – почтительно склоняясь, по-французски сказал Роман Иванович, – что говорит вам ваше чувство? Может этот старец далеко пойти?
Расходились. Старый владыка Виссарион, худой, в очках, молчаливый, ушел раньше всех. Пышный Евтихий, сверкая бриллиантами своего клобука, остановился на минуту с Романом Ивановичем.
– Святый старец! – произнес он насмешливо и довольно громко, не стесняясь тем, что княгиня Александра, старуха и Литта были недалеко, могли его слышать. – Абие, абие[47], а больше бабие. Мозги-то у него давно низом вышли. Вы как полагаете?
Сменцев, привыкший к беспредельной грубости сверкающего иерарха, только улыбнулся под усами.
В эту минуту к ним подошла стройная, еще довольно красивая дама с растерянными глазами. Она весь вечер промолчала в уголке. Оттуда, не опуская взора, смотрела на Евтихия.
– Владыка, – начала она срывающимся от волнения голосом. – Простите… Я хотела вас спросить… Вы будете нынче на богослужении?..
Назвала одну из самых фешенебельных церквей.
– Не буду, – отрезал иерарх.
– Как жить!.. Ах, владыка, этот старец, конечно, очень замечательный, но на меня он совсем, совсем не действует. В нем не хватает величия. Как хотите – величия нет. А я так жажду духовного утешения, владыка. Такое чувствую смятение в последнее время, такое расстройство…
Она руки сложила и смотрела на него горячими глазами.
Преосвященный грубо оборвал ее:
– Камфоры, матушка, камфоры примите. Очень помогает.
И отвернулся. Дама постояла, подумала и, покраснев до слез, отошла робко.
– Отлипла, – довольно усмехнувшись, сказал иерарх. – Эк надоели, шлепохвостки. Так и прет их на монахов. Ну, прощайте, – прибавил он, попросту подавая руку Роману Ивановичу. – Значит, завтра прибудете? Вечерком, что ли? Полчаса имею. Поговорим.
– Собственно, чего-нибудь важного не сообщу, – сказал Роман Иванович чуть-чуть холодно и прищурился. – Так, личное мое дело одно. Желал сказать вам раньше, чем другим.
– Личное, личное… Как же не важно? Очень даже важно. Говаривали. Прибудете, значит. Ожидаю.
Многие ушли, кое-кто остался. Архимандрит, игуменья, молодой священник, несколько дам, Антипий Сергиевич. Кто-то предложил «пропеть». Дама с растерянными глазами села за рояль.
И Литта, которой удалось наконец выскользнуть незаметно, слышала, удаляясь, звуки: «Хвалите имя Господне».
Нестройное было пение, даже дикое, но усердное: каждый старался от полноты сердца, но ведь это был случайный хор, и напевы, как сердца, у всех оказывались разные.
Глава двадцать вторая Спешка
С головной болью, усталый и слегка простуженный, вернулся Роман Иванович домой.
В маленькой передней наткнулся на чемодан.
А войдя в первую комнату своей квартирки и повернув яркое электричество, увидал на диване спящего Флорентия.
Не удивился, – он его ждал. Именно вечером. Флоризель умеет приезжать с какими-то необычными поездами.
Было совсем не поздно – двенадцатый в начале. Хотя голова и болела, но настроение у Романа Ивановича было скорее приятное. А явление Флоризеля совсем развеселило его.
Потихоньку вышел, переоделся, вмиг приготовил чай на спиртовке.
– Флоризель, вставай. Этак ты до утра проспишь. Флорентий повернул голову, щуря на свет глаза, и улыбнулся еще впросонках.
Потом, живо опомнясь, вскочил.
– Здравствуй. А я с дороги… Ждал тебя. Сам не знаю, как уснул.
Поцеловались. Флорентий умылся, посвежел, – ни сна, ни усталости как не бывало. Сели пить чай.
– Ты что, Роман? Лицо утомленное.
– Голова болела. Проходит. Разные тут вещи, неприятности.
– У тебя? Что такое? Серьезное?
– Может быть. А, может быть, нет. После. Рассказывай. Впечатление?
– Впечатление превосходное, – оживился Флорентий и начал описывать Михаила, Наташу, старого профессора, – всех обитателей дачи с башней. Сменцев слушал, не прерывая. Знал, что Флорентий должен сначала высказаться «лирически», а потом уж сам перейдет к делу.
Лирика на этот раз кончилась довольно скоро. Из нее Сменцев тоже извлек много для себя полезного.
– Ржевский, по моему мнению, ценнейший человек для нашего дела, – уже совсем серьезно говорил Флорентий. – Если бы нашего не было, он свое бы начал, рано или поздно, на тех же основах. Вот мое убеждение.
– Рано или поздно. То есть поздно?
– Не знаю. Вероятно… не сейчас, – несколько смутившись, сказал Флорентий. Он дал слово Михаилу молчать о личных глубоких его сомнениях. – Сейчас есть у него внешняя связанность еще… или фикция связанности. Он – нигде и ни с кем, но это… как бы тебе сказать? Еще не официально.
– Очень хорошо. Такая официальность была бы сейчас и нежелательна. Ржевский, как единица, весьма приятен, верю, но…
Роман Иванович не кончил, задумался.
– Роман, не хочешь же ты, чтобы Ржевский действовал с нами тайно, пользуясь силами коллектива, к которому он уже внутренне не принадлежит? Это был бы обман. Мы не можем ему это предлагать.
Сменцев рассеянно поднял глаза на товарища.
– Что? Да… Нет, конечно… Сложные вопросы. Ты прав, мне надо съездить туда самому. Дело пойдет. Вот что, друг а ты завтра – в Пчелиное.
– Завтра?
– Да, в двенадцать дня. Там неладно.
Роман Иванович встал и прошелся по комнате, хмурясь. От головной боли у него слегка подергивало правую бровь, и лицо казалось совсем кривым.
Флорентий слушал. Из скупых, отрывочных слов Романа Ивановича выяснилось, что на хуторе действительно было неладно. Отец Варсис крутовато повел дело с беседами. На вторую уж собралось полсела. На частные, днем, стали приходить. Из Кучевого тоже. Дьякон расцвел и осмелел. И споры были, всего было. Подъем громадный.
– Так это великолепно! – вскрикнул Флорентий.
– Погоди. Появились из чужих мест. От Лаврентия, из Спасо-Евфимьевского, знаешь? В пятнадцати верстах он. Народ горячий, буйный…
– Ты у этого Лаврентия был, Роман?
– Был. Ну, дальше. Попались как-то наши брошюрки. К счастью, выдранные листки одни, – мне случайно исправник показывал. Словом, сейчас это не ко времени. Рано. Варсиса я увез, благополучно и даже хорошо, – он умеет замазать, что следует. Но дьякон остался. И так как волнение продолжается, то он может наделать глупостей. Поезжай. Придется потрудиться.
– А легенды, Роман? Сменцев пожал плечами.
– Всего есть. Разберешься. Крепче узду натяни. Легенды – тем лучше. Их не бойся. Пусть закипает котел, но крышку пока держи плотнее. Увидим, когда открыть.
Давно привык Флорентий к другу своему, понимал его, верил ему. Но теперь вглядывался он в темное лицо, суровое, непроницаемое, с подергивающейся бровью, – и ему стало как-то не по себе. Немного холодно, немного страшно.
– Понял? Едешь, значит? Утром еще поговорим.
– Завтра очень мне не хотелось бы, Роман. Завтра я хотел отца повидать. И потом сестричку… Юлитту Николаевну. Ржевскому обещал. И письмо у меня к ней.
Сменцев сдвинул брови.
– Как знаешь. Но отца ты можешь повидать утром, – непременно повидай, возьми денег, он знает, – а Юлитту Николаевну не увидишь все равно. В дом графини сразу не можешь заявиться. Нужно тогда оставаться несколько дней.
Флорентий молчал.
– Я сам из Пчелиного всего два дня, с Варсисом. Ждал тебя. Каждый час дорог. Дело очень серьезное.
Флорентий еще помолчал.
– Нет, что ж, – промолвил он наконец, незаметно вздохнув. – Надо ехать, поеду. Возьми письмо, Роман, сам отдашь. Скажи ей, что все хорошо, что мы с ее женихом подружились. И Наташа, скажи, очень, очень мне понравилась. Замечательная. Утешь сестричку.
Вынул из внутреннего кармана узкий конверт, отдал Сменцеву. Потом встряхнул кудрями, будто отгоняя мгновенную печаль, и улыбнулся: надо ехать, надо ехать. Поедет завтра.
Глава двадцать третья Девственники
Многого еще не рассказал Флорентию Роман Иванович. Тут, за Невской заставой, тоже было не все ладно. У Любовь Антоновны, скромной учительницы, у которой Сменцев был летом, ни с того ни с сего сделали обыск. Ни у нее, ни у Габриэли (они жили вместе) ничего, конечно, не нашли, их не тронули, но вскоре кое-кто из рабочих, известных Любовь Антоновне, был задержан. Это все неприятно заботило Сменцева. Тем более что друг его, Алексей Хованский, вернувшись из деревни, то и дело торчал теперь за Невской заставой, у Габриэли. Сменцев туда, конечно, не показывался. Думал поехать к Алексею и предупредить его, но махнул рукой: ничего не выйдет, коли влюблен. И не поймет ничего. Сам запутается – не беда, только полезно, но ведь тут мало ли что может выплыть раньше времени. Проклятая Габриэль положительно раздражала Сменцева. И Любовь Антоновне она помеха. Заставить слушаться – можно; только ведь для этого надо прикомандировать к ней отдельного человека, чтобы следил за каждым ее шагом, отдавал приказания каждый час, на каждый данный случай: неизвестно, что может взбрести в голову этой умной дуре.
Куда бы ее сбыть? В Пчелиное? За границу? Потому что не дай Бог арестуют – она такого наворотит, что и не расхлебаешь. В сущности, девушка ничего себе, а вот какой проклятый темперамент. Истеричка.
Ну, да черт с ней в конце концов. И без нее у Романа Ивановича забот немало. С Варсисом обошлось отлично. Намутив в Пчелином, он и замазал хорошо. Был в Спасо-Евфимьевском, у Лаврентия. О потайной беседе их не расспрашивал Роман Иванович, а Варсис не рассказывал: мигнул только, весьма довольный, – поняли друг друга.
Теперь Сменцев ждет момента, чтобы ввести Варсиса к старой графине. Следует, и скорее. В дела за Невской заставой Варсис посвящен, с Любовь Антоновной знаком и действует пока превосходно: с величайшей осторожностью.
На хуторе – обойдется. Там Флорентий, да и главные ихние люди – не дураки и послушные. Больше всего тревожили Романа Ивановича, – если сказать правду, – личные его сейчас дела и он сам.
Мысль свою жениться на Литте он считал очень важной. Это бесповоротно связывало с ним Михаила, ставило Михаила в зависимость от него. Могло быть очень и очень полезно. Однако Роман Иванович нисколько не скрывал от себя, что в эти соображения вплеталось постороннее чувство, – нет, не вовсе постороннее, однако независимое, не рожденное соображениями: быть может, соображения родились потом, от него, рядом с ним.
Не любовь. Не влюбленность. Не страсть даже. Злой каприз, удивленность от встретившегося сопротивления. Когда он заметил, что эта девочка (много слышал о ней раньше) сторонится и не доверяет ему, что он, привыкший к другому, ей неприятен, – показалось, что победить недоверие необходимо. Да и действительно необходимо: она связана с Михаилом. Но тут-то и вкралось другое чувство, личное, о котором думал Роман Иванович, которое заставляло его усиливать борьбу за доверие. Доверия уже было мало: хотелось власти.
Впрочем, все двойственно, все: как без власти добиться доверия? Он, по совести, верил только доверию рабов.
Не скрывал от себя Роман Иванович, что этот шаг, – женитьба, – так ли, иначе ли она обернется, – может для него стать шагом решающим. Принудить его к решению, которого он еще не сделал, и твердо знал, что не хочет делать, – не время. Кое от чего придется отказаться. Но сохранить все-таки неприкосновенным данное свое положение можно, и к этому сейчас Роман Иванович приложит усилия. От риска он не прочь, – с умом; но терять не любил ничего, что может пригодиться. Для риска нужен подходящий момент. А пока, точно скупой, собирал, собирал он, хранил, выжидал.
«Если я делаю глупость с этой свадьбой, – ну что ж! – думал он, трясясь на скверном извозчике по скверной мостовой и скверной улице, которая вела к „убогой хижине“ преосвященного Евтихия. – Мне так хочется. Пусть даже мое „хочется“ тут преемствует над соображениями. Великодушно разрешаю себе… глупость. А может, вовсе это и не глупость».
Роман Иванович издавна «дружил» с блестящим владыкой Евтихием. Знал его назубок, и Евтихий знал, что тот его знает. Поэтому дружба их была нисколько не похожа на ту, которую водил Евтихий с «обещающей молодежью».
Внешне Роман Иванович, где нужно, подчеркивал свое отношение к Евтихию как «наставнику»; Евтихий держал себя соответственно; однако острые глаза его порой выдавали тревогу и даже злобу. Евтихий не совсем понимал Сменцева.
Вот это непонимание при безукоризненных внешних отношениях, эту смуту и надо было сохранить.
Конечно, Евтихий – не княгиня Александра. Ну, да зато с ним можно иначе помериться. Тщеславный и грубовлас-тный трус. Поглядим.
«Убогая хижина» оказывалась, в сущности, не очень убогой. Поскользнувшись на крыльце, около которого хмуро шумели в темноте оголенные деревья, Роман Иванович вошел в просторные сени, потом в такую же просторную и светлую прихожую.
Два тонких келейника, похожих на черные былинки, смиренно и предупредительно встретили его. Один, знакомый, тотчас выскользнул из прихожей – докладывать.
Просят в кабинет. Большая честь: туда допускаются только близкие люди.
По светлому и скользкому, точно лед на солнце, паркету громадных комнат – приемной, зала, гостиной, столовой – шел Роман Иванович к архипастырскому кабинету. От льдистости пола комнаты казались еще холоднее и пустыннее, особенно зал. Мебели тут никакой не было. В ряд по стенам висели разные священные портреты, разные – и немножко одинаковые: все ленты, ордена, звезды и кресты, кресты…
Преосвященный встретил гостя на пороге кабинета.
– Здравствуйте, здравствуйте. Поджидал. Думал – полчаса свободных, а освободился-то на весь вечер. Хоть до одиннадцати сидите.
Троекратно поцеловались. Бледное, полное, мучнистое, как разваренный картофель, лицо владыки сияло приветом и любезностью.
– Мы сюда и чайку спросим, – говорил Евтихий, усаживая гостя в кресло. – Что в столовой! Здесь нам уютнее.
В кабинете, точно, было уютнее. Высокие кресла, книги, на полу ковер. Тоненький черненький послушник принес чай и такой гигантский поднос с вареньями и печеньями, что было удивительно, как эта былинка под его тяжестью не переломилась.
За чаем стали болтать. Болтал, впрочем, больше преосвященный, а Сменцев только подавал реплики и усмехался, по-своему, вбок.
Евтихий, напав на любимую тему, не мог с ней расстаться. Тема же была – женщины, сосуды дьяволовы, пакость их соблазна, и высмеивание духовной братии, сему соблазну подпавшей. Речь преосвященного удивила бы многих роскошью, богатством слов, хотя утонченной назвать ее было никак нельзя. Перебирал по пальцам видных людей с их любовницами. Одного называл Наталием, по имени его «блуда», следующего Марием, а одного окрестил прямо: Аксинья. Впрочем, не стеснялся и менее невинными кличками.
Грязные сплетни, приправленные брезгливыми проклятиями «дьявольским сосудам», так и лились, со вкусом, из уст говорившего.
Роману Ивановичу это надоело. Да и пора было приступать.
– Мне женщины очень противны, – сказал он. – И все же, владыка святый, я намерен жениться. О том и пришел говорить.
Владыка онемел. Даже рот у него раскрылся. Потом вскочил, замахал руками, забегал по комнате.
– Не поверю. Ушам своим не верю. Жениться! И ведь кто намерен жениться? Кто?
– Я, – со спокойной улыбкой подтвердил Сменцев. – Я женюсь. Сначала выслушайте меня, владыка…
Но тот опять замахал руками и забегал. Когда остановился перед Сменцевым, мучнистое лицо залоснилось. И, видимо, нашло на владыку борение. Сообразил, что если женится Сменцев, – кое-какие вещи от него уплывают безвозвратно, а ведь он – черт его разберет – метил что-то высоко. С другой же стороны – этот самый Роман, его ученик отчасти, который презрительно, как его учитель, относился к бабью и лишь случайно еще не монах (скольких робких, мягких, менее способных постриг Евтихий!), этот Роман… женится. Смутная политика боролась в сердце владыки с кровным, ясным убеждением. И – надо отдать ему справедливость – убеждение победило.
– Да вы знаете ли, куда идете? – визжал Евтихий. Голос у него, особенно в минуты волнения, был высокий. – Не знаете? Не знаете, что такое брак? Я вам скажу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ну падение, ну это я еще могу понять, – с неожиданной снисходительностью прибавил он. – Падение, всякое, наедине или с женщиной, – блуд мгновенный, грех случайный. Слабый человек может подвергнуться… Но пав, – он кается, он жаждет восстать и может восстать…
– Владыка, – вдруг твердо и серьезно прервал его Сменцев, так твердо, что Евтихий невольно сократился. – Вы напрасно мне все это говорите. Я с вами во всем совершенно согласен… исключаю некоторые крайности мнений. По существу же держусь ваших взглядов.
– Не понимаю, – недоуменно произнес Евтихий и сел. – Женитесь однако. Приспичило, что ли?
Роман Иванович скромно, по-прежнему твердо, с достоинством сказал:
– Я – девственник, владыка. И надеюсь до конца пребыть им. Я не имел даже падений. Каковы взгляды, такова и жизнь.
Владыка молчал, все в недоумении. О девственности Романа Ивановича уже говорено было в старые времена не раз, и владыка этой девственности верил.
– Зачем, почему, какие соображения заставляют меня обвенчаться с девушкой, которая меня не любит и к которой я не имею ни малейшего ни телесного, ни духовного влечения, – этого я вам, владыка святый, не скажу. Одно: соображения свойства даже не личного, в узком смысле. Зная вашу проницательность, уверен, что вы не усомнитесь в правдивости моей. А дабы вы, владыка, услышав о деле стороною, не составили себе превратного мнения, я поспешил к вам заранее. Слишком дорого мне расположение ваше.
«Ой, врешь! Ой, путаешь»! – явственно сказали пронзительные очи владыки, но сам он ничего не сказал.
– Названная невеста моя – Юлитта Двоекурова, внучка графини, – как ни в чем не бывало продолжал Сменцев.
Евтихий оживился, поднял голову.
– Это что с юродом целовалась?
– Она.
Какие у Романа «соображения», Евтихий себе не уяснял, однако почувствовал, что, может, и не врет он, может, и есть какие-нибудь «соображения». И что он задумал? Через юрода…? Через графиню…? Что бы ни задумал – промахнется, видимо. Тем лучше.
– Падешь, – сокрушенно и как бы про себя сказал владыка. – Силы много на себя напускаешь.
Но Роман Иванович только улыбнулся.
– Не напускаю, владыка святый. Мне мои силы известны.
– Это что княгиню-то Алинку отшил? – строго взглянув, молвил преосвященный. – Одно череп лошадиный, а тут девчонка вида соблазнительного. Ладно. Знаем мы вас, молодых кобелей.
Сменцев засмеялся ему в лицо и произнес нагло:
– Кого знаете, а кого, видно, и нет. Не всякий кобель кобелю брат. Вот мы, владыка, с вами одной масти.
Евтихий не знал, как это принять: дерзость или комплимент? Было похоже и на то и на другое.
А Роман Иваныч уже изменил и лицо и тон, прибавил почтительнейше:
– С вашей поддержкой, с вашими советами, преосвященный владыка, я твердо надеюсь устоять. Путь мой прям, и Господь да поможет мне не сойти с него.
– Аминь. Да… Так, так, значит. Будем уповать. Соображения ваши, конечно, ваше личное дело, я и не вхожу. Удивительно, какие соображения могут подвигнуть на столь несвойственный поступок… но умолкаю. Ваше, ваше дело. Я всегда готов, коли понадоблюсь, направить… Брак, значит, не брак?
– Не брак.
– И пусть с юродом целуется?
– Чем больше, тем лучше, – подмигнул Сменцев. Евтихий захохотал. Ему показалось, что он что-то начинает понимать.
– Да ведь юроду этому от утра до вечера всего и времени. Ой, не промахнись, Роман Иванович.
– Другие будут, – небрежно и нарочито загадочно промолвил Сменцев, пожимая плечами.
Заговорили об «юроде». И тут, казалось, вполне сошлись во взглядах. Издевательское языкоблудие Евтихия достигло крайних пределов; но мнения, догадки, суждения его были умны и проницательны.
Он не щадил теперь уже никого; внимательно, с удовольствием слушал Роман Иванович, прощая собеседнику все цветы его красноречия.
«Не глупая бестия, – думал Сменцев. – Яростен только, ярость оглупит – и провалится владычка».
Евтихий, в миру Евгений, барин по происхождению, не лишен был и образованности. Любил упоминать о старой дружбе с одним очень известным русским философом, умершим.
– Впрочем, – прибавлял он всегда, – был сей мой друг и блудник и пьяница.
Слушал Роман Иванович, – и на мгновение позавидовал преосвященному: так определенны были его вожделения. Не добьется он ничего – ярость оглупит; а добиться бы можно. Цель несоблазнительная? Нет, отчего же. Если он, Роман Иванович, а не яростный и слеповатый, мелкочестолюбивый владыка, пойдет в эту сторону, решит свернуть определенно, – сама цель преобразится, вырастет.
Задумался. «Замечтался!» – насмешливо прикрикнул он на себя в душе, опоминаясь. Грубо едкую, сочувственную реплику подал Евтихию на какое-то его последнее определение петербургских «блаженных» салонов – и встал.
Было уже поздно. Евтихий тоже поднялся. Злое оживление его не упало, но перешло просто в злость; вспомнил, что Роман женится и в сущности ничего ему так и не сказал, – для чего, почему. За советом пришел! Как же! На ниточку не открылся.
Роман Иванович заметил мгновенную тень на архиерейском лице и понял ее. Поспешил отвлечь мысли владыки в другую сторону.
– А еще просьба покорнейшая к вам: не примете ли одного жаждущего ваших наставлений? Иеромонах Варсис, академик. Он здесь опять. Очень просил меня замолвить словечко.
– Варсис? – недоуменно поднял брови преосвященный. – Какой такой Варсис?
И вдруг захохотал:
– Э, да как же! Братушка. Чернявый, бойкий. Помню, помню. Дрянь, сластена, прихвостень. К епископу Николаю все подъезжал. Откуда еще взялся теперь?
– Он парень неглупый, – уклончиво ответил Роман Иванович. – Вы его, владыка, недолюбливали, он знал это и вас боялся. А очень слушал. И постригся-то рано так не без… не умею выразиться… не без косвенного вашего влияния, что ли.
– Дружите с ним?
Опять уклончиво пожал Сменцев плечами.
– Несколько. Он сообразительный. Ну-с, приехал сюда с лета, какую-то работу писать… Об аскезе в древнем христианстве, кажется… Братушки-то надоели ему…
– Понятное дело. Ведь это, я вам скажу…
Роман Иванович улыбнулся выразительному жесту владыки и настойчиво повторил:
– Так если вы позволите ему как-нибудь…
– Пускай приходит, приму, погляжу, – снисходительно разрешил владыка. – Помнится, что блудник был, – погляжу.
– Я и графине думал его представить. Интересуется он. Владыка выпятил губы.
– Что ж? Да пришлите его ко мне пока. Там посмотрим.
Этим Роман Иванович остался доволен. Уже видел, что хитрый монах заинтересовался Варсисом, главное – дружбой их. Послать скорее Варсиску. Пусть прибеднится, поползает. Да уж он сумеет, как надо. А если Варсиска через Евтихия попадет в салон графини, а не через него, Романа Ивановича, будет гораздо лучше. Несравнимо лучше.
– Нынче у Лаврентия он был, – усмехнувшись, сказал Сменцев.
Владыка совсем оживился.
– Ага. Ну, что ж сказал? Да он и с юродом, пожалуй, знаком? Ездил на поклон? Успел?
– И не думал. А про Лаврентия, знаете, владыка, что сказал? Я, говорит, сам, будь я поглупее, этаким же Лаврентием мог бы стать, коль не почище, и так же, по-мужицки, по-дурацки, буйную голову бы сложил, как он вскорости сложит.
– Ишь ты, ишь ты! – довольно засмеялся преосвященный. – Да он у вас и во пророцех ходит. По-мужицки, по-дурацки! Именно по-дурацки. И сложит. Еще скорее друга своего, юрода, сложит. Именно. Присылайте братушку, Роман Иванович. А коли дьявол в нем блудный – повыколотим.
Расстались очень благодушно. С лобызаниями; и чуть не до самой передней проводил гостя пышный иерарх, шелестя шелком лиловой своей рясы.
Глава двадцать четвертая «Oui»
Катерина Павловна Хованская, «тетя Катя со Стройки», сидела у Литты в классной и рыдала.
Уже с полчаса рыдала. Литта и каплями ее поила, и всячески уговаривала, наконец бросила: пусть выплачется.
Приехала даже не к Литте, – но графиня ее не приняла: занята, у нее княгиня Александра Андреевна и не велено принимать никого.
С ужасом думала Литта, что было бы, если б Катя у графини так же нелепо ревела. Все бы испортила. Но теперь-то все-таки что предпринять? Толку, главное, не добиться.
– Катя, да какие бумажки нашли? Ты их раньше видела? Откуда они у него? Брось плакать, ну ради Бога. Ведь это хуже.
– Я… я… куда кинуться… не знаю… Ничего не понимаю… К Сменцеву этому… Да где он? Глаз не показал… А это наверно, наверно как-нибудь через него…
– Полно, Катя. При чем Сменцев?
– А при том… При том… Потому что это наверно через рыжую… Алексей пропадал… И никогда он ни о чем об этом сам не думал…
Литта всхпыхнула, нахмурилась:
– Ты говорила? Кому говорила? Или тебе сказали, что бумажки от Габриэль?
– Никому я ничего не говорила, – с сердцем ответила Катя. – И бумажки по почте присланы, адрес ремингтоном, я конверт видела.
– Ну так пустое, Алексея завтра же освободят. Мало ли кому по почте…
Катя залилась новыми слезами.
– А там… нашли поправки… Алексеевой рукой… О, Господи! Рыжая, рыжая явно прислала, хоть он и не говорит. Кто же?
– Говорю тебе, пустое! – прикрикнула Литта. – Ничего с твоим Алексеем не сделают. И станет Габриэль по почте, – ведь не последняя же она дура.
Впрочем, подумала, что от Габриэли всего можно ждать, а этого Алексея Алексеевича она, видимо, «революционно развивала», втягивала в какие-то «идеи с воплощениями».
– Видишь, Лиля… Ну хорошо, ну вот я успокоилась. Видишь, он давно какие-то пакеты приносил, рассматривал и уносил. Когда по почте – он очень нахмурился и, наверно, тоже думал унести, да не успел, вечером сидел над ними, а после пришли… Ужас, ужас. Я с утра кидаюсь – не знаю, куда кинуться. Лиля, да я хоть к отцу твоему. Ведь может же он…
Литта соображала. Прежде всего надо, чтобы Катя никуда не бросалась и успокоилась. А потом узнать, в чем дело, толком. Всего лучше через Сменцева. Если замешана Габриэль, то ему это легко выяснить. Какие бумажки? И при чем Хованский? Пустяками кончится, но надо, главное, чтобы Катя не напутала.
Было не поздно, однако день уже смерк. Литта зажгла сама лампу и только что хотела позвать Гликерию, попросить чаю, как дверь отворилась, и Гликерия вошла, тихая и торжественная.
– Гликерия, пожалуйста…
– Ее сиятельство просят пожаловать барышню в маленький салон.
– Что? Меня? Зачем?
– Ее сиятельство просят пожаловать…
– Ах, да что там? Ну сейчас. Чаю подай нам сюда, Гликерия, слышишь? Катя, подожди одну минутку, я вернусь. Сиди, необходимо еще поговорить. Увидишь, все обойдется.
С нетерпением, думая о Катином деле, шла Литта к бабушке. И что только понадобилось?
Старинная лампа под белым складчатым абажуром наполняла «маленький салон» графини приятным полусветом.
– C'est vous, mignonne? – протянула графиня непривычно ласково. – Venez, venez done[48].
Литта поздоровалась с княгиней Александрой, которая, к ее удивлению, была еще тут. И тоже какая-то растроганная торжественность лежала на лошадином лице.
– Nous avons a vous parler[49], – продолжала графиня.
Литта села; с недоумением глядела то на бабушку, на черную ее пелерину, то на княгиню.
– У меня просят вашей руки, – проговорила графиня и сделала паузу.
Мгновенно сообразив, в чем дело, хотя и не понимая еще, зачем тут Александра с лошадиным лицом, девушка вспыхнула и сжала зубы.
– Вы, конечно, знаете – кто. Литта молчала.
– Признаюсь, это… эта… demarche меня крайне удивила. Я не ожидала… Мы все ожидали не этого от нашего молодого друга. Видите, я откровенна. Объяснения, полученные от… милого свата вашего, – она указала на княгиню, – конечно, говорят многое… Но я удивлена. D'autre part il na pas de position. Je crains que votre pere ne s'oppose…[50]
Княгиня вмешалась, быстро заговорила по-французски, видимо, повторяя уже сказанное, насчет «position», говорила о видной и близкой профессуре, еще о чем-то…
– Главное, чтобы вы не были против, chere, chere, comtesse, – закончила она. – Я так светло смотрю на этот брак…
– Alors, vous l'aimez?[51] – сказала торжественно и растроганно графиня, повернувшись к внучке.
Литта опустила глаза. Сквозь сжатые зубы:
– Oui.
– Soyez heureuse, petite…[52]
Притянула Литту на сухую грудь и, неловко прижав ей голову, поцеловала.
– Soyez heureuse, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь, да благословит вас Бог. Это человек высокой души. Его надо уметь ценить. Слушайте его. Без страха в его руки вручаю я l'unique enfant de ma pauvre fille…[53]
Графиня скупо прослезилась. Литта перешла в объятия княгини Александры, которая, прикладывая сухие щеки свои к ее лицу, шептала:
– Aimez le, votre maitre. Aimez le, il en est digne[54]. «Да фу ты, что с ними? Кончать бы!» – с тоской думала Литта.
– Grand-mere, – прошептала как бы в смущении, – puis-je me retirer?[55]
Графиня отпустила ее величественным жестом.
– Allez, mon enfant, Господь над вами. Allez. Vous verrez votre fiance se soir.[56]
Нет. Она все-таки не думала, что так будет тяжело. Первая капля лжи, а ведь ее предстоит целый водопад. Месяцы кривлянья, умолчания, хуже – притворств. И таких гадких. Тошно, тошно…
Вздор. Не назад же идти. Так надо, так она решила, так будет. Это все малодушие.
Сменцев, значит, приедет вечером? Вот сказать ему о Хованском. А что же Катя? Объявить ей, что выходит замуж за Сменцева? Или нет?
Катю Литта нашла в классной за чаем, за разговором с Гликерией, и успокоившейся, почти веселой.
– Ну что? – подняла она голову. – Можно мне к графине? Как ты советуешь?
Гликерия тихо вышла, тихо притворив дверь.
– Да какая ты красная. Спорила с бабушкой?
– Нет, Катя, вот что…
И, наливая себе чай, Литта медленно и спокойно стала убеждать Катерину Павловну совсем успокоиться, мирно сидеть дома, а уж она, Литта, обо всем позаботится. Графиню лучше Кате не видеть пока. Толку не будет. Нынче вечером, когда приедет Сменцев…
– Ты его увидишь сегодня же? – вскрикнула обрадованная Катя.
– Да. Вот и поговорю. Сегодня ведь решилось, он мой жених, – прибавила она невольно, почти проговорилась.
– Что? Что?
– Он мой жених, я выхожу за него замуж.
Катя так и сидела с выпученными глазами. Потом дух перевела.
– Вот как. Скрытная! Еще, верно, на Стройке влюбились друг в друга?
Литта поморщилась. Начинается. Опять. Однако нечего делать. Все равно Катя узнала бы.
– Видишь, Катя… Тут все очень сложно. Мы говорили с ним и летом, это правда. Я, верно, еще учиться буду после свадьбы. Может быть, за границу поеду…
Катерина Ивановна не обратила внимания на уклончивость ответа. Уже думала о своем, о том, что это хорошо, Литта, наверно, позаботится о ее деле, сегодня же увидит Сменцева, разузнает, пристанет… На Сменцева Катерина Павловна очень надеялась, хотя сама не знала, почему.
Сразу повеселела.
– Вечером потелефонируй мне, да? Что он скажет. Или как? Лиля?
Едва успокоила ее Литта, обещав приехать сама завтра утром. Взяла обещание до тех пор ничего не предпринимать.
А когда уехала, наконец, эта бедная тетя Катя, – Литта села в кресло и неподвижно, опустив руки, как очень, очень усталый человек, просидела до самого обеда. Старалась не думать ни о чем. Силы собирала для предстоящей семейной сцены.
И ничего, справилась.
Были и поцелуи (слава Богу, мало), и благословения в графинином будуаре, бабушкины и отцовские. Потом разговоры длинные.
Роман Иванович держал себя просто, с большим достоинством, несколько даже строго, и Литта была ему за это благодарна. Наедине они не оставались, – как спросить его о Хованском? А вечер шел к концу.
Свадьбу решили сделать очень скромную, – графиня сама сказала: «нечего с этим выставляться, не такие времена, чтобы о пирах думать», – и сейчас после нового года: теперь не успеешь, пост через две недели.
Этого Литта не ожидала, забыла о посте. Два месяца ее муки. С облегчением и почти с нежностью взглянула она на Романа Ивановича, когда он сказал:
– Мне надо будет отлучиться по делам из Петербурга, на месяц или полтора. Как ни грустно. Дела нуждаются в устройстве.
Слава Богу, хоть не будет этого официального жениховства. И она заспешила:
– Да, да, я знаю. Конечно, поезжайте. Вы когда, скоро?
– Думаю недели через две-три. В декабре буду обратно.
– А наше собрание в четверг? – начала графиня. Заговорили о собрании.
Литта тихо встала. Тихо вышла в соседнюю, полуосвещенную гостиную. Глядела в незавешанные окна, голубые от уличных фонарей. И не слышала, как подошел к ней Роман Иванович. Он уже простился с графиней, уходил.
– Юлитта Николаевна…
– Постойте. Мне надо вам сказать несколько слов. Нет, нет, не об этом, это уж все решено. Кончено. А вот… Что вы о Хованском знаете? Что за нелепая история? Это ваша Габриэль? И что будет? Что надо делать?
Бледный – в голубом отсвете окна Роман Иванович казался еще бледнее. Красивые брови его сжались. Но он улыбнулся.
– Пусть это вас не беспокоит. Передайте Катерине Павловне, что все устроится через несколько дней. Вам я скажу больше: да, это Габриэль, – из чистого идиотства и легкомыслия. Но она обезврежена, и самой ей ничего не грозит. Я ее отправил в Лондон с верным человеком и в верные руки. Не скоро выберется оттуда.
– Но… как же это?
– Устроилось. Жаль, надо бы неделей раньше… Алексей был бы цел.
– А теперь? И какие это бумажки? Серьезные? Прокламации?
– Я сам не ожидал. К счастью, Габриэль мало знает, и если попалось ей что-нибудь, то случайно. Это она за свой страх возилась с Алексеем… И на чужой счет, – прибавил он зло. – Ну, могло и хуже выйти.
– Но… какие же это были прокламации? Роман Иванович помолчал.
– К сожалению, если я верно успел узнать, нехорошие. Насчет войск и присяги… Ну, это потом, все равно… Так, видите ли, может кончиться высылкой Алексея. Больше ничем.
– Ах, Боже мой!
– Оставьте. Хуже могло быть. А это ничего. Катерину Павловну успокойте, главное, – пусть сидит смирно. Устроится. До завтра, милая… Юлитта Николаевна.
Почтительно нагнулся, взял ее руку и поцеловал.
Сделал это так просто. Так естественно и твердо. Что же? Ведь он «жених». Он и завтра придет. И послезавтра. И опять руку поцелует.
Он пришел и завтра, и послезавтра, и много дней подряд приходил. Наедине с Литтой он был совершенно так же почтителен и строг, как при других. Со строгой нежностью целовал ей руку – Литта привыкла, ведь так надо.
Иногда они долго беседовали в гостиной, в уголке, и на графинин взгляд казались очень нормальными, приличными женихом и невестой.
На собрание Литта не пришла: сказалась больной, с молчаливого согласия Романа Ивановича.
– Графиня была весьма недовольна вашим отсутствием, – передавал Литте Сменцев на другой день вечером, когда он сидели вдвоем в гостиной против двери графининого маленького салона. – И знаете, лучше в следующий раз не пропускайте. Стоит ли? Чрезмерная у вас нервность. Не ожидал. Явление любопытное и крайне поучительное. Его надо понимать.
Литте сделалось стыдно.
– А что было?
– Этого не расскажешь. Ну, Федька явился. За ним телохранитель в синей блузе до пят, босой и с жезлом. Федька был не в ударе, все о вас спрашивал и скоро уехал.
– Вот видите. Это опять бы целоваться полез. Не могу я… Роман Иванович усмехнулся, пожал плечами.
– И нервность и брезгливость. Однако вы барышня, Юлитта Николаевна. С добрым чувством советую: следите за собой.
Так много было в словах его снисходительной насмешливости, что Литта вспыхнула и рассердилась. Не на него – на себя. Ведь он прав. Захотелось сказать, как дети говорят: «да, да, не буду больше». Но пролепетала:
– Пусть барышня. Что вам за дело? А он опять пристыдил ее:
– Не капризничайте. Мечтаете о серьезных делах, а сами ребячитесь. Мне… очень жаль.
Помолчали. Глядя на покрасневшее лицо девушки, на ее дрожащие, опущенные ресницы, Сменцев думал, что попал верно, что она сейчас его, а не себя считает правее, что его замечание, его суд – ей важны, она уже считается с ним. Да, но опасно перетянуть струну.
– Юлитта Николаевна, – сказал он как ни в чем не бывало. – А дела-то наши выясняются. Сегодня за верное узнал…
– Какие дела?
– Алексеевы. Недели полторы еще посидит, а затем самым тихим манером его вышлют… не бойтесь, только за границу, без шума. Что за беда, человек состоятельный. В свое время вернут. Вы предупредите Катерину Павловну заранее. Наверно, с ним поедет.
– Господи! Да как возможно? Из-за такого вздора.
– Это на чей глаз. Времена теперь, сами вы знаете, тугия. А та бумажка, которую у него нашли, острее других. Да хотите взглянуть? Я вам ее принес.
Литта вспыхнула от любопытства и удовольствия.
– Здесь нельзя, – прошептала она, взглянула на раскрытую дверь в маленький салон; там графиня восседала за рабочим столиком, а насупротив (только что явился) сидел старый, молчаливый генерал – из благочестивых.
– Нельзя; бабушка – она зоркая. Начнутся расспросы. Лучше после, когда будете уходить, передайте мне.
Роман Иванович улыбнулся, хмуря брови.
– Нет, я вам не оставлю. Не оттого, что боюсь обыска у графини, – прибавил он шутливо и ласково. – А мне эти штучки сегодня же понадобятся. Вам показать очень хотел.
– Ну, тогда дайте.
И Литта решительно встала.
Он протянул ей несколько сложенных вдвое листков. Отойдя с ними к лампе, Литта принялась за чтение.
Сменцев оглянулся на дверь салона: графиня была занята своей broderie[57] и генералом, не смотрела в их сторону. Тихо встал Роман Иванович и пересел на другой стул, ближе: всматривался внимательно в серьезное лицо девушки. Она, читая, по-детски шевелила губами, – ему это понравилось.
«Сейчас, наверно, примеряет к своему Михаилу, – подумал Сменцев, – что бы он сказал, как бы ему понравилось?»
Это были, действительно, листки, из-за которых пострадал Алексей. Роман Иванович считал их удавшимися, но не хотел спешить, велел отпечатать как можно меньше. В Париж думал пока свезти, да вот Литте показать. Очевидно, Любовь Антоновна не усмотрела, и несколько экземпляров попало к Габриэль. Не может до сих пор Сменцев без холодного бешенства вспомнить о Габриэль. Экая дура! Почте доверила. Ну, теперь все экземпляры у него. В свое время можно, кое-что изменив, перепечатать.
– Вот, возьмите, – сказала Литта, протягивая бумажки назад Роману Ивановичу.
Лицо у нее зарумянилось и глаза блестели.
– Я не знаю, мне очень нравится. Очень. Это вы сделали? Роман Иванович уклончиво пожал плечами.
– База историческая. Не читали знаменитый «Катехизис» декабриста Муравьева для солдат? В этой же форме написано, и содержание приблизительно то же, только менее идеально. У нас есть и вариант, еще суженный и совсем конкретный. Сейчас не захватил.
– Хорошо, что присягу не отрицаете, а громадное значение ей даете и совсем другое содержание, – задумчиво проговорила Литта. – Помню, Флоризель мне сказал…
– Что сказал?
– Нет, ничего, так, о солдатах тоже. Молодые ведь мужики они, и присяга для них, для большинства, первое важное переживание. Они о ней долго еще думают. Первое – как это? – ощущение важности слова. Для многих – религия тут своя завязана.
– Ну, конечно. Крепкий узел… завязан. И нитей не надо рвать, а затягивать другим узлом, – свободы.
– Мне хотелось бы иметь эти листки…
– Нельзя. Потом. Это ведь не шутки, Юлитта Николаевна. Помолчал и прибавил, – совсем тихо:
– У меня есть верная оказия. Хотите Ржевскому написать? Литта встрепенулась.
– Ах, да… Можно?
– Покороче. И самое необходимое. О… о планах ваших, ближайших, будете упоминать?
– Не знаю… Нет, не буду, – решительно сказала она. – Не буду, не стоит, ведь уж недолго, и лучше я сама… Правда?
Графиня позвала их из маленького салона.
– Конечно, – сказал Роман Иванович, вставая. – Дня через два приготовьте письмо. А Катерину Павловну завтра же предупредите.
Литта хотела было спросить его еще о многом: и о том, что Флорентий, и куда и когда «по делам» уезжает сам Роман Иванович… но не спросила, не посмела. Она боролась упрямо с нарождающимся вниманием, интересом к тому, что он делает, боролась во имя сохранения своей позиции: верит настолько, что принимает от него услугу – и конец. Услуга важная, она связывает, но… когда-нибудь, чем-нибудь Литта надеется отплатить. Отказаться ведь все равно нельзя. Выхода нет иного.
Лежа в постели, в этот вечер Литта еще раз продумала свое положение – совсем объективно, как ей казалось.
Письмо, привезенное Флорентием (передал Сменцев), не смутило ее. Только улыбнулась на слова: «Что это за Сменцев? Влюблен в тебя?»
Не влюблен, – это знает Литта твердо, почувствовала бы давно. Услугу оказывает ради Михаила: Михаил ему нужен, разве он скрывает?
Все понятно. Правда, сам Сменцев не вполне понятен, и до сих пор чувствует она себя при нем так странно… иногда; но не все ли равно в конце концов, – какое ей дело?
Довольно, довольно. Через два-три месяца – свобода, и все будет хорошо. Вместе с Михаилом подумают они и о Сменцеве, и об его деле…
А свободу она должна добыть сама, помимо Михаила. На свой страх.
Листки хорошие… Понравились бы Михаилу. Отчего Флоризель не свез?
Хорошие… Все люди тоже хорошие. И Флоризель… И все…
Литта заснула.
Глава двадцать пятая Крепкие люди
Поехал нынче Сменцев к Власу Флорентьевичу открыто. Старика легко было застать в предвечернее время одного.
Сменцева провели в тот же маленький кабинет. Там Влас Флорентьевич любил отдыхать в кресле, и его не тревожили. Но Роман Иванович вошел без доклада.
– Что, Власушка? – заговорил он, здороваясь. – Не стал ли меня с другого бока бояться? Я ведь к иеромонаху Лаврентию нынче ездил, чай с ним пил, у графини на собраниях бываю, да это что, – а я на графининой внучке женюсь, ей-Богу.
– Врешь? – выпучил глаза Влас Флорентьевич.
– Пес врет, папаша. Женюсь, и приданое хорошее беру. Пока что, впрочем, надо у тебя перехватить малую толику.
Старик прищурил левый глаз и погладил сивую свою бороду.
– Ну, кто тебя разберет?
– А вот, разбирай.
Сменцев уселся в кожаное кресло напротив и взял со стола сигару. Курил редко, только сигары, очень хорошие.
– Что ж, все-таки не пустишь в газетину? По церковному бы вопросу, а? Я с самим Антипием хорош. Что, право, как обездолили русский народ, свободу совести обещали.
– Полно-ка дурить, – строго сказал Влас Флорентьевич. – Говори толком: серьезно женишься?
– Женюсь, папенька. Есть соображенья.
– Соображенья… Флорентий у тебя где?
– При своем месте. А не хотите ли вот эту статейку напечатать? С Флорентием эта писана, не с Антипием, – смотрите.
Старик не взглянул, замахал руками.
– Не надо, не надо, и не кажи мне. Знать я не хочу ни про какие ваши дела. Стар стал. Мы тут помаленьку да потихоньку свое, а вы, козыри молодые, как знаете, по своим временам.
И, опять прищурившись, сказал:
– Что ж ты сам-то вяжешься? Флорешку бы окрутил, коли «соображения»…
– Ладно, обдумано. Понадобится – и Флорешку окрутим. Ты, вот, раскошеливайся-ка, папаша; будь по-твоему, еду на последях в Париж погулять, мальчишник там справлю. В январе – свяжут соколу крылья, обвенчают твоего Романа-царевича.
– Царевна-то хороша ли?
– Живет.
– Царицей ладной будет… коли что?
– Далеко загадываешь, Власушка. А девка упрямая. Ну, нечего об этом, – прибавил он серьезнее. – Выйдет хорошо – хорошо, не выйдет – не пропадем. Славные нынче времена, для всякого дело есть. Особенно, если с умом…
– Весел ты, Роман Иваныч, погляжу я на тебя, – промолвил старик. – Даже сердце радуется. А по-нашему, так времена – держи ухо востро.
– Ты, небось, и держишь. Про Федьку-то Растекая все пишут, кому не лень, а у тебя – хоть бы словечко.
– Про Федьку? Петрушу моего, редактора, призывали: дайте, говорят, честное слово, что ни строки в газете вашей о Федьке не будет. Запретить вам не можем, но слова требуем. Вот как дело было. Что ж, газету из-за прохвоста губить? Да пропади он пропадом.
Роман Иванович засмеялся.
– Конечно, черт с ним. И какая беда, полижется с титулованными бабами, вот и все, на том и останется. Знаешь, Власушка, Лаврентий позанимательнее.
– Пошли нынче дела, – качнул старик головою. – Ну, этого, помяни мое слово, скоро припечатают.
– Может быть. Люди его останутся. Влас Флорентьевич, ты денежек-то давай. Тысчонки две либо три. На славу хочу погулять во граде Париже. Да, у Флорентия есть?
– Уймищу увез нынче. Перестройки, что ль, у тебя?
– Именно перестройки. Самое время горячее.
Как всегда, Влас Флорентьевич выдал ему «наличными» «меж четырех глаз».
Разговорился старик. Василий принес вина, бисквиты какие-то; Сменцев на этот раз не отказывался.
– В крепких людей верю я, Романушка. Сильно верю. А коль поверю – тут уж мне ничего не жалко. Бери, делай, лети, куда хочешь. Потому не дай я тебе, ты и без меня обойдешься; а тут, гляди, и моя капля меду будет, вспомянешь старика.
– Именно. Не дашь – обойдусь. Это верно ты, Власушка. Крепкий человек и без помощи сделает свое.
Влас Флорентьевич совсем разошелся. Поцеловались они со Сменцевым.
– Я сам крепкий, голубушка. Мальчонком-то десятилетним в опорках в Москву пришел. Один, как шест на перекрестке. В кармане гривенничек всего и болтался. Где уж тут, от кого помощи ждать? Пошел первым делом к Иверской. Да на весь-то, на гривенник-то, на последний, свечу ей, Матушке. Вот оно и сказалось: помогла, Заступница.
И, подмигнув, прибавил:
– А с тех пор, сколько годов в Москве жил, так к Ней и не удосужился и жертвовать – ничего не жертвовал…
– Теперь с тебя не гривеннички. Теперь иные свечи тебе ставить, Власушка, – улыбаясь, сказал Сменцев.
– Верно. Вот люблю друга. И умен же ты, Роман Иванович. Король-человек.
Долго они еще беседовали, попивая темно-рыжее согретое вино. Может быть, никто и не знал – грозного и сдержанного с одними, хитрого и льстивого с другими – Власа Флорентьевича таким, каким видывал его Сменцев и видел в этот вечер.
Расстались нежно.
В громадной передней, внизу, Роман Иванович столкнулся со Звягинцевым, длинным журналистом-культурником.
– А, здравствуйте! Едва узнал вас после деревенской косоворотки. Послушайте, что же это такое?
– А что?
– Сам-то дома… Влас Флорентьевич?
– Не знаю. Был дома, собирался куда-то.
– Ну, все равно, я к Петру Власовичу. Нигде его застать не могу. Бегаю, бегаю… Нет, послушайте, ведь какое безобразие…
– О чем вы?
– О Хованском, конечно. Что за чепуха с ним произошла?
– Право, я очень мало знаю…
– И не хотят печатать. Я приготовил статью, – вопиющая ведь нелепость! Ни за что. Этакая трусость. Об этом знаменитом Федьке – тоже ни слова, повернули. Есть же предел, Роман Иванович, согласитесь.
– Я в газетном деле ничего не понимаю. Вероятно, осторожность требует…
– Осторожность! Нет, прощайте, бегу к Петру Власовичу… Дело газетное – дело культурное прежде всего, а ведь это же варварство…
«Беги, беги, – думал Сменцев, выходя. – Ничего ты от Петруши не добьешься. Папенька-то умник, держит его крепенько».
Через день был еще Роман Иванович у Катерины Павловны. Дом на Каменностровском, где жил Алексей Хованский, был строен им же, и квартира отличалась такими же фантастическими углами, как и знаменитая дача в Новгородской губернии.
Катерина Павловна вся была в суете сборов, но истерики свои бросила, казалась бодрой и даже веселой.
– В четверг выйдет, – встретила она Сменцева. – А через три дня двинемся. Я думаю в Швейцарию сначала, а потом в Париже обоснуемся. Ах, простите, я вас не поздравила.
– Спасибо.
– Скрытники вы оба с Литтой. Вот Алексей изумится. Да, одно мое горе, как с детьми без человека? Фрейлейн не едет. Просто не знаю.
Бледненький Витя, который стоял тут же, у кресла матери (не отставал от нее ни на шаг последние дни), сморщил белые свои брови и задумчиво сказал:
– Не надо никого. Папа с тобой будет, я буду…
– Ты? Вот мило. А за тобой кто смотреть станет? Витя исподлобья взглянул на мать и самолюбиво вспыхнул.
– Конечно, никого не надо, – поспешно проговорил Роман Иванович, улыбаясь в усы. – Что вы беспокоитесь? Одна Вавочка ведь маленькая.
Катерина Павловна заболтала о другом, о том, как она боится за Алексея: заскучает.
– Работы не будет, – какая ж ему на чужбине работа? Знакомых нет…
«Если бы ты знала, что там Габриэль, – подумал Роман Иванович. – А прекрасному Алексею надо будет впоследствии шепнуть, если заскучает. Вдали эти игры безопасны».
Извинившись, Катерина Павловна вышла на минуту по зову горничной. Витя двинулся было за матерью – и остался.
Некоторое время они молча смотрели друг на друга, – Сменцев и мальчик.
Потом Витя с усилием, волнуясь, сказал:
– А вы тоже поедете за границу?
– Поеду.
– Скоро?
– Да, очень скоро. Помолчали.
– Вы к нам с деревни не пришли, – сурово сказал мальчик.
Роман Иванович ответил серьезно и просто:
– Я занят был, Витя.
– На паровозе ездили?
– Нет, теперь другое. Тоже хорошее и страшное.
Опять помолчали. Опять начал Витя, тише, почти шепотом:
– Я хочу ничего не бояться. Я уж сейчас почти ничего не боюсь. Когда совсем вырасту, я хочу быть, как вы. Хорошо? Только вы никому не говорите, пожалуйста.
И он поднял на Романа Ивановича светлые глаза. Такое в них было обожание, что Сменцев даже почувствовал себя растроганным слегка и удержался от усмешки. Сказал серьезно:
– Это хорошо, очень хорошо. И никому не скажу. Пусть будет наша тайна.
Вспомнил Стройку, вспомнил первое знакомство с Лит-той. И как она с злорадством заметила ему, что Витя его ненавидит. Точно и тогда не знал Роман Иванович, как этот Витя втайне обожает его. Все вот такие тихие, скрытные, тонкие и самолюбивые дети его обожают. Еще как!
Пришла Катерина Павловна. Поговорили немного. Сменцев встал.
– Не буду я на Лилиной свадьбе, досада какая! Витя, иди, дружок, слышишь, тебя фрейлейн зовет. Иди же, простись с дядей и ступай.
Роман Иванович видел, как Витю передернуло от слова «дядя». Он, Роман Иванович, таинственный герой его, которого ветер слушается, который ездит на паровозах и еще что-то делает, лучше и страшнее этого, – вдруг «дядя». О, какая мама странная! Она ничего, ничего не понимает.
Сменцев, хмуря брови, протянул Вите руку:
– До свиданья, Витя. Желаю вам быть здоровым, хорошо доехать. Не забывайте.
И крепко, точно взрослому, пожал он маленькую, холодную лапку.
Уже не слушал, что говорила Катерина Павловна, провожая его. Вышел на узкий, грязный проспект с рыжим, вчера выпавшим – сегодня распустившимся снегом, с пронзительными звонками трамваев.
Дневные, осенние сумерки стояли в воздухе, не двигаясь. Ни туда ни сюда. Ни в день, ни в ночь. Казалось, они, серые – вечные над сырым городом; всегда были, всегда будут. Они, – его, он родил их, они нужны ему, и взойди солнце – спрячется город, уползет в землю, как дождевой червяк.
Все покончено. Нынче после обеда еще к Литте в последний раз, prendre conge[58] у величественной графини, – и до свиданья. От Флоризеля было сегодня письмо: на Шипке спокойно. Роман Иванович уезжает в Париж с легким сердцем.
Глава двадцать шестая «Пострадавшие»
Грустные глаза Жени Рудаковой. Ее косы черные, тугие, как встарь – венцом вокруг головы. Личико маленькое, изжелта-смуглое, осунувшееся – и беспокойное, и равнодушное. Прежде совсем иное было в нем выражение, и оттого кажется, что Евгения Логгиновна так постарела, изменилась. А ведь она старше Романа Ивановича разве года на два.
– Так у вас нынче журфикс, Женя? – спрашивает Роман Иванович.
– Да, Ромочка. Останьтесь непременно. Скука ужасная бывает. Но что ж делать-то?
Сидят в небольшом, узком салончике обыкновенной, не очень дорогой, но и не очень дешевой парижской квартиры. За стеклянной стеной – столовая. Там над столом уже горит лампа. Затянутая горничная расставляет чашки на тарелках.
– Ах, опять эта Луиза по-своему, – стонет Женя. – Вот не могу приучить, чтобы все чашки к моему месту, к спиртовке, ставила. Ну, да все равно. Манюся, у тебя фартучек расстегнулся. Поди к маме.
Кудрявая девочка лет шести, которая тут же, на ковре, тихо играла кубиками, едва повернула голову и не пошла.
– Вот видите, Ромочка, не слушается. Почти не говорит со мной. А с Луизой болтает. Отвыкла от русского языка. И подумать, что никого у меня, никого и ничего нет, кроме этого ребенка.
– Не узнаю вас, Женя, – проговорил, хмурясь, Роман Иванович. – Все жалуетесь. Пятый раз вижу вас за эти несколько дней, и ничего вы мне толком о себе не рассказали, только стонете.
Женя вздохнула. Да, конечно, изменилась. Ведь почти десять лет прошло с тех пор, как они, оба юные, оба несчастные и оскорбленные, но живые, сильные молодостью, – встретились там, на севере, в ссылке. Она уж кончала… только год прожили вместе, но было так славно. Не забыть этого года. Влюблена? Пожалуй, да. Конечно, да. С тех пор чего-чего не пережилось, – подумать страшно! – а это не забылось. И когда увидела его теперь, нежданно, – руки даже затряслись. Помолодела на мгновенье, а потом стало еще скучнее жить.
– Я был влюблен в вас тогда, Женя, – сказал Роман Иванович, будто подслушав ее мысли. – Немножко, но кто знает, если б вы не уехали…
Она вспыхнула.
– А я уехала. И что потом было, Ромочка!
– Знаю, я ведь не упускал вас совсем из виду. Порадовался, что вы за Ригеля вышли. А вы несчастливы.
– Да, нет, Ромочка, не то! – смешалась она. – Исаак Максимович великолепный человек, мы очень дружны… Но он такой деятельный, вечно занят, в делах… А я от всего отпала как-то. Жизнь меня сломила, Ромочка.
Он встал и, хмуря брови, прошелся по маленькой комнате. Женя сидела, бессильно опустив руки. Это была ее привычная поза.
– Мы все такие, право, – сказала она, точно извиняясь. – Исаак бодрый, но он исключение. Ведь против жизни не пойдешь. На стену не полезешь. От России отвыкли. Делать буквально нечего. Иным как бы только прокормиться. Поженились, замуж повыходили. У меня вот, слава Богу, ребенок. Кто поспособнее – к искусству потянулся. Маруся Зыкова, например, лепит. С художниками сошлась. А то вот эти журфиксы. Нарядимся в хорошие платья, у кого есть, и в гости друг к другу ходим.
Роман Иванович остановился, усмехнулся вбок и сказал:
– Бедненькая вы, Женичка. Очень уж распустились. Подтянуть вас некому. Исаак-то Максимович чего же смотрит?
Женя робко зашептала:
– Ромочка, я вам скажу: не верю я в его бодрость. Обманывает себя. Дела его – как колесо: вертится на одном месте, ну и ладно. Я не вхожу, а все-таки видно же: либо пустяки, либо распри разные, мелкие истории, ну, он хлопочет, улаживает… Скучно, ох, как скучно. Свежий человек, когда приедет, так два месяца волосы на себе рвет: это, мол, вы живете? А через два месяца обтерпелся, привык – и сам такой же.
Роман Иванович хотел что-то сказать, резкое, кажется, но остановился: в передней хлопнула дверь.
– Верно, Исаак, – поспешно вскочила Женя. – Поздно. Манюлю надо уложить, да сама оденусь.
– В хорошее платье? Погодите, Женя, я хочу знать, с Ржевскими вы теперь как, в ссоре?
– С кем? Почему в ссоре? Вы когда же их видали? Ах, Наташу я ужасно всегда любила. Да и теперь она… приезжает сейчас ко мне. Давно, впрочем, отошла… от всех. А Михаил, – тот очень дружит с Исааком Максимовичем…
– Кто это со мной дружит? Про кого ты? – громко сказал сам Ригель, входя в комнату. – А, здравствуйте, Роман Иванович, мое почтение. Женька сегодня как вас ждала. А сама не одета.
– Я сейчас.
И Женя, подхватив девочку, которая заревела, выскользнула из комнаты.
– Мы о Ржевском говорили, – сказал Роман Иванович, с удовольствием глядя на длинную-длинную фигуру хозяина, чуть-чуть сутулую. Черная борода веером, приятное, смелое еврейское лицо, живые глаза, сближенные у переносья, московский говор без акцента – весь Ригель очень нравился Сменцеву.
– О Михаиле Ржевском.
– Да? – неопределенно поднял брови Ригель.
– Я знаю, что он жил месяц тому назад в Пиренеях. Но через друга моего, который к нему туда ездил, он передавал, что скоро будет в Париже. Что, еще не приехал? Письмо у меня есть к нему, да и вообще надо повидаться.
– Он был… – И Ригель снова поднял брови. – Захаживает… Признаться, недавно мы с ним сильно поспорили. Не понимаю этих дикостей. Такой человек замечательный – и вдруг…
– Это насчет чего же?
– Да нет, не принципиальный вопрос. Скорее философский. В дела он как-то нынче не входит. Устал.
– Значит, он в Париже. У вас бывает?
– Ну, уж на Женькином журфиксе вы его не увидите, нет! – захохотал Ригель. – Отшельник форменный, схимник. У меня изредка бывает, болтаем по душе. Вот, может, встретитесь как-нибудь.
Роман Иванович не стал дольше настаивать. Понял, что Ригель хочет спросить сначала Ржевского о нем, Сменцеве, и о том, хочет ли сам Ржевский с ним видеться.
Не то, чтобы Ригель подозрительно относился к Сменцеву, – жена так обрадовалась, столько хорошего насказала о старом товарище, и добродушный Ригель просто и хорошо глядел на приезжего «профессора». Сейчас подействовало и упоминание о письме к Михаилу, – любовное, конечно, письмо, а все-таки не отдали бы его кому-нибудь… Однако разговаривать о Ржевском с малознакомым человеком Ригель не стал пока что, – по обычаю.
Журфикс начинался; приходили всячески: в одиночку, с женами, в компании. Две простые дамы пришли в беленьких блузках, две «одетые». Явилась и Женя, – от нее слабо и нежно пахло духами, смуглое лицо оживилось, красноватый цвет нарядного платья скрадывал бледность.
Роман Иванович тотчас же заметил, что люди тут были всякие, – просто эмигранты, ничем особенно, кроме знакомства, с хозяевами не связанные.
И все-таки даже в столовой, за одним столом, они ухитрялись разбиваться на группы. По двое, по трое, говорили друг с другом довольно тихо, смеялись между собой, своему; остальные больше молчали. Общего разговора не было, да чувствовалось, что и не может быть. Развязный шатен средних лет, с шуточками и прибауточками, от которых несло Замойском или Пропадинском, громогласно рассказывал рассеянно улыбавшейся Жене какой-то анекдот про свою супругу; супруга, в кружевах, сидела рядом и слушала с любезным равнодушием привычки. Дамы обменивались порою какими-то мелкими замечаниями.
Ригель, хозяин, на конце стола говорил вполголоса с двумя гостями, молодым и старым, не обращая ни на кого внимания.
Чаю не хватало. Женя поминутно бегала за водой и подливала спирт в спиртовку.
Попробовал Роман Иванович заговорить со своим соседом, угрюмым, сгорбленным, молодым. Но ничего не вышло. Тот дико отшатнулся при первом вопросе, и глаза сказали ясно: «чего тебе? я тебя не знаю, ты меня не знаешь, и знать нам друг друга не для чего».
Высокая, черная дама, с еврейским носом и тысячными жемчугами на открытой шее, говорила о каком-то благотворительном комитете, – эмигрантском, конечно; она там председательствовала, что-то устраивала, и что-то у нее устроилось.
Было очень скучно, только не Роману Ивановичу. С интересом наблюдал он собрание «пострадавших». Потому что, действительно, это сплошь были «пострадавшие», одни более, другие менее, но все; и даже все, в сущности, за одно, за одну и ту же Россию. Пусть там они к различным партиям принадлежали или даже без партии, – сущность-то одна была в них. Но «страдание» не сблизило этих людей. Ни сблизило, ни разъединило, просто себе не дало ничего.
Конечно, это внешность, это какой-то нелепый «журфикс» одуревших от скуки людей, нелепо и безнадежно оторванных от родины. Однако и внешность была значительна; уже то, что такие «журфиксы» выдумались и посещались, открывало Роману Ивановичу многое.
Недалеко от Жени сидела девушка или женщина лет тридцати, узколицая, смуглая, из «неодетых»: в черной юбке, в темной кофточке с кожаным поясом. Сосед ее русый, плотный, похожий с виду на умного костромского мужика, заговаривал с ней, но она отмалчивалась. Глаза странно блестели; она подолгу останавливала их то на Ригеле, то на Жене; потом ресницы опускались и сжимались бледные губы.
О соседе ее, с лицом костромского мужичка, знал Роман Иванович, что это «пострадавший» серьезно, да и человек серьезный: из «полуповешенных», как Сменцев про себя называл таких ускользнувших от петли. Хотел вслушаться, что говорит он девушке с блестящими глазами. Она едва отвечает.
Вслушался: костромской мужичок, сам лениво растягивая слова, говорит что-то об авиации.
«Кто она? У Жени спросить».
И, улучив минутку, когда многие уже стали вставать из-за стола, толпясь и окончательно разбиваясь на группы, подошел к Жене, наклонился, спросил шепотом.
– Ах, вы про нее. Мета Вейн. Совсем недавно в Париже. Она прямо с каторги… В шестом году с Шурином работала. Бежала. Вечница была.
Девушка между тем тоже встала из-за стола и, кутаясь в белый шелковый платок, прошла в гостиную.
Торопливый, шепотный ответ Жени очень заинтересовал Романа Ивановича. «С Шурином работала»… Шурин – былая кличка Михаила. Хорошее лицо у нее. Недавно в Париже. Ну, если меньше двух месяцев – значит еще «рвет на себе волосы», по слову Жени. Похоже на то. А ведь она уж, верно, не на «журфиксах» только бывает, не одну «внешность» видит.
В первом салончике ее не было. Сменцев прошел во второй, рядом. Там стояла Мета, одна, у рояля, рассеянно перебирая какие-то книги.
– Вы недавно здесь? Мне Женя сказала.
Мета бросила книги, повела узкими плечами, кутаясь в платок, блеснула на Сменцева черным взором и не сразу ответила.
– Женя? Да, я совсем недавно.
Говорила она с сильным акцентом, но не еврейским. Роман Иванович, который по черным волосам готов был принять ее за еврейку, сообразил, что она, вероятно, эстонка, может быть, латышка, – из «простых», кажется.
– Вы уже видели Шурина? – продолжал Роман Иванович. – Я вот письмо ему привез, да и дело к нему имею, а все не попаду.
Мета глядела на него вопросительно. Ничего не сказала.
– Я старый друг Жени. Когда-то вместе в ссылке были. Но я не эмигрант и человек не партийный. Свои, однако, дела к Шурину имею и очень серьезные. Затем и приехал. Он передавал мне, что в это время будет в Париже.
– Он и есть здесь, – сказала Мета и взглянула доверчивее. – Какие ж дела? Он теперь без дел.
– Странно у вас здесь теперь. Мета оживилась.
– Правда? Вам тоже странно? А я опомниться не могу. Ехала оттуда – вот дожидала! Господи ж Боже мой, приехала – вот тебе. Шурин сидит – со всеми разошелся. Они – неведомо что. Исаак Максимыч кричит чего вам? Все хорошо, оживление в делах. А я не вижу, где кто, не понимаю. Как мертвецы.
Испугалась, что много сказала незнакомому, умолкла.
– Женя все видит, – ободряюще произнес Роман Иванович. – Но говорит – привыкнете, втянетесь.
– Я-то? – всплеснула Мета руками. – Да я лучше на край света убегу, чем тут в это такое втянуться. И ждать не буду, в Россию уеду.
– Подождите. Поторопитесь – даром пропадете. Шурина лучше слушайтесь. Он худого не скажет. И без дела сам не останется.
– Да где ж… – начала Мета и замолкла. Неслышно к ним Женя подошла.
– Беседуете? Вот, Ромочка, это наш буйный элемент. Не обтерпелась. Как они с Исааком воюют. Тот ей: все хорошо, а она ему: все скверно. Каторжан, говорит, забыли. Дух, говорит, угасили. Поженились, замуж повыходили. Точно мы не люди.
– Ну, да, люди, – сердито сказала Мета. – Дело-то где? Один – не могу, у меня девошка… Другой – не могу, у меня мальшика…
– Да как же быть-то, Мета. А дух угасили – откуда ж взять, коли погас.
Мета сжала губы и промолчала.
– Ромочка, вы ее домой проводите, как пойдете. Все сердится, и в парижских улицах никак ей не разобраться.
Уходили такими же косяками, как и приходили. Поспешали к последнему метро. Большинство жило на левом берегу. Еврейку с дорогим ожерельем ждал внизу собственный автомобиль. Она тоже «пострадавшая»; и у нее, и у ее мужа – богатые родители; когда кончилось «страдание», старики наперерыв стали скрашивать изгнанническую жизнь детей. Благотворительность позволяется умеренная, но зато папаша подарил дочке виллу в Каннах, а другой папаша – сынку автомобиль «мерседес».
Роман Иванович отыскал себе маленький пансиончик недалеко от Ригелей, в той же, довольно аристократической части города, близ Рокадеро. Но Мету пошел провожать с удовольствием, хотя жила она решительно у черта на куличках.
– На метро мы все равно опоздали, – говорил он, укутывая Мету в какой-то жалкий черный бурнусик. – Давайте пройдемся пешком, по дороге извозчика возьмем.
Было тепло, черно, нежно, чуть-чуть туманно. Сменцев любил и знал Париж, – когда-то прожил в нем много месяцев подряд. Любил его асфальтовую, грифельную серость, его зимние, бледно-желтые закаты, любил огни ночные и человеческое мелькание, а главное – особенные, веселые парижские запахи любил он. Не очень плохие и не очень хорошие, разнообразные, но все – веселые, о чем-то беззаботном, пустом, забавном и бодрящем, лукавом и бесцельно-легком говорящие. В Петербурге нет и не может быть ни одного такого запаха. Там другие. И в Москве другие, хотя не петербургские.
Даже вода Сены пахнет иначе, нежели невская. Даже сам дождик, кажется, и в нем дыхание иное; даже в тумане – свой, весело подмигивающий, слабый аромат.
А Сменцев шел под руку с худенькой революционеркой Метой, и они говорили о России, о России.
«Не русская она, Мета Вейн, – думал Сменцев, – имя не русское, кровь не русская, язык исковерканный, – а ведь вот до чего вся русская, вся, до конца, не здешняя, – а именно русская. И поймет, скажи ей умело, зацепи ее, – самый дух русский, правду его мятежную. Через мятежность сердцевину ухватить. Золото – этакие Меты. Что Ржевский думает? Кисляй он или не умен».
Давно прошли мимо огненных гирлянд, поднимающихся к Трокадеро. А вот и узенькая каретка задремавшего извозчика.
– Поедемте.
Внутри тесно, темно, сыровато, пахнет застарелой сигарой… ничего, это тоже лукавый и веселый французский запах. Когда в окна падает фонарный луч, Сменцев видит на секунду блестящий взор Меты. Опять они говорят о России, о России…
Впрочем, рассказала много Мета и о себе. Она теперь доверчива, как девочка. И разве не права? Разве лгал ей, разве лжет когда-нибудь Роман Иванович?
Мудрый обман – другое дело; но ложь – никогда, ни в чем. Ложь не мудра, ложь – предательница.
И с Метой говорят они так хорошо.
– Я ведь совсем простая девошка, эстка, из деревни… Потом в городе жила, швеей, шила… А после в работу пошла. Нам нельзя не идти, мы же сами народ, как же.
– А Сестрицу вы знали?
Такова была старая кличка Наташи Ржевской.
– Нет, мало. Она в других тогда местах. А после скоро ушла. Нет, я с ним еще, с Шурином. Исаша теперь этих защищает, что против Шурина. Ах, право, не разберусь на новом месте. Голова кругом. Толкуют, что как же после Николая Ивановича, надо оглядеться, иные поубивались… Так слов нет, несчастие, а дело-то куда? Не Николай же Иваныч был дело? Ведь это же стыдно, ей-Богу.
– Трагедия большая, однако, – задумчиво сказал Сменцев. – Вы ее не пережили с ними.
– Я с теми, с каторжанами, пережила. Вы что думаете… Сменцев думал, что это, пожалуй, одно другого стоит – и промолчал.
– Исаша, Ригель то есть, – добрый человек, душа человек, – продолжала Мета. – Я не говорю, а только зачем он неправду. Зачем утешает, когда все не так. Держит, держит, а что держит? Ничего и нет. Я где? Сама не знаю. С Шурином я, а разве Шурин с Исашей?
– Вот и я приехал спросить Шурина, где он, – сказал Роман Иванович. – Нельзя ему без дела. Россия дела просит. Коли такие, как он, станут отдыхать да уединяться… Ну, об этом мы с вами еще поговорим, – прервал он себя. – Вот, увижусь с Шурином… После и к вам зайду. Можно?
– А как же. Приходите. У меня комнатка маленькая… Товарка отдала, сама уехала. Только вы к вечеру, а днем я на шитье хожу, устроили меня тут пока.
После бесконечного пути извозчик остановился, наконец, у темных ворот в полутемной улице.
Сменцев проводил Мету до самых ее дверей. Простился почти с нежностью.
На этом же извозчике поехал в другой конец города и там почти до утра задумчиво бродил по улицам; задумчиво входя в кабачки, глядел благожелательно на французов и француженок с их незамысловатым веселием, добродетельным пороком, легким отношением ко всему, – таким легким и простым. Или и это внешность? О, нет. Петербургская Маша купит с легкостью только уксусной эссенции; а Мари – на эти же деньги, в том же положении – шарфик в Лувре. И, пожалуй, в Лувр-то пойти мудрее, чем в аптеку.
К утру вернулся Роман Иванович домой. Заснул крепко. И снились ему Ригель, Мета, Россия… веселая песенка «La cle et la serrure»[59] и веселые запахи города Парижа.
Глава двадцать седьмая Свидание
У Михаила в Париже была постоянная квартира. Маленькая, но довольно чистая и веселая, далеко, на окраине: из окон виднелись зелено-бурые валы укреплений. Собственно, это не его была квартира, а Наташина, сестры. У Наташи имелись средства, у Михаила – никаких. Частью прожил, частью отдал. Если б что и осталось – все равно теперь бы отдал. Вот когда отдать.
Сестру не осуждал; у нее брал очень мало, но самое необходимое; и сначала сократиться ему было трудно: не святой, любит пожить хорошо в минуты отдыха. Вообще жизнь не научила его считать деньги, да и не могла научить: когда же? Был непрактичен: как-нибудь. Думая о том, что женится на Литте, – он думал о своей влюбленности в нее, о том, что какие-то заветные стороны души его находят в ней отклик; что она, эта чужая «барышня», сумеет ему его самого объяснить, быть может; а как они здесь жить станут, как сложится их брак – это все уходило в туман. Будет хорошо. Только бы она приехала скорей.
Уже неделю Михаил в Париже. Был у Ригеля, – его он любит и Женю беспомощную тоже. Любит Ригеля, а вечно с ним расстраивается, особенно в последнее время. Встретил Мету, – с ней еще не знал, как быть. Но обрадовался ей, как родной. И старое сомнение укусило: за что бросить ее, верную, и на кого? Не приспособится она к делам Ригеля, к этому тихому колесу теперешнему. Говорить же с ней о своем, о новом, боялся. Не то, что боялся, – выжидал.
Хотя после приезда Флорентия и разговоров с ним Михаил стал гораздо увереннее. Не слова, конечно, изменили его, – но сам Флорентий, чистый, крепкий и ясный, с ясными словами о том, что Михаил пережил, передумал нынче летом в России, во время скитаний своих по «святым местам».
Михаил чувствовал прилив сил, жажду выйти из полосы бездействия, из неопределенного положения, в котором так давно пребывал.
О свидании с Романом Ивановичем думал не без интереса. Боялся только, что не будет беспристрастен: замешана Литта, и, наверно, этот Сменцев в нее влюблен.
В Париже Михаил не скучал, хотя бывал только у Ригелей. Сидел дома, занимался. Думал, не записать ли ему свое путешествие, пробовал, – да не выходило. Не было привычки к литературе.
Юс приехал с ним. Этот окончательно избездельничался, и Михаил ему советовал хоть в парижский университет поступить. Пока же он шлялся по Парижу и, кажется, покучивал. У Юса были, впрочем, полосы отчаяния и самобичевания. Флорентий на него мрачно подействовал. Юс решил, что это святой, но дурак. Себя считал тоже дураком, но не святым. И заметив, что Наташа, к которой он втайне был неравнодушен, горячо хвалит Флорентия, отрезал однажды:
– Теперь я знаю, какие вам дураки нравятся. Мне только и стоило бы святым сделаться, однако не хочу лезть для одного вашего удовольствия.
Наташа тоже изменилась, повеселела вся после приезда Флорентия. Она – еще там, в Пиренеях, но обещала приехать в Париж, когда Михаил напишет. Ей хочется видеть Сменцева.
Было солнце и ветер. Михаил все утро занимался дома, хотел уже выйти, когда услышал пыхтение автомобиля около дома.
Выглянул в окно. Скромный такси остановился у входа. Вылезла дама с девочкой.
«Да это Женя. Наверно, ко мне». Женя вошла, веселая.
– А я с Манюсей каталась, и за вами. Поедемте к нам обедать. Давно пропали, Исааку браниться не с кем. Ромочка придет, – вы знаете, я так рада! Старый мой, старый друг приехал, Ромочка Сменцеа Он теперь, кажется, профессор… Нет, преинтересные вещи рассказывал, у него там в имении, в Воронежской, что ли, губернии, мужичий университет есть.
– Постойте, Женя. Сменцев приехал? Вы с ним знакомы?
– Ну, еще бы. Он про вас спрашивал, я даже не знала…
– Хорошо, поедемте, по дороге расскажете, как это вы со Сменцевым приятели.
По дороге Михаил ничего собственно о теперешнем Сменцеве от Жени не узнал, а о том, что они с Женей так хорошо дружили десять лет тому назад, ему было неинтересно.
– А-а! Пропадал и нашелся! – весело встретил их Ригель. Сам отворил дверь. – Это ты, Женька, его притащила? А я тут без тебя распорядился: обедать рано, мы пока чай пьем.
Женя повела девочку в детскую, а Ригель на минуту задержал Михаила в полутемной передней и сказал, понизив голос:
– Здесь Федот Иванович и Модест. Ты ведь с ними уж встретился нынче. И Мета здесь.
– Ну что ж, отлично, – пожал Михаил плечами.
– Да, еще я хотел тебя спросить…
И, совсем тихо, он начал ему что-то насчет Романа Ивановича.
– Понимаешь, я его, конечно, не знаю… Старая дружба с Женькой… Письмо какое-то тебе привез. Хотел тоже сегодня прийти…
Михаил успокоил Ригеля. Пусть придет Сменцев. Интересно его повидать. Письма же Михаил ждет давно.
Вошли в столовую. Уже начало смеркаться, но после светлого дня и сумерки были светлые.
Михаил поздоровался со всеми молча и сел рядом с Метой.
Ригель, так как Женя еще не выходила, сам принялся наливать Михаилу чай, круто наклоняя опустевший и охладевший серебряный чайник.
– А мы тут о моем последнем докладе говорили, – спешил Ригель. – Оба, и Федот Иваныч и Модест, не одобряют меня. С разных точек зрения. Жаль, ты не был, – повернулся он к Михаилу, подавая чашку.
Федот Иванович промычал что-то, явно не желая продолжать разговора. Старец седовласый, – благообразный, кряжистый, незыблемый. Лицо приятное, доброе, окаменевшее. Был он «хранителем заветов», – и уже, конечно, вывернись земля, как перчатка, наизнанку, убеждения и взгляды его ни на йоту бы не изменились. С Ригелем он был в прекрасных отношениях – кто мог с Ригелем быть в дурных?
Модест Петрович, пожилой, суховатый шатен профессорского вида, тоже сильно дружил с Ригелем; они даже вместе, случалось, составляли какие-то рефераты, хотя полного единомыслия между ними не было. Считалось, что Модест Петрович принадлежит к «правому крылу», к которому Ригель еще не примкнул. Модест Петрович имел тяготение к философии, был «культурник» и «научник»; современную метафизику, впрочем, недолюбливал.
Михаил не то, что чувствовал себя не в своей тарелке, а как-то не нужны ему сейчас были ни традиционный Федот, ни Модест.
Ригель нужен, – но не с ними, один и лично. Приветливая и горячая душа его нужна, светлая на все отвечающей добротой. Мета… она здесь одна – с ним, одна – союзница; но что она знает? Настоящая ли союзница?
– Хозяйки нет – и чай холодный, – сказал Михаил, улыбаясь, просто чтобы сказать что-нибудь.
В эту минуту вошла Женя. За ней в дверях показалась широкая темная фигура– новый гость.
– Чай холодный? Неправда. Новый кипяток несут. Louise! Depechez-vous![60] Здравствуйте, господа. И знакомьтесь: старый друг мой, Ромочка Сменцев. Да что вы в темноте, право!
И она повернула электричество.
Блеснули седины Федота. Мета прикрыла глаза худенькими пальцами. Модест сидел как сидел. И тяжелый синий взор Михаила впервые встретился со взглядом Романа Ивановича.
Чуть-чуть дольше одного мгновенья смотрели они друг на друга. И уже Роман Иванович здоровался дружески с Метой; с Модестом и Федотом он встречался у Ригеля.
– Садитесь, садитесь, – хлопотал Ригель. – Чай, Женька новый обещает. А вы ведь знаете, Роман Иванович, о чем я реферат читал? Ну, вот рассудите, объективно только, пожалуйста…
Странно: с приходом чужого человека сделалось свободнее. Михаил сразу почувствовал себя ближе Федоту и даже Модесту, – а он его терпеть не мог. Разговор завязался легко. Завязал его, впрочем, Роман Иванович, а Ригель помог.
С открытостью искреннего, постороннего, но сочувствующего человека Сменцев говорил об общем российском «воздухе», о тамошних делах, порою даже ввертывал слух, сплетню, и выходило интересно и забавно. С Модестом начал было спор о взгляде известного эсдека на синдикализм. И вдруг сказал очень серьезно, прервав самого себя:
– Да, Ригель, я вам говорил и всем готов повторить: громадную практическую – слышите, практическую! – ошибку делают те, кто в наше время, мечтая о народе и народном движении, в стороне оставляют вопросы великой важности: церковный и сектантский. Это не политично и не исторично. Говорю на основании опыта, долгих наблюдений. Живал в деревне. А нынче и в интеллигентных кругах эти все вопросы играют роль значительную.
– В каких кругах? Какие вопросы? – недоуменно пробасил Федот. – Не понимаю, про что говорит. А народные суеверия известны.
– Нет, нет, – заторопился Ригель, – конечно, всестороннее изучение народа и его истории – необходимо. Это пробел, кто же спорит.
Роман Иванович перебил его:
– Позвольте сузить вопрос до конкретного примера, азбучного; метафизику можно в другой раз. Считаете вы необходимостью успешную пропаганду в войсках?
– Ну, еще бы! – вскрикнул обиженно Ригель.
– А признаете ли вы, что это дело весьма шло у вас слабо и успехов не было?
– Пожалуй. Что ж, пожалуй и так.
– Ну вот. Для меня, скажем, ясно, почему оно так, почему и не может быть не так, пока способы, формы, узость пропаганды остаются прежними. Какие основы ваши? Экономика. Принципы отвлеченной свободы. С солдатами-то? Полноте. Все это должно разбиться о камень, который вы не видите и который для солдата имеет огромное значение, потрясающее: присяга. Относитесь, пожалуй, легко, с пренебрежением: суеверие. Камень останется камнем и при первом движении вас же задавит. Нельзя идти с пропагандой к тем, в чью данную психологию не умеешь до конца войти.
Заговорили вдруг все, кроме Михаила и Меты. Михаил намеренно молчал, слушал. Отлично понимал, что Роман Иванович говорит для него, нисколько не надеясь убедить или разъяснить что-нибудь Федоту. Ригель, впрочем, понял и разгорячился совершенно.
– Хорошо, допустим, что я стараюсь войти в эту странную психологию…
– Раз вы говорите «странная», вы еще далеко не вошли. А надо не только войти, надо насквозь понять, воплотиться в этого солдата, принять факт присяги, как он принимает, и уж с его позиции… ну, идти дальше, что ли…
– Дальше? Куда же дальше? – кричал Ригель. – Сесть на этот камень – и что же?
– Зачем сесть, – спокойно улыбался Роман Иванович. – Понатужиться и сдвинуть – в другую сторону. Не надо топтать святынь: это не прощается. Святы великие обеты; но великий обет рабства можно сменить обетом свободы…
– Вы расширили вопрос, – начал Модест, – и, конечно, в очень широкой постановке, при коренном изменении идеалов, замене отживающей веры в личного Бога общечеловеческими стремлениями…
– Нет, – почти грубо перебил его Сменцев. – Я не про то. Надо верить, как народ верит. Только самому понимать и другим объяснять, что истинное содержание веры этой не рабство, а свобода.
Федот глядел на Сменцева в злобном недоумении. Уязвленный Модест даже отодвинулся от стола.
– Вон вы куда! – осев, произнес Ригель. – Ну, батенька, верить, во что народ верит… Во-первых, насчет содержания свободы, – это еще вопрос… Исторических-то доказательств нету… А во-вторых, что прикажете делать, если никакой современный интеллигент на эту веру не способен? Что же нам из практических целей притворяться, что ли? Нет-с, извините, прежде всего искренность. На демагогию мы не пойдем.
Роман Иванович пожал плечами. Ему вдруг стало скучно.
– Ваше дело; я ничего не предлагаю, только поясняю факты. Изменитесь, если можете. А то другие будут. Ведь не последний же предел, не совершенство – современный интеллигент. Было бы печально.
– Прежде не так… – сказала вдруг Мета, волнуясь. – Я не знаю, как, но только всем жертвовали… И в эту, в душу народа шли… Душа к душе говорили.
– Что было, того не будет, Мета, – сказал неожиданно Михаил. – Но станем верить, что будет еще лучше. Жив дух, жив народ… А там посмотрим.
Старик тяжело поднялся и сделал знак Ригелю.
– Мне надо еще сказать вам…
– Постой, прощай, ухожу, – подошел к хозяину Модест. Обиженно и молча простился с Романом Ивановичем.
Поцеловал руку у Жени. Ушел. Ригель повел Федота в свой кабинет, деловые какие-то разговоры.
Скрылась и Женя, хлопотать об обеде. Михаил, Роман Иванович и Мета перешли в гостиную. Остались там втроем.
Глава двадцать восьмая Барон
Наташа приехала дней через пять-шесть.
Приехала утром, в дождь. Потоки воды уныло бежали по стеклам извозчичьей кареты. Вокруг было грязно и неуютно. Дома ее встретил холод, несмотря на затопленный камин, и Юс, красноглазый. Михаил еще спал.
– Юс, наверно, опять всю ночь пропадали. Вон у вас какие глаза.
– Это я рано встал. Вчера, правда, поздно шлялись, да ведь и Шурка тоже, втроем мы, с бароном.
– С каким бароном?
– Да с потомком-то декабрическим. Это я его так прозвал. Барон Роман Розен, ныне смененный, и попросту Сменцев.
– Ах, не балаганьте, Юс. Давайте мне сюда кофе, ближе к огню, и рассказывайте.
– Так ладно? Мерси-с. А чего рассказывать?
– Да о Сменцеве, конечно.
– Словно о женихе интересуетесь. Вот, влюбитесь. Он, видно, к успехам привык. Наша Мета уж ему в рот смотрит. Эка, что кривой.
– Юс, я уйду. Или перемените тон.
– Хорошо, – согласился Юс и переменил тон. Сказал совсем серьезно:
– Коли по совести – этот не дурак.
– И не святой?
– Черт его, по совести сказать – его не раскусишь. Какой там, черт его, святой. Ничего этого не видно. Видно, что не дурак.
– А вы его сколько раз встречали?
– Да много. Шур с ним у Ригеля свиделся, барон-то с Женей старые однокорытники. Сто лет тому назад где-то вместе сидели. Ну, а после – и Шур к нему, и он сюда. Всячески. Теперь Володька тоже отыскался, Володька шляется. У Меты все вместе были. А вчера втроем как закатились…
Наташа нетерпеливо повела плечами.
– Ужасно вы глупо рассказываете, Юс. О чем же говорили со Сменцевым?
– Если я глупо, на то я и дурак, – обиделся Юс. – Спрашивайте братца, когда восстанет. А я уж вам сказал: весьма сообразительный мальчик этот барон. И настойчивый. Так, сразу послушать, что он про народные устои и глубокие двигатели расписывает, – конечно, дико. Но, черт его, сам дельный. Шур нет-нет – и поддакнет. Потому что дельно. Провокатор, может, – неожиданно заключил Юс.
Наташа даже привскочила.
– Да что же вы с ним возитесь, если думаете… Опять?
– Ничего я не думаю. Черт его, разве в него влезешь. Он, вот, в салонах разных там околачивается, прямо так и рассказывает. С княгинями, с попами…
– Ну, коль рассказывает, вряд ли что-нибудь… – усомнилась Наташа.
– Однако мы о нем со стороны знаем – от кого? А деньги у него откуда, коли свое имение мужикам отдал?
– Ну, поехало! Во-первых, мы от Флорентия знаем. Или он тоже, по-вашему?..
– Нет, просто дурак… – буркнул Юс.
– А во-вторых, у Флорентия отец миллионер, – забыли? Да и очень скромен, кажется, барон ваш…
Юс почесал в затылке, хотел что-то возразить, но в эту минуту вошел Михаил. Наташа бросилась к нему. Нежно поцеловались. Очень они любили друг друга.
– Что, как у вас? Что Орест?
– Ничего, ему получше. А ты?
Наташа была недовольна рассказами Юса, но и Михаил не порадовал: совсем ничего не хотел говорить.
– Наточка, милая. Подожди. Мне очень важно, чтобы ты сама увидела Сменцева, своими глазами. Ты мне тогда больше поможешь. Вот он сегодня вечером придет, обещал.
Наташа покорилась. И с двойным интересом принялась ждать Романа Ивановича. Михаил только сказал, что сегодняшнее свидание должно кое-что решить и что скоро Сменцев уезжает.
Он пришел поздно, часов в десять. Юса не было, были только Наташа и Михаил.
Наташу еще не видал Роман Иванович, и она сразу ему не понравилась. Красивая, но холод и настороженность в ней. Вид переодетой принцессы, а в сущности – слабенькая девица из «конченных». Пусть ее Флорентий вволю «оттирает»; долго она будет ломаться, кокетничать этой своей «конченностью» (уж было, по рассказам Флорентия), потом влюбится и благополучно опять «начнется».
Сменцеву даже не захотелось побеждать в ней эту недоверчивую настороженность; понял, впрочем, что на Михаила сестра имеет какое-то влияние, и решил с ней отнюдь не ссориться.
– Мне Флоризель так много о вас рассказывал, – проговорил он, крепко пожимая руку девушки и глядя ей прямо в лицо улыбающимися глазами.
Наташа чуть-чуть покраснела.
«Ну, да, уж наполовину влюблена. Тянет принцесс к поэтам», – подумал Роман Иванович и прибавил громко:
– Столько вам Флоризель просил передать… Но это еще успеется, потом.
Они сидели в маленькой, голой столовой; висячая керосиновая лампа зажигала красные искры в густом хохле Романа Ивановича, сильно отросшем с лета. Наташа глядела на изогнутые, точно вырисованные брови, на плотные, короткие усы, похожие на кусочки черной ваты, и не могла решить: красив этот человек или безобразен, нравится ли ей или отвратителен.
Слушала внимательно разговор с братом, старалась угадать то, что было уже сказано без нее; будто читала со второй главы повесть, общее содержание которой, однако, известно.
– Как раз из-за этого нашего листка случайно пострадал мой старый приятель, инженер Хованский. На три года его выслали, – говорил Роман Иванович. – Предосадная история, и я косвенным образом виноват. Видите ли, как вышло…
И он с откровенностью рассказал о Габриэли, о том, что это за тип и как ее удалось отстранить.
Спокойная простота, открытость Романа Ивановича, с которою он говорил о своих делах, о своей жизни, отвечал на всякий вопрос, давно уже – не подкупили, но обезоружили привычную подозрительность Михаила. Даже отдохновение было отсутствие лишней таинственности в словах этого человека. Чувствовалось, что он говорит определенное, нужное и твердо-ясное и что «секрета» у него, – от Михаила, по крайней мере, с которым он и ехал говорить, – никакого нет.
– Хованский будет в Париже, при случае, может, встретитесь; но к делу он отношения не имеет, тем более досадна эта высылка. А бумажку придется перередактировать.
– Я считаю ее довольно удачной, это жаль, – сказал Михаил и протянул листок сестре, – прочти.
– Время, конечно, терпит, – продолжал Сменцев, – торопиться тут не следует; но иметь в виду, что при случае нужные листки можно получить отсюда, я бы очень желал. В вашем сочувствии делу я не сомневаюсь. Даже больше, – прибавил он просто и уверенно, – после наших разговоров я убежден, что лишь в деле на вот таких основах вы и могли бы теперь принимать живое участие.
– Очень может быть, – суховато ответил Михаил. – Но что я! И я еще принадлежу к известной организации…
– Мы уже говорили об этом. У меня… у нас никакой определенной организации нет, а потому нет и речи о выходе вашем откуда бы то ни было. Насколько я знаю, к тому же вы с вашими единомышленниками представляете и без того особую группу.
– Какие единомышленники. Если хотите, я – один…
– О нет. Вы знаете, что нет.
Михаил промолчал. Уже слышал это от Сменцева, знал его точку зрения. Что ж, в известном смысле он прав. И Мета, и Юс, и Володя – разве нельзя объяснить им хотя бы крошечный уголок этих «новых основ» дела, вполне достаточный для кое-какой практики? И разве не поверят они ему, Михаилу, в остальном и не пойдут за ним куда угодно?
– У вас, Роман Иванович, есть такие единомышленники и товарищи, как Флорентий.
– Да, Флорентий ценен; но он большой романтик, это надо помнить. Другие товарищи и сотрудники мои – вроде ваших. И я, однако, не считаю, что я – один. Ах, Михаил Филиппович, оставим одиночество идеалистам, вроде прекрасного профессора Дидима Ивановича. Идеально было бескомпромиссное его «троебратство»; а жизнь и его не стерпела.
Наташа подняла глаза на Романа Ивановича и сказала тихо:
– Что ж, это, конечно, правда. Но совсем без романтизма нельзя. Он дает какое-то… благоухание, что ли…
– Дух веет, сказала бы Мета, – улыбаясь, вставил Роман Иванович.
– Только есть еще и внутренняя мера… Не знаю, не мера, а принятие жизни любовное, и оно…
– Да, да, – перебил ее Михаил. – Это ты хорошо сказала. Флорентий – романтик, но любовная твердость к жизни у него есть.
Сменцев перевел разговор; выяснилось между прочим, что добросердечный и не лишенный тонкости Ригель после нескольких споров уже перешел на самую дружественную позицию. Многое понял и не видел ничего «предосудительного» в согласиях Михаила с Романом Ивановичем. Любопытно интересовался, а некоторые «листки» Сменцева решительно ему понравились.
«Может, и хорошо, если кто так думает, – говорил он. – С Федотом, конечно, не стоит об этом заикаться, ну да и Бог с ним. Старый человек. И вообще у нас люди не такие. Я сам признаюсь… незнакомая это для меня область. Но если в подобные идеи верить… отчего же не попытаться. Лишь бы искренно. А народ оттуда ли, отсюда ли – загадка, конечно».
Благоволение Ригеля было приятно Михаилу. Он знал его терпимость, но знал тоже, что Ригель чуток, если не к людям, то к их уклонам; не задумался бы он и с Михаилом порвать, если б увидел в новых «идеях» его предательство старых, заветных.
Что же останавливает Михаила? Неужели странная, внеразумная личная антипатия к Роману Ивановичу? Все, что он говорит, – понятно, близко. Говорит правдиво и открыто. «Союзничество», которое предлагает, такое в конце концов невинное; если обязывающее – то внутренно, и по совести Михаил может в этой мере обязательно выполнить.
К делу Романа Ивановича его влечет; а от самого Романа Ивановича отталкивает.
Сурово судит себя Михаил; а если это отталкивание несправедливое, чисто личное, ревнивое?.. О Литте не сказали они друг с другом почти ни слова, – внешнее только рассказывал Роман Иванович. И влюблен ли в нее, – об этом знает Михаил не больше, чем прежде.
Еще странно: Флорентию с первой встречи Михаил открыл самые глубокие свои сомнения, личные, коренные; а со Сменцевым даже в голову не приходит заговорить о чем-нибудь подобном или его спросить. Точно все само собою разумеется, неприлично и касаться; между тем ведь ничего же не разумеется?
И легко от этого, и трудно.
«Черт знает, – думал Михаил, злясь, – не воду нам с него пить. Не врет, ясно, ну, и кончено. В Литту влюблен – так это дело между нами двумя. Она пишет, что нет, положим. Неприятен он, но всем он вначале противен. Глупости. С Метой вот сразу поладил…»
Роман Иванович дружелюбно беседовал с Наташей. Опять о Флорентин, кажется. О Пчелином, о сектантах.
– Роман Иванович, – начал Михаил решительно. – Вы правы, листки не к спеху. Вы оставьте мне тут готовые и весь материал. Подумаю, поговорю, посоветуюсь, как и что. Связь мы во всяком случае сохраним, она очень ценна. Может, еще кто из ваших приедет. Будут у меня подходящие люди, придется, спосылаю.
– Очень рад, – спокойно сказал Сменцев. – Брошюрки вам оставлю, по экземпляру, с отметками. О положении дел вы будете иметь все сведения, самые подробные. Да я еще остаюсь теперь дней десять, успеем сговориться.
– Вы ничего не пьете, – сказала Наташа. – А у нас только вино; чаю нет, возня.
Роман Иванович налил себе полстакана белого и, улыбаясь, выпил.
– За наш союз… или соглашение, или блок, или просто за общие надежды наши… Как хотите. А вы что же, Наталия Филипповна?
Наташа поднесла свой стакан к губам, но сказала несмело:
– Я… я-то какая же союзница? У меня лично все вопросы не решены.
– Ну, это гордыня, – чуть-чуть насмешливо произнес Роман Иванович. – У кого же они так-таки все и решены?
– Зачем все. Но есть некоторые, и, не решив их, нельзя… – настаивала Наташа.
Вдруг вспыхнула: почему так окольничает с ним, точно не смеет сказать ему то, что резко и определенно говорит всем?
И, делая усилие, грубовато произнесла:
– Я считаю себя непригодной для общественного дела. Особенно для такого, где нужна определенная вера, огонь внутренний, полная искренность перед собой… Было бы недобросовестно.
Сказала – и раскаялась. А если Михаил примет это за упрек – ему?
Сменцев очень равнодушно пожал плечами. И со снисходительной ласковостью проговорил:
– Бросьте это, Наталья Филипповна. Не копайтесь в себе. Сначала о деле думайте, а потом уж о своих настроениях и способностях. Кто судья самому себе?
Михаил вспомнил, что Флорентий тоже говорил ему те же почти слова: «как судить тут себя?» Слова те же и смысл их тот же, но почему совсем иначе звучали они?
Очень уж было поздно, когда Роман Иванович собрался уходить. Думали, Юса нет, но оказалось, что он дома, только из скромности не зашел в столовую, а прямо лег спать.
– Это добрый знак, – смеялся Роман Иванович, надевая пальто. – Он очень способный молодой человек; знаете, что-то общее у них есть с Флорентием. Разные биографии, конечно…
«Оба дураки», – вспомнилось Наташе. Стало обидно, ведь неправда же! А Михаил сказал:
– Простота есть детская у обоих, это разве… А то какой же Юс – Флорентий?
Сговорились завтра собраться у Меты. Она просила. Ригель тоже хотел прийти. У него бы сойтись, квартира хорошая, да словно проходной двор она: вечно всякий народ толчется, покою нет.
– Вы теперь в наших краях извозчика не достанете, Роман Иванович. Одни апаши ходят.
– Ничего. Я их люблю. И Париж ночью со всех концов люблю, с модных и с пустынных.
Он ушел. Наташа и Михаил задумчиво вернулись в столовую, глядели на шелуху миндалей, окурки, недопитое вино в стаканах, молчали.
Папка черная лежала, с завязочками. Это листки, которые оставлены Михаилу.
– Что же? – произнесла, наконец, Наташа, подняв глаза на брата. – Как он тебе?
– Нет, как тебе?
– Да что ж… Мне он сам не нравится… Очень, – прибавила она решительно. – Сам, понимаешь?
– Понимаю. И мне. Просто личная антипатия. Многим он так, вначале. Сухой какой-то, властный… Но не лжет. Это несомненно.
– Не лжет, – согласилась Наташа. – Я в известном смысле совершенно доверяю ему. Юс один по глупости может воображать, что это…
– Да и Юс так себе городит. Нет, Дидим правду говорил: не с того полета. Наконец, где сейчас риск? Мы еще детей с ним не крестили… А надо, конечно, толком будет разузнать. Да не в этом дело.
– Не в этом, – опять согласилась Наташа. – Но и не в том же, что он сам… ну, неприятен, что ли? Нельзя же из-за этого быть несправедливым. Он очень значительный.
– И, ей-Богу, прав, – задумчиво сказал Михаил. – Имей я возможность – и я бы с этими архиереями потаскался и к иеромонаху Лаврентию бы съездил. Все это знать нужно. Мы здесь как слепые.
– Пойдем спать, Михаил. Успеем еще, поглядим. А Мета как?
– Да она, ты знаешь, порох. Наташа, милая, люди найдутся, я вижу теперь. И не в Сменцеве дело, черт с ним. В деле дело…
Задумался, потом прибавил тихо, как бы про себя:
– Люди плохи, да дело не плохо. Эти не годны, другие будут.
И встал.
– Спокойной ночи, милая. Господь с тобой.
Глава двадцать девятая Два монарха
– А я летала! – с восторгом встретила Мета Михаила, когда он, зайдя к Ригелю, увидел ее там.
– Как летали?
– Да вчера, поехали мы на поле это, как его? Роман Иванович, Володенька, я. Летают. Поднимется, поднимется и летал. Там русский тоже один. Предлагает мне. Ну, я, конечно. Многие женщины с ума посходили там, наверху. А я – что ж. Сейчас одели меня, шапку меховую, и другое. Держаться крепче. Побежало, побежало, застукало, – ах, ты ж, Господи! На ветру не чудю, а уж поле-то под нами вон где. Духу нет, режет, потом качнет – и в сторону, и опять. Ах, Боже ж, до чего хорошо. Приехали, не слезываю: все бы так летала, летала.
И она улыбалась детски-восторженно. Но вдруг детская радость сбежала с лица, оно стало серьезно и печально.
– Да это ладно уж, подите, я письма получила, – отозвалась она в сторону Михаила. – Вот, отдам вам, от Маруси, от Раички. Летать – ладно, а что им ответить? Ведь как это, Исаше говорила, свои дела – дела, а их-то, значит, забыли? Кругом забыли. И не стану я тут жить, стыдно жить, когда только вырвусь! Приехал человек, и тоже руками разводит. Только болтанье, болтанье, а на работу нет.
– Да вы не волнуйтесь, Мета, – со строгостью сказал Михаил. – Кого браните? Не нравится – делайте что знаете. Сменцев зовет вас к себе на работу – ну, и отправляйтесь.
Мета притихла и жалобными глазами посмотрела на него. Детская невинность этого взора больно уколола Михаила. Напрасно он обидел ее. Она права – и не права, но обижать нельзя, нельзя, а он и сейчас обидел, и…
Все последние дни подготовлял он страшную обиду ей, – таким, как она, – и себе: обиду обмана, обольщения «малых». Мара это все была, со Сменцевым. Он обольщал, заманивал – и Михаил поддался. Так нельзя. «Новые основы» – а сразу старым обманом пахнет.
Со вчерашнего вечера началось это у Михаила.
Постоянно видались с Романом Ивановичем, и у Меты, и у Ригеля, и по Парижу бродили. Всякие шли разговоры.
Наташа заинтересовалась; не отстает. Володька спорит, но тоже слушает. Очень уж хорошо умеет Сменцев с каждым его языком говорить.
А вчера Михаил вечером был у Сменцева, в маленькой комнатке скромного пансиона. Говорили вдвоем. И Михаил помнит, как случайно, вскользь, с кривой усмешкой в усы Роман Иванович заметил:
– Сегодня у нас свидание двух императоров. Или, по крайней мере, совещание полководцев. Войска маловато, да ничего, солдаты, коли постараться, будут надежные.
Михаила точно ударили эти слова. Роман Иванович заметил – но не пошел назад. Плечами только пожал.
– Что ж. Нам идеализм не к лицу. Сами знаете требования практики. Так было – так будет.
«Так было – и так не будет!» – чуть не крикнул ему в лицо Михаил. Но сдержался. Только поднял на него тяжелый взор синих глаз.
«Так было, так было, – думал он, возвращаясь домой, путаясь в рассеянности среди темных, безлюдных улиц. – Конечно, так было. Всегда так было. Свидание двух императоров. Двух полководцев. Ну да, это его выражение, а мое было бы двух главарей „це-ка“, что ли. Смысл один. И в сущности себя только он этим главарем чувствует, самодержцем, а мне так, из любезности сказал, да из расчета. На привычном поддеть задумал. И поддел, черт его возьми. Новые основы! А разве этак на новых-то основах в новые полки солдат набирают? Прежде всего совещания эти самодержавные – к черту, к черту!»
Так бессвязно думал Михаил – и продумал всю ночь. Едва к утру заснул немного. Наташе не сказал ничего. Какими словами выразить? И для самого себя их, совершенно ясных, еще не было.
У Ригеля он надеялся встретить Романа Ивановича. Для того и пошел.
А тут сразу Мета с летаньем, с письмами, с порываньями, с намеками.
Сел в угол, угрюмый, насупленный. Ригеля не было. Женя с Метой в другом углу говорили о чем-то тихо; кажется, Женя опять расспрашивала о полете.
«Оставлять никого не оставлю, нельзя, – думал опять Михаил. – Но по старой дорожке, как Сменцев, не пойду, нет. Королем над пешками… хорошо!»
Он злился, главное, на то, что видел: естественно проснулось d нем привычное королевство, главарство, которое сломили было новые переживания и мысли.
Явившийся Ригель заметил угрюмость Михаила. Принялся рассказывать ему какую-то историю «товарищескую» в надежде развлечь.
Но пришли друзья Ригеля; не Модест и не Федот, а тоже близкие, – имевшие, как водится, тайный зуб против Михаила. О «петербургском друге» Жени, о каких-то «спорах» у Ригеля уж давно пошли слухи. Разговор свелся на них и на Романа Ивановича, – Ригель охотно объяснял, какие именно «вопросы» поднимались.
Недоверие, недоброжелательство и, по правде сказать, невежество гости выразили при этом случае такое, что Михаилу пришлось войти в разговор и волей-неволей защищать если не Романа Ивановича, то его позиции.
Михаил обозлился окончательно.
Совсем он сейчас не в настроении защищать Романа Ивановича. И вообще бестактен этот разговор. Как Ригель не понимает. Без пользы и нужды обостряются отношения.
Сменцев между тем не приходил. Нетерпеливо и раздраженно оборвав спор, Михаил поднялся и стал прощаться. Ригель удерживал, но взглянул в лицо друга – и замолк.
«Пойду к нему, к Сменцеву, вот что, – думал Михаил, шагая по сумеречной набережной Сены. – Пойду и все прямо скажу. Пусть не рассчитывает. Я для него по его указке работать не стану. Дьявол зеленый. Нет-с, извините-с, как-никак, а своего ему не отдам. И солдат своих не отдам. Я их люблю, я их, вот, покинуть не мог и не могу, а теперь глядеть стану, как он ими вертит и для своих расчетов охаживает? На вранье его не подцепишь, да тут хуже вранья, обман какой-то чертов, внутренний».
«Дети они, – думал он дальше, почти с умилением вспоминая Мету, Юса, Володю… – Нельзя мне покинуть на дороге никого. Не уйду; если двинусь – так вместе. Мой прямой долг охранять их на перепутье, от таких вот Роман Иванычей. Нельзя в равенстве? „Практика“ требует? Жизнь? Пускай. Любовь все поправит. Дети – так и будут детьми, пока не вырастут; детьми – но не солдатами. К черту ваше старое генеральство, господин Сменцев. Больше не подденете».
Литта вдруг вспомнилась Михаилу, – без личной ревности вспомнилась, но остро и больно. Что, если и ее Сменцев тоже вот так охаживает и окручивает, незаметно туманит голову, сбивает с толку? Думает, пожалуй, что из нее не рядовой, а целый унтер-офицер выйдет? Литта, подруга Михаила, помощница, поддержка его, любимая, равная, – вдруг и она в крепких лапах этого обмана неуловимого, и она в полку Романа Ивановича?..
Нет. Она цельнее Михаила. Верит глубже и тверже. Если он почуял неправду, как она не увидит?
«Не хотел писать ей со Сменцевым, – но теперь напишу. Что думаю сейчас, что ему самому в лицо скажу. Какая ни есть моя вера – но против не пойду. Если он идет – не одна у нас вера».
И вдруг Михаил остановился.
«Господи! Да во что верит он, этот Сменцев, сам? Да верит ли он во что-нибудь?»
Произнес это вслух, от неожиданности, и стоял, не двигаясь. Набережная была пустынна. Серела матовая Сена. Огни мерцали розовыми гирляндами на противоположном берегу, огни плыли кучкой по воде – пароход спешил к нижней пристани. Тяжелая башня пялила за полосой воды свои широкие железные ноги.
Опомнился, пошел. Какое удивление! Как раньше не приходил в голову этот простой вопрос? Простой – и страшный.
Сменцева дома не было. Почему-то не ожидал этого Михаил. Рассердился. Но и к себе не пошел. Хотелось быть одному. Так легко это в Париже. Поплелся туда, где больше огней, больше чужих людей, чужого шума, чужого говора. Даже весело стало от чуждости, даже понравилась какая-то милая девочка, которую он угощал cassis[61], потом ликерами, болтал с ней и глядел, как она танцует.
Звала его к себе, но не обиделась, когда он в конце концов не пошел. Такой ласковый он и amusant avec ca[62].
Не знал, приехав домой, который час. Четвертый или третий, наверное.
А Наташа еще не легла.
– Михаил, это ты? Вот досада!
– Что такое?
– Подумай, Роман Иванович целый вечер тебя дожидался, минут двадцать как ушел. Он в субботу должен был ехать, но получил письмо от Сергея и завтра утром едет к нему в Киль. Показывал письмо, – действительно, иначе не увидятся. Оттуда Роман Иванович прямо в Россию, а Сергей еще к нам, на юг. Да что с тобой?
– Ничего. Значит, уезжает?
– Очень хотел с тобой проститься. Но дела, говорит, в сущности покончены, а когда опять надо будет – увидимся. У меня такое впечатление, Михаил…
– К черту твое впечатление! – закричал он неожиданно и хватил даже рукой по столу. – И какие там дела покончены? Ничего не кончено.
Наташа остолбенела. Давно не видала брата в таком состоянии.
– Михаил! Ты нездоров? Что-нибудь случилось?
– Нет, прости, – опомнился он. – Изнервничался. Мне нужно было с ним… Наташа, погоди, скажи: а он, по-твоему, верит?
– Кто? Сменцев? Во что? Очень в дело верит. Это же видно. И в себе уверен.
– Да плевать я хочу, уверен он в себе или нет! – опять заорал Михаил. – Ты мне скажи, в Бога-то, в Бога-то верит он? Как мы об этом не подумали!
В изумлении посмотрела на него Наташа. И растерялась. Прошептала:
– Не знаю…
– Вот то-то, что и я не знаю, – вдруг успокоившись, произнес Михаил. – Ты понимаешь ли? Не знаю, а не знать этого нельзя. Понимаешь?
– Флорентий… – начала было Наташа.
– Не о нем речь.
Задумался. Потом прибавил, тихо:
– Да… В себя верит, в дело верит, в себя, в себя… Ну, Роман Иванович, а если этого недостаточно? И не разные ли у нас с вами веры?
Наташа в ужасе слушала его. Заметив расстроенное лицо, Михаил улыбнулся.
– Ничего, не бойся, ничего не случилось. А если и случилось– не плохое. Подожди, сестренка, мы еще повоюем. Дело в деле и в том, чтобы к делу с открытой душой и с открытыми глазами подходить.
Наташа вдруг поняла все. Еще не умом, но сердцем, несознанно-живой любовью.
– Михаил, мне страшно. Флорентий там, с ним, и я не знаю, Михаил…
Он подошел, нежно поцеловал черную ее головку.
– Будем верить, родная, в тех, кого любим, в то, что любим. И будем бодры и смелы, да? Хорошо?
Глава тридцатая Перед свадьбой
Рождество в Петербурге нынче славное. Мягкое, белое; дни чуть заметно удлинялись, и сумерки были ласковее, задумчивее.
Липа давно не видела снега, радовалась ему. Жаль, что в городе тотчас же он по улицам рыжеет и лоснится. Как хороши теперь, должно быть, поля около опустевшей Стройки, чистые-чистые, сверкающие.
Но мечтать некогда Литте. Надеялась, что отдохнет в отсутствие Романа Ивановича, и не вышло: беспокойство какое-то нарастало в душе, хуже чем при нем. Подумала-подумала – и написала Флорентию, в Пчелиное. Коротенькое письмо, а когда он откликнулся – написала опять, длиннее. Хотелось все рассказать ему, но не посмела: привычно не доверяла она почте. Объявить просто, что выходит замуж за Романа – какой смысл? Как он поймет? И она писала отвлеченно, о тоске, беспокойстве своем и надежде, что все скоро уладится, – «придумано уже».
Собрания у графини шли чередом и делались бурными. Литта, занятая своим, рассеянно следила за ними, но все же понимала, что происходит внутренняя борьба, что преосвященный Евтихий со своими сторонниками подводит мину под Федьку с его последователями; борьба пока неровная, так как Федька в силе «наверху». Княгиня Александра волей-неволей на Федькиной стороне, но уже давала понять старой графине, что такое положение долго не удержится; она сама при первом случае будет за то, чтобы стащить Федьку с неподобающего места. Слишком уж он обнаглел. Телохранителей своих распустил окончательно. Графине было противно, что они снимали в швейцарской глубокие калоши и вламывались в ее салон босопятые.
– Я понимаю святость, святая простота, tout ca enfin[63], – говорила она, нюхая свои sels[64], – но почему же непременно эти голые ножные пальцы? Почему? Какая настоятельная надобность?
Федька сам не очень любил салон старухи; предпочитал общество молоденьких барышень, курсисток, гимназисток, когда уж спускался с верхов.
Литту он, встречая, каждый раз усаживал рядом, надоедал ей сильно, особенно тем, что лез целоваться.
Часто вспоминали Романа Ивановича. Графиня с досадой говорила, что она без него иногда «как без рук».
– Qu'est ce qu'il vous ecrit, petite? – спрашивала она внучку. – Revient-il?[65]
Литта отделывалась общими словами. Да и что могла сказать? Роман Иванович ей не писал совсем, ни разу; и не обещал писать, однако Литта с удивлением заметила, что это молчание ей неприятно.
Явился перед самым Рождеством, неожиданно.
Были сумерки. Графиня отложила вечную работу свою и только что хотела сказать Литте, бесцельно стоявшей у окна, что пора повернуть кнопки. Увидала плотную фигуру Сменцева в дверях гостиной (он входил без доклада) и воскликнула:
– Ah, vous voila, enfin![66] Беглец!
Литта поспешно обернулась. Почувствовала, что сердце у нее забилось. Радостью? Ну, еще бы. Он приехал. Скоро, скоро освобожденье. И так она была одинока со своими думами. Он все знает, и он друг-Невольно она протянула ему руки. Он поцеловал обе, старался в сумерках разглядеть выражение ее лица. А Литта рада была, что темно. Она покраснела, и, сердясь на себя за это, краснела еще больше.
Вот зажглось электричество. Свет упал на смуглое, чуть похудевшее лицо Романа Ивановича; Литта увидала его знакомую усмешку вбок, странный, скользящий взгляд; холод облил ее на мгновенье – отчужденность, неприязнь, что-то похожее на страх… Но быстро совладала с собой Литта, точно узел внутри стянула какой-то… Прошло.
Роман Иванович остался обедать. Говорил все время с графиней и с Николаем Юрьевичем.
А после обеда графиня отослала внучку, объявив, что ей надо переговорить с Романом Ивановичем о делах, «ведь событие близится, а мы деловой части его почти не касались».
Это о свадьбе, конечно. О приданом, о деньгах, о том, где именно будут они жить. Литта знала, что для них готовится квартира в графинином доме. Не возражала – пусть уж он, как знает, сам. Ее и не спрашивали.
Литта прошла в «классную». Там горела ее милая, старая лампа. Уютно, знакомо, тихо.
«Прощай, лампа, прощай, кресло. Никогда не увижу вас больше; и не надо», – думала Литта без горечи.
Она не любила старого. Если боялась чего-нибудь, то вот этой неподвижности, уюта, длительности всего, что уже есть.
Села в кресло зеленое. Мысли опять вернулись к Роману Ивановичу. Странно: такую вещь он для нее делает, а ведь они по душе никогда и не разговаривали; отрывочно, о деле он говорил, о других, о ней, а о себе самом – никогда.
Вот чуть не два месяца его не было, – неужели так и не скажет, куда ездил, зачем?
«А какое мне дело? – сердито перебила она свои мысли. – Ездил и ездил. Нужно – скажет. Вздор какой».
В дверь тихонько постучали, и она тотчас же отворилась. Вошел Роман Иванович.
Ни разу еще не был он у нее в «классной». Не садился к столу, за которым она помнит Михаила – ее случайного учителя математики, и себя – девочку с распущенными волосами.
– Я с разрешения графини, – сказал, улыбаясь, Роман Иванович. – Вы не заняты?
– Нет, пожалуйста… Это моя бывшая классная. Садитесь. Я ничего не делала. Так…
Роман Иванович сел против нес. Абажур затенял смуглое лицо, только усы и твердый подбородок светлели.
– Я был в Париже, у Михаила Филипповича, – сразу начал он. – Хочу рассказать вам про эту поездку.
Литта онемела от неожиданности. А он стал рассказывать спокойно, обстоятельно, не торопясь, ничего стараясь не пропустить. Говорил о Жене, о их старом знакомстве, о Ригеле, о том, что успел подметить, хотя бы извне, в жизни парижской; перешел на Михаила и на ему близких – Мету, Наташу, Юса, Володю…
– Мы очень часто виделись и много толковали с Михаилом Филипповичем о делах. К моему отъезду выяснились большие возможности соглашения. Судите сами…
– А… письма у вас нет? – перебила его Литта взволнованно.
– Михаил Филиппович просил меня на словах передать его горячую просьбу скорее приехать. Он надеется видеть вас месяца через два…
– Как? Не раньше?
– Он так говорил. Ввиду того, что вы сами решили не сообщать ему о нашем…
– Да, да, я не хотела. Значит, вы не сказали? Хорошо. Так, значит, Роман Иванович, Михаил и его друзья отнеслись к вам, вы говорите…
– С полным сочувствием. Я и не рассчитывал сейчас на что-нибудь очень определенное, торопиться не следует, факты же сложились.
И он опять перешел на разговоры с Михаилом в Париже, на листки, которые оставил ему.
Об одном лишь умолчал Роман Иванович: о письме, полученном от Михаила уже в Киле, на имя Сергея. Письмо было длинное, резкое, не очень связное, но Роман Иванович отлично его понял.
Особенно не огорчился. Этого можно было ожидать. Обойдется. А не обойдется – что ж делать. Была бы честь предложена… От Михаила он, Роман Иванович, никак не зависит. Напротив… Через Литту – напротив… Это хорошо, что у Романа Ивановича есть Литта. Веревочка крепкая, на всякий случай, если понадобится Михаил и «воинство его». А пока – пусть побунтует, дело не к спеху. Не убедил Роман Иванович – убедят уста женщины, в которую он влюблен.
И о Сергее рассказал Литте Сменцев. Насчет Михаила прибавил, однако:
– У него есть, по-моему, не то что идеалистический уклон, а неровность, что ли… Прозелитизм еще чувствуется. Подозрительность привычная. Резкие углы. Понимаете? Со временем пройдет.
Литта понимала. Взволнованная, розовая, она готова была без конца еще расспрашивать. Как серьезно и открыто он говорит с ней о деле, в котором они теперь с Михаилом почти вместе. Все хорошо. А потом будет совсем хорошо, должно, должно быть.
– Наша свадьба десятого января, – сказал вдруг Роман Иванович, перебив Литтины расспросы. – Желал бы, чтобы вы об этом тоже подумали. Не все о Париже!
Намеренно-грубо положил он смуглую, широкую руку на бледненькую ручку, лежавшую на столе.
Литта ее отдернула. И посмотрела на жениха измененными глазами. Опять недоверие в них, и неприязнь, и надменность.
– Не понимаю вас, – сказала сдержанно. – Меня более всего интересует Париж… и говорю.
Роман Иванович улыбнулся. Еще бы она понимала! Этот жест его – ведь это игра. Ему захотелось увидеть перед собою прежнюю злую и чуткую девочку. Знал, что в ней спит недоверие, и будил его, не боясь, нарочно; во всякую минуту мог усыпить снова. Было забавно – пока. Шалость. После будет не так; не то нужно, конечно. Нужно, чтобы она выучилась глядеть его глазами и чтобы это было естественно, и просто, и крепко у нее.
– Что с вами, милая? – заговорил он, меняя тон, дружески. – Вы на что-то рассердились. Но как же не подумать о свадьбе. Вот я целый час с графиней говорил… Надо условиться вместе.
Литта опустила голову. На что в самом деле рассердилась? И ведь не она – он ей оказывает услугу.
– Еще не поздно… – проговорила, однако, с упрямством. – Я, может быть, опрометчиво приняла от вас это одолжение. Мало ли какие неудобства…
– Неудобства большие, зачем скрывать. Но это мое дело. Заботьтесь о себе, – а я уж буду о себе. Никогда не лгал вам, вообще не лгу. Хочу жениться на вас – значит, хочу и сделаю, так и принимайте.
Очень был серьезен. Литта робко протянула ему руку.
– Ну, простите меня. Я такая… дикая иногда.
Роман Иванович вчуже залюбовался девочкой: хорошенькая была в эту минуту. Если бы страсть к женщине могла владеть им, – он влюбился бы в Литту: очень ему нравилась.
Но странен строй души Сменцева. Другие огни горят в ней. В другое пламя ввился бедный, вечный огонек человеческой страсти любовной – ввился и утонул в нем.
Роман Иванович не «девственник», – в том смысле, как понимает слово преосвященный Евтихий; но все же Евти-хию не лгал он: что значат мимолетные полуравнодушные встречи, те самопроверки, которые ведал Сменцев? Литта нравится ему, влечет его – первая; но и с ней – воля и ум ясны; холодны мысли; горит, быть может, капризная страсть, – любовная ли?
Но понимал: в ней – к нему – должна быть эта страсть. Пусть будет, если иначе нельзя.
– Я ревную вас, Литта, – заговорил он медленно, с любопытством следя, как опять изменяется ее лицо. – Да, ревную. Я очень ревнив. Почему вы покраснели? – перебил он себя.
– Нет… Но я не понимаю, Роман Иванович…
– Опять? Сейчас поймете. Я ревную союзницу, товарища – к женщине, влюбленной невесте. Не Парижем интересуетесь вы, а вашей любовью, заняты вашим личным делом. Но ведь есть общее, в нем я вам не дальше, чем Ржевский. Вы забыли…
Взволнованная, Литта вскочила.
– Неправда, неправда! Да это вы нарочно, ведь должны же вы знать! Я так рада, что вы и Михаил – согласились вместе… С Флорентием столько говорили, мне так легко с ним…
– С ним?
– Да, прямо скажу: с вами труднее. Часто хотела о многом спросить вас, и не спрашивалось. А впрочем… – она запуталась, – впрочем, до сих пор… я и не могла… и не желала входить…
– Литта, послушайте. Из Пчелиного, от Флорентия тревожные вести. Застал здесь письмо. Я должен быть там; после десятого поеду. Хотите со мной? Это задержит недели на две, на три ваш отъезд за границу, но зато вы поехали бы туда уже с некоторыми сведениями, а кроме того, могли бы пригодиться в Пчелином. Я надеюсь. Вот мое предложение, – но как хотите, дело ваше.
Литта задумалась.
– Поеду, – сказала твердо, подняв голову. – Только… что могу?.. Я ведь такая «барышня», Роман Иванович. Не льстите мне, я знаю, что ничего не знаю, ничего не умею. Но хочу уметь, быть другой. Попытаюсь.
– И не боитесь?
– Чего? – Она рассмеялась. – Нет, я не трус. Жизни не знаю, а ее не боюсь.
Помолчав, прибавила:
– Вас… вначале как-то боялась. Что ж, и я не люблю лгать.
С улыбкой Роман Иванович взял ее руку и медленно поднес к губам.
– Меня боялись. Этого я не хочу, слышите? Не хочу. Хочу другого. Ведь надо «не за страх, а за совесть»… Да?
Литта глядела в его неблестящие, упорные глаза, повторила, тоже улыбнувшись: «за совесть, конечно»… а сама опять почувствовала, что если не страх, то похожая на страх безвольная и сладкая боль окутывает ее; что на его «хочу» – такое «хочу» – она непременно ответит «да».
И опомнилась. Как облако, прошла мгновенная мара.
Уже другим, совсем обыкновенным голосом Сменцев говорил ей, что пора вернуться к старой графине. Только что стучалась Гликерия: чай подан.
Глава тридцать первая «От камени честна»
– Убирайся ты ко всем чертям. Надоел. Без него не знают.
Целый день у Романа Ивановича покалывала печень, был он желт и капризен, а тут явился Варсиска, разводить рацеи, точно в самом деле без него не знают.
– Оказалась бутылка, дана тебе, ну и соси. Я не хочу. Роман Иванович лежал на диване в первой комнате своей квартирки. Из Луги приехал сегодня отец Варсис, теперь сидел у окна, черный, за бутылкой любимого медока.
Монах одет был щеголевато. Он располнел несколько, а лицо даже залоснилось.
– Да что ж, Роман Иванович, тем приятнее, если сами знаете. Воздух неподходящий. Для красненькой то есть. Рановато, ох, рановато. Черненькая – другое дело. Сама наклевывается. Таких штук понатворить можно. У иеромонаха отца Лаврентия войско народное готовое. Сам только глуп, как бы не промахнулся. А то, знаете, ежели тамошнее да со здешними дуновениями совокупить…
Роман Иванович нетерпеливо повернулся на диване.
– А ты зачем, болван, мне нагадил в Пчелином? Эх, обрадовался, навинтил, навинтил…
– Роман Иваныч, да я ей-Богу ничего особенного. Я старался по той, значит, нитке. Ну, покозырял несколько. Да Роман Иваныч! Теперь же их ничего не стоит на обратную сторону повернуть! Ведь последнего-то слова никакого не сказано. Бунтуй и бунтуй, а что бунтуй? Это все дальнейшее в наших руках. Там же и Лаврентьевы близко.
– Дурак. В наших руках! В руках – да не в твоих. Пусти тебя в Пчелиное!
– А я и рад, что не пустите. Здесь делов не обобраться. У графини этой я дважды был – ох, сколь поучительно! А тоже Евтихий преосвященный. Навещаю. Крутенек, а обойди его– овечка беленькая. Тут Роман Иваныч, такая муть пошла, что какую ни задумай рыбку, ту и выудишь.
Сменцева раздражал откровенный цинизм Варсиса; раздражало и то, что он прав. Долго ли путешествовал Роман Иванович? Вернувшись, остро почувствовал, что воздух не тот, и все более меняется. Либо ждать, – ну, это не по нем, – либо…
– А уж на хуторе вы сами направите, как требуется, – продолжал Варсис. – Коли я понадоблюсь, – свистните, я тотчас же…
Хлебнул глоток темного вина, запрокинув голову. Видно было, как шевелится адамово яблоко на полном горле. Причмокнул, прибавил:
– Только вот одно смутительно: до того ли вам? С молодой женой теперь путешествовать отправитесь… Где уж! Дело понятное…
Роман Иванович приподнялся, сел и проговорил тихим от бешенства голосом:
– Ко всем чертям немедля убирайся. Чтобы духом твоим больше не пахло.
Варсис, не допив стакана, как был, схватился со стула и кинулся к дверям. Не мог он выносить этого знакомого – тихого голоса Романа Ивановича.
Так и удрал бы, забыв калоши, да Сменцев окликнул его из передней.
– Ладно. Вернись-ка. Поговорим толком. Дела есть. Но смотри! Ежели ты у меня еще осмелишься выйти из границ…
Подобрав рясу, тихонько прошел румяный монах к своему месту, к окну. И Роман Иванович заговорил о делах, пересилив и окончательно победив раздраженье. Допоздна говорили, даже к невесте в этот вечер не пошел Роман Иванович.
Свадьба назначена была на понедельник, десятое января. И понедельник наступил.
В ночь накануне вдруг проснулась Литта, будто ее толкнуло. Темно, черно, сна как не бывало. Ум и сердце ясны, особенно ясны. И в эту черную и светлую минуту совершенно точно поняла Литта, что проваливается. Ложь, в которой она жила, на которую пошла, сейчас отпустила ее, отвалилась ненадолго и, став к сторонке, показывала язык.
«Господи, Господи!» – прошептала девочка и вспомнила, что уже давно не молилась. Да и могла ли молиться в графинином доме, среди икон и лампад, среди вечных Федек Растекаев, шуршащих шелком иерархов, Антипиев с докладами, изобилия «божественных» слов, слушая которые, она часто содрогалась, как от кощунства.
И вот она прибегает для своих личных целей к той же церкви, средством для себя ее делает. Венчаться в нее пойдет, потому что так – выгодно. Будет лгать пред алтарем, – старая святыня, но ради новой не должно ли уважать ее, быть прежде всего честным?
«Боже мой, а как же он? Как же он этого не почувствовал, если верит со мной… с нами в одно? Верит ли он?»
Хотела зажечь свечку, встать – и не могла двинуться.
«Я с ума схожу. Зачем я не написала Михаилу. Или Флорентию. Да это наваждение… Господи, Господи!»
Страх, как в детстве, побежал по спине. Страх одиночества в темноте. Дрожа, она с головой закрылась одеялом. И в духоте, в поту, незаметно забылась черным, тяжким сном.
Как в тумане встала. Безвольная, мутная. Коричневый, оттепельный туман стоял и на дворе. Изредка принимался падать мокрый снег большими хлопьями, похожими на грязные носовые платки.
В угрюмой и торжественной квартире графини не было заметно предсвадебной суеты. Да ведь и свадьба предполагалась «самая, самая скромная». Литта не имела подруг. Всякие «вздоры», вроде мальчиков с образами, графиня упразднила: «се sont des языческие обычаи». Платье белое – это мило, это l'innocence[67]; а уж разные мещанские порядки – незачем. Богу надо молиться, а не пировать.
И тихие приготовления к свадьбе похожи были на приготовления к похоронам.
На минуту днем заезжал Роман Иванович; Литта и на него взглянула как сквозь туман, устало и бессмысленно.
Вот, в зеркале ее спальной– белая-белая фигура; белый шелк, белые цветы и белое, бледное личико, осунувшееся, испуганное, как у маленькой девочки.
Вот она в карете. Дрожат мутные огни за стеклом, скоро-скоро мелькают падающие большие хлопья снега.
Вот красный ковер широкой лестницы. Да, хорошо, что эта церковь больше похожа на салон, чем на церковь.
Молодые, рослые гвардейцы, полузнакомые, – шафера. Отец, Николай Юрьевич, в шитом мундире. Что-то говорит… Как он неловко сейчас благословлял ее дома. Задел иконой вуаль… Шуршит серым шелком графиня. Она еще величественнее в белой наколке.
Шепот, шелковый свист, шорох, огни свечей, золото иконостаса… Поют. Да, уже давно поют что-то… Литта странно не заметила.
Белые вырезы жилетов… Кто это? Да это, кажется, он. Какой странный; просто чужой господин. Он и есть чужой. Что же удивляться.
Так ли она написала? Все равно. Идут куда-то, и чужой человек во фраке рядом с ней.
Жирное лицо полкового священника. Глаза узкие, словно щелки. Говорит неестественным голосом. Изредка слышит Литта неразборчивые слова. «От камени честна»…
«Честно, честно», – повторяет про себя, без мыслей. Оплывает свеча в руке, жгут слезы воска, падают, падают…
«Господи, когда же конец?»
Оплывает свеча, непривычное кольцо на руке ее, другая рука в чужой руке, идут опять, и путается шлейф ее белого платья, неловко поддерживаемый шафером, который тоже идет за ними.
«Славой и честью венчаяй»…
Честью. Опять честью.
Во рту еще терпкий вкус вина… Когда это было? «Чашу общую сию»…
Узкие глаза священника смотрят прямо на нее: – Поцелуйтесь.
Мгновенное прикосновение жестких усов, близкий взгляд колючих глаз… Конец.
Опять карета, кто рядом? Да он же, кто сейчас вместе с ней стоял в венце «от камени честна»…
Он молчит. Это хорошо. Молчание, молчание.
Шуршали колеса, бились в окно кареты мокрые хлопья снега – бело-серые птицы. Как быстро прочерченная полоса, мелькнуло воспоминание: лето, предгрозный ветер, в ветре почудившиеся слова: «хочу жениться на вас»… Далекое, далекое воспоминание, точно сто лет ему, точно не было – снилось. Не снится ли и теперь, все – что теперь?
Вот опять она в своей родной спальне. Переодеться? Да, уже приготовленное лежит ее коричневое дорожное платье. Новое, малознакомое. Теперь все будет новое. Это ничего, ничего.
– Гликерия, о чем ты плачешь?
– Да я от радости, барышня… Ох, извините, барыня молодая. Муженька-то какого вам Бог послал, чисто принц, Иван-царевич…
– Бог послал?
– Господь знает, что делает… Чисто Иван-царевич, говорю. Да и вы у нас королевна.
– Иван-царевич?
Она готова. Без последнего взгляда на классную, на кресло свое зеленое, на все, что покидает, – пошла в столовую. Светло. Какие-то люди, знакомые, полузнакомые. Говорят ей что-то – все одно и то же. Узнала длинное, лошадиное лицо княгини Александры. Целует, улыбается как-то странно, хитро.
– Однако пора. Карета подана.
Это голос ее «мужа», твердый, властный.
Сухие объятия бабушки. Запах jockey-club[68] от ее носового платка – для маленьких слезинок. Дряблое лицо Николая Юрьевича, подставленное поцелуям.
Опять чернота, темнота кареты, молчание, – потом краткие шумы и светы вокзала, глухие звонки… И вот кончилось, кончилось. Чуть слышно постукивают вагонные колеса, покачивает на упругих рессорах, баюкает на пружинах дивана…
Роман Иванович в дверях купе.
– Вам больше ничего не нужно? Отдохните. Через полчаса провожатый придет сделать постель. А если бы я вам понадобился – мое купе рядом.
Литта едва слышно благодарит его. Нет, ничего не нужно. Впрочем, вот… ежели бы унести все эти цветы? Голова так болит.
Молча забирает Роман Иванович бесчисленные красные, розовые, белые букеты и, пожав протянутую руку, уходит.
Литта одна. Лечь бы скорее, спать, спать. Но голова очень болит, вот это первое. Оттого и туман, вероятно. Если б заснуть…
Спала или не спала? Ей казалось, что нет, все время болела голова, все время она думала об этом. А в окна глядит утро, мутное, белое.
В дверь стучат.
– Вы готовы? Москва.
Да, ведь они в Москву едут. Это хорошо, что не сразу дальше, что тут остановятся. Литта почти не раздевалась. Готова, конечно. Сейчас.
– На вас лица нет, – сказал Роман Иванович, взглянув на Литту в резком утреннем свете, в автомобиле Национальной гостиницы. – Скажите, вы нездоровы? Плохо спали?
– Да… Нет… Голова очень болела.
– Сейчас же раздевайтесь, ложитесь в постель и постарайтесь уснуть. Я бы даже советовал не пить кофе, ничего.
– Я и не хочу. Если можно…
– Непременно лягте. И спите хоть до обеда. Мне все равно нужно сейчас же идти по делам. Не скоро вернусь.
Его смуглое лицо было спокойно и свеже. Красиво разлетались брови под высокой, остроконечной меховой шапкой.
– Погода какая скверная, – сказал, глядя в окна, где мелькали вывески, чуйки, дровни, трамваи, близко-близко, так узки московские улицы.
И здесь была оттепель, лоснился коричнево-желтый снег-каша, плавал редкий, вонючий туман.
– Вот ваша комната, видите, прекрасная постель, раздевайтесь и ложитесь.
Он говорил так просто и так твердо, точно приказывал, – Литта и не подумала возражать. Покорно стала снимать шляпку, шубку, хотела уж расстегнуть башмаки. Вошла горничная.
– Вам помогут, спокойного сна, – сказал Роман Иванович и, наклонившись, поцеловал руку Литты. – Мой номер такой же, рядом, – указал он на внутреннюю дверь. – Я к вам постучу, когда вернусь, часов в пять.
Литта тихо разделась, легла на свежие, прохладные простыни широкой кровати за легкую ширму.
Поплыли мысли… Замелькали крупные хлопья, серо-белые птицы. Колеса вагона мерно отстукивали какие-то слова, и неясные – и отчетливые, и длинные – и спешно-короткие. То будто с тяжелым нажимом: «раз-за-разом проваливаешься, про-ва-а-ли-ваешься», – то скорее, веселее: «так не-льзя, ни-че-го, ни-че-го»…
Голова и во сне болела.
Глава тридцать вторая До дна
Поздний обед Роман Иванович велел подать наверх, в просторный и уютный номер Литты. Она проснулась давно, еще в пять часов, но Роман Иванович посоветовал, войдя, не вставать сразу, если не хочется (а так не хотелось!), спросил чаю в постель.
К восьми Литта поднялась. Все на ней незнакомое, рубашка непривычная какая-то, кружевная. Накинула халат, – нашла в раскрытом чемодане, – тоже незнакомый и новый, фиалковый. Было в нем тепло и удобно. Бледные волосы заколола кое-как, около ушей круто завились они от горячей подушки.
Голова не болела, но точно пустая была, такая легкая и странная.
– Самый невинный обед я заказал, покушать непременно следует. Фрукты вы любите?
– Право, все равно… Благодарю вас, – тихо произнесла Литта, садясь в мягкое кресло. – Не знаю, что это со мною. Забот вам наделала. Я ведь крепкая и дорогу всегда так хорошо переносила.
– Ничего, это от волнения. Покушаете, выпьете вина – пройдет.
Принесли, действительно, легкий и вкусный обед. Литта думала, что ей не хочется есть, но стала кушать с аппетитом.
– Я велел шампанского, но много не пейте: полбокала только, голова опять заболит.
И он налил ей немножко. Два глотка оживили ее. Лакей убрал со стола, оставив вино и фрукты.
– А теперь мы с вами поговорим, Литта. Что, голова ведь лучше?
– Не болит совсем. Роман Иванович, право, мне стыдно. Возитесь со мной…
– Ну, пустое. Рад, что вы пришли в себя. Довольно вина, – прибавил он, улыбаясь, отодвигая бокал, за которым она потянулась. – Я хочу вас в трезвом рассудке и здравой памяти. Скушайте лучше еще персик, они славные.
Литта рассмеялась.
– Какой заботливый! Ну, о чем же мы будем говорить? Ей было тепло и весело, хотелось ни о чем, ни о чем не думать, забыть хоть ненадолго, отдых дать голове; она такая странная, пустая. Ведь можно же, – ненадолго?
– Вы не барышня, вы просто девочка веселая и милая, Литта, – произнес Роман Иванович, любуясь нежно-розовыми пятнами, окрасившими ее бледное личико. – Такой и оставайтесь, смелой и веселой. Все будет хорошо.
Точно подслушал он любимые ее слова. Так часто она твердила себе: «все будет хорошо», и горячим теплом веры обливало ее от них.
– Какой вы… добрый, – сказала она и подняла на него светло-синие доверчивые глаза. – Я не знала. Я думала…
– Ну, об этом мы потом, после. А сперва – поглядите, что я вам принес. Видите? Вот ваш новый паспорт, отдельный. Иулитта Сменцева, жена… и т. д. Во всякое время, в Москве, где хотите, можете получить заграничный. Это ваша свобода. А вот дополнение к ней: банковая чековая книжка, – сорок тысяч. Остальные не реализованы, и через некоторое время…
– Потом, потом, я понимаю, довольно! – перебила его Литта, раскрасневшись. – Ах, Боже мой, да я еще не верю… Неужели вправду? И когда захочу…
– Когда захотите.
– Нет, я теперь только понимаю. Ну, вам спасибо, спасибо!
И она, совсем по-детски, потянулась к нему с протянутыми руками и губами.
Роман Иванович обнял худенькие плечи, мягко притянул всю ее ближе, на диван, где сидел сам, поцеловал молчаливым и долгим – первым – поцелуем.
Но тотчас же сам прервал его, отклонился, удержав девушку рядом, на диване.
– Совсем, совсем свободна, – тихо повторял он, близко заглядывая в милые, синие глаза. – Когда только самой захочется… хоть сейчас… бросить меня… и наше общее дело…
– Зачем же… сейчас? – говорила Литта, слабо пытаясь освободиться от руки, охватывающей ее плечи. – Зачем я брошу то, где мы все вместе? Я незнающая, глупенькая, бесполезная. Но я буду другая. Вы меня научите. Вы, и… и сама научусь.
– Да, и сама, – повторил Сменцев, целуя один за другим ее пальчики. – Вы хотите? И я хочу…
– И вы? Что? Постойте… Мне неловко… Постойте. Я сяду лучше сюда.
Он пустил ее, но она осталась на диване, только немного в угол откинулась.
– Хочу, чтобы вы были трезвый, деятельный и… послушный человек. Да, послушный. Вы не знали? Посмотрите мне в глаза. Дело не шутки, в дело как в монастырь идти надо, и как в монастыре – послушание в нем первое. Но зачем говорить об этом? Это есть или нет, есть или нет… Литта! Я хочу, пусть будет.
В теплом свете комнаты, в теплом воздухе пахло персиками и увядающими розами – вчерашний последний букет. Томная мара наплывала, томная, легкая, такая веселая, такая лукавая… Он говорит «хочу»… Пусть будет, как он хочет.
Но вздохнула, точно отгоняя сон.
– Вы верите мне? Милая, да?
Прямо в глаза Литте глядели неблестевшие глаза под выгнутыми, точно нарисованными, бровями. Опять крепкая, властная рука сжимала ее плечи.
Говорил какие-то слова, и нежные и странные. Не хотелось думать, понимать их. Верить ли ему? Да, да. Ведь вот захотел он – и дал ей свободу. Он скажет «хочу» – и все будет хорошо.
Да разве уже не хорошо? Ласково пахнут цветы, ласково льнет к усталому телу фиалковый халат, ласково обнимает ее такая сильная, такая заботливая, надежная рука. Все хорошо.
Среди горячего шепота вдруг различила слова:
– Мало верить мне, надо верить и в меня…
Правда? В него? Как в него? Старый неясный страх точно холодной иглой уколол. Перевела взор, выпрямилась, лицо побледнело.
– Нет, пустите меня. Я не поняла… что значит – в вас поверить? Ах, не надо…
Он улыбался, глядя в ее изменившееся лицо.
– Ну не надо. Девочка глупая. Не надо слов. А кто обещал не бояться меня? Кто обещал «не за страх, а за совесть». Помнишь? Помнишь?
И снова она в цепких, сильных объятиях. Щека жаркая так близко-близко, чуть щекочут ей ухо усы, снова шепот жаркий, который хочется слушать– не хочется понимать. Умирая, ярче и слаще пахнут цветы; нежнее льнет к телу теплая ткань халата; крепче и теснее объятия.
– Уйди, уйди… ведь ты свободна.
Да, конечно, она свободна. Это он сделал ее свободной.
– Уйди… милая, милая. Нет, останься. Хочу, чтоб ты осталась.
И это шепотное и ясное «хочу» прикрыло Литту последним душным туманом. Было, было… будет. Все будет, как он хочет.
Опять мгновенный ужас просветления – что это? что это? Белая, быстрая черта воспоминаний: хлопья снега, вагонные колеса: «про-ва-ли-ваешься»… цветы на бархатных подушках… Михаил! Михаил!
И уже трепещут уста ее в горькой истоме под чужими властными устами.
Пусть же. Все равно. Пусть, пусть. Конец.
* * *
Роман Иванович проспал ночь спокойно и крепко, но проснулся рано. Сразу решил не видеть Литту утром. Нет, Боже сохрани. Как можно дольше пусть останется одна. А там…
Капризно и досадливо морщит губы Роман Иванович, вспоминая вчерашний вечер. Порою неприятна бывает мудрая привычка не обманывать себя. Но что же делать, надо признаться: многое вчера вышло необдуманно. И, кажется, глупо. Он ждал, конечно, большего сопротивления, рассчитывал на него. Но это-то и глупо. Увлекся? Было, зачем скрывать, было. Вел себя как мальчишка. Ни ее достаточно не знал, ни себя.
Некоторую глупость он заранее допустил, но ведь есть же границы! Вот это – вчерашний вечер, – это должно было случиться, к тому шло; однако не сейчас же, не на второй же день… Главная досада на себя. Выпустил себя из рук. И теперь – неизвестность, самая противная. Может быть, ничего, так и следовало, а может быть, и все испорчено.
Тревожила еще одна неясная мысль. Подошел тихонько к ее двери, прислушался. Утренние часы коварны. Подвернется минута последнего отчаяния, еще сделает над собой что-нибудь эта пылкая девочка. Минута бы прошла, конечно, да вот как с ней справиться.
Он долго слушал у дверей, он поймал бы малейший шорох, малейшее движение, но ничего не было. Тишина.
Это совсем рассердило его. Хотел уж войти, но переломил себя, оделся и уехал по делам, неспокойный и злой.
И совершенно напрасно тревожила его эта мысль. Не такова Литта.
Что же было с ней?
Очнувшись тогда после кратких и страшных минут забвения, тихо встала. Прошла из-за ширм в комнату. Потушила электричество везде, – оно так и горело, как было, – отыскав свечку, зажгла ее. И диван и кресла – противны. Села на стул у черного окна.
От свечи комната изменилась, стала тише, холоднее, мрачнее и спокойнее.
Литта думала. Холодные, непривычно-ясные мысли, – мысли и чувства. Да, так и должно было случиться. Начав проваливаться, нельзя уже задержаться, пока не долетишь до дна. На дне или смерть, или, если выживешь, другое; конец провалу во всяком случае.
На девочку, падающую все ниже по откосу лжи и трусости, слабую и затуманенную, которой была она все последнее время, Литта глядела сейчас будто со стороны, с любопытством и без сожаления.
Шли ночные часы. Неподвижно сидела Литта у окна, со сжатыми бровями. Так серьезно было лицо ее, что казалось почти старым.
Давно гудели гулкие колокола церквей. И гудели, и замолкали, и опять гудели. Как медлит утро! Но вот и оно, из серого сразу порозовевшее, молодое, ясное.
Литта поднялась, погасила свечу, не спеша умылась, тщательно оделась. Взглянула на стол: там около недопитого бокала еще лежали ее бумаги: паспорт, чековая книжка. Она взяла их; помедлила мгновение, потом быстро заперла в чемодан и вышла.
Подморозило за ночь, и сразу утро запахло свежестью и улыбкой.
Вдыхая колкий и душистый воздух, Литта шла по московским улицам, длинным, узким и чужим.
Никогда не была она в Москве. Не знала, куда идет, куда придет, как вернется. И в этом была громадная, до боли острая сладость.
«Вот когда я одна; сама, одна, во всей большой жизни, как в этом большом чужом городе. И хорошо. Так надо».
Она понимала, что с нею на дне обрыва, куда провалилась, нет никого. Нет и Михаила, он так далеко сейчас, что голос ее к нему и не долетел бы. Но, ударившись, она выжила; значит, должны быть и силы выкарабкаться. Должны быть. Только одни ее силы – некому помочь.
Белый, тихий Кремль. Розовым золотом горят шапки церквей. А там, налево, как бела даль! Милый, чужой, старый, вечный город. Бодро-пустынное, раннее, бело-розовое молчание его.
Ни отчаяния, ни раскаяния нет у Литты: а серьезный и пристальный взор на все, что было, все, что случилось. Недаром же оно было. И не в ней одной дело. Теперь выкарабкиваться самой для себя, думая о себе, – ничего не выйдет. Ведь не только о себе она что-то узнала новое, долетев до дна, но и о другом… о нем.
Да, бесповоротно увидела она его, вне мыслей почти – и ясно; в прошлом увидела и в настоящем. Страх был от незнания, страх – это знак, вот как боль – знак, предупреждение об опасности.
Литта вышла на площадь. Тут было люднее, да и день уже вырос. Шла не прямо, куда-то заворачивала, иногда возвращалась, и теперь совсем не знала, где она. Увидела безумную и яркую, как вопль, церковь. Догадалась: это Василий Блаженный. Стояла долго на месте, задумчивая. Эта площадь и другие, мимо которых проходила сейчас, улицы узкие, Кремль… это Москва; не здесь ли Михаил и Наташа… да и покойный брат Юрий, не здесь ли они тогда были… тоже зимой?.. Как давно. Для нее, Литты, давно: ведь она маленькой девочкой ездила в Летний сад с мисс Джонсон, а они уже сознательной жизнью жили, работали, мучились, умирали.
Что же. Ее страдание впереди. Она не отказывается.
И еще бодрее и глубже стало на душе. Почти весело двинулась опять дальше и усталости не чувствовала.
Обошла печальный и жалкий белый храм. Вздрогнула от неожиданности, завернув вправо, натолкнувшись на страшный Символ… но не отвернулась, долго и пристально глядела на него не детскими, серьезными глазами.
Где-то на людной, должно быть, главной улице зашла в кондитерскую, вдруг почувствовав, что устала и голодна. Выпила кофе, посидела. Уже мутнел и голубел короткий день, когда она оттуда вышла. И как-то незаметно скоро опять очутилась в пустынном Кремле, у парапета, за которым стлались, бело-голубые теперь, вечерние дали. Едва светлели далекие кресты.
Опять остановилась. И неожиданно острая боль и сладость молитвы пронзили ей душу. Да, да, но какая новая, незнакомая сила и ясность в этой молитве. И когда прошел миг, по-новому прошептали ее уста детское, любимое слово: «Все будет. Все будет хорошо».
Вернувшись в гостиницу, Литта медленно и деловито принялась укладываться, стараясь ничего не забыть.
С удивлением вспомнила теперь, что была все-таки утром минута, когда она хотела собраться и уехать за границу, ведь возможности все есть, она «свободна». То есть бежать. Это значило бы просто бежать по дну той пропасти, куда она провалилась. Хорошо, что краткая была минута и сейчас же прошла.
В дверь осторожно постучались.
– Войдите.
Роман Иванович стоял на пороге.
– Добрый день… или вечер, пожалуй. Как голова?
– Ничего. Я долго по Москве гуляла.
Литта поднялась с колен – она запирала чемодан – и отряхнула руки.
– Вы… укладываетесь? Уложились? Роман Иванович подошел ближе.
– Да, почти совсем готово. Поезд в десять? Ведь мы сегодня едем в Пчелиное.
Что это, – победа? Он всматривался, всматривался в ее бледное, спокойное лицо, такое простое и такое серьезное. Хотел что-то сказать – и не сказал; хотел подойти еще ближе – и не подошел. Точно невидимым и неприятным кольцом она была окружена, через которое переступить он не мог.
Мгновенно рассердился на себя, сдержался, усмехнулся вбок и, проговорив: «да, отлично, едем сегодня», вышел.
В чем дело? Какие-то неожиданности в этой девчонке. Возня. Ну, да ладно. Посмотрим. Поехала, однако… в Пчелиное. Значит, все пока нормально.
Глава тридцать третья Прогресс и эксцесс
Розовая чаша неба над снежно-розовым двором. И такая крепкая, ядрено-яркая тишина вокруг. От снега тишина, а мороз не очень сильный. К ночи, верно, похолодает: уже острится воздух, маслится дорога.
Работник Миша спешит до сумерек сладить оглоблю к пошевням: треснула вчера старая. Спешит, но не спешит: медленно ворочает руками и поет медленно заунывную песенку. И все она заунывнее у него; такая тоска, что просто сил нет.
Явственнее всего выделяется беспрестанно повторяющееся слово – припев, должно быть:
«…Россия, Россия…»Ах, ты, Господи. Точно отпевает он эту самую Россию.
Неслышно ступая по белой тропинке, протоптанной от большого дома к флигелю, подошла Литта.
Она в серой мерлушчатой шубке, серая ушастая шапочка на голове, а лицо розовое – от розового неба и розовых снегов.
– Миша, ты что это за песню поешь? Уж очень скучная. Миша поднял голову и улыбнулся во весь рот.
– Чего пою? Да вот оглобля эта, шут ее дери. Пустое дело, а как не задастся, так уж не задастся. Что песня – песня хорошая, наша хуторская. Нешь вы, Юлитта Николаевна, хуторских песен не слыхали?
– Все такие скучные.
– А чем скучные? Напротив. Песни даже интеллигентные. Флорентий Власыч все как есть эти знает. Слова, кто забыл, сам сказывает.
– А слова какие?
– Слова хорошие. Что же вы говорите – скучно, так как же ее петь, если чувствуешь?
– Ну-ка, спой мне вот эту, что пел. Или скажи.
– Нет, уж я лучше спою. А то спутаюсь.
Миша совсем бросил работу, присел на передок саней и протяжней, заунывней прежнего затянул песню. Литта вслушивалась в слова и чем больше вслушивалась, тем больше изумлялась, что веселый Миша тянет так грустно, с такой стонущей тоской вовсе нетоскливую песню.
Надрываясь, как будто жалуясь, Миша пел:
В цепях, в тюрьме, В голодной тьме, Россия! Россия! Вставай, народ, Тебя зовет Россия! Россия! Пойдем на тех, Чей губит грех Россию! Россию! Мы всех сметем, Тебя спасем, Россия! Россия! . . . . . . . . . . Яви свой лик, Россия! Россия! Христос Один Твой Властелин, Россия! Россия! Услышал Он Наш горький стон, Россия! Россия! Тебя мы с Ним Освободим, Россия! Россия!Миша перевел дух.
– Что, разве не хорошая? А то была, да не сплошь упомню.
Еще тягучее он пропел:
Мы знамя крепкое подымем, Вставай за правду весь народ, Позор с лица России сымем, Земля и правда наш оплот.– Знаете, Миша, – задумчиво произнесла Литта. – Эти бы слова повеселее петь, пожалуй, лучше бы. Все у вас так?
– Все, – с убеждением сказал Миша. – Кто чувствует, конечно. Другие, бывает, галдят зря. Ленка сестра, что в доме теперь при вас, вот как заведет-заведет – плачут даже.
Литта вздохнула, пожала плечами.
– А вы не опасаетесь?
– Чего ж, кто слышит? Ну, конечно, при ком ни ком – не стоит. Промеж себя. Последнее самое время, как эти глупости пошли, Флорентий Власович всем строго наказывал – осторожность.
Смерклось между тем. Розовые снега ярко полиловели, стали фиалковые, потом незаметно посинели, – сапфировые.
Желтый огонек мелькнул в двух маленьких оконцах флигеля.
– Ну, я пойду, – опять вздохнув, сказала Литта. – Верно, тебе уж не кончить сегодня, Миша. Темно.
Но Миша вдруг с яростью кинулся на работу.
– Пус-тя-ки! Чтоб я, да не кончил? Мне что темнота, я ее, эту оглоблю, ночью-то еще чище. Она у меня покобенься. Это я так тут задумал чего-то.
Литта подошла к флигелю. Поднялась по крутым, облепленным комьями примерзшего снега ступенькам крыльца.
В первой комнатке флигеля было жарко натоплено, светло, кипел самовар. У стола Флорентий перетирал чашки длинным полотенцем. Роман Иванович, в теплой куртке, шагал из угла в угол, часто поворачиваясь, потому что комнатка была маленькая. И казался он тяжелым и высоким, потому что потолки были низкие.
– Не озябли? – спросил Флорентий и взглянул на нее исподлобья, ласково, но без улыбки.
– Нет, я ведь никуда не ходила, прямо из дома. На дворе с Мишей только постояла немного.
Быстро разделась.
– У вас тут какая жара. Флорентий, пустите, я чашки перетру.
Села на его место. Флорентий молча перешел на диван около перегородочной двери, устроился там в уголке.
Лицо у Флорентия вытянулось, похудело и как-то посерело. Не печальное и не злое, а серьезное до жесткости. На лбу между бровями тонкая нерасходящаяся морщина.
В первый же день, с первого взгляда заметила Литта перемену в ее веселом Флоризеле. Уж нельзя больше и звать его Флоризелем. Не подходит. И странно рассеянный стал он. Задумается – не слышит, что говорят.
Так серьезны дела здесь? Да, серьезны, Литта знает. Но не из-за этого же переменился Флоризель. Есть еще что-то. Поговорить с ним она долго не решалась. Ведь надо сказать о себе… А он как чужой.
Приезду Литты страшно обрадовался и не удивился. Положим, знал, оказывается, от Романа Ивановича…
Обрадовался мгновенно, – а после отошел, ни о чем не заговаривает. Много дней прошло, прежде чем Литта решилась… Он выслушал ее молча, опустил голову… и опять точно не удивился. Ей так трудно было говорить, а он вдруг оборвал разговор, встал, почти грубо, ушел. Литте сделалось невыразимо больно. Не обидно, потому что она почувствовала, догадалась, – у него какая-то своя боль, близкая, и не меньше, чем ее.
– Роман Иванович, – сказала Литта после молчания. – Ко мне заходили Геннадий и Марфа Васильевна. Собственно, вас или Флорентия хотели видеть, да вы оба уезжали.
Роман Иванович молчал, продолжая ходить по комнате. Наконец произнес, усмехнувшись вбок и невесело:
– Что же они вам новенького сообщили?
– Я их ни о чем не спрашивала.
– Верю. Но они сами говорили.
– Все то же. Геннадий волнуется. Марфа Васильевна, кажется, очень боится. Хорошо, говорит, что отец Хрисанф болен. В конце концов его бы припутали, уж он бы не воздержался.
Молчание. Сменцев шагал из угла в угол. Каждый про себя думал о случившемся.
А случилось, собственно, дело пустое, глупое, и неприятно оно могло быть только по своим последствиям.
В Заречное приехал, как и раньше случалось, миссионер. Был он лицо не духовное, а чиновник, из ядовитых. И вот этого миссионера каким-то образом на селе поколотили. Толковали, что он и сам дрался, были слухи, что действовали тут главным образом пришлые, из монастыря, где пользовался славой знаменитый отец Лаврентий; миссионер петербургский будто бы весьма непочтительно о нем отозвался, еретиком, что ли, обозвал. Звезда отца Лаврентия, возможно, близилась к закату, но это в Петербурге, отнюдь не здесь. И чиновнику неосторожность не прошла даром.
Как вышло дело – толком никто не знал. Заречные клялись, что ни при чем, но доказать не могли. Заречное же село подозрительное, кругом сектанты. И пошла история.
Миссионер удрал, объявив, что село бунтует, что усмирение не замедлит, и… в ожидании разбирательств и кар мужики действительно были неспокойны. Волновались и пчелиные. А тут еще толки, что целая орава поклонников отца Лаврентия идет из монастыря, идет на заречан, хуторян и баптистов, потому что все они – еретики и крамольники.
Словом, такая чепуха пошла, что никто ничего не мог понять. Поднялся было с громовыми проповедями возбужденный дьякон Хрисанф; потом, к счастью или несчастию, отец Хрисанф свалился в злейшей ангине. Литта каждый день навещала его. Хрипел и жаловался, но из дома выйти не мог.
Батюшка отец Симеоний тоже заболел или сказался от страха больным. Учительница, Марфа Васильевна, частая гостья в Пчелином, перетрусила. А студент Геннадий, попович, превратившийся в ярого поклонника Романа Ивановича, с Рождества жил наполовину в селе, наполовину в Пчелином, совался во все, но порою помогал Флорентию.
Целыми днями Флорентий толковал – и с близкими и с другими. Ему казалось, что как-никак, а отступать не время.
Роман Иванович ездил в губернский город, еще куда-то ездил. Но возвращался мрачный и задумчивый. С Флорентием они мало говорили.
– А ведь колокольчик, – вдруг произнес Флорентий, поднимая голову.
Прислушались.
– Олег Карлович, черт бы его… – проворчал сквозь зубы, не сдержавшись, Роман Иванович. Но тотчас же усмехнулся, прибавил:
– Посмотрите на него, Литта, интересно. Курц, исправник наш. Последнее слово исправника. Барон, два факультета кончил, eau de Lubin[69] употребляет, культурник, политический нюх имеет. Новейшее явление. Всем бы взял, только два горя: во-первых – Карлович, а во-вторых – исправником служит, по обстоятельствам, должен. Впрочем, ему идет.
Литта почти не слушала.
– А почему он сюда едет сейчас? – спросила тревожно.
Звонки заливались уже у самого дома. Потом сразу смолкли. Вот и Олег Карлович. Он высок, молод и строен. Легко скинув у дверей заиндевевшую шинель и вытирая платком черные усы, сразу заговорил успокаивающе:
– Я к вам на огонек, господа, мимо ехал и решил: домой поспею. По долгу службы у вас, может, и придется скоро побывать, ну, да это что. А нынче гостем к вам, коли примете обогреться.
Он немного суетился, точно робел под серьезно-спокойным и холодным взором Романа Ивановича.
– Ваша супруга? – изящно склонил он стан перед Литтой. И, целуя протянутую руку, продолжал:
– Скоро вы соскучитесь, графиня, среди наших снегов. После Петербурга…
– Я вовсе не графиня, – возразила Литта. – И мне совсем не скучно.
Олег Карлович смешался было, но скоро оправился, заговорил о неудобствах помещения, – не дымят ли печи наверху в большом доме? – со вкусом принялся за чай. Флорентий принес отличного коньяку, которым гость не побрезговал. Отопьет глоток из стакана – и добавит. С морозу хорошо.
– Так собираетесь, Олег Карлович, в наши края и по делам службы? – прямо глядя на него, спросил Роман Иванович.
Красивый исправник махнул рукой.
– Да что с вами поделаешь! Сколько Флорентий Власыч ни возится – дикий народ. В существе своем дикий. Говорят, у нас в губернии еще сравнительно высокая культура Молодежь обоего пола грамотна, библиотека там, чтения, есть попытки устройства рационального хозяйства, пьянство не поголовное… Совершенно верно. Если взять внешний аспект и сравнить хотя бы с Новгородской какой-нибудь губернией…
– Несравнимо, – вырвалось у Литты.
– Абсолютно несравнимо! – и Курц повернулся к ней всем телом. – Но это внешний аспект. Вот в чем горе. Прогресс и культура – да; но первобытной внутренней дикости они, увы, еще не коснулись. Сколько сил положено, – вот хотя бы тут, на этом хуторе. Лекции, чтения… И что же? Grattez le, notre moujik, et vous trouverez un[70] дикий фанатик, как встарь. Ведь заметьте, кругом сектанты. А сектанты – чуть-чуть отсыревший, правда, но порох. Подсохнет – и фрр! пошло писать. Откуда только самое варварское революционство берется. Чистейший вандализм.
– Не преувеличиваете ли вы? – несколько небрежно сказал Роман Иванович. – Сектанты наши – народ смирный. По застарелой привычке искать крамолу, видеть везде неповиновение – всех боитесь.
Курц даже на стуле подпрыгнул, точно в него всадили булавку.
– Роман Иванович! Помилосердуйте! Конечно, я провинциальный исправник, но ведь это же не лишает меня ни здравого смысла, ни чутья. Мы сейчас разговариваем как интеллигентные, культурные люди. Я имею свой взгляд, свое общее миросозерцание, если хотите… Ваши мнения я уважаю, хотя готов спорить. Я не ищу «крамолу», как вы изволили выразиться. Но мое глубочайшее убеждение, что всякая революция – слышите ли? всякая, – гибель для России. Культура, экономический прогресс, нарастание богатств – все это полетит кувырком. Революция, эксцессы – отодвинут нас назад сразу на несколько веков. А вся область, так сказать, религиозная, почва разных вер и суеверий – самая опасная в смысле зарождения революций. Фанатизм религиозный и революционный весьма близки по духу.
Он остановился, но никто ему не возражал.
– Я знаю, что вы скажете, – начал опять изящный исправник, прихлебнув коньяку. – Вы скажете, что в Петербурге не совсем так смотрят. Но позвольте, – он поднял руку, – есть Петербург и Петербург. Откровенно говорю: мой взгляд совпадает с твердым, трезвым взглядом правительства. Разумный прогресс, мирные реформы, стремление к законности, постепенное улучшение экономических условий – и никаких эксцессов, откуда бы они ни исходили. Да, вот, не угодно ли: я у вас «крамолу» ищу; но с тем же правом я готов ее искать и у лаврентьевцев, да-с; мне все равно, что ваши мужики думают этак и так, а лаврентьевцы орут про самодержавие да православие; пусть там между собой считаются, для разумного политика, для трезвой государственной власти – они равны, дух один, эксцессы, революционность, – крамола, если угодно. Да-с. Мы не дети. Ход истории тоже можем наблюдать. Железный ход. Что недавние выборы доказали? Принялись мобилизировать духовенство… И что вышло? Ничего не вышло.
Коньяк, жаркая комната, собственное красноречие необыкновенно возбудили Олега Карловича. Красный, с блестящими глазами, он чувствовал, что убедителен. Литта смотрела на него с любопытством; а ему казалось, что она невольно сочувствует.
Роман Иванович все больше хмурился. Он с утра чувствовал себя нездоровым, левая щека дергалась, он едва сдерживал возбуждение и злость.
– Что же, – сказал, кривя губы. – Во многом вы правы. То есть вы отлично поняли, чем пахнет.
– Совпадение! – пожал плечами Курц. – Голубчик Роман Иванович! Ведь, по совести, не могли же вы меня считать за бурбона, за допотопного черносотенника? Какой же культурный человек может в данный момент не стоять открыто за прогресс? Вы сами из Петербурга и, я знаю, не лишены связей. Каков дух нашего времени – вам отлично известно. Помните крылатое слово одного из наших?.. В частной беседе, просто, от души – но замечательно!
– Не помню крылатого слова, – угрюмо проговорил Сменцев.
– А вот. Было сказано: «я ничего не имею против прогресса, если он ограничен с одной стороны координатой государственности, а с другой – русской идеей». Совершенно точно.
Флорентий спросил:
– Это вам нравится?
– Какая точность!
– Просто безграмотно.
Культурный исправник вдруг обиделся и надулся. Коньяку в первой бутылке уже не было, начал вторую.
– Как угодно. Я стою за мысль и за факт. И да процветает Россия с ее прогрессом под покровом разумной и твердой власти!
Он хватил сразу полстакана, вытер усы.
– Мне, однако, и до дому пора. Засиделся у вас. Роман Иванович, Флорентий Власыч, я к вам нынче гостем, так уж, просто мы поговорили… ну, знаете, между культурными людьми какие счеты… Раз есть взаимопонимание. Я, видите ли, пока насчет этих самодержавно-православных лаврентьевцев не имею инструкций, это все в будущем… У вас же кругом сектанты, случилась теперь эта нелепая история… В селе неспокойно. А тут библиотека, чтения были… Ребята, вон, песни какие-то глупые орут… Мало ли что. У вас, у интеллигентного петербургского человека, всегда может случиться какая-нибудь книжка, листок… Придерутся.
– Это что же, вы думаете у нас обыск делать? – спросил Флорентий.
– Все может случиться. Как уж пошли эти нелепости, веры да миссионеры… Я пока ни хуторских, ни заречных не трогаю, видите. Но ведь если что будет из Петербурга… Пойдет расследование. А тут еще лаврентьевцы, не дай Бог, впутаются… По мне – они куда опаснее ваших, да ведь их теперь не укоротишь пока…
– Хорошо, – улыбаясь вбок, сказал Роман Иванович. – Спасибо за совет. Было бы что прятать. Боюсь, что вы в заблуждении, Олег Карлович. Коли что у нас есть – так оно вроде же лаврентьевцев. Право. Пусть хоть и опаснее, на ваш взгляд, – а уж не потаю: особой разницы нет.
Исправник искренно удивился:
– Да что вы? – И он с наивностью округлил глаза. Сейчас же сощурил их, впрочем.
– В тонкостях веры я не разбираюсь. Но позвольте усомниться, не могу допустить, чтобы вы лаврентьевское грубое черносотенство проповедовали.
Роман Иванович нетерпеливо пожал плечами.
– Все у вас слова страшные. Не любите тонкостей, ну а я люблю. Лаврентьевцы грубы– откиньте грубость. Идея, утончившись, может сделаться интересной.
– Как хотите, не понимаю. И признаюсь, вы меня окончательно запутали. Знаете, – прибавил, понизив голос и таинственно склонившись к Роману Ивановичу, причем обдал его винным запахом, – уж мы откровенно говорим, так шепну вам по душе: бумажку-то я осенью показывал; ведь, пожалуй, она и хуторская? Так, про себя думалось. Мы же не дети.
– А если бы и хуторская? – медленно проговорил Сменцев, глядя прямо в пьяное лицо неблестевшими глазами. – По душе говорить, – так по душе. Что ж вы там нашли противного лаврентьевцам? Определите, пожалуйста.
Курц определить не мог, он и бумажку-то забыл, помнил только впечатление. От холодного и упорного взгляда Романа Ивановича и оттого, что был пьян, – смутился, осекся. Растерянно улыбаясь, отступил, махнул рукой.
– Право, не знаю. В тонкостях не разберусь. Это дело метафизиков. На мой личный взгляд – лаврентьевщина столь же… то есть я хочу сказать – она опасна, нежелательна, революционна… Но это, конечно, между нами. Как политик – я тонок, слишком даже, а разбирать оттенки идейных верований…
– Я вас вполне понимаю, – сказала вдруг Литта очень серьезно. – Для вас, – подчеркнула она, – разницы пока нет.
Олег Карлович счел это за поддержку, возник, заговорил что-то любезное и путаное, обращаясь к Литте. Все встали. Гость заторопился.
– Еще раз спасибо, – усмехаясь, сказал Роман Иванович. – Будем вас поджидать. Авось обойдется. А отец Лаврентий – ничего себе, не без толку человек. Я к нему езжу часто.
– Неужели? – уже с порога удивился исправник. – Вот как, тем лучше. Право, я надеюсь, все уладится. Значит, что лаврентьевщина, что ро… только детальные различия? – засмеялся он.
– Я вас провожу.
Угрюмо Флорентий взял спички (фонарь в сенях), накинул полушубок, висевший у дверей, и вышел вслед за гостем.
Скоро зазвенели бубенцы на дворе и еще звенели, удаляясь, когда вернулся Флорентий.
Роман Иванович, темнее тучи, опять расхаживал по комнате.
Не торопясь, Литта встала из-за стола и, подойдя к Сменцеву, сказала:
– Это у вас был тактический прием? Все равно, вы не имели права говорить так про нас и про лаврентьевцев. Не имели права.
– Что? – в изумлении поглядел на нее Сменцев. – Что такое?
– Этого говорить было нельзя, даже в шутку, даже ради выгоды, – твердо повторила Литта, не опуская глаз. – Да и что за выгода – перед ним?
Сменцев пожал плечами, рассмеялся. Повернул в другой угол, но там встретился с упорным взором Флорентия.
– Роман, я думаю так же. Тоже не понимаю, зачем ты это сказал.
И от него Сменцев досадливо отмахнулся.
– Непонятлив стал. Поймешь.
Сделал еще несколько шагов по комнате, видимо занятый своими мыслями, потом раздраженно заговорил:
– Пора прекратить комедию. Да, все равно в конце концов, что мы, что лаврентьевцы какие-нибудь. Все равно. Карлушку-исправника нечего презирать: сообразительный. Барышне, – насмешливо он взглянул на Литту, – позволено романтикой питаться, а ты, Флорентий, не новичок, да и со мной много соли съел.
Он говорил отрывисто, раздраженно и больше, чем всегда. Говорил точно для себя.
– Я все это давно предвидел. Не программы нам обсуждать. Да и какие программы? Есть только один выбор, Карлушка прав: «прогресс или эксцесс». Я выбрал эксцесс, Курц и иже с ним – прогресс; вот мои противники. Я выбрал конец палки; таков я и мое дело. Палка о двух концах, они для меня равны, который ближе, за тот и ухвачусь.
– Говорите дальше, – прошептала Литта, бледнея.
– Что же дальше? Все просто. Это нелепое дело – пустяки, мы его с плеч спихнем, это случайность. Главное же – тянуть дальше на общих словах нельзя. По времени – нам необходимо определиться в известную сторону революционного движения; того, которое сейчас возможно. Лаврентьевцы грубы; но за ними сила большая. Ее можно использовать, с умом, конечно.
Литта невольно взглянула на Флорентия. Но тот сидел с опущенными глазами. Лицо было неподвижно и как будто спокойно. Роман Иванович остановился перед ним.
– Времени и так довольно потеряно. Ты много напутал. Тебе и поправлять. Сразу, конечно, всего не сделаешь, ну да позаймемся. Люди славные. Есть, которых ты определенно свихнул, так и черт с ними. Начни с Хрисанфа. Говори от моего имени. Ведь твердил, чтоб как можно общее составлять прокламации! Да ладно. Кстати, и легенды помогут. С монастырскими я говорил. Элемент положительно годный. Лаврентий не успеет испортить, зарвется, полетит, а они останутся.
Помолчал минуту.
– Так начинай с Хрисанфа. Геннадию я сам два слова шепну, он хоть желторот, а сейчас поможет. Кто, ты думаешь, у нас из безнадежно свихнувшихся?
Флорентий прокашлялся.
– Я, Роман, первый… Я сам из них.
– Ах, не до шуток. Литта, – обернулся он, – вы лучше пока не мешайтесь. Посмотрите сегодня с Флорентием, не осталось ли бумажек в переплетной. Уничтожьте лишние. А есть Варсисовы кое-какие – отличные. Куда нужно, туда и повернешь.
Литта покачала головой.
– Я не буду отбирать бумажек, Роман Иванович.
Он посмотрел на нее; в первый раз, кажется; провел рукой по лицу.
– Капризничаете? Как угодно. По правде сказать, теперь не до вас.
– Нет, до меня, – упрямо сказала Литта. – Мне очень важно понять, что происходит. Насколько вы серьезны, насколько в вас говорит раздражение, досада… почем я знаю?
– Ах, вы желаете дальше объясняться? Успеем.
И, улыбнувшись, как ни в чем не бывало, очень спокойный, он взял Литту за руку.
– Дорогая, я вас растревожил напрасно. Я думал, что вы глубже и проще понимаете дело и наших людей. Может быть, резко говорил, но… – он выпустил ее руку, – надо же, наконец, сказать… а сути это, конечно, не меняет.
Литта растерялась было от перемены тона, от его внезапного спокойствия. Но лишь на мгновение.
– Хорошо, поговорим после, – и она встала. – Теперь я пойду к себе. Фонарь в сенях, Флорентий?
Флорентий молча помог ей одеться, оделся сам, и они вышли.
Надо было перейти двор. Черный, острый ветер хлынул в лицо. С высоких сугробов сыпало мелким снегом, точно жгучим песком. Ни одна звезда не блестела вверху.
Кое-как дошли. Крыльцо не заперто. Боковым ходом, минуя настывшую залу, мимо библиотеки и комнатки, где спал Роман Иванович, пришли к лестнице – и наверх.
В комнате Литты, рядом с переплетной, тепло и светло. У стола – Ленуся Жукова, круглолицая хуторская девушка, сестра Миши. Она с удовольствием согласилась «походить за барыней», скоро сдружилась с Литтой и даже днем оставалась в «доме».
– Флорентий, подождите одну минуту, одну минуту! Он покорно остановился в переплетной, в полушубке, как был, с фонарем.
Литта быстро разделась. Заглянула с порога в спальню, где Лена шила у стола.
– Ленуся, ты плакала? Что-нибудь случилось?
Лена подняла было голову. Но опять низко наклонила ее.
– Скажи, Ленуся, о чем? Флорентий, да спросите же ее!
– Я уж не плачу, Юлитта Николаевна. Люди на хуторе наговорили чего ни чего. Там у нас поди-ка…
Закусила губу, замолчала. Потом вдруг горячо:
– Солдаты, бают, придут… Митька мой с Заречного, нас, ребят, говорит, много таких… Понаденем, говорит, чистые рубахи, и пущай. Хоть раз-то за правду постоим. Что хуторские, говорит, что мы… Помнить, мол, надо, хозяина не выдавать. Флорентий Власыч наказывал…
Она всхлипнула.
– Теперь «раклов» этих, монастырских, тоже понаб-рело… Мы, говорят, на вас докажем, дай срок, начальство приедет… И что будет, Господи! Хоть вы бы поговорили им, Флорентий Власыч. Вовсе спутались. Митьке-то нынче монастырский один говорит: ваш хозяин сам у нашего батюшки ручки целует, а вы, не чем покориться, бунтуете… Митька за ним. Было бы дело, да удержали.
Флорентий поставил фонарь и шагнул вперед.
– Ничего, Ленуся, молчи, – сказал ласково. – Я завтра с утра на хутор пойду, оттуда в Заречное. С Митькой поговорю. Не спориться бы вам с монастырскими. Ну их, право. Ты не реви, даст Бог – обойдется. Уж я знаю.
Он ласково погладил девушку по голове, вышел опять в переплетную и взялся за фонарь.
Литта выбежала за ним, приперла дверь в спальню и схватила Флорентия за рукав полушубка.
– Постойте. Скажите мне… Да нет, не надо, не надо. Ведь это же ребячество, что он говорит, разве возможно так взять – и перевернуть? Не выйдет же? А что он мог сам перевернуться, разве вы не знали?.. Не могли знать?
Тихо освободил Флорентий свой рукав, тихо сказал:
– Оставьте меня, Литта. Мне тяжело говорить. Ну, знал… да не понимал. Не хотел понимать.
– Флорентий, Флорентий… Так верили?
– Они его любят. Свято любят, хорошо: лучше, чем он хотел бы.
– Зачем, Господи, зачем?
– Нет, Литта. Ничего. Надо только понять, кого любишь. Ведь он… разве он? Не он. Призрак, мара… Не бойтесь, – прибавил он, слабо и странно улыбнувшись, – я никого призраку не выдам. Ни себя, ни вас, ни их всех… И дела настоящего ему не предам.
Не понимая, с ужасом и болью глядела она на него широко открытыми глазами. Залепетала отрывочно, спеша, свое, о чем думала, что хотела раньше сказать:
– Он всегда, всегда соображал… не решался, что выгоднее… Где скорее удача… Выбирал, куда. Ему все равно, какое во имя. Лишь бы шли, лишь бы власть. Он ведь для себя. Он только в себя одного верит. А больше ни во что. Не теперь, так потом, повернет, куда сам захочет. Не лжет, все молчит, а мы верим. Куда захочет.
Флорентий, кажется, не слышал. И она остановилась, не зная, что еще надо, как сказать то, чем полна душа. Ведь нельзя же, ведь надо бороться… А она опять одна, Флорентий смотрит не видя, не слушает… О чем думает?
– Флорентий, Флорентий! Что же нам делать?
Он глубоко вздохнул, точно проснувшись. Обнял Литту, нежно и тихо поцеловал ее в лоб; тотчас же повернулся и вышел. Пятно фонаря побежало за ним, скользнуло за порог и сникло. Литта осталась одна в темной переплетной. Только яркая, желтая полоса светилась под дверью в спальню.
Захотелось упасть на темный пол и плакать громко, долго, кричать и плакать. Но только губу закусила, – нет! И даже ни секунды не осталась дольше в этой темноте. Пойдет, поговорит хоть с Ленусей. Если б не ночь, не вьюга на дворе!
Глава тридцать четвертая Единая власть
Выйдя из дому, Флорентий закрыл фонарь и остановился на дворе.
Сверху не сыпало; только острый ветер порывами хватал и крутил снег на верхушках сугробов. Если привыкнуть, уж не так черно: мутно белели снега, белее неба, темнел вдали забор, огоньки мелькали во флигеле.
Флорентий постоял, потом тихо побрел по двору. Часто Роман Иванович ночевал не в большом доме, а во флигеле. Пожалуй, и сегодня так будет. Дорого бы дал Флорентий, чтобы сегодня остаться одному.
Впрочем, не надо. Он решительно направился к флигелю.
Романа Ивановича застал за ворохом бумаг. Лицо внимательное, но повеселевшее, ясное.
– Смотри-ка, Флорентий, – сказал, не подымая головы. – Даже досадно, что приходится вот эти, Варсискины, уничтожать. Великолепные, по времени как раз. Очень бы пригодились. Да незаконно отпечатаны. Свезу-ка я их завтра, припрячем пока в месте злачном, а там видно будет!
Флорентий ничего не сказал, разделся и прошел за перегородку.
– Да что с тобой? – уже другим, более строгим голосом спросил Роман Иванович.
Опять не ответил Флорентий. С полминуты длилось молчание. Шуршали бумаги, шипела плоская висячая лампа над столом.
Флорентий, наконец, вышел, стал в дверях.
– Ты завтра в монастырь поедешь, Роман?
– Если успею. Завтра думаю в город опять. Авось что-нибудь удастся. Ведь глупо же, право. А в монастырь послезавтра. Варсиса надо выписать, непременно.
– Послушай, Роман… – начал было Флорентий и остановился.
– Ну, что? А впрочем, не говори. Сам знаю. Барышня, наверно, взбунтовалась. Жалею, что при ней пришлось так, сразу. Скверная у нее школа. Ты же меня, Флорентий, изумляешь. Блажишь и наивничаешь. Опомнись, сделай милость.
Говорил рассеянно, пробегая бумажки, откладывая одни, разрывая другие.
– Значит, мне завтра к дьякону?
– Да, первым делом. За него я не боюсь, Варсис отлично подготовил. С осторожностью, конечно, взяться.
– Не послушает?
– Пустое. Наконец можешь передать, что я приказываю. Пусть не разбирается до времени. Торопиться, однако, не следует, мы незаметно руль повернем. Наладится дело. Сейчас – для серьезных выступлений рано. Зачем на глупости лезть. Оттого и злят меня случайности. А тут еще зима – самое русское бунтовское время. Зимы следует опасаться, если рано, не подготовлено как следует. Зато коли быть в России не бунтику, а бунту – тоже к зиме надо пригонять.
– Роман, а как же ты тех-то, петербургских-то, заставных, поворачивать будешь?
– Заставных? Да, да, конечно… посмотрим, подумаем… Время терпит… – Он рылся в бумагах. Вдруг поднял глаза и, вглядевшись в бледное лицо Флорентия, сказал уже внимательнее:
– Да ты, кажется, серьезно расстроен? Чем? Бросил бумажки. Поднялся.
– Мне жаль, если я тебя огорчил, – произнес мягко. – Ведь тут недоразумение, друг. Барышне свойственно ужасаться, не понимать реальности; да придет в разум. Не глупая. А ты-то что?
Флорентий молчал.
– Собственно, и перемены никакой нет. Мы выжидали, соображая, за который конец палки – помнишь о палке? – хватать. Само собою пришло время определиться. Ну и будем определяться. Своего достигнем, не бойся.
Помолчал, усмехнулся.
– Знаю, что барышню смутило, да и тебя за компанию. Как это красное знамя – да вдруг на белое, а то и на черное сменить? Экое фразерство! И пятого и десятого хочется, да еще чтоб и ручек не замарать. И Бога подавай, – и свободы, равенства сию минуту. Нет уж, голубчики, коли на Боге строить, единовластия не обойти. Так ли, иначе ли, говори слово, не говори – выйдет на одно. Вот мое дело; а я в нем – кто? Не хозяин? Ошибаешься. Роман ли, Степан ли хозяин – это уж вопрос второй. Только оттого и дело есть, что есть хозяин. Я вот с ними, с нашими, не говорил, а их психологию лучше твоего знаю. Да и твою, пожалуй. И ты от хозяина работал. Что ж вдруг бессмысленные мечтания одолели?
Флорентий молчал. Глядел без испуга, с глубоким вниманием и как-то чуждо. Чуждым голосом, глуховато проговорил наконец:
– Да, у меня все иначе… Я иначе думал… и думаю. Роман Иванович собрал отложенные бумажки, спрятал их в боковой карман, кучу на полу отпихнул ногой. Произнес немного резко:
– Ну, это меня не касается. Думал так, вышло иначе. Поговорим на досуге. А сейчас думай о деле. Завтра я, значит, уеду, а ты к Хрисанфу, подготовь его. Собирать опасно. Не забудь и Кучевых. С ними надо очень осторожно. Пока гни на успокоение. Выберемся из истории, пойдет гладко.
– Это сжечь? – указал Флорентий на полуразорванные бумаги. – Ты идешь в большой дом?
– Да. Поздно уж. К царевне нашей наверх не зайду. Пусть одна подумает. Да и рано вставать завтра.
Он накинул темную шубу.
– Фонаря не надо. Постой, вот еще что. Где наши револьверы?
– Где-то… у меня. Я сам думал…
– Вот то-то. Вероятнее всего – обойдется. Но следует предвидеть и невероятное. Если эти ослы идиотски раздуют пожар, начнут действовать, пригонять, чего доброго, солдат… Дураки полезут на стену… Не удирать же нам. Тут уж бери, что есть, поздно.
Махнул рукой.
– Да вздор, обойдется. Револьверы завтра посмотрим, приведем в порядок. Во всяком случае – скоро только сказка сказывается.
Уже выходил, когда Флорентий негромко и задумчиво его окликнул:
– Роман! А Ржевский? Он согласится на это, надеешься?
Блеснули зубы под черными усами.
– Ржевский? Не согласится, так черт с ним! Дело мое, я за него и отвечаю. Не о людях думаю, а о деле прежде всего.
С визгом хлопнула дверь в сени. Роман Иванович ушел спать.
Глава тридцать пятая Потом скажу
Бывает, что Литта с величайшим равнодушием думает обо всем, кроме себя. Роман Иванович, мужики, Пчелиное, Флорентий, какие-то устроения, идеи, организации, Россия, общественность, правительство, церковничество, – что за пустяки! И что ей-то до всего этого? Пусть будет, пусть не будет… Она, Литта, для себя первая, сама для себя все, у нее своя жизнь, своя боль, своя любовь… Да, вот это. И кинуться сейчас, закрыв глаза, прочь от этих ненужностей, найти Михаила, – все равно какой он, лишь бы он, – обнять его, все ему сказать, пожаловаться милому, родному человеку, и пусть он утешит, и пусть будет только то, что между ними двумя, только они двое, только их любовь. Одно это важно, одно это есть.
Так бывает… когда боль вдруг обострится, истончится, иглой нижет, терпеть нельзя. Бывает – и проходит, и снова Литта ясная, бодрая, снова идет, сжав зубы, потихоньку, туда, куда думает, что надо. Не для себя и для себя.
У нее большой козырь в руках: видит Романа Ивановича. Следила, ждала – и вот, все выходит так, как она ждала. На нее он сразу после Москвы будто перестал обращать внимание; порою скажет что-нибудь полунасмешливо и ласково; но редко. И это она понимает: отчасти политика, отчасти искренняя забывчивость – ему не до нее. И сердит он: не уверен, не ясно видит, что с ней происходит. Может быть, думает все-таки, что «обойдется», что ей уж некуда, только за ним. Разно думает, когда о ней думает.
Еще утешение у Литты: вспоминая, что «барышня», вспоминая мужиков на Стройке, боялась, не оказаться бы и здесь чужой и ненужной среди чужих, – но так не вышло. Сама ли иначе взглянула, или они тут иные, но месяца не прошло, а Литта на хуторе, и в Кучевом, и на селе даже – как дома. Знает «своих» в лицо, знает дела и обстоятельства каждого, видит, куда кто гнет, кто крепче, кто глупее; одних больше любит, других меньше. Говорит с ними просто, спорит, иной раз даже ссорятся в споре. С Иваном Мосеичем совсем было раз поссорилась – Флорентий помирил.
Замечала, какое у всех благоговейное почтение к «хозяину» – Роману Ивановичу. Недаром же и ее «королевной» зовут. Сердилась, пугалась, но молчала, еще не смела сказать ничего, – как сказать? Что сказать?
Если б Флорентий… Флорентий видит теперь…
Нет, трудно, трудно. Голова идет кругом. Все равно. Сейчас уж нельзя. Если дольше молчать – это поворот за Романом Ивановичем. Пусть выясняется.
Еще темно было, когда встала. Видела в окно, как среди рассветного сумрака уехал Роман Иванович куда-то с Мишей.
Ленуся сбегала во флигель за кипятком. Чаю напились.
После вчерашней сиверки день удался ярко-красный, остроморозный. Деревья у дома закудрявились, отяжелели в белых ризах.
– Пойдем, Ленуся, на хутор, к вам. А после я к отцу дьякону пройду.
– Да и я, пожалуй, с вами потом на село. Нынче базар там, не знаю уж как что, будет ли чужого народа, – говорила Ленуся, кутаясь в красный платок. – Да поспрошать, не слышно ли чего, Господи!
Когда часа через два Флорентий вошел в крошечный, двухоконный домик отца Хрисанфа, он застал дьякона расхаживающим по зальцу. У окна с чахлыми геранями сидела Литта.
– Флорентий Власыч, ты, никак? – прохрипел дьякон, тряся бороденкой. – Ну, час добрый. Вчера поджидал. Меня вон, благодарение Господу, совсем отпускает. Время тут валяться. Иди, иди, что ль, да о притолоку-то не стукнись… Эх! Ведь постоянно говорю! Такая уж у меня квартира, холостая, а точнее сказать – вдовья.
Двери были, действительно, низки, и Флорентий опять забыл нагнуться.
Литту он сначала не заметил. Потом взглянул на нее бегло, поздоровался и отвел глаза. Сел в другом углу.
– Не топочи, дьякон. Дело есть. Мне время дорого.
– Ох, дела, дела. Ладно, присядем. И очень волнуюсь я. Уж говорила мне Иулитта Николаевна, королевна-то наша.
Флорентий, не слушая, перебил:
– Вот я зачем, чтобы ты знал и ведал. К тебе придут нынче из твоих хуторские Влас да Никита и заречный Степан. Больше нельзя, они передадут, кому надо. Поговори им серьезно. Эту историю постараться тишком сбыть, чтобы как силы у нас не разбили. За свое крепко будем держаться. Правду помнить. К своему приготовляться. Лаврентьевцы – враги нам, да глупы они, связываться с ними нечего. Мы не свару меж себя затеваем, не такое дело, придется пострадать, так чтоб было за что. К весне, а не то к осени объявляться надо. Полсела наших, да Кучевые, да кругом много, и лаптевцы, и корзухинцы… Сам знаешь. Наше дело не здешнее одно, везде наши есть, дело российское. За Божью да народную правду постоим.
Дьякон слушал отрывистую речь Флорентия. Гладил бороденку. Трусил.
– Да разве ж не знаю. Передавала мне это все Иулитта Николаевна. Вот-вот, сейчас. Решено, значит, у вас от Романа Иваныча?
Флорентий быстро взглянул на Литту и встретился с ее радостным взором. Сошлись у дьякона, не сговариваясь. Оба ослушались Романа Ивановича – не сговариваясь.
Флорентий не остановился. Слова его делались все резче и определеннее. Никогда он так не говорил. Дьякон окончательно разволновался.
Никто, кроме Литты, не заметил сначала, что вошел румяный студент Геннадий и стоял у двери.
– Так понял? – и Флорентий поднялся.
– Чего уж не понял. Слава тебе, Господи!
– Предлагаю не ждать! – крикнул Геннадий. – Я давно именно так и понимал Романа Ивановича. Идея грандиозная! Довольно слов!
Флорентий обернулся, нахмурился и крикнул тоже:
– Нет! Молчи или убирайся вон! Случайными обстоятельствами нечего ускорять событий. Будет указано время. Кто не понимает, тот пусть не лезет.
– Да я понимаю, – оробел Геннадий. – Я сам вижу и с Романом Ивановичем несколько говорил. Конечно, лозунги еще не были достаточно определены, более втайне держались. Еще нужна организационная работа..
– У нас есть и северный, рабочий, союз, – продолжал Флорентий. – Надо установить с ним связь.
Дьякон спросил:
– Куда хозяин-то поехал?
– В Лаптеве будет, из города Наших повидает. От них лаврентьевцы ближе, так чтоб не было недоразумений.
– Директив, значит, тот же? – перебил Геннадий. – Ну ладно. Я в Кучевой сбегаю, Флорентий. Поговорю с ними посерьезнее. Уж коли Роман Иванович решил…
– Пойдем вместе. Дьякон, сиди же и помни. Заносись повыше, говори свободно, только смотри, нынче надо, чтоб обошлось.
– А не обойдется?
– Божья воля. Душу не продадим, конечно. Стоять за свое, а уж там как придется.
Литта поднялась тоже.
– Я выйду с вами.
В сенях схватила руку Флорентия.
– Ты ему скажешь? – прошептала торопливо.
– Нет.
– Хочешь, я скажу?
– Нет, сестричка. Бесполезно.
– Флорентий, но ведь нельзя же… Ведь уж мы начали… против него. Ведь он узнает, ведь он тоже не остановится. Что же мы будем делать? Так вышло: здесь или он – или мы…
Флорентий освободил свою руку. Они уже выходили. Литта увидела близко его бледное, точно каменное лицо.
Губы, впрочем, усмехались. И опять глядел он странно: печально и грубо.
– Флорентий, о чем вы думаете? – сказала она, переходя на «вы» в ярком свете дня.
– Где же Геннадий? – обернулся он, не отвечая. Литта рассердилась.
– Да нельзя так! Что это будет? Как хотите, я должна ему сказать. Бороться, так в открытую.
– Бессмысленная борьба.
– Пусть! И пусть же они все знают, что я и вы – одно, а он… пусть! Пускай выбирают. Довольно этой лжи. Любят! Скажите! Да кого, кого все вы любите?
– Литта, довольно. Молчите, слышите? Сестричка, родная, ты не знаешь, как ты помогла мне, как много… Не отнимай, родненькая, молчи, молчи, верь. Все будет, я знаю. Подожди, я скажу тебе, потом скажу. Молчи.
Перед ней в крошечном снежном дворике дьяконовом, у частокола, на морозном солнце, стоял он, нежный, измученный, прежний – и не прежний Флоризель. Не стыдился братской нежности своей, ни боли, ни веры, ни мольбы.
– Жалей их всех, деточка, жалей, люби. С любовью ничего не страшно, никакие призраки не страшны. Молчи.
Вышел Геннадий, розовый, бодрый. Литта двинулась от калитки направо, к замерзшей Стрёме – они вдвоем налево, по селу.
Сверкали снега. На селе шумно – у Стрёмы яркая, блистающая тишина. Чуть вьются хуторские дымы за речкой, за кудрявой купой белых деревьев.
«Куда я иду? Домой? Зачем?»
Остановилась. Нет, пойдет хоть домой пока, обогреться, а после ведь обещала опять Жуковым. Успеет.
Думала, думала. Ясно было: нет выхода. Повторила: нет выхода… но странно, нет и отчаяния в душе. Не оттого ли, что ей все равно, что любит и жалеет себя одну, уйдет просто – и не оглянется?
Не оттого. А безразумная вера живет сейчас в ней, Флорентий разбудил ее, и, должно быть, ей, этой вере, ясен выход… которого нет.
Глава тридцать шестая Вместе
– Ладно, Василий, значит, так. Никого не слушай, свое помни. С Кучевыми уж где-где, а тут в полном будете сговоре.
Перед Флорентием, в морозных сумерках, у ворот усадьбы, стоят три мужика: один постарше, Василий, двое молодых. У Дмитрия, жениха Лены, лицо узкое как ножик, задумчивое и упрямое.
– Теперь идите. Я на тебя, Василий, надеюсь. А ты, Дмитро, помни, дело крепко завязано, так надо в разуме буть, прежде времени на рожон чтоб не лезть. Ни себе, ни другим воли не давай зря.
– Флорентий Власыч, позвольте еще высказать, – начал Василий. – Конечно, мы не понимаем, но я так, вслушиваясь, предрешал в себе насчет отца дьякона: мятущиеся мысли. Это довольно гладко, как вы поясняете, и мы всегда что за хозяина, что за вас – всей душой. Потому что правда истинная, и если со временем кровь пролить – тоже никуда не денешься. Теперь же, как вы окончательно пояснили, то тем более. А что отца дьякона касаемо, – он вот и по осени, и так говаривал – ясности совершенной нет. Наши тоже некоторые мекали: куда, мол, гнет? В каком смысле? Кучевые опять за него спорились. Мы бы рады, да как об нем разуметь?
Флорентий нетерпеливо пожал плечами.
– А ты не сомневайся. Если отец дьякон всего ясно сказать не может, на это глядеть нечего. Он в тех же мыслях, а только раньше времени – мало ли! – опасался. Его положение трудное. Теперь, гляди, обойдется. Свое помни, Василий; так и понимайте.
– Хозяин-то нынче не вернется?
– Разве он сказывается? – перебил Василия другой молодой мужик, Ипат, бледный и нервный, из бывших «духовных христиан». – Тебе чего его? Приедет кода надо. Может, он в Питер поехал. Тебе – помни, что наказано, вот твое и дело все.
Василий хотел что-то возразить, но Флорентий сказал быстро:
– Вернется ли, нет ли, ждать нечего. Идите с Богом, утро вечера мудренее.
Поговорили еще немного, тихо, попрощались за руку, пошли. Дмитро отстал.
– Флорентий Власыч, – зашептал таинственно, приближая к Флорентию узкое, упрямое лицо, и глаза у него чуть блеснули под вытертым мехом шапки, – что я гадал, Флорентий Власыч, хозяину-то пока не в верное ли место куда? Как если налетят, да не дай Бог начнут у вас распоряжаться, то да ее – народ-то узнает, подымется, пожалуй, не сдержать.
– Ладно, ладно, думано уж, – хмурясь ответил Флорентий. – Прямо тебе скажу, и другим передай: к нам без сомнения наедут, да пусть: пошвыряют, пошвыряют, с тем же останутся. У нас думано, не глупей тебя. Этак пусть, с народом чтобы только не подымали. И не подымут, видимое дело. А хозяину чего станется? Полно-ка зря болтать.
– Не станется. Заговоренный, што ль? – усмехнулся Дмитро в усы. – Ну, коли у вас думано, – так как. Счастливо, значит.
Флорентий остался один. Прошел в калитку. Чуть мерцает огонек во флигеле. В глубине двора, едва видный, темнел большой дом. Черны окна. Да Литтина спальня на ту сторону, не видать отсюда. А в переплетной огня нет.
Побродил еще по двору. Вызвездило.
Синь свет звезд и бестенен. Только черноту съедает.
Вот во флигеле стукнуло кольцо. Щурясь, пригляделся Флорентий. Литта идет в большой дом. Верно, ждала Флорентия, – не дождалась.
Он сделал шаг вперед. Остановилась и она, приглядывается. Повернула к нему.
Сошлись на дорожке, у высокого сугроба. Бледно и мутно лицо ее в свете звезд. Вокруг – снеговая тишина, снеговая и звездная. И тихо сказала Литта:
– Ждешь его тут? Мне остаться, может быть?
– Как хочешь. Впрочем, ты что думаешь? Литта, слушай, одно помни: он не виноват.
– Не виноват? – пролепетала она. – Как же не виноват?
– Так, ни в чем. Я долго думал, давно думаю, и вот знаю: он не виноват. Я виноват, и ты, и они все… нет, в том-то и дело, что они не виноваты; если обмануты – опять моя вина. Перед ними-то, за них и должен я понести… Ухранить, освободить, не отдать… Я один.
– Не понимаю, – опять растерянно прошептала Литта, вглядываясь в склоненное к ней лицо Флорентия, едва различая его черты под звездами. – В чем ты виноват? Что любил? Не знал?
– Я любил так, как нельзя человека любить, пойми, пойми же! Кощунственно я любил его. Ты думаешь – он, вот Роман Сменцев, плох, дурен, взял да в другую сторону обернулся? Думаешь, будь он получше… Неправда. Оттого и не виноват, что не мог быть не таким, каков есть: совсем нельзя на этом месте проклятом иным оказаться. Когда человек себя на место Божье ставит, уж от человека-то, может, ничего и не остается, и уж нельзя ему их всех… малых, не соблазнить. А я смотрел, молчал, отдавал, я сам перед ним – перед маревом-то! – благоговел как передне договорил, точно дыханье перехватило.
Литта быстро взяла его за руку.
– Флорентий, пойдем. Ко мне пойдем. Хочешь? Подожди, я понимаю, как ты думаешь; но это неправда про марево, он живой человек, только страшный очень. Мы поняли, – значит, бороться надо, не отдавать, с нами же правда…
Флорентий покачал головой.
– А они? Вот сейчас, вот эти все, которые за него завтра умереть готовы, за мечту свою, за любовь свою… Этих сейчас с ним оставить, на него?
– За них бороться… – неуверенно прошептала Литта.
– Нет. Сейчас, если борьба, – за себя она будет, за себя только возможна. А они пока пропадут, и дело пропадет. Нет, не отдам, собой покрою, любовь сберегу. Они поймут, Литта, ведь они же не его правой своей любовью любят, им вот марево это глаза морочит, не его же… а кого нельзя не любить – Того. Ему одному такая любовь принадлежит, Роман – только вор, по дороге ее перехватывает. Понимаешь? И если я вижу, и всю вину свою долгую, смертную, увидел – я уж о них одних, о малых, и могу думать, уж ни о чем, ни о ком… Оставь меня.
– Флорентий, нет, нет. Но ведь я тоже виновата. Пусть ты будешь не один. Я – с тобой…
Она цеплялась за него, тянула его куда-то. Не знала, понимает ли до конца?
– Со мной… – он еще ближе наклонился к ее лицу. – Не надо, Литта. Ты уж много помогла мне. Пусть моя вина, моя любовь, мой ответ.
Опять не договорил. И вдруг с нежной мукой, с робкой жалобой взглянул ей в глаза, близко.
– Сестричка, ведь мне тяжелее смерти… одному? Сестричка, может, ты сказала – со мной, а сама, может, не понимаешь, куда я иду? Что я… что надо сделать?
Литта молчала, леденея. Морозные, слабо переливались звезды наверху.
– Ежели со мной… ежели вместе… Тогда сейчас уходи, уходи, я и буду знать. Не стой, не жди. Я буду знать, что вместе… что я не один.
Хотела двинуться – и не могла. Ноги точно приросли, примерзли к снегу. О, зачем она!.. Лучше бы не понимать, не знать! О, если бы ничего этого не было!
Флорентин поднял голову, прислушался. Нет. Показалось.
Проговорил совсем спокойно:
– Думал – уж он. Да, пожалуй, в монастырь, к отцу Лаврентию завернул… Приедет.
Вдруг успокоилась и Литта. Или просто холод до сердца дошел. Ясная, прозрачная, крепкая льдинка вместо сердца. Только о нем, только вот о Флорентий…
– Прости, – сказала и обняла, холодными губами ища его губ. – Я с тобой. Пусть наша вина. Я с тобой.
И разомкнула объятия, пошла, не оглядываясь, к дому, быстро, – и затерялась в синей тьме снегов и звезд.
Флорентий постоял, поглядел на тусклый огонек во флигеле. Теперь там пусто. Миша с Романом Ивановичем уехал, старуха-стряпка спит в пристройке. Тихо.
Вышел на дорогу. Долго бродил. Звездный пар наверху. Внизу точно снег светит.
Скрипят полозья? Или опять кажется?
Из-за поворота сразу выскочили сани. Флорентий посторонился. Санки остановились у ворот.
– Я отопру, – сказал Флорентий. – Ты один? Роман Иванович оставлял иногда Мишу в городе или где по дороге, когда на другой день собирался туда же выехать.
– Иди, намерзся, я лошадь уберу, – продолжал Флорентий. – А как дела?
– Дела недурны. Ведь где я был! Обещали серьезно с мужиками историю замять. Полагаться, закрыв глаза, на обещанья нечего, конечно, а похоже, что образумились. К нам приедут, да это пустое, формальность, пороются, коньячку попьют… А у тебя как?
– У меня хорошо. С дьяконом серьезно говорил. И с другими. Лучше надеяться нельзя.
– Вот спасибо, друг. Пора, пора нам перестать на месте топтаться. Потихоньку наладимся. Я завтра же и сам определенно кое с кем поговорю. Варсиске телеграмму послал, прилетит. Кончай скорее, еще потолкуем.
Он прошел в сени. Флорентий возился с лошадью.
Глава тридцать седьмая Черт
Что это такое?
Неяркий тупой звук. Точно упало тяжелое где-то, грузное, незвонкое.
Такой неяркий звук можно бы не услышать, если б не был он дик, нейдущ ко всему, что здесь, несхож со всеми звуками, возможными здесь.
А Литта ждала его. Ждала, потому что вот, не прислушиваясь больше, не медля дольше, она бежит по темной лестнице вниз, вниз, ощупью отворяет дверь, опять бежит, спотыкаясь, скользя, не замечая, что вязнут в снегу тонкие туфли, мокнут чулки.
Сто мыслей сразу в голове, коротких, глупых, даже не мыслей вовсе. И как во сне бывает: ноги бегут, дыханья нет, а почти не двигаешься.
Вот крыльцо, одна ступенька, другая, третья, четвертая. Как тихо. Как темно. И никого нет. Странно, что никого нет и тихо-тихо. Точно навсегда тишина и темнота; точно все уже под землею.
Шарит в сенях по двери. Кажется, нет двери, сплошная темная стена, не откроется.
Но нашла, отворила.
Теплом и пахучим дымом ударило в лицо. Вся комната в дыму. Сизеет он пологом на огне лампы. Не крикнула. Быстро, тихо стала звать:
– Флорентий! Флорентий! Да где же?..
Прозрачнел дым. Увидела Флорентия, на коленях около дивана. Обернулась – увидела, на столе без скатерти, серые тряпки, пролитое масло, темную коробку, два револьвера. Ведь еще днем она заметила их на окне, да, да! Флорентий что-то сказал о них – не слышала. Нарочно не слышала. Это помнит, что нарочно.
Теперь дальний лежал боком, косо. Схватила его – теплый.
– Осторожнее, – прошептал Флорентий, чуть-чуть обернувшись.
– Вы их чистили, да?.. Твой заряжен был… Пусти меня. Он жив? Жив?
Флорентий протянул руку, отстраняя:
– Жив. Молчи.
Но она наклонилась к дивану, к смуглому лицу с открытыми глазами. Голубоватая тень всплывала, просачивалась сквозь смуглость. Все резче делались угольные полосы бровей. Кипела розовая пена на скривленных губах, кипела и опадала с каждым вздохом.
– Где рана? Вот здесь? Ты положил полотенце, Флорентий? Крови нет почти… Только на рубашке немного. Постой…
Глаза под изогнутыми бровями медленно-медленно повернулись. Между стонущими хрипами прорывались теперь слова:
– Да что… же вы? Ра…нен. Докто…ра. Ра… докто… Ты, Фло… Черт зна…ет. Черт…
Полухрип, полукрик – в нем потерялись слова. Крупная, волнистая дрожь стала бегать по телу. Взор погас, но не совсем.
– Флорентий!
Схватила его за плечи, наклонилась, посмотрела близко-близко в голубые, темно-посиневшие глаза. И тихо-тихо сказала, точно не ему сказала – себе:
– Я с тобой. Я с тобой.
Никто не слышал ни скрипа ворот и полозьев, ни стука, ни шагов. Но едва отворилась дверь, едва блеснули пуговицы мундиров, загорелся блик на ружье первого стражника – Литта уже поняла, кто это, зачем. Все ясно; все просто; простая, холодно-льдистая ясность и в ней.
– Господа, несчастие. Роман Иванович ранен. Взгляните!
Она взяла ближайшего за рукав, потащила к дивану. Это был исправник, барон Курц. От неожиданности он выкатил глаза и упирался.
– Они смотрели револьверы. Роковая неосторожность. У Флорентия случайно был заряжен. Да взгляните же!
– Сударыня… Графиня… Pardon! В чем дело? – упирался Курц. – Мы при исполнении своих обязанностей… Конечно, такое несчастие… Но позвольте! Это как же?.. Сейчас произошло? При вас?
Литта взглянула на свои мокрые туфли.
– Нет. Не при мне. Я только что ушла, мы сидели вечер вместе, говорили… Начали они чистить их при мне. Едва я успела уйти в дом, раздеться, вдруг… Прибежала в одном платье… Ах, да это все потом! Нельзя медлить. Рана тяжелая, но он сейчас был в сознании, требовал доктора… Надо везти его в город, в больницу, – так скорее, понимаете? У вас лошади, я поеду сама с ним. Ни минуты нельзя медлить. Несите его!
Исправник, да и другие, совсем растерялись. Она так властно требовала; раненый хрипел.
– Но, сударыня, я по долгу службы…
– Вы ответите! – сверкнула Литта глазами. – Сейчас же велите нести больного, давайте мне провожатых. А там делайте, что хотите.
О Флорентий все как-то забыли. Он сидел на полу, около дивана, прислонившись головой к ногам Романа Ивановича. Точно не слышал, ничего не видел, точно все это его не касалось.
Звенели, шептались, толпились, совещались. Курц струсил окончательно.
– Я не имею права, графи… сударыня. Но беру на свою ответственность… Эй, вы, там! – обернулся он.
Вдруг прибавил, путаясь, сомневаясь:
– Конечно, минуты дороги… Но… если послать за доктором? А пока – первую бы помощь…
– Подымайте! Осторожнее! Вот так! – распоряжалась Литта.
Схватила шапку Флорентия, короткую шубу его накинула на себя.
– Да ну же, скорее! Сюда!
Подняли. Раненый застонал глухо, словно из подземелья, задрожал сильнее, опять забормотал полувнятно:
– Черт знает… Черт… Черт…
– Флорентия Власыча я принужден буду, по всей вероятности… задержать, препроводить… – лепетал Курц, идя за Литтой к двери.
Она даже не обернулась.
– Ваше дело. Посмотрите на него: хоть воды бы дали.
– Ах, разве я не понимаю? Этакое несчастие. Лучшие друзья – и вдруг такое несчастие.
Фонари замелькали на дворе. Тягучий скрип сапог по морозному снегу, лошадиное отфыркиванье…
– Легче, легче!
Стоны едва слышны. Он укрыт шубой. Литта рядом. Кто-то с другой стороны лепится, избочается сесть, поддерживает раненого. Скрипнули, точно крикнули, полозья…
Флорентий все так же сидел на полу, прислонившись головой к опустевшему дивану.
– Позвольте, господа. Флорентий Власыч!.. Эй, да кто там? подай воды, живо! Флорентий Власыч!..
Глава тридцать восьмая Начало нового
В свете еще зимнего парижского дня, за столом, заваленным какими-то чертежами и картами, сидит длинный Юс и работает. Напевает вполголоса веселую песенку.
Робко позвонили. Никого, кроме Юса, в квартире Михаила. Надо идти отворять.
– Пардон. Ложеман мосье Ивакоф? Леттр…
– Да вы русский? Чего надо? Это вы третий день к нашей консьержке ходите? Дома нет.
Гость, молодой и румяный, совсем смешался. Глядел в ужасе на сутуловатого, длиннорукого, с бритыми щеками юношу, такого неприветливого, – и растерянно улыбался.
– У меня к мосье Ивакову… то есть да, письмо. Я бы подождал, если дома опять нет.
– Давайте письмо и уходите. Гость, однако, ожесточился.
– Нет-с, извините-с, я письма не дам. Вы не Иваков, так я не могу. Мне Юлитта Николаевна велела…
– Юлитта Николаевна? Да вы от нее, что ли? От нее письмо?
Гостю показалось, что он проговорился, что не надо было называть имени. Хотел уйти, отступил, но длинный Юс схватил его за рукав.
– Идите, что ли. Чего боитесь-то? Сами хотели ждать. Гость торопливо сдернул теплое пальто, снял калоши.
– Я ничего не боюсь. Это квартира Ивакова, я ему и передам письмо.
– Иванов мой друг, мы вместе живем. Сейчас его дома нет. Ежели вы от Юлитты Николаевны, так ждите.
Подтолкнул его вперед, в маленькую зальцу, где только что сам был, где стоял стол с чертежами. За них тотчас же и уселся опять.
Гость, помявшись, сел в сторонке. Не знал, как себя держать. Разговаривать с ним, очевидно, были не расположены.
На речке, на речке, На том бере-жечке Мыла Марусенька Белыя нози… –напевал Юс довольно громко и весело, возясь с чертежами. Шипела, раскалялась печка «саламандра», плотно влипшая в камин. Алея, каленея, точно раздувалась жабой.
…Белыя нози… Она их мыла И при-морозила…Гость слушал покорно, а Юс будто и позабыл о нем.
Напали на Марусеньку Серые гуси, Серые гуси, Лазоревы лапы…тьфу, очи…
– Песня-то у вас…
– Песня? Да… Песня как песня.
Че-рез дом, че-рез дорожку Шла старая баба, Шла старая баба, На скрипке играла, Сама припевала: Хрен да петрушка, Марусенька душка…Гость вдруг радостно подхватил в тот же тон:
Парей, сеньдерюшка, Под пологом подушка…Невольно захохотал Юс:
– Вон вы что? Дурью песню знаете? Она дурья, да с моей стороны, вот мне и лезет, чуть на душе весело…
– С вашей? Я еще по селу без штанов бегал, а уж песню эту пел. И теперь старики, случается… Теперь у нас в народе другие больше песни. Флорентий Власыч…
– Да вы Флорентия знаете?
– Господи, ну, а как же! Господи! Первый мой друг. На «ты» сколько лет. Впрочем, все равно уж, позвольте представиться: Геннадий Верхоустинский, сын священника в селе Заречном, что около Пчелиного. Я сейчас непосредственно из Пчелиного, с письмом к Ми… Ми…
– К Михаилу Филиппычу? – подхватил Юс. – Ну и ладно. Не слыхал о вас, да ладно. Из духовного звания тоже, из моих краев… Эка, вот поеду… Что Флорентий-то теперь?
– А там опять, на хуторе. Нельзя. Я, видите ли, сам бы не уехал. Да после происшествий… Из Московского университета меня все равно бы уволили. Ну, Юлитта Николаевна придумала: поезжайте в Париж учиться. Требовала. Недоучки, говорит, не имеют права на общественную деятельность, так и по заветам самого Ро…
– Сменцева, что ли? – перебил Юс. – Подумаешь! Да вы не кашляйте, я и Романа этого знавал. Лучше скажите-ка, да покороче, как там у вас, чего такое вышло?
– Ужасная случайность! По газетам, верно, знаете? Ну, Роман Иванович… говорят, скончался в ту же ночь. Флорентия на покаяние… видимое же дело, ведь такие друзья. Формальность, конечно; ему и срок сократили, теперь вернулся, оба с Юлиттой Николаевной, со вдовой, в Пчелином.
– Вон оно как. С чего же полиция-то очутилась на месте? Или вранье?
– Нет, правда. А у нас перед тем неспокойно было, – раздули, конечно, – полиция как раз на хутрр с обыском. Надо же! Это уж, впрочем, заранее готовились, пустяки, мы, главное, стремились, чтобы крестьян не мотали. Их бы и не тронули, пожалуй…
– А что? – с любопытством спросил Юс.
– А потом началось. Дело-то тишком, ночью случилось, никто ничего… Ну, пошли слухи; видят– на хуторе, в усадьбе никого, была, дескать, полиция, да что такое? Особенно же за хозяина, за Романа Ивановича, взволновались. Просто беда. На что дьякон – и тот ничему не верит… Вы, впрочем, их не знаете… Уж я сам голову потерял: ничего ведь не известно…
– Та-ак… – протянул Юс поощрительно. Он был заинтересован. – А потом?
– Потом, к счастью, вернулась Юлитта Николаевна, туда-сюда, кое-как уговаривать… Тоже энергичная барыня, да и слушают ее, жена, верят… Все же троих взяли, увезли. Флорентий надеется – отдадут. Да что я вам рассказываю! Дело не в фактах, а дух брожения интересен. Коли вы Романа Ивановича знали, – конечно…
Юс покачал головой.
– Черт ногу сломает, неразбериха у вас. Этот Сменцев, черт его… ну, покойник, так ладно… А я говорю – тоже раскусить-то его… Дельный, однако.
Геннадий подхватил:
– Вы думаете, я его тоже сразу? О, ведь тоже и не подойдешь. Молчит, бывало. Я, собственно, долго в его идею не мог проникнуть. Через Флорентия. Грандиознейшая идея! Конечно, голыми руками не взяться…
Помолчали. Надувалась, шипя, печка. Юс задумчиво мурлыкал:
Мыла Марусенька Белыя нози…Вдруг спросил:
– А что же Юлитта Николаевна? Как это она замуж за него выскочила?
– Мне тут ничего не известно, – признался Геннадий. – Такая удивительная, прямо удивительная. Под стать была Роману-царевичу нашему. Ну, и поженились.
Щелкнула входная дверь. И сейчас же вошел Михаил.
Геннадий едва взглянул на него – понял, несмотря на всю простоту свою, что это именно тот, к кому он послан. Залепетал что-то и сразу протянул толстый, чуть смятый пакет.
– Письмо вам, лично… от Юлитты Николаевны. Михаил удивленно повел на него глазами, посмотрел на Юса, побледнел слегка. Разорвал пакет: оттуда посыпались мелко исписанные листки. Тотчас же собрал их, спрятал в боковой карман.
– Вы из России?
Юс помог оробевшему Геннадию. Сообщил, как они разговорились из-за песенки. Стал передавать и весь разговор, но тут уж Геннадий разошелся, с охотой, подробно опять стал рассказывать о Пчелином.
Михаил слушал молча. Изредка задавал неожиданные вопросы. Склонившись к чертежам, едва слышно, весело Юс напевал свое:
Шиш, гуси, летите, Воды не мутите…Понемногу темнело. Геннадий вскочил:
– Задерживаю вас… Пора. Ну вот, слава Богу, так был рад…
– На днях еще зайдите, – сказал Михаил. – Только на днях, позже не застанете, вероятно.
– Ну, экземпляр! – засмеялся Юс, когда гость наконец ушел. – Темно, лампу зажечь. Да… Рубаха-парень. А дела-то, Шурин, а? Ладно как вышло, что мы с этим фон-бароном не связались. Пел хорошо, а черт их разберет. Наталью Филипповну не переспоришь, а только, право, погодить бы ей туда.
Михаил ничего не ответил и ушел к себе, в маленький свой кабинетик. Долго возился с лампой. Наконец сел к столу, отодвинул гору наваленных бумаг и книг. Вот они, мелко исписанные листки.
И он стал читать.
Жизнь Михаила в эти два месяца круто изменилась. То есть он сам изменил ее. Встреча со Сменцевым, Сменцев, каким он его видел и увидел, – все это дало последний толчок, родило нужную уверенность в себе. Выяснилась невозможность оставаться дольше в прежнем, неопределенном и отчасти фальшивом положении.
Тяжело досталась свобода; он не хотел рвать грубо старые, кровные связи, – но они рвались, все равно, и все равно было много чужой боли, чужого непонимания. Самые близкие («солдаты», – сказал бы Роман Иванович, «друзья», – зовет Михаил) – с ним. И он знает, что это недаром, не напрасно. Не обманет их.
На новых путях надо начинать сначала. Но Михаил не боится. Сначала так сначала. Не много их, всех, но и это ничего: люди будут, люди придут, коли есть куда прийти, есть место.
Когда случайно узнал Михаил, что Литта вышла за Сменцева (и когда он поверил) – показалось было, что кругом темно как ночью, а сам он проваливается. Но это недолго длилось. Почти физическим усилием воли отделил свою оскорбленную любовь, свое личное – от неличного и продолжал начатую работу со спокойным напряжением.
Последнее время жалость к Липе, а главное, ощущение своей вины перед нею тревожили его. Как же не виноват? Разве не оставил ее одну, без помощи, перед таким человеком, как Сменцев? Она влюбилась, – или это странно? Или не видел Михаил, какими очарованиями лжи владел этот человек, очарованиями, похожими на очарования истины? Не понял этого Михаил?
Понял. Но была любовь и вера. Без веры не стоит любить. Вера в женщину – обманна? Ну что ж, может быть, и не стоит любить.
Смутная история убийства Романа Ивановича опять ударила Михаила. Что это такое? Думал, думал, и о Флорентий думал, – вот, кажется, начинает понимать… и опять не знает, опять думает. Чувствовал скрытую трагедию – какую?
К Литте шевельнулось злорадство, и оно испугало: не жива ли любовь? Нет, нет, лучше оставить это все, забыть, узко уйти в свое, в ближайшее, в сегодняшнее, в правдивое и ясное. Всю веру, всю любовь, все уменье – сюда.
Но вот читает Михаил листки, исписанные милым почерком. Низко клонится над ними, читает, читает… осталось только два.
«…знаешь все теперь. О себе нетрудно было писать: о том, что после случилось, – труднее. Но ты видел Романа Ивановича, и как ни мало я знаю о вашем свидании, – верится, что ты этого человека понял. Или хоть начал понимать. Флорентия ведь понял? Может быть, не удивишься очень и случившемуся, поймешь и недосказанное?
Тайна смерти Романа – не секрет, который можно открыть или не открыть, а именно тайна. У кого нет своих глаз для нее, тот ее и не увидит. Любил? Да. Убил нарочно? Да. Или Роман Сменцев был виноват, изменил чему-нибудь, изменил себе? нет, нет! Подумай теперь, могут ли внешние в это проникнуть, поверить. А вот Наташа без слов, одной любовью поняла и знает. (Наташа хочет приехать, я рада. Так ждет ее Флорентий, так нужна она ему, – да и всем нам, верю в нее.) Могут внешние люди, совсем ничего не знающие, думать и так: Сменцев был обычный провокатор, вызвал полицию, Флорентий, узнав, поспешил убить его, нечаянность подстроил. Насколько это грубее и дальше от правды, чем то, что естественно думают все, – неосторожность. Но пускай. Хорошо, что есть настоящая правда и что мы ее знаем, что мы – в ней…
Тебя я увижу, Михаил, тогда, когда буду тебе нужна, когда ты делать начнешь и уверишься, что наше дело – одно. О личных отношениях – теперь ли говорить? Что мы знаем? Их может определить только будущее. Но опять говорю: будет нужно – напиши, передай, и я приеду в указанное место. Сейчас я не хочу оставить Пчелиное, не вправе, так чувствуется. А приехала бы и сейчас, ненадолго, если б надо было, пойми только меня.
Кончаю, много недосказанного, да ведь всего не передашь. Мне бодро, дух у нас здесь хороший. Живем пока с тихостью и мудростью. Флорентий – ясный; иной раз и ужасалась я, и слабела; а на нем ни тени: любовь, должно быть, хранит.
Ну, прощай… до свидания. Верь жизни. Она не обманет. Верь и вере своей, и делам по вере. Прощай».
Глава тридцать девятая Золотые цветы
Веселое солнце в дали голубой…
Они увиделись скоро, – скорей, чем думала Литта. Михаил хочет сказать ей живым голосом, что все уже есть, что начало их тяжелой и сладкой работе положено, – хочет услышать и ее живой голос.
Надо о ближайшем условиться. Не ждет работа.
Они съехались, на краткие часы, в забытом городке с острыми темными крышами, не русском, но недалеко от России лежащем. Тихий домик на выезде; поля, широкие, видны из окон. Точно улыбаются поля желтыми цветами – их раскрыло весеннее солнце. А над цветами, вверху, в лазоревой и золотой пустыне, смеются пронзительно, как играющие дети, – жаворонки.
Сегодня Литта уедет назад, в Россию. Флорентия Михаил станет ждать к июню. Наташа уже в России. У раскрытого окна стоит Литта, смотрит в поля, d небо.
– Какая весна здесь! А у нас только небо стало выше, на солнце сосульки длинные, дорога лоснится, а поля еще белы-белы.
Очень изменилась Литта: похудела, – или от черного платья кажется? Точно выросла. Загоревшее от воздуха лицо – резче; нет в нем прежней фарфоровой нежности, в глазах нет детской печали: глаза ясны и жестки. Она ли – милая, беспомощная девочка?
Она, потому что к ней – любовь. Но и любовь ломается: крепче, осторожнее, человечнее становится. И затайнее: о любви не говорили они совсем.
Лицо у Михаила серьезное, строгое. Думает о чем-то, соображает.
– Мне придется в Петербург сначала. Ненадолго. Люди там есть. Потом посмотрю…
– Да, да, не торопись, – обернулась Литта. – Поговори с Флорентием. У нас теперь тихо, да пусть хорошенько уляжется. Петербург сейчас важнее.
– А знаешь… – он сжал брови, – мне все-таки Пчелиное твое… не то, что неприятно, а смущает меня. Я реалист, и вера моя, большая ли, малая ли – прямая, определенная. Так я и дело понимаю. А у вас, среди них – странно! – будто носится еще мутный, извилистый дух Сменцева… Ты говорила, они до сих пор не верят?
– Чему?
– Да вот, что его нет, что он… умер? Я понимаю, обстановка была такая… слухи могли родиться. Но уж не слухи, – это начало легенды… Не умер! Ведь знают же, что умер?
– Знают. Да, есть такие, я подмечала: знают и точно не верят. Сложно это, загадочно, Михаил. Надо приглядываться, подходить бережно-бережно…
– А Флорентий – как с ними?
– Он говорит, что сам думает, на их языке говорить умеет. Никогда дурно о Романе, а так, будто Романа и не было никогда, есть один Хозяин, настоящий, его они любят, его помнят и слушают.
– Видишь, видишь, – заволновался Михаил и даже встал, подошел к ней ближе. – Не мог бы я так. Флорентий в мистику перегибает, или не опасно? Я бы прямо говорил, – и буду! – что вот такой Роман – самозванец, что не может, не смеет единый человек властвовать над многими, другими людьми, что покорность, и веру, и ту любовь, какой он добивался, можно только Богу отдавать.г. И что умер самозванец, убит, и так должно, так нужно.!..
– Постой, постой… – останавливала Литта. Но он не слушал.
– А сам Флорентий? Ты говоришь – ясный он. Марево рассеял! Нет, тут не мистика, не марево рассеял – живого человека он убил! Пусть было неизбежно, другое дело, но как же всей реальности этого не почувствовать! И если не почувствовал, если не насквозь, насквозь…
– Замолчи! – крикнула Литта. – Ничего ты не знаешь…
– Я? – и тяжелым взором посмотрел на нее Михаил. – Нет, это-то… это-то я знаю.
Сурово, темно было и ее лицо.
– О Флорентий не говори. Лучше совсем не говорить об этом. А если ему… тяжелее смерти? А если и… мне? Ведь я была с ним. С открытыми глазами мы шли. Оба знали, что нельзя… все-таки надо было, надо! Впрочем, тут нет слов.
Долго молчали оба. Потом тихонько Литта сказала:
– Нет, я не боюсь ничего, и за них, за пчелиных наших, не боюсь. Люблю просто, верю просто. Если есть еще непонятность, загадочность – так ведь мы касаемся чуждой нам души, народной. Своя там правда, только сказать себя пока не умеет. Любовь всегда права, Михаил, даже темная, и бережно-бережно хранить ее надо.
– Темную?
– Бережно-бережно осветлять всякую, ясной правду ее делать. В этом же и работа наша. Роман на чужое место, на чужое имя посягнул – его суди Бог. А они – поверь – не его они любят, и даже не Ивана-царевича сказочного, а того, настоящего Царевича, сына Царя Единого, которого и мы с тобой любим…
Улыбнулась по-прежнему, по-детски ясно, прибавила:
– И все будет. Все будет хорошо.
Без грусти прощались они. Нет одиночества, нет страха. За ними – друзья, перед ними – работа.
Из окон падали смеющиеся голоса жаворонков. Смеялись жаворонки вверху, горели под ними завечеревшие поля весенние.
Наклонив голову, шепнула Литта:
– Перекрести меня.
– И ты. Спасибо, родная. Христос с тобой.
Прибавил тихо, совсем тихо, – она, может быть, и не слышала:
– Как я тебя люблю.
Стихотворения*
Последние стихи. 1914–1918*
Непредвиденное
1913 г.
По Слову Извечно-Сущего Бессменен поток времен. Чую лишь ветер грядущего, Нового мига звон. С паденьем идет, с победою? Оливу несет иль меч? Лика его я не ведаю, Знаю лишь ветер встреч. Летят не здешними птицами В кольцо бытия, вперед, Миги с закрытыми лицами… Как удержу их лет? И в тесности, в перекрестности, – Хочу, не хочу ли я, – Черную топь неизвестности Режет моя ладья.Тише
…Славны будут великие дела…
Ф. Сологуб
Поэты, не пишите слишком рано, Победа еще в руке Господней. Сегодня еще дымятся раны, Никакие слова не нужны сегодня. В часы неоправданного страданья И нерешенной битвы Нужно целомудрие молчанья И, может быть, тихие молитвы.Август 1914
Адонаи
Твои народы вопиют: доколь? Твои народы с севера и юга. Иль ты еще не утолен? Позволь Сынам земли не убивать друг друга! Не ты ль разбил скрижальные слова, Готовя землю для иного сева? И вот опять, опять ты – Иегова, Кровавый Бог отмщения и гнева! Ты розлил дым и пламя по морям, Водою алою одел ты сушу. Ты губишь плоть… Но, Боже, матерям – Твое оружие проходит душу! Ужели не довольно было Той, Что под крестом тогда стояла, рано? Нет, не для нас, но для Нее, Одной, Железо вынь из материнской раны! О, прикоснись к дымнобагровой мгле Не древнею грозою, а – Любовью. Отец, Отец! Склонись к Твоей земле: Она пропитана Сыновней кровью.1914
Отдых
Слова – как пена, Невозвратимы и ничтожны. Слова – измена, Когда молитвы невозможны. Пусть длится дленье. Не я безмолвие нарушу. Но исцеленье Сойдет ли в замкнутую душу? Я знаю, надо Сейчас молчанью покориться. Но в том отрада, Что дление не вечно длится.1914
«Петроград»
Кто посягнул на детище Петрово? Кто совершенное деянье рук Смел оскорбить, отняв хотя бы слово, Смел изменить хотя б единый звук? Не мы, не мы… Растерянная челядь, Что, властвуя, сама боится нас! Все мечутся, да чьи-то ризы делят, И все дрожат за свой последний час. Изменникам измены не позорны. Придет отмщению своя пора… Но стыдно тем, кто, весело-покорны, С предателями предали Петра. Чему бездарное в вас сердце радо? Славянщине убогой? Иль тому, Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо Крикливо льнет, как будто к своему? Но близок день – и возгремят перуны… На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей! Восстанет он, все тот же бледный, юный, Все тот же – в ризе девственных ночей, Во влажном визге ветренных раздолий И в белоперистости вешних пург, – Созданье революционной воли – Прекрасно-страшный Петербург!14 декабря 1914
Все она
Медный грохот, дымный порох, Рыжелипкие струи, Тел ползущих влажный шорох… Где чужие? Где свои? Нет напрасных ожиданий, Не достигнутых побед, Но и сбывшихся мечтаний, Одолений – тоже нет. Все едины, всё едино, Мы ль, они ли… смерть – одна. И работает машина, И жует, жует война…1914
Белое
Рождество, праздник детский, белый, Когда счастливы самые несчастные… Господи! Наша ли душа хотела, Чтобы запылали зори красные? Ты взыщешь, Господи, но с нас ли, с нас ли? Звезда Вифлеемская за дымами алыми… И мы не знаем, где Царские ясли, Но все же идем ногами усталыми. Мир на земле, в человеках благоволенье… Боже, прими нашу мольбу несмелую: Дай земле Твоей умиренье, Дай побеждающей одежду белую…Молодому веку
Тринадцать лет! Мы так недавно Его приветили, любя. В тринадцать лет он своенравно И дерзко показал себя. Вновь наступает день рожденья… Мальчишка злой! На этот раз Ни празднества, ни поздравленья Не требуй и не жди от нас. И если раньше землю смели Огнем сражений зажигать – Тебе ли, Юному, тебе ли Отцам и дедам подражать? Они – не ты. Ты больше знаешь. Тебе иное суждено. Но в старые меха вливаешь Ты наше новое вино! Ты плачешь, каешься? Ну, что же! Мир говорит тебе: «Я жду». Сойди с кровавых бездорожий Хоть на пятнадцатом году!1914
Неизвестная
Ник. С-му
Что мне делать со смертью – не знаю. А вы, другие, – знаете? Знаете? Только скрываете, тоже не знаете. Я же незнанья моего не скрываю. Как ни живи – жизнь не ответит, Разве жизнью смерть побеждается? Сказано – смертью смерть побеждается, Значит, на всех путях она встретит. А я ее всякую – ненавижу. Только свою люблю, неизвестную. За то и люблю, что она неизвестная, Что умру – и очей ее не увижу…1915
Зеленый цветок
Зеленолистому цветку привет! Идем к Зеленому дорогой красною, Но зелен зорь весенних тихий цвет, И мы овеяны надеждой ясною. Пускай он спит, закрыт, – но он живет! В Страстном томлении земля весенняя… Восстань, земля моя? И расцветет Зеленопламенный в день воскресения.1915
«Свободный» стих
Приманной легкостью играя, Зовет, влечет свободный стих. И соблазнил он, соблазняя, Ленивых, малых и простых. Сулит он быстрые ответы И достиженья без борьбы. За мной! За мной! И вот, поэты – Стиха свободного рабы. Они следят его извивы, Сухую ломкость, скрип углов, Узор пятнисто-похотливый Икающих и пьяных слов… Немало слов с подолом грязным Войти боялись… А теперь Каким ручьем однообразным Втекают в сломанную дверь! Втекли, вшумели и впылились… Гогочет уличная рать. Что ж! Вы недаром покорились: Рабы не смеют выбирать. Без утра пробил час вечерний, И гаснет серая заря… Вы отданы на посмех черни Коварной волею царя! . . . . . . . . . . . . . . . А мне – лукавый стих угоден. Мы с ним веселые друзья. Живи, свободный! Ты свободен – Пока на то изволю я. Пока хочу – играй, свивайся Среди ухабов и низин. Звени, тянись и спотыкайся, Но помни: я твой властелин. И чуть запросит сердце тайны, Напевных рифм и строгих слов, – Ты в хор вольешься неслучайный Созвучно-длинных, стройных строф. Многоголосы, тугозвонны, Они полетны и чисты – Как храма белого колонны, Как неба снежного цветы.1915
Не о том
Отвечавшим
Два ответа: лиловый и зеленый, Два ответа, и они одинаковы, Быть может – и разны у нас знамена, Быть может – своя дорога у всякого, И мы, страдая, идем, идем… Верю… Но стих-то мой не о том. Стих мой – о воле и власти. Разве о боли? Разве о счастье? И кем измерено, и чем поверено Страданье каждого на его пути? Но каждому из нас сокровище вверено, И велено вверенное – донести. Зачем же «бездомно скучая» ищем На «мерзлом болоте» вялых вех, Гордимся, что слабы, и наги, и нищи? Ведь «город прекрасный» – один для всех. И надо, – мы знаем, – навек ли, на миг ли, Надо, чтоб города мы достигли. Нищий придет к белым воротам В рубище рабства, унылый, как прежде… Что, если спросят его: кто там? Друг, почему ты не в брачной одежде? Мой стих не о счастье, и не о боли: Только о власти, только о воле.1915
Молодое знамя
Развейся, развейся, летучее знамя! По ветру вскрыли, троецветное! Вставайте, живые, идите за нами! Приблизилось время ответное. Три поля на знамени нашем, три поля: Зеленое – Белое – Алое. Да здравствует молодость, правда и воля! Вперед! Нас зовет Небывалое.1915
Неразнимчато
В нашем Прежде – зыбко-дымчато, А в Теперь – и мглы, и тьмы. Но срослись мы неразнимчато, – Верит Бог! И верим мы.1915
Черненькому
Н. Г.
Радостно люблю я тварное, святой любовью, в Боге. По любви – восходит тварное наверх, как по светлой дороге. Темноту, слепоту – любовию вкруг тварного я разрушу. Тварному дает любовь моя бессмертную душу.Свет
Стоны, Стоны, Истомные, бездонные, Долгие, долгие звоны Похоронные, Стоны, Стоны… Жалобы, Жалобы на Отца… Жалость язвящая, жаркая, Жажда конца, Жалобы, Жалобы… Узел туже, туже, Путь все круче, круче, Все уже, уже, уже, Угрюмей тучи, Ужас душу рушит, Узел душит, Узел туже, туже… Господи, Господи, – нет! Вещее сердце верит! Боже мой, нет! Мы под крылами Твоими. Ужас. И стоны. И тьма… А над ним Твой немеркнущий Свет!О Польше
Я стал жесток, быть может… Черта перейдена. Что скорбь мою умножит, Когда она – полна? В предельности суровой Нет «жаль» и нет «не жаль». И оскорбляет слово Последнюю печаль. О Бельгии, о Польше, О всех, кто так скорбит, – Не говорите больше! Имейте этот стыд!1915
Ему
З. Р.
Радостные, белые, белые цветы… Сердце наше. Господи, сердце знаешь Ты. В сердце наше бедное, в сердце загляни… Близких наших, Господи, близких сохрани!1915
Он
Он принял скорбь земной дороги, Он первый, Он один, Склонясь, умыл усталым ноги Слуга – и Господин. Он с нами плакал, – Повелитель И суши, и морей. Он царь, и брат нам, и Учитель, И Он – еврей.1915
Второе Рождество
Белый праздник, – рождается предвечное Слово, белый праздник идет, и снова – вместо елочной, восковой свечи, бродят белые прожекторов лучи, мерцают сизые стальные мечи, вместо елочной, восковой свечи. Вместо ангельского обещанья, пропеллера вражьего жужжанья, подземное страданье ожиданья, вместо ангельского обещанья. Но вихрям, огню и мечу покориться навсегда не могу, я храню восковую свечу, я снова ее зажгу и буду молиться снова: родись, предвечное Слово! затепли тишину земную, обними землю родную…1915
Тогда и опять
Просили мы тогда, чтоб помолчали Поэты о войне, – Чтоб пережить хоть первые печали Могли мы в тишине. Куда тебе! Набросились зверями: Война! Войне! Войны! И крик, и клич, и хлопанье дверями… Не стало тишины. А после, вдруг, – таков у них обычай, – Военный жар исчез. Изнемогли они от всяких кличей, От собственных словес. И, юное безвременно состарев, Текут, бегут назад, Чтобы запеть, в тумане щрежних марев, На прежний лад.1915
Без оправданья
М. Г-му
Нет, никогда не примирюсь. Верны мои проклятья. Я не прошу, я не сорвусь В железные объятья. Как все, пойду, умру, убью, Как все – себя разрушу, Но оправданием – свою Не запятнаю душу. В последний час, во тьме, в огне, Пусть сердце не забудет: Нет оправдания войне! И никогда не будет. И если это Божья длань – Кровавая дорога, – Мой дух пойдет и с ним на брань, Восстанет и на Бога.1915
Страшное
Страшно оттого, что не живется – спится. И все двоится, все четверится. В прошлом грехов так неистово много, Что и оглянуться страшно на Бога. Да и когда замолить мне грехи мои? Ведь я на последнем склоне круга… А самое страшное, невыносимое, – Это что никто не любит друг друга…1916
Сентябрьское
Полотенца луннозелсные на белом окне, на полу. Но желта свеча намоленая под вереском, там, в углу. Протираю окно запотелое, в двух светах на белом пишу… О зеленое, желтое, белое! Что выберу?.. Что решу?1916
Сегодня на Земле
Есть такое трудное, Такое стыдное. Почти невозможное – Такое трудное: Это – поднять ресницы И взглянуть в лицо матери, У которой убили сына. Но не надо говорить об этом.1916
Непоправимо
Н. Ястребову
Невозвратимо. Непоправимо. Не смоем водой. Огнем не выжжем. Нас затоптал, – не проехал мимо! Тяжелый всадник на коне рыжем. В гуще вязнут его копыта, В смертной вязи, неразделимой… Смято, втоптано, смешано, сбито – Все. Навсегда. Непоправимо.1916
«Говори о радостном»
В. Злобину
Кричу – и крик звериный… Суди меня Господь! Меж зубьями машины Моя скрежещет плоть. Свое – стерплю в гордыне… Но – все? Но если все? Терпеть, что все в машине? В зубчатом колесе?Ноябрь 1916
На Сергиевской
Н. Слонимскому
Окно мое над улицей низко, низко и открыто настежь. Рудолипкие торцы так близко под окном, раскрытым настежь. На торцах – фонарные блики, на торцах все люди, люди… И топот, и вой, и крики, и в метании люди, люди… Как торец, их одежды и лица, они, живые и мертвые, – вместе. Это годы, это годы длится, что живые и мертвые – вместе! От них окна не закрою, я сам – живой или мертвый? Все равно… Я с ними вою, все равно, живой или мертвый. Нет вины, и никто – в ответе, нет ответа для преисподней. Мы думали, что живем на свете… но мы воем, воем – в преисподней.Ноябрь 1916
Юный март
Пойдем на весенние улицы, Пойдем в золотую метель. Там солнце со снегом целуется И льет огнерадостный хмель. По ветру, под белыми пчелами, Взлетает пылающий стяг. Цвети меж домами веселыми Наш гордый, наш мартовский мак! Еще не изжито проклятие, Позор небывалой войны. Дерзайте! Поможет нам снять его Свобода великой страны. Пойдем в испытания встречные, Пока не опущен наш меч. Но свяжемся клятвой навечною Весеннюю волю беречь!8 марта 1917
Вся
Милая, верная, от века Суженая, Чистый цветок миндаля, Божьим дыханьем к любви разбуженная, Радость моя – Земля! Рощи лимонные – и березовые, Месяца тихий круг. Зори Сицилии, зори розовые, – Пенье таежных вьюг. Даль неохватная и неистовая, Серых болот туман – Корсика призрачная, аметистовая Вечером, с берега Канн. Ласка нежданная, утоляющая Неутолимую боль, Шелест, дыханье, память страдающая, Слез непролитых соль, – Всю я тебя люблю, Единственная, Вся ты моя, моя! Вместе воскреснем, за гранью таинственною, Вместе, – и ты, и я!1917
Почему
О Ирландия, океаиная, Мной невиданная страна! Почему ее зыбь туманная В ясность здешнего вплетена? Я не думал о ней, не думаю, Я не знаю ее, не знал… Почему так режут тоску мою Лезвия ее острых скал? Как я помню зори надпенные? В черной алости чаек стон? Или памятью мира пленною Прохожу я сквозь ткань времен? О Ирландия, неизвестная! О Россия, моя страна! Не единая ль мука крестная Всей Господней земле дана?Сентябрь 1917
Гибель
Близки кровавые зрачки, дымящаяся пеной пасть… Погибнуть? Пасть? Что – мы? Вот хруст костей… вот молния сознанья перед чертою тьмы… И – перехлест страданья… Что мы! Но – Ты? Твой образ гибнет… Где Ты? В сияние одетый, бессильно смотришь с высоты? Пускай мы тень. Но тень от Твоего Лица! Ты вдунул Дух – и вынул? Но мы придем в последний день, мы спросим в день конца, – за что Ты нас покинул?4 сентября 1917
Тли
Припав к моему изголовью, ворчит, будто выстрелы, тишина, запекшейся черной кровью ночная дыра полна. Мысли капают, капают скупо, нет никаких людей… Но не страшно… И только скука, что кругом – все рыла тлей. Тли по мартовским алым зорям прошли в гвоздевых сапогах. Душа на ключе, на тяжком запоре. Отврат… тошнота… но не страх.28-29 октября 1917
Ночью
Веселье
Блевотина войны – октябрьское веселье! От этого зловонного вина Как было омерзительно твое похмелье, О бедная, о грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду, Каким кошмарным обуянный сном, Народ, безумствуя, убил свою свободу, И даже не убил – засек кнутом? Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, Смеются пушки, разевая рты… И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, Народ, не уважающий святынь!29 октября 1917
Липнет
«Новой жизни» и пр.
Не спешите, подождите, соглашатели, кровь влипчива, если застыла, – пусть сначала красная демократия себе добудет немножко мыла… Детская-женская – особо въедчива, вы потрите и под ногтями. Соглашателям сесть опрометчиво на Россию с пятнистыми руками. Нету мыла – достаньте хоть месива, чтобы каждая рука напоминала лилею… А то смотрите: как бы не повесили мельничного жернова вам на шею!30 октября 1917
Сейчас
Как скользки улицы отвратные, Какая стыдь! Как в эти дни невероятные Позорно жить! Лежим, заплеваны и связаны, По всем углам. Плевки матросские размазаны У нас по лбам. Столпы, радетели, воители Давно в бегах. И только вьются согласители В своих Це-ках. Мы стали псами подзаборными, Не уползти! Уж разобрал руками черными Викжель – пути…9 ноября 1917
У. С.
Наших дедов мечта невозможная, Наших героев жертва острожная, Наша молитва устами несмелыми, Наша надежда и воздыхание, – Учредительное Собрание, – Что мы с ним сделали?.12 ноября 1917
14 декабря 17 года
Д. Мережковскому
Простят ли чистые герои? Мы их завет не сберегли. Мы потеряли все святое: И стыд души, и честь земли. Мы были с ними, были вместе, Когда надвинулась гроза. Пришла Невеста. И невесте Солдатский штык проткнул глаза. Мы утопили, с визгом споря, Ее в чану Дворца, на дне, В незабываемом позоре И в наворованном вине. Ночная стая свищет, рыщет, Лед по Неве кровав и пьян… О, петля Николая чище, Чем пальцы серых обезьян! Рылеев, Трубецкой, Голицын! Вы далеко, в стране иной… Как вспыхнули бы ваши лица Перед оплеванной Невой! И вот из рва, из терпкой муки, Где по дну вьется рабий дым, Дрожа протягиваем руки Мы к вашим саванам святым. К одежде смертной прикоснуться, Уста сухие приложить, Чтоб умереть – или проснуться, Но так не жить! Но так не жить!Боятся
Щетинятся сталью, трясясь от страха, Залезли за пушки, примкнули штык, Но бегает глаз под серой папахой, Из черного рта – истошный рык… Присел, но взгудел, отпрянул кошкой… А любо! Густа темь на дворе! Скользнули пальцы, ища застежку, По смуглым пятнам на кобуре… Револьвер, пушка, ручная фаната ль, – Добру своему ты господин. Иди, выходи же, заячья падаль! Ведь я безоружен! Я один! Да крепче винти, завинчивай гайки. Нацелься… Жутко? Дрожит рука? Мне пуля – на миг… А тебе нагайки, Тебе хлысты мои – на века!12 января 1918
Она
Опять она? Бесстыдно в грязь Колпак фригийский сбросив, Глядит, кривляясь и смеясь, И сразу обезносев. Ты не узнал? Конечно – я! Не те же ль кровь и раны? И пулеметная струя, И бомбы с моноплана? Живу три года с дураком, Целуюсь ежечасно, А вот, надула колпаком И этой тряпкой красной! Пиши миры свои, – ты мой! И чем миры похабней – Тем крепче связь твоя со мной И цепи неослабней. Остра, безноса и верна – Я знаю человека. Ура! Да здравствует Война, Отныне и до века!Январь 1918
Так есть
Если гаснет свет – я ничего не вижу. Если человек зверь – я его ненавижу. Если человек хуже зверя – я его убиваю. Если кончена моя Россия – я умираю.Февраль 1918
Мосты
И. В.
Говорить не буду о смерти, и без слов все вокруг – о смерти. Кто хочет и не хочет – верьте, что живы мертвые. Не от мертвых – отступаю, так надо – я отступаю, так надо – я мосты взрываю, за мостами – не мертвые… Перекрутились, дымясь, нити, оборвались, кровавясь, нити, за мостами остались – взгляните! Живые – мертвее мертвых.Февраль 1918
Имя
Безумные годы совьются во прах, Утонут в забвенье и дыме. И только одно сохранится в веках Святое и гордое имя. Твое, возлюбивший до смерти, твое, Страданьем и честью венчанный. Проколет, прорежет его острие Багровые наши туманы. От смрада клевет – не угаснет огонь, И лавр на челе не увянет. Георгий, Георгий! Где верный твой конь? Георгий Святой не обманет. Он близко! Вот хруст перепончатых крыл И брюхо разверстое Змия… Дрожи, чтоб Святой и тебе не отмстил Твое блудодейство, Россия!Апрель 1918
Дверь
Мы, умные, – безумны, Мы, гордые, – больны, Растленной язвой чумной Мы все заражены. От боли мы безглазы, А ненависть – как соль, И ест, и травит язвы, Ярит слепую боль. О черный бич страданья! О ненависти зверь! Пройдем ли – Покаянья Целительную дверь? Замки ее суровы И створы тяжелы… Железные засовы, Медяные углы… Дай силу не покинуть, Господь, пути Твои! Дай силу отодвинуть Тугие вереи!Февраль 1918
На поле чести
О, сделай, Господи, скорбь нашу светлою, Далекой гнева, боли и мести, А слезы – тихой росой предрассветною О нем, убиенном на поле чести. Свеча ль истает. Тобой зажженная? Прими земную и, как невесте, Открой поля Твои озаренные Душе убиенного на поле чести.Нет («Она не погибнет…»)
Она не погибнет, – знайте! Она не погибнет, Россия. Они всколосятся, – верьте! Поля ее золотые. И мы не погибнем, – верьте! Но что нам наше спасенье: Россия спасется, – знайте! И близко ее воскресенье.Февраль 1918
Походные песни*
Милая
Где-то милая? Далеко, На совдепской на земле. Ходит, бродит одиноко, Ест солому, спит в золе. Или, может, изменила, Поступила в Нарпродком? Бриллианты нацепила И сидит с большевиком? Провожала, так недаром Говорила мне: ну что ж? Подружусь я с комиссаром, Если скоро не придешь. Нет, не верю! Сердце чисто, И душа ее верна. Не полюбит коммуниста, Не таковская она. Голодает, холодает, – Не продаст чертям души. Наше войско дожидает: Где мой милый? Поспеши! Я в томленьи ежечасно, Где же друг? Освободи! Убери ты этих красных… Милый, белый мой, приди! Слышу, слышу, верь заклятью! Мы готовы, мы идем! Все нагрянем буйной ратью, Красных дьяволов сметем Или кони наши – клячи? Братья, други, все ко мне! Иль у вас никто не плачет На родимой стороне?Рвань
Видали ль вы, братцы, Какой у нас враг, С кем будем сражаться, Какой у них флаг? Эй, красное войско! Эй, сборная рать! Ты ль смертью геройской Пойдешь умирать? Китайцы, монголы, Башкир да латыш… И всякий-то голый, А хлебца-то – шиш… И немцы, и турки, И черный мадьяр… Командует юркий Брюнет-комиссар. Плетется, гонимый, И русский дурак, Столкуемся с ним мы, Не он же наш враг. Мы скажем: ты с нами. Сдавайся своим! Взгляни, что за знамя Над войском твоим? Взгляни, как чернеет, Чернеет насквозь. Не кровью ль твоею Оно запеклось? Очнись от угара И с Богом – вперед! Тащи комиссара, А сброд – удерет. Погоним их вместе, Дорогу, воры! Мы к семьям, к невесте, В родные дворы!Комиссар
Комиссар! Комиссар! Отрастил ты брюхо. Оттого-то наш народ Душит голодуха. Комиссар! Комиссар! Эй, не зарывайся. Не спасет тебя Че-Ка, Сколько ни старайся. Комиссар! Комиссар! Нам с тобой не внове. Мы теперь – не дураки, Попил нашей крови. Комиссар! Комиссар! Трусишь, милый? Вольно! Наших баб нацеловал, А теперь – довольно. Комиссар! Комиссар! Пуля – много чести. На веревке повиси, На своей невесте!Красная звезда
Повалили Николая, Ждали воли, ждали рая – Получили рай: Прямо помирай. Воевать не пожелали, Мир похабный подписали, Вместо мира, вот – Бьемся третий год. Додушив буржуев, сами Стать хотели буржуями, Вот те и буржуй: Паклю с сеном жуй. Видим, наше дело чисто… Записались в коммунисты, Глядь, взамен пайка – Сцапала Че-Ка. Не судили – осудили, И китайцев пригласили… К стенке под расстрел – Окончанье дел. Заклинаем люд рабочий, Трудовой и всякий прочий, До последних дней: Будьте нас умней! Не сидите вы в Совете! Всех ужасней бед на свете Черная беда – Красная Звезда.Товарищ
Неспокойствие во взоре, Ловок, юрок, брит. Чепуху такую порет, Даже слушать – стыд. Врет, что вырос на Урале, Этакий нахал! В плен его мы, что ли, взяли, Как сюда попал? Всюду трется, всюду вьется, Всюду лезет в спор: «Что в Совдепии живется Плохо – сущий вздор. Этих басен ходит много Про советский край. Там, не верите? ей-Богу, Не житье – а рай. Что душе твоей угодно, Можешь всё купить. Кормят, поят превосходно, Весело служить. Все обуты, все одеты, Не на что роптать. Опекают всех Советы, Как родная мать. Говорят, что пулеметы Ставят за спиной. Эка, не было заботы! Сами рвутся в бой. Всё честь честью. Всё как надо. Никаких Че-Ка. Дисциплина и порядок. Русские войска. И охота вам сражаться, На своих идти? Так ли думаете, братцы, Родину спасти?» Ах ты, бритая лисица, Вот куда ты гнешь! Только стоит ли трудиться: Нас не проведешь! Ишь нашелся примиритель! Видим, кто таков! Не умеришь нашей прыти Бить большевиков. Знаешь, пуля есть шальная? Не уйти в кусты: Для такого негодяя Отлита, как ты.Письмо из Совдепии
С аэроплана посылаю Письмо – кому? Кому-нибудь. Хочу сказать, что умираю, Что тяжкий камень давит грудь. Знакомый летчик, парень смелый, Мне обещался сбросить лист. (Я знаю, летчик этот – белый, Хоть говорит, что коммунист.) Кому б листочки ни попались, Пусть он поверит, пусть поймет: Мы ныне в муке все сравнялись, Нет ни рабочих, ни господ. Я сам рабочий, пролетарий, Из Петрограда – металлист; Схватили, заперли в подвале За то, что я – социалист. Жена сидела и сынишка, Сидели с нами мужики – Зачем не ссыпали «излишка» Армейцам красным в сундуки. В допросах мы хлебнули горя: Ходил кулак, свистела плеть… Жена моя скончалась вскоре, Да что ж! И лучше помереть. О мне не толк – мы все страдальцы. На землю нашу пала тень. Впились в нас дьявольские пальцы, И недалек последний день. Скажите всем – ужель не знают? Ужель еще не пробил час? Что красный дьявол замышляет, Прикончив здесь – идти на вас. Скажите всем, что небо грозно, Что гибель наша – гибель вам. Скорей, скорей, пока не поздно! Идите все на помощь к нам! Труслив наш враг, хотя и ловкий, Легко с ним справимся и мы… Но развяжите нам веревки, Освободите из тюрьмы! Зовем из вражеского стана, Из преисподней мы кричим… Лети, письмо с аэроплана, К свободным, честным и живым!Родине
1
Не знаю, плакать иль молиться, Дождаться дня, уйти ли в ночь, Какою верой укрепиться, Каким неверием помочь? И пусть вины своей не знаем, Она в тебе, она во мне; И мы горим и не сгораем В неочищающем огне.2
Повелишь умереть – умрем. Жить прикажешь – спорить не станем. Как один, за тебя пойдем, За тебя на тебя восстанем. Видно, жребий у нас таков; Видно, велено так законом, Откликается каждый зов В нашем сердце, тобой зажженном. Будь что будет. Нейти назад: Покорились мы Божьей власти. Подымайся на брата брат, Разрывайся душа на части!Божий суд
Это, братцы, война не военная, Это, други, Господний наказ. Наша родина, горькая, пленная, Стонет, молит защиты у нас. Тем зверьем, что зовутся «товарищи», Изничтожена наша земля. Села наши – не села, пожарищи, Опустели родные поля. Плачут дети, томясь в испытании И от голода еле дыша, Неужель на такие страдания Не откликнется наша душа? Мы ль не слышим, что совестью велено? Мы ль не двинемся все, как один, Не покажем Бронштейну да Ленину, Кто на русской земле господин? Самодержцы трусливые, куцые, Да погибнут под нашим огнем! Знамя новой, святой революции В землю русскую мы понесем. Слава всем, кто с душой неизменною В помощь Родине ныне идут. Это, други, война не военная, Это Божий свершается суд.Гость
Как приехал к нам англичанин-гость, По Гостиному по Двору разгуливает, В пустые окна заглядывает. Он хотел бы купить – да нечего. Денег много – а что толку с того? Вот идет англичанин завтракать, Приходит он в Европейскую гостиницу, А ее, сердечную, и узнать нельзя. Точно двор извозчичий заплевана, Засорена окурками да бумажками. Три года скреби – не выскребешь. Не выскребешь, не выметешь. Ни тебе обеда, ни ужина, Только шмыгают туда-сюда Ловкачи – комиссары бритые. Удивился гость, покачал головой И пошел на Садовую улицу Ждать трамвая номер тринадцатый. Ждет он час, ждет другой, – не идет трамвай. А прохожие только посмеиваются: «Ишь нашелся какой избалованный. Что ж, пожди, потерпи, коли время есть, Долго ли до второго пришествия?» И прождал бы он так до вечера, Да терпение аглицкое лопнуло. И побрел он пешком к Покрову, домой. Наплывали сумерки осенние, Фонарей не видать, не светятся, Ни души кругом, тишина да мгла, Только слышно: журчит где-то около Ручеек, по камушкам прыгая, Да скрипит-шуршит, мягко стелется Под ногою трава забвения. Вот пришел он домой измученный, Не горит камин, темно-холодно, Керосину в лампе ни капельки, Хлеба ни крошки, ни корочки, Трубы лопнули – не идет вода, Не идет, только сверху капает, С потолка на голую лысину. Покорился гость, делать нечего. Доплелся до кровати ощупью И улегся спать, не поужинав. Как заснул он – выползла из щелочки Ядовитая вошь тифозная. Поглядела, воздуха понюхала, Очень запах ей аглицкий понравился, Подползла она тихонько, на цыпочках, И… кусь! англичанина в самый пуп. Пролежал англичанин в сыпном тифу, Пролежал полтора он месяца. А как выздоровел, сложил чемодан И удрал, не теряя времени, Прямо в Лондон через Финляндию. Вот приехал к себе он на родину, Обо всем Ллойд Джоржу докладывает: «Ваше, говорит, Превосходительство, Был я в русской советской республике, Еле ноги унес, еле душу спас. Никого там нет, ничего там нет, Только белая вошь да голый шиш, С кем торговлю вести, мир заключать, Не со вшой ли сыпнотифозного?» А Ллойд Джорж сидит, усмехается, Пузом своим потряхивает, На соседнюю дверь подмигивает: «Обману, говорит, я обманщиков, Самого товарища Красина. Штуку выкину, только дайте срок. Время терпит, а дело трудное».* * *
Врет, иль правду говорит? Спорить неуместно. Кто кого перехитрит, Ой, неизвестно.Стихи. Дневник 1911–1921*
У порога
У порога
На сердце непонятная тревога, Предчувствий непонятных бред. Гляжу вперед – и так темна дорога, Что, может быть, совсем дороги нет. Но словом прикоснуться не умею К живущему во мне – и в тишине. Я даже чувствовать его не смею: Оно как сон. Оно как сон во сне. О, непонятная моя тревога! Она томительней день ото дня. И знаю: скорбь, что ныне у порога, Вся эта скорбь – не только для меня!1913
С.-Петербург
Отрывочное
Красная лампа горит на столе, А вокруг, везде – стены тьмы. Я не хочу жить на земле, Если нельзя уйти из тюрьмы. Красная лампа на круглом столе. Никто не хочет тьму пройти. А если весь мир лежит во зле – То надо мир спасти. Красная лампа на круглом столе – Сердце твердит: не то! не то! Сердце горит – и гаснет во мгле: Навстречу ему нейдет никто.Лето 1905
СПБ
А потом…?
Ангелы со мной не говорят. Любят осиянные селенья, Кротость любят и печать смиренья. Я же не смиренен и не свят: Ангелы со мной не говорят. Темненький приходит дух земли. Лакомый и большеглазый, скромный. Что ж такое, что малютка – темный? Сами мы не далеко ушли… Робко приползает дух земли. Спрашиваю я про смертный час. Мой младенец, хоть и скромен, – вещий. Знает многое про эти вещи, Что, скажи-ка, слышал ты о нас? Что это такое – смертный час? Темный ест усердно леденец. Шепчет весело: «И все ведь жили. Смертный час пришел – и раздавили. Взяли, раздавили – и конец. Дай-ка мне четвертый леденец. Ты рожден дорожным червяком. На дорожке долго не оставят, Ползай, ползай, а потом раздавят. Каждый, в смертный час, под сапогом, Лопнет на дорожке червяком. Разные бывают сапоги. Давят, впрочем, все они похоже, И с тобою, милый, будет то же, Чьей-нибудь отведаешь ноги… Разные на свете сапоги. Камень, нож иль пуля, всё – сапог. Кровью ль сердце хрупкое зальется, Болью ли дыхание сожмется, Петлей ли раздавит позвонок – Иль не всё равно, какой сапог?» Тихо понял я про смертный час. Я ласкаю гостя, как родного, Угощаю и пытаю снова: Вижу, много знаете о нас! Понял, понял я про смертный час. Но когда раздавят – что потом? Что, скажи? Возьми еще леденчик, Кушай, кушай, мертвенький младенчик! Нё взял он. И поглядел бочком: «Лучше не скажу я, что – потом».Январь 1911
Канн
Не будем как солнце
Ропшину
О нет. Не в падающий час закатный, Когда, бледнея, стынут цветы дня, Я жду прозрений силы благодатной. Восток – в сияньи крови и огня: Горело, рдело алое кадило, Предвестный ветер веял на меня, И я глядел, как медленно всходило, Багряной винностью окроплено, Жестокое и жалкое светило. Во славе, в пышности своей, оно, Державное Величество природы, Средь голубых пустынь – всегда одно; Влекутся соблазненные народы И каждому завидуют лучу. Безумные! Во власти – нет свободы, Я солнечной пустыни не хочу, – В ней рабье одиночество таится, – А ты – свою посмей зажечь свечу, Посмей роптать, но в ропоте молиться, Огонь земной свечи хранить, нести, И, покоряя, – вольно покориться. Умей быть верным верному пути, Умей склоняться у святых подножий, Свободно жизнь свободную пройти И слушать… И услышать голос Божий.Январь 1911
Канн
Не сказано
Тебя проведу я, никем не замеченного… Со мной ключи. Я ждал на пороге молчанием встреченного… И ты молчи. Пусть сердце угрюмое, всеми оставленное, Со мной молчит. Я знаю, какое сомненье расплавленное В тебе горит. Законы Господние дерзко пытающему Один ответ: Черту заповеданную преступающему – Возврата нет. Но вот уж не друг и не раб тебе преданный я Сообщник твой. Придя – перешел ты черты заповеданные, И я с тобой. В углу, над лампадою, Око сияющее Глядит, грозя. Ужель там одно, никогда не прощающее, Одно – нельзя? Нельзя: ведь душа, неисцельно потерянная, Умрет в крови. И… надо! твердит глубина неизмеренная Моей Любви. Пришел ты с отчаяньем – и с упованиями. Тебя я ждал. Мы оба овиты живыми молчаниями, И сумрак ал. В измене обету, никем не развязанному, Предел скорбей. И все-таки сделай по слову несказанному: Иди. Убей.Август 1911
СПБ
Поэту родины
А. Меньшову
Угодила я тебе травой, зеленями да кашками, ширью моей луговой, сердцами золотыми – ромашками. Ты про них слагаешь стихи, ты любишь меня играющей… Кто же раны мои да грехи покроет любовью прощающей? Нет, люби ядовитый туман, что встает с болотца поганого, подзаборный сухой бурьян, мужичка моего пьяного… А коль тут – презренье и страх, коли видишь меня красивою, заблудись же в моих лесах, ожигайся моей крапивою! Не открою тому лица, кто красу мою ищет показную, кто не принял меня до конца, безобразную, грязную…Август 1911
СПБ
Миндальный цветок
О теплый, о розово-белый, О горький миндальный цветок! Зачем ты мой дух онемелый Проклятой надеждой ожег? Надежда клятая – упорна, Свиваются нити в клубок… О белые, хрупкие зерна, О жадный миндальный цветок! Изъеденный дымом и гарью, Задавленный тем, что люблю, – Ползу я дрожащею тварью, Тянусь я к нему – к миндалю. Качаясь, огни побежали, Качаясь, свиваясь в клубок… О кали, цианистый кали, О белый, проклятый цветок!Ноябрь 1911
СПБ
Его дочка
Ее, красивую, бледную, Ее, ласковую, гибкую, Неясную, зыбкую, Ее улыбку победную, Ее платье странное, Серое, туманное, Любовницу мою – Я ненавижу. И ненависть таю. Когда в саду смеркается, Желтее листья осенние, И светы изменнее – Она на качелях качается… Кольца стонут, ржавые, Складки вьются лукавые… Она чуть видна. Я ее ненавижу: Знаю, кто – она. Уйду ли из паутины я? От сказок ее о жалости, От соблазнов усталости… Ноги у нее гусиные, Волосы тягучие, Прозрачные, линючие, Как северная ночь. Я ее ненавижу: Это – Дьявола дочь. Засну я – бежит украдкою К Отцу – старику, властителю, К своему Учителю… Отец ее любит, сладкую, Любит ее, покорную, Ласкает лапой черною И шлет назад, грозя. Я ее ненавижу, А без нее – нельзя. От нее не уйдешь… Я ее ненавижу: Ей имя – Ложь.Ноябрь 1911
СПБ
Протяжная песня
Амалии
Звени, звени, кольцо кандальное, завейтесь в цепи, злые дни… Тянись, мой путь, в изгнанье дальное, где вихри бледные сплелись. В полночь, когда уснут вожатые, бесшумно отползу я прочь. Собью, собью кольцо проклятое, переломлю судьбу мою. Прими, прими, тайга жестокая, меня, гонимого людьми. Сокрой, укрой ледяноокая, морозной ризой, колкой мглой. Бегут пути, никем не сложены, куда бегут? куда ведут? Иди, иди тайгой оснеженной, и будь что будет впереди. Звезда, звезда горит – та самая, которую любил всегда. Гори, гори, меж туч, звезда моя, о вольной воле говори. Поет мне ветер песню смелую, вперед свободного зовет. Метель, метель свивает белую, свивает вечную постель – Любви, любви тоску незримую, о Смерть, о Мать, благослови. Прильну, склонюсь на грудь любимую и, вольный, – вольно я усну.Декабрь 1911
СПБ
Крылатое
И. А. Бунину
В дыму зеленом ивы… Камелии – бледны. Нежданно торопливы Шаги чужой весны. Томленье, воскресанье Фиалковых полей. И бедное дыханье Зацветших миндалей. По зорям – всё краснее Долинная река, Воздушней Пиренеи, Червонней облака. И, средь небес горящих, Как золото, желты – Людей, в зарю летящих, Певучие кресты.Февраль 1912
По
Последние сны
О сны моей последней ночи, О дым, о дым моих надежд! Они слетелись ко мне с полночи, Мерцая тлением одежд. Один другим, скользя, сменялся, И каждый был как тень, как тень… А кто-то мудрый во мне смеялся, Твердя: проснись! довольно! День.Май 1912
Париж
Возня
Остов разложившейся собаки Ходит вкруг летящего ядра. Долго ли терпеть мне эти знаки? Кончится ли подлая игра? Всё противно в них: соединенье, И согласный, соразмерный ход, И собаки тлеющей крученье, И ядра бессмысленный полет. Если б мог собачий труп остаться, Яркопламенным столбом сгореть! Если б одному ядру умчаться, Одному свободно умереть! Но в мирах надзвездных нет событий, Всё летит, летит безвольный ком. И крепки вневременные нити: Песий труп вертится за ядром.Ноябрь 1912
СПБ
Любовь – одна («Душе, единостью чудесной…»)
…Не может сердце жить изменой:
Измены нет – любовь одна.
1896 г. Душе, единостью чудесной, Любовь единая дана. Так в послегрозности небесной Цветная полоса – одна. Но семь цветов семью огнями Горят в одной. Любовь одна, Одна до века, и не нами Ей семицветность суждена. В ней фиолетовость, и алость, В ней кровь и золото вина, То изумрудность, то опалость… И семь сияний – и одна. Не всё ль равно, кого отметит, Кого пронижет луч до дна, Чье сердце меч прозрачный встретит, Чья отзовется глубина? Неразделимая нетленна, Неуловимая ясна, Непобедимо-неизменна Живет любовь, – всегда одна. Переливается, мерцает, Она всецветна – и одна. Ее хранит, ее венчает Святым единством – белизна.Ноябрь 1912
СПБ
Псалмопевцу
Вл. Бестужеву
О тайнах подземных и звездных Поешь ты в пустынной тиши. О вечных стихиях и безднах Своей одинокой души. Но своды небесные низки, Полны голубой простоты, А люди так жалобно близки И так же одни, как и ты. Уйдешь? Но не пить мы не смеем Святого земного вина. Уйдешь – но смеющимся змеем Ползет за тобою вина. Не ты ль виноват, что голодный Погиб у забора щенок? Что где-то, зарею холодной, Под петлей хрустит позвонок? Не ты ли зажег крепостную Над белой рекою иглу? Не ты ли сгущаешь земную, Седую, полынную мглу? Твоей человеческой воле Одной – не ответит Господь. Ты ждешь и поешь – но Его ли, Приявшего бедную плоть? Не в звездных пространствах – Он ближе, Он в прахе, в пыли и в крови. Склонись, чтобы встретил Он, ниже, Склонись до земли – до любви.Декабрь 1912
СПБ
Слова любви
Любовь, любовь… О, даже не ее – Слова любви любил я неуклонно. Иное в них я чуял бытие, Оно неуловимо и бездонно. Слова любви горят на всех путях, На всех путях – и горных и долинных. Нежданные в накрашенных устах, Неловкие в устах еще невинных, Разнообразные, одни всегда И верные нездешней лжи неложной, Сливающие наши «нет» и «да» В один союз, безумно-невозможный, – О, всё равно пред кем, и для чего, И кто, горящие, вас произносит! Алмаз всегда алмаз, хотя его Порою самый недостойный носит. Живут слова, пока душа жива. Они смешны – они необычайны. И я любил, люблю любви слова. Пророческой овеянные тайной.Декабрь 1912
СПБ
Берегись…
Не разлучайся, пока ты жив, Ни ради горя, ни для игры. Любовь не стерпит, не отомстив, Любовь отнимет свои дары. Не разлучайся, пока живешь, Храни ревниво заветный крут. В разлуке вольной таится ложь. Любовь не любит земных разлук, Печально гасит свои огни, Под паутиной пустые дни. А в паутине – сидит паук. Живые, бойтесь земных разлук!Январь 1913
СПБ
Серое платьице
Девочка в сером платьице… Косы как будто из ваты… Девочка, девочка, чья ты? Мамина… Или ничья. Хочешь – буду твоя. Девочка в сером платьице… Веришь ли, девочка, ласке? Милая, где твои глазки? Вот они, глазки. Пустые. У мамочки точно такие. Девочка в сером платьице, А чем это ты играешь? Что от меня закрываешь? Время ль играть мне, что ты? Много спешной работы. То у бусинок нить раскушу, То первый росток подсушу, Вырезаю из книг странички, Ломаю крылья у птички… Девочка в сером платьице, Девочка с глазами пустыми, Скажи мне, как твое имя? А по-своему зовет меня всяк: Хочешь эдак, а хочешь так. Один зовет разделеньем, А то враждою, Зовут и сомненьем, Или тоскою. Иной зовет скукою, Иной мукою… А мама-Смерть – Разлукою, Девочку в сером платьице…Январь 1913
СПБ
Колодцы
Слова, рожденные страданьем, Душе нужны, душе нужны. Я не отдам себя молчаньям, Слова как знаки нам даны. Но сторожит молчаний демон Колодцы черные свои. Иду – и знаю: страшен тем он, Кто пил от горестной струи. Слова в душе – ножи и копья… Но воплощенные, в устах – Они как тающие хлопья, Как снежный дым, как дымный прах. Ты лет мгновенный их не встретил, Бессильный зов не услыхал, Едва рожденным – не ответил, Детей, детей не удержал! Молчанье хитрое смеется: Они мои, они во мне, Пускай умрут в моем колодце, На самом дне, на самом дне… О друг последний мой! Кому же, Кому сказать? Куда идти? Пути всё уже, уже, уже… Смотри: кончаются пути.Февраль 1913
СПБ
Напрасно («Я и услышу, и пойму…»)
Я и услышу, и пойму, А все-таки молчи. Будь верен сердцу своему, Храни его ключи. Я пониманьем – оскорблю, Не оттого, что не люблю, А оттого, что скорбь – твоя, А я не ты, и ты не я. И пусть другой не перейдет Невидимый порог. Душа раскрытая – умрет, Как сорванный цветок. Мы два различных бытия. Мы зеркала – и ты, и я. Я всё возьму и углублю, Но, отражая, – преломлю. Твоя душа… Не оттого ль Даю так много ей, Что всё равно чужая боль Не может быть моей? Страдать достойней одному. Пусть я жалею и пойму – Любви и жалости не верь, Не открывай святую дверь, Храни, храни ее ключи, И задыхайся – и молчи.Февраль 1913
СПБ
Всё мое
И. А. Бунину
День вечерен, тихи склоны, Бледность, хрупкость в небесах, И приземисты суслоны На закошенных полях. Ближний лес узорно вышит Первой ниткой золотой И, притайный, – тайной дышит. Темной свежестью грибной. В бело-перистом тумане, Зыбко взреявшем, сыром, Грезят сизые елани Об осеннем, о ночном. Чуть звенит по глади росной Чья-то песня, чей-то крик… Под горой, на двухколесной Едет пьяненький мужик. Над разлапистой сосною Раскричалось воронье. Всё мне близко. Всё родное. Всё мне нужно. Всё мое.Октябрь 1913
СПБ
Банальностям
Не покидаю острой кручи я, Гранит сверкающий дроблю. Но вас, о старые созвучия, Неизменяемо люблю. Люблю сады с оградой тонкою, Где роза с грезой, сны весны И тень с сиренью – перепонкою, Как близнецы, сопряжены. Влечется нежность за безбрежностью, Всё рифмы-девы, – мало жен… О как их трогательной смежностью Мой дух стальной обворожен! Вас гонят… Словно дети малые, Дрожат мечта и красота – Целую ноги их усталые, Целую старые уста. Создатели домов лучиночных, Пустых, гороховых домов, Искатели сокровищ рыночных – Одни боятся вечных слов. Я – не боюсь. На кручу сыпкую Возьму их в каменный приют. Прилажу зыбкую им зыбку я… Пусть отдохнут! Пусть отдохнут!Январь 1914
СПБ
Переменно
Какой сегодня пятнистый день: То оживляю дугу блестящую, То вижу солнца слепого тень, По ширмам рдяной иглой скользящую. Какой на сердце бесстыдный страх! Какие мысли во мне безумятся! И тьмы и светы в моих стенах. Автомобили поют на улице. Неверно солнце и лжет дождем. Но дождь январский еще невернее. Мороз ударит, как кистенем. В кристаллы мгленье сожмет вечернее. А я не выйду, – куда во мгу Пойду по льду я, в туманы талые? Там жгут, колдуя, во льду, в снегу, На перекрестках жаровни алые.Январь 1914
СПБ
Революция
Кто он?
Проклятой памяти безвольник, И не герой – и не злодей, Пьеро, болтун, порочный школьник. Провинциальный лицедей, Упрям, по-женски своенравен, Кокетлив и правдиво-лжив, Не честолюбец – но тщеславен, И невоспитан, и труслив… В своей одежде неопрятной Развел он нечисть наших дней, Но о свободе незакатной Звенел, чем дале, тем нежней… Когда распучившейся гади Осточертела песнь Пьеро, – Он, своего спасенья ради, Исчез, как легкое перо. Ему сосновый скучен шелест… Как претерпеть унылый час? А здесь не скучно: гадья челюсть, Хрустя, дожевывает нас. Забвенья нет тому, что было. Не смерть позорна – пусть умрем… Но увенчает и могилу Пьеро – дурацким колпаком.Март 1918
СПБ
Где он?
Близкому – далекому
Я знаю, что жизнь размерена, и круг ввивается в круг. Но где он, опять потерянный, опять далекий друг? Горя каким томлением и судьбы чьи – верша, стремит к своим достижениям уверенная душа? Мне милы ее огромности, то срыв – то всплеск огня. И все ее сложные темности, прозрачные для меня. Я знал, какие извилины лежат на его путях. Но конь не споткнется взмыленный – поводья в крепких руках. Спокойно в алые дали я гляжу – совершений жду. И что бы ни было далее – я верю в его Звезду!Апрель 1918
СПБ
Желтое окно
Иди сюда, взгляни-ка Сквозь желтое стекло. Взгляни, как небо дико, Подземно и светло. Клубясь, ползет червивый И дымный ворох туч. Мертво рудеют ивы Над желтью жарких круч. Ручей по дну оврага – Как черное вино. Как жженая бумага – Трава в мое окно. Бессмысленно-кровавы Тела апрельских рощ. Накрапывает ржавый, Сухой и горький дождь. И всюду эти стекла Проклятого окна. Земля моя поблекла, Земля опалена!Апрель 1918
Шел…
Белому и Блоку
1
По торцам оледенелым, В майский утренний мороз, Шел, блестя хитоном белым, Опечаленный Христос. Он смотрел вдоль улиц длинных, В стекла запертых дверей. Он искал своих невинных Потерявшихся детей. Все – потерянные дети, – Гневом Отчим дышат дни, – Но вот эти, но вот эти, Эти двое – где они? Кто сирот похитил малых, Кто их держит взаперти? Я их знаю, Ты мне дал их, Если отнял – возврати… Покрывало в ветре билось, Божьи волосы крутя… Не хочу, чтоб заблудилось Неразумное дитя… В покрывале ветер свищет, Гонит с севера мороз… Никогда их не отыщет, Двух потерянных – Христос.Май 1918
СПБ
Всем, всем, всем
2
По камням ночной столицы, Провозвестник Божьих гроз, Шел, сверкая багряницей, Негодующий Христос. Темен лик Его суровый, Очи гневные светлы. На веревке, на пеньковой, Туго свитые узлы. Волочатся, пыль целуют Змеевидные концы… Он придет, Он не минует, В ваши храмы и дворцы, К вам, убийцы, изуверы, Расточители, скопцы, Торгаши и лицемеры, Фарисеи и слепцы! Вот, на празднике нечистом Он застигнет палачей, И вопьются в них со свистом Жала тонкие бичей. Хлещут, мечут, рвут и режут, Опрокинуты столы… Будет вой и будет скрежет – Злы пеньковые узлы! Тише город. Ночь безмолвней. Даль притайная пуста. Но сверкает ярче молний Лик идущего Христа.Май 1918
СПБ
А. Блоку («Всё это было, кажется, в последний…»)
Дитя, потерянное всеми…
Всё это было, кажется, в последний, В последний вечер, в вешний час… И плакала безумная в передней, О чем-то умоляя нас. Потом сидели мы под лампой блеклой, Что золотила тонкий дым, А поздние распахнутые стекла Отсвечивали голубым. Ты, выйдя, задержался у решетки, Я говорил с тобою из окна. И ветви юные чертились четко На небе – зеленей вина. Прямая улица была пустынна, И ты ушел – в нее, туда… – – – – – – – – Я не прощу. Душа твоя невинна. Я не прощу ей – никогда.Апрель 1918
СПБ
Напрасно («Всю душу не тебе ли я…»)
Всю душу не тебе ли я Несу – но тщетно: Как тихая Корделия, Ты неответна. Заря над садом красная, Но сад вечерен. И, может быть, напрасно я Тебе так верен.1918
СПБ
Есть речи
У каждого свои волшебные слова. Они как будто ничего не значат, Но вспомнятся, скользнут, мелькнут едва, И сердце засмеется и заплачет. Я повторять их не люблю; я берегу Их от себя, нарочно забывая. Они мне встретятся на новом берегу: Они написаны на двери Рая.Июнь 1918
СПБ
Свеча ненависти
Рабы, лгуны, убийцы, тати ли – Мне ненавистен всякий грех. Но вас, Иуды, вас, предатели, Я ненавижу больше всех. Со страстью жду, когда изведаю Победный час, чтоб отомстить, Чтоб вслед за мщеньем и победою Я мог поверженным – простить. Но есть предатели невинные: Странна к ним ненависть моя… Ее и дни, и годы длинные В душе храню ревниво я. Ревниво теплю безответную Неугасимую свечу. И эту ненависть заветную Люблю… но мести не хочу. Пусть к черной двери искупления Слепцы-предатели идут… Что значу я? Не мне отмщение, Не мой над ними будет суд, Мне только волею Господнею Дано у двери сторожить, Чтоб им ступени в преисподнюю Моей свечою осветить.Июнь 1918
Может быть…
Скоро изменятся жизни цветы, я отойду ото всех, кто мил, буду иные искать ответы, если здешние отлюбил. И не будет падений в бездны: просто сойду со ступень крыльца, просто совьется свиток звездный, если дочитан – до конца.Июнь 1918
СПБ
Не бывает
Нет, не бывает, не бывает, Не будет, не было и нет. Зачем нас этот сон смущает, На безответное ответ? Он до сих пор кому-то снится, И до сих пор нельзя забыть… Он никогда не воплотится: Здесь – ничего не может быть.Август 1918
СПБ
За копьями
Горят за копьями ограды, В жестокой тайне сочетаний, Неугасимые лампады Моих сверкающих мечтаний. Кто ни придет к ограде, – друг ли, Иль враг, – войти в нее не смея, Лампады меркнут, точно угли, Во тьме дыша и ало рдея. Не знать огней моих лампадных Тому, кого страшат потери. Остры концы мечей оградных, И нет в ограде этой – двери. Сверкайте, радужные цепи Моих лампад, моих мечтаний, В бесплодности великолепии, В ненужности очарований.Август 1918
СПБ
Час победы
…Он ушел, но он опять вернется.
Он ушел и не открыл лица…
Что мне делать, если он вернется?
Не могу я разорвать кольца…
«В черту» (1905) Он опять пришел – глядит презрительно (Кто – не знаю, просто Он, в плаще) И смеется: «Это утомительно, Надо кончить – силою вещей. Я устал следить за жалкой битвою, А мои минуты на счету. Целы, не разорваны круги твои, Ни один не вытянут в черту. Иль душа доселе не отгрезила? Я мечтаний долгих не люблю. Кольца очугуню, ожелезю я И надежно скрепы заклеплю». Снял перчатки он с улыбкой гадкою И схватился за концы кольца… Но его же черною перчаткою Я в лицо ударил пришлеца. Нет! Лишь кровью может быть запаяно И распаяно мое кольцо!.. Плащ упал, отвеянный нечаянно, Обнажая мертвое лицо. Я взглянул в глаза его знакомые, Я взглянул… И сник он в пустоту. В этот час победное кольцо мое В огненную выгнулось черту.Сентябрь 1918
СПБ
Как прежде
Твоя печальная звезда Недолго радостью была мне: Чуть просверкнула, – и туда, На землю, – пала темным камнем. Твоя печальная душа Любить улыбку не посмела И, от меня уйти спеша, Покровы черные надела. Но я навек с твоей судьбой Связал мою – в одной надежде. Где б ни была ты – я с тобой, И я люблю тебя, как прежде.Сентябрь 1918
СПБ
Дни
Все дни изломаны, как преступлением, Седого Времени заржавел ход. И тело сковано оцепенением, И сердце сдавлено, и кровь – как лед. Но знаю молнии: всё изменяется… Во сне пророческом иль наяву? Копье Архангела меня касается Ожогом пламенным – и я живу. Пусть на мгновение, – на полмгновения, Одним касанием растоплен лед… Я верю в счастие освобождения, В Любовь, прощение, в огонь – в полет!Ноябрь 1918
СПБ
Тяжелый снег
В. А. Злобину
Звезда субботняя лампады, За окнами – тяжелый снег, Пространств пустынные преграды, Ночных мгновений четкий бег… Вот 3 удара, словно пенье Далекое – колоколов… И я, чтоб задержать мгновенья, Их сковываю цепью слов.Ноябрь 1918
СПБ
14 декабря 18 г
Нас больше нет. Мы всё забыли, Взвихрясь в невиданной игре. Чуть вспоминаем, как вы стыли В карре, в далеком декабре. И как гремящий Зверь железный, Вас победив, – не победил… Его уж нет – но зверь из бездны Покрыл нас ныне смрадом крыл. Наш конь домчался, бездорожен, Безузден, яр, – куда? куда? И вот, исхлестан и стреножен, Последнего он ждет суда. Заветов тайных Муравьева Свились напрасные листы… Напрасно, Пестель, вождь суровый, В узле пеньковом умер ты, Напрасно всё: душа ослепла, Мы преданы червю и тле, И не осталось даже пепла От «Русской Правды» на земле.Декабрь 1918
СПБ
Тишь
На улицах белая тишь. Я не слышу своего сердца. Сердце, отчего ты молчишь? Такая тихая, такая тихая тишь… Город снежный, белый – воскресни! Луна – окровавленный щит. Грядущее всё неизвестней… Сердце мое, воскресни! воскресни! Воскресение – не для всех. Тихий снег тих, как мертвый. Над городом распростерся грех. Тихо плачу я, плачу – обо всех.Декабрь 1918
СПБ
Качание
Всё «Я» мое, как маятник, качается, и длинен, длинен размах. Качается, скользит, перемежается – то надежда – то страх. От знания, незнания, мерцания умирает моя плоть. Безумного качания страдание ты ль осудишь, Господь? Прерви его, и зыбкое мучение останови! останови! Но только не на ужасе падения, а на взлете – на Любви!Февраль 1919
СПБ
Тщета
Я шел по стылому, седому льду. Мой каждый шаг – ожоги и порезы. Искал тебя – и знал, что не найду, Как синтез не найду без антитезы. Смотрело маленькое солнце зло (Для солнца нет ни бывших, ни грядущих) – На хрупкое и скользкое стекло, На лица синие мимоидущих. Когда-нибудь и ты меня искать Пойдешь по той же режущей дороге. И то же солнце будет озарять Твою тщету и раненые ноги.Март 1919
СПБ
Пока
Я ненавижу здешнее «пока»: С концами всё, и радости, и горе. Ведь как бы ни была длинна река – Она кончается, впадая в море. Противны мне равно земля, и твердь, И добродетель, и бесчеловечность; Одну тебя я принимаю, Смерть: В тебе единой не пока – но вечность.Апрель 1919
СПБ
С варевом
Две девочки с крошечными головками, ужасно похожие друг на дружку, тащили лапками, цепкими и ловкими, уёмистую, как бочонок, кружку. Мне девчонки показались занятными, заглянул я в кружку мимо воли: суп, – с большими сальными пятнами, а на вкус – тепловатый и без соли. Захихикали, мигнули: «Не нравится? да он из лучшего кошачьего сала! наш супец – интернационально славится; а если тошнит, – так это сначала…» Я от скуки разболтался с девчонками; их личики непрерывно линяли, но голосами монотонно-звонкими они мне всё о себе рассказали: «Личики у нас, правда, незаметные, мы сестрицы, и мы – двойняшки; мамаш у нас количества несметные, и все мужчины наши папашки. Я – Счастие, а она – Упокоение, так зовут нас лучшие поэты… Совсем напрасно твое удивление: или ты, глупый, не веришь в это?» Такой от девчонок не ждал напасти я, смеюсь: однако, вы осмелели! Уж не суп ли без соли – эмблема счастия? Нет, как зовут вас на самом деле? Хохоток их песочком сеется… «Как зовут? Сказать ему, сестрица? Да Привычкой и Отвычкой, разумеется! наших имен нам нечего стыдиться. Мы и не стыдимся их ни крошечки, а над варевом смеяться – глупо; мы, Привычка и Отвычка, – кошечки… Подожди, запросишь нашего супа…»Апрель 1919
СПБ
Летом
О, эти наши дни последние,
Обрывки неподвижных дней!
И только небо в полночь меднее
Да зори голые длинней…
Хочу сказать… Но нету голоса. На мне почти и тела нет. Тугим узлом связались полосы Часов и дней, недель и лет. Какою силой онедвижена Река земного бытия? Чьим преступленьем так унижена Душа свободная моя? Как выносить невыносимое? Чем искупить кровавый грех, Чтоб сократились эти дни мои, Чтоб Он простил меня – и всех?Июль 1919
СПБ
Осенью (Сгон на революцию)
На баррикады! На баррикады! Сгоняй из дальних, из ближних мест… Замкни облавой, сгруди, как стадо, Кто удирает – тому арест. Строжайший отдан приказ народу, Такой, чтоб пикнуть никто не смел. Все за лопаты! Все за свободу! А кто упрется – тому расстрел. И все: старуха, дитя, рабочий – Чтоб пели Интер-национал. Чтоб пели, роя, а кто не хочет И роет молча – того в канал! Нет революций краснее нашей: На фронт – иль к стенке, одно из двух. …Поддай им сзаду! Клади им взашей, Вгоняй поленом мятежный дух! На баррикады! На баррикады! Вперед, за «Правду», за вольный труд! Колом, веревкой, в штыки, в приклады… Не понимают? Небось поймут!25 октября 1919
СПБ
Ночь
…Не рассветает, не рассветает… На брюхе плоском она ползет. И всё длиннеет, всё распухает… Не рассветает! Не рассветет.Декабрь 1919
СПБ
Песня без слов
Как ясен знак проклятый Над этими безумными! Но только в час расплаты Не будем слишком шумными. Не надо к мести зовов И криков ликования: Веревку уготовав – Повесим их в молчании.Декабрь 1919
СПБ
Там и здесь
Там и здесь
Там – я люблю иль ненавижу, – Но понимаю всех равно: И лгущих, И обманутых, И петлю вьющих, И петлей стянутых… А здесь – я никого не вижу. Мне все равны. И всё равно.Январь 1920
Бобруйск
Видение (Этюд на «Анте»)
На Смольном новенькие банты из алых заграничных лент. Закутили красноармейские франты, близится великий момент. Жадно комиссарские аманты мечтают о журнале мод. Улыбаются спекулянты, до ушей разевая рот. Эр-Эс-Эф-ка – из адаманта, победил пролетарский гнев! Взбодрились оба гиганта, Ульянов и Бронштейн Лев. Завели крепостные куранты (кто услышит ночной расстрел?), разработали все пуанты европейских революционных дел. В цене упали бриллианты, появился швейцарский сыр… . . . . . . . . . . . . . . . Что случилось? А это Антанта с большевиками заключает мир.Январь 1920
Минск
Оттуда?
Д. П. С.
Она никогда не знала, как я любил ее, как эта любовь пронзала всё бытие мое. Любил ее бедное платье, волос ее каждую прядь… Но если б и мог сказать я – она б не могла понять. И были слова далеки… И так – до последнего дня, когда в мой путь одинокий она проводила меня… Ни жалоб во мне, ни укора… Мне каждая мелочь близка, над каждой я плачу, которой касалась ее рука… Не знала – и не узнает, как я любил ее, каким острием пронзает любовь – бытие мое. И, может быть, лишь оттуда, – если она уж там, – поймет любви моей чудо она по этим слезам…Май 1920
Варшава
Глаза из тьмы
О эти сны! О эти пробуждения! Опять не то ль, Что было в дни позорного пленения, Не та ли боль? Не та, не та! Стремит еще стремительней Лавина дней, И боль еще тупее и мучительней, Еще стыдней. Мелькают дни под серыми покровами, А ночь длинна. И вся струится длительными зовами Из тьмы, – со дна. Глаза из тьмы, глаза навеки милые, Неслышный стон… Как мышь ночная, злая, острокрылая, Мой каждый сон. Кому страдание нести бесслезное Моих ночей? Таит ответ молчание угрозное, Но чей? Но чей?Август 1920
Варшава
Родное
Т. И. М.
Есть целомудрие страданья И целомудрие любви. Пускай грешны мои молчанья – Я этот грех ношу в крови. Не назову родное имя, Любовь безмолвная свята. И чем тоска неутолимей, Тем молчаливее уста.Декабрь 1920
Париж
Ключ
Струись, Струись, Холодный ключ осенний. Молись, Молись, И веруй неизменней. Молись, Молись, Молитвой неугодной. Струись, Струись, Осенний ключ холодный.Сентябрь 1921
Висбаден
Будет
И. И. Манухину
Ничто не сбывается. А я верю. Везде разрушение, А я надеюсь. Все обманывают, А я люблю. Кругом несчастие, Но радость будет. Близкая радость, Нездешняя – здесь.1922
Приложение
Валерий Брюсов. З. Н. Гиппиус*
I
Деятельность З. Н. Гиппиус распадается на три периода: первый, когда ее миросозерцание исчерпывалось чистым эстетизмом, второй, когда ее живо заинтересовали вопросы религиозные, и третий, когда к этому присоединился столь же живой интерес к вопросам общественным. Эти периоды определенно сказываются в прозе Гиппиус, в ее рассказах и статьях; гораздо менее – в ее стихах. Поэзия Гиппиус развивалась как бы по своим особым путям, подчиняясь иным законам, нежели сознательное мировоззрение автора.
Литературную деятельность Гиппиус начинала в том кружке символистов, который в 90-х годах группировался вокруг «Северного вестника» (Д. Мережковский, Н. Минский, А. Волынский, Ф. Сологуб). Здесь господствовали идеи Бодлера, Рескина, Ницше, Метерлинка и других «властителей дум» того времени. Их влиянием насыщены и первые стихи Гиппиус. Написанные с большим мастерством, без всяких крикливых новшеств, но своеобразные и по ритмам, и по языку, они сразу останавливали внимание глубиной идейного содержания. Среди этих первых стихотворений, – кстати сказать, появлявшихся в печати очень редко – не было «описаний для описания», повторения общих мест и пересказа общих тем, что так обычно у начинающих поэтов. Каждое стихотворение давало что-то новое, чего в русской поэзии еще не было, подступало к теме с неожиданной стороны, и каждое заключало в себе определенную, продуманную мысль. Вместе с тем в этих стихах уже ясно сказывалось исключительное умение Гиппиус писать афористически, замыкать свою мысль в краткие, выразительные, легко запоминающиеся формулы.
Эти формулы по своему содержанию были столь необычны для русской литературы, что критика сразу зачислила Гиппиус в ряды оригинальничающих декадентов и каких-то отщепенцев, хотя, в сущности, она лишь повторяла в стихах мысли ряда значительнейших писателей Запада, еще остававшихся в те дни у нас (по выражению Д. Мережковского) «великими незнакомцами». Так, например, признание:
Из всех чудес земли тебя, о снег прекрасный, Тебя люблю… За что люблю – не ведаю… –конечно, отголосок ныне всем известного «стихотворения в прозе» Бодлера об облаках (L'Etranger). Формула, особенно приводившая в негодование критиков того времени:
Но люблю я себя, как Бога, – Любовь мою душу спасет… –явно создалась под влиянием проповеди эгоизма Ницше и др. Не менее известное в те дни:
Мне нужно то, чего нет на свете, Чего нет на свете… –повторяет в сжатой формуле обычные жалобы первых французских символистов, возобновивших мистическую тоску романтиков по несказанному.
Проклятия скучной реальной жизни («Моя душа во власти страха – И горькой радости земной. – Напрасно я бегу от праха…», «Жизни мне дал унижение…», прославление мира фантазии («Я – раб моих таинственных, необычайных снов»), поиски утешения в бесстрастии («Ни счастия, ни радости – не надо»), вера в какую-то неведомую правду, которая суждена избранным («Но я верю – дух наш высок»), наконец, искание новой красоты во Зле («О, мудрый соблазнитель, – Злой Дух, ужели ты – Непонятый учитель – Великой красоты?») – вот основные темы первых стихов Гиппиус. Их преобладающее настроение – тоска, томление, жажда одиночества, сознание разобщенности с людьми («Окно мое высоко над землею»); чаще всего после слов «утом-ленье», «усталость», «унынье», «смерть» повторяются слова «неведомый», «таинственный», «неразгаданный», «невоплощенный». Если поэт и называет свою душу «безумной и мятежной» («безумный» – любимое слово Фета), то в конце концов не видит для нее иного исхода, как научиться «безмолвно умирать».
Может быть, высшего напряжения это настроение достигает в стихотворении «Лета» (позднее озаглавленном «Там»):
Я в лодке Харона, с гребцом безучастным. Как олово густы тяжелые воды. Туманная сырость над Стиксом безгласным. Из темного камня небесные своды. . . . . . . . . . . . . . . . Но лодка скользит не быстрей и не тише. Упырь меня тронул крылом своим влажным, Бездумно слежу я за стаей послушной, И все мне здесь кажется странно-неважным, И сердце, как там, на земле – равнодушно. Я помню, конца мы искали порою, И ждали и верили смертной надежде… Но смерть оказалась такой же пустою, И так же мне скучно, как было и прежде.Те же настроения господствуют и в двух первых книгах рассказов Гиппиус: «Новые люди» (1896 г.) и «Зеркала» (1898 г.). Первая из них была посвящена А. Л. Волынскому, как «ступени к новой красоте». Основная мысль книги: неправ ость только рационального отношения к миру и к жизни. Людям, рассуждающим здраво, во всех рассказах противопоставлены те, которые живут исключительно эмоциями, какими-то смутными влечениями души. Общепринятой морали, общепринятым истинам противополагается сомнение во всем, искание новых путей жизни. Любимые герои Гиппиус в этой книге – лица, чуждые школьному образованию или даже не совсем нормальные, иногда, с обычной точки зрения, как бы «слабоумные». В этом, конечно, сказалось влияние «Идиота» Достоевского и того афоризма Эдгара По, в котором он предлагает «обходить невниманием все жизнеописания добрых и великих и в то же время тщательно рассматривать малейшие повествования о злосчастных, умерших в тюрьме, в сумасшедшем доме или на виселице». Это было также одной из причин, почему Гиппиус охотно останавливалась на образах людей «простых», любовно рисуя, например, типы прислуг.
«Всегда только непонятное и необъяснимое имело силу давать ему радость», – говорит Гиппиус об одном из своих героев. В другом рассказе героиня его признается: «Я никого не люблю. Я сад люблю, я цветы люблю и музыку». Еще в одном рассказе те же слова повторяет Затенин, «который любил красоту во всех ее проявлениях»: «Я никого не люблю, и не люблю никого, потому что всех жалею». Манечка, которую «все за блаженненькую считали» и которая в 15 лет никак не могла выучиться писать, возражает своей няньке: «Это по книжкам? Там, няня, не про то. Там все вздор». Людмила, которая любила одно: совсем чистое голубое небо, – произносит такие афоризмы: «А разве нужно всегда говорить только правду? Ложь так же необходима, как правда». И т. д. и т. д.
Те же мысли, те же идеи, только несколько углубленные и обостренные, развиваются и во второй книге рассказов «Зеркала». Типы действующих лиц остаются приблизительно те же, и они ведут между собою разговоры на те же темы. «Истинная красота – гармонична, – говорит один. – Красота, как я ее понимаю, есть предтеча правды». «В том-то и ужас, – возражает другой, – что красота может быть и не гармонична. Я чувствую глубокий разлад мира, я хочу понять и победить его».
II
В самом начале 900-х годов возникло, не без непосредственного влияния Гиппиус, то движение в русском обществе, которое теснейшим образом связано с именем Д. Мережковского. Сущность этого движения состояла в призыве к религиозному возрождению и в проповеди неохристианства, христианства «апокалиптического», верующего во Христа грядущего, как историческое – веровало во Христа пришедшего, и Имеющего задачей утвердить равносвятость Святой Плоти и Святого Духа. В связи с этим движением стояли религиозно-философские собрания в Петербурге и издание журнала «Новый путь» – два дела, в которых Гиппиус принимала видное участие.
Для поэзии Гиппиус этот период (годы 1900–1906) – самая темная полоса. Начиная, приблизительно, со стихов:
В начале было Слово. Ждите Слова. Откроется Оно… –поэт в обширном цикле стихотворений пытается выразить свои новые убеждения, т. е. ищет поэтического воплощения для отвлеченной мысли: путь, который никогда не бывает успешным в искусстве. Перед нами целый ряд попыток написать «молитву» в стихах, одна неудачней другой («Нескорбному учителю», «Христу», «Господь, Отец», «За Дьявола Тебя молю, Господь» и др.). Перед нами такой же ряд чисто рассудочных характеристик христианина, подлинного и заблуждающегося, т. е. придерживающегося нового понимания христианства или понимания исторического («Христианин», «Другой христианин», «Я», «Предсмертная исповедь христианина» и др.). Стихи Гиппиус становятся изложением отвлеченных идей в размерах и с рифмой, удручая читателя своим бесцветным прозаизмом. Даже искусство афоризма изменяет поэту, так как нет никакого своеобразия в таких, например, его формулах: «Путь наш единый, – Любовь!», «Грех – маломыслие и малоделание», «Великий грех желать возврата – Неясной веры детских дней» и т. п. По-видимому, христианство оставалось для Гиппиус отвлеченным представлением, не было ею воспринято творчески, и мы вправе ее религиозные стихи просто исключить из ее поэзии.
Но в те же годы написано Гиппиус несколько стихотворений, показывающих, что дарование ее, в существе своем, продолжало расти и развиваться. Стихотворения эти не только не стоят в связи с ее отвлеченным мировоззрением, но порою как бы противоречат ему. Таково, напр., прекрасное, сжатое стихотворение «До дна», воскрешающее «декадентское» учение о том, что по всем путям должно идти «до предела»:
Тебя приветствую, мое поражение, Тебя и победу люблю равно; На дне моей гордости лежит смирение, И радость и боль – всегда одно. Над водами, стихнувшими в безмятежности Вечера ясного, – все бродит туман; В последней жестокости есть бездонность нежности И в Божией правде – Божий обман. Люблю отчаянье мое безмерное, Нам радость в последней капле дана. И только одно здесь я знаю верное: Надо всякую чашу пить – до дна.Таково и стихотворение «Сосны» («Желанья все безмернее»), в котором эти «сосны» прямо говорят поэту:
Твоя душа без нежности, А сердце – как игла, –а он, поэт, тщетно пытается возразить им:
Не слушаю, не слушаю… Любви хочу и веры я…В стихотворении «Дождичек» тонко нарисованная картина дождя, выраженного в самых звуках стихов, заканчивается признанием:
Помню, было слово: крылья… Или брежу? Все равно!В стихотворении «Все дождик да дождик…», по своей певучести и по строгому выбору слов принадлежащем к лучшим стихам Гиппиус, опять повторяется славословие миру грезы, противополагаемому миру реальностей, и поэт опять признается: «Жизнь моя – сны».
В рассказах Гиппиус, написанных в те же годы и собранных в двух книгах – «Третья книга» (1902 г.) и «Алый меч» (1906 г.), таких исключений почти нет. Все рассказы написаны на определенную тему, стремятся доказать определенную мысль. Самые названия – и второго сборника «Алый меч», и отдельных рассказов: «Святая плоть», «Тварь», «Небесные слова», «Святая кровь» (драма) – показывают их чисто рассудочное происхождение. Все действующие лица – только олицетворения определенных идей; это – не живые люди, которых автор наблюдал или воссоздал в своем воображении, но отвлеченные схемы, придуманные для того, чтобы из их поступков или из их рассуждений вывести ту или другую мысль. Надуманность, отсутствие непосредственных наблюдений над психологией живых людей, даже прямое пренебрежение к этой психологии – все, что чувствовалось уже в первых рассказах Гиппиус, в двух ее следующих сборниках окончательно разрушает иллюзию художественности. Отдельные меткие замечания, верные штрихи в описаниях, несколько хорошо задуманных ситуаций, конечно, не искупают основной художественной неправды всего замысла. Эти рассказы Гиппиус читаются с трудом и прежде всего – скучны.
Зато ее герои очень много рассуждают, и особенно часто на темы о религии. «Если б та вера возвратилась, что в детстве!» – восклицает один из них. «Новая религия родится из новосознанного Евангелия», – поучает другой. «Я верю в то, во что следует верить», – говорит один англичанин. «В раздвоении великая глубина, когда раздвоение ведет к желанию единства», – пишет Мария Т. Еще другие обсуждают вопрос, переросли ли люди религию или еще не доросли до нее, начинается ли религия до науки или только за наукой, почему Христос сказал: «будьте мудры, как змеи», взяв образ искусителя, который соблазнил женщину якобы яблоком мудрости, и т. д. и т. д. И все эти длинные разговоры на отвлеченные темы, по большей части, не имеют никакого значения для развития действия в рассказе.
III
Около 1904–1905 года стихи Гиппиус отмечают некоторый перелом в ее самопонимании. Его можно начинать уже со стихотворения, первые строки которого говорят нам:
Я ждал полета и бытия. Но мертвый ястреб – душа моя.Поэт как бы осознает наконец существо своей души, ее глубокую раздвоенность. Признаваясь, что он «земле и небу равно далек», он делает и другое, горестное признание: «Я знаю, солнце – меня сожжет». Из поэзии Гиппиус исчезают попытки сложить молитву, исчезают отвлеченные рассуждения о Боге, о религии; но зато в стихи опять вливаются живые чувства, вся непосредственность восприятия мира. Поэт с прежней смелостью говорит уже не о том, что ему хотелось бы найти в своей душе, но о том, что действительно его душу наполняет, разве только прибавляя в конце своей поэтической исповеди:
Помяни мое паденье На суде твоем, Господь!Пусть сознательное отношение к своему творчеству заставляет Гиппиус заключать иные свои стихи в кавычки (как бы приписывая их кому-то другому) или ставить над иными, как заглавие, слово «Шутка», – непобедимая правдивость все же остается в тех признаниях поэта, где он говорит, например: «Не слушайте меня, не стоит: бедные – Слова я говорю: я – лгу!» – или где землю, этот «пустынный шар в пустой пустыне», он называет «раздумьем Дьявола» и восклицает: «Ни лжи, ни истины не надо… Забвение! Забвение!»
Эти позднейшие стихи Гиппиус (1905–1913 гг.) принадлежат к лучшему, что ею создано в поэзии. В них нет излишней «программности» ее первых стихов, они гораздо более жизненны, красочны и вместе с тем облечены в форму безукоризненную. Почти все эти стихотворения очень коротки, но в немногих обдуманных и внимательно взвешенных словах поэт умеет нарисовать целые картины, передать всю сложность глубоких переживаний. В этих стихах полно выражается своеобразная личность поэта, то «я», которое отличает его от всех других и на которое Гиппиус только намекала раньше своими словами: «Твоя душа без нежности, – А сердце как игла». Как самоопределение, быть может, примечательнее всего стихотворение «Водоскат», посвященное А. А. Блоку:
Душа моя угрюмая, угроэная, Живет в оковах слов. Я – черная вода, пенно-морозная, Меж льдистых берегов, Ты с бедной человеческою нежностью Не подходи ко мне. Душа мечтает с вещей безудержностью О снеговом огне. И если в мглистости души, в иглистости Не видишь своего, – То от тебя ее кипящей льдистости Не нужно ничего.«Кипящая льдистость» – лучшее определение пафоса поэзии Гиппиус. Это – тот «волкан на полюсе, Янек», описанный Эдгаром По, «что огнем кипит подо льдом». «Бедной человеческой нежности» нет в поэзии Гиппиус, ее стихи, на первый взгляд, кажутся холодными и, пожалуй, однообразными, как белое ледяное поле, но в их глубине, действительно, есть «снеговой огонь». Как отважным путешественникам к полюсу, читателям должно преодолеть холод этой поэзии, чтобы перед ними заблистали наконец удивительные северные сияния. Надо глубоко вчитаться в стихи Гиппиус, чтобы вполне открылась соблазнительная прелесть таких, например, стихов:
Встань же, мой месяц серебряно-красный, Выйди, двурогая, – Милый мой – Милая… –или проникновенность обдуманных строк в стихотворении «Тварь»:
Приходишь ты, рожденная Лишь волею моей. . . . . . . . . . . Шатаясь, отодвинешься, – Чуть ослабею я… И молча опрокинешься Во мглу небытия.Гиппиус права, говоря своему читателю: «Если ты не любишь снег, – Если в снеге нет огня, – Ты не любишь и меня». Для того же, кто снег «любит», кто знает, что огонь в снеге есть, ее позднейшие стихи открывают мир души, глубокой и сложной, одной из тех, что не часто расцветают на земле.
Годы 1904–1905 отразились на творчестве Гиппиус и в другом отношении: они обратили ее внимание на вопросы общественные. В ее поэзии это сказалось сравнительно слабо: едва ли не двумя только, – впрочем, прекрасными – стихотворениями «Петербург» и «14 декабря», начинающими и заканчивающими «Вторую книгу» ее стихов (1910 г., первый сборник стихов издан в 1904 г.). Напротив, в прозе Гиппиус, в ее повестях с этого времени вопросы общественные решительно занимают первое место. В своих новых рассказах и романах Гиппиус всего охотнее останавливается на типах революционеров, ее герои ведут длинные беседы на общественные темы, и автор стремится обосновать ту мысль, что в России истинная революция возможна лишь в связи с революцией религиозной.
За последние годы литературная деятельность Гиппиус вообще значительно расширяется. Кроме драмы «Маков цвет», изображающей переживания группы русских в Париже и в России в 1905–1906 гг., написанной совместно с Д. Мережковским и Д. Философовым (1908 г.), Гиппиус издает за это время еще два сборника рассказов: «Черное по белому» (1908 г.) и «Лунные муравьи» (1912 г.), «Вторую книгу» стихов и книгу критических статей «Литературный дневник» (1908 г.), составившуюся из критических заметок, помещавшихся в течение ряда лет в «Мире искусства», «Новом пути», «Весах», «Русской мысли» и др. изданиях. Так же совместно с Д. Мережковским и Д. Философовым Гиппиус участвует в составлении (на французском языке) книги «Le Tsar et la Revolution» (1908 г.). Наконец, в самые последние годы Гиппиус предпринимает работу над обширной трилогией, изображающей в форме романов судьбы русской революции; из этой трилогии пока напечатаны две части: «Чертова кукла» (1911 г.) и «Роман-царевич» (1912 г.).
Эти новые опыты в повествовательном роде не многое изменяют в образе Гиппиус-романиста. По-прежнему надуманные, чуждые свежести вдохновения, новые рассказы и романы Гиппиус не показывают настоящего знания жизни. Герои Гиппиус опять говорят интересные слова, опять попадают в довольно сложные коллизии, но не живут перед читателем. Это – не более как искусно сработанные марионетки, явно приводимые в движение рукою автора, а не силою своих внутренних психологических переживаний. Впрочем, несмотря на значительные размеры романов Гиппиус, она в своих позднейших повествованиях становится гораздо экономнее в распределении материала. В ее новых рассказах уже нет растянутости первых. Многие картины, нарисованные несколькими резкими чертами, выступают отчетливо. Некоторые характеры очерчены рельефно, иногда не без тонкого юмора. Но надо признать, что основная задача, которую Гиппиус поставила себе в своей трилогии, – изобразить все русское общество нашего времени, разные его слои, включив в изображение и портреты многих известных общественных деятелей, – автору окончательно не удалась.
В своих критических статьях Гиппиус показала себя критиком тонким и вдумчивым, но крайне резким и не всегда беспристрастным.
IV
По языку, по стилю, по манере письма еще резче отличается Гиппиус-прозаик от Гиппиус-поэта.
Проза Гиппиус зачастую написана небрежно; автор довольствуется грамматической правильностью речи, берет первые «попадающие под перо» слова. Автор не останавливается перед такими выражениями, как «Шатрова ела жалость к ней» или «это был самый зловредный мужик». Только местами, всего чаще в описаниях природы, Гиппиус начинает любовно выискивать выражения точные и образные, заботиться об энергии и звучности речи, и тогда оказывается, что у Гиппиус и в прозе есть свой стиль, есть умение говорить сжато, сильно, красиво. Отдельные, преимущественно описательные, отрывки в рассказах Гиппиус являются образцами истинно художественной прозы. К сожалению, они тонут в рядах чисто повествовательных страниц, не имеющих другой задачи, кроме той, чтобы сообщить читателю, что именно случилось с данными лицами. В позднейших повестях Гиппиус заметно стремление к намеренной простоте языка, но оно нередко приводит к неряшливости слога, как стремление к краткости – к излишней лаконичности и отрывочности речи. Критические статьи Гиппиус написаны в особенной манере интимного разговора. Иногда это приводит к большей остроте выражений.
Совершенно не похож на это поэтический язык Гиппиус, язык ее стихов. Его главное достоинства – исключительная сжатость, умение многое сказать очень немногими словами. Гиппиус находит эпитеты вполне естественные и вместе с тем вполне новые, которые каждому слову придают свежесть и неожиданность. Ей удается обновить такие избитые рифмы, как «любовь – кровь» («Крик»), или влить новую жизнь в такое «истасканное» поэтами слово, как «мгла», прибавив к нему эпитет «безрадужная» («Стекло»). Особенно чувствуется это в описаниях природы, в которых Гиппиус достигает иногда чисто тютчевской прозорливости. Таково, например, описание «Весеннего ветра»:
В нем встречных струй борьба и пляска, И разрезающе-остра Его неистовая ласка. Его бездумная игра.Не менее выразительна картина «Августа»:
Пуста пустыня дождевая… И, обескрылев в мокрой мгле, Тяжелый дым ползет, не тая… . . . . . . . . . . Дневная ночь, ночные дни…Но примеры такой же энергии речи можно найти у Гиппиус и в других стихотворениях, чуждых непосредственного описания (например, «К ней»):
И шаг твой дымный я ловлю, Слежу глухие приближенья… Я холод риз твоих люблю, Но трепещу прикосновенья.Рифмы стихов Гиппиус крайне разнообразны, хотя (как и их размеры) кажутся с первого взгляда обычными. Чтобы показать, какой музыкальности достигают стихи Гиппиус, довольно привести одну строфу:
Вешнего вечера трепет тревожный – С тонкого тополя веточка нежная. Вихря порыв горячо-осторожный – Синей бездонности гладь безбережная…В замечательном стихотворении «Перебои» Гиппиус начинает стихом с пятисложным окончанием, полно передающим то ощущение, о котором говорится в стихах:
Если сердце вдруг останавливается…С удивительным мастерством владеет Гиппиус «свободным стихом», ритм которого зависит исключительно от чуткости художника. Образцом такого стиха навсегда остается, например, одно из первых стихотворений Гиппиус: «Окно мое высоко над землею…» Очень тонки также перемены размера в одном из позднейших стихотворений: «Он – ей». Рифмы Гиппиус большею частью просты, но в их простоте есть своя изысканность. Не ослепляя глаз неожиданностью, они всегда естественно занимают свое место и потому никогда не производят впечатления ненужности или бедности. Но не пренебрегает Гиппиус и созвучиями совершенно новыми, если они органически входят в стих, и уже в самые последние годы деятельности она дала несколько опытов новой рифмовки стихов (согласуй начала, а не концы строк).
Однако главным образом певучесть стиха Гиппиус основана на искусном подборе звуков слов. Этот метод, широко развитый поэтами Рима, хорошо знакомый классикам нашей поэзии – Пушкину, Тютчеву, Баратынскому, одно время (50 – 80-е годы) был как бы забыт у нас. Гиппиус воскресила его с особенной настойчивостью, но с большой осторожностью. Тонкий вкус не позволял ей таких излишеств, как юношеские стихи Бальмонта «Чуждый чарам черный челн». Но в отдельных стихах она достигает истинной «звукописи», выражая искусным сочетанием гласных и согласных больше, чем могут сказать только слова. В своих ранних стихах Гиппиус иногда еще шла к своей цели слишком прямолинейно; таковы, например, ее, все же очень удачные, сочетания:
Темны, теплы тихие стены… Шелестят, шевелятся, дышат…В позднейших – она становится настоящим виртуозом слова до такой степени, что в иных стихотворениях решительно каждая буква имеет свое звуковое значение, дополняет общую мелодию ритма. Таковы строфы «Весеннего ветра», одного из лучших стихотворений Гиппиус:
Неудержимый, властный, влажный, Весельем белым окрылен, Слепой, безвольный – и отважный. Он вестник смены, сын Времен. . . . . . . . . . . . . . . . И оседает онемелый, Усталый, талый, старый лед. Люби весенний ветер белый, Его игру, его полет…Если мы отметим в первых стихах игру на согласных «вл-вл-в» и «л»; в четвертом стихе – на «с» и «м»; далее – аллитерацию «стал-тал-стар» и опять «в-в», – мы еще далеко не исчерпаем всего звукового содержания этого отрывка. Столь же замечательна строфа из стихотворения «Боль»:
Красным углем тьму черчу, Колким жалом плоть лижу, Туго, туго жгут кручу, Гну, ломаю и вяжу.В ней с предельным мастерством расположены буквы «к», «у», «ч», «ж», «л» и «г», образуя сложный звуковой узор.
Как сильный, самостоятельный поэт, сумевший рассказать нам свою душу, как выдающийся мастер стиха, Гиппиус должна навсегда остаться в истории нашей литературы. Вместе с Каролиной Павловой и Миррой Лохвицкой Гиппиус принадлежит к числу немногих женщин-поэтов, которыми мы можем гордиться. Критические статьи Гиппиус, бесспорно, имели свое значение для своего времени. Что же касается ее повестей и рассказов, то они могут быть важны лишь постольку, поскольку по ним можно полнее понять ее стихи: прозу Гиппиус, может быть, будут перечитывать потому, что нам дорого все, что написал любимый нами поэт.
Комментарии
Чертова кукла*
Русская мысль. 1911. № 1–3. Отд. изд. – М: Московское книгоиздательство, 1911. «Чертова кукла» – первая часть задуманной трилогии (вторая – «Роман-царевич», третья – «Очарование истины» – осталась незавершенной и неизданной). О «Чертовой кукле» рецензии напечатали: «Современный мир» (1911. № 4. В. Л. Львов-Рогачевский. Поворотное время), «Современник» (1911. К° 5. В. Чернов. Литературные впечатления), «Вестник Европы» (1911. № 6. С. А. Адрианов. Критические наброски), «Русское богатство» (1911. № 7. А. М. Редько. О Чертовой кукле – мертвой красоте), «Киевская почта» (1911. № 825. Н. Никольский), Е. А. Колтоновская. Наследники Санина (в кн.: Критические этюды. СПб., 1912).
Сорбонна – распространенное с XVII в. второе название Парижского университета, находящегося в Латинском квартале столицы Франции.
…сходством с Апухтиным. – Поэт Алексей Николаевич Апухтин (1840–1893), как и персонаж романа Раевский, отличался избыточной «обломовской» полнотой. Гиппиус, отмечая у своего героя «элегантность, непомерную толщину и французские словечки», наделила его некоторыми чертами поэта и художника Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932).
Блез Паскаль (1623–1662) – французский математик, физик, христианский философ и писатель. Автор знаменитой книги философской эссеистики «Мысли» (опубл. в 1669 г.).
…по поводу «Приговора» Достоевского – См.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876. Октябрь. IV. В этом очерке опубликовано «рассуждение одного самоубийцы от скуки, разумеется матерьялиста».
…на Васильевском поселю? – Имеется в виду Васильевский остров в дельте Невы, исторический район С.-Петербурга.
Третьеводни – позавчера.
Вячеславов – предположительно Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949) – поэт, драматург, философ-классик, критик, теоретик символизма.
Перовская Софья Львовна (1853–1881) –, террористка из группы «Народная воля», участвовавшая в убийстве Александра II. Казнена.
Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) – террористка из «Народной воли», участница покушений на Александра II. Приговорена к вечной каторге, однако через 20 лет освобождена. С 1906 г. в эмиграции. Автор мемуаров «Запечатленный труд» (т. 1–2, 1964).
Троице-Сергиева лавра – знаменитая русская обитель, основанная ок. 1335 г. в Подмосковье Сергием Радонежским. Крупный центр русской культуры.
Лаун-теннис (англ. lawn. – газон) – принятое в международном спорте название тенниса.
«Блажен, кто смолоду был молод…» – Из «Евгения Онегина» А, С. Пушкина.
Роман-царевич*
Русская мысль. 1912. № 9 – 12. Отд. изд. – М.: Московское книгоиздательство, 1913. Рецензии о «Романе-царевиче» опубликовали газета «Биржевые ведомости» (1913. № 13630. А. Измайлов) и журнал «Русское богатство» (1913. № 9).
…называл гоголевской Улинькой… – Ульяна – персонаж из второй части «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.
Лабаз – помещение для торговли зерном, мукой.
Федя, Федор Яковлевич, Федька Растекай – образ, в котором узнается Григорий Ефимович Распутин (наст. фам. Новых, 1864 или 1865, по др. данным 1872–1916), крестьянин, получивший известность «прорицаниями» и «исцелениями». Завоевал доверие семьи Николая II тем, что помог больному гемофилией наследнику престола царевичу Алексею. Убит заговорщиками. О Распутине Гиппиус рассказывает в очерке «Маленький Анин домик» (см. т. 6 в нашем изд).
Панагия (греч. пресвятая, эпитет, относящийся к Богородице) – в православии небольшая иконка с изображением Пресвятой Девы Марии. Панагия, являющаяся знаком архиерейского достоинства, носится епископами на груди.
Клобук – головной убор монашествующих (у православных он цилиндрической формы).
…знаменитый «Катехизис» декабриста Муравьева для солдат? – В одном из документов Архива III Отделения читаем: «.. Муравьев-Апостол построив возмущенные им роты на площади г. Василькова, призвал священника и после совершенного им молебна заставил его прочесть пред солдатами составленный им, Муравьевым-Апостолом, с Бестужевым-Рюминым возмутительный катехизис, преисполненный оскорбительными выражениями против верховной власти» (цит. по изд: Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 352). Декабрист Сергей Иванович Муравьев-Апостол (1795–1826) – подполковник, участник Отечественной войны 1812 г., один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, руководитель восстания Черниговского полка 29 декабря 1825 г. Казнен. Свой декабристский «Катехизис» (который не был окончен и потому не распространялся), а также Конституцию писал и Никита Михайлович Муравьев (1795–1843), осужденный на 20 лет каторжных работ.
…первым делом к Иверской. – Т. е. помолиться у Иверской иконы Богоматери. В 1648 г. копия этой святыни Афонского монастыря была доставлена из Греции в Москву и помещена в часовне у Воскресенских ворот (у входа на Красную площадь). В 1930-е гг. часовня была уничтожена, ныне восстановлена. День празднования Московской Иверской чудотворной иконы Божией Матери 12 (25) февраля.
…на Шипке спокойно. – Фраза из боевых донесений генерала от инфантерии Ф. Ф. Радецкого (1820–1890), успешно оборонявшего Шипку в русско-турецкую войну 1877–1878 гг. Выражение вошло в обиход, вероятно, после выставки, на которой был представлен знаменитый триптих «На Шипке все спокойно!» (1878–1879) Василия Васильевича Верещагина (1842–1904), живописца-баталиста, участника войн в Средней Азии (1867–1870), русско-турецкой и русско-японской (1904–1905). Художник погиб в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск».
Журфиксы (от фр. jour-fixe – определенный день) – дни, отведенные для приема гостей.
Лувр – художественный музей в Париже (1791), в котором собрана одна из лучших в мире коллекция древнеегипетского, античного и западноевропейского искусства.
…о взгляде известного эсдека на синдикализм. – Эсдеки – социал-демократы. Синдикализм – политическое движение, сторонники которого считают, что производством должны управлять профсоюзы (синдикаты).
Апаши (от фр. apach – индейцы-апачи) – название деклассированных элементов во Франции; хулиганы, воры.
Прозелитизм – преданность новым убеждениям.
Василий Блаженный – памятник русской архитектуры «Покровский собор что на рву», построенный в 1555–1561 гг. на Красной площади в Москве зодчими Бармой и Постником в ознаменование покорения Казанского ханства.
«Рахлы» (от фр. racaille) – ракалии, негодяи, мерзавцы.
Стихотворения*
Сведения о первых публикациях и поздние уточнения текстов даются по изданию: Гиппиус З. Н. Стихотворения. Вступ. статья, сост., подгот. текста и примеч. А. В. Лаврова. СПб.: гуманитарное агентство «Академический проект», 1999 (серия «Новая Библиотека поэта»). Как и в предыдущих томах Собрания, авторские прижизненные книги публикуются в хронологической последовательности: «Последние стихи. 1914–1918», «Походные песни», «Стихи. Дневник 1911–1921». Поэтический раздел Собрания завершат (в т. 6) сборник «Сияния» (1938) и стихи 1911–1945 гг., не вошедшие в прижизненные сборники.
Последние стихи. 1914–1918*
Последние стихи. 1914–1918. Пб., 1918. Все стихотворения сборника (кроме трех: «Молодому веку», «О Польше», «Тогда и опять») включены в книгу «Стихи. Дневник 1911–1921». О «Последних стихах», несмотря на их нескрываемый антибольшевизм (по оценке самой Гиппиус – «самые контрреволюционные!»), в печати появились доброжелательные отклики. Заметка Н. А. Слонимского известила о выходе сборника (Новые ведомости. 1918. 5 июня, веч. вып. № 78). В статье «Бобок» (Знамя. 1919. 3 февраля. № 2) Р. И. Иванов-Разумник осмелился даже на такие высказывания: «Превосходные стихи! Сильные, точные, правдивые».
Непредвиденное. 1913 г. (с. 393). Сирин. Сб. 3. СПб, 1914 (в цикле «Молчания»). В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» напечатано под названием «L'imprevisibilite» (фр. непредвиденность – термин, введенный философом Анри Бергсоном).
Тише (с. 393). Биржевые ведомости. 1914. 16 ноября, утр. вып. № 14498, под названием «С любовью». Славны будут великие дела… – Неточная цитата из стихотворения Ф. Сологуба «Марш» (у автора «Громки будут отважные дела»).
А дона и (с. 394). Сб. «Последние стихи». Адонаи (евр. «Господь мой») – обращение к древнееврейскому богу Яхве (Иегове), имя которого иудаизм запрещал произносить вслух. матерям – // Твое оружие проходит душу! – Благословляя только что рожденного Иисуса Христа, благочестивый Симеон сказал Богоматери: «се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – И Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (Евангелие от Луки, гл. 2, ст. 34–35). Симеон предсказывает здесь мессианскую деятельность Христа и Его суд над людьми, а также страдания Матери («словно меч пройдет сердце»), которой суждено стать свидетельницей ожесточенного сопротивления проповедничеству Иисуса и Его смертных мук на кресте…Той, // Что под крестом тогда стояла… – Имеется в виду Богоматерь. См. в Евангелии от Иоанна: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина» (гл. 19, ст. 25).
Отдых (с. 394). Вершины. 1914. № 2.
«Петроград» (с. 395). Речь. 1917. 17 карта. Ns 65 (в статье Гиппиус «Петербург»). 14 декабря 1914 г. Гиппиус в «Синей книге. Петербургский дневник» записала: «Люблю этот день, этот горький праздник „первенцев свободы“. В этот день пишу мои редкие стихи. Сегодня написался „Петербург“. Уж очень мне оскорбителен „Петроград“, создание „растерянной челяди, что, – властвуя, сама боится нас…“» (Гиппиус 3. Дневники. М., 1999. Т. 1. С. 390). В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» стихотворение опубликовано с посвящением дипломату, коллекционеру, другу Мережковских Владимиру Николаевичу Аргутинскому-Долгорукову (1874–1941).
Все она (с. 396). Сб. «Последние стихи».
Белое (с. 396). Биржевые ведомости. 1914. 25 декабря (утренний выпуск). № 14575 (с посвящением Д. С. Мережковскому). Мир на земле, в человеках благоволенье… – См.: Евангелие от Луки, гл. 2, ст. 14: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» …дай побеждающей одежду белую… – См. в Библии: «Побеждающий облечется в белые одежды» (Откровение Иоанна Богослова, гл. 3, ст. 5).
Молодому веку (с. 396). Голос жизни. 1915. № 1.
Неизвестная (с. 397). Голос жизни. 1915. № 16, с посвящением, позднее снятым: «Ник. С-му» – Николаю Леонидовичу Слонимскому (1894–1996), музыковеду, композитору, дирижеру, пианисту, автору рецензий на книги Гиппиус «Последние стихи» (Новые ведомости. 1918. 5 июня, веч. вып., № 78) и «Как мы воинам писали и что они нам отвечали» (Журнал журналов. 1915. № 33). Слонимский в 1923 г. эмигрировал в США.
Зеленый цветок (с. 398). Биржевые ведомости. 1915. 22 марта (утренний выпуск, пасхальный). № 14741. В Страстном томлении земля весенняя… – Имеется в виду Страстная неделя, которой завершается Великий пост перед праздником Пасхи.
«Свободный» стих (с. 398). Любовь к трем апельсинам. 1915. № 4/7. В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» с посвящением «Молодым поэтам».
Не о том (Отвечавшим) (с. 399). Сб. «Последние стихи».
Молодое знамя (с. 400). Сб. «Последние стихи» …Зеленое – Белое – Алое. – Повторяется название послесловия Гиппиус к пьесе «Зеленое кольцо», в котором раскрывается символика этих слов (см. т. 4 в нашем изд.)
Неразнимчато (с. 400). Сб. «Последние стихи».
Черненькому (с. 401). Сб. «Последние стихи». Н. Г. – Вероятно, Наталья Николаевна Гиппиус (1880–1963), младшая сестра З. Н. Гиппиус, скульптор.
Свет (с. 401). Голос жизни. 1915-й 16. В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» под названием «Свет!» и с Добавлением в последнюю строфу третьей строки: «Тихие ветры веют».
О Польше (с. 402). Пряник осиротевшим детям: Сборник в пользу убежища общества «Детская помощь». Пг., 1916. Без названия.
Ему (с. 402). В тылу: Литературно-художественный альманах кассы «Взаимопомощь» студентов Рижского политехнического института. Пг, 1915. Под названием «Весне». 3. Р. – Зинаида Владимировна Ратькова-Рожнова, урожд. Философова (1871–1966), сестра одного из ближайших друзей Гиппиус и Мережковского – критика, публициста Д. В Философова. Ее сыновья Дмитрий, Владимир и Николай в 1915 г. находились в действующей армии; первый из них, младший, погиб в первую мировую войну (1916), а средний и старший – в гражданскую, в боях с большевиками (1918).
Он (с. 402). Щит: Литературный сборник под ред. Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба. М., 1915. Без названия.
Второе Рождество (с. 403). Северный луч. 1916. № 9. Под названием «Третье Рождество». В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» под названием «Наше Рождество».
Тогда и опять (с. 403). В год войны: Сборник «Артист солдату». (Пг.], 1915.
Без оправданья (с. 404). Сб. «Последние стихи». М. Г-му – Максиму Горькому (наст, имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868–1936). В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» посвящение снято.
Страшное (с. 404). Сб. «Последние стихи».
Сентябрьское (с. 404). Сб. «Последние стихи». В сборнике «Стихи. Дневник 1911–1921» под названием «Сентябрь».
Сегодня на земле (с. 405). Сб. «Последние стихи».
Непоправимо (с. 405). Сб. «Последние стихи». Ястребов Николай Николаевич (1885 –?) – студент Петербургского университета и начинающий поэт; в 1917 г. – офицер…всадник на коне рыжем. – Образ из Библии: «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» (Откровение Иоанна Богослова, гл. 6, ст. 4).
«Говори о радостном» (с. 405). Сб. «Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус». [Пг.], 1917. Без названия и без посвящения. Злобин Владимир Ананьевич (1894–1967) – поэт, прозаик, публицист, критик; давний друг Мережковских, около 30 лет был их литературным секретарем. Автор мемуарной книги о Гиппиус «Тяжелая душа» (Вашингтон, 1970) и стихотворного сборника «После ее смерти» (Париж, 1951).
На Сергиевской (с. 406). Сб. «Последние стихи». Сергиевская – улица в Петербурге (д. 83, кв. 17), на которой Мережковские жили с 1913 г. до отъезда в эмиграцию. Н. Слонимскому – см. о нем примеч. к стих. «Неизвестная».
Юный март (с. 406). Сб. «Последние стихи». В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» с эпиграфом: Allons, en/ants de la patrie… (Вперед, сыны отечества…) – первая строка «Марсельезы» (1792) поэта и композитора Клода Жозефа Руже де Лиля (1760–1836). В годы Третьей республики (1870–1940) стала государственным гимном Франции.
Вся (с. 407). Сб. «Последние стихи». В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» под названием «Божья».
Почему? (с. 408). Сб. «Последние стихи».
Гибель (с. 408). Сб. «Последние стихи». В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» с посвящением: «С. И. Осовецкому». Степан Иванович Осовецкий (? – 1944) – инженер-технолог, член Московского филармонического общества.
Тли (с. 409). Сб. «Последние стихи».
Веселье (с. 409). Сб. «Последние стихи».
Липнет (с. 410). Воля народа. 1917. 12 ноября. № 170. Под названием «Соглашателям». «Новая жизнь» (18 апреля/1 мая 1917 – 3/16 июля 1918) – газета, издававшаяся в Петрограде группой социал-демократов, так называемых «интернационалистов». М. Горький печатал здесь в течение года свой дневник публициста «Несвоевременные мысли» с резкой критикой большевиков, что вызвало по распоряжению Ленина запрет газеты. Гиппиус в дневнике «Синяя книга» 28 октября 1917 г. записала: «Все газеты, оставшиеся (3/4 запрещены), вплоть до „Нов<ой> жизни“, – отмежевываются от большевиков, хотя и в разных степенях. „Нов<ая> жизнь“, конечно, менее других. Лезет, подмигивая, с Блоком и тут же „категорически осуждает“ – словом, обычная подлость» (Гиппиус 3. Дневники. М., 1999. Т. 1. С. 595).
Сейчас (с. 410). Сб. «Последние стихи». Викжель – Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников, созданный в Москве в июле 1917 г.
У. С (с. 411). Вечерний звон. 1917. 6 декабря. JA 1 (под названием «12 ноября» и с примеч.: «12 ноября – день выборов в Учредительное Собрание в Петербурге»).
14 декабря 17 года (с. 411). Вечерний звон. 1917. 14 декабря. № 8. Под названием «Им». Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) – муж Гиппиус, прозаик, поэт, драматург, литературовед, философ, публицист, критик, переводчик; теоретик и один из вождей русских символистов. Декабристы – герои его исторических романов «Александр Первый» (1911–1912) и «14 декабря» (1918). В этом же номере газеты «Вечерний звон» опубликована статья Мережковского «1825–1917», в которой, перекликаясь с темой стихотворения Гиппиус, говорится: «Надо же, наконец, правду сказать: „авангард русской революции“ – не крестьяне, не солдаты, не рабочие, а вот эти герои Четырнадцатого и мы, наследники их – русские интеллигенты – „буржуи“, „корниловцы“, „калединцы“, „враги народа“, „изменники революции“». Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) – поэт, один из руководителей восстания декабристов. Казнен. Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860) – князь, полковник, один из руководителей восстания декабристов, избранный диктатором, однако на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. не явился. Был приговорен к вечной каторге. Автор «Записок». Голицын Валерьян Михайлович (1803–1859) – князь, камер-юнкер, член Северного общества декабристов. Был приговорен к вечной ссылке в Сибирь, но в 1829 г. определен рядовым в действующую армию на Кавказ. Главный герой романов Мережковского «Александр Первый» и «14 декабря».
Боятся (с. 412). Сб. «Последние стихи».
Она (с. 412). Воля народа. 1918. № 2. В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» под названием «Опять». Колпак фригийский – головной убор участников Великой французской революции 1789–1794 гг. Пиши миры свои… – Имеется в виду мирный договор с Германией и др, подписанный большевиками в Брест-Литовске 18 февраля (3 марта) 1918 г.
Так есть (с. 413). Сб. «Последние стихи». Записано в дневнике 11 февраля 1918 г. (см. в кн.: Гиппиус 3. Дневники. Т. 2. Черные тетради. М., 1999. С. 82). В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» под названием «Если».
Мосты (с. 413). Сб. «Последние стихи». Посвящение «И. В.» в других изданиях снято.
Имя (с. 414). Сб. «Последние стихи». В 1921 г. напечатано в газетах «Общее дело» (13 апреля) и «Последние известия» (22 апреля) с включением в название имени: «Лавру Георгиевичу Корнилову». Л. Г. Корнилов (1870–1918) – генерал, возглавивший Добровольческую армию; погиб от разрыва снаряда во время «ледяного похода».
Дверь (с. 414). Воля народа. 1918. № 6.
На поле чести (с. 415). Сб. «Последние стихи». В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» с посвящением: «Памяти В. А. Р. Р.» – памяти Владимира Александровича Ратькова-Рожнова (1891–1918), погибшего в бою офицера Добровольческой армии, сына друзей Гиппиус А. Н. и 3. В. Ратьковых-Рожновых.
Нет (с. 415). Современное слово. 1918. 4 мая. № 3546. В сб. «Стихи. Дневник 1911–1921» под названием «Знайте!».
Походные песни*
Антон Кирша. Походные песни. Варшава, 1920. Из сборника агитационно-политических стихов Гиппиус исключены два стихотворения: «1917», открывающее книгу и принадлежащее Д. С. Мережковскому, и «Знайте!», вошедшее в сборник «Последние стихи» под названием «Нет».
Божий суд (с. 426). Бронштейн (парт. псевд. Троцкий) Лев Давидович (1879–1940) – политический деятель, один из вождей октябрьского переворота 1917 г. В 1929 г. выслан за границу и там убит террористом. Ленин (наст. имя Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – политический деятель, приверженец коммунистических идей марксизма; возглавил октябрьский переворот 1917 г., приведший большевиков к власти
Гость (с. 428). Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) – английский политический и государственный деятель, с 1916 г. премьер-министр Великобритании. Красин Леонид Борисович (1870–1926) – политический деятель, с 1920 г. нарком внешней торговли и одновременно полпред и торгпред советской России в Лондоне.
Стихи. Дневник 1911–1921*
Гиппиус З. Н. Стихи. Дневник. 1911–1921. Берлин: Слово, 1922. Из книги исключены тексты, опубликованные в сборнике «Последние стихи»: стихотворение «Непредвиденное» («L'imprevisibilite»), весь цикл «Война» и 17 стихотворений из цикла «Революция». В прессе русского зарубежья о поэтическом «Дневнике» Гиппиус появилось несколько разноречивых откликов, в которых преобладало неприятие чрезмерной политизованности стихов: «Новости литературы». Берлин. 1922. № 1 (Саша Черный), «Дни». Берлин. 1922. 7 января. № 57 (А. В. Бахрах), «Руль». Берлин. 1922. 28 мая. № 464 (Вл. Кадашев), «Голос России». Берлин. 1922. 23 июля. № 10–13, «Новая русская книга». Берлин, 1922. № 8 (Роман Гуль).
У порога (с. 431). Современные записки. Париж. 1922. № 10. Под названием «1 января 1914 года».
Отрывочное (с. 431). Свобода. Варшава. 1920. 12 сентября. № 49. В цикле «Из Петербургского дневника».
А потом…? (с. 432). Новый журнал для всех. 1912. № 10.
Не будем как солнце (с. 433). Биржевые ведомости. 1914. 11 мая, утр. вып., № 14147; Новое слово. 1914. № 5. Название – антитеза известному стихотворному сборнику К. Д. Бальмонта «Будем как солнце» (М., 1903). И содержанием, и формой стихотворение перекликается с «Терцинами» В. Ропшина (1911). Ропшин В. – под этим псевдонимом печатал свои стихи и прозу друживший с Мережковскими Борис Викторович Савинков (1879–1925), один из руководителей Боевой организации в партии социалистов-революционеров, поэт, прозаик. Переписка Гиппиус и Савинкова опубликована Темирой Пахмусс: Воздушные пути. Альманах V. Нью-Йорк, 1967.
Не сказано (с. 434). Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. В цикле «Молчания».
Поэту родины (с. 435). Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. В цикле «Молчания». А. Меньшов – один из псевдонимов поэтессы и художницы Поликсены Сергеевны Соловьевой (1867–1924), младшей дочери историка С. М. Соловьева, сестры философа и поэта Вл. С. Соловьева и исторического романиста Вс. С. Соловьева.
Миндальный цветок (с. 436). Новый журнал для всех. 1912. № 12. Под названием «Предательство».
Его дочка (с. 436). Сирин Сб. 3. СПб, 1914. В цикле «Молчания».
Протяжная песня (с. 437). Русская мысль. 1912. № 5, без посвящения. Амалия – Фондаминская Амалия Осиповна (? – 1935), жена Ильи Исидоровича Фондаминского (псевд. Бунаков; 1880–1942), одного из руководителей партии эсеров, публициста, в эмиграции соредактора парижского журнала «Современные записки», погибшего в фашистском концлагере. Мережковские и Фондаминские дружили с 1907 г.
Крылатое (с. 439). Русская мысль. 1912. № 5. Отд. I. Под названием «Крылатые» и без посвящения. Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – поэт, прозаик, переводчик; лауреат Нобелевской премии (1933). См. о нем статьи Гиппиус в парижской газете «Общее дело»: «Тайна зеркала: Иван Бунин» (1921. 16 мая. № 304) и «Бесстрашная любовы Русский народ и Ив. Бунин» (1921. 23 октября. Ха 463).
Последние сны (с. 439). Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. В цикле «Молчания».
Возня (с. 440). Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. В цикле «Молчания»
Любовь – одна («Душе, единостью чудесной..») (с. 440). Русская мысль. 1913. № 1. Отд. I (с посвящением: «М-му», т. е. Д. С. Мережковскому). Эпиграф – га первого стихотворения Гиппиус с названием «Любовь – одна» («Единый раз вскипает пеной…»; 1896).
Псалмопевцу (с. 441). Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. В цикле «Молчания». Вл. Бестужев – один из псевдонимов Владимира Васильевича Гиппиуса (1876–1941), поэта, критика, педагога, родственника З. Н. Гиппиус.
Слова любви (с. 442). Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. В цикле «Молчания», с посвящением: «А. Р.» Аркадию Вениаминовичу Руманову (1878–1960), юристу, публицисту, директору петербургского отделения газеты «Русское слово».
Берегись… (с. 443). Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. В цикле «Молчания». Серое платьице (с. 443). Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. В цикле «Молчания».
Колодцы (с. 444). Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. В цикле «Молчания», с посвящением А. А. Блоку.
Напрасно («Я и услышу, и пойму…») (с. 445). Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. В цикле «Молчания».
Всё мое (с. 446). Новое слово. 1914. № 8. Под названием «На севере» и без посвящения. Суслоны – снопы каких-либо злаков, поставленные в поле колосьями вверх для просушки. Елань – открытая луговая или полевая равнина, прогалина.
Банальностям (с. 447). Очарованный странник. Вып. 3. СПб, 1914. Под названием «Банальность».
Переменно (с. 447). Сирин. Сб. 3. СПб, 1914. В цикле «Молчания».
Кто он? (с. 449). Свобода. Варшава. 1920. 25 сентября. № 60. Стихотворение об Александре Федоровиче Керенском (1881–1970), политическом деятеле, возглавившем в 1917 г. Временное правительство. С 1918 г. в эмиграции. Гиппиус, хорошо знавшая Керенского, дала его портрет в дневнике (см. запись от 9 января 1918 г. в «Черных тетрадях». Гиппиус 3. Дневники. М., 1999. Т. 2. С. 55).
Где он? (с. 450) Свобода. Варшава. 1920. 26 сентября. № 61. Под названием «1-го мая 1918 г.» и с посвящением Б. В. Савинкову (см. о нем в примеч. к стих. «Не будем как солнце»).
Желтое окно (с. 450). Новые ведомости. 1918. 28 июня (веч. вып.). № 82.
Шел… (с. 451). Новые ведомости. 1918. 10 июня (веч. вып). Под названием «Идущий…». Гиппиус выразила свое неприятие опубликованных в 1918 г. поэмы А. А. Блока «Двенадцать», его стихотворения «Скифы» и поэмы Андрея Белого «Христос воскрес», а также общественно-политической позиции поэтов: «чуть не первыми перешли к большевикам» (Гиппиус 3. Дневники. Т. 2. Черная книжка. М., 1999. С. 208).
А. Блоку («Все это было, кажется, в последний.») (с. 453). Стихи. Дневник 1911–1921. Стихотворение написано в 1918 г. на экземпляре сборника «Последние стихи», подаренном Блоку. Блок на обороте обложки своей книги «Двенадцать. Скифы» (РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 253) 1–6 июня 1918 г. написал и отправил ответ «З. Гиппиус (При получении „Последних стихов“)»:
Женщина, безумная гордячка! Мне понятен каждый ваш намек. Белая весенняя горячка Всеми гневами звенящих строк! Все слова – как ненависти жала, Все слова – как колющая сталь! Ядом напоенного кинжала Лезвие целую, глядя в даль… Но в дали я вижу – море, море, Исполинский очерк новых стран, Голос ваш не слышу в грозном хоре, Где гудит и воет ураган! Страшно, сладко, неизбежно, надо Мне – бросаться в многопенный вал, Вам – зеленоглазою наядой Петь, плескаться у ирландских скал. Высоко – над нами – над волнами, – Как заря над черными скалами – Веет знамя – Интернационал!Напрасно («Всю душу не тебе ли я…») (с. 453). Корделия – персонаж трагедии Шекспира «Король Лир» (1605), младшая дочь короля.
Есть речи… (с. 454). Современные записки. 1922. № 10. В названии – начальные слова стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи – значенье…» (1840).
Свеча ненависти (с. 454). Отечество. Париж. 1921. № 1; Последние известия. 1921. 20 апреля. № 91. Не мне отмщение… – См. в Библии: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (К Римлянам, гл. 12, ст. 19).
Тяжелый снег (с. 458). В. А. Злобину – см. примеч. к стих. «Говори о радостном».
14 декабря 18 г. (с. 458). Современные записки. 1922. № 10. Под названием «Декабристам» и с подзаголовком «14 дек. 19 г. СПб.». Заветов тайных Муравьева… – См. примеч. к «Роман-царевичу». «Русская правда» – декабристская политическая программа, разработанная в 1821–1823 гг. Павлом Ивановичем Пестелем (1793–1826). Основные ее положения – уничтожение самодержавия и крепостного права, установление республики.
Тишь (с. 459). Русская мысль. София. 1921. № 3/4. В цикле «Из С.П.Б-ского дневника 19 года».
Летом (с. 462). Русская мысль. София. 1921. № 3/4. В цикле «Из С.П.Б.-ского дневника 19 года». Под названием «Июнь».
Осенью (Сгон на революцию) (с. 462). Русский сборник. Париж, 1920. В цикле «Из стихотворного дневника в Совдепии».
Ночь (с. 462). Русская мысль. София. 1921. № 3/4. В цикле «Из С.П.Б.-ского дневника 19 года»; Последние известия. 1921. 20 июня. № 148. Обе первые публикации под названием «Совдепская ночь».
Видение (Этюд на «Анте») (с. 464). Сегодня. Рига. 1920. 6 марта. № 54. Под названием «Рифмоэтюд». Аманты (от фр. amant) – любовники. Ульянов – В. И. Ленин (см. примеч. к стих. «Божий суд»). Бронштейн Лев – Л. Д. Троцкий (см. о нем примеч. к стих. «Божий суд»).
Оттуда? (с. 465) Д. П. С. – Дарья Павловна Соколова (1856 –?), няня Гиппиус.
Глаза из тьмы (с 466). Свобода. Варшава. 1920. 8 сент. № 46. Под названием «Наши сны».
Родное (с. 466). Общее дело. 1921. 10 февр. № 210. Под названием «Молчанье». И. М. – Татьяна Ивановна Манухина, урожд. Крундышева (1885–1962), прозаик, публицист, давний и близкий друг Гиппиус. В эмиграции с начала 1921 г.
Будет (с. 467). Общее дело. 1921. 10 февр. № 210. Без посвящения. Макухин Иван Иванович (1882–1958) – врач, муж Т И. Манухнной (см. примеч. к стих. «Родное»). После 1917 г. работник Политического Красного Креста.
Валерий Брюсов. З. Н. Гиппиус*
Русская литература XX века. Под ред. С. А. Венгерова. Т. 1. М., 1915. Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924) – поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик; один из вождей русского символизма. Направляя статью редактору сборника Венгерову, Брюсов писал: «Сознаюсь, статья эта стоила мне много не то что труда, а хлопот. Во-первых, я откровенно не люблю прозу Гиппиус (о чем не раз писал и лично говорил Зинаиде Николаевне). Вы же просили характеризовать и ее прозу. Я пытался перечитывать сборники ее рассказов (их 6!) и ее романы, но, при всем добром желании, не мог на них сосредоточить внимание: иное так и недоперечитал. Во-вторых, я увидел, что, по моим личным отношениям к Зинаиде Николаевне (до которых, конечно, читателям нет дела, но есть дело мне), я не могу сказать все, что думаю о ее поэзии. О многом мне пришлось только намекнуть. Через это и характеристика Гиппиус вышла какой-то неполной» (Литературное наследство. Т. 85. С. 682).
«Северный вестник» (Пб., 1885–1898) – литературно-научный и политический журнал. В 1891 г. редакцию возглавили Л. Я. Гуревич и А. Л. Волынский, благодаря которым журнал стал первым органом русского литературного модерна. Мережковский Д. С. – см. о нем примеч. к стих. «14 декабря 17 года». Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1856–1937) – поэт, драматург, философ, публицист, переводчик. Автор вызвавших споры книг «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (1890, 1897) и «Религия будущего. Философские разговоры» (1905). С 1914 г. в Париже. Волынский А. Л. – см. о нем примеч. к стих. «Опять мороз! И ветер жжет…». Сологуб Федор – см. о нем примеч. к стих. «Опять мороз! И ветер жжет…». Бодлер Шарль (1821–1867) – французский поэт-символист, критик; автор знаменитого сборника «Цветы зла» (1857). Рескин Джон (1819–1900) – английский писатель, теоретик искусства. Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, автор сочинений в жанре философско-художественной прозы; проповедник культа сильной личности – «сверхчеловека». Метерлинк Морис (1862–1949) – бельгийский драматург, поэт-символист, популярный в России начала XX в. Автор шедевра мировой драматургии «Синяя птица», впервые поставленного в МХТ (1908). Лауреат Нобелевской премии (1911).
Эдгар По (1809–1849) – американский прозаик, поэт-романтик, критик.
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) – критик, публицист; один из организаторов и руководителей Религиозно-философского общества в Петербурге (1907–1917). До 1920 г. один из ближайших друзей Гиппиус и Мережковского, в соавторстве с которыми написана пьеса «Маков цвет» (см. т. 4 в нашем изд.). Автор книг «Слова и жизнь. Литературные споры новейшего времени. 1901–1908» (1909), «Неугасимая лампада», «Старое и новое. Сборник статей по вопросам искусства и литературы» (обе 1912). С 1920 г. в эмиграции в Варшаве. Соредактор газет «За свободу!» (1921–1932), «Молва» (1932–1934) и «Меч» (1934–1939).
…участвует в составлении (на французском языке) книги… – Сборник «Le Tzar et la Revolution» (Париж, 1907; 1-е рус. изд. – Мережковский Д, Гиппиус 3., Философов Д. Царь и революция. М.: Объединенное гуманитарное издательство, 1999), в котором опубликованы статьи Гиппиус «Революция и насилие» и «Истинная сила царизма».
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) – поэт, критик, переводчик. С июня 1922 г. в эмиграции.
«Чуждый чарам черный челн…» – Из стихотворения Бальмонта «Челн томленья», вошедшего в сборник «Под северным небом» (1894).
Павлова Каролина Карловна (1807–1893) – поэтесса, переводчица, прозаик.
Лохвицкая Мирра (Мария) Александровна (1869–1905) – поэтесса.
К фотографии на фронтисписе: З. Н. Гиппиус. Надпись:
Да будет то, что будет. Светла душа моя. С тобой нас Бог рассудит И к Богу ближе я. 13 дек. 97 Зин.(Музей ИРЛИ. Санкт-Петербург). – См.: Гиппиус З. Н. Стихотворения (Новая Библиотека поэта). СПб., 1999.
Примечания
1
О, что за хорошенький мальчик! (фр.).
(обратно)2
Определенно, малышка, он очень воспитанный мальчик (фр.).
(обратно)3
Здесь: фужер (фр.).
(обратно)4
«Как прекрасна жизнь, если она начинается любовью и завершается честолюбием!» (фр.).
(обратно)5
бабушка (фр.).
(обратно)6
Вы совершенно правы, бабушка, впрочем, она и мне совсем не нравится (фр).
(обратно)7
некоего, кто совершенно надежен (фр).
(обратно)8
мадемуазель Тереза Дюкло (фр).
(обратно)9
Господин… Очень прошу меня извинить (фр.).
(обратно)10
«мой муж» (фр.).
(обратно)11
Это я, Мура (фр.).
(обратно)12
Какой ворчун! (фр.).
(обратно)13
Ну да, ну да (фр.).
(обратно)14
Тереза Дюкло? (фр.).
(обратно)15
Вполне естественно! (фр.).
(обратно)16
Вы правы, мадам (фр.).
(обратно)17
Войдите! (фр.).
(обратно)18
Ах, это неслыханно! (фр.).
(обратно)19
Госпожа графиня (фр.).
(обратно)20
ложная тревога (фр.).
(обратно)21
Это – апогей!.. (фр.).
(обратно)22
наши действия… (фр.).
(обратно)23
он очень хорошо смотрится (фр.).
(обратно)24
Крепость! (фр.).
(обратно)25
Вы правы, малышка (фр.).
(обратно)26
но очень крепок (фр.).
(обратно)27
Не убивайтесь, малышка (фр.).
(обратно)28
Ваш бедный брат вернется к нам (фр.).
(обратно)29
тюремщиков (фр).
(обратно)30
Помилуйте! (фр.).
(обратно)31
Это вышло из моды (фр).
(обратно)32
очень несовременно (фр.).
(обратно)33
промахи (фр.).
(обратно)34
как бы вам сказать? (фр.).
(обратно)35
Откуда вы знаете об этом? (фр.).
(обратно)36
«В карцере» (фр.).
(обратно)37
В стране произвола… (фр.).
(обратно)38
дорогая, дорогая мадам? (фр.).
(обратно)39
Распятие (фр.).
(обратно)40
Друг мой, это вы! (фр.).
(обратно)41
была стильной (фр.).
(обратно)42
Молодая невыразительная особа (фр.).
(обратно)43
девушка была без должного присмотра (фр.).
(обратно)44
Не волнуйтесь, мой дружочек (фр.).
(обратно)45
Не правда ли, княжна? Он был с вами так любезен (фр).
(обратно)46
Он называет вас всегда… Какое милое выражение (фр).
(обратно)47
Аббаты (от фр. abbaleux).
(обратно)48
Это вы, милочка… Подойдите, подойдите сюда (фр.).
(обратно)49
Мы говорим о вас (фр.).
(обратно)50
С другой стороны препятствий нет. Я боюсь, чтобы ваш отец не был бы против… (фр.).
(обратно)51
Итак, вы его любите? (фр.).
(обратно)52
– Да. – Будьте счастливы, милая… (фр.).
(обратно)53
Единственное дитя моей бедной дочери… (фр.).
(обратно)54
Любите его, вашего господина. Любите его, он этого заслуживает (фр).
(обратно)55
Бабушка… могу я удалиться? (фр.).
(обратно)56
Ступайте, дитя мое. Ступайте. Сегодня вечером вы увидите вашего жениха. (фр.).
(обратно)57
вышивкой (фр).
(обратно)58
взять отпуск (фр.).
(обратно)59
«Ключ и замок» (фр).
(обратно)60
Луиза! Поторопитесь! (фр.).
(обратно)61
черносмородиновой настойкой (фр).
(обратно)62
забавный (фр).
(обратно)63
все такое, наконец (фр.).
(обратно)64
ароматические соли (фр.).
(обратно)65
Что он вам пишет, милочка… Он вернется? (фр.).
(обратно)66
Ах, вот вы наконец-то! (фр).
(обратно)67
целомудрие (фр.).
(обратно)68
жокей-клуба (фр.).
(обратно)69
воду Любена (фр).
(обратно)70
Поскоблите его, нашего мужика, и вам откроется… (фр).
(обратно)



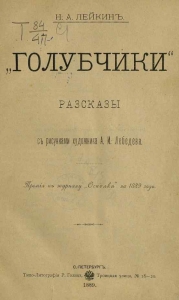

Комментарии к книге «Том 5. Чертова кукла», Зинаида Николаевна Гиппиус
Всего 0 комментариев