Михаил Михайлович Пришвин Собрание сочинений в восьми томах Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком
В. Пришвина. О Михаиле Михайловиче Пришвине
Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности.
М. БахтинI
Михаил Михайлович Пришвин прожил долгую жизнь, – умер он на восемьдесят первом году, – но за перо взялся лишь в тридцать лет. Почему так случилось – на этот вопрос он отвечает в своем дневнике: «Первую половину своей жизни, до тридцати лет, я посвятил себя внешнему усвоению элементов культуры, или, как я теперь называю, чужого ума. Вторую половину, с того момента, как я взялся за перо, я вступил в борьбу с чужим умом с целью превратить его в личное достояние при условии быть самим собой».
Это второе рождение у Пришвина было выходом себя подлинного из среды, его создавшей, из-под бесчисленных пластов того неисчерпаемого для нашего сознания, что мы называем жизнью. Вот почему писательство его, раз начавшись, стало уже неотделимым от самого существа этого человека. Невозможно провести грань между его бытием и его словом – у Пришвина такой грани нет. К тому же он не сомневался в могуществе слова, в том, что при полной самоотдаче словом можно сделать все. Что же было это «все» у Пришвина, чему с тридцати лет он посвятил свою жизнь?
Внимательно и непредвзято изучая творчество Пришвина, мы должны будем сказать: он жил для того, чтобы понять жизнь – свою и всего живого, – понять и передать нам свое понимание. Слово у Пришвина было его рабочее дело и одновременно вся жизнь его без малейших отвлечений. Отсюда становится нам близок и понятен образ, в котором Пришвин видит себя самого: он видит себя на старости лет верблюдом, долго, и тяжко, и терпеливо переходящим безводную пустыню; он относится к своей поэзии, к слову своему, как верблюд к воде: «Наливает в себя и, горбатый, потихоньку идет в долгий путь…»
Это звучит смиренно и глубоко: Перед этим тускнеют и как бы уничтожаются сами собой все остальные побочные цели, побуждения, пристрастия, столь естественные для человека: слава, претензия на учительство, желание материальных благ, простых житейских удовольствий. Все это, несомненно, оставалось, может быть, временами в какой-то мере брало его в плен, – Пришвин не превращался в подвижника, праведника в народном понимании этого слова; но в то же время все становилось ничтожным, все меркло для него перед этой всепоглощающей, совершенно бескорыстной потребностью понять и отдать – перелить свое личное в общее. Это было призвание подлинного поэта, в какие бы времена и века он ни жил и в какой бы форме и стиле его мысль и поэзия ни сказались. Пришвин никогда в своем писательстве не позволял себе предварительного загада, слово его на редкость свободно и в то же время на редкость послушливо жизни: «пишу, как живу». Пришвин собирался написать об этом книгу «Искусство как образ поведения» и оставить ее людям – результат своего опыта.
Смерть помешала Пришвину написать книгу о творческом поведении – о смысле искусства. Однако он сказал незадолго перед своей кончиной такие слова: «А если я ее так и не напишу <…>, мой камушек в основе этой светооткрывающей книги непременно будет лежать».
Так просто: жизнь человека есть движение к свету, и в этом ее назначение, а слово открывает ему путь. Этот путь у Пришвина называется поэзией.
Жизнь самого Пришвина и образ его словотворчества можно уподобить движению путника по дороге – идет человек, и само собой отлагается в его сознании все, что вокруг, от земли и до неба.
«Я стою и расту – я растение.
Я стою, и расту, и хожу – я животное.
Я стою, и расту, и хожу, и мыслю – я человек.
Я стою и чувствую: земля под моими ногами, вся земля.
Опираясь на землю, я поднимаюсь: и надо мною небо – все небо мое.
И начинается симфония Бетховена, и тема ее: все небо – мое».
Наблюдая неразрывность и естественность у Пришвина слова и жизни, мы могли бы установить некоторую формулу (хотя формула всегда поневоле обедняет смысл). Мы могли бы сказать: творчество Пришвина – это движение самой жизни в ее самосознании. Художник является как бы орудием или органом жизни, она сама его для себя создала, чтоб показать нам свое разнообразие и скрытый свет и смысл
Все это я позволила себе сказать о писателе, чтобы найти ту верную точку зрения, или нащупать тот опорный камень, на который можно стать твердой ногой, и с него уже обозревать весь писательский путь М. М. Пришвина
* * *
Следуя за Пришвиным в его произведениях, читатель убедится в характерной черте художника, которую мы отметили уже косвенно выше он с самого начала входит в свой, данный ему от природы художественный мир, в котором он видит и мыслит, и уже никогда ему не изменяет. Художественно зримые образы являются одновременно мысле-образами, – так называем мы интеллектуальные и нравственные идеи, через которые Пришвин видит мир. Они становятся его вечными спутниками, символами, выражающими его мировоззрение. Они развиваются, приобретают новые черты, светятся новыми гранями, подобно тому как в природе переливаются и светятся кристаллы.
Назовем хотя бы образ большой воды – истока всей жизни на земле. Это водопад «В краю непуганых птиц», через полвека – тот же водопад в последнем романе «Осударева дорога». Это весенний разлив и в «Осударевой дороге», и в «Корабельной чаще». Образ этот для Пришвина космический, вселенский. Он развивается, нарастая под его пером, по законам музыкальной симфонии; появляется не только в крупных произведениях, но и в поэтических миниатюрах, – вспомним его известный «Лесной ручей»: «Рано ли, поздно ли, ручей мой придет в океан». Так написано в конце 30-х годов и будет часто повторяться в последующих произведениях Пришвина до конца его дней.
Это был одновременно образ жизни природы, родного народа, России и своей собственной судьбы. С начала века поразила его воображение борьба водной стихии – борьба и слияние капель в единый поток. А рядом шло и глубоко переживалось им народное волнение в России: во всех слоях населения разливался этот бурный поток. Жизнь Михаила Пришвина – это годы огромных общественных перемен – войн и революций. С раннего детства – предчувствие их.
Подобно образу водной стихии будет идти через всю жизнь его и другой образ, связанный с поиском «правды истинной». Появляется этот образ впервые в дневнике 1915 года. Приведем запись целиком:
«Камень-правда Среди ноля лежит большой, как стол, и нет от этого камня пользы никому, и все на камень этот смотрят и не знают, как взять его, куда деть: пьяный идет – натыкается и ругается, трезвый отвертывается и обходит, всем надоел камень, и никто взять его не может – так вот и правда эта… Разве можно людям правду сказать? За семью печатями правда лежит, и в молчании охраняют ее сторожа».
А через полвека, в последний год жизни, Пришвин пишет повесть «Корабельная чаща», всю основанную на поисках народных какой-то великой «правды истинной». «Не ищите поодиночке счастья, ищите вместе правду», – говорят в ней старики новым людям. Образ впитал в себя все богатство прожитого, передуманного. Оказывается, полвека лежал этот образ, этот символ в душе художника и передается нам как его завещание.
Назовем еще один образ – любви. Он появляется в первой повести Пришвина. Там описывается любовь лебедей: осиротевший лебедь не может найти себе пару – он умирает. Вот почему у северного народа считалось грехом стрелять лебедей.
Образ этой «неоскорбляемой любви» идет через все его творчество, меняя свои обличья и толкования. В 20-х годах в «Календаре-при роды» это весеннее облако, «как непомятая лебединая грудь». В 30-х – это прекрасная самка оленя в повести «Жень-шень». В 40-х годах Пришвин, уже старый человек, обращается к женщине то ли в минуту размолвки, то ли внутренних в ней сомнений и говорит: «В основе любви есть неоскорбляемое место полной уверенности и бесстрашия <…>. И если случится самое страшное и последнее, друг мой станет равнодушным к тому, чем я горю, то я возьму палку свою дорожную и выйду из дома, и святыня моя останется все равно нетронутой».
Поиск и осуществление большой правды истинной для всего живого, а для себя – тоска по единственной и неосуществленной любви и пути преодоления этой тоски – эти темы заполняют все творчество Пришвина, обрастая разными образами и оттенками смысла. Это значило – отказаться от «себя маленького» и выйти в большой мир, ожидающий нашего сочувственного, нашего деятельного участия.
В нашем предисловии мы очень кратко отметим основные вехи в жизни и работе Пришвина. Во втором томе Собрания сочинений читателю предстоит выслушать от самого Пришвина рассказ о его детстве и юности в романе «Кащеева цепь». О дальнейшем расскажут произведения и дневники.
II
Михаил Михайлович Пришвин родился в 1873 году 23 января по старому стилю под городом Ельцом Орловской губернии, можно сказать – в сердце России. Отсюда и из близлежащих мест вышло в XIX веке целое созвездие наших писателей: Лев Толстой, Тургенев, Лесков, Фет, Бунин…
Пришвин родился в небольшом имении Хрущево в семье разорившегося купеческого сына, мечтателя и фантазера, который безудержно предавался своим многообразным увлечениям: породистые рысаки, цветоводство, охота, вино, азартная карточная игра. Что и говорить – «звонкая жизнь», по определению Пришвина, которая раньше времени свела отца в могилу.
Вдова его осталась с пятью детьми и с имением, заложенным по двойной закладной в банке, рабой которого она и сделалась: надо было выкупить имение, чтобы вырастить и образовать детей. Неопытная женщина стала неутомимой хозяйкой. Если от отца будущий писатель воспринял склонность к мечте, то от матери – чувство долга и ответственности в работе. Мария Ивановна Пришвина к тому же была из старинного староверческого рода, это сказалось и на ее характере. Недаром тема староверчества занимает серьезное место в творчестве писателя.
Детство его прошло у земли, в крестьянской среде, и он не раз вспоминает, что мужики были его первыми воспитателями «в поле и под крышами амбаров». И учился он первый год перед поступлением в Елецкую классическую гимназию тоже в сельской хрущевской школе. «<…> Я толкусь всю жизнь среди наших крестьян». Это не простая отметка внешнего факта, а осознанность глубокой связи с родной землей и ее народом.
Нельзя забывать, что Михаил Пришвин рос в годы бурного развития революционных идей в России. Через три года после рождения писателя, в 1876 году, Салтыков-Щедрин писал: «Тяжело жить современному русскому человеку и даже несколько стыдно. Впрочем, стыдно еще немногим, и большинство даже людей так называемой культуры просто без стыда живет»[1].
Гимназистом он уже прислушивается к голосу старших товарищей – участников подпольных революционных кружков, среди них Николай Семашко, будущий большевик, народный комиссар здравоохранения.
Два события в школьные годы окажут воздействие на жизнь Пришвина: побег из первого класса в сказочную страну золотых гор Азию, – мальчик подбил на это смелое дело еще трех своих одноклассников, – и второе – исключение его из четвертого класса за дерзость учителю географии В. В. Розанову.
Розанов, единственный из всех учителей, заступился за мальчика после побега – понял романтику «путешественника» (может быть, он-то и поселил в душе мальчика впервые этот образ идеальной страны). И тот же Розанов, один против всех, потребовал его исключения.
Для будущего писателя исключение было ударом, который переживался им в огромной внутренней борьбе: «неудачник», поставивший себе целью преодолеть эту неудачу. В далекой Сибири он кончает реальное училище. Помог этому богатый дядюшка, сибирский пароходчик с неограниченными связями.
После училища Пришвин поступает в Рижский политехникум; здесь он входит в один из первых нарождавшихся тогда в России марксистских кружков. Из раннего дневника: «Самое счастливое, самое высокое было, что я стал со своими друзьями одно существо, идти в тюрьму, на какую угодно пытку и жертву стало вдруг не страшно, потому что уже было не „я“, а „мы“ – друзья мои близкие, и от них как лучи „пролетарии всех стран“». Ему поручают перевод и распространение нелегальной литературы. В частности, он переводит книгу Бебеля «Женщина в прошлом, настоящем и будущем».
«Никакой поэзии не было в книге, – вспоминает Пришвин в конце жизни, – но для меня книга как флейта пела о женщине будущего». Не случайно выделял тогда для себя юноша именно эту книгу она была для него о самом заветном – о сказочной Марье Моревне, мечте его детства. Еще ребенком он предчувствовал: есть в любви к женщине какая-то целостность, осуществление прекрасного. Какое дедовское было слово «целомудрие» – и сколько при проверке жизнью оказалось в нем содержания. Раскрыть его высокое значение – этой задачи хватило на всю последующую жизнь художника, и звучит она одним из главных мотивов его произведений.
Самоотверженная революционная работа Пришвина привела его в тюремную одиночку, потом в ссылку, а потом уже за границу, где он кончил в Лейпцигском университете агрономическое отделение философского факультета. В те годы выбор предметов там был свободен и резкого разграничения между гуманитарными, точными и практическими курсами не существовало.
По окончании университета Пришвин попал в Париж, и там на него обрушилась, как величайшее испытание, не мечтательная, а реальная любовь к русской девушке-студентке Варваре Петровне Измалковой. Эта первая любовь перевернула всю его душу, отношение к жизни и понимание своего места в ней. Любовь продолжалась только две недели: поцелуи в весеннем Люксембургском саду и неясные планы на будущее. Девушка с женской проницательностью поняла, что она «лишь повод для его полета», ей хотелось обычного, устойчивого, земного, а ему надо было еще далеко и долго лететь по всем стихиям мира, чтоб понять себя и этот мир. Они расстались.
«Женщина протянула руку к арфе, тронула пальцем, и от прикосновения пальца ее к струне родился звук. Так и со мной было: она тронула – и я запел». Женщина, не ведая того, подарила нам поэта, а сама растворилась в безвестности. Пришвин был оглушен и подавлен разрывом. Он долго находился на грани душевной болезни, хотя это было его тайной, тщательно скрываемой от всех. Он вернулся на родину. Теперь он припал к земле – к последнему прибежищу, и там у природы вновь, как ребенок, стал учиться жить. Все это происходило в первые годы нового, XX века.
Пришвин становится сельским агрономом. Так или иначе, он пробует жить, как живут все люди. Он наблюдает теперь, как серьезно, самоотверженно живут и любят в природе птицы, звери, все живое. Как пуста бывает подчас человеческая «свободная» любовь. И в то же время, как много надо человеку создать своего и вложить в чувство любви, чтобы поднять его до себя.
Пришвин, начинающий ученый, работает под руководством Д. Н. Прянишникова, будущего известного академика, в Петровской сельскохозяйственной академии в Москве. Выходят его книжки по сельскому хозяйству, он пишет их для заработка, – у него уже семья, которую надо содержать. В те годы, работая под Москвой в Клину, Пришвин встречается с Ефросиньей Павловной Смогалевой. «У этой совсем простой и неграмотной очень хорошей женщины был свой ребенок Яша, и мы стали жить с ней попросту…» Рождаются свои сыновья; только мать не признает его семьи, и это новое тяжелое для него испытание.
И в работе нет ему утешения: Пришвин чувствует, что агрономия не его призвание. Его тянет в Петербург, к центру культуры, где бьется мысль, где философы и художники спорят о ее направлениях и сами эти направления создают. Городом света и своей писательской родиной назовет его Пришвин впоследствии: «Я полюбил Петербург за свободу, за право творческой мечты».
«Тут на Киновийском проспекте, среди свинарников и капустников, в деревянной лачуге, я начал этот путь свой бродяги-писателя. Есть у нас в стране <…> милые города, в числе их, как всякому русскому, родная Москва. Но прекрасным городом в нашей стране остается мне один Ленинград: я не по крови люблю его, а за то, что в нем только я почувствовал в себе человека».
Живет он на бедных окраинах столицы, находит случайный заработок в газетах, где пишет «по три копейки за строку». «В молодости, чтобы сделаться настоящим писателем, а не поденщиком литературы, я терпел большую нужду».
В конце жизни Пришвин так просто, без всякой претензии на значительность вспоминает об этих годах: «Проводив бескорыстную юность, занялся сам собою, чтобы жить и быть полезным людям».
Никому не известный, затерявшийся в большом городе, он случайно попадает в круг этнографов-фольклористов и по их поручению в 1906 году отправляется на малоисследованный в те годы Север для сбора народных сказок. Кроме сказок, он привозит оттуда свои путевые заметки, ставшие его первой книгой «В краю непуганых птиц».
С этих первых написанных им строк определяется направление его мысли. Еще в годы студенчества он почувствовал необходимость «достигать недостижимого и не забывать о земле», и потому одновременно с занятиями химией Пришвин всерьез заинтересовался философией и музыкой.
Следует вспомнить, что стремление связать в единство не только личную жизнь и внешнюю деятельность, но, главное, связать все пути, все методы познания было характерным явлением для научных исканий тех лет и у философов, и у естествоиспытателей, склонных к философскому мышлению. Существенно, что Пришвин в полной мере отражал эту всеобщую потребность. Человек жадно метался от микроскопа к телескопу, разбрасываясь мыслью по открывшимся ему просторам Вселенной. Но все это многообразие мира от него ускользало, расплывалось в специальные отрасли знания, – необходимо было связать картину мира в некое органическое единство, такое, каким он, видимо, и существует сам для себя.
Пришвин как художник отзывался на эту идею мирового синтеза самым методом своего наблюдения и художественного творчества. Свидетельства этому у него бесчисленны.
Искусство, по Пришвину, видит то же, что и наука, но достигает жизни в высшем ее качестве. Вот почему «науки не надо бояться – жизнь больше науки». Свои материалы Пришвин берет не из книг, а из природы «сам непосредственно».
Пришвин борется с «нигилизмом науки» за чувство космоса, за ту гармонию, «где нет ученых и где совершенство никто не возьмет у меня». Художник обладает даром постигать, «минуя учение».
Читая эти лаконические и, отчасти именно в силу лаконизма, парадоксальные записи дневника, читатель должен помнить, что они записаны Пришвиным во внутренней полемике и в этом смысле – только для себя. Надо понимать и другое: высоко оценивая дар художника, Пришвин в то же время – враг всякого сектантства на путях познания мира. Отсюда два деловых сообщения, сделанных с противоположных позиций и в то же время дополняющих друг друга: «В искусстве духовные ценности надо учиться видеть точно, как в науке». И тут же он спешит оградить нас от опасности заключать себя в каменные стены теоретического размышления, и только в него: «Страшен, кто <…> огонь души запер в стены рассудка».
Где же путь к искомому синтезу познания? По-видимому, путь этот многообразен, но самому Пришвину знакомо озарение ума как непосредственное, по его определению, «предчувствие мысли». В этом смысле можно понять слова Пришвина: «Поэзия – это предчувствие мысли».
Перед нами картина единоборства ума с вечно постигаемым и до конца не постижимым существом Вселенной; попытка уловить этот смысл, мимолетно касающийся человека в том особом, – иначе не назовешь, – творческом мгновении жизни, пролетающем, касающемся и вновь исчезающем.
И тут перед человеком молниеносно вырастает задача – уловить его словесной формой, как сетью. Важность этой задачи – спасти приоткрывшийся смысл – столь велика, что Пришвин не останавливается перед дерзким сравнением, значение которого не сразу доходит в своей неожиданности до читателя, «…в нравственном смысле – это одно и то же, что поймать текущее мгновение с заключением в форму, что выхватить из воды утопающего ребенка».
Целостное переживание присуще, по-видимому, натурам, владеющим искусством внимания. Недаром Пришвин называет внимание основной творческой силой человека. Об этом говорят наблюдения писателя, например, об утреннем состоянии своей души – ее открытости ко всему живому и одновременно величайшей собранности в себе. Если такое утро не приходило, то Михаил Михайлович недоумевал: «Бывает, утро как-то размажется, и в нем ничего не поймешь, и мысли не сложатся». Но такие пустые утра были редки, и радость соединения с миром не изменяла ему даже при самых смутных и тяжких обстоятельствах жизни.
Последняя повесть «Корабельная чаща», вышедшая в свет уже после кончины автора, наполнена трепетным поиском правды – правды чужой души, правды человеческих отношений, их общности, их связи. Об этом говорится с такой страстной напряженностью, что не сомневаешься: Пришвин был захвачен этим переживанием в свои последние годы и стремился его передать оставляемым людям.
«Чуть бы» – и Мануйло найдет пропавших детей. «Чуть бы» – и он узнает в Веселкине их отца, которого они с такой любовью разыскивают. «Чуть бы» в судьбе всех действующих лиц повести – это как стояние у порога, как возможность всеобщего понимания и единства.
Это не было у Пришвина подчеркиванием слабости нашего внимания, холодности наших душ. Напротив, Пришвин указывает постоянно на скрытые в нас возможности глубже, еще глубже увидеть чудо жизни – эту правду, которую ищут все участники повести: «…Мир чудес существует и начинается тут, совсем близко, прямо же тут, за околицей».
Не одни люди участвуют в этом поиске правды истинной. Даже дикое болото и то «по-своему думает». Даже у маленькой болотной птицы гаршнепа – «не больше воробья, а нос длинный, и в ночных раздумчивых глазах общая вековечная и напрасная попытка всех болот что-то вспомнить».
О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: «Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное – и вышла книга „В краю непуганых птиц“, за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке». Заметим: Пришвин за эту книгу был избран в действительные члены Географического общества, возглавляемого знаменитым путешественником Семеновым-Тян-Шанским.
«Только один этнограф Олонецкого края, – продолжает Пришвин, – когда я читал свою книгу в Географическом обществе, сказал мне: „Я вам завидую, я всю жизнь изучал родной мне Олонецкий край и не мог этого написать, и не могу“. – „Почему?“ – спросил я. Он сказал:. „Вы сердцем постигаете и пишете, а я не могу“».
Так размышляет ученый-исследователь о художнике, он «завидует» ему, то есть видит в художественном методе какие-то неведомые ему преимущества.
«Некоторую маленькую известность, которую я получил в литературе, – пишет далее Пришвин, – я получил совсем не за то, что сделал. Трудов моих, собственно, нет никаких, а есть некоторый психологический опыт». Только человек, всецело отданный творчеству, может не замечать в нем труда, так же как не замечает он воздуха, которым дышит, как рыба «не замечает» воды, в которой живет и без которой сейчас же умирает на сухом берегу.
Оглядывая пройденный путь, Пришвин вспоминает далекие годы в Петербурге: «Только комнаты жалких квартир на Охте и Песочной улице знают, каких невероятных трудов, какой борьбы с „наукой“, с „мыслью“ стоили мне мои писания, которые для всех остаются только описаниями природы, пейзажными миниатюрами».
Художник стоит на страже, оберегая хрупкий образ, чтоб «мысль» не раздавила его.
В конце жизни Пришвин вспоминает о своем повороте к искусству так: «И когда я понял себя, что я могу быть сам с собой, тогда тоже все вокруг меня стало как целое и без науки. Раньше было мне, что все в отдельности и бесконечном пути, и оттого утомительно, потому что вперед знаешь, что до конца никогда никто не дойдет. Теперь каждое явление – будь то явление воробья или блеск росы на траве <…> кругло и понятно, – а не лестницей. Разве я против знания? – Нет! Я только говорю, что каждому надо иметь срок возраста жизни и право на знание…»
Теперь под знанием и правом на него Пришвин разумеет духовную зрелость человека: право на простоту, когда «внешнее» исследование и «внутренняя» интуиция сливаются в едином акте познания. На этом пути к простоте и помогли лучше всего ему путешествия, перемена мест, расставание с привычками, обновление восприимчивости, все вместе – это было приближение к утраченной яркости детского восприятия. Вот что такое «путешествие» для Пришвина – «бродяги-писателя», и вот что такое «первый взгляд», о котором он будет впоследствии нам повторять во всех своих произведениях.
Следует помнить, однако, что благодарность к пройденной им серьезной научной школе он сохранял до конца своих дней.
* * *
В 1907 году новое путешествие на Север и новая книга «За волшебным колобком». В дореволюционной критике о ней писали так: «… М. Пришвин. Многим ли известно это имя <…>? А между тем эта книга – яркое художественное произведение <…>. Что такая книга могла остаться неизвестной или малоизвестной – это один из курьезов нашей литературной жизни»[2].
В предреволюционные годы 1905–1917 Пришвин не уживается надолго в Петербурге, а больше кочует по разным деревням, богатым охотой, народными говорами и преданиями. Он живет то под Новгородом, особенно ему полюбившимся своей стариной, то под Смоленском, то на родине – в разных местах Орловской губернии, а то отправляется в длительные поездки по отдаленным глухим местам России. Время от времени он появляется в блестящих салонах столицы; он входит в круг так называемых символистов и членов Религиозно-философского общества, возглавляемого Д. С. Мережковским. Его приметили уже и в других литературных кругах.
Петербургское избранное общество и привлекает, и отталкивает его. Люди эти, по определению Пришвина, «иностранцы», оторванные от природы и народной культуры. Они хотят создать новые духовные ценности, Пришвин же полагает эти ценности издревле хранимыми в народе, выношенными опытом жизни. Он ищет здорового, цельного в людях, близко живущих с природой.
«Не будь мужика в России, да еще купца, да захолустного попа, да этих огромных пространств полей, степей, лесов – то какой бы интерес был жить в России.
В России быт только у диких птиц. Неизменно летят весной гуси, неизменно и радостно встречают их мужики. Это быт, остальное этнография, и надо спешить, а то ничего не останется. Россия разломится, скреп нет».
И он спешит своими глазами, своим слухом узнать подлинную Россию.
В 1908 году он отправляется в третье путешествие – в Заволжье и к легендарному Китежу. Но и среди народно-религиозных искателей различных направлений и сект Пришвин наблюдает «обессиленный дух Аввакума», который напоминает ему о петербургских декадентах: та же раздвоенность на дух и на плоть, причем у одних слишком много «неба», у других – сплошная «земля». Так почувствовал Пришвин и об этом написал новую книгу «У стен града невидимого».
Время требовало от писателя давать людям не одну красоту, но и нечто вещное, насущное, как хлеб. По-видимому, это «нечто» было тем, что искони называлось в народе «правдой».
* * *
В ранних дневниках есть такая запись, сделанная после собрания у «декадентов»: «Мы вышли на улицу… папироска, женщина, похожая на актрису, эти священные поцелуи в лоб. Секта! И как далеко от народа.
Помню молчаливую толпу крестьян перед горящей усадьбой. Никто не двинулся для помощи, а когда увидали в огне корову, то бросились заливать, потому что скотина – божья тварь».
«У Мережковских меня встретили новые цепи: практически от меня требовали подчинения. А я хочу писать свободно. Пришлось отшатнуться».
Вот почему Пришвин отходит в искусстве к «реалистам», в частности, к Ремизову. Вот почему так пристально приглядывается в эти годы к его творчеству Горький. «Да вы, сударь, – сказал ему впоследствии Горький, – настоящий романтик… Вы что делали? Почему не взялись за перо и пропустили столько времени?» На языке ученых – Пришвин преодолел эстетизм начала века.
Но сказать так – будет очень условно и неточно. Дело в том, что мысль Пришвина не вмещалась ни в одну из программ эстетических группировок, и ни одна из них не приняла Пришвина до конца.
«Что меня в свое время не бросило в искусство декадентов? Что-то близкое к Максиму Горькому. А что не увело к Горькому? Что-то близкое во мне к декадентам, отстаивающим искусство для искусства.
Само по себе искусство для искусства – нелепость, как нелепость искусство на пользу.
Искусство есть движение, современное жизни, с постоянным качанием руля то вправо – за людей, им на пользу, то влево – за себя. Само искусство без всякой мысли о непосредственной пользе. Я тем спасся от декадентства, что стал писать о природе».
Самостоятельность и народность Пришвина поражают даже в начальных записях еще неустановившегося и до боли одинокого художника. В сущности, Пришвин не отходил ни от кого и ни к кому, достаточно вспомнить хотя бы такую позднейшую его запись: «Когда же на всем литературном пути у меня был хоть один единомышленник-друг из писателей? Ремизов разве? Но он любил меня сколько мог, а единомыслия никакого не было…»
Мог ли быть учителем Пришвину Ремизов, «отвергавший народ и потихоньку роющийся в Дале в погоне за народными словами»?
«Последние русские символисты, даже те, которые брали материал из русской-этнографии и археологии, лишились восприятия действительной жизни и страшно мучились этим (В. Иванов, Ремизов). Непосредственное чувство жизни своего страстно любимого народа совершенно их покинуло».
Пришвин называет их творчество «претензией» и говорит, что сам спасся от этого скорее всего не искусством, а поведением: ему страстно захотелось быть в чем-то как все и писать просто, как все говорят.
Свои немногие опыты писания «с претензией», такие, как «Грезица» или «Иван Осляничек», Пришвин впоследствии в печати никогда не повторял.
Писатель настолько бывает подчас суров к себе, проницателен, трезв, что позволяет себе даже думать и так, что Горький его «сочиняет». Но вот запись из дневника: «Почему этим живым людям и ненавистны Мережковские: эти живут, а те строят теории; эти рождают жизнь, а те певчие воспевают ее, эти стоят всегда как бы у конца и мучительно дожидаются продолжения, у тех же на всякое время и на все как брызги слетает ответ… – Не умеют сказать „не знаю“ – вот главное обвинение Горького Мережковскому».
* * *
В 1913 году в издательстве «Знание», которым руководил Горький, было выпущено первое собрание сочинений Пришвина – трехтомник его произведений. Горький же познакомил Пришвина с Шаляпиным. Известно восторженное высказывание Шаляпина о рассказе Пришвина «Крутоярский зверь». Произошло знакомство и с ярко начинавшим молодым скульптором Коненковым. Но все эти люди проходили мимо него в своей блестящей славе.
Встретился в Петербурге Пришвин и со своим бывшим учителем географии В. В. Розановым, теперь известным столичным писателем. Розанов живо, заинтересованно отнесся к первым шагам Пришвина в большой литературе, долго не подозревая, что перед ним тот самый мальчик, с которым некогда он вступил в непонятное и жестокое единоборство. Теперь Розанов сетует Пришвину на свое прошлое, описывает невыносимые для него условия школьной работы в те уже далекие для обоих годы. И в то же время, обнимая Пришвина, говорит: «Голубчик, Пришвин, вахМ это пошло на пользу!» Розановская мудрость это была или тут же и его лукавство?
В петербургском раннем дневнике Пришвина мы читаем: «Страна обетованная, которая есть тоска моей души, и спасающая и уничтожающая меня, я чувствую, живет целиком в Розанове, и другого более близкого мне человека в этом чувстве я не знал. Недаром он похвалил меня еще в гимназии, когда я удрал в „Америку“. „Как я завидую вам!“ – говорил он мне.
К одному и тому же мы припадаем с ним – разные люди – разными путями. Отчего это? Что это значит? Когда-нибудь я буду много думать об этом».
В этих литературных кругах Пришвин встретил и Блока. Встречи с Блоком были нечасты, всегда на людях, и возможность общения была прервана и наступившей революцией, разбросавшей всех этих людей в разные стороны, и ранней смертью поэта.
Очень важно отметить, что до конца своих дней Пришвин выделял Блока, давая высокую нравственную оценку его личности.
Зима 1915 года. Дневник. Описывается салон Федора Сологуба. У Пришвина отталкивающее впечатление от многих присутствующих. Отрывочные записи: «Пошлость… всегда логическая мертвая маска… пользование, поиски популярности». И три слова о Блоке: «Блок всегда благороден».
«Тут я вспомнил Блока: вот кто единственный отвечал всем без лукавства и по правде, вот кто был истинный рыцарь» (1922).
«Взять даже внешнюю жизнь поэта – рабочий, крестьянин, земский интеллигент – все бывали у Блока, и кто бывал, будет до гроба хранить очарование равенства всех в общении с этим прекрасным душой и телом человеком» (1927).
Было ли у Блока с Пришвиным какое-либо соприкосновение в писательстве? Известны дружественные и вдумчивые рецензии: Блока – на книгу Пришвина «У стен града невидимого» в 1909 году[3], Пришвина – на книгу Блока «Последние дни императорской власти»[4].
Записаны Пришвиным в дневнике немногие короткие беседы с Блоком. Но все это можно назвать внешними проявлениями отношений, если сравнить с одним поразительным и еще никем не замеченным фактом: первый черновой набросок поэмы «Двенадцать» был сделан Блоком в тот день, когда в петербургской газете «Раннее утро» вышел рассказ Пришвина «Голубое знамя». Это было 28 января 1918 года.
Возможно, Блок не прочел рассказа Пришвина – он нигде не отметил этот рассказ в своем дневнике; впрочем, мы знаем немногословность его записных книжек.
Трагедийность жизни переживалась в те дни единодушно, и становится понятной близость обоих произведений по обстановке, по художественным образам, по страстной напряженности концовок: метель, шествие пьяных и безумных у Пришвина, в которых, по словам его рассказа, «столько божественного». У Блока же сказано еще прямее: в том же вихре петербургской метели впереди его «двенадцати» идет Христос.
Эта общность переживания, погруженность в единую, революционную стихию жизни и ее художественное выражение становится особенно значительной, если предположить, что Блок в тот знаменательный для него день рождения поэмы «Двенадцать» пришвинского рассказа в газете вовсе не читал.
Блок умер, но у Пришвина всю дальнейшую жизнь продолжался молчаливый с ним разговор о многих общих для них темах: о символическом смысле поэмы «Двенадцать» и образе Прекрасной Дамы; об отношении к России и революции. Это было глубокое, никогда не прекращавшееся общение, уходившее иногда под спуд на годы и вновь выплывавшее на поверхность, – согласие и спор, пока уже в конце жизни Пришвин не пришел к тому ясному пониманию себя и жизни, в которое вошел для него и сам Блок.
* * *
Связь Пришвина с общенародной жизнью, его постоянная озабоченность ею, несмотря на углубленность в свои личные переживания и поиски, эта связь легче всего усматривается в его постоянной работе газетчика-журналиста, начавшейся в 1905 году. Она почти неизвестна нашему современному читателю.
Газетные корреспонденции и рассказы начала века открывают нам Пришвина как патриота и гражданина, чутко откликавшегося на все народные беды и нужды. Их темы – это и отклик на только что подавленную революцию 1905 года, и на брожение в разбуженной для действия народной массе, особенно среди близкого ему крестьянства. При жизни Пришвина эти работы, нашедшие свою оригинальную форму, были включены автором очень небольшой своей частью в сборник с многозначительным и смелым по тем временам названием «Заворошка». Остальные, разбросанные во множестве по разным газетам и журналам, хранятся и в рукописях; все они расскажут в свое время о многосторонности интересов Пришвина и вместе с тем о самобытности его личного отношения к общественным явлениям.
Пришвину было присуще видеть неприкрашенную правду жизни, а приходилось приспосабливаться к требованиям «заказчика»; но он не уставал бороться с различными направлениями прессы, связывавшими его правдивость и свободу. Дневник начала века: «Какие тупицы эти умные литераторы „Русских ведомостей“, куда я посылаю благонамеренные фельетоны. Неужели все это так-таки и может продолжаться?» Иногда он горько иронизирует над собой-журналистом: везде и всегда в этой прессе он, по его словам, был «белой вороной».
«Все к земле вернется, в народ, все мелко, мало…»
«Нет моста от интеллигенции к народу. Полная беспомощность рассуждений».
«Перед концом России все разделилось на Петербург и Россию». Что оставалось ему? Бежать из этой столичной оранжереи под открытое небо.
Он уже видел конец старой жизни, но Россия для него – это парод, и он ощущает себя звеном, связывающим ее распадающиеся части. Очень существенно: он остается таким с молодости и до старости. «Я не народник, но я от народа, я ходок от народа». Это запись дневника начала 1941 года.
В 1909 году Пришвин отправляется в новое путешествие по Средней Азии. Два месяца продолжалось путешествие. Пришвин привез в Петербург путевой дневник. На основе этих торопливых записей он создал два произведения в разных жанрах. Одно – «Адам и Ева», очерки о тяжелейших условиях наших переселенцев, обманутых надеждой найти землю и сносные условия жизни на ней. Второе – поэтическая повесть «Черный Араб». Здесь художник достиг слияния с природой и ее людьми столь полного, что сам с первой же страницы перевоплощается на наших глазах в Черного Араба, и мчится о нем по степи легенда: «Она, крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу».
Его не отдалили, не вытолкнули из жизни народной ни тюрьма, ни годы учения за границей, ни Петербург с его утонченной культурой. Ему не надо было, подобно многим современникам, идти в народ или к нему возвращаться.
В 1914 году началась первая мировая война, положившая конец прежней жизни России. Военным корреспондентом Пришвин попадает на передовые позиции. Из его военного дневника опубликована лишь незначительная часть под заголовком «Слепая Голгофа».
Дневник 1914 года:
«Иногда читаешь газету, идешь по улице и вдруг спросишь себя: какое же теперь время года? Лето забыто. Природа – все равно».
«Думаешь, как устроить свои мелкие личные дела, а в голове мысль перебивает: нация больше государства, общество больше правительства – война с врагом должна быть без оглядки на правительство, и война серьезная, молчаливая, без слов (например, о всевышнем). Слова в эти минуты – блуд, потому что никто не знает будущего… Подчиниться как мужик силе, слиться…»
«2 марта (1916). Начало очерка. Пройди по Руси, и русский народ ответит тебе душой, но пройди с душой страдающей только – и тогда ответит он на все сокровенные вопросы, о которых думало только человечество с начала сознания. Но если пойдешь за ответом по делу земному – величайшая откроется картина зла, царящего на Руси…»
Весной 1916 года Пришвин уезжает на родину в Хрущево, где ему достался от умершей матери небольшой кусок земли, и он решает построить на нем дом для своей семьи.
«Начал это странное дело: постройку дома во время войны». Зимой 1916/17 года Пришвин некоторое время работает в Петрограде секретарем товарища министра земледелия. Февральскую революцию он встретил в Петрограде. «1917 г. Март. Приближенные царские иссосали царя, как карамельку, и оставили народу только бумажку с надписью „царская карамель“. Но все государство шло так, будто царь где-то есть. Те, кто призывал к верности царю, сами ни во что не верили. Не было времени, и можно было узнать его скорость лишь в быстрой смене министров и росте цен. В тишине безвременья каждый давно уже стал отворачиваться от забот государственных и жил интересом личным: все грабили. Это привело к недостатку продуктов в городах и армии. Недостаток хлеба вызвал бунт солдат и рабочих <…>. А о том, как теперь в глубине России люди живут, все еще ничего не известно». «В апреле 1917 года еду на родину делегатом от Временного комитета Государственной думы и сотрудником газеты „Новая жизнь“».
Весной писатель возвращается в Хрущево. «Уволил рабочего и сам работаю <…>, вожу навоз, пашу, кошу и проч.».
На поле своем Пришвин работает теперь наравне с крестьянами, учится у них и радуется этой трудной работе.
«3 августа. Раньше удивлялся на вымирающих стариков, сеющих руками, а теперь сам сею из лукошка, учит меня Андрей Терехин: «Леши а не хочешь – не леши[5], горсть укажет, рука меру знает. Из-под низу швыряй, наддай с гордостью, полную горсть бери, махай, пущай, не задерживайся, под ветер иди с гордостью: „Во имя отца и сына и святого духа. Аминь!“»
Нечаянная радость. Три дня не был в поле и вышел, и увидал свое дело, я работал простуженный, ходил с пудовым лукошком семян на шее, швырял семена, а в саду моем грабили сливы, ломали сучья, я уходил в сад разгонять воров, возвращался в поле, заставал в поле телят, на клевере лошадей. Тогда я не думал, хорошо ли, плохо ли мое дело, лишь покончить. А вот теперь, о, какая радость! Я глянул на поле после дождя по солнышку: рожь уже вышла из краски, внизу была розовая, вверху зеленая, и на каждом зеленом листике висела капля, сияющая, как алмаз.
Я все поле исходил, шаг за шагом много раз, и тут было много мест, связанных с болью души <…>. Теперь на всех моих больных местах было <…> такое согласие, и я всему этому дал жизнь: вот обсев – черная земля. Я возвращаюсь домой, беру лукошко с семенами и подсеваю, подправляю».
«2 октября… Несчастной любовью люблю я свою Родину, и ни да, ни нет я от нее всю жизнь не слышу, имея всю жизнь перед глазами какое-то чудище, разделяющее меня с Родиной. Чудище, пожирающее нас, теперь живет где-то близко от нас, и я видел вчера в день призыва, как ворчливая негодующая толпа оборвышей поглощалась им, и они, как завороженные змеем, все шли, шли, валили, исчезая в воротах заплеванного <…> здания».
Приходит Великая Октябрьская революция. В своем писательстве Пришвин не ушел в эстетизм или в какое-либо иное отвлечение. Он приник к земле – к провинциальной России.
Не литературная задача вела его, а почти бессознательно выбран был безобманный и строгий путь – стать у истока рождения неведомого нового. В своих ежедневных записях он занимается исследованием народной жизни. Это была, по существу, школа его собственной жизни, где одновременно он и участник, и летописец. Школа эта вывела его как художника на свой собственный, единственный верный для него путь.
Воспоминание дневника 1944 года: «Я им говорил (выступление перед студентами-географами. – В. П.), что пережил революцию много раньше 1917 года, и оттого, когда пришла настоящая революция, то я не сомкнулся с ней, как в юности, а совсем напротив: я принял ее как вызов себе самому. „Революция! – говорил я себе, – но кто же ты сам, с чем ты можешь выйти к людям, кто ты?“ Революция была мне хлыстом, подгонявшим меня к выявлению личных сил. Я был довольно чувствительным, нервным и горячим конем, и достаточно умным, чтобы не сердиться на хлыст, который висит надо мной… В этом пробеге теперь я, оглядываясь назад, ясно вижу путь личности…»
Ранней весной 1918 года Пришвин уезжает на родину с намерением продолжать жизнь на земле. Но события вынудили Пришвина навсегда покинуть Хрущево. «Мой хутор должен исчезнуть…»
Дневник 1948 года: «Помню, когда я вышел с узелком, покидая навсегда свой отчий дом, встретился мне один приятель из мужиков, человек большой совести, и я ему вздумал пожаловаться:
– Не своей волей ухожу, – сказал я, – боюсь, что убьют, не поглядят ведь, что это я, а заодно с помещиками возьмут и кокнут.
– И очень просто, что кокнут, – ответил мне знакомый, помещая свое сочувствие неизвестно куда, то ли ко мне, уважаемому писателю, то ли к тем, кто меня кокнет.
– Слушай, Захар! – сказал я серьезно, – ты меня знаешь, неужели же тебе не жалко глядеть на меня такого – в бегах, с узелком?
Захар во все лицо улыбался.
– Милый, – сказал он, положив руку мне на плечо, – ну ты же раньше-то хорошо пожил, лучше много, чем наши мужики?
– Ну, положим.
– Вот и положим: пусть поживут теперь другие, а ты походи с узелком, ничего тебе от этого плохого не будет. И очень умно сделал, что все бросил и ушел с узелком. У тебя же есть голова, а у них что?
Так с колыбели я живу в атмосфере этого особенного восточного чувства человека к человеку, и среди этого мужицкого народного моря, как острова каменные и рифы, торчат помещики, купцы, кулаки и разные… „образованные“ <…>».
Пришвин перебирается на родину жены, в смоленскую деревню под Дорогобужем. Но и там он не был принят в нарушенный революцией прежний крестьянский мир. Однако необходимо было как-то бороться за жизнь. Он становится учителем в деревенской школе – «шкрабом». Одновременно создает музей усадебного быта в покинутой хозяевами усадьбе купцов Барышниковых Начинает работу агрономом на научной сельскохозяйственной станции, организованной еще до революции известным ученым А. Н. Энгельгардтом.
Сохранившиеся дневники тех лет свидетельствуют, в какой крайней нужде жил учитель Пришвин «Какой он писатель – он мужик», – говорят об учителе*в деревне. Но тот же дневник свидетельствует о не изменявшей Пришвину духовной сосредоточенности, о жизни его всегда на внутреннем подъеме Ни на один день он не прерывает своей писательской работы и собирается с мыслями, чтобы начать свой автобиографический роман «Кащеева цепь». Он назовет его впоследствии «романом о хороших людях». Много лет спустя Пришвин скажет, что он задумал роман, чтобы оставить след о добре в то трудное, часто жестокое время. А вот как записал он уже в старости о своей жизни тогда: «Когда я приходил в деревне в 1919 году в избу родителей какого-нибудь моего ученика, сидел на лавке прилично и долго в ожидании, когда хозяйка отрежет мне кусок хлеба или сала, это теперь воспоминание мое как состояние наиболее достойное, в каком только в жизни я бывал».
Осенью 1922 года Пришвин наконец вырывается из своей глуши и привозит в Москву готовую повесть «Мирская чаша» Повесть насыщена живыми впечатлениями пережитого в деревне. Пришвин опубликовал две главы из повести в том же 1922 году, но целиком повесть напечатана не была.
Это повесть о мирской чаше, чаше народной, в которой еще только-только заваривается неведомая новая жизнь, и автор повести – это один из ее участников. Все совершающееся вокруг слишком близко, чтобы разглядеть, понять и вынести окончательный приговор: только одна боль непосредственного соприкосновения в этой чаше каждого с каждым.
Именно по глубине своей любви и страдания Пришвин не делает никаких окончательных выводов, столь облегчивших бы нам сегодняшнее прочтение повести.
В этой ранней повести присутствует уже вся проблематика будущего романа «Осударева дорога», написанного в конце жизни. Основная антитеза «личность – общество» ищет уже здесь выхода, возможности ее положительного разрешения.
В повести открывается писательское начало Пришвина: утверждение в мужественной простоте светлых основ жизни. Пришвин хочет передать нам их при любых личных страданиях, «даже в последнем стоне своем, как возможность, как поддержку».
В 1922 году Пришвин переезжает с семьей под Москву: сначала в Талдом, потом в Переславль-Залесскнй и, наконец, в Сергиев – Загорск. Чем глубже внутренний рост – тем ближе оказывается желанная страна непуганых птиц. Теперь она открывается художнику совсем рядом – это его Берендеево царство среднерусской природы. Никуда не надо за ним убегать – ни в Азию, ни в Беломорье. Надо лишь остановиться, собраться в себе, прислушаться и присмотреться к жизни… «Когда я стал – мир пошел». Это слова, которыми заканчивается последняя в жизни рукопись Пришвина – послесловие к сборнику «Весна света», а впервые они были сказаны еще в 20-х годах.
Художник находит ценности в простейшей повседневности; во всякое время и во всякой вещи он открывает неповторимую значительность и любовно называет ее точным словом. Все вокруг важно, все просит его внимания. Об этом он и пишет книгу «Родники Берендея», значительно дополненную и переименованную впоследствии в «Календарь природы». С ней он входит как новый писатель после длительного перерыва в молодую советскую литературу.
Теперь его основной герой – земля. Но земля для Пришвина – не просто «почва», это и «культурный слой», в котором оставляет след каждый, кто в нем жил, творил и обогатил собою. Пришвин больше всего боится, как бы не уклониться в «гордость», иными словами, в отъединенность от «обыкновенной» жизни. Эта жизнь и есть для него правда.
«И так во все это росистое утро радость прыгала во мне и не смущала печаль человеческая. Чего мне и вправду смущаться, если так рано, что все горюны еще спят. Когда же они проснутся и загорюют, обсохнет роса, и тогда я еще успею печаль их принять к сердцу. Горюны всего мира, не упрекайте меня!»
Он пишет, почти не пользуясь завлекательностью сюжета: ни приключений, ни любовных перипетий. Все как в природе, почти в полном молчании и предельной занятости работой.
Середина жизни Пришвина – середина 20-х годов: «Это не шутка – пятидесятый год!» Жизнь его протекает главным образом вокруг маленьких городов, где у него кое-как устроенное жилье. Еще он занят эти годы ружейной охотой. Это для него не развлечение – в те годы охота его всерьез кормит семью. Берендей «в мглистой бороде», – часто ему приходится встречать восход солнца в лесу, где заночевал на высокой моховой кочке. Сыновья подросли. Скитания его по жизни делит верная Берендеевна. Мелькает иногда в дневнике мягкое и грустное воспоминание о юношеской неумирающей любви в Люксембургском саду, но все покрывает захватывающая радость на этом пути «выхода из себя маленького» в великий мир жизни.
В «Календаре природы» и последующих за ним охотничьих рассказах «егеря Михал Михалыча» сказалась основная художественная сила Пришвина: сочетание тонкой поэтической лирики с реализмом трезвой наблюдательности.
Прозаическое не только не разрушает очарование поэтических строк, оно «огрублением» оттеняет все, что в них от подлинной поэзии, как бы испытывая этим поэзию на прочность.
Одно из богатств пришвинского стиля – это его юмор, который не спутаешь ни с чьим другим. Сам он назвал его однажды «отдыхом человека на тяжелом пути его к истинной правде». Это верно, но это далеко не все.
Его юмор – не развлечение. Он есть свидетельство мужества на этом пути – все той же радости жизни, которую человек осуществляет сознательно и трудно.
Пришвин никогда ни над чем не смеется, смеется он всегда чему-то, и чему-то непременно хорошему. Он постигает, таким образом, само существо смеха как чистую радость…
Пришвин говорит: «Жизнь основана на доверии, не всегда осуществляющемся, – значит, на доверии героическом и жертвенном». Слово «доверие» мы могли бы заменить здесь словом «радость». В языке нашем народном юмор может быть иногда даже груб, но лишен разъедающего сарказма-скепсиса, столь ненавистного Пришвину.
Народный юмор в своих лучших образцах – это приметливость, ум, мужество характера. У писателя Пришвина юмор его коренится, несомненно, в живой народной речи. Самобытность реализма Пришвина формировалась в какой-то мере именно благодаря этому его дару.
В середине 20-х годов публикует Пришвин свои первые две части «Кащеевой цепи». Роман охватывает детство и юность героя – Алпатова, первую половину жизни, до того «перелома», после которого Алпатов-Пришвин стал писателем. Роман очень близок к подлинной жизни Пришвина. Третью часть романа он так и не написал, сохранились лишь его первые страницы, написанные во время Великой Отечественной войны. В посмертное Собрание сочинений включен ряд завершающих глав об искусстве, которые Пришвин написал незадолго до своей кончины.
Роман не закончен, но сама жизнь писателя, запечатленная в его дневнике, стала для читателей этой незавершенной «третьей частью» романа, которую еще в 1922 году Пришвин замышлял как «Воскресение Алпатова», иными словами – нравственную, творческую победу человека над жизненной трагедией. На подходах к этой третьей части Пришвин создал и свою книгу «Журавлиная родина»; это, по-существу, размышления о творчестве, облеченные в чрезвычайно оригинальную форму сказовых, очерковых, поэтических и философских записей. Эти записи иногда являются фрагментами из параллельного бытового дневника Пришвина.
Дневник, как бы он ни был ценен для читателя, еще не может быть представлен во всем объеме: ежедневные записи почти за полстолетия. Дневник этот поначалу писался только для себя, и тем не менее, как естественный выход из одиночества, это его «главная книга», направленная к какому-то очень близкому другу, значит, к будущему своему читателю. С потрясающей доверчивостью открывается он в дневнике, – кажется, протягивает нам сейчас через многие десятилетия свои слова на открытой ладони.
В этом тайна и сила искусства: человек писал только для себя, но прошли годы – и оно стало для всех.
В дальнейшем дневник шел часто (не всегда) параллельно создававшемуся художественному произведению и являлся его источником; но одновременно он был и независимым от сюжетного произведения отражением жизни. В дневнике не поиски и развитие сюжета, как это бывает обычно у романиста: романист представляет нам сочиненную фабулу и уверяет нас, что это и есть жизнь. У Пришвина это – просто жизнь, своя и чужая, и человека, и животного, и всех стихий земных: видит и пишет, как он их видит, как связывает все в своем сознании и сердце. Он видит не всегда одинаково – в противоречиях, во внутреннем споре с самим собой; если б всегда видел одинаково, это значило бы, что жизнь художника прекратилась и надо из нее уходить.
* * *
К началу 30-х годов Пришвин становится признанным мастером прозы – он создает свой художественный стиль.
Основная особенность и сила пришвинского слова – в сочетании поэзии с философичностью мысли и с точностью наблюдений.
В эти годы Пришвин проявляет особый интерес в своем писательстве к форме очерка. Очерк у Пришвина – это следствие усвоенного им некогда научного метода в мышлении – его строгость, отсутствие чувствительности, стилистических украшательств. Пришвин называл в эти годы очерками все жанры своих произведений, начиная с поэтической миниатюры и кончая отдельными главами романа. По выражению Горького, автору было «угодно свои поэмы называть очерками».
В чем же секрет этого удивительно упорного авторского своеволия? Он ясен: Пришвину необходимо видеть мир природы и человека не из окна писательского кабинета, не со страниц чужих книг, а собственными глазами. Не только видеть, но самому пережить. Не только пережить, но и назвать своим словом, уже неотделимым от события.
Теперь, когда перед нами раскрывается картина его жизненного пути, мы можем сказать, что цель была у него одна – спасение на земле самой жизни и в ней ее светлого начала.
Записи дневника последних лет:
«Мы (художники. – В. П.) принадлежим к тем скромным деятелям в творчестве самой субстанции мира, которые не имеют времени на политическую оперативную деятельность. Мы верим, что паша деятельность необходима в деле создания мира еще более, чем политика, потому что без субстанции мира политику нечем и оперировать <…>».
«Моя родная страна скажет новое слово и им укажет путь всему миру».
«…Лично я боролся за мир с того самого раза, как взялся за перо <…>».
* * *
Идет конец 20-х и начало 30-х годов В печати часто появляются охотничьи рассказы Пришвина – о природе, о собаках. Слов нет, они ближе читателю, чем его сложные размышления в романс «Кащеева цепь» пли в повести «Журавлиная родина». Никто не подозревает, как серьезен п подчас грустен в эти годы веселый охотник, ставший известным в советской литературе главным образом именно такими «охотничьими» рассказами.
В те годы организация Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) пыталась диктовать свои вкусы литературе. Ее установки отвращали Пришвина. В 1939 году он вспоминает: «Два чудовищных момента русской культуры: когда декаденты объявили: „я – бог!“ И потом рапповцы тоже: „мы – правда!“ – и диктовали свои условия художнику от имени правительства».
В писательской работе Пришвину трудно было с его поэтической темой о природе, вызывавшей нападки в печати. Тема Пришвина «природа – человек» критикой принималась с натугой. Появились статьи, толковавшие литературную работу Пришвина как украшательство жизни пейзажем, как уход от гражданственности, от необходимой борьбы, как равнодушие к вопросам общественных отношений. Пришвина обвиняют в печати в «неумении или нежелании служить задачам классовой борьбы, задачам революции».
Критики не вникали в подлинный смысл творчества Пришвина, выраженный им простыми и точными словами: «Моя работа коммунистическая по содержанию и моя собственная по форме». И писал он далеко не об одной природе, тем более не о природе, оторванной от человека. По-новому освещая мир природы, Пришвин воздействовал на отношения человека к природе, равно как и на самые общественные отношения людей между собой.
Теперь, во второй половине столетия, эта мысль стала понятной по всей земле и самому маленькому школьнику, а тогда критик судил писателя по трафарету И для самого Пришвина тем самым была поставлена задача мужественно вытерпеть непонимание и сохранить верность своему призванию.
Кто в те годы вкладывал в слово «охота» тот смысл, который сообщает ему Пришвин! Вот его определение: «Слово „охота“ есть самое наивное разрешение смутного стремления людей к красоте и познанию».
«Красота больше охоты», – решительно записывает он в том же дневнике.
И ружейная охота, и теперь охота с фотокамерой, – Пришвин называет свое новое увлечение фотографией «охотой с фотокамерой», пришедшей взамен или в помощь его ружейной охоте, – это была в существе своем охота за самой жизнью, за ее красотой и, конечно, за радостью. Повесть середины 20-х годов, труднейших и в его личной, и в общественной жизни, названа «Охотой за счастьем».
Пришвин в новом деле не просто любитель, а подходит к нему очень ответственно: снимать трудно, потому что фотокамера «скудный аппарат», и успех зависит «не от аппарата, а от своей головы». И вывод: «Надо научиться пользоваться машиной, а не подчиняться ей – и это будет подлинный реализм!»
«К моему несовершенному словесному искусству я прибавлю фотографическое изобретательство, чтобы на вопрос наивного слушателя – „было это или нет“ – не уверять его в действительности, а показать». И другая запись: «…беру фотоаппарат и снимаю. Искусство это? Не знаю, мне бы лишь было похоже на факт!»
В Государственном издательстве художественной литературы выходят подряд два Собрания сочинений Пришвина: в 1927–1930 годах в семи томах и в 1929–1930 годах в шести томах, – что свидетельствует о признании писателя.
В 1931 году Пришвин предпринимает поездку на Дальний Восток. Три месяца бродил он там по тайге и сопкам и привез с собой очерки путешествия. Это «Дорогие звери», «Песцы» («Остров Фуругельм»), «Олень-цветок», множество фотографий природы Дальнего Востока, людей, населяющих этот край. Но исподволь из этого очеркового материала рождается поэтическая повесть «Жень-шень» или «Корень жизни». Как раз к этому времени был ликвидирован РАПП, настроение в критике резко изменилось: новую повесть приняли единодушно, и впоследствии она была переведена на многие языки за рубежом.
Началась работа над повестью «Жень-шень» краткой заметкой в дневнике: «Сел за „Даурию“ и перестал заниматься фотографией. Мне дана одна струна, или сказать вернее, лирическая нотка – одна для всего…»
В повести мы встречаем художественно претворенными две основных темы Пришвина. Первая – о невоплощенной любви к единственной возлюбленной, любви, распространенной им на всю природу. Повесть отражает подлинное переживание в жизни молодого Пришвина. В ней любовь дана как страданье – и у человека, и у животных. Но с этим человеку примириться невозможно: «… где-то в тайге все растет и растет мой собственный корень жизни». И путь к нему известен, в нем человеческая радость и достоинство: «В поисках корня жизни надо идти с чистой совестью и никогда не оглядываться в ту сторону, где все уже измято и растоптано».
Вторая тема Пришвина открыто поставлена в повести «Жень-шень» (и это – накануне мировой войны): тема братства народов. Она воплощена в сотрудничестве двух друзей: рассказчика, бывшего русского солдата, и друга его, искателя корня жизни, старого китайца Лувена.
30-е годы – это постоянные поездки. Близкие – в Подмосковье, в Переславль-Залесский; в 1938 году поездка под Кострому для наблюдения и записей весеннего разлива. И снова непреднамеренно работа в двух планах: повесть «Неодетая весна» и записи к назревающей новой теме романа «Осу да рева дорога», – «она уже стучится в душу».
Дальние поездки – это Хибины, Соловки, Беломорстрой – в край непуганых птиц его молодости, который стал неузнаваемо новым.
В 1906 году Пришвин застал еще здесь незаросший след Петровской Осударевой дороги – так называли ее местные люди. Теперь по этому следу новые люди проводили Беломорско-Балтийский канал. Впечатление от столкновения старого с новым было сильное, противоречивое. Пришвин пытается отразить его в очерках «Отцы и дети», которые, однако, не выражают глубины его подлинных переживаний. Рождается идея романа «Осударева дорога», хотя в основе его лежит пока история мальчика – «русского Робинзона», заблудившегося в северных лесах; сюжет этот сохранялся у него еще с начала века.
В 1935 году Пришвин снова отправляется на Север, уже в сопровождении сына Петра. Передвижение и верхом, и вплавь по реке Пинеге, путешествие труднейшее на седьмом десятке лет. На основе путевых записей написаны очерки «Берендеева чаща», а в конце жизни повесть-сказка «Корабельная чаща».
В 1936 году последнее в жизни длительное путешествие – поездка на Кавказ в район Кабардино-Балкарии по заданию газеты «Известия». Цель поездки была дать картину преобразования края и запечатлеть личность самого преобразователя – Бетала Калмыкова. Материалы огромного путевого дневника Пришвину не удалось опубликовать из-за обстановки тех лет и трагической гибели Бетала Калмыкова.
* * *
Кончались 30-е годы; Пришвин находится на творческом подъеме, его переполняют множество неосуществленных замыслов, чувство необходимости собрать и систематизировать многолетний архив. А годы уходят, силы убывают. Трудно было за мельчайшим делом ехать по железной дороге из Загорска в Москву. Он писал, что художнику «запереться можно и надо от шума, от помех, но от жизни нельзя запираться, – ты должен слышать постоянное течение <…>. Ты пишешь в уединении, но чувствуешь текущую реку <…>. Ныне праздное одиночество позорно».
В 1937 году Пришвин после долгих хлопот получает наконец в Москве квартиру, которая дала ему возможность жить уединенно и спокойно в большом шумном городе и не прекращать своей работы. В Москве сразу же рождается у него новая тема: о ценности городской культуры.
Пришвин совершенно самостоятелен в своем осмыслении города. Его оптимизм еще раз выдерживает проверку на предмете, вызывавшем скорбь и возмущение многих писателей XIX – начала XX века, на городской жизни. У Пришвина мы читаем в 1951 году: «Что жизнь хороша, что мы, люди, не трава на ветру и не сено, что мы и от себя что-то можем сделать навстречу знойным иссушающим ветрам – это все зарождается в городе». «Единый образ природы, вытекающий из непосредственных впечатлений, зарождается в городе у людей высокой культуры».
Нельзя обойти молчанием следующего обстоятельства, в городе конца 30-х годов Пришвин иногда не только утомлен – он подавлен, и подчас ему хочется замолчать. Но в нем живет непоколебимая уверенность в торжестве светлого начала в человеке, в жизни. «Темно? Значит, скоро будет светать».
Как бы ни было подчас тяжко на душе, Михаил Михайлович верит своей основной мысли, что «добро перемогает зло». И это доказательство видно даже на такой побочной стороне его работы, какой являлась фотография: именно в эти годы он назовет свое фотографическое дело светописью, а себя «художником света».
1938 год, 6 октября: «Из учебника фотографии: „Белое рядом с черным становится на глаз еще белее, чем оно есть. Так, вероятно, по тому же закону контраста и добро становится сильнее рядом со злом“».
Именно эта сила поэтического оптимизма и дает поэту силу написать один из самых радостных своих, прямо-таки ликующих рассказов – «Весна света». Пишет он его по впечатлению «городского» путешествия, столь нового в его опыте. Пишет в самый канун назревающей войны, когда полмира было уже в огне. Это рассказ о существовании сказочной Дриандии, где царствуют братство и дружба народов. В эту волшебную страну сразу же поверили его собеседники – дети, и такой разговор у них с писателем действительно был, и произошел он на одной из московских улиц – на Патриарших (Пионерских) прудах.
В эти годы произведения Пришвина часто публикуются уже в издательствах для детей. Выходит сборник «Зверь-бурундук», задуман сборник «Золотой луг» и другие. Пришвин открывает для себя в канадской литературе «своего брата», писателя Серую Сову (Вэша-Куонэзина), посвятившего жизнь спасению жестоко уничтожаемых бобров, и художественно перелагает его автобиографическую книгу, впервые знакомя русского читателя с этим автором. Книга была рассчитана равно и на взрослых, и на детей.
Надо сказать, что Пришвин почти никогда не ставил себе целью писать специально для детей, хотя детскую литературу считал самой нужной и самой трудной. А если и ставил такую цель, то тут же уходил от этого, забывая «деловое» предназначение. «Детское» в писаниях Пришвина – это была непроизвольная потребность художника к простоте, ясности, образности слова. Это и значило у него «борьба с мыслью», о чем он пишет, вспоминая начало писательства.
Пришвин сам удивлялся и радовался, когда написанное становилось и детской литературой. Так, например, был написан цикл «Дедушкин валенок», написан одним духом – в несколько дней 1941 года, незадолго до начала войны. Он понимал эту работу как цикл народных рассказов с расчетом на взрослого читателя, напечатал ее в журнале «Октябрь». Однако «Дедушкин валенок» очень скоро стал классикой детской литературы.
И наоборот, написанная специально на конкурс Детгиза «Кладовая солнца», входящая теперь в обязательную программу средней школы, и сейчас читается нами, взрослыми, как вещь с глубоким философским подтекстом.
Летом 40-го года была создана Пришвиным новая книга «Лесная капель» со включенной в нее поэмой «Фацелия». Это первая книга Пришвина, сложившаяся из непосредственных дневниковых записей; они были взяты не только без существенной переработки, но почти без всякой стилистической правки. Книга была утверждением своей формы художественной миниатюры, несущей и поэтическое, и философское начало: «Миниатюра как искреиное, пока писатель еще не успел излукавиться в записи преходящего мгновения жизни <…>. Только в последние годы эти записи приобрели форму настолько отчетливую, что я рискую с ней выступить… Я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений повседневной жизни и страдает, что сам не в силах схватить их».
* * *
Когда началась война с фашистской Германией. Пришвин отказался от эвакуации на Кавказ, вместе со многими пожилыми деятелями культуры, и уехал к началу осени в глухие ярославские леса – места своих бывших охот, в деревню Усолье под Переславлем-Залесским.
Весной 1942 года показались признаки перелома в ходе войны. Это соединилось с радостью от наступления тепла после жесточайших морозов зимы, и мы находим в те дни у Пришвина такую запись: «Свет весной действует так, будто ты выходишь из себя и вне себя уже утверждаешься в той бесспорной радости, которую у тебя не отнимет ничто». Запись эта имеет короткий подзаголовок: «Свет».
Конечно, это писал не литератор, а просто человек, переживающий вместе со всеми страдания и вместе со всеми радующийся выходу из них.
На военные события Пришвин отозвался сразу несколькими рассказами. Самый значительный из них по содержанию – «Город света» – был написан в 1943 году. В нем он развивает свою любимую мысль о братстве народов и особом качестве души русского человека, способного восхищаться до самозабвения величием и красотой чужого народа. Этот рассказ был напечатан лишь после кончины Пришвина.
В 1943 году Пришвин был награжден, в связи с его семидесятилетием, орденом Трудового Красного Знамени.
В конце войны написаны две повести. Первая, переменившая несколько названий, – это «Рассказы о ленинградских детях», спасенных во время блокады. Вторая – «Повесть нашего времени», о женских судьбах во время войны; она была создана на материалах жизни в Усолье. Но по глубинному замыслу – это было большим размышлением на тему, поставленную Пришвиным еще в юности и выраженную им тогда нравственной формулой: «Все понять, не забыть и не простить».
В эти военные годы, проведенные в Усолье, откладывались и записывались наблюдения, вошедшие в последующие послевоенные произведения – «Кладовую солнца» и «Корабельную чащу».
* * *
Вскоре по окончании войны Пришвин приобрел полуразрушенный небольшой дом на берегу Москвы-реки в деревне Дунино под Москвою. Там он прожил остаток своих дней, с 1946 по 1954 год. Дунино стало последним любимым местом жизни писателя. «…Мне кажется, будто я вернулся в Хрущево, в лучшее прекрасное место, какого и не бывало на свете!»
Эти послевоенные годы в писательской работе были на редкость плодотворны. Победное окончание войны было встречено повестью-сказкой «Кладовая солнца». Это повесть с простейшим сюжетом – о двух детях, заблудившихся в лесу, но по внутреннему смыслу она была о победе высокого человеческого начала среди жестокой природы.
Той же теме посвящено сюжетное продолжение «Кладовой солнца» – повесть-сказка «Корабельная чаща». Внутреннее значение повести – это всенародные поиски правды истинной и сохранение ее народных истоков, символизируемых в образе легендарной прекрасной чащи, оберегаемой стариками на Севере.
Обе повести впервые названы Пришвиным сказками. Сказка становится отныне точным определением пришвинской поэтической прозы. Так называл он свою собственную, в долгом жизненном труде созданную литературную форму. Долго искал он ее, называл, как мы уже знаем, «очерком» даже страницы, исполненные поэтического звучания, пока наконец нашел, – это было в 1945 году во время писания «Кладовой солнца». Он назвал тогда впервые и уже навсегда все свои последующие произведения – сказками.
Реалист, он передает свое видение мира излюбленным приемом русской народной словесности, и мы еще раз убеждаемся в прямой связи пришвинского творчества с русской народной культурой.
В Дуннне продолжалась переписка многолетнего дневника Пришвина, начатая нами в годы эвакуации. Таким образом, готовился материал к книге дневников «Глаза земли» и было положено начало многим публикациям, осуществленным уже посмертно.
Многие дневниковые записи Пришвина, как и отдельные тексты в его рассказах, повестях и романах, являются образцами поэтической прозы, причем ее невозможно спутать ни с чьей иной. Мы замечаем у Пришвина особый ритмический строй речи: это музыкальная последовательность в построении слов и внутренние в ней созвучия; это ритмическое развитие самой мысли: речь идет все расширяющимися смысловыми кругами и приводит к обобщающему мысле-образу как к завершающему круг. Выберем из множества и приведем следующую запись: «Дым из трубы поднимается вверх, высокий, прямой и живой, а снег все падает, и сколько бы ни падало снегу, дым все поднимается.
Так вот и я себя в жизни. чувствую, как дым».
И еще запись – картина зимнего леса: «Вошел в лес уснувшие потоки тишины». Всего три медленных плавных слова – и перед нами законченный образ, его настроение: ветви согнулись под шапками снега; земля, подлесок скованы волнистым покровом; морозный воздух среди лесной чащи неподвижен.
Что значат эти слова Пришвина: «Мучился всю жизнь над тем, чтобы вместить поэзию в прозу»? В стихах легче очаровывать с помощью внешнего ритма. Проза же лишена многих внешних средств очарования. Поэтому она трудней и честней. И отсюда запись: «…В прозе невозможно поэтический ритм подменить ритмическим… А в общем, я писал, как чувствовал, как жил… я исходил от русской речи устной».
Поэзию и музыку слова Пришвин нашел, несомненно, в народной речи, у самых ее истоков: услышанный им на Севере сказ, стих, песня не сочинялись народом, а вырастали из жизненных событий и переживаний сказывающего и поющего человека. Они рождались из насущной потребности души – ее радости или горя. Так в народном языке возвышалась, опоэтизировалась проза. «Благодарил свою судьбу, что вошел со своей поэзией в прозу, потому что поэзия может двигать не только прозу, но самую серую жизнь делать солнечной. Этот великий подвиг и несут наши поэты-прозаики, подобные Чехову».
Все дунинские годы Пришвин работает над давно начатым и прерванным романом «Осударева дорога». Этот роман нес в себе тему пушкинского «Медного всадника» – об отношении личности и общества, о ценности человеческой личности, незаменимой и единственной. И одновременно о долге ее перед общей жизнью.
В конце своих поисков и метаний между правдой Петра и правдой Евгения он приходит к ясному сознанию, что есть вопросы, на которые не может быть однозначных ответов. Есть положения, когда обе стороны борющихся равны. Он приходит к осознанию неразделимости понятий долга и свободы. Впрочем, он уже давно это знал. Так, в раннем дневнике мы встречаем запись: «Земля есть необходимость, воля – осознание необходимости (жертвы). Так мыслит свободный. А раб мыслит: земля – свобода, воля – захват».
У художника, хочет он того или не хочет, мысли неумолимо требуют воплощения в образы и слова. Так, в 1946 году он записывает: «Узнал, что Петр ехал по Осударевой дороге, а за ним везли виселицу. А Пушкин: „Да умирится же с тобой“ и „Красуйся, град Петров…“».
Для человека современного сознания невозможно было оправдать такую дорогу. Вот почему дальнейшие размышления Пришвина сводились к тому, чтобы понять пушкинское противоречие и найти из него нравственный выход. Необходимо вслушаться в самый тон пришвннских записей дневника, сделанных параллельно работе над романом, чтобы понять состояние души писавшего: «Итак, „выхожу один я на дорогу“. И какой это кремнистый путь, и как больно ступать босой ногой. Но я слышу, как говорят звезды, и иду…»
Ни один из вариантов романа его не удовлетворял. Смерть застала автора за новой переработкой. Роман опубликован посмертно в его первой редакции, в которой он, автор, по его собственным словам, «уцелел как художник».
Свой последний роман Пришвин назвал также сказкой-былью. Если обычно под сказкой разумеется выдуманное, фантастическое, то у Пришвина сказка – это видение реальной жизни, но в ее богатейшей сущности, которую мы редко замечаем; и еще о подобном понимании сказки: это обнаружение скрытых пластов бытия, для выражения чего служит символ с давних времен и по наши дни во всех без исключения видах искусства.
Вот почему у Пришвина его сказка – еще и быль. Значит, сама наша жизнь является огромным, полным разнообразного значения символом с кроющимися в ней глубинами «фантастических», смысловых богатств. В каком-то новом, современном смысле мы можем понимать творимую Пришвиным его правдивую сказку о жизни. Размышляя над статьей одного американского литературоведа о ближайшем будущем американской литературы, Пришвин выписывает в дневник его заключение: «…не документальная точность, а мифичность – вот что, весьма вероятно, даст нам литература ближайшего будущего». И добавляет: «А между тем я этим занимаюсь уже полстолетия, и никто не хочет этого понимать». Эту запись дневника от 4 августа 1948 года мы должны рассматривать как формулу всей жизни и творчества Пришвина. Развернуть ее предстоит будущим внимательным и бережным исследователям.
Легенда, сказка, притча и есть жизнь образа, а не отвлеченное рассуждение. И раз она останавливает беспокойный бег понятий, то тем самым она получает силу соединить всех людей и во все времена. В этом, по-видимому, секрет и сила народного творчества.
Вот почему Пришвин отрицает всякую односторонность, будь она у человека науки или искусства, философа или моралиста. Такой человек, по словам Пришвина, «о действительность спотыкается».
Писатель вначале шел по жизни двумя путями – и науки, и искусства. Наконец он нашел общую дорогу – в жизнь, где все пути сливаются. Мы уже знаем, как он назвал этот выход, этот плод всего пережитого – «искусство как образ поведения». Пришвин пишет: «Если я по природе своей ученый, поэт или философ, а занимаюсь чем-нибудь практическим, просто для своего существования, то куда же девается моя наука, поэзия, философия? Думаю, что они входят в состав того простого, что я делаю и чем каждому из нас жизнь дорога. В этом смысле мы все поэты и философы и все сходимся в этом чем-то. Так вот, бывало, один обращается к другому с такими словами:
„Друг, скажи по правде“.
И друг отвечает:
„По правде говорю тебе“.
И вот эта правда понимания друг друга и есть наука простого человека, его философия и его поэзия».
Теперь уже можно сказать определенно и ответственно: Пришвин был благоговейным учеником и последователем представителей русской классической литературы в ее поисках нравственного значения искусства как всенародной правды.
Лирический герой всех произведений Пришвина любит жизнь и в ней все, требующее его участия. Радость жизни не изменяет ему при самых тяжких обстоятельствах, и вот почему он возбуждает к себе любовь столь разных людей.
Здесь, вероятно, источник силы и одухотворенности языка и поэтического слова Пришвина.
Пришвин нечто нашел и осуществил. Нас убеждает в этом его слово как функция, как свечение его жизни. Какими мерками судить художника, подвижнически ищущего путей истины и создающего, по слову Пришвина, ту «субстанцию мира», без которой не может быть движения жизни, не может существовать новый человек?
Рассказ о жизни М. М. Пришвина подходит к концу. Поздней осенью 1953 года мы переехали из Дунина в Москву. Тяжело больной Михаил Михайлович сам вел машину, – он не подозревал о приближающемся конце и боролся с непонятной физической слабостью. В Москве – больница. Потом – возвращение домой.
Декабрь. Раннее утро. Михаил Михайлович, как всегда, уже на ногах. Он подходит в кабинете к окну, записывает:
«День серый от неба и до земли пришел и стал.
– Не спеши, Михаил! – сказал я себе. А самому дню:
– Погоди! – приказал я. – Не трогайся, пока я не отпишусь, теперь утро, ты еще в моих руках!»
В ночь с 15 на 16 января 1954 года он скончался. Последняя запись в его дневнике: «15 января. Пятница. Деньки, вчера и сегодня (на солнце – 15) играют чудесно, те самые деньки хорошие, когда вдруг опомнишься и почувствуешь себя здоровым».
III
В чем же современность и новизна Пришвина-художника?
Не о конце – о начале творческого пути Пришвина будем мы сейчас говорить – о его центральной идее: «искусство как образ поведения». Круг сомкнулся, мы нашли свою точку опоры: отсюда и открывается смысл его творчества. Остается лишь спросить: куда же ведет оно нас?
«Дело человека – высказать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и сам мир». Это и есть избранное Пришвиным направление в его словесном творчестве.
Природа Пришвина – это прекрасный мир, о котором тоскует каждый человек, тоскует явственно или слепо. Приглядимся же к поэтическому миру – это тот мир, который открывает нам по мере сил своих каждый художник.
Первое, что мы замечаем: вещи и существа стремятся в восприятии художника обрести прекрасную форму, но это не пустая, не отвлеченная мечта: скрытое соответствие существ, как некая возможность гармонии, устанавливается Пришвиным в нашем бедственном мире природы, хотя этот мир и страдает смертельно в жестокой борьбе и противоречиях. Эти скрытые возможности, как художественные открытия, иногда вдруг проглядывают в отдельных деталях.
Вот перед ним хотя бы цветок: своей круглой сердцевиной и венчиком он напоминает солнце. Или рыба – своей формой, плавной, находящейся в непрерывном движении, она повторяет волну. Колос соотносителен лучу, в тонком стебле, устремленном вверх, сама земля как бы открывает свою способность, свое стремление становиться лучом. В каждом стебле и листе тонкая линейная грань – нечто от природы драгоценного камня или кристалла.
Тема кристаллографии у Пришвина имеет множество аспектов. Это и образ изначально сотворенного мира как кристалла, который, падая, образовал бесчисленные формы круглых миров. Это и мысль о том, что всякая творческая сила есть сила кристаллизации, то есть восстановление изначальных и вечных форм кристалла. И наконец, мысль о кристалле переносится в область духовную – в область борьбы за Прямую, как моральную борьбу за некий идеал, противопоставляемый Кривде.
Такие художественные открытия можно делать без конца, и все они находятся, несомненно, на грани сказочного, в сущности, детского восприятия мира, – так видит мир ребенок. Но тем не менее они реальны, потому что доступны всем, и они украшают нашу жизнь, хотя мы и не задумываемся об этом.
Так видит художник мир, в котором возможна согласованность форм, наблюдаемых им в отдельных случайных явлениях. Этот мир хорошо известен ребенку, и Пришвин не устает повторять о детском восприятии мира и о художественном творчестве как об игре ребенка.
Так настроенный и осуществляемый в искусстве мир мыслится нами сейчас скорее всего только как прекрасный вымысел – сказка. Но без сказки, как мы знаем, человек ни жить, ни работать не может: нет движения без сказки, и без сказки не может быть правды. Так думает Пришвин. И еще резче: «Правда без выдумки – как самолет без горючего».
В творческом воображении художника происходит борьба: в конечные обыденные формы художник вкладывает бесконечное поэтическое содержание.
Тут остановимся и мы и начнем вместе с Пришвиным обратное движение, чтобы представить себе ясно, что такое природа у художника – Пришвина.
Космос – этот символ бесконечности – переносится Пришвиным внутрь земной знакомой нам природы, и это уже не расплывчатый бег уносящейся мечты, а четкая материальная прочнейшая форма земного бытия.
Так понимаем мы поэтическую философию, и таково поэтическое понимание мира природы и человека в нем у Пришвина.
Пришвин пишет: «Вот это и есть самое главное – быть уверенным, что мир этот существует и если сделаешь усилие, то можно и самому попасть в него и потом открыть его всем.
Сколько ни думай, не скажешь, откуда берется эта уверенность в существовании чудесного мира, уверенность, равная знанию, требующая от каждого оставить свой дом и найти лучший, и как-то не для себя одного, а для всех».
Как это происходит в сознании, в опыте Пришвина? Вот простейшая запись его дневника, его повседневного быта: «Чтобы лес стал как книга, нужно сначала не по верхушкам глядеть, а нагнуть голову и вникнуть в мелочи. Это не очень легко, потому что хочется смотреть на вершины. Много нужно в себе пережить, чтобы захотелось с любовью и радостью глядеть себе под ноги. Надо, чтобы стало тесно в себе, и очень больно от этого, и почувствовать малость свою, и возненавидеть претензии вместе с птицами летать по вершинам.
Тогда в глубокой уничтожающей тоске опускаешь глаза и встречаешь маленькое чудо какое-нибудь: вот хотя бы этот папоротник с такими сложными листьями, такой нежной зеленью <…>. После долгого удивленного разглядывания внизу попала пушинка в глаз, захотелось вверх посмотреть, и вот тогда открылись вершины во всех своих подробностях, во всей своей красоте. Так нашелся выход из себя».
Этот выход нашелся в человеке, как мы только что увидали, через связь его с родным и земным, через любовное и смиренное к нему отношение: надо было «возненавидеть претензии… летать по вершинам..». И тогда открываются ему все богатства жизни – и под ногами, и на вершинах.
Так, в конечную форму художник вложил бесконечное содержание: море, озера, очарование бездны – все это оформлено у Пришвина и стало структурно-прозрачным, остановленный! в беге. Все стало у художника устойчивой действительностью.
Снова скажем: его мир – мир поэзии, сказки. Пришвин пишет сказки и в конце жизни отдает себе в этом трезвый отчет. Но сказки эти – быль, творимая из поколения в поколение, это жизнь, в которой не может осуществляться никакой правды без сказки. Правда и есть осуществление «лучшего, чем данное», в чем, по слову Пришвина, и заключается смысл всякого искусства.
У читателя может возникнуть тревога, что напряженность внутренней жизни уводила Пришвина в особое мысленное уединение и природа заменяла ему декадентскую «башню из слоновой кости». Но откроем любую его страницу – и такое опасение сразу рассеется. От первых его строк и до последних, написанных перед концом, – во всем видна прямая и тесная связь с общей жизнью, тревога за все, что творится на земле. «Спасителем человека от Кащеевой цепи будет тот, – пишет Пришвин в 1925 году, – кто научит каждого работника видеть в своем труде творчество жизни, чтобы часть узнала себя частью целого – коллектива. Есть ли это дело художника? – спрашивает Пришвин. – Нет, – отвечает он себе, – это уже дело человека».
В конце своей жизни писатель всецело обращает внимание на судьбы этого человека. Вопросы истории, войны и мира, спасения и преобразования природы – все эти вопросы нашей современности являются темой размышлений Пришвина и присутствуют особенно ощутимо в произведениях последних лет.
За ним стоял долгий опыт жизни: сколько подвигов, сколько преступлений, сколько судеб, за которые мы все сообща несем ответ, пережилось и оставалось в памяти. И на старости лет Пришвин сохраняет в душе те же черты юноши, принявшего некогда марксизм, чтобы поторопить пришествие благодетельной мировой катастрофы, которая, по вере его, преобразит жестокую и несправедливую жизнь.
Но уже в молодости, на своем тридцатилетнем переломе, он знал: он должен искать и найти, чем он сам может быть полезен общему делу данным ему природой дарованием, – это дарование настойчиво стучалось в душе и требовало воплощения.
По окончании войны Пришвин делает на рукописи своей, как ему казалось законченной, «Повести нашего времени» приписку, меняющую в корне смысл конца повести: теперь он обращается к герою своему с призывом снять с себя эту тяжесть свою: «все понять, не забыть и не простить».
«Так это эгоизм?» – спрашивает однажды, не понимая Пришвина, его собеседник. «Нет, – отвечает Пришвин, – это милосердие».
Нравственная мировая трагедия разрешается теперь Пришвиным по-новому, и это толкование должно было лечь в основу переработки «Осударевой дороги». С таким недоговором и вместе с тем с приоткрывшимся для него новым пониманием темы возмездия Пришвин уходит из жизни, не успев написать задуманную работу. Мы можем лишь бережно принять этот новый приоткрывшийся смысл и нести его дальше.
Как в народной сказке злоключения героя непременно должны закончиться победой, пиром, так и у Пришвина мы находим этот образ победы даже в самом начале его творчества, например, в дневнике 1915 года: «Я верю, мое единственное неведомое богатство будет некогда радостью всех». Он рисует легендарный образ мирового обеда – всеобщего братства, когда «не дерутся, не считаются с местами, едят да похваливают».
Мировой обед всех народов – всех культур. Чаша жизни. Космос как круглое образование. Человек как двуединая чаша. Круг как символ самозавершенности. Среди этих образов и бьется мысль художника.
Сквозь все записи пришвинского дневника и в молодости, и в старости просвечивает вера в великую миссию Родины и в особенный нравственный склад русского человека: «…в России нет средних людей». Так говорил ему в начале века петербургский чиновник и называл это качество нашей бедой. Но сам Пришвин понимает иначе: он заглядывает через край этой тайны русской души – тайны, по мысли Пришвина, ее невоплощенной гениальности.
Еще раз вспомним запись из позднего дневника: «И, может быть, всякое искусство является только ступенькой по лестнице: за верхней ступенькой искусство вовсе не нужно».
Всем это близко и понятно: мы ценим дело жизни взамен ее теоретизации. Мы ценим поступок взамен назидания – вот что оказывается понятным всякому человеку, стоящему на любой ступени сознания, вот где «его философия и его поэзия». Значит, решимость действовать есть для каждого человека в каком-то смысле конец его философии – но этот конец есть богатейший плод его предыдущих мысленных усилий. Это и есть пришвинская тема: «искусство как образ поведения».
Повторим: это понятно и убедительно для всех, и это значит, что Михаил Михайлович Пришвин не только поэт и певец природы; соединяя нас всех простой сердечной мыслью, он еще и подлинный народный русский писатель.
Если разнообразную жизнь нашу в ее материальной структурности рассматривать как переливы света в гранях кристалла, то само дело жизни – это чаша, и ее надо всем нам вместе испить: все мы связаны и каждый ответствен перед каждым. Чаша – это образ единства, связи и взаимной ответственности всех людей и всех народов на земле.
В разгар мировой войны, в 1943 году, Пришвин пишет: «Теперь я знаю, если бы все народы чувствовали свой стыд перед другими, стыд, вытекающий из глубокого чувства родства и ответственности за общее дело, то не было бы и этой страшной массовой смерти.
И я знаю, что моя правда русского бессмертна и что рано ли, поздно ли этот свет <…> преодолеет и победит сокровенные источники зла».
В. Пришвина
В краю непуганых птиц*
На угоре
(Вместо предисловия)
Мох и мох, кочки, озерки, лужицы. В сапогах вода, свистят, как старые насосы, сил нет вытаскивать их из вязкого болота.
– Подожди, Мануйло, устал, не могу. Далеко ли до леса?
– Теперь недалеко, вон лес, смотри через сухую сосну. Видишь? Да вон там черная сосна, громом разбило Там и лес.
Торчит деревце, небольшое, ниже Мануйлы, и на всей моховине деревья ниже Мануйлы, он кажется огромным.
Остановились усталые. Лайка, тоже заморенная, так и пала на месте, тяжело дышит, высунула язык.
– И так всю жизнь, – говорит Мануйло, – всю жизнь по мхам да лесам. Идешь, идешь, да и свалишься в сырость и спишь. Собака, бедная, подбежит, завоет, думает – помер. А отлежишься и опять зашагаешь. С моховинки в лес, из леса на моховинку, с угора в низину, с низинки на угор. Так вот и живем. Ну, пойдем. Солнце садится…
И опять свистит сапог-насос. Навстречу нам лес посылает мелкие елочки, потом покрупнее, потом высокие сосны обступают со всех сторон. В лесу темнеет, хоть и коротка северная летняя ночь, а все же надо заснуть. Холодно, сыро. Мы раскачиваем сухое дерево, оно валится с треском, другое, третье. Тащим их на угор, укладываем рядом. На середине деревьев зажигаем сухие сучья. Костер разгорается. Черные стволы сосен становятся вокруг нас, чуть перешептываются вершинами, по-своему рады гостям. Мануйло снимает шкурки с убитых белок, кормит их мясом собаку, что-то бормочет ей.
– Да купи ты себе собачку, – говорит он мне, – без собаки нельзя.
– На что мне она, я живу в городе.
– А веселее с собачкой, хлебца ей дашь, поговоришь…
И гладит свою собаку широкой, грубой ладонью, пригибая упругие, острые, чуткие ушки.
– Ну, спи. Спокойно спи. Звирь подойдет, собака услышит, проснемся. Ружье поближе к себе положи. Змей тут нету, место сухое, спи спокойно. Проснешься – увидишь, что середка прогорела, сдвинь дерева и ложись. Спи спокойно, место сухое.
Снится страна непуганых птиц. Полунощное солнце – красное, устало, не блестит, но светит, белые птицы рядами уселись на черных скалах и смотрятся в воду. Все замерло в хрустальной прозрачности, только далеко сверкает серебристое крыло… И вдруг сыплются страшные красные искры, пламя, треск…
– Зверь! Мануйло, вставай, медведь, зверь! Скорее, скорее!
– Звирь? Где звирь?
– Трещит…
– Это дерево треснуло в костре. Надо сдвинуть. Да спи же спокойно, звирь нас не тронет. Господь его покорил человеку. Что тебе не спится, место сухое.
И насторожился… Что-то завозилось наверху, на ближайшей сосне, у костра.
– Птица шевелится. Верно, рябок подлетел. Ишь ты, не боится!..
Посмотрел на меня, сказал значительно, почти таинственно:
– В наших лесах много такой птицы, что и вовсе человека не знает.
– Непуганая птица?
– Нетращенная, много такой птицы, есть такая…
Мы опять засыпаем. Опять снится страна непуганых птиц. Но кто-то, кажется, городской, хорошо одетый, маленький, спорит с Мануйлой.
– Нет такой птицы.
– Есть, есть, – спокойно твердит Мануйло.
– Да нет же, нет, – беспокоится маленький, – это только в сказках, может быть, и было, только давно. Да и не было вовсе, выдумки, сказки…
– Ну вот, поди ты говори с ним, – жалуется мне огромный Мануйло. – У нас этой птицы нет счету, видимо-невидимо, а он толкует, что нету. Обязательно есть такая птица. В нашем-то лесу да и не быть!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Ну, вставай, вставай, солнце взошло. Ишь угрелся. Вставай! Пока солнце росу не угнало, птица крепко сидит, смирёная…
Я встал. Мы затоптали костер, вскинули ружья и спустились с угора в низину, в лесную чащу, в топь.
Вступление. От Петербурга до Повенца
Прежде чем начать рассказывать о своем путешествии в «край непуганых птиц», мне хочется объяснить, почему мне вздумалось из центра умственной жизни нашей родины отправиться в такие дебри, где люди занимаются охотой, рыбной ловлей, верят в колдунов, в лесовую и водяную нечистую силу, сообщаются пешком по едва заметным тропинкам, освещаются лучиной, – словом, живут почти что первобытной жизнью. Чтобы сделать себя понятным, я начну издалека: я передам одно мое впечатление из Берлина.
Как известно, этот город окружен железной дорогой, по которой живущим в германской столице приходится постоянно ездить и наблюдать из окна уличную жизнь. Помню, меня очень удивили рассеянные всюду между домами и фабриками маленькие домики-беседки. Возле этих домиков на земле, площадью иногда не более пола средней комнаты и окруженной живою изгородью, с лопатами в руках ковырялись люди. Странно было видеть этих земледельцев между высокими каменными стенами домов, среди дыма фабричных труб почти в центре Берлина. Меня заинтересовало, что бы это значило. Помню, один господин тут же в вагоне, снисходительно улыбаясь этим земледельцам, как улыбаются взрослые, глядя на детей, рассказал о них следующее. В столице между домами всегда остаются еще не застроенные, не закованные в асфальт и камень кусочки земли. Почти у каждого берлинского рабочего есть неудержимое стремление арендовать эти кусочки, с тем чтобы потом по воскресеньям, устроив предварительно беседку, возделывать на них картофель. Делается это, конечно, не из выгоды: много ли можно собрать овощей с таких смешных огородов. Это дачи рабочих – «Arbeiterkolonien». Осенью, при поспевании картофеля, рабочие на своих огородах устраивают пир «Kartoffelfest», который оканчивается неизменным в таких случаях «Fackelzug».
Так вот как отводят себе душу эти берлинские дачники. От смысла дачи – средства восстановления сил, отнятых городом, посредством общения с природой, – в этом случае остается почти лишь мечта. Немного лучше и с нашими дачниками из мелкого служащего люда, ютящегося летом на окраинах городов. Теперь читатели меня поймут, почему, имея в своем распоряжении два свободных месяца, я вздумал отвести свою душу так, чтобы уже не оставалось тени сомнений в окружающей меня природе, чтобы сами люди, эти опаснейшие враги природы, ничего не имели общего с городом, почти не знали о нем и не отличались от природы.
Где же найти такой край непуганых птиц? Конечно, на Севере, в Архангельской или Олонецкой губерниях, ближайших от Петербурга местах, не тронутых цивилизацией. Вместо того чтобы употребить свое время на «путешествие» в полном смысле этого слова, то есть передвижение себя по этим обширным пространствам, мне казалось выгоднее поселиться где-нибудь в их характерном уголку и, изучив этот уголок, составить себе более верное суждение о всем крае, чем при настоящем путешествии.
По опыту я знал, что в нашем отечестве теперь уже нет такого края непуганых птиц, где бы не было урядника. Вот почему я запасся от Академии наук и губернатора открытым листом: я ехал для собирания этнографического материала. Записывая сказки, былины, песни и причитания, мне и в самом деле удалось сделать кое-что полезное и вместе с тем за этим прекрасным и глубоко интересным занятием отдохнуть духовно на долгое время. Все, что мне казалось интересным, я фотографировал. Обладая теперь этим материалом, я, по возвращении в Петербург, решился попытаться дать в ряде небольших очерков если не картинку этого края, то дополненное красками его фотографическое изображение.
* * *
Занятые петербуржцы мало интересуются теми местами столицы, которые тесно связаны с памятью преобразователя России. Сколько тысяч людей ежедневно проходят мимо памятников величайшего исторического значения, проходят всю жизнь куда-нибудь на службу, фабрику и т. д., совершенно их не замечая. Да и неловко даже и присматриваться к памятникам, когда все кругом спешит по делу. Для этого нужно быть иностранцем или провинциалом.
Но вот вы выехали за город. Сначала скрылись дома и остался только лес фабричных труб. Потом исчезли и трубы, и дома, и дачи; позади остается только серое пятно. И тут-то начинаются разговоры о делах Петра Великого. Указывают полузасохшее дерево на берегу Невы и говорят, что это «красные сосны». Петр Великий будто бы взбирался на одно из бывших здесь деревьев и смотрел на бой… А вот и Ладожское озеро и начало канала вокруг него. Кто-то сейчас же говорит: Петр Великий наказал этой канавой непокорное озеро… Тут же виднеется на островку белая крепость Шлиссельбург… Вот где, кажется, и вспомнить о делах Петра и вообще подумать над судьбой родины: крепость, построенная новгородцами и названная ими Орешек, перешла потом к шведам и стала называться Нотебург. В 1702 году, после знаменитого сражения, крепость достается снова русским и называется Шлиссельбург – ключ, которым, по словам Петра, были открыты двери в Европу.
Но все почему-то молчат, когда смотрят на белую крепость: и батюшка, и гимназисты, и барышня, и господин с фотографическим аппаратом.
– Э-х-х-х, господи!.. – бормочет батюшка.
Словно какие-то болезненные бледные призраки становятся на пути мысли к легким, приятным воспоминаниям о славных делах Петра…
И чем дальше, тем больше и больше указывают различных памятников пребывания Петра Великого в этих местах. Нет никакой возможности здесь передать все эти народные предания, указать на все памятники. Их так много, что не знаешь, с чего начать, как связать. Здесь нужен историк. Необходимо пополнить этот пробел в нашей литературе.
* * *
Солнце погрузилось в Ладожское озеро, но от этого нисколько не стало темнее. Просто не верится, что оно закатилось, скорее подходит сказать: солнце «село». Словно там, за водной гладью горизонта, оно притаилось, прячется, как страусы прячут от охотника голову в песок. Светло по-прежнему, но мало-помалу все становится призрачным.
Призрачным становится этот оранжевый, освещенный притаившимся солнцем дым… Это не дым, это длинная широкая дорога уходит вдаль, в небо. Призрачным кажется след на воде от парохода, почему-то не исчезающий, но все расширяющийся и расширяющийся туда, дальше, к исчезнувшему берегу. Призрачны все эти молчаливые люди, глядящие на водную и небесную дорогу… Это не полковник, батюшка, барышня и гимназист, а таинственные глубокие существа.
Легкая зыбь – «колышень» – рябит воду. Пароходом она не ощущается, но маленькое озерное судно «сойма» слегка покачивается. Немножко колышется и «лайда» – финское судно с картинно натянутыми парусами. Вдали показывается белое пятно. Маяк это, церковь с того берега, который уходит в Ладогу, или парус какого-то большого судна? Пятно куда-то исчезает, но скоро показывается маяк, а на красном небе вырисовывается полногрудый силуэт большого озерного старинного судна: «галиота».
* * *
Я не помню, кто это из путешественников сказал: будьте осторожны, когда садитесь на русский пароход, осмотрите каюты, не каплет ли в них, не случалось ли чего с этим пароходом, например, не отваливалось ли дно и т. д. Все эти меры предосторожности я принял. Мы ехали на новом пароходе «Павел»; он совершал свой первый рейс от Петербурга в Петрозаводск – Повенец и был построен в Англии. Даже самое общество пароходовладельцев основалось на английский манер.
– Помилуйте, – говорил нам один из нескольких членов общества, маленький, кругленький петрозаводский купчик, – помилуйте, в Англии даже одно общество лакеев имеет свой собственный пароход, а мы, русские купцы, для своих товаров не можем завести собственных пароходов.
Я не знаю, бывали ли в России когда-нибудь такие общества. В нем объединялись мелкие и средние торговцы. Достаточно было внести пай, кажется, в двести рублей, чтобы сделаться членом этого общества, но с обязательством возить свои грузы лишь на собственных пароходах. Тут было немножко политики. Время было юное, бодрое, с розовыми надеждами… Раздавались неслыханные раньше голоса в Государственной думе.
– Вы знаете, – торопились новые борцы, – разве теперь время, чтобы сидеть сложа руки… А у нас по берегам Онего такие угодники сидят, что знать никого не хотят. Что ни место, то свой святой… А самолюбие! Такие самолюбивые, скажу вам, что газету из-за самолюбия читать не станут!
Все эти купчики, оживленные новыми перспективами, широкими горизонтами новых времен, сопровождая пароход при первом рейсе, разыгрывали из себя настоящих моряков. Один юркнет в машину и вернется с черным пятном на лбу и платком вытирает масляное пятно на одежде, другой мешает капитану. Но больше всего их собралось на корме у аппарата, отсчитывающего узлы.
– Да не может быть! Шестьдесят узлов! Тридцать верст в час!
Узлы, секунды, курс… так и сыплются морские термины у моряков с брюшками. У одного даже очутился в руках компас…
Все дело в том, чтобы догнать пароход «Свирь», принадлежащий старому обществу. Пароход «Павел» делал на столько-то узлов больше в час, чем «Свирь», и должен был перегнать его на Ладожском озере. Об этом говорили даже публике, когда выдавали билеты. Вот почему и считали узлы, и смотрели вдаль: не покажется ли дым.
И дым показался! Больше. Показалась труба. Узлы, секунды, курс – все было забыто. Еще полчаса, и на Ладожском озере европейцы-купцы готовы были торжествовать победу.
Вдруг в машине что-то заскрипело, затрещало, оттуда на палубу повалил дым. И все засуетились: и публика, и настоящие матросы, и матросы с брюшками. Кто-то направлял наконечник пожарной трубы в машину.
Через час все благополучно кончилось. Пароход снова пошел. Но с мыслью догнать «Свирь» пришлось расстаться навсегда.
– Ничего, ничего, – грустно утешались хозяева, – машина новая, оботрется…
Теперь, когда я пишу, оба парохода этого общества, «Петр» и «Павел», грустно стоят на Неве без котлов, без колес. Оба потерпели аварии: один на Свирских порогах, другой на озере Онего. За все лето они совершили лишь по одному или по два рейса.
– И где им, – торжествовали «самолюбивые» купцы. – Собралась у них всякая мелкота. Да разве можно такие большие пароходы по нашим рекам и озерам пускать. Да и лоцмана были дрянные.
Не знаю, повысило ли теперь старое общество пассажирскую плату. Новое общество сбило было ее почти наполовину.
* * *
Едва справились с бедой, как стало покачивать, и, чем дальше, все сильней. Сначала поднялась с места задумчивая барышня и подошла к борту. Потом заболела девочка на руках у матери и сказала: «Мама, эта конка бя!» Наконец, полковник-старичок сходил к борту и, вернувшись, словно извинялся: «Тысячу раз клялся не ездить по этому проклятому озеру!» Ему было особенно неловко, потому что он только что рассказывал, как он ходил на медведей с рогатиной. Как бы там ни было, но все обрадовались, когда показалось наконец широкое устье Свири.
Река Свирь – прежде всего место для перевозки леса, муки. Она есть одно из тех устьев Мариинской водной системы, которая соединяет Петербург с Поволжьем. Я это говорю не для того, чтобы сделать очерк о промышленности, но только хочу отметить, что торговая жизнь здесь уж очень кладет свой отпечаток на все. Вот, например, большое торговое село с большими деревянными домами со множеством окон. Это, конечно, хорошо, но почему же возле этих удобных, светлых домов нет садика, деревца, огорода, вообще каких-нибудь признаков заботливости у своего жилища? Лучше всего это станет понятным, если прислушаться к разговору тверской няньки, едущей при господах, и олончанина из Шуньги. Нянька, как и я, недовольна видом этих домов.
– И зачем только едут господа? – говорила она, сильно окая. – Да где же у вас усадьбы, огороды, а где пашня, зачем изгороди косые?
Олончанин говорит тоже окая, но не так сильно, как мне показалось, сравнительно с уроженкой Тверской губернии. Он говорит, что косые изгороди прочнее, а ковыряться в огородах по здешним местам невыгодно, есть другие промыслы. По его словам, лоцмана зарабатывают рублей триста в лето, и тут уж не до капусты.
Но у няньки своя логика, «женская», и потому она прерывает рассудительную речь олончанина:
– А у нас-то везде огороды, усадьбы, поля как скатерти верст на пятнадцать стелются, изгороди прямые. Что это! – презрительно восклицает она, показывая на берег. – Кусты, ямочки, горочки, камни…
Берега в самом деле какие-то невеселые. Хороши они, вероятно, были раньше, когда на них были вековые леса. И теперь лес тут всюду, только и слышишь слово «лес», но с прилагательными: пиленый, строевой, жаровой, дровяной и т. д. Этот лес тащат буксирные пароходы, он загромождает пристани, о нем говорят, около него хлопочут торговые деловые люди. Вся эта жизнь вокруг леса, баржей и т. д. кажется как-то не своей собственной: все это тяготеет к Петербургу. И люди тут немножко американского типа. Вот, например, молодой человек в модном петербургском пальто, вообще вполне культурный человек. Он охотно, как это часто бывает у русских в дороге, рассказывает свою биографию. Родился на берегу Свири. Сын крестьянина-землепашца.
Мальчиком раз был сильно болен. Родители, чтобы спасти его жизнь, затеплили свечку перед иконой, упали на колени и молились: «Поправь, святой угодник!» В свою очередь, они тут же обещались угоднику отдать сына на год в Соловецкий монастырь. Угодник помог, и потому, когда мальчик стал восемнадцатилетним юношей, его отправили «годовиком по обещанию» в Соловецкий монастырь. Он пошел с большим религиозным подъемом духа. Но там остыл совершенно. Жизнь в монастыре оказалась почти такой же, как в миру, и даже хуже. «Был всякий грех, табак доходил до пятидесяти копеек за коробочку». Вернувшись домой, ему захотелось «жить». Но какая же это жизнь земледельца на Свири: рубить деревья, косым крюком удалять камни, «орать» первобытной сохой и сеять рожь, жито, репу, не рассчитывая даже прокормить себя этим год. Юноша пошел в Петербург искать счастья. Брался за все, но кончил портным и теперь возвращался щеголем в родную деревню, чтобы обшивать всех по-питерски.
Мне не хочется описывать здесь Подпорожье, Мятусово, Важины – все эти большие торговые села. Не хочется даже писать о Свирских порогах, потому что они опять-таки имеют отношение только к баржам. На вид же они незначительны и отличаются от всей остальной реки по беспокойству воды, по «вьюнам» и т. п. У Вознесенья, последнего села на Свири, начинается по виду совершенно такой же канал, или канава, вокруг Онежского озера, как и около Ладожского.
* * *
Редко бывает совершенно спокойно бурное Онежское озеро. Но случилось так, что, когда мы ехали, не было ни малейшей зыби. Оно было необыкновенно красиво. Большие пышные облака гляделись в спокойную чистую воду или ложились фиолетовыми тенями на волнистые темно-зеленые берега. Острова словно поднимались над водой и висели в воздухе, как это кажется здесь в очень тихую теплую погоду.
Онежское озеро называется местными жителями просто и красиво «Онего», точно так же, как и Ладожское в старину называлось «Нево». Жаль, что эти прекрасные народные названия стираются казенными. Один молодой историк, здешний уроженец, большой патриот, с которым мне удалось познакомиться в Петрозаводске, очень возмущался этим. Он мне говорил, что администрация таким образом уничтожила массу прекрасных народных названий. И это не пустяки. В особенности это ясно, если познакомиться с местной народной поэзией, с причитаниями, песнями, верованиями. Там, в народной поэзии, постоянно поминается это «страшное Онего страховатое» и иногда даже «Онегушко»… Кто немного ознакомился с народной поэзией, все еще сохраняющейся на берегах этого «славного великого Онего», тому назвать его Онежским озером, ну… назвать, например, пушкинскую Татьяну, как это нехорошо делал Писарев, по отчеству… Онего в народном сознании является уже не озером, а морем. Так его иногда и называют. Онего огромно, как море, страшно в своих скалистых берегах. Скалы его берегов то голые с причудливыми формами, то украшенные зубчатой каймой хвойных лесов. На этих берегах до сих пор живут еще певцы былин, вопленицы, там шумят грандиозные водопады: Кивач, Порпор, Гирвас. Вообще Онего полно поэзии, и только случайно оно не было воспето каким-нибудь поэтом. «Жаль, что Пушкин не побывал на нем», – сказал мне один патриот.
Недостаток художественного описания Онего я почувствовал особенно отчетливо потом, когда ознакомился с «Губернскими ведомостями», «Олонецким сборником» и «Памятной книжкой Олонецкой губернии». Сколько там рассеяно описаний различных местных литераторов, любящих Онего, но как-то с чересчур переполненной душой. Помню, один при описании Кивача, помянув, как водится, державинское «алмазна сыплется гора», восклицает вдохновенно: «И не знаешь, чему дивиться, – божественной ли красоте водопада или не менее божественным словам бывшего олонецкого губернатора, из которых каждое есть алмаз».
Таково Онего. Совсем другое Онежское озеро. Это просто северный «водоем», раскинувшийся на карте в виде громадного речного рака, с большой правой клешней и с маленькой левой. Водоем этот значительно меньше Ладожского озера (Ладожское – 16 922 квадратных версты, Онежское – 8569) и переливается в него рекой Свирью. На севере между клешнями рака заключен громадный, весь изрезанный заливами полуостров Заонежье. На левом его берегу, если смотреть на рака от хвоста к голове, расположился губернский город Олонецкой губернии Петрозаводск, недалеко от правого – Пудож, Вытегра, в самом северном уголку правой клешни – Повенец, где и «всему миру конец» и куда лежал мой путь.
* * *
Густая толпа народа, которая встречает каждый пароход, представляет из себя живой этнографический музей и уносит воображение в отдаленные времена колонизации этого края. Правда, тут в толпе непременно есть представители современности: урядник, ученики Петрозаводской духовной семинарии, иногда студент, сельская учительница. Но они теряются. Большинство собравшихся, конечно, из ближайших деревень; им просто любопытно посмотреть на проезжающих. И, вероятно, для них это любопытнее, чем для нас лекция, театр, путешествие. Это сказывается и на внешности молодежи. Неуклюжая кофточка, ленточка являются сначала результатом простого созерцания дам на пароходе, а потом, глядишь, появилась портниха и мало-помалу одела всех по-питерски. Но среди модной современности виднеются и приехавшие из глуши совсем серые люди. И что это за экипажи, на которых они приехали! Прежде всего удивляют при летней обстановке сани, обыкновенные дровни. Очевидно, хозяин их приехал из какого-нибудь такого глухого местечка, где совершенно невозможны никакие колесные экипажи. Впрочем, тут же стоят и колесные экипажи, но что это за колеса! Это просто толстые большие отрезки дерева, иногда даже не совсем правильно скругленные… Колес с шинами и спицами совершенно нет: такие колеса скоро бы разбились о каменистую дорогу и потому оказались бы дорогими. Вся масса людей носит серый тон: преобладает какой-то мелкий корявый тип с светлыми глазами, очевидно потомки чуди белоглазой; но между ними попадаются такие молодцы, что вот одеть – и был бы настоящий Садко, богатый гость.
Эти два типа так различны, так бросаются в глаза своим контрастом, что на минуту забывается толпа, и с каменистого берега смотрят на пароход очи истории.
В этих местах существует много курганов и других самых разнообразных памятников когда-то упорной кровопролитной войны новгородских славян и финских племен, «белоглазой чуди», закончившейся в XI веке победой новгородцев. Дальше все шло обычным порядком: знатные новгородские люди здесь приобретали земли, леса, реки и озера и посылали сюда удалых добрых молодцев для управления своими угодьями и промыслами. Все эти земли, занимающие огромную площадь между Ладожским озером, рекой Онегой и Белым морем, составили Обонежскую пятину Великого Новгорода… Вся эта дикая лесная Обонежская страна в то время была бесконечно богата пушными товарами.
Тогда коренные жители были настоящими дикарями, жили в подземных норах и пещерах, питались рыбой и птицей и верили, согласно свидетельству историков, так: «Кто им когда чрево насытит, тогда и бога сопостовляще, а еще иногда каменем зверя убиет – камень почитали, а еще палицею поразят ловимое – палицу боготворят». Христианство начал здесь распространять князь Святополк еще в 1227 году, вместе с тем и новгородские промышленники во время поездок. Но особенно много потрудились здесь те бескорыстные пустынники, которых с величайшим благоговением, как святых, чтило все Обонежье. Это Корнилий Палеостровский, Александр Свирский, Герман, Зосима и Савватий Соловецкие и многие другие.
* * *
Я упоминаю здесь именно этих святых, потому что основанные ими монастыри (Александро-Свирский, Палеостровский, на острове того же названия, и Соловецкий) привлекают к себе до сих пор огромные массы богомольцев. И все, что нам известно об этих первых христианах, говорит о них как о людях удивительно чистых и хороших, сделавших массу добра для края. Жизнь их вдохновляла потом и следующих за ними колонизаторов края – раскольников. Многие из этих людей приближались вполне к жизни первых христиан. Да и до сих пор в глухих местах Архангельской губернии есть старцы, идеалом жизни которых служат жития этих святых.
Так мало-помалу, частью силой, частью подвигами этих старцев, финские племена приняли крещение и сжились с славянскими. Во время шведских походов карелы переходили то на шведскую, то на русскую сторону. А теперь финские племена, особенно карелы, так сжились с русскими, что отличить их можно только по отдельным ярким представителям.
На Онежском озере есть несколько старинных монастырей. Тут лежит путь богомольцев в Соловецкий монастырь. На берегах его до сих пор совершается борьба официального православия с его сгущенной формой – расколом. Наконец, здесь между религиозно настроенной толпой и монастырем можно постоянно видеть посредников. Все это кладет какой-то своеобразный паломнический отпечаток на плавание по Онежскому озеру. Тени святых обонежских пустынножителей словно живут и блуждают по этому озеру. Блуждают, потому что дело их сделано, язычников финнов нет уже в каменных пещерах. Другие язычники появились теперь на Онежском озере, несравненно более упорные и сильные, чем те, вооруженные палицами и пращами, финские племена. Старцам их следовало бы оставить совершенно, как это сделали старцы в других местах: труд бесполезный! Но по странному упорству они продолжают беспокоить всех проезжающих, даже самых закоренелых язычников.
Почему, например, капитан, который на Ладожском озере все время ел семгу, икру и кровавые бифштексы, теперь ведет в рубке религиозно-философский спор с почтенным господином? Он доказывает, глядя с верхней палубы на богомольцев, что все это пустяки и глупость, и отказывается понимать, как человек с высшим образованием может серьезно интересоваться такой чепухой. Почему так пришлось, что полковник именно на Онежском озере рассказывает, будто раз его собаки в лесу загнали на высокую сосну монаха и что при этом у монаха из кармана выскочили две бутылки водки? Почему господин с фотографическим аппаратом снимает теперь кривого монаха, который, опираясь о борт, улыбаясь и играя по-своему единственным глазом, что-то шепчет богомолке? Почему, наконец, и я, совершенно не имея этого в виду, попал в глухой Климентский монастырь, куда и пароход-то ходит всего один раз в год, да и то с благотворительной целью? Случилось это так. Раз в год те самые «самолюбивые» пароходовладельцы, о которых мне пришлось уже говорить, как люди русские и благочестивые, уступают на один день губернатору пароход в бесплатное пользование для организуемой им поездки в монастырь на Климентский остров. Этот остров, самый большой на Онежском озере, находится у конца полуострова Заонежья. На этом каменистом и бесплодном месте был основан монастырь еще в 1490 году Ионой Климентским, сыном богатого новгородского посадника. Случилось, что буря разбила все его суда около каменистого острова, сам он едва спасся от смерти. После этого Иона Климентский (в миру Иван Клементьев) порвал связь с миром, стал жить на этом острове и основал монастырь. В настоящее время этот монастырь, оставаясь в стороне от пароходного сообщения, пришел в упадок. Чтобы хоть сколько-нибудь помочь монахам, и организовывались эти ежегодные поездки.
От Петрозаводска туда всего несколько часов езды. Мы выехали из Петрозаводской губы, миновав замыкающий ее Шуй-наволок и необитаемые Ивановские острова, пересекли почти половину «Большого Онега», то есть его широкой, лишенной островов части, и были у Климентского острова. Монахи в светлых ризах, с крестами и иконами, окруженные пришедшей с другой части острова толпой народа, встречали нас у самого берега. Потом, версту или две, мы шли по лесу, по каменистой лесной тропе, ежеминутно спотыкаясь. Несложная, угрюмая картина открылась нам, когда мы вышли из леса. Покосившийся крест в воде на том месте, где разбились суда, масса камней, каменная церковь, деревянная, две-три постройки и на фоне хвойный лес. Церкви по виду самые обыкновенные: деревянная выстроена недавно, каменная сохранилась с основания монастыря. Внутри каменной церкви стенная живопись изображает между прочим чертей в аду; сам Иона, сложив руки, молится под водой… После службы нам показывали в лесу жалкие поля, скот…
Что же делали здесь все эти люди столько столетий? Молились, трудились? Но где хоть малейшие следы этой вековой работы и молитвы? И эти вялые ответы, неодушевленные лица… Вся церемония походила на именины в провинции, когда хозяевам в этот год не удалось куда-нибудь уехать и пришлось их праздновать. Наконец нас повели в трапезную закусить; здесь мы ели «рыбники», то есть пироги с рыбой, любимое кушанье олончан, и кое-как поддерживали разговор. Нужно знать, что в это время в Петрозаводске носился уже слушок, что в монастыре что-то неладно, что его пора бы закрыть и преобразовать в женский, как это делается всегда, когда хотят спасти разоряющийся мужской монастырь… Женщины всегда оказываются в этих случаях настойчивее и упорнее мужчин.
Один батюшка, приехавший вместе с нами из Петрозаводска, время от времени за трапезой делал ехидные замечания и развлекал нас. Когда, например, настоятель нам сообщил, что у них тридцать шесть коров и двадцать монахов, то батюшка заметил вскользь:
– На шестнадцать больше…
– Чего? – тревожно спросил настоятель.
– А коров, отец настоятель, – сказал батюшка, сильно выделяя «о», – коров, говорю, на шестнадцать больше.
Настоятель закусил губу и только сердито поглядел на врага. Но батюшка не унимался.
– Говорят, вы коровушек-то продаете, почем?
Это уже был явный, грубый намек на ликвидацию монастыря. Настоятель сейчас же оборвал:
– Если вам угодно ознакомиться с нашими делами, то я с удовольствием…
Батюшка даже выронил рыбник из рук от огорчения и тысячу раз извинился. Но когда недоразумение было устранено, он поинтересовался судьбой монастырских актов. Настоятелю решительно не везло. Только что он обстоятельно изложил, как сгорели акты при пожаре, кто-то из публики сказал:
– Акты, отец настоятель, целы, они у Ивана Ивановича в Петрозаводске, целы и невредимы.
В это время богомольцы, успокоив свою грешную душу молитвой и, конечно, ничего не подозревая о таких тонких политических разговорах у отца настоятеля, сидели кучкой на камнях возле парохода у красивой бухточки с часовенкой и дожидались отхода парохода. Скоро и мы присоединились к ним и уехали в Петрозаводск.
На возвратном пути, через два месяца, мне сказали, что Климентский монастырь уже преобразовался в женский… Некоторые говорили, что будто бы монахи были ничего себе, а это дело рук хитрого игумена другого монастыря, которому хотелось сделаться вместе с тем и настоятелем женского Климентского монастыря. Другие же, напротив, утверждали, что игумен тут ни при чем, а виноваты сами монахи. Но я не буду разбирать этот сложный вопрос и беспокоить тени преподобных Корнилия, Зосимы и других святых старцев…
* * *
В Обонежском краю по пути мне удалось ознакомиться с двумя городами – Петрозаводском и Повенцом. Как их характеризовать? Отметить памятники старины, торговлю, промышленность? Все это есть в них понемножку, но не характерно. Помню, когда я гулял в Петрозаводске в ожидании парохода, мне почему-то казалось, что чистенький городок не живет, а тихо дремлет. Я не хочу этим словом обидеть городок; он дремлет не так, как наши провинциальные города центра, а как-то по-своему. В нем всегда тихо, и было бы нехорошо, если бы на берегу такого красивого озера, между холмами, что-нибудь сгущенное, человеческое шумело и коптело. Городок дремлет в тишине, и только время от времени что-то тяжело звякнет, стукнет или загудит снизу из котловинки в средине города. И вот этот-то звук чего-то упавшего железного в котловинке, очевидно на Александровском пушечно-снарядном заводе, и объясняет теперь при воспоминании весь смысл городка. И в самом деле, вся история этого городка сложилась как-то возле неудачных попыток устроить здесь завод. Почин в этом деле принадлежал Петру Великому; раньше жил здесь лишь одинокий, выселившийся из соседней деревни мельник. Завод этот как-то плохо работал, закрылся, затем действовал некоторое время медноплавильный, потом завод, открытый французской компанией, наконец, и Александровский пушечно-снарядный завод, основанный Екатериной II. Последний существует и до сих пор: громадное красное здание в средине города в котловине. Говорят, что дела завода очень плохи, и только нерешительностью правительства прекратить невыгодное дело объясняется его еще до сих пор теплющаяся жизнь. Так что завод этот вполне невинный и нисколько не нарушает картины общего безмятежного спокойствия.
Памятники старины относятся, конечно, к пребыванию здесь Петра Великого. Тут есть деревянный собор Петра и Павла, устроенный так, чтобы с внешней его стороны можно было взбираться наверх. Говорят, что Петр Великий любил подниматься на этот собор и любоваться озером Онего.
Есть здесь также прекрасный парк, где Петр собственноручно сажал деревья и где был выстроен для него дворец. Есть тут монументы Петру Великому и Александру II, есть дом Державина и, конечно, как в губернском городе, много больших казенных зданий. Другой город, Повенец, уже относится к краю леса, воды и камня.
Лес, вода и камень
Про Повенец говорят обыкновенно: он всему миру конец. Но, как я уже говорил, для меня с Повенца только и начинался самый любопытный мир.
И опять я задаю себе тот же вопрос: как характеризовать маленький городок в северном углу Онежского озера – Повенец? Я помню постоянный звук колокольчиков: это бродили коровы по улицам городка. Звук этих колокольчиков мне объясняет все. Повенчан, так же как и петрозаводцев, я не хочу этим обидеть; не их вина в том, что старинное, существовавшее еще в XVI веке, селение Повенцы потом было названо городом Повенцом. Если же считать его селением, то в присутствии коров на улицах нет ничего удивительного. И в самом деле, коренные жители этого «города» занимаются до сих пор земледелием; тут же за деревянными домиками и начинаются их поля. Другая, «лучшая» часть населения, в лучших домах – чиновники. Вот и все, что я могу сказать о Повенце.
Дальше: широкая дорога между непрерывными стенами угрюмого северного леса. То и дело вздрагивает повозка, наскакивая на разбросанные повсюду камни-валуны, или шипит по желтоватому крупнозернистому песку с мелкими гальками. А из леса сверкает чистая вода лесных озер, «белых ламбин»[6]. Время от времени шум экипажа пугает купающихся в разогретом песке тетерок с цыплятами. Но мать не оставляет детей, а торопливо уводит их в лес, постоянно оглядываясь назад.
Повозка мчится все выше и выше, то спускаясь, то поднимаясь между террасами, холмами и скатами. Тихо ехать нельзя: бармачи (овода) замучат лошадей. Их целые полчища танцуют возле нас, и кажется – движение вперед им не стоит усилий.
В тринадцати верстах от Повенца, в деревне Волозеро переменили лошадей и снова понеслись вверх. Проехав еще верст пятнадцать, мы пересекли в косом направлении Масельгский хребет – высшую точку подъема. Этот хребет есть водораздел Балтийского и Беломорского бассейнов.
С этого места, если бы только можно было видеть так далеко, открылась бы грандиозная каменная терраса со ступенями назад, к Балтийскому морю, и вперед, к Белому. Величественные озера выполняют ступени этой гигантской двойной лестницы и переливаются одно в другое шумящими реками и водопадами. Назади узкая лента Долгих озер переливается Повенчанкой в Онежское озеро. Многоводное Онего по Свири стекает в круглую Ладожскую котловину, по-старинному озеру Нево, а оно по коротенькой Неве спускается к Балтийскому морю. Впереди тоже ряд озер: Маткозеро, Телекинское, Выг-озеро со множеством островов; последнее тремя живописными водопадами переливается в стремительный Выг и стекает к Белому морю. У подножья первого склона террасы – Петербург, а у другого – Ледовитый океан, полярная пустыня.
Так рисуется воображению географическая картина этих мест. Но и простым глазом видно то же самое, только на меньшем пространстве. В дымчатой синеве океана лесов тут сверкают террасы озер, рассеянных всюду между причудливо смыкающимися склонами.
– Лесом, водой и камнем мы богаты, – говорит ямщик.
И замирают слова человека. Безмолвие! Лес, вода и камень…
Творец будто только что произнес здесь: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша!»
И вода стала стекать к морям, а из-под нее – выступать камни.
В этих местах создалась такая карельская легенда:
«Вначале в мире ничего не было. Вода вечно волновалась и шумела. Этот шум несся к небу и беспокоил бога. Наконец, разгневанный, он крикнул на волны, и они окаменели, превратились в горы, а отдельные брызги – в камни, рассеянные повсюду. Места между окаменелыми волнами наполнились водой, и так образовались моря, озера и реки».
В этом случае, как часто бывает, художественное творчество предупредило медленные поиски науки. Теперь и наука утверждает, что вначале здесь была только вода. Ледовитый океан в этом месте соединялся с Балтийским морем. Немногие такие мели, как вершина Масельгского хребта, выглядывали с поверхности ледникового моря. Громадные льдины Скандинавского ледника плавали по океану, задерживаясь только на этих мелях. Тут, на мелях, они таяли и оставляли всю массу камней, которую увлекли с собою, спускаясь с гор. Работою подземных сил из воды выдвигались все новые и новые мели, а льдины оставляли на них холмы ледникового наноса. Вот так и образовались здесь всюду раскинутые, вытянутые с ССЗ на ЮЮВ грядки кряжей: сельги. Низменные же места между сельгами остались наполненными водой. На каменных сельгах выросли хвойные леса, а в лесах люди «живяху, яко же и всякий зверь».
* * *
Название «Выговский край» не существует в географии. Он входит в общее название «Поморья». Но он своеобразен во всех отношениях и достоин отдельного названия. Он занимает всю ту местность, которая прилегает к берегам Выг-озера, впадающего в него с юго-запада Верхнего (южного) Выга и вытекающего из северного конца озера Нижнего (северного) Выга.
Мне казалось удобнее ознакомиться с этим краем, если поселиться где-нибудь в деревне в центре его и отсюда уже ездить на лодке на юг или на север. Как раз посредине длины Выг-озера, на одном из его бесчисленных островов, есть деревенька Карельский остров. Вот ее-то я и избрал своим пристанищем. Этот план был одобрен и дедом рыбаком, у которого я ночевал перед поездкой по Выг-озеру.
– Жёнки едут на Карельский, они тебя и отвезут, – сказал мне старик.
– Вот наши жёнки, любы тебе? – рекомендовал он мне двух женщин с загорелыми, обветренными лицами, в сапогах, высоко подтянутых юбках и с веслами в руках.
Потом дед повернул свою седую большую голову по ветру и сказал «жёнкам»:
– На озере вам хорошая поветерь будет, шалонник дует.
Слово «шалонник» означает SW ветер. Другие ветры, как я потом узнал, назывались: летний (S), сток (W), побережник (NW), обедник (SW), полуночник (WN), торок (вихрь) и жаровой, то есть – случайный летний ветер.
– Хороший, походный ветерок, – продолжал дед, – парус не забудьте.
– А мы не взяли, дедушка, – отвечали жёнки.
– Так дать, что ль?
– А бе есть, так и дай.
Дедушка одолжил нам парус, сшитый из мешков, и мы пошли к берегу. Там была вытащенная наполовину из воды простая небольшая лодка. На этой лодке и приходилось плыть по громадному, в семьдесят верст длины и до двадцати верст ширины, бурному Выг-озеру. Ко всему этому я узнал, что лодка «без единого гвоздя сделана» и «сшита» вересковыми прутьями. Так оказывалось прочнее, проще и дешевле. Так, кажется, по преданию, строился и Ноев ковчег.
Немножко жутко было ехать в такой лодке, да еще с жёнками. Но это только с самого начала; потом же, как я убедился, женки, которые выросли на воде и начали плавать по озеру грудными младенцами, ничем не уступали мужчинам. Мужья сохранили только за собой право всегда сидеть на руле. Сначала кажется несправедливым, когда видишь, как жёнка гребет, а муж сидит на корме, чуть придерживая рулевое весло, а иногда еще при этом выпивая и закусывая рыбником. Но когда я присмотрелся, какое огромное напряжение сил требуется от рулевого в бурю и даже вообще при ветре на лодке с парусом, то понял, что тут ничего особенно несправедливого нет. Оно, может быть, и есть, но уж это везде и во всем пока так водится.
Итак, мы ехали по Выг-озеру с жёнками, на лодке без гвоздей, на Карельский остров. Вперед уходила на север бесконечная водная ширь, «большое озеро», свободное, без островов, а направо виднелся лес.
– Это острова?
– Нет, это суземок. Вон острова!
– А это?
– Это тоже острова У нас их так много, что и не толкуем. Всего на озере их – сколько дней в году и еще три. Дальше еще кучнее пойдут. Острова да салмы, острова да салмы.
«Салмы» – значит проливы, слово карельское, как и все географические названия, сохранившие память о старых хозяевах этого озера.
– На веках тут у нас обязательно кареляк жил, – поясняют мне жёнки.
Дед, который сулил нам поветерь, не ошибся. Как только мы выбрались из лабиринта салм, подул сильный попутный ветер. Женки, довольные, стали устанавливать мачту, продевая конец ее через отверстие в лавочке и укрепляя в прибитой на дне лодки железной подкове.
– Как поветерь, – заговорили они оживленно, – тут уж поездка любая, тут сиди пола да посвистывай. Не здымай высоко! Сорьвется! Поставь райно[7]повыше! Погораже отпусти, не порато натягивай, а то лодку опружит.
Жёнки наконец установили парус; одна обмотала снасть вокруг сапога, уперлась им в уступ на дне лодки, а обеими руками стала держать рулевое весло.
Лодка понеслась как стрела. Закипели белые волны. Надвигалась туча.
– Ветер чернеет! Темень стават, божия милость, – крестятся гребцы. – Наше озеро свирипо; как повиют ветры большие да забегают беляки, падет погодушка необъятная! Хоть вопи, а ехать надо. Забежит девятка[8], как хорома великая, и словно в могилушку опустит. Между девятками, как между хоромами, не видать лодки. Раз нас со старухой на остров выкинуло, так дня два зубами щелкали.
– Гляди, гляди, молвия маше! – восклицала другая женка. – Эк грянуло!
Туча прошла, и ветер стал стихать.
– Боком прошла божия милость. Ветер лосеет! Заехали в салму, и стало вовсе тихо. Парус заколыхался. Над озером повисла радуга.
– Краса идет! Радуга! Надо парус ронить.
Стали присматриваться, куда падает конец радуги. Если на суземок, то дождя не будет, если на воду, то снова темень зайдет.
– Да теперь недалеко осталось. Вот салмочку проедем, обогнем коргу, там будет бережная сельга, потом комлевая, медвежий бор и Карельский остров.
Большие бури на Выг-озере бывают осенью, а летом оно часто совершенно спокойно и сверкает на солнце, как громадное зеркало. Налетит торочек – случайный ветерок (вихрь), и заблестит водная гладь миллионами искр. Но летом ветер быстро пролетает куда-то и исчезает бесследно: этот жаровой ветер не имеет никакого значения при поездке, и через пять – десять минут озеро остается таким же спокойным, как и раньше. Иногда солнце так греет, что становится и очень тепло. Но все как-то не доверяешь этому теплу. Словно за теплом и светом где-то притаился холодок и шепчет: «Это не лето, это только межень. Пройдет эта теплая пора, и здесь, на этом месте, будет лед и темная беспрерывная ночь».
На озере всюду разбросаны большие и маленькие острова. Большие не так интересны: их не охватываешь глазом, и они кажутся берегом. Но маленькие своеобразно красивы. Особенно хороши они в летнюю, совершенно тихую погоду. Из водной глади тогда всюду вырастают кучки угрюмых елей. Они тесно жмутся друг к другу и будто что-то скрывают между собою. Напоминают они немного бёклиновский «Остров смерти». Как известно, на знаменитой картине бросается в глаза сначала группа кипарисов, скрывающая загадку смерти, потустороннюю жизнь. Присмотревшись к картине, замечаешь, что между кипарисами продвигается лодка и кто-то в белом везет гроб, осыпанный розами…
Вот и тут так же что-то выдвигается белое. Что это? Семья лебедей. И вдруг над северным островом смерти раздается дикий хохот: га, га, га!.. Это летит гагара, падает на воду и исчезает.
Между островами, особенно у низких травянистых берегов, непременно плавают утки всяких пород: алейки, овсянки, крёх и другие; они смирные, непуганые, и «в уме не держат», что человек их может обеспокоить.
Не всегда можно добраться до острова на лодке. Он окружен подводными камнями – лудами. А с двух сторон, обыкновенно с ССЗ и с ЮЮВ, от него спускаются в озеро каменистые стрелки – корги. От этого кажется, что остров лежит на выдающемся из воды каменном пьедестале. Камни, окружающие остров, объясняют, что он не что иное, как размытая сельга. В середине его, на неразмытой части, где сохранились песок и галька, селились деревья, охватывая камни корнями, а размытые части образовали корги, то есть каменистые косы, и луды – подводные камни. Иногда вода совершенно размывала остров, и деревья не могли поселиться на голых камнях, – это мели, сухие луды. На лудах нерестится рыба, на сухих лудах любят собираться большими стадами чайки.
* * *
Все эти птицы – утки всех пород и лебеди – почти не боятся человека. Их не стреляют. «Зачем, скажут, их бить, когда для пищи определена „дичь“, то есть лесная птица: рябчики, тетерева, мошники (глухари)». «Лебедь и утка, скажут, нам никакого вреда не приносят, самая безобидная птица». Про хорошего человека здесь говорят: «Степенный человек, самостоятельный, бога почитает и не то что лебедей, но и уток не трогает».
Вот почему лебеди не боятся человека, подплывают с детьми к деревням. А утки так непременно селятся в болотах, ближайших к селениям. Когда мне про это рассказывал один старичок, то прибавил: «Стало быть, и ей (утке) это нужно, понимает она».
Как-то раз мы плыли с этим старичком на лодке в узкой салме. Семья лебедей плыла впереди, стараясь уплыть от нас и не желая улетать и оставлять маленьких детей. Старику показалось, что я хочу их стрелять; он в страхе схватил меня за руку и сказал:
– Что ты, что ты, господь с тобой, это нельзя!
И рассказал мне по этому поводу такую историю:
– Молод я был, глуп. Пришла мне раз в голову такая дурь – убить лебедя. Ходил я полесовать, день проходил – хоть бы что. Настала ночь. И такая-то светлая, хоть баба шей! Озеро стоит тихое-тихое. Смотрю, посередине у камня быстерок (струйка) играет. Думаю – это не рыба быструет. Пригляделся и вижу: на камне среди озера выдра сидит, хвост свесила, оттого и вода колышется. Стал прилаживаться. Фырсь! носом и в воду. И взяла досада. Вижу, плывет пара лебедей. Сошлись близко головками. Я прицелился. Не успел сливить[9] – разошлись. А по одной стрелять я не посмел. Отошел саженей пять, смотрю, катит на меня олень – что стог сена, рога – что борона. Я его и свернул. А если бы я по лебедям стрелял, то верст на пять распугал бы всех оленей.
– Да вот покойник Иван Кузьмич, – сказал другой гребец, – убил лебедя весной, а к осени и помер, через год жена померла, дети, дядя, весь род повымер.
– Эх, а что тоски-то в нем! Попробуй одну убить. Полетит кверху, будет на воду падать и пары себе уж больше никогда не подберет.
Я долго старался добиться, почему именно лебедь нельзя стрелять, но мне не могли этого объяснить. «Грех» – последняя причина в сознании местных людей.
Трудно понять, откуда взялось это поверье. Как известно, в наших сказках царевна обращается в лебедь, а в мифологии всех вообще арийских народов лебедь привозит и отвозит божества. Но если это поверье связано с древнеславянской мифологией, то почему же в былинах так часто «рушают» белую лебедь? Быть может, оно заимствовано от финнов? Или, быть может, связано с тем, что здесь, на Севере, староверы поддерживали законы Моисея, запрещающие употреблять в пищу лебедь? Как бы то ни было, но обычай прекрасен, и кажется, будто он непременно так и должен быть здесь, в этом краю непуганых птиц.
* * *
Вероятно, многие из необитаемых теперь Выг-озерских островов были когда-то заселены. Иногда увидишь врубленный в дерево восьмиконечный староверский крест, иногда попадаются сложенные в кучи, очевидно рукою человека, камни. Местные люди здесь находят котелки, монеты, стрелы. Есть много поверий о зарытых в них кладах. Острова кажутся могилами.
И в самом деле в этом краю, как и во всем Обонежье, происходили когда-то постоянные столкновения шведов, финнов и славян. Это было время непрерывных войн и опасностей. Вот почему, вероятно, стариннейшие селения здесь и до сих пор находятся на островах или в едва проходимой глуши. Большинство обонежских курганов, сопок, относится к этим старым временам. Но здесь, в Выговском краю, мало осталось об этом преданий. «На веках жили», и больше ничего. А чьи эти котелки, монеты, стрелы, могилы? Кто зарыл в землю клады, о которых с такой уверенностью говорят старые люди? Здесь сейчас же ответят: это паны. Они тут жили, это всем известно.
– Вот тут жили, где Кузнецова изба стоит, – сказал мне раз один старик, и так уверенно, словно сам лично видел этих панов.
– А вот на том месте их главный притон был, – рассказывал мне дальше старик о панах.
Остров, на котором жили паны, называется Городовой и, вероятно, потому, что там было городище, укрепленное место, вроде небольшой крепости. Отсюда, с этого острова, по преданию, паны приезжали в селения, грабили их, забирали с собой крестьян и заставляли на себя работать. Но кто же были эти паны? Долго я не мог добиться, как объясняют себе местные люди появление панов в таком глухом краю. Наконец одна старая, девяностолетняя женщина, знавшая всякие сказки, стихи и былины, рассказала о них следующее:
«Был царь Гришка-расстрига; он женился в другой земле и взял жену Марину. Стали возить Маринино приданое и возили три года.
Раз шел конь с приданым, да остановился, устал. А пономарь звонил на колокольне, увидал и спросил:
– Что везете?
– Везем Маринино приданое.
Пономарь взял да и разбил одну бочку с воза. А там, в бочке, – два пана. Пономарь и объявил царю:
– Ваше царское величество, вот какое приданое возят с другой земли.
Пришла сила, повернула Маринину палату вверх дном. Марина же волшебница была, обернулась сорокой и улетела в окно. А паны разбежались по русской земле, вот и у нас жили и грабили».
Так объясняет народ появление панов в Выговском краю. На самом же деле вторжение панов относится к тому времени, когда разбитые в сердце России войска второго самозванца рассеялись по ее окраинам. Эти банды поляков, татар и казаков вторглись в Олонецкую губернию из Вологодского и Белозерского уездов. «Паны», по современным актам, оскверняли церкви божии, снимали с образов оклады, мучили и секли крестьян, отнимая у них деньги и другое имущество, выжигали гумна и клети, а хлеб увозили с собой в остроги. Эти остроги, или острожки, были укрепленные места и, вероятно, находились там, где теперь указывают панские городки, или городища, как, например, остров Городовой на Выг-озере.
Шайки грабителей бродили по Олонецкому краю более трех лет (до начала 1615 года). В конце 1614 года царь Михаил Федорович отправил на имя белозерского воеводы Чихачева грамоту с приказанием объявить казакам всепрощение и пригласить их на государеву службу против шведов с обещанием денежного жалованья. Казаки откликнулись и в январе 1615 года явились в сборном пункте (село Мегра Вытегорского уезда) в количестве от тридцати до сорока тысяч человек при семидесяти четырех атаманах, желавших идти на государеву службу под Новгород, под Ладогу и под Орешек.
Так кончились эти тяжелые времена для Олонецкого края. Неизвестно, ушли ли в это же время и паны с острова Городового на Выг-озере или, быть может, продолжали более или менее долгое время грабить окрестных жителей. А может быть, народ расправился с ними по-своему. Возможно и то и другое. Выг-озерцы все, от старого до малого, рассказывают о конце панов такое предание:
Там, где теперь находится Койкинский погост (селение на острове в северо-западном большом заливе Выг-озера), жил крестьянин Койко с своей старухой. Раз, когда Койко уехал на лов, паны пришли к его старухе и стали требовать денег. Но старуха денег им не показала. Паны убили старуху. В это время приехал Койко и сказал, что он знает, где клад, и взялся доставить панов туда.
Паны согласились и легли в лодку спать. Старик прикрыл их парусом и повез к Воицким падунам (то есть в северный конец Выг-озера, к истоку реки Северный Выг). Как раз у того места, где находится падь, есть Еловый островок. У этого островка Койко бросил весла, ухватился за дерево и выскочил, а паны с лодкой полетели в пучину.
* * *
Я помню, что предания о панах мне рассказывали как раз в то время, когда я ехал на лодке осматривать Воицкие водопады. Говорят, что шум этих падунов бывает слышен еще в Дуброве, в десяти верстах от них. Но попутный нам ветерок уносил звук в другую сторону, и я ничего не слыхал, даже когда мы приехали в Надвоицы – селение на Выгу, почти у самых Воицких водопадов.
Те гребцы, которые привезли меня в Надвоицы и брались доставить к водопадам, говорили, что это опасно. Но тут, в Надвоицах, местные опытные люди сейчас же предложили свои услуги доставить меня на тот самый Еловый островок, возле которого падает вода и где потонули паны. Гребцы взялись меня доставить на островок сверху, прямо над водопадами. Если бы я знал, как это опасно, то, конечно, уж предпочел бы ехать снизу, по обессилевшей уже воде падунов. Но я этого не знал и поехал.
Выг у селения Надвоицы еще не имеет вида обыкновенной горной, бурливой реки. Однако все-таки вода довольно сильно стремится куда-то, всюду всплескивает о камни, беспокоится, всюду виднеются вьюны, лодкой нужно только управлять. Впереди, посредине реки, виднеется кучка елей, с виду как раз такой же островок, как на Выг-озере.
По мере приближения к этому острову, хотя и не видно падунов, начинаешь понимать всю страшную опасность такой поездки. Становится очевидным, что вода низвергается возле самого островка по обеим его сторонам, а между водопадами только каменный мысок, к которому и нужно непременно пристать лодке, иначе она полетит вниз. Хотелось бы повернуть назад. Но уже поздно, у гребцов рассчитаны все движения; теперь даже и говорить неудобно: малейшая ошибка – и конец всему. Один правит, а другой держит наготове жердь, чтобы удержать лодку, когда она пристанет. Торопливо, с замирающим сердцем выскочил я на остров. А гребцы сказали, что приедут через час снизу, где они будут поездовать, то есть ловить рыбу сетью в клокочущей воде. Я остался один на каменной глыбе между елями, окруженный бушующей водой.
…Гул, хаос! Трудно сосредоточиться, немыслимо отдать себе отчет, что же я вижу? Но тянет и тянет смотреть, словно эта масса сцепленных частиц хочет захватить и увлечь с собой в бездну, испытать вместе все, что там случится.
Но, внимательно всматриваясь, замечаешь, что прыгающие брызги у темной скалы не всегда взлетают на одну и ту же высоту: в прошедшую секунду выше или ниже, в следующую не знаешь, как высоко они прыгнут.
Смотришь на столбики пены. Они вечно отходят в тихое местечко, под навес черной каменной глыбы, танцуют там на чуть колеблющейся воде. Но каждый из этих столбиков не такой, как другой. А дальше и все различно, все не то в настоящую секунду, что в прошедшую, и ждешь неизвестной будущей секунды.
Очевидно, какие-то таинственные силы влияют на падение воды, и в каждый момент все частички иные: водопад живет какою-то бесконечно сложной собственной жизнью…
С Елового островка видны только два водопада: средний, самый большой и величественно-спокойный, падающий отвесно, и правый, если стать лицом к Выг-озеру, – бурливый, беспокойный, брызжущий; он называется «Боковой». Третий водопад нужно смотреть с берега; его не видно с Елового островка за другим голым каменным островком, сзади которого он и падает. Он называется «Мельничный». Теперь мельница находится вблизи Бокового водопада, но он все-таки по-старому называется Мельничный. По этому водопаду спускается лес при сплаве его в Сороку, потому что он значительно меньше, чем другие. Вода от всех трех водопадов собирается в небольшой котловине сзади Елового островка, который отсюда уже представляет довольно высокую скалу. В этой котловине разделенные натрое воды Выга встречаются и, словно радуясь встрече, бурлят, кипят, прыгают, вертятся, прижимаются к левому высокому скалистому берегу и уносятся, разливаясь вскоре широким Надвоицким озером.
В бурливой котловине, где встречаются воды, живописно разбросаны громадные валуны; кое-где на них сидят мальчики, удят рыбу. Тут же, на этой бурливой воде, поездуют с сеткой в руке ловцы, ловят хариусов и форель. А на верху высокой скалы, на сосне, ждет свою добычу всегда ненасытная скопа.
В Боковом падуне, хотя и чрезвычайно бурном, есть место, где вода падает по уступам, – вероятно, с высоты не более одной-полутора саженей; вот в этом-то месте и проходит беломорская семга в Выг-озеро. По словам местных рыбаков, семга, ударяя хвостом о воду, может прыгнуть до двух аршин над водой. Стремление этой рыбы пробраться в реку к местам нерестования так велико, что она решается перескочить и падун. Прыгая с уступа на уступ по щельям[10], она попадает наконец в Выг и в Выг-озеро. Иногда она, не рассчитав расстояния, выпрыгивает на сухую скалу и тут же немедленно расклевывается скопой. Один местный батюшка, разведав ход семги, приспособил как-то у падуна ящик, так что в него попадала вся семга. Однако Выг-озерские рыбаки скоро потребовали от батюшки, чтобы он убрал свой ящик.
Перебраться с Елового островка на берег не совсем безопасно и снизу; поэтому приходится переезжать через ослабленную, но все еще быструю струю Бокового падуна. Маленькая долбленая лодочка, карбасик, ставится кормщиком приблизительно под углом 45 ° к струе. Вода, ударяя в нос карбаса, старается перевернуть его, но вместе с тем и относит на другую сторону. Ловкий удар веслом вовремя окончательно переносит карбас из бурлящей воды в тихое место, к берегу.
За рекой Выгом находится довольно высокая скала из хлоритового сланца, она называется Летегорой; за ней следует моховое болото, снова гора, но уже из талькового сланца, и потом возвышается над всею местностью прилегающая к северному углу Выг-озера и Северному Выгу Серебряная гора.
Мне рассказывали, что где-то в пещерах этой горы течет струя чистого серебра, что место это знала одна старуха, но умерла, и теперь уже никто не может его найти.
Как ни фантастично это предание, но оно имеет основание; и по геологическому строению местности, и по тому, что недалеко, в окрестностях Сегозера, уже найдены залежи серебряной руды, можно думать, что здесь она есть.
Местные жители убеждены, что где-то здесь есть серебро. Рассказывают, будто даниловские скитники добывали руду, делали из нее рубли, и эти рубли ходили по всему Северу несколько дешевле правительственных.
Жилы же с медной рудой и затем с золотой были открыты здесь еще в 1732 году одним крестьянином из деревни Надвоицы. На полуострове, образуемом с одной стороны заливом Выг-озера, с другой – Выгом, был основан Воицкий рудник в 1742 году. Сначала в нем добывалась только медь, но с 1745 года стали добывать и золото. Кроме этих металлов, в рудоносной жиле находилась в большом количестве и железная руда. Но рудник потом был заброшен… Вообще все исследователи говорят о громадном запасе руд в нашем Северном краю и сулят ему блестящую будущность.
* * *
Кому же жить в этом мрачном краю леса, воды и камня, среди угрюмых елей и мертвых богатств золота и серебра?
Казалось бы, что тихие, молчаливые, невзрачные финны более других народов могли бы примириться с этой жестокой средой, приютиться где-нибудь между озерами, скалами, лесами и медленно, упорно, молчаливо приспособлять себя к природе и природу к себе.
Но финну жить здесь не пришлось, его место заняли славяне. Эти оказались слабы, неприспособленны; они и до сих пор прозябают здесь, из поколения в поколение передают грустные воспоминания о своей когда-то жизнерадостной, разудалой жизни. Теперь они поют о соловьях, которых здесь никогда не видали, поют о зеленых дубравушках, окруженные соснами и елями, поют о широких чистых полях.
Нет, всякое обычное существование не удовлетворило бы этот край. Он не загорелся бы всею полнотою своей могучей внутренней силы.
Однако было же время, когда край встретился с равным, могучим и гордым противником. Восьмиконечный врубленный в дерево крест, полузаросшие мохом кладбища, полуразрушенные часовенки, предания о местах самосожжения – вот все, что осталось от этого времени борьбы и жизни в этом краю.
Историю этой борьбы старообрядцев с суровой природой я расскажу потом, когда мне придется говорить о скрытниках или пустынниках, старающихся в нынешние времена воспроизвести жизнь первых, одушевленных религиозной идеей, борцов-раскольников. Но теперь я передам сначала все, что мне удалось узнать из жизни людей на Карельском острове и в других селениях Выговского края.
Вопленица
Кто никогда не бывал в нетронутых культурой уголках нашего Севера и знает родной народ только по представителям, например, черноземного района, того поразит жизнь северных людей. Поразят эти остатки чистой, не испорченной рабством народной души.
Сначала кажется, что вот наконец найдена эта страна непуганых птиц: так непривычна эта простота, прямота, ласковость, услужливость, милая, непосредственная. Душа отдыхает, встретив в жизни то, что давно уж забыто и разрушено, как иллюзия.
Хорошо быть таким путешественником, чтобы скользить по жизни и уносить с собою, не задумываясь, такие прекрасные, радостные настроения. Но я себе выбрал неудачную в этих целях систему наблюдения края посредством внимательного разглядывания одного маленького, но характерного его уголка. На месте не нужно задерживаться, а ехать и ехать; тогда непременно получится веселая и пестрая картина.
Задержавшись на месте, приживаешься, свыкаешься и понемногу уходишь в глубину человеческих, мелких, скрещенных интересов. Не успеешь оглянуться – исчезла иллюзия, исчезла страна непуганых птиц: живут себе люди как люди.
Одна баба украла житную муку. Другая, хотя и «по тяжелой душе», но доказала. Воровку с мешком на шее и со сковородой на спине провели по деревне. В сковороду стучали, перед каждой избой заставляли женщину кланяться. А вот Акулина, у нее что-то неладно: муж в бурлаках, а она Максимку чаем поила. Собрались кумушки и постановили: «За Акулиной присматривать». Про Дашку и говорить нечего: эта «вольная», одна только и есть такая в деревне. Конечно, совсем худого за ней никто не знает ничего. Послужила она в Шуньге горничной и явилась не в сарафане, а в городском платье, с мужиками вертится, мужики ее вертят, что совестно смотреть. Да оно и понятно. Раз, главное, отец гулящий, худой был, на сплавах и на море загуливал, да и мать тоже… все знают, какая была. У всех на памяти, как из-за нее в Петров день вся деревня передралась. Лодочник Кожин поспорил из-за лодки с заказчиком на улице. Стали ругаться крепче и крепче. Лодочник и скажи при народе: «Я не жена твоя, что даром с мужиков деньги берет». И поднялось! Откуда ни возьмись у бабы кол, колом она его по лбу. А за лодочника его бабы и ребята вступились, за ребятами матерые люди. Полетели камни, всю огороду на колья разобрали. И много-много всего увидишь и узнаешь, как обживешься. В деревне все на виду, каждый с удовольствием расскажет всю подноготную про своего соседа порядового. Слушаешь, слушаешь, наконец станет обидно за человека. «Да есть ли кто у вас, кого не коснулись эти людские пересуды?» – «Как же, как же, – скажут, – есть, есть такие». И так скажут это «есть», что успокоишься. Непременно есть в деревне такие люди.
Вот такой-то исключительный человек на Карельском острове – вопленица Степанида Максимовна.
– Максимовна – это особое дело. Максимовна у нас горюша, хлебнула она горя, бедная.
Но прежде чем рассказать о Степаниде Максимовне, я должен сообщить здесь то, что знаю о вопленицах и их назначении, потому что Максимовна – известная по всему Выг-озеру вопленица, плакальщица или подголосница.
* * *
На Севере, знакомясь с народными верованиями, надгробными плачами и похоронными обрядами, можно почувствовать себя вдруг среди славян-язычников. Множество признаков здесь говорит о них. Во многих, например, местах Архангельской и Олонецкой губерний в Ильин день перед церковью закалывают быка. Часто можно услыхать, как женщина, увидав бабочку, скажет: «Вот чья-то душка летает»; точно так же скажут иногда и про голубя, утку, про заюшку и горностаюшку, – несомненные следы верований в переселение душ в животных. Иногда почему-то кладбище представляет собой своеобразную картину: крестов на нем почти нет, но зато на каждой могиле лежит лопата и стоит обыкновенный печной горшок, возле горшка рассыпаны угли. Этот обычай, без сомнения, языческого происхождения и введен, вероятно, старообрядцами. Если же ознакомиться с надгробными плачами, то тут раскроется величайшая глубина и поэзия народной души. Правда, искренность, чистота сердечных движений при утрате близких, родных несомненны, а потому и плачи дают богатый материал как для науки, так и вообще для понимания жизни народа.
В этих плачах разработана одна великая драма: борьба со смертью. И борьба не в каком-либо переносном значении, а настоящая борьба, потому что для язычника смерть не успокоение и радость, как для христианина, а величайший враг. Человек мог бы жить вечно, но вот является это чудовище и поражает его.
Прежде всего являются зловещие признаки приближения этого величайшего и непобедимого врага. На крышу избы садится птица – филин, ворон или сова – и укает по-звериному, свищет по-змеиному. Человек готов вступить с ними в борьбу, он готов отдать все свои силы, лишь бы избавить любимое существо от смерти. Но злодейка-душегубица идет крадучись: по крылечку идет молодой женой, по сеням красной девушкой, или залетит птицею-вороном, или зайдет каликой перехожею. Перед вечным врагом бессильно опускаются руки. Остается умилостивить, вступить с нею в сделку. Чего-чего только не предлагается ей: и жемчужная подвесочка, и платочки левантеровы, и сбруя золоченая, и золотая казна, и гулярно цветно платьице, и любимая скотинушка. Но смерть, или судина, не только неумолима, но даже радуется страданиям, с наслаждением плещет в длани, водит ужасно голосом и поражает жертву смертельным ударом.
Человек умирает, вроде как «солнышко за облачком теряется, светел месяц поутру закатается или как меркнет звезда поднебесная».
Душа умершего человека селится в особом домовище или улетает в надзвездный мир, в царство вечного света, тепла. В этом мире души умерших парят, сходятся и расходятся легкие, свободные, как облака: «Стане облачко с облачком сходитися, може друг с другом на стрету постретаетесь».
Все эти изначальные народные верования сохраняются и до сих пор на Севере. «Из среды народа, – говорит Барсов[11], – выступают личности, которые еще долго являются носителями древней погребальной причеты, известные под именем плакальщиц, или воплениц; в данном случае они пользуются едва ли не священным уважением в народе; и долг в отношении умерших, и тяжелое чувство дорогой потери, ищущее облегчения в ясно сознанных думах и слововыражениях, долгое время поддерживают еще их существование. Благодаря своим природным дарованиям вопленицы живо усвояют, сохраняют и преемственно передают друг другу формы и отчасти содержание древней священной причеты. Время и история мало-помалу стирают содержание плачей, но они еще долго не могут осилить присущей им свежести и силы живых явлений природы и совсем уничтожить их воздействие на человеческую душу. Вопленица по преимуществу является истолковательницей семейного горя; она входит в положение осиротевших; она думает их думами и переживает их сердечные движения; чем богаче ее запас готовых оборотов и древних эпических образов, чем лучше она обрисовывает думы и чувства в животрепещущих явлениях природы, тем умильнее и складнее ее причитания, тем большим пользуется она влиянием и уважением среди народа. Отдать последний долг умершему собираются иногда целые селения, а потому мы не вполне определим значение вопленицы, если будем представлять ее истолковательницей чужого горя; влияние ее шире: она объявляет во всеуслышание нужды осиротевших и указывает окружающим на нравственный долг поддержки, она поведает нравственные правила жизни, открыто высказывает думы и чувства, симпатии и антипатии, вызываемые таким или другим положением семейной и общественной жизни».
* * *
С вопленицей Степанидой Максимовной я познакомился таким образом.
Раз ночью не спалось. Непривычному человеку трудно приспособиться нормально спать такою ночью, когда так светло, что далеко от окна можно свободно читать и писать. Помню, мне показалось, что на небе сверкают какие-то полосы, похожие на радугу. Меня очень заинтересовало это явление: ночью, в двенадцать часов – радуга! Я подошел к окну и стал разглядывать. Явление это для меня так и осталось неразгаданным, но дело не в том. Когда я разглядывал из окна яркие полосы, то до меня отчетливо доносился разговор снизу. Говорили две женщины.
– Раз и мне пришлось его видеть.
– Ну, какой же он из себя?
– Да на моего хозяина схож, тоже в красной рубашке показался, борода большая, сам маленький, лучинка в руке.
– А где же ты его видела?
– Да в хлеву.
– Ну, так это не домовой, это дворовой хозяин. Домовой не показывается: его только во сне можно видеть или если истомишься и забудешься. Вот мне пришлось его видеть, как муж помер. Ходила я тогда, матушка, вопеть на могилку. И так-то я порато вопела, что задрожишь вся. Тут-то он мне и стал показываться. Стала я с лица спадать. Домашники замечают, а не знают отчего, думают – с тоски по мужу. Раз я так навопелась, подоила коровушку, да и вошла в избу. Темно, тихо, ребятишки спят, только слышно, как на печи старичок, странник захожий, кряхтит и стонет. Хотела я лучинку зажечь, да что-то неможно стало, и прилегла на лавочку. И забылась. Сплю не сплю, сама не знаю. Слышу, дверь отворилась., вошел… идет ближе, ближе… А шевельнуться не могу. Вижу, стоит… темно… разглядеть не могу, и так-то он гораздо и горячо дышит. Наклонился ко мне и за руку взял… Шерстн-о-о-й!
– Шерстной, говоришь?!
– Шерстной, матушка, прешерстной. Кричу: «Дедушка, слезь с печи!» – «Что с тобой, – байт, – дитятко?» Заплакала я тут: «Не хочу, – говорю, – умирать». А потом и согрешила: «Дедушка, – говорю, – умри за меня!» – «Рад бы, – говорит, – душка дорогая, рад, да это дело божье».
Я взглянул в окно и посмотрел вниз, на говоривших; меня заметили и перестали разговаривать. На другой день, когда старичок, мой хозяин, привел меня в дом Степаниды Максимовны, чтобы послушать ее воп, я узнал в хозяйке ночную рассказчицу. Небольшого роста, живая старушка, с ясными, чуть заволоченными дымкой грусти и горя голубыми глазами. Бесчисленное множество детей окружало ласковую старушку. Дети и на лавках, и под лавками, на полу, дети держатся за юбку старушки, выглядывают из-за ее спины, дети пищат в трех зыбках. Кажется – все… но, смотришь, где-нибудь у печки копошится в золе совершенно голенький; оглянулся, – там еще и еще…
– Вот, Максимовна, гостя тебе привел, хочет твой воп послушать, – сказал старик.
– Милости просим, милости просим, гость дорогой, только вопеть-то уж я как будто и стара.
Кое-как мы уломали Максимовну. Она села на лавочку и, уставившись в какую-то далекую точку, стала причитывать… И мне стало неловко… У старушки катились по щекам слезы, она обнажала свое горе искренне, просто и красиво.
Я оглянулся на старика, – он плакал. Улыбаясь сквозь слезы стыдливо и виновато, он мне потихоньку сказал:
– Не могу я этого ихнего вопу слышать. Как услышу, так и сам завоплю. Дома, как завопят бабы, я гоню их вон чем попало… Не могу…
Все женщины в избе плакали. И даже молодой парень как-то уж очень неестественно повернул свое лицо в угол. Мне было неловко… Знал бы я, что даже в обыденной жизни надгробная песня может вызвать такое серьезное чувство, то, конечно, не стал бы просить Максимовну вопеть при людях. Но она все вопела и вопела…
Вслушиваясь в плач вдовы по мужу, я понял, что тоскливое чувство вызывала главным образом маленькая пауза в каждом стихе. Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала и продолжала. Но, конечно, много значили и слова.
Надгробные песни Степаниды Максимовны – образцовые произведения народной поэзии. Вот одна из них.
Плач вдовы[12]
Уж как сесть горюше на белую брусовую на лавочку, Уж ко своей-то милой, любимой семеюшке, Ко своей-то милой венчальной державушке. Ты послушай, моя милая, любимая семеюшка, Уж по сегодняшнему господнему божьему денёчеку, Как по раннему утру утреннему Вдруг заныло мое зяблое ретивое сердечушко, Вдруг налетела малолетна мала птиченька, Стрепенулась на крутом на складном сголовьице. «Ты долго спишь, вдова, сирота бесприютная! Как на раскат горе на высокой Там рассажен сад, виноградье зеленое, Там построено теплое витое гнездышко, Там складены теплые кирпичные печеньки, Там прорублено светлое косящато окошечко; Там поставлены столы белодубовы, Там скипячены самоварчики луженые, Там налиты чашечки фарфоровы, Там дожидает тебя милая любимая семеюшка». Так уж будь проклята малолетна мала птиченька! Обманула меня, победну вдову, горе горькое. Как на той на могилочке на умершей Не поставлено дивно хоромно строеньице Там повыросла только белая березка кудрявая, Там не дожидает меня милая венчальная державушка: Видно, уж отпало желанье великое… Да уж как я подумаю, вдова, сирота бесприютная: Уж как порозольются быстрые, струистые реченьки, Уж пробегут эти мелки, мелки ручееченьки, Уж как порозольется славно широко озерушко, Уж как повыйдут эти мелкие белые снежечеки, Я проторю путь торну широку дороженьку Я на раскат на гору на широкую Да ко той-то милой умершей семеюшке. Уж вы завийте, тонкие сильные ветрушки, Уж разнесите эти мелкие желтые песочики, Раскались и эта нова гробова доска, Раскалитесь, распахнитесь, белы саваны, Уж покажись, моя милая любимая семеюшка! Уж ты заговори со мной тайное единое словечушко, Уж поразбавь, поразговори, самоцветный лазуревый камешек. Уж как придет темная зимняя ноченька, Уж я заберу моих милых сердечных детушек, Уж как закутаю теплым собольим одеялышком. Уж как погляжу на это умноженное стадо детиное – Пуще злее досаждает, одоляет тоска-кручина великая. Погляжу я в это светло косящато окошечко, Как на эту раскатну гору на высокую: Уж нейдет, не катится моя милая любимая семеюшка, Уж, видно, так мне проживать-коротать свою молодость, Не порой пройдет да не времечком, А пройдет молодость горючими слезьми. . . . . . . . . . . . . . . .Вопленицей, истолковательницей чужого горя, Максимовна сделалась не сразу. Чтобы понимать чужое горе, нужно было выпить до дна полную чашу своего собственного. «Сама я, – говорит Максимовна, – от своего горя научилась. Пошло мне обидно, поколотно, несдачно, вот и научилась».
И все объяснение. Простой народ о своем таланте не станет кричать. Между тем Максимовна несомненный и в своем месте общепризнанный талант. В девушках она была первой «краснопевкой» на Выг-озере, в детстве знала и пела всякие байканья, укачивая в зыбке детей. Постепенно, шаг за шагом, жизнь изменяла невинные игривые детские песенки Степки Максимовой в девичьи песни краснопевки Степанидушки, потом в свадебные прощальные заплачки невесты, в надгробный плач вдовы по мужу и, наконец, в причитания плакальщицы Степаниды Максимовны. Вот почему жизнь ее достойна описания.
Родилась Степанида Максимовна вблизи Выг-озерского погоста, на пожне. Мать ее при этом случае косила в сторонке от своих, бросила косу, ухватилась за сосновый сук и родила. Она завернула ребенка в юбку и принесла домой.
Из детства Максимовна помнит, как «по тихой красотушке» она ездила в праздник в лес за ягодами, как сопровождала мать на рыбную ловлю и выкачивала плицей набежавшую в худую лодку воду, помнит, как укачивала ребенка, когда мать уезжала на сенокос. На ней, пятилетней девочке, тогда оставалось все хозяйство. Сделает она, бывало, штейницу, кашку из житной муки, молока и воды, покормит ребенка и целый день качает его и поет байканья. Больше всего у ней осталось впечатлений от поездок в лес за морошкой. Эти поездки не забава, а серьезное дело, потому что морошка такая же пища, как и хлеб и рыба, в особенности если ее набрать побольше и зарыть на болоте. Там она хорошо сохраняется до зимы. В лесу, когда собирали морошку, девочки старались не отходить далеко от матери, а то мало ли как может пошутить Шишко! В этого Шишко и вообще во всю лесовую силу Максимовна и теперь глубоко верит и не допускает малейшего сомнения в их существовании.
Раз был такой случай.
Теткины девочки уехали на Медвежий остров за ягодами да долго не возвращались. Вот тетка и скажи: «Черт вас не унесет, ягодницы!» А девочки в это время собрали по корзинке ягод и вышли на лядинку. Смотрят, дедушка старый стоит на той же лядинке и дожидается их. «Пойдемте, – говорит, – девицы, со мной». Они и пошли вслед. Вот он их повел по разным глухим местам, где на плечо вздымет, где спустит. Как только девочки сотворят молитву, он им сейчас: «Чего вы ругаетесь! Перестаньте!» И привел он их в свой дом, к своим ребятам: человек восемь семейство, ребята черные, худые, некрасивые.
Спохватились дома – нет девиц. Поискали, поискали и бросили; пошли на Лексу в скит к колдунье. Та отведать долго не могла; так они и выжили двенадцать дней у лесовика. И всего-то им там пищи было, что заячья да беличья говядина; истощали девки, краше в гроб кладут.
Когда колдунья лесовика отведала, он и принес их на плечах к реке. Одну за ухо схватил и перекинул через речку, так что мочку на ухе оторвал, а другую, старшую, на доске отправил. Две недели девицы лежали, не могли ни есть, ни пить.
Много случаев помнит Максимовна, когда и ее пугал Шишко, но всего не перескажешь.
В детском кругу Степку с десяти лет уж стали все называть «краснопевкой», то есть, по-городскому, редкой талантливой певицей. Бывало, как соберутся к празднику на погост, в Койкинцы, на Карельский остров или в другие деревни, – в каждой деревне свой праздник раз в год, – Степка всегда первая в хороводах, все песни она запевает: утошные, парками, шестерками, круговые. Да не такие песни, что теперь поют, частенькие да коротенькие, а настоящие досюльные, хорошие песни. Парочка подбиралась в величайшей тайне от всех. Но где тут укрыться! От деревни к деревне, от праздника к празднику идет слушок. И ему придают значение не только дети, но снисходительно прислушиваются и матери. Почему Гаврюшка и Степка рядом в церкви стоят, почему играют вместе? Дети стали укрываться от слушка. Разве только Гаврюшка с воза рукой махнет или передаст на пожнях конфетку. И так шло год за годом.
Степанидушка стала известной красавицей из зажиточного дома. Настало время, когда идеальная связь Гаврилы и Степаниды должна была получить жизненное испытание. Гаврило услыхал, что «Боровик губастый» послал к Степаниде сватов. Как услыхал, сейчас же сел на лодку – и на погост. Вечером подкараулил Степаниду. И как же плакала, бедняжка! Да еще бы не плакать: первая красавица, а жених немолодой, рябой, губастый, и прозвище «Боровик».
– Если ты мной не брезгаешь, – сказал Гаврило, – останься до весны: меня тогда обязательно женить будут, потому что у нас работать некому. Чем казачку (работницу) нанимать да платить, лучше уж свою взять, а так не уберутся.
– Не знаю, – сказала Степанида. – Если нам на этом остаться, мать не поверит… отдаст…
Задумался Гаврило.
А Степанида, как вернулась в избу, так и уперлась на своем: не пойду и не пойду.
– Знаю, – сказала мать, – на Гаврюшку надеешься. Понадеешься, да и будешь сидеть в вековухах. Что мне, в щах тебя варить, что ли? Ольгина мать тоже жарила, жарила Егору яичницу… зятек, зятек… а зятек другую взял. Вот и пошла Ольга за вдовца.
Но Степанида не сдавалась.
«Что я, враг, что ли, ей?» – подумала мать, надела шубу да и на Карельский, к Радюшиным. Приплыла только вечером. Сидят паужинают.
– Хлеб да соль!
– Хлеба кушать! Милости просим. Садись, хвастай!
– Спасибо, я в лодке поела, не хочу.
– Ничего, хлеб на хлеб валится.
И села. А сама незаметно все на Гаврюшку поглядывала, да и махнула ему пальцем.
Смекнул Гаврюшка и вышел помочь ей кошель до лодки донести.
– Ты что же это мою Степку сбиваешь?.. Куй железо, пока горит, а девицу отдавай, пока сваты бьются… Знаешь Ольгу Егорову? Так нельзя. Хочешь взять, так помолились бы богу, что ли…
И опять задумался Гаврило. Сказать страшно. Не пил, не ел, стали домашники замечать. Раз ночью подошла мать.
– Ты чего не спишь?
– Да кусает, матушка.
– А чего же раньше не кусало? Знаю, знаю, по ком вздыхаешь. Сказать, что ль, отцу?
– Боюсь.
– Чего бояться? Мы нынче живы, а завтра бог знает. Вам жить, а не нам. Скажу.
Отец согласился. Степаниде Максимовне выпало счастье: пришлось выходить замуж по желанию.
* * *
Вот тут-то и началась церемония, о которой с величайшей готовностью во всех подробностях рассказала мне Степанида Максимовна.
Совершенно так же, как и в новгородскую старину, сватом сходил крестный отец. Хотя и сяжно было, но не сразу согласились невестины родители. «Позвольте, – сказали они, – думу подумать, вот родня соберется».
И другой раз сходил сват. На третий привели жениха пить рукобитье.
Затянули столы скатертями, хлеб-соль положили, у иконы свечку затеплили, утиральник повесили. Помолились богу и выпили рукобитье.
В это время и научилась Степанида вопеть по-свадебному, или «стихи водить». Ей казалось, что свадебные причитания сами собой пришли ей в голову, как понадобилось. Но на самом деле, незаметно для себя, она из года в год постигала эту премудрость, прислушиваясь к «голосу» других невест. Многое, конечно, создалось и так, как думает Степанида Максимовна, то есть непосредственно вылилось.
Сначала она вопела отцу:
Становилась подневольна носата голубушка На одну мостиночку дубовую Уж не катитесь, мои горькие слезы горючие, По моему блеклу лицу, не румяному…Вся в слезах, благодарила она отца и приносила ему покор, благодарность великую, что не жалел он для нее «казны собенной несчетной», покупал ей «цветно платьице лазурево», «снаряжал и отправлял ее по честным владычным праздничкам». Теперь она просила его не пожалеть скорой скороступчатой лошадушки и собрать всю родню к последним столам белодубовым
Почти целую неделю Степанида гостила и вопела у всех кумушек, сестреюшек и даже у соседей. Придет, бывало, к кому-нибудь, а уж там для нее самовар согрет, на столе тарелка с пряниками, со всем, что найдется. Посидят, побеседуют, а на прощании невеста вопит «легоньким вопом»:
Отпустите на мою слезну слезливу на свадебку, Когда я буду расставаться с своей вольной волюшкой.Всех обошла Степанида и вдруг вспомнила про свою любимую подруженьку, теперь покойницу:
Уж вы повийте, тонкие ветры холодные, Из-под холодной из-под северной сторонушки… Раскатитесь, пенья, колодья валючии, И повыстань, моя красная красивая подруженька…Но час-часочек коротается. От жениха стали приходить дружки, торопить. Бывало, придут:
– Бог помощь, живите здорово, Петр Герасимович, Марья Ивановна, Степанида Максимовна, вси крещеные. Как здорово живёте?
– Просим милости, подьте, пожалуйста, проходите, садитесь.
Посидят, отдохнут, отдадут жениховы гостинцы, да и скажут:
– Недосуг нам проживаться да прокармливаться, немощно ли как поскорее?
– Ну, ладно, – отвечают им, – поноровите, дайте волю, мы вас дольше ждали.
Между тем в семье происходило прощанье невесты с отцом, с матерью, с братьями, с подруженьками и, наконец, с своей русой косой красовитою.
Утром подруженьки будили ее песней и мало хорошего ей сулили:
Ты чего спишь, глупая белая лебедушка, Как в ногах стоит страшная гора страховитая, А в головах стоит женское житье подначальное.Проснувшись, она просила принести холодной свежей водушки с этого Выг-озера страховитого. Но эта вода оказывалась со мутом и ржавчиной. Подруженьки приносили со струистой быстрой реченьки, но и эта вода была бессчастной. Наконец, водушка из темного леса из колодечка оказалась счастливой и могучей.
Тогда Степанида просила мать взять частозубчатый гребешок и расчесать дорогу вольну волюшку, свою косу красовитую по единому по русому по волосу и завязать семью шелковыми ленточками.
Это время самое интимное, самое священное для девушки: красование.
Тут отец, мать, братья, вся порода родительская. Невеста, разукрашенная, разодетая, ходила «по одной дубовой мостиночке».
Благословите, жалки желанны родители, Уж мне пойти ко теплому витому гнездышку, Уж мне расстаться с моим дорогим привольным девичеством.Долго-долго причитывала невеста Все спрашивала, куда бы положить свою вольную волюшку: обернуть заюшкой, водоплавной утушкой, повесить на липовой жердочке или у матери в виноградном зеленом саду? Но везде ее воле было не место и не местечко. Осталось разделить ее между подружками советными.
Утром в день венчания явились, наконец, поезжане: жених, его родители, тысяцкий, брюдьга. Их встретили подруженьки свадебными песнями.
Когда все расселись по порядку: ближняя родня повыше, дальняя пониже, тясяцкий постучал батожком по грядке и сказал, обращаясь к дружкам:
– Господи Иисусе Христе, а подайте нам, за чем мы пришли!
А дружки сходили к невесте и сказали:
– Есть в дороге, да пала погода, занесло дорогу порато.
Наконец появилась Степанида, поднесла «князю» на подносе платок, а он положил ей денег, мыло, зеркало и гребень. Началась церемония продажи невесты. За нее просили денег, торговались, уверяли, что она им стоила дорого, что ее кормили, поили, одевали. Наконец Степаниду продали и пропили. Одним словом, разыграли комедию, взятую из старинных времен языческого славянского быта. После этого оставалось отдать долг и новейшим христианским временам – повенчаться в церкви.
Но не так легко язычникам стать христианами. Уже в то время как отец и мать благословляли Степаниду иконой, принимались всякие меры, чтобы враг не испортил молодых, не бросил бы чего между ними. Был приглашен специально для этого даже колдун с Химьих песков. Особенно стерегли молодых, когда сажали в сани. Усадивши, их хорошо закутали и отвезли в церковь.
После венчания поплыли на лодках, так же как и в Венеции, на Карельский остров к жениху. Там молодых обсыпали хлебными зернами, молились, здоровались, обходили столы Тут собралось народу «лик ликом», было последнее столование. Пили «горько», клали деньги в рюмки. Наконец, молодых увела проводница спать. На глазах ее молодая сняла у князя сапог, и он положил ей в него деньги…
Утром вытопили байню, и проводница сводила в нее молодых. Для посторонних тем дело и кончилось, но для молодых только началось.
* * *
Стали жить и поживать. За старшим сыном женили другого, и так – всех шестерых. Старика соседи укоряли, что девок по виду выбирал, а на природу не смотрел. Между тем первое дело природа. С виду девка будто бы и хороша, а, глядишь, у свекрови над головой горшок разбила. Почему? Потому что вся ее природа была хитрая да воровитая. В девках все хороши, всякая жениха хочет и себя смиренницей ставит, поди ее раскуси. А вот как завязали рога на голове, так и скажет: «Теперь моя голова прикрыта, знать я никого не хочу».
Еще при жизни старика пошли несогласия между братьями из-за баб. «Напрасно старик большой дом выстроил, – говорили дальновидные люди – не жить им вместе».
Помер старик. Словно предчувствуя беду, сильно убивалась старуха. Где уж ей теперь справиться, удержать вместе такую семью! Одна надежда оставалась теперь на Гаврилу, к которому переходила отцовская власть, и на большуху Степаниду.
Братья еще кое-как держались, но жёнки так и шипели: «Кончился лиходей наш, комом ему земля, не работал, а только распоряжался хозяйскими деньгами. Теперь хоть свет увидим. Вот когда бы только эта змея кончилась». Но старуха отлично понимала, что ей не справиться с ними, и передала хозяйство Степаниде. Еще на похоронах она вопела:
Уж ты у дверей будешь придверница, У ворот будешь приворотница, У замков будешь замочница, Во дому будешь большухою.Трудное дело большухи в таком доме, где все врозь лезет. Ко всей хозяйственной суете можно привыкнуть: пораньше вставать, хлопотать у печи, будить, распределять работу, вечно толкаться из стороны в сторону и не знать себе покоя. Но самое трудное дело – это ладить со всеми. На лов ли ехать, на пожни, к празднику, тут уж нельзя свой нос вперед совать. Нужно помалешеньку выведать, кто как думает, а потом и предложить на совет. Но человек – не машина: раз удалось, два удалось, а на третий и сорвалось. А тут меньшуха такая попалась, что раскопала всю семью. Всем-то она недовольна, дела не делает, а только и знает, что гнусит под палец. Она всегда может уязвить большуху тем, что у той шесть человек детей, значит шесть ложек, а у нее только две: она сама да муж. Наконец не стерпела Степанида:
– Ах ты, нищая, с голодухи мы тебя и в дом-то взяли!
– А я не просила, – ответила меньшуха, – у ворот не стояла. Я вот тут одна с мужем, а ты в шесть ложек ешь!
Меньшуха сказала, другие молчали, но словно стали коситься и замечать, что Степанида-большуха в шесть ложек ест. И день ото дня стало все хуже и хуже. Раз пришли на пожню. Взяла большуха, как водится, батожок, разделила на шесть полос, чтобы каждый свое дело знал. А меньшуха тоже взяла батожок, отделила шесть частей большухе, а одну – для себя.
– Вот, – сказала она, – тебе шесть частей, у тебя шесть ложек.
– Да как ты смеешь? Я тебя косой!
Но меньшуха как сказала, так и сделала: скосила свою часть, а потом легла на сено и пролежала так до вечера.
Тут уж все подумали: «Не жить вместе».
Пришли домой, сели паужинать молча. Словно гроза собиралась. Протянул было Мишутка большухин ложку к ухе, а меньшуха как его по руке ударит! Всех так и взорвало. Стали ругаться, кричать, собрались в кучу, не расходятся. У кого в руках кочерга, у кого скалка, у кого нож.
– Начинай!
– Нет, ты начинай!
– Ну, тронь!
– Тронь ты!
Стали по судам ездить, жалобы за жалобой. А раз чуть большака не убили.
Пошла Степанида коров посмотреть, слышит – в избе крик и шум. Прибежала назад к избе, а дверь заперта. Смекнула, в чем дело, бросилась к дровам, захватила охапку поленьев, стала швырять в окно поленьями и разогнала мужиков.
Бывало и так, что схватят двое-трое одного и тянут в разные стороны. Раз люльку с ребенком в окно вышвырнули, так что ребенок на всю жизнь остался с кривым ртом. И много было всякого греха.
Наконец решили делиться.
Разделили соленое лосиное мясо, рассыпали рожь, развесили муку, поделили скот, сено, солому, горшки, – все разделили. Неразделенным остался только дом, потому что зимой нельзя строиться. После этого стали жить в шесть семей в одной избе. В одном углу поместились Гавриловы, в другом – Семеновы, третий угол занят печью, четвертый красный. Остальные четыре семейства разместились на лавках, на кроватях. Один уголок парусом завесили. Решили так и коротать зиму.
С внешней стороны как будто бы и печальная, даже мрачная картина разрушения. Но это только на вид; с внутренней стороны в этой жизни было столько счастья, перспектив на будущее, что если бы знали даже самые предовольные соседушки, то уж, конечно, позавидовали бы или, самое меньшее, задумались о суете мирской, о ничтожестве всего земного.
Счастье так и блистало во время обеда, когда каждый из шестерых отцов, теперь сам большой, поглаживая бороду, дожидался на кровати своего собственного горшка. Раньше, бывало, большуха истолчет вареное мясо и распустит в горшке, а теперь всякий ест, как хочет. И как довольна мать, когда, выделив косточку, подзовет своего любимого Мишеньку или Сереженьку поглодать.
Бывало раньше, кто-нибудь один нехотя погонит скотину к озеру на водопой. Теперь же всякая хозяйка У своего хвоста спешит с любовью и гордостью исполнить свои обязанности. Дивились соседи и смеялись.
Не без того, конечно, чтобы семейное счастье иногда не нарушалось. Сидят ребятишки на кровати, а под кроватью горшки наставлены, квашня. Вдруг влетает в избу поросенок из другого семейства – и под кровать: повалил горшки, попал в квашню. Прибежала жёнка, стала его хворостиной стегать, а хозяйка поросенка заступаться. Визг, крик, скандал.
А как теперь кур кормить? Птица, как известно, не сеет, не жнет и не признает чужой собственности. А сколько неприятностей у печи! Раньше ставилось в печь всего два больших чугуна, для каши и для ухи, и хозяйство вела одна большуха. А теперь в печи ежедневно грелось двенадцать горшков, а у печи шесть хозяек. Как же тут не зацепить, не повалить?
Но все эти неприятности пробегали легко, игриво, как случайные ветерки на озере в ясный и тихий день. Впереди весна, когда всякий заживет своей собственной, отдельной и довольной жизнью.
И весна пришла. Стали строиться. В одно лето на Карельском острове прибавилось пять новых дворов. Все стали жить по-своему, отдельно, хорошо. Одни только лошади, по привычке, долго ходили на старый двор.
* * *
Вскоре после раздела, когда жизнь только начала налаживаться, на озере потонул Гаврило. Степанида Максимовна, еще молодая женщина, осталась одна «со умноженным со стадом со детиныим». С тех пор ее жизнь, вплоть до тех пор, пока ей не удалось вырастить детей, была сплошным испытанием.
По мужу она так вопела, что падала в судорогах, дрожала, хрипела. Ее поднимали, оттирали, отпаивали молоком, и она снова принималась вопеть. Наконец, ее решили протащить под гробом мужа, что, по местным верованиям, помогает.
– И вот, – рассказывает теперь Максимовна, – когда меня волочили, я хребтом в гроб упиралась. Упрусь и шепчу: «Ходи ко мне, ходи!» А когда последний раз прощалась, так в голые губы поцеловала, холодные, и слезу на лицо ронила, а сама шептала: «Ходи ко мне, ходи». Он и стал ко мне ходить, да так часто, что и не прилюбилось. Навопелась раз я, – а я каждое воскресенье к нему на могилу вопеть ходила, – и надела мужнину шубу да в одевальницу закуталась, а то после вопу-то дрожь брала. Поехала за сеном. И только проехала сенной наволок, вдруг рапсонуло мне на воз. Гляжу – муж в жилецком платье, шепчет мне: «Пусти, пусти, не кричи, я не мертвый, я живой!» Думаю я, какой мне-ко разум пришел, и одурно стало, дрожь на сердце пала, и будто кожу сдирают. А уж как гугай-то (филин) в лесу кричит, да собачка лает, да вся эта лесовая-то сила – страсть! А по снегу все Кубани (тени), все Кубани бегают! Кричу я сыну: «Микитушка, подь ко мне на воз!» Сидим на возу: я вижу, а он не видит. И сказать боюсь, парень пугаться будет. Думаю, дай-ко стану на воз, может, отстанет. Стала, да тут же и пала. Так без памяти и без языка сколько-то времени лежала. Снегом меня оттирали, чаем поили, на печь положили, отжила.
Так от собственного горя и научилась вопеть Степанида Максимовна. Стала ходить вопеть и по людям, подголосничать на свадьбах.
Такая же судьба, или приблизительно такая, бывает, вероятно, у всякой вопленицы. На Выг-озере я знал несколько воплениц, и все они были вдовицы, горюши, горе горькое, как и Максимовна. Раз только меня удивила своим веселым, жизнерадостным видом здоровенная и хитренькая плакальщица бабушка Устинья. Чтобы вызвать в ней профессиональное соревнование, я принялся ей хвалить Максимовну.
– Так уж, верно, она тебе мужнин воп сказывала? – осведомилась она. – Ну, по мужу-то легко брюхо валить. Она повопела бы по детям да по родителям.
И веселая бабушка Устинья стала серьезной. Оказалось, что двадцать лет тому назад у нее умер любимый сын, и она по нем восемь лет вопела. Всякую причеть она передавала мне просто и довольно равнодушно: и по мужу, и по родителям, и по хорошей свекрови, и по плохой, но когда стала вопеть по сыну, расплакалась.
После, при встрече с Степанидой Максимовной, я передал ей разговор с Устиньей. Но бесконечно добрая, независтливая вопленица горячо поддержала Устинью.
– Всякие жены есть, – сказала она, – хоть по мужу-то и порато повопишь, а по деточкам по желанию.
«Родна матушка плачет до гробовой доски, до могилушки.
А молода жена до нова мужа.
А родимая сестра плачет, как роса на траве».
Ловцы
Рыбу ловят в Выговском краю все, и почти всякое селение расположено там возле озера или речки. Но настоящие ловцы – это Выг-озеры. Рыбная ловля – их главное, основное занятие. Карельский остров в этом отношении самое типичное место. Беднота тут страшная. Вид угнетающий. На этом острове даже леса нет, – только вода да камень; у каменистого берега виднеется десятка два лодок, сушатся сети на козлах, и между ними копошится человек в лохмотьях; прибавить сюда группу почерневших от дождя и ветра изб, изгородей, кучку елей, скрывающих часовню, – вот и вся картина. Невольно приходит в голову: неужели и тут имущественное неравенство, зависть, злоба, самолюбие… Для уяснения себе этого местные люди рекомендуют… пересчитать бани. Если бань немного, значит живут ладно, если много, то плохо: друг к другу не ходят в баню. Замечают также, что чем селение меньше, тем и бань больше; там, где живут двое или трое, то уж непременно у каждого своя баня.
В этом суровом климате люди любят одиночество, любят расселяться поодиночке, выискивая новые и лучшие места. Выселится куда-нибудь к лесному озерку и живет себе с своим семейством среди божьего простора леса, воды и камня, в неустанном труде. Впрочем, связь с деревней не разрывается; там его родственники и вообще все ближние. Он даже и не считает, что отделился от деревни; его починок называется тем же самым именем. Он устроился, обжился. Мало-помалу возле его дома появился другой, третий, возникла деревенька с тем же названием. Вот, например, деревня Кайбасово на Выг-озере, подальше от него есть еще Кайбасово, а если поискать в лесу хорошенько, то, наверно, найдется еще Кайбасово: это уже будет починок, один дом. Так расселяются на Севере, и потому так часто встречаются деревни в два-три дома. Однако между всеми этими деревнями на Выг-озере крепкая связь. Поселившись на Карельском острове, я чувствовал себя, будто живу в одной деревне, раскинувшейся на громадном пространстве между Повенцом и Поморьем. Не говоря уже о том, что из разговоров можно узнать на Карельском острове всю подноготную, к празднику в Петров день тут собирались и из Телекиной, и из Данилова, и даже из «залесной заглушной сторонушки» Пулозера и Хижозера. Северяне выработали себе мудрое правило: в будни подальше от людей, в праздник поближе к ним. И, конечно, те люди, которые живут в одиночку, сильнее других, собранных в поселки: в одиночку нельзя прожить без труда, а в деревне между людьми всегда можно как-нибудь перебиваться с хлеба на квас.
И на Карельском острове есть и богатые, и бедные люди; об этом можно заключить уже по внешнему виду изб. Вот большая, прекрасная изба, а рядом с ней – жалкая, похожая на кучу дров, избушка с полуразрушенной крышей. Общего между этими избами только их бросающаяся в глаза оригинальная северная архитектура. Под одной кровлей здесь укрыты и жилище человека, и все хозяйственные дворы. Но прежде всего бросается в глаза, что даже самая маленькая изба построена в два яруса, причем в нижнем ярусе не живут, а он служит только для тепла, для хранения хозяйственных вещей. Останавливает внимание также мостовой деревянный въезд (в телегах) на верхний ярус, к той части, где помещается верхний деревянный двор. Тут, на этом дворе, хранятся хлеб, сено, солома, а внизу помещается скот.
Но богатые люди здесь отделяются от бедных не каменной стеной, как в городах. Богатство заключается главным образом в хорошей, правильно организованной семье; потом – лишняя лошадь, корова, лодка и сеть. Вот и все различие в имуществе. Из тридцати дворов Карельского острова в трех дворах по две коровы, в пяти – совсем нет, в остальных – по одной. У шестнадцати хозяев совсем нет лошадей. Во всей деревне только тринадцать неводов, которыми пользуются по два двора. Без коровы еще можно жить, можно жить и без лошади, но когда нет лодки, то остается только идти «по проклятому казачеству», то есть наняться в работники к тем, кто нуждается в рабочих руках. Впрочем, казачество называется «проклятым» только ввиду идеала правильной и счастливой семейной жизни, а не потому, что бедняк зол на богатого. Богатство все на виду в деревне, и бедняк жалуется только на свою судьбу; эти бедняки – большей частью маломожные вдовы-горюши, которые не в состоянии иметь лодок для осеннего лова, которым не хватает мужских рук.
Но если богатство все на виду, если оно создается трудом и чрезмерно разбогатеть невозможно, то почему же вот Тимошка Тиконский сильно разбогател и как-то сразу? Раньше был бурлаком, нанимался в казаки – и вдруг пошло и пошло… Выстроил дом тысячный, в клети четыре коровы, две лошади.
Но Тимошка не в счет. Тимошка – рыбный колдун. Разбогател он от рыбы.
Простой человек от рыбы не разбогатеет. Теперь рыбы стало «на умали» попадать, и как ни бейся, а больше положенного не поймаешь. А Тимошка так и валит, так и валит. Даже вот в тот год, когда Выг-озерский хозяин, как говорят старушки, сегозерскому рыбу в карты проиграл и все голодные круглый год сидели, Тимошка и щук насушил, и сигов насолил, и ряпушки немало свез в Шуньгу на ярмарку. Тимошка колдун, он знает рыбный отпуск (заговор) и за хорошие деньги может, пожалуй, и научить. Но где же денег найдешь для Тимошки? Уж лучше попросту, по-старинному зашить в матицу летучую мышь; бывает, и это помогает. Рассказывают, будто Тимошка сошелся с водяным так. Раз, глухой ночью, он вытянул невод на остров. Глядит, а в матице кто-то сидит… Развел Тимошка огонь на острову, выволок невод. Разложил матицу – и вытащил водяного. Черный да шерстной! Тимошка не испугался, посадил водяника к огню и спрашивает: «Тебя в огонь?» – «Ни… ни…» – мычит водяник. «Так в воду?» – спрашивает опять Тимошка. «Да, да…» – промычал водяник. Тимошка его и пустил. Вот с тех-то пор и повалила к Тимошке рыба. Тимошка колдун, Тимошку в пример брать нельзя. А так, от трудов не разбогатеешь в этих краях. Труд беспрерывный, тяжелый, круглый год без отдыху, одинаковый и весной, и осенью, и зимой, и летом.
* * *
Ранней весной молодая, самая сильная часть населения отправляется на сплав лесов, «уходит в бурлаки», как здесь говорят. Впрочем, среди бурлаков попадаются и мальчики, и старики: «Ходим в бурлаки, – скажут здесь, – с малых лет и до дикой старости».
Бурлачество здесь – словно всеобщая повинность. Население проклинает эти каторжные и опасные работы, но жить без них не может. Вербовка бурлаков начинается приблизительно с Крещенья, в то время, когда крестьянин уже наверное съел не только собранный им хлеб, но и тот, который ему дал местный лавочник под будущий лов рыбы: мережный весенний, осенний неводной и под рябы, то есть под рябчиков, тетеревей и прочую дичь. Вот в это-то время где-нибудь в центральном месте поселяется десятник, который вербует бурлаков, выдавая им вперед задаток. Денег у десятника обыкновенно нет; он сам берет муку в кредит у повенецких лавочников, и потому задаток, даже и весь будущий заработок выдается мукой и другими продуктами. Между Крещеньем и половиной марта лучшая, сильная часть населения успевает уже продать и проесть свою рабочую силу. Лишь немногие могут избежать этой кабалы и наняться весной непосредственно у приказчика, заведывающего сплавом леса. Эти немногие счастливцы называются «одинки».
Лес, сплавом которого заняты бурлаки по рекам и озерам, направляется к Белому морю, к Сороцкой губе. Там он распиливается на доски и отправляется в Англию. Само собой понятно, что для этого выбираются только самые лучшие деревья; но даже и они не сплавляются целиком: от них отрезается ровная часть, а верхушка в две-три сажени бросается в лесу и гниет. Гниет также и пропадает даром весь сухопостойный или поваленный ветром лес. В то время как где-нибудь в черноземной полосе чуть не из-за сучка помещик судится с мужиками, здесь бесчисленное количество леса пропадает даром. Лес до сих пор здесь, как вода и воздух, еще ничего не стоит. В лесу часто встречается десяток срубленных гниющих деревьев; это срубил охотник, перегоняя белку с дерева на дерево на видное местечко, или земледелец, для того чтобы, собрав хвою, употребить ее на подстилку скоту… Много было проектов, много раз обсуждался вопрос о соединении каналом этой местности с Онежским озером и, следовательно, с Петербургом. Раз даже серьезно приступили к разработке этого вопроса. Но от всех этих начинаний осталось лишь возле деревни Масельги два камня с надписью: «Онежско-Беломорский канал». И никаких естественных преград для канала не оказывалось, а просто частным лицам предприятие было слишком дорого, а государство Севером не занималось. Теперь лес отправляется пока в Англию. Зимой его заготовляют, то есть рубят и свозят к берегам рек и озер. Весной же его поднимает вода, а не захваченный разливом окатывают бурлаки и провожают. На речке лес движется россыпью, а на озерах его собирают в кошели; для этого множество деревьев связывается вересковыми прутьями, так что из них образуется как бы длинный прочный деревянный канат; этим канатом охватывается весь собранный бурлаками лес на озере; вся масса деревьев бывает заключена таким образом как бы в кошель. Такой кошель подвигается вперед посредством головки, как называется плавучий ворот на якоре. Воротом подтягивают кошель, а потом снимают якорь, передвигают веслами головку вперед, снова подтягивают кошель и так далее. Хвост, то есть кошель с головкой, движется по Выг-озеру вплоть до Воицких падунов. Здесь кошель разбивается, потому что каждое бревно должно свалиться в падь, претерпеть отдельно свою собственную участь. Бывает, что громадное, семивершковое дерево, свалившись в падь, ульнет там и затем с страшной силой выскакивает из воды; если при этом оно ударяется о скалу, то, случается, разбивается вдребезги или мочалится на четверть, на две. Пролетев через падун, деревья собираются в Надвоицком озере и затем движутся россыпью по бурной, порожистой реке Выг.
Бурлацкая работа – чуть ли не самая тяжелая из всех существующих работ; вместе с тем она и очень опасная.
Ранней весной, при разливе рек, когда бывают еще и морозы, бурлаки окатывают баграми лес с берегов рек и озер в воду. Целый день они мокнут, бывает даже выкупаются в холодной, только что растаявшей воде. Вечером, часов в десять, собираются кучками в лесу, разводят костры и, тесно прижавшись друг к другу, щелкают зубами до утра. Утром – «черт в зорю не бьет» – часа в четыре нужно уже быть на работе. Когда лес в воде, они его должны провожать. Некоторые идут по берегу и баграми отталкивают готовые застрять между камнями деревья, а некоторые стоят на бревнах, плывущих по реке, и, перескакивая с дерева на дерево, цепляясь баграми за деревья, стараются всей плывущей массе леса придать удобную для прохода в узких местах форму или просто не дать отдельным деревьям загородить путь. В очень неудобных местах, на загубках, устраиваются отводы из двойного ряда связанных между собою деревьев. Плывущие деревья, ударяясь об отвод, не могут попасть в загубок и там задержаться. Но в больших порогах, несмотря на все эти меры, почти всегда застрянет где-нибудь дерево, за ним другое, третье, больше и больше, пока, наконец, нагромоздится целая гора леса и остановит все движение. Вот тут-то, когда заломит, и бывают самые опасные работы, требующие отчаянной храбрости. Вся эта остановившаяся масса деревьев, коса, часто держится на одном-двух деревьях. И вот смельчаки, получающие не в пример прочим жалованья до семи рублей в неделю, берутся разобрать косу. Смельчак становится на одно плывущее бревно и, сохраняя равновесие посредством багра, цепляясь им то за камни, то за другие плывущие деревья, подъезжает к месту залома. Здесь он выбирает те именно деревья, которые, по его мнению, задерживают движение остальных, привязывает к ним веревку и спешит уехать к берегу. Но случается, что, в то время как он выискивает заломившиеся деревья, коса вдруг трогается. Тогда бурлак на своем бревне мчится впереди косы к порогу, стараясь лишь не задержаться, не дать нагнать себя массе деревьев. Миновав порог, не раз окунувшись в клокочущей воде и постоянно снова вскакивая на бревно, он выезжает на плёсу[13]и там спасается.
Один бурлак мне рассказывал, как он попал раз в кипун при разборе косы; он говорил, что его там вертело ногами через голову минут пятнадцать; он потерял уже сознание, но товарищи его спасли.
Продрогшие, промокшие, часто в лихорадке, бурлаки в конце концов добираются до лесопильного завода в Сороке. Там уже своя поморская, свободная жизнь.
Тут бурлаки отводят себе душу такой жизнью, которая ничего не имеет общего с патриархальным выговским бытом.
* * *
В то время как бурлаки работают на сплаве лесов, другие обитатели Карельского острова готовятся к мережному лову. Пока лед еще не разошелся, мережи нужно пересмотреть и починить. Мережи – это те же самые верши, но только они сделаны не из прутьев, а из сетки, натянутой на деревянные обручи. Весенний лов происходит у болотистого берега, и потому перед мережным ловом все болото делится на равные части. Как только сбежит снег, посинеет лед на озере и станет отставать от берега, тут-то и ставят мережи у болотистого берега одну возле другой, стенкой. В это время щука нерестует, стремится к берегу, чтобы оставить там икру. Но на пути она встречает мережу и с удовольствием входит в ее язык, потому что в узком проходе ей удобно освободиться от икры; рыбе так хочется избавиться от нее, что она не боится и даже очень узкого прохода, лишь бы можно было пройти
Весеннее солнце сильно пригревает воду. На солнопеке рыба быстро наполняет всю мережу и даже может разорвать ее, если вовремя не осмотреть. Вот почему ловцы не допускают, чтобы в мережу набралось более десяти – пятнадцати штук; они спешат «сбавлять мережу», то есть развязать ее носок и выбрать рыбу. Тут иногда попадается громадная щука, и случается, что в спине ее бывают когти и даже лапы скопы. Очевидно, хищная птица, не соразмерив своих сил, впустила когти в громадную рыбу и была увлечена в воду. Вместе с щукой попадаются иногда язь, окунь, плотица, лещ и мень (налим). У хорошего хозяина таких мереж штук сто, и в весну он может наловить щук рублей на семьдесят; но у большинства их не больше сорока. Пойманную рыбу тут же и чистят. Садятся старые, матерые люди и жёнки где-нибудь на угреве и пластуют щук. Вычищенную рыбу солят и складывают в кадки. Заедет «богач», как здесь называют всякого торговца, и скупит всю эту вешную рыбу, а если не заедет, то ее высушат на солнце и продадут после. Олончанин – большой любитель этой сушеной рыбы.
Весна вступает в свои права. Время бы и выгонять скотину в поле, но куда же выгонять ее на Карельском острове, где только камень да болота? Очевидно, ее нужно перевезти на другие острова, с более плодородной землей. Такой хороший остров, верст в десять длины, находится всего в двух верстах от Карельского острова. И вот, в то время как в обыкновенных условиях выгоняют скотину в поле, на Выг-озере плывут лодки с коровами, лошадьми, овцами. В каждую лодку может поместиться только одна скотина, да и то необходимо особое приспособление, козел, бревно с перекладиной в виде буквы Т, чтобы лодка не опрокинулась. Козел кладется перекладиной в воду, а другая часть его опирается на борт лодки.
Обитатели Карельского острова – народ бедный; они не в состоянии даже иметь для стада пастуха, а может быть, и просто непривычны к этому. Скотину пускают одну на божий простор, на божье произволение. Бродит скотина в лесу, как дикие животные, и только звон колоколов, такой странный в молчаливом северном лесу, говорит о связи этих животных с людьми. Впрочем, ни коровы, ни лошади за лето не отвыкают от людей, а овцы даже скучают и, когда увидят проезжающую лодку на озере, собираются на берег кучкой у самой воды и жалобно блеют. Только телята к осени становятся совсем дикими и доставляют много хлопот хозяевам осенью. Их загоняют в топкое болото и там ловят; если нет близко болота, устраивают загон.
Когда скотина перевезена на остров, то женщинам приходится каждый день ездить туда доить коров. Рано утром они садятся в лодки, почти всегда с ребятишками, и уезжают. Пристают к берегу. Тучи комаров, мошек и оводов носятся в лесу. Спасаясь от них, скотина вся, до головы, входит в воду и там ожидает подъезжающих женщин. Коров выгоняют на берег, разводят костер и ставят животных выменем к дыму. Кроме того, по обеим сторонам становятся дети с ветками и отгоняют комаров. Происходит доение. Подоив коров, женщины непременно прислушаются, не слыхать ли колоколов, не случилось ли чего с лошадьми. Если колокольчики не звенят, то они пойдут непременно в лес искать лошадей. Мало ли что может с ними случиться!
В это время мальчики едут на лодке удить рыбу для ухи. У знакомой луды почти всегда играют парвы (стайки) окуней. Мальчики спускают в воду заранее приготовленный камень на веревке, «якорь», и ждут, пока лодка «обставится», затем наживляют червяка и спускают крючки на лесках в воду без поплавков, без удилищ. Все это здесь лишнее; окуней очень много, и без поплавка слышно, как «тыркает» рыбка. Шшш… – зашумит стайка окуней у луды и «затыркает». Теперь успевай только выхватывать да насаживать червя, овод или даже окуневый глаз на крючок. Мальчики поглощены работой, не замечают, как красиво глядятся угрюмые острова в спокойное озеро, как выскакивает из воды и сверкает на солнце серебристая семга.
Но вот подул ветерок, рыба ушла в глубину, коровы выдоены, лошади найдены. Едут домой, но по дороге непременно нужно осмотреть сиговые сети. Издали можно узнать, где поставлены эти сети. Там торчат темные колышки из воды, вьются чайки, хохочут гагары. Эти птицы часто «обижают» ловцов, ныряют в воду и клюют запутавшуюся в тонкой и редкой сиговой сети рыбу. Бывает так, что гагара и сама платится за свое хищничество жизнью, запутывается в сети. Она годится ловцам: у нее шкура шадровитая, прочная, из нее, если снять шкуру и обделать, выйдут прекрасные теплые туфли.
Одна женщина гребет, и лодка двигается вдоль сети, другая быстро собирает сеть в лодку, время от времени вынимая запутавшегося сига, окуня, плотичку и выбрасывая расклеванную или уснувшую рыбу. Сетку так и оставляют в лодке: ее нужно высушить дома, повесив на ветерок на козлах у берега. Если же ее не просушить, то она заглевеет, покроется слизью, и рыба не будет в нее попадать.
Иногда вместе с женщинами на лодке приезжает домой и конь. Это бывает в том случае, если перед поездкой они заметят, что пар затравел, что его нужно вспахать. Дома пашут, солят рыбу, продергивают заросшую репу. Так проходит время до полдня. К этому времени старуха изготовляет кашу, рыбники и уху. Едят больше окушков или ряпушку; сигов есть нельзя, они стоят дорого, шесть копеек фунт, и годятся «для богача». Поедят, отдохнут – и снова за работу. Рабочий день велик, он состоит из трех упряжек: утренней – до восьми часов, средней – до полдня и вечерней – до заката солнца, когда садятся паужинать. Вот так и живут и трудятся от «выти до выти» (от еды до еды)
С закатом солнца на Севере почти не происходит никаких перемен, по-прежнему светло. И, вероятно, это отсутствие границ между днем и ночью раздражает даже и помирившегося, привычного к этому северного человека; ложатся не сразу, а старик долго, иногда часов до двенадцати возится у сети или у дров. Наконец и он вспоминает, что надо же спать, и ложится рядом со всеми на лосине (лосевой шкуре) на полу.
Душно в такую ночь: раскинулась мать, беспокоятся ребятишки, кто уткнулся у груди, кто у ног, кто и вовсе сполз с лосины. А на улице светло, прозрачно, тихо, кричат на болоте утки… Старик последний лег и первый встает. Встает и старуха, топит печь, качает зыбку. За ними встают все и по очереди подходят к медному чайнику-умывальнику, подвешенному на веревочке над кадкой. От этой кадки исходит тяжелый, удушливый запах, там варится уха для стельной коровы, которую опасно было везти на остров. Еще вчера старуха, когда чистила рыбу, набросала в кадку рыбные отбросы, а утром подлила воды, помоев и опустила туда горячий камень.
Мало-помалу время движется к лету, и работа следующих дней не походит на вчерашнюю. Подходит листобросница – пора, совершенно незнакомая хозяевам средней и южной России. Женщины едут на лодках на тот же Янь-остров, находят березовые лядинки и, пригибая нижние ветки, обрывают лист и складывают в лодки. К вечеру домой плывут уже не лодки, а копны, на верху которых важно сидят ребятишки. Лист складывается на верхнем дворе, над скотным двором, для просушки. С этих пор хозяева обыкновенно спят здесь на мягком листе. Березовый лист предназначается для зимнего корма скота. Если его пересыпать мукой, то неприхотливые мелкие северные коровенки мирятся с этим кормом.
После листобросницы начинается тяжкое время: сенокос. Тут уже не обойтись без бурлаков: жёнки не сумеют выточить косу, не могут сложить и зарода. Они с нетерпением, с волнением дожидаются мужей, боятся, как бы не запоздать с сенокосом… Наконец приезжают истомленные, измученные бурлаки. Им нужно отдохнуть, кстати выточить косы, починить кошели, вычистить ружья, которые пригодятся на лугах.
* * *
Сенокос на Севере – совсем не то, что в южных, счастливых местах. Луга такие жалкие, что сначала не веришь глазам: неужели эта низенькая трава, не более четверти аршина высотой, стоит трудов? Но оказывается, что как раз эта-то жалкая трава и есть самая хорошая «земная трава». Она состоит не из кислых осок, а из сладких злаков, которые охотно ест скот. Но бывает, что в «водливые годы», то есть когда сильно разливается озеро, и этой травы не бывает, родится одна кортяха, то есть хвощ. Эту кортяху скот уже ни в каком случае без муки есть не станет, а мука – продукт дорогой, большею частью привозной. По подсчету местной земской управы, население Повенецкого уезда употребляет треть всей имеющейся в его распоряжении муки на корм скоту. Отсюда можно себе представить, какова эта трава, к которой нужно прибавлять столько муки, чтобы сделать ее съедобной! «Водливые годы», которые так ухудшают пожни, происходят от переполнения Выг-озера, которое не успевает переливаться через падуны в реку Выг. Вот почему местные люди убеждены, что если бы можно было взорвать щелья на падуне и понизить уровень озера, то и берега бы пообсохли, и выросла бы трава хорошая, «земная». И в самом деле, на немногих сухих местах здесь всюду виднеются красные головки превосходного визильника, то есть клевера.
Эти жалкие пожни находятся иногда очень далеко от деревни. Так, с Карельского острова ездят верст за двадцать и работают там, не возвращаясь домой, целую неделю. В это время в деревнях остаются только старый да малый, а все, кто может работать, переселяются на пожни. Там, на месте сенокоса, устроены маленькие избушки, «фатерки»; в них обыкновенно и спасаются ночью от комаров усталые работники. Комары и мошки – страшные враги косцов; их так много, что не будь у косцов комарников, прикрывающих лицо, было бы невозможно выдержать пытку. «Хоть вопи», – говорят косцы.
Косят все: мужчины и женщины; вернее, не косят, а рубят траву. Косец ударяет горбушей, то есть большим серпом, от правого плеча к левому и сейчас же от левого к правому, все время согнувшись, обвязав голову платком от комаров. Какой изящной и легкой забавой кажется после этого южная косьба, при которой в ритм машут руками. Здесь этот ритм, так облегчающий работу, невозможен: из травы то и дело виднеются камни, то и дело приходится прерывать работу. А тут еще комары и мошки. Какие бесчисленные легионы их носятся в воздухе, можно понять лишь, когда из леса вырвется на полянку тонкий солнечный луч и их осветит.
Косят обыкновенно утром, а когда солнце подсушит росу, то начинают складывать в зароды то сено, которое уже подсохло. Для этого выбирают местечко посуше, вырубают в лесу высокие жерди, стожары, и втыкают их в землю в одну линию, одну возле другой, на расстоянии нескольких шагов. Две женщины приносят сено на жердях, а мужчина накладывает его аккуратно между стожарами высоко вверх. Уложенное так сено составляет первую заколину. Если сено сыро, то с обеих сторон его подпирают, а по мере того как оно высыхает, ниже и ниже опускают подпорки. За первой заколиной набивается вторая, третья и так далее, на сколько хватит сена. Своего сена достается всего лишь по три воза, а за сено в казенном лесу приходится платить по пятьдесят копеек с воза. В таких зародах сено остается здесь и на зиму.
Утомленные косцы устраиваются под вечер на ночлег. Чтобы избавиться от комаров, в избушке покурят паккулой (гнилушкой), а те, кто спит на сене, устраивают полога из паруса. Но избавиться от комаров невозможно. Вертится на сене косец, жмется, кряхтит и слышит, как лает в лесу собачка. «Откуда эта собака в лесу?» – думает он. И вдруг вспоминает: когда они шли на работу, то он оставил на камне две калитки (лепешки), а потом, когда вернулись, калиток уже не было. «Куда же это они делись?» – думает он, то и дело просыпаясь от комаров. А собачка все тявкает и тявкает. Утром он забудет и собачку, и калитки, но когда-нибудь вспомнит и на досуге, во время «беседы» скажет:
– А меня бог миловал… Да вот только раз это… Оставил я на пожнях на камне у фатерки две калитки. Пришел, – нету калиток.
– А может, кто взял их, да и съел?
– Да кому же в лесу калитки взять?
И все помолчат, согласятся. А он продолжит:
– И собачку евонную слышал: тяв-тяв, смешная такая.
– Так, может, это кто-нибудь с собакой шел? – усумнился недоверчивый слушатель.
– Да кому же в лесу с собачкой идти?
И в самом деле, кто же заберется в такую глушь? – разве какой «сбеглый».
Выкосили «земное» сено. Теперь можно приняться за болотное. Болота находятся у самого острова, и потому можно переселиться домой. Раньше болото не делили, но теперь такая нужда стала, что и болота разделили. И это – на Севере, где на каждого отдельного человека приходится, вероятно, много сотен десятин леса и болот!
Начали рубить горбушами болотную траву, стоя по колено в воде. Болото колышется под ногами, кругом летят и кричат утки, пищат утенята, вьются чайки, гагары, а женщины с подтянутыми юбками, в высоких сапогах целый день стоят в воде и рубят траву. Зрелище удивительное для не северянина. Но следующие за сенокосом работы уже не представляют ничего особенного. Рожь и жито косятся теми же горбушами и сушатся на особых «хлебных зародах», то есть высоких, в несколько саженей, лестницах. Хлеб возят с полей на Карельском острове в санях, потому что иметь исключительно для этого телегу – не стоит. Высушенный хлеб молотят привузами (цепами) в ригачах (ригах).
* * *
Для обитателя Карельского острова необыкновенно важно вовремя убрать хлеб. Это важно и потому, чтобы морозы не захватили его в поле, но главное же потому, чтобы уборка хлеба не задержала осеннего лова рыбы. Для ловцов это время самое серьезное, самое важное. Настоящий лов рыбы бывает только осенью, и если хлеб вовремя не созрел, то лучше уж нанять работницу, «казачку»
Осенний невод велик и дорог. Только очень большому семейству под силу иметь его. На Карельском острове всего одно семейство самостоятельно справляется с неводом, все же другие складываются по два двора на каждый невод. Выг-озерский осенний невод имеет в каждом крыле по семьдесят – восемьдесят саженей, при этом к нему еще нужно саженей полтораста веревок. Самая важная часть в неводе – матица, куда собирается пойманная рыба. От матицы крыло начинается котколуксой саженей в пять, потом следует ринда, также саженей в пять, за ней частые сети и плутивные, те и другие вдвое длиннее ринды.
Лов начинается с пятнадцатого августа и продолжается до первого октября. Перед ловом берег Карельского острова делится на равные части, по числу неводов. Возле такой части берега одним неводом можно ловить только в течение дня, следующий день на этом месте ловят другие, а первые ловят на другом месте, следующем по порядку, и т. д.
Для осеннего лова необходимо иметь две лодки. Сначала, заехав в озеро, спускают матицу и сейчас же разъезжаются в стороны: одна лодка тянет правое крыло, другая – левое Когда распустят все сети, то поворачивают к берегу и тянут тоню саженей на полтораста. Лодки, которые на озере плывут на некотором расстоянии друг от друга, у самого берега съезжаются в одно место. Веревки тянут шпилями, то есть воротами, установленными на каждой лодке. Сначала на воде виднеются только кибаксы, то есть поплавки, а потом показываются и крылья; как только они покажутся, ловцы бросают шпили и тянут руками, взявшись по двое за крыло. Когда показываются частые сети, кто-нибудь берет торболо, то есть жердь с деревянным кружком на концах, и начинает им буткать воду, чтобы рыба бежала в матицу. Под конец развязывают матицу и рыбу вытрясают в лодку.
Осенью ловятся главным образом сиг и ряпушка. Вся эта пойманная рыба обыкновенно тут же и скупается «богачами», но те, кто в состоянии, берегут ее до Крещенья и везут на знаменитую ярмарку в Шуньге на озере Онего. До самого последнего времени эта ярмарка играла такую же роль в Олонецкой губернии и Поморье, как Нижегородская ярмарка на востоке Европейской России. Охотники и рыболовы привозят сюда шкуры и рыбу, запасаются мукою, покупают себе кожу, гужи, растительное масло, пеньку, лен, мелочи и обновы для семейства. «Богачи», или «обдиралы», перепродают свой товар оптовым торговцам, а эти – торговцам Петербурга и других городов. Словом, Шуньга и до сих пор играет огромную роль в торговле Севера. В народных песнях и сказках Шуньга постоянно упоминается.
Однако на Выг-озере только очень состоятельные могут возить рыбу в Шуньгу, большинство же продает на месте.
В то время как происходит осенний лов, некоторые идут в лес на охоту, стрелять рябчиков, тетеревей и мошников. Но на Карельском острове плохие полесники (охотники) и предпочитают, когда озеро замерзнет, ловить рыбу по льду.
Для этого прежде всего выпешивается, то есть прорубается пешней – орудием, похожим на лом, – большой ердан (прорубь), в него опускается невод. Направо и налево от ердана, по направлению тони, выпешивают отверстия, саженей на десять друг от друга. С помощью этих отверстий, длинной жерди и ворота невод и тянут к берегу, где тоже приготовляют большой ердан.
Так ловят до декабря. С этого времени и до весны, до бурлацкой работы, производится вывозка леса к местам сплава. Лес, определенный для рубки и вывозки, иногда находится очень далеко. И вот местному труженику снова приходится покидать свою семью. Редко кто, разве самый бедный, возьмет с собою жену. Мало может оказать пользы жёнка на этой трудной, чисто мужской работе; побарахтается-побарахтается в снегу, а тут еще муж с досады толканет… Лучше от греха не брать с собой, лучше пусть они продолжают ловить по льду рыбу.
Мужчины же рубят, шкурят и возят лес всю зиму. Живут они в таких же точно лесных избушках, «фатерках», в которых живут полесники, косцы, скрытники, пустынники – вообще все, кому временно приходится жить в лесу. Зимой на Севере день короткий: поработали, померзли – и в избушку, отогреваться. Потом улягутся рядом и ждут, когда сам собой придет сон. Что делать в избушке в такие длинные вечера? Кажется, помереть бы от скуки. Но тут выручает сказочник Мануйло. При свете лучины он в этой лесной избушке рассказывает всем этим дремлющим на полу людям про какого-то царя, с которым народ живет так просто, будто бы это и не царь, а лишь счастливый, имеющий власть мужик. Этому царю мужики носят рябчиков, загадывают ему загадки, а царь ловко отгадывает, дает советы…
Все молча слушают сказки про царя, иногда смеются – и засыпают.
А Мануйло все рассказывает и рассказывает, пока не убедится, что все до одного человека спят. Для этого он окликает время от времени:
– Спите, крещеные?
И если хоть один откликнется, он поправит лучину и продолжает свою сказку про мужицкого царя…
Весной снова одни уходят в бурлаки, другие берутся за мережи, за соху. И так – круглый год беспрерывно трудится северянин, добывая себе пропитание в борьбе с суровой природой.
Певец былин
Старики всегда говорят: «В наше время люди были лучше и крепче, в старину жилось хорошо». Молодому не убедить стариков, они упрямы. Но если бы даже и удалось убедить и замолчать отцов, то заговорили бы деды, прадеды, заговорили бы давно вымершие народы и седые века. Золотой век был и был…
Когда-то в русской земле жили, «славные, могучие богатыри».
Правда это или нет, но только старинный русский народ на Севере поёт о них старины, верит, что они были, и передает свою веру из поколения в поколение.
Эти стихи о былых временах такие длинные, так не похожи на современные, что усвоить их может только здоровая память неграмотного человека, не загроможденная часто ненужными, лишними, случайными фактами современной жизни. А значит, и сказители былин должны обладать чем-то таким, что приближает и их самих к прекрасным былинным временам золотою века.
Стало быть, эта поэзия связана с каким-то строем жизни, в котором она обязывает певца, под угрозой исчезновения, жить именно так-то. Строгие староверческие традиции, плетение неводов в долгие северные вечера при свете лучины, большая семья – вот среда, в которой вырабатывается певец былин.
Но все это рассуждение книжно и гадательно. Когда я ехал в Выговский край, я решил непременно отыскать такого сказителя и посмотреть на его жизнь по-своему, увериться своими собственными глазами.
Еще далеко не доезжая до Выговского края, мне удалось услыхать об этих сказителях как раз то, что совпадало и с моими предположениями.
Присмотревшись на пароходе к одному славному седому деду, когда мы ехали мимо Сенной губы на Онежском озере, я спросил его, нет ли у них сказителей.
– Как же, как же! – отвечал он. – Рябинушка-то у нас, в Гарницах живет. Слышал про нашего Ивана Трофимовича Рябинина? Да уж слышал, господа его знают, ездят к нему. Он за свои старины рублей пятьсот собрал, у государя был, за границу возили. Чудное дело!
– А другие в вашей деревне знают старины? – спросил я.
– Не-е-т, где нам!.. Рябинка – старовер, вино не пьет, не курит. Строго у него это. И от пищи тоже не отступает: что на какой день положено, то и ест, оттого он и памятлив. Он ни в чем от своего не отступает. Вот когда его к государю возили, так что там наставлено было! Столы ломились. И его, Рябинку, с собой сажают, угощают. Он с ними сидит, беседует, а ничего не трогает, ни-ни… Теперь собрал себе денег и живет по-старому, рыбку ловит, детей к песням приучает.
Иван Трофимович Рябинин – сын того самого знаменитого Рябинина, у которого Гильфердинг записывал былины. Судя по рассказам старика, Гильфердинг встретился с ним случайно, где-то у часовни, во время рыбной ловли.
Не знаю, отвлекли ли меня другие наблюдения или сказители теперь уже стали переводиться, но только на Выг-озере я долго не мог найти хорошего певца былин. Наконец я встретился с ним, обжился в его доме, долго не подозревая, что это-то именно и есть сказитель.
* * *
Раз ловцы завезли меня на большой остров, где обитал с семейством всего лишь один житель, Григорий Андрианов. Ловцы мне про него говорили: «Хороший старик, не баламутный, староколенный человек, он тебе всякую досюльщину (старину) рассказать может».
Когда мы подъезжали, на берегу острова у большой избы играло в рюхи множество босых, полуодетых, но здоровых ребят.
– Дома ли старый мошник (глухарь)? – спросили ловцы.
– Ловит, – ответили ребятишки.
Вышла старушка, жена Григория, повела меня наверх в чистую горницу и все говорила:
– Гостите, хозяин скоро приедет, гостите…
Старушка, как принято на Севере, сначала напоила меня чаем, потом угостила обедом: сварила уху из сигов, поставила на стол простоквашу, тарелочку с морошкой, с сухими красными пряниками; тут был и рыбник из ряпушки, и рыбник из окуней, и пирог из черники, калитки, шанежки, мякушечка хлеба. Старушка то и дело ныряла вниз, за новыми и новыми угощениями.
– Ловит старик, ловит, – говорила она. – Стара стала я, не могу уж с ним ездить. А по прежним временам уж я не усидела бы по такой тишинке, сто сорок сетей, батюшка мой, было… Жила и с одной коровушкой, и с двумя, и с тремя, и с четырьмя, всяко жила. А вот теперь ноги болят.
Только под вечер приехал старик. За кого он меня мог считать? Уж конечно, за барина, имеющего отношение к лесному, межевому или полицейскому делу. Нужды в них человеку на острове, конечно, не было.
Но Григорий, подойдя ко мне, вежливо подал руку, поговорил немного, с достоинством, как хозяин, и ушел спать. Громадного роста, с, кудрявыми волосами, с крепкими отчетливыми чертами лица, он походил на апостола Петра.
В лице его как-то не было ничего лишнего, и даже бесчисленные морщинки на лбу, казалось, все имели свое назначение, словно каждая из них была продолжением его правильных, спокойных мозговых извилин.
Ругань и крик разбудили меня рано утром. Я выглянул в окно. По дорожке вдоль озера с громадным колом в руке бежал вчерашний похожий на апостола Петра старик. А впереди него бежал без шапки совершенно такой же старик, только немного помоложе. Первый старик догнал второго и ударил его колом. Тот так и повалился. Ударил еще и еще.
Объяснилось это так. Старший сын Григория, мужик пятидесяти семи лет от роду, был послан в Повенец продать рыбу. Вернулся он выпивши, нагрубил старику, и тот его отколотил.
Водка и табак, безусловно, не допускались в доме старика, чай и кофе пили только с гостями, так что преступление было двойное. Раньше я думал, что воспрещение староверами водки, чаю и табаку имеет лишь религиозное значение. Но тут, беседуя со стариком, я убедился, что эта громадная семья и по своим достаткам не могла этого допускать. Если бы вся семья ежедневно стала пить чай и справлять праздники с водкой, то это поглотило бы весь мережный промысел и часть бурлацкого. А если прибавить к этому, что курящий табак вместе с тем как бы и отрицает высшую власть отца, то расправа старика становится будто бы и немного понятной.
– А как же с ними? – говорил мне немного спустя старик. – В суд, что ли, подавать? Так в суде этого разбирать не станут. Какие теперь суды, только деньгам перевод. Раньше так просто бывало: соберутся, повалят, отдерут, вот тебе и суд весь… Ничего, отлежится. Пойдем, с нами побеседуем!
Отчасти по случаю воскресенья, отчасти потому, что гость был в доме, женщины старательно приготовляли все для беседы. Стол покрыли белой скатертью, старуха хлопотала с кофеем, который здесь получается контрабандой из Финляндии и очень пришелся по вкусу, молодуха завертывала в тесто рыбу, приготовляя рыбники. Из сыновей Григория тут был только младший, бойкий парень лет двадцати, любимец старика, блондин, с открытым славянским лицом; старший «отлёживался»; остальные были в бурлаках. Кроме того, тут же на лавке сидел бородатый глубокомысленный зять, очевидно гость. Разобраться в женщинах и детях не было никакой возможности, – казалось, что их было великое множество.
Стали угощать кофеем, старик пил горячую воду. Началась беседа, немножко натянутая, как бы официальная, о жизни вообще. Говорил один старик, старуха вставляла замечания, а зять подавал глубокомысленно реплики: «Верно, верно». Остальные молчали.
Жизнь, о которой говорил старик, была, конечно, здешняя, выговская. В этой избе, в большой семье на острове происходила такая же драма, как и везде: старое боролось с молодым, новым. Старое пришло сюда, на Выг-озеро, с верхнего Выга, из погубленного Даниловского монастыря. Новое – с нижнего Выга, где сосредоточивались бурлацкие работы по сплаву лесов. Поэтому старик осуждал бурлачество и, вместе с ним, новую жизнь.
– В бурлаки, в бурлаки, – говорил он. – А придут к чему?
– Верно, верно, уж так, – вторил зять.
– Да что, господа, оставь поле без огороды, что будет?
– Да, что будет, – вторил зять.
Слушатели прихлебывали кофей молча, торжественно и долго.
– В наше время, – разливался старик, – жили советно, уж невестка в дверях не застрянет и не скажет: «Хочу, не хочу». А нынешняя молодежь: им слово, а они два.
– Верно, уж такие и есть.
– Да что далеко ходить! – вставила свое словечко старушка. – Годов десяток, не больше, у нас на всем Выг-озере только и был самовару койкинского батюшки, да на Выг-озерском погосте другой, да у Семена Федорова третий, да у дьякона… всего девять самоваров было. А теперь у каждого, да еще по два.
– Старики наши, – продолжал хозяин, – гнильтиной кормились да воду пияша, а молодому давай хором, коня да дом.
– Так и нужно, – раздался неожиданно молодой, свежий голос младшего сына хозяина. – Без коня в наших местах и жить невозможно.
– А что, кому поматерее себя, будто поперечить-то и неловко, – поправил старик. – Как же это старики-то кережи (ручные сани) на себе без коней возили?
– Старики только и знали, что свою душу спасали, о других и не думали.
– А об ком же еще и думать, как не о себе?
– Да что и в этом хорошего: уйти в лес да гнилью питаться?
– А пойди-ко, брат, уйди. Не-ет, не уйдешь. Ведь на Страшном-то судилище господнем ты за себя за одного отвечать будешь, за других там не спросят?
– Ве-ерно, верно, за других не спросят, – вторил зять.
На этот раз мне так и не удалось сойти с официального тона беседы. Она была длинная и утомительная. Потом я убедился, что старик был не совсем искренним, когда советовал сыну уйти в лес. Это был по натуре не пустынник, а крестьянин. Он любил землю, крестьянство, готов был идти на какой угодно каторжный труд, лишь бы не расстаться с землею. «Уйти в лес» – так учили пустынники, в это он верил, искренно всю жизнь собирался уйти, но все-таки не ушел, а устроил большую семью, Дом, все хозяйство. В нем жил инстинкт хлебопашца. Однажды он мне рассказал такую, характерную для здешних мест сказочку:
«Старик один спасался, богу молился в лесу. Вот приходит к нему калика прохожий, господь уж только знает, кто он такой, приходит и говорит:
– Бог помощь, лесовой лежебочина!
– А какой я лежебочина, как я богу молюсь да тружусь, труды полагаю да потею…
– Да что твои труды! Вот благочестивый крестьянин на поле пашет, так знает, когда господь к обедне зазвонит и когда обедать пора приходит.
Старик и взял себе в разум: что это мне калика прохожий говорил. Пошел на поле, видит – мужик пашет.
– Бог помощь! А обедал ли ты, добрый человек? – спрашивает у пахаря.
– А я, – говорит, – еще не обедал, у господа еще благовеста не было.
Один сел на межу. Другой попахал, поставил лошадь и глаза перекрестил.
– А чего ты, добрый человек, глаза перекрестил? – спросил старец.
– А вот, – говорит, – благовест к обедне, так надо идти богу молиться и обедать.
Подивился старец… и пошли молиться».
Смысл этой сказочки старик сейчас же пояснил.
– Видно, – сказал он, – крестьянин у господа больше значит, чем старец. Старец-то все молился, да не домолился, а крестьянин все пахал, да в святые попал.
Но если старик не соглашался с требованием «уйти в лес», то бурлачество ему было совершенно непонятно.
– Дома, – говорил он мне, – крепче спишь, да скорее пообедаешь. А бурлаки уйдут, домашникам и есть нечего. Там вольно, – во-первых, заботы нет: хлеб хоть не родись, домашники хоть не живи. Сперва охотой стали отбиваться от земли – деньги давали, а потом и неволей. Вот придут домой голодные, изморенные, а денег не принесут. Деньги еще лонисъ (прошлый год) черту отдали. Много ли в полях хлеба родится! Бери, откуда знаешь. Вот он и пойдет к десятнику кланятися, продает себя на весну, а потом еще к богачу поклонится: дай муки, дай крупы. Сначала заберет под рыбу, потом под рябы – и дойдет до того, что душу продаст, праздники десятнику продаст.
– Эх, в старину-то было! На земле – как на матери жили. Тогда по двадцать пудов ржи в нивьях сияли. В нивьях не родится, на полях родится. Семейства душ по двадцать были, хорошо жили!
* * *
И какова же эта мать-земля, о которой так любовно говорил старик? С каким презрением отвернулся бы от нее наш крестьянин земледельческой полосы! Не мать, – сказал бы он, – эта земля, а мачеха.
Особенно поразила меня пашня на Карельском острове. Весь этот небольшой остров разделяется на две половины: одна низменная, топкое болото, другая повыше – сельга, сплошной каменный слой.
– Да как же вы пашете? – невольно спросишь, когда увидишь этот слой камней.
– Не пашем, а перешевеливаем камень, – ответят вам.
Такую землю за лето непременно нужно перешевелить раз пять, иначе ничего не родится. При этом бывает еще нужно постоянно стаскивать большие, выпаханные из земли камни в кучи, называемые ровницами. Скоро эти ровницы обрастают травой, и на полях, состоящих из белого слоя мелких камней, резко выделяются зеленые холмики. Это так характерно, что крестьяне часто говорят, например, так: «У меня поле в девять ровниц». Убрать мелкий камень в ровницы нельзя, потому что нагретый днем камень предохраняет посев от зябели, а в засуху препятствует испарению воды. Так, по крайней мере, думают крестьяне. Не успеешь вспахать такую землю, как она снова в этом сыром климате зарастает травой, потому-то и приходится ее так часто пахать.
Но, кажется, это слово «поле» означает несколько не то, что в земледельческом районе. Это поле находится возле самой деревни, очень маленькое, как огород, и обнесено изгородью, «огородой». Казалось бы, место это как раз пригодно для огородов, но здесь их нет: капуста не растет, не растет лук, даже картофель родится плохо, часто гниет. Местные люди не знают яблок, не имеют понятия о пчеле, никогда не слыхали соловья, перепела, не собирали клубники, земляники. Почти обо всем этом они уверенно и любовно поют, но в обыденном языке этих слов не услышишь. Раз я заговорил о пчеле – меня не понимали, а когда я нарисовал, то сказали, что это медовик, то есть шмель.
И в этом краю проходит детство, бывают романы… И романы с чудными песнями, каких уже не знают в центре России!
На таком «поле», да еще при необходимом редком посеве, в суровом климате родится хлеба немного: хорошо, если месяца на два, на три хватит… Вот почему теперь неизбежно нужно продать себя в бурлаки, и продать вперед.
Раньше, когда еще не было лесных промыслов в крае и когда разрешалось еще подсечное хозяйство в казенных лесах, хлеба хватало. С одной стороны, стеснение подсечного хозяйства правительством, а с другой – бурлачество, оторвавшее в самое нужное время лучших работников, – вот причины, почему осталась только жалкая постоянная пашня, «поля», а «нивья», то есть земля, разделанная в лесу, заброшены. Крестьянин и рад бы увеличить постоянную пашню, «поля», на которых хлеб получается с меньшим трудом, потому что тут уже не нужно вырубать деревья, жечь их и пахать между пеньями, а только положить навоз да перешевеливать каменья сохою. Но вот в навозе-то и дело. Для постоянной пашни нужно много навоза, значит, много нужно иметь скота, а для скота корма; сено же здесь болотное, скот его не ест без муки. И получается общеизвестный сельскохозяйственный круг. Кроме подсеки, в старину этот круг разрывался еще работами для Даниловского общежития. Теперь же на место подсеки и работ для Даниловского общежития стало бурлачество, со всей его новой культурой.
Такова эта мать-земля. А теперь снова к сказителю Григорию Андрианову.
* * *
В глухом лесу, на холмике против лесного озерка, белой ламбины, виднеется желтый кружок ржи, обнесенный частой косой изгородью. Вокруг этого островка стоят стены леса, а еще немного подальше начинаются и совсем топкие, непроходимые места. Этот культурный остров весь сделан Григорием Андриановым, и сделан не из расчета хозяйственного. Какой тут расчет, когда таким трудом он мог бы больше наловить рыбы или наплести сетей! Хорошо было работать так раньше, когда эти островки расчищало целое семейство душ в двадцать. А одному старику это непосильный, невыгодный труд. Нет, в этом лесу скрыты более высокие запросы Григория Андрианова, чем простой хозяйственный расчет. Нет, тут поэзия прошлого, когда все громадными семействами секли лес, когда духовно более сильные люди еще не продавали себя за грош в бурлаки, не курили табаку, не пили чаю и вина. Островок этот – памятник прошлому, золотому веку, священнодействие души старика Григория Андрианова.
Еще осенью, два года тому назад, старик заметил это местечко, когда полесовал. Он осмотрел внимательно лес – не тонок ли он или не очень ли толст: очень тонкий не даст хлеба, очень толстый трудно сечь. О почве он уже заранее, по виду леса, составил себе суждение, теперь ему остается только проверить. Если лес березовый, ольховый, вообще лиственный, то под ним растут трава, цветы, почва ими удобряется. Если же это сосновый или еловый лес, то под ним ничего не растет, почва остается тощей. Он знает, что береза растет на крепкой земле, а ель – на слабой. Тем не менее он вынул из-за пояса топор и обухом разбил землю, осмотрел корни: они оказались сухими. Это хорошо, потому что «на сыром корне не бывает рождения». Слой почвы в четверть, значит, можно собрать четыре хороших урожая: каждый вершок почвы, по его мнению, дает один урожаи. Окончив осмотр, он заметил местечко. Весной же, когда сошел снег и лист на березе стал в копейку, то есть в конце мая или в начале июня, он снова взял топор и пошел «суки рубить», то есть сечь лес. Рубил день, другой, третий. Хорошо, что близко коровы паслись и бабы принесли ему свежие рыбники, калитки и молоко, а то бы пришлось довольствоваться захваченной с собой сухой пищей и туг же ночевать в лесу у костра или в тесной избушке. Наконец работа кончена. Срубленный лес должен сохнуть. Мало помалу листья на срубленных деревьях желтели, и среди леса появился желтый островок.
На другой год в то же время, выбрав не очень ветреный ясный день, старик пришел жечь просохшую слежавшуюся массу. Он подложил под край ее жердь, чтобы она загорелась, и поджег с подветренной стороны. По мере того как место под жердью сгорало, он подвигал ее дальше, чтобы под деревьями был воздух и они горели. Среди дыма, застилающего глаза, искр и языков пламени он проворно перебегал с места на место, поправлял костер, пока не сгорели все деревья. В лесу на холмике, против белой ламбины, желтый островок стал черным – это пал. Ветер может разнести с холмика драгоценную черную золу, и вся работа пропадет даром. Потому-то нужно сейчас же приняться за новую работу. Если камней мало, то можно прямо «орать» особой паловой сохой, с прямыми сошниками без присоха. Если же их много, землю нужно косоровать, разделывать ручным косым крюком, старинной копорюгой. Когда и эта тяжелая работа окончена, то пашня готова, и следующей весной можно сеять ячмень или репу. Такова история этого маленького культурного островка. Узнав эту историю, невольно приходит в голову такое предположение: не принесли ли эту любовь к земле еще далекие предки старика, когда они переселились сюда из более хлебородных мест?
* * *
Так вот эта-то связь с землей и мешала старику «уйти в лес», спасать свою душу. Но теперь еще новое сомнение росло в душе старика: младший, его любимый сын, «парной, саблеватый» и грамотный малый, побывал в Поморье и заразился там новыми взглядами. С этими взглядами было не так легко бороться, как с пьянством и грубостью старшего сына.
А вернувшись на днях с лесопильного завода из Сороки, малый начал и вовсе плести чепуху. Он сказал, что завод лесопильный остановился, все рабочие забастовали и даже подговаривают бурлаков на Выгу и на Сегозере. Старик был возмущен. Вот уже пятьдесят лет выговцы ходят по сплавам, тем только и кормятся. Хотя и ненавистно бурлачество, но им теперь только и кормятся выговцы. Не будь этого единственного заработка на стороне, пришлось бы умирать с голоду. И вот забастовали! К чему же это должно привести? Верить не хотел старик. Но слухи все росли и росли, время от времени на остров заезжали ловцы и каждый раз подтверждали эти слухи. Наконец, по всему краю только и говорили о забастовке. Слово неслыханное, непонятное в этом краю аскетизма, в этом населении, в борьбе с природой прошедшем суровую вековую школу терпения. Ежедневно, при возрастающем волнении в семье, мне приходилось наблюдать, как обострялись отношения старика с молодым сыном. Между женщинами тоже образовались две партии. И бог знает, чем бы это кончилось, если бы вдруг старик не был разбит таким оборотом дела.
Раз утром молодуха пошла за водой на озеро и сейчас же прибежала назад с криком:
– Едут, едут! Бурлаки едут!
Бабы уже давно дожидались бурлаков, потому что наступил сенокос, а страшное новое слово «забастовка» поселило беспокойство в сердцах молодых жен. Вот почему все, кто был в избе, бросились к берегу, когда услыхали, что едут.
Лодка шла на восьми веслах, и только уж близко от берега поставили парус, хотя почти не было ветра. Подкатить на парусе считается на Выг-озере особым шиком. Бурлаки, по-видимому, были очень весело настроены, доносились смех и заливистая песня:
Не ржавчинка, ой не ржавчинка все поле съедает.Радостную весть привезли бурлаки. Все их требования были удовлетворены. К ним приезжал сам губернатор, кланялся и обещал все устроить. Тут же послали телеграмму хозяину в Петербург и получили ответ: «Удовлетворить немедленно».
Старик был сбит с толку и, насупившись, молчал, а бурлаки радовались. Первый день ничего не делали, отдыхали. Потом стали приготовляться к сенокосу: кто точит косу-горбушу, кто кошель чинит, кто ружье чистит, кто готовит дорожки для ужения рыбы, крючки… Все это пригодится на сенокосе. Сенокосные места, пожни, находятся далеко, за двадцать верст, так что целую неделю нельзя возвращаться домой.
Когда вся эта шумная ватага уехала, большая изба опустела, остался один старик со старухой и малыми детьми. Тихо стало на острове и в избе. Слышно только, как скрипит зыбка и уныло звучит монотонная песенка старушки-пестуньи:
Баю-баю в добри, На соломенном коври, Бай на лыченьком, на тряпиченьком…А старик, этот большой матерый дед, целыми днями плетет свою сеть у окна, прицепив ее за крючок в углу. Когда он плетет сеть, он молчит и о чем-то думает. Наверно, вспоминает о своей жизни или перерабатывает по-своему новые, занесенные на этот остров бурлаками взгляды на жизнь.
Раз я попросил его рассказать о себе, как он женился, как вообще устраивался в этой глуши. Старик взволновался и с радостью мне рассказал
– Веку мне, – сказал он, – восемьдесят семь лет. Родился я на Коросозере. Это хоть и недалеко отсюда, верст двадцать пять лесом, а уж хозяйство другое. Зябель там постоянная, другой раз по семи лет вымерзает хлеб. Как ясень на небе да три звезды, так и зябель. Болота, родники холодные, морянка задует – все к зябели. Да и немудрено: возле океана живем. На Выг-озере этого нет: острова, кругом вода, от водицы тепло, водица тепло держит. Пала раз весна, северная такая, ждать хлеба нельзя. Надумал родитель-батюшка перебраться сюда: «Куда, – говорит, – ни зайдешь, все солнышко по вершинкам задевать будет». Продали корову, купили лодку, – на острову нельзя без лодки жить. Пришли и начали хозяйствовать. Жили сначала под сосной. Вон она, матушка, стоит…
Старик показал мне рукой в окно на большую развесистую сосну.
– Эх! Уж я это тебе верно говорю: в наших местах без трудов не проживешь. Лес секли, камни выворачивали, сети плели, рыбу ловили, полесовали. А родитель мой батюшка полесник! Я и сам полесник был! Эх, был конь, да заезжан, был молодец, да подержан. Хвастать не буду, а еще и теперь на пятьдесят сажен в копейку попаду. Вот только мошников уж плохо слышу… Хорошо! Помалешеньку, помалешеньку, да и устроили вот эти хоромы. Запахали поля, засеяли. Лет пять так прожили. Уж мне двадцать пятый год пошел. Поехали мы в Койкинцы на праздник, к Палеостровскому. Прихожу к Захару, смотрю: моя-то княгинюшка рыбу чистит, станушка в перст! Да вот она, княгиня моя, люба тебе? Ну, а мне так гораздо прилюбилась. Прихожу домой, говорю отцу: «Так и так, батюшка, кабы ты съездил». – «Какую?» – говорит. «Да вот тую, – говорю, – Захарову». Смотрю, одел батюшка тулуп, опоясывается. Жду… Да как жду! Веришь ли, на крышу раз десять слазил, не видать ли лодки. Гляжу: двое едут. Отец гребет, Захар сидит, правит. Ну, попал молодец! Свадьбу собирать, а денег нет. Всего-то рублей семнадцать и нужно было. Толканулся я на погост, к Алексею Иванову. Так и так, повинился ему. Дал, век ему спасибо, слова не сказал. Вот так я и женился. А дальше жили в трудах. Я как женился, так и сказал: «Ну, жена, я хоть и худой муж, а против матушки и батюшки ногой не ступи». А она как завопит: «Матушка, благослови!..»
Старик отвернулся, оправился и продолжал.
– Матушка моя, Марья Лукична, хорошая старушка была, краснословая, из Данилова монастыря вышла. Как сказала жена тогда слово, так и не переменила потом. Варя моя неожурима была. А вот есть молодые, не скажу плохие, а… Эх, Михаиле, ум не кошелка, не переставишь, моего ума держимся. Много горя видели, всего изведали, а семь молодцов, как семь яблоков, вырастили. Другой раз придешь, наморишься, станет словно и нехорошо. А отдохну – и опять за работу. Да так вот и живу да болтаюсь, все вперед да вперед…
Про Алексея Ивановича я тебе забыл досказать. Через год я снес ему деньги, поблагодарил и не видал его лет десять. И вот раз перед самым светлым Христовым воскресеньем пала погодушка великая. Озеро надулось, посинело, что мертвец. Смотрю, катит ко мне Алексей Иванов, гость дорогой. А на другой день ехать нельзя было: лед разошелся. Пришлось ему у меня праздник гостить. В Великую пятницу я и говорю княгине своей: «Чем гостя кормить будешь? Мошника бы убить, да боюсь, грех в Великую пятницу». – «Ничего, – говорит, – сходи, попытай счастья». Советно мы с ней жили! Перекрестился я и пошел в лес. А снег уж в лесу повышел, талинки показались. Инде тало, инде суметно. Суметы подморозило, гладкие что бумага. Смотрю, большой сумет навален. Стал я его переходить, и вдруг как схватит меня у поясницы, не могу с места сдвинуться. Ну, ничего, справился, пошел по талинкам, как по скатерти.
И слышу, точится мошник. А уж рассветает, заря разгорелась, бор что гарево стоит! Вижу, далеко мошник противу зари, черный да большой, что бурак[14].
Я к нему по сушинкам, да по лежинкам, да по кокорочкам пя-тю-готь, пя-тю-готь[15], чтобы сучья не заряцкали. А он посидит, посидит, да и заточится. Замолчит – и я стою, не шелохнусь, как заточится – я опять пя-тю-готь… С одним покончил, другой недалеко заточился… Да так вот в светлое Христово Воскресенье гостя и накормил…
– Вот как мы в старину жили, – закончил старик. – Любо ли тебе?
И чем глубже и глубже погружался старик в прошлые времена, тем они ему становились милее и милее. Отцы, деды, даниловские подвижники, соловецкие мученики, святые старцы, а в самой седой глубине веков жили славные могучие богатыри.
– Какие же это богатыри? – спрашиваю я.
– А вот послушай, я тебе про них старинку спою, – отвечал старик.
И, продевая крючком в петли матицы, запел:
Во стольном городе во Киеве, У ласкова князя у Владимира…Трудно передать то настроение, которое охватило и унесло меня куда-то, когда я услыхал первый раз былину в этой обстановке: на берегу острова, против сосны, под которой начинал свою жизнь этот сказитель старик; на минуту словно переносишься в какой-то сказочный мир, где по бесконечной чистой равнине едут эти богатыри, едут и едут спокойно, ровно…
И умный хвастает золотой казной, А безумный хвастает молодой женой.Старик на минуту остановился. В этих словах он, глава большого семейства, видит какой-то особый смысл.
– Слышишь ты, безумной-то хвастается молодой женой.
И продолжал:
А один молодец не ест, не пьет, да и не кушает, И белой лебеди он да и не рушает…Старик долго пел и все-таки не окончил, былину.
– А что же сталось с Ильей Муромцем? – спросил мальчик, внимательно слушавший, будущий сказитель.
– Илья Муромец окаменел – за то, что хвалился Киевскую пещеру проехать.
– А Добрыня Никитич?
– Добрынюшка скакал под Киевом через камень, скобой зацепился за него: да тут ему и смерть пришла.
– Какой скобой? – спросил я.
– Да разве ты не знаешь, какая у богатырей скоба бывает? Стальная скоба.
Это замечание о стальной скобе было сказано таким тоном, что я невольно спросил:
– Да неужели же и в самом деле богатыри были?
Старик удивился и сейчас же быстро и горячо заговорил:
– Все, что я тебе в этой старине пел, правда истинная до последнего слова.
А потом, подумав немного, добавил:
– Да знаешь что, – они, богатыри-то, может быть, и теперь есть, а только не показываются. Жизнь не такая. Разве теперь можно богатырю показаться!
Вот тут-то я и понял, почему стихи, которые казались такими скучными в гимназии, здесь целиком захватывали внимание. Старик верил в то, что пел.
Полесники
Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей…
А. С. ПушкинКогда-то самым страшным врагом человека был зверь. Это мы все знаем, но думаем обыкновенно, что время это давно миновало. Между тем у нас в России достаточно двух-трех дней, чтобы попасть в такие места, где можно наблюдать эту борьбу человека со зверем. Медведь и волки уничтожают на Севере часто все, что было достигнуто громадным трудом человека, потому что без коровы и лошади немыслимо хозяйствовать. В этих местах в складах земских управ продаются не косы и плуги, а ружья и порох. За каждого убитого медведя и волка там выдается премия, причем охотник в виде доказательства представляет в управу хвост и уши, которые потом, как оправдательные документы, представляются на земское собрание.
Вот куда следовало бы ехать нашим охотникам-любителям и помогать населению в борьбе со «звирем». Но охотник-любитель обыкновенно прикован к другим, совершенно противоположным занятиям и не может ехать так далеко. Оттого-то, быть может, он и охотник.
Впрочем, об охотниках-любителях лучше может рассказать мой попутчик полковник-старичок, с которым мне пришлось ехать до Повенца по Онежскому озеру. На пароходе он обратил мое внимание тем, что беспрерывно фотографировал, а когда он узнал, что и я фотограф, то тут же сделался моим другом. С ним ехал секретарь, который рассказал мне о страсти полковника следующее:
– Ну, сошлись вы с полковником! Вы знаете, полковник тратит в год до пятисот рублей на фотографию, снимает все и вкривь и вкось, лишь бы снять. И все это остается без всякой пользы, не все он даже проявляет. И знаете… вас удивит: эта страсть происходит от медведя. Он страстный охотник на медведей и убил в своей жизни их, кажется, сорок три штуки, был даже раз под медведицей. Обратите внимание: у него на брелоке висит зуб этой самой медведицы. Но теперь охота на медведя около Петербурга вздорожала: десять рублей с пуда за берлогу, да охотникам, да проезд, так что медведь ему стал обходиться в пятьсот – семьсот рублей. Наконец при скромных средствах полковника охота стала ему недоступной. Вот тут-то он и взялся за фотографию. Иногда мне кажется, что при каждом спуске затвора фотографического аппарата полковник испытывает маленькую частицу того, что при спуске курка. На днях он сделал такое изобретение: приспособил, видите ли, фотографический аппарат к рогатине. Зачем, вы думаете? Не подумайте, что я сочиняю, – но полковник полагает, что, когда он приготовится стрелять, мужик будет держать наготове рогатину с аппаратом и в тот момент, когда медведь поднимется на задние лапы, дернет за шнурок. Теперь мы едем на Север по делу – осмотр оружия, но я убежден, что полковник замышляет найти дешевые берлоги…
А сам полковник о себе рассказал мне так.
– Знаете, кто мой самый страшный враг? Газета. Я не боюсь ни пуль, ни медведя, но признаюсь, что газеты боюсь. Это враг страшный, коварный, ползучий. Он умеет пробраться в ваш праздник и в ваши будни, в вашу семью, испортить самое мирное, доброе расположение духа. И как я теперь счастлив, что целых два месяца не буду читать! Я убегаю на Север от газеты… У меня почти с детства была сильная страсть к медведю. Теперь старею, но медведь живет во мне, как в юности; даже крепнет. Вот, посмотрите…
На цепочке полковника висел огромный зуб зверя, немного испорченный на краю…
– Видите, и у них зубы гниют… Но знаете, почему страсть к медведю со временем крепнет? А потому, батюшка мой, что тут дух борется. Как станешь, бывало, за деревом с винтовкой, а он вылетит из берлоги, взроет снег клубом, пыль летит, – страсть, что тут поднимется! Против вас пасть раскрытая, красная, страшная, язык висит, зубы торчат. Встанет на задние лапы, еще секунда – и обнимет вас… Стоишь против него маленький: вот я тут, а вот ты, поборемся… Лютый зверь, страшный зверь… И бла-го-ро-ден! В нем нет коварства ни вот столечко! А какой он нервный! При малейшем шуме он вздрагивает и бежит, он никогда вас не тронет зря. Но если вы решительно ему мешаете, он не смотрит ни на что, он идет прямо, откровенно.
* * *
Все эти разговоры с полковником о медведе живо припомнились мне, когда я попал в эту местность, где люди занимаются охотой не по страсти, а по необходимости. Медведь страшен здесь тем, что «ронит скот», а сам по себе, по отношению к человеку, считается довольно безобидным существом. Тут люди выходят на него иногда с одной пешней, встречаются лицом к лицу в лесу, разговаривают с ним и бранятся. И на самом Выг-озере, на островах, частенько бывает Михаиле Иваныч, но настоящее его местожительство, как и всякого зверя, на восточном берегу озера, где несколько тронутые вырубкой леса постепенно переходят в первобытные леса Архангельской губернии. Тут всякий зверь: медведь, лось, олень – живут оседло, размножаются. Отсюда медведи и совершают свои набеги на Выг-озерские стада. Те люди, которые живут возле Выг-озера, занимаются отчасти охотой, но называются ловцами, потому что их главное занятие рыболовство. Здесь же хотя все также занимаются рыболовством, но называются полесниками, то есть охотниками. Полесники живут маленькими деревнями в лесах у озер, сообщаются они с остальным миром по едва заметным тропинкам пешком, зимой – на лыжах, и возят маленькие сани кережи с поклажей. Летом часто можно встретить здесь человека, который по моховым болотам несет десятки верст на себе пятипудовый мешок муки. Ближайшие к Выг-озеру деревни такого типа – Пулозеро и Хижозеро. Вот в них-то я и решил побывать, чтобы ознакомиться с жизнью настоящих полесников. Замечательно, что даже в этих глухих деревнях, до которых нужно идти пешком верст тридцать, есть маленькие школы грамоты с пятью-шестью учениками. Учителя в таких школах получают по десяти рублей жалованья и тоже занимаются охотой и рыбной ловлей. Я был свидетелем, как один из таких учителей женился на Выг-озерском погосте и как потом молодая чета пошла пешком в высоких сапогах по мхам и болотам «на женихов двор».
Провожать меня в Хижозеро вызвался знаменитый полесник Филипп, типичный охотник на зверя. Я заметил, что все полесники разделяются на две группы: те, которые главным образом ходят на мелкую дичь, и те, которые бьют «звиря». Первые полесники часто балагуры, сказочники, вообще легкомысленные и часто художественно восприимчивые люди. Вторые – солидные, иногда угрюмые и молчаливые. Мой провожатый Филипп в обыденной жизни был, вероятно, малоразговорчивый, угрюмый старик. Но у всякого старика в прошлом есть живые струнки, обыкновенно скрытые для молодых. Троньте их, – и старик оживет, он будет вспоминать былое, станет рассказывать живо, как художник, и под конец будет вам глубоко благодарен, что вы пришли и оживили его умирающую душу.
– Эх, этта бывало! – начал мне рассказывать полесник Филипп про свое житье-бытье, когда мы с ним, с кошелями и ружьями за плечами, рано утром вошли в лес. И рассказывал всю дорогу. А дорога была с непривычки трудная. Сначала как будто бы и видно что-то вроде хорошей тропы, но потом, когда лес остался за нами, то и тропа исчезла; так только примятая трава. А вот словно и совсем исчезла, но полесник идет и не смотрит под ноги. У него превосходный компас – сами деревья: с северной стороны сучья на них растут плохо, и он безошибочно определит по ним север и юг. Посматривая на деревья, полесник выводит из леса на поляну. Что это? Светло, просторно, будто знакомое с детства широкое поле ржи. На мгновенье, после давящей тяжести угрюмого северного лесного пейзажа становится так свободно, легко и тепло. Но это только мимолетные, случайные и не здешние ощущения. И поляна, на которую выводит полесник, вовсе не поле ржи, но еще более глухое, топкое, почти непроходимое место: это моховое болото, моховина. На ней ясно виднеются следы ног, которые погружали и выдергивали из топкого места, видны даже кое-где, на очень топких местах, положенные для перехода деревья. То балансируя на этих деревьях, то по колено увязая в зыбкой моховине, мы переходим наконец это трудное место и вступаем в лес. Моховина тянется иногда на версту, на две, она – самое трудное для перехода место. От моховины до моховины считает полесник свой путь. А если нет моховин далеко, то он может определить время по тени. Тень он измеряет локтями и, став на полянку в лесу, сразу на глаз узнает, сколько в этой тени локтей: пять, шесть, больше или меньше; таким образом он и узнает, сколько времени прошло от «солностава» и сколько осталось до заката.
– Эх, этта бывало, – рассказывал мне Филипп, – и походил я на своем веку по лесу! От лыжной походки и посейчас ноги болят.
* * *
Начал ходить в лес Филипп еще мальчиком, с отцом, сначала лишь «по силовым путикам», или «по сильям», собирать запутавшуюся в этих сильях дичь. Отец его, хотя был тоже солидный, «самостоятельный» человек и потому предпочитал полосовать на «звиря», но ему, как и всем на свете, не всегда приходилось делать одно лишь любимое дело. Полесникам охота не забава, а дело, которым они живут.
Осенью рано утром, а то и в ночь выйдут, бывало, в лес полесник с своим сынишкой. Они берут с собой только нож, топор и огниво. Ни в коем случае не берут хлеба и вообще съестного. Дома они непременно съедят «по две выти», то есть поедят против обыкновенной еды вдвое. Это делается для того, чтобы в лесу, во время собирания дичи, не есть Когда полесники ходят по сильям, они избегают есть в лесу.
– Почему так? – спросил я Филиппа.
– Бог знает! Но только так все делают, а Микулаич – наш колдун – говорит: у сила есть станешь, всякая нечисть, и зверь, и мышь, и ворон, будут клевать птицу.
Без колдуна полеснику вообще не прожить. От него он получает множество практических советов. Так, например колдун никогда не посоветует выходить в лес в праздник. От этого может случиться много недоброго.
– Вот раз мой батюшка, – рассказывает Филипп, – полесовал по путикам в бору. А бор-то све-е-т-лый был!
Видит: мужик идет впереди, Василий, с парнем. Батюшка и кричит: «Василий, Василий, дожди меня!» А они идут, будто не слышат, сами с собой советуют и смеются. Он их догонять, а они все впереди. Перекрестился батюшка и вспомнил, что праздник был, Рождество пресвятой богородицы. Это ему бог показал, что в праздник нельзя полесовать.
Вот почему отец с сынишкой, съевши по две выти, выходят в лес непременно в будни.
Но перед уходом в лес мало того, чтобы съесть по две выти и выбрать будничный день; кроме этого, необходимо прочесть взятый у того же колдуна отпуск (заговор) от ворона, который иначе непременно расклюет пойманную в сильях птицу. С глубокой верой в священные слова отпуска полесники шепчут:
«Во имя отца, и сына, и святаго духа. Выйду я, раб божий, в чистое поле. Стану на восток лицом, на запад хребтом. Прилетает ворон, нечистая птица. „Куда, раб божий, пошел?“ – „Пошел силышки ставить!“ – „Возьми меня с собой!“ – „А есть ли у тебя топор? Есть ли у тебя нож? Есть ли у тебя огниво?“ – „Нету“. – „Есть ты мне не товарищ. Отлетай от меня за тридевять земель, за тридевять болот, там есть магнит-птица, кушанья составляет и обед приготовляет тебе, ворон, поганой птице. Аминь“».
Сначала они идут по той тропе, по которой все ходят. Но, пройдя версты две, где-нибудь около замеченной кривой сосны свертывают в сторону. Саженей через двадцать, опять-таки у замеченного дерева, начинается чуть заметная тропа, силовой путик. По этому путику, кроме них, никто не смеет ходить, это великий грех. Этот путик, на котором расставлены тысячи сильев, достался им от покойных родителей, это их собственность и будет переходить из поколения в поколение.
По этому путику полесники скоро подходят к знакомому дереву, у корня которого виднеется расчищенное местечко величиной в тарелку, усыпанное желтым песочком и потому резко выделяющееся на фоне зеленого моха. Это пуржало – местечко, очень соблазнительное для косача, тетерки, мошника и копполы: на нем птице приятно отдыхать, кувыркаться и греться, особенно, если между деревьями скользнет солнечный луч. «Любо им тут топоржиться на теплом и сухом песочке», – рассказывал мне Филипп, указывая в лесу такие пуржала. Птица отдохнет и хочет перейти на другое местечко рядом, но на пути ей стоит согнутая дужка и на ней висит волосяная петля. Ни вправо, ни влево птице пройти нельзя, там и тут искусно устроены препятствия из сухих сучьев. И птица идет в петлю. В этих сильях попавшейся птице еще остается надежда: сило может само собой расправиться, если она, усталая, перестанет биться. Но бывают такие силья, из которых уже невозможно выбраться: это очап, то есть жердь в виде безмена; ее легкий конец находится у самой земли и держится внизу таким же приспособлением, как в западнях, к ее концу привязано сило; толстый же конец очапа висит в воздухе, всегда готовый рухнуть, если птица заденет крючок на легком конце. Когда падает тяжелый конец очапа, птица взлетает на воздух и висит в петле. Еще хуже пасть, в которой обрушивается на голову птицы камень.
Итак, полесники подходят к пуржалу, вынимают птицу, расправляют силышко и укрепляют его хвойными иглами как раз на ходу птицы. Они не забывают также повесить возле сила на ниточке маленькую дощечку, стрелку, от ворона, который боится всяких приспособлений и не станет клевать пойманную птицу. Наконец, покончив с одним силом, они идут к следующему. Они собирают так много дичи, что нести становится тяжело. Тогда они выбирают подходящую сосну, привешивают на ней дичь и идут дальше и дальше. Начинает вечереть, с трудом можно разглядеть и узнать место. Мальчик поглядывает по сторонам, он боится: какие-то подозрительные огромные мохнатые существа выделяются из деревьев, словно медведи со всех сторон выходят из леса и поднимаются на задние лапы. Но это мальчику только так кажется. Отец его, опытный полесник, знает, что медведь зря не станет на задние лапы. Это не медведи, а громадные кокоры, то есть корни поваленных ветром деревьев, захватившие при падении большой слой земли и обросшие мхом, грибами и лишаями. Это не медведи, но и старый полесник приглядывается к ним: нет ничего мудреного, что с другого конца путика идет Михаиле Иванович и тоже собирает дичь. Полесники повертывают в сторону. Так и есть. Встретились лицом к лицу. Бежать назад нельзя, потому что медведь, узнав о трусости полесника, сейчас же догонит и задерет. А медведь рассуждает совершенно так же: и рад бы бежать, но боится.
«Будь ты проклят, нечистая сила, ты мне сейчас не надобен, – думает мужик, – ни ружья, ни собаки нету».
«Да и ты мне не надобен, – думает медведь, – а стану повертываться, ты меня и хватишь».
Так и стоят друг против друга: мужик – у сосны, с топором, и против него – медведь на задних лапах.
Стучит мужик неистово топором по сосне, кричит во весь дух: «У, супостат, немытое рыло, уходи!» А медведь стоит на задних лапах, язык высунул, пена бежит изо рта, хватает лапой пену и бросает в мужика. И долго стоят мужик и медведь, не хотят уступить друг другу дорогу, мужик до половины исколотит обухом сосну. Но бог покорил медведя человеку, он убегает. И снова идут вперед полесники. Совсем уже стемнеет, закричит в лесу гугай (филин), затявкает чья-то собачка, зашумят деревья, поднимется вся лесовая сила. Полесники уже не собирают дичь, им только бы добраться до своей лесной избушки, «фатерки». Наконец добрались до нее. Это как раз такая же избушка, как в сказках. Правда, она не на курьих ножках и не повертывается в разные стороны, но в остальном она ничуть не уступает избе Ягинишны. В ней нет трубы, и дым выходит прямо из двери, почему вход в нее кажется черной дырой; у самого входа обожженные камни и горшки, оставшиеся с весны, когда здесь полесовали на мошников с ружьем и варили пищу. Приходят полесники, разведут огонь в избушке для тепла, обогреются, улягутся спать. А в лесу ветер гудит, шумит вся нечистая сила. Вдруг отчетливо затявкают собачки.
– Батюшка, слышишь?
– Слышу, слышу, не трожь, пущай подходят ближе.
Ближе и ближе тявкают собачки… Запрыгали горшки на камнях… Заскрипели доски… Посыпалось что-то с крыши в избушку.
Сразу выскочит из избушки старый полесник и начнет ругаться, и начнет!..
В лесу побежит, зашумит, захлопает в ладоши и захохочет: хо-хо-хо!.
Потом мальчик еще услышит, как кто-то, играя на свирели, подойдет к избушке и уйдет дальше в лес. Но отец ничего не слышит, он уже спит
Утром полесники тем же путем возвращаются домой, берут с собой подвешенную на деревьях дичь и продают «богачу». Пройдя множество рук, эта дичь удвоится, утроится в цене и, наконец, попадет в Петербург, где и съедается в удобных, теплых, светлых комнатах.
* * *
Хотя пойманная силками «давленая дичь», по мнению полесников, лучше стреляной, потому что дольше сохраняется при отсутствии огнестрельных ранок, но «богач» ею брезгует, он требует стреляной дичи. Кроме того, в последнее время администрация стала, не без основания, стеснять силовой промысел, так как при этом много птицы гибнет напрасно. Походив некоторое время по сильям, полесники оставляют промысел до следующей осени, а силья продолжают губить дичь уже совершенно напрасно. По этим причинам силовой промысел из года в год падает и сохраняется в своей первобытной чистоте только в глухих лесах Архангельской губернии. Зато охота с ружьем и собакой процветает по-прежнему и даже совершенствуется благодаря распространению земской управой дешевых дробовиков.
Впрочем, в тех местах, где я был, дробовиков было мало, большинство же ружей малопульные и даже кремневые.
– Эх, этта бывало! – продолжал рассказывать мне полесник Филипп про охоту… Бывало, станут собираться с отцом полесовать с ружьем и собакой. Теперь уже необходимо захватить с собой в кошели рыбники, калитки и другую пищу, так как ходить в лесу придется долго. Перед охотой мальчик чинит кошель, а отец чистит ружье. Иногда отец при этом вспомнит, что лонись[16] он убил из этого ружья ворона, ворону или другую нечистую птицу. В таком случае необходимо сходить к колдуну Микулаичу помыть ружье, иначе оно будет недостреливать или давать промахи. Когда все эти предосторожности приняты, то остается кликнуть собаку и идти в лес. Хорошая собака, карельская лайка, для полесника то же, что корова для пахаря; с хорошей собакой он не расстается ни за какие деньги. Хорошая собака должна ходить по всему, что попадется в лесу: по дичи, по белке, по медведю и по всякому зверю. Такую собаку нигде нельзя купить, ее нужно выбрать из щенков. Вот тут-то колдун снова может оказать услугу. Впрочем, и без колдуна каждый знает, что у щенков, которые должны ходить по оленю, во рту устроено так же, как и у оленя: у них, как и у оленей, такие же красные полоски на деснах; у тех же щенков, которые ходят по дичи, опять-таки во рту есть такие же бугорки, как у тетеревей; по белке ходит почти всякая собака, но у очень хороших собак во рту устроено так же, как и у белки. Одним словом, полесник верит, что бог при сотворении мира уже все предусмотрел относительно охоты с карельской лайкой.
Полесники выходят из дому непременно очень рано, потому что птица, поднятая собакой, садится на деревья, когда еще роса не сошла и нет солнца, а «на ясеню» она не сидит. Входят в лес; пропадает собака, только ее и видели. Но полесник не беспокоится: у него свое дело, а у собаки свое. Если только уж очень долго не попадается дичи, она прибежит проведать хозяина, пригнет свои торчащие кверху, словно рожки, уши, визгнет, полежит немного, если полесник сел отдохнуть, и опять – прощай. Наконец полесник прислушается и про себя скажет: «Облаяла». «Это по дичи лает, – соображает он, свертывая в сторону, – по белке лай реже».
– Квах, квах, квах!.. – слышится беспокойный куриный крик.
Звук выходит из чащи и отдается по лесу; если бы не лай собаки, то трудно было бы определить и место, откуда он исходит. Но по собачьему лаю полесник угадывает, что птица сидит именно в такой-то кучке деревьев. И вот уже видна вся знакомая полеснику картина: на верху дерева сидит громадная птица «коппола» – самка глухаря – и смотрит, угнув голову вниз, на собаку. Собака отвлекает внимание птицы от полесника. Птица все время квохчет, подает голос молодым мошничкам и копполам, чтобы не разлетались далеко и смирно сидели на своих местах, пока минует беда. Долго такое напряженное состояние продолжаться не может, вот почему полесник, раздвинув сучья, торопится установить свою шагарку[17], на которую он кладет ружье, чтобы вернее прицелиться. Ему в этом случае своей маленькой пулькой приходится стрелять наверняка. Весной, когда мошник поет, точится, можно и промахнуться, – птица все равно не услышит звука выстрела и не улетит; но теперь беспокойная мать сейчас же улетит и уведет с собой весь детник. Полесник прицеливается долго, несколько минут, и стреляет наверняка.
Когда коппола убита, нужно «собрать детей». Это уже простая механическая работа: нужно только очень внимательно присматриваться к деревьям. Вот сидит молодой глупый мошничок, угнул голову, словно напряженно слушает, ожидая опасности, и смотрит прямо на охотника. И если тот промахнется, то молодая птица еще смешнее изогнет шею, но не улетит. Так мало-помалу бывает перебит весь детник, и полесник идет дальше.
По белке еще рано охотиться, в это время шкурка ее ничего не стоит. На нее охотятся позднее. Тут тоже трудностей немало. Прежде всего ее надо найти. Иногда для этого нужно очень много исходить. Наконец собака облает. Лает, как бешеная, пробует прыгнуть на дерево, но все, что она в состоянии сделать, это стать на задние лапы и передними охватить ствол. Полесник спокойно подходит: белка никуда не уйдет, и собака ее не бросит. Он подходит к дереву, смотрит на дерево, обходит его кругом, но белки не видит. Он знает наверное, что белка сидит на дереве, но где именно, он не видит. Пробует стучать топором по дереву, чтобы согнать, но белки нет и нет. Наконец, ничего не остается делать, как срубить дерево. Он достает из-за пояса топор и ловко, привычно срубает громадное семи-восьмивершковое дерево. Расчет у него простой: белка стоит двадцать копеек, а дерево ничего не стоит, пятнадцать минут рубки. Дерево валится, белка пуйтает (скачет) на другое дерево и исчезает, вероятно в дупле. И второе дерево валится. Бывает, что и десяток и больше деревьев свалится, пока белка будет убита. Каким это варварским кажется нам, с нашим хозяйственным глазомером! Но там, в лесу, в котором полесник с огромным трудом в день находит десяток белок, срубленные деревья – капля в море, они ничего не стоят в общей массе леса, не имеющего цены.
Белка убита, значит двугривенный в кармане, можно сесть отдохнуть. Собака ложится у ног, смотрит, как хозяин привычной рукой снимает шкурку, действуя финским ножом. Собаке достается мясо или, самое меньшее, лапки если хозяин торопится и не снимает шкурку.
Так мало-помалу проходит день, полесники подходя к лесной избушке с десятком белок и несколькими детниками. Поедят, переночуют – и снова искать в лес белок и детников.
* * *
Старый полесник Филипп, коренастый, с седыми нависшими бровями, совсем и не считает все это охотой. Ходить в лес за белками и дичью с собакой – значит «полесовать». Даже любимая всеми полесниками стрельба глухарей весной на току для него не охота. «Ведь она за то охота, – говорит Филипп, – что по своей по доброй воле делается и по желанию». Настоящая охота – это только по зверю. Без любви, без особых способностей это занятие невозможно. Оно становится все менее и менее доступным теперешнему мелкому и слабому народу.
– Они думают, – говорит Филипп, – что зверя меньше в лесу стало, не верь им. Зверь весь тут, его только найти надо. Давай, тебе сейчас найду и лося, и оленя, и медведя. Эх, и походил, походил я на своем веку, от лыжной походки и посейчас ноги болят! Эх, этта бывало! В лесах ходючи, на всякую штуку набредешь, он пошутить-то любит.
И он частенько шутил, когда отец с сыном охотились на зверей.
– Было раз, – рассказывал мне Филипп, – ходили мы в лесах. День проходили, ничего не видели. Идем уж ночевать к фатерке. А бывает, что не сразу к ней попадешь, иной раз и верст на пять ошибешься. Идем мы зимником, нет фатерки и нет. И тут сзади нас к-а-ак побежит да захлопает в ладоши! Мы его ругать, он и убежал. Отошли еще версты две, смотрим, олень бежит. Мы его стрелили, я – к нему. Вижу, батюшка стоит у оленя, оперся на ружье. Подхожу, смотрю: ни батюшки, ни оленя, – видно, так прикохло. А тут темница заводит, и я маленько не толкую, куда идти. Хожу, кричу: «Батюшка, батюшка!» А погодища родилась великая! Вижу, отец идет со псом и кричит, будто свой отец. Смотрю, с островинки выстал тоже отец, кричит мне, а другой-то словно протаял, провалился
Таких случаев Филипп помнит бесчисленное множество, но он так твердо верит, с одной стороны, в силу молитвы, с другой – ругани и в советы колдунов, что ничего не боится в лесу.
Отец с сыном выходят на лосей и оленей зимой. Летом их трудно найти: они скрываются где-нибудь по канабрам и оргам, в непроходимой глуши, у ручьев. Редко бывает видно, как пробежит олень, закинув назад рога, или выйдет на лесную полянку важенка (самка оленя) пощипать траву. Чуть только шевельнуть рукой, чтобы взять ружье, сейчас телятки вытянут мордочки, насторожат ушки, красные на солнце, как кровь. Щелкнул затвор в берданке, «ряцнул» сучок, и все несутся в свои орги и канабры. Редко летом увидишь и лося. Разве случайно и всегда неожиданно. Едет иногда полесник на лодке по реке, вдруг из чащи на берегу выдвинется громадная рогатая голова и скроется. Только лес зашумит.
Нет, на зверя можно охотиться только зимой, около поста, когда солнышко начинает посветлее светить и потеплее греть, когда начнут «падать чиры», то есть на снегу образовываться корки, насты.
Отец с сыном выходят на лыжах по настам. Они ищут след. Разные следы бывают в лесу: от бисерного, словно растянутого ожерелья какого-то совсем маленького зверка – горностая, хорька, ласки, – до громадного, «в теплый сапог», следа Михаилы Иваныча, если его потревожили и выгнали из теплого логовища. Но все это не интересует охотников. Вдруг они видят черную полянку среди снега в лесу. Это значит, что тут было целое стадо оленей, которые разбивали ногами снег и доставали белый мох. На этом месте с деревьев уже не свешивается лесная шуба капшига, то есть лишайники, все это ощипали олени. А вот и большой лосиный след. Охотники предпочитают бежать за лосем. Тут и начинается настоящая охота. Они должны рано или поздно догнать лося. У них то преимущество, что лыжи не проваливаются в снегу, а ноги лося проваливаются и режутся о твердую, обледенелую кору снега. Охотники бегут и бегут на лыжах; где скатываются, где взбираются на горку. Начинает темнеть.
Очень редко случается, что на охоте по настам приходится ночевать в фатерке, как осенью. Обыкновенно же охотники ночуют у нудьи. Они срубают два дерева, кладут одно над другим и между ними сучья, хворост, паккулу (грибы) как можно больше. Этот хворост поджигается, и деревья по мере его сгорания сближаются и, в свою очередь, медленно тлеют. Такой костер может гореть очень долго. Охотники укладывают на снегу возле нудьи толстый слой хвои и на него ложатся, установив по другую от себя сторону, противоположную нудье, аллею из маленьких елок. «И так-то разоспишься в тепле у нудьи, что уж утром и неохота вставать», – рассказывал мне Филипп.
Наутро снова бегут по следу. Случается, что на тот же след попадают и другие полесники, тогда бегут все вместе, и все получают равные части от убитых зверей. Иногда лосей и оленей бывает так много убито, что для солки мяса не хватает соли. Тогда мясо выменивается на соль, фунт за фунт.
* * *
Кроме лосей и оленей, убивают росомах, хорьков, выдр, горностаев и, конечно, медведей. Впрочем, медведь стоит от них особо. С одной стороны, медведь-то именно и есть зверь, о нем именно и думает полесник, когда говорит «звирь». Но, с другой стороны, он будто и не зверь… Нечистый… Рассказывая мне про медведя, Филипп начал уверять меня, что бабу он никогда не тронет.
– Да почему же? – спросил я.
– Это уж ему ведать о том. Бывали случаи, только редко: когда баба полесника несет.
– А как же он узнает, что она несет полесника, а не будущую «жёнку»?
– Так, уж знает… нечистый…
Но зря медведь, рассказывал Филипп, никогда не тронет, господь его покорил человеку. Вот только если его задеть, рассердить, то тогда живо шапку снимет. В особенности опасно бывает встретиться с медведицей, когда у нее маленькие медвежата; они бегут к охотнику и ластятся к нему, как собаки, а медведица за них боится и может растерзать охотника. С Филиппом много раз бывали такие случаи, но всегда он как-то извертывался.
– Раз, – рассказывал он мне, – полесовал я по сильям. Ну, хорошо. Стою я на коленках, силки лажу, слышу – бунчит земля. Поглядел: два медвежонка, за ними пестун, а позади всех медведица стоит на задних лапах, верхними помахивает. Тут мне стало будто бы и немножко неладно. Встал я сразу с земли да закричу как во весь дух: «Серко, Серко!» А какой тут Серко, когда по сильям шел! Эти медвежонки ка-ак махнут, за медвежатами пестун. А медведица постояла-постояла, да на левое плечо – и ух! Побежала вслед за ними.
Случай этот, рассказанный Филиппом вскользь, как один из типичных, постоянно с ним повторявшихся, по контрасту напомнил мне разговор с полковником на озере Онего. Вспомнил я, как он рассказывал о своих ощущениях, когда он стоял с ружьем и сзади него – мужик с рогатиной. Тут же без ружья, без собаки, почти верная смерть, и все-таки от всех ощущений он передает только: «Мне стало будто бы немножко и неладно». Я рассказал Филиппу о том, что в Петербурге охотникам медведь обходится до пятисот рублей и что этих охотников множество. «Вот бы к нам-то их переманить!» – воскликнул старый полесник и стал мне рассказывать, как он убивает медведя в берлоге.
– Лонись о Крещеньи это было. Мужик нанял мужика в казаки[18], бревна возить. Поехал этот казак лес рубить возле островиночки. Рубил-рубил, да и пал в берлогу. Молодой мужик, хаповатый такой: ухватился за сук, выскочил, господь его и спас. Ну, хорошо, рассказал он это нам, мы враз и согласились. Иван с оглоблей, Мирон с пешней, я с ружьем. Долго мы искали берлогу, – по чужим наказам не легко найти. Видим со стороны – над снегом парит. «Стой, ребята, берлога! Ты, говорю, Иван, становись на берлогу, где казак провалился, и потревожь его сверху оглоблей, ты, Мирон, стой позади меня с пешней, а я стану сперва из ружья стрелять». Выход из берлоги обложил деревьями, чтобы не сразу выбрался. Вот и стал его Иван оглоблей выживать. Раз сунул – молчит, два сунул – молчит, на третий ка-ак вымахнет, показалась голова, хлоп! Ружье не сгорело. А Мирон стоит с пешней, как пришитый. Гляжу, пес бросился к медведю. Жаль мне стало пса, – сгребет медведь, спереди ухватиться ему не за что. Выхватил я у Мирона пешню да и шарнул ему в пасть, а Иван бросил оглоблю да топором его по переносице. Убили. Слышим, еще есть в берлоге, рычит помаленьку. Стали тыкать, зарычало посильнее. Вытащили из берлоги медведицу, смотрим, а с нею маленький, словно кот.
– Так разве может среди зимы медведица детей принести? – спросил я.
– Медведица всегда, как смерть зачует, среди зимы, о Крещеньи родит, – ответил мне уверенно Филипп.
И много всего рассказывал мне о медведях Филипп. Рассказывал, как ему случалось бывать на медвежьих токах и видеть смертный бой между двумя медведями: один заел другого, вырыл яму и похоронил в ней убитого. Рассказывал, как осторожно, на пятках ходит медведь по лесу, так что ни один сучок не ряцнет, как он таким образом подкрадывается к полям и ест нежатый хлеб. И поскольку речь шла о его личных столкновениях с медведем, Филипп рассказывал спокойно, неизменно заканчивая свои рассказы словами: «Господь покорил его человеку». Но как только стал рассказывать о медведе как истребителе скота, тут уж встревожился. Тут, говорил он, нужен колдун, и каждый рассказ заканчивал: «Не-ет, без колдуна полеснику не обойтись». Впрочем, иногда помогает молитва, обещание. Раз как-то у Филиппа медведь ронил скотину, потом ронил у Ивана и у Мирона. Поставили они «чинёные ружья» у падины, то есть ружья заряженные и так приспособленные, что при малейшем прикосновении медведя к падине должны выстрелить. Поставили ружья и тут же обещались шкуру этого медведя пожертвовать на церковь. Ночью все три ружья хлопнули, но медведя не оказалось. Думали, что это ворон зацепил. Но года через два пастух нашел недалеко от этого места медвежью голову, а шкура сгнила. Делать нечего, выполнить обещание было невозможно; Филипп, Иван и Мирон отслужили молебен, внесли по рублю на часовню, тем дело и кончилось.
Но самый обычный способ истребления медведя у «роненой скотины» посредством кляпцов и ловаса. Кляпцы – это две тяжелые железные дуги с острыми зубьями, захлопывающиеся в виде пасти, а ловас – помост, устраивается между двумя или тремя близко стоящими соснами. На этот ловас у роненой скотины и садится полесник с ружьем караулить медведя. Он садится наверх, конечно, не оттого, что боится, а для того, чтобы ветер не доносил до чуткого зверя человеческий дух. По мнению Филиппа, медведь не только хорошо чувствует присутствие человека, но даже знает его след. Чтобы отвести след, к ловасу непременно приходят двое; один влезает наверх, а другой уходит и по дороге домой нарочно шумит, кричит, дает знать медведю, что полесник ушел. Другой же полесник, на ловасе, сидит, не шелохнется и зорко смотрит, потому что медведь идет так тихо, что услыхать его невозможно: ни один сучок не треснет. Медведь может почуять полесника, далеко не доходя до ловаса, и полесник должен заметить его издали, следить за всеми его движениями. Наконец, полесник, часто прокараулив несколько ночей, видит, как он ползет на брюхе, подняв кверху голову и озираясь кругом. Подпустив его как можно ближе, полесник стреляет.
Но бывает так, что полесник просидит и неделю на ловасе, а медведь не придет. Почему это? А потому, что этот медведь «напущенный», верит Филипп. Какой-нибудь злой колдун, осердившись, напустил медведя на скотину.
Но колдуны играют такую огромную роль в жизни полесников, что мне о них нужно рассказать подробнее.
Колдуны
Когда один из ангелов восстал на бога, а с ним и многие другие ангелы, то бог прогнал их с неба. Стесненные на краю неба, восставшие ангелы полетели вниз. Одни из них, страшно изувеченные, с своим начальником Сатаною упали в подземное царство, в ад, другие пали на землю и поселились кто в воде, кто в домах, кто в лесу.
Так объясняет себе олончанин происхождение лесовиков, водяников и домовых, в которых он верит беззаветно.
Уже в Повенце мне пришлось из-за этих верований иметь небольшие неприятности. В этом городке нет гостиницы, и мне пришлось остановиться на постоялом дворе, а так как это было ночью, долго стучаться. Наконец мне отворили дверь и уложили спать. Ночью переполох в доме разбудил меня. Оказалось, что околела овца, и огорченные хозяева суетились. Проснувшись утром, слышу разговор хозяйки с кем-то в сенях.
– Пришел он ко мне страшный такой, большой. «Ой, Акулинушка, – говорит, – не сбыть без убытку…» Слышу, стучат под окошком. Кричу: «Что вам, крещеные?» – «Ночевать», – говорят. Уложила я их. Только легла, а он опять пришел: «Ой, Акулинушка, не сбыть без убытку». Я тут выстала, зажгла лучинку да в хлев: смотрю, лежит овца гора горой…
Вот так я и попал в колдуны с первых шагов. Хозяева на меня косились и хмурились.
Однажды я рассказал это приключение одному деревенскому фельдшеру, идейному, прекрасному молодому человеку.
– Это пустяки, – сказал он. – Если бы вы знали, что только мне приходится проделывать в борьбе с этими верованиями! У них в каждой деревне есть своя знаменитость: в Тиковницах рыбный колдун, в Коросозере – скотский, у нас – ружейный и свадебный. А сколько тут знахарей, ворожей!
– Как же вы с ними боретесь? – поинтересовался я.
– Да как придется. Вот на днях пришел ко мне мужик кровь унять: ему разрубили топором жилу, и знахарь ничего не мог сделать. Я сейчас же послал сторожа собрать всех наших знахарей и колдунов унимать руду. Собрались, никто не может. А я приложил арнику на вате, кровь сразу и унялась. Кажется, после этого можно бы сдаться колдунам. «Нет, – говорят, – в присутствии фельдшера заговоры не действуют…». А то вот еду раз на лодке, со мной человек десять народу. Вынул я из кармана «Олонецкие губернские ведомости», где напечатан был коровий заговор, так называемый «отпуск», и стал читать. Думаю, узнают, что это не только колдунам, а и всем известно, перестанут верить. Так что же вы думаете? Только кончил я читать, сразу несколько голосов: «Прочти, прочти еще раз, не запомнили, да пореже читай…» Вот и судите сами, как тут бороться. Заболеет ребенок оспой, все идут, кланяются больному: «Оспа матушка, – говорят, – смилуйся, уходи!» И разносят болезнь по своим детям. Ну, что я с своей медициной сделать могу? А какие расстояния! Иногда позовут верст за семьдесят. Едешь на лошади, едешь водой, идешь пешком. Пришел, посмотрел, дал порошок – и кончено. Я не уверен даже, что этот порошок не очутится где-нибудь за божницей.
Но самые лютые враги науки, по словам фельдшера, не местные колдуны, а мезенские коновалы. Как только осенью на Мезени закончатся работы, сотни этих знахарей расходятся по Олонецкой и Архангельской губерниям. Они лечат все: людей, животных. Они знают всевозможные заговоры. Колдуны – это жрецы, языческие священники, а мезенские коновалы – специалисты медики. И каким Уважением они пользуются в народе! Двери всякого дома перед ними открыты, везде они едят, пьют, живут на одном месте иногда месяц, два и нигде никогда не платят, да и в голову никому не приходит брать с них деньги.
Так рассказывал мне представитель медицины о колдунах. Скоро после этого разговора, благодаря знакомству со сказочником Мануйлой, мне удалось проникнуть к знаменитому колдуну Микулаичу Ферезеину. Но прежде чем говорить об этом колдуне, необходимо познакомиться с Мануйлой. Этот даровитый человек больше всех других моих знакомых на Выг-озере обладает чистой, непосредственной верой во все чудесное.
* * *
Сказочник Мануйло – человек высокого роста, с густой бородой, на вид серьезный, строгий. И только когда он начнет рассказывать свои сказки, «манить», в лице его мелькает что-то такое легкомысленное, такое неподходящее к этому строгому лицу и бороде, что становится смешно. Душа у Мануйлы не простая, а поэтическая, он испытывает приступы тоски, имеет неопределенные желания, его тянет куда-то. Ходит он в лес по мошникам не как простой полесник-ремесленник, а любитель-охотник. Охотой и сказками он до некоторой степени удовлетворяет себя. Но самая заветная мечта, которую он никак не может решиться осуществить, это сходить в Иерусалим.
– Почему же именно в Иерусалим? – спросишь его, бывало.
– А потому, что это пуп земли и там все, – скажет Мануйло.
Чтобы осуществить эту мечту, не нужно и денег, а только решиться идти и просить по дороге милостыню. Но решиться Мануйло не может, слаб.
Мануйло – человек необыкновенно общительный, любит людей. Живет он в полуразрушенной избушке у самой дороги, по которой идут соловецкие богомольцы. Они все находят радушный приют у сказочника. Для них Мануйло уже три самовара сжег. Вслушиваясь в их разговоры, Мануйло узнает о каком-то удивительно сложном и прекрасном мире. Все эти сведения в поэтической душе перерабатываются и потом подносятся односельчанам когда-нибудь в зимние вечера на вывозке в лесных избушках. Мануйло мастер «манить», снисходительно говорят односельчане, не понимая, что эти сказки и есть единственная красота их «загнанной» жизни. Результаты творчества Мануйлы достаются им даром, они оставляют жить своего поэта в жалкой, полуразрушенной избушке.
Сам Мануйло скромен; он думает, что для сказок нужна только «недырявая память». Однако были в его жизни случаи, которые убедили его, что сказка не совсем пустое занятие. Прежде всего она годится в бурлаках. Приказчики любят сказки и работу не спрашивают.
– Мне легко в бурлаках, – говорит он. – Сижу я на бревне да покуриваю. Подходит приказчик, раз посмотрит, два посмотрит. «Ты что, – говорит, – Мануйло?» А я ему в ответ: «Да ничего». – «Хо-хо-хо, – засмеется, – ну, приходи вечером сказывать». Вечером придешь, чаем напоит.
Может принести сказка пользу, и когда из-за озер и лесов, из больших блестящих городов в этой лесной глуши появляется барин. Он требует лошадей, требует лодку, покупает кур и яйца, снимает планы, вымеряет леса. Кто он такой? Бог его знает. Господа бывают разные.
– Они думают, – говорит Мануйло, – что господа одинаковые.
«Они» – это вся серая масса крестьян, противоположная сказочнику Мануйле, они – это филистеры.
– Они думают, что господские одежи – и все тут. Н-е-ет, брат! Господа бывают разные. Другой раз на лодке сидишь день-другой, везешь его. И бывает такой барин, что сидит себе в лодке, на солнышке, поглядывает, в книжку записывает и молчит. Двое суток с тобой проедет и слова не скажет. Такие крепкие бывают господа! Они не знают, что из господ и немцы и поляки бывают. Зато попадет другой в разговор, он-то тебя повыспросит, напоит, накормит. Один попался, так суток трое мои сказки слушал. Всякие господа бывают.
«Они» не ценят сказок Мануйлы, а как дойдет дело рассказать что-нибудь от общества барину, – сейчас Мануйлу. Вот тут только и сорвет Мануйло с них на бутылку.
В семейной жизни Мануйло был несчастлив: единственная его дочь – безумная. Всякого гостя эта безумная полуобнаженная девушка встречает диким хохотом и пристает к нему, пока отец не уймет. Эта девушка испорчена еще девочкой, с ней что-то сделал лесовик, и даже знаменитый колдун Микулаич Ферезеин не мог отколдовать. Вот как рассказывает об этом сам Мануйло:
– В этот год у нас в Маткозере рыбы совсем не было, вся перешла в Выг-озеро. Старухи рассказывают, будто видели, как на Поповом камне маткозерский водяник с Выг-озерским в карты играли. Вот и думаем, что наш хозяин свою рыбу проиграл. Не было рыбы весной, а летом так даже окуни на уду не шли. Осенью маялись-маялись с неводами, себя и баб замучили, а ничего не поймали. Ну, думаю, надо в лесу дело поправлять белками да мошниками. Взял собаку, ружье, надел кошель и пошел в лес. А девчонка моя и говорит: «Тятенька, позволь, я с тобой малешенько по лесу пройду». Да так и увязалась со мной. Только вошли в лес, слышу, собака так-то часто и гораздо лает. Ну, думаю, белку облаяла. За беличью шкурку в тот год по двугривенному платили, где тут о девчонке помнить! Как услыхал, что по белке лает, сейчас в лес. Лает, как бешеная, а белки нет. Нечего делать, срубил дерево, срубил другое. Смотрю, сидит на чистом месте на веточке, хвост на спине. Расставил я шагарку, стал прицеливаться. Хлоп! Нету ни белки, ни сука, и дерево это на другом месте стоит, и собака не лает. Тут-то я и вспомнил про девчонку. Оглянулся назад – нету ее. Ну, думаю, домой ушла, сотворил молитву – и в лес. Дня два проходил, прихожу домой, жена ругает: «Что ты, – говорит, – девчонку по лесу водишь?» А она с тех пор домой не приходила. Тут я и понял: он белку-то мне показал, а девчонку закрыл. Делать нечего! Посоветовали, посоветовали со старухой, и поехал я к Микулаичу, к колдуну, отведать девчонку. Сутки я к нему плыл да сутки пеший шел… «Ничего, – говорит, – старик, он ее восемь суток водить будет, на девятые нам только попасть туда нужно». Пришли мы с ним в лес на девятые сутки в полночь. «Становись, – говорит, – за вересиной, а я за камнем стану. И что бы ни было, стой, не шевелись, не бойся». Не мне бы ему говорить: в лесу ходишь, так нужно, чтобы запятая была твердая… Стою… Вижу, будто волокут мою девчонку два мужика, ножик вынимают… Стою, молчу… Кричит: «Тятенька!» Стою, молчу. А потом вижу: карета едет, везут девочку мимо. Тут старик вышел из-за камня. «Пойдем, – говорит, – она теперь дома». Пришли, девчонка дома, вся синяя, дрожит. Девять суток он ее водил, а уж что с ней делал, не знаем. Так и осталась немая и глупая.
Вот этот-то Мануйло и познакомил меня с колдуном Микулаичем. Ему зачем-то нужно было в Коросозеро, да кстати он хотел и ружье помыть у колдуна, а то оно стало недостреливать. Только что мы отплыли верст пять по Выг-озеру, вижу, Мануйло встревожился, стал приглядываться вдаль, наконец уверенно произнес:
– Пакость!
Скоро и я увидал, что на маленьком голом острову стояла кучка лошадей, она-то и возбуждала внимание Мануйлы. Этих лошадей, очевидно, перегнал с Янь-острова медведь. В это время в стороне показалась лодка, нам кричали, можно было ясно разобрать слова:
– Па-а-кость! На Коросозере четырех ронил! Когда лодка подъехала, между Мануйлой и двумя ловцами начался непонятный для меня разговор:
– У нас вся скотина в отпуску… Сам Микулаич отпущал… Пакость! Четырех из отпущенного стада ронил… Ослеп. Видно, у него путаться началось… Дьявола-то жмут… Напущенный… Максимка напустил…
Кое-как мне удалось установить такой смысл этих слов: скотина, которую ронил медведь, была заговорена знаменитым колдуном Микулаичем, или «отпущена». И вот, несмотря на это, случилось что-то неслыханное: медведь съел заговоренную, «отпущенную» скотину. Объяснялось это тем, что Микулаич стал стар, ослеп, дьяволы его жмут, и оттого в голове его начало что-то путаться.
– Эх, а хороший колдун был Микулаич! – сказал мне Мануйло. – По всем деревням от Данилова до Поморья отпускал скотину. Привезут, отвезут на своей лошади, поят, кормят, соберут рыбников, калиток целый воз, надают денег… Пастухи к нему со всех мест за отпусками ходили.
Мануйло не верил, что у Микулаича путаться начало, и объяснял это тем, что «он», то есть медведь, напущен другим завистливым колдуном Максимкой и что следовало бы опять попробовать его утопить. Оказывалось, что этого Максимку уже не раз топили, но не удавалось, – он всплывает и начинает со злости пакостить, то есть напускать «звиря».
Наконец мы добрались до колдуна Микулаича.
Он сидел возле своей избушки, грелся на солнце. Этот старый слепой старик, с благообразным лицом и седой длинной бородой, вовсе не походил на колдуна; скорее это был пастырь, священник. Узнав о том, что у Мануйлы ружье недостреливает, он сказал:
– Ну, давай ружье, я тебе наставлю.
После этого мы пошли к озеру. Старик стал на колени. У самой воды, разобрал ружье и, продувая ствол, три раза погрузил его в воду.
Старик совершал обряд с полной верой в его значение, у него было торжественное, серьезное лицо. Мануйло смотрел на него, как смотрит простой верующий человек на священника. Озеро было тихое, красивое, и во мне шевельнулось что-то, требующее уважения к обряду.
– Это, видишь ли, – объяснял мне потом в своей немного мрачной избе Ферезеин, – больше от себя. Когда с ружьем ходишь полесовать, так нужно вести себя строго. Другой раз нагрешат, трудно бывает поправить, ну раз и не сделаю, а другой уж наставлю.
С большой осторожностью я перевел разговор на медведей, скот и, наконец, на то, что медведь съел отпущенную им скотину, Микулаич просто и спокойно объяснил мне, что медведь этот не простой: если бы он был простой, то пришел бы на то же место и стал бы есть скотину; а если он не пришел, то для чего же он ее ронил? Нет, этот медведь напущенный. Но кто напустил, он не знает; говорят, что Максимка, но это неизвестно, а он теперь не может отведать колдуна, потому что ослеп. Для того чтобы отведать, нужно собрать из трех мест лагунной воды и смотреть в нее, пока не покажется враг.
– Я, – говорил старик, – годов с полсотни скотину отпущал, и никто не слыхал, чтобы мою скотину медведь сшиб. Эх, если бы глаза, я б ему показал! Не по разуму стряпню затеял. Вот раз это было… годов уж пятьдесят прошло. Тоже, как и теперь, каргопольский колдун стал повенецкому пакостить. Сошлись они на Коросозере. Наш-то и говорит: «Видишь вон чугун в печи? Пусть подойдет ко мне».
Бился-бился каргопольский, чугун ни с места.
– А вот тебе шуба на пороге, – говорит он нашему, – пусть сюда придет…
Не успел сказать, шуба и поползла, и поползла…
С тех пор шабаш, потерял силу каргопольский колдун.
– Эх, если бы не глаза, показал бы я этому Максимке!
Положение старика было, в самом деле, печально: всю жизнь он занимался отпусками, тем и кормился, и вот на старости приходится дело бросать. Он погрузился в воспоминания и рассказывал мне, как он отпускал скотину.
Бывало, Троица подходит, со всех мест шлют, успевай только ездить и отпускать. Приедет в деревню, а там уж ждут, скотина в поле, в загоне, пастух с трубой. Микулаич ставит в землю батожок и даст пастуху записку с отпуском. Если грамотный, то читает ее, обходя скотину три раза вправо от батожка; если неграмотный, то за пастухом идет кто-нибудь и читает отпуск. После этого Микулаич берет хлебный колобок, режет его на кусочки, чтобы каждой скотине досталось.
Но теперь старик ослеп, его, несомненно, жмут дьяволы, и он ничего не может поделать с пакостником Максимкой. Я упросил старика дать мне отпуск. Он достал из сундука бумажку и заставил меня три раза прочесть вслух. И нужно было видеть торжественное лицо старика, когда я читал. Он словно благословлял меня.
– Этот отпуск хороший, – говорил он, – этим отпуском сто коров отпущено и сорок лошадей. Теперь пиши, верно пиши.
Отпуск
Во имя отца и сына и святаго духа!
Выйду я, раб божий, пастырь (имярек), благословись, из двери в двери, из ворот в ворота. Стану я лицом на восток, хребтом на запад и помолюсь Христу небесному.
Господь сотворил небо и землю, реки и озера, и земную тварь, и человека, и меня, раба божия, с моим любимым скотом, любимым животом, со скотинкой разношерстной, доморощенной и новоприведенной, с коровами, быками, с телками рогатыми и комлатыми.
Праведное солнце и праведный господи! Поставь вокруг моего стада тын железный от земли и до неба и к тому тыну поставь двери стальные, ворота хрустальные, замки булатные, ключи золотые, чтобы не мог никакой дикий зверь видеть моего любимого стада, чтобы казалось мое стадо рысю, волку и широколапому медведю диким серым камнем.
И как катится солнце праведное с лучами ясными с утра до вечера всякий день и час, так чтобы и катилось мое любимое стадо по всей поскотине на мою трубу и на мой голос.
И как собирается в божью церковь народ к пению церковному и ко звону колокольному и как муравьи сбегаются в свой муравейник, так чтобы и мое любимое стадо собиралось к своим дверям во все красное лето, отныне и до века. Аминь.
– Так пиши, верно пиши, – говорил мне старик.
Когда я простился и вышел из избы, он тоже ощупью добрался до порога. Я был уже на другой стороне улицы, а старик все кричал вслед:
– Смотри, верно пиши!.. Пиши!
* * *
Вскоре мне удалось познакомиться и с колдуном Максимкой, счастливым соперником престарелого Микулаича. Какая противоположность знаменитому патриарху, хранителю скота! Если тот походил на благообразного священника, то этот был просто лесной зверь. Лицо его обветренное, темно-красное, почти черное, с морщинами, похожими на трещины, скошенный лоб; узкие маленькие глаза. Увидать такого человека в лесу, особенно когда ему вздумается залезть на дерево, чтобы сдирать бересту или резать прутья, – и можно навсегда поверить в существование лешего, похожего на человека.
Как и с Микулаичем, мне удалось с ним разговориться по душе. Раньше он был деревенским пролетарием, которого все презирали и били, а потом мало-помалу превратился в колдуна. Другому пойдет во всем удача: наловит рыбы больше других, настреляет дичи. Подивятся односельчане и станут говорить: ему помогает лесовой и водяной, он знает. Немножко фантазии, веры в себя – вот и колдун.
Но у Максима дело шло другим порядком.
– Эх, и навопелся я, – рассказывал он мне, – навопелся да находился, да наклепали на меня, да потрепали. А как дошел до нравов – теперь хорошо… боятся. Да я и дело свое знаю: у меня шерстинка не теряется. Сяду на лошадь, все за мной в струнку идут. Захочу, так коровы с места не тронутся, как пришитые стоять будут. А захочу, так и попугаю, закрою[19].
Микулаича он отвергал
– Лесом пасет, – говорил он про своего соперника. – Не божеские отпуски дает, а диявольские, лесом пасет.
Мы разговорились про коросозерского медведя. Но Максим тут был ни при чем. Виноваты сами: нужно было одного отпуска держаться, а они четыре взяли, – из четырех-то один может и худой попасть. Вот она откуда пакость, а Максимка всего раз только и поиграл. Подогнал он скотину к ржавому болоту, чтобы легче было медведю поймать, а сам стал за березку. Вышел медведь из лесу.
Скок на коровушку, обхватил ее лапами, а другие стоят не шелохнутся, как придавило! Мог бы все стадо решить медведь, но Максим не допустил. Привели корову, стали лечить. Истопили баню жарко-жарко, да в баню корову. Сразу на тех местах, где медведь поцарапал, и вздуло, она и околела.
– Дураки! сами виноваты. Им бы нужно раны перевязать да жар из по волечки пущатъ. После этого Максима опустили в пролубь. Да не удалось… Где им справиться!..
С тех пор дела Максима пошли в гору: что бы ни случилось, все он виноват, а тронуть боятся и деньги дают.
Я не берусь сказать, есть ли где еще такое место, как Выговский край, где бы языческий мир так близко соприкасался с христианским. В этом краю до сих пор еще живут пустынники, которые стремятся воспроизвести жизнь первых христианских аскетов, и в их избушки приходят иногда случайно такие полесники, как Филипп, всю жизнь имевшие дело только с лешими, колдунами и медведями.
Чтобы передать здесь свои впечатления из религиозной жизни обитателей Карельского острова, мне, однако, необходимо рассказать интересную и крайне поучительную историю Выговской пустыни.
Выговская пустынь
В Петербурге, возле Волкова кладбища, есть беспоповская моленная. Если прийти в нее после шумных улиц столицы, то становится так же странно, как ночью в вагоне, когда пробудишься от остановки поезда. Где мы? Что с нами? Иногда проходит довольно много времени, пока в сознании не установится необходимое равновесие и все объяснится так просто.
И тут, в моленной, мысль, оторванная от улицы, мечется из стороны в сторону, забежит вперед, унесется назад и наконец найдет себя где-то далеко в Допетровских временах.
В полумраке из темных рядов икон смотрит громадный круглый лик Христа на людей в длинных черных кафтанах, с большими, до пояса, бородами и со сложенными руками на груди. Три возвышения, покрытые черным, стоят перед иконостасом; на среднем от свечи блестит большой металлический восьмиконечный крест, у боковых стоят темные женские фигуры. Одна женщина быстро читает из большой книги. Возле правого и левого клироса стоят два старца, и мимо них проходят женщины в черном, кланяются глубокими поясными поклонами и наполняют оба клироса. Собравшись, они выходят на середину церкви, сразу, неожиданно для посторонних, вскрикивают и поют в нос уныло и мрачно. Время от времени люди в длинных кафтанах падают вперед на руки, поднимаются и снова падают. Один из двух седых старцев берет кадило и перед каждым кадит, все разводят при этом сложенные на груди руки. Неловко в этой моленной постороннему человеку: люди здесь молятся и свято чтут свои обряды.
Почти рядом с этой моленной есть православная церковь. Сначала станет легко, свободно и радостно, как перейдешь туда из мрака. Все знакомо, светло, алтарь, певчие, священник в блестящей ризе. Но, вглядевшись в иконы, замечаешь, что они те же самые, мрачные старинные и даже такой же темный громадный лик Христа смотрит здесь уже на обыкновенную толпу. Оказывается, эта церковь была отобрана у беспоповцев и переделана в православную. Потом подробности в толпе: барыни в шляпах шепчутся, другие улыбаются, певчие откашливаются, задают тон, священник искоса разглядывает прихожан. В одной церкви давит какое-то непосильное окаменение духа, в другой скучно, обыкновенно.
Эти церкви – памятники той трагедии духа русского народа, когда западный «ратный» закон встретился с восточным «благодатным» и произошел раскол. Вот в эти-то времена и осветила религиозная идея мрачный край леса, воды и камня. В нем закипела умственная жизнь. Основные вопросы религии здесь обсуждались, разрабатывались теоретически и испытывались в жизни. Тогда Выговский край покрылся дорогами, мостами, пашнями, селами. И так продолжалось полтораста лет. Потом снова все стихло, угасла умственная жизнь, разрушились дома, часовни, пашни заросли лесами. И край остался словно величественной и мрачной могилой, свидетелем тех «мимошедших времен».
* * *
Соловецкий монастырь для Выговского края когда-то был такой же святыней и экономическим центром, каким стал потом Даниловский (Выговская пустынь). Вот почему ужас, трепет охватил всех, когда в январе 1676 года войска проникли в осажденный, ставший раскольничьим Соловецкий монастырь. Виновники были наказаны беспощадно: сотни казненных были брошены на лед.
В это время на Севере почти беспрерывная ночь. И словно над всею русскою землей на десятки лет повисла такая же беспросветная, страшная ночь. Глядеть в эту бездну тьмы – страшно. Что там видно? Сожжение еретиков, костры самосожигателей? А может быть, уже начинается? Может быть, уже горит небо и земля, архангел затрубит, и настанет Страшный последний суд! Казалось, что вся вселенная содрогается, колеблется, погибает от диавола. Он, этот диавол, «злокозненный, страшный черный змий» явился. Сбывалось все, что было предсказано в Апокалипсисе. Верующие бросали все свои земные дела, ложились в гробы и пели:
Деревянен гроб сосновый, Ради мене строен, В нем буду лежати, Трубна гласа ждати; Ангелы вострубят, Из гроба возбудят…А на покинутых полях бродила скотина и жалобно мычала. Но этот ужас перед концом мира был только в бессильной душе человека. Природа по-прежнему оставалась спокойной, звезды не падали с неба, светили луна и солнце. И так годы шли за годами. Над человеком будто кто-то смеялся.
Гонения все усиливались. Правительство Софьи издало указ: всех нераскаявшихся раскольников жечь в срубах. Тем, кто отказывался причащаться, вкладывали в рот «кляп» и причащали силой. Оставалось умереть или бежать в пустыню.
А в пустынях Выговского края беглецы встречали радушный прием. Там, у озер, в лесных избушках жили старцы, рубили лес, жгли его и, раскопав землю копорюгою, сеяли хлеб, ловили рыбу. Эти старцы иногда выходили из леса и учили народ. Они учили его старинному дониконовскому русскому благочестию и рисовали ему ужасы наступающего Страшного суда. Народ их слушал и понимал, потому что здесь он издавна привык к таким учителям.
* * *
Из этих старцев-проповедников особенно славился Игнатий Соловецкий. Долго он укрывался от преследований одной из тех карательных экспедиций, которые посылались для розыска раскольников в лесах. Наконец, измучившись, не будучи в состоянии укрыться от преследователей, которые пошли в пустыню, «яко песия муха на Египет», он решил погибнуть славною смертью самосожжения.
«Куйте мечи множайшие, изготовляйте муки лютейшие, изобретайте смерти страшнейшие, да и радость виновнику проповеди будет сладчайшая!»[20].
Как гонимый зверь, бежал Игнатий с своими учениками на лыжах по озеру Онего. Прибежав в Палеостровский монастырь, он выгнал оттуда не согласных с ним монахов, заперся в монастыре, а учеников послал по «селам и весям» возвестить благоверным христианам, чтобы все, кто хотел скончаться огнем за древнее благочестие, шли к нему на собрание.
И со всех деревень народ толпами пошел к своему знаменитому проповеднику. Собралось около трех тысяч человек. Преследующему раскольников отряду казалось опасным подступить к монастырю и потому послали в Новгород за подкреплением. Великим постом войско в пятьсот солдат со множеством понятых двинулось к монастырю. Впереди везли возы с сеном для прикрытия от пуль. Думали, что будет сильное сопротивление. Но в монастырь не стреляли.
Скоро и люди, стоявшие у стен, куда-то исчезли. Отряд подступил к самым стенам. Солдаты по лестницам взобрались на стены, спустились во двор. Там не было ни души. Бросились к церкви, но ворота были заперты и заставлены крепкими бревенчатыми щитами. Тогда поняли, что готовится страшная смерть. Пробовали рубить стены, но это было бы долго. Втащили на ограду пушки, и в деревянную церковь полетели ядра.
А люди там сидели, сбившись тесною кучей, обложенные хворостом. Последние два дня, а некоторые и неделю, не пили, не ели, не спали. Историк сообщает, будто они молились так: «Сладко ми есть умерети за законы церкви твоея, Христе, обаче сие есть выше силы моея естественный».
Неизвестно, сами ли староверы подожгли хворост или же от удара ядра свалились свечи и зажгли его, но только церковь вспыхнула сразу, пламя вырвалось, зашумело и высоко поднялось к небу столбом.
Стены попадали внутрь, похоронили всех…
«Рыдательная и плачевная трость» историка Ивана Филиппова, современника этих событий, передает нам, будто бы при этом было такое видение:
«Когда разошелся первый дым и зашумело пламя, то из церковной главы вышел отец Игнатий с крестом в великой светлости и стал подниматься к небу, а за ним и другие старцы и народа бесчисленное множество, все в белых ризах рядами шли к небу и, когда прошли небесные двери, стали невидимы».
Но дело Игнатия не погибло с ним.
Еще в Соловецком монастыре один благочестивый старец Гурий убеждал Игнатия уйти из монастыря и основать новый
– Иди, иди, Игнатий, – говорил он, – не имей сомнения, хочет бог сотворить тобою велию обитель во славу его.
Странствуя по деревням в Поморье, Игнатий искал подходящих людей для основания новой обители. Скоро он встретился с шунгским дьячком Данилой Викуличем, который тоже укрывался в выговских лесах, и близко сошелся с ним. Этому Даниле старец Пимен, окончивший свою жизнь так же, как и Игнатий, самосожжением, предсказал руководящую роль в будущей обители. Случилось это при таких обстоятельствах. Данил однажды посетил Пимена в карельских лесах. Долго они беседовали, а когда Данил стал уходить, старец пошел его провожать. Садясь в лодку, Данил взялся было за весло на корме, но Пимен сказал Данилу:
– Ты, Данил, сядь на корму, ты будешь кормчий и правитель добрый христианскому последнему народу в Выговской пустыни.
Но самая важная услуга Игнатия по отношению к Выговской пустыни была в том, что он подготовил к религиозному подвигу даровитое семейство повенецкого крестьянина Дениса, потомка князей Мышецких.
«Итак, – говорит историк, – малая сия речка (Выговская пустынь) истекла от источника великой Соловецкой обители».
* * *
Андрей Мышецкий, впоследствии знаменитый организатор Выговской пустыни и теоретик раскола, вырос в Повенце на берегу бурного Онега, у края тогда еще первобытных повенецких лесов. Село Повенцы было тогда тем центром, от которого отправлялись в леса карательные экспедиции, и здесь истязались пойманные раскольники. Казни, самосожжения, горячая проповедь Игнатия – вот с чем встретилась юность блестяще одаренного Андрея и что направило его на религиозный подвиг.
В декабре, в самую стужу, когда на Севере ночь лишь немного бледнеет для дня, юноша с своим другом Иваном уходит в лес: «Оставляет отца, презирает дом и вся настоящая, яко не суща, уничтожает… Лыжи вместо коня, кережи вместо воза, сам себе бывает и подвода, и извозчик, и вождь, и водимый».
И вот начинается «богорадное и самоозлобленное житие». Юноши скитаются в тьме, в чаще лесов и ночуют у костров, питаясь взятой с собой скудной пищей. Когда наконец стаял снег, они выбрали себе местечко возле горы у ручья для постоянного жительства: «Гору точию сожительницу и ручей соседа себе избраша».
Молодые пустынники часто ходили к Данилу, который жил недалеко от них. Вместе с пожилым аскетом они пели духовные стихи, молились, беседовали с ним и возвращались домой, все более и более «разгораясь ревностью божественной».
Наконец, видя, что они во всем сходятся, решили перебраться к Данилу, жить с ним вместе и устроить большую избу для новых, приходящих к ним пустынников.
Когда жизнь более или менее устроилась, Андрей отправился в Повенец, поселился у кого-то из друзей и потихоньку подготовил побег своей сестры Соломонии. Старик отец сначала был в страшном гневе, но потом, убедившись, что новое общежительство – дело нешуточное, сам переселился туда вместе с двумя другими сыновьями, Семеном и Иваном.
Не так далеко от Андрея и Данила, по реке Верхний Выт, укрываясь от преследований, жил крестьянин Захарий с семейством, занимался земледелием. Берега реки Выга, хотя и сплошь покрытые еловым и сосновым лесом, были хороши для земледелия. Тут издавна селились пустынники. Так, повыше Захария жил очень почитаемый старец Корнилий, пониже – Сергий.
Однажды на Святой Захарию пришлось побывать у Данила и Андрея. Тут ему и пришла счастливая мысль звать их к себе на Выг. Возвратившись к отцу домой, Захарии рассказал про новое общежитие и об их замыслах.
Старику так это понравилось, что они тут же вдвоем и отправились к ним на лыжах. Гостей приняли с радостью, каждый день пели духовные стихи и после службы читали священные книги.
Основатели Выговского общежития не сразу сдались на убеждения Захария и решили для опыта послать туда двенадцать трудников сечь деревья и посеять хлеб. Трудники сейчас же отправились.
Пока они работали на Выгу, случилась беда: в общежитии сгорели все запасы и все постройки. Тогда, забрав с собой все, что осталось, они отправились на Выг, где происходили работы. Данил и Андрей, прежде чем окончательно решиться основать общежитие на Выгу, пошли посоветоваться относительно этого со старцем Корнилием.
Побеседовавши с ними о всех несчастиях и разных переменах в церкви, Корнилий не только советовал им, но настойчиво убеждал и благословлял переселиться к Захарию на Выг. Он предсказывал для Выговской пустыни блестящее будущее: «Места эти распространятся и прославятся во всех концах. По умножении же поселятся с матушками и с детками, с коровушками и с люлечками». Вообще Корнилий был полною противоположностью ученому ригористу фанатику Игнатию, он проповедовал мирный, здоровый труд, простоту, любовь к людям. Когда, вернувшись к братии, Данил и Андрей передали им ответ Корнилия, то все были очень рады. Но скоро пришел и сам Корнилий, чтобы благословить их. Все собрались вместе, помолились и тут же принялись за работу. Так основалось Выговское общежитие (1695 год).
Из построек прежде всего поставили столовую и хлебную в одной связи, келий для мужчин и для женщин. Мужчины жили сначала в столовой, а женщины – в хлебной. Богослужение совершалось также в столовой, причем посредине вешалась завеса, разделяющая мужчин и женщин. В это время собралось уже около сорока человек.
Но слух о новой обители быстро распространился, и общежитие стало расти. Самое трудное – это было завести постоянную пашню, перейти от неблагодарного подсечного хозяйства к постоянной пашне, к трехполью. Для этого нужно было завести скот, чтобы удобрять постоянную пашню. Мало-помалу это и удалось: устроили двор конный и коровий.
Между женскими келиями и мужскими поставили стену и в ней небольшую келию с окном, где могли бы видеться родственники; вокруг всего монастыря поставили ограду. За отсутствием свечей совершали службу при лучине и вместо колокола стучали в доску.
По мере того как развивалось общежитие, нужно было все больше и больше думать об организации труда и вообще об устройстве новой жизни. Конечно, Андрею было очень трудно спасать свою душу возле горы у ручья, но для юноши-энтузиаста, быть может, такой подвиг был лишь удовлетворением своей потребности. Теперь же в общежитие стали приходить всякие люди: и сильные, и слабые. Бежать от мира было основной идеей Андрея, но тут возникал новый мир. И этот новый мир нужно было устроить так, чтобы он не походил на старый.
Только что удалось кое-как устроиться, обзавестись всем необходимым для хозяйства, как новая беда постигла собравшихся на Выгу пустынников. Наступили «зяблые и зеленые» годы. На Выгу почти крайний северный предел правильного земледелия, и урожай там целиком зависит от каприза погоды. Подует морянка, то есть ветер с моря, хватит во время налива зерна мороз, и весь урожай погибает, – это «зяблые годы». А бывает, что хлеб до зимы не успеет вызреть, – это «зеленые годы». Такие годы, особенно в начале существования общежития, могли быть для него гибельны, потому что запасов еще никаких не имелось. Однажды Андрей даже поколебался и уже решил было идти к морю искать новых мест. Но отец его, Денис, прекратил эти колебания «простой речью»: «Живите, – сказал он, – где отцы благословили и кончалися, хотя и много ищешь и ходишь, да тут сорока кашу варила, таковское сие место по времени».
Пришлось помириться. Чтобы не умереть с голоду, построили повыше на Выгу мельницу-толчею для изготовления муки из соломы и из сосновой коры. Однако хлебы не всегда удавалось испечь из такой муки: они часто рассыпались в печи, и их выметали оттуда помелом.
Наконец надумали для устранения такого рассыпания хлеба печь их в берестяных коробочках. «И такая скудость бысть тогда, что днем обедают, а ужинать и не ведают что, многажды и без ужина жили».
Тогда собрали все, что у кого было: деньги, серебряные монисты, платье, и отправили Андрея для закупки хлеба на Волге. Частью на вырученные от продажи этого имущества деньги, частью же на подаяние благочестивых, сочувствующих расколу людей Андрею удалось закупить значительное количество хлеба. Он привез его в Вытегру и оттуда в Пигматку – место, ближайшее к Выговской пустыни на Онежском озере. От Пигматки носили хлеб в крошнях[21] по лесным тропинкам, потому что дороги тогда еще не было. В глухих местах Повенецкого уезда и до сих пор носят хлеб именно таким образом.
Кое-как справились с бедой. И только хотели было вздохнуть свободно, как новое бедствие грозило обрушиться на обитель. Недалеко, всего в пятидесяти верстах, по лесам и болотам проходил с войском Петр Великий.
* * *
Обе сплошные стены леса на Сумском тракте в нескольких местах вдруг расступаются, широкая просека, заросшая лишь мелкими чахлыми деревцами, кажется в этой глухой, безлюдной местности следом громадного существа. Ямщик здесь останавливает лошадей и говорит: «Осударева дорога!» И поясняет: «Тут осударь Петр Великий проходил с войсками». Когда это было, он не помнит. «Было давно, никто из стариков – отцов, дедов и прадедов не помнит». – «Но почему же не зарастает дорога?» – «А уж этого не знаю, – отвечает ямщик, – видно, уж так определил господь этому быть, и так оно и есть». Какой бы прекрасный, величественный памятник ни поставили бы в этом месте наши культурные потомки, путешественник не будет испытывать того, что теперь, глядя на этот след в диком месте. Потом дальше около Петровского яма покажут вырытую канаву, сложенные камни, ясные признаки привала войск. Еще дальше в глушь, около Пулозера, где до сих пор не существует никаких дорог и люди ходят пешком по едва заметным тропинкам, укажут затянутый моховым болотом мост, конечно, сгнивший, но все-таки заметный. И везде скажут: тут шел осударь, это Осударева дорога.
– А знаешь ли, кто был Петр Великий? – спросил меня один скрытник-пустынник, показывая остатки моста на болоте за Пулозером. Он опасливо посмотрел мне в глаза.
Я поспешил сказать: «Знаю», – и он успокоился. Петр Великий был антихрист, хотел мне сказать пустынник.
Этот антихрист, страшилище всех приверженцев древней Руси, шел по этим лесам и болотам в 1702 году с войском и с двумя фрегатами, которые тащили посуху от самого Белого моря до озера Онего. Это было во время Шведской войны, и Петр Великий во что бы то ни стало хотел отбить вход в Балтийское море из Финского залива. Карлу XII, конечно, и в голову не могло прийти, чтобы Петр, находившийся с флотом на Белом море, мог провести войско по дебрям Выговского края и затем доставить к крепости Нотебург (Шлиссельбург). Кто видал эти онежско-беломорские дебри, тому мысль Петра могла бы показаться безумной, если бы блестящее осуществление ее не стало теперь историческим фактом. Впрочем, и сам Петр не сразу решился на такой шаг. Сначала он наметил было путь по морю до реки Онеги, затем по Онеге и сухим путем до Новгорода. Для разведок в этом направлении указом 8 июня 1702 года был командирован писарь Преображенского полка Ипат Муханов. Неизвестно, остались ли поиски Муханова безрезультатными или, быть может, разведки в другом месте дали более хорошие результаты, но только проложение дороги было поручено не Муханову, а сержанту Преображенского полка Михаилу Щепотьеву, тому самому знаменитому «бомбардирскому уряднику», который умер потом геройской смертью под Выборгом. Как известно, он с горстью солдат на пяти малых лодках подкрался к неприятельским кораблям, атаковал адмиральский бот «Эсперен», на котором находились четыре пушки и сто три человека экипажа при пяти офицерах. Весь экипаж бота был частью перебит, частью заперт под палубой, а бот взят. Но сам Щепотьев при этом погиб и был доставлен домой мертвым на палубе взятого им неприятельского корабля.
Этот Щепотьев приступил к проведению дороги в конце июня. В помощь ему было дано от шести до семи тысяч человек крестьян Соловецкого монастыря, Сумского острова, Кемского городка, обширного Выг-озерского погоста и, кроме того, крестьяне онежские, белозерские и карго-польские, то есть тут был собран народ из трех нынешних губерний: Архангельской, Олонецкой и Новгородской. Все крестьяне были с лошадьми.
Можно себе представить по этим фактам, чего стоила населению эта дорога! До сих пор в народе сохранились тяжелые воспоминания. В Выговском краю мне рассказывали старики, что для устройства дороги согнали крестьян со всей России.
Щепотьев начал прокладывать свой путь от усолья Нюхчи, где теперь находится селение Вардегора. Тогда там были лишь избушки солепромышленников. Быть может, эти солепромышленники и помогли Щепотьеву в его разведках, указали ему проложенные ими тропинки. От этого места до селения Вожмасалма на Выг-озере сто девятнадцать верст, из них шестьдесят шесть верст совершенно топких, болотных, непроходимых мест, которые нужно было застилать мостами. Это было самое трудное место для устройства дороги; дальше, по мере приближения к Масельгскому хребту, местность была суше, удобнее. Для того чтобы сделать мосты на топких местах, приходилось в летное время по болоту возить лес за пять, десять и даже за двадцать пять верст. В то же время нужно было рубить деревья, делать просеки, через речки строить мосты, у Барде-горы и в Повенце пристани. Когда одни делали грубую первую работу, другие, вероятно, приводили просеку в проезжий вид, очищали от камней, пеньев, поваленных деревьев, настилали мосты на топких местах. В августе вся эта колоссальная работа была уже закончена, Щепотьев доносил государю из Повенца: «Извествую тебя, государь, дорога готова и пристань и подводы и суда по Онеге готовы, а подвод собрано по 2-е августа 2000, а еще будет прибавка; а сколько судов и какою мерою, о том послана к милости твоей роспись с сим письмом».
Шестнадцатого августа вечером, под начальством Крюйса, к усолью Нюхче с Соловецкого монастыря пришел флот и остановился частью под горою Рислуды, а частью у Вардегоры. К последней пристали на двух малых фрегатах, которые предполагали взять с собой. Пустынный край оживился. На берегу был государь с царевичем Алексеем и с многочисленной свитой, духовенство, пять батальонов гвардии (более четырех тысяч человек) и множество рабочих с подводами. Пока разгружали корабли, государь угощал соловецких монахов, подносивших ему образ святителей соловецких. В то же время было получено донесение о победах Шереметева и Апраксина. Наконец, когда была окончена разгрузка кораблей, начался знаменитый поход через онежско-беломорские дебри: фрегаты были поставлены на полозья, и к каждому было определено по сто лошадей и подвозчиков и по сто человек пеших. Для удобства передвижения под фрегаты подкладывались катки. Государь, свита и духовенство, конечно, ехали, вероятно, частью в местных одноколках, а частью верхом. Места остановок назывались ямами и сохранили до сих пор это название Слово ям здесь употребляется, вероятно, в смысле остановки. Для государя и для свиты на местах ночлега ставились зимушки, а народ ночевал кто у костров, а кто взбирался на помосты на деревьях – ловасы. По преданию, Петр не любил ночевать в зимушках и больше все был на свежем воздухе…
Нужно думать, что Щепотьев сделал дорогу лишь в грубом виде и что работы по очистке дороги производились во время похода. Вот почему углублялись в дебри медленно, шаг за шагом, днем работали, мокли в воде и грязи, а ночью дрогли в мокрой и холодной одежде. Рассказывают, что у Нюхчи, а потом и везде по ямам «первую мостовину, благословясь, клал сам осударь, вторую давал класть сыну своему возлюбленному, а там и бояр на это дело потреблял». Чтобы избежать тридцативерстного обхода Выг-озера, из лодок и плотов навели через пролив плавучий мост и переправились через реку Выг в пятидесяти верстах от Даниловского общежития. Дальнейший переход через Масельгский хребет к Повенцу был несравненно легче: здесь местность более сухая, лесистая, здесь, наконец, проходил и путь соловецких богомольцев. Можно предположить, что, когда шли по берегу длинных узких озер, фрегаты спускали на воду. В Повенец прибыли 26 августа, пройдя в десять дней сто восемьдесят пять верст. Отсюда Петр писал польскому королю Августу: «Мы ныне в походе близ неприятельской границы обретаемся и при помощи божией не чаем праздно быть». Отсюда же он послал Репнину указ о сосредоточении его отряда под Ладогою «без замедления». Немало осталось тут народа в лесах, но результатом похода было взятие Шлиссельбурга. «А сим ключом, – говорил Петр, – много замков отперто». Весной следующего после похода 1703 года был основан Петербург.
* * *
Когда Петр Великий, в котором раскольники видели антихриста, появился в выговских дебрях, то их охватил такой ужас, что некоторые хотели бежать, а некоторые, по примеру отцов, принять огненное страдание. В часовне уже были приготовлены смола и хворост. Все пребывали в неустанной молитве и посте.
При переправе через Выг Петру, конечно, донесли, что тут недалеко живут раскольники.
– А подати платят? – спросил он.
– Подати платят, народ трудолюбивый, – отвечали ему.
– Пусть живут, – сказал Петр.
«И проехал смирно, яко отец отечества благоутробнейший», – радостно повествует скоропишущая трость Ивана Филиппова.
Точно так же и против Пигматки донесли Петру о пустынниках, но он опять сказал: «Пускай живут». «И вси умолчаша, и никто же смеяше не точию что творить, но и глаголати».
Но Петр не забыл о пустынниках. Вскоре в Повенце был князь Меншиков для устройства железоделательного завода. Место завода было выбрано возле Онего на реке Повенчанке, а в Выговскую пустынь был послан указ, в котором говорилось: «Его императорскому величеству для Шведской войны нужно оружие, для этого устраивается завод, выговцы должны исполнять работы и всячески содействовать заводу, а за это им дается свобода жить в Выговской пустыни и совершать службу по старым книгам».
Пустынники согласились. Это была первая крупная уступка миру ради удобств совместной жизни. Раскольники должны были изготовлять оружие, которое прокладывало путь в Европу. Этим они покупали свободу. «И с того времени начала Выговская пустынь быть под игом работ его императорского величества и Повенецких заводов».
Петр вообще не стеснял раскольников. Отчасти ему не было времени этим заниматься – он был поглощен войной, отчасти же смотрел практически и извлекал из них выгоду, обложив особой податью «за раскол». Лишь в 1714 году он переменил к ним отношение, когда узнал из донесения митрополита Питирима, что в нижегородских лесах раскольников до двухсот тысяч, что они государственному благополучию не радуются, а радуются несчастию, что за царя они не молятся и так далее. В это же время Петр, занятый розыском по делу царевича Алексея, узнал, что у него в деревне живут раскольники и все они любят его. Ввиду всего этого он предписал: «Учителей раскольничьих буде возможно, вину сыскав, кроме раскола, с наказанием и вырвав ноздри ссылать в каторгу».
Но, пока было свободно, сотни тысяч людей, устрашенных, обездоленных реформами, бежали в пустыни и устраивали жизнь по старинным русским законам. Пустынь была тем клапаном, который предохранял народ от слишком большой тяжести Петровских реформ.
Беглецы стали населять и выговские пустыни. Стали «собираться и поселяться на болотах, по лесам, между горами и вертепами и между озерами в непроходимых местах, скитами и келиями, где кому возможно».
В общежитие принимали всех без разбору и спрашивали только: помнит ли приходящий Никона. Тех, кто помнил, принимали прямо; кто родился после Никона и крестился двумя перстами – исповедовали и перекрещивали, а кто крестился тремя перстами сверх того обязывали креститься двумя.
Общежитие так быстро росло, что в 1706 году решили устроить отдельный скит для женщин. Место выбрали в тридцати верстах от Данилова, на реке Лексе. Выстроили кельи, столовую, больницу и часовню и все это обнесли оградой. Кроме того, были поставлены коровий двор и мельница с «мелеей и толчеей». Для более тяжелых полевых работ на Лексу присылались трудники, которые жили за монастырской стеной. В то же время в Данилове были устроены маслобойная и молочная, портомойня и челядная. Все это, вместе с коровьим двором, было обнесено оградой, – здесь жили женщины.
Но сколько ни старались выговцы устроиться прочно, им это не удавалось. Время от времени повторялись «зяблые и зеленые годы», которые повергали всех в отчаяние, потому что каждый раз приходилось питаться сосновою корою, соломою и даже травою. После ряда неурожаев Андрей решил уничтожить самую возможность голодовок. С величайшей энергией пустынники начинают разыскивать себе удобной земли. Они побывали в Мезенском уезде, осмотрели Поморье, побывали в Сибири, побывали на «низу», то есть в поволжских губерниях. Но на Севере была такая же неудобная для земледелия земля, а на «низ» было слишком далеко. Наконец остановились на казенной земле в Каргопольском уезде в Чаженке и купили ее с торгов. Земли было много, по шестнадцати верст во все стороны, и она была такая удобная, что выговцы подумали даже туда переселиться. Послали даже Семена Денисова в Новгород похлопотать о разрешении. Но в Новгороде Семен был арестован как расколоучитель, и попытка окончилась неудачно. Пришлось ограничиваться лишь посылкой туда трудников во время полевых работ.
Эта земля стала огромным подспорьем. Теперь уже можно было жить, не думая о зяблых годах. Стали прокладывать дороги, строить мосты. В Повенецком уезде и до сих пор поминают добрым словом всякого, кто повалит несколько деревьев и уложит их через топкую моховину или из тех же деревьев на ручье устроит мостик. А тогда, при полном отсутствии дорог, деятельность общежития была благодеянием для края. Проложили дороги из Данилова на Чаженку и Леску, Волозеро, Пурнозеро, к Онежскому озеру, к Пигматке и к Белому морю. Везде при дорогах ставили постоялые дворы, кресты и верстовые столбы, на Онеге, Выгу, Сосновке и других реках устроили мосты. В самом же общежитии выстроили новую большую столовую с кухней для печения хлеба, а также большую избу для извозчиков, новые большие мастерские: кожевню, портную, чеботную, мастерскую для живописцев, кузню, меднолитейную и другие. Выстроили также большую конюшню с сараем для экипажей, несколько амбаров, рабочую избу. Наконец, поставили большую избу для Андрея с семейством и для близких ему лиц, другую избу – портовому приказчику с товарищами «для приезда» и «для счету».
Последнее указывает на то, что в это время общежитие имело значительную торговлю.
Эта мысль, вероятно, пришла Андрею в голову, когда он ездил на «низ» в неурожайные годы за хлебом. Как раз в это время строился Петербург, и сотни тысяч людей постоянно нуждались в хлебе и хорошо за него платили. Попробовали доставить хлеб с поволжских губерний через Вытегру в Петербург. Дело оказалось выгодным. Тогда завели свои суда, свои пристани на Вытегре и на Пигматке. Суда ходили по Онежскому озеру между Вытегрой, Пигматкой и Петровскими заводами, ходили и в Петербург. Данилов стал богатеть, скопился капитал, запасы хлеба, устраняющие всякую возможность голодовок.
К концу жизни Андрея Данилов процветал. Вокруг него по сузёмку были пашенные дворы, множество лошадей и коров стояло на его конных и коровьих дворах, на Онежском озере была целая флотилия судов. Широкая благотворительность далеко по всей стране разносила славу этого «беспоповского Иерусалима». Насколько прочно было положение общежития, можно судить из того, что пожар, совершенно уничтоживший Лексинский скит, не нанес существенного ущерба общежитию. В скором времени были возведены новые постройки, причем Андрей, несмотря на свои постоянные умственные занятия, как чисто теоретические, богословские, так и практические, по наблюдению за внешней и внутренней жизнью общежития, вместе со всеми работал на постройке.
В сущности, Данилов представлял собою тогда небольшой городок. В нем было несколько сот жителей на пространстве шести – восьми квадратных верст. Вокруг него был вырыт глубокий ров и сделаны высокие ограды. Две высокие часовни с колокольней возвышались из множества простых, но прочных двух- и трехэтажных построек. Всех келий, то есть вместительных изб на десять и более человек, было пятьдесят одна; кроме того, было шестнадцать меньших изб, пятнадцать амбаров, громадные погреба, две большие поварни, двенадцать сараев, четыре конных двора и четыре коровьих, гостиный двор и пять постоянных изб, пять риг, две кузницы, меднолитейная, смолокурня, портняжная, сапожная, иконописная, рукодельная, мастерская для переписчиков и другие мастерские, две школы и две больницы. Затем были мельницы, кирпичные заводы, – одним словом, все, что необходимо для городской жизни. К этому центру тянулись разбросанные по суземкам многочисленные пашенные дворы и скиты.
Все это раскольничье общежитие выросло на почве протеста старого мира новому, вот почему его общественное устройство представляло образец старинного русского самоуправления. Во всех важных случаях представители множества скитов Выгореции собирались вместе. В исключительно важных случаях к ним присоединялись выборные и старосты соседних с Выгорецией волостей. Что же касается исполнительной власти, то тут главная роль принадлежала представителям Данилова, духовно-религиозного центра, хотя во внутреннем устройстве скиты Выгореции пользовались полной самостоятельностью.
В этом отношении особенно тщательно были разработаны формы Даниловского общежития, с которыми отчетливо знакомит нас «Уложение» братьев Денисовых.
Во главе общины стоял большак, он назывался киновиарх. Ему принадлежала верховная руководящая роль и власть над всеми другими выборными должностными лицами. Он выбирался из людей выдающихся качеств. Сначала эту должность выполнял Данил, потом Андрей и Семен Денисовы. Киновиарх, однако, был подчинен, в свою очередь, собору, то есть общему собранию даниловцев и представителей Лексы.
За большаком «Уложение» разграничивает обязанности келаря, казначея, нарядника и городничего. Келарь заведовал внутренним хозяйством общины, он должен был наблюдать четыре службы: трапезную, хлебную, поварную и больничную. Казначей должен был тщательно беречь все выговское имущество и, по «Уложению», смотреть на него как на вещи, принадлежащие самому богу. В кожевнях, в чеботной и портной швальнях, в медной и других мастерских он наблюдал за работами. В помощь ему во всех мастерских были старосты. Казначей мог действовать только через старост; с другой стороны, и старосты не могли что-либо предпринимать без ведома казначея.
Ведению и попечению нарядника подчинены были: земледелие, плотничество, ковачество, рыболовство, возачество, молочение, мельницы, скотные дворы и всякая домовая работа и работные люди. Он также действовал через выборных старост.
Наконец, городничий обязан был иметь надзор над сторожами, над обеими гостиными – внешнею и внутреннею, наблюдать над приходящими и отходящими странниками, посматривать за братнею при часовенных дворах, во время книжного чтения, в келиях и при трапезе. Кроме этих должностей, были стряпчие для сношения с официальным миром: на Петровских заводах, в Олонце, в Новгороде, Москве и Петербурге.
Вместе с хозяйственной стороной развивалось и духовное просвещение братии. В этом отношении, как и во всем остальном, общежитие обязано все тем же четырем выдающимся людям, которых историк характеризует так: «Данил – златое правило Христовы кротости, Петр – устава церковного бодрое око, Андрей – мудрости многоценное сокровище, Симеон – сладковещательная ластовица и немолчные богословские уста».
Но неизмеримо большее значение из всех этих вождей имел Андрей. Он сочетал в себе удивительно разнообразные способности. Вначале юноша-энтузиаст, потом и ловкий торговец, и блестящий оратор, и ученый богослов, и писатель. Его не удовлетворяло то, что обитель имела за собою «срытые горы», «расчищенные леса», монастырские здания, благочестивую братскую жизнь, обширные связи при дворе и в самых отдаленных городах России. Он хотел также раздвинуть и умственный горизонт раскольников посредством систематического школьного образования Имея обширные связи, находясь постоянно в общении с миром, он чувствовал недостаточность своего образования, полученного от начетчика Игнатия. Вот почему, когда материальное существование братии было более или менее обеспечено, он под видом купца проникает в самое сердце вражеского стана, рассадника ереси, в Киевскую академию, и там учится богословию, риторике, логике, проповедничеству под руководством самого Феофана Прокоповича. Свои знания Андрей передавал брату Семену и некоторым другим близким лицам непосредственно; кроме того, им написано множество сочинений. Между прочим, он является и автором знаменитых «Поморских ответов». Вообще его значение как образованного человека, знатока древнерусской письменности, было очень велико; есть указания, что он имел сношения и с иностранцами; достоверноизвестно, что его знали в Дании.
Основанные Андреем школы играли огромную роль в раскольничьем мире. Сюда раскольники привозили своих детей для обучения со всех концов России. Особенно много привозилось сюда девочек, которые обучались здесь грамоте, письму, пению, домохозяйству, рукоделию. Эти белицы жили в особых избах, которые им строили богатые родители.
В больших светлых комнатах псалтирной постоянно переписывались старинные книги и новейшие произведения раскольничьей литературы. Отсюда они расходились по всей России. Библиотека Даниловского скита, которую с величайшей энергией собрали раскольники при своих поездках, представляла богатейшее собрание русских церковных древностей. Вместе с материальной обеспеченностью и умственным развитием в Данилове развивалось и своеобразное искусство. Иконы даниловского письма высоко ценятся знатоками. Литые кресты и складни из серебра и меди паломники Данилова разносили по всей России.
* * *
И все это удивительное создание самостоятельного народного духа, просуществовав более полутораста лет, погибло без следа. Картину прежнего величия можно себе нарисовать теперь лишь с помощью книг, рассказов стариков, свидетелей прежнего благополучия, наконец, по множеству вещей, икон, рисунков, книг, которые встречаются особенно часто у заонежских крестьян. Эти даниловские вещи находили даже за тысячи верст, на далекой Печоре…
На месте когда-то цветущего городка теперь жалкое село-волость; в нем есть православная церковь, живут батюшка и диакон, писарь, старшина. Можно и не обратить внимания на полуразрушенные ворота на берегу Выга, несколько раскольничьих могил на кладбище и несколько старых даниловских домов. Впрочем, старичок Лубаков, бывший когда-то, кажется, нарядником, а теперь по традиции называемый большаком, может еще порассказать о былой славе Выгореции: со слезами передает он путешественнику о всех ненужных жестокостях при разрушении народной святыни.
Вообще нельзя сказать, что было труднее раскольникам: победить ли суровую природу Выговского края или уметь избегнуть падения постоянно висевшего над ними дамоклова меча в лице правительства.
И вначале правительство имело некоторые основания преследовать раскольников: они не молились за царя, увлекали в раскол народ, укрывали беглецов. Как известно, беспоповцы порвали радикально с миром Никоновых новин. Ожидание близкой кончины мира, невозможность найти попов, помазанных до Никона, наконец, северная глушь, где народ издавна привык обходиться без попов, – все это вместе привело к тому, что эти раскольники отвергли таинства, исповедовались старцам, крестили детей сами, не признавали брака.
Такая замкнутая группа людей, хотя и в дебрях лесов и болот, но с огромным влиянием, конечно, должна была смущать правительство. Вот почему у историка Филиппова мы постоянно читаем главы «о поимке» Семена, Данила и других злоключениях. Но аскетическая монастырская идея, заложенная Андреем и Данилом в основу общежития, постепенно, по мере вживания раскольников в общую жизнь, как бы облекалась плотью и кровью, входила в неизбежные компромиссы с миром. По приказу Петра, раскольники изготовляли оружие для войны. Потом, во время господства иноземцев при Анне Иоанновне, когда на выговцев посыпался целый ряд правительственных кар, они согласились даже молиться за царя. То же и относительно брака. При невозможности устранить соприкосновение «сена» с «огнем» решено было желающих вести семейную жизнь отправлять в скиты, а потом и вовсе признали брак. По мере того как выговцы богатели, они теряли совершенно характер мрачных аскетов. Вот почему на всем протяжении короткой истории общежития поморского согласия от него отделился целый ряд более радикальных беспоповских фракций: федосеевцы, филипповцы и другие.
Из этих жизненных фактов, казалось бы, сама собою должна вытекать немудреная политика и по отношению к выговцам. Правительство иногда понимало это. Особенно хорошо жилось раскольникам во время царствования Екатерины II. В это время был даже уничтожен установленный Петром I двойной оклад податей. По этому поводу один из современников Екатерины пишет: «Прежде все раскольники платили двойной оклад, но в наш благополучный век, когда совесть и мысль развязаны, двойные подати с них уничтожены».
Благополучно просуществовала Выгореция вплоть до суровых николаевских времен, когда, совершенно не считаясь ни с интимными сторонами народного духа, ни с экономическим значением общины в таком глухом краю, правительство ее уничтожило. Дамоклов меч опустился именно тогда, когда раскольники были только полезны.
На протяжении всей этой драмы разорения скитов можно проследить борьбу министерства внутренних дел с министерством государственных имуществ. Последнему министерству было выгодно существование богатого общежития, и оно боролось, пока могло, но наконец уступило, и общежитие было разрушено самым варварским способом. Сначала под предлогом «округления дачи», а на самом деле просто для удобства надзора отобрали лучшие земли на Выгу, потом переселили на Выг православных крестьян, отпущенных одним псковским помещиком на волю без земли в надежде, что они сплотятся в борьбе с «сими отдаленными племенами».
Седьмого мая 1857 года, как рассказывает Е. Барсов «выговцы собрались вечером в часовню на всенощную ко дню Иоанна Богослова. Большак вынес из келий свою икону, чтобы петь перед ней величание; в это время чиновник Смирнов, со становым приставом, волостным головой и понятыми, явился в часовню, объявил собравшимся, чтобы прекратили служение и вышли вон; потом запечатал часовню и приставил к ней караул». Наутро «целые горы икон, крестов, книг, складней были навалены и увезены неизвестно куда». Говорят, что чиновники нарочно садились на воза, чтобы показать свое презрение к тому, на чем сидели. Часовни и другие здания потом были сломаны на глазах раскольников.
– А слышали вы, – спросил я старика-раскольника, – о манифесте, данном семнадцатого октября, о свободе совести?
– Как же, слышали, слышали, – отвечал старик, – спасибо государю, он милостивый. – А потом в раздумье прибавил: – Да только на что ж теперь свобода? Теперь уж нам не подняться.
Один из путешественников (Майонов) обратил внимание на одну старушку на Карельском острове, Любовь Степановну Егорову, дочь последнего большака. Он упоминает в своих путевых очерках о ней как о мастерице петь былины, и только. Другой путешественник (Н. Е. Ончуков) в самое последнее время (1903) приобрел написанный ею дневник (пока не изданный) и посвятил памяти умершей уже старушки в своем описании несколько теплых строчек. Наконец, мне хочется на основании того, что я узнал из рассказов обитателей Карельского острова, установить, что с именем этой замечательной женщины связан и конец Даниловского раскола в Выговском краю. Даниловский раскол доканчивал свое существование на Карельском острове в моленной Любови Степановны Егоровой.
* * *
На Карельском острове, прямо против той избы, где мне пришлось жить, из группы высоких елей выглядывает темная своеобразная крыша часовни. Возле часовни под елями в беспорядке торчат столбики с врезанными в них крестами или медными складнями. Некоторые столбики повалились, из некоторых выскочили кресты и складни. Вообще на кладбище беспорядок, нет ничего, что указывало бы на связь умерших людей с живыми.
Совсем другое в часовне: там у старинных икон, обвешанных белыми полотенцами, у старинных книг, аккуратно сложенных на столике, угадывается заботливая, любящая душа. Тут лежат подобранные на кладбище кресты и складни, там остатки свечей, кадило – все в величайшем порядке. На кладбище – беспорядок, небрежность, презрение к человеку, в часовне следы любовного отношения ко всему, что связано с богослужением, с богом. Очевидно, это раскольничье кладбище и часовня.
Прежде чем передать здесь, как оканчивал свою жизнь Даниловский раскол на Карельском острове, я позволю себе сказать несколько слов о значении вообще часовни на Севере, этой невзрачной на вид, полуразрушенной с внешней стороны церкви, полной в то же время внутренней религиозной жизни.
Некоторые исследователи, изучая такие часовни и северные деревянные церкви, находят черты самобытности в русском зодчестве. Утверждают, что, как бы ни было сложно русское хоромное строение или храм, в основе их всегда можно найти клеть, то есть известной ширины и вышины четырехугольный сруб из бревен, положенных друг на друга в несколько рядов, или венцов, и связанных по углам. На нашем Севере можно проследить, как эта клеть, смотря по надобности, превращается то в избу, то в часовню, то в церковь и, наконец, в сложное хоромное строение.
Все это мне припомнилось, когда, по дороге из Повенца в Данилове, в деревне Габсельга я наблюдал там маленькую старинную церковь. Она представляет из себя самую обыкновенную избу, связанную из двух клетей. У одной клети, под шатровым покрытием, висит колокол – это колокольня. На противоположном конце избы, над второй клетью, возвышается покрытие бочкою, как для большей красы покрывали в старину терема. В этой части избы происходит богослужение – это и есть собственно церковь.
Такие часовенки сохранились здесь часто с очень отдаленных времен и возникли благодаря своеобразным природным условиям. Здесь, в суровом климате, с бесчисленными озерами, реками, лесами, болотами, священник не мог вовремя явиться для совершения обряда и народ обходился без священника, выбирая из своей среды благочестивого человека для совершения обряда. Вот почему беспоповский раскол так легко был усвоен населением Севера, кажется даже, будто это учение именно и развилось благодаря таким своеобразным природным условиям.
Вот все это и вело к тому, что на Севере вместо церквей стали распространяться часовни.
Каждое воскресенье я видел из своего окна на Карельском острове, как солидный религиозный Иван Федорович, выбранный обитателями острова на должность хранителя часовни, совершенно так же, как это делалось и двести, и триста лет тому назад, шел в часовню и звонил в небольшой колокол. Мало-помалу в часовню собирались одетые по-праздничному «ловцы». Иван Федорович зажигал свечи, брал в руки кадило и, подходя к каждому присутствующему, кадил их кресты, вынутые для этого случая из пазухи. Так – по воскресеньям. Но в большие праздники, как, например, в Петров день, с погоста на лодке приезжал батюшка. Он служил уже по всем правилам, как в православной церкви, а благочестивый Иван Федорович становился возле батюшки и с величайшим благоговением выполнял обязанности псаломщика и дьячка.
Иван Федорович, внук последнего большака Даниловского общежития Степана Ивановича, сын замечательной женщины, последней деятельницы раскола Любови Степановны, а батюшка православный, назначенный епархиальным начальством священник. Так в этой тесной часовенке, в глухой деревеньке время соединило когда-то непримиримые начала русской духовной жизни[22].
Раз, проезжая через одну деревню, я спросил у собравшегося народа на улице, где живет батюшка.
– А куды тебе с батюшкой, – сказали мне, – не ходи к нему.
Оказалось, что батюшку не любят, он скупой, странников не принимает, пьет, курит. И вот, чтобы как-нибудь показать свое неудовольствие, вся деревня сговорилась не ходить к обедне. А раньше, когда был в той же деревне какой-то удивительной доброты священник, все ходили в церковь постоянно. Выходит так, что местное население на распутье: примкнет оно к православию или будет пользоваться остатками раскольничьих традиций, зависит от личности священника.
Вот, например, пожилой человек, лет шестидесяти, на Карельском острове он называет себя православным, но на самом деле совершенно равнодушен к религии. Отец его был старовером.
– Почему же перешел в православие? – спросил я его.
– Да так… Неловко как-то. Соберутся к празднику, а ты ешь, пей из своей чашки. Теперь жизнь такая, нельзя быть старовером. Первое дело, как покойников спрячешь? Нужно заявить попу, а заявил, вот тебе и конец. Отец и мать были староверами, а я перешел… Случай был со мной, чуть не засудили. Поехал я в Крещенье в Шуньгу на ярмарку с рыбой. А мамаша – старушка хворая была, без меня и помри, царство ей небесное. В то время у нас многие хоронили без попа, да и теперь, кто подальше от погоста, хоронят. Бывало, помрет кто, сейчас к попу на покор: так и так, батюшка, помер родитель, хочу схоронить. Знать же надо попу, куда пропал человек. Ну, поп возьмет у нас там сколько полагается, на бутылку ли, на две, тем дело и кончалось. А как я уехал, так некому было сходить к попу. Приезжаю: матушка в могиле, а в избе поп сидит, десятский, понятые. Так и так, говорю, батюшка, виноват, рыбу продавать ездил. Слышать ничего не хочет. Мы тебя, говорит, для примера в Сибирь сошлем. А десятский-то шепчет: «Сходи, Гаврила, принеси ему бутылку». Я сходил, да несу на виду, чтобы видно было. Увидал поп бутылку. «Десятский, – говорит, – и вы, понятые, ступайте, мы потом дело решим». Выпил бутылку, сел в сани и уехал.
Это было давно. Про теперешнего же батюшку, того самого, который на Карельском острове служит по праздникам вместе с Иваном Федоровичем, никто худого слова не скажет. С этим молодым, искренно религиозным, но болезненным священником мне удалось близко познакомиться и узнать много интересного. Вот его коротенькая биография.
Первое время, попав прямо из семинарии в центр раскольничьей культуры, он решил вступить в борьбу. Он поставил себе задачу на первых порах, хотя это было совершенно невозможно в таком громадном районе, лично встречать каждого родившегося и провожать каждого умершего человека. Приход его раскинут на громадном пространстве, некоторые деревни лежат в глухих местах, окруженные едва проходимыми болотами, реками и озерами. По едва заметным лесным тропинкам, постоянно спотыкаясь о лежины, сушины и пни или по колено вязнув в топких моховинах, этот болезненный человек проходил десятки верст от деревни к деревне. За ним носили подвижной храм, когда нужно было совершать богослужение. Раз он встретился с медведицей, раз на озере в бурю разбило лодку и выкинуло его на берег, раз провалился он на озере под лед. Наконец он понял, что в таком приходе задача его невыполнима. Чтобы обратить внимание на это, он подал жалобу на одного раскольника, похоронившего ребенка без его ведома.
Этим шагом он, конечно, восстановил против себя население, но делу не помог. Приехал владыка, убедился, что исполнять обязанности священника в таком приходе невозможно, и дал слово, что приход будет разделен на два. Но владыка умер или его перевели, а приход по-прежнему остался неразделенным.
Пришлось помириться, смотреть сквозь пальцы на раскольников и отпевать уже похороненных людей. Стало жить легче, проще, население стало относиться хорошо.
– А знаете, – говорил он мне, – я теперь убедился, что в нравственном отношении раскольники куда, куда нас выше… И сравнить нельзя!..
* * *
Иван Федорович – хранитель часовни на Карельском острове – сам по себе не представляет ничего особенного. Это солидный, религиозный, очень скромный человек. Впрочем, в биографии его можно бы указать то, что он с одной пешней[23] выходил на медведя. Но мать его, Любовь Степановна Егорова, была по здешним местам очень значительной женщиной. Когда был окончательно разорен Даниловский скит, то центр раскола перенесся благодаря ей на Карельский остров и тлел здесь, как искорка, десятки лет, пока совершенно не погас.
Любовь Степановна была дочерью последнего Даниловского большака Степана Ивановича, уроженца Каргопольского уезда. Еще в детстве он пришел в Данилов, начал с пастуха и благодаря своим способностям достиг степени большака. Дочь его Любовь выросла при монастыре и, по-видимому, усвоила себе все, что могла дать раскольничья культура женщине.
Она перечитала множество книг в монастырской библиотеке, знала прекрасно рукоделье, рисовала на пергаменте акварелью, вышивала шелком рисунки, сочиняла стихи В числе рисунков, взятых одним исследователем у сына ее Ивана Федоровича, был такой: в глубине леса виднеется домик, на поляне стоят две женщины, внизу стихи:
О дружба, жизни украшенье, Дар лучшим смертным от небес, Ты съединяешь разлученных, Отчаянных миришь с судьбой, Улыбку возвращаешь скуке…Любовь Степановна вышла замуж за старшину Даниловской волости Федора Ивановича, вскоре переехала с ним на Карельский остров и в этой трущобе провела всю свою жизнь, терпя иногда великую нужду. После полного уничтожения скита вокруг нее собрались все выговские староверы, у нее наверху была моленная, где хранились укрытые при разгроме вещи: иконы, книги и т. п. Рассказывают, что однажды зимой из Данилова к Любови Степановне привезли вещи на семи подводах. Вслед за тем на Карельский остров нагрянула «комиссия», как здесь называют всякую группу время от времени приезжающих сюда из-за озер и лесов чиновников. Но отец успел предупредить Любовь Степановну, и все вещи были вовремя спрятаны на островах. Крестьяне, конечно, не выдали и на допросе отвечали: «Знать не знаем и ведать не ведаем». Комиссия уехала ни с чем.
Но дела Любови Степановны с тех пор как-то пошатнулись, жить стало нечем. Решили продать ценные книги в Поморье, Федор Иванович выпросил у кого-то лошадь и повез даниловские драгоценности. Но на озере лед под ним провалился, и потонули не только все вещи, но и лошадь. Вот тогда-то и началась настоящая нужда. Но и тут замечательная женщина не теряла присутствия духа. При всех невзгодах она заботливо воспитывала детей, а главное, продолжала и сама жить и развиваться духовно. Еще до замужества она начала писать дневник и продолжала его вести всю жизнь. В этом дневнике, частью написанном стихами, заключается много ценного материала для выяснения тех настроений, которые существовали в скитах ко времени их закрытия.
Внутренняя работа религиозной мысли, по-видимому, не угасала в ней до конца жизни. Иначе чем же объяснить, что она под конец перешла в православие[24]. Говорят, последние годы своей жизни старушка целые дни проводила в школе грамоты на Карельском острове Мне рассказывала учительница этой маленькой школы, что слушание уроков было для нее священнодействием Она следила за всеми мелочами преподавания, выучилась читать по новым книжкам, все учебники знала чуть ли не наизусть
Быть может, в воображении этой старушки раскольницы, когда она вслушивалась и вдумывалась в светское обучение, на этом глухом острове развертывалась широкая, свободная, не стесненная расколом жизнь…
И вот она кончила тем, что перешла в православие.
Cкрытники
В глухих, еще не тронутых топором лесах Архангельской губернии, в этих «пустынях» живут поодиночке в маленьких избушках или же небольшими группами пустынники, которые называются здесь скрытниками, или странниками. Полесник иногда наткнется на такую избушку в лесу у озерка, постучится, войдет. Живет старичок или старушка, висят темные образа, старинные книги лежат на полочке, у стены кровать. Бывает и несколько избушек, иногда маленький огородик, где растет картофель. Полесник летом отдохнет у избушки, зимой обогреется. Он хорошо знает, что у этих людей нельзя спрашивать, кто они и откуда. Но по здешним местам это даже и не удивит никого. Живут себе люди, скрываются, спасаются.
Эта странническая секта стремится воспроизвести ту самую жизнь, которой жили первые выговские пионеры. Их учение так похоже на учение тех аскетов, что кажется, будто бы и не было столетий опыта. Словно этих старцев рубка леса испугала и заставила перейти в более глухие места. Подойдет бревенная вывозка сюда, и они уйдут еще глубже в Архангельские леса вместе с медведями, лосями и оленями.
Хотя Выговская пустынь уничтожена и недавно, но выговцы, или поморцы, давно уже не были господами всей беспоповщины. По мере того как они вживались в общую жизнь и шли на соглашения с окружающей средой, от них отделялись те, которые не шли на уступки и основывали новые секты.
Прежде других отделились федосеевцы. Разногласие вышло из-за брака. Устроители Выговского общежития, как известно, приняли монастырский устав: члены общежития должны были всю жизнь оставаться безбрачными. Но хорошо это было выносить первым идейным и сильным аскетам, когда между идеей и жизнью оставалось лишь истощенное, изможденное веригами и постом тело. По мере же того, как гонения ослабевали, в общежитие со всех сторон стал стекаться обыкновенный люд, который искал лишь точки опоры, занятий. Удержать от соединения «сена» с «огнем» стало невозможно. «И у нас, в Выговской пустыни, – пишет Иван Филиппов, – стали умножаться грехи беззакония и всякие неправды, их же и писати невозможно срама ради». Андрей Денисов, как человек очень практический, сохраняя монастырский устав в самом Данилове, стал отсылать брачущихся в скиты, а после него мало-помалу поморцы и вообще признали брак. Но другая группа беспоповцев, с Феодосием во главе, не пошла на соглашение и, не признавая брака в принципе, на деле допускала вопиющие отступления. Вместе с вопросом о браке было, конечно, много и других разногласий, разделивших беспоповщину на два враждебные толка, – поморцев и федосеевцев. Много было споров и доказательств с обеих сторон. Из всех этих попыток разрешить величайший жизненный вопрос замечательно учение Ивана Алексеева. Так, желая доказать, что беспоповщинская церковь должна признавать браки, венчанные в никонианской церкви, он рассуждает так. Брак отличается от других таинств тем, что в нем передача благодати не связана необходимо с совершением известного обряда. Потребность плодиться и размножаться заложена самим богом в природу живых существ. Сущность таинства и составляет эта заложенная богом потребность в связи с любовным согласием брачущихся. «Церковное действо» есть только формальность, простой «общенародный обычай», дающий браку «общенародное согласие», а иерей лишь свидетель союза от лица общины. Раньше, независимо от всякого «чина», действовал «закон естественный», а потом, чтобы сделать брак прочным, появился «закон писаный» и вместе с тем «чин». Это сознавала и древнехристианская церковь, которая не повторяла таинства брака над семейными людьми, переходившими в нее из других вер. Беспоповская церковь должна следовать этому примеру и признавать браки, венчанные в никонианской церкви, что есть лишь публичное засвидетельствование брака, а самое таинство совершается богом и «взаимным благохотением жениха и невесты».
Иван Алексеев, однако, при своей жизни не мог провести свою идею. Лишь мало-помалу его учение было усвоено в Выгореции, и образовались два толка: поморский – брачущихся и федосеевцев – девственников. Третий толк филипповцев возник в то время, когда выговцы, под давлением правительства, принуждены были признать молитву за царя. В это время Филипп, основатель толка, бросил кадило и вышел из часовни с своими последователями. Он стал проповедовать, что не только Петр, но и все последующие за ним императоры русские – антихристы. А когда его стали преследовать, он сжегся с своими учениками. На пепле сгоревших возник самый мрачный и непримиримый толк беспоповщины – филипповский.
Но, вероятно, в самой жизни уже не было тех условий, которые создали когда-то раскольничье учение. Не успевал возникший толк просуществовать некоторое время, как начинал уже дробиться на новые и новые фракции. Дело дошло до того, что в настоящее время в Поморье, как мне рассказывали, в одной и той же избе и семье на печке лежит представитель одного толка, а на лавке сидит – другого.
Очевидно, «в мире» не было места всем этим учениям. Нужно создать такое учение, которое бы исключало всякую возможность соглашения с «миром». Нужно сделать так, чтобы в миру человеку не было никакой возможности укрепиться, устроиться, отнять у него возможность долго оставаться с людьми; нужно, чтобы он вечно переменял места, вечно странствовал или жил в одиночку в пустыне, как жили первые отцы.
Все эти идеи и охватили основателя страннической секты Евфимия, человека убежденного, религиозного, с железной энергией и вечно непримиренной совестью. Искания пылкой души были в его природе, но неблагоприятные жизненные условия еще более обострили его требования к жизни; всю свою жизнь он только и думал, «где бы найти место спокойное для души своей». Он был из духовного звания, певчим в Переславле. Потом его взяли в солдаты. Условия военной жизни были совсем противны натуре Евфимия, и он бежал. Он сначала сошелся с филипповцами, но после ряда неудачных попыток повлиять на них с большими для себя неприятностями должен был оставить их скит и уйти в Ярославль.
Тут он начал проповедовать свои идеи и скоро достиг некоторого влияния. Беспокойной душе Евфимия в какой-то бесконечной дали рисовалась прекрасная спокойная райская жизнь. На земле же, по его убеждению, царствует антихрист и нужно бежать, бежать, как бежал Лот, не оглядываясь назад, не справляясь с прошедшим. Разве может быть спасение там, где царствует зверь, первый рог которого был царь Алексей Михайлович, а второй – сын его Петр. Алексей Михайлович помог Никону нарушить благоверие, а Петр ввел народную перепись, разделил людей на разные чины, размежевал земли, реки и усадьбы; он завещал «каждому наблюдать свою часть, не дав другому ничего», учредил цехи и другие богопротивные установления, восстановил междоусобную брань, свары и бой… Царская власть – это икона сатаны, а все воинские и гражданские власти – его бесы, все, повинующиеся царской власти, кланяются иконе сатаны. Мир близится к концу: для чего распахивать нивы, сеять семена, когда не удастся пожать их, для чего созидать города, когда нельзя будет в них жить! Один только и есть исход: бежать от антихриста. Сам бог сказал: «Всяк, иже остави дом, или брата, или сестру, или отца, или матерь, или жену, или чада, или село имени моего ради, сторицею приемлет и живот вечный наследит».
Странники не должны иметь личной собственности, а жить во имя Христа. Евфимий на основании Священного писания доказывал, что даже слово «мое» происходит от диавола и что бог все сотворил общим для всех людей.
В жизни учение Евфимия, однако, должно было примириться с некоторыми отступлениями. Так, последователи страннического учения разделяются на две группы, странники, или скрытники, пустынники в полном смысле слова, и странники-христолюбцы, которые живут в миру обыкновенной жизнью, но под конец должны перейти в первую группу.
* * *
Прежде чем оставить Выговский край, я стал расспрашивать, как бы мне сойтись со скрытниками. Советовали мне сделать так: взять с собой старую икону, чашку, одеться по-местному и поселиться где-нибудь у христолюбцев в любом доме; потом на глазах хозяев креститься двумя перстами, пить из своей чашки, молиться своей иконе и потихоньку попросить хозяев не говорить о себе полиции. Тогда будто бы сейчас же и откроются двери всех скрытников-христолюбцев, а вместе с тем и настоящих скрытников, которые живут часто тут же в потайных местах. Но эта комедия была мне не по душе. Наконец один батюшка посоветовал мне так:
– Придете вы в Пулозеро, остановитесь у Мухи. Это интересный, оригинальный человек, скрытник-христолюбец. Он очень начитан по-славянски, религиозный, прекрасно и по-своему устраивает семью. У него отличный новый дом, будет удобно. Но только, чтобы табаку ни-ни! Вам даже от чаю отказаться придется, у него самовара нет. Вы про охоту разговаривать любите, так он у нас первый истребитель зверей. Он расскажет и про скрытников, если сойдетесь с ним.
Я так и решил сделать. По дороге в Пулозеро, чтобы завести разговор о Мухе, я сказал провожавшему меня старому полеснику Филиппу, тому самому, с которым я познакомил читателя в очерке «Полесники», что хотел бы остановиться у Мухи, да не привык без чаю жить, а, говорят, у него самовара нет.
– У Мухи самовара нет! – воскликнул Филипп. – Да кто это тебе сказал, да в уме ли он! У Мухи все есть. Муха вот за этакой безделицей не пойдет кланяться к соседу. У Мухи самовара нет! У Мухи два самовара. Сам он не пьет, дети не пьют, а если гости придут, пей, сколько хочешь! Муха у нас первый человек. Посмотришь, какую хоромину себе выстроил. А какой полесник! С Мухой все бывало в лесу, он наперечет все суземки знает, он может и зверя, и птицу бить.
Странно было слушать такие слова после знакомства с жизнью Выг-озерцев. Обыкновенно там мало хорошего говорят друг про друга. Да и в самом деле, людей хозяйственно устроенных, не жалующихся на свое скудное житье и в то же время со стойкими взглядами, почти не приходилось встречать. И вот в стороне от всех, в невылазных дебрях, прекрасно устроился человек, да так, что все завидуют; и еще исповедует религиозное учение, которое отвергает всякую собственность. Но почему же разбогател Муха?
– Полесник он… – неопределенно ответил Филипп. – Сына в Поморье посылает…
И замялся, словно почуяв возможность вопроса: да и ты же полесник, и у тебя дети есть? «Что же! – верно, думал он. – В самом деле, подняться у нас нечем: лес, вода и камень, а вот Муха поднялся…» Мялся, мялся Филипп, наконец сказал:
– Муха, видишь ли, скуп.
Разгадка найдена, дальше можно уже говорить полупрезрительно:
– А что и жизнь-то в лесу без людей: чайку не попить, да и водки не выпить. Пустынник он, вот и может жить. У себя в доме что царь, а посмотри на него, как попадет куда-нибудь на свадьбу. Сидит себе один, горячую воду нальют ему в стакан, и пьет. Да ску-у-у-ш-но же так!.. Ну и так сказать: скуп не глуп, себе добра ищет.
Уж после моего визита к Мухе сказочник Мануйло рассказал про его разживу такую легенду.
В глухих лесах, окружающих деревни Пулозеро и Хижозеро, в разных местах живут пустынники. Одни из них живут на месте, но другие скитаются, переходят в Поморье, из Поморья опять назад, в Ярославль, в Москву. И ни один из них не пройдет мимо Мухи, все они находят у него приют. Кроме того, Муха, как полесник, знающий все суземки и все орги и канабры, доставляет им в лес муку, книги, новости… И вот раз будто бы Муха провожал в лес богатого скрытника, а он и умер по дороге. Муха схоронил его и после того выстроил дом тысячный.
Это, конечно, выдумки, потому что никто же не видал, как хоронил Муха скрытника и брал деньги, но роль Мухи среди скрытников указана верно, вот почему я и привел здесь это объяснение.
Деревушка Пулозеро очень маленькая: несколько маленьких изб, несколько изб заколоченных, очевидно покинутых хозяевами, не выдержавшими условий жизни в этой залесной, заглушной сторонушке. Из темных домиков особняком выдвигается большой красивый двухэтажный «тысячный» дом Мухи.
Когда мы подошли, на крыльце этого дома стояла пожилая женщина, босая, с подтянутой высоко юбкой, как вообще здесь принято Она взволнованно кричала, глядя на возвращающееся стадо:
– Нет уж, нет, если не вернулась, то уж и не видать больше. А кто виноват? Звирь? Нет, не звирь. Ему тоже есть нужно, звирь тоже богом создан, звирь без толку есть не станет. А это колдуны проклятые друг другу пакостят, а за них отвечай. Топили этого Максимку, не утопили, пакостника.
Успокоившись, хозяйка стала ставить нам самовар. Хозяин должен был скоро возвратиться с озера. Вот тут-то я и совершил непростительную ошибку, за которую потом поплатился ночным покоем.
У староверов курить нельзя. Я это знал и выходил курить в сени, не скрывая своей привычки и стараясь показать, что я хотя и курю, но уважаю их правила. Ту же систему принял я и у Мухи. Вышел на крыльцо, да и покуриваю, любуясь закатом солнца на озере.
Вижу, подъезжает лодка, на корме кто-то с большой бородой, двое гребут. Тут мимо меня пронеслась хозяйка с берданкой в руке и с собакой на вязке. Бородатый кормщик взял ружье, собака прыгнула в лодку, и через минуту лодка чуть чернелась на той стороне губы у леса… Кормщик был хозяин, и – узнал я после – только страх за пропавшую корову в лесу, необходимость немедленно ехать и искать удержала его от того, чтобы не выгнать меня, «табашника», из дому. А я, ничего не подозревая, курил себе да курил.
Было уже поздно, старушка хозяйка предложила мне отдохнуть на кровати за пологом. Я лег и уснул. Разбудил меня какой-то неопределенный шум. Вдруг вижу, полог мой раздвинулся и показалось бородатое лицо с лохматыми волосами.
– А кто у меня тут лежит на кровати? – послышался сердитый голос.
Молчу. И что я мог сказать!
– Сейчас же говори: где родился, откуда идешь, куда и по какой надобности.
А я и не понимал, какое величайшее оскорбление наносилось мне как гостю. Скрытники ни в каком случае не спрашивают друг друга, откуда они родом. Вообще и по отношению к другим эта привычка считается у них дурным тоном. Подчеркивая вопросы и разбивая их на категории, он усиливал их действие.
Но как раз то, что считалось особенно обидным, мне и понравилось. Чувствовалось, что это не обыкновенная мещанская брань, а мотивированное недовольство. Что отвечать на такие вопросы? Я встал и начал одеваться Старику, видимо, это понравилось, он начал помягче:
– Ведь я тебя не знаю, может – ты мой дом спалишь, а дом тысячный, ребят нету, жена одна, мало ли что ты можешь сделать. Наши жёнки что понимают… Ну, ложись, завтра разберем. Ложи-и-ись! А то как хочешь…
Я лег, и мы расстались до завтра.
* * *
Утром я осмотрел комнату. Везде чисто, аккуратно. На стене два ружья и пороховницы, на полке большая книга и на ней очки, в углу икона, вернее – черная доска. Хозяин вошел и остановился у двери. Он посмотрел на меня косым, подозрительным, неприятным взглядом. Так, вероятно, подстерегает медведя этот истребитель зверей, знаменитый полесник. Но в то же время лицо его с аккуратным пробором посредине головы, с допетровской бородой которой не касались ножницы и которая, оканчиваясь скрученными прядями, делает всякое лицо похожим на лицо Никиты Пустосвята, – говорило о чем-то совсем ином. Возьмет такой человек ружье со стены, наденет шапку, комарник, кошель – и будет полесник; расчешет волосы, наденет очки, развернет старинную книгу – и будет староверческий начетчик. Такому человеку нужно быть всегда настороже: то он ожидает медведя, то прислушивается к словам, чтобы дать ловкий ответ.
Начали мы разговор, конечно, с медведей. Корову удалось ему благополучно доставить домой. К моему удивлению, Муха, этот начитаннейший по здешним краям человек, тоже объяснил мне, что колдуны пакостят, и пуще всех Максимка. Сам же Муха не только не берет отпуска скотине, но и вообще презирает всех, кто у них берет.
– Это слабым людям нужно, – говорил он мне. – Я-то прямо к господу, а они, от слабости, к колдунам. Колдуны же разобрались, в чем дело, и пакостят.
Желая расположить к себе Муху, я рассказал ему о полковнике, который ищет на Севере дешевых берлог, и сообщил ему адрес.
Муха был очень доволен.
– Конечно, – говорил он, – это занятно господам. Только страшного тут, как тебе говорил полковник, ничего нет. Бил я медведей без счета, и ни разу он меня не поранил. Медведя господь покорил человеку.
Поговорили о нужде, о камнях на поле, о зябелях, о том, как земство жмет и казна. С каждым словом Муха убеждался в моей осведомленности. Наконец не выдержал и воскликнул: «Ну и башка!»
С этого момента мы и стали друзьями. Муха начал уже спокойно рассказывать о всех недочетах местной администрации. Оказывается, и тут политика, да еще какая! Тут, в этой же деревушке, живет лесник. Он должен охранять казенные леса. Этот лесник, как и всякий человек, кажется счастливцем для всех: такой же мужик, как и все, он получает сто рублей жалованья в год и может ничего не делать. Но субъективно он несчастлив: жалованье отучает его от работы неблагодарной, больше чем каторжной, он начальство, и вот он вечно боится за себя и за семейство, что в случае чего его прогонят с места. У лесника огромная власть, он может очень стеснить всех, и все должны являться к нему «на покор», кто с чем. Любопытный и характерный для этих мест эпизод рассказал мне о леснике Муха.
Один полесник в то время года, когда стрелять лосей запрещено, убил лося, как говорят здесь, «свернул кокору». Потом он подтащил его к деревне и закрыл хвойными ветвями. Лесник заметил это и, когда охотник ушел домой, подтащил лося к своей избе, снял кожу, а мясо посолил и уложил в кадку. Охотник, узнав об этом, не только не пошел «на покор», но даже подал жалобу на лесника. Поднялся было скандал. Приехал лесничий, и дело уладилось просто: на охотника был составлен протокол задним числом, а лесник получил домашнюю нотацию от лесничего. Кончилось тем, что охотник отсидел за убитого лося.
– Дармоеды! – заключил свой рассказ Муха. – А был я в Повенце, – продолжал он, – о господи, сколько их там: дармоед на дармоеде. Для чего они?
Понемногу я убедился, что «дармоед» в устах Мухи относилось не только к плохому чиновнику, леснику, а вообще ко всем, кто извлекал свои доходы не так, как он, великий труженик, непосредственно из леса, воды и земли. В Повенце дармоеды, а дальше-то? Но дальше Муха нигде не бывал. Он знает только по книгам, что дальше начинается бесконечно огромное тело антихриста.
Так с политики наш разговор постепенно перешел и на религиозные вопросы. Как только Муха заметил, что я этим интересуюсь, он забыл свою подозрительность и преобразился. Передо мной сидел не полесник и не начетчик-старик, а юноша-энтузиаст с пламенной верой. Он рассказывал мне, как он только в пятьдесят лет понял от скрытников «душевную» науку, стал учиться грамоте по славянским книгам и в течение пятнадцати лет перечитал все, что можно было достать в лесах.
– Эх, Михаиле, – говорил он, – есть гражданская наука, а есть душевная. Это тоже наука. Я тебе вот что скажу: что ты знаешь, того мы близко не знаем; что мы знаем, того ты близко не знаешь. А если ты хочешь по этому делу идти, то все узнаешь, мы тебе все укажем, на все дадим ответ. Я тебе не отвечу, найдутся умнее меня. Здесь не найдутся, из Ярославля ответ дадут, без ответа не оставим… Вот недавно в Каргополе беседа была, привезли полтораста пудов книг от нас и полтораста от них…
Такие беседы стало возможным для скрытников устраивать лишь после 17 октября, а раньше было опасно. Старик рассказал мне, как однажды их собрали на беседу, да тут же перевязали и отправили в Сибирь.
– Мы благодарим государя, что дал свободу, мы по нем скорбим… Вот и Алексей Михайлович сначала какой был, а под конец жизни и покорился… Говорить стало свободнее, а из лесов выйти невозможно.
– Да почему же? – спросил я.
– А паспорта-то! Им же дадут петровские паспорта… Ведь Петр паспорта завел, а кто был Петр?
Муха умолк и значительно посмотрел на меня. Петр был, по мнению Мухи, антихрист.
Скрытники, по смыслу учения, конечно, не должны были иметь паспортов, и, таким образом, выйти из лесов в самом деле для них дело почти невозможное. Но не только паспорта им запрещены, а даже за простой ответ на вопрос «откулишний» полагается восемнадцатидневный пост, то есть – почти полное голодание. Однажды, рассказал мне Муха, один пустынник от постоянного чтения книг ослабел глазами. Что делать? Купить очки в больнице? Но там фельдшер, акушерка первым делом спросят: откуда? Странникам только и можно сказать: «Мы странники божьи, ни града, ни села не имам». Наконец удалось потихоньку растолковать доктору дело, он понял, и когда скрытник пришел в больницу, то ни один человек не спросил его, откуда он.
– Ты говоришь: из лесов выйти. Хорошо, позовут нас к государю. Ведь тогда уж надо рассказать все… до конца… А разве он выдержит? Не-ет, брат, не выдержит. То же будет, что с соловецкими монахами, как их солдаты на лед выводили, да в ердан окунали, да за ребра вешали. И все тут видели, как ангельские душки в сорочицах на небо отлетали… Все это в книгах прописано, все есть в челобитной. Ай сходить в сарай за книгой? Схожу.
Муха принес распространенную между староверами челобитную соловецких монахов Алексею Михайловичу и заставил читать, но, так как я читал плохо, поправлял меня, забегал вперед, очевидно зная наизусть содержание книги. Бесконечная вера в букву написанного, очень понятная не только потому, что Муха раскольничий начетчик, но и потому, что он выучился грамоте уже пятидесяти лет от роду, делала наш богословский диспут скучным. Кое-как удалось перевести разговор на семью. Муха очень жалел, что не мог мне показать своих молодцов: все были на сенокосе.
– Главное дело в семье, – говорил он, – распоряда хорошая, тогда всем хорошо. А у меня распоряда справедливая, оттого и всем нам хорошо и вот своими руками дом тысячный состроили…
Хотя Муха и обещался меня проводить к скрытникам в лес, но у меня не оставалось времени. При прощанье старик вдруг смутился, вспомнил, как он встретил меня в своем доме. «Прости ты меня», – сказал он. И тут же признался, что смутил его табак. Расстались мы большими друзьями, и не помню, когда еще веяло на меня от человека такой свежестью, чистотой, искренностью и силой.
* * *
Скрытниками я заканчиваю свои очерки. На обратном пути в Петербург со мной как-то не случалось ничего такого, о чем хотелось бы рассказать, вероятно, потому, что желание побывать в краю непуганых птиц было уже удовлетворено. Впрочем, помню, как радостно было увидать на Ладожском озере, после непрерывного дня, первые звезды на небе и ночь. А потом – это ошеломляющее движение и шум Невского проспекта! В голове еще свежи все разговоры с скрытником Мухой, свежи впечатления от этой бесконечно простой и суровой жизни среди леса, воды и камня – и тут это движение..
Есть что-то общее в этом гуле Невского проспекта с гулом тех трех водопадов, который мне пришлось слушать на каменном островке между елями. Там божественная красота падающей воды стала понятна только после довольно долгого всматривания в отдельные брызги, в отдельно танцующие в тихих местах столбики пены, когда все они своим разнообразием сказали о единой таинственной жизни водопада. Так же и тут… Гул и хаос! Темная масса спешит, бежит, движется вперед и назад, перебирается из стороны в сторону между беспрерывно мчащимися экипажами и исчезает в переулках.
Утомительно смотреть, невозможно себе выбрать отдельное лицо: оно сейчас же исчезает, сменяется другим, третьим, и так без конца.
Но вот мысленно проводится разделяющая линия. Через нее сейчас мелькают люди и застывают в сознании: генерал в красном, трубочист, барыня в шляпе, ребенок, толстый купец, рабочий. Они друг возле друга, почти касаются.
Вдруг становится легко, разделяющая линия больше не нужна, все понятно. Это не толпа, это не отдельные люди. Это глубина души одного гигантского существа, похожего на человека. Мелькают, сменяются его желания, стремления, ощущения. Но само неведомое существо спокойно шагает вперед и вперед.
За волшебным колобком*
(Из записок на Крайнем Севере России и Норвегии)
Предисловие автора
Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие грызть друг друга, отрада им томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтобы я поселился в городе! Нет, мой друг, заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно. Прости! Сел в кибитку и поскакал.
Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву.Путешествие, которое описывается в этой книге, не было задумано вперед. Я просто хотел провести три летние месяца, как лесной бродяга, с ружьем, чайником и котелком. Конечно, за это время я много узнал о жизни на Севере. Но не об этой внешней, видимой стороне путешествия мне хотелось бы рассказать своим читателям. Я желал бы напомнить о той стране без имени, без территории, куда мы в детстве бежим…
Я пробовал в детстве туда убежать. Было несколько мгновений такой свободы, такого незабываемого счастья… В светящейся зелени мелькнула страна без имени и скрылась.
И вот мне, взрослому человеку, захотелось вспомнить это…
«Приключения Тартарена из Тараскона»… улыбнутся скептики. Но для них у меня есть отговорка: я имел серьезные поручения от Географического общества. И потом, разве у нас Тараскон? Через два-три дня езды от Петербурга у нас можно попасть почти в совсем не изученную страну.
Небольшая поддержка отделения этнографии Географического общества, уменье добывать себе пищу ружьем и удочкой, не очень большая утомляемость – вот и все мои скромные средства.
В половине мая 1907 года я по Сухоне и Северной Двине отправился в Архангельск. Отсюда и начались мои скитания по Северу. Частью пешком, частью на лодке, частью на пароходе обошел я и объехал берег Белого моря до Кандалакши. Потом перешел Лапландию (двести тридцать верст) до Колы, побывал в Печенгском монастыре, в Соловецком, на западном Мурмане и морем возвратился в Архангельск в начале июля.
Эту первую часть путешествия я описываю в отделе «Солнечные ночи». В Архангельске я познакомился с одним моряком, который увлек меня своими рассказами, и я отправился с ним на рыбацком судне по Северному Ледовитому океану. Недели две мы блуждали с ним где-то за Каниным Носом и приехали на Мурман. Здесь я поселился в одном рыбацком становище и занимался ловлей рыбы в океане. Наконец, отсюда на пароходе я уехал в Норвегию и вокруг Скандинавского полуострова поплыл домой. Эту вторую часть пути я описываю в отделе: «К варягам».
Плана путешествия у меня не было, но когда я стал о нем раздумывать, то мне представилось, будто кто-то мной руководил… Кто же это?..
И мне стало казаться, что я, как в сказке, шел по Северу за волшебным колобком.
* * *
Посвящаю свой труд стране без имени, без территории, куда мы в детстве бежали. Посвящаю и тем трем друзьям, которые разделили тогда со мной детские грезы.
Этим трудом я хочу поставить своим детским мечтам памятник, быть может, грубоватый, простой. Но что из этого? Лишь бы не дать сровняться могиле с землей, лишь бы узнать то место, где лежат дорогие мальчики и грезят о стране без имени, без территории.
Часть I. Солнечные ночи
Глава I. Волшебный колобок
Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки.
В некотором царстве, в некотором государстве жить людям стало плохо, и они стали разбегаться в разные стороны. Меня тоже потянуло куда-то, и я сказал старушке:
– Бабушка, испеки ты мне волшебный колобок, пусть он уведет меня в леса дремучие, за синие моря, за океаны.
Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, набралось муки пригоршни с две, и сделала веселый колобок. Он полежал, полежал, да вдруг и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше, дальше…
Я за колобком, куда приведет.
Промелькнули реки, моря, океаны, леса, города, люди. Я опять пришел на старое место. Но у меня остались записки и воспоминания…
Колобок покатился, я за ним. И вот…
Мой веселый вожатый остановился у большого камня на высоком берегу Двинской дельты. Отсюда дороги идут в разные стороны. Я сел на камень и стал думать: куда мне идти? Направо, налево, прямо? На берегу передо мной плачет последняя березынька, дальше, я знаю, Белое море, еще дальше Ледовитый океан. Позади меня синяя тундра. Этот город – узкая полоска домов между тундрой и морем – совсем тот сказочный камень, на котором написана судьба путника. Куда идти мне? Можно бы устроиться на одной из парусных шкун и испытать всю морскую жизнь северных людей. Это интересно, увлекательно, но вот налево по берегу Белого моря лес. Если идти по краю лесов, то можно, обогнув все море, добраться до Лапландии, а там совсем первобытные лесные места, страна волшебников, чародеев. В ту же сторону, к Соловецким островам, направляются и странники.
Куда же идти: налево со странниками в лес или направо с моряками в океан?
Я присматриваюсь к людям на оживленной Архангельской набережной, любуюсь загорелыми выразительными лицами моряков и тут же возле замечаю смиренные фигуры соловецких богомольцев. Если я пойду за ними, думаю я, налево, то приду не на Север за Полярный круг, а в родную деревеньку в черноземной России, я приду в ее самую глубину и вперед знаю, чем это кончится. Я увижу черную икону с красным огоньком, на которую молятся наши крестьяне. На этой таинственной и страшной иконе нет лика. Кажется, стоит показаться на ней хоть каким-нибудь очертаниям, как исчезнет обаяние, исчезнет вся притягательная сила. Но лик не показывается, и все идут туда, покорные, к этому черному сердцу России. Почему это кажется мне, что на этой иконе написан не бог-сын, милосердый и всепрощающий, но бог-отец, беспощадно посылающий грешников в адский огонь? Может быть, потому так, что кроткий огонек лампады на черной безликой иконе всегда отражается красным, беспокойным, зловещим пламенем. Вот что значит идти налево. Но там лес, и, быть может, потому так тянет туда мой волшебный колобок.
Отчего это северные моряки так непохожи на наших пахарей? Оттого ли, что разделенная на мелкие кусочки земля так принижает человека, а неделимое море облагораживает душу, не дробит ее на мелочи? А может быть, потому, что северный народ не знал рабства, что и религия его – большинство их раскольники – не такая, как у нас, за нее они здесь много боролись, даже сжигали себя на кострах… Направо или налево, не могу я решить. Вижу, идет мимо меня старичок. Попытаю его.
– Здравствуй, дедушка!
Старик останавливается, удивляется мне, не похожему ни на странника, ни на барина-чиновника, ни на моряка.
– Куда ты идешь?
– Иду, дедушка, везде, куда путь лежит, куда птица летит. Сам не ведаю, иду, куда глаза глядят. Смеется старик, отвечает в тон:
– Дела пытаешь или от дела лытаешь?
– Попадется дело, рад делу, но только, вернее, от дела лытаю.
– Ишь ты какой, – бормочет он, усаживаясь рядом на камень. – Дела да случаи всех примучили, вот и разбегается народ…
– Укажи, – говорю я, – мне, дедушка, где еще сохранилась древняя Русь, где не перевелись бабушки-задворенки, Кащеи Бессмертные и Марьи Моревны? Где еще воспеваются славные могучие богатыри?
– Поезжай в Дураково, – отвечает старик, – нет глуше места во всей нашей губернии.
«Шустрый дед!» – подумал я, собираясь ему ответить так, чтобы вышло смешно и не обидно. Но тут, к изумлению, нашел на своей карманной карте, на Летнем (Западном) берегу Белого моря, как раз против Соловецких островов, деревню Дураково.
– В самом деле, – воскликнул я, – вот Дураково!
– Ты думал, я шучу. Дураково есть у нас, самое глухое и самое глупое место. По-старому и похоже на Архангельскую губернию, а по-новому не похоже… Вишь, народ у нас какой бойкий.
Он указал рукою вниз на оживленную толпу моряков.
– Народ промышленный, крепкий, живой. А на Летнем берегу сидят в бедности, как тюлени, потому проезда туда нет: с одной стороны Унская губа, с другой – Онежская.
Дураково мне почему-то понравилось, я даже обиделся, что старик назвал деревню глупой. Она так называется, конечно, потому, что в ней Иванушки-дурачки живут. А только ничего не понимающий человек назовет Иванушку глупым. Так думал я и спросил старика:
– Нельзя ли мне из Дуракова на лодке переехать по морю на Святые острова?
– Перевезут, – ответил он мне, – это старинный путь богомольцев в Соловецкий монастырь.
До сих пор я знал только два пути на Святые острова: через Архангельск по морю и через Повенец-Суму. О пути пешком по краю моря и на лодке по морю я не знал. Я подумал о лесных тропинках, протоптанных странниками, о ручьях, где можно поймать рыбу и тут же сварить ее в котелке, об охоте на разных незнакомых мне морских птиц и зверей.
– Но как же туда перебраться?
– Теперь трудно, богомольцев мало. Но подожди, кажется, здесь есть дураковцы, они расскажут. Если здесь есть, я их к тебе пришлю. Счастливый путь!
Через минуту вместо старика пришел молодой человек, с ружьем и с котомкой. Он заговорил не ртом, а глазами, такие они у него были ясные и простые.
– Барин, раздели наше море! – были его первые слова.
Я изумился. Я только сейчас думал о невозможности разделить море и тем даже объяснял себе преимущества северных людей. И вот…
– Как же я могу разделить море? Это только Никита Кожемяка со Змеем Горынычем делили, да и то у них ничего не вышло.
В ответ он подал бумагу. Дело шло о разделе семужных тонь с соседней деревней.
Нужен был начальник, авторитет, но из начальства никто не хотел туда ехать.
– Барин, – продолжал упрашивать меня деревенский ходок, – не смотри ты ни на кого, раздели ты сам.
Я понял, что меня принимают за важное лицо. В северном народе, я знал, существует легенда о том, что иногда люди необычайной власти принимают на себя образ простых странников и так узнают жизнь народа. Я знал это поверье, распространенное по всему Северу, и понял, что теперь конец моим этнографическим занятиям.
По опыту я знал, что стоит только деревне в страннике заподозрить начальство, как мгновенно исчезнут все бабушки-задворенки, все лешие и колдуны, на лице народа появляется то льстивая, то недружелюбная мина, сам перестаешь верить в свое дело и волшебный колобок останавливается. Я стал из всех сил уверять Алексея, что я не начальство, что иду я за сказками, объяснил ему, зачем это мне нужно.
Алексей сказал, что понял, и я поверил его открытым, чистым глазам.
Потом мы с ним отдохнули, закусили и пошли. Волшебный колобок покатился и запел свою песенку:
Я от дедушки ушел, Я от бабушки ушел…Лес
15 мая
Шли мы долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, – добрались до деревушки Сюзьма. Здесь мы простились с Алексеем. Он пошел вперед меня, а я не надеялся на свои ноги и просил прислать за мной лодку в Красные Горы, деревню у самого моря по эту сторону Унской губы. Мы расстались, я отдохнул день и пустился в Красные Горы.
Путь мой лежал по краю лесов у моря. Тут место борьбы, страданий. На одинокие сосны страшно и больно смотреть. Они еще живые, но изуродованы ветром, они будто бабочки с оборванными крыльями. Но иногда деревья срастаются в густую чащу, встречают полярный ветер, пригибаются в сторону земли, стонут, но стоят и выращивают под своей защитой стройные зеленые ели и чистые, прямые березки. Высокий берег Белого моря кажется щетинистым хребтом какого-то северного зверя. Тут много погибших, почерневших стволов, о которые стучит нога, как о крышку гроба, есть совсем пустые черные места. Тут много могил. Но я о них не думал. Когда я шел, не было битвы, было объявлено перемирие, была весна, березки, пригнутые к земле, поднимали зеленые головки, сосны вытягивались, выправлялись.
Мне нужно было добывать себе пищу, и я позволял себе увлекаться охотой, как серьезным жизненным делом. В лесу на пустых полянках мне попадались красивые кроншнепы, перелетали стайки турухтанов. Но больше всего мне нравилось подкрадываться к незнакомым мне морским птицам. Издали, из леса, я замечал спокойные, то белые, то черные головки. Тогда я снимал свою котомку, оставлял ее где-нибудь под заметной сосной или камнем и полз. Я полз иногда версту и две: воздух на Севере прозрачный, я замечал птицу далеко и часто обманывался в расстоянии. Я растирал себе в кровь руки и колени о песок, об острые камни, о колючие сучки, но ничего не замечал. Ползти на неизвестное расстояние к незнакомым птицам – вот высочайшее наслаждение охотника, вот граница, где эта невинная, смешная забава переходит в серьезную страсть. Я ползу совсем один под небом и солнцем к морю, но ничего этого не замечаю потому, что так много всего этого в себе; я ползу, как зверь, и только слышу, как больно и громко стучит сердце: стук, стук. Вот на пути протягивается ко мне какая-то наивная зеленая веточка, тянется, вероятно, с любовью и лаской, но я ее тихонько, осторожно отвожу, пригибаю к земле и хочу неслышно сломать: пусть не смеет в другой раз попадаться мне на пути, раз… раз… Она громко стонет. Я страшно пугаюсь, ложусь вплотную к земле, думаю: все пропало, птицы улетели. Потом осторожно гляжу вверх, на небо… Птиц нет, все спокойно, больные сосны лечатся солнцем и светом, ослепительно сверкает зелень северных березок, все тихо, все молчит. Я ползу дальше к намеченному камню, приготовляю ружье, взвожу курки и медленно выглядываю из-за камня. Моя голова у белого камня поднимается, как черная муравьиная кочка, стволы не видны в мягком ягеле. Иногда так перед собой в четырех-пяти шагах я вижу больших незнакомых птиц. Одни спят на одной ноге, другие купаются в море, третьи просто глядят на небо одним глазом, повернув туда голову. Раз я так подкрался к задремавшему на камне орлу, раз – к семье лебедей.
Мне страшно шевельнуться, я не решаюсь направить ружье в спящую птицу. Я смотрю на них, пока какое-нибудь нечаянное горькое воспоминание не обломит под локтем сучок и все птицы с страшным шумом, плеском, хлопаньем крыльев разлетятся в разные стороны. Я не сожалею, не сержусь на себя за свой промах и радуюсь, что я здесь один, что этого никто не видел из моих товарищей-охотников. Но иногда я убиваю. Пока птица еще не в моих руках, я чем-то наслаждаюсь еще, а когда беру в руки, то все проходит. Бывают тяжелые случаи, когда птица не дострелена. Тогда я иногда начинаю думать о своей страсти к охоте и природе как о чем-то очень нехорошем, мне тогда кажется, будто это чувство питается одновременным стремлением к убийству и любви, а так как оно исходит из недр природы, то и природа для меня, как охотника, только теснейшее соприкосновение убийства и любви…
Я так размышляю, но мне на дороге попадаются новые птицы; я опять увлекаюсь и забываю то, о чем думал минутою раньше.
Красные горы
19 мая
В одном из черных домиков, у моря, под сосной с сухой вершиной живет бабушка-задворенка. Ее избушка называется почтовой станцией, и обязанность старушки охранять чиновников. Онежский почтовый тракт с этого места уходит на юг, а мой путь – на север, через Унскую губу. Только отсюда начинаются самые глухие места. Я хочу в ожидании лодки отдохнуть у бабушки, изжарить птицу и закусить.
– Бабушка, – прошу я, – дай мне сковородку, птицу изжарить.
Но она отшвыривает мою птицу ногой и шипит:
– Мало вас тут шатается. Не дам, прожгешь.
Я вспоминаю предупреждение Алексея: «Где хочешь живи, но не селись ты на почтовой станции, – съест тебя злая старуха», – и раскаиваюсь, что пришел к ней.
– Ах ты, баба-яга, костяная твоя нога! – не выдерживаю я…
За это она меня вовсе гонит под тем предлогом, что с часу на час должен приехать генерал и занять помещение. Генерал же едет в Дураково море делить.
Я не успел открыть рот от изумления и досады, как старуха, посмотрев в окно, вдруг сказала:
– Да, вишь, вон и приехали за генералом. Вон идут с моря. Алексей прислал. Ступай-ка, ступай, батюшка, куда шел.
А потом еще раз оглядела меня и воскликнула:
– Да уж не ты ли и сам генерал!
– Нет, нет, бабушка, – спешу я ответить, – я не генерал, а только лодка эта за мной послана.
– Ин и есть! Вот так и ну! Прости меня, ваше превосходительство, старуху. За политика тебя приняла, нынче все политику везут. Сила несметная, все лето везут и везут. Марьюшка, ощипи ты поскорей курочек, а я яишенку поставлю.
Я умоляю бабушку мне поверить. Но она не верит: я настоящий генерал; я уже вижу, как усердно начинают щипать для меня кур.
Тут вошли три помора и две жёнки – экипаж поморской почтовой лодки. Старый дед-кормщик, его так и зовут все «коршик», остальные – гребцы: обе жёнки с грубыми обветренными лицами, потом «Мужичок с ноготок – борода с локоток» и молодой парень, белокурый, невинный, совсем Иванушка-дурачок.
Я генерал, но все здороваются со мной за руку, все усаживаются на лавку и едят вместе со мной яичницу и птицу. А потом Мужичок с ноготок, не обращая на меня внимания, сыплет свои прибаутки жёнке, похожей на бомбу, начиненную смехом. Мужичок болтает, бомба лопается и приговаривает: «Ой! одолил Степан. Степаны сказки хлебны, скоромны. Вот бороду вокруг кулака обмотаю, да и выдерну».
Но как же это, ведь я же генерал. Даже обидно. Или уже это начинается та священная страна, где не ступала нога начальства, где люди живут, как птицы у берега моря.
– Приезжай, приезжай, – говорят мне все, – у нас хороший, приемистый народ. Живем мы у моря. Живем в стороне, летом семушку ловим, зимой зверя промышляем. Народ наш тихий, смирёный: ни в нем злости, ни в нем обиды. Народ – что тюлень. Приезжай.
Сидим, болтаем; близится вечер и белая ночь у Белого моря. Мне начинает казаться, что я подполз совсем близко к птицам у моря, высунулся из-за белого камня, как черная муравьиная кочка, и никто не знает кругом, что это не кочка, а злой зверь.
Степан начинает рассказывать длинную сказку про златоперого ерша.
Море
20 мая
Мы выедем только на рассвете по «полой воде» (во время прилива). Каждые шесть часов на Белом море вода прибывает и потом шесть часов убывает. «По сухой воде» (во время отлива) наша лодка где-то не проходит.
С каждым днем светлеют все ночи, потому что я еду на север и потому что время идет. Каждую такую ночь я встречаю с любопытством, и даже особая тревога и бессонница этих ночей меня не смущают. Я будто пью теперь неведомый наркотический напиток, и изо дня в день больше и больше. Что выйдет из этого? Спать привыкаю днем.
Мужичок с ноготок журчит свою сказку. Мне и сказка интересна, и туда тянет, за стены избушки. Море хотя и с той стороны избушки, но я угадываю, что там делается, по золотой лужице на дороге.
– Солнце у вас садится? – перебиваю я сказку.
– Почитай что и не закатается, уткнется, как утка в воду, – и наверх.
И опять журчит сказка и блестит лужица. Кто-то, слышно, спит. Пробегает серая мышь.
– Да вы спите, крещеные? – останавливается рассказчик.
– Нет, нет, нет, рассказывай, мани, старик!
– Ай еще потешить вас сказочкой? Есть сказочка чудесная, есть в ней дивы-дивные, чуды-чудные.
– Мани, мани, старик!
Все по-прежнему журчит сказочка.
Пробежала еще одна темная мышь. Захрапел старый дед, свесил голову Иванушка, уснула жёнка, уснула другая. Но старуха не спит. Это она остановила день, заворожила ночь, и оттого этот день походит на ночь и эта ночь на день.
– Все уснули, крещеные? – опять окликает Мужичок с ноготок.
– Нет, я не сплю, рассказывай!
Проехал черный всадник, и конь черный, и сбруя черная…
Засыпает и рассказчик, чуть бормочет. Еле слышно… Из одной бабушки-задворенки делается четыре, из каждого угла глядит черная злая колдунья.
Пробежали Зорька, Вечерка, Полуночка.
Проехал белый всадник, и конь белый, и сбруя белая…
Спохватился рассказчик:
– Вставайте, крещеные, вода прибывает, вставайте! Пошлет господь поветерь, в лодке уснете.
Мы тихо идем по песку к морю. Рассыпалась деревенька черными комочками на песке, провожает нас розовыми глазами. Вот-вот залает.
Спите, спите, добрые, мы свои.
– Тишинка!
– Краса!
Задумалась жёнка, забыла свое некрасивое лицо в лодке, улетела по цветным полоскам и, прекрасная, засияла во все море и небо. Стукнул веслом Иванушка, разбудил в воде огнистые зыбульки.
– Зыбульки, зыбаются…
– А там парус, судно бежит!
Все смеются надо мной.
– Не парус, это чайка уснула на камне.
Мы подъезжаем к ней. Она лениво потягивается крыльями, зевает и летит далеко, далеко в море. Летит, будто знает, зачем и куда. Но куда же она летит? Есть там другой камень? Нет… Там дальше морская глубина. А может быть, там, в неизвестной пурпуровой дали, где-нибудь служат обедню? Это первая, мы ее разбудили, она полетела, но еще не звонили.
Прозвенела светлая, острая стрела…
Будто наши южные степи откликнулись сюда, на Север.
– Что это?
– Журавли проснулись…
– А там наверху?
– Гагара вопит…
– Там?
– Кривки на песочке накликают.
Протянулись веревочкой гуси, строгие, старые, в черном, один за другим, все туда, где исчезла таинственной темной точкой белая чайка.
Гуси – совсем как первые старики по дороге в деревенскую церковь. Потом повалили несметными стаями гаги, утки, чайки. Но странно, все туда, в одном направлении, где горит общий край моря и неба. Летят молча, только крылья шумят.
К обедне, к обедне!
Но благовеста нет… Странно… Почему это?
Когда это, где это служили еще такую прекрасную, таинственную и веселую обедню?
Холодно, но радостно было перед старой, тяжелой дверью. Старушка сказала: целый год не открывалась, но сейчас откроется, сама откроется.
– Боженька сам ее откроет.
Из мрака подходили молчаливые черные люди и становились вокруг нас…
– Станьте на цыпочки, деточки, идут!
Над толпою блеснул золотой крест. Скрипнула тяжелая железная дверь и чудесной силой открылась…
Обдала волна света и звуков.
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Крестится старый кормщик на восходящее солнце.
– Солнышко! Слава тебе господи! Походный ветерок дунул. Бог поветерь шлет. Ставь, жёнка, парус живее!
Зашумели, закричали со всех сторон птицы, рассыпались несметные стаи возле самой лодки, говорливые, болтливые, совсем деревенские девушки после обедни.
Танцуют, прыгают, ликуют золотые, синие, зеленые зыбульки. Шутит забавный Мужичок с ноготок с жёнкой. И где-то далеко у берега глухо умирает прибой, последний стон несчастного в светлое Христово воскресенье.
* * *
– Ивашенько, Ивашенько, выдь на бережочек, – зовут с берега горки, угорки, сосны и камни.
– Челнок, челнок, плыви дальненько, – улыбается рассеянно Иванушка и ловит веслами смешные огнистые зыбульки. Жёнки затянули старинную русскую песню про лебедь белую, про травушку и муравушку. Ветер подхватывает песнь, треплет ее вместе с парусом, перепутывает ее с огненными зыбульками. Лодка колышется на волнах, как люлька, все добродушней, ленивей становится мысль…
– Чайку бы…
– Можно, можно, жёнки, грейте самовар!
Разводят самовар, готовится чаепитие на лодке, на море. Чарка обошла круговую, остановилась на жёнках. Немножко поломались и выпили.
Много ли нужно для счастья! Сейчас, в эти минуты, я ничего для себя не желаю.
– А ты, Иванушка? Есть у тебя Марья Моревна?
Глупый царевич не понимает.
– Ну, любовь, любишь ты?
Все не понимает. Я вспоминаю, что на языке простого народа любовь нехорошее слово: оно выражает грубо-чувственную сторону, а самая тайна остается тайной без слов.
От этой тайны пылают щеки деревенской красавицы, такими тихими и интимными становятся грубые, неуклюжие парни. Но словом не выражается. Где-нибудь в песне еще прозвучит, но так, в обычной жизни, слово «любовь» нехорошо и обидно.
– Жениться собираешься? Есть невеста?
– Есть, да у таты все не готово. Изба не покрыта. В подмоге не сходятся.
Жёнки нас слышат, сожалеют Иванушку. Времена настали худые, семги все меньше, а подмоги все больше.
В прежние годы много легче было: за Катерину десятку дали, а Павлу и вовсе за три рубля купили и пропили.
– Дорогая Марья Моревна?
– Голой рукой не возьмешь.
– Можно убегом и без подмога, – говорит, помолчав, Иванушка.
– Вот, вот, – подхватываю я, – надо украсть Марью Моревну.
– Поди-ка, украдь, как ночи светлые. Попробовал один у нас красть, да поймали, да все изодрались, и всю рубашку вокруг невесты изорвали. Потемнеет осенью, может быть, и украду.
Так я и знал, так и думал про эти светлые северные ночи. Они безгрешные, бестелесные, они приподняты над землей, они – грезы и о нездешнем мире. Этой избушки в лесу вовсе и не было, никто не рассказывал сказки, а просто так померещилось и запомнился мелькающий свет от улетевшей вчера из рук белой странички.
Усталость! Страшная усталость! Как бы хорошо теперь заснуть нашей темною, южною, грешною ночью.
Бай-бай, – качает море.
Склоняется темная красавица со звездами и месяцем в тяжелой косе.
Усни, глазок, усни, другой!
Я вздрагиваю. Совсем близко от нас показывается из воды большая серебряная спина, куда-куда больше нашей лодки. Чудовище проводит светлую дугу над водой и опять исчезает.
– Что это? Белуха? – неуверенно спрашиваю я.
– Она, она. Ух! И там!
– И там! И там! Что лед! Воду сушит!
Я знаю, что это огромный северный зверь из породы дельфинов, что он не опасен. Но если вынырнет совсем возле лодки, зацепит случайно хвостом?
– Ничего, ничего, – успокаивают меня спутники, – так не бывает.
Они все, перебивая друг друга, рассказывают мне, как они ловят этих зверей. Когда вот так, как теперь, засверкают на солнце серебряные спины, все в деревне бросаются на берег. Каждый приносит по две крепких сети и из всех этих частей сшивают длинную, больше трех верст, сеть. В море выезжает целый флот лодок: женщины, мужчины, старые, молодые – все тут. Когда белуха запутается, ее принимают на кутило (гарпун).
– Веселое дело! Тут и жёнок купают, тут и зверя бьют, смеху, граю! И жёнки тоже не промах, тоже колют белух, умеют расправиться.
Как же это красиво!.. Большие хвостатые звери, женщины с пиками… Сказочная, фантастическая битва на море…
Ветер быстро гонит нашу лодку по морю вдоль берега, Иванушка перестал помогать веслами, задремал у борта. Жёнки лежат давно уже одна возле другой на дне лодки возле потухшего самовара, Мужичок с ноготок перебрался к носу и так и влип там в черную смолу.
Не спит только кормщик, молчаливый северный старик. Возле кормы на лодке устроен небольшой навес от дождя, «заборница», вроде кузова на нашей дорожной таратайке. Туда можно забраться, лечь на сено и дремать. Я устраиваюсь там, дремлю… Иногда вижу бородатого мужика и блестки от серебряных зверей, а иногда ничего, – какие-то красные огоньки и искры в тьме.
Наша зыбка не скрипит, ветер не свистит о мачту.
Не все ли равно, где ни жить? Везде есть люди, немножко проще, немножко сложнее. Но тут свободнее, тут море и эти красивые серебряные звери. Вон там один, вон другой, вон лодка, другая, целый флот. Иванушка с Марьей Моревной закидывают в море сеть. Запутался большой северный серебряный зверь.
Ударила кутилом Марья Моревна, покрылось кровью Белое море.
– Марья Моревна, морская царевна, – молит он человеческим голосом, – за что ты меня губишь? Не коли меня, я тебе пригожусь.
Заплакала Марья Моревна, канула горячая слеза в холодное Белое море…
– Спасай меня, красная девица, сними с себя дорогой платочек, намочи в синем море!
Сняла царевна шелковый платочек, помочила в синем море.
Взял платочек, прижал к своей ране и спустился на холодное дно. И лежал там тысячи лет.
Плачет купава у берега.
– Слышишь, старый? – шепнули две рыбки.
– Слышу, деточки, слышу.
Поднимается старый, сверкает серебряной спиной на солнце и несет свою Марью Моревну по Белому морю на Святые острова.
Где это было, когда это было, что это было?
* * *
Сказки, и белые ночи, и вся эта бродячая жизнь запутали даже и холодный, рассудочный северный день.
Я проснулся. Солнце еще над морем, еще не село. И все будто грезится сказка.
Высокий берег с больными северными соснами. На песок к берегу с угора сбежала заморская деревушка. Повыше – деревянная церковь, и перед избами много высоких восьмиконечных крестов. На одном кресте я замечаю большую белую птицу. Повыше этого дома, на самой вершине угора, девушки водят хоровод, поют песни, сверкают золотистыми, блестящими одеждами. Совсем как на картинках, где изображают яркими красками древнюю Русь, какою никто никогда не видел и не верит, что она такая. Как в сказках, которые я записываю здесь со слов народа.
– Праздник, – говорит Иванушка, – девки на угор вышли, песни поют.
– Праздник, праздник, – радуются жёнки, что ветер донес их вовремя домой.
Наверху мелькают девушки своими белыми плечами, золотыми шубейками и высокими повязками. А внизу из моря на желтый берег выползли черные бородатые люди, неподвижные, совсем как эти беломорские тюлени, когда они выходят из воды погреться на берег. Я догадываюсь, они сшивают сети для ловли дельфинов.
Мы приехали не вовремя, в сухую воду (отлив).
Между нами и песчаным берегом широкая, черная, покрытая камнями, лужами и водорослями темная полоса; тут лежат, наклонившись набок, лодки, обнажились рыбные ловушки. Это место отлива, по-архангельски «куйпога».
Мы идем по этой куйпоге, утопая по колено в воду и грязь. Множество мальчишек, приподняв рубашонки, что-то нащупывают в воде ногами. Топчутся. Поют песню.
– Что вы тут делаете, мальчики? – спрашиваю я.
– Топчем камбалку.
Достают при мне из воды несколько рыб, почти круглых, с глазами на боку… Поют:
Муля, муля, приходи, цело стадо приводи, Либо двух, либо трех, либо целых четырех.«Муля», узнал я, какая-то другая, совсем маленькая рыбка, а эту песенку дети выслушали тут на отливе. И сами эти ребятишки, быть может, скатились сюда на отлив с угора, а быть может, море их тут забыло вместе с рыбами.
Старый кормщик улыбается моему вниманию к этим свободным детям и говорит:
– Кто от чего родится, тот тем и занимается.
Кое-как мы достигаем берега; теперь уже ясно, что это не морские звери, а люди сидят на песке, поджав ноги, почтенные бородатые люди путают и распутывают какие-то веревочки. Наши присоединяются к ним, и только жёнки уходят в деревню, – верно, собираются на угор. Мужичок с ноготок достает себе клубок пряжи, привязывает конец далеко за углом в проулке и начинает крутить, сучить и медленно отступать.
Покрутит-покрутит и ступит на шаг. А навстречу ему с другого конца отступает точно такой же Мужичок с ноготок. Когда-то встретятся спинами эти смешные старики?
Иванушка зовет меня смотреть Марью Моревну. Мы поднимаемся на угор.
– Здравствуйте, красавицы!
– Добро пожаловать, молодцы!
Девушки в парчовых шубейках, в жемчужных высоких повязках плавают взад и вперед. Нам с Иванушкой за бугром не видно деревни, но одно только море, и кажется, будто девушки вышли из моря.
Одна впереди, лицо белое, брови соболиные, коса тяжелая. Совсем наша южная красавица – ноченька темная, со звездами и месяцем.
– Эта Марья Моревна?
– Эта… – шепчет Иванушка. – Отец вон там живет, вон большой дом с крестом.
– Кащей Бессмертный? – спрашиваю я.
– Кащей и есть, – смеется Иванушка. – Кащей – богач. У него ты и переночуешь, и поживешь, коли поглянется.
Солнце робко остановилось у моря, боится коснуться холодной воды. Длинная тень падает от креста Кащея на угор.
Мы идем туда.
– Здравствуйте, милости просим!
Сухой, костлявый старик с красными глазами и жидкой бородой ведет меня наверх в «чистую комнату».
– Отдохни, отдохни. Ничего. Что ж. Дорога дальняя. Уморился.
Я ложусь. Меня качает, как в лодке. Качнусь и вспомню: это не лодка, это дом помора. На минутку перестает качать и опять. Я то засыпаю, то пробуждаюсь и открываю глаза.
Впереди, за окном, большой восьмиконечный крест благословляет горящее полуночной зарей море. На берегу люди, похожие на морских зверей, все еще сшивают сети, я те два смешные старика все крутят веревочки, все еще не встретились, все еще не выходил чертенок из моря и не загадывал им загадок. Долетают песни с угора.
Баю-бай, – качает море. Грезится девица с темной косой. Брызнули звезды. Выглянул месяц. Заиграло певучее дерево. Запели птицы разными голосами. Грешная красавица шепчет: спи-усни, спи, глазок, усни, другой.
Ноченька темная, радость моя…
Это грезы… Светлая северная ночь. Все тихо. Спят. Как они могут спать такой светлой, безгрешной ночью? Покоятся. Сверкнула золотая шубейка под черным крестом. Стукнуло внизу, стихло. Уснула.
Бай-бай, сестрица, бай-бай, родимая.
Шепчет темная красавица своей светлой непонятной сестрице:
– Спи, милая, спи, родимая, Что тебе на сердце пало? Так и не скажешь? Ну, спи. Спи, усни. Усни, глазок, усни, другой.
Закрыла глазок, закрыла другой.
А про третий забыла…
И по-прежнему смотрит светлая сестрица, молчит своей нездешней смертельной тоской.
По всему небесному своду, по земле, по воде обвела колдунья мертвою рукою заколдованный круг.
И земля-то спит, и вода-то спит!
Качает красавица старого медведя.
Бай-бай. Скрип, скрип.
Вдруг утка крякнула, берега звякнули. Полетели гуси-лебеди.
Гуси-лебеди, гуси-лебеди, киньте два перышка, возьмите меня с собой!
Кинули гуси-лебеди два перышка. Упали два белые на черный крест.
Подкрался Иван-царевич, прислонился к кресту, шепчет:
– Выходи, Марья Моревна, спустили нам гуси-лебеди два пера.
Летят царевич с царевной над морем.
Дедушка водяной высунул голову. Какой он… Видно все его желтое, старое тело. Зачем так… Спрячься…
– Дедушка, дедушка, где твоя золотая головушка, серебряная бородушка? Скажи, видно нас?
– Видно, деточки, видно, летите скорее.
– И так видно?
– Всяко видно. Летите, летите.
Как пар поднимаются со Белого моря душки покойников. Реют неслышно, как прозрачные стеклянные птицы. Умываются на подоконниках. Вытираются чистыми полотенцами. Садятся на князьки, на крыши, на трубы, на сети, на лодки, на большие изорванные сосны, на шкуры зверей, на высокие черные восьмиконечные кресты.
Бай-бай. Скрип-скрип.
У Марьи Моревны
21 мая
Радостно стучит и бьется на новом месте волшебный колобок. Так свежа, молода эта песенка: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел».
Я в «чистой» комнате зажиточного помора. Посреди нее с потолка свешивается вырезанный из дерева, окрашенный в сизую краску голубок. Из угла смотрят на меня преподобные Зосима и Савватий, перед ними догорает лампада. А этот крест перед окнами к морю, вероятно, поставил еще благочестивый прадедушка помора. Шторм разбил его шкуну, и он спасся на обломке мачты.
В память чуда и поставлен здесь крест высотой с этот двухэтажный дом.
В верхнем этаже чистая комната для гостей, а внизу живут хозяева. Я слышу оттуда мерный стук. Будто от деревенского прядильного станка.
И хорошо же вот так удрать от всех в какое-то новое место, полное таинственных сновидений! Хорошо так касаться человеческой жизни с призрачной, прекрасной стороны и знать, что это серьезное дело. Хорошо знать, что это не скоро кончится. Как только колобок перестанет петь свою песенку, я пойду дальше. А там еще таинственнее. Ночи будут светлеть с каждым днем, и где-то далеко отсюда, за Полярным кругом, в Лапландии, настанут настоящие солнечные ночи.
Я умываюсь. Чувствую себя бесконечно здоровым.
Мое занятие – этнография, изучение жизни людей. Почему бы не понимать его как изучение души человека вообще. Все эти сказки и былины говорят о какой-то неведомой общечеловеческой душе. В создании их участвовал не один только русский народ. Нет, я имею перед собою не национальную душу, а всемирную, стихийную, такую, какою она вышла из рук Творца.
Мечты с самого утра. Я могу летать здесь, куда хочу, я совершенно один. Это одиночество меня нисколько не стесняет, даже освобождает. Если захочу общения, то люди всегда под рукой. Разве тут в деревне не люди? Чем проще душа, тем легче увидеть в ней начало всего. Потом, когда я поеду в Лапландию, вероятно, людей не будет, останутся птицы и звери. Как тогда? Ничего. Я выберу какого-нибудь умного зверя. Говорят, тюлени очень кроткие и умные. А потом, когда останутся только черные скалы и постоянный блеск не сходящего с неба солнца? Что тогда? Камни и свет… Нет, этого я не хочу… Мне сейчас страшно… Мне необходимо нужен хоть какой-нибудь кончик природы, похожий на человека. Как же быть тогда? Ах да, очень просто: я загляну туда, в бездну, и удеру: ла-та-та… И опять запою:
Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел.Ничего… мы бежим по лестнице с моим волшебным колобком вниз.
Стук, стук! Есть ли кто тут жив человек?
Марья Моревна сидит за столиком, перебирает ниточки, пристукивает. Одна.
– Здравствуй, Марья Моревна, – как тебя зовут?
– Машей.
– Так и зовут?
Царевна смеется.
Ах, эти веселые белые зубы!
– Чайку хочешь?
– Налей.
Возле меня за лавкой в стене какое-то отверстие, можно руку просунуть, закрывается плотно деревянною втулкою. Так в старину по всей Руси подавали милостыню. Приходили странники, калики перехожие и свой близкий человек. Левая рука не знала, что делает правая. А может быть, и не так хорошо было, как кажется? Но вот это отверстие. Старина…
– Как это называется? – спрашиваю я о какой-то части станка.
– Это ставило, это набилки, бобушки, бердо, разлучница, приставница, пришвица.
Я спрашиваю обо всем в избе, мне все нужно знать, и как же иначе начать разговор с прекрасной царевной. Мы все пересчитываем, все записываем, знакомимся, сближаемся и смолкаем.
Пылает знаменитая русская печь, огромная, несуразная. Но без нее невозможна русская сказка. Вот теплая лежанка, откуда свалился старик и попал в бочку с смолой. Вот огромное горло, куда бросили злую колдунью; вот подпечье, откуда выбежала к красной девице мышка.
– Спасибо тебе, Маша, что чаем попоила, я тебе за это Иванушку посватаю.
Горят щеки царевны ярче пламени в печи, сердитая, бросает гордо:
– Изба низка! Есть и получше, да не иду.
«Врет все, – думаю я, – а сама рада».
Мы еще на ступеньку ближе с царевной. Ей будто хочется мне что-то сказать, но не может. Долго копается у стенки, наконец подходит, садится рядом. Она осматривает упорно мои сапоги, потом куртку, останавливается глазами на моей голове и говорит ласково:
– Какой ты черный.
– Не подъезжай, не подъезжай, – отвечаю я, – сосватаю тебе и так Иванушку.
Она меня не понимает. Она просто по дружбе подсела, а я уже вижу корыстную цель. Она меня не понимает и не слушает. Да и зачем это? Разве все эти вещи: карандаш в оправе, записная книжка, часы, фотографический аппарат не говорят больше всяких слов об интересном госте. Я снимаю с нее фотографию, и мы становимся близкими друзьями.
– Поедем семгу ловить, – предлагает она мне совсем уже попросту.
– Поедем.
На берегу мы возимся с лодкой; откуда-то является на помощь Иванушка и тоже едет с нами. Я становлюсь в романе третьим лицом. Иванушка хочет что-то сказать царевне, но она тактична: она искоса взглядывает на меня и отвечает ему презрительно:
– Губ не мочи, говорить не хочу.
Тогда начинается разговор о семге, как в гостиной о предметах искусства.
– Семга, видишь ли, – говорит мне Иванушка, – идет с лета, человек ходит по свету, а семга по месяцу. Вот ей на пути и ставим тайник, ловушку.
Мне тут же и показывают этот тайник: несколько сетей, сшитых так, чтобы семга могла войти в них, а уйти не могла. Мы ставим лодку возле ловушки и глядим в воду, ждем рыбу. Хорошо, что тут роман, а вот если бы так сидеть одному и покачиваться в лодке…
– Другой раз и неделю просидишь, – угадывает меня Иванушка, – и две, и месяц… ничего. А придет час божий – за все ответит.
Подальше от нас покачивается еще такая же лодочка; дальше еще, еще и еще. И так сидят недели, месяцы с весны до зимы, стерегут, как бы не ушла из тайника семга. Нет, я бы не мог. Но вот если слушать прибой или передавать на полотно эти северные краски: не тоны, полутоны, а может быть, десятые тонов… Как груба, как подчеркнута наша южная природа сравнительно с этой северной интимной красотой. И как мало людей ее понимают и ценят.
Я замечтался и, наверно, пропустил бы семгу, если бы был рыбаком. Марья Моревна довольно сильно толкнула меня в бок кулаком.
– Семга, семга, – тихо шепчет она.
– Перо сушит, – отвечает Иванушка.
Это значит, что рыба давно уже попалась и поднялась теперь наверх, показывает перо (плавник) из воды.
Мы поднимаем сеть и, вместо дорогой семги, вытаскиваем морскую свинку, совсем ненужную.
Жених с невестой заливаются смехом.
Вышел веселый анекдот:
– Семга, семга, а ин свинка!
Не знаю, сколько бы продолжалась наша пастораль на море, как вдруг произошло крупнейшее событие.
Прежде всего я заметил, что к кучке рыбаков на берегу подошла другая кучка, потом третья, потом собралась вся деревня, даже жёнки и ребятишки; под конец и оба смешные старика бросили клубки на землю и стали у края толпы. Дальше поднялись невероятный шум, крик, брань.
Я видел с воды, как из толпы там и тут выскакивала жидкая борода Кащея Бессмертного, будто он был дирижером этого возмутительного концерта на берегу Белого моря…
Мало-помалу все улеглось, от толпы отделились десять седых мудрых старцев и направились к дому Кащея. Остальные опять уселись по своим местам на песок. Сам Кащей подошел к берегу и закричал нам:
– Греби-и сюда, Ма-аша.
Я беру на руки морскую свинку, Иванушка садится, а Марья Моревна гребет.
– Старики с тобой поговорить хотят, господин, – встретил нас Кащей.
– Что-то недоброе, что-то недоброе! – шепнул мне волшебный колобок…
Мы входим в избу. Мудрецы встают с лавок, торжественно приветствуют.
«Что такое? Что вы?» – спрашиваю я глазами.
Но они смеются моей свинке, приговаривают:
– Семга, семга, а ин свинка!
Вспоминают, как одному попал в тайник морской заяц, другому – нерпа, третий вытащил то, что ни на что непохоже.
Так долго продолжается оживленный, но искусственный разговор. Наконец все смолкают, и только один, ближайший ко мне, как отставший гусь, повторяет: «Семга, семга, а ин свинка».
– Но в чем же дело? Что вам нужно? – не выдерживаю я этого тягостного молчания.
Мне отвечает самый старый, самый мудрый:
– Тут проходил человек из Дуракова…
– Алексей, – говорю я и мгновенно вспоминаю, как он сделал меня у бабушки генералом… Верно, и тут что-нибудь в этом роде. Прощай мои сказки. – Алексей? – спрашиваю я.
– Алексей, Алексей, – отвечают разом все десять. А самый мудрый, седой продолжает:
– Алексей сказывал: едет от государя императора член Государственной думы море делить в Дураково. Кланяемся тебе, ваше превосходительство, прими от нас семушку…
Старик подносит мне огромную, пудовую семгу. Я отказываюсь принять и, потерявшись, извиняюсь тем, что у меня на руках уже есть свинка.
– Брось ты эту дрянь, на что она тебе. Вот какую рыбинку тебе изловили, полагается первая богу, ну, как ты у нас редкий гость, то господь и потерпит, не обойдем и его.
Другой старик вынимает из пазухи бумагу и подает. Я читаю:
«Члену Государственной думы по фотографическому отделению.
ПРОШЕНИЕ
Население умножилось, а море по-старому, сделай милость, житья нет, раздели нам море…»
Что такое, глазам не верю… И вдруг вспоминаю, что где-то на станции мы брали обывательских лошадей и я расписывался: «От Географического общества». Потом – фотографический аппарат… И вот я стал членом Думы по фотографическому отделу. Я припоминаю, что Алексей мне говорил о каких-то двух враждебных деревнях, где не хватает хоть какого-нибудь начальства, чтобы кончить вековую вражду.
И у меня мелькает мысль: а почему бы и не разделить мне этим бедным людям море. Раз тут не бывает начальство, то не есть ли это перст указующий руки всевышнего, предначертавший мне и здесь, в пустыне, выполнить свой гражданский долг. Здесь мои поэтические стремления, всегда противоположные жизни, сливаются с грубейшим бытием, здесь, в этой беломорской деревушке, я и поэт, и ученый, и гражданин.
– Хорошо, – говорю я старцам, – хорошо, друзья, я разделю вам море.
Мне нужен точный подсчет экономического положения деревни. Я беру записную книжку, карандаш и начинаю с земледелия, как основы экономической жизни народа.
– Что вы сеете здесь, старички?
– Сеем, батюшка, все, да не родится ничего.
Я так и записываю. Потом спрашиваю о потребностях и узнаю, что на среднее семейство в шесть душ нужно двенадцать кулей муки. Узнаю, что, кроме необходимых потребностей, существуют роскоши, что едят калачи, по праздникам щелкают орехи и очень любят кисель из белой муки.
– Откуда же вы берете на это деньги?
– А вот, поди знай, откуда взять! – ответили все десять.
Но я все-таки узнаю: деньги получают от продажи зверей, наваги, сельди и семги.
Узнаю, что все эти промыслы ничтожны и случайны, кроме семги.
– Стало быть, кормит вас семга?
– Она, матушка. Сделай милость, раздели!
– Хорошо, – говорю я, – теперь к разделу. Сколько у вас душ?
– Двести восемьдесят три души!
– И с жёнками?
– Нет. Женские души не считаются, тех хоть сколько ни будь.
Потом я узнаю, что берег моря принадлежит деревне в одну сторону на двадцать верст, в другую – на восемь, что на каждой версте находится тоня, я записываю названия тоней: Баклон, Волчек, Солдат… Узнаю своеобразные способы раздела этих тонь на жребии. Всего тонь оказывается сорок четыре и еще двенадцать архиерейских, одна Сийского монастыря, одна Никольского, одна Холмогорского.
Точно таким же образом узнаю положение соседней деревни Дураково. Но положительно не могу понять претензий старцев на тони этой еще более бедной деревни.
– Почтенные, мудрые старцы, – наконец говорю я. – Без соседей я море делить вам не буду: пошлите немедленно Иванушку за представителями.
Старцы молчат, гладят бороды.
– Да зачем нам дураковцы?
– Как зачем, море делить!
– Так не с ними делить, – кричат все вместе. – Дураковцы нас не обижают. Это их с Золотицей делить, только не нас. Нас с монахами делить. А дураковцы ничего… тех с Золотицей. Монахи самые лучшие тони отобрали.
– Как же они смели? – гневаюсь я. – По какому праву?
– Права у них, батюшка, давние, еще со времен Марфы Посадницы.
– И вы их уважаете… эти права?
Старцы чешутся, поглаживают бороды, – очевидно, уважают.
– Раз у монахов такие стародавние права, как же могу я вас с ними делить?
– А мы, ваше превосходительство, думали, что как ты от Государственной думы, так отчего бы тебе этих монахов не согнать
До этих слов я все еще надеюсь, все еще думаю выискать в своей записной книжке яркую страницу с цифрами и разделить море и соединить поэзию, науку и жизнь. Но вот это роковое слово «согнать». Просто и ясно, я здесь генерал и член Государственной думы, почему бы и не согнать этих монахов, зачем им семга, я враг этих длинных рыб на архиерейском столе. Согнать! Но я не могу. Мне кажется, будто я вошел, как морская свинка, в тайник и, куда ни сунусь, встречаю крепкие веревки. Я еще механически перебираю в голове число душ, уловов, но все больше и больше запутываюсь.
«Семга, семга, – думают старцы, – а ин свинка!» А в углу-то сверкают белые зубы Марьи Моревны, и боже мой, как заливается смехом мой волшебный колобок…
Глава II. По обещанию
Будем как солнце! Забудем о том,
Кто нас ведет по пути золотому.
БальмонтПолночь
9 июня
Еще немного на север, еще несколькими днями ближе к времени летнего солнцестояния. Теперь я уже приучил себя спать днем, и так крепко, как никогда не спал дома. Но как только солнце приближается к воде, я просыпаюсь и брожу возле моря, будто ожидая чего-то особенного. Брожу всю ночь и утро, пока не станет обыкновенно, так же как и у нас, так же как и у всякого моря днем при хорошей или при дурной погоде.
Сегодня мой хозяин, перевозчик богомольцев на Соловецкие острова, просил меня не уходить. Вчера ночью пришел последний, десятый, странник, и на рассвете старик повезет нас, десять грешников, на Святые острова.
От нечего делать опишу вчерашнюю ночь. Не знаю только, что из этого выйдет: я не привык писать ночью при свете солнца.
Вчера меня разбудил ночной солнечный луч. Пробудился и вдруг представил себе свое путешествие как восхождение на высокую солнечную гору. Иду туда из темного туннеля, сначала мне виден только бледный свет, потом ярче и ярче разгорается заря, и я выхожу. Тут лес, видно море. Но еще выше нет леса, еще выше какие-то темные скалы в вечном сиянии солнца. Иду наверх по камням. Что там?
На стене висит охотничье ружье; беру его, заряжаю на уток и выхожу бродить по своей таинственной солнечной горе.
Перед самым домом моего хозяина спит на кольях огромный невод, спят шкуры морских зверей, спят длинные сухие рыбы. Подальше к морю улеглись, повернувшись спиною наверх, лодки, у самой воды свесился неизменный черный крест. Там сидит старик с огромными плечами, будто выбитый холодным морем каменный истукан. Он такой неподвижный и спокойный, что даже белая птица на кресте не боится его, принимая за камень.
Это мой хозяин помор, сидит без дела, дожидается странников-богомольцев.
Подхожу к нему. Он не обращает на меня внимания, молчит: северные люди скупы на слова. И не только люди, но и всё, вся природа. Вот только ленивая прибойная волна рассыпается и говорит нам: здрав-с-твуйте, здрав-с-твуйте.
– Все море копается, все море копается, – говорит он наконец. – Все копается. А отчего копается, видно, уж ему так богом написано.
Он смотрит на золотой путь и, будто там, вдали, ищет причину.
И там, в море, отвечают. Из воды навстречу солнцу выдвигается золотое подножие. Красный потухающий диск, на который теперь можно долго смотреть, сжимается, вытягивается навстречу солнцу и сливается с ним. Что это? Престол господний? Не знаю что, но на минуту так понятно, отчего светится небо, и копается море, и волна так лениво и радостно говорит нам: здрав-с-твуйте, здрав-с-твуйте.
– Похоже на…
– Вроде как бы паникадило, – подсказывает старик.
Сравнение мне кажется таким унизительным для солнца, неудачным. Неужели, думаю я, этот дед, похожий на морского царя, совсем не понимает красоты солнца. Что он читает теперь для себя из этой золотой книги? Может быть, он идет по тому пути через море к Святым островам, зажигает перед черной иконой огонек и еще раз подтверждает преподобным Зосиме и Савватию свое клятвенное обещание всю жизнь возить богомольцев на Святые острова. Но в это время я его спрашиваю о солнце, и он сравнивает его с одним из блестящих паникадил возле темных икон.
– Солнце у нас, – перебивает он мои мысли, – не глубоко садится. Аршина на два, не больше, под морем идет. И вон там покажется. Вон там!
Он показывает место на небе против креста.
– А другой раз и вовсе не таится, все кромочка по воде идет. И пойдет, и пойдет. Оглянулся, а оно уж и опять показалось, опять светится.
Я оставляю деда и ухожу по берегу моря, прочь от деревни. Не хочу ни о чем думать, ни во что вмешиваться здесь, пусть само выскажется, если есть что сказать…
Направо от меня, на довольно высоком песчаном берегу – первые сторожевые сосны, налево – огонек полуночной зари. У самых ног рассыпается белое кружево прибоя. Мне хочется взять это тонкое сплетение, сделать из него что-нибудь хорошее. Но кружево тускнеет, остаются пузыри и черная мертвая водоросль.
Я иду прямо по ровной линии, по упругому морскому песку, не сворачивая в сторону. Но кружево прибоя догоняет меня, мочит подошвы. Верно, начинается прилив, гудит сильнее. Надо взять поправей. Мне мешает большое дерево, сухое, черное, выброшенное волной. И вот еще что-то. Шапка! Откуда эта шапка? А вот доски от разбитого судна и даже с гвоздями.
Прибой гудит все сильнее, ухнет и заскребет чем-то по Дну, будто что-то подвинет, и стихнет, и еще подвинет.
Я смотрю на это место почти со страхом. Мне вспоминается рассказ старика, как его соседу посчастливилось: море ему выкинуло ящик с богатством. На языке поморов это называется «навалуха» – случайное, непрочное счастье. Сосед разбогател, хотел уже другой дом строить, но утонул. «Море, – сказал старик, – его к себе приняло, навалуха не настоящее счастье».
Я остановился и жду.
Из белой пены показывается черный мокрый конец чего-то большого. На нем светится полуночный красный отблеск зари. Я догадываюсь: палуба от разбитой шкуны.
Иду дальше. Черные водоросли хрустят под ногами, будто я давлю что-то скользкое, полуживое. И пахнут чем-то не живым, мертвым. Мне начинает чудиться, что наверху той солнечной горы, куда я стремлюсь, нет жизни, что и здесь уже, в этом белом сумраке, перепархивают души покойников, что я один живой и непрошеный.
Назад бы бегом… Но я борюсь с собой, осматриваю патроны в ружье, вглядываюсь в даль, нет ли птиц, нельзя ли увлечься, выстрелом рассеять этот тяжелый кошмар белой ночи на Белом море. Но птиц нет – камни, песок, сосны, вереск.
Вместо радостного, знакомого мне, охотнику, солнечного бога, которого не нужно называть, который сам приходит и веселит, я чувствую, другой, какой-то черный бог, требует своего названия, выражения. Мгновенье, и я назову то, что лежит где-то темным бременем, станет легко и свободно. Но в самый решительный момент мне становится ясно, что если я сделаю так, то от чего-то ценнейшего в мире нужно отказаться без остатка, бросить даже это ружье и идти черной тропой, опустивши голову вниз. Я протестую, и черный бог остается без выражения.
Вдали на одном камне что-то шевелится. Я думаю, что это морской зверь, взвожу курки и вдруг вижу, что весь этот серый большой камень поднимается и движется мне навстречу. Это человек идет, котомка за плечами, остроконечная войлочная шляпа закрывает почти все лицо. Может быть, это тот десятый богомолец Соловецкого монастыря, которого дожидается перевозчик?
В этой мертвой пустыне он мне кажется тяжелым, осевшим на землю призраком, слишком грешным, чтобы подняться, как все, на вершину солнечной горы.
Он равняется со мной. Я уже вижу его совсем черное лицо, повязанное платком, вижу кусочек рыжей бороды. Пусть бы проходил своей дорогой, но я зачем-то останавливаю его.
– Здравствуй! Далеко ли? Откуда?
– Был у Саровского, иду к преподобным по обещанию. Хвораю, хочу потрудиться. Иду по берегу до промысловой избушки, а ее все нету, и ночевать негде. Далеко ли до деревни?
– Вот деревня, скоро будет видно.
– И слава богу. Хотели меня на лодке подвезти. Отказался, охотники и без меня найдутся. Что я им у господа путь загораживать буду.
Простой, обыкновенный человеческий язык радует меня. Хорошо, думаю я, вот так, как этот странник, идти по берегу моря и думать, что я совершаю подвиг, большое серьезное дело. Когда-то и мне хотелось пешком обойти всю родину, открыть в ней какую-то никому не ведомую жизнь. Потом все это передумалось и не перешло в действие. Но вот идет же этот странник с котомкой и котелком, значит, можно же это.
– Хорошо, – говорю я ему, – вот так идти, ружье бы тебе.
Он изумляется.
– Ру-у-жье! Зачем ружье?
– Птиц бы стрелял по дороге, варил бы в котелке.
– Пти-и-ц… Пища у меня есть, сухариков припас, да и благодетели не оставят, народ тут хороший, приемистый, странников жалеют, милостыню подают.
Я вижу, что сказал не так, как нужно, хочу поправиться.
– Ружье для защиты годится, мало ли что может случиться по дороге.
Странник осматривал меня с ног до головы. Ясно вижу, что думает: «В своем ли уме?»
– Какая защита, я ничего не боюсь. Иду вот и иду к преподобным. Иду и думаю, где бы мне праздник встретить, помолиться, к службе попасть. Не хорошо так, как приведется праздник господний на камне встречать. Недалеко, говоришь, деревня?
– Вон она, видно.
– Слава богу, прощай.
Он уходит. Несколько минут я слышу шаги его ног о мокрый песок, а потом по-прежнему все замирает, и только прибой все подвигает и подвигает что-то из моря сюда. Кромочка солнца все еще идет у воды.
Я сажусь на большой кусок дерева, на то самое место, откуда поднялся странник, и переживаю свои впечатления от поездки с богомольцами по Северной Двине. В белом сумраке мысль никогда не доканчивается, не знаю, о чем я думал, вероятно, о богомольцах. Я могу здесь, в этих записках, лишь переписать отрывки, набросанные на клочках, еще на Северной Двине…
Из записок на Северной Двине
Тогда мое путешествие было лишь в самом начале. Первая половина мая. Там и тут от этих лесных берегов отчаливают лодки. Пароход останавливается и принимает с них все новых и новых пассажиров. Это соловецкие богомольцы с котомками за спиной, в измятой жалкой одежонке, с покорными лицами, смиренные странники и странницы.
Вот вскарабкалась по трапу сморщенная старушка. Капитан ее почему то гонит с парохода, верно, у нее нет денег для билета. Но куда же ей идти? Назад, в эти леса, по которым она брела уже с своими сухариками за спиной, быть может, уже недели две, три. Назад нельзя.
– Капитанушко, – молит она его, как бога, – капитанушко родненький, не гони ты меня, старуху старую, по обещанию иду к соловецким угодникам. По обещанию, капитанушко, по обещанию, миленький, довези до Архангельска.
Слова «по обещанию» действуют на капитана, и он сдается.
А за старушкой лезет по трапу пахарь в сермяге, в лаптях, снимает шапку и, лохматый, с всклокоченной бородой, но с ясными, добрыми глазами, говорит:
– Ваше благородие, сделайте божескую милость, по обещанию иду.
– Возьми и его, капитанушко, – просит старуха, – мужик смирный, хороший, по обещанию идет к соловецким угодникам.
Капитан пропускает и пахаря.
И все то же и то же: леса, богомольцы, русская тьма…
Я сижу на лавочке и думаю: как жаль, что я, русский, привык с детства видеть этих смиренных людей, слышать их покорную речь, привык к ним, к этим бесконечным пространствам лесов и полей, и до того привык, что не могу уже взглянуть на них со стороны, понять и тот, быть может, высокий смысл, который таится в словах: «по обещанию».
Если бы вместо меня ехал здесь хороший иностранец, не очень гордый и думающий, он посмотрел бы на эти огромные незаселенные пространства, на величественную пустынную реку, на смиренное, подавленное выражение лиц богомольцев и сказал бы: «В этих лесах, на этом небе, в этой воде живет какой-то особенный, мрачный бог. Эти смиренные люди совсем и не могут поднять своей головы и посмотреть на него, они не видят ни света, ни солнца, ни зеленой травы и лесов, а только в страхе стелются по своей родной земле. Перед каждым из этих людей, хотя раз в жизни, развернулась темная бездна, и одной ногой он уже ступил туда, но пообещался и вернулся назад. И теперь, испуганный, благодарный, преданный, спешит принести свою лепту».
Иностранец посмотрел бы на все это открытыми глазами и вернулся бы к самому себе с новым, углубленным взглядом.
Но я не иностранец и ничего не нахожу для себя в этом путешествии на пароходе, где нет ни одного интеллигентного пассажира.
Так проплывают мимо меня в сумерках высокие темные берега, будто цепь связанных между собою общим основанием треугольников, покрытых елями и соснами.
Я уже начинаю раскаиваться, что выбрал такой утомительный путь на Север. Но в это же время замечаю, что высокие береговые треугольники, поддерживающие сосны, начинают белеть. Я забываю, что уже май, что не может быть снега, я думаю, что это снег, и любуюсь незнакомым мне сочетанием темного леса в белом сумраке над белыми скалами у странной незамерзающей, будто живой, воды. Пассажиры все смотрят на эти горы и говорят, что они алебастровые. Я понимаю: это не снег, это алебастровые горы Северной Двины. Они становятся все выше и выше, лес исчезает, и вот мимо меня плывут странные фантастические строения, дворцы, башни, крепостные полуразрушенные стены, плывут нескончаемой вереницей, причудливой, постоянно изменчивой формы.
Я где-то у стен Колизея.
Хорошо так забыться. Но еще мгновенье, и ничтожная причина перевертывает мой дух на другую, темную сторону.
Маленькая старушка, недалеко от меня, усевшись на грязном мешке, вынимает небольшую, черную икону и начинает тут же в виду алебастровых гор молиться. Как попала к старухе икона, не знаю; богомольцы обыкновенно не берут их с собою.
Она молится, а я припоминаю, как меня когда-то такая же старушка учила молиться такой же черной иконе. Она грозила мне, если я буду грешить, такими ужасными муками, что я навсегда стал думать об Отце как о беспощадном, жестоком боге. «Черная икона, – говорила старушка, – бросает камешки и в кого попадет, тот умирает». С каким ужасом я вглядывался тогда в темное небо, – нет ли там огней, не начинается ли?
Почему-то эти воспоминания особенно волнуют, мелькает иллюзия, что в этих поисках в своем далеком прошлом можно найти разгадку всего великого мира.
Незаметно для себя я забываю свои прекрасные алебастровые горы и, очнувшись, спускаюсь вниз, в темную массу наших богомольцев на дне парохода.
Там еще не зажгли огней, полумрак. Это какой-то тесный подвал, склад грязных котомок, на которых сидят, чего-то дожидаются серые люди. Очень трудно пробраться в середину: то заденешь чайник, то ногу. Мне бросаются в глаза несколько девушек, молодых, но с желтыми монастырскими лицами и в черных платках. Они поют, читая по засаленной бумажке, песнь о том, как англичане нападали на Соловецкую обитель. Я подхожу к ним и слушаю. Окончив пение, они спрашивают меня:
– По обещанию?
Что бы им ответить?
– Странствую, – говорю я первое попавшееся слово.
Девицы значительно кивают головой и больше не спрашивают. Поняли. Им не интересно уже больше знать, откуда я, зачем иду. Странствует человек, чего же больше? Как приятно не слышать обычных расспросов о своей жизни. И что это за удивительное общество людей самой грубой жизни, самого грубого труда, тут без всякого дела, оторванных от всего привычного, едущих за тысячи верст на какие-то Святые острова! Как сумели они перескочить через величайшую стену деревенского быта, всех этих дровец, соломки, всего этого грубого, будничного.
Понемногу я свыкаюсь с этим подвалом котомок и вижу знакомую старушку, которая просила капитана взять ее с собой. Она устроилась у теплого котла, завертывает и развертывает свою ногу. Недалеко от нее и пахарь. Я подхожу к нему, он подвигается, дает мне место.
– По обещанию? – спрашиваю я.
– Нет, по усердию, вон ребята, те по обещанию.
И указывает на трех парней. Сидят неподвижные, так странно, не по возрасту, молчаливые, будто их нагрузили тяжелыми гирями.
– По усердию, по усердию еду, – продолжает пахарь, поклониться преподобным. Отсеялся и пошел. А за ребят родители пообещались, едут год отработать.
К нам подходит благообразный мужчина, в нем что-то технически церковное, верно, староста. Узнав, что я еду в Соловки, он говорит:
– Хорошее дело, хорошее. Устройство у них хорошее, и старцы раньше были хорошие: всю жизнь тебе расскажут, как на ладони увидишь. Знают и планиду небесную, и как счастливо жить и как несчастливо. Все знают.
– Теперь, говорят, нет там таких старцев, – спрашиваю я, – монахи слабые.
– Это верно, что слабые. Ну что ж, слабые и слабые, а все-таки монахи. Трудное их дело. Ведь у него сан-то мертв, а плоть жива. Жива-а-а… Да и так сказать, не все же в кон, можно и за кон.
Он обертывается назад к лохматому мужику с горящими, как угли, глазами и зовет пальцем:
– Афанасий, Афанасий, подь сюда. Тут человек едет, подь-ка сюда поговорить.
Афанасий подходит и смотрит на меня странным, проницательным взглядом.
– Поговорить… хорошо. Поговорим. А можешь ли ты говорить-то со мной?
– Могу.
– Ой ли! Ну поговорим. Не в словах наших дело, а поговорить хорошо. Поговорим.
Нас окружают другие странники и странницы. Я понимаю, что меня вызывают на состязание. Афанасий прищуривается и при общем внимательном молчании задает мне первый вопрос:
– Можешь ли ты мне ответить, зачем молился Иисус Христос в Гефсиманском саду?
– Чтобы смирить себя перед Отцом, – отвечаю я.
Его поражает мой верный ответ, а меня – впечатление от такого простого школьного ответа. «Оттого ли это, – думаю я, – оттого ли, что он сам дошел своим умом до этого объяснения и потому в моем ответе он видит признание своей глубины. Или, быть может, из всех этих людей только он да я могут так ответить, и я в самом деле здесь мудрый человек?»
Но через мгновенье я думаю: «Афанасий самобытен, велик в этой среде».
Он смотрит на меня еще более проницательным взглядом, прищуривается:
– Вижу: у тебя на душе большое дело, и не простой ты человек. Только Никитушка-юродивый еще почище тебя. А можешь ли ты мне ответить: где бог?
– Везде бог: на земле, на небе.
– Ну вот, не дошел ты до всего. Ты думаешь, в таинстве бог, а ин нет.
– Где же?
– А в ребрах!
Я понимаю: это значит – бог в себе самом. Эту мысль я давно знаю. Но здесь она кажется такой значительной. Почему это так? Потому ли, что и в меня были заброшены семена веры в народ-богоносец, или же потому, что сейчас будто родившаяся мысль в недрах природы велика своей свежестью, таинственностью и прелестью своего зачатия?
Потом мы говорим с Афанасием о каких-то пределах господних. Я едва-едва могу понять смысл его бессвязных речей, а богомольцы, наверно, ничего не понимают. Но все слушают его с величайшим благоговением, и у них в душе медленно разматываются с большого клубка черные нитки и путаются, путаются, путаются.
Скучно быть долго в этом подвале котомок. Тягостно. Заглянул – и довольно. Наверх! Там еще белеют фантастические алебастровые горы.
* * *
Переписал отрывки. Что в них? Какая мысль? Что я хотел сказать? Не то ли, что наши русские леса, куда бежали и скрывались исстари пустынники, заменяют нам феодальные развалины и памятники европейской культуры; но я не могу этим удовлетвориться… Какой-то хаос… Но мне хочется быть искренним… Быть может, впереди все это разъяснится.
По морю на лодке к святым островам
10 июня
– Собирайся, господин, вода прибывает, камень срежет и в путь!
Мои алебастровые горы навсегда растаяли. Но неиспользованный запас любви к ним я перенес на старика, и на море, и на все, что попадется там, на этом пути открытым морем на лодке к Святым островам. Прежде всего – старик. Он для меня мудрый и добрый зверь, с которым можно говорить. Его слова, точные, упругие, отскакивают от него, будто спелые плоды осенью; лишнего он не скажет, я люблю его за это. Он старый моряк, испытавший все в море. И за это я люблю его: крепкая стихийная душа – это целая сокровищница. А старик – совсем особенный моряк. Его называют юровщик. Мне объяснили это название так: юровщик, значит, человек, который идет впереди и за ним остается след; юро – все те, которых он ведет за собой. Но, может быть, это значит – просто человек, имеющий дело с юровом, со стадом морских зверей. Каждый год, вот уже тридцать зим, этот юровщик во главе ромши (промысловой артели из восьми человек) пускается на льдине за морскими зверями. Эту льдину с людьми носит от одного края моря к другому, между опасными подводными камнями, водоворотами, островами; случается, проносит и в океан. Юровщик – это предводитель на льдине: он ведет людей и выбирается из самых храбрых, справедливых и умных[25].
Мне рассказывали про старика, будто он возит богомольцев «по обещанию», будто с ним на море что-то случилось особенное, после чего он каждое лето возит богомольцев на Святые острова.
Юровщик перебил мою попытку описать богомольцев и Северную Двину. Я сложил свои вещи, и мы вместе вышли к морю.
Песок еще теплый от дневного солнца. Мы ложимся на него и глядим на камень в море. Этот камень наши часы. Как только прибылая вода покроет, «срежет» его, мы двинемся в путь к Соловецким островам. Вчера ночью пришел последний, десятый странник, тот самый, мрачный, с подвязанной щекой, которого я встретил вчера на берегу. По камню мы должны точно рассчитать время отъезда: выехать так, чтобы на середине пути нас подхватила вода, бегущая к Соловецким островам. Тогда, какая бы ни поднялась в море буря, она нас не догонит: море не успеет раскачаться. Мы смотрим на камень. Холодное северное море лежит теперь тихое, прекрасное, как обрадованная печальная девушка.
Юровщик знает, что все это хорошо, и говорит:
– Так уж не прямая ли гладинка к Святым островам. Краса! Вот поди ты: днем ветер, а ночью тишь. У этого ветра жена красивая, – как вечер, ночь, так спать ложатся.
К нам подходит молодой парень, сын юровщика, и тоже глядит на камень. По его лицу, высоко над нами, я узнаю первый утренний свет.
Из моря долетает неровный плеск.
– Вода стегает или зверь выстает?
– Вода у камня полощется.
– Краса какая, – жена, жена и есть!
Немного спустя Ванька стоит весь розовый, а на лице старика выступают глубокие шрамы. Камень срезало уже до половины.
– Ступай, буди богомольцев. Подкрашивает, солнышко выкатается.
– Слышишь?
– Что это?
– Зверь шевелится.
– А вон там белуха дышит. Значит, сей день будет порато (очень) хорош, а завтра – погода. Но только мы так говорим, а бог знает.
Я слушаю все эти звуки северной природы, с которыми я еще не сроднился, которые еще не стали мне музыкой, как на юге, но зато сулят столько возможностей и дают мне столько маленьких открытий. Я слушаю. Мало-помалу к этим морским звукам присоединяются шаги богомольцев. Они подходят к нам и тоже замирают. Им, верно, страшно перед этой поездкой на лодке по морю, которого они никогда не видели. Им никогда и не снились эти дни без конца и эти ночи без звезд и луны, без тьмы. Но, может быть, они этому не очень изумляются и думают, что у Святых островов непременно должны быть такие чистые, безгрешные ночи и еще не такие чудеса.
Я узнаю ту старушку, которую видел на Северной Двине, в черном платке, из-за которого в профиль виден только подбородок; вижу пахаря в лаптях и сермяге; вижу вчерашнего странника, все такого же мрачного теперь при восходе солнца, как и вчера ночью на той солнечной горе, где летают души умерших. Потом еще несколько ребят-годовиков, еще старушка, еще пахарь из какой-то другой губернии.
Юровщик не обращает ни малейшего внимания на странников, следит за ветром, радуется, что дует сильнее, и приговаривает свое: «Жена, жена и есть».
– Ты помни, – говорит он мне, – обеденник хороший ветер, у него жена красивая; к вечеру стихает. Полуночник – тот злой: как начался, так и не стихнет. Шалонник – ярой: тот на море разбойник. Сток – ветер широкий, подтихает, как на солнце придет. Вот и все наши ветры.
– А западный? – вспомнил я.
– Запад, тот не в счет, тот на диавольском положении.
– Все равно, что антихрист, – говорит черный странник.
– Ты откуда это знаешь? – удивляюсь я и смотрю на его темное лицо, на подвязанную щеку и кусок бороды, и, как черная тень, пробегает передо мной вчерашняя встреча, вчерашняя ночь.
– Так уж знаю. Я везде бывал и за везде-то бывал. Запад везде за антихриста считается. Вот помалешеньку, помалешеньку завладеет всем антихрист, да и спохватятся, да будет уже поздно.
Этот черный странник, кажется, в состоянии говорить об антихристе и во время рождения богини из пены морской. Солнце восходит, мне хочется говорить с стариком о красивой жене хорошего ветра. Но он поднимается с песка и объявляет:
– Камень срезало. В путь, крещеные!
Мы все встаем. Странники повертываются к востоку и молятся туда широкими крестами, маленькие, черные, но озаренные уже золотым солнечным светом. Помолившись на восток, повертываются к церкви и еще молятся. Крестятся истово, большими крестами проводят рукою по всему сияющему небесному своду.
– Преподобные Зосима и Савватий, – молится пахарь.
– Дайте поветерь! – шепчет моряк.
* * *
Как не помочь такому славному деду! Мы все, кроме двух старушек и больного черного странника, подкладываем катки под большую тяжелую лодку и катим ее так к морю с берега. Потом укладываем котомки, усаживаем рядом старушек. Старик садится кормщиком, а сын его и годовики берутся за весла. Берег уплывает от нас, уплывает посеянная на песке между камнями и соснами деревенька: все еще прощается, напутствует нас большой черный восьмиконечный крест.
Добрый путь, страннички, к Святым островам! Плывите, плывите, не подмочите сухарики, берегите свои ладонки и рублики, святые угодники при-и-мут и помогут, исцелят. Плывите с господом, Соловецкая обитель богатая, пригреет, накормит. Плывите, черненькие и маленькие, ветер пошлю вам походный, хороший, солнышко горит ярко.
– Слава тебе, господи, слава тебе, господи, – молятся старушки кресту. – Долго шли, теперь уж немного осталось. Донеси, батюшка.
– Донесу, донесу-у, – еле слышно с берега, но уже не видно креста.
– Донесет, донесет, – успокоивает и юровщик, – море тихое, что скатерть лежит. Не в первый раз везу…
В такие ясные дни на Белом море часто играют белухи. Я уже привык к их серебряным спинам. Но странников смущают эти живые морские серебряные огни.
– Что это? – спрашивает пахарь.
– Белуха играет, – отвечает моряк, – большая, хвост у ней эва какой, сама пудов в пятьдесят.
– И ноги и голова?
– Все есть.
– Вот так рыба!
– Зверь он, не рыба. Конечно, не волк, не медведь.
– Господь создал море и землю, – говорит пахарь.
– Море богаче земли, – отвечает моряк.
Я привык к этим северным дельфинам и смотрю не туда, куда все, а вниз, в глубину. Или мелко еще, или вода очень прозрачная, но я вижу в глубине что-то темно-зеленое.
Приглядываюсь и открываю там целый густой, зеленый подводный лес. Я люблю лес, как бродяга: для меня он родной, он дороже мне всего, дороже моря и неба. Так хочется войти туда, в этот зеленый таинственный мир. Но это не настоящий, это сказочный лес, туда нельзя войти, мы слишком грубы для того. А хорошо бы спуститься в этот морской лес, притаиться и слушать, как перешептываются рыбы у прутика водоросли.
– Море богаче земли, – слышу я, говорит моряк пахарю. – Зверей там всяких, рыбы. А мелочи этой и не счесть. Солдатики-красноголовики в шапочках перед семгой или перед погодой показываются. Да вот еще воронки, вроде как птиченьки, идут помахивают крылышками. Рак там есть большой, ражий, частолапчатый, хвост короткий. Звезды. Идут по дну моря, перебиваются. Море богаче земли.
Чудеса, чудеса, чудеса!
Я вижу, как из подводного леса движется живая точка, плывет к нам, показывается близко у лодки. Настоящий маленький морской кораблик с глубоко вырезанным парусом.
Выплывает на поверхность, шевелит парусом со множеством тонких колеблющихся снастей.
Изумленные странники тоже замечают подводный кораблик.
Я хочу объяснить, что это медуза – животное, живое.
Но кормщик предупреждает меня.
– Это масло морское, – говорит он. – Оно тоже буде живое. Идет да помахивает парусом, расширится да сузится да вперед и вперед. Веслом толкнешь, вроде как убьешь.
Странники понимают, и мне не хочется припомнить зоологию, ведь и меня интересует в этой медузе то, что она «буде живая». Я пробую поймать медузу рукой, касаюсь воды, но вместо медузы под рукой рассыпается ковер смеющихся искр и закрывает и медузу, и таинственный морской лес. Потом я вижу, как быстро спускается сказочный кораблик к волшебному лесу и пропадает там. И лес закутывается глубиной и исчезает, как недоконченная сказка.
Чудеса, чудеса, чудеса!
Старик рассказывает много чудес о море. Я слушаю его и в то же время брожу глазами по морю. Мы еще не выехали в открытое море, большой остров направо и синий длинный мыс налево образуют что-то вроде бухты. Я брожу глазами то по спокойной, как зеркало, воде у берегов, то заглядываю вперед вдаль на темную воду, то на золотой искристый след лодки.
И вдруг замечаю, – недалеко от лодки отчего-то возникает маленький водоворот и бегут круги во все стороны. Отчего это? Будто камень булькнул в воду. Но никто не бросал. Отчего это?
Гляжу на кружки и вижу, как в центре их показывается из моря большая черная человеческая голова. Струйки воды стекают с темно-синеватого лба, золотые капли блестят на усах.
Не сразу я понимаю, что это тюлень, морской заяц.
Потом замечают странники, кормщик обертывается, старушки крестятся.
– Зверь, а что человек! – говорит пахарь.
– На человека он очень похож, – отвечает моряк. – Катары, что рученьки, головка аккуратненькая.
Тюлень долго плывет за нами, вдумывается кроткими, умными глазами: так ли рассказывает моряк пахарю о морской глубине.
Чудеса, чудеса, чудеса!
Мы проплываем на веслах мимо Жигжинского острова, откуда начинается открытое море. Жигжин – это один из тех островов, на котором, по преданиям поморов, жило чудовище «чудь», побежденное Николаем Угодником. Это место и теперь опасное для мореплавателей, почему и поставлен тут маяк. Наконец, для путешественника, интересующегося народной жизнью, Жигжинский остров любопытен тем, что он услышит здесь рассказы о том, как с этого острова поморы спускаются на льдине в Белое море для промыслов морских зверей. Я и раньше на берегу еще слышал рассказы про эти страшные, вероятно, нигде в мире не существующие уже промыслы. Но только тут, возле Жигжинского маяка, узнал наконец все подробности этой невероятной, просто фантастической жизни. Я изучил язык поморов, напрягал все свое внимание, чтобы запомнить своеобразные выражения нашего перевозчика, и думаю, что теперь на бумаге я могу передать его замечательный рассказ с точностью.
Мы проплываем Жигжинский маяк, налево остается мыс Орлов; мы вступаем в открытое море, но если хорошо приглядеться, то на горизонте уже виднеются синие тени земли на море: то вытягиваются вверх, будто высокие горы, то сплюснутся узкой полоской у воды, то вовсе оторвутся от воды и повиснут в воздухе.
– Бугрит, – называет так помор явление миражей на Белом море.
Странники крестятся.
Чудеса!
Потом мы вступаем в полосу ветра; кормщик ставит парус и приговаривает:
– Славную поветерь бог дал. Преподобные Зосима и Савватий, несите нас на Святые острова…
Отлив тоже подхватывает нас, и лодка мчится, качается в волнах, брызги летят, обдают нас.
Странникам жутко: вот и назади начинает бугрить земля, подниматься на воздух.
Крестятся, шепчут молитву. Только кормщик да черный странник равнодушны: один привык, другому все равно. Старик помор даже весел, поветерь радует его.
– Ишь притихли! – смеется он. – А это не взводенъ, а только подсечка. Море наше бойкое. Летом еще мало ветры обижают, а вот поплавали бы вы осенью да зимой. У нас море и зимой не замерзает.
Кто-то из молодых годовиков удивляется: «Отчего?»
– Оттого, что оно велико, – отвечает помор, – и все, что намерзает, то все уносит в горло, в океан.
– Господь вас хранит!
– Хранят, хранят преподобные! Бог знает, как век написан, долго ли, коротко ли пройдет. Везде-то ездим, по морям, да… Постоянно на море, вот и молимся, чтобы спасали преподобные. Вот и сейчас, зверину продал, везу, и хранят… Без них давно бы нас не было. Обещание – первое дело.
– Первое дело! – хором подхватывают испуганные морем странники.
– Взводень подымется и бога грызть, – продолжает помор. – Обещание положишь, посулишь там чего-нибудь, зверину ли, деньги ли, самому заметно, будто погода маленько меняется, не сразу, а ловчее проходит, виднее на море, легче ходить, взводень станет опадывать. Обещание первое дело.
– Первое дело! – опять откликаются все, будто связанные невидимыми нитями с этим старым и мудрым кормщиком.
– Обещание держишь, вот и хранят, тридцать зим выходил, так все видел. Но только господь меня возлюбил, счастье давал, из тридцати зим только два раза и пронесло в океан.
– Расскажи! – стал я просить старика.
– Рассказал бы я тебе, государь мой, хороший человек, да старухи реветь будут. Как жили во льдах, так жутко.
Меня поддержали странники, и старик начал свой рассказ.
– Зима стояла лютая. Не знаю, как по-вашему, по-ученому, государь мой, а по-нашему так в задние годы морозы крепче были. Морозы крепче и люди крепче. Молодой народ, верно, стал полукавей, а наш народ был понатуристей. Лютая зима стояла! Сполохи играли, страсть! В ваших местах, слышно, этого нету?
– Нет, – отвечаю я старику, – у нас нет сполохов, – и, заинтересованный, как представляют себе поморы загадочное северное сияние, спросил – Отчего бывают сполохи и какие они?
– Отчего бывают сполохи, я тебе не сумею сказать. Нам ли ведать, что у господа в небе делается. Растворится небо, раскроется, будто загорится. Сперва расширится и опять врозь слетается в одно. Страшно глядеть! Выйдешь, на пороге постоишь, да и опять в избу скорей. Страшно. Толкуют, будто это льды шевелятся в океане. Только это пустяки. А еще, что океанская вода загорается… Оно будто и так, в темную ночь, как по морю идешь, все сзади светлая дорожка бежит, светится. Может, и загорается, но только где нам знать, что господь открывает.
Хорошо… Морозы стояли трескучие, а льды в нашем море не останавливаются, все мимо идут, в горло да в океан, а уж там, куда приведется: вверх ли, вниз ли.
Тут я опять перебил старика. Меня поразило, что в океане, по словам помора, есть верх и низ, как в речке. Я объяснил это ему.
– В речке есть верх и низ, – ответил он мне, – и в океане тоже. Мы так считаем, что начало ему в горле нашего моря; тут верх его, а к Норвегии – низ. Верх и низ, так мы считаем и так от веков старики считали. Везде есть начало и конец, и ему где-нибудь предел господний назначен. А ты, господин, меня не перебивай, а то недосказать мне всего. Землица-то святая все ближеет, все ближеет. Славно несет. Вот друга бы столько.
Старик спохватился.
– Благодарствуйте, святые угодники, и так хорошо, славно несет!
Морозы стояли лютые, у берегов намерзли льды гладкие, тонкие, ровные. О Крещенье подула морянка и все разломало. У берега мелочь, торос, стоячий лед, ледины да ропаки[26]. А между стоячим льдом и ходучим – водохожъ. Самое время выбирать ледину да спущаться в море.
Под самое Крещенье приходят ко мне Андрей, да Степан, да Гаврила. «Михаиле, – говорят мне, – веди нас в море!» – «Выбирайте, – отвечаю я им, – постарше кого, от себя я еще не хаживал, людей за собой не водил». Слушать ничего не хотят: веди да веди. Поглядел на них: народ крепкий, дородный. Наш двинской народ весь рослый, а тут отобрались молодец к молодцу. Поглядел и, будто я выше стою, по макушкам гляжу через них. Теперь-то сила худа стала, а смолоду я ражий детинушка был.
– Силен был?
– Ничего, была силушка, хвалиться не стану, а в людях свою работу не оставлял. Да и теперь, на старости, день пролежишь, два пролежишь, а, глядишь, и поднялся, и пошел, гребешь да гребешь, как старый тюлень, дальше, дальше… Ну, приходят ребята, просят: веди их да веди в море. Тут и я помекаю, чем я им не юровщик. Принял честь с радостью, согласился. К этим трем ребятам, да еще хороших двух подобрали, да еще парня молодого за повара взяли, да Яшку – в том ошиблись; говорят же: в семье не без урода. Восьмой я шел, вот и вся наша ромша. Собрались, согласились, пошли к батюшке, молебен отслужили. После службы при батюшке обещались мне повиноваться, из-под моей воли не выходить и чтобы друг дружку хранить, как обневолит во льдах порато (сильно), крест поцеловали!
Тут старик на минуту перестал рассказывать, отвернулся к рулю и там долго завязывал какие-то веревочки.
– Так меня господь и благословил, – продолжал он потом, – потому что у нас природно: отцы ходили, и вот и мы ходим. Отец мой сорок зим юровщиком выходил, и вот я. Потому что у нас природно и терпеть не могу. Все знают, какой я был: справедливый, распоряда хорошая, не бранился, табаку не курил. И господь меня возлюбил, счастье давал, девять лет за себя ходил, а на десятом юровщиком выбрали, сам пошел своим передом и крещеных за собой в море повел… Хорошо, страннички. Стали ребята гулять, пить отвальную, потому на море водки – ни-ни. От нее беда промыслу. Ребята гуляют, а жёнки в путь снаряжают: напекли хлеба, да муки наготовили, да масла, да рыбы сушеной; из одежи тоже, что чинят, что шьют. Чулки там, одевальница, буйно (брезент), рукавицы, бахилы. Много всего, всем домом идешь. Ребята гуляют, а я все заботу имею, все на море поглядываю да на лед, лодки смотрю, в порядке ли. Выпили последнюю отвальную, простились с жёнками и поплыли на лодке. Вон туда, вон бугрит.
Юровщик указал рукой на чуть видный вдали Жигжинский маяк.
– Там и спущаемся. Приехали к мысу. На нем избушка махонькая есть. Развели там огонек, греемся, в окошко глядим, когда бог ледину хорошую даст. Суток не прождали – гляжу, идет ледина, верст в пять, белая, что поле. «Садись, ребята, в лодки; пришел, – говорю, – наш час».
Доплыли туда, вытащили лодки, все устроили, как надо быть. По божьему произволению пал ветер с гор и взял нас. Закрыло родимую сторонушку, только мы и знали ее. Кругом море, вверху небо, везде господня воля, везде его святая милость.
Ну, старушки, терпите, это только присказка, а сказка будет впереди.
Ветры задули горние, протяжные, ходко ледина пошла. В три дня все морс от Летнего до Зимнего берега промахнули, показалась Зимняя Золотица. Только глянули, и закрыло: море, да небо, да лед ходучий. Тут вскорости начался у нас и промысел. К трем святителям бельки родятся, детки звериные.
– И деточки есть у них? – спросила старушка, все еще не забывая про зверя, похожего на человека, показавшегося за лодкой.
– У каждого зверя дети есть, – отозвался черный странник.
– От детей-то нам и главная польза, – продолжал рассказчик. – На них не нужно и зарядов тратить, и матерый зверь от детей не уходит, хоть руками бери.
– Куда же от деточек уйти, – пожалела старушка.
– Детей он, бабушка, любит.
– Детей каждый зверь любит, – опять отозвался и черный странник.
– Так-то так, – ответил ему помор, – а только мы помекаем, что нет жалосливей тюленя. Человек и человек. И устройство свое, вроде как бы начальника, юровщика, себе выбирают. Из пятнадцати штук обязательно есть свой начальник… Головой помахивает, слушает, а те лежат, тем что. Промахнешься в начальника, сейчас зашевелится, сейчас с льдины в воду, а те за ним, только бульканья считай. Начальника убьешь пулей, чтобы не копнулся, а тех хоть руками бери.
«Как это странно, – подумал я, – там какая-то организация и тут у людей. Откуда она у них тут на льдине и у зверей тоже… Как жаль, что я не историк, не социолог: я отправился бы на льдине, изучил бы эту самобытную организацию людей и зверей, похожих на человека, узнал бы, отчего это».
– Отчего это? – спросил я юровщика.
Вышел какой-то неловкий, почти кощунственный вопрос.
Старик посмотрел на меня досадливо, будто жалея, что я роняю свое достоинство и, как ребенок, задаю нелепые вопросы: отчего звезды, отчего ветер.
– Это, господин мой, от века так, от бога. Это не нами начато, так век идет. Главное, начальника убить, Он стережет, его забота. А тем что. Лежат на солнышке, ликуются парами, что человек. А как родит, так уж ей бог показал, – в воду, обмоется, выстанет и лежит возле своего рабенка. И уж тут никуда от него не уйдет.
– Куда же от деточек уйти. – скачала старушка, поглощенная рассказом.
– Да… Отползет немного, смотрит на тебя, матка да батька, все тут лежат, так много, что грязь. Верст на сто ложатся, где погуще, где пореже, и все зверь, все зверь. Тут и реву у них немало, потому матка в воду уйдет, а он ревит. Рабенок, рабенок и есть. Матка на бок повернулась, а он сосет.
Много зверя в тот год господь в наше море послал, благословил поначалу промыслом. Днем бьем, пока не смеркнется, а как темно – собираемся на льдину. Карбаса (лодки) вытащим и лещим при огне. Повар мучницу греет. Вызябнешь так, что огонь не берет. Да и какой огонь на льдине. Дров немного, жалеешь больше хлеба. Только и согреешься, как в лодке под буйном уснешь, Благословил бог промыслом, если бы не Яшкино дело, скоро бы запросили морского ветра, чтобы домой попадать. А тут стали замечать: зверь шевелится. Подходим раз – все в воду, и другой раз – тоже, и третий. Ладно, смекаю я, есть грех у нас в ромше. Посчитал провизию: калачей не дохватывает. Вечером съехались на льдину, я товарищам: «Ребята, у нас в ромше не ладно: зверь зашевелился. Есть грех!» А они в один голос: «Есть грех!» Яшка молчит. «Ты, – говорю, – Яков, что же молчишь, ай еще калачей захотел?» Начали мы его жать, дальше – больше, дальше – больше, он и повинился. Взяли мы тут его, разложили на льду и постегали лямками. Так нас отцы и деды учили.
И повалил же промысел, батюшки светы!
Пришли Евдокии. Земля показалась, деревня Кеды.
«Ребята, – говорю я, – бог промыслом нас благословил, давайте тянуться к берегу, потому, хоть время и промысловое, а приведет ли господь в другой раз так ладно к берегу подъехать. Береженого бог бережет».
Смотрю, носы повернули, недовольны. Молодые ребята, задорные. «Хотим, – толкуют, – дальше промышлять». Мы со стариком с Гаврилом свое держим, они – свое. А больше всех Яшка кричит, ругается, ребят сбивает: «Самый промысел, зверь загребный плывет, а ты ведешь нас на берег!»
Я свое держу строго, усовещеваю: «Крест вы мне целовали из-под моей воли не выходить, а как Яшка баламутит, так и еще его постегать можно».
Опять все на меня: «Не затем мы тебя юровщиком выбирали, чтобы ты нас на печку к бабам вел. Коли ты юровщик, так веди в море, а не на печь».
Дальше – больше, дальше – больше, и дошло до худых слов.
«Ну ладно, – я им, – коли вы свое крестное целование нарушаете, так выбирайте себе другого юровщика, выбирайте Яшку, пусть он вас ведет, он богу за вас отвечает».
Ребята маленько поутихли. Мысленное ли дело Яшку юровщиком выбирать! И так у нас дело остановилось: ни то ни се.
– А приказать? – вырвалось у меня.
Старик усмехнулся:
– Приказать! Да приказать-то, милый мой, не у чего: кругом страсть, пропасть. Тут господь управляет, он приказывает
И то знай, мой милый, что на море ходи по ветру, а на людях живи по людям.
Так-то вот! Сидим на льду, спорим. А уж темница заводит. Ребята спать ложатся. Им что, – как за отцом идут, что малые дети. А мне не до сна. Сижу на глинке, где огонь разводим, туда и сюда умом раскидываю, тепло на глинке, угрелся, задремал. Вижу, будто приходит ко мне брат Андрей, покойник, стоит против меня на льду и говорит первый раз: «Брат Михаиле, ты пропал!» И другой раз говорит: «Брат Михайло, ты пропал!» И хочет уж третий раз проговорить, а я проснулся. Тьма-тьмущая, хоть глаз выколи, ветер гудит. Слышу, не тот ветер, не морской, а будто горний. Зажег спичку, глянул на компас и обмер: ветер прямо с гор, прямо в океан несет, на страсть, на пропасть. Сперва поначалу и молишь этого ветра, чтобы взял в море, а уж как к океану подойдешь, молишь морского, этого боишься, да уж тут не наше дело, не мы управляем. Лучше шерстиночки не упромышлять, только остаться бы в своем море.
А у Кедов раздел: одна вода к берегу, другая прочь. Вода тут яро бежит, скорее птицы летучей. Попали мы в яроводье: вода да ветер льдину несут, только шапку на голове держи.
«Вставайте, – кричу, – братья, к северным кошкам (мелям) несет, к Моржовцу, не наткнуться бы на несяки (ледяные горы на мелях)»
Встали ребята, поглядели, а кругом-то страсть, пурга, падара, лед трещит, ветер гудит, только скрипаток стоит, в лицо куски летят, стегает, как кусками сахара. Старик Григорий, как пробудился да поглядел кругом, перекрестился: «Божее непомилование! Прогневали, братья, господа, что юровщика не слушались, из-под его воли вышли, нарушили свое крестное целование».
Молятся, каются. Рады бы теперь по-моему, да уж не наше дело.
«Бог, – говорю им, – не без милости. Тяните лодки к кромке, может, на Моржовец высадимся». Стало светать. Смотрю на небо и на воду, что бог дает: воду или лед. Мы по небу замечаем: над водой темень держит, а над льдом бель. Вижу – белеет, на льды несет. Гуще и гуще лед, теснее, теснее, затерло льдами, что ни входа, ни выхода. И видим землю, а поди, достань! Раз обнесло вокруг острова, раз повенчало, и другой раз повенчало, и заводится в третий раз.
«Нельзя ли, – говорю, – ребята, вырубиться из сморози, как уже плохо наше дело, так уж…»
Только взяли топоры в руки, нас тут и прочь понесло от Моржовца, в поводь попали, опять нас тут захватило, ревим, тужим, печалуемся.
Одну землю закрыло, другую показало. И опять закрыло. Орлов пронесло мимо. Сердечушко туже да туже. Ребята на Яшку: «Ты нас сбивал!» Бранятся, ругаются. Я останавливаю: «Богу надо молиться, братья, а не ругаться!»
Стихли. Молчат, как мертвые звери.
«Ничего, – говорю, – ничего, надейтесь на бога, Кеды не беды, Моржовец не пронос, вот что скажет Канин Нос».
Им-то хорошо, хоть и вовсе ложись, спи под лодкой. А мне нельзя духом опадать. Я опану, а они пуще опанут. Вся печаль моя, они по мне живут.
Глядим тут, льдинку маленькую, ропачек, на нас несет и будто звери на ней шевелятся. Нам тут не до промысла, а только дивуемся, что зверь на такой ропачек вылез. Ближе, ближе, а ин не зверь, а люди. Трое. Без лодок, без всего плывут. Видим, лопаришки, бедные, сидят на льду, кричат нам что есть мочи. Понимаем, что оторвало от берега людей, унесло. Лодку им спустили. А они уж без ума кричат: «Уплавь нас за кормой, как лысунов (тюленей)». Перевезли, приняли к себе. Кто бы ни был из крещеных, всем одинаково, все богоданные товарищи. Обогрели, напоили, накормили, они и повеселели тут и закурукали по-своему: куру, куру. Только с лопарями разделились, показался Канин Нос: последняя наша надежда.
Поднесло версты на три и опять в океан ладится двести. Мы тут было к лодкам, а вокруг Носа лед, что каша, не пробиться. Скорей назад. А льдину все дальше и дальше в океан. И пропал Канин Нос, только мы его и видели: улетел, как светлый сон.
«Теперь, ребята. – говорю я, – молитесь богу, надейтесь на него. Нужны мы ему на земле – найдет нам и в океане землю. Есть Новая Земля, есть Самоедская земля, мало ли земель есть А ежели желает к себе принять, его воля..»
Сам взял щепочку махонькую, две ниточки прицепил, вроде как бы вески, и стал пищу отвешивать, уравнивать, чтобы одному – как другому. Дрова тоже, пересчитал все поленья. Потому хоть и видимый конец нам, а духом опадать нельзя.
Старый юровщик помолчал немного, повернул лодку носом прямо к голому мысу Анзерского острова, ближайшего к нам из группы Соловецких островов. От поворота парус заполоскался и затем с шумом перекинулся на нашу сторону и закрыл от нас солнце. Легла холодная тень.
– Видишь, – сказал юровщик, – какое у нас море. Сейчас было жарко; солнце парусом закрыло, стало холодно. А в океане, зимой-то как? Все дрожишь, весь день. Дрова, какие были, сожгли, стали лодки жечь. К Благовещенью потеплело, стала вода на льдинах отстаиваться. Тут опять горе: пока снег таял, вода была хорошая, а как со льда, так и впросолонь. Пищу всю поели, стали зверину есть. Душная порато, другой не может есть, попробует, отвернется и опять в лодку ляжет, а другой так и бойко ест, ничего.
Но только и зверины больше не стало, порох весь расстреляли, стали рукавицы есть, ремни от ружей, кожу, какая была.
Голод сыздолил. Приходит светлое Христово воскресенье, а у нас одно горе.
Но только бог не без милости. С Великого четверга полетели через океан птицы, видимо-невидимо. И к нам на льдину стали чайки садиться. Мы их петлями ловить, всякого бог исхитряет. Наловили птицы и встретили светлый праздник хорошо, вроде как бы и разговелись. Льды тают и тают, вот-вот очистится океан – и нам конец: разломает льдину взводнем. Так что под Егорьев день я раздумался и говорю: «Готовьте, ребятушки, лодки, тянитесь к самой кромке!»
Так и сделали. Ночью поднялась погодушка. Ангелы-хранители! Погодушка, страннички, пала – божий гнев! Свистит, гудит, воет! Сидим у кромки, ждем пропасти…
Вдруг треснуло, как из пушки ударило.
«В лодки, ребята!»
Пали мы в лодки, и все смёрлось…
Старик опять помолчал; кто-то всхлипнул в лодке, и он, будто вернувшись откуда-то к нам, сказал едва слышно:
– Да, дитя, вот какая погодушка пала.
И продолжал:
– Только мы льдину и видели: на мелкие кусочки разбило Тьма, пурга. Взводень выше леса, а мы в лодках.
Бились ребята, бились, обмерли, весла побросали: сила худа стала, лежат в лодке, что мертвые.
Раскинулось море морями!
Сижу правлю, парус изладил, несет по взводням, как по горам. Смотрю на ребят, говорю строго: «Нехорошо, братья, так помирать. Бога обижаете. Наденьте чистые рубашки, помолитесь, проститесь. Так нельзя, братья».
А они, что малые ребята, сейчас оделись, помолились и простились, все как надо быть.
– Не чаял, что вынесет? – перебил рассказчика пахарь.
– Не надеялся? – вырвалось и у меня.
– Нет, как не надеялся, все маленько подумывал, в каком ветре земля, как и что. Мне же и нельзя: я юровщик, я брошу, что будет, все юро рассыплется. Они, может, и про бога забыли, им что; за мной, как за отцом, идут, что малые дети. А мне нельзя. И рад бы, да нельзя: людей веду, вся печаль моя. Нет, господин, я все на бога надеялся.
Сижу на корме, правлю и парус держу. Не знаю, в каком ветре земля: в лето или в полуночник. Страх долит. Стонет мачта, плачет, бедная. Птичку махонькую, зибелюшку, откуда-то бог послал. Села на мачту и все: «зиби-зиби».
– В ненастье птица всегда ближе к человеку, – заметил пахарь.
– В погоду, – подхватил моряк, – и опять на море. Никто ее там не обижает, она и не лукавится. Не у чего ей лукавиться-то. Села на мачту и вот горюет, вот убивается: «зиби-зиби». Вздремнул маленько, руль не выпускаю, а так будто померк.
Вижу, стоит передо мной вроде как бы преподобный Зосима. Говорит мне: «Михайло, ты меня забыл!»
Опамятовался. Ничего нету. Мачта передо мной стонет, да птичка: «зиби-зиби».
Думаю: какой мне-ко разум пришел. Явственно так слышал: «Забыл». Что забыл? А вскорости и спохватился. Помолился я тут и дал обещание навеки нерушимое, чтобы возить странников всю жизнь на Святые острова.
В этом месте рассказа от долгой качки со мной сделалось легкое головокружение. Сначала длинный голый мыс Анзерского острова мне представился Каниным Носом, а кучка богомольцев со стариком – теми пятнадцатью зверьми, у которых тоже есть свой начальник. Потом я слышал, как странники все подхватили: «Обещание. обещание, обещание». Головокружение продолжалось, вероятно, не больше минуты. Я услыхал обрывок речи:
– … а то в одной рубашке пустит…
– Кто? – спрашиваю я, совсем очнувшись.
– Бог! – отвечает мне черный странник. Все смотрят на меня почему-то удивленно, а юровщик особенно внимательно и говорит:
– Тебя море бьет Укачало, садись сюда на соломку, тут лучше… ничего… сейчас на землю выйдешь, все пройдет.
Старый юровщик продолжал свой рассказ, но я уже не мог его слушать так внимательно, как раньше.
Он рассказывал о том, как он еще потом обещал лучшую зверину Николе Угоднику, как потом, после обещания, стали понемногу опадать волны, рассеялся туман и показался Канин Нос. Высадились в Тиманской тундре едва живые, но тут на берегу нашли мертвого тюленя, съели и пошли по тундре искать самоедов. Бродили что-то очень долго, питались мохом и костьми, какие попадались по дороге. Недели через две нашли самоедский чум. Тут их приняли с большою радостью, накормили олениной, попоили даже чаем.
«Ну и житье же ваше!» – сказали самоеды морякам. «Ну и ваше житье тоже!» – ответили они этим кочующим в тундре полудикарям. «Мы тома», – обиделись самоеды.
Юровщик долго и с удивительной теплотой рассказывал странникам про самоедов, называл их благодетелями, первыми в свете доброжелателями.
Отдохнувши у самоедов, моряки добыли себе лодку и по реке Чеше пустились домой.
Жёнки их встретили, как воскресших.
И ели же дома!
После этого случая юровщик две зимы не водил в море людей, но потом опять взялся за свой рискованный промысел.
– Да как же так, неужели же жизнь не дорога, чтобы после такого случая опять плавать на льдине? – спросил я.
– Жизнь дорога… – смутился старик. – Жизнь от бога.
Потом что-то долго думал, будто искал объяснения, и наконец сказал:
– Да поприменись ты на птиц!
И рассказал о перелете гусей на Колгуев и на Новую Землю и о том, что один гусак летит всегда впереди.
Он начал было рассказывать и второй страшный случай на море, но тут мы подъехали к Покровской часовне на Анзерском острове. Все стали молиться и радоваться тому, как хорошо пахнет земля после моря и как на Святых островах разными голосами поют птицы.
Соловецкий монастырь
(Письма к другу)
11 июня
Дорогой А… М…!
Вы просили меня написать Вам из Соловецкого монастыря хорошее письмо. Я знаю, что Вы вышли из школы славянофилов, что Вы ждете от меня каких-нибудь интимных переживаний в стенах этой знаменитой обители. Ничего подобного нет, я чувствую голод, чувствую себя стесненным во всех отношениях, и мои переживания грубейшие. Но мне хочется скоротать время до всенощной, и я расскажу Вам по порядку все, что со мной здесь случилось.
Перед моим окном море, дымится пароход, раскачиваются несколько превосходных шкун. Налево я вижу старинные стены крепости, внизу снуют богомольцы, будто толпа людей на большой улице. Сейчас большая монастырская чайка села на подоконник, поглядела на меня и задумалась над всею этой жизнью внизу.
Это маленький оживленный городок, и отсюда монастырь должен поразить всякого своим устройством, здесь, почти у Полярного круга. Но я приехал сюда не с парадного крыльца, а пришел с черного хода: из отдаленного Голгофского скита. Напомню Вам архипелаг Соловецких островов. Самый большой остров из группы – Соловецкий (окружность более ста верст), на этом острове и расположен самый монастырь; к юго-востоку два острова Муксалмы, где помещается монастырский скот; на юго-запад два небольшие острова Заяцкие и, наконец, к северо-востоку большой остров Анзерский.
Вот на этот-то последний, отдаленный от монастыря (пятнадцать верст) остров я и прибыл с богомольцами. Странники помолились немного на берегу в Покровской часовне и поехали дальше к Соловецкому острову, а я остался один, предпочитая переночевать тут, в Голгофском скиту, и попросить монахов доставить меня в Соловецкий монастырь.
Странники уехали, а я один стал подниматься на Голгофу, довольно высокую гору, на вершине которой и находится скит.
Скажу Вам: мне было как-то не по себе. Эти странные белые ночи на Белом море, общение с богомольцами, рассказы моряков о их жизни в льдах, где единственной поддержкой им служит бог, настроили меня против желания серьезно.
Я размышлял о примитивной, стихийной душе, какою она выходит из рук бога…
Когда мы ехали по морю, старый кормчий рассказывал о промысле на тюленей на льдинах. Он повествовал мне всю дорогу, как их промысловые артели уносит в океан на льдине и как они прощаются там со всем земным и живут одной только верой в бога… Одним словом, я настроен был серьезно, и меня очень смущала встреча с реальным выражением этой веры. Как Вам это выразить? Ну, вот я никогда не говорил с монахами, я знаю, у них какие-то свои обычаи, устав, хитрость…
Помните, мы с вами ездили в Черененецкий монастырь? Мы походили в саду по дорожкам, побывали в церкви, что-то разговаривали с монахом. И все. Мы удовлетворили свое любопытство, и монахам не было до нас никакого дела, будь хоть мы с Вами их злейшие враги. Но тут совсем другое дело. Никто не ходит в монастырь от заднего крыльца. Зачем я пришел к ним, кто я такой? Я не богомолец, туристы сюда не ездят, ученые тоже. Кто я такой? Зачем я сюда забрался? Мне кажется, я кого-то обманываю, хочу отвечать неприготовленный урок.
И вот так я вступаю в длинный, довольно темный коридор, соединяющий кельи Голгофского скита.
Я буду писать Вам подробно, фотографически верно.
Меня окружают люди в черной одежде, в клобуках, оглядывают меня подозрительно с головы до ног. Я тоже оглядываю себя и ужасаюсь. Несколько недель, проведенных в глухих местах, сказались на одежде: высокие сапоги совершенно грязные, куртка в смоле от лодки, изорвана, котомка (вещи свои я отправил на Соловецкий остров), в которой гремят пустые патроны. Но вместе с тем покрой одежды, мои приемы культурные. Я не богомолец, не помор… Кто же я? Меня спрашивают об этом… Какой стыд! Я говорю: по усердию… богу помолиться. Конечно, никто не верит. Тогда я отыскиваю глазами настоятеля и, предполагая его в седом старике, одетом в красивую складчатую мантию, подхожу к нему и в ужасе вспоминаю, что нужно как-то особенно просить благословения, но как, я совершенно забыл.
– Вы отец настоятель? – спрашиваю я, очень смущенный.
– У нас нет настоятеля, есть строитель, здесь скит, – отвечают мне.
Между тем монахов прибывает все более и более, каждый новый оглядывает меня с ног до головы, каждый спрашивает: откуда, как? Всем я отвечаю: с Летнего берега, по усердию, богу помолиться – и все изумляются и не верят, потому что только самые бедные, самые несчастные богомольцы решаются переплыть на лодке восемьдесят верст открытым морем. Наконец один из монахов, без бороды и усов, с какой-то особой монастырской улыбочкой приглашает меня идти за ним. Мы поднимаемся во второй этаж и входим в просторную келью, разделенную надвое перегородкой: очевидно, спальня и приемная. В спальне я вижу образа, перед ними развернутую священную книгу, у другой стены – совсем узенькую кровать. В приемной несколько стульев, широкая софа с прекрасными шелковыми подушками. Догадываюсь, что я у строителя. Монах усаживает меня на софу, улыбается и говорит ласково:
– Моя келья прохладная, не так, чтобы как-нибудь.
Я отвечаю строителю такой же улыбкой.
– Как ваше имечко-то святое? – спрашивает он меня. Я называю. Он улыбается, я тоже улыбаюсь, рассматриваю его и замечаю, что он через свою улыбочку наблюдает меня хитрым и дельным глазком. Как бы избавиться от этой недостойной святого места перестрелки? Мне приходит в голову объяснить ему просто, что я от Географического общества, забрел сюда случайно, по дороге в Лаплапдию. Тогда, думаю я, мне можно не притворяться и не очень усердно посещать службу.
– Вы как же сюда пожаловали, по усердию ли… или?.
– Я, батюшка, от Географического общества, занимаюсь изучением жизни поморов и вот заехал сюда… и по усердию… конечно, конечно… по усердию…
– От Географи-и-ческого? – улыбается он, – Но ведь у нас, на Соловецких островах, никакой же географии нету.
Этого ответа я никак не ожидал. Я принимал строителя скита за образованного человека, но вот после отрицания им географии… что же мне делать? Я вдруг принялся объяснять монаху, что у них удивительная география, что нигде в мире нет такой географии; я называю географией и попавшуюся мне на пути осушительную канаву, и хорошее обращение монахов с животными, и мужество монахов при бомбардировке монастыря англичанами в 1854 году, и признанную всеми святость жизни преподобных основателей. Я увлекаюсь, говорю восторженно и под конец речи хочу учесть эффект.
Та же улыбочка, тот же недоверчивый дельный глаз изучает меня.
Чтобы окончательно его убедить, я вынимаю из кармана бумагу с печатью Географического общества и передаю ему.
Улыбочка сходит с лица, он читает и говорит с уважением:
– А все-таки от ам… ам… амператорского общества. Хоро-о-шее дело, хоро-о-шее. У нас бывают гостеньки хорошие, сла-а-вные. Вот было раз, я тогда в просвирне служил. Вышел прогуляться на кладбище, погодку бог дал хорошую, хожу себе между могилками. Вижу, господин; стоит у плиты в эполетах, смотрит на нее, а она бе-е-лая: чайки задрызгали. Я побежал, принес метлу, воду, обмыл, метлой стер, подрясником протер. Он и читает. А я подхожу к нему: «Как, – говорю, – ваше имечко-то святое?» – «Алексеем, – говорит, – меня зовут, управляющий дворцом государыни Марии Феодоровны». Так вот! Вот какие; гостеньки хорошие бывают.
Я вижу, что теперь уже мое положение меняется чересчур в другую сторону, хочу как-нибудь поправиться, но монах слышать ничего не хочет, угощает меня чаем, сухарями. Он выспрашивает меня подробно: есть ли у меня жена, дети, часто ли я хожу в церковь, все мелочи, все подробности домашней жизни. Зачем это?
– А вот мы с тобой завтра молебен отслужим, – отвечает он, переходя на «ты». – На записочке напишешь: кого о здравии, кого за упокой. Всех помянем. Да ты не стесняйся, клади сахар, сахар у нас есть.
И положил мне сам кусочек сахару.
Разговор наш становился слаще и слаще и вместе с тем, странное дело, неискреннее, – почему, не знаю.
Я чувствую его выхитривающую улыбочку и, что самое отвратительное, совершенно такую же и у себя на лице. Я возмущаюсь, сержусь на себя, но улыбаюсь.
– Место наше святое, – занимает меня монах, – чудеса бывают постоянно…
– Чудеса! – притворно изумляюсь я.
– Место прославленное, как не бывать чудесам! Вот, как англичане-то напали на монастырь, – один старичок свидетель еще жив, расскажет, – вот-то были чудеса! Стреляют иноземцы, весь монастырь ядрами завален, а не горит. Дивуются англичане: дым валит, а огня нет. Глянули наверх, а там-то чайки, как туча: и поливают сверху, и поливают. Ну, конечно, сырость, шипит, дым валит, а не загорается. Да что это, вот и у меня на глазах были чудеса…
– Что вы? – изумляюсь я, опять очень неискренно, потому что едва собрал силы преодолеть улыбку от наивного рассказа о чайках.
– Пришел ко мне Федор, мужичок, жалуется, что у него на боку дырка и из дырки дурь бежит. Поглядел я: дырка в медный пятак, дурь бежит, и он щепалочкой ее выковыривает, «Федор, – говорю я, – оставайся преподобным отработать на два месяца» – «Хорошо», – говорит, и остался. Через неделю спрашиваю: «Федор, бежит дурь?» – «Нет, – отвечает, – остановилась». Еще через неделю поднял я рубашку: и не то что дурь, а и дырки не видно, затянулась.
Так за чайком строитель поведал мне множество чудес в этом роде и, наконец, спросил меня:
– А как в городах?
– Да ничего, – отвечаю я, – живут себе и живут.
– А слышно, будто проваливаться начинают…
– Что-о?
– Да города проваливаются. Вот на Кавказе один провалился.
Я возмущаюсь, я защищаю города искренно, честно, рассказываю о землетрясениях, о вулканах. Нет, говорю я, нет, города не проваливаются, а это так.
И вот, я замечаю, строитель смотрит на меня просто, без улыбки, серьезными, умными глазами. На месте улыбки остались только какие-то кривые извилистые линии. Он смотрит на меня пристально и спрашивает: знаю ли я Охту, знаю ли я Марнинскую улицу в Петербурге, бываю ли я там? Я говорю, что знаю, подробно рассказываю об Охте. Он изумляется: так все застроилось.
– А вы разве там бывали? – интересуюсь я.
– Бывал, бывал, – просто и грустно отвечает он, – давно, лет двадцать прошло, был там ломовым извозчиком.
Стена фальши, искусственности рушится между нами, на минуту становится так хорошо с этим бывшим извозчиком, и мне кажется, что потому это так, что мир тот за стенами монастыря прекрасен, что этим любимым миром пахнуло на нас, как на северном море ароматом земли.
– Ну, как же живут в Петербурге? – спрашивает он меня просто.
Я ему горячо говорю о политических переменах за это время, о том, как живут теперь на Охте. Я увлекаюсь тем миром, который вдруг мне становится таким дорогим. Я увлекаюсь, не замечаю, как извилистые линии на щеках монаха снова складываются в улыбку.
– А уж половина восьмого, – говорит он, – сейчас будет трапеза.
– Как половина восьмого, солнце садится, одиннадцать!
– У вас, – говорит он, – а у нас половина восьмого, а вот в Анзерском скиту восемь, в Соловецком – девять.
– Как это так?
Он объясняет мне, что время изменяется потому, что служба должна быть в определенное время, а монастырские работы так складываются, что служить нельзя, когда требуется. А потому и переводят часы.
– Это ничего, – сказал монах, – в сутках остаются те же двадцать четыре часа.
«Но математика, но астрономия!» – думаю я про себя и подхожу к окну.
Что за картина!
– У нас солнышко, – говорит монах, – почти что и не садится, вес вот там огонек виднеется. И книгу можно всю ночь читать. Все солнышко в этот косячок печет, все печет.
Полуночный огонек глядит на нас с монахом, а мы стоим наверху высокой горы, и от нас вниз сбегают ели. сверкают озера и море… море… Самим богом предназначено это место для спасения души, потому что в этой природе, в этой светлости нет греха. Эта природа будто еще не доразвилась до греха.
Да, но как же это… Города проваливаются… Не признают времени… Быть может, это очень высоко… или низко… Свет это или тьма… Не свет это и не тьма, – вспоминаются мне слова одного религиозного мыслителя, случайно проснувшиеся во мне, – это гроб, и все эти озера, зеленые ели, весь этот дивный пейзаж – не что иное, как серебряные ручки к черной, мрачной гробнице.
Вдруг в тишине раздается удар колокола.
Это нас зовут на трапезу. Мы спускаемся, идем по темному коридору с каким-то особенным монастырским запахом…
До свиданья, мой друг, колокола зовут ко всенощной, неловко не идти, пошлю это письмо, постою немного в церкви и сейчас же примусь за продолжение.
* * *
В номере много чаек, столько же голубей и воробьев. Все они расклевывают мой пирог, сделанный из хвоста той семги, которую мне поднесли поморы, как члену Государственной думы по фотографическому отделению. Выгнал, вычистил стол, съел остатки пирога и приступаю писать о трапезе в Голгофском скиту.
Вы знаете мой аппетит… Но если бы Вы знали, как хочет есть человек, проехавший день по морю в лодке. Я готов есть сырое мясо. И это в монастыре, на Голгофе! Можно ли после этого искренно молиться, думать о серьезном?
Первое, что я заметил в трапезной: жара. После я узнал, что монахи любят жару и нагревают свои кельи точно так же. Рой монахов дожидался нас у длинного стола, уставленного двумя рядами металлических тарелок. Строитель прочел молитву, и все мы уселись друг против друга. Я сидел по левую сторону строителя, у края стола, а по правую, против меня, сидел инок с красным носом с синими прожилками. Помните, в нашей церкви был пьяница-диакон, и вот как раз такой, лицо в лицо. Других монахов я как-то стеснялся разглядывать, а сидел смирно, созерцая кусочек селедки на моей тарелке. Диакон тоже созерцал свою селедку. Я взглянул на него, он на меня: «Выпить!» – прочли мы в глазах друг друга. Но тут раздался звонок, «динь», послушник в сером стал читать что-то священное из книги, строитель благословил сельдь, и мы принялись есть. Это, конечно, продолжалось одно мгновение, чтец, кажется, успел произнести одно слово: «седохом». Потом опять: «динь»… чтение… какая-то жидкая пища.
– Как называется? – тихонько спросил я диакона.
– Шти-рыба, – шепнул он мне.
Не могло быть и речи о том, чтобы наливать суп в тарелочку, – она и мала, и там остатки селедки. Строитель благословил суп, мы опустили ложки, и я увидел, как шти-рыба стекает с усов диакона на тарелочку.
После щей с окуневыми головками строитель положил ложку и громко дохнул из себя, за ним дохнул диакон и все монахи.
«Как это неприлично!» – подумал я, но тут же и сам дохнул и понял что это свойство шти-рыбы.
«Динь», – звякнуло опять, и на столе появилась совершенно такая же пища. Я вопросительно взглянул на диакона.
– Шти-лапша. – шепнул он мне.
Я попробовал: совсем такая, как и шти-рыба, но только без окуневых головок.
Монотонное чтение в тишине, полнейшая невозможность поговорить и насытиться постной пищей сильно угнетали меня. Как вдруг маленький инцидент доставил мне развлечение. Возле строителя откуда-то появилось небольшое черное быстро бегущее насекомое. Монах протянул палец, чтобы придавить его, но зацепил широким рукавом шти-лапшу и опрокинул ее на колени диакону. Рассерженный диакон быстро ткнул пальцем насекомое, но промахнулся, и оно помчалось дальше между двумя рядами монахов. Оно неслось, как заяц между двумя рядами стрелков, и погибло только на самом конце стола. Это маленькое насекомое нас взволновало и так оживило, что и послушник стал не так монотонно читать свое «седохом».
Я описал Вам этот маленький эпизод, мой друг, вовсе не для того, чтобы указать на падение нравов в монастырях сравнительно со временами святого Корнилия, который подставлял свою обнаженную спину комарам. Нет, это насекомое просто дало мне лишь возможность оглядеться.
Прежде всего я заметил, что по братии разлита улыбочка строителя: у послушника в сером ее еще нет, у послушника в черном есть немного, у одного больше, у другого меньше, но почти у всех. Ах да, у диакона ее нет совершенно, нет у одного монашка с рыженькими усами, беззубый рот которого мне показался полной коллекцией маленьких и необходимейших человеческих пороков. Такую же улыбочку я заметил и на иконах святых. Вероятно, живописцы так изображают лучистость внутреннего я святого, а монахи подражают иконам. И чем богообразнее монах, тем и улыбочка больше, чем грешнее, тем меньше. Такова моя теория, не знаю, верна ли?
После каши мы долго молились, и строитель указал мне келью с двумя койками, натопленную до 40 °. Я поблагодарил и уже хотел ложиться, как вдруг вошел диакон. Он оказался хозяином кельи. Я попросил у него позволения отворить окно, он с удовольствием разрешил и сам снял с себя подрясник, остался в рубашке, как всякий смертный.
– Нет ли у тебя покурить? – просит он.
– А разве можно?
– Отчего же нельзя… Может, и выпить есть?
В моей котомке есть все. Мы усаживаемся к окну и курим. Диакон рассказывает свою биографию: был буфетчиком на Охте.
– Тоже, как и строитель? – удивляюсь я.
– Нет, тот был извозчиком, а я буфетчиком.
– А вот этот, с рыженькими усиками, с таким ртом?
– Тот из Киева, у того была своя лавка. А вот настоятель монастыря был рыбаком в Поморье.
Потом диакон рассказывает мне одну биографию за другой, рассказывает, к моему удивлению, что монахи здесь получают довольно большое жалованье, а настоятель, кроме квартиры и стола, пять тысяч рублей в год. Диакон посвящает меня во все интриги, во все мелочи… И вдруг мне становится ясно, где я… Я в маленьком глухом русском городе, населенном богатыми и бедными мужичками. И монахи – это те же крестьяне. Это своеобразно устроившиеся русские мужики. Теперь меня больше ничто не смутит; я знаю, как вести себя. Я делюсь своими мыслями с диаконом.
– У вас, – говорю я, – как у нас в маленьком городишке…
– В миру, – отвечает он мне, – куда лучше. Люди там проще, лучше. В миру, что случится, горе там, или что, выпил, заснул, и кончено. А тут, в монастыре, искорка, а как разгорится, чуть что, все известно. Он на тебя… хоть бы этот рыжий-то, беззубый, смотрит-смотрит, копит-копит и донесет – и попал, и некуда деться. Вот ватничек, грош цена. А семь лет просил, не дают. Сам сделал, плюнул на всех.
Так мы долго болтали с диаконом, и я утром пришел к концу службы. После обедни служили молебен для меня, и строитель предложил вечное поминовение моих родственников в скиту.
Я смутился.
– Можно и на пять лет, – быстро понял он меня.
– М-м.
– На три… На два… На год.
– И на год можно?
– Можно.
* * *
Чувствую, дорогой друг, что я болтаю, но я не вижу для себя другого пути. Можно бы проникнуться вечностью святых безгрешных ночей и излагать Вам на их фоне премудрость моего карманного путеводителя. Но для чего это? Нет, я знаю, Вы искренний, живой человек, и горсточка ладана, ложечка постного масла, кусочек сухой трески Вам иногда могут больше сказать, чем разные такие истории…
После обедни строитель и диакон сказали мне, что и они идут на Соловецкий остров. Мы отправились вместе. Дорога возле озера превосходная, яркие северные листья деревьев сгорают на солнце изумрудным пламенем…
Я иду рядом с диаконом, строитель немного впереди, оба говорят мне «ты» не с высоты сана, а просто так; я отвечаю тем же и вообще сегодня совсем иначе истолковываю улыбочку одного и красный нос другого.
– Вон Ольгоф, все еще видно, далеко видно, – обертывается к нам строитель и указывает рукой на высокую Голгофу.
– Хорошо! Ой, ой, ой… Хорошо! Елочки, березочки, озерки… Откуда все это? Хорошо!
Несколько странников и странниц попадаются нам навстречу: старичок, девушка в черном платке и с красными глазами, полная распаренная женщина, группа серых костромских или вятских мужиков в лаптях.
– Вы к нам? – останавливает их строитель. – Идите, идите с господом… Вон Ольгоф… видно…
Они проходят, но диакон еще долго смотрит на распаренную женщину.
– Что, диакон… как?.. – улыбнулся я красному носу.
– Да вот смотрю: кто жирный, так тяжело.
– Ах, диакон, диакон, вот что заметил, а серых мужичков и не видел!
Нет, он и их видел и отвечает:
– Ты не смотри, что они серы и в лаптях, – у них карманы полны, с пустыми карманами не приходят…
Замечание диакона на минуту собирает мое рассеянное по этим озерам и лесам существо в мысль. Я думаю о том, как, в сущности, не способно наше духовенство к фантазии и увлечению живой мечтой, как оно низменно, практично, расчетливо… Но вдруг из леса выбежала лисица, села на опушке, проводила нас глазами и не убежала… Меня, как охотника, это поразило необычайно. А диакон стал мне рассказывать, что птица и зверь у них вовсе нетращены, лисица даже к нему в келью повадилась. Через окно лазит и сахар ворует.
– А куропатки, те вовсе как куры: вчера иду по тропинке, вижу, возле березки куропать сидит. Я за ней, она от меня. Бегаем, бегаем вокруг березки. Уморился. Взял камешек, прогнал ее, надоело.
Меня приводит в восторг рассказ диакона. Славный он человек, думаю я, вот жаль только спился.
По пути до Анзерского скита раз перебежал нам дорогу олень, раз мы видели совсем близко глухаря. Возле Анзерского скита, второго скита на Анзерском острове, ограда с изображением чайки на воротах. Благодаря этой ограде лисицы не могут проникать внутрь и губить гнезда чаек. Я вошел в эту ограду с большим любопытством. Я много слышал об этих исторических чайках, всегда любовался на море этими изящными аристократками. Какие они здесь?
Я увидел просторный двор, буквально наполненный большими, почти с гуся величиной, белыми птицами. Все они сидят возле еще темных птенцов на своем маленьком квадратике земли. Малейшая попытка соседней птицы переступить за пределы своей маленькой территории вызывает в соседней державе отчаянный крик и очень часто продолжительную и упорную борьбу. В общем, забавно, но и немного грустно. Точь-в-точь такая же жизнь, о которой ночью рассказывал диакон. А как же красивы они там, на море!
Я направляю свой фотографический аппарат на чаек и хочу снять их. Но меня останавливает строитель:
– Нельзя, неловко, надо попросить благословения у строителя Анзерского скита. Да вот он и сам. Вон идет. Ступай, благословись и снимай.
Я иду навстречу строителю по узкой дорожке между двумя рядами чаек, готовых при малейшей моей неосторожности выклевать мои глаза, и припоминаю, как учил меня диакон просить благословения: нужно сложить ладони лодочкой на груди и потом, смиренно склонив голову, сказать: «Ваше высокопреподобие, благословите», – и поцеловать руку. Пока я так репетирую ночные уроки диакона, монах приближается.
Снимаю шляпу и вдруг вижу, что обе мои руки заняты: в одной – фотографический аппарат, в другой – шляпа. Как же быть? Забыв про чаек, я ставлю аппарат со шляпой где-то возле себя на траву, складываю руки, как учили, шепчу: «Ваше высокопреподобие, благословите чаек снять», – и протягиваю губы к волосатой и довольно грязной руке. Но в этот самый момент чайки бросаются на мой аппарат, готовые пронзить острыми клювами его мехи. Я отнимаю аппарат, но злые птицы бросаются на меня, клюют мне руки, щиплют ноги. И вот что значит маловерие: я, не испросив благословения, пускаюсь во весь дух назад, за решетку. Там диакон умирает от смеху.
– Я учил, – говорит он мне, – просить благословения у настоятеля, а не у каждого иеромонаха. Нужно было просто сказать: благословите, ваше преподобие.
И как же это больно: мне и до сих пор трудно писать…
После этого инцидента мы идем дальше к проливу и переезжаем на лодке благополучно к Соловецкому острову. Здесь меня ожидали два маленькие разочарования. На берегу мы увидели несколько убитых тюленей. Сейчас только говорили о том, что в Соловецком монастыре не убивают животных, а вот здесь, оказывается, настоящая звероловля. Как же так?
Мне объясняют, что их убивают не здесь, а подальше, на взморье. Там ставят сети на отливе, а когда вода прилива закроет сети и звери выйдут на берег, то их пугают и гонят к сетям. Там, на взморье, и убивают, а здесь, говорят мне, нельзя. Потом рассказывают, что и оленей ловят тоже сетями.
Это первое маленькое разочарование. Второе состояло вот в чем. Когда мы пошли дальше по превосходной дороге лесом со множеством озер, мне пришло в голову зайти к какому-нибудь старцу-подвижнику, побеседовать с ним. Я сказал об этом строителю. Тот улыбнулся моей наивности. Так жили раньше первые подвижники, но теперь даже схимники, слава богу, могут жить в каменных домах, совершенно так же, как и другие монахи. Это было второе маленькое разочарование, потому что подвижники в каменных домах для меня неинтересны. Ведь таких подвижников можно видеть везде, например, в нашей Александро-Невской лавре, и незачем ездить на Соловецкие острова. Я пробовал сделать себя понятным моим спутникам, но они меня не понимали. Они чтут память прежних подвижников, но сами живут иначе и благодарят за это бога. После этого я не особенно как-то волнуюсь, когда вижу перебежавшую дорогу лисицу, тетерку на березе или дикую утку на озере. Мне почему-то кажется, что и тут что-то неладно. Хорошо-то хорошо… конечно, это птицы… но все-таки это не настоящие же птицы… нет, настоящие… но… Вы понимаете… как бы Вам это сказать… Вы знаете, я охотник… и вот мне, охотнику, кажется, что у каждой этой птицы есть где-нибудь в лесу каменный домик или дачка и что они имеют какую-то обязанность показываться странникам по дороге и даже, может быть, получают небольшое жалованье за это. Но Вы не охотник, Вы не поймете этого чувства, когда ищешь птицу, чтобы убить ее, а мечтаешь о такой стране, где их не убивают, но и не кормят и не охраняют, а живут с ними попросту, вот как этот диакон, который, как я Вам писал, бегал вокруг березки за куропаткой и, наконец, прогнал ее камнем. За этими двумя разочарованиями последовал целый ряд других, после того как мы достигли наконец Соловецкого монастыря. Теперь я Вам буду писать о том, что окружает меня в настоящую минуту, и это гораздо труднее. Буду писать урывками, на клочках.
* * *
Если Вы когда-нибудь поедете в Соловецкий монастырь, то усвойте раз навсегда правило: есть и жить, одеваться здесь так же, как и простые серые странники. При малейшем отступлении от этого правила Вы такой же погибший человек, как и я. Вам это сделать легче, чем мне, потому что Вы привезете запас неизрасходованных сил, не так, как я, изморившийся скитаниями в лесах и на море.
Подходя к монастырю, строитель простился со мной и сказал, что лучшая гостиница здесь Преображенская, но в ней живут богомольцы различных классов: внизу простые, наверху почище, а в среднем этаже есть отдельные нумерки с диванчиками и зеркалами. Если бы я был одет почище, то мог бы получить отдельный нумерок, но… Строитель оглядел меня с ног до головы. Я поспешил ему сказать, что в моем чемодане, который, без сомнения, теперь уже доставлен, есть сюртучная пара.
– Тогда с богом, – сказал строитель, – есть нумерки сла-ав-ные…
Он благословил меня, я поцеловал его руку, и мы расстались. Я направился к большому белому зданию у моря, к Преображенской гостинице. Измученный дорогой, бессонной ночью, я представлял себе помещение с грязными богомольцами адом, а отдельный нумерок величайшим счастьем: там можно отдохнуть, пописать, обдумать пережитое в дороге. Нет, во что бы то ни стало я добьюсь нумерок…
Я иду прямо во второй этаж и там сажусь на какой-то диван в ожидании монаха, распределяющего богомольцев. Жду долго, внимание мое возрастает, совсем так, как на экзамене – в ожидании очереди. И, как назло, дверь одной комнатки приотворяется, виден край бархатного дивана, и на нем лежит чудесная дамская шляпа с перьями. Налево от меня балкон с видом на старинные стены монастыря и море. День солнечный, прекрасный, море синее. Можно подумать, что я не у Полярного круга, а где-нибудь в Италии. Если я хорошенько приоденусь, то мое положение будет почти как на южном курорте. И вот эта шляпа с перьями… Мало ли что может случиться! И не в лесах только есть прекрасная страна. Что, если волшебный колобок повернет в другую, противоположную сторону?
После я узнал, что шляпа принадлежала губернаторше, что тут же был и губернатор. Но я этого не знал, я видел отдельный нумерок, край бархатного дивана и дамскую шляпу с перьями, я видел себя в черном сюртуке.
– Тебе что тут надо? – услыхал я строгий голос.
Передо мной стоял монах-гостинщик и смотрел на меня такими недружелюбными, подозрительными глазами.
– Что тебе надо?
– Нельзя ли мне нумерок. Я путешественник. Я турист. Мне бы нумерок.
Он осматривает прежде всего мою котомку.
Это мешок из красного полосатого сукна, которым обивают матрацы, – и мое собственное изобретение. Я туда складываю все необходимое и тащу на спине, а когда нужно где-нибудь ночевать, вынимаю все, набиваю травой, мохом и великолепно сплю. Там у меня сложено все: и перемена белья, и кусок рыбника из семги, поднесенной мне поморами, и пять просфор из Голгофского скита, и бутылка коньяку, и пустые патроны, удочки, блесны…
Монах с отвращением смотрит на мой матрац и пинает его сапогом. Патроны гремят.
– Что это там?
– Это так… У меня это так… У меня есть здесь чемодан.
Но он не слушает, а подробно и долго осматривает мою одежду. Она его приводит в смущение: грязная, изорванная, но покрой…
Вы знаете мой купленный за границей Jagdrock[27]. Это был он самый, но в каком виде, в смоле…
Монах смущен и даже трогает пальцами качество материала…
– Поди сюда, – кричит он мальчику-послушнику в сером, – веди наверх, в общую!
Решив трудный вопрос, он уже, как ни в чем не бывало, приветливо и почтительно мне улыбается и ласковым голосом спрашивает:
– Как твое имечко-то святое?
Я ему тоже улыбаюсь, бросаю последний прощальный взгляд на отдельный нумерок с дамской шляпой, па балкон и море, напомнившее мне южный курорт, и иду за послушником.
* * *
Мои сожители: семь толстых рыбных купцов. У них семь жен, таких же толстых. Жены живут напротив, но вечно возле мужей и хлопочут с самоваром, с рыбниками…
Я не дописал фразу и забыл. Купцы потребовали, чтобы я убрал свою чернильницу, и предложили вместе с ними пить чай. Теперь они ушли молиться, и я продолжаю, но фразу забыл. Всего нас с женщинами за чайным столом пятнадцать человек. Мы выпили несколько самоваров, несколько раз вытирали пот с лица полотенцами. Все купцы на мой вопрос ответили, что они приехали по обещанию, но один проговорился, что и по обещанию, и семгу по дороге купить. Тогда все принялись над ним смеяться, начали уверять его, что обещание не действительно. Над несчастным шутили на всякие лады и, наконец, стали громко хохотать:
– Обещался на одно дело, а ин два… Ха, ха, ха..
Долго смеялись и так со смехом и ушли в церковь.
* * *
Был в церкви. Масса богомольцев, все больше костромичи, вятичи. Измученные, но счастливые лица. В толпе я заметил семейство цыган: женщину, похожую на остаревшую Кармен, двух страшно черных цыган в синих куртках со шнурами и человек пять детей, мальчиков и девочек…
Как они попали сюда? Кочующий народ – и на Святых островах! Что-то странное… Неужели тоже по обещанию?
После службы по длинному коридору мы все толпою двинулись в трапезную. Возле одной двери монах довольно сильно толкнул меня в спину, и я попал в большой зал с длинными столами и стенной живописью. Другие богомольцы шли куда-то дальше, и из их толпы, я заметил, некоторые, почище, попали в этот зал. Я хотел было направиться к одному из столов, где я заметил группу хорошо одетых людей. Но энергичное давление пальца направило меня в другую, совершенно противоположную сторону. Я устроился рядом с купцами из моего номера и морским унтер-офицером. Хорошо я не мог понять, на сколько классов разделялась вся молящаяся толпа, но показалось что-то много…
* * *
Я очень долго беседовал с богомольцами возле Святого озера. Узнал, что цыгане эти из Каргополя, что они бросили свое кочевое житье и купили дом и теперь, как и все православные, пришли сюда по обещанию. Было странно, что Кармен не предложила погадать, а цыганята не выпрашивали копеечку. Во время моей беседы с ними подошел ко мне монашек и долго подозрительно выспрашивал, откуда я и кто. Он оказался довольно образованным, «многограмотным», как здесь называют таких людей. Узнав мои занятия, он посоветовал мне немедленно представиться настоятелю, убедить его, иначе меня могут арестовать, так как теперь бывают здесь подозрительные люди.
Я надел сюртук и проделал всю церемонию. Настоятель, бывший рыбак-помор, оказался тоже членом Географического общества, быстро понял меня и разрешил фотографировать все, что я желаю. У него вид выхоленного архиерея. Возвращаясь к себе от настоятеля, я встретил опять монашка, подозревавшего во мне агитатора.
В своем парадном костюме, вероятно, я был неузнаваем.
– В каком вы номере? – спросил меня восхищенно монашек.
– Наверху. С купцами.
– Ах, он такой-сякой, ах, он такой-сякой. – заволновался монашек… – Этакого господина – и в третий этаж!
Через несколько минут я был в отдельном номере, недалеко от губернаторского семейства…
* * *
Ночью не спалось, вышел побродить. Обходя старинную, всю избитую ядрами стену монастыря, услыхал я сильный детский крик и невероятную брань… Я поспешил туда. И на берегу Святого озера увидел такую картину: Кармен, пригнув одной рукой девочку за голову к земле, бьет ее изо всей силы огромной, как мне хочется сказать, «пудовой» сломанной свечой, не бьет, а прямо молотит несчастную, как цепом, а сама ругается. Пока я успел подойти, истязание кончилось, и все семейство цыган пошло куда-то вдоль берега Святого озера.
Я спросил какую-то старушку, в чем дело. Оказалось, что девочка уронила купленную дорогую свечу и сломала и за это получила наказание. Старушка, рассказав мне, возмущалась:
– Я говорю ей, сломалась свеча, погрей, потаи, слепи: так бог легче примет, чем с бранью… Нет… Ругается…
Богомольцы сидят на берегу у озера. Вероятно, им душно в келье. И ночь такая светлая, совсем как день.
* * *
Сейчас я понял, почему земля Соловецких островов называется в народе Святою.
Пришел пароход, битком набитый странниками. Еще далеко с моря доносился с него отвратительный запах, Когда я увидел, сколько их набилось в пароходе, увидел эту грязь, это настоящее истязание людей… я ужаснулся.
Но потом они вышли на берег. У них сияли лица. В это время они забыли все трудности пути, все горе.
Потом они пошли частью к Святому озеру купаться, а частью и в Святые ворота в церковь. Я видел, как один мужик в сером армяке долго крестился большими широкими крестами.
«Земля обетованная!»
Эта простая народная вера меня волнует так же, как зелень лесов, так же, как природа в те моменты, когда увлечешься охотой и станешь одним из тех лесных существ, которые живут под каждым деревом.
Да непременно же Святая земля.
Вот мой знакомый мужичок, добравшийся сюда с Урала. Он измучен дорогой Это видно по его красным глазам, по впалым щекам. Но он сияет счастием. Он сидит возле гнезда чайки, делится с матерью и детьми куском своего постного пирога и что-то бормочет, оживленно беседует с птицами. Разве это не святой, разве такой человек может кому-нибудь сделать зло, убить кого-нибудь? Я подхожу к нему.
– Ну, как?
– Хо-ро-шо-о!
И все его измученное лицо светится. Мне просто хочется украсть, отнять у него частицу его счастья.
– Что же хорошего-то? – спрашиваю я его.
– Устройство хо-ро-о-шее. Пища хоро-о-шая!
И все… больше ничего. Сам он, как я знаю, материально не пользуется этим устройством, но восторгается именно материальным. Так он, выросший в своем мелочном хозяйстве, может выразить свой идеальный мир.
Дорогой друг! Я кончил свои письма. Пароход сейчас увезет меня с Соловецких островов, и через неделю я попаду в Лапландию, к кочующему народу.
Вы знаете меня, Вы не поймете мои письма как собрание анекдотов о монахах. Напротив, я все это Вам писал не для того, чтобы глумиться. Соловки, действительно, Святая земля… но… но… я верю в это лишь в то время, когда кормлю с богомольцами чаек. А как только прихожу в монастырскую келью и особенно в свой отдельный нумерок, то сейчас же все исчезает. Хочу писать о чем-то высоком, а выходят анекдоты…
Нельзя ли их прочесть как-нибудь с другого конца… Попробуйте. До свиданья, дорогой.
Глава III. Солнечные ночи
Соловецкие чайки долго летят за нами, прощаются. Потом одна за другой отстают, а вместе с ними отстает и тяжелое, мрачное чувство. Навстречу пароходу попадается какой-то дикий, заросший лесом остров. Кто-то мне говорит, что там живут два охотника.
– Одни живут? – спрашиваю я.
– Одинешеньки. Два карела.
– Как же они живут?
– Да ничего. Хорошо.
Тут я вспоминаю, что у меня есть ружье, что я охотник. Я чувствовал себя в монастыре нехорошо, потому что туда идут люди молиться… а я… я убежал за волшебным колобком.
И чем дальше от монастыря, тем лучше я себя чувствую, чем дальше, тем больше море покрывается дикими скалами, то голыми, то заросшими лесом. Это Карелия – та самая Калевала, которую и теперь еще воспевают народные рапсоды в карельских деревнях Архангельской губернии. Показываются горы Лапландии, той мрачной Похиолы, где чуть не погибли герои «Калевалы».
Кольский полуостров – это единственный угол Европы, до последнего времени почти не исследованный. Лопари, забытое всем культурным миром племя, о котором не так давно (в конце XVIII столетия) и в Европе рассказывали самые страшные сказки. Ученым приходилось опровергать общее мнение о том, что тело лопарей покрыто космами, жесткими волосами, что они одноглазые, что они с своими оленями переносятся с места на место, как облака.
С полной уверенностью и до сих пор не могут сказать, какое это племя. Вероятно, финское.
Переход от Кандалакши до Колы, который мне придется совершить, довольно длинный: двести тридцать верст пешком и частью на лодке. Путь лежит по лесам, по горным озерам, по той части русской Лапландии, которая почти прилегает к северной Норвегии и пересекается отрогами Скандинавского хребта, высокими Хибинскими горами, покрытыми снегами. Мне рассказывают в пути, что рыбы и птицы там непочатый край, что там, где я пойду, лопари живут охотой на диких оленей, медведей, куниц…
Меня охватывает настоящий охотничий трепет от этих рассказов; больше, – мне кажется, что я превратился в того мальчугана, который убежал в неведомую, прекрасную страну.
Иногда и у самых культурных людей бродят дикие капельки крови. В зимнюю ночь, в то время, когда люди еще не успели заметить уже начавшийся переход к весне, бывают видения: засверкает солнце, перекинется мост из светящихся зеленых листьев на ту сторону, к лесу.
Зеленая опушка, трава с широкими листьями, деревья гигантские, упираются в небо, невиданные цветы, звери и птицы умные, добрые.
Страна без имени, без территории!
Когда-то в ней бывал… все знакомо… все забыто…
Мелькнет видение – и наступает обыкновенное зимнее утро, разумное, дельное. Но что-то есть еще сверх обычного? Что это? Ах да, скоро весна, облака светятся.
Бродят дикие капельки крови и у культурных людей, и у запертых в тюрьму, бродят и у детей.
Страна без имени, без территории!
Вот куда мы хотели тогда убежать – маленькие дикари. И по незнанию мы называли ее то Азией, то Африкой, то Америкой. Но в ней не было границ; она начиналась от того леса, который виднелся из окна классной комнаты. И мы туда убежали.
После долгих скитаний нас поймали, как маленьких лесных бродяг, и заперли. Наказывали, убеждали, смеялись, употребляли все силы доказать, что нет такой страны. Но вот теперь у каменных стен со старинными соснами, возле этой дикой Лапландии, я со всей горечью души чувствую, как не правы были эти взрослые люди.
Страна, которую ищут дети, есть, но только она без имени, без территории.
* * *
Так везде, но в дороге особенно ясно: стоит направить свое внимание и волю к определенной цели, как сейчас же появляются помощники.
В виду Лапландии я стараюсь восстановить то, что знаю о ней. Сейчас же мне помогают местные люди: батюшка, пробывший среди лопарей двадцать лет, купец, скупавший у них меха, помор и бывалый странствующий армянин. Все выкладывают мне все, что знают. Я спрашиваю, что придет в голову. Припоминается длинный и смешной спор ученых: белые лопари или черные? Один путешественник увидит брюнетов и назовет всех лопарей черными, другой – блондинов и назовет всех белыми.
«Почему они, – думаю я, – не спрашивают местных людей, из соседней народности? Попробовать этот метод».
– Черные они или белые? – спрашиваю я помора. Он смеется. Странный вопрос! Всю жизнь видел лопарей, а сказать не может, какие они.
– Да они же всякие бывают, – отвечает он наконец, – как и мы. И лицом к нам ближе. Вот самоеды – те не такие; у них между глазами широко, ведь говорят же: самоедское рыло. А у лопарей лицо вострое.
Потом он говорит про то, что жёнки у них маленькие. Рассказывает про жизнь их.
– Жизнь! Лопская жизнь! Лопские порядки маленькие, у них все с собой: олень, да собака, да рыбки поймают. Сколотит вежу, затопит камелек, повесит котелок, вот и вся жизнь.
– Не может быть, – смеюсь я помору, – чтобы у людей жизнь была лишь в еде да в оленях. Любят, имеют семью, поют песни.
Помор подхватывает:
– Какие песни у лопина! Они – что работают, на чем ездят, то и поют. Был ли то олень, – поют, какой олень, невеста – так в каком платье. Вот мы теперь едем, он и запоет: «Едем, едем».
Опросив помора, я принимаюсь за батюшку.
– Лопари, – говорит он, – уноровчивы.
– Что это?
– Норов хороший. Придешь к ним, сейчас это и так и так усаживают. И семью очень любят, детей. Детьми так что, можно сказать, тешатся. Уноровчивые люди. Но только робки и пугливы. В глаза прямо не смотрят. Чуть стукнешь веслом, сейчас уши навострят. Да и места-то какие: пустыня, тишь.
«Лапландия находится за Полярным кругом, – думаю я, – летом там солнце не заходит, а зимой не восходит, и в тьме сверкают полярные огни. Не оттого ли и люди там пугаются? Я еще не испытывал настоящих солнечных ночей, но и то от беломорских белых ночей уже чувствую себя другим: то взвинченным, то усталым». Я замечаю, что все живет здесь иначе, у растений такой напряженный зеленый цвет: ведь они совсем не отдыхают, молоточки света стучат в зеленые листья и день и ночь. Вероятно, то же и у животных, и у людей. Этот батюшка, как он себя чувствует?
– Ничего, ничего, – отвечает он, – это привычка. И не замечаем…
– Вы как? – спрашиваю я купца.
– Тоже ничего… Вот только говорят, будто подрядчик один нанял рабочих на юге от солнца до солнца.
Все хохочут: помор, купец, батюшка, армянин.
– Не верьте никому про полуночное солнце, – говорит мне странствующий армянин. – Никакого этого солнца нету.
– Как нету?
– Какое там полуночное солнце… солнце и солнце, как и у нас, на Кавказе.
Кандалакша
12 июня
Я за Полярным кругом. Если взойти на Крестовую гору, то можно видеть полуночное солнце, но мне нельзя уставать, – утром я выйду в Лапландию: из двухсот тридцати верст расстояния от Кандалакши до Колы значительную часть придется пройти пешком.
Я много думаю об этом полуночном солнце и о темных ночах. Лягу, закрою глаза, станет темно… Как странно то, что я теперь в Лапландии, а в этой русско-карельской деревушке нет ни одного кочевника. На границе двух народностей всегда же есть переходные типы. Но тут только русские и карелы. И тем загадочнее кажется этот мой путь через горную Лапландию. В Кандалакше ни одного лопаря, ни одного оленя. Кажется, я в дверях панорамы: за спиной улица, но вот я сейчас возьму билет, подойду к стеклу и увижу совсем другой, не похожий на наш, мир.
Хозяин-помор помогает мне набивать патроны на куропаток и глухарей. Несколько штук мы заряжаем пулями на случай встречи с медведем и диким оленем.
Река Нива и озеро Имандра
13 июня
Из недр Лапландии, из большого горного озера Имандра в Кандалакшу сплошным водопадом в тридцать верст длиною несется река Нива. Путь пешеходов лежит возле реки в лесу. Другой, строящийся путь для экипажей, проходит в стороне от реки. Некоторое время мы с проводником идем по этой второй дороге. Потом я ухожу от него к Ниве поискать там птиц. Мы расстались, и лес обступил меня, молчаливый, чужой. Какой бы ни был спутник, но он говорит, улыбается, кряхтит. Но вот он ушел, и вместо него начинает говорить и это пустынное, безлюдное место. Ни одного звука, ни одной птицы, ни малейшего шелеста, даже шаги не слышны на мягком мху. И все-таки что-то говорит… Пустыня говорит…
Хорошо и больно. Хорошо, потому что в этой тишине ожидаешь такую светлую, чистую правду. И больно, потому что внезапно из далекого прошлого выбегают серенькие мысли, как маленькие хвостатые зверьки.
Эта северная природа потому и волнует, потому так и тоскует, что в ней глубокая старость, почти смерть вплотную стоит к зеленой юности, перешептывается с ней. И одно не бежит от другого.
Так я иду и наконец слышу шум, будто от поезда: невольно ожидаю, что свисток прорежет тишину. Это Нива шумит. Она является мне в рамке деревьев, в перспективе старых высоких варак (холмов). Она мне кажется диким, странным ребенком, который почему-то жгет себе руки, выпускает кровь из жил, прыгает с высоких балконов. «Что с ним сделать, с этим ребенком?» – думают круглые, голые головы старцев у края реки. И ползут от одной головы к другой серые мысли, как просыпающийся в горах туман. Или это туман так ползет, как мысли. Не знаю, но лапландские вараки – совсем головы старцев, туман – как старые мысли, а река-водопад – ненормальный ребенок.
Я иду возле Нивы в лесу, иногда оглядываюсь назад, когда угадываю, что с какого-нибудь большого камня откроется вид на ряды курящихся холмов и на длинный скат потока, уносящего в Белое море бесчисленные белые кораблики пены.
Комаров нет. Мне столько говорили о них – и ни одного. Я могу спокойно всматриваться, как ели и сосны у подножья холмов сговариваются бежать наверх, как они бегут на горы. Вот-вот возьмут приступом гору. Но почему-то неизменно у самой верхушки мельчают, хиреют и все до одной погибают.
Бывает так, что, когда я так стою, вдруг из-под ног вылетает с криком птица. Это обыкновенная куропатка, обыкновенный крик ее. Но тут, в тишине незнакомого леса, при нервном говоре реки-водопада я слышу в ее крике не то дикий смех, не то предупреждение о беспощадности рока. Я стреляю в это желто-белое пятно, как в сказочную колдунью, и часто убиваю.
Иду все вперед и вперед. Тишина леса, и беснования Нивы, и ожидание взлета птиц, похожих на лапландских чародеев, – все это придумано для меня. От всего этого во мне будто натягивается струна, выше и выше, и вот уже нет звуков: ноги и тело, вероятно, идут, но сам я где-то порхаю. Каждую частицу себя ощущаю, но сам не знаю – где. Поймать бы, уловить, описать это разбросанное в лесу существо человека. Но это невозможно.
Вдруг с страшным треском прямо из-под моих ног вылетает глухарь и сейчас же другой.
Эта птица для меня была всегда загадочной и недоступной. Раз, давно, я помню ночь в лесу в ожидании песни этого царя северных лесов. Помню, как в ожидании песни просыпались болота, сосны и как потом в низине на маленьком чахлом деревце птица веером раскинула хвост, будто боролась за темную ночь в ожидании восходящего солнца. Я подошел к ней близко, почти по грудь в холодной весенней воде. Но что-то помешало, и птица улетела. С тех пор я больше не видел глухаря, но сохранил о нем воспоминание как о каком-то одиноком таинственном гении ночи. Теперь две громадные птицы взлетели из-под ног при полном солнечном свете. Я прихожу в себя только после того, как птицы исчезают за поворотом реки у высокой сосны. Они там, вероятно, сели в траву; успокоятся немного и выйдут к реке пить воду.
Вот тут только, тут и происходит наконец то таинственное переселение меня за тысячелетия назад. Этот момент неуловим. Неизвестно, когда он наступит. Это мгновение – будто сноп зеленого света, целый поток огромных исцеляющих сил. Пусть над нами, охотниками, смеются культурные люди, пусть она им кажется невинной забавой. Но для меня это тайна, такая же, как вдохновение, творчество. Это переселение внутрь природы, внутрь того мира, о котором культурный человек стонет и плачет. Мне кажется, что так же должен чувствовать себя убежавший из клетки зверь. Подбежит к лесу, остановится, задумается и пустится в чащу.
Я – зверь, у меня все приемы зверя. Изгибаюсь, перескакиваю с кочки на кочку, зорко гляжу на сухие сучки под ногами. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, я чувствую во рту почему-то вкус хвои, запах ее и запах сосновой коры. И неловкость в локтях. Почему? Да вот почему. Сосны куда-то исчезли, и я уже не иду, а ползу по каким-то колючим и острым препятствиям к намеченному дереву. Я доползаю, протягиваю ружье вперед, взвожу курок и медленно поднимаю голову.
Реки нет, птиц нет, леса нет, но зато перед глазами такой покой, такой отдых! Я забываю о птицах, я понимаю, что это совсем не то. Я не говорю себе: «Это Имандра, горное озеро». Нет, я только пью это вечное спокойствие. Может быть, и шумит еще Нива, но я не слышу.
Имандра – это мать, молодая, спокойная. Быть может, и я когда-нибудь здесь родился, у этого пустынного спокойного озера, окруженного чуть видными черными горами с белыми пятнами. Я знаю, что озеро высоко над землей, что тут теперь солнце не сходит с неба, что все здесь прозрачно и чисто, и все это потому, что очень высоко над землей, почти на небе.
Никаких птиц нет. Это лапландские чародеи сделали так, чтобы показать свою мрачную Похполу с прекрасной стороны.
На берегу с песка поднимается струйка дыма, и возле нее несколько неподвижных фигур. Это, конечно, люди: звери не разводят же огонь. Это люди, они не уйдут в воду, если к ним подойти. Я приближаюсь к ним, неслышно ступаю по мягкому песку. Вижу ясно: котелок висит на рогатке, вокруг него несколько мужчин и женщин. Теперь мне ясно, что это люди, вероятно, лопари, но так непривычна эта светлая прозрачность и тишина, что все кажется: если сильно и неожиданно крикнуть, то эти люди непременно исчезнут или уйдут в воду.
– Здравствуйте!
Все повертывают ко мне головы, как стадо в лесу, когда к нему подходит чужая собака, похожая на волка.
Я разглядываю их: маленький старичок, совсем лысый, старуха с длинным острым лицом, еще женщина с ребенком, молоденькая девушка кривым финским ножом чистит рыбу, и два мужчины, такие же, как русские поморы.
– Здравствуйте!
Мне отвечают чисто по-русски,
– Да вы русские?
– Нет, мы лопари,
– А рыбки можно у вас достать?
– Рыбка будет.
Старик встает. Он совсем маленький карлик, с длинным туловищем и кривыми ногами. Встают и другие мужчины, повыше ростом, но тоже с кривыми ногами.
Идут ловить рыбу. Я за ними.
Такой прозрачной воды я никогда не видал. Кажется, что она должна быть совсем легкой, невесомой. Не могу удержаться, чтобы не попробовать: холодная, как лед. Всего две недели, говорят мне, как Имандра освободилась от льда. Холодная вода и потому, что с гор – налево горы Чуна-тундра, направо чуть видны Хибинские – непрерывно все лето стекает тающий снег.
Мы скользим на лодке по прозрачной воде в прозрачном воздухе. Лопари молчат. Надо с ними заговорить:
– Какая погодка хорошая!
– Да, у святого духа погоды хорошие!
И опять молчат. Хорошая погода, но какая-то странная. Вероятно, такой день был после потопа, когда только начала сбывать вода. Вся эта грешная земля, там, внизу, залита водой; остались только эти черные верхушки гор с белыми пятнами. Все успокоилось, потому что все умерло. И смертную тишину насквозь пронизали лучи вечного солнца. Наш ковчег скользит в тишине. Вода, небо, кончики гор. Хорошо бы теперь выпустить голубя! Быть может, он принесет зеленую ветвь. Нет, еще рано, все это скрыто там, в глубине прозрачной воды.
Достаю мелкую монету и пускаю в воду. Она превращается в зеленый светящийся листик и начинает там порхать из стороны в сторону. Потом дальше, в глубине, она светится изумрудным светом и не исчезает. Ее зеленый глазок смотрит оттуда, из затопленных садов и лесов, сюда, наверх, в страну незаходящего солнца.
Может быть, теперь выпустить голубя?
Как бы хорошо с высоты спуститься туда, куда-нибудь вниз, в густую перепутанную траву между яблонями, в темную-темную ночь…
– Поуч, поуч! – вдруг говорит старик гребцу.
– Что это значит?
– Это значит: поскорей ехать.
И сейчас же еще:
– Сёг, сёг!
Это значит, узнаю я, ехать тише.
Мы у продольника, которым ловят рыбу, и теперь начинаем его осматривать. Это длинная веревка, опущенная на дно, со множеством крючков. Один гребет, а другой выбирает веревку с крючками, и все приговаривает свое: «Поуч-поуч, сёг-сёг!»
В этом горном озере за Полярным кругом должна водиться какая-нибудь особенная рыба. Я, как многие охотники с ружьем, не очень люблю рыбную ловлю, но здесь с нетерпением жду результата. Долго приходят только пустые крючки. Наконец что-то зеленое, совсем как моя монета, светится в глубине и то расширится до огромных размеров, то сузится в ленту.
– Поуч-поуч! – кричу я радостно.
Все смеются. Это вовсе не рыба, а кусочек белой «наживки» на крючке.
– Сёг-сёг! – печалуюсь я.
И опять все смеются.
Теперь я понимаю, в чем дело, принимаю команду на себя и повторяю: «Поуч-поуч, сёг-сёг!»
Лопари радуются, как дети; верно, им скучно молчать на этом пустынном озере.
Потом мы вытаскиваем одну за другой серебристые большие рыбы.
Голец – род форели, обитатель полярных вод.
Кумжа – почти такая же, как семга.
Палия…
Все редкие, дорогие рыбы.
– А эта как называется… Сиг?
Старик молчит, хмурится, чем-то напуган, оглядывает нас.
– Поуч-поуч, – говорю я. Но мое средство не действует. Испуганный старик отрывает от себя пуговицу, привязывает к сигу, пускает в воду и что-то шепчет.
Что бы это значило?
Но лопарь молчит. Темная спина рыбы быстро исчезает в воде, но пуговица долго порхает внизу, как светлая изумрудная бабочка.
Что бы это значило? Вот она Похиола, страна чародеев и карликов. Начинается!
Только после двух-трех десятков драгоценной форели и кумжи устанавливаются у нас прежние добрые отношения.
Покончив с осмотром перемета, мы плывем обратно к берегу, где виднеется дымок от костра.
Подъезжаем. Те же самые люди, в совершенно таких же позах, сидят, не шевелятся: даже котелок по-прежнему висит на рогатке. Что же это они делали целых два часа? Осматриваю: у девушки на коленях нет рыбы. Значит, за это время они съели рыбу и теперь, насытившись, по-прежнему смотрят на пустынную Имандру.
– Поуч-поуч! – приветствую я их.
Все смеются мне. Как просто острить в Лапландии!
Теперь варить уху из форели. Вот она, вот она, жизнь с котелком у костра. Вот она дивная свободная жизнь, которую мы искали детьми! Но теперь еще лучше, теперь я все замечаю, думаю. И хорошо же на Имандре в ожидании ухи из форели!
Я достаю из котомки свой котелок. Это обыкновенный синий эмалевый котелок. Но какой эффект! Все встают с места, окружают мой котелок и быстро говорят по-своему о нем. Потом, пока девушка своим кривым ножом чистит для меня рыбу, все по-прежнему усаживаются вокруг костра. Котелок переходит от одного к другому, как дивная невиданная вещь. Но у меня еще есть карандаш в оправе, складная чернильница, нож и английские удочки-блесны на всякую рыбу. Вещи переходят от одного к другому. Когда кто-нибудь долго задерживает, я говорю: «Поуч». Тогда все смеются, и вещь быстро совершает полный оборот вокруг костра с котелком. Это что-то вроде игры в веревочку, но только в Лапландии, на берегу Имандры.
Если не забыть с собой лаврового листа и перцу, то уха из форели в Лапландии глубоко, бесконечно вкусна. Я ем, а молодая лапландка-хозяйка указывает мне на розовые и желтые куски рыбы в котелке и угощает:
– Волочи, волочи, ешь!
За это я даю ей лавровый листик. Она его нюхает, лижет и передает другим. Все удивляются листику и так ясно, так очевидно довольны, что я, растянувшись на песке у костра, глотаю кусок за куском их вкусную рыбу.
По Имандре
Путь по Лапландии от Кандалакши до Колы остался тот же, как во времена новгородской колонизации. Совершенно так же шли и новгородцы на Мурман, и до последнего времени рыбаки-покрученники из Поморья.
Теперь в разных местах пути выстроены избы, станции; возле каждой станции живет группа лопарей и занимается частью охотою на диких оленей в Хибинских горах, частью рыбною ловлей в озерах и немного оленеводством.
Чтобы узнать хоть сколько-нибудь местную жизнь, нужно непременно отклониться от традиций путеводителя, нужно создать себе непредусмотренные там препятствия и победить их. Это мое правило.
«Как бы провести тут время по-своему, – думаю я. – Проехать этот путь и познакомиться немного с жизнью людей, с природой… Не пуститься ли через Хибинские горы к оленеводам? Там поселиться на время в веже…»
Мы долго совещаемся об этом с стариком Василием, почти решаем уже отправиться через Хибинские горы, но сын его не советует. Лопари перекочевали оттуда, и ми можем напрасно потерять неделю. Мало-помалу складывается такой план. Мы поедем на Олений остров по Имандре; там живет другой сын Василия, стережет его оленей; там мы поживем немного и отправимся в Хибинские горы на охоту.
Ветер дует нам походный. Зачем бы ехать со мной всему семейству, – лишний проводник стоит денег. Я советую старику остаться. Он упрашивает меня взять с собой.
– Денег, – говорит он, – можно и не взять, а вместе веселее.
Как это странно звучит! Вот уже сколько я еду и ни разу не слыхал этого… Приглядываюсь к старику, ищу русскую хитрецу… ничего нет… какое-то легкомысленно-мечтательное выражение, будто и не старик.
Мы едем все вместе. Двое гребут. Ветер слегка помогает. Лодка слегка покачивается. Передо мной на лавочке сидят женщины: старуха и дочь ее. Лица их совсем не русские. Если бы можно так просто решать этнографические вопросы, то я сказал бы, что старуха – еврейка, а дочь – японка: маленькая, смуглая, со скошенным прорезом глаз. Черные глаза смотрят загадочно и упорно: моргнут, словно насильно, и опять смотрят и смотрят долго, пока не устанут, и снова моргнут. На голове у нее лапландский «шамшир», похожий на шлем Афины-Паллады, красный. Мы едем как раз против солнца; лодку слегка покачивает, и я вижу, как блестящий странный убор девушки меняется с солнцем местами. Это – дочь Похиолы, за которой шли сюда герои «Калевалы».
Немного неприятно, когда смотрят в глаза и ничего не говорят. Я замечаю на уборе девушки несколько жемчужин. Откуда они здесь? Приглядываюсь, трогаю пальцем.
– Жемчуг! Откуда у вас жемчуг?
– Набрала в ручье, – отвечает за нее отец. – У нас есть жемчужины по сто рублей штука.
– И платят?
– Нет, не платят, а только так говорят.
– Какой прекрасный жемчуг, – говорю я дочери Похиолы, – как вы его достаете?
Вместо ответа она достает из кармана грязную бумажку и подает.
Развертываю: несколько крупных жемчужин. Я их беру на ладонь, купаю в Имандре, завертываю в чистый листик из записной книжки и подаю обратно.
– Благодарю, хороший жемчуг.
– Не надо… тебе.
– Как!
Боязливо гляжу на старуху, но она важно и утвердительно кивает головой, Василий тоже одобряет. Я принимаю подарок и, выждав некоторое время, vice pour service[28] предлагаю девушке превосходную английскую дорожку-блесну. Девушка сияет, старуха опять важно кивает головой, Василий тоже, Имандра смеется. Мы спускаем обе дорожки в воду: я – с одной стороны, а дочь Похиолы – с другой, и ожидаем рыбу. Все говорят, что тут рыбное место и непременно должна пойматься.
Скоро показывается лесистый берег; мы едем вдоль него, и лопари, ознакомившись со мною, не стесняясь, беспрерывно что-то болтают на своем языке. Время от времени я перебиваю их и спрашиваю, о чем они говорят. Они говорят то о круглой «вараке» на берегу, то о впадине с снегами в горах, то о сухой сосне, то о большом камне. Там был убит дикий олень, там на дереве было подвешено его мясо, там нашли свою важенку с телятами. Это так, как мы, идя по улице, разговариваем о знакомых домах, ресторанах, о лицах, которые почему-то непременно встречаются всегда на одном и том же месте. Им все здесь известно, все разнообразно, но я схватываю только величественные контуры гор, только длинную стену лесов и необозримую гладь озера.
Мне и некогда разглядывать мелочи. Внимание поглощено всесторонне. Нужно держать наготове бечеву, потому что при малейшем толчке я должен ее пустить и задержать лодку, иначе рыба оборвет якорек. Нужно фотографировать, нужно спрашивать у лопарей разные названия и записывать, нужно держать ружье наготове: мало ли что может выйти из леса к воде.
Вдруг на носу лодки у лопарей необычайное волнение, говорят шепотом, берутся за ружья, указывают мне на белый клочок снега далеко впереди, у самого берега.
– Дикий олень!
Я поскорее свертываю бечеву, вглядываюсь, замечаю движения белой точки. Немного поближе – и разбираю: белый олень с недоразвитыми рогами. Василий долго прицеливается из своей берданки и вдруг опускает ружье, не выстрелив. У него явилось подозрение, что это кормной (ручной) олень. Если бы подальше, в горах, признался он мне, то ничего, можно и кормного за дикого убить, а тут нельзя: тут сейчас узнают, чей олень, – по метке на ухе. Мы подъезжаем ближе; олень не бежит и даже подступает к берегу. Еще поближе – и все смеются, радуются: олень свой собственный. Мы превзошли Тартарена из Тараскона. Это один из тех оленей, которых Василий пустил в тундру, потому что на острове мало ягеля (олений мох). Я приготовляю фотографический аппарат и снимаю белого оленя на берегу Имандры, окруженного елями и соснами.
Сняв фотографию, я прошу подвезти меня к оленю, но вдруг он поворачивается своим коротеньким хвостом, перепутывает свой пучок сучьев на голове с ветвями лапландских елей, бежит, пружинится на мху, как на рессорах, и исчезает в лесу. Немного спустя мы видим его уже выше леса, на голой скале, едва заметной точкой.
– Комар обижает! – говорит Василий, – попил воды и опять бежит наверх, в тундры.
Это происходит где-то около Белой губы Имандры.
Тут мы должны бы и остановиться, дальше меня должны везти другие лопари. Но, выполняя свой план, мы едем немного дальше, на Олений остров. Здесь я опять спускаю в воду дорожку, потому что, как говорит Василий, здесь непременно поймается кумжа.
Спускаю блесну; она вертится, блестит, как рыбка, далеко видна в прозрачной воде Имандры. Спускаю саженей на тридцать; остальная бечева остается смотанной на вертушке, вставленной в отверстие для уключины. Не проходит минуты, сильный толчок вырывает мою бечеву из рук, катушка сразу разматывается.
Я не могу себе представить, чтобы рыба так сильно толкнула, и потому кричу лопарям:
– Стойте, стойте, зацепилось, оборвалось!
– Рыба, рыба, подтягивай! – отвечают они.
Подтягиваю, но там ничего не сопротивляется; очевидно, блесна зацепилась за камень и теперь освободилась.
Я говорю об этом лопарям. И они сомневаются, но все-таки не берутся за весла и смотрят вместе со мной.
Вдруг в десяти шагах от лодки показывается над водой огромный рыбий хвост; от неожиданности он мне кажется не меньше китового. Рыба бунтует и снова уносит всю бечеву в воду. Большие круги расходятся по Имандре.
– Кумжа, кумжа! – говорят лопари. – Мотай.
И вот опять, как в начале пути при виде глухарей, мое я целиком уходит в глубину природы, быть может, именно в ту страну, которая грезится в детских сновидениях.
Я вожусь с этой рыбой целый час. Борюсь с ней. И час кажется секундой и секунда – тысячелетием. Наконец я ее подтягиваю к борту, вижу ее длинную черную спину. Как теперь быть, как вытащить? Пока я раздумываю, лапландка вынимает из-за пояса нож, ударяет им в рыбу и, громадную, серебряную, обеими руками втаскивает в лодку.
Капельки крови на живой убитой твари меня часто беспокоят и, бывает, портят охоту. Но тут я не замечаю этого: я владею рыбой и счастлив обладанием.
Мне так хочется узнать, сколько в ней веса, вкусна ли она, хочется установить ее значение как моей собственности. Кажется, больше пуда весом, а лопари говорят – полпуда. Я спорю. Они соглашаются и смеются.
– А что лучше, – спрашиваю я, – кумжа или семга?
– Какая кумжа, какая семга. Все-таки семга лучше: семга – семга и есть. Ты скажи кумжа и сиг, вот так…
Тут я вдруг вспомнил о той рыбе, которую старик поймал вначале и привязал к ней пуговицу. Какая это рыба?
– Это сиг, – говорит он и тускнеет. – Сиг не может на крючок пойматься, сигов сетью ловят. Отец мой тоже поймал так сига и потонул. А за ним и мать…
– Потонула?
– Нет, божьей смертью померла. Двоих принесла, так бог таких любит. Сиротой бился, бился.
Мне хочется спросить еще, что значит пуговица, но не решаюсь, – вероятно, жертва водяному.
– Есть водяной царь или нет? – спрашиваю я окольным путем.
– Водяной царь! Как же, есть… Ведь молимся же мы: «Царь небесный, царь земной»
– И водяной? – изумляюсь я.
– Нет, водяного нет в молитвах, а только есть же царь небесный, царь земной, значит, есть и водяной.
Я расспрашиваю Василия дальше о его верованиях, он оказывается убежденным христианином. С тех пор как святой Трифон пришел в Лапландию, все лопари христиане. Сначала плохо приняли Трифона, за волосы даже его таскали. А потом и смирились, но господь наказал лопарей за святого, и они стали плешивыми. Тут Василий в доказательство снял свою шапку и показал свою лысину.
Но где-то и до сих пор, рассказывает Василий, верят лопари не в Христа, а в «чудь». Есть высокая гора, откуда они бросают в жертву богу оленей. Есть гора, где живет нойд (колдун), и туда приводят к нему оленей. Там режут их деревянными ножами, а шкуру вешают на жерди. Ветер качает ее, ноги шевелятся. И если есть мох или песочек внизу, то олень как будто идет… Василий не раз встречал в горах такого оленя. Совсем как живой!.. Страшно смотреть. А еще бывает страшней, когда зимой на небе засверкает огонь, и раскроются пропасти земные, и из гробов станет выходить чудь…
Василий рассказывает еще много страшного и интересного про чудь…
Рассказывает сказку о том, как лопарь захотел попасть на небо, настругал стружек, покрыл рогожей, сел на нее, поджег костер. Рогожа полетела, и лопарь попал на небо.
Я слушаю приключения лопаря на небе и вдруг понимаю Василия, понимаю, почему он болтлив, почему он хоть и старик, но глаза у него такие легкомысленные.
Олений остров
15 июня
Возле берега на Оленьем острове мы испугали глухаря. Я успел его убить. Скорее найти его в траве, скорее подержать в руках.
Выхожу на берег, но меня встречает туча комаров и мошек. Бегом скорей найти птицу – и в лодку. Но я спотыкаюсь о какие-то сухие сучья, камни, кочки. Комары меня едят, как рой пчел. Мелькает мысль, что и заесть могут, что это дело серьезное. Я поднимаюсь и с позором, без птицы, бегу к лодке. Глухаря достал один из лопарей.
Обогнув остров, мы подъезжаем наконец к тому месту, где должна быть вежа (лапландское жилище). Я замечаю их две: одна – маленький черный колпачок аршина в два с половиной высоты, другая повыше и подлиннее.
– Одна, – говорит Василий, – для людей, а другая – для оленей, какая побольше – для оленей, потому и олень побольше человека.
Теперь комары нас преследуют и на воде: кажется, все, сколько их есть на острове, устремились к нам в лодку. Истязание так сильно, что я непрерывно отмахиваюсь, непрерывно уничтожая сотни на своем лице, не имею мужества достать на дне моей котомки сетку «накомарник», которым я запасся еще в Кандалакше. Пока я ее нашел бы и приспособил, все равно комары съели бы меня.
А лопари с искусанными в кровь лицами и руками терпеливо и спокойно выносят испытание и даже рассказывают, что за каждого убитого комара до Ильина дня бог прибавляет решето новых, а после Ильина убавляет, и тоже по одному решету за комара.
Выскакиваю из лодки и стремглав несусь к веже, едва смея открывать глаза; открываю дверцы и вместо людей вижу в полутемной веже оленьи рога. Я попал в оленью вежу. Звери не боятся. Я разглядываю их. Так понятны здесь эти кривые сучки – рога. Здесь, в Лапландии, столько кривых линий: кривые, опущенные вниз сучья елей, кривые сосны, кривые березки, кривые ноги лопарей, башмаки с изогнутыми вверх носками. Тут есть белые, есть серые олени, есть совсем маленькие телята. Вся компания штук в тридцать…
Человеческая вежа – маленькая пирамидка, немного выше меня, из досок, обтянутых оленьими шкурами. Открываю дверцу и влезаю. Дверца с силой, своею тяжестью, захлопывается за мною.
Пока я разглядывал оленей, лопари уже все собрались в вежу; между моими знакомыми спутниками я узнаю еще одного молодого лопаря и женщину. В этой веже они все одинаковы, все сидят на оленьих шкурах у огня с черным котелком. Мне дают место на шкуре; я усаживаюсь, как и они, и, как и они, молчу. Отдыхаю от комаров у дыма. Потом начинаю разглядывать.
Вовсе не так плохо, как описывают. Воздух хороший, вентиляция превосходная. Вот только неудобно сознавать, что нельзя встать и необходимо сидеть,
С одной стороны огня я замечаю отгороженное место, покрытое хвоей; там сложены разные хозяйственные принадлежности. Это то самое священное место, через которое не смеет перешагнуть женщина.
Отдохнув немного, старуха принимается щипать глухаря, а остальные все на нее смотрят. Начинаю разговор с кривого башмака Василия. Расспрашиваю название одежды, утвари и все записываю. На оленях ездят, оленей едят, на их шкуре спят, в их шкуры одеваются. Кочующие лопари.
– Почему вас называют кочующие? – спрашиваю я их.
– А вот потому кочующие, – говорят мне, – что один живет у камня, другой – у Ягельного бора, третий – у Железной вараки. Весной лопарь около рек промышляет семгу, придет Ильин день – переселится на озера, в половине сентября – опять к речкам. Около Рождества – в погост, в пырт. Потому кочующие, что лопарь живет по рыбе и по оленю. В жаркое время олень от комара подвигается к океану. Лопарь – за ним. Так уж нам бог показал, он правит, он создатель.
Я узнаю тут же, что здесь, у Имандры, живут не настоящие оленеводы; здесь пускают оленей на волю, в горы, а занимаются больше охотой на диких оленей и рыбной ловлей.
Пока хозяйка чистит глухаря и устраивает его в котелке над огнем, мне рассказывают эту охоту на диких оленей, которая, впрочем, скоро совсем исчезнет со света.
Лопарь выходит в горы с собакой и ирвасом (оленем-самцом) и ищет стадо оленей. В это время года у диких оленей «рехка», особенная жизнь: олень (ирвас) становится страшным зверем, шея у него надувается и делается почти такой же толщины, как туловище. Сильный старый самец собирает себе в лесу стадо важенок, стережет их и не подпускает других. Но в лесу за ним следят другие ирвасы. чуть только он ослабеет, другой начинает с ним борьбу. Вот тут-то лопарь и идет на охоту. Собака подводит к стаду. Домашний ирвас идет навстречу дикому. Прячась за оленя, лопарь подходит к дикарю, убивает одного и потом стреляет в растерявшееся стадо. Мясо спускается в озеро, «квасится» там, а лопарь идет за другим стадом. Осенью по талому снегу лопарь катит в горы на своих «чунках» и достает из воды мясо.
Пока варятся глухарь и уха, Василий рассказывает мне жизнь лопарей. Другие все слушают внимательно, иногда вставляют замечания. Женщины молчат, скромные и почтенные, как у Гомера, заняты своим делом. Одна следит за ухой и глухарем, другая оленьими жилами шьет каньги (башмаки), третья следит за огнем.
Жизнь охотников рассказана. Теперь смотрят на меня: какая моя жизнь? Но как о ней спросить, этого никто еще не смеет. У них охота, олени, лес, что у меня?
– А есть ли в других державах лес? – слышу я голос с той стороны костра.
– Есть.
– На ужь!
Общий знак удивления, что и у нас есть лес.
Потом другой вопрос: «Есть ли горы?» И опять тоже: «На ужь!» Потом разговор, совсем как в настоящих гостиных, переходит на политику. Знают о Государственной думе, даже выбирали депутата, но только русского, а не лопаря. Я возмущаюсь: русские, которые так безжалостно спаивают и обирают лопарей, начиная с времен появления здесь новгородских дружинников, представляют лопарей в Думе. Расспрашиваю ближе. Оказывается, кто-то раньше за них уже решил, кого выбирать.
– Пили вы при этом, – спрашиваю я, – угощали вас?
– Пили, как же, хорошо выпили, – отвечает Василий со своим легкомысленным видом. – А вот если бы меня выбрали, – продолжает он, – я бы тихонечко на ушко государю императору шепнул, как лопари живут.
– Что же ты бы ему шепнул? – спрашиваю я, думая о том хохле, который представляет царя всегда с куском сала. – Что бы ты шепнул ему?
– А что вот у нас в озере сигов много, коптить бы их на казенный счет и отправлять в Питер. Да я бы сумел, что шепнуть!
«Что бы им дать, – думаю я, представляя себя на месте императора, которому шепнул лопарь на ушко. – Христианскую проповедь? Но это уже использовано… Лопари – теперь христиане. Святой Трифон прославился как просветитель лопарей. Печенгский монастырь богател, и разорялся, и опять стал богатеть. Но лопари все такие же, и еще беднее, еще несчастнее, потому что русские и зырянские хищники легче могут проникать к христианам, чем к язычникам. Отдать их на волю прогресса? Построить железную дорогу и дать образование? Как-то жалко без дикого народа в государстве. Кто знает, может быть, для усмирения бездушного прогресса государству необходимо сохранить кочующий народ, навести там справку в случае чего».
Я вспоминаю о грандиозном предприятии соединить Великий океан с Северным Ледовитым, Порт-Артур с Александровском и о том, что тут предполагалась железная дорога. Но ведь это не для них. При чем тут лопари?
– А как же, – говорит мне Василий, – и лопари тогда поедут в Петербург со своими сигами.
Василий смеется, радуется, как ребенок, этой воображаемой возможности, смеются и другие, даже женщины, радуюсь и я, потому что удовлетворен как гражданин: убиты зараз два зайца. Вот только образование. Но и образование как-нибудь так тоже неожиданно придет.
– А выучить лопаря, – замечает кто-то, – он тоже будет таким.
– Каким? – спрашиваю я.
В ответ на это мне рассказывают легенду об образованном лопаре.
Один лопарь поехал с оленями в Архангельск и потерял там мальчика. Продав оленей, он возвратился в тундру без ребенка. Между тем маленького лопаря нашли, воспитали, образовали, он стал доктором, и есть слух, что где-то хорошо лечит людей.
– Вот и лопарь, – закончил рассказчик, – а сделался доктором.
Я заражаюсь настроением лопарей. Под этим деревянным колпачком, с единственным отверстием вверху для дыма, культурный прогрессивный мир мне вдруг начинает казаться бесконечно прекрасным, просторным и величественным, как небесный свод.
И я – несомненная частица этого мира!
Мне хочется что-нибудь сказать хорошее этим несчастным людям у костра. Что бы сказать? Что у нас лучше всего? Конечно, звездная летняя ночь.
– У нас, – говорю, – после дня теперь наступает ночь, темная, зимой же у нас бывает тоже и день, и ночь. Смотрю на часы и говорю еще.
– Сейчас у нас если погода хорошая, то звезды горят, месяц светит.
Мои слова производят большой эффект. Женщины интересуются; одной, не понимающей по-русски, переводят мои слова. Теперь уже вся гостиная занята мной. Все меня теперь долго и подробно разглядывают. Это тот период сближения гостей с хозяевами в провинциальной семье, когда женщины вступают в беседу, когда дети осмеливаются заговорить. Сама почтенная хозяйка начинает беседу:
– Есть у тебя деточки?
– Есть.
– Но! – не доверяет она.
Я подтверждаю и даже описываю, какие они.
– На ужь! – удивляется старуха и переводит своей, не понимающей по-русски, соседке. Все теперь говорят по-лапландски. Мне кажется, что они говорят о том, что вот, как это удивительно: такой необыкновенный человек, а тоже может, как и они, как и всякие животные, размножаться.
– Что же тут особенного, – вмешиваюсь я наконец в непонятный мне разговор. – Вероятно, здесь русские даже женятся на лапландках.
– Нет! Нет! – отвечают мне все в один голос. – Какой же русский возьмет лопку, одно слово, что лопка!
Это совершенно противоположно тому, что я слышал. У меня, наконец, в кармане письмо от одного батюшки, прожившего двадцать лет в Лапландии, к сыну, женатому на лопарке. На письме даже адрес: «Потомственному почетному гражданину К – у».
– Как же так… вот, – говорю я и называю фамилию.
– Так это лопарь, какой же он русский, – отвечают мне.
– Почетный гражданин, сын священника.
– Это все равно, он лопарь: рыбку ловит, оленей пасет. Он лопарь.
Я теперь понимаю: моя сверхъестественность основана не на внешнем виде, не на костюме, не на образовании, а просто на неизвестных для них занятиях, противоположных их делу. Мне это становится еще более понятным, когда такими же сверхъестественными людьми оказывается и один отставной шкипер, и один мелкий телеграфный чиновник. Оба – претенденты на руку Варвары Кобылиной. Про эту невесту мне рассказывали еще на Белом море. Она – дочь богатого лопаря. Живут они в тундре, пасут большое стадо оленей. Отец подыскивает дочке жениха, такого же, как она, лопаря, потому что одному трудно управляться с большим стадом оленей. Тут ему пришлось вместе с дочерью довольно долго быть в Архангельске для продажи оленей. И в это время единственная и любимая дочь лопаря сразу влюбилась в двух русских: в шкипера и в телеграфного чиновника. Были и еще претенденты, – тысяча оленей стоит десять тысяч рублей, – но она полюбила только двух. Едва-едва отец увез ее. Теперь плачет, тоскует в тундре, еле жива.
– Ну, мыслимое ли дело лопке замуж за русского выходить, – заговорили все после рассказа и решительно все согласились.
Разговор о романе в тундре такой увлекательный для женщин и для меня. Мне хорошо здесь, и будто я не в лопарской семье – в пустыне, а где-нибудь в большом, незнакомом городе, в единственном знакомом милом доме.
Хозяйка забывает о глухаре. Но он неожиданно напомнил о себе сам. Его нога приподнимает крышку котелка и сталкивает ее в огонь, вода бежит, шипит. Глухарь поспел.
Это напоминает мне, что в котомке у меня для лопарей припасена водка и лопари большие охотники до нее.
– Пьете водку?
– Нет, не пьем.
А глаза просят. Я наливаю стаканчик и подношу, как меня учили, сначала хозяйке. Секунду колеблется для приличия, потом берет рюмку, приветствует меня словами: «Ну, пожелаю быть здоровым», – и торжественно выпивает. За ней подряд выпивают все мужчины и женщины, и все с одинаковой торжественной миной приветствуют меня: «Ну, пожелаю быть здоровым». Доходит очередь до молоденькой лапландки, похожей на японку. Я вижу, как она мучится, колеблется и с отвращением выпивает глоток. Стаканчик совершает еще оборот вокруг костра и опять останавливается у японки. Она умоляет меня глазами; то же и мать.
– Значит, не надо? – спрашиваю я.
– Нельзя! – говорит старуха. – Надо выпить, от гостя руки нельзя не принять.
– Вот какой странный обычай! Я не знал. Извини.
– Может быть, и вам не надо? – спрашиваю я почтенную мать.
– Нет, нам надо, – отвечает она и, пожелав мне быть здоровым, выпивает и за дочь, и за себя. Немного спустя, когда мы все сидим вокруг досок с глухарем и едим, кто ножку, кто крылышко, кто что, хозяйка преображается: ее строгое, окаменевшее лицо оживает, глаза бегают, губы вытягиваются.
– Ау-уа-уы-кыть! Уа-уы-уа-кыть!
Я понимаю: это лапландская песня, спеть которую я долго и напрасно просил в лодке. Но это так не похоже на песню, скорее это что-то в чайнике или в котелке урчит и, смешавшись с дымом, уносится в отверстие наверху.
– Уа-уы…
Песня оканчивается неожиданным восклицанием: «Ка-шкарары!»
Что бы это значило? Василий охотно переводит:
– Мимо еретицы едет Иван Иванович..
– Как, неужели же и у вас есть Иван Иванович? – сомневаюсь я в верности перевода.
– Везде есть Иван Иванович, – отвечает Василий. – Евван-Евван-ыльт, значит, Иван Иванович. – И продолжает: – Едет Иван Иванович мимо еретицы, мимо страшной еретицы в Кандалакшу и думает, что она не выскочит. Плывет Иван Иванович, ногами правит, руками гребет, миленькой чулочки везет, белые чулочки, варежки с узорами. А еретица как выскочит и закричит: «Иван Иваныч, Иван Иваныч, каш-киш-карары!»
– Что же с Иваном Ивановичем стало?
– Ничего, на этом песня кончается.
После домашнего концерта доска очищается от пищи, и на ней появляется засаленная колода карт. Сдают все по пяти.
– Не «дурачки» ли это?
– «Дурачки».
– Так сдавайте же и мне!
Мне с удовольствием сдают; я играю рассеянно и остаюсь дураком.
Такого эффекта, такого взрыва смеха я давно-давно не слыхал. Смеется Василий, смеются женщины, смеются все лопари, а старуха долго не может сдать карт; только начнет, посмотрит на меня и ляжет вместе с картами на доску.
Удивительное счастье остаться дурачком в Лапландии! Вообще быть им нехорошо… но тут! Я пытаюсь еще раз остаться, но ничего не выходит, и сколько я потом ни стараюсь, все не могу, все находится кто-нибудь глупее меня.
За игрой в «дурачки» забываю о главном своем интересе в Лапландии: увидеть полуночное солнце. Мне напоминают о нем несколько капель дождя, пролетевших в отверстие нашей вежи,
– Дождь, – говорю я – Опять не видать мне полуночного солнца!
– Дождь, дождь, – отвечают лопари. – Скорей куваксу строить!
Кувакса – это особая походная вежа, палатка. Ее можно сделать из паруса. Василий уже давно мне говорил про нее и обещал, что спать я на острове буду лучше, чем дома, и он знает такое средство, что ни один комар не посмеет пролезть в мою куваксу.
Через несколько минут палатка готова, маленькая такая, чтобы лечь одному. Я устраиваюсь на теплых оленьих шкурах, покрываюсь простыней и шкурой. Славно. Тепло. Хорошо дышится. Я начинаю раздумывать о своих впечатлениях, выискивать связь между ними. Какой-то странный запах, похожий не то на запах курительной бумаги, не то угара, не то тлеющей ваты, перебивает мои мысли. Что бы это значило? Запах сильнее и сильнее, дым ест глаза. Вскакиваю, оглядываю палатку и замечаю в углу ее черный дымящийся котелок. Несколько гнилушек или сухих грибов курятся и наполняют палатку этим едким дымом. Я понимаю: это сюрприз Василия, это выполнение обещания, что ни один комар не заберется ко мне. Не решаюсь выставить котелок на дождь и тем обидеть любезного хозяина. Высовываю для разведки голову. Какие теперь комары… Дождь… Олени один за другим выходят из своей вежи к лесу.
Они заполняют весь треугольник между моей, лопарской и своей вежами, пробуют пощипать траву, но ничего не находят и один за другим исчезают в лесу. Теперь я выставляю котелок на дождь, опять устраиваюсь, слушаю, как барабанят капли по палатке, слушаю взрывы веселого детского смеха из лопарской вежи. Все еще играют в «дурачки».
Общее мнение местных людей, что этот народ вырождается, вымирает. Ученые спорят. По этому детскому смеху мне кажется, что они непременно должны вырождаться, вымирать. Так не смеются взрослые люди, а дети разве могут бороться? Пройдет еще сколько-то лет, и здесь не останется ни одного лапландца.
Где-то я читал, что лопари должны исчезнуть с лица земли бесследно, что их жалкую жизнь не возьмется воспеть ни один поэт, что «последний из могикан» невозможен в Лапландии. И так странно думать, что вот почти на краю света эти забытые всем миром люди могут смеяться таким невинным детским смехом. Непременно государственным людям нужно позаботиться об охране кочующего народа. И пусть потом, когда люди в городах разучатся смеяться, кочующие люди их станут учить.
Солнечные ночи в Хибинских горах
– Вставайте, – бужу я лопарей, – вставайте!
Но они спят как убитые, все в одной веже.
– Вставайте же!
В ответ мне из-под склонившихся к земле лап ближайшей ели показывается лысая голова карлика.
– Василий, это ты? Как ты здесь?
Старик спал ночь под еловым шатром. Там сухо, совсем как в веже. Лапландские ели часто имеют форму вежи. Вероятно, они опускают вниз свои лапы для лучшей защиты от холодных океанских ветров.
Пока разводят костер, греют чайник и варят уху, закусывают, собираются, – проходит много времени; наступает уже день, начинают кусать комары; возвращаются олени; солнце греет. Но и день здесь не настоящий: солнце не приносит с собой звуков в природу, сверкает слишком ярко, но холодно и остро, и зелень эта как-то слишком густая, неестественная. День не настоящий, а какой-то хрустальный. Эти черные горы будто старые окаменелые звери. На Имандре вообще много таких каменных зверей. Вот высунулись из воды морж, тюлень, вот растянулся по пути нашей лодки большой черный кит.
– Волса-Кедеть! – показывает на него лопарь и прислушивается.
Все тоже, как и он, поднимают весла и слушают. Булькают удары капель с весел о воду, и еще какой-то неровный плеск у камня, похожего на кита. Это легкий прибой перекатывает белую пену через гладкую спину «кита», и оттого этот неровный шум, и так ярко блестит мокрый камень на солнце.
– Волса-Кедеть шумит! – говорит Василий.
Меня раздражает эта медлительность лопарей, хочется ехать скорее. Я во власти той путевой инерции, которая постоянно движет вперед. Лопари меня раздражают своим равнодушием к моему стремлению.
– Ну так что же такое, – отвечаю я Василию, – шумит и шумит.
– Да ничего. Так… шумит. Бывает перед погодой, бывает так.
Ему хочется мне что-то рассказать.
– Волса-Кедеть, значит, кит-камень, отцы говорят, это колдун…
И рассказывает предание:
– Возле Имандры сошлись два колдуна и заспорили. Один говорит: «Можешь ты зверем обернуться?» Другой отвечает: «Зверем я не могу обернуться, а нырну китом, и ты не увидишь меня, уйду в лес». Обернулся – и в воду. Немного не доплыл до берега и показал спину. Колдун на берегу увидал, крикнул. Тот и окаменел.
Такое предание о ките.
– А вот этот морж? – спрашиваю я.
– Нет, это камень.
– А птица?
– Тоже так… камень. Вот у Кольской губы, там есть люди окаменелые. Колдунья тащила по океану остров, хотела запереть им Кольскую губу. А кто-то увидал и крикнул. Остров остановился, колдунья окаменела, и все люди в погосте окаменели…
Мы едем ближе к горам. Мне кажется, что если хорошенько крикнуть теперь, то и мы, как и горы, непременно окаменеем. Я изо всей силы духа кричу. Горы отзываются. Лопари с поднятыми вверх веслами каменеют и слушают эхо.
Подшутить бы над ними? У ног моих на дне лодки большой камень-якорь с веревкой. Беру этот камень и прямо возле девушки бросаю его в Имандру. Бух!
Я не сразу понял, в чем дело. Вижу только, девушка стоит рядом, что она схватилась за нож, но ее удержали. В воде плавают весла.
Лапландка от испуга пустила в меня веслом, промахнулась, хотела зарезать, но ее удержали, и теперь с ней истерика.
– Наших жёнок, – укоризненно говорит мне Василий, – нельзя пугать. Наши жёнки пугливые. Могла бы и беда быть…
Немного спустя девушка приходит в себя, а лопари, как ни в чем не бывало, смеются. И просто, как анекдот, рассказывают мне такой случай: русский солдат вошел в пырт. Дома никого не было, только жёнка сидела с ребенком у котелка. Солдат тоже присел и стал смотреть в огонь. Служивому захотелось пошутить с жёнкой, показал ей пальцами на язык пламени в камельке и громко крикнул: «Куропать!» Лапландка бросила ребенка в огонь и с ножом накинулась на солдата. Пока этот увертывался от ударов и успел схватить ее, ребенок сгорел совершенно.
– И еще был случай, – рассказывает старуха… – И вот еще… А вот в Ловозерском погосте… А вот в Кильдинском… – Мне рассказывают множество таких случаев и все приговаривают: «Наши жёнки пугливые».
– Отчего это? – спрашиваю я.
– Бог знает.
После всех этих рассказов мне не хочется больше шуметь и кричать. Мне кажется, что если я теперь крикну еще раз, то все эти окаменевшие звери, рыбы и птицы испугаются, проснутся и от этого будет что-то такое, отчего сейчас страшно, но что – это неизвестно.
– В горах, – говорит Василий, – есть озера, где лопарь не посмеет слова сказать и веслом стукнуть. Вот там есть такое озеро: Вардозеро.
Он показал рукой на мрачное ущелье Им-Егор. Это ущелье – расселина в горах, вход внутрь этой огромной каменной крепости Хибинских гор.
Туда мы и отправимся завтра на охоту за дикими оленями, но сегодня мы заедем в Белую губу. Там живут лопари в пыртах; живет телеграфный чиновник, у которого можно достать масла и хлеба.
* * *
У подножия мрачных Хибинских гор, похожих на декорацию к дантовскому «Аду», возле Имандры, живет маленький чиновник. Он похож на крошечный винтик от часового механизма: так высоки горы и так он мал.
Судьба его закинула сюда, в эту мрачную страну, и он покорился и стал жить. Он имеет какое-то отношение к предполагавшейся здесь железной дороге, к этому грандиозному плану соединения Великого океана с Ледовитым. План давно рухнул наверху. Но внизу дело по инерции продолжается, и винтик сидит на своем месте.
В своем путешествии я боюсь местных людей и особенно чиновников. Они все заинтересованы лично в этой жизни и смотрят на нее из своего маленького окошечка, то обиженные и раздраженные, то самодовольные и самоуверенные. Все они глубоко убеждены, что мы, сторонние люди, ничего не видим и, чтобы видеть, нужно, как они, завинтиться на десятки лет.
Я читал где-то, что все путешественники считают лопарей взрослыми детьми – простодушными, доверчивыми, а все местные люди – лукавыми и злыми. Почему это?
Если бы я был ученый, я считался бы со взглядом тех и других, но я не ученый, не имею специальных целей и больше всего дорожу лишь правдой своих настроений.
Я иду к чиновнику за мукой и маслом и побаиваюсь его, потому что ревниво оберегаю свой собственный независимый взгляд, добытый из одинокого общения с природой и лопарями. Оберегаю от расхищения все это милое мне путешествие, о котором мечтал еще ребенком.
Мы говорим с чиновником сначала о масле и хлебе, потом о картофеле, который он пробует развести. И как-то само собой заходит речь о лопарях…
– Это дикие, тупые, жестокие и злые люди, – говорит он мне, – это выродки и скоро вымрут.
– Да ведь это не доказано, – пробую защищать я, – может быть, и не вымирают.
– Нет, вымирают, – отвечал он. – Вырождаются.
Спорить нельзя: он лучше знает.
Он долго бранит лопарей и жалуется на то, как тут трудно жить культурному человеку зимой, когда солнце даже не восходит. Тьма, из-под полу дует… Жутко…
Я чувствую себя так, будто никуда не ездил, и от скуки сужу и пересуживаю с кем-то лопарей. Смутно даже чувствую себя неправым перед этим винтиком, ведь его завинтили насильно. И я спасся от этого только потому, что добрая бабушка испекла для меня волшебный колобок. Выхожу на воздух; меня встречает горящая гладь спокойного горного озера.
Сосну часок и буду следить за всем, что случится этой загадочной солнечной ночью.
Станционная изба устроена по типу лопарского пырта. В ней есть камелек, лавки, окна. Лопари к моему приезду все собрались в избу и сидят теперь на лавках в ожидании меня. В избе дым. Это от комаров; хотят их убить. Я ложусь на лавку, хочу соснуть часок, хочу остаться один. Но они все, человек десять, молча рассматривают меня, чего-то ждут. Я не решаюсь попросить их выйти и ложусь, надеясь, что они поймут. Но они не понимают и смотрят, и смотрят. Мне хочется им сказать, крикнуть, но я не могу и лежу, смотрю на них, они на меня. Путешествие мое обрывается.
Как и зачем я попал в Лапландию? Эти люди такие же грубые и обыкновенные, как наши мужики. Наши пасут коров, а эти – оленей. Какие это охотники! Но у нас-то ночь теперь. Как хорошо там! Я теперь дома: темно, совсем темно. Но почему это кто-то неустанно требует открыть глаза. Не открою, не открою. И не надо открывать, а только чуть подними ресницу, увидишь, как хороша наша ночь. Я открываю глаза. Вся Имандра в огне. Солнце. И ночь, которая мне грезилась, – как большая черная птица с огненными перьями, улетает через озеро на юг.
Лопарей нет. Дым разошелся, комары мертвые валяются на подоконнике.
Только десять вечера, но горы уже спят, закрылись белыми одеялами. Имандра горит, разгорается румянцем во сне, и близится время волшебных видений в стране полуночного солнца. Что грезится теперь этим горам? Да, конечно, они и видят вот то, что я сейчас вижу, – это все сон.
На озере человек в челноке. Чего-то ждет. Он первый здесь. А вот и деревья, и горы подступают к тихому озеру. Звери вышли из леса, рыбы из воды. Месяц прислонился у березы. Солнце у окошка замка стало.
Зазвенели струны кантеле. Запел человек.
Пел дела времен минувших, пел вещей происхожденье.
* * *
Просыпаюсь… Солнца не видно в мое окошко: так оно высоко поднялось уже. Опять я не видал полуночного солнца. Василий сидит у камелька и отливает в деревянную форму пули на диких оленей. Сегодня мы будем ночевать в горах и охотиться.
В горах есть какое-то озеро, я забыл его название, к которому лопари питают суеверный страх. Это озеро со всех сторон защищено горами и потому почти всегда тихое, спокойное. Высоко над водой есть пещера, и там живут злые духи. В этом озере множество рыбы, но редко кто осмелится ловить там. Нельзя, при малейшем стуке весла злые духи вылетают из пещеры. И вот один молодой ученый из финской ученой экспедиции собрал лопарей на это озеро и принялся стрелять из ружья в пещеру. Вылетели несметные стаи птиц, черных и белых, но ничего не случилось.
С тех пор лопари там не боятся стукнуть веслом и ловят много рыбы.
Хорошо бы побывать внутри этой пещеры и оттуда посмотреть на полуночное солнце. Но это и далеко, и в самую пещеру почти невозможно добраться. Василий советует удовлетвориться ущельем Им-Егор, не менее мрачным, но доступным. В этом ущелье мы переночуем, войдем через него внутрь Хибинских гор и по Гольцовой реке вернемся опять к Имандре.
Пока мы набиваем патроны, готовим пищу, собираемся, Имандра уже опять приготовляется встречать вечер и солнечную ночь.
Неужели опять случится что-нибудь, почему я не увижу солнечную полночь: дождь, туман или просто мы не успеем выбраться из леса в горы. Чтобы выбраться из ущелья, нужно часа два ехать на лодке и часа три подниматься в гору. Теперь шесть.
– Скорей, скорей! – тороплю я Василия.
Скользим на лодке по тихому озеру: ни малейшего звука, даже чаек нет. Ущелье видно издали: оно разрезает черную каменную гряду наверху. Снизу, с озера, оно вовсе не кажется таким мрачным, как рассказывают: просто это ворота, вход в эту черную крепость. Гораздо таинственнее и мрачнее этот лес у подножия гор. Те мертвые, но лес-то живой и все-таки будто мертвый.
Мы причаливаем к берегу, входим в лес: гробовая тишина! В нем нет того зеленого радостного сердца, о котором тоскует бродяга, нет птиц, нет травы, нет солнечных пятен, зеленых просветов. Под ногами какие-то мягкие подушки, за которыми нога ощупывает камень, будто заросшие мохом могильные плиты.
С нами идут в горы двое лопарей: Василий с сыном; остальные разводят костер у берега Имандры, садятся вокруг костра, начинают играть в карты. Завтра они встретят нас в устье Гольцовой реки.
Я надеваю сетку от комаров; от этого лес становится еще более мрачным. С плиты на плиту, выше и выше мы поднимаемся по этому северному кладбищу. Дальше и дальше взрывы смеха лопарей, играющих в «дурачки». Разве тут можно смеяться! Это странный, жуткий смех.
Мы вступаем в глубь леса с ружьями, заряженными пулями и дробью. Мы тут можем встретить каждую минуту медведя, дикого оленя, росомаху; глухарей, наверно, встретим, сейчас же встретим. Но я даже и не готовлю ружье. Я повторяю давно заученные стихи:
Пройдя полпути своей жизни, В минуту унынья вступил Я в девственный лес.Это вход в Дантов «Ад». Не знаю, в каком мы кругу.
Комары теперь не поют, как обыкновенно, предательски жалобно, а воют, как легионы злых духов. Мой маленький Виргилий с кривыми ногами, в кривых башмаках, не идет, а скачет. У него вся шея в крови. Мы бежим, преследуемые диаволами Дантова «Ада».
В чаще иногда бывают просветы; бежит ручей, возле него группа деревьев, похожих на яблоневый сад. И нужно подойти вплотную к ним, чтобы понять, в чем дело: это березы здесь так растут, совсем как яблони.
У одного такого ручья мы замечаем тропинку, как раз такую, какие у нас прокладывают богомольцы и другие пешеходы у краев полей. Это оленья тропа. Теперь мы бежим по этой тропе в расчете встретить гонимого комарами оленя. Но я совсем не думаю об охоте; мне почему-то кажется, что эту тропу непременно проложили богомольцы, что там, наверху, есть монастырь. Мне приходит в голову опять та солнечная гора, о которой я думал на берегу Белого моря и на Голгофской горе Соловецкого монастыря. Вот она теперь, эта вершина. Как только мы выбежим из леса, тут и будет конец всего, – голые скалы и сияние незаходящего солнца. Я совсем не думаю ни о птицах, ни о зверях. Вдруг перед нами на тропу выбегает птица, куропатка, и быстро бежит не от нас, а к нам. Как это ни странно, ни поразительно для меня, не видавшего ничего подобного, но, подчиняясь той атавистической силе, которая на охоте мгновенно переделывает культурного человека в дикого, я взвожу курок и навожу ружье на бегущую к нам птицу.
Василий останавливает меня.
– У нее детки, нельзя стрелять, надо пожалеть.
Куропатка подбегает к нам, кричит, трепещет крыльями по земле. На крик выбегает другая, такая же. Обе птицы о чем-то советуются: одна бежит прямо в лес, а другая, – вперед по тропе и оглядывается на нас: будто зовет куда-то. Мы остановимся, она остановится. Мы идем, и она катится впереди нас по тропе, как волшебный колобок. Так она выводит нас на полянку, покрытую травой и березками, похожими на яблони. Останавливается, оглядывает нас, кивает головой и исчезает в траве. Обманула, завела нас на какую-то волшебную полянку с настоящей, как и у нас, травой, и с яблонями и исчезла.
– Вот она, смотри, вот там пробирается, – смеется Василий. Я присматриваюсь и вижу, как за убегающей птицей остается след шевелящейся травы.
– Назад бежит, к деткам. Нельзя стрелять. Грех!
Если бы не лопарь, я бы убил куропатку и не подумал бы о ее детях. Ведь законы, охраняющие дичь, действуют там, где она переводится; их издают не из сострадания к птице. Когда я убиваю птицу, я не чувствую сострадания. Когда я думаю об этом… Но я не думаю. Разве можно думать об этом? Ведь это же убийство, и не все ли равно, убить птицу одну или с детьми, больше или меньше. Если думать, то нельзя охотиться. Охота есть забвение, возвращение к себе первоначальному, туда, где начинается золотой век, где та прекрасная страна, куда мы в детстве бежали и где убивают, не думая об этом и не чувствуя греха. Откуда у этого дикаря сознание греха? Узнал ли он его от таких праведников, как святой Трифон, или так уже заложена в самом человеке жалость к птенцам? Как-то странно, что охотничий инстинкт во мне начинается такой чистой, поэтичной любовью к солнцу и зеленым листьям и к людям, похожим на птиц и оленей, и непременно оканчивается, если я ему отдамся вполне, маленьким убийством, каплями крови на невинной жертве. Но откуда эти инстинкты? Не из самой ли природы, от которой далеки даже и лопари?
Под свист комаров я раздумываю о своем непоколебимом, очищающем душу охотничьем инстинкте, а на оленью тропу время от времени выбегают птицы, иногда с большими семьями. Раз даже из-под елового шатра выскочила с гнезда глухарка, встрепанная, растерянная, села в десяти шагах от нас и смотрит как ни в чем не бывало, будто большая курица.
– Ну убей, что же, убей! – показывает мне на нее Василий.
– Так грех, у ней дети…
– Ничего, что ж грех… Бывает, и так пройдет, убил и убил.
Лес становится реже и реже, деревья ниже. Мы вступаем в новый круг Дантова «Ада».
Сзади нас остается тайбола – лесной переход, а впереди – тундра. Это слово мы усвоили себе в самоедском значении: большое, не оттаивающее до дна болото, а лопари им обозначают, напротив, совсем сухое, покрытое оленьим мохом место.
Здесь мы хотим отдохнуть, развести огонь, избавиться хоть немного от воя комаров. Через минуту костер пылает, комары исчезают, и я снимаю сетку. Будто солнце вышло из-за туч, так стало светло. Внизу Имандра, на которой теперь выступает много островов, за ней – горы Чуна-тундра с белыми полосами снега, будто ребрами. Внизу лес, а тут тундра, покрытая желто-зеленым ягелем, как залитая лунным светом поляна.
Ягель – это сухое растение. Оно растет, чтобы покрыть на несколько вершков скалы, лет десять. И вот этой маленькой березке, может быть, уже лет двадцать. тридцать. Вот ползет какой-то серый жук, вероятно, он тоже без крови, без соков, тоже не растет. И тишина, тишина. Медленная, чуть тлеющая жизнь. Тут непременно должен бы быть монастырь, непременно должны бы жить монахи. Эта сухая жизнь не возмутит даже и самого строгого аскета. Если и тут он заметит вот эту залетевшую сюда зачем-то бабочку, то можно подняться выше. Немного дальше начинаются голые черные скалы. Превзойти их никому нельзя. Тут где-то живет смерть, притаилась где-нибудь в тени, слилась со скалами и не показывается, пока здесь постоянный свет. И когда настанет зимняя ночь, выйдет и засверкает полярными огнями.
Святой Трифон спасался на одной из таких гор дальше, ближе к океану. Он назвал эти горы «северными ребрами».
Отдохнули у костра и идем выше по голым камням. Ущелье Им-Егор теперь уже не кажется прорезом в горах. Это огромные черные узкие ворота. Если войти в них, то непременно увидим одного из Дантовых зверей…
Еще немного спустя мы внутри ущелья. Дантовой пантеры нет, но зато из снега – тут много снега и камней – поднимается олень и пробегает через все ущелье внутрь Хибинских гор. Стрелять мы не решились, потому что от звука может обрушиться одна из этих неустойчивых призматических колонн.
Мы проходим по плотному, слежавшемуся снегу через ущелье в надежде увидеть оленя по ту сторону, но там лишь необозримое пространство скал, молчаливый, окаменевший океан.
* * *
Десять вечера.
Мы набрали внизу много моха и развели костер, потому что здесь холодно от близости снега. Так мы пробудем ночь, потому что здесь нет ни одного комара, а завтра рано утром двинемся в путь. На небе ни одного облачка. Наконец-то я увижу полуночное солнце! Сейчас солнце высоко, но все-таки есть что-то в блеске Имандры, в тенях гор, вечернее.
А у нас на юге последние солнечные лучи малиновыми пятнами горят на стволах деревьев, и тем, кто в поле, хочется поскорей войти в лес, а тем, кто в лесу, – выйти в поле. У нас теперь приостанавливается время, один за другим смолкают соловьи, и черный дрозд последней песней заканчивает зорю. Но через минуту над прудами закружатся летучие мыши и начнется новая, особенная ночная жизнь…
Как же здесь? Буду ждать.
* * *
Лопари и не думают о солнце, пьют чай, очень довольны, что могут пить его безгранично: я подарил им целую четвертку.
– Солнце у вас садится? – спрашиваю я их, чтобы и они думали со мной о полуночном солнце.
– Закатается. Вон за ту вараку. Там!
Указывают рукой на Чуна-тундру. Это значит, что они жили внизу, у горы, и не видели за ней незаходящего солнца. В это «комарное время» они не ходят за оленями и не видят в полночь солнца.
* * *
Что-то дрогнуло на солнце. Вероятно, погас первый луч. Мне показалось, будто кто-то крикнул за ущельем в горах и потом заплакал, как ребенок.
Что это?
У лопарей есть поверье: если девушка родит в пустыне, то ребенок будет плакать и просить у путников о крещении.
Может быть, этот ребенок и плачет?
А может быть, это их божество? У них есть свой плачущий бог. Злой дух настиг девушку в пустыне, овладел ею, и оттого родился бог, который вечно плакал. Может быть, это бог пустыни плачет?
– Что это? Слышите?
– Птица! Куропать!
Это, вероятно, крикнула полярная куропатка. Но в тишине, при красном свете потухающего солнца так легко ошибиться.
* * *
После одиннадцати. Один луч потухает за другим. Лопари напились чаю и вот-вот заснут, и я сам борюсь с собой из всех сил. Нужно непременно заснуть, или произойдет что-то особенное. Нельзя же сознавать себя без времени! Не могу вспомнить, какое сегодня число.
– Какое сегодня число?
– Не знаю.
– А месяц?
– Не знаю.
– Год?
Улыбаются виновато. Не знают. Мир останавливается.
* * *
Солнце почти потухло. Я смотрю на него теперь, и глазам вовсе не больно. Большой красный мертвый диск. Иногда только шевельнется, взбунтуется живой луч, но сейчас же потухнет, как конвульсия умирающего: На черных скалах всюду я вижу такие же мертвые красные круги.
Лопари смотрят на красный отблеск ружья и говорят на своем языке, спорят.
– О чем вы говорите, о солнце или о ружье?
– О солнце. Говорим, что сей год лекше идет, может, и устоится.
– А прошлый год?
– Закаталось. Вон за ту вараку.
Будто разумная часть моего существа заснула и осталась только та, которая может свободно переноситься в пространства, в довременное бытие.
Вот эту огромную черную птицу, которая сейчас пересекает красный диск, я видел где-то. У ней большие перепончатые крылья, большие когти. Вот еще, вот еще. Одна за другой мелькают черные точки. Это не птицы, это время проходит там, внизу, над грешной землей у людей, окруженных душными лесами. Или это люди бегут один за другим по улице непрерывно долгие годы? Они бегут по двум протянутым веревочкам вперед, вперед. А я смотрю на них в окошко, вижу, как злой карлик с кривыми ногами хочет выдернуть веревочки. Как жутко смотреть, и как страшно! Что-то будет? Люди не могут без этого жить. Вот одна веревочка, вот другая – и все перемешалось, все столкнулось, кровь, кровь, кровь…
Это не сон, это блуждание освобожденного духа при красном, как кровь, полуночном солнце. Вот и лопари сидят у костра, не спят, но тоже где-то блуждают.
– Вы не спите?
– Нет.
– Какие это птицы там пролетели по солнцу? Видели вы?
– Это гуси летят к океану.
* * *
Солнце давно погасло, давно я не считаю времени. Везде: на озере, на небе, на горах, на стволе ружья – разлита красная кровь. Черные камни и кровь.
Вот если бы нашелся теперь гигантский человек, который восстал бы, зажег пустыню по-новому, по-своему. Но мы сидим, слабые, ничтожные комочки, у подножия скал. Мы бессильны. Нам все видно наверху этой солнечной горы, но мы ничего не можем…
И такая тоска в природе по этому гигантскому человеку!
* * *
Нельзя записать, нельзя уловить эти блуждания духа при остановившемся солнце. Мы слабые люди, мы ждем и просим, чтобы засверкал нам луч, чтобы избавил нас от этих минут прозрения.
Вот, я вижу, луч заиграл.
– Видите вы? – спрашиваю я лопарей.
– Нет.
– Но сейчас опять сверкнул, видите?
– Нет.
– Да смотрите же на горы! Смотрите, как они светлеют.
– Горы светлеют. Верно! Вот и заиграло солнышко!
– Теперь давайте вздремлем часика на два. Хорошо?
– Хорошо, хорошо! Надо заснуть. Тут хорошо, комар не обижает. Поспим, а как солнышко станет на свое место, так и в путь.
После большого озера Имандра до города Колы еще целый ряд узких озер и рек. Мы идем то «тайболой», то едем на лодке. Чем ближе к океану, тем климат мягче от теплого морского течения. Я это замечаю по птицам.
Внутри Лапландии они сидят на яйцах, а здесь постоянно попадаются с выводками цыплят Но, может быть, я ошибаюсь в этом и раньше не замечал птенцов, потому что был весь поглощен страстью к охоте. Тут что ни шаг, то выводок куропаток и тетеревей, но мы не стреляем и питаемся рыбой. Проходит день, ночь, еще день, еще ночь; солнце не сходит с неба, постоянный день. Чем ближе к океану на север, тем выше останавливается солнце над горизонтом и тем ярче оно светит в полночь. Возле океана оно и ночью почти такое же, как и днем. Иногда проснешься и долго не поймешь: день теперь или ночь. Летают птицы, порхают бабочки, беспокоится потревоженная лисицей мать-куропатка Ночь или день? Забываешь числа месяца, исчезает время.
И так вдруг на минуту станет радостно от этого сознания, что вот можно жить без прошлого и что-то большое начать. Но ничего не начинается, пустыня покоится, и мертвый глаз вечно стоит над горизонтом, зорко следит, как бы кто-нибудь из мертвых здесь не восстал.
Часть II. К варягам
Глава IV. Свидание у Канина носа
На пристани
9 июля
Я опять в Архангельске, на берегу Двинской дельты, у того самого камня, где весной, в мае, остановился мой волшебный колобок. Опять тут те же три росстани: в Соловецк – Лапландию, в самоедскую тундру и в океан. Опять те же люди: моряки и богомольцы. Я уже прошел теперь путь с богомольцами. Теперь еще определеннее, чем раньше, все их странствование мне представляется поклонением той черной безликой иконе, на которой беспокойно дрожит отражение пламени. И полуночное солнце мне кажется лампадой, зажженной над мертвой пустыней.
Хочется простых ощущений, общения с обыкновенными и свободными людьми.
Множество парусных шкун будит во мне множество воспоминаний, переносит меня в те времена, когда иллюзии майн-ридовских романов казались легко осуществимыми возможностями: стоило только убежать. В эти не так счастливые, как кажется, но все-таки дорогие и милые времена я всегда и всюду плавал на парусном судне. Но потом исчезали иллюзии, легкое, грациозное парусное судно уплывало в неведомую призрачную даль, а здесь, вблизи, вместо него пыхтел буржуазный скептик-пароход…
И вот я снова на опушке зеленого леса…
На Архангельской набережной весело: сколько тут мачт настоящих парусных судов!
Трещат канаты, надуваются паруса, десятки шкун приплывают и уплывают в море, сотни стоят у берега на якорях, красиво раскачиваются и отражаются в спокойной воде.
Тут люди не стареют душой: я вижу пожилого почтенного человека на самом кончике шпиля; он завязывает веревочки и вот-вот бухнет в воду. Вижу совсем седого старца, похожего на Николая Угодника; он свесил ноги с борта и распевает веселую песню с бутылкой в руке. Про малышей и говорить нечего: те так и снуют по мачтам.
Читаю надписи на судах: «Св. Николай», «Св. Николай» и так без конца. «„Почему бы это?“ – думай» и припоминаю, что Николай Чудотворец имел власть над морем. Вспоминаю, что в былине «Садко» он даже спускается к водяному и выручает новгородского купца. Ясно, почему моряки называют свою «посуду» в честь этого угодника. Но мне просто хочется поговорить с моряками и я спрашиваю их:
– Почему вы называете свои суда «Николаями»?
Меня сейчас же обступают, смеются и поясняют:
– А вот потому «Николаем» называем, что как выйдешь в окиян, да поднимется погодушка, да зачнут как взводни (волны) горами ходить, так тут и станешь поминать Николу Угодника, тут и примешься его за бока грызть, а потому и называется «Святой Николай». Поезжай, попробуй, и ты вспомнишь, небось забыл.
Пояснил мне, смотрит на меня, хохочет, и еще человек десять хохочут. Я тоже смеюсь. А они все приговаривают: «Попробуй-ка, попробуй». Потом друг за другом рассказывают, как их трепало море. Один хватается за канат, упирается ногами в камень, показывает, как он держит руль в бурю, а другие смеются, заливаются смехом, и каждый готовит новый рассказ.
– Попробуй-ка, попробуй!
– А возьму, да и попробую… – говорю я.
– Что ж, это можно, – серьезно отвечают мне моряки, – Попросишь, любой капитан возьмет на море.
И в самом деле, приходит мне в голову, раз уже я задумал узнать жизнь северного человека, то прежде всего нужно познакомиться с морем.
– Как бы это устроить, чтобы вышло недолго? – спрашиваю я…
– Очень просто, – отвечает мне молодой человек, загорелый, с синими морскими глазами, – очень просто, поедемте со мной в океан на десять суток ловить рыбу. Вот и узнаете нашу морскую жизнь. У меня судно хотя и паровое, «траулер», но экипаж весь с парусных судов…
Молодой человек – капитан, хозяин небольшого английского парового рыбацкого судна, первого траулера в России на Северном Ледовитом океане. Каждые десять суток он совершает рейс в океан и ловит рыбу приблизительно у Канина Носа.
Я радуюсь его предложению, как ребенок; мне кажется, будто я бегу в Америку. Я, конечно, согласен.
– Но только помните, – говорит мне капитан, – если с вами приключится морская болезнь, то высадить вас никуда не можем; разве в Тиманскую тундру, к самоедам.
– Ничего, – отвечаю я, – ничего…
– Вот и попробуешь, – смеются опять моряки, – попробуй-ка, попробуй.
И все жмут мне на прощанье руку, хотя и незнакомые. Какие незнакомые! Я, конечно, вряд ли узнаю их при встрече, – но они меня наверно узнают и напомнят:
– Да вот на пристани ты спрашивал, почему мы свою посуду по Николаю Угоднику называем… Ну, как же, попробовал, знаешь теперь?
Белая ночь
– Это не путешествие, это роман, да еще с великой княгиней Ольгой, – сказал мне на днях мой знакомый, выслушав мой рассказ о поездке в океан.
– Да, – ответил я, – если бы только Ольга была настоящая Ольга…
Но вот мой рассказ.
Условившись с капитаном траулера, я отправился к себе в гостиницу. Служитель внес в мой пыльный номер самовар, пожелал спокойной ночи и закрыл дверь. Я остался вдвоем с самоваром. Это одиночество в пути так приятно волнует. Завтра встретятся интересные новые люди, завтра захватит новая незнакомая жизнь, но сегодня вот этот пыльный нумерок и ни одного знакомого во всем городе, кроме капитана.
На потолке, на стенах густая пыль и паутина, сверху спускается паук и, испуганный паром самовара, спешит наверх. Беру письма и читаю одно за другим, сам пишу, не замечаю, как мало-помалу останавливается день, наступает светлая летняя архангельская ночь. Одно письмо меня раздражает, я разрываю его на мелкие клочки и открываю окно, чтобы выбросить. И тут замечаю, что уже ночь, тихо, светло, совсем как днем светло, но все изменилось, потому что все остановилось. Пускаю в воздух листки бумаги, они слетают вниз; слышно, как странно шелестят, падая на камни, и останавливаются, и глядят молчаливые, но еще более неприятные для меня там, внизу, чем тут, в гостинице. Я со злобою смотрю на них, они на меня.
Вдруг с треском открывается окно возле меня… Вздрагиваю, пронизанный иголками ужаса, вижу рядом с собою человеческую голову…
Ничего особенного. Просто жилец из соседнего номера заинтересовался моими бумажками и открыл окно.
– Вы меня испугали…
– Извините…
И мы оба смотрим на бумажки. Но белою ночью, когда все молчит, совсем уже неловко так рядом сидеть и молчать.
– Вы куда едете? – спрашивает он.
– К Канину Носу. А вы?
– На Новую Землю.
Мы разговариваем одними словами, одними настроениями, и через пять минут новый знакомый переходит ко мне.
Наше общение призрачно так же, как эта белая ночь. Быть может, завтра мы расстанемся, как чужие люди, и никогда не встретимся. Но сейчас мы близки, мы готовы открыть друг другу все, что есть на душе.
Мой знакомый едет тем же путем, как и я, на Новую Землю, на большом прекрасном пассажирском пароходе «Великая княгиня Ольга», а я на маленьком «Св. Николае».
Мы предполагаем возможность нашей встречи в океане и радуемся этому. Он зоолог, едет изучать птиц. Он не простой ученый, а поэт своего дела, романтик. Целое лето он будет на Новой Земле в палатке, в совершенном одиночестве.
– Там есть несколько самоедов, – говорит он, – кажется, поселенных там правительством, и только… Они мне помогут при охоте на зверей и птиц.
Он увлекается и приглашает меня в свой номер, показывает металлическое блюдце, в котором он будет себе варить уху, кашу, жарить птиц; показывает палатку, несколько меховых вещей, ружье…
– И все? – спрашиваю я.
– И все… – улыбается он. – Так вот и буду жить…
Он улыбается мне так, будто стыдится, что с него спала одежда ученого, взрослого, и остался мальчик, которому хочется позабавиться с ружьем на пустынном полярном острове.
И мне снова, как и в первый раз на архангельской пристани, кажется, что времена капитана Гаттераса возвращаются. Мне чудится, что это не случайный дорожный знакомый, а один из моих маленьких школьных друзей, с которыми я когда-то пробовал удрать в неведомую, дивную страну…
Мы долго говорим о сахаре и сухарях… Сколько их нужно, чтобы прожить три месяца на Новой Земле? Это сложное вычисление. И брать ли с собою солонину? Зачем брать, когда на Новой Земле живут несметные стаи гусей, водится множество оленей, попадаются белые медведи. Убить одного оленя – и хватит надолго: на Новой Земле, кажется, нет бактерий гниения, значит, мясо сохранится долго. А можно ли на тюленьем жиру поджарить гусей? Вот вопрос! Да гусей же можно жарить в собственном жиру! И мы оба вспоминаем, что в детстве нас почему-то мазали гусиным салом, кажется, от простуды. А потом еще есть рыбий жир, тресковый, на нем тоже можно жарить.
Так мы долго говорим, потерявшись во времени, забывая о движении ночи, светлой архангельской, не мигающей звездами. Комнаты наши рядом. Разойдясь потом, мы все еще переговариваемся.
Трудно заснуть такою ночью… Не спится… Мне вспоминается то время, когда мы, дети, оставив свои ранцы с книжками в городском саду под кустом, пустились по реке на лодке в какую-то неведомую, прекрасную страну.
Как она называлась? – силюсь я вспомнить. Мы называли ее Америкой, но иногда и Азией, и Австралией… Это была страна без территории, без названия, населенная дикарями, которых мы должны победить, добрыми и злыми животными, растениями с широкими зелеными листьями… Мы плыли на лодке, и изгибистая речка то открывала, то закрывала зеленые ворота. Ночью, нашей ночью, звездной, мы вышли на луг и стали рубить саблями высокий тростник, совсем будто сражаясь с дикарями… Тростник мы побросали в лодку, а на лугу зажгли костер и пробовали изжарить на вертеле убитую чайку… Но тут на лугу кто-то еще развел огонек и уселся, большой, черный, спиной к нам, бородою к огню. И кто-то совсем близко шевельнулся в траве и стал подползать… Мы бросились к лодке, уселись на сухой тростник, отплыли на середину реки. Но с луга к берегу все ползли и ползли, шелестели и высматривали нас из травы…
За стеной не спит, зевает и перевертывается с боку на бок мой новый товарищ. Я вспоминаю, что забыл посоветовать ему очень важное в дороге, без чего невозможно есть самоедскую уху: взять с собой перцу и лаврового листа.
– Вы не спите?
– Нет, завешиваю окно: светло, непривычно..
– Захватите перцу и лаврового листу.
– Ах да, вот спасибо. О чем вы думаете?
– О какой-то дивной стране, куда мы в детстве бежали.
И рассказываю.
– А как же страна называлась?
– Страна без названия, – смеюсь я ему, – без территории.
– Я тоже хотел туда удрать, – говорит он.
– Почему же не удрали?
– Так что-то… А жаль, не удрал. Теперь стал естественником, территория всякой страны изучена до точности… Теперь уж не убежишь… Тогда нужно было, а не теперь. Да, знаете? И пропасть бы там, что ли, как-нибудь так, совсем…
– Ну, уж нет, – говорю я, – вот съездим еще на Новую Землю, в океан. Покойной ночи, завтра мы с вами расстанемся и непременно встретимся у Канина Носа, подумайте: свидание «Святого Николая» и «Великой княгини Ольги» у Канина Носа!
Отъезд
Так начался роман «Св. Николая» и «Великой княгини Ольги». Светлою ночью мы решали их судьбу, как античные боги на Олимпе, а оба судна стояли рядом у берега: «Ольга» еще молчаливая, а «Николай» взволнованный, на парах. Когда на другой день мы подошли к ним, чтобы попросить капитанов о встрече у Канина Носа, моряки беседовали с картой в руке на палубе «Ольги». Нам и не нужно было просить, они уже говорили об этом свидании. На «Ольге» ехало несколько туристов и туристок, и капитан хотел им доставить удовольствие: посмотреть траулеровый лов рыбы в океане. А капитан «Николая», как человек практичный, просил привезти ему соли, потому что на судне ее было мало, а времени для покупки и нагрузки ее не оставалось.
С циркулем в руке они блуждали по океану и устанавливали точку встречи. Кажется, миль тридцать за Каниным Носом в океане.
– Встретимся, встретимся, – говорит нам один.
– Вот только, если туман, – сомневается другой.
– Почаще свистеть, и услышим.
– А если прокинет течением в тумане? Только вряд ли туман будет.
В это время подошли и туристы – несколько дам и мужчин; они хотят прокатиться на Новую Землю и просят капитана показать им помещение на «Ольге». Мы спускаемся вниз, в удобные пассажирские каюты, пробуем садиться на мягкие пружинные диваны, везде так хорошо, удобно. Одна из дам, в черном плаще и с дорожной сумочкой через плечо, подняла крышку пианино и взяла аккорд… Эти звуки почему-то надолго остались во мне. Веселый разговор с дамами и звуки пианино совсем не шли к новоземельскому настроению моего нового приятеля…
– Пойдемте, – шепнул он мне, – осмотрим «Николая», да и время нам ехать.
– Ничего, – утешаю я его, – они же не останутся на Новой Земле.
– Да, но все-таки хотелось бы более подходящее введение, этим можем мы насладиться и дома.
По узенькой дощечке, рискуя по непривычке свалиться в воду, мы взобрались на борт «Николая». На палубе капитан, все еще в своем джентльменском костюме, и человек пятнадцать поморов-матросов суетились, готовясь к отъезду. Капитан стал нам показывать свой пароходик и рассказывать его биографию: родился в Англии, детство и начало юности провел на родине и в своей лучшей поре, восьми лет, явился в Россию; стареют траулеры быстро. В тридцать лет уже дряхлые старики, вот потому нужно пользоваться временем и совершать поездки в океан через каждые десять дней. Капитан нам рассказал, что пароходик вовсе не так сильно качает, как можно думать, судя по его сравнительно небольшим размерам (сто десять футов), потому что он сидит глубоко, на четырнадцать футов, при нагрузке углем – до шести тысяч пудов. Такая нагрузка всегда одинакова, потому что по мере сжигания угля прибавляется вес пойманной рыбы. Капитан объяснял нам еще технику лова рыбы, но я плохо слушал, потому что предстояло видеть это целых десять дней; я все рассматривал интересные загорелые лица моряков-поморов.
Потом мы прошли в кухню и оттуда по темной, почти отвесной лестнице спустились вниз, в каюту. Там мне показалось лучше, чем я ожидал, только немного тесновато. Комнатка, шагов в пять в длину и ширину, освещается сверху иллюминатором. Посередине неподвижный стол и над ним висячая лампа. Стенами этой комнатки служат дверцы шкафов, в которых помещаются койки машиниста, помощника машиниста, штурмана; у капитана с его братом-юнгой отдельный, более просторный двухместный шкаф, освещенный сверху иллюминатором. Одна из этих коек предназначалась мне. Здесь, на корме, помещается привилегированная часть экипажа, а в носовой части судна, в совершенно такой же каюте, устраиваются матросы.
– Славно, завидую вам, – сказал мне зоолог, – вот только покачает же вас!
И мне от этих слов показалось, что тут как-то особенно пахнет и как-то странно в такой слабо освещенной сверху комнатке, погруженной в воду; вот-вот она качнется.
– Ничего, – ответил капитан, – большие суда еще сильнее качает. А если шторма не будет, так и хорошо, как покачивает, будто в люльке.
Тут я заметил, что у меня выскочила запонка и покатилась по полу. Я стал искать ее, но не мог найти. Все мы искали долго и все-таки не находили. Наконец, капитан сказал:
– Некогда, господа, пора ехать. Ничего, найдется потом, молоко из лодки не выльется…
– Какое молоко? – не догадался я.
– Это такая поговорка у нас, – засмеялся он. – Бабы с островов молоко возят в Архангельск, они, верно, и выдумали, а теперь у нас так все говорят. Пойдемте, господа, пора ехать.
Я еще раз окинул глазом эту подводную комнатку, из которой и в самом деле молоку никак нельзя вылиться, и стало будто немного неприятно, жутко: десять суток качаться в океане, жить в этой странно освещенной комнатке с морским запахом. «Вот говорят, – пришло мне в голову, – о свободной жизни моряков; и тут такая меленькая, качающаяся камера…» Но это было только одно мгновение. На палубе нас встретило солнце, простор широкой реки и суета матросов…
Зоолог пожал нам руку и сошел на берег. За ним сейчас же убрали трап.
«Николай» свистит, шипит. Но «Ольга» с группой туристов молчит.
– До свиданья! – кланяюсь я им..
– До свиданья, – отвечают они мне.
– Отдай лебедку! Бухту скинь! Отдай вязки! Якорь чист?
– Чист.
– До свиданья! – кричат нам и машут платками.
– У Канина Носа! – отвечаю я им.
Зоолог с туристами скоро исчезают за баркой, видна только дама в черном плаще на носу парохода.
Мы поднимаем флаг, делаем «Ольге» салют. Она нам отвечает.
– До свиданья, «Княгиня Ольга»!
– До свиданья, «Святой Николай»!
По Маймаксе
Я почему-то раньше представлял себе, что Архангельск лежит у самого моря, совершенно забыв треугольник Двинской дельты, в тридцать пять верст длиною с запада и в пятьдесят верст с востока. Тут множество островов, множество протоков, так что разобраться в лабиринте без карты совершенно невозможно. Кое-где по этим островам виднеются деревеньки, первые поселки новгородцев в стране северной чуди, как указано в путеводителе. Но большинство их не занято, многие так болотисты, что и совершенно не годны для поселения.
– Что тут птицы бывает! – рассказывает мне матрос Матвей, здоровенный, коренастый, курносый новоземельский охотник. – Птицы тут великое множество: утки, гаги, гуси прилетают.
Этот Матвей мне прежде всех бросился в глаза и понравился своим открытым и веселым лицом. У него в руке зверобойное ружье, норвежский ремингтон, с которым он не расстается.
– Тут на море всякая штука может встретиться, – поясняет он мне, – заяц морской, нерьпа, белуха, косатка.
– Неужели же таких огромных животных, как косатка и белуха, можно убить пулей? – сомневаюсь я.
– Точку надо знать, – говорит он, – в сердце попасть, тогда убьешь. Только вот тонут. Застрелишь, взревет и потонет, редко захватишь.
Заметив мое сомнение в том, что он может пулей попасть в движущуюся точку, Матвей прицеливается в летящую чайку и стреляет. Большая морская чайка с темными крыльями и с белоснежной шеей спотыкается в воздухе и падает в воду.
А Матвей все так же спокойно, от полноты здоровья, улыбается, как и до выстрела. И мне кажется, что такие удачные выстрелы можно делать, когда в душе нет ни одной малейшей царапинки, когда там все просто, спокойно растет и, разогретое, выпирает наружу.
– Жарко мне, – говорит Матвей, – не привыкли мы к жаре, – и снимает свой пиджак. И другие снимают. Всем жарко. Но мне совсем не жарко, я даже не понимаю, как можно при этом остреньком ярком северном солнце чувствовать жару.
Пока мы едем по извилистой узкой речке Маймаксе, я знакомлюсь со всем экипажем и фотографирую интересующие меня лица. И как же любят эти простые люди фотографироваться!.. Мне кажется даже, что в основе этого лежит что-то серьезное, вроде того, как для нас написать книжку, оставить вообще по себе след, объективироваться. И в самом же деле, вот хотя бы этот старик в ирландских брюках, которого здесь называют все дядей; на лице этого старика написано, что он раз десять тонул, и его спасали, и раз десять он спасал, и что если он булькнет в воду, то, кроме минутных кружков на воде, ничего не останется. А то вот я его сфотографирую, и он повесит портрет в «чистой» комнате над столиком с тюлевой скатертью. На него будут смотреть из угла преподобные Зосима и Савватий и птица Сирин, а с потолка – вырезанный из дерева и окрашенный в синюю краску голубеночек, «вроде как бы святой дух». И так в этой чистой комнате, куда заглядывают хозяева только в торжественных случаях, будет висеть старик помор, потом сын с женой и с детьми. Постепенно возникнет любопытнейшая фамильная галерея в этой чистой комнате с тюлевыми занавесками и старинными образами.
Вот почему, знакомый немного с архангельским бытом, я с удовольствием снимаю таких людей. Старик в ирландских брюках застенчив. Он мнется, топчется, искоса поглядывает на меня, наконец подходит и спрашивает: «Почем?» – и не приеду ли я к нему в Мудьюгу и не сниму ли я его с супругой.
– Зачем тебе? – спрашиваю я.
– Как зачем, а то так помрешь и никто о тебе не узнает.
Я навожу аппарат, но он пугается, ему надо расчесать волосы, смазать их маслом, чтобы было «честь честью». Он долго возится внизу и является наверх с пробором посредине, тем самым человеком, который поражает нас на фотографиях величайшей искусственностью позы и напряженностью лица. Я его фотографирую, он испытывает глубочайшую благодарность и садится, добрый, возле меня на канатах. Немного молчит и спрашивает:
– Откулешний?
– Из Петербурга.
– А родина?
Я назвал. Он помолчал.
– А по какому же ты делу ездишь?
– Карточки снимаю.
– Тем и занимаешься?
– Тем и занимаюсь.
Опять мы молчим.
– А жена есть?
– Есть.
– И деточки есть?
– Есть.
– Ну, слава богу, – говорит он наконец, вполне удовлетворенный и с открытой душой.
Я подвергаю дядю такому же допросу. Он из Мудьюги, торговой беломорской деревни, недалеко от Двинской губы, на Зимнем берегу. Зажиточные поморы этой деревни ведут торговлю с Норвегией, плавают туда на тех самых шкунах, которые я видел с архангельской пристани. Из Мудьюги вышло много очень смелых и зажиточных, или, как выражается дядя, «прожиточных», мореходов. Капитан траулера тоже из Мудьюги и оказывается племянником моего старика. «Так вот откуда ирландские брюки», – думаю я. Но нет, дядя их купил сам в Англии. Почти все матросы нашего судна бывали за границей, у всех в костюмах есть след влияния Европы. Между первобытными дядей и Матвеем и джентльменом, вполне европейцем, капитаном – целая лестница. Мне хочется понять этот переход, взять что-нибудь среднее, и я знакомлюсь с юношей-юнгой, братом капитана. Он ученик шкиперской школы, совсем мальчик на вид, но выполняет все обязанности матроса. У него бездна желаний, он мог бы побывать уже в Лондоне и Париже, ему уже предлагали места на иностранных судах с жалованьем пятьдесят крон в месяц, но брат не выпускает его из-под своей опеки.
– А вы откуда? – спрашивает он меня.
Я называю.
– Там соловьи поют, видали вы соловьев? А Париж видели, а Италию?
К нам подходит другой юнга, постарше; этот уже везде бывал и имеет вид необычайной самоуверенности. Он спрашивает меня, в каком журнале ему поместить свое сочинение. Оно еще не начато, но будет написано непременно; он изложит все, что знает об океане. Молодой человек оказывается очень интересным и энергичным. Он рассказывает мне, сколько он перенес невзгод, прежде чем попал в шкиперское училище и сделался там первым учеником
– Прежде всего я был коком, то есть, по-вашему, поваром.
– Вот таким? – сказал я ему, указывая в кухню на молодого парня, страшно грязного, с раскрытым ртом и пальцем в носу.
– Нет, – засмеялся он, – это вологодский кок, они приходят из Вологодской губернии и привыкают к морю уже взрослыми. А я природный помор и начал плавать на парусном судне мальчиком. На шкуне кок должен все делать, не только пищу готовить. Чуть что не изладил, тут тебе сейчас волосянка. Тут уж не станешь вот так пальцем ковырять. Бывало, в поветерь хозяин проснется, почешется, потянется, встанет, посмотрит на море, зевнет: «Побережник! Ванька, ставь самовар!» Еще почешется: «Подожди, не надо». И опять завалится. Проснется: «Где самовар? Я тебе сказал самовар ставить!» И волосянка. «Ставь!» – кричит. Побежишь ставить. «Стой! Дай квасу!» Таскают, таскают, то пищу готовить, то рыбу солить, то паруса сшивать. И нет отдыху, хоть поветерь, хоть шторм. Редкий дойдет до штурмана или капитана, а то так пропадают всю жизнь в матросах. Нужно очень бойким быть!
Он опять указал мне на вологодского кока и засмеялся.
– Ну, далеко ли уйдет такой человек. Да и мне бы сидеть веки вечные матросом, если бы сам за ум не взялся. Отдал меня батюшка, покойник, в Соловецкий монастырь годовиком. Осмотрелся я там. Кончился срок. Нет, говорю, батюшка, не стану я так по-вашему жить. Да и ушел из дому. Вот так и наладился. Объездил весь свет, ездил и с англичанами, и с норвежцами, и с немцами, бывал на зверином промысле на Новой Земле, знаю все морское дело и вот теперь первым учеником кончаю, осталось одно лето практики.
«А батюшка его, – думаю я, – был, наверно, вот таким, как этот дядя в ирландских брюках, таким же крепким корнем, считавшим за великий грех высунуться из-под земли, державшимся всю жизнь за какие-то светлые точки там, в темноте, и все укреплявшимся и кореневшим, пока не настали другие времена».
– Край наш богатый, непочатый, – продолжает юноша, – море наше кишит зверем, только возьмись, приложи руки. Старики наши, вот хоть этот дядя, на льдинах плавали за зверем. Разве можно так промышлять! Себя не жалели, не понимали. Они вот так плавают по океану на льдине, пока их ветер к берегу принесет. И рады, если по двести, по триста рублей на брата выручат. А англичане и норвежцы тут же с своих судов им через голову стреляют и десятки тысяч увозят.
Я слушаю юношу и думаю о том, какой высший предел возможности его развития здесь, чем оно удовлетворится, как кончится его карьера.
И будто в ответ мне тают узкие берега Маймаксы и открывается бескрайная даль Белого моря…
В горле Белого моря
Я целый день не схожу с палубы: так хорошо на солнечном угреве, возле дышащего холодком северного моря. А вечером и совсем нельзя уходить: мы должны въехать в горло Белого моря, в ту узкую часть его, которая выводит в океан. Мы должны увидеть Терский берег Лапландии, должны проехать мимо острова Сосновец, через который проходит Полярный круг. Там, в это время года, солнце уже не садится и можно видеть полуночное сияние. Но дядя обещает туман и качку. У него примета: если суп пересолен, то, значит, будет качка и туман, а суп был сильно пересолен…
Так я стою и жду, когда солнце остановится и поднимется наверх. Легкий ветерок N0 холодит, небольшое волнение, верхушки волн светятся, зеленея, и рассыпаются белыми гребешками. Налево колышутся какие-то тяжелые белые полосы.
– Это туман?
– Нет, не туман, это тепло полезло с берега. Вот туман! Старик показывает рукой прямо вперед. Там, далеко, будто подпирая солнце, пушится белая гряда гор.
– Где же туман?
– А вот эта стенка и есть туман, – показывает он рукой на пушистые горы. – У нас примета: как подует полуночник (N0), то придет туман рано или поздно. Обязательно придет. Потому придет, что этот ветер гонит туман со льдов, с Новой Земли.
Я всматриваюсь в стенку, она бежит на нас, подвигается с страшной быстротой. Вот покраснело и сплюснулось солнце, и разошлось, и будто растворилось в тумане. Окутало сыростью и мертвым белым мраком, дохнуло льдинами Новой Земли.
И так проходит долго, долго.
– Слепой туман! – говорит дядя.
– Где мы теперь? – спрашиваю я.
– А бог знает, где… Сосновец, верно, уже проехали.
Он рассказывает мне об этих местах страшные истории. Каждое из таких имен, как остров Моржовец, Три острова, мыс Городецкий, Орлов, Святой Нос, в его душе написаны бесчисленными кораблекрушениями, украшены легендами, преданиями.
В горле Белого моря, где океанская вода встречается с беломорской, образуются опаснейшие водовороты, «сувои», и дядю много раз обносило вокруг Моржовца течением, или «венчало», как он говорит. И «венчало» его не на шкуне, даже не на лодке, а на льдине. Этот старик зимой с семью такими же, как он, бесстрашными товарищами выбирают большую льдину, садятся на нее и едут так по морю, вполне покоряясь стихии, воле божией… Льдину носит ветром и течением, охотники стреляют морских зверей и дожидаются, когда господь принесет их к берегу. Обыкновенно господь милует их и оставляет в «своем море». Но, бывает, и гневается и «проносит» сюда, в горло Белого моря. Тут их «венчает» вокруг Моржовца, уносит дальше в океан. Остается одна надежда – на Канин Нос. Но если и мимо Канина пронесет, то тогда всякие земные помышления нужно отбросить и положиться на одного господа бога. И бывает, что их вынесет на Новую Землю и даже на далекую Печору…
– Всяко бывает, – говорит старик, – всякое господь посылает испытание нам, грешным, на сей земле. Когда милует, когда казнит. Нам ли знать его, господние, пути. По только много, много голов наших тут складено. Несть им числа… Вот тоже Семена лонись (прошлый год) у Городецкого волной стегнуло…
И он рассказывает, как у Семена разбило в темную ночь шкуну у Трех островов, как при свете волн (фосфорическом) они с разбитого на камнях судна увидели близко черные скалы Лапландии и, привязав к высокой мачте веревку, раскачнувшись, по одному перелетели на берег. Рассказывает, как это судно приливом подвинуло к берегу и как они сделали из него костер, чтобы обогреться. Семен же крепко плакал, тужил, потому что восемьсот пудов семги унесло и судно разбило, а потом и вовсе взбесился, но его тут сетями опутали, и он стих у костра.
– Да где же мы теперь? – спрашиваю я, взволнованный этими рассказами, протестующий и будто сдавленный со всех сторон этой надвигающейся неведомой полярной силой. – Где мы теперь?
– Про то бог ведает, кругом туман, слепой туман…
Жизненная качка
– Где мы? – спрашиваю я тревожно капитана, спустившись вниз.
– Не знаю, – говорит он мне спокойно, – туман, вероятно, где-нибудь около Сосновца.
Он совершенно спокоен, потому что проезжал здесь сотни раз и вполне доверяет штурману.
Иллюминатор чуть бледнеет наверху, и мне не видно капитана. Знаю только, что он лежит в койке, потому что вижу там красный огонек его сигары.
Вдруг я чувствую, что будто наша каютка опрокидывается, что я теряю способность ориентироваться, твердое непоколебимое пространство будто становится жидким и ускользает.
– А знаете, – говорит капитан, – тут, в горле моря, непременно качка будет. Чувствуете, как славно качнуло?
Я спешу лечь на койку и избежать этим легкого головокружения.
А капитан как ни в чем не бывало философствует и рассказывает мне свою морскую жизнь. Ему хочется рассказать мне, стороннему человеку, о себе, вроде того, как дяде – сфотографироваться.
– Наша морская жизнь, – начинает он, – непрерывная качка. Как и всем у нас, мне пришлось начинать с кока, но только я с отцом ездил, это гораздо легче; отец жалеет, не очень гоняет. Отец меня любил, а несогласия пошли только после монастыря. Отслужил я год в монастыре, не очень понравилось, и так думаю: надо как-нибудь пробиться вперед. Стал по-своему жить. Отец все косился, ворчал, а вот как я поднялся на ноги, да все семейство стал кормить, да дом выстроил – замолчал. Он внизу живет по-своему, а я наверху – по-своему. Однако здорово покачивает, у вас голова еще не кружится?
– Ничего.
– Ну, может быть, ничего и не будет. Бывают такие люди, что не болеют. А меня мальчиком так сильно море било. Хорошо… Когда стал я на ноги, думаю, вот бы пароходик купить, наживку[29] развозить мурманским промышленникам, как в Норвегии, а в штиль можно шкуны буксировать. Нашелся капиталист, дал денег, и поехал я в Норвегию покупать пароход. Знакомый купец-норвежец отговаривает. «Купите, – советует мне, – траулеровый пароход в Англии». – «Зачем? – говорю я. – Разве в нашем море можно тралом ловить?» – «У вас-то, – говорит, – и можно». И показал мне книгу. Смотрю: три, четыре, пять тысяч за рейс к Канину Носу. Тут я, куда ни шло, взял да и зафрахтовал норвежский траулер. Сделаю, думаю, опыт, сначала попробую на чужом. И вот, под норвежским флагом, являюсь на Мурман. Закинул трал. Изорвался. Закинул другой. Изорвался. А тут еще оборвал ярус[30], промышленники на меня накинулись, что я на иностранном пароходе, да еще им снасть рву, губернатору подали прошение, я – телеграмму. Разрешили мне ловить, только чтобы не мешать промышленникам. Тут я и убрался к Канину Носу. Закинул там. Ничего. Закинул еще. Ничего. А время идет, ведь две тысячи в месяц с меня брали! Ну, вот вам и качка, чуть было я тут не разорился…
Капитан рассказывает, а я напрягаю все свое внимание, чтобы слушать его и не слушать себя, потому что там внутри совершается какая-то возня, будто что-то там качается и даже слегка попискивает…
– Что это пищит? – не выдерживаю я наконец этой борьбы с собою.
– Это крысы пищат, – отвечает капитан, – проклятые английские крысы, черт бы их побрал, не могу извести, какие-то особенные, большие, породистые. Заткните бумагой дырочку. Нашли? Она у вас над головой должна быть, заткните получше, а то на койку, бывает, выскакивают… Это их дети пищат. Ну, хорошо. И повезло же мне у Канина потом: все оправдал и выручил еще тысячи две. Тут я и отправился в Англию вот за этими крысами. Купил пароход и еду назад морем зимой в октябре. Поднялся шторм страшнейший, било нас дня три. Шторм и туман. Никак определиться не можем. И вот тут вышла история: чуть мы не погибли. При покупке парохода не заметил я, что лаг был старый. Вы знаете, что такое лаг? Вертушечка, которую спускают на веревке в воду и отмеривают число пройденных верст. Этим мы только определяемся. Лаг был старый, непроверенный, отсчитывал меньше, чем нужно, а шторм задерживал и тоже спутывал время. Рассчитываю я по числу верст, что, должно быть, близко Норвегия, и свернул к Лофоденским островам. Едем, едем, едем… нет островов. Что за история! И уголь выходит весь, и не знаем, где мы. Тут расчистило туман. И такие, скажу вам, засверкали северные сияния, что в жизни никогда не видел. А Полярная звезда чуть не над головой стоит. Земля показалась. Какая тут может быть земля? Один матрос, бывалый, узнал. Это, говорит, Медвежий остров. Вот ведь куда мы заехали, чуть полюс не открыли. Направили пароход на Мурман и только в Екатерининскую гавань вступили, последнюю соринку угля сожгли и последний сухарь съели…
Капитан окончил свой рассказ и помолчал. Потом начал говорить так искренно, как только говорят очень близкие люди или совсем чужие.
– Вот я в своем деле уж, можно сказать, собаку съел, а не знаю, что завтра будет, и мучит это, неужели же это жизнь? Какая это жизнь, какое это дело, что вот так, в одну минуту, все может перевернуться, как лодка? Скажите, что в вашем деле… что вы там делаете… в этом ученом деле тоже так?
Но в это время меня качнуло сначала к стене, потом назад по направлению к крысам, потом прижало к краю койки.
Я не мог ответить так же искренно в тон капитану, буркнул ему что-то и поднялся наверх, на палубу.
Морская качка
Нет ничего, утверждаю, сильней и губительней моря.
Крепость и самого бодрого мужа оно сокрушает…
«Одиссея»Да, это качка, настоящая морская качка… И что-то еще будет в океане? Что, если десять дней морской болезни? Вот поднимается нос парохода высоко к небу – и бух вниз – в волну. И на палубе кусочки пены тают, стекают водой. Меня шатает, весь свет перемещается, а я неловко остаюсь на месте один. Матвей внимательно смотрит на меня и говорит сочувственно:
– Море бьет?
Но я его сочувствия не принимаю. У меня складывается собственная система борьбы с морской болезнью. Медикаментов со мной никаких нет, да они и бесполезны. Врачи не знают причины болезни: одни говорят – от малокровия, другие – от полнокровия, третьи – от нервов. А мне кажется, что это от малодушия; морская болезнь – враг, который интереснейшее путешествие может превратить в сплошную пытку. Итак, у меня враг, с которым я вступлю в борьбу, и живой не дамся ему. И прежде всего – никому не стану высказывать своего страха, буду веселым.
– Море бьет? – спрашивает Матвей.
– Нет, пустяки.
– А видал ли ты когда нашу погодушку?
– То ли видал!
Меня опять качает, и я едва удерживаюсь за веревку. Матвей недоверчиво глядит на меня. А я, как ни в чем не бывало, напеваю слышанную мною здесь песенку: «Черная юбка, белая кайма, любила я молодца, а теперь нема». Матвей мне подтягивает, другой матрос, третий, и вот, среди шума волн, в море веселится матросская песня: «Черная юбка, белая кайма». Я считаю это победой и иду в кухню. Там самый дорогой теперь для меня, единственный в мире понимающий меня человек, которому можно открыть душу, это кок, вологодский кок, весь грязный, с раскрытым ртом, с большими ушами. Еще с утра капитан стал приглядываться к нему и сказал мне: «Опять сами готовить будем, море бьет. Четвертый уже кок за лето. Как выедем в море, ляжет и конец, и пролежит десять дней. Опытные не идут в коки, а новички болеют. Смотри-и-те, как рот разинул».
Так мне рекомендовал капитан кока, не понимая, что это самая лучшая для меня рекомендация. И вот теперь я, ободренный успехом у матросов, подвожу к нему и говорю покровительственно:
– Море бьет?
Он улыбается мне виновато.
– Тошне-хо-нько.
– Ничего, ничего, – ободряю я его. – Давай учиться ходить.
Мы начинаем с коком ходить по палубе, вернее, ползать. Матвей замечает нас, смеется и говорит мне:
– Сегодня поштормуем.
– Что это значит?
– А значит, что когда солнце в зюд-вест станет, то будет шторм.
– А это разве не шторм?
– Это не шторм, это свежий ветер. Вот когда песочек на палубу выкидывать будет да камешки фунтовые перекатывать, вот это шторм.
Я шепчу про себя что-то очень похожее на молитву и спускаюсь вниз. Нужно как-нибудь бороться с врагом.
Буду пробовать писать письмо. Беру чернильницу, перо и, хотя мы еще далеко не доехали до океана, пишу. «Сев. Ледов, океан, 70° сев. шир. и 70° вост. долг. Вот, друзья мои, куда я забрался…»
Вдруг я вижу, моя чернильница ползет по столу. Хочу поймать ее, она бежит скорее, падает вниз и исчезает в моем полураскрытом чемодане с бельем. Подхожу к чемодану, но меня бросает в капитанскую каюту на койку, где пищат английские крысы.
Шторм! И что теперь с коком? Скорее поднимаюсь наверх.
Он стоит у борта и кланяется морю.
– Тошне-хонь-ко… – еле выговаривает он виновато, но ободряется при виде меня.
А я замечаю, что у него в руке чайник, и радуюсь: кок не забывает своих обязанностей. Мне вдруг становится весело: шторм страшнейший, а ведь, в сущности, со мной ничего не было, и кок не выпускает из рук чайника. Я беру кока под руку, и мы проходим по палубе, ловко изгибаясь, как акробаты, ко всеобщему изумлению матросов.
– Не бьет море? – говорит Матвей.
– Видишь!..
– Ну, моряк!
Победа, полная победа! Теперь уже конец, теперь я больше не заболею. А кок? Кок тоже не выпускает из рук чайника.
– Моряк, моряк и есть, – приговаривает всегда веселый Матвей.
Святой нос
После крещения штормом я уже настоящий моряк и принимаю самое близкое участие в судьбе нашего маленького пароходика. Мы сидим с капитаном внизу, пьем чай и совещаемся. Чайник, для безопасности, стоит в деревянном ящике, а стаканы мы, конечно, держим в руках. Капитан недоволен: нас прокинуло в тумане, унесло с курса течением, мы не видали маяка на Орлове, не слышали и колокола, не слышали сирены на Городецком мысу. Если так будет продолжаться и мы не увидим Канина Носа, то «Ольгу» не встретим и привезем рыбу с душком. Я, как и капитан, тоже очень хочу встретить «Ольгу», потому что рыбное дело мне, испытавшему шторм, становится таким же близким, как и капитану. А может быть, не рыбное дело, может быть, это зовет уже назад аккорд на пианино, взятый дамой на «Ольге»? Нет, нет, просто рыбное дело. Мы пьем чай, пока не слышим удара колокола. Это смена вахты. Сейчас придет матрос и позовет нас на смену штурману. Матрос спускается к нам.
– Берега не видно? – спрашивает капитан.
– Не кажет, – отвечает матрос.
– Компас?
– Норд-ост.
– На лаге?
– Не смотрел.
– Волна?
– Такая же.
– Вода?
– Океанская.
– Как океанская?
– Так, океанская, зеленая…
Мы выходим наверх. По-прежнему такие же черные волны выкатываются из серого тумана. Капитан берет белую деревянную чурочку, привязывает к ней гвоздь и пускает в воду. Чурочка медленно тонет и зеленеет, и чем дальше, тем ярче и, наконец, где-то совсем глубоко светится чудным сказочно-заморским светом.
– Вода океанская, зеленая, – говорит капитан и недоумевает.
Дядя зачерпывает немного воды и пробует на вкус.
– Океанский рассол, – говорит он, – соленый. Попробуй, – предлагает он мне. – Нашего беломорского рассолу для ухи нужно ложки две, а этого одной довольно.
Мы идем в штурвальную. Дядя сменяет матроса, становится на штурвал, а капитан отмеривает что-то на карте. Он делает предположение, что мы теперь находимся как раз на линии, проведенной от Святого Носа к Канину.
Но я с этим гаданием не мирюсь, и не потому, чтобы боялся опасности, а так неприятно, будто попал в неволю, будто вот закутали меня, как маленького, в тяжелую одежду, уложили в повозку, и мне нельзя шевельнуть ни ногой, ни рукой, а только пискнуть можно, да и то бесполезно. Кто тут слышит в волнах? А может быть, тут где-нибудь блуждает еще такое же судно, быть может, совсем близко.
– Что, если свистнуть? – предлагаю я капитану.
– Можно, дерните за веревку, – соглашается он. Я дергаю. Свисток гудит, но туман съедает звук, и никто не откликается.
– А что, если сядем на подводный камень? – спрашиваю я.
– Будем сидеть. Поедим всю провизию. Может, увидят.
«А может быть, и не увидят?» – думаю я. И не мирюсь, и не могу мириться с этим положением.
– Как же так, – спрашиваю я капитана, – неужели же нельзя как-нибудь определиться?
– Можно сделать астрономическое определение, – отвечает он, – но у нас нет теперь хронометра и секстанта. Обыкновенно мы определяемся у Городецкого, но теперь нас прокинуло течением в тумане, и где мы – точно сказать нельзя.
Дядя замечает мое смущение и говорит:
– Что это! Вот походил бы ты на парусной шкунке. Тут мы идем, красуемся… и ничего… А место опасное, тут много судов осталось.
Он рассказывает, что старики в его время и вовсе не ездили вокруг Святого Носа на Мурман. Они тащили суда по земле через Нос, но вокруг ехать не решались. Они думали, что около Святого Носа в воде живет червь и проедает суда. А потом какой-то святой этого червя заговорил, и он пропал – и теперь все ездят вокруг Носа.
– Может быть, – говорю я старику, – червь тут ни при чем, а просто старики боялись бурливого места, где встречаются течения, и выдумали червя, а молодые стали посмелее, и суда стали лучше.
– Отчего же, – отвечает он, – может быть, и так, народ молодой, правда, посмелее, но только червь был.
Я не спорю со стариком, делаю вид, будто соглашаюсь. А он рассказывает еще более невероятные вещи.
– Есть, – повествует он, – на море такие люди, бог уж их знает, кто они такие, откуда они придут, куда они уйдут, но только ветры их слушаются. Как-то раз на Мурмане, осенью, когда промысла кончились, вышли промышленники на глядень[31], сели у креста, глядят в море, дожидаются поветери в Архангельск. А уж недели две так без дела сидели, все дожидались ветра походного. И жёнки в Поморье стосковались, ждут мужей домой. Но без ветра на шняке[32] как попадешь? Сидят промышленники на глядне у креста, выпивают, ждут морского ветра. Видят сверху, будто в море судно бежит по ветру. Забежало в становище, вышел на берег старик, ражий, белый, как сметаной облит. С камешка на камешек идет на глядень. «Что за диво, – думают промышленники, – откуда экой старик взялся?» Пришел, смеется. «Дураки вы, – говорит. – Чего вы тут сидите, время провожаете?» – «А ты, умный, – говорят они, – отвези нас против ветра». Смеется старик. «А вот отвезу, – говорит. – Ставьте вина». Поставили ему вина, выпили вместе все. «Еще, – говорит, – ставьте». Еще выпили. «Теперь готовьте лодки». Приготовили лодки, подняли паруса. «Ложитесь спать!» – командует. А они, пьяные, как легли, так и заснули. Просыпаются, Архангельск виден, и поветерь гонит. Подъехали к бару, сразу ветер переменился, опять прежний задул.
– А старик?
– Старик пропал. Как проснулись, так больше его и не видели…
У лага
Морская качка на меня не действует, но я не желал бы быть всегда в таком состоянии духа. В душе священная тоска, будто вот-вот родится великая идея, но на деле не удается связать даже пару самых обыкновенных мыслей. И обидно: очень уж близко в таком состоянии духовное к низменному; вот-вот все разрешится таким жалким, плачевным исходом.
Я иду на корму: там меньше качает и никого нет, только Матвей сидит на канатах с ружьем и стережет косатку. Подхожу к борту; над самым рулем свешиваюсь. В таком положении мне кажется, что я лечу над океаном совершенно один и парохода нет вовсе. Я лечу над самыми волнами, как чайка, и догоняю убегающие от меня в туман волны. И мне чудится, что океан живой и волны живые. Но в этом огромном, крепком, живом, где-то в волнах, звучит жалобный, будто детский тоненький писк:
– Тинь!
– Что это? – спрашиваю я Матвея.
– Это лаг звенит, – говорит он. – Узлы отсчитывает… А замечаешь ли, как волна перепала? Верно, ветер переменится. Чует волна ветер.
– Как же волна может ветер чуять? – говорю я.
– А так, – отвечает он уверенно, – вот сейчас ветер такой же, а волна перепала. Отчего это? А вот бывает, что и вовсе тихо, табак просыпь, к ногам упадет, а море качается. Отчего это? Оттого, что оно чует ветер, чует погоду.
«Отчего бы это было? – думаю я. – Оттого ли, что океан велик и волнение с одного места передается в другое? Не может же быть, чтобы волна и в самом деле сама по себе чуяла ветер».
Волны ластятся к бокам парохода, выкатываются из тумана черные, подбегают к борту и рассыпаются белым и показывают, что внутри их что-то зеленое. «Волны живые», – думаю я и опять свешиваюсь и лечу чайкой над океаном. И вдруг из большой волны выдвигается огромное черное чудовище, больше и больше, показывает черное острие и опять исчезает в воде.
– Косатка, – говорит Матвей. – Вон там сейчас опять покажется.
И наводит туда ружье.
И опять раздвигаются волны, опять показывается над водой чудовище, будто большая опрокинутая лодка.
Матвей стреляет.
Там, где было черное, клокочет белый водоворот, и потом все кончается, по-прежнему катятся волны, и между двумя валами что-то красное, и один гребешок волны тоже красный.
– Кровь, – говорит Матвей. – Потонула. А ловко попало. Огромная косатка… пудов на пятьдесят, вот какая. В сердце попал, и утонула.
Во мне пробуждается охотничий инстинкт, я, как прикованный, смотрю на то место, где потонула косатка, и будто вижу, как она, умирая, медленно погружается на дно океана.
– Теперь ее акулы жрут, – говорит Матвей и смотрит тоже туда. – Так ее и нужно, а то она китов подрезает.
– А кит же больше?
– Больше, а не может против нее… Вот поди ты… Видел у ней востряк на спине, вот им и подрезает. А кит – рыба хорошая, она к нам треску из окияна гонит.
– Кит добрый? – рассеянно спрашиваю я…
Матвей смеется.
– А уж этого я не знаю, добрый он или какой. Тоже кормится, промышляет себе в окияне, что ему от бога назначено: рыба ли, зверь ли, гад ли какой. Тоже не дурак, своего не упустит. Но только человеку он очень полезен. Первое, зверь его боится, гребет от него к берегу, а потом рыба боится зверя и тоже плывет к берегу…
Мы уже давно проехали то место, где утонула косатка, но я все смотрю туда, и мне кажется, что она плывет за нами: такие же волны чернеют там подальше в тумане, и с зелеными шейками, и в белых шапочках тут поближе, у борта. Мне кажется, что и Матвей то же думает, что и я, и смотрит туда же, в глубину. Охотничий инстинкт, как канат, притягивает нас обоих туда, в глубину, где лежит теперь мертвая косатка и где кипит своя, совсем не такая, как у нас, придонная океанская жизнь.
– А видал ли, как в окияне рыбу ловят?
– Нет, не видал.
– Любопытно. Чего-чего только там не нахватают со дна: и рыба всякая, и акула попадет, и мелочь там разная, рак частолапчатый, вроде как бы звезда, ежик, катушки разные красненькие, беленькие. Много всего. Вот увидишь. Любопы-ытно. Теперь, надо знать, скоро и приедем на Канину отмель.
Канина отмель
Капитан и штурман совещаются о том, Канина это отмель или еще нет. Они спорят и все разбирают записи из дорожного журнала. Мне кажется, вопрос этот решить очень просто: сосчитать число пройденных, записанных лагом верст, отложить циркулем на карте в данном направлении, и все. Я вмешиваюсь в разговор, беру циркуль и через пять минут устанавливаю искомую точку. Моряки смеются.
– А сколько нас, – говорят они, – отнесло течением. Положим, мы пошли на норд, сколько нас отнесло в сторону к норд-осту?
– Моряки, – говорю я, – должны знать силу прилива и отлива и сделать поправку.
– Этой поправкой мы и заняты. Если бы мы были на одном месте, то могли бы сделать поправку, но в разных местах течение различно, как же мы сделаем поправку?
Я мысленно прощаюсь с возможностью встретиться с «Ольгой», про себя боюсь даже, что почему-нибудь не удастся половить рыбу. Но моряки продолжают совершенно непонятно для меня совещаться и наконец решают, что это и есть начало Каниной отмели. На огромном пространстве этой отмели, окружающей Канин Нос, глубина в среднем, как мне сказали, не более пятидесяти саженей. Дно отмели ровное, песчаное, и потому тут спокойно можно тащить по дну трал, не очень рискуя его порвать. К этой отмели мы и стремились.
– Она и есть, – говорит штурман, – волна дробится.
А капитан все присматривается к воде.
– Замечаете голубые полоски? – спрашивает он меня. Я всматриваюсь, и мне кажется, что у самых белых гребней мелькают голубые пятнышки…
– Это, вероятно, – объясняет мне капитан, – ветвь Гольфштрема, вода в нем отличается от зеленой океанской воды голубым цветом. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но очень похоже, что это Нордкапское течение.
Я с величайшим уважением всматриваюсь в воду этого течения. Я привык еще с детства уважать Гольфстрем, как что-то весьма полезное и доброе; я знал, что без Гольфстрема значительная часть Европы превратилась бы в ледяную Гренландию. Но я никогда не знал, что Гольфстрем красив, что он голубой. И мне кажется полным значения то, что вот мы тут, далеко за Полярным кругом, вблизи вечных льдов Новой Земли, любуемся голубыми блестками, прибежавшими сюда из тропических стран. Тут непроницаемый туман, а там сейчас голубое глубокое небо. Я вспоминаю, что где-то читал, будто в Ледовитый океан Гольфстрем приносит растения с Антильских островов. Спрашиваю моряков, не видали ли они чего-нибудь в этом роде.
– Нет, этого не видали, – отвечает дядя, – а вот бутылки с Нордкапа приносит… с записками. Туристы-англичане бросают бутылки с записками.
– Нет, – говорит капитан, – здесь плавают бутылки скорее мурманской промысловой экспедиции. Они исследуют течение.
Капитан рассказывает мне о значении Гольфстрема для трески. По течению его треска плывет, как по огромному корыту, от Нордкапа, вдоль Мурмана и, вероятно, здесь заворачивает к Новой Земле.
Чтобы убедиться окончательно, что это Канина отмель, мы измеряем глубину и исследуем грунт. Для этого быстро спускаем на веревке лот, смазанный салом. Лот ударяет о дно и приносит песок. Глубина пятьдесят саженей. Канина отмель…
Лов рыбы
Кто хоть один раз поймал в своей жизни ерша, тот уже не городской житель.
ЧеховРаньше, пока на воде было все так ново для меня, я не интересовался техникой лова рыбы на траулере. Но теперь, когда через несколько часов на палубе парохода будет видна придонная жизнь океана, становятся интересными всякие мелочи. Самый принцип оказывается прост и остроумен. В воду спускаются на стальных канатах два змея, большие, деревянные, окованные железными скрепами. Пароход движется вперед, и змеи буквально летят в воде, как в воздухе, расходясь в разные стороны от сопротивления о воду. К этим змеям, или, как их называют, «распорным доскам», прикреплена большая крепкая сеть: трал. Расходясь в стороны, змеи расширяют отверстие трала, и туда входит встречная рыба. Посредством изменения длины каната, «троса», и скорости парохода регулируется глубина опускания сети. На нашем траулере нужно было спустить приблизительно две глубины каната, то есть около ста саженей, чтобы она шла, как требуется, почти по самому дну. Трал, стальные канаты, паровая лебедка, на которую навертываются канаты, система блоков, «талей», для поднимания тяжелой мотни – вот и все простое устройство.
Настоящая жизнь на нашем траулере началась, только когда мы приехали на Канину отмель.
– Отдай лебедку! – командует капитан. Черные распорные доски гремят и погружаются в воду, глубже и глубже.
– Стоп!.. Закрепи лебедку!.. Полный ход!..
Теперь, когда трал спущен, на два, на три часа все замирает в ожидании. Один только тральщик Матвей стоит на корме, сосредоточенный и серьезный. Он держится за стальной канат и по нему, как по нерву, чувствует прикосновение распорных досок ко дну. Он должен постоянно ощущать эти легкие толчки трала. Если этого нет, то, значит, трал плывет высоко и рыба не попадает. А если почувствует очень сильный толчок, значит, трал зацепился и нужно кричать машинисту «Стоп!»
«Динь!» – звенит предупреждающий машину сигнал о том, что через пятнадцать минут мы вытащим рыбу.
И как это странно: в ожидании поднятия трала, вместо того чтобы представлять себе различных океанских чудовищ, вроде акул, косаток, белух, я нахожу себя далеко отсюда, на льду замерзшей реки. Я и несколько простых, но очень почтенных пожилых людей проделываем во льду маленькие дырочки и спускаем туда нитки с крючками. Мы стоим, дрожим, топчемся, чтобы разогреть застывшие ноги; у почтенных людей бороды покрываются ледяными сосульками. У одного дергает рыба, он смешно волнуется, схватывается за удочку и тянет. И тут у него лицо загорается какою-то особенною жизнью. Слышно, как город шумит, кипит жизнь, борьба. А вот он, этот почтенный человек, тянет маленькую рыбу и живет какой-то своей, совсем особенной смешной жизнью. Он, этот старик, тянет рыбу и будто откликается прошедшим тысячелетиям, когда, быть может, его предки бродили у лесных ручейков. Старик тянет рыбку, и вот через много-много лет перед целым океаном воды я вижу ясно эту затянутую тонкими льдинками дырочку, покрытую ледяными сосульками заиндевелую бороду и что-то такое близкое, дорогое в его глазах. Вот если бы нам теперь опять сойтись вместе, здесь, у борта «Св. Николая».
– Стоп! Отдай лебедку!
Лебедка крутится, канат навертывается, трал приближается. На вахте должно быть только пять человек, необходимых для поднятия трала, остальные должны бы спать, отдыхать. Но они тут все до одного смотрят в воду. И даже кок с разинутым ртом и чайником в руке, и машинист, кочегар, весь черный, выполз из машины. Все молчат, ждут. Откуда-то налетели птицы… Как они почуяли добычу? Раньше я их почти не видел. Они подплывают к самому пароходу, красивые, похожие на голубей, но только большие.
– Как они называются? – спрашиваю я Матвея.
– А глупыши, – отвечает он мне.
– Какая красивая птица и такое глупое название, почему глупыши?
– Вот почему, – говорит тральщик и бросает в них обрывками каната. Птицы взлетают и сейчас же, как ни в чем не бывало, садятся на то же место и даже еще ближе подплывают к борту.
– Глупые они, вишь, не боятся… – поясняет Матвей. – Теперь от нас не отстанут. И потом, когда назад поедем, верст сто за нами лететь будут. Глупые…
И вот показываются из воды черные распорные доски.
– Стоп!
Доски висят в воздухе.
– Вручную! – командует капитан.
Это значит, что концы сети нужно тащить руками, пока не покажется мотня, наполненная рыбой. Мотню, конечно, тяжелую, до трехсот пудов, поднимут блоками.
«Вручную!»
И все действующие лица хватаются за сеть. Борт судна от качки то опускается, то поднимается, и матросы, когда опустится борт, прижимают грудью сеть; волна сама уже поднимает ее; рыбаки быстро перехватывают и опять припадают грудью и каждый раз все вглядываются в глубину: не показалась ли мотня. Момент напряженнейшего ожидания. Не только люди ждут, но и птицы кольцом окружают место, откуда должен выглянуть трал; люди и птицы образуют полный, почти правильный круг. Но мотня еще глубоко, сеть, черная над водой, зеленеет в воде и светится в глубине, а самой мотни не видно. Показываются пузыри, множество пузырей, вода закипает.
– Рыба кипит! – говорит кто-то.
– Рыба кипит! – повторяют один за другим матросы.
Всплывает большая, в аршин длины, белая рыба с красивой черной полоской на боку. Это пикша, ближайшая родственница трески, оглушенная. На нее бросаются птицы, тукают об нее своими острыми клювами, плещутся, кричат, пищат. Дядя берет багор, вступает с птицами в борьбу и на острие вытаскивает рыбу. Всплывает другая, третья, но на них больше не обращают внимания, потому что в глубине показывается мотня, огромная, зеленая, всплывают какие-то странные нити, кустики, растения или животные.
Больше всех действует тральщик Матвей, он – душа всей этой возни. Мне из маленькой стеклянной комнатки, штурвальной, видно, как он борется с волной. Я вижу, как он, весь мокрый, выхватывает у волны сеть, вижу, как ближе и ближе подвигается зеленое чудовище. И не выдерживаю своего созерцательного положения. Я бросаюсь в самый центр рыбаков и хватаюсь за сеть, слышу, как возле меня дышит Матвей, пыхтит капитан, но уже не вижу их: я тяну. Тяну и припадаю к мокрой сети грудью и не замечаю, что холодная морская вода проникает через жилет к телу и стекает вниз, наполняет сапоги. Лишь бы подвинуть на четверть.
– Готово!
Мы припадаем к борту и вглядываемся все молча: дядя. Матвей, капитан, юнга, все такие разные люди, но теперь слитые в одно мокрое, но крепкое, наполненное горячей кровью и мясом.
– Акула! – кричит дядя.
– Акула, акула! – говорят все.
– Где акула? – тороплюсь я, словно боюсь упустить и отстать.
– Вон лежит, вон свернулась, вон ее пасть, вон хвост…
Я приглядываюсь, и в огромной серой массе различаю пасть и крошечный зеленый светящийся глаз. Нам подают канат. Матвей перевязывает мотню, прицепляет ее к блоку. Лебедка гремит, и над палубой парохода висит большой черный воздушный шар, наполненный рыбой.
Бегу смотреть, что в нем, но от него исходит невыносимый запах. Отступаю назад. Это не запах рыбы. Рыба, в сравнении с этим, хорошо пахнет. Это особый запах морских глубин, внутренности моря. Кажется, что на дно мы шевельнули кладбище бесчисленных морских покойников.
– Какие нежности! – удивляется мне капитан. – Просто мы губки захватили много, оттого и пахнет. Этот запах хороший, здоровый, к нему скоро привыкаешь и даже нравится потом.
И в самом деле, после, на берегу, я вспомнил этот запах почти с удовольствием. Так нравится уютный теплый запах животных в стойлах, вызывающий в памяти дорогие сцены толстовских рассказов.
Матвей развязывает отверстие внизу мотни, и вот, с особым скользящим звуком, как ртуть, рассыпается по палубе рыба. Сначала трудно что-нибудь понять в этой массе, она вся прикрыта серым слоем губки, только в средине видна стальная спина, пасть и хвост огромной акулы. Но вот сквозь толщу пробивается энергичная голова, пятнистое туловище. Это зубатка, морской волк, рыба до пуда весом. Мне кажется, что более выразительного подтверждения о зачатии зла самой природой я никогда не получал, чем в тот момент, как увидал эту страшную рыбью старушечью голову с острыми зубами. Какая же возможна борьба с этим явным зубатым злом!
Так в море, но на палубе находятся более острые зубы. Капитан почему-то предоставил головы зубаток матросам, а так как голова стоит пятачок, то матросы, вооруженные финскими ножами, прежде всего ждут появления из серой массы старушечьей головы. И как появится, бросаются за ней, утопая по колено в рыбной скользкой массе. Кто раньше выхватит, тот и отрежет ножом злую голову и начинает издеваться, как в сказке над злыми колдуньями: сует в рот мертвой голове рыбу, пасть сжимается, рыба хрустит. Потом дают голове уцепиться за канат. И все смеются, что отрезанная голова живет. Это забава, отдых рыбаков, совсем и не понимающих, как это отвратительно. У кого голова, у кого две, у кого три. Но больше всего издеваются над акулой. Она гроб моряка, и вот, может быть, потому так тешатся над ней. Юнга сует ей в пасть топор, и пасть захлопывается. Туда бросают рыбу, суют пешню. Старик дядя устал, присел на нее отдохнуть, вытирает, как ни в чем не бывало, пот с лица рукавом. Потом, отдохнув, выбирает себе какую-то рыбку и зачем-то скребет ее ножиком. Но вдруг впереди себя, на носу, он замечает непорядок и, забывая, что под ним не пень, а живое существо, втыкает в нее ножик и бежит, хлюпая по рыбе. Нож долго остается воткнутым в рыбу. Акула его, кажется, и не чувствует, так она огромна и неподвижна. Она путает все мои представления об этой рыбе, которая, как описывают, мечется по палубе корабля. Быть может, это потому, что описывают акул южных океанов, а эта акула глубоководная и тут, наверху, совершенно лишается способности двигаться. Акула Северного Ледовитого океана лежит на палубе, неподвижная, как мертвый пласт. Чуть только поводит плавником и глядит своим маленьким зеленым глазком. И как же, вероятно, она страшна там, на дне океана, темно-серая, как раз такого цвета, чтобы незаметно подкрасться к добыче и показаться сразу огромною серою тенью с зеленым светящимся глазом. Рыбаки разрезают живот акуле, чтобы достать из нее ценную печень, и вот выплывает целый поток мутной жидкости; вместе с жидкостью из акулы выкатывается небольшой мертвый тюлень и много рыбы, еще живой; рыбу обмывают и присоединяют к остальной, а акулу, вырезав из нее печень, поднимают на блоках и пускают обратно в океан. Она медленно погружается в воду, и зеленеет, и в самой глубине принимает странные фантастические формы.
Но это все поэзия. Капитану некогда заниматься такими пустяками. Вооружившись стальным коротким крючком, он раз за разом втыкает его в рыбу и разбрасывает ее в стороны по сортам. Вот треска – кормилица Севера – здоровенная рыба, упругая, будто обтянутая в городское платье деревенская девушка; вот родственница ее – пикша, серебристая с черной полоской и менее вульгарная; вот сайда, из той же породы. Камбала морская совсем не похожа на рыбу, скорее – это морские листики, бурые с одной стороны и белые – с другой. Листики летят в одну сторону, треска – в другую. Капитан веселый, шутит; подсчитывает итог, приблизительно в сто пудов. Он пересматривает рыбу и вдруг останавливается и машет мне рукой: он под слоем рыбы заметил характерную генеральскую голову палтуса. Эта рыба такая же видом, как камбала, но только черная с одной стороны и огромная: пудов в пять весом. Рыба дорогая, она одна обещает капитану рублей пятьдесят. Он любовно треплет ладонью мокрого генерала и кричит матросу:
– Сделай ему карман!
Это значит как-то особенно распластать палтуса. Матрос делает карман, а капитан продолжает перешвыривать листики.
Мне, дилетанту, рыболову с удочкой, едва мирящемуся с насаживанием червяка, это зрелище не особенно приятно. И вот, к своему величайшему удовольствию, нахожу себе товарища, такого же дилетанта, как и я. Машинист на корточках, с ведром в руке, отбирает себе крабов, морских ежей, звезд, забавляется раком-отшельником, старается выгнать его из раковины. Все это он хочет засушить и показать своим детям дома. Я присоединяюсь к нему, беру ведро и наполняю его разными морскими животными. Все они, красные, зеленые, желтые, стараются выкарабкаться из-под давящей их тяжелой массы рыбы и губки. Я освобождаю их, пускаю в воду, и они, благодарные, начинают мне кивать оттуда своими лапками, усиками и щупальцами. Но моя мирная освободительная работа снова отравляется отвратительным зрелищем. Кок, тот самый кок с чайником, которого я ободрял во время качки, прицепил на удочку рыбку, закинул в стаю птиц и торжествующе тянет несчастную на палубу. Я освобождаю птицу, но кок недоволен и принимается швырять губкой в глупышей. Это занятие увлекает матросов, и вот все они начинают попадать губкой в птиц. Крик, писк, хлопанье крыльев, хохот матросов, запах морской глубины, и эта масса животных, и безграничное пространство воды, и мутное пятно солнца над океаном – все это мне кажется какой-то пляской морских чудовищ с рыбьими хвостами, звериными копытами и человеческими головами. Водки бы сюда, но водка не допускается капитаном.
Поторчина
Окруженный волнами, силы я все истощил на неверном плоту,
Не вкушая столь долго пищи, покоя и сна.
«Одиссея»Мы ставим большой поплавок с флагом на якоре, буй, отмечаем этим найденное рыбное место и ездим вокруг него, вытаскивая трал через каждые два-три часа. И так почти целую неделю. Редко-редко выглянет из тумана солнце, посветит два-три часа, покраснеет и снова растает в тумане, потому что постоянный N0 всегда сопровождается туманами. Наконец наступает давно жданный день: встреча с «Княгиней Ольгой». Но надежды на встречу мало, потому что мы так и не видели Канина Носа и не определились, да и день совсем туманный. Но, кто знает, может быть, и встретим, услышим свисток. Я сижу в штурвальной, напряженно вглядываюсь в туман, слежу за стрелкой компаса и время от времени даю свистки на случай встречи с другим пароходом.
Как-то раз я вижу, что дядя мне машет руками, что-то кричит. Что такое? Свисток! Он слышал свисток. Я даю свисток, но ответа нет.
– Ты ослышался, старый?
– Нет же, своими ушами слышал, вон там.
Я вглядываюсь в то место, где он слышал свисток, и мне кажется, что там мелькнуло что-то темное в тумане. Еще и еще. Какая-то темная тень колышется на волнах. Судно, «Ольга», нет сомнения, что это «Ольга».
И как я жду! Чтобы понять меня, нужно вот так, как я, проплавать в океане больше недели, нужно спать возле крысиного гнезда при грохоте распорных досок у самого уха, нужно промокнуть, пропитаться и пропахнуть рыбой. Вот тогда можно меня понять, как я жду «Ольгу». Я вижу, как растет тень судна в тумане. Мне кажется, что я уже слышу аккорд и вижу даму в черном плаще, с дорожной сумкой через плечо. Мгновенно созревает план: бежать отсюда, ехать на Новую Землю на «Ольге» и вернуться с ней в Архангельск. Я даю тревожный свисток, мне не отвечают, а темное растет и быстро приближается. Это не судно, это большой кит плывет нам навстречу.
– Это кит, дядя?
Он молчит и внимательно смотрит. Матросы тоже бросают чистить рыбу и смотрят на нос. Дядя идет даже к борту.
– Кит? – опять спрашиваю я.
– Непохоже, долго держится.
– А что же это?
– Так приплыш. Мертвечина. Кит ли дохлый, косатка, зверь или что…
Приплыш уменьшается вдвое, втрое, словно тает в тумане.
Дядя готовит багор, чтобы схватить его. Но он делается совсем маленькой черной точкой. Дядя смеется и говорит:
– Поторчина.
Хватает багром, вытаскивает на палубу кусок дерева. Это просто насыщенный водою кусок дерева, торчком плывущий в тумане, больше ничего.
– Поторчина, – опять говорит дядя и бережно обтирает ее полой.
– На что она тебе?
– А от клопов годится, первое средство…
И вот все, что осталось от «Великой княгини Ольги», созданной океанской иллюзией: какая-то глупая поторчина.
Вдруг я отчетливо слышу свисток, совсем близко. Я отвечаю, мне тоже свистят. С каждой минутой мы приближаемся, беспрерывно свистим друг другу.
«Ольга»! – теперь уже нет никакого сомнения. Мне кажется, что и «Николай» совсем уж не так хрипло свистит и будто дрожит от радости, стрелка компаса совершает чуть не полные обороты, а сам я решаю определенно бежать отсюда.
Судно показывается в тумане, и с мачтой, и с трубой.
Это уже не поторчина. Но еще мгновение, и перед нами не «Ольга», а «Николай», не самый «Николай», а двойник его, абсолютно такой же: с распорными досками на боках и с косым парусом назади. Мне даже немножко страшно, будто галлюцинация. Но через мгновение «Николай» – двойник почти у самого нашего борта. На вышке стоит с рупором в руке известная всему миру всегда неизменная фигура в серой клетчатой одежде, с окаменелым лицом, с холодными стальными глазами. Английский траулер. Англичанин спрашивает нас, кто мы, откуда. Мы говорим: русские, архангельцы. И тогда даже на его деревянном лице выражается изумление: «Archangel», – протягивает он. До сих пор у архангельцев не было траулера. И хотя тут и нейтральные воды, но все-таки иностранцам неловко, очень близко к границе. Англичанин задает нам несколько вопросов о рыбе и, отъехав немного, спускает в воду трал. Немного спустя мы встречаем еще одного англичанина, потом еще, потом норвежца и все ездим вокруг нашего буя и время от времени свистим друг другу в тумане. Наши моряки ворчат, они совсем неосновательно считают эти воды русскими. Но я рад этим соседям. Рад думать, что вот, хоть в океане, нет этой границы между нашим и вашим.
Так проходит день, полный событий, неожиданных встреч, но «Ольги» все-таки нет. Я жду ее весь день до ночи, свищу, мне отвечают английские и норвежские траулеры, но «Ольги» нет. Наше свидание не состоялось, и, полный самых грустных размышлений о предстоящих скучных, одиноких днях в океане, я спускаюсь вниз и засыпаю в своей койке, тщательно заколотив отверстие к крысам.
Горний ветер
Я не имел понятия, что значит в море перемена ветра; если бы я мог предчувствовать, что значит в Ледовитом океане ветер с земли, «горний ветер», то в ожидании его как бы скрасились последующие скучные дни в море.
И вот утром матрос мне говорит внизу в каюте:
– Ветер горний, сюд-вест, посмотрите, какая краса!
Я поднимаюсь наверх и не узнаю моря. Солнце ярко сверкает, и туман бежит клочками, как разбитое войско, ни малейших следов волны, только медленное дыхание, будто грудь спящего человека. Где-то далеко в синеве белеет чайка, как последний оторванный кусочек вчерашней океанской пены. Но главное – ветер, ласковый, родной. Я вдыхаю и ясно чувствую запах сена, цветов, тут, в океане.
– Чувствуете, – говорю я штурману, – аромат?
– Еще бы, – отвечает он радостно, – берегом пахнет. При этом ветре всегда в океане берегом пахнет.
Берег дышит на нас ароматом, – и штурман поверяет мне свои мечты. Ему бы хотелось больше всего поселиться на берегу, где-нибудь у озерка, и ловить рыбу.
Я его поддерживаю, правда же хорошо.
Мы мечтаем об озерке и удочке и смотрим, как на носу, на фоне синего теперь океана, рыбаки сидят на опрокинутых ведрах и чистят уже третью тысячу пудов рыбы. Они бросают в море головки мелкой рыбы, и они там в воде зеленеют и светятся, манят акул, а трал захватывает их, вынимает из моря на палубу.
И как это странно: мечтать о лужице и удочке на берегу в виду целого океана воды. Но что же делать, пахнет берегом, такое свойство аромата земли.
– Я уже сделал первый шаг, – говорит штурман, – женился…
– И лучше стало?
– Много лучше. Теперь уж я знаю, куда приеду, зачем приеду. А бывало, выйдешь на берег и пустишься, ка-ак шальной олень. Напоят тебя, оберут. В одной рубашке приползешь к кораблю на четвереньках. Наверх уж лебедкой поднимают. Да в наказанье другой раз лишат берега. А как моряку без берега!
Я смотрю сверху на Матвея и не могу не улыбнуться ему. Ветер с земли и аромат ничуть не волнуют его, он по-прежнему спокойно чинит трал, но здоровье так и выпирает на его красное курносое лицо, и он без мысли улыбается, просто от теплого ветра
– Ну, а ты, Матвей, женат?
– Не-ет…
– А как же?
– А так, мне и без бабы хорошо. Путаться с ней. Денек, два побыл на берегу – и в море. В море хорошо, всей грудью дышишь. Ишь, благодать какая!
И он вдыхает аромат воздуха.
Но всем, кроме Матвея, хочется на берег, всех волнует этот береговой ветерок. И все делают намеки капитану. Не хватает веревочек для починки трала. Провианта мало.
Машинист что-то толкует о масле. Капитан мрачен: соли нет, рыба портится, а лов хороший.
– Да что вы, сговорились, что ли, все, – восклицает он и, мрачный, спускается в трюм.
– Сходи, сходи, – смеется юнга, – я тухлую рыбу наверх положил, понюхай.
Из трюма капитан появляется еще более мрачный, но с готовым решением
– Сюд-вест! – говорит он штурвальному. Пароход повертывается и полным ходом летит в ту сторону, откуда дует ароматный береговой ветерок.
Глава V. Анархическая колония
Северный орех
Из разорванных утренних туманов показывается черный Мурман, будто старик с седой бородой. Мы теперь в ближайшем соседстве с Норвегией; самое слово Мурман происходит от норвежского Норман. Наш пароход быстро бежит навстречу этому старому деду, одиноко стерегущему здесь, в Ледовитом океане, наши зеленые поля и города. Туманы поднимаются выше и выше, и вот перед нами не старик, а древний окаменелый слон свесил громадный хобот в океан и пьет воду. Кожа старая, землистая, слежавшаяся в складки. Но утром, когда солнце разгоняет туманы, и камень живет. Черный лоб краснеет, разглаживается, приветствует, радуется, как только может радоваться старый окаменелый слон. Теперь мы уже различаем в складках скал белые клочки снега, последние следы недоверия на морщинистом лбу.
– Красиво? – говорю я капитану.
– Что красиво?
– Эти горы… и все… так…
Капитан думает, что красивым можно назвать только берег, усеянный селами, городами, зеленеющий, но черный Мурман… камень… без малейших признаков жизни…
– Красивая земля, – не очень искренно соглашается он, – но что в ней, пустая.
– А море! – говорю я, указывая на спокойные валы зыби, от которой у скал непрерывно взлетают высокие белые фонтаны.
– Да, море… море… да…
Я заражаю его, привыкнувшего ко всему этому, своим интересом к этой новой для меня природе… Он вглядывается в берег, будто увидел его в первый раз. Но через минуту вспоминает, что у него какая-то практическая цель, нужно что-то погрузить, выгрузить, забывает о красоте черных скал над океаном и дает условный свисток. Горы откликаются, высылают из трещин лодку, другую, третью…
– Тут целый флот!
– Это еще что, – отвечают мне, – а бывает, народу глядеть не переглядеть, считать не пересчитать, растянутся по морю, что лес, облепят пароход, что мухи.
Лодки – большею частью те знаменитые мурманские «шняки», на которых промышленники выезжают далеко в океан ловить рыбу и постоянно гибнут на них. Это те шняки, которые на Севере служат символом русской культурной отсталости и постоянным предметом насмешек соседей-норвежцев. Между шняками попадаются и красивые, похожие на античные суда, «елы», более совершенные лодки, но и то уже оставленные норвежцами, применяющими теперь безопасные палубные боты.
Лодки и елы тесным кольцом окружают пароход, стучат друг о друга. Здоровенные поморы прыгают из одной в другую, то ругаются, то хохочут: всем хочется раньше попасть на пароход. Взбираются на палубу, ворочают бочки. Одному великану, я вижу, не терпится; он, не дожидаясь помощи машины, поднимает бочку на борт и… бух! – лодку внизу заливает наполовину водой… Общий хохот.
Здоровая, веселая, свободная жизнь, совсем незнакомая жителям средней России и даже тем деревенькам Беломорья, которые расположились на Летнем берегу против Соловецкого монастыря. Сюда, на Мурман, ездят только те поморы, которые живут на западном берегу Белого моря, которые, собственно, и называются на Севере «поморами».
– Хорошо! – говорю я нашему капитану.
– Ничего, – отвечает он, – народ хороший. Грубоваты только. Да это ничего. Северный человек – орех, его раскусить нужно.
– Поезжай к ним, – советует старик, – посмотришь. Через неделю пароход придет, и уедешь.
– Не-де-лю!
– Что тебе неделя, все равно веку идти.
«В самом деле, – думаю я, – что такое неделя, а для сравнения с Норвегией, в которую я поеду, хорошо побывать среди этих великанов, потомков новгородских дружинников». Беру свой чемодан и спускаюсь вниз
– Можно? – спрашиваю одного, другого, третьего.
Никто не отвечает. Один, опираясь на мое плечо, перескакивает в другую лодку, другой наступил на чемодан. Между этими людьми я становлюсь маленьким, исчезаю.
– Можно?
– Сиди-и… Сел и сиди. Сиди и сиди!
Везут и высаживают на голые скалы. «Под пахтой», как называют тут небольшую бухточку между горами (пахта – гора).
– Это становище?
– Нет, это Пахта, становище далеко, версты две.
– Я просил вас свезти меня в становище!
– Ты просил, а мы тебя не просили. Сам сел. Да чего тебе… Мужик ты дородный, клади чемодан на плечи, да по горам… Шагом марш! Тропинка есть, славно дойдешь. С богом, вон тропинка!
Одет я, как барин, во всяком другом месте, в чаянии двугривенного, мне сделали бы все.
Но тут – ни малейшего поползновения, еще мне в насмешку дадут, если я предложу.
Вот он, северный-то народ… «Северный человек, – будто все еще слышу я слова капитана, – орех, его раскусить нужно».
Раскусить так раскусить, делать нечего.
Я вскидываю себе на плечи чемодан, пуда в два-три весом, и поднимаюсь на скалы.
– Вот так, – слышу я за собой. – Вот так, иди и иди. Шагом марш! Тропинка приведет к месту!
* * *
Какая это тропинка! Тут на голом камне и не может быть тропинки. Это просто едва заметные пыльные следы сапог пешеходов на черных камнях гранита. Я поминутно теряю след и то поднимусь слишком высоко, то опущусь до какой-нибудь расселины, которую нельзя перейти, и снова возвращаюсь искать следы сапог на камнях.
Раз так я поднимался к отвесной стене над морем и заметил, что из трещины скалы свешивается пучок лиловых колокольчиков. Заинтересованный, как они держатся на голом камне, как они могли тут вырасти, я осторожно протягиваю руку вниз, срываю. Настоящие сочные цветы и пахнут свежим лугом, как пахнут непахучие цветы. Они устроились здесь в трещине скалы. Разглядывая цветы, я вдруг замечаю, что край моего пальто показывается то на фоне черных камней, то над зеркалом воды. Другой край тоже качается, и колокольчики в руках качаются, и все покачивается: пуговицы, цепочка. Я понимаю, что это от морской качки, но странно то, что я сам смотрю на себя, сознаю и не останавливаюсь, будто это не привычка, приобретенная на судне, а скалы над океаном качаются. Спешу уйти вниз, спускаюсь к зеленоватому местечку. Это озерко, окруженное мохом. Тропа упирается в воду, глубоко, нельзя перейти. Что бы это значило? Приподнимаюсь наверх поискать новую тропу и вдруг понимаю, что это не озерко внизу, а временная вода океанского прилива. Чтобы ориентироваться в местности, я поднимаюсь еще выше и вдруг вижу, что я подошел почти к самому становищу.
Две высокие, уступчатые, будто искусственно сложенные из больших черных камней горы, с восьмиконечными крестами наверху, стерегут множество лодок в бухте. Гора с крестом и есть, конечно, тот глядень, про который мне много рассказывали. Отсюда поморы ждут судов с моря, ждут погоды, здесь устраивают иногда и свои пиры.
Судов так много, что едва заметно воду, не видно, где начинается берег, на котором приютилось множество домиков с плоскими крышами, похожих отсюда не то на самовар, не то на печь, потому что над ними иногда возвышаются железные трубы. Чего же лучше? Весело, свободно. Небольшое усилие над собой – и я прислоню сюда свою лодочку и заживу припеваючи.
Мои мечты носятся в воздухе, совсем как эти серебряные чайки, крачки, кривки, поморники, зуйки.
Сгорает одна папироска, другая, третья, становится нехорошо, попадается мысль: «Северный человек – орех, его еще раскусить нужно». И тут я замечаю, что там, где было озеро, окаймленное зеленым мохом, – теперь черное, покрытое грязными водорослями место, виднеется и тропа на нем.
Надо идти, надо раскусить северный орех.
Зверобой
Внизу путаница еще больше, чем наверху. Вот, кажется, тут тропа, тут и пройти между двумя станами. Прохожу, но третий стан загораживает путь, и на крыше зуек[33] бьет в таз-барабан, а другой подкатывается под ноги. Здесь висит огромная сеть, там сушится рыба с отвратительным запахом, вот бочка с смолой, якорь, лодка. Сразу видно, что тут некому прибрать, что тут живут одни мужчины, без жен. Припоминается, как хорошо там, в Поморье, у жен этих рыбаков: все устроено, все вычищено, все дожидается благополучного возвращения главы семейства.
Мне нужно разыскать здесь двух людей: знаменитого помора по прозвищу «Зверобой» и колониста «Вичурного». Первого мне рекомендовали как «законника», интересного человека, второй – колонист, значит – постоянный обитатель Мурмана, и, значит, у него есть баба, которая и уху может сварить, и самовар согреть.
Я хватаю одного подкатившегося мне под ноги зуйка и велю вести сначала к Зверобою.
Но Зверобой, оказывается, тут же и живет на своей собственной шкуне, обнаженной отливом, подпертой чем-то, чтобы не упала.
Взбираюсь на шкуну. Никого нет, тишина, как на судне моряка-скитальца.
– Отзовись, живая душа!
В ответ из люка показывается голова, похожая на моржовую, но без клыков, потом гигантское туловище, одетое в самоедский широкий савик, ноги в тюленьих сапогах. Мне показалось, что и лапы его покрыты моржовой шерстью, но это были такие рукавицы.
«Вот он орех-то», – думаю я и называю себя и лиц, рекомендовавших меня.
– А по какому же вы делу к нам жалуете?
– Любопытствую, как живете.
– От статистики или от редакции?
– Пожалуй, от редакции.
Как только я сказал слово «редакция», помор преобразился.
– Ну иди, иди сюда в каютку, чайку попить, будешь гость дорогой. Поговорим. Я бывалый, я тебе все расскажу.
Мы идем вниз, в заботливо убранную каюту.
Тут сразу видно, что хозяин «помор» в том особом смысле слова, которое придают ему здесь. Помор – это что-то вроде дворянина. Поморье – это не весь берег Белого моря, а только несколько богатых сел, ведущих торговлю с Норвегией.
Это единственный мне известный угол России, где люди гордятся своей родиной. Поморов принято считать цветом русской народности, но сами они не любят связывать себя с Россией.
Помор ставит самовар, а сам приговаривает:
– Я наскажу, наскажу. Есть у нас в Поморье народ, вот бы вам где побывать, людей повидать.
Я сказал, что видел Поморье.
– Неужели? – встрепенулся он. – И в Суме был?
– Был.
– А лавку там видел?
– Видел.
– А повыше дом, белый?.. Ну, так это мой!
Так вкусно о доме может сказать только моряк. Я сразу вспомнил типичный продолговатый, похожий на корабль дом…
– А так вы в Поморье были… видели… Хорошо ли живем?
– Хорошо!
– Вот то-то… А ведь мы не от России дышим. Что нам Россия: позади мох, впереди вода.
Тут мне почему-то вспомнились цветы на окнах поморских домов, удивившие меня после тягостной картины жизни Летнего берега.
Я сказал о них хозяину, чтобы сделать ему приятное…
– Души не мором! – ответил он гордо. – Сыто живем. Слышно, как живем! У нас рупь за рупь не считают. Бог даст промысел, так и по три лампы зажигаем. Светло живем, всю ночь огни светятся. Жёнки наденут башмачки новые, платье новое, сарафанчик гарусный, про юбку и говорить нечего…
Я почувствовал вдруг, что мои слова о Поморье были лучшей моей рекомендацией. А Зверобой с этого момента перешел на «ты»…
– Так вот ты какой, в Поморье бывал. А от какой же ты газеты приехал?
Я назвал какую-то газету. А помор раскладывал на столе сыр, масло, пряники, нервно, торопясь, словно у него что-то ключом кипело внутри, но он сдерживался. Наконец, окончив все, сел и дал себе волю:
– Ну, брат, и разделаем же мы с тобой штуку! Есть у тебя бумага? Есть. Ну, пиши. Я тебе говорить буду, а ты пиши. Другого такого не сыщешь, как я. Я тебе все на правду выведу. Готова бумага? Ну, вот! Пиши: «Мошенники все служащие Российского государства, пьянствуют, ничего не делают и ни на что не способны». Пиши: «Так что в нем нет силы, физической силы». Слово-то, слово-то я тебе какое сказал! А ты думал – неучи?
– Нет, я этого не думал, – ответил я. – Но зачем же так особенно нужна чиновникам физическая сила?
– А вот узнаешь. Пиши: «фи-зи-чес-кой силы. Потому что море и земля должны тому принадлежать, у кого есть физическая сила. Нужно, чтоб у него котел работал и голова служила не для шапки, не мух ловить». Понял теперь? Хорошо?
– Очень!
– Но! – воскликнул он с достоинством, по-архангельски. – Ну, пиши дальше: «Пользы от них никакой нет, потому что, первая: чтобы поднять, нужно иметь силу, и вторая, чтобы бросить, тоже нужно силу. А так что ему не поднять и не бросить». Написано? Прочти!
Я прочел и похвалил.
– Но! – принял он важно мою похвалу. И задумался, как настоящий, но только гигантский литератор. – Пиши дальше! «Край наш богатый, непочатый, самый лучший край Северный, потому что в нем богатства не тронуты». Пиши, что у нас всякая рыба есть, рыбы много, в изобилии плодов рыбы: треска, зубатка, палтусина и так что пудов на пять палтуски попадают, есть кумжа, форель, семга, навага, есть всякая рыба и зверь.
Помор остановился в изнеможении, пот струился по его красному лицу. Как и многие начинающие литераторы, он не мог сразу выразить свою мысль, потому что сильно преувеличивал ее значение. Он думал, что после нашей корреспонденции все обратят внимание на Северный край. Любовно поглядывая на исписанные листки, он вдруг воскликнул:
– А может быть, ты и сам редактор?
– Что же тут особенного, – отвечаю я, – я могу быть редактором.
– Ого-го-го! – воскликнул Зверобой. – Ну, разделаем же мы, брат, с тобой штуку. Пиши: «У нас тут зверь…» Подожди!
Он подошел к люку и закричал:
– Ванька, принеси сюда моржовые головки!
Немного спустя мальчик сложил на полу целую пирамиду из моржовых голов…
– Заверни одну господину редактору!.. Это я тебе за то, что хорошо пишешь. Теперь пиши: «Зверь трех пород: моржи, потом есть тюлени, нерпа, заяц, лысун, есть белуха, косатка, киты». После зверей пиши: «Каменный уголь, нефть, серебро. И так полагать, что золото есть». Вот такими кусками видели!
Зверобой отмерил ладонью половину моржовой головы.
– Дальше пиши, что я о всем этом докладывал покойному губернатору Энгельгарду, а он только смеется и брюхо чешет, потому что не моряк и ничего не понимает, а только пишет, что понимает. Потом докладывал питерскому чиновнику, что Северный край богатый, а он руки греет и говорит, что озяб, а этого не может быть, потому что и Питер – север и там холодно.
– Пиши, пиши, – повторяет помор, но писать нельзя, в каюте темно, солнце, вероятно, зашло за горы.
– Темно…
– Ну довольно. Завтра приходи на песок наживку ловить, покажу тебе северный народ. Иди, спи!
Вичурный
Я выхожу. Светло, хотя уже около одиннадцати. Никто не спит. Катают бочки, чинят сети, стучат, хохочут, ругаются.
– Где тут колонист Вичурный? – спрашиваю я.
– А вот на горушке.
Там у крыльца сидит почтенный бородатый мужчина, один, но постоянно жестикулирует, будто гребет веслами.
– Чего он машет?
– Он всегда так гребет, выпил и гребет, будто на море. За то и прозвали: Вичурный, значит, чудной человек. Подходим. Он не обращает внимания.
– На фатеру к тебе, Вичурный!
Продолжает грести и кричит мне:
– Мошкара!
В это время солидная женщина в сарафане и поморской голубой повязке выручает меня, устраивает в отдельной комнате с видом на море.
Но мне теперь уже не до природы, лишь бы отдохнуть. Устраиваюсь, чувствую, как сладко засыпают ключицы и лопатки, выдержавшие тяжесть моего чемодана, вижу, как меркнет на стене огонек полуночного солнца…
И вдруг с треском отворяется дверь…
Вичурный!
Улыбается, садится ко мне на постель. Что тут делать? Я гость. Мне говорили, что тут иногда даже от денег отказываются. Нельзя же вытолкнуть хозяина. Убеждаю, говорю, что устал, и все…
Улыбается и гребет веслами.
Я начинаю роптать на судьбу и злиться на колонистов, припоминаю, что слышал о них как о самых негодных людях, переселившихся сюда из Поморья только потому, что им обещали грошовую помощь.
– Весь колонист такой! – отзывается и Вичурный. – Потому камень, и все…
Что тут делать? Осторожно беру хозяина за плечи, вывожу на воздух, усаживаю на камень, а сам возвращаюсь и ложусь. Сплю, но слышу крик чаек, хохот и все будто вижу огонек на стене. Потом голос возле:
– Барин, ты напрасно, я человек хороший.
Открываю глаза: Вичурный сидит на кровати и будит. Притворяюсь, что сплю.
– Барин, я хороший, обут, одет, сыт, живу я с женщиной, веры я православной. Барин, перевернись! Эх! Наживать-то легко, а пропивать трудно. Перевернись!
Я даю себе слово, если он только прикоснется ко мне рукой, немедленно выставить его вон.
– Барин, перевернись. Не по компасу же ты спишь!
И перевертывает меня лицом к себе… Я вскакиваю, не помня себя, вывожу Вичурного и вдруг замечаю на двери крепчайший железный крюк. Закрываю дверь и наслаждаюсь, что Вичурный не может проникнуть. А он кричит:
– Мошкара! Меня в Амбурге знают, меня и в Норвеге знают. А вы все – мошкара, мошка-р-ра!
Надо быть искренним. Путешествие по моему плану не очень приятная забава, это не жизнь, но и не одно только удовольствие. Больше всего оно похоже на дело, совершенно самостоятельно задуманное, много сулящее, но часто и удручающее: временами исчезает всякий его смысл… Много бывает неприятностей, если всё подсчитать. Но самое неприятное – это то, что если я открою глаза, то непременно встречу на стене огонек полуночного солнца.
Открываю: огонька нет, полутьма. Повертываюсь к окну: солнца нет. Неужели же село?.. Неужели конец этим солнечным ночам?.. Солнце село, океан хотя и горит, но в воздухе полумрак. Белые птицы рядами уселись на черных скалах, молчат, дремлют…
Теперь я понимаю: путешествие не жизнь, не дело, это любовь. Вот я уже забыл про все, и мне хочется поселиться вместе с этими белыми птицами на черных скалах у океана.
Лов наживки
Просыпаюсь и с кровати вижу, как несколько мачт далеко, до самого горизонта, протянулись по спокойному океану. Безветрие и солнечный день на океане – праздник. Рыбаки сегодня одеты в желтую непромокаемую одежду, суеты нет, все группами мало-помалу расходятся в горы.
– На песок, на песок! – кричат зуйки.
– На песок! – узнаю я голос Вичурного за дверью.
Он входит ко мне совершенно трезвый, как ни в чем не бывало, подает мне руку, предлагает идти на песок ловить наживку. Но предварительно он желает выпить со мной мурманского ерша и тут же изготовляет смесь из водки и квасу. Я предпочитаю стакан чаю с морошкой, как предлагает хозяйка, и мы отправляемся на песок.
Путь наш лежит через кряж по камням, совершенно такой же, как и вчера; со ступеньки на ступеньку, как и вчера, в трещинах скал попадаются лиловые колокольчики. Рыбаки посвящают меня в свое дело. Наживка – это маленькая рыба (песчанка и мойва). Она здесь ценится чуть ли не дороже самой трески, потому что без нее невозможна рыбная ловля. Рыбешку насаживают на крючки длинных переметов, называемых здесь ярусами, наживка, значит, приманка.
Мы подходим к вершине кряжа, и вдруг черная стена камня разрывается, будто кто-то нарочно прорубил в нем гигантским долотом правильное квадратное отверстие к океану. Внизу у берега отмель ровная, желтая, как усыпанная песком площадка крокета. Тут тысяча или больше людей, распределенных правильными рядами. Непохоже ни на жатву, ни на сенокос; какая-то грандиозная игра на естественной площадке у океана…
– Видишь, сколько народу, – говорят мне, – шапке упасть некуда!
Все это так любопытно отсюда, что я отстаю от поморов, ложусь на разогретый песок и любуюсь. Не знаю, что интересней: люди внизу или этот серебряный дождь птиц вверху…
Меня замечают. Слух о приезде «редактора», конечно, разнесся по всему становищу, и вот один за другим подходят ко мне мудрецы побеседовать, кланяются и со словами: «На мягком полежать, брюхо попарить», – ложатся возле меня. Это все почтенные люди, которые имеют право и не принимать участия в работе: вчерашний Зверобой, еще старик Игнатий – совсем похожий на Николу Угодника гигант, еще старик, своим мудрым видом вызвавший во мне образ Фауста до искушения. Подальше от нас собирается другая группа созерцателей: маленький телеграфный чиновник в крахмальном воротнике и с тросточкой, несколько местных скупщиков рыбы, группа обособленная и, наверно, консервативная. Мы налево, они направо, будто заседание маленькой Государственной думы, перенесенное сюда, к океану.
Птицы вверху иногда сталкиваются, пищат, дерутся. Но люди правильными рядами тянут невода, тысячи веревок переплетаются, но всегда распутываются, без всякого начальника или распорядителя, так, сами собой.
Тут, вероятно, вложены столетия опыта, приспособления…
– Все идет кругом, – открывает заседание мудрец, похожий на Фауста, – все идет кругом. Все голова работает. Все обдумано. А все на своем месте.
– Вот, господин редактор, смотри, – приглашает меня Зверобой, – смотри и любуйся. Видишь, народу больше тысячи, бойко работают, а никто не зацепит, не мешает. Не то что у вас в России, затменный да закрепощенный.
– Почему же вы отделяете себя от России? – говорю я. – Вы тоже русские.
– Мы не от России дышим… впереди вода, сзади мох, мы сами по себе. Смотри, какой народ, молодец к молодцу, а ваш что, мякинник, а зерно в нем не представлено, он бы и вышел куда, тыкнулся, да свету не дают.
– Национальность! – вдруг торжественно произнес Зверобой. – Слово-то, слово-то я тебе какое говорю, а ведь нигде не учился. Знаю вот, что мы от Марфы Посадницы свободу имеем. Дружинник! Откуда такое слово? От новгородской дружины. Вот мы как свою страну и без науки знаем, до тонкости знаем. Нам и наука не нужна.
Эти слова были началом моего разочарования в Зверобое. Вчера же он воспользовался моим трудом для корреспонденции и вот уже сегодня почувствовал свою национальную гордость, отрицающую науку.
– Учиться же нужно, народ учить нужно… – начал было я…
Но в это время из правой группы поднялся маленький телеграфный чиновник, оперся на тросточку и, задумчивый, замер в созерцании океана. Его крахмальный воротничок привлек внимание всей левой.
– Вот видишь, – говорят мне, – видишь… Скажи, что в нем? Чернильная душа, а как нос задирает! Куды! Кто я, что я! Да ведь вся-то твоя душа в чернилах. Отставь тебя от службы – и пропал, а оставь меня в рубашке – найду дорогу. Потому что он людям служит, а я себе, обеспечиваю себя своей силой и умом. У меня свой наказ. Я весь в натуре.
– Близкозор! – сказал Зверобой.
– Муха в парусе, – заключил Фауст
Я тоже не поклонник чернильных душ, но боюсь, что вместе с этим Зверобой отрицает и просвещение. Я опять повторяю, что народ учить нужно, что без этого нельзя…
– Ну, брат, нет… я тебе вот что скажу. У человека, как у птицы перелетной, вырабатывается свой ум. Оставь его так, все образуется.
– Народ – такое дело, – соглашается Игнатий, – что вода в реке: запирай, она будет напирать…
– Капелька по капельке плотину прорвет, – подхватывает Зверобой. – Потому что народ – стихия. Слово-то, слово-то я тебе какое сказал!
– Стихию запрут, – говорю я.
– Ну, брат, нет, стихии должен покориться!
– Так век идет, – поддержал Фауст и рассказал, что у него было свое судно и он на нем возил по тысяче пудов семги и что его разбило и семгу унесло.
– И остался сиротой на веки вечные, – продолжал за него словоохотливый Зверобой. – Вон она! – показал он рукой на океан. – Лежит, хорошо. А как морянка задует да взводни через глядень стегать начнут… Нет, господин, стихии должен покориться…
Я еще раза два пытался направить разговор, как мне хотелось, но так и не удалось…
– Все осталось, все прокатилось, все потерялось, – заключил нашу беседу Фауст, и мы все поднялись посмотреть, много ли поймалось наживки.
Поймали множество извивистых змеек с фиолетовым отливом. Лов рыбы обеспечен. Завтра все эти люди двинутся в океан на первобытных беспалубных лодках.
Пока они будут «лежать на ярусах», может, как выражаются они, «набежать полоска», из нее дунет, и лодки, как это здесь очень часто бывает, пойдут ко дну.
– Нажить либо дома не быть! – говорит Фауст.
– Стихии должен покориться, – долго еще повторяет Зверобой.
Возвратившись в становище, мы весь остальной день насаживаем наживку на крючки. Дело, требующее большой ловкости. Насаживают больше специалисты мальчуганы, наживодчики и зуйки. Я учусь, но у меня выходит медленно. Назавтра мы сговариваемся вместе с Игнатием ехать в океан.
Старый кормщик
В спокойное, «меженное» время, в тихие дни Ледовитый океан иногда так успокоится, что все вокруг становится хрустальным: и вода, и воздух, и берег, и птицы. Кажется, будто все это залито на веки вечные прозрачною и легкою стеклянною массой. «Море стеклеет», – говорят тогда поморы. Бывает это чаще вечером, солнечной ночью. Утром подует горний ветерок… Океан оживает, зарябят полоски. Тогда кажется, будто улыбка ребенка победила давно застывшее сердце старого мудреца, и он рассмеялся.
Если в это время тихонько плыть на лодке вдоль берега, то можно видеть, как из глубины все еще стеклянных вод одна за другою высовываются кроткие умные головы зверей, похожих на человека, как они, большие и грузные, пробуют устроиться на каком-нибудь едва заметном подводном камне. Усядутся рядом два зверя, согреются утренним солнцем и склонят друг к другу головы. «Будто целуются», – скажешь помору. «Ликуются, – ответит он, – потому что природа у них человечья». И так это покажется значительным, что в Ледовитом океане живут звери, похожие на людей, и что в хорошее солнечное утро они целуются. Сверкнет серебряная спина белухи, выдвинется черное чудовище – косатка, вдали поднимутся фонтаны китов, на скалах расстроятся ряды белых птиц, запрыгают сельди, сверху на них серебряными полосами посыплются чайки.
Старый мудрец улыбается.
В хорошее летнее утро на краю света, у скалистого берега, где растут только лиловые колокольчики, начинается такая большая мудрая жизнь. Так ясно думается, так хочется верить, что конца природы и жизни человека нет, что все оканчивается не смертью, а спокойной мудростью. Ледяная оконечность земной оси – полюс – венец мудрости.
Небо светится, вода рябит, скалистый берег оседает, впереди то зверь, то птица… Старый мудрец улыбается.
– Слава тебе господи, ветерок горний, ветерка благо, бежим хорошо! – радуется кормщик.
Мы едем на шняке ставить ярус в океане.
Всего нас пятеро. Старый кормщик Игнатий, тот самый «законник», похожий на Николу Угодника, с которым мы уже не раз беседовали, и с ним три помора: «тяглец», ближайший помощник кормщика, зрелый муж, «весельщик», юноша, и «наживодчик», почти мальчик. Команда на шняке – совсем будто семья. Быть может, такая артель и создалась на основе семейного начала? Но, может быть, и само дело требует разных возрастов… И то и другое вероятно. Команда подчинена кормщику, как патриархальная семья – главе семейства. Больше. Мурманская поговорка гласит: «На небе бог, на земле царь, а на воде кормщик». Но Игнатий никогда не распоряжается единолично, а всегда по согласию: опросит, «как братья», и потом решит. Он и вообще не любит решать своевольно. В свободное время к избе Игнатия собирается вся молодежь становища, обсуждает свои дела; старик всегда с ними, но больше молчит и незаметно руководит. Было время, когда весь Мурман управлялся таким мудрым, прославленным жизнью человеком… Но теперь…
– Теперь на воде слушаются, а на берегу нет, – говорит кормщик Игнатий и улыбается, будто сочувствует тому, что власть уходит от старых людей…
Я пытаю старика: хорошо это или плохо?
– Ни хорошо, ни плохо, – отвечает он. – Народ теперь больше сплочен; старики на своем ставили, а молодой идет по артели. Мы по-молоду тянем.
Берег «оплывает». Отъехали верст двадцать в океан. Дальше ехать нельзя, можно и вовсе потерять землю из виду, а необходимо установить приметы, иначе лодку незаметно может унести течением, и потеряем место, где поставлен ярус.
Ярус – это длинная бечева, версты в три, к ней привешены на коротеньких форшнях крючки с наживкой. Якорями он опускается на дно по «короткой воде», а кубас (деревянный поплавок) маленьким флагом показывает, где он.
Мы приехали на место полежки, готовимся выметывать ярус. Но раньше всего нужно установить приметы. Старик теперь же замечает по компасу едва видный глядень, а когда отъедем версты за три, возьмет другую примету.
Приметы взяты. Поморы молятся на все четыре стороны, но всего усерднее – на восток.
– Благословите, братья! – говорит кормщик.
– Святые отцы благословляли, за нас бога молили, – сейчас же отвечают три другие и бросают в море первый кубас, «бережник».
Поплавок кланяется до самого моря то нам, то берегу, то просто вдаль, на все четыре стороны, как кланялись только что поморы.
– Смотри, ребята, замечай, стоит ли кубас?
– Трубит, трубит! – отвечают другие.
Мы едем вперед, один за другим тонут за нами крючки с наживкой и светятся в глубине зеленым светом.
Ставим еще кубас «середник». Под конец бросаем последний «голоменной якорь».
Ярус поставлен; теперь мы будем «лежать на ярусе» шесть часов, время от начала прилива до конца отлива. «Вылежим воду» и станем тянуться.
– Ребята, грей чайник! – командует кормщик, а сам озабоченно смотрит то на небо, то на берег, то на воду.
Я что-то спрашиваю его, но старик не слышит или умышленно молчит.
– Ветры беспокоят, – отвечает мне за него юноша-весельщик.
– Ну вот, господин, смотри, – говорит немного спустя Игнатий, – примечай: если против этой горы с крестом облако наводить будет, то туман поставит в море стену. Но ничего… Облако чернее, свинки выкидывает, это к горним ветрам. Ничего…
Кормщик успокаивается. Как ни в чем не бывало мы начинаем пить чай. Как раз и у нас теперь пьют утренний чай. Если бы кто-нибудь, незнакомый с тем, сколько гибнет поморов каждое лето, посмотрел теперь на нас, то ему и в голову бы не пришло, что это так опасно. Сидим, покачиваемся, пьем чай и благодушно беседуем. Другое дело, если увидать такую лодку в тумане, когда после чая поморы лягут спать. Подъезжая к Мурману утром, я это видел. Мне показали пальцем одинокую лодку в тумане и сказали: «Вон лежат!» И так это было жутко. Мы проехали, и от волн парохода лодка закачалась. Никто не шевельнулся, все спали, «вылеживали воду». Я долго смотрел на эту мертвую точку в тумане… Как это можно спать… так… Жутко… Но теперь мы пьем чай совершенно так же, как дома, и разговариваем о том, что если хорошенько молиться Николе Угоднику, почаще, поусердней грызть его за бока, то и ветры слушаться будут, и никогда не вовремя не набежит «полоска» и не перевернет шняку.
– Бывает, что помогают угодники, – беседует кормщик за чаем в океане, – а бывает, согрешим и море к себе примет.
Игнатий огляделся кругом, снял шапку, перекрестился:
– Дай, господи, воду вылежать. Наше дело такое. Долго ли погибнуть, на воде ноги жидки. Налетит полоска, стегнет волна, и некуда деться, пропал. Но только страшного тут, господин, ничего нет. На товарища глядеть страшно, а самому хоть бы что. Помнишь, Таврило, как табак-то спас?
– Не скоро забудешь! – отозвался тяглец.
– Было дело. Да и так сказать: в мокром выросли, что нам мокроты бояться. Лежали мы на ярусе вот с этим Гаврилой, он мальчишкой был, наживку насаживал. Небо ясно, ветра не было, вылежали воду мы хорошо, рыбы бог дал много. Вдруг откуда ни возьмись набежала полоска, стегнуло волной, шняка вверх дном. Мачта плывет, весла плывут, ребята в воде, что рыба. Не опадая духом, командую: «Держите весла, держите мачту, лезьте на крень!»
Они и повылезли из воды на киль, всё единственно, что звери морские на камень. Сидим, качаемся. Скушно. Гаврила и говорит: покурить бы. Хватились: у кого табак за пазухой не отсырел, у кого спички. Сидим, дымок вьется, хоть бы что! Тут опять откуда ни возьмись ветер, дунуло, и опять шняку на место поставило. Мачту изладили, парус поставили и побежали.
– Табак спас! – засмеялись все.
– Табак! – засмеялся и кормщик. – Ну, довольно. Ложись, ребята, спать.
Стали укладываться. В носовой и кормовой части шняки есть кузовки, «заборницы». Туда можно спрятать значительную часть тела и укрыться от непогоды.
Я устроился на носу с тяглецом, остальные – на корме. Не спится. Может быть, мне мешает спать мысль о том случайном ветре, про который рассказывал кормщик. Вместе с людьми я совершенно не испытываю чувства страха, но мысль о ветре мешает заснуть, как иногда дома слишком близко поставленная к постели лампа: зацепишь как-нибудь во сне и свалишь. Тяглец тоже не спит, заговаривает со мной:
– Нет человека крепше, и нет человека слабже.
И рассказывает про кормщика, как он потерял двух сыновей:
– Лежали на ярусе старик, двое сыновей и я. Стегнуло волной, опрокинуло лодку, выбрались на киль. Семь часов держались, стало уж к берегу подбивать, саженей сто осталось. Вдруг младший крикнул: «Тата, тошно!» И как ключ – ко дну. Потонул. А другой через год поехал в Норвегию, около Вардэ ему перебежка восемьдесят верст была. Закидало взводнями, утонул. Старику не круто сказывали. Помалешеньку. Все думал – вернется, все вернется. Долго на глядень ходил, ждал. Потом волосы рвал на себе. А после таким законником сделался, первый человек на всем Мурмане, и все за молодых стоит, а не за старых. Говорит, что молодой человек лучше, артельнее, а старики только себя знают.
Мы еще что-то говорили, не помню, как я заснул. Разбудил голос кормщика:
– Ребята, грей чайник, тянуться пора!
Но это предложение чая – просто любезность старика, все понимают, что теперь не до того, пора тянуться.
Выбираем бечеву, симку, до голоменного якоря. Пузыри…
– Ну, ребята, море кипит, рыбу сулит! – радуется кормщик.
– Подходи, трещечка, матушка, палтусочек, батюшка!
Глубоко в океане загораются зеленые огни. Движутся к нам, превращаются в зеленых сказочных птиц, потом в белых чаек и под самый конец в больших серебряных рыб.
Тяглец тянет, весельщик подвигает лодку по линии яруса, наживодчик выбирает снасть.
Треска, палтус, зубатка, треска, треска, треска, больше треска.
– Треска идет, треску ведет! – приговаривает кормщик.
– Дай, господи, нос да корму, середку полну, – отвечают другие.
– Треска идет, треску ведет! – повторяет старик.
– Пошли, господи, окупи наши пропои! – отвечают молодые…
* * *
– На небе бог, на земле царь, а на воде кормщик, – повторяет мудрец Игнатий в своем стану за чаем, довольный хорошим промыслом. – Слушаются меня, почитают на воде, и дает господь. Вот на берегу… А меня и на берегу не обижают. Мы по-молоду держим, им, молодым-то, что спертый пар в котле.
Игнатий не хвастается, я сам вижу, как молодежь, собравшаяся в стан, почтительно относится к старику законнику.
– Вот почитай мне законы! – просит он, подавая мне книгу. – Сам неграмотный, так прошу почитать, кто знает.
Свод законов Российской империи. Уложение о наказаниях. Сухие параграфы, не имеющие в сыром виде для простого смертного никакого значения. Что я могу растолковать старику, когда о каждом параграфе существует целая библиотека? Что найдет тут для себя этот неграмотный помор, этот водяной царь?
Апокалипсис куда, куда легче, проще истолковать, чем Свод законов. Как попал этот ужасный том в колонию поморов, где нет начальника, где два дня тому назад я мечтал найти осуществление человеческой свободы?
– Откуда, зачем ты достал себе эту книгу, старик?
– А вот послушай! Ты знаешь, я прямой, я их на правду вывожу. Стал меня за это народ в Поморье почитать.
Приходят выборы, а они и выбери меня старшиной. А я неграмотный. Что делать? Писаришке не доверяю, все сам веду, считаю по памяти. Ну, мудрено ли просчитаться, вышла под конец нехватка. Меня судить. Меня-то, меня-то судить! И так присудили, чтобы отсидеть время. Зовут раз. Не иду. Зовут два. Не иду.
Старик нахмурился. Мне стало неловко, стыдно, противно. Тот самый народ, который за что-то высокое почитает старика, тут хочет посадить его за несколько просчитанных рублей.
Неужели же и здесь, на Севере, то же, что и везде?..
Старик нахмурился.
– В третий раз приходит урядник: «Иди, Игнатий, за мной!»
Кормщик поднялся во весь свой гигантский рост, большая волнистая борода, спрятанная раньше, как делают поморы от ветра, под куртку, выскочила, рассыпалась по могучей груди. «На небе бог, на земле царь, на воде кормщик», – промелькнуло у меня в голове. А Игнатий поднял вновь кверху кулак, будто трезубец Нептуна, и со всего маху опустил его на стол.
– Не пойду! – взревел водяной царь.
И сел. Потом я заметил, как на грозном лице, пока стихала раззвеневшаяся посуда, одна за другой разглаживались морщины старика, видел, как вместо них в углах глаз появлялись совсем другие, смешливые. Все светлее и светлее становилось в избушке.
– И не пошел! – засмеялся старик, как ребенок.
– Ха-ха-ха! – покатились молодые поморы.
– И не пошел?
– Нет, – захохотал старик.
Все долго смеялись и, отдохнув немного, спрашивали: «И не пошел?» – и снова хохотали поморы, кормщик и я. Только Свод законов Российской империи в своем коричневом казенном переплете, прищурившись, смотрел на нас и тихонько ядовито шептал: я вам дам, я вам дам!
Слетуха
День был мутный, непрочный, над океаном раскинулся полупрозрачный кисейный шатер с окошком вверху.
– Плешь горит! – сказали поморы, указывая на солнце. – Завтра морянка будет. Перед погодой горит, пылкая морянка хватит.
И не поехали.
Морянка – мурманский праздник, рассуждает Вичурный, и уже с вечера напивается и всю ночь стучится ко мне и кричит: «Мошкара, мошкара!»
За ночь море раскачалось, утром бунтует. У глядня поднимаются белые столбы, и брызги взлетают до самого креста. Из шума волн вырываются крики разгулявшихся поморов. Жутко становится мне. И в простой-то деревне, как разгуляется народ, не очень хорошо, а тут совсем другое. Тут нет женщин, маленьких детей, полей, деревьев, ничего ласкового, нежного. Трезвому человеку тут и спрятаться некуда: в горах ни одного кустика, злой ветер…
Я хочу пробраться на глядень, посмотреть на бунтующий океан, но, не дойдя до креста, отступаю: разбитые за скалами волны дождем перелетают через глядень. Повертываюсь назад, но тут меня встречают несколько пущенных кем-то камней. Это зуйки разгулялись, тоже, как и большие, подвыпили и теперь сражаются камнями на глядне, стена на стену. Спешу присесть за большой камень.
Зуйки – это будущие поморы, тут они проходят свою суровую естественную школу. Вырастают, как птицы, как звери.
Бой разгорается, много раненых. Разве броситься к ним сразу, крикнуть и остановить? Не решаюсь, потому что не знаю этих детей, выросших на Мурмане, побаиваюсь. Вдруг ветром через глядень бросает к ним красивую птицу, поморника. Укрываясь от непогоды, она стремглав несется вниз и садится в расселине между камнями. Зуйки замечают птицу, вражда окончена; все, как хищные звери, с камнями в руках ползут, крадутся… Напрасно: улетает. Что теперь делать? Секунду смотрят по сторонам, а в другую – летят к самому низу, к станам. Там из одной избушки, похожей на самовар, выскочили два старика и схватились. Один хромой, с костылем, другой почти голый. У другой избушки тоже дерутся…
Осторожно пробираюсь домой с твердой решимостью затвориться на крюк и сидеть день, два, три, пока не стихнет морянка. И только успел надеть крюк, слышу под окном: «Слетуха, слетуха!» Пробежала хозяйка, кричит не своим голосом: «Слетуха!» Пронеслась стайка зуйков: «Слетуха!» Постучал под окно Зверобой: «Барин, выходи посмотреть, слетуха!»
Выхожу. Внизу по океану бегут белые колеса, разбиваются с гулом о скалы. Несутся камни и брызги, и крики, и ругань. Дерется все становище, бунтует весь океан.
Катятся белые колеса по океану, и будто в каждом из них сидит рожа помора. Добежали к глядню и бац! – все рассыпалось, ничего не понять: сети, избушки и бочки, белые колеса и звериные рожи. Все белое, черное – кружится, хлещет, и хлощет, и хлещет…
– Морянка, вот и слетуха. Мурманский праздник. Как морянка, так и слетуха, – говорит мне Зверобой. – Подожди малешенько, остервенеют, мы их опутаем сетями, водой польем, и стихнут. Бойкая слетуха! Пылкая морянка!
Зверобою весело, хохочет.
– Кровь-то физическая! Семена-то закладены! Задел старик хромого, а хромой-то бойкий, клюкой свиснул, он в воду, синяков наделал, фонарей наставил.
– А урядник… что же урядник делает?
– Стоит, смотрит, как и мы. Что же ему делать? Вишь, народ какой! Поморы! Кровь-то физическая, семена-то закладены… Такие наши гусаря. Ну и яровит хромой, вертится на пять переворотов.
Недалеко от нас замешательство. Кто-то упал.
Я подхожу. Лежит человек, лицом к земле.
– Что это?
– Вишь, расстелился.
– Как?.. что?..
– Кончился, кровь горлом пошла.
* * *
Улеглась морянка, стихла слетуха. Как малые ребята, утром пошли друг к другу, кто за шапкой, кто за поясом, кто за чем. Вичурный, весь избитый, дрожащей рукой составляет мурманского ерша. Входят три огромных помора, выпивают, хмелеют, зовут Вичурного ехать на лодке вокруг глядня на песок.
– Проваливайте к черту, мошкара!
Гиганты садятся в лодку, выезжают из бухты. Ветер стих, но взводни еще не улеглись. Лодку догоняют белые гребешки.
– Пропадут! – говорит мне спокойно хозяин. Мне кажется, он хочет сказать другое.
– Не пропадут! – поправляю я.
– Пропадут. Сейчас пропадут, потому что взводень рассыпается. Трезвый всегда убежит от взводня, а пьяный нет. Пропадут.
Белый взводень рассыпается над лодкой.
– Конец?
– Нет, из этого выйдут, вон тем закроет!
– Вот!
. . . . . . . . . . . . . . .
– Шабаш!
– Лодки! Спасать! – кричу я. – Люди потонули!
– Кого же спасать? – спокойно говорят мне. – Видишь, ничего нету, ни лодки, ни людей. Окиян не лужа.
Я бегу к кучке людей у берега. Верно, там хотят помочь. Но слышу спокойный разговор:
– Край ветра шли.
– Вода тихая, взводень слабый. Пьян без ума, честь такова!
– Наказал бог!
– Бог… ах, ты! Может, им такая смерть уписана.
– Сам от себе…
– Своя ошибка, не хлябай.
Постояли и разошлись. Становище смолкает, все уходят на песок. Последние белые колеса изредка подбегают к скале. Еще немного, и океан уляжется, заснет, застекленеет. Но ведь это были сейчас там люди, не белые колеса. Ну, хоть бы в колокола позвонили, панихиду отслужили.
И плакать тут некому: женщин нет, нет маленьких плачущих детей. И так тяжела кажется эта ужасная мужская жизнь без плача.
Урядник плетется в почтовую контору.
– Сейчас три помора утонули!
– Знаю, знаю, бегу телеграммку дать в Поморье.
Вот и поплачут. Этой телеграммы там со дня на день тревожно дожидаются жёнки. Я проезжал по этим большим, молчаливым в летнее время селам. Меня поразила тогда их скрытая жизнь. Чисто убранные дома с цветами на окнах будто с часу на час ждут чего-то страшного. Помню маленьких детей с корабликом у воды. Спрашиваю:
– Где твой папа?
– Тата утонул.
– А мама что делает?
– Ништо. Плачет по тате.
Я иду к женщине, спрашиваю о жизни. И вот убивается, вот вопит:
– Тошно, жалко. Судьба-то шепчет: поди-поди. Тошнее, жальче, кто потонет. Лекше, много лекше, как на лавке помрет.
Едва-едва успокоилась женщина, вытерла слезы и стала себя утешать:
– Морские покойники перед господом праведнее.
– Почему же морские?..
– А лежат они там напрасно, и косточки их бьет и моет…
И опять залилась женщина, и так я не узнал тогда, почему морские покойники праведней. Теперь я понимаю: нет похоронного сочувствия людского, но зато больше одиноких женских слез.
Идет Игнатий на песок.
– Слышал?
– Что?
– Поморы утонули.
– Так что же, у нас это часто. У нас по покойникам не плачут.
К варягам
Наконец-то я своими глазами видел, что солнце село. Я вышел на глядень, ожидая парохода, который повезет меня в Норвегию, и как раз, когда я достиг вершины горы, креста, солнце спустилось в океан. На другом глядне в уступах скал стал сгущаться полумрак и в нем один за другим исчезать лиловые колокольчики. Большая белая птица бесшумно села на черный уступ, другая, третья, одна к одной, одна к одной, и вот уже длинный белый ряд спокойно смотрит на горящий пламенем океан.
На один глядень слетаются белые птицы, на другой сходятся черные люди. С камешка на камешек, все наверх, ближе к кресту, откуда виднее, шире простор океана.
Погружаясь в полумрак и дрему вместе с птицами и лиловыми колокольчиками, можно обо всем мечтать тут, у океана: о вечевом колоколе, о новгородской вольнице..
Я не очень рад, что ко мне подошел Зверобой и молча уселся возле. Знаю, что он хочет завести какой-то умнейший разговор. Тоже и другие мои приятели: Игнатий и Фауст. Я уже пережил Мурман, мечтаю о Норвегии, о возвращении к своим привычкам, занятиям… И так это тягостно сознавать, что непременно нужно вести умную беседу.
– Ну… – говорю я наконец Фаусту, – о чем ты думаешь?
– О всем помаленечку, – рад он начать, – о том, о сем. Все вот вертится да кружится…
– А все на своем месте, – доканчиваю я за него его любимую мысль.
– Все стоит! – подхватывает он и, подумав немного, говорит: – Вот вы ученые…
– Ну…
– А не можете, чтобы молодым сделать?
– Нет!
– Вот…
Мы немного молчим. Я чувствую, как у Фауста кружатся в голове отрывки воспоминаний, недоконченные мысли, как они плывут, крутятся, перевертываются наизнанку и, сделав оборот, опять начинают все по-старому, опять все стоит на своем месте. Фауст – сильно помятый жизнью человек. Зверобой – полная ему противоположность. Ему лет шестьдесят, а на вид сорок.
– Вот бы, – говорю я, – мне таким быть в твои годы.
Он изумляется.
– Ты лучше будешь. Вы не работаете.
– Как не работаю?
– Так… От работы люди стареют, а вам что. Вы не работаете.
– Как не работаю? Весь день работаю. Всегда работаю!
Зверобой улыбается. А я горячусь, хочу почему-то во что бы то ни стало доказать ему, что и я работаю…
– Я головой работаю.
– Голо-во-ой, – протягивает он. – Так какая же это работа? Это хитрость.
Тысячи раз я наталкивался на эту стену непонимания народом интеллигентного труда. Но никогда мне не хотелось вступаться за него так, как теперь.
– Голово-ой… – продолжает помор. – Мало ли что я головой могу выдумать. Стяжной ты человек, хитрый и могущественный, вот и все. Ты поработал бы у нас на шняке.
В другое время, при других условиях, я, может быть, и смутился бы от этого аргумента. Но здесь… Я только что мечтал о том, как я попрошу у капитана газетку и утолю свой волчий аппетит. Работа на шняке меня не очень соблазняет и потому, что я не очень доволен всей этой компанией поморов. Всех их томит теперь в ожидании парохода тоска по водке. Как только он придет, появится вино, начнется пьянство, слетуха. Я теперь хорошо понимаю этот мурманский заколдованный круг. Пока ловится наживка и дует легкий горний ветер, идет рискованная, почти героическая работа. Как только перестала ловиться наживка или подует морянка, так начинается тоскливое ожидание парохода с вином, пропивание всего заработанного и слетуха. В результате «все стоит на своем месте». Русские поморы промышляют рыбу на таких судах, которых уже не помнят в Норвегии, где суда совершенствуются постоянно, где поморы защищены от случайностей. Я слышал уже не раз, что норвежцы с хохотом встречают русского помора на том судне, которое они давно забыли и которое в Норвегии можно встретить только в музее… Нет, я не хочу работать на русской шняке, не признаю ее и возмущаюсь.
– Хитрость! – говорю я Зверобою. – Но если я о ваших порядках, о том, что вас тут оставляют без всякой защиты, не помогают вам, напишу книжку и вам помогут устроиться, как в Норвегии… Разве это хитрость, а не труд?
– Напиши, напиши, – просит он, – дело хорошее.
А сам думает по-своему. Сам не может понять, как за одни голые мысли можно получать деньги. Ведь и он тут думает постоянно, всякое его действие сопровождается мыслью, но платят ему за треску, в которой соединились и его «хитрость», и физический труд…
Мы, вероятно, много бы интересного вынесли для себя, если бы могли развить дальше нашу тему.
Но источник нашего общения – искренность – прекратилась. Помор молчит и в глубине души считает меня ловким пройдохой, а я его «типом». Наши личные пути разошлись, и я готов расстаться со всеми гениальными мыслями Толстого, Рёскина и Руссо, лишь бы отстоять уделенный мне уголок умственного труда…
Тут вскоре зуек, усевшийся на самом высоком камне у креста, закричал:
– Дым!
– Пароход, дым! – загудели поморы, две белые птицы сорвались и закружились с криком над нами.
Еще два-три часа, и этот пароход повезет меня в Норвегию, в страну, где нет уже неграмотных поморов, где уже давно не говорят о том, что сейчас говорили, где моя «хитрость» встретит признание не только в людях, но и в бесчисленных одушевленных ими вещах. Там живут те самые варяги, о которых сложился такой известный и горький нам анекдот: придите, княжите…
Дым парохода все ближе и ближе, показываются труба, корпус.
Свисток перебегает от горы к горе, будит птиц. Они взлетают белым облаком над черным Мурманом, похожим на окаменелого слона. Люди тоже расходятся, спешат к лодкам один за другим. Опять, как и в самом начале, я кладу свои вещи в первую попавшуюся мне шняку; по чемодану шагают, опираются на меня, перепрыгивая с лодки на лодку, и приговаривают:
– Сиди, сиди, сел и сиди.
Вичурный напивается уже во время стоянки, и вот последние слова, которые я слышу, уезжая к варягам:
– Меня в Амбурге знают. Мошка-р-р-ра!
Глава VI. У варягов
Кильдинский король
24 июля
Кончена дикая жизнь… Ружье, удочка, охотничьи сапоги, котелок и чайник упакованы и отправлены домой. Я в одежде культурного человека и готов покаяться перед Европой в измене ей на целых три месяца. Все мои помыслы обращены теперь к Норвегии. Я почти ничего не знаю об этой стране положительного: общие скудные исторические сведения, долетевшие через газеты отдельные факты без сознательного к ним отношения… Но у русских есть какая-то внутренняя интимная связь с этой страной. Быть может, это от литературы, так близкой нам, почти родной. Но, быть может, и оттого, что европейскую культуру так не обидно принять из рук стихийного борца за нее, норвежца. Что-то есть такое, почему Норвегия нам дорога и почему можно найти для нее уголок в сердце, помимо рассудка. То же, но иными словами мне много говорили о ней русские поморы. На судах наши русские моряки встречаются и с англичанами, и с немцами, но всегда отдают предпочтение норвежцам: самый лучший народ норвежцы, слышал я сотни раз.
Я начинаю свои наблюдения еще у Мурманского берега, разглядываю эту толпу на пароходе, завожу знакомства. Тут есть норвежцы с благородными германскими лицами, есть несколько зырян – великанов в самоедских костюмах, красивых, но плутоватых, есть русские поморы и смесь из финских племен, лопарей, финнов, карелов, всех этих прозябающих на Крайнем Севере некрасивых племен; многие из финляндцев и лопарей совсем маленькие, квадратные, с крючковатыми носами, на низких кривых ногах. Во всей этой этнографической смеси даже красивый национальный тип обесцвечивается, для него нет фона.
Ни Россия, ни Норвегия…
– Чушь! (чудь), – определяет одним словом мой знакомый помор этот этнографический винегрет.
Пароход переходит из одного становища в другое, нагружается, трещит лебедкой и, наконец, подходит к интересному острову Кильдин.
Это недалеко от Кольской губы Мурманского берега. Он возвышается над океаном как основание громадной, кем-то начатой пирамиды. Я еще в Лапландии слышал про этот замечательный остров. Лопари мне рассказывали, будто злая ведьма, рассердившись на жителей Колы, хотела запереть их в Кольской губе и вытащила остров из океана на веревке. Она подтянула его почти к самой губе, но кто-то увидел ее злую цель, крикнул, веревка оборвалась, колдунья окаменела, и остров остановился в океане.
На острове не видно деревьев, кустарников, даже травы. Только на южном склоне, там, где проходит наш пароход, виднеется прозелень. Тут на берегу я еще издали замечаю скот, коров, овец, прочные новые постройки, на воде красивые Листерботы и моторные лодки.
– Кильдинский король! – говорит нам капитан и останавливает пароход, чтобы передать туда почту, принять.
Все путешественники с любопытством смотрят на эту одинокую колонию норвежца на громадном пустынном полярном острове. Всех поражает это благоустройство; все ожидают, когда появится на пароходе этот колонист-норвежец, прозванный Кильдинским королем. Но из всех этих путешественников в настоящую минуту, вероятно, только я один понимаю и оцениваю вполне значение этой колонии на Крайнем Севере.
Нужно вот так, как я, поскитаться то пешком, то на лодке месяца три по Северу, чтобы понять это. Я приучил уже себя к чувству сострадания к людям Крайнего Севера. Я привык думать, что люди здесь, как эти несчастные деревья, мало-помалу должны сойти на нет, что красное полуночное солнце – лампада у гроба умершей природы.
Теперь я смотрю на колонию Кильдинского короля и думаю, что для человека этой естественной границы нет, что он может жить и за гранью, что он – человек, он выше природы.
Лет тридцать тому назад, рассказывают нам, сюда прибыл из Норвегии колонист с большой семьей, малолетними детьми и поселился на этом острове. У него не было никаких средств для жизни, так что вначале он стал промышлять рыбу на обыкновенной русской шняке, но переделав ее так, чтобы можно было бежать против ветра; для этого ему нужно было только изменить киль и устроить косые паруса. Благодаря этому, в случае шторма, ветра с берега, он мог возвращаться домой. Жил сначала в каюте от старой елы, но скоро из прибитых морем к острову деревьев (плавуна) устроил дом. И так из года в год стал жить лучше и лучше, промышляя то рыбу, то морских зверей. Дети – пять сыновей и шесть дочерей – выросли такими же здоровяками, как отец, и промысел, конечно, стал во много раз успешнее К концу жизни старика образовалась на острове Кильдин целая колония с Листерботами и моторными лодками.
Простая, несложная история. Но сколько в ней внутренней силы! Хорошо бы посмотреть поближе, вглядеться в быт, всмотреться во внутренний механизм, узнать, почему у нас, при всем этом геройском плавании на льдинах по океану, на киле лодки, в общем, не остается как-то соответственного этой стихийной жизни чувства уважения к человеку.
– Как они там живут внутри этих домов? – спрашиваю я знакомого русского помора.
– Хорошо живут! – отвечает он. – На море он спокоен, потому что на боту у него палуба, каминчик, всегда он на море, всегда он при доме. Прибежит к берегу, и там хорошо: на окнах занавески вязаные, и стол с накидочкой, безделушечки на столе, альбом, по стенам зеркала, стулья венские, хоть и не венские, а вроде венских, музыкальный ящик в пятьсот рублей. Живут и жить собираются.
Нужно быть на Крайнем Севере, чтобы понять, как звучат эти «занавесочки» и «венские стулья». Все это не обстановка мещанского существования, а символы мужества, силы, терпения…
Я всякими способами стараюсь возбудить чувство национального самолюбия у помора. Но у него этого нет. Все, что в Норвегии, – хорошо, что в России – плохо.
– Да как же так? – говорю я наконец. – Положим, везде плохо, но у вас-то в Поморье тоже не дурно и тоже занавесочки есть, и цветы на окнах, и жёнки хозяйственные, сарафанчики гарусные, юбки новые, башмаки…
Нет ничего слаще для помора, как похвалить его жену.
– По две прислуги держат! – подхватывает он. – Только и знают, что самовар греют. Пьют чай с ситником.
– Так вот… как же так?
– А мы, господин, не от России дышим. Жёнки с нами первый год тоже на судах в Норвегу ходят, присматриваются. Одна по одной, одна по одной, да так и завели хозяйство. А посмотри подальше от нас: баба, что чурка. В Норвегии только и обучаемся, посмотрим на правду да на порядки, на вежливость. Вот хоть бы команду взять. Пришел в Норвегу, якорь бросил, все как шелковые: пьяных нет, порядок, спят вовремя, едят вовремя. Приехал в Архангельск, опять свое. Мы, господин, не от России дышим.
Поморов принято в наших учебниках называть цветом русской национальности, гордостью страны. И вот в который уж раз я слышу это признание…
– Ты думаешь, он тут один! – продолжает помор, показывая мне рукой на жилище Кильдинского короля. – Тут их в одном тысячи, несметные тысячи тысяч.
Мне это показалось парадоксом, и не сразу я понял смысл его слов; но он такой: за Кильдинским королем культурная страна, тысячи таких же, воспитавшихся в гражданской свободе, тяжком труде в горах, таких же одиноких, но невидимо связанных между собою королей.
Вот что стоит за Кильдинским королем, и так я понял потом помора.
Пока мы разговариваем, с Кильдинского острова подъезжает лодка; в ней загорелый великан с голубыми глазами, много бочонков. Он сдает груз, принимает почту и уезжает в свое каменное царство.
Оттого, как он уложил свои газеты и письма, как он поклонился капитану и нам, как взялся за весла, веет той неуловимой культурностью, веет тем изысканным наследием веков, которое охватывает нас, русских, при въезде за границу и возбуждает в нас то благоговение, то рабскую подражательность, то восторг, то зависть, то грубое самохвальство.
У нас с помором одно чувство: страна, в которую мы едем, хорошая. Я вижу, как стесняет, как ужасно не идет к нему крахмальный воротник и весь этот праздничный костюм. Но нужно подчиниться культуре… И помор терпит.
Александровск
От Кильдинского острова рукой подать до гавани, где между скалистыми островами спрятался устроенный недавно город Александровск. С берега его не видно, и, может быть, я не пошел бы туда в горы смотреть на чиновничий городок. Но мне нужно побывать у парикмахера: за три месяца я стал походить на тех волосатых костромских людей, которых показывали в Европе за деньги.
И что же я увидел! Правильные линии совершенно одинаковых двухэтажных деревянных домиков. Больше ничего. Кругом скалы, видно лишь небо. Тут живут исключительно чиновники, все это казенные квартиры. Известно, что этот город выстроен буквально по предписанию начальства.
– Но разве они все одинакового чина? – спрашиваю я. – Почему дома одинаковые?
– Чин разный, – отвечают мне, – кто повыше, занимает весь дом, кто пониже – половину, еще пониже – четверть и так дальше.
Этот «город» устроен для основания незамерзающего порта, но, по слухам, гавань оказалась неудобной для стоянки судов.
Все тут сердятся на этот город, все говорят, что он совсем не нужен и что его вот-вот уничтожат.
Я стою посредине города, смотрю на это светлое отверстие из гор в небо, и мне хочется воскликнуть:
– Господи! Из-за десяти праведников ты щадил города. Пощади ты этих несчастных людей. Они невинны.
Пока я так молюсь, из одного домика выходит молодой человек в белом кителе, с тростью, с ним барышня с изящной плетеной корзинкой в руке.
Неужели же и здесь роман?
Я иду за ними…
Сделав несколько шагов, мы подходим к маленькому пруду, поросшему вокруг зеленью, за прудом горы поднимаются вверх, идти некуда. Молодой человек нагибается и что-то опускает барышне в корзину. Приглядываюсь: морошка. Собирают ягоды. Немного спустя они возвращаются обратно, и из открытого окна я слышу звуки граммофона.
Мне остается только искать парикмахера. Вывески нет. Это, вероятно, штатная должность. Парикмахер, наверно, по чину занимает лишь одну десятую казенного домика. Как найти?
Стоит городовой с ружьем, настоящий городовой, охраняет ссудо-сберегательную кассу.
– Где тут парикмахер?
– Чего?
– Цирюльник?
– У нас нет.
– Как же чиновники стригутся?
– Они не стригутся.
И улыбается во весь рот. Я спрашиваю еще одного солдата.
То же самое. И так я уехал в Норвегию с длиннейшими волосами, и до сих пор мне остается тайной, как стригутся чиновники в Александровске.
Вардэ
26 июля
Возле одной из последних русских остановок перед Норвегией помор Петр Петрович, общий любимец пароходной публики, опускает в воду на веревке довольно большой металлический крюк и начинает им дергать в воде. Через несколько минут, к удивлению многих пассажиров, он вытаскивает за бок треску.
– Бульшая рыба, хурошая, – говорит он, и снова опускает крюк, и снова вытаскивает за глаз, потом за спину. Горячится, волнуется и все повторяет свое: «Бульшая, хурошая треска».
– Петр Петрович озверел, – воскликнул наконец один гимназист.
– Озверел, озверел, озверел! – подхватываем мы. А он все таскает и таскает из воды рыбу и все бормочет:
– Буульшая… край непечатный, самый лучший край.
Пока пароход стоит, у Петра Петровича набирается целая корзина трески. Потом заказывается уха, и под председательством помора все мы едим знаменитую тресковую уху с максой (печенью).
Так незаметно, весело мы совершаем довольно скучный переезд и въезжаем в царство трески, в пределы Северной Норвегии. Город Вардэ – благоустроенный рыбачий поселок. Сотни всяких судов, амбары, деревянные дома. Город рыбаков.
На пристани нас встречает интересная арка, устроенная для только что побывавшего здесь норвежского короля. Главные столбы ее составлены из сельдяных бочек, верх – ела (бот) в полной оснастке, сверху и по бокам гирляндами спускаются рыбачьи невода с запутавшимися в них головами трески; из сухой трески составлены различные украшения, а также и надписи; вверху по углам выглядывают головы моржей, а в середине – запутавшаяся в невод морская свинка.
Петр Петрович только что был в Норвегии, видел короля и в восторге от него. Он имел даже честь вместе с ним обедать, и это удовольствие обошлось ему всего десять крон – стоимость обеда. Всякий желающий мог за эти деньги пообедать с королем.
– Он просто-ой… – повествует нам помор. – Приехал, прошел под этой аркой, смеется, бегает. Тонкий… не успел брюхо наесть… а кругом стоят с брюшками… Пристав, мой знакомый, сигару курит. «Брось, – говорю. – Король!» Смеется, не бросает. «Так что же, – говорит, – король, я ему представляться не буду». Вот они какой народ.
Петр Петрович полным значения жестом указал на толпу рыбаков, деловитых, серьезных людей, чем-то занятых у пристани.
– Вот они какие! – продолжает помор. – А я подошел поближе к королю, снял шапку и говорю: «Здравствуйте, ваше императорское величество!» – «Здравствуй!» – говорит мне и тоже снял шапку.
– Это невозможно, – говорю я Петру Петровичу, – король не говорит же по-русски!
– Как не говорит! – изумляется он. – Король?! Король на всех языках говорит.
Через несколько минут лодка доставляет нас на берег, мы с Петром Петровичем проходим под королевской аркой и вступаем на землю Норвегии.
Теперь не время промыслов. И того ужасного запаха трески, о котором всегда говорят, нет совершенно. На улице чисто, видно, что кто-то прибирает, заботится. Дома – словно картонные, такие легкие, прямо из деревянных досок. Просто не верится, что за Полярным кругом можно жить в таких домах.
Норвежцы с усмешкой говорят про Вардэ, что это глушь, что тут смотреть нечего. Но мне здесь все ново и интересно. На эти двухэтажные деревянные дома с высокими крышами, на эти бесчисленные маленькие кафе с особой приморской жизнью, на этих девушек с синими глазами и рослых поморов, – на все это я смотрю так, как провинциал смотрит на заезжего джентльмена: совсем не как у нас живут там, откуда приехал этот господин. Ощущение цельного быта страны – вот что волнует меня.
Я бывал не раз за границей, знаю это ощущение, но никогда я не испытывал его так сильно, как теперь. Нигде, вероятно, и нет такого резкого перехода от случайного в жизни людей к чему-то общему, гармонично связанному.
Нет ничего более контрастного, как мурманская жизнь поморов и норвежских рыбаков, города Александровска и Вардэ. Меня встречает история людей, и на время все эти замеченные назади люди, сцены из их жизни, все это сливается с одним общим сознанием преодоления чего-то одного, большого и трудного, назади: не то океана, не то этого черного Мурманского берега, похожего на старого окаменелого слона. Там стихия, здесь история. Это чувство входит в меня вместе с морским воздухом этого городка.
Мне некогда разбираться в нахлынувших на меня впечатлениях, я боюсь отстать от Петра Петровича. Без него я пропал: я не знаю ни норвежского языка, ни английского, а по-немецки и по-французски, вероятно, здесь не поймут.
Подходим к одному домику. Помор что-то бормочет девушке на каком-то странном языке, в котором я узнаю русские, немецкие и английские слова. Это особый русско-норвежский воляпюк, называемый здесь попросту: «моя по твоя». Девушка ведет нас наверх в маленькую комнату с двумя койками, где мы и устраиваемся, и, приодевшись, спускаемся вниз к завтраку. Это не настоящая гостиница. Так живут здесь все люди средней зажиточности. В столовой, которая служит и гостиной, и залом, и кабинетом, висят по стенам ружья и пистолеты, картины норвежских фиордов, на окнах, как у всех северных людей, множество цветов. Поразительная чистота.
– Чистота! – шепчет мне Петр Петрович. – К ним войдешь, так страшно, плюнуть некуда, – думаешь, барин или чиновник, а такой же брат промышленник, на койке белье постелят, так лечь боишься.
Входят две молодые женщины, усаживают нас, ставят на стол кувшин с молоком, вазу с морошкой, темный сыр, похожий на шоколад, хлеб в виде тонких ломтиков из хлопчатой бумаги и уходят за кушаньем.
– Видел? – шепчет Петр Петрович. – Понял, какая горничная, какая хозяйка? И не поймешь, и в кухню пойдешь, не поймешь: работают вместе, живут одинаково, едят одинаково.
В ожидании супа мы стараемся перевести надпись на скатерти и с большим трудом разгадываем: «Будем наследовать от родителей дома и имения, но хорошую жену посылает господь».
– Vaer saa god![34]– говорит нам хозяйка, подав две тарелки супа.
– Vaer sаа god! – повторяет она, предлагая хлеб, салфетки.
Слово звучит совсем как русское «прошу». Помор так и думает, что это она говорит по-русски.
– Услыхала словечко, заладила и так весь обед будет приставать: прошу да прошу.
Петр Петрович в крахмальном воротнике, приличен, скромен, осторожно вытирает чистой салфеткой усы, я вижу, как он учится, шлифуется.
К второму блюду является хозяин, высокий германец с синими морскими глазами. Верно, устал на работе, бросает шапку на стул, приветствует нас и начинает молчаливо поедать хлеб в ожидании супа.
В это время дверь соседней комнаты чуть-чуть приотворяется, и оттуда выглядывают две маленькие головки с теми же синими, как и у великана, глазами.
Суровое лицо преображается. Он бросает на нас немного застенчивый взгляд, встает, идет к детям и плотно закрывает за собой дверь. Очевидно, забавляется в ожидании супа.
Как-то не по-нашему. Петр Петрович недоволен:
– Заперся… боится, что мы его детей сглазим. Все они вот какие-то такие… дикие какие-то… Дети и дети, пусть себе бегают! Нет, запрет их… А вырастут большие, запрутся и сидят в своей комнате в одиночку. Придешь к ним, все будто не свой… Мы к ним всей душой, а они нет… К нам приедут: живи сколько хочешь, недели две, угощаем, радуемся. А придешь к нему в гости, угостит тебя альбомом, уйдешь голодный.
После супа нам подают палтуса и еще какую-то рыбу. Мясо здесь можно получить только в дорогих отелях. Обед кончается морошкой со сливками.
Пища свежая, прекрасно изготовлена, так вкусно съедается на скатерти с надписью о хорошей жене.
После обеда за столиком с различными норвежскими газетами я пытаюсь завести с хозяином разговор о политике. Но он очень плохо понимает немецкий язык… Я хвалю Норвегию, он хвалит Россию, несколько раз жмем друг другу руки и этим ограничиваемся.
* * *
У Петра Петровича какие-то дела с рыбаками, он уходит, а я беру на себя трудную задачу, не зная языка, найти парикмахера и остричься. Долго брожу и не могу нигде увидеть вывески с ножницами и париком. Впрочем, это, вероятно, потому, что меня отвлекают различные побочные цели: я то отвлекусь разглядыванием каких-нибудь особенных норвежских рыболовных принадлежностей, то увлекусь фотографиями Нордкапа, Гаммерфеста, полуночного солнца, иногда покупаю, забывая, что у меня на все путешествие вокруг Скандинавского полуострова имеется всего восемьдесят рублей. Любопытны и характерны для приморских городов бесчисленные маленькие лачужки-кафе, откуда неизменно выглядывают женские головки.
В ресторанах, в кафе, в магазинах – везде женщины. Я разглядываю их и стараюсь воплотить в них ибсеновские образы. Но, как я ни напрягаю воображение, они мне кажутся лишь худенькими, бедными немочками с голубыми глазами. Норы я не нахожу. Наконец в окне одной покосившейся лачужки вижу девушку, похожую на Гедду Габлер… Будь что будет, войду.
Человек пять моряков за столиком, очень нетрезвых, шумят, и в центре их Гедда Габлер…
– Cafe! – заказываю я.
Девушка встает, кивает мне головой:
– Vaer saa god!
Куда-то идет, я за ней… по лестнице наверх. Маленькая комната с двумя широкими кроватями, покрытыми красными одеялами, между ними у окна столик и стул.
– Vaer saa god! – говорит девушка и исчезает.
Я остаюсь немного смущенный. Не рассчитывал и не ожидал. Хотел видеть ибсеновскую женщину… И вот… не совсем чисто…
Через минуту девушка вносит мне чашку кофе с сухарями.
– Vaer saa god!
Исчезает. Кофе дрянной. Не пить же его тут, между двумя кроватями… Я кладу на столик мелочь и хочу осторожно, незаметно спуститься по лестнице, уйти «по-английски». Достигаю двери, крадусь… выхожу. Заглядываю в окно с улицы: Гедда Габлер, как ни в чем не бывало, узнает меня и кивает головой.
Больше я не делаю опыта в этом роде и ищу глазами ножницы и парик.
Вдруг впереди себя замечаю двух стройных женщин в ярких сине-красно-желтых костюмах скандинавских лопарей. Я видел такие костюмы только на рисунке и в витрине одного магазина. Теперь вижу их на этих высоких, стройных лапландках, совершенно не похожих на наших маленьких несчастных лопарок.
Неужели же они здесь такие благодаря тому, что Норвегия культурная страна, что в ней каждый, даже кочующий лопарь, обязан пройти семилетнюю народную школу, что в ней лопари строго охраняются от пьянства, что благодаря всему этому вместо больных, истеричных женщин, боящихся стука весла, я вижу перед собой этих стройных и, вероятно, прекрасных дам.
Нет, догадываюсь я, это, конечно, не лопарки, а туристки-англичанки. Вот они повернули за угол, и на мгновение мелькнули их строгие бледные профили. Я тоже за угол: ясно – англичанки, как я не заметил, что такие точеные талии невозможны без корсетов. Вдруг англичанки исчезают в каких-то больших белых воротах, и я вижу перед собой кучи ядер, пушку.
Крепость!
Сюда ходить нельзя. Петр Петрович много раз предупреждал меня: не подходить за версту к этой маленькой смешной крепости. Он рассказывал мне, что норвежцы боятся русских шпионов. Стоит им заподозрить в русском шпиона, как сейчас же начинается всеобщий бойкот. Он приводил мне даже в пример одного молодого художника, который по неопытности делал эскизы в Вардэ, и как сейчас же по всему маленькому городку разнеслась весть о русском шпионе, как перед ним закрылись двери всех гостиниц и домов и как бедняга страдал, пока наконец, совершенно обозленный, не уехал из Норвегии. А у меня еще фотографический аппарат!
Скорей бежать отсюда! Повертываюсь и вдруг вижу перед собой военного господина с узкими золотыми погонами. Он что-то хочет мне сказать. Очевидно, спрашивает, зачем я здесь. Не рассказать же ему про англичанок. Впрочем, я же ищу парикмахера.
– Barbier… Frisseur… Coiffeur… – пытаюсь я ему объяснить.
Не понимает…
Я показываю ему на свои длинные волосы, двигаю по ним двумя пальцами, как ножницами. Нельзя не понять. Он смеется и указывает мне дом с вывеской: «Photograp-hie».
Он хочет сказать: моя заросшая волосами физиономия достойна фотографии. Теперь я начинаю пальцем, как бритвой, скоблить свои щеки и в то же время выразительно указываю на его бритые щеки. Он опять смеется и тащит меня за рукав в фотографию.
Мы входим в небольшую комнату с железной печкой, увешанную фотографическими снимками. Молоденькая барышня аккомпанирует на рояле господину со скрипкой. При нашем появлении концерт расстраивается. Военный и господин со скрипкой переговариваются и смеются, барышня тоже смеется. Мне кажется, все смотрят на меня, как на попавшегося в плен хунхуза. Потом господин кладет свою скрипку на рояль, усаживает меня перед зеркалом и начинает стричь. Барышня садится ретушировать фотографическую карточку. Военный уходит.
Парикмахер – он сносно говорит по-немецки – в то же время и фотограф, и дирижирует местным оркестром, и заведует ссыпкой угля на пароходы. Иначе здесь жить нельзя. Он рассказывает мне, как трудно вообще жить здесь, как бедствуют рыбаки, несмотря на внешнее благополучие; в годы с малыми рыбными уловами едят даже тюленье мясо; много норвежцев теперь не выдерживает борьбы с природой и переселяется в Америку. В конце стрижки мы – приятели, и хозяин снабжает меня множеством фотографических снимков Норвегии.
Потом мы еще долго говорим с барышней о способах ретуширования фотографий, и я выхожу на улицу очарованный норвежцами.
Заметно смеркается. И здесь, вероятно, уже в это время года солнце садится. По улице вдоль берега моря гулянье. Белая ночь хочет и здесь меня обезволить, отъединить от людей, как и на берегу Белого моря, и в Лапландии. Но я чувствую, что ей этого не удастся. Может быть, это оттого, что я в прекрасной культурной стране и так четко убежден в чем-то хорошем.
Нордкап
30 июля
– Allo! Allo! Allo!
Кто-то будит меня. Но я не могу проснуться.
– Allo! – повторяет кто-то, отдергивает занавеску моей койки и энергично теребит за плечо.
Это девушка-норвежка. Не сразу я понимаю мое положение. Наконец соображаю: я на норвежском товарно-пассажирском пароходе. Вчера я лег спать еще в Вардэ, не дождавшись отправления парохода, и вот, первый раз в свое путешествие устроившись на койке с чистым бельем, подушкой, а главное, за темными занавесками, крепко уснул. Теперь меня будят, очевидно, к утреннему завтраку. Недалеко от койки довольно длинный стол уставлен множеством коробочек с консервами, сырами, рыбками, молочниками. Пока я одеваюсь за своей занавеской, входит господин в морской форме, с большой просвечивающей розовой шеей и белой косичкой волос на ней; это капитан, я вчера брал у него билет; потом входит еще блондин, вероятно, его помощник или штурман, потом седой старичок с упрямым, энергичным лицом, какие встречаются у наших староверов, в штатской одежде, лоцман, как я после узнал. Они устраиваются за столом, а девушка, разбудившая меня, повторяет свое «Аllo» возле других коек. Пожилой господин с брюшком одевается в форму норвежского почтового чиновника, потом еще господин. Все одеваются, устраиваются вокруг стола. У последнего вставшего господина я замечаю в руках том: «Gedanken und Erinnerungen» Бисмарка и вообще нахожу в нем сходство с этим великим человеком.
Я не люблю молчаливого совместного жевания и, садясь, приветствую всех по немецкому обычаю:
– Mahbeit!
Мне никто не отвечает, все хладнокровно жуют. Они грубоваты, вспоминаю я мнение путешественников по Норвегии. «Мало того, – думаю я, – они совсем неинтересны, и я не вижу разницы между ними и немцами». А немцы так нам знакомы! Вот этот почтовый господин совсем gemutlicher Sachse[35], Бисмарк похож на пруссака, капитан тоже, только лоцман что-то своеобразное. Он смотрит на меня как-то недоброжелательно и вдруг довольно грубо спрашивает:
– Рюсьман?
– Russe! – отвечаю я с достоинством.
Происходит какое-то замешательство, будто на мне только что заметили рога Мефистофеля и не знают, что со мной делать на первых порах.
Лоцман шепчется с Бисмарком, Бисмарк – с почтовым чиновником, этот с капитаном, и все повторяют: рюсьман, рюсьман. «Но ведь это куда хуже нашего, – думаю я, глубоко обиженный. – Вот и Норвегия, вот и мои ожидания, вот так культурная страна!»
Все продолжают шушукаться. Наконец капитан, очевидно, парламентер от других, спрашивает меня коротко:
– Offizier?
Совсем как на допросе.
– Нет, – отвечаю, – я не офицер.
– Wer sind Sie?[36]
Я назвал свою фамилию, взял фотографический аппарат и вышел на палубу, глубоко возмущенный.
Тут мой любезнейший Петр Петрович. О, родина святая! Что, если бы его не было на пароходе! И что будет со мной, когда он сойдет где-то у Нордкапа? У него там в одном из норвежских становищ стоит собственная шкуна, нагруженная треской. Цель Петра Петровича и состоит в том, чтобы променять купленную им в Архангельске русскую муку на норвежскую рыбу. Когда он сойдет на свое судно, я останусь совершенно один и даже не буду иметь возможности расспрашивать о местности у этих грубых людей, быть может, проеду мимо Нордкапа и не узнаю здесь самого северного мыса Европы. Я рассказываю об утреннем завтраке. Помор смеется.
– Норвежцы, – говорит он, – самые первые наши благодетели, они нас часто и на воде спасают, и в команде нет лучше норвежца. А это они тебя за шпиона принимают. Видят – не помор, говоришь по-немецки, зачем такому господину тут ехать? Боятся.
Меня как обухом ударило. Ехать несколько дней, спать с ними в одной комнате, есть за одним столом и все время знать, что меня считают за шпиона. А я-то мечтал духовно отдохнуть в стране, которая недавно так легко простым голосованием народа расторгла ненавистную унию с Швецией, в стране Бьёрнсона, Ибсена.
Я так опечален, что не очень внимательно смотрю и на горы, вдоль которых мы теперь едем.
– Темень какая! – обращает мое внимание Петр Петрович на горы.
Это тот же Мурманский берег, но только в несколько раз более высокий. Похоже на лапландские Хибинские горы, но только тут и внизу нет малейших следов зелени, прямо глядят в океан голые мрачные скалы. Иногда у воды виднеются один, два или несколько домиков рыбаков, и перед ними качаются на воде рыбацкие боты совершеннейшей конструкции. Эти жилища людей, такие благоустроенные, с телеграфными и телефонными проволоками, соединяющими их со всей остальной Норвегией, здесь, у океана, у подножия черных гор без зелени, кажутся такими неожиданными. Кажется, Творец здесь создавал мир по иному плану. Здесь он прежде всего сотворил человека, а потом осветил хаос и остановился.
– Живи как знаешь! – говорит и помор.
Я изумляюсь этой жизни еще более, чем на Мурмане Кильдинскому королю. Там хоть какая-нибудь зелень, тут – ничего.
– Вот русским бы поморам такую школу! – говорю я.
– Не-ет, нам нельзя. Нам из-за бабы нельзя. Наша баба не пойдет. Норвеженка живет одна, ей хоть бы что, а нашей бабе нужна баба, а той бабе еще баба. Так из-за баб живем мы кучами, а в одиночку не годимся.
Один домик, в котором мы взяли бочонок с рыбьим жиром, совсем висит над водой.
– Вишь, – указывает помор, когда мы отъехали подальше, – смотри: вырос на воде, живет на камне, в воду глядит, что чайка…
Вдруг он хватает меня за руку.
– Смотри! Кит!
Я оглядываюсь в сторону океана, кита не вижу, но замечаю довольно большой водоворот. Где же кит?
– В воду ушел, вон его юро видно.
Немного спустя показывается громадное черное блестящее чудовище. Весь экипаж смотрит на кита. Вероятно, это и здесь редкость.
А Петр Петрович рассказывает мне такой интересный факт из жизни рыбаков: недалеко отсюда есть разрушенный китовый завод, и еще подальше тоже. Заводы были разрушены рыбаками не очень давно. По мнению русских и норвежских поморов, кит гонит треску к берегу и является этим благодетелем рыбаков. Когда возникли китобойные заводы и богатые капиталисты стали массами истреблять китов, то уменьшился и рыбный промысел. Поморы подали в стортинг прошение о сокращении китового промысла. Ответа не последовало. Подали в другой раз. Ответ был отрицательный. Тогда поморы, соединившись, разрушили китобойные заводы. Зачинщиков арестовали, но немного спустя разобрали, в чем дело, и освободили. Китобойный промысел в виде опыта запретили на десять лет, а издержки по разрушенным заводам были покрыты на счет государства.
– И вот опять теперь стали киты показываться, – закончил свой рассказ Петр Петрович. – Теперь часто видят, и трески больше, и всем хорошо.
Пока мы так беседуем, на палубу входят толстый почтовый чиновник и Бисмарк и, очень недружелюбно на меня посматривая, начинают играть в серсо. Каждый из них берет по пяти довольно больших веревочных кружков и по очереди попадают ими на поставленный шагах в десяти деревянный шпиль. Это моцион для полных, серьезных людей. Совсем как немцы в Германии. Не могу же я представить себе Петра Петровича, бросающего веревочный крендель на острие.
Мы скромно становимся в сторону и наблюдаем. Ужасно плохо попадают, а кажется – так легко. Но они такие толстые, неуклюжие, у Бисмарка кривые ноги. Вот бы им показать! Я не выдерживаю, беру себе пять кренделей и хочу бросить. Оба чиновника мгновенно оставляют игру и уходят на нос парохода.
Теперь ясно, что меня принимают за шпиона. Я вдруг вспоминаю о том, что с фотографическим аппаратом меня видели возле крепости. Рассказываю Петру Петровичу об этом, и он мне опять повторяет, как то же было с художником, как его мучили и с каким дурным чувством он покинул Норвегию.
Что делать? Не обращать внимания? Но как не обращать внимания, когда для меня весь смысл этого отдаленного путешествия состоит в том, чтобы из постоянного общения с людьми узнавать местную жизнь. Что будет со мной, когда Петр Петрович сойдет на свою шкуну? Побросав все крендели, я сажусь на вязку канатов и начинаю грустно разглядывать белеющие паруса судов в океане. Мне припоминаются почему-то встречные лошаденки на большой дороге по бескрайной равнине средней России. Бредет лошаденка, мужик в телеге, какие-то мешки, кожи. Проплывет лошаденка, как случайный образ на бездумье, и опять то же безвольное расплывчатое состояние без мыслей. Да что же это? Спохватишься… Начнешь раздумывать: куда бы мог ехать этот мужик, зачем?
Тут, на Крайнем Севере, в Норвегии, я вдруг ловлю себя где-то у нас, на большой дороге…
Если бы все искренно писать, о чем думаешь в дороге, то, может быть, вместо севера вышел бы юг. Я ловлю себя на большой дороге. Но здесь океан, вот на горизонте бегут суда, совсем похожие на белые чайки.
– Куда бежит это судно?
– В Китай.
– Вот так дорога! А это?
– В Шестопалиху.
– Это?
– В Питер.
Бог знает что… Я пытаюсь разъяснить себе, зачем могут пускаться парусные суда в такое дальнее плавание. И, к своему изумлению, узнаю, что Китай находится здесь около Нордкина; Питер тоже, Шестопалиха вовсе близко, тут же есть какие-то «бирки с крутяками», есть Танин-фиорд, есть Васин-фиорд.
Все это русские названия в Норвегии. Все это места, где русские обмениваются с норвежцами товарами. В особенности останавливает мое внимание мыс, известный под именем «Северной Тонкой». Отсюда раньше русские промышленники, отправляясь на промыслы зверей на Грумант (Шпицберген), здесь сворачивали в океан. Про эти места они сложили известную на Севере песню грумаланов:
Прощай, бирка с крутяками, Не видаться с русаками! Прощай, Северной Тонкой, Не бывать скоро домой.Возле этого мыса помор мне показывает длинную полоску впереди, вдавшуюся в океан, и говорит:
– Нордкап!
Если бы он не сказал, то я бы не обратил внимания на эту чуть видную полоску земли, но вот теперь смотрю не отрываясь.
– Что там смотреть-то, – говорит мой спутник, – голые горы, темень и ничего. А едут…
Он рассказывает, как из Норвегии отправляют сюда «гулебные» пароходы с англичанами; приехав к Нордкапу, туристы при звуках музыки входят наверх, раскидывают там палатки и сидят, смотрят на солнце. Помор, остановившись раз со своим судном в ближайшем рыбацком поселке, видел, как одного седого старика вели под руки на Нордкап.
– Этот народ маленько того… хоть бы зверь аль птица, а то голые скалы, темень, ничего…
Мне хочется заступиться за туристов и за этого старика, которого под руки вели на Нордкап. Ведь все эти мертвые пустыни оживляются только туристами. Ведь благодаря им мертвый Нордкап ожил и стал что-то значить для каждого.
Почему это, спрашиваю я себя, мне так интересно видеть Нордкап, а помору нисколько?
Вопрос откладывается до вечера. Сейчас зовут обедать, потом мы будем у Нордкина и оттуда яснее разглядим Нордкап.
* * *
Сидеть рядом с людьми, которые считают меня за шпиона, ежеминутно передавать и получать тарелочки с закуской, с соусом, с этими бесчисленными приправами, как это бывает всегда за границей, и еще приговаривать при этом: «Vaer saa god». Это невыносимо.
Скрепя сердце, конечно, можно кое-как досидеть до конца обеда, тем более что норвежский язык мне совсем непонятен. Пусть говорят, что хотят. Но вот наступает продолжительный антракт между первым и вторым блюдом, я вижу, как бесцеремонно разглядывают меня и перекидываются словами: «Offizier. Offizier…» Терпение мое лопается. Я произношу горячую речь на немецком языке. Говорю, как трудно живется в России, как хочется побывать в такой стране, как Норвегия, как у нас любят ее, страну великих писателей, музыкантов, путешественников, как своей мелкой подозрительностью они унижают свою родину, разрушают то, что сделал народ и великие люди. Кончив свою речь, я хочу подсчитать результат. Все, кроме лоцмана, сконфужены, упрямый старик, вероятно, мало понял из моей немецкой речи, спрашивает что-то у Бисмарка. Тот переводит, а лоцман слушает и поглядывает на меня и наконец отчетливо произносит:
– Anar-r-rchist!
Другая крайность! И тоже, как я угадываю, здесь очень несимпатичная.
– Ну, пусть анархист, – отвечаю я, – у вас же можно иметь такие убеждения. Вот Ибсен был тоже анархистом.
На меня все набрасываются. Ибсен был анархистом! Напротив, капитан даже помнит, как он приезжал к ним в народную школу и читал детям свои произведения.
Они даже немного возмущены и обижены, а я вспоминаю, что Ибсен убежал из Норвегии и всю жизнь скитался вне своей родины. А теперь вот обижаются при малейшем намеке на его неблагонадежность.
Вдруг у меня созревает план мести. Я говорю им, что Ибсен был великий писатель, но у шведов тоже есть недурные: Бьёрнсон, Кнут Гамсун. Я пересчитываю ряд имен норвежских писателей и называю их шведскими. Такого эффекта я даже и не ожидал. Я никак не думал, что писатели, которых, вероятно же, и не очень-то знают эти захолустные люди, могут быть предметом такой национальной гордости…
Один перебивая другого, говорят они мне, что все знаменитые люди – норвежцы, а не шведы и что это так ужасно, но так это обычно слышать, что иностранцы их всегда принимают за шведов.
– Все норвежцы, все норвежцы…
– Но Гамсун, – говорю я, – он, кажется, швед?
– Все норвежцы, все норвежцы…
– И Бьёрнсон?
– Норвежец! Уж это такой норвежец!
Пересчитав известных мне норвежских писателей, я перехожу к музыкантам, ученым, называю имена Грига, Михаила Сарса, Нансена.
– Все норвежцы, все норвежцы, – твердят мне собеседники, и по мере того, как накопляются имена, величие Норвегии за нашим столиком возрастает, люди добреют, все наслаждаются, как я, иностранец, подавлен.
Наконец я исчерпал все свои знания. «Быть может, – думаю я, – теперь приняться за Исландию, ведь она тоже заселена норвежцами, пуститься в сторону скальдов и Эдды. Но кто знает, быть может, тут тоже что-нибудь вроде Швеции». Я не решаюсь, боюсь испортить настроение.
А они все смотрят на меня, капитан с розовым затылком, Бисмарк, почтовый чиновник, штурман, лоцман, ждут и будто торопят: называй же, называй…
Мне приходит одно имя, но это, кажется, швед, а нужен непременно норвежец. Я растерян.
Тогда все один за другим поверяют мне, бывшему шпиону и анархисту, как самому дорогому человеку, многие славные имена…
Я изумляюсь и при каждом имени восклицаю: «Ah!»
Скоро и они исчерпывают запас знаменитых земляков. Тогда я предлагаю выпить за прекрасную, любимую нами страну Норвегию. Мы чокаемся стаканами вина с Бисмарком, капитаном, штурманом, почтовым чиновником. И даже угрюмый, недоверчивый лоцман выпивает со мной и что-то бормочет, вероятно, хорошее по моему адресу.
Выпиваем еще за Россию и еще за Норвегию…
Я прошу разбудить меня у Нордкина.
* * *
Нордкин – северный рог. Нордкап – северный мыс.
Нордкин – самая северная часть материка. Нордкап – остров, отделен проливом, но почему-то знаменитее Нордкина. Между тем и другим широкий Tanenfiord.
Я вышел на палубу на рассвете. Солнечный луч остановился на скалах. Рог стал золотым. Пароход свистнул. Бесчисленные белые птицы сорвались с птичьего базара, рассыпались над океаном, будто мелко изорванная белая бумага.
Капитан знает, как это красиво, как любят туристы глядеть на скопления птиц на скалах. И чтобы сделать мне приятное, дает еще несколько свистков. И еще и еще слетают птицы с черных скал в золотое пространство, падают на зеленый океанский след парохода, сыплются, будто сказочный серебряный фонтан.
Крик, шелест, хлопанье крыльев…
За фиордом вытянулся в океан высокий Нордкап, будто черная крепость Европы. «Будто это старый и мудрый ученый», – приходит мне в голову: так отчетливо вырисовывается высокий лоб, выражающий неуклонную волю. Кто это был тот седой старец, которому помогали взойти на Нордкап? Сколько значения в этих звуках оркестра, о которых рассказал вчера помор! Это было празднество Европы на своей последней твердыне.
– Пустая земля, черный камень, даже зверь не заходит, – говорит помор. – Что в ней?
Ничего. Это символ ума и воли здесь, в золотых лучах восходящего солнца.
Но какой он при полуночном свете, когда все эти белые птицы рядами сядут на черных скалах? Неужели эта упорная воля не смирится? Или когда наступит зимняя ночь?
Не знаю. Теперь, на рассвете, Нордкап непоколебим и мощно красив.
– Край света! Пустая земля! – рассеянно повторяет помор.
* * *
Мы въезжаем в глубь Tanenfiord'a между Нордкапом и Нордкином; оба мыса, пока мы внутри фиорда, не видны. По обеим сторонам стоят высокие черные стены. Солнце врывается внутрь и освещает то одну, то другую сторону фиорда, и черные горы становятся то красными, то фиолетовыми, то синими, показываются отпечатки то огромного зверя, то окаменелых богов.
Этот фиорд глубоко врезывается в материк, доходит почти до Varangerfiord'a, который выводит в Россию, к Мурману. Мы едем в глубь фиорда, чтобы взять пассажиров от какого-то рыбацкого становища.
К нам приближается лодка, и в ней высокая мужская фигура в широкой черной шляпе, несколько женщин и мужчин.
Вот оно основание, на котором создался Бранд Ибсена! Эти горы возле прозрачной воды и есть та каменная пустыня, куда увел толпу проповедник.
Лодка приближается… Все эти темные фигуры женщин и мужчин входят по трапу на пароход молча. Молодой человек, вероятно пастор, такой задумчивый, интересный в своей широкой черной шляпе, пропускает всех вперед, а сам последним взбирается по трапу на пароход. Такое молчание в горах, так прозрачно, так светло; и в небе, и в горах, и в воде, и в этих странных темных фигурах – тайное согласие.
* * *
Нет, никогда не надо подходить к природе от поэта, нужно делать всегда наоборот, иначе одно нечаянное слово, случайный взгляд могут совершенно испортить картину.
Пастор вступает на пароход, и вдруг в этот момент срывается бочка с тресковым жиром и с грохотом падает в трюм.
– Это оттого, – говорит нам Петр Петрович, – что поп ступил. Это поп. Я видел его в Гаммерфесте… в церкви.
Молодой пастор спускается в каюту, и, пока мы слушаем все неприятности, возникшие по поводу разбившейся бочки, он появляется в сером пиджачке и модной велосипедной фуражке.
– Ну, вот тебе и поп! – восклицает Петр Петрович. – Поди узнай его.
– Не то что наш! – подаю я реплику.
– Наш… Нашего попа, брат, далеко видно… А это что! У них до тех пор попа не знаешь, пока не войдешь в церковь. Бывал я, знаю… Все сидят, читают… Выйдет поп и начнет кричать что есть духу, и что ни крепче, то лучше… Кричит и руками машет во все стороны. Сидишь-сидишь, слушаешь-слушаешь, пока не загогочешь, а засмеялся – сейчас тебя под руки и выведут.
Мы смеемся… Но где же, где же мой Бранд, которого я увидел в этом диком северном фиорде?.. Такого уж спутника послал мне бог… но не в спутнике дело, а в методе… Никогда не нужно идти по стопам поэта.
Пастор дружески трясет руки Бисмарку и почтовому чиновнику. Поговорив немного, они подходят к серсо, берут веревочные крендели и хотят играть.
– Wunschen Sie?[37] – предлагает мне крендель Бисмарк.
Я согласен.
– Sie? – предлагает он моему спутнику. Но Петр Петрович не желает, ему ужасно не к лицу бросать веревочные крендели на деревянное острие.
* * *
Возвратившись из длинного фиорда, мы снова и еще ближе подплываем к Нордкапу. Бросаю серсо и ухожу на нос парохода. В маленькой бухточке у берега приютился дом. Подле него другой и третий. Все домики в тени. Почему они так устроились? Бывает у них солнце или нет?
Пароход дает условный сигнал, хозяева должны выехать на пароход с своим грузом. Но никто не показывается, никто не откликается, будто давно уже все вымерли.
Из тени на свет выбегает телеграфная проволока и, блестящая, бежит от столба к столбу в горы…
«Да разве это одиночество! – думаю я, глядя на эту проволоку. – Это самое лучшее общение. Одиночество там, позади, в наших архангельских лесах».
Мне приходит в голову тот монах на берегу Голгофской горы, для которого время остановилось и города уже начали проваливаться, вспоминаются эти поморы, промышляющие зверей на льдинах, всегда вместе и всегда одинокие для мира, вспоминается красное полуночное солнце в Лапландии среди брошенного вымирающего народа. Вот где одиночество, а это общение.
Что-то долго собираются. Пароход дает еще нетерпеливый сигнал.
Вдруг в одном из этих домиков у Нордкапа открылось окно, кто-то махнул платком, и потом я услыхал такую высокую радостную музыкальную ноту. Быть может, это ребенок повернул ручку инструмента или ударил по клавишу пианино.
Но этот звук такой светлый, совсем как золотой луч в горах фиорда.
Мне кажется, что он вырвался из окна и побежал по этой светлой блестящей проволоке через горы…
Вышли люди – мужчины, женщины, дети. Поплыли на лодке к нам.
Стали грузить бочки, загремела лебедка, застучали весла.
А мне казалось, что золотой звук все бежал, и звенел, и светился на проволоке в горах.
Гаммерфест
2 августа
Пока мы едем из фиорда в фиорд, от одного рыбачьего поселка к другому, медленно приближаясь от Нордкапа к самому северному городу Европы – Гаммерфесту, садится солнце, наступает ночь, почти такая же, как на Белом море, когда солнце хотя и садится в воду, но все-таки выглядывает и в полночь одним глазком, своей полуночной зарею. Почти такая же природа, как и в русской Лапландии на озере Имандра, но только здесь, кажется, мы поднялись еще много, много выше над землей. Здесь не прозрачные, чистые горные озера, а океан, здесь горы не опушены внизу хвойными лесами. Здесь только вода и черные вершины, высокие сгрудившиеся и маленькие черные, убегающие от больших в океан.
Нет и следа зелени. Но когда пароход огибает скалу в фиорде, я иногда замечаю, как пучок лиловых колокольчиков свешивается из скал к воде, будто чашечки жаждут напиться этой легкой, прозрачно-зеленой воды фиорда.
Как и в Лапландии, мне кажется, что мы плывем в ковчеге после первого спада воды. Далеко в глубине этих вод лежит теперь затопленная грешная земля. Но уже спадает вода, уже слышен аромат земли, и вот уже показались эти первые лиловые колокольчики. Если теперь выпустить голубя, то он принесет не масличную ветвь, а эту чашечку цветов.
В одном месте мы так близко у скалы, что я, если бы не быстро бегущий пароход, а лодка, схватил бы рукой цветы. Но пароход бежит быстро, лиловые чашечки становятся темными на фоне пылающего красного неба, на фоне этого зеленого следа по голубой-малиновой-синей воде.
Слышно, как журча стекает вода, и все более и более обнажаются горы…
Еще неделя – и я буду внизу, между высокими зелеными деревьями. Буду ходить по траве.
На корме никого нет. Почему-то все на носу парохода. Почему это? Я повертываю голову туда и вдруг вблизи вижу белый сказочный город.
Гаммерфест!
Все происходит так быстро. Эти белые мраморные дворцы в белом сумраке все еще не стали обыкновенными домами и рыбными складами. Эти ряды вдумчивых кораблей с белыми крыльями еще не шкуны русских поморов, но мы уже у пристани: мои спутники уплывают на лодке к берегу. Нужно и мне перебраться…
– Как бы это сделать? – спрашиваю я капитана.
– Flotman! – кричит он лодочнику.
Тот берет мои вещи, и мы плывем к берегу. Толпа народа, суета, я один на берегу с своим чемоданом, не знаю, как спросить носильщика, как назвать гостиницу. Спрашиваю одного, другого. Спрашиваю на немецком, французском языках. Меня не понимают.
Я вдруг чувствую наконец все легкомыслие своей поездки в Норвегию без путеводителя, без подготовки. Пока были со мной поморы, я ехал, как по России, и вот теперь только чувствую свою беспомощность.
Спрашиваю одного, другого, третьего. Наконец ко мне подходят два маленьких мальчика, кричат мне: «Рюсьман, рюсьман», – схватывают чемодан и тащат куда-то. Мы поднимаемся в гору, я вижу, как трудно нести мальчикам тяжелый чемодан, беру его сам, тащу, а они бегут впереди.
Высокий отель. На балконе много женщин. Мальчики что-то говорят им, показывая на меня, нагруженного своими вещами. Вероятно, вид мой им не внушает доверия: они отрицательно кивают головой.
– Рюсьман, рюсьман! – говорят мальчики таким тоном, что мне слышится: бедный рюсьман.
Я пробую заговорить с дамами на балконе, но они не понимают и с состраданьем смотрят на мой чемодан.
– Бедный рюсьман, бедный рюсьман!
Я понимаю свое положение так: эти женщины боятся видеть в богатом отеле человека, не имеющего средств взять носильщика для такого тяжелого чемодана.
– Бедный рюсьман, бедный рюсьман! – все повторяют дети и тащат меня за руку дальше, к другому, маленькому отелю. Там то же самое. И еще к одному. То же самое.
Что мне делать? Больше отелей нет. Мне приходит в голову такая мысль: в Поморье я познакомился с одним молодым человеком, хозяином парусной шкуны. Он говорил мне, что в августе он будет стоять в Гаммерфесте, закупать рыбу; он просил меня, если я буду в Норвегии летом, побывать у него и даже остановиться на шкуне. Указываю мальчикам рукой на мачты русских судов в фиорде и называю фамилию помора: Сметанин.
– Kapitan Smjetanin! – весело подхватывают мальчики и бегут к берегу. – Kapitan Smjetanin! Kapitan Smjetanin!
Все знают его. Flotman везет меня к русским судам. Никогда не забуду я этого длинного ряда высоко поднятых вверх шпилей шкун, этой аллеи парусов, этой радости, что вот сейчас я с поморами заговорю на русском языке, устроюсь.
– Сметанин… где тут судно Сметанина? – спрашиваю я одну темную фигуру, в которой сразу узнаю русского помора.
– Греби к третьей шкуне, – отвечают мне.
– Где Сметанин?
– Я Сметанин.
– Семен Федорович?
– Нет, я Василь Федорович, а Семена нету, Семен ушел в Россию.
Вот беда! Я объясняю свое положение. Помор не верит, что в гостинице нет комнат, смотрит на меня хитрыми русскими глазами, и я читаю в них: ладно, ладно, ври ты, не хочешь денег платить за номер.
Ах, эти хитрые русские глаза, этот взгляд искоса, проникновенный, обидный, унизительный. Этот взгляд видит в каждом новом человеке непременно жулика. Никогда в жизни я не понимал так ясно противоположности германцев и славян. Эти доверчивые, открытые голубые глаза германца и эти хитренькие славянские глаза.
– Иди к русскому консулу! – говорит мне помор.
– Но теперь ночь, – отвечаю я, – ведь консула не принято будить ночью из-за того, чтобы найти комнату в гостинице.
– Ничего, он не спит… он хороший…
«Вот и знаменитое русское гостеприимство!» – горько думаю я.
– Можно бы и на шкуне у меня переночевать, – хитрит помор, видя мою нерешительность.
– А… – подаю я реплику, полную желания переночевать на судне.
– Да он не спит, консул хороший.
– Прощай! – говорю я.
И мы плывем опять к берегу.
«Бедный рюсьман, бедный рюсьман!» – встречают меня голубые глазки норвежских ребят.
«Консул» – слово понятное. Меня ведут к консульскому дому на высоком берегу фиорда. Жутко звониться… Ночь.
Консула нет дома.
– Бедный рюсьман! – грустно твердят мальчуганы.
Я даю им мелочь и отпускаю. А сам в полном изнеможении от тяжелой ноши сажусь на лавочку у фиорда, готовый хоть всю ночь ждать возвращения консула.
Фиорд спит и горит полуночной зарей.
Как, вероятно, красив этот фиорд, и этот белый город, и этот ряд морских кораблей. Но я ничего не вижу, ничем не наслаждаюсь; усталый, перевожу глаза из стороны в сторону, прислушиваюсь к шагам: не идет ли консул. Только один огромный черный камень, высунувшийся из воды на середине фиорда, навсегда остается в моей памяти.
От нечего делать курю, подсчитываю расходы и вдруг холодею: от восьмидесяти рублей остается сумма, с которой невозможно доехать до России, если даже и в будущем ночевать не в гостинице, а на лавочке у фиордов. И как это незаметно вышло: выпитое вино в честь норвежских великих людей, фотографии, образцы рыболовных принадлежностей, лапландский костюм. Зачем я купил этот костюм, не носить же мне его?
Единственный исход ехать обратно в Россию опять по тем местам, где пробежал мой несчастный волшебный колобок. Ни за что! Разве у консула попросить? Но что такое консул? Я никогда в жизни не видел ни одного консула; какие они, – может быть, с такими же глазами, как капитан?
И вот его шаги…
Решительная минута… Если глаза не такие, попрошу. Ко мне приближается маленькая фигура в форменной фуражке, с большим портфелем в руке. Я встаю, иду навстречу. Консул, не доходя шагов двадцать, любезно раскланивается, я отвечаю тем же. Потом роется в портфеле, достает какой-то лист, подходит.
И дарят же такими сюрпризами эти светлые северные ночи!
Мой консул вдруг превращается в прекрасную девушку в форме норвежского почтового чиновника, с глазами цвета лиловых колокольчиков. Девушка подает мне почтовый лист, похожий на газету, я разглядываю его, ничего не понимаю и спрашиваю:
– Was ist das?[38]
Лиловые колокольчики улыбаются. Я спрашиваю на всех языках. Колокольчики молчат.
Хочет уйти. Но я указываю на чемодан, говорю: рюсьман, отель.
– Рюсьман… отель, – соглашается девушка и ждет, что же еще я скажу…
Что бы выдумать такое? Одно удачное слово, и я спасен. Но слово не приходит, я повторяю только: рюсьман, отель.
Девушка кивает головой, повертывается, превращается в почтового чиновника и исчезает.
И опять прозрачная пустая белая ночь без лиловых колокольчиков черным камнем смотрит на меня с фиорда.
Что же делать? Я сижу еще час. Заметно светлеет, на камне блестит отблеск зари.
Вдруг мне приходит в голову счастливая мысль: Гаммерфест служит центром русско-норвежской торговли, – не может же быть, чтобы тут на пристани не было ни одного человека, говорящего по-русски. Быть может, по-русски-то больше здесь понимают, чем по-немецки.
Подхожу к пристани, становлюсь на свой чемодан:
– Понимающие по-русски, отзовитесь!
Ко мне подходит молодой норвежец, раскланивается, спрашивает довольно чисто по-русски:
– Чего угодно?
– Голубчик мой, – хватаюсь я за него: так и так. Рассказываю о мальчиках, о консуле, о почтовом чиновнике. Он много смеется. Превращение почтового чиновника и ему кажется загадочным. Насколько он знает, в Гаммерфесте нет женщин-чиновников на почте. Дела мои устраиваются в пять минут. Я получаю удобную комнату в лучшем отеле. Щелкает пуговка, и при электрическом свете меркнет в окне бледный лик белой ночи.
* * *
Консул рад мне помочь, рад побеседовать со мною, но нам мешают то и дело входящие в комнату русские поморы. Теперь как раз время, когда они разъезжаются домой, потому что за лето они нагрузили свои шкуны треской и променяли муку. Они входят к консулу, частью чтобы проститься, частью чтобы выполнить какие-то формальности.
Сегодня я, устроенный во всех отношениях, думаю о них лучше, чем вчера ночью. Мне приятны их свободные манеры, их морская грубоватость. Войдет в двери и не остановится у порога с шапкой в руке, как у нас, а прямо подходит к консулу, жмет его руку, жмет мою руку и усаживается на стул.
– Походишь? – спрашивает консул, применяясь к их языку.
– Ветер походный, иду.
– С мукой?
– Нет, разделался…
Это значит – променял всю муку. Сущность торговли состоит в том, что помор берет в долг в Архангельске муку, меняет ее на рыбу в Норвегии и, продав ее, уплачивает за муку. Знание этого дает мне возможность решить экономическую загадку, предложенную консулом: каким образом русская мука часто дешевле в Гаммерфесте, чем в Архангельске?
Сидит помор, «беседует» чинно и важно. Мы говорим об этом интересующем меня морском пути на парусном судне от Архангельска до Гаммерфеста. Я узнаю удивительные вещи. До сих пор еще русские моряки не считаются с научным описанием лоции Северного Ледовитого океана. У них есть свои собственные лоции, собственные названия вроде тех, которые я уже слышал: «Китай», «Питер»; «Шестопалиха». Описание лоции поморами почти художественное произведение. На одной стороне листа описание берега, на другой – выписки из Священного писания славянскими буквами. На одной стороне – рассудок, на другой – вера. Пока видны приметы на берегу, помор читает одну сторону книги; когда приметы исчезают и шторм вот-вот разобьет судно, помор перевертывает страницы и обращается к Николаю Угоднику. Есть среди поморов, рассказывают мне, удивительные храбрецы. Раз один старик пришел из Архангельска в Гаммерфест без компаса. «Как же так? – спросил консул. – Как же он шел?» Помор указал рукой какое-то направление. А раз даже было так, что один помор решил удивить Европу. Сделал почти совершенно круглую лодку, прицепил к ней паруса собственного изобретения и пустился океаном на Парижскую выставку. Он благополучно проплыл по Белому морю до Архангельска, проплыл Моржовец, Сосковец… Последний раз его видели где-то у Трех островов… там, вероятно, он и погиб.
Одни поморы приходят к консулу проститься, другие являются с норвежцами к третейскому суду.
Входят два помора: русский и норвежец, оба с голубыми глазами, оба высокие, здоровые моряки. Пока они оба рассержены, пока один, перебивая другого, на своем языке рассказывает консулу причину ссоры, их почти нельзя отличить друг от друга, потому что море шлифует всех одинаково. Но вот действие развивается. У консула простая и оригинальная система суда: молчание. Чем больше он молчит, тем больше горячатся поморы, наконец объясняются между собой. Состязание происходит исключительно в диалектическом отношении, оба чувствуют молчаливое руководящее присутствие консула.
Действие начинается с того, что оба говорят друг с другом не по-русски, не по-норвежски, а на особом русско-норвежском воляпюке «моя, твоя», состоящем из русских, немецких, английских и норвежских слов.
– Сюль (я) капитан, сюль правило (кормщик), сюль принципал! – восклицает гордо русский.
Но я уже вижу, как на голубые глаза помора как тень набегает русская хитреца. «Неспроста он гневается, – думаю я. – Сейчас у него мелькнул целый хитрый план атаки».
– Ист (есть) твоя фишка (рыба) на мой палуба! – гневается норвежец.
Этот сердится без плана, лицо умное, но без плана.
Помор это отлично понимает, и я читаю в его глазах: дурак ты, немец.
– Моя спрекам (sprechen)… Твоя спрекам. Моя, твоя, моя, твоя, моя… – И вдруг оба останавливаются в пылу сражения. Язык «моя, твоя» изменил.
Тогда один говорит по-русски, а другой по-норвежски. Так это легко становится, будто вращаются шестерни, освободившиеся от передаточного ремня. Русский говорит по-русски, но уверен, что по-норвежски, а норвежец уверен, что он говорит по-русски. Консул в двух-трех фразах переводит смысл сказанного… Его спокойное вмешательство обезоруживает поморов… Оба, как и вначале, некоторое время говорят, обращаясь к консулу. Но потом опять схватываются, но более спокойно: моя, твоя, моя, твоя…
Тонкая хитреца на лице русского, как извилистая тропинка по мечтательным бескрайным полям, вьется, вьется, вьется. Норвежец принимает это за простодушие – оба стихают. Консул встает, мир заключен. Норвежец платит деньги:
– Вот моя пеньга (деньги) имей!
Оба жмут друг другу руки как ни в чем не бывало.
– Твоя по-рейза (reisen)? – спрашивает норвежец.
– Моя рейза (еду). А твоя?
– Моя, когда ven (ветер).
Норвежец уходит, а русский торжественно приглашает нас откушать на судне и, получив согласие, удаляется готовиться к встрече важных людей.
Нас уже ждет у берега лодка. На судне спущен трап. Хозяин в черном сюртуке стоит у борта, извиняется, что трап подали с левой стороны, – это по их правилам невежливо, но делать нечего, правый борт загроможден бочками.
Ах, если бы меня вчера ночью одного, без консула, так приняли! Какой бы гимн пропел я русскому гостеприимству. Но теперь…
Это не те поморы, к которым лежит моя душа. Те совсем сливаются с стихией. Те плавают по океану на льдинах, подносят своему богу звериные шкуры и деньги за спасение, курят табак в океане на дне опрокинутой лодки. А эти – обыкновенные хитрые купцы, они тут подучиваются у норвежцев вместе со своими жёнками и устраиваются хорошо.
Хозяин, поглаживая по голове мальчика, рекомендует: «Это старшенький, у меня их семь номеров».
Потом усаживает нас на мягком диване под иконой с горящей лампадой. Входят родственники с других шкун, кланяются, извиняются за костюм перед хозяином: «Мы к вам по свойству, по знакомству». Входят молодые, новобрачные, – медовые месяцы у поморов принято проводить в «Норвеге». Все усаживаются вокруг самовара. Сверху из люка доносятся русские слова.
Угощают нас по-русски, по-демьяновски…
Трудно поверить, что все это совершается в Норвегии, в стране викингов и скальдов, Бьёрнсона и Ибсена.
* * *
После торжественного приема нас поморами мы с консулом совершаем небольшую прогулку в окрестности Гаммерфеста. Прежде всего он мне показывает «парк». Между горами у ручья каким-то чудом выросло несколько десятков кривых березок в рост человека и под ними множество лиловых колокольчиков. Местечко это обнесено решеткой с надписью на трех языках: «Щадите эти растения». Вокруг расчищены дорожки, устроен ресторан. Тут катаются детские коляски, гуляют молодые парочки.
Это последние березки, это гордость Гаммерфеста, самое замечательное его местечко, полное трогательного значения. Кажется, что вокруг этих последних зеленых листьев собралась и последняя общественная жизнь. Севернее, откуда я приехал, хоть и поражают эти жилища рыбаков, но трудно удержать теперь, в виду этой зелени, чувства несогласия с этой жизнью, ненормальностью ее… Я делюсь своими впечатлениями с консулом, и он вполне соглашается со мной: жизнь на севере Норвегии совершается на счет юга. Третье, четвертое поколение на Севере, говорит он, вырождается, и потому так часто рядом с гигантами-поморами встречаются мелкие, худосочные люди. Никакая самостоятельная культура на Крайнем Севере невозможна. Невозможно искусство, литература. Все эти знаменитые писатели, о которых мы знаем, воспитались в южных благодатных фиордах. Здесь они бывают только проездом.
Осмотрев этот маленький парк, который навсегда остался во мне символом северного трагизма, мы возвращаемся в город и долго бродим здесь по улицам. От своего собеседника я узнаю много интересных подробностей местной жизни, о недавнем приезде сюда короля. Консул, как многие другие, обедал с королевской четой. Вместе с ними обедал и кучер, возивший короля по городу. Вышло это так: один местный владелец пары хороших лошадей предложил королю пользоваться ими на время пребывания в Гаммерфесте, а так как у него не было прислуги, то возить короля вызвался сам. Король согласился и, в свою очередь, угощал его обедом… Как известно, в Норвегии теперь одно сословие, демократизм такой же, как и в Америке, а классовые различия не так велики: всем более или менее трудно жить в этой суровой стране. Очень часто чиновники совмещают в одном лице много разных должностей. Основанием для жизни такого чиновника служат обыкновенно его доходы как рыбного торговца.
Так, болтая о том и о сем, мы приходим в почтовую контору спросить, нет ли писем до востребования. Я берусь за ручку двери, как вдруг она сама открывается, и навстречу нам выходит чиновник – девушка с глазами цвета лиловых колокольчиков, кивает мне головой, как знакомому, улыбается и, спешно приняв деловой вид, исчезает. Изумленный, я долго смотрю ей вслед.
– Что вы? – спрашивает консул.
Я рассказываю о вчерашней встрече, как о каком-то загадочном видении. И вот теперь, если меня не обманывают чувства…
– Тут ничего нет особенного, – смеется мне консул. – В Норвегии сорок пять тысяч женщин «лишних», ищущих труда.
* * *
Воскресенье. Утро. Звонят в церквах. До отъезда мне хочется побывать в норвежской церкви. Выхожу. В воскресенье Гаммерфест внутри похож на маленький немецкий городок. Это сказывается как-то и в этих бесчисленных детских колясочках, и в чисто выметенных улицах, и в праздных позах людей, немножко смешных без дела, и в том же монотонном тильканье в церквах. Вот только фиорд и горы говорят, что это Норвегия.
В церкви все с молитвенниками ожидают пастора, играет орган… Хотелось бы сказать: Германия, но я замечаю на боковых местах плотные фигуры норвежских рыбаков с выбритыми подбородками и бородой из-под низу, с их голубыми морскими глазами.
Входит пастор… Тот самый пастор, с которым мы встретились в Tanenfiord'e, которого я принял за Бранда, но потом играл с ним в серсо. Какой у него теперь торжественный вид, какая грозная речь. Я не понимаю по-норвежски, но глаза суровых рыбаков увлажняются; один спрятал лицо в ладони, другой вытирает глаза платком. Мне как-то не приходилось замечать этого в немецких церквах. Вероятно, и тут сказывается Норвегия, море. Выхожу. Несколько русских бородатых поморов стоят у окна церкви, строят безобразные рожи, что-то показывают на пальцах, смеются.
– Что вы тут делаете? – спрашиваю я.
– Да наши ребята норвежского попа слушают. Смешим.
– Зачем?
– Рассмешим, а они загрохочут, их и выведут. Чудно!
Невозможная дичь! Но такие рожи, что я хохочу и радуюсь, что не посмотрел на окно, когда был внутри церкви. Спешу скорее улизнуть от земляков, чтобы не быть скомпрометированным.
Прямо за городом высокая черная каменная стена горы. На ней тропа, вероятно, для прогулок. Иду, а за мной бегут торжественные звуки церковного органа и еще веселые аккорды рояля и треск от канатов с фиорда: поморы натягивают паруса. На горы хорошо подняться, не глядя вниз, а потом, добравшись до вершины, сразу, будто на крыльях, облететь все внизу.
Маленький карточный городок, разбитый на правильные квадратики, несколько игрушечных церквей, кладбище, на котором движется черная точка, и много корабликов с натянутыми парусами у берега.
Теперь я уже приучил глаз измерять морские расстояния в этом прозрачном северном воздухе. Я знаю, что вот до того белого паруса верст десять, новичок скажет – верста.
Звуки я слышу отсюда тоже резко, отчетливо: орган и рояль.
Нет ничего противоречащего в этих звуках. Одно не мешает другому. Отсюда, с высоты, мне кажется, что это звучат согласно две разные стороны жизни.
Воскресенье… чего же больше?.. Кто молится, кто веселится. Так это просто и понятно.
А у нас…
Мне по контрасту вспоминается Голгофская гора Соловецкого монастыря, вспоминается красное вечернее солнце над морем, будто лампада над черной усыпальницей, вспоминаются таинственные желтые, черные лики, с тревожным отражением огоньков, вспоминаются кривые извилины от неискренних улыбок на бледных, восковых лицах монахов, черная толпа богомольцев, ожидающая чуда, и все это.
Как там необыкновенно, как сгущаются родные черные краски отсюда, издали, в этом чистом воздухе фиорда, под эти согласные звуки органа и рояля.
Ясен и прост кажется теперь этот смысл человеческой жизни, направленной по твердой колее упорного будничного труда и сопровождаемой торжественными и веселыми звуками.
Но ведь это…
Ничего, ничего… Это воскресенье, чего же вы хотите, люди отдыхают, люди непременно должны отдыхать…
Лингенфиорд
(Письмо к другу)
7 августа
Дорогой друг, последнее письмо я послал Вам из Соловецкого монастыря, а теперь, воображаю, как Вы изумитесь, – из Норвегии. Пишу на пароходе, где-то возле Лофоденских островов. Хочу поделиться с Вами своими впечатлениями о знаменитом Lingenfiord'e.
В Гаммерфесте русский консул, мой новый хороший знакомый, отметил на карте все интересные места. Одно из таких мест и был Lingenfiord с своими ледниками. Пароход вышел вечером. Ехали мы вдоль темного, изрезанного фиордами берега. Но, в сущности, берега в общепринятом смысле здесь нет: пароход скользит между горами, на минуту покажется океан, и опять обступят горы. Ни деревьев, ни травы, – кажется, будто только что стали стекать воды после потопа и обнажились эти вершины. Закат солнца в Норвегии – это пожар в горах. Мы едем вперед, а солнце поджигает новую и новую черную гору…
Утром выхожу на палубу: дождь и туман. В Норвегии, я слышал, летом из трех дней два бывают дождливые и туманные. Я ушел в каюту в дурном расположении духа: дня три-четыре такой погоды, и я обогну почти весь Скандинавский полуостров, ничего не видавши. И в таком грустном размышлении я вышел на палубу после завтрака.
Туман еще скрывал все кругом, и все, что я видел сначала – это отблеск света на зеленой килевой воде. На это светлое пятно смотрели и другие пассажиры: старик моряк с характерной для норвежцев бородой из-под низу, с ним мальчуган, студент в черной шапочке с значком и с бантом на плече, рядом с ним худенькая, как все норвеженки, дама в черном, с пучком лиловых колокольчиков, с светлыми локонами из-под закинутой назад зюдвестки. У них что-то есть общее в том, как они смотрят на море. Смотрят будто и рассеянно, без определенной мысли, как мы смотрим на наши расплывающиеся дали. Но вот переводит глаза на другое место горизонта, и тут сказывается что-то свое, норвежское: блуждают они, что-то предприняв, решив, потому что знают тайну своей природы.
Так мы смотрим на светлое пятно в тумане и чего-то ждем. Вдруг где-то махнуло белым. Мы все взглянули туда: светящееся ожерелье поднималось по открывшейся черной горе с белой вершиной.
Махнуло еще где-то белым, еще и еще. Одна вершина открывала другую… Казалось, что в глубину фиорда медленно удалялась гигантская фигура, закутанная в белый туман. И, право же, я видел на снегу от вершины к вершине следы ног…
Кто-то ступал и закрывался, а за ним оставалось в небесах светлое утро творения мира.
Нет, я не буду Вам описывать, не могу, приезжайте сами посмотреть на эти чудеса. Вероятно, я очень расчувствовался, потому что дама с лиловыми колокольчиками вдруг с любопытством посмотрела на меня, а студент даже заговорил. Я ответил ему по-немецки, представился. То, что я оказался русским, его заинтересовало. Он сейчас же представил меня и даме с лиловыми колокольчиками, и еще одному студенту. Минут через пять мы уже говорили об Ибсене, о Толстом, о больших неразрешимых вопросах, совсем, совсем как у нас в России, в студенческой компании. Я рассказывал, шутя, о своих приключениях на Крайнем Севере, о том, как меня приняли за шпиона только потому, что я назвал себя русским.
– Что делать! – серьезно сказали студенты. – Мы должны бояться. Россия такая большая страна, а Норвегия такая маленькая.
– Хорошо, – сказал я, – если бы она была под интернациональной защитой.
– Никогда! – вспыхнул вдруг студент.
Это «никогда» было сказано таким тоном, что я поспешил поправиться:
– Вот так, – сказал я, – как Швейцария.
– Да, как Швейцария, это другое дело!
И мы выпили за «Норвегию, как Швейцария»…
Тут я вдруг почувствовал в моих собеседниках какую-то коренную разницу сравнительно с русскими студентами. У нас как-то не принято после беседы о Толстом произносить тост за «Великую Россию» или за «Московское государство».
Потом в городе Тромсё к нам присоединилось еще много пассажиров. Я познакомился с купцами, адвокатами. Много говорили о подробностях путешествия норвежского короля и о каком-то пасторе, депутате от социалистов: одни находили, что он, как пастор, имеет право быть социалистом и защитить обремененный податями (19 %) народ, другие, напротив, горячо доказывали, что это несовместно с званием пастора, бранили его. Про этого пастора я слышал и раньше несколько раз… И вдруг как-то мне представилось, что Норвегия – маленькая страна, что между людьми тут как-то тесно. Вам это, конечно, ничего не скажет, Вы знаете, что в Норвегии только два миллиона жителей, но тут не в жителях дело. Это такое невыразимое субъективное ощущение… Не знаю, отчего оно происходит: оттого ли, что наша Россия так огромна или что горы так величественны, а люди малы, или оттого, что привык понимать и любить Норвегию по Ибсену, а тут приходится, как и везде, встречаться с маленькими, обыкновенными людьми…
Студенты меня зовут смотреть Лофоденские острова. До свидания. Напишу Вам из Трондгейма или Стокгольма.
* * *
Лофоденские острова я видел издали, мне показывали разные излюбленные туристами горы: Семь Сестер, гору, похожую на всадника, гору со сквозным отверстием, много всего такого. Утро творения в Lindenfiord'e более уже не повторялось. Гораздо сильнее этих гор волновали меня разные зеленые площадки, кусты, деревья, цветы, которые чаще и чаще стали показываться у подножий гор, у воды фиордов. После каменного, безлесного Мурмана, Нордкапа, Гаммерфеста мне казалось, что я постепенно опускаюсь на какую-то совсем новую землю, которую никогда не видел в действительности. Больше всего я испытал это настроение в Трондгейме во время прогулки к Лерфосским водопадам. Деревья тут и так великолепные, а мне они казались гигантскими… Вы поймете меня, если представите себе, что я превратился в маленького красного паучка на коре старой липы. Итак, помните, мой друг, что путешествие с севера на юг Норвегии – это прежде всего радость от встречи с зеленой землей. Хорошо на небесах, но на земле, куда, куда лучше…
Мне удалось как-то хорошо проститься с Норвегией. Вышло это так. Поезд из Трондгейма в Стокгольм идет сначала долго-долго по берегу фиорда. Солнце садилось… Мое волшебное одинокое путешествие приходило к концу – я хотел оглянуться назад, на свой путь. Вдруг на станции в вагон вошел высокий бритый господин в черной шляпе, в черном пальто и с ботанической сумкой, сел против меня и тоже стал задумчиво глядеть на фиорд. Я попробовал заговорить с ним… Он вздрогнул от неожиданности. Потом сконфузился и стал извиняться, что немецкий язык застал его врасплох. Как только он узнал, что я русский, сейчас же забросал меня вопросами… не о России… нет… а о Норвегии, как она мне показалась?
Это был первый настоящий культурный человек, которого я встретил в своем путешествии. Я обрадовался ему, как тем первым деревьям в Трондгейме… Лицо у него такое нервное, изящное, в скандинавском профиле сказывались века европейской христианской культуры. Мне было радостно видеть его, и потому я искренно и горячо ему ответил:
– Норвегия – чудная страна, люди здесь работают, любят родину, любят свободу, ценят науку, ценят искусство…
И еще что-то я говорил много хорошего…
Когда я кончил, этот профессор, или пастор, вскочил и стал мне жать руки. Тут поезд остановился, он поспешил надеть свою сумку, хотел было выйти, но вдруг на пороге остановился. «Gott behiite Sie»[39], – сказал он мне, горячо пожал еще раз руку и вышел…
Так я простился с Норвегией. На другой день я был уже в Швеции, в Стокгольме.
* * *
Дорогой друг, сейчас произошло крупнейшее событие в моем путешествии. Пока я писал Вам письмо, в моей комнатке на пятом этаже стокгольмской гостиницы постепенно темнело. Механически, по старой привычке, я зажег свечу и продолжал писать. Вдруг что-то блеснуло налево. Посмотрел туда, и что же! В окно глядит на меня настоящая темная ночь и блестят настоящие звезды. Первая звезда, первая ночь за три месяца! И потом, это пламя света и эти колеблющиеся тени…
Я стал бродить из угла в угол по своей комнате. И вдруг мне блеснула та страна без имени, без территории, в которую, помните, мы пытались убежать детьми. И все мое одинокое волшебное путешествие вдруг получило единый смысл, единое значение: я шел в страну без имени за волшебным колобком.
У стен града невидимого*
(Светлое озеро)
Глава I. Черный сад
Весна. Новая жизнь на истлевших листьях и навозе. Чего же больше? Что откровеннее?
Хорошая грязь, черноземная. Земля оттаяла под снегом. Из каждой проталины валит пар. Земля дышит. Дон пошел.
Я думаю о том неизвестном мне заволжском крае, куда мне предстоит ехать летом. Это решено, я туда еду. Пусть все там изучено, пусть все известно, но я-то почти ничего не знаю. И меня почти никто не знает на свете. Я оторву кусочек большого таинственного мира и расскажу другим людям по-своему.
Последняя причина моего путешествия в страну раскольников и сектантов – слышанные мною диспуты на религиозно-философских собраниях в Петербурге. Я там встретил несколько искренних и взволнованных людей. И во мне что-то отозвалось, и мне захотелось также по-своему оглянуться по сторонам. Что скажут о всем этом наши старые лесные мудрецы? Есть вечные вопросы, которые не очень зависят от образования и внешних различий между людьми. Что останется от всего слышанного мной, если я проверю его в беседе с мудрыми лесными старцами? Я люблю лес, люблю северную природу; пусть она заговорит для меня новым голосом. Июнь – более свободный месяц для крестьян – я решил посвятить своему путешествию, а весну мне нужно было провести на родине, в Орловской губернии, в маленьком имении.
Весна. Июнь далеко. Но как только я въехал в родные места, так и началось это путешествие в невидимый град, – и с этого я начинаю свой рассказ.
Хозяйку имения, куда я еду, мы прозвали «маркизой», потому что у нее серебряная голова и вообще величественный вид. Усадьба, где она живет, старинная барская, тургеневская. Липы, вишневые сады – все сохранилось, но земли чуть-чуть; за это и за доброту маркизы крестьяне пощадили усадьбу во время разгромов и не сожгли.
Родная земля… Я хотел бы поцеловать ее… Но у нас в бедной равнине не принято выступать с такими чувствами: полынь и татарник по обеим сторонам дороги, тощий кустарник. Другое дело радостно оглядеться кругом, вширь, вдаль.
В весеннем мареве дрожат маркизины далекие липы, разъединяются, соединяются, поднимаются в воздух. Равнина бескрайная. Журавли летят.
Ближе деревья. Белая ограда – как прежде, каменные столбы – как прежде, большой двор, колодец с кругом, серый деревянный дом, зеленая крыша, галки на трубах, кривые сучья лип – все, как прежде.
Балкон забит. Через двойные рамы видна серебряная голова, угадываются знакомые глаза поверх очков. Ждет.
– Все по-старому?
– Все, все по-старому.
Но будто темнее в комнате, будто липы ближе подступили к окнам старого дома.
– Что-то темно…
– Старею. Сад зарастает.
В гостиной, в столовой – везде ночные тени от сада. Липы ближе.
Проходят первые дни.
Весна запоздала. Жаворонки померзли. Соловьи запели в голом саду. Этого старожилы не запомнят. Маркиза брюзжит. Обыкновенно она не любит говорить о природе, да и некогда: хлопоты, хлопоты без конца. Но если там, в саду, выйдет какая-нибудь заминка, то сейчас же расклеится. Слыханное ли дело, чтобы соловьи пели в голом саду? Но спросить не с кого, нельзя рассердиться, разбраниться, отвести свою душу. И маркиза брюзжит.
А соловьи поют. Деревья черные, как мертвые. На зеленом ковре и на голых кривых ветках далеко видны серые, хуже воробьев, птички с булькающим горлышком. Когда поет соловей в одетых деревьях, то трепещет зеленое сердце сада и откликаются соловьи всех времен, потому что все сады и все соловьи одинаковы. В зеленом саду соловью все помогает. Но тут, на голых ветках, он один, поет сам по себе. Подойдешь почти к самому – не слышит.
Откуда это пришло? В саду маркизы, мне кажется, соловьи поют о том, что все люди прекрасны, невинны, но кто-то один за всех совершил тяжкий грех.
Дни идут. Сад одевается. Фиалки, черемуха, зеленая пыль в воздухе и висячие мостики от дерева к дереву. Но не могу я забыть соловья в голом саду, и все кажется, что в саду маркизы скрыто не простое и не зеленое сердце.
Я не могу отвязаться от мысли, что соловей поет о грехопадении. Тоска. Тесно.
Весна не ждет, проходит. Хоть что-нибудь удержать для себя!
У меня нет Росинанта. Все маркизины лошади, с клочьями шерсти, худые, двоят землю под картофель. Иду пешком. Просторно. Далеко впереди блестит крест. Плавает коршун.
Простор и ширь. Не нужно только смотреть себе под ноги, потому что тогда все пропадает. Тут что ни шаг, то стенка сухой полыни, отделяющей одну жизнь от другой. Вся эта земля изрезана на мелкие полоски, тут борьба за сажень. Людей не видно, оттого что они собрались в большие села. Тут теснее, чем у маркизы. Но я не смотрю себе под ноги.
Людей поскорее!
И вот на зеленом лугу показались бородатые люди. Лежат на овечьих шкурах, пасут табун лошадей. Луг еще не выгорел от солнца, покрыт пестрыми цветами. Люди на нем – будто боги у Гомера.
Славные ленивые боги! Иду к ним с раскрытой душой. И луг, и старое жнивье, и нечесаные бороды, и десятки устремленных на меня глаз, и насторожившийся табун – все с детства знакомо. Лучше всех перепелиный охотник.
Много вечерних и утренних зорь мы провели с ним в тихом ожидании крика птиц у края полей возле сети. Дома он бог, окруженный дикими птицами, которых сам к себе приучает: перепелами, куропатками, соловьями. В полях он бог, внимающий всему одинаково: и травам, и птицам, и погоде. Везде он со своими пустяками, везде со своими рассказами о леших – и везде он бог.
Белый дед в шляпе колпаком, мудрец, ходок, с большою кривою палкой, впереди всей толпы перед балконом маркизы – все такой же. Архип, Семен, Илья, Иван – для всех одинаковые, но для меня очень разные: как же, один Архип, а другой не Архип, а Семен с неширокой бородой, не лопатой, а клином, третий и вовсе не такой, он Илья; для всех одинаковые мужики, а для меня веселые, угрюмые, строгие и легкомысленные, разные, всякие.
Мне расстилают овечью шкуру. Товарищи детства узнают, вспоминают, как вместе грабили яблоки в саду маркизы, вместе погоняли лошадей на молотилке, карасей удили.
Через мозолистую стену годов открывается окно в страну обетованную. Бегают там, кружатся светлые боги зеленые.
Но там же были и черные боги. За оградой, на кладбище, есть церковь, и в ней их много. Мы раз хотели пробраться туда и ударить в набат. Стали подниматься по ступенькам на колокольню. А на лестнице была тяжелая железная дверь. Что там за ней? Открыли мы… Темно… Какие-то ризы, иконы. Взяли одну – и на свет. Просто черная доска. Стали протирать пыль. И вдруг показались глаза… Да какие…
По могилам за ограду, скорей, скорее в сад… Остановились было, а тут, должно быть, еж под яблоней фыркнул. Бежим опять, а за нами-то икона черная, безликая, с глазами.
Кружатся весенние клубы света, рассыпаются искрами. Скатываются по склонам зеленые шары вниз, к потоку. Как след остаются от них по лугу большие, как солнце, цветы. А на краю горизонта, за старым прошлогодним жнивьем, глядит сюда черный безликий бог, с глазами.
– Ну, как же вы теперь живете?
– Плохо…
Жалобы, жалобы, жалобы…
– А раньше, помните?
– Как же.
– Раньше по-божьему жили, – говорит за всех белый дед, ходок.
– Так почему же теперь-то? Кто виноват? Кто согрешил?
– Господа обидели!
– Правительство.
– Японец навалился!
– Врешь, – сказал белый дед. – Врешь, бога забыли.
Вдруг перепелиный охотник вскочил и стал быстро говорить. Он никогда раньше не говорил ни о чем, кроме птиц. А теперь говорит, что больше терпеть уж нельзя:
– Во-о где! – показал он на шею. – Нельзя, потому что ребятишки.
– Терпи! – говорит дед.
– Нельзя, ребятишки!
Мне показалось, будто бессловесный добрый зверь вдруг по-человечески два-три слова провыл. И всем, должно быть, так показалось. Помолчали.
– Кроволитие будет! – шепотом сказал кто-то.
– И такое кроволитие, такое кроволитие, какого свет не видел.
Тут к нам сбежались чумазые, лохматые дети… «Да неужели же и мы такие были? – приходит мне в голову. – Не может быть». Хочется думать, что мы были красивые, свободные, не такие. Теперь не так, как тогда.
– Ну, так кто же вывел человека из рая?
– Змея вывела, – ответили чумазые дети.
– Не змея, а диавол во образе змия, – поправил их белый дед.
Земля готова, хорошая, черная. Картошку сажать!
Маркиза надевает валенки, полушубок на козьем меху, закутывается дырявым вязаным платком, спускается в подвал. Там бабы режут пополам картошку для посадки. Маркиза сама наблюдает за работой, тоже чистит картошку вместе с бабами целые дни. У нее с этими бабами много общего, хватает разговоров с раннего утра и до позднего вечера.
Я люблю иногда спуститься в эту гостиную в подвале, прислушаться к говору. Мне тогда кажется, что это куры собрались возле картофельных куч. Маркиза тоже огромная курица. Квохчут и квохчут.
Раз прихожу, и вот раскудахтались:
– Матрену подковали!
– Как подковали?
– Лошадь чужая, сердитая повадилась бегать на «улицу» народ «пужать». Илья говорит кузнецу: «Лошадь ли то бегает? Не обернулся ли кто?» – «Очень просто, что обернулся», – сказал кузнец, поймал вечером лошадь и подковал. А вскорости Матрена в больницу пришла: выньте, просит, из ноги щепку. Вынули, а ин не щепка, а конский гвоздь. Вот и узнали, кто лошадью на улицу бегает.
Дня два говорили про Матрену, потом стали толковать о «попах»: квох, квох, квох. Попы! Новые попы оказались в деревне: икон не почитают, мощам не поклоняются, в церковь не ходят.
– О, боже мой, боже мой!
– Бродили где-то крещеные и веру потеряли. Стали книгу читать. Он их и завел.
– Кто?
– Шутяка. Он заведет!
Теперь в церковь не ходят. Попу отказали. Божию матушку не приняли.
– Где они живут, кто они такие, я к ним пойду.
– Не ходи, не ходи, – закудахтали все, – они тебя в свою веру перезовут.
Но я иду в Алексеевку. Я хочу видеть сектантов. Здесь никогда не было сектантов, на этой моей родной земле. Говорят, они здешние: простые мужики, ходили на заработки и вернулись сектантами. Какие они?
В Алексеевке перед избою сектантов толпятся бабы, слушают пение перед открытым окном. Болтают:
– Возле их избы что-й-то жутко.
– Из себя какие страшные стали.
– И отчего-й-то в их избе голова кружится.
– А поют что…
Поют знакомое из детства, холодное: «О ты, в пространстве бесконечном». Да это же бог. Державинский бог! «Я царь, я раб, я червь». Ода Державина, распеваемая с религиозным благоговением нашими мужиками. Что это значит? Вхожу.
Это не те, знакомые мне мужики. Это не обыкновенная изба с земляным полом и соломой, с курами, с телком и поросенком. Тут чисто, светло. Занавески, белые стены. Много всего такого. Но чего-то главного нет. Чего это? Да, икон. И это самое главное. Оттого, что нет икон, все не так.
В деревянной иконе таилась какая-то чудодейственная сила влияния на мир мертвых вещей. Сектанты наши же мужики, но в них теперь будто вставлены железные прутья. В глазах неустанно мелькают крылышки мельницы, перерабатывающей слово божье. И тут же возле сидит обыкновенный козлоногий мужик, думает: не поддавайся, брат, он заведет.
– Так вот вы как живете!
– Живем по слову божию, как Христос учил, как апостолы.
Вместо иконы в углу лежит на столе Библия и еще раскрытая книга «Гусли», откуда и поют сектанты державинскую оду.
– Садитесь.
Входит лавочник с красным кривым носом.
– Пришел, – говорит, – полюбопытствовать. Бога потеряли и народ смущают, а ответа им настоящего дать никто не может.
– Мы веруем в бога, мы христиане.
– Какая ваша вера. Детей не крестите, икон не почитаете, мощей не признаете. А наша-то вера самая правильная, по нашей вере святые угодники спасались. Эх вы…
– Никто, кроме бога, не может узнать, кто святой, кто грешный, – отвечает один сектант.
– Нельзя от себя, – поправляет другой, – почитайте из Библии.
Наш стол вроде кафедры. Проповедник в шитой рубашке читает текст за текстом.
– Да, да… вот еще…
– А ты от себя, – сердится лавочник.
– Прочтите им, отчего нельзя от себя.
И опять тексты. Старая черная икона сошла со стола, превратилась в Библию и заговорила, и заговорила. Непрерывно мелькают чаетенькие крылышки мельницы в глазах сектанта, и сыплется, сыплется слово божье…
– Будет! довольно! – кричит лавочник. – Вы же не креститесь…
– Христос крестился в тридцать лет.
– А как же до нас крестились? Мы от священника, священник от архиерея. А наверху помазанник.
– Отдай богово – богови, кесарево – кесареви.
– Помазанник. Слышь! – и вышел как победитель.
Помолчали.
Мужик, обыкновенный серый, спросил сектантов:
– Да ведь бог же изобрел человека?
– Бог, – ответили ему.
– Бог, – опять сказал мужик, – а как-то чудно: помрем.
– Ваша радость на земле. Помрете, как животные.
– Ка-а-к животные! – согласился мужик. Опять помолчали.
– А что, Егор Иванович, – снова спросил лавочник, – пожалуй, там ничего нету?..
– Господь сказал: позову только избранных, а тех в геенну огненную.
«Да это же не Христос, – думаю я. – Христос милостивый, ясный без книг…» Я рассказываю сектантам о том Христе, про которого, помню, давно, давно слышал в детстве под стулом. Лампада горела. Женщина в черном платье стала рассказывать: в эту ночь светлый мальчик родится и звезда загорится и поведет к нему людей. Рассказываю по-своему, что знаю.
– Как смело! – говорят жены сектантов.
– Христос не карает, а спасает.
– Вот поди ты! – изумляются женщины. – Одна и та же книга, а как разно ее понимают.
«Что это такое? – думаю я, выходя от сектантов. – Мужики обыкновенные не могут жить на своей земле, им мало, они протестуют. Этим довольно. На том же клочке живут хорошо. У тех жизнь на земле, ребятишки. У этих бессмертие и какой-то займ у неба для земли и смирение». Мой разум на их стороне. Сердцем я с козлоногими. Вспоминаю их, бородатых, на зеленом лугу. Вспоминаю сектанта с Библией и повторяю в памяти бабьи слова: Библия – страшная книга, кто станет читать ее, проклянет небо и землю.
Возвращаюсь в сад маркизы. Светлые березки встречают меня. Не простые… Будто видел их где-то в другой стране. И соловей поет издалека. Знакомо и забыто… Черные птицы вылетают из дупл. Спотыкаюсь о корень огромного дерева. Одно мгновение – вспомню и назову что-то.
Вечереет. Вокруг старых лип внизу вырастают темные Цветы. Из-под слоя полуистлевших листьев показывается черная спина.
Соловей поет, что люди невинны.
Глава II. Година Варнавы
«Сама пойдет, сама пойдет!..» И идут тюки, огромные, сами идут на тоненьких ножках к барже. Возвращаются люди, и опять их грузят, и опять «Дубинушка»… Плоты, буксиры… Синеют леса. Волга. Вторая моя родина.
Сижу на высоком берегу в ожидании парохода. Вспоминаю полузабытый роман о заволжских лесах. Помню, купец, Потап Максимыч, похожий на древнего русского князя, управляет лесными людьми, стелет им столы в торжественные дни и даже пляшет вместе с подданными, когда подвыпьет. Край нетронутый. Люди делают деревянные ложки, продают их, пьют, поют и пляшут. Кондовая Русь! А в лесу живет колдунья в черном клобуке – Манефа. У нее в скиту прекрасные девушки-белицы, хотят выйти замуж за Ивана-царевича. Но колдунья Манефа дает им четки и заставляет молиться. В Иване-царевиче, твердит она им, грех. Девушки «убегом» к Ивану-царевичу… И вот тут-то непонятное и странное: в Иване-царевиче какой-то обман. Белицы возвращаются к Манефе и сами становятся колдуньями. И так скит все растет и растет.
Недалеко от скита есть Светлое озеро. В глубокую старину белицы и Иван-царевич праздновали на берегах его весну, поклонялись богу Яриле и жгли Кострому. Но колдунья Манефа устроила город невидимый, поселила там черных праведников.
Невидимый город как-то называется, как – не могу вспомнить. Но мне необходимо вспомнить. И чем старательнее я вспоминаю, тем глубже прячется название невидимого города.
Чтобы отвлечь себя от навязчивой мысли, я начинаю кормить чаек.
Птицы давно к этому приучены. Поднимаются снизу ко мне. Чуть шелестят крыльями, маленькие, сахарные, с шоколадными головками. Подхватывают хлеб, ничуть не изменяя полета. И оттого кажется, что надводная ширь вся хрустальная. Хочется в ней остаться навсегда.
Забылся… Но хозяин этого маленького кафе над Волгой, чтобы угодить мне, завел граммофон. Под звуки вальса закружились в высоте два коршуна.
– Тут есть где-то, – спрашиваю я хозяина, – город невидимый?
– У Светлого озера.
– А как он называется?
– Как-то называется… Сейчас…
Хозяин задумался. Сахарные чайки впаялись в стеклянную ширь. Коршуны остановились над синими лесами. Все вспоминают: как называется город невидимый?
Так часто бывает со мной в пути. А все-таки я никогда не беру с собой справочных книг, потому что весь смысл таких путешествий – в особенном зрении. Ехать без книг, без определенного плана, отдаться хоть на месяц тем неопределенным голосам, которые куда-то зовут… Куда – их дело…
Единственная книга, которая со мной, – это Евангелие с Апокалипсисом. И то я купил это тут же на Волге на пароходе у разносчика. Меня испугали предстоящие собеседования со старообрядцами и мое слабое вооружение. Мы поехали на пароходе вниз по Волге; я принялся читать. Все непонятно. Пробую останавливаться, истолковать себе смысл…
Тайна семи звезд… Жена, облеченная в солнце… Конь бледный и на нем всадник, имя которому Смерть… И еще много такого загадочного, волнующего. И вот второе небо…
Прочел. И остался таким одиноким на пароходе… Река Стеньки Разина и этот домашний пароход. Жарко. Каюты накалились. Хочется попросить капитана окунуть пароход. Пассажиры бродят, слоняются. Только толстая матушка не устает вязать что-то. На носу развлекаются цыганами, бросают им мелочь, дети дерутся из-за нее. Народный певец поет что-то дурное о попах. Ему тоже бросают мелочь.
Всем жарко и скучно. Только под вечер захолодело, и барышня в зеленом платье и красных чулках сказала офицеру:
– Нет лучше Волги!
– Море лучше! – ответил он ей и заказал стерляжью уху. Это было сигналом. Певица в длинном шарфе заказала суп из раковых шеек. Старый генерал что-то зашептал о слепой кишке. Вечерело все больше и больше. На Волге зажглись большие немигающие домашние звезды. Наконец, после ужина, певица ударила по клавишам, запела, и в небе загорелась первая настоящая молодая звезда. Спустилась золотистая сеть, закачалась на голубой и пурпуровой зыби. Вышел огромный месяц.
Ночь наступает. Свежо… Расходятся по каютам. Только там, где месяц, сидит генерал – темный, как луговая копна. Цыгане давно уже уснули: мужчины, женщины, дети, откровенно, у самой воды. Для них и журчит она у руля, искрится; для них этот месяц, большой, красный.
Я хожу вокруг рубки, между бортом и каютами. Окна еще освещены, все видно внутри плавучих комнат. Мне кажется, что это не Волга и не каюты, а ряд по-праздничному убранных квартир в большом городе, и я еду наверху конки один, вглядываюсь с завистью внутрь каждого дома.
Деревья на берегу становятся черными шапками. Показались таинственные острова. Месяц овладел всем: и спящими цыганами, и спиной генерала, и силуэтами гребцов на воде. Огни меркнут, шторы задергиваются. Только одной занавеске помешал букет ирисов. И кажется, что этот букет для меня последняя связь с землей в эту ночь. Еще немного – и все кончится. И жалко чего-то, и страшно.
Есть такая черта в сердце, темная, как закрытые окна. За ней начинается бледный свет и особая радость и счастье.
Есть такая черта.
Если сделать усилие воли, то можно и живому человеку перешагнуть за нее.
Но там нет ирисов. И тот, кто любит их, не станет черту переходить. Не потому, что не может, а потому, что любит.
А там не так любят. Там новое небо и новая земля, потому что прежнее все миновало. Там нет плача, потому что прежнее прошло. И солнца там нет, и времени. Не это ли – то второе небо, о котором я сегодня читал, скиния бога с человеками? Вот тут-то, верно, и сойдет сияющий ясписами, сапфирами, халкидонами, аметистами и вириллами град Иерусалим…
. . . . . . . . . . . . . . .
Чуть светает. Туманы поднимаются с реки. И так, само собой, без всяких усилий вспоминается, что город невидимый, скрытый у Светлого озера, называется Китеж. Он и есть тот град Иерусалим, который спускается людям за чертою всего земного…
С Волги я не сразу попал на Ветлугу, но пусть будто сразу. После я расскажу, что еще было на Волге.
Она седая – эта река: ели и сосны. Был дождь. Теперь деревья мне кажутся черными. Река хотя и узкая, но у леса как-то свободно, точно становится шире. Хочется сесть на один из этих плотов и плыть с самого верха реки до Волги, варить кашу, удить рыбу и затянуть у костра песню вовсю, чтобы медведи зарычали и волки завыли. Седая река.
Люди хорошие, лесные; много белых стариков. Спрашивают, куда я еду. Отвечаю: в Китеж, в город невидимый. Никто не удивляется, здесь это понятно…
Под Иванову ночь, говорят мне, туда ехать нужно. А теперь поезжай в Уренские леса за Ветлугу, к староверам. Советуют заехать в город Варнавин. Туда будто бы сходится народ со всего мира, со всей вселенной и ползет вокруг церквей.
– Ободом друг за дружкой, всю ночь, – ответили мне.
Седая река. Темные ели. Серое небо… Люди ползут… Куда я попал? Что это?.. Я непременно хочу это видеть, хочу пережить вместе с этими людьми их страх и грех. Люди ползут. Из далекого-далекого детства грезятся мне страхи и ужасы; забытый мир шевелится во мне. Хочу видеть…
И волшебница, душа моих странствий, согласилась. Ветлужский пароходик именно в годину жестокого святого и доставил меня в город Варнавин. Бабушка, старая, сморщенная, проводила меня к церкви Варнавы, к этому темному деревянному конусу с крестом.
– Неужели же, – спрашиваю, – и в этот дождь и грязь поползут?
– Поползут, родимый: кто по обещанию, так ни на что не посмотрит.
Страшный обрыв возле церкви. Ветлуга сцепилась с другою рекой и расходится в дымчатую синеву лесов и болот. Обрыв в двух шагах. Два-три аршина, две-три весны – и церковь Варнавы упадет в Ветлугу.
– Ничего, – говорит старушка, – Варнава остановит, он славный.
«Укрепить бы», – думаю я…
– А свалится, – утешает бабушка, – так тому и быть. Батюшка, слышно, ушел. Как ушел, так и свалится.
И правда: если святого там нет, то зачем укреплять обрыв, а если он там, то удержит. Так живет и верит вся Россия и не укрепляет обрыв. А святые уходят, овраги растут, и скучно укреплять их, не из-за чего. Варнава ушел… Я слышал об этом и раньше от многих благочестивых людей. Ушел из-за греха, за то, что щепотью молятся и забыли старую настоящую веру. Вся Ветлуга шепчет: «Варнава ушел».
– А славный был, – рассказывает бабушка. – Как брал Казань царь Иван, так и позвал его к себе. Угодник и учит царя: «Так сделай да так». Рассердился Грозный, что угодник указывает, и прогнал. А святой бросил ризку на воду и поплыл к себе в лес на Ветлугу. Испугался царь: «Вернись, вернись, Варнаша, – все сделаю, как ты велишь». Все сделал с точностью и взял Казань. Вот какой славный святой.
Падают последние северные деревянные церкви. А в каменных угодники не живут…
– Наверно ушел?
– Бог знает. Под спудом святой. Хотел посмотреть один поп, да ослеп. И другой ослеп. Слепнут попы.
Темнеет в деревянной церкви. Через решетчатое окно я еще вижу свет и даже обрывок радуги. Но в церкви темно…
Трепещет огонек над гробницей Варнавы. Беспрерывной чередой склоняются над ней и озаряются красным светом лики паломников. Церковь полна. Люди сидят на полу со своими котомками, дожидаются чтения жития святого. Собрались издалека, усталые, мокрые; всю ночь до рассвета будут бороться с дремою. Темнеет совсем, ничего не видно, только угадываются темные углы с костлявыми и косматыми призраками. Кто-то со свечой обходит углы, вглядывается, останавливается, прислушивается: не храпит ли кто, не овладел ли кем-нибудь диавол.
Кто-то захрапел. Огонек направился туда через котомки и ноги. Старик беспощаден к грешникам: со всего маху ударяет сапогом в грешное тело.
– Батюшки! Матушки!
– Господи, да не яростью твоею обличиши меня, ниже гневом твоим накажешь меня, – шепчут возле.
Огонек блуждает из угла в угол, заглядывает за двери к паперти и останавливается недалеко от гробницы у амвона. Кто-то в черном кафтане, с большой книгой подходит к огню и читает житие.
В огромной книге – все чудеса святого, вся жизнь: как он поселился в лесу, как возил лес на медведе, исцелял слепых, глухих, немых. Чтение на всю ночь. Так когда-то давно-давно по всей древней Руси читали такие жития во всех церквах. Одни творили, другие благочестиво слушали и учились. Так воспитывалась древняя Русь.
Мрак в церкви; в темном углу бородатая старуха поднимает костлявую руку с лестовкой и проповедует. К ней сползаются из других углов. Трепещет огонек над гробницей святого. В темном углу начинается мистерия.
– Настали, братие, последние времена. Уже при двери судия. Стоите на вертячем песку. Во тьме зашаталися! – учит старуха.
– Над горем горе, над бедами беда, – шепчут тени возле бородатой старухи.
– Все знаки, все признаки тут: трусы и мятежи, провалища, волну с моря наводит.
– Все диавол, все диавол кознодействует! – вторят в толпе.
– Небеса и земля, братие, мимо пройдут, а словеса моя не пройдут. И при последних временах настанет великая скорбь. Матери испекут дитя свое и съедят.
– Мертвый грех! – шепчут тени.
– Покровом покроет в горах, и выйдут четыре крылоптичника и четыре зверя. Один – как медведица.
– Ка-а-ко медведица!
– Другой – как львица.
– Ка-а-к львица!
– А третий – как бордон.
– Ка-а-к бурдон!
– А четвертый – как худоносор. На голове четыре головы и десять рогов, а один-то рог очень прытко врос, но державцов будет. И когда выйдут из моря, пойдут в Рым.
– Адова беда!
– Такая беда, что и сам сатана бы покаялся.
– Одна беда прошла, вот идет беда вторая.
– Он генералом будет в турецкой кампании, – перебивает кто-то бородатую старуху.
– Родится от девки-жидовки, – шепчет другой.
– Родится от седьмой девицы Наталии, во Франции, – со спокойной уверенностью поправляет бородатая. – И сверху будет лиса ясница, а внутри – волк хищный, руки железные и в перстнях. И будет милостив. И два пророка ложных, Гог и Магог, святителев сан примут и мертвых воскрешать будут, вдов и сирот любить будут, не взяточники; что господь любит, то и они; табаку не курят, вина не пьют, все знают: души и помыслы от востока до запада. И на последние дни вытребует царя, обоймет его, и пойдут во святые ворота… И тут ему и конец…
– Кому, кому? – шепчут вокруг меня.
– Кому? – спрашиваю я старуху.
– Царю. Он его хоботом убьет.
– Извините за позволение, хвостом, – почтительно разъясняет мне кто-то.
– Тогда все веры соединятся, и тогда на три дня и на три ночи в церкви запрутся, и будет слышен голос с неба: «Подите, возлюбленные, в Константинополь, в Софийский собор, там мой первый царь, Михаил, воскреснет».
Придут верные в Константинополь и поведут Михаила на царство. Три месяца процарствует в Питенбурге, потом выйдет в поле, рученьки подымет к небеси: «Не могу, – скажет, – с безобразниками царствовать». И тогда присягнут Аввадону и будет царствовать тысяча двести шестьдесят ден. И придет в Питенбург, и сядет на царство, и даст печать с цифрой шестьсот шестьдесят шесть.
– Вот бы посмотреть теперь на весах, какие то цифры есть.
– Разуметь бы.
– Ангелы возьмут Аввадона под руки и поведут на царство, на край земли, и тут он всякую ересь выблюнет, – всех щепотников и никониан.
И тут небесная сила двигнется. Громов сын испугается.
– Кто этот Громов сын? – спрашиваю я.
Но мне не могут объяснить. Громов сын – и все… Испугается…
И нельзя объяснить. Это не мысли, а падающие тени давно пережитых веков. Эта старинная церковь теперь вся наполнена тенями. Вокруг меня, как у Вия, только тени и призраки. Жутко. Вечно дрожит и колышется пламя свечи от склоняющихся над гробом старых, уродливых лиц.
– Поползли, поползли!
Волна людская выносит меня на паперть. Там во тьме, под дождем молятся, будто собираются в дальний путь.
– Сейчас поползут, сейчас поползут. Поползли.
Какие-то сгустки тьмы осели на землю, и кланяются, и шевелятся под дождем.
– Держись к стороне, не разбивайся! – неожиданно прорезывает тьму окрик городового.
Ползут.
Слышно, как чавкает слякоть, как булькают капли дождя по лужам, как жидкая грязь заливает следы. Что-то белеет внизу. Приглядываюсь: ребенок привязан к шее ползущей женщины. Ей труднее всех ползти. Бревно на пути. Отвязывает ребенка, кладет за бревно в грязь, а сама переползает и снова подвязывает. У обрыва ползут по двое, осторожно.
Раз оползли. Опять молятся на церковь. Опять собираются.
– Держись к одной!
Исчезают во тьме. Ребенок кричит.
. . . . . . . . . . . . . . .
– Бабушка, неужели это Христос?
– Христос, родимый, Иисус Христос. Бог-то Саваоф непростимый. А Христос за нас смерть принял. Лучше его не найдешь и в царство небесное с ним попадешь. Вот Варвара-мученица сорок мужей имела, а как Истинному припала, он и простил. А бог-то непростимый: без Христа нельзя.
Мистерия кончилась плохо. В своей современной одежде на фоне средневековой толпы я показался подозрительным городовому. Паспорт остался в вещах в трактире, и меня повели в участок. Несколько стражников и лиц, похожих на нечищеные сапоги, лениво курили, лениво сплевывали, лениво смотрели на меня.
– Привел!
В моих бумагах нашли предписание губернатора о покровительстве мне.
Инквизиция была коротенькая. Но много ли нам теперь нужно?
Так кончилась мистерия, и так я начал свои поиски невидимого града.
Глава III. Крест в лесу
Курится сосна, подожженная молнией. Дым, как хвост десятирожного зверя, завернулся над лесом, тяжелый, спит. Паломники возвращаются с годины Варнавы в Уренские леса. Плот переплывает Ветлугу молчаливо. Косяки черных платков, острые носы, старые подбородки, недоверчивые лесные глаза – все начеку. На воде говорить – нехорошо.
Плот пристает к берегу. И кто-то тяжелый, спящий над лесом, пробуждается, ползет по вершинам сосен навстречу, становится на дыбы, глядит, темный, нерадостный.
Паломники крестятся перед часовней столбиком и один за другим исчезают между соснами.
Направо, налево, на множество верст высокие зеленые стены. Папоротники, полянки с ландышами, белки.
Это леса Уренского края, населенные потомками сосланных при Петре стрельцов. В Варнавине мне много насказали про этот край, и я опять отступил от плана и поехал, свободный, бескорыстный, отдался всецело невидимым тайным помощникам, сопровождающим меня в путешествии. Передо мною божья книга – читай, перевертывай страницу за страницей.
Бог этих лесов какой-то суровый, коренастый, глядит исподлобья, не доверяет и принимает молитвы не тремя, а двумя пальцами. Люди тоже неприветливые. Одежда, лица, характер – все не такое, как на моей равнине. Неужели это от двуперстия?
Чтобы сойтись с ними, я забываю о трех перстах, перестаю курить, есть скоромное, пить чай. И все-таки побаиваюсь. Первое условие для сближения – искренность. Но где ее найти, когда все эти предметы культа: старинные иконы, семь просфор, хождение посолонь, двуперстие – для меня лишь этнографические ценности. Стучусь под окошком одного дома и побаиваюсь. Старик, черный и крепкий, как дуб, пролежавший сто лет в болоте, отворяет.
– Откулешний? Зачем?
– Ищу правильную веру.
– Входи.
Угол с образами. Большая развернутая книга с славянскими буквами, на ней очки с темными тесемками. В радужное стекло глядится лес.
Старик испытывает меня: не на жалованье ли я, не от правительства ли?
– Боже сохрани. Я не на жалованье. Я от газеты. Я получаю за строчку.
– Какую строчку?
– Вот! – показываю я на книгу.
Надевает очки, глядит в Псалтырь.
– Какую, говоришь, строчку?
– Хоть эту:
«Небеса поведают славу божию, творения же рук его возвещает твердь».
– И за такую строчку вам деньги платят? – спрашивает старик и глядит поверх очков.
Я смутился, подумал: неспроста говорит старик; но ошибся: он удивлен, как ребенок.
– Это вроде как нам за борозду, – смеется он. – У меня есть сын, тоже читатель. Миша! По твоей части приехали.
Молодой, сметливый парень сразу догадался. На полке у него множество священных книг в желтых кожаных староверских переплетах с застежками. В одной из этих, почитаемых как священные, книг строчки не славянские, мелкие, знакомые. Это «Жизнь протопопа Аввакума» Мякотина. Издание Павленкова, но в священном переплете и на священной полочке.
– Вот они, наши строчки! – говорю я, обрадованный.
– Так вы вроде Мякотина?
– Конечно, конечно, я вроде Мякотина.
И вижу в радужное окно: светлеет в лесу, яснеет лик недоверчивого сурового уренского бога. Мост, быть может, отчасти и мною созданный, перекидывается ко мне.
Для «науки» Михаил Эрастович, сын хозяина, готов на все.
– Мы вам все откроем, – говорят мне. – Мы вам все веры покажем. Есть святые места, есть святые люди, есть начетчики райские. Куда везти?
– К Максиму Сергеевичу? – спрашивает сын.
– Любого попа загонит! – одобряет отец.
– Или к Александру Федоровичу?
– Делец!
– Или к Дмитрию Ивановичу?
– Петля!
– А то к Петрушке?
– Вези к Петрушке, с него начни.
Поутру рано меня повезут в страшную глушь к святому, который просидел, спасаясь молитвой, двадцать семь лет в лесной яме. А сегодня угощают. «Ученому» не грех даже напиться чаю, и можно папироску в окно выкурить, и поесть скоромное.
И вот случай… Вот исключение в староверском быту. Еще случай, еще исключение. И так сложится правило, чудесное, из одних только исключений. Это и есть путешествие.
Святой живет где-то около деревни Березовки. Дорога лесная по пням и через поваленные деревья. Просека длинная, длинная: кажется, это леший в кулак поглядел отсюда туда, к нам, в безлесье, – и задумался. Может быть, видит, как на черные поля из красного глиняного оврага вылез погреться на солнце шутяка бесхвостый, ощипанный.
Леший грустит… А мой спутник Михаил Эрастович думает, что там, за просекой, чудесный мир…
Он все хозяйство бросил для «науки», едет и думает, что мы с ним делаем какое-то большое дело для большого неведомого мира – там, за лесами.
Не очень далеко от святого, рассказывает он мне, на Усте стоял прекрасный прославленный монастырь Красно-яр. И стоять бы ему вечно, но дьявол искусил царя Николая I. Прислал гонца из «Питенбурга», чтобы «зорить» святой монастырь. Стали ломать кельи. Ужас всех объял, думали – человек вновь перерождается. Сломали. И свой же нечестивый человек, Алеша Тоска, свергнул крест с часовни. Монастырь потух. Гонец побежал назад. А государю в те поры думно стало, захворал, спохватился: напрасно, сказал, я послал «зорить» благочестивый монастырь. И послал другого гонца остановить. Бегут гонцы: один из Краснояра в Питенбург, другой из Питенбурга в Краснояр… И вот, как встретились, так…
Ужасная, нечеловеческая смерть постигла Николая I, когда встретились гонцы. Чтобы изобразить ее, Михаил Эрастович отмерил длинный язык, до колен.
Теперь от монастыря остались только две могилы и свергнутый крест. Два раза в год в это глухое место к святым могилам сходится множество народа.
«Издан закон о свободе совести, – думаю я, слушая этот рассказ. – Что, если собрать в народе воспоминания о монастыре, составить план, сделать описание и представить все это покровителю беглопоповского согласия нижегородскому купцу Бугрову? Быть может, он даст денег, правительство разрешит – и монастырь вновь воскреснет. Люди будут рады».
– Всю жизнь за вас богу будут молиться, – говорит мне мой проводник.
– Хорошо. Попробуем.
В деревне нас окружают люди, сначала недоверчивые.
Но Михаил Эрастович шепчется с ними, поглядывая на меня.
Сколько, наверно, легенд осталось там, в лесу, обо мне. Коснуться глубины живой стихии – она сейчас же ответит.
Мой спутник шепчется со стариками и старухами, и я угадываю легенду: настали новые времена, оттуда, издалека, царь прислал потихоньку своего человека в леса, чтобы вернуть все старое.
Новые времена. Одна старушка предлагает в Псалтырь заглянуть, узнать, какая теперь тысяча, восьмая или девятая, и что это значит. Все рады мне, все хотят помочь святому делу. Я чувствую, что прикасаюсь к какому-то самому глубокому нерву их жизни, чувствую какую-то интимнейшую близость с ними. Один несет мне кирпич, священный остаток Краснояра, другой – обломок медного креста. А самое главное: мне хотят показать две святые иконы, сохранившиеся с тех времен. Старик с углубленным, кротким взглядом, хранитель часовни, выбранный народом, ведет меня в старую часовню, на кладбище, под купол елей и сосен.
Часовня темная. На кресте мох и трава. Внутри же все заботливо убрано. Как и в первоначальную старину, полотняная занавесь разделяет на две части часовню, мужеский пол от женского, сено от огня.
В часовне благоговейно крестятся двумя перстами. Пахнет тлеющим деревом. Тихо перешептываются большие староверские книги с темными ликами.
– Заведение хорошее, – говорит мне кроткий жрец, рассказывая историю каждой иконы, спасенной при разорении Красноярского скита. – Заведение хорошее, – повторяет он, – и книги, и божество.
– Хорошее божество, – повторяю я за ним.
– Никола Явленный, – показывает мне радостно жрец на темную старую икону. – В ручье явился.
– Черный… – говорю я. – Ничего не понять.
– Зарудел, – отвечает старик и протирает рукавом святой лик.
«Да, это боги, – думаю я, – настоящие боги». Кто-то мне объяснял, кто-то учил, что это не боги, а их изображения, как фотографии. Но вот теперь издали я понимаю, как фальшиво это объяснение. Сердце говорит мне, что это боги. Ребенком знал я их, чтил, боялся и поклонялся. Страшные, но все-таки милые детские боги.
– Божество хорошее, – твержу я бессознательно.
– Хорошее божество, все заведение хорошее, – повторяет за мной радостно кроткий жрец.
И вижу я далекий огонек моего детства, далекий, далекий, загадочный. Туда уходят холодные бесконечные параллельные линии и сходятся в одну тонкую, тонкую нить. И висит там где-то мой священный фонарик под черным абажуром. Заглянуть туда, под черный колпачок?
Невозможно. Холодные линии бесконечны: нельзя узнать, где они сходятся в нить.
– Божество очень хорошее, – говорю я, выходя из часовни.
– Хорошее божество. Все заведение хорошее, – повторяют за мной все радостные почитатели. Обступают меня и просят:
– Упеки ты попа Николу. Он перемазал божество…
– Что такое?..
– А как «зорили», родимый, Краснояр, так самые лучшие иконы повесили в никонианскую церковь. И висели они там от зачатия века святые. А Никола перемазал.
– Ризы содрал.
– Третьи пальчики приписал.
– Помолодил.
– Сидят теперь веселые, будто пьяные.
– Скажи царю, что поп Никола перемазал божество.
– Скажу…
– Скажи, скажи, родимый. Скажешь?
– Скажу.
– Какой ты хороший. Путь тебе счастливый.
– Подожди, милый, – просит кто-то. – Скажи царю, что нехорошо ему щепотью молиться. Скажешь?
– Скажу.
– Вот видишь, – обертывается старушка к толпе, показывая рукой на меня. – Вот видишь, был Савлом, а стал Павлом. Заглянуть бы в Псалтырь, какая теперь тысяча.
Из деревни в деревню все то же: священные остатки скита и неустанные просьбы помочь староверскому делу. В лесу иногда большие восьмиконечные кресты свешиваются над повозкой. Это все мне кажется книгой про старину. Живое солнце, живые деревья глядят на желтые листы, на славянские буквы. Много настоящих цветов и особенно ландышей украшают страницы. Но нет самого главного: книга мертва. Бог ушел из нее. Ему стало скучно, он ушел, а люди роются, роются в желтых страницах.
Вот высокий купол сосен возвышается над лесом. Можно догадаться, что это старое, заброшенное кладбище: когда-то лес был срублен, и остались только эти сосны над могилами.
Я хочу посмотреть на старину, пробираюсь внутрь леса, под купол.
Всего две могилы осталось. Старик в черном кафтане, с черной змейкой-лестовкой на руке молится.
Хочется сказать ему: дедушка, не нужно, бога тут нету, он ушел отсюда, ему здесь скучно. Бог теперь не живет по пустыням.
Но как сказать это? Жалко старика, да и не поверит. Нет, пусть все так доживает, как есть.
Из деревни в деревню – все так.
Но вот есть, рассказывает мой проводник, возле Березовки настоящий святой. Молится так, что березки кланяются. Почти тридцать лет тому назад убежал он мальчиком с Волги искать бога в этом лесу. Христолюбец Павел Иванович укрыл его, выкопал ямку, повесил икону, зажег лампаду, книги дал. Сверху закрыл досками, мохом обложил. «Читай, – сказал он мальчику, – читай, Пётрушко, спасай мою грешную душу».
Двадцать семь лет горела лампада в лесной яме. И по ночам крался туда христолюбец с водой и хлебом. Пошепчется: «Жив? Слава богу. Читай, молись, Пётрушко». И ровно двадцать семь лет в темной яме при свете лампады читал Пётрушко и молился за грешную душу Павла Ивановича и за всех христиан.
Весть о свободе совести прошла и в Уренские леса. Пётрушко вылез из ямы, выстроил себе келью поверх земли. Выстроил еще одну, и еще, и еще. Собрались благочестивые старцы и старушки в лесные кельи. Возник новый скит.
Рассказывает мне это Михаил Эрастович. «Нет, – думаю, – я ошибся. Бог не ушел, он здесь». А лес высокий, темный. Папоротники выбегают на дорогу.
Да и, может быть, все это неправда: может быть, мир вовсе не идет следом за богом вперед и вперед. Может быть, он вертится вокруг одной точки, вокруг этого огонька в лесной яме.
Это восток. Значит, можно всего ожидать.
Еще один лесной купол, еще один поваленный крест. Просека. Кордон.
Лес разбегается в стороны. Зеленые, синие, желтые полоски полей. Лесная темная деревня Березовка.
Христолюбец Павел Иванович встречает нас недоверчиво. Михаил Эрастович, мой проводник, хоть и знакомый его, но молод, мало знает про божественное, ему не очень доверяют. Павел Иванович темно-желтый, как переплет староверской книги. Старуха обманчиво ласковая. Дочка Аннушка белая, белая, глаза большие.
Мы говорим про Краснояр, показываем священные остатки. Пергамент разглаживается; приносят закусить хлеба и квасу.
Нас провели бы к Петрушке. Но вот это яйцо. Обыкновенное куриное яйцо выскочило у меня из сумки и покатилось по полу. Был Петровский пост. Яйцо в руках основателя нового Красноярского скита мелькнуло, как рог антихриста или кокарда чиновника.
Но ничего нельзя было заметить на лицах хозяев. С ласковой улыбкой проводила хозяйка на крыльцо и как ни в чем не бывало рассказала нам путь: до Усты тропинка, у реки душегубка, переправимся – кордон; от него в правую руку лежит дуб, черный, с Ноева потопа лежит; по дубу перейдем ручей – и на болото; а по болоту версты две до леса, в лесу грива и на ней живет Петрушке.
По лицу старухи ничего нельзя было заметить. В русском человеке иногда глубоко запрятана внутренняя жизнь. Но злое предчувствие пошло с нами в пустыню, дурные признаки встречались на каждом шагу. Чуть не утонули на душегубке. Поскользнулись на Ноевом дубу. На болоте, на лавах, рухнуло под нами бревно. А перед самой лесной гривой, где стоит новый скит, встретила нас непроходимая тонь.
– Пётрушко! – кричим мы на ту сторону.
Никто не отзывается. Ворон кричит.
Где тропа – неизвестно. Но делать нечего: разделись, перешли, вытерлись папоротниками. На лесной гриве высокие ели и сосны, дикие розы, ландыши. Так тихо, что сосны оживают: мы идем вперед, они назад.
Первая избушка под сосной мне показалась большой муравьиной кочкой. Потом другая, третья, все шесть кругом, глядят в одну точку, как в древних селах. В середине круга – навес, под ним лавки и костер от комаров. Это приемная.
Прежде всего к дыму. Купаемся в нем, исцеляемся от злых укусов комаров и слепней.
Никто не выходит из келий. Безмолвно. Кошка белая прокралась в кусты и почти испугала.
Почему же никто не выходит?
И вот тут-то вспомнили про грешное яйцо. Не послали ли вперед нас гонца? Быть может, все разбежались?
– Господи Исусе Христе, – стучимся мы под окно. Стучимся под другое, под третье, обходим все шесть келий – молчат.
Дым от костра, спокойный, тяжелый, устраивается там, на верхушках сосен, сторожит пустыню, глядит сверху: что мы будем делать?
А мы, сильно нагнувшись, почти вползаем в одну келью. Тут комаров! Свист, вой. В стене мы замечаем пучок длинных самодельных серных спичек. Зажигаем одну, другую. Вся келья наполняется дымом.
На полу кусок полотна, свернут пологом. Не спит ли кто-нибудь там? Нет.
На полках возле печи самодельная деревянная утварь, как у Робинзона Крузо. Черный котелок над лучинками. На других полках много огромных книг.
Мой спутник не очень церемонится, вытаскивает из одной заложку и читает: «Пустыня! О прекрасная мати, прими меня в тихость свою безмолвную, в палату лесовольную».
Присели на лавку. Заглянули в оконце. Опять ворон кричит. Комары воют. И чуть-чуть березки верхушками шумят.
– Ну и житье! – сказал мой проводник.
– Житье безмолвное, – ответил я ему.
В другой келье то же самое. Везде то же самое.
Вышли на кладбище. Тут две свежие могилы в срубах. Между ними на подставке вроде пюпитра лежит развернутая священная книга. Значит, только что читали.
Конечно, попрятались. Яйцо напугало христолюбцев, послали гонца сухим путем, нам указали болото – вот и все.
– Мы их поймаем, – шепчет Михаил Эрастович. – Они тут же где-нибудь за соснами стоят.
Мой спутник для науки готов на все: даже ловить своих одноверцев. А мне так ясно вспоминается зеленый переплет читанной в детстве страшной книги: «Охота за черепами». Где-то в сибирских лесах одни люди с ружьями ищут других, безоружных, убивают их и получают деньги за череп.
– Не нужно, – прошу я.
Но проводник мой не шутит с наукой. Ради нее он бросил свое дело. Нет. Так, ни с чем, он не уйдет.
– Вот, – шепчет он, отойдя немного в лес, – тут будем ждать. Они сейчас выйдут. Они за соснами стоят.
Ложимся в траву, как настоящие охотники за черепами. Кусты шиповника, дикой малины, множество ландышей, желтеющих, но еще пахучих. Потихоньку я собираю букет и шепчу спутнику, что такой в Петербурге стоит двугривенный. И как это его удивляет! Он тоже принимается собирать. Еще на двугривенный, еще на двугривенный, на рубль, на два. Невозможно остановить товарища. Ползает. Букет огромный. Запах сильный. На мгновенье кажется, что лежим мы где-то на юге, на высокой горе, залитой солнцем, покрытой душистыми азалиями.
В северных лесах часто бывают такие южные откровения. И потому это, что сосны, и ели, и вереск, и мох в глубине своей нерадостной души вечно грезят о юге. Их жизнь – сон и мечта о невидимом.
Курится костер, свивается дым огромным хвостом. Отделился от сосны пустынник в синей самотканой одежде, в берестовых лаптях. Шагает неровно, будто только что учится ходить поверх земли. Тихо крадется к костру, озирается. Сел на лавку, окунул голову в дым, исчез в нем.
– Пётрушко!
Дрожит большой рыжий человек. Глаза у него маленькие, на лицо человека смотрят с ужасом.
– Пётрушко!
– Я не Пётрушко.
– Пётрушко, мы не кусаемся. Мы пришли поговорить с тобой по душе. Теперь свобода, никто тебя не смеет тронуть. Живи себе поверх земли с миром.
И еще два-три ласковых слова и немного мелочи на свечи.
Маленькие глазки нашли где-то опору.
– Хорошо на земле. Прытко хорошо. Дождя бог дал, грибы родились. И ягоды много… малина будет и всякая ягода. Сено хорошее. Прытко хорошо на земле.
– А там, под землей?
– И под землей хорошо. Христолюбец рыл ямы просторные. Сперва боялся: искали, прытко искали. Слышно, как ходили в лесу. И по яме ходили, доски стучали. Зимой снегу навалит – дышать трудно. Лампада меркнет. Книгу читать нельзя. Тут надо костер развести – протянет, и лампада разгорается, и опять книгу читать можно. Прытко искали. Народ в деревне слабый, охота с христолюбца деньги сорвать. Проследят, куда ночью хлеб носит. А, скажут, душу свою спасать задумал. Давай, а то донесу. Много стоило Павлу Ивановичу, не сосчитать сколько, разорился бы, да лесничий помог. Хороший человек. Христолюбец просит: «Ваше благородие, дозвольте в лесу ямку вырыть, – у меня человек». – «Замерзнет, водой зальет». – «Только дозвольте: не замерзнет, не зальет. Мне душу спасти охота». – «Рой», – дозволил лесничий. А Христолюбец вырыл семь ям в лесу. Чуть что, бывало, сейчас в лес и переведет в иную яму.
Курится костер. Пустынник рассказывает, не поднимая глаз. Будто и здесь, на земле, он видит где-то огонек своей лампады, свою защиту.
– Искали, прытко искали.
– Кому ты нужен, зачем тебя искали?
– Им не любо. У них жизнь пространная и широкая, а моя узкая. Им не любо. Ай принести книгу? Почитаем?
Крестится над темной книгой большой волосатый ребенок. Трещит застежка. Еще раз крестится. Слушают сосны слово божие. Слушают цветы. Старушки и старички выросли из земли, подсели к костру.
Антихрист царствует. Какие-то три с половиной года до конца. И давно бы пора наступить концу. А все не наступает. Когда же? Что значат эти три с половиной года?
– Эти три с половиной года покрыты дланью божией. Что за год-то считать.
– Какие года!
– Длинные или короткие.
– А только вот есть признаки.
Много признаков есть. Господи. Сколько признаков конца. Не пересчитать… Первое, второе, третье…
Читает пустынник книгу о вере. И вот точь-в-точь было и тогда так. Точит старушка заржавленный ножик о красный кирпич… Грозятся голые мерзлые ветви в окно… Сверчок за печкой поет. Шепчет голос: «Восьмая теперь тысяча или девятая?»
– Вы доживете. Как пойдет девятая тысяча, так по краюшку ходить будете, как есть по краюшку ходить будете. Хорошо, как есть молельщики к истинному Христу. А как молельщиков-то нет, да будет народ аховец.
И вот как идешь по лестнице божией, так идет теперь время. Доживете, что с крышами ходить будете. В дождик над собой крыши раскинете. Вы доживете.
– Бабушка, я убегу.
– Чадо мое милое, не убежишь, а припадешь, и все припадут, и не будет на земле лаптя не измеренного.
– Я упаду на коленки, покаюсь.
– Чадо мое милое. Он, Истинный-то, и скажет: ты мои рукописания не слушал. Хоть бы капельку не забыл. Иди в тьму, пади в огненную реку.
Станут реветь, да не вовремя. И вот если бы весь песочек перебрать и всю землю по песчинке, конец бы. Так если бы знать, что перебрали, – и конец, возрадовались бы.
– Он же, бабушка, добрый.
– Да он не рад. Не волен. Как его распяли, мать пресвятая богородица и плачет.
«Не плачь, матерь моя возлюбленная, не плачь: я в третий день воскресну».
И воскрес… И повел грешников из ада.
Застонал сатана.
«Не стонь, адие, – говорит ему Истинный. – Не стонь, что порожний остался. При последнем времени опять наполнишься, – не младенцами, не праведниками, а купцами, попами и богатыми мужиками. Не стонь…»
Какая теперь тысяча? Восьмая или девятая?
Шепчет голос: «девятая… дожили…»
Где-то между соснами сохранился крест с часовни Красноярского скита. Мы ищем его, но не можем найти. И так в поисках подходим к густой заросли «Гнилое озеро». Дальше идти некуда.
– Тут еще один скрывается, – сказал один из моих спутников.
– Что же он не выходит? – спросил я. – Разве до него не дошла весть о законе?
– Дошла, да все боится, не верит, говорит: «Закон перевернется».
– И очень просто, что перевернется, – сказал другой спутник.
Мы запоздали. Сильно темнело. И креста мы в лесу не нашли.
Глава IV. Церковь видимая
Церковь видимая, каменная, с колоколами, иконы – боги, обряды в их прямом значении – вот ближайший путь к душе народа. Я думал, что он невозможен для нас. Невозможны и всякие попытки. Но нет… На Волге все знают одного доктора, человека верующего, как и народ. Презрительно смеются над ним: больных нужно лечить, а не заставлять богу молиться. Верующие, наоборот, очень довольны соединением врача и священника в одном лице.
Я познакомился с этим врачом. Мы разговорились. Я заступался за разум человеческий, я говорил, что в подчинении его божественному разуму часто таится обычный, не для всех обязательный, страх перед физической смертью.
– Как вы могли поверить? – сказал я наконец.
– Это было чудо, – ответил врач.
Мы помолчали.
– Когда-то и я верил в чудеса, как Авраам, ждал к себе в хижину добрых ангелов. И не дождался… Для меня мир стал голым, без чудес. И много всяких обманов – много всего… Теперь при одном слове «чудо» мне рисуется пребывание Ионы во чреве китовом три дня под действием желудочного сока.
– Неужели и в это верите? – спросил я врача.
– Верю.
– А желудочный сок?
– Чудо. Для бога все возможно.
Я, конечно, не стал возражать. Я понял, что у доктора слова имеют двойное значение: медицинское и другое, отвечающее такому чувству, которого у меня, быть может, и вовсе нет.
Доктор стал мне рассказывать раздраженно, как ему пришлось девять лет бороться с духовенством за истинную православную церковь при смехе интеллигенции. Теперь он бросил все. Убедился, что только в староверчестве сохранилось то, чего он ищет. Австрийское согласие старообрядчества в особенности близко к его идеалам. В эту «веру» врачу мешает перейти лишь вопрос о благодати. В глубине истории этого согласия есть какое-то лицо, взявшее на себя будто бы самочинно таинство священства в Белой Кринице в Австрии. Что-то вроде этого… Тут и прерывается благодатная связь австрийского согласия со вселенскою церковью.
Мне, наблюдателю, доктор очень рекомендовал познакомиться с епископом австрийского согласия, дал к нему письмо.
Этой беседой с доктором и начались мои дорожные впечатления из области видимой церкви.
С письмом доктора я пошел к архиерею, но в адресе была какая-то ошибка. Я долго блуждал по улицам и наконец обратился к старику в черном длинном кафтане, конечно, староверу. С большим почтением отнесся ко мне старик и повел сам к архиерею.
– Как у вас, – спросил я его, – после закона о свободе совести?
– Слава тебе господи, – ответил старик. – Звон, везде звон, по всему Заволжью звон. Везде церкви новые строят, старые поправляют, везде колокола, везде звон.
Сияет старичок. И вспомнили мы с ним те суровые времена, когда старообрядцы даже в чугунные доски опасались сильно звонить. Теперь эти времена прошли.
– Слава тебе господи, – перекрестился старик двумя пальцами. – Слава тебе господи, государь слабость даровал, теперь везде, по всем церквам звон.
Так болтая, дошли мы до архиерейского дома.
– Вот тут живет владыка, – указал мне старик. Я вошел во двор, поднялся по деревянной лестнице вверх и вдруг увидел перед собой множество больших и малых колоколов, а между ними совершенно такого же старика, как мой провожатый, с веревкой в руке ко всем колоколам.
– Звон, звон, – в ужасе прошептал я, представляя себе, что все эти колокола зазвонят тут, на деревянной лестнице, в деревянном доме.
Я принял старика за архиерея. Это ничуть не удивительно. У старообрядцев нет школ, семинарий, академий; мне говорили даже, что теперешний епископ был простым солдатом. Мне не показалось странным, что епископ, радуясь дарованной свободе, увлекается звоном в колокола.
– Ради бога, владыка, – сказал я, – подождите звонить, у меня к вам письмо от доктора N.
Старик оставил веревку, взял письмо и повел меня вниз по лестнице. Он – не архиерей, изумляется мне, оглядывая с головы до ног.
«Какие же эти архиереи?» – с волнением думаю я, входя в переднюю. Никогда в жизни мне не приходилось разговаривать с архиереем. Имел я понятие о них лишь по рассказам Лескова и представлял их почему-то всегда с длинными вкусными рыбами. Но еще более загадочным казался мне архиерей из народа. Мне думалось, что с таким архиереем еще больше нужно хитрить, чем с обыкновенным, что между мною, человеком, стоящим вне каст, и им, жрецом, начнется сейчас же чрезвычайно неудобное изучение друг друга.
Вхожу. Маленький, черненький монашек с нервным, интеллигентным лицом сидит за круглым столом, читает книгу. Какую? – пробегаю я глазами по странице. «Юлиан Отступник» Мережковского, узнаю я.
Один взгляд на буквы – и нам не нужно изучать друг друга. Какая-то особая светская благодать соединяет нас. Два-три слова о романе, и мы знакомы. Два совершенно разных мира соприкасаются где-то в одной точке. Мы интересны друг другу.
Церковь не должна идти в наемники к государству – вот содержание нашего долгого разговора. Но как это возможно? Хотя и есть теперь закон о свободной организации общин, но что же дальше? Вот уже потребовались правительству метрические записи. Не есть ли это уже первый шаг вмешательства государства в дело новой Церкви? Потом материальные средства, получаемые от патронов-купцов; поклоны и заискивания этих купцов перед министрами. Разве это все не роковые шаги? Разве вообще возможна теперь, после стольких веков опыта, видимая церковь? Архиерей, как верующий в свое дело человек, надеется. Но для меня, стороннего человека, так ясна невозможность полного разграничения земной церкви и земного государства.
В душе старообрядцев, я знаю, есть два таинственных круга. Один круг государственный, другой – религиозный. Эти круги где-то пересекаются, и на месте их пересечения сидит, глядит зверь-антихрист. Если это так, – а это так, – то как же возможно старообрядцу верить в старинно-православную церковь на земле?
Когда я пришел к архиерею, он собирался ехать по епархии в далекий Уренский край. Там после закона о свободе народ еще не видал своего архиерея. «Вот посмотреть бы», – подумал я и уговорился с епископом встретиться и еще поговорить в Урене.
Через много дней, когда я приехал в Урень, я спросил про архиерея. Его там ждали. В этом большом лесном селе я первый раз столкнулся с староверской народной массой. Помню, рано утром меня разбудил шум. Я посмотрел в окно узнать, что это значит, и залюбовался видом шумного уренского базара при восходящем солнце: позолоченные гривы лошадей, шляпы раскольников, похожие на опрокинутые цветочные горшки, очки начетчиков-философов, малютка-богиня на высоком возу сена – все было красиво.
И слышу – под окном кто-то рассказывает, как он ходил к Серафиму: чайку попил, разогрелся, простудился, обещался и пошел. Такой спокойный, спокойный разговор. В этом лесном краю на меня пахнуло родными черноземными полями, где нет этого здешнего беспокойного духа староверов.
Вдруг кто-то перебил говорившего:
– По Христу, сыну божию, – сказал он, – нет теперь ни провалов, ни пророков, ни мощей. Шляетесь к Серафиму, а Священное писание не читаете. Серафим не спасет, если сам себя не спасешь; господь в сердце.
– Верно! – отозвался кто-то на возу.
– Верно! – сказали у кулей овса.
Поднялся спор. В Урене что ни двор, то новая вера, тут есть всякие секты раскола. И вот зашумели у моего окна разные согласия.
– В этой вере, – кричат, – благодати нету.
– Благодати, – отвечают, – теперь ни в какой вере нету.
– Она в лес ушла, – смеется один.
– На ветках висит, – дразнит другой.
Забыты воза с сеном, кули с овсом, забыты деревянные изделия. Спорят о вере, о благодати.
Шум, крик.
«У нас не бывает так, – думаю я. – У нас мужик неотделим от кулей и возов». И ясно мелькнуло: да ведь это все от «благодати». Оборвалась связь с церковью, и тем затронут какой-то самый главный, самый глубокий нерв; оттого здесь, наверно, все не так: любовь, семья, общественность.
– Как это все у вас? – спрашиваю я одного молодого парня.
– Совесть на совесть придется, – отвечает он мне, – вот и любовь. У родителей благословятся и живут. Не любо – разойдутся.
– А дети?
– Детей призирают.
«Вот он, край свободной любви, – думаю я, – о которой как раз теперь говорят в литературе». Который уже раз я переживаю в глуши странное чувство: в городах говорили об общине, приедешь в деревню, и там мужики говорят об общине. Потом говорили о свободе личности. В деревне тоже по-своему говорили дети с отцами. Теперь там говорят о вопросах пола, и вот передо мною целая живая книга. Я разгадываю теперь эту, казавшуюся мне странной, загадку так: в стихии есть все, она отвечает на наши вопросы.
На базарной площади завязывается спор о любви и браке. Я будто в центре литературных скрещенных течений.
Защитники свободной любви, молодые люди, один перед Другим рассказывают и хвалят свои обычаи. Но выступает старый, белый, седой с костылем, не то толстовский дедушка Антип, не то Рок из древней трагедии.
– Грех! – останавливает он молодых. – Как перед истинным Христом поведаю тебе: грех бабу менять. У нас, – говорит мне дед, – бывает, что дети отца не знают сходятся брат с сестрой. Грех. Надо жить по закону.
– Закон вяжет, – спорит молодой.
– С законом крепче, – отвечает старик, – взял бабу и живи.
– Закон вяжет понимание (любовь).
– Живи без понимания. Одна кляча.
– Один мед, – соглашаются другие старики.
Но молодые не хотят жить без «понимания». И так все сложнее и сложнее запутывается нить общего должного смысла вокруг седого Рока. Вместе с единою церковью утерян и этот единый смысл. Первый раз в жизни я понимаю, что значит церковь для этих людей. Мне становится ясно, почему этот встретившийся мне на Волге доктор принял православную церковь в старинном виде, почему он понял ее как художественное произведение, как просветительно-воспитательную систему для народа.
– Какой же ты-то веры? – спрашивает меня белый дед.
За стариком и другие спрашивают. Подступают к окну, смотрят на меня полными смысла человеческими глазами.
– Какой ты веры? Какая у вас там вера?
– Я крещен православным.
– А веришь как?
Верю? Мне захотелось сказать им о какой-то хорошей вере. Но слова, которые мне попадаются, все не те. И в конце концов я чувствую только новое неприятное неудобство от этого вопроса. Там. в городе, в моей каменной квартире, никто не спросит, во что я верю. Здесь нельзя без этого. Я не смею и сказать даже, что совсем не верю, потому что это очень грубо.
– У нас, дедушка, – говорю я наконец, – верят все по-разному.
– По-раз-но-му! Слышь? По-разному. Да вы стать же нам, бедные, ах вы горькие, горькие.
– Нет, не как у вас, – отвечаю я. – У нас каждый сам свою веру должен найти.
– А не по родителям?
– Нет.
– Ну вот, поди ты, какая у них вера, – удивляется седой Рок.
– Новая вера! Новая вера! – побежало по площади. И новые, новые толпы двинулись к моему окну.
– Барин, – шепчет мне на ухо мой приятель Михаил Эрастович, – затвори окошко, урядник глядит; вишь, какой витим (митинг) собрал.
Я затворил окошко, и все понемногу возвратились к своим кулям с овсом, возам с сеном и к деревянному изделию.
Я не верю, как они, но угадываю, почти чувствую эту народную боль по единой церкви. Она, прекрасное, хрустальное здание, разбита на мелкие кусочки, и каждая частица, как андерсеновское зеркало, отражает целое в искаженном виде.
Я угадываю в больной душе преломленное отражение видимой церкви, и таким странным кажется мне обыкновенное каменное здание на базаре, которое тоже называется церковь.
Я подхожу к ней. Вокруг шпиля вьются и щебечут ласточки, голуби воркуют в нишах. Я смотрю на эту каменную вещь совершенно новыми глазами. Здесь, в этом краю излома народной души, как в анатомическом срезе, я постигаю все огромное и не замеченное мною раньше значение цельного церковного организма. Эта видимая каменная постройка с ласточками у шпиля и голубями в нишах для меня теперь полна таинственного значения.
Смотрю так на церковь. С колокольни спускается звонарь. Блестит смазанными волосами. Улыбается мне по типу юродивых. В двухэтажном деревянном доме возле церкви, вероятно, живет батюшка.
– Вверху или внизу живет батюшка? – спрашиваю я.
– И наверху живет батюшка, и внизу живет батюшка, везде живет батюшка, – отвечает звонарь.
Священники – люди, которых я, как эту каменную церковь, привык не замечать: живут себе эти своеобразные люди, творят что-то возле народа, в обществе всюду принято над ними смеяться. Теперь во мне пробудилось что-то новое. Я хочу взглянуть на батюшку, как и на церковь, новыми глазами.
И вот он: красный, только что вернулся из бани, большой, волосатый, настоящий картинный батюшка.
Как и на каменной церкви, благодать почиет на нем оседло. Я, простой человек, должен терять и искать свою веру, я должен проваливаться и снова карабкаться вверх. Он – нет. Он обеспечен. Щебечут ласточки, воркуют голуби.
Батюшка рад мне.
– Для таких гостей, – говорит он, – нужно бутылочку пива. Хорошо?
– Очень.
– И не угодно ли воспользоваться маскарадом? Для странствующих и путешествующих это требуется.
Нет возможности оборониться от бесконечного благодушия батюшки.
«И с этими-то людьми мой доктор боролся девять лет. – подумал я. – Какую же твердую веру нужно иметь, какой фанатизм, отвлеченность, чтобы восстать на этот благодушный быт. Чудом, только чудом это возможно». И пришло мне в голову: что, если с этим вопросом об Ионе во чреве китовом, который я предложил тогда на Волге верующему доктору, объехать всю Россию, как Гоголь с мертвыми душами, – вот бы получилась картина.
– Батюшка, – спрашиваю я, – скажите откровенно: верите вы, что Иона просидел во чреве китовом три дня?
– Верю. Ведь у кита горло широкое, а чрево огромное.
– Нет, не то, – говорю я. И объясняю ему, как естественник, всю систему пищеварения, доказываю полную невозможность пребывания человека в замкнутом пространстве под действием пищеварительных соков три дня.
Я говорю и слышу, что батюшка мне поддакивает: верно, верно.
– Да как же верно-то, – сержусь я наконец. – Что-нибудь да не так.
А батюшка смотрит на меня хитрым глазком, грозит пальцем.
– Ну, – говорит он, – а если Иона не три дня сидел, а один только миг, и ему это показалось за три дня, что вы на это скажете?
Я растерялся, а батюшка налил мне новый стакан пива, довольный победой.
Он очень разносторонний: и просто батюшка, и благочинный, и миссионер, и поэт. Им сочинена и напечатана в духовном журнале ода на то, как трудно пастырю овец в краю раскола. Им задумана сатира: борьба с австрийским согласием. Пафос этого нового творения, как я узнал, относится к закону о свободе совести. Одна из сект раскола, самая правая, ближайшая к православию, воспользовалась новым законом и восстановила всю иерархию, восстановила старые церкви, построила новые, повесила колокола на них. Явилась новая церковь, совершенно такая же, как и допетровская, с правами, но почти без обязанностей к государству.
Этот страшный враг господствующей церкви, по мнению батюшки, растет со дня на день. Простой народ разве станет доискиваться правды: образа старинные, служба долгая, крестятся двумя перстами. Чего же больше? И враг растет.
Я рассказал батюшке, что знаком с австрийским архиереем.
– Лжеархиереем, – поправил меня батюшка.
– Ну, да, конечно, – сказал я. И взволновал его ужасною вестью, что архиерей вот-вот явится в Уренские края.
И нужно же так: не успел я кончить, как вошел пономарь и громко прошептал:
– Батюшка, архиерей!
– Что-о ты!
– Едет. На площади столы ставят. Говорить народу будет.
– Не-ет! Не дам. На площади он не смеет. Идемте.
В руках у батюшки большая суковатая палка. На площади столы с хлебом-солью, много народа. Я немного побаиваюсь: палка большая, но народ сильней.
Но чем ближе мы к толпе, тем меньше становится батюшка и, наконец, шепчет мне робко:
– А будто здесь мне не по сану… и с палкой…
Он не успел окончить свои слова. В этот момент я сделался свидетелем исторического события. В край раскола, где раньше лишь одна небольшая секта осмеливалась по ночам на возу под рогожами провозить своего епископа, да и то в картузе и поддевке, – теперь в том же самом краю при полном солнечном свете, в мантии с лиловыми кантами, с вереницей священников назади, ехал настоящий старообрядческий архиерей.
Я оглянулся на батюшку. Его не было. Когда пыль разошлась, я увидел его удаляющуюся фигуру с огромной палкой. Еще немного спустя с той стороны спешила сюда раскрасневшаяся матушка – послушать, что скажет новый архиерей.
Но батюшка напрасно беспокоился: архиерей ничего не сказал. И зачем речи? Настоящим колокольным звоном, а не в чугунные доски, как раньше, встретили старообрядцы своего архиерея. Везде слезы и радостный шепот. Какие тут речи, когда после двухсотлетней борьбы с никонианами допетровская Русь наконец-то звонит в колокола. Сейчас, в эту минуту, радуются отцы, деды, прадеды, радуются лесные могилки, полуразрушенные часовни и большие восьмиконечные кресты.
Звон, звон!
По малиновому ковру проходит маленький архиерей в церковь. Валит толпа за ним. Тут много людей, уставших бороться за церковь, разучившихся молиться в одиночку. Теперь же при виде настоящего архиерея в мантии в них опять заговорила вера. Хотят совесть очистить.
Хорошая вера! Хорошие попы!
В одиночку-то как молиться!
Раз махнул, два махнул, а молитвы и нету.
В их вере легко: кланяются вместе, крестятся вместе. Знаешь начало и конец.
И звон. Вот звон-то!
Выравниваются темные ряды. Блестят венчики на святых. Поют охрипшими застарелыми голосами, но упрямо, в один голос. Загораются огоньки: один, другой, третий. Старый суровый бог соединил сердца верующих фитильной ниткой и поджег: огонек к огоньку, огонек к огоньку. Поджег и почил. Сверху кажется ему теперь земная жизнь длинным спокойным рядом фонариков.
Я тоже зажигаю огонек, прислоняюсь спиной к стоне и ухожу в какую-то темную, спокойную глубь: не то погружаюсь во впадину первоначального хаоса с вечными птицами, не то тихо иду ночною улицей с керосиновыми фонарями, не то слушаю стук колотушек в глухом городке.
Красиво склоняются дикирий и трикирий над темными рядами молящихся. Здесь единая церковь, единое сердце.
Но в моем темном спокойствии почему-то заводится острая, сверлящая мысль-гвоздик: а что, если архиерей ошибется? Что, если он по непривычке как-нибудь не так махнет дикирием и трикирием или перекрестится не двумя, а тремя перстами? Что тогда будет? Мне кажется, что тогда непременно передо мною в темных рядах мелькнут крепкие скулы, серые нахальные глазки, кулаки, нечесаные бороды.
Архиерей служит прекрасно. Все крестятся вместе, все падают, – как по сигналу, на свои подручники. Служба старинная, длинная. Я давно отвык от таких богослужений; переступаю с ноги на ногу, скрещиваю руки на груди, сую их в карманы – ничего не помогает: мысль-гвоздик неустанно сверлит: хорошо-то хорошо, но что, если, сохрани бог, этот новый архиерей ошибется?
Глава V. Церковь невидимая
Как живые, шевелятся в лесу тростники. Шуршит ими ручей, прячется между соснами, таится в сером ольшанике, зеленой змеей перебегает дорогу.
– Зачем мы по верам едем? По кладам бы, – говорит мой спутник.
Он еще верит немного в тайны Ивановой ночи. Не раз уходил он около полуночи в лес подальше от деревни, чтобы петухов не было слышно. Кладов не находил, но слышал раз, как деревья между собою разговаривали.
– Вот, – говорит он мне, – и сейчас ручей бормочет, а поди знай что. И сороки болтают про нас, что – не разгадать. А в Иванову ночь все известно. Напрасно по верам едем, – продолжает, – по кладам лучше: тут в лесах были такие разбойники, что свистом птицу на лету останавливали.
От Уреня до Ветлуги леса непрерывные. Отбегают в сторону только около деревень, да и то недалеко. Меня слегка упрекает совесть за какой-то не свой, неведомый грех против Ивановой ночи.
По ту сторону Ветлуги, ближе к Волге, – поля. Ручьи тут уже не таятся, кивают мокрыми острыми тростниками, змеятся по полю вдали, будто движется войско с зелеными ружьями.
Рожь цветет. Блестит где-то на старом кресте венчик божьей матери. На камнях у дороги отдыхают паломники града невидимого.
– Нет, – говорю я спутнику, – и по верам ехать хорошо.
– Какие веры, – соглашается он, приглядываясь к странникам в войлочных цилиндрах, с книгами в руках, к странницам в черных платках, с котомками.
По лесным тропинкам Уренского края вышли они сюда, в поле, на свет, угрюмые. Те, которые в очках и с тяжелыми книгами, озираются недоверчиво.
Я с ними не стесняюсь: останавливаю, заговариваю, разглядываю огромные книги. У одного «Никон Черной горы» весом полтора пуда, у другого «Маргарит», – больше аршина длиной, у третьего Кириллова книга, Ефрема Сирина, книга «О вере» – все большая тяжесть. Но ничего: сотни верст несут, надеются «буквой» победить противника на Светлом озере под июньскую ночь.
Подумаешь: так это странно, будто сказка, и порадуешься, что живешь в такой стране, где еще верят в невидимый град и в чудесную силу славянских букв. Хочется посадить к себе в повозку кого-нибудь из них и пытать, и пытать…
Но никто не садится. Великий грех приехать на лошади к святому месту. Мало того: в котомках, кроме икон, ладана, кадила, лестовки и свеч, часто лежит большущий камень.
Серые, темные, идут и идут, один за другим, из лесов в поля, из полей в леса, будто кроты переселяются.
– Ты, бабушка, куда, – в город невидимый?
– Ништо.
– А камень зачем?
– Ништо.
Есть такие бабушки, что никак не разговоришься. Идут безмолвленные. Скажешь слово, напугаешь: молитву зашепчут.
И так я проникаюсь настроением паломников, что думаю: может быть, правда, там что-нибудь есть впереди, что-нибудь вроде города.
– Истинная правда, – уверяет меня хозяин последней станции перед селом Владимирским, – истинная правда, город тут есть, не зря же валит народ. Хорошенько покопаться, так на всех бы богатства хватило.
Село, говорят мне, стоит недалеко от Светлого озера. Гляжу пристально вперед: хочу скорее увидеть чудесное место.
По сторонам – пестрые, заросшие желтой сурепицей и лиловыми колокольчиками полоски полей, кучки сосен – остатки вырубленных Керженских лесов, изгороди, столбики с иконами. Озера нет.
– Там, там, – указывает спутник рукой. И там ничего. Кружится в чистом поле собака на одном месте, лает, пар валит изо рта.
– Бешеная? – спрашиваю.
– Нет… обиженная, – отвечают мне.
Так мы въезжаем в грязное село с темными деревянными избами.
Всего в версте – сказочный город, а тут, бродя чуть не по колено в грязи, нужно «фатеру» искать. Там занято там занято – батюшки-миссионеры все вперед заняли: завтра будут состязаться с староверами и сектантами. Не очень скоро находим свободную избу у старой благочестивой вдовицы Татьянушки. Похожа она на темный лик византийской иконы, протертой деревянным маслом. Шепчет тихохонько, сторожко, но ласково:
– Хорошо у меня, – ни шума, ни крика, ни греха.
Берет вещи, приговаривает: «Господи, Исусе Христе, у меня хорошо, не хващение»[40]. Ставит самовар, подает умываться, ступит шаг и все свое: «Обрадованная Мария, Исусе Христе, не хващение».
– Хочешь, яичко сварю?
– Не надо.
– А то сварю.
– Не надо.
– Как знаешь, с дороги поесть хорошо, я сварю. Яйца хорошие, не хващение, родимый, не хващение.
Веселится самовар на белой скатерти, тикают деревянные часы. Старушка пьет из большой чашки, похожей на перевернутый абажур от лампы. Заводим речь о граде невидимом, о старине.
Я люблю рассказы старых людей: у них в далеком пережитом иногда ровно и спокойно тикает маятник: так было – так будет. Отдохнуть хорошо.
И вдруг растворяется дверь. Входит урядник.
Пришел представиться. Садится, пьет чай, курит, деликатно сплевывает, гасит папироску между пальцами, дышит, будто коптит.
Боюсь я этих сельских губернаторов. Какой бы ни был строй на Руси, я всегда их буду бояться. Завожу беседу натянутую:
– У вас, говорят, тут город…
– Точно так, ваше благородие, Китеж.
– Место чудесное, – помогает беседе Татьянушка. – Не хващение, родные. Мир соберется, попы съедутся, сцепятся, спорят.
– Кадильницу разводят, – не одобряет урядник.
– Миру облако соберется, – занимает хозяйка, – сойдутся всякие веры: есть, что в бога не верят, есть, которые воскресенье в середу почитают.
– Серый народ, ваше благородие, – вставляет опять урядник, – самый серый, не прочищенный.
– Австрийская вера, – разливается старушка, – страшная, про нее сказано: придет с запада…
– С востока, – перебивает урядник.
– Нет, батюшка, с запада. Страшная… Но самая страшная вера – политика.
– Политика, известное дело, всего страшнее, – соглашается урядник. И под большим секретом сообщает: на всякий случай казаки заготовлены.
Чего-то ждет сельский губернатор, мнется, не решается что-то сказать: уходит нерадостный. Татьянушка закрывает дверь, крадется ко мне, указывает пальцем на губы, шепчет на самое ухо:
– Думал сорвать. Он у нас со-баш-ный. Есть ли ответ-то у тебя? Есть. Ну, слава богу, хорошо, как есть. С ответом ты везде прост. Он у нас со-баш-ный. Пес! – Всплеснула руками и ахнула: – Чаю-то, чаю-то сколько заварил! Ай еще выпить чашечку?
Колет старушка сахар щипцами на мелкие, мелкие квадратики, сосет и приговаривает:
– Сходи, сходи на Светлое озеро. У нас водичка-то святая там. Вода-то, матушка, как шелковая, больно она на требу нам всем, такая хорошая, святая, прямо святая. Пьют, умываются, исцеляются. Идут безмолвленные, не оглядываются, только молитву творят; сходи, родимый, сходи.
Вечереет. Еще не поздно. Еще успею сходить «в горы», повидать Светлое озеро. Советует мне хозяйка разыскать Татьяну Горнюю. Она живет от веков «в горах», у Светлого озера, возле торфяного болота. Старуха древняя, не раз слышала звон колоколов из города праведников, а главное, знает, где сохраняется «летопость» о граде Китеже.
Перехожу длинное, грязное село из края в край. Торговцы готовятся к ярмарке. Толпится народ. Кто-то, сильно выпивший, в сером пиджаке хватает меня за руку, крепко жмет, рекомендуется: «Я тоже сотрудник». Из окна батюшки глядят на меня две бескровные поповны, похожие на длинные хрустальные вазы. Через окно слышно, как они скучно щелкают подсолнухи. Совсем не похожее на то, что снилось в лесах Уренского края. Но за селом хорошо, луг пышный, пахучий, клевер, полевые орхидеи, лиловые колокольчики, цветы северные, интимные, мгновенные. Опять я думаю об этом дивном озере Светлом Яре, где поклонялись раньше богу весны Яриле с венками из этих цветов, а теперь тут же спорят о вере.
Лучше стало или хуже?
Впереди меня показывается группа деревьев. По их влажной зелени угадываю воду внизу. Перед изгородью высокий столб с надписью: «Сибирская дача Зеленова», – знак собственности на святом месте. Вспоминаются мне тут уличные номера, одинаковые на малых лачугах, каменных домах и дворцах, совершенно одинаковые цифры: раз, два, три… Знаки и знаки.
Возле столба пришлось перелезть через изгородь. И тут-то глянуло на меня из леса спокойное, чистое око.
Светлое озеро – чаша святой воды в зеленой зубчатой раме.
На первом холме часовня – забытая богом, не скрытая вместе с другими церковь города праведников. Возле нее на камне сидит древняя старуха; конечно, Татьяна Горняя.
Был тут, рассказывает она мне, лес дубовый, а потом ничего не было. Князь Сибирский, прежний хозяин озера, распахал горы, хутор построил и хлеб сеял. Недолго хозяйничал. Господь покарал его за то, что хотел спустить озеро. Клад там есть на дне: бочка с золотом висит на четырех столбах. Князь хотел завладеть кладом, спустить озеро в речку Линду. Канаву прорыл, думал – побежит вода. А озеро не пошло. И господь покарал нечестивого князя: пропал он. С тех пор заросли горы тесом, темным сосняком да ельником.
– А город, – спрашиваю я, – Китеж, откуда он взялся?
– Турка скакал, – ответила Татьяна Горняя, – скакал по версте шаг. Господь и пожалел город из-за праведников, скрыл от турки. Есть об этом летопость, зашита она в книгу Голубиную. Та книга весом полтора пуда, запирается винтами и лежит промеж Нижнего и Козьмодемьянска. Никто из простых людей той книги не видел. А видел ее один Максим Иванович из деревни Шадрине. Он списал летопость и теперь пишет и продает по полтиннику.
Древняя старуха Татьяна Горняя. Всю жизнь свою прожила тут, возле торфяного болота, видела огни, слышала звон, но сказать не хочет об этом. Пытаю – молчит, темная, торфяная старуха. Запели в лесу божественное. Озеро стало малиновым от заката. Жаворонки затихли. Крикнул перепел. Кто-то с огнем вышел из леса к воде, и в озере отразился длинный золотой церковный шпиль. Стало сильно темнеть. Я ушел по лугу домой, и все время, пока я шел к селу, глядело на меня светлое око с длинными зелеными ресницами.
Рано утром, пока еще не собрался народ на Светлое озеро для знаменитого спора под Иванову ночь, я пошел искать летопись о невидимом граде Китеже. Деревня Шадрино, где живет летописец Максим Иванович, за холмами, за лесом – версты две от озера. Все знают почтенного летописца, я сразу его нашел. Из низенькой деревянной избы выходит он ко мне, большой, седой, в очках, кланяется, зовет «побеседовать».
Он переплетчик, окружен книгами, большими, староверскими. За дверью мычит корова, фыркает лошадь, хрипит свинья. Но от всего этого хозяин о книгами еще мудрее. Кажется, что в неизвестном мне заволжском краю не перевелись еще такие старики, как у Толстого. Переплетчик похож на сапожника, к которому нанялся ангел служить.
Летопись о невидимом граде – книжечка в темном переплете, с писанными киноварью заставками, с черными большими славянскими буквами. Написана с любовью и верою.
Благоверный князь Георгий Всеволодович, узнаю я из летописи, получил грамоту от великого князя Михаила Черниговского строить церкви, божий грады. Много ездил и строил святой князь и, наконец, переехал речку, именем Узолу, и вторую речку переехал, именем Санду, и третью речку – именем Линду, и четвертую – именем Санаху, и пятую – именем Керженец. И подъехал к озеру, именем Свртлояр, и увидел место вельми прекрасное. И повелел строить на берегу того озера град именем Китеж.
«… Но попущением божиим и грех наших ради приидс на Русь воевати нечестивый царь Батый. И взял тот град Китеж и убил благоверного князя Георгия. И запустел град. И невидим стал до пришествия Христова.
…Иже мы написали, – кончается рукопись, – и уложили, и предали – всему нашему уложению ни прибавить, ни убавить, ниже всяко переменити, ни единую точку или запятую. Аще ли кто убавит- или прибавит, или всяко переменит, да будет святых отец преданию проклят».
– Неужели за одну только точку или запятую? – спрашиваю я летописца.
Молчит старик, будто борется сам с собой.
– Список верный, – говорит наконец, – а только это неправда. Нету города. Староверы выдумали. Вот, почитай.
Подает мне книжку «Христианский месяцеслов» в тупой, синей обложке. Указывает две или три печатных строки:
«Свитый, благоверный великий князь Георгий Всеволодович, убиенный на реке Сити…»
– Вот, – грустно говорит старик, – на реке Сити, а не у Светлого озера.
– Но, может быть, ошибка здесь, а не в летописи?
– Нет, в печатном ошибки не может быть.
В руках у меня две летописи: одна писана рукою веры, что за лишнюю запятую можно в ад попасть, другая – типографской работы. Я не изучал легенду, не знаю, где правда, но верить в машинную летопись не хочется.
Раньше, рассказывает Максим Иванович, он верил, что священные книжки пишутся самим богом и падают с неба. Теперь не верит. Жил он раньше в староверской деревне, переплетал книги, писал летопись, имел свое кладбище, ходил слушать звон колоколов на Светлое озеро. Потом переселился в православную деревню, стал ездить к нему миссионер. И раз кто-то уговорил его выпить стакан чаю. Думал, земля провалится. Выпил – ничего. Еще раз выпил – ничего. Перестал ходить на Светлое озеро. Колокола замолчали.
– Города нету, – говорит мне Максим Иванович, – а только вы не сумлевайтесь, книжка еще в те времена написана.
Нет города… Но эти сотни и тысячи людей в лесах Уренского края верят, что есть. Я чувствую, как от каждого из этих странников исходит луч веры и пересекается на берегу озера Светлоярого. И я даже теперь немного верю в этот город. Пусть он у меня второй, отраженный, но все-таки город. Я верю в него, Китеж есть.
– Мир валит, – сказал Максим Иванович, – облако миру! К вечеру соберутся в горах, что ворона в поле, что комара в лесу. Погодку бы дал господь.
Но лето вышло дождливое. Проливной дождь захватил меня в лесу но пути от Шадрина к Светлому озеру. Я стал под елью.
Летний дождь не страшный, по березкам шумит, а на ели даже не слышно, виснут капли на хвоях, не стекают вниз. Принимаюсь читать летопись. Чудесная легенда, но, как все северное, больная, тревожная, словно белые ночи. Припоминается мне, что есть какая-то опера о граде Китеже и девице Февронии. Откуда, думаю, взял либреттист эту девицу?
Капля дождя упала с ели на страницу летописи. Я поскорее спрятал книжку в карман, выглянул, не перестал ли дождь. Вижу: под такою же елью, через дорогу, стоит девушка в черном, по-скитски повязанном платке, худенькая, бледная, как призрак. Я не очень удивился, потому что народу шло к озеру много, и принял девушку за скитскую белицу. За Волгой часто бывает так: едешь по деревням – бабы и бабы; и вдруг, между грубыми лицами, глянут странные глаза… В средней России этого нет. Скитская культура создала за Волгой таких девушек.
«Вот она, девица Феврония», – подумал я.
А она тоже любопытно вглядывается в меня, спрашивает о дороге в Шадрине, конечно, только чтобы заговорить: девушке скучно под елью.
– Из какого скита? – спрашиваю.
Нет, она не белица. Она дочь протоиерея, институтка. Идет к Максиму Ивановичу за летописью. Приехала в гости к батюшке во Владимирское и уже три дня борется с раскольниками. Хочет попробовать силы в миссионерской деятельности. Но ничего не выходит. Раскольники не хотят ее слушать, а сыновья батюшки, земские учителя, бранят черносотенкой.
– А вы – верующий? – спрашивает. – Молитесь? Нет. Ужасно. Непременно нужно молиться. Вас родители дурно воспитывали. Привыкайте, еще не поздно.
Щебечет Феврония. Хорошо мне ее слушать после долгих скитаний между людьми с тяжелыми верами. Чудится, будто там, за лесами, верят легко и приятно. Чудятся северные легенды о церкви невидимой при звуках оркестра, северный лес с волшебными огнями, таинственными музыкальными голосами, а главное, белица Феврония, полупрозрачная, в черном скитском платочке.
Щебечет: перестало дождить? Высуньте руку. Не каплет? Нет. Прощайте! Всего, всего хорошего.
Издали будто птицы слетелись, покрыли все холмы сверху донизу, белые, черные, и красные, и всякие птицы.
Сидят чинно, рядами, глядят вместе с елями и соснами в Светлое озеро. Со стороны села к самому берегу подползла ярмарка с красными сарафанами и белыми платками. Тут же возле нее первый высокий холм с православной часовней. Кто-то в пути мне говорил: когда на всех холмах будут такие часовни, то и ярмарка будет на всех холмах, и будущее Светлого озера – Владимирская ярмарка. Мне говорили: когда победит православие, исчезнут староверские ужасы, и озеро Светлоярое вспомнит простые и веселые прежние времена. Говорили: православие есть реформация.
А мне теперь как-то неловко глядеть на этот первый покоренный и теперь православный храм. «Как не стыдится, – думаю я, – эта часовня с крестом быть одной, отстать от других, не скрыться, стоять видимой между соснами и елями возле таинственного озера».
Взбираюсь на покоренный холм. Везде с усердием щелкают подсолнухи, сплевывают на святую землю, кое-где курят. Ни одного староверского аскетического лица, ни одного венка на голове, посвященного богу Яриле. Сидят, тупо глядят перед собою, как животные в стойлах, щелкают, плюют и плюют. А на самом верху холма, возле часовни, с деревянных подмосток длинноволосый, добрый пастырь, с рукой, протянутой к Светлому озеру, проповедует: нужно креститься не двумя, а тремя перстами.
Другой батюшка, плотный и, по фигуре видно, очень практичный, говорит не с горы, а у самой земли в траве между соснами и березами. Вокруг него кружком собрались настоящие староверы, в длинных черных кафтанах.
– Ульян! – узнаю я по рябинам на лице между этими одинаковыми стариками знакомого по Уренским лесам, «райского» начетчика.
– Здравствуй! – приветствует он меня радостно, но не подавая руки. Какие бы мы ни были друзья, человек Спасова согласия не подаст руки: все компромиссы между ними и миром щепотников-никониан раз навсегда порваны. Мне это нравится: что-то и детски наивное, и мужественное сочеталось в этих русских рыцарях, последних, вымирающих лесных стариках. Сочувствую Ульяну, и он понимает, рад мне.
– Как дела? – спрашиваю.
– Плохо… Видишь? – указывает он мне на часовню. – Видишь: жертвенник на святом месте поставили.
– Вавилон! – сочувственно отзываются в толпе.
– На святую землю плюют, – продолжает Ульян.
– Мерзость и запустение, – отзываются другие.
– Озеро за грехи зарастает; видишь, с того берега травка показалась. Торгующие надвигаются.
– Бичом их, Ульян, бичом.
– Истинно, истинно говоришь ты, бичом бы. Да где бич-то взять?
Ульян показал рукой на первый холм, там вырос городовой, и на другой холм, и там вырос. Везде, куда ни покажет лесной мудрец, на всех холмах Светлого озера вырастают люди в форменных фуражках с кокардами.
И еще хуже: вдали на дороге от села к озеру мчится кто-то на двух стальных колесах. Исчез в толпе на ярмарке, показался у края озера, черный, страшный, руками правит, ногами вертит колеса. Мчится и исчезает между двумя святыми холмами.
Скрылось.
– Терпит господь! – простонали старые люди. – При дверях судия! Смерть вселютая серпы точит.
А батюшка устраивается внутри нашего кружка на зеленой траве между деревьями. Уселся на пне, плотный, практичный, ласковый.
– О чем хотите беседовать? – искательно спрашивает одного, другого, третьего.
– О чем хошь, – отвечают ему.
– Ежели о двуперстии?
– Можно о двуперстии.
– Или о церкви?
– Можно о церкви.
Беспокоится батюшка, что кто-нибудь наступит на его новую цилиндрическую шляпу. Поставит туда, поставит сюда. Со всех сторон напирают староверы. Беспокоится он, весь черный внизу, на зеленой траве, в тесном кругу людей и деревьев. Собирается. Ставит шляпу на траву перед собой, на нее кладет открытые часы.
Любопытные смотрят сосны и люди: зачем это?
– Говорить. будем по четверть часа. Помните: пятнадцать минут на единого человека.
– Да, ладно, говори.
Но батюшка все собирается. Книги не все захватил с собой.
– Принеси поскорее Кирилла, – шепчет он своему помощнику, – Кирилла…
Тикают на шляпе часы в ожидании Кирилловой книги. Молчат староверы. Скучно.
– Вы чьи? – обращается ко мне батюшка. И опять спохватился: – Тсс… И Ефрема нет.
– Разве нельзя, – спрашиваю я, – без книг, просто беседовать?
– Не-е-т… нам нельзя… нам нужно действовать выжидательно и иносказательно. Как толковать без Ефрема. Бежи скорей.
Опять тикают часы. Шепчет батюшка что-то на ухо тихонько Ульяну.
– Что он шепнул?
– Чтобы я не ругался.
Почтенный, серьезный Ульян зачем-то ругается. Неужели нельзя без этого обойтись?
– Нельзя. Я за правду ругаюсь. Он страшный… Я гляжу на батюшку, думаю, что же в нем страшного? Ничего. Самый обыкновенный батюшка.
– Ты, Ульян, – начинает он беседу, – искатель истины; нашел ли церковь истинную?
– Нашел. А ты?
– Имею.
– А ведь едина церковь?
– Едина родьшая мя мать.
– А те все бесовские?
– Все от дьявола.
– Ты про свое?
– И ты про свое?
На минуту замолчали. Тикают часы на шляпе. Потом опять начинают. Кажется, не согласия в боге ищут они, а нащупывают друг друга, как бы лучше ударить. Приходят в голову не то шахматные турниры, не то петушиные бои.
– «Ты, Петра, – камень, – делает батюшка наконец решительный ход, – и на сем камне созижду церковь, и врата ада не одолеют ее». Церковь – дева чистая, Иисус Христос ее жених, а вы, еретики, пришли к вдове-блуднице, и так народились дети секты.
– Ульян Иванович, – шепчут староверы своему главарю, – дай ответ, ты нас ведешь, защищайся.
– Погоди, погоди! – кричит Ульян батюшке.
– Погожу, погожу, – соглашается он.
– Наши пастыри, – выступает вперед старовер с поднятою вверх рукой, – волки окаянные, сами с собою согласилися. Жертвенник на святом месте поставили. Но ты беги еретиков Вавилона, слышь, беги.
– Погоди, погоди!
– Не убоимся, не убоимся! – кричит за Ульяном вся толпа.
Шумят высокие сосны, кружком сошлись на холме. Под ним седые старики грудью легли на суковатые костыли, глядят вниз. Там на корточках плотно сомкнулись боевые староверы. И в самом кругу, на зеленой траве, мечется кто-то черный, длинноволосый.
Кричит:
– Едина церковь!
– Погоди, погоди, – отвечают ему. – В Черном море утонули ключи от церкви. Загрязнен зеленый вертоград. Пал Вавилон. Сходятся небесные круги.
– Погоди, погоди!
– Беги еретиков Вавилона.
– Погоди, погоди!
– Пал, пал Вавилон.
Меня заметили с другой горы, узнали приятели из Уренского края. Пришли за мной, тянут за рукав, шепчут: «К нам, на другую гору». Тут поморцы, спасовцы, нетовцы, всякие веры Уренского края. Где-то в лесных дебрях я внимательно выслушал их, и вот только за это одно рады мне одинаково все согласия.
Спускаемся вниз, к озеру. У подножья второй горы, дикой, не завоеванной православием, старушки продают Петров крест и лестовки – черные змейки с разноцветными треугольниками на концах. Я покупаю себе всякие: простые, ременные, шитые бисером, золотом, привешиваю все их к пуговицам и учусь молиться. Все смеются. «Вот без тебя, – говорят, – скушно было, а ты пришел, стало весело». Учат: если перебирать «бубенчики» на лестовке, как я, то в ад попадешь, а если правильно, то в рай. И не переставая нужно шептать: Исусе Христе, обрадованная Мария.
Весь увешанный лестовками, я поднимаюсь на крутой холм между рядами староверов. Здесь все чинно, благообразно, никто не смеет покурить или выплюнуть подсолнух на святую землю. Тихо у озера, слушают праведники слово божие. Едва слышно с другого холма: «Пал, пал Вавилон».
Чтец сидит на самом верху горы. Читает славянские строки, останавливается, объясняет по-своему, всегда заключая учительно: «Вот видишь».
– Вот видишь, – отвечает ему вся гора.
Два злых комара впились в лысину старика, налились его кровью, но он и не знает о них. Он весь поглощен чтением сказания о непокрытых сосудах.
«… Сидит бес смрадный, и смердный, и горестный. „Отчего ты не помоешься?“ – спрашивает его ангел. „Где же я помоюсь? – отвечает бес. – В озере нельзя, в реке нельзя, в болоте нельзя – все ангелы охраняют“. Плохо бы бесу было, но сатана научил его: „В сосудах, без молитвы оставленных, в непокрытых сосудах можно искупаться“».
– Вот видишь, – говорит чтец наверху горы.
– Вот видишь, – отвечают сначала возле него.
– Вот видишь, – бежит вниз по горе.
И все чинные и вдумчивые ряды навеки запоминают: покрывать нужно сосуды с молитвою, а то в них бес искупается.
Гора слушает. А в лесу, вдали от всех, отдельно собралась темная группа; там совершается перед иконой, привешенной к сосне, богослужение. Впереди всех, у самого дерева, у самого огонька, озаренная им, поет девушка. За ней все поют одногласно и мрачно, будто в древнехристианских катакомбах. И еще блестит огонек между соснами, и еще, и еще. Везде в лесу молятся поодиночке, по двое, семьями. Помолятся, погасят свечу и опять приходят к горе слушать чтение.
Читает старик неустанно. Из-за пазухи, из поярковой шляпы, даже из лаптей достает он все новые и новые славянские тетрадки и читает о поминовении родителей, о том, как Авраам переговаривался с грешником в аду и как этому грешнику из рая перекинули жердочку. Но где же грешнику перейти, – свалился в ад. И все это за то, что в свое время на земле не поминал родителей.
– Вот видишь, вот видишь, – гудит староверская гора. И, как глухие отдаленные выстрелы, долетает с православной горы: «Не убоимся, не убоимся».
Кто-то в лаптях, в лохмотьях, с котомкой садится возле меня, рекомендуется «учителем», рассказывает свою жизнь: кого-то «прохватил» в газетах, отставлен от должности, теперь торгует «дешевой толстовщиной» и гигиеной, любит споры на Светлом озере, стоит то за староверов, то за православных, когда как.
Рядом с учителем возле меня усаживается еще один привилегированный, с бледным лицом, красивой черной бородкой. Рекомендуется: путешественник. Был земледельцем, был фабричным, был приказчиком. Потом впал в малодушие, И еще хуже: заразился разными ересями и даже изучал английский язык. После сего пожелал испытать жизнь путешественника и вот уже восьмой год идет.
Пришел лысый чистый старичок, спросил, не знаю ли я дворника Ивана Карповича в Петербурге.
– Не знаю, – ответил я.
– Жаль, – сказал старичок, – человек он очень хороший.
И сел рядом с учителем и путешественником. Еще и еще приходят разные люди, садятся вокруг нас на траве, между сосен. От нас наверху холма, как из центра, должна начаться беседа.
– Вот сны, – сказал путешественник при общем молчании. – Можно ли снам верить?
– Какие сны, – ответил чистый старичок. – Ежели видение Даниила, то как ему не верить.
– То видение, а то сон, – поправил учитель. – Видению можно верить, а сну нельзя. Я уже года два снов не вижу.
– Снов не видит! – бежит по горе. – А еще учителем был.
Идут разговоры про сны. Что значит, когда курица-вещунья запоет? Не петух, а курица. Вот диво-то. К чему это? Или когда собака во сне завоет?
– Крещеные, – кричит чистый старичок, – видел я страшный сон: среди ровного места во прекрасной пустыне лежит шабала…
– Ша-ба-ла!
– В чистом поле лежит шабала, лоб гол.
– Лоб гол.
– Что сей сон значит?
– Значит это: привиделся тебе жрец мерзких идолов, неверный поп, и что смялся ты в вере.
– Правильно. В вере я маленечко смялся. Поп у нас опился, почернел и помер. И другой тоже в поле замерз. А я смялся: грешки есть. Как, думаю, совесть очистить? Нельзя ли самому на себя эпитемью наложить, чтобы без попа?
– Без священства нельзя, – ответил учитель, собирая лоб в гармонику. – Священство – таинство, как же без таинства?
– А спасались же раньше.
– Никто без священства не спасся.
– Врешь, врешь, – вспыхнул чистый старичок. – Тысячи спасались. Тысячи спаслись.
– Ты не искусен спорить, – останавливает учитель.
– Мне грех не дозволяет. А ты святой, так чего ты не на небе?
– Говорил Христос: «Вы соль земли»? – помолчав, спрашивает учитель.
– Говорил.
– Значит, ты без священства все равно, что неосоленное мясо.
– Врешь, врешь, врешь. Тысячи спасались. Если бы я мог донести книги, так я бы тебя тысячу раз уколол. Да где… Больше пуда весу, поди покачайся за двести верст, а без буквы говорить не хочу.
– Други! – крикнул вдруг кто-то назади в ельнике, и затрещал сухими сучьями, и вышел оттуда, большой, рыжий, бледный, с зелеными глазами, настоящий пустынник и медведь, – Други! – крикнул он громко, искренним голосом, весь отдавая себя холму. – Други, ведь тут глубина!
– Глубина, – побежало вниз.
– Слушайте, други: пост вперед или покаяние?
– Пост.
– А потом эпитемья.
– Потом.
– А что, если я себя постом к покаянию приведу, а через покаяние к эпитемье? Сам покаюсь, сам и наложу эпитемью: буду по морозу без шапки ходить али босой, без попов чтобы.
– Без попов чтобы. Без попов, – гудит весь староверский холм.
Опять хлынул нежданный летний дождь, загасил огни в лесу. Встревожил людей на холме.
– Под большие сосны, под большие сосны, – зашумели на холме. Женщины укрываются верхними юбками, как зонтиками, начетчики прячут скорее в котомки старинные книги. Бегут все наверх, под деревья. Устраиваются там. Под каждой сосной и елью в лесу вырастает большой гриб с человеческими глазами.
– Други! – кричит теперь еще громче пустынник и медведь. – Братие, научите меня: зверь теперь царствует или кто?
– Зверь, зверь, зверь, – перекликаются грибы под соснами.
– А тысячу лет в глубину. Все зверь?
– Зверь, – отзывается лес.
– А еще дальше. Зверь?
– Все зверь, – гудит лес.
– Глубина, братие, научите меня: когда связан-то был, цари были праведные?
– Праведные.
– Отчего же гонение было, Нероново и всякое?
– Оттого, что сатана был связан, а слуги развязаны.
– Может ли это быть: сатана связан, а слуги развязаны?
– Здесь мудрость. Кто имеет ум, сочти число зверя, ибо это число человеческое: число его шестьсот шестьдесят шесть.
– Вот то-то, братие, тут глубина, едва ли мы всю глубину-то поймем.
– Здесь мудрость: в глубине зверь, а впереди зверя не будет, и победившие его станут на стеклянное море и заиграют в гусли. И будут там поля, вертограды зеленые и сады без числа.
«… Нет, – думаю я, – это не грибы с человеческими глазами выросли там под соснами, это праведники града невидимого высунули из-под земли свои косматые, бородатые головы».
– И будет знамение на небе, град Иерусалим, новый, сходящий от бога с неба, приготовленный, яко невеста, украшенная для мужа своего.
– Праведники, праведники, праведники, – чуть-чуть перешептываются сосны, березки и ели, роняя большие летние капли, – праведники.
– Дураки! – кричит учитель. – Никакого знамения не было и не будет. Это комета или осколки огненные, иероглифы летающие и больше ничего. Вы неучи, вам географию нужно знать.
– Ответ, дайте ему ответ!
Читает, прислонившись к сосне, седой упрямый дед:
– «Обходит солнце землю и небо…»
– Дураки, – перебивает учитель, – это земля вертится, а солнце стоит.
И подмигивает мне, ученому собрату.
– Барин, – просят меня мудрецы, – дай ему ответ, скажи ему: солнце ходит, а земля стоит; тебе он поверит.
Хочу, всей душой хочу, чтобы земля стояла, а солнце ходило. Хочу помочь старикам, но не могу.
– Нет, дедушка, учитель прав.
– Гадали мы. – хором отвечают старики, – гадали, да не выходит: мысленное ли дело, чтобы земля вертелась.
«В каком я веке?» – спрашиваю себя. Попробовать разве доказать им. Припоминаю гимназические уроки. И вдруг сомнения самые постыдные: не докажу, забыл доказательства. А потом такое неожиданное рассуждение: почему-то доказательство было всю жизнь не нужно. На чем же основана эта моя гордость? Почему мне нужно доказывать этим лесным старикам то, что меня не интересовало. И, быть может, в их понимании, в особом духовном смысле, и вправду земля плоская, а солнце ходит. Нужно разобраться в том, как они верят, что значат эти огромные книги; я их никогда не читал.
– Гадали мы, гадали, – говорят старики, – да не выходит. Какая же она круглая: река Обь на восемьсот верст вниз бежит, Енисей на четыреста, Лена, и все в одну сторону, к океану.
– Меряли мы разумом – не выходит.
– Потому – реки в одну сторону.
– Баяли бы, не круглая, а вроде корыта.
И еще и еще доказательства. Кончено: земля покатая, стоит.
Смотрят на меня лесные мудрецы, ждут моего согласия. Я погружаюсь мысленно в глубину средних веков… Но тут мгновенно воскресают тени Колумба, Коперника и Галилея…
– Нет, – решительно говорю я, – нет, земля круглая, вертится. И месяц круглый…
– Ну, месяц, – подхватывают, – известное дело, круглый.
– Про месяц не говорю.
– И земля круглая, – помогает мне учитель.
– Врешь, – набрасываются на него, – врешь, не круглая. Вода богу служит: рыбу творит; лес служит: ягоду растит; зверь служит, всякая тварь служит, а как же земля?
– Дураки, вам географию нужно, тут атмосфера, тут воздух.
– Врешь, врешь. Тысячу раз врешь. Не верю, что круглая! – кричит чистый старик.
– В географию не очень верю, – сочувствует путешественник.
– И в воздух не верю, – соглашается с ним пустынник.
Слушаю я, слушаю спор: от солнца и земли снова возвращаемся к церкви. Ничего нового: церковь – начало спора, церковь – конец. Те же и те же круги.
Старик, весь белый, с длинною палкой, босой, показался внизу у холма. За ним женщины старые и молодые, тоже все в белом, в самотканом. Идут все на холм, видно, издалека, запоздали, промокли.
Остановились возле нашей сосны. Прислушались.
Разговор шел о церкви.
– Церковь божия невидима, – сказал вдруг белый старик.
Замолчали.
– Покрыл ее господь дланью своею от неверных мира сего. И до пришествия Христова будет невидима.
– Чей он?
– Иконоборец. Непоклонник, – ответил кто-то.
– Какая ваша вера? – спросил я прямо старика. Он так и метнул на меня черными глазами:
– Миссионер?
«Волк», – подумал я и сказал:
– Нет, я не миссионер, я ищу правильную веру.
– Веру? Вот моя вера.
Обернулся лицом к Светлому озеру, перекрестился и стал читать:
– «Верую во единого бога отца…»
Читает старик «Верую» громко, четко, в лесу над озером. Солнце глянуло. Два больших облака, как сосцы доброго зверя, все еще капали над озером.
Читает старик, а мне чудится зеленое поле, опаленное зноем, и коленопреклоненная толпа, и жрец с сверкающим крестом впереди. Дождь, дождь, земле жаждущей дождь. Молятся, а кто-то подвигает черную тучу по небу. И каплет уже.
– У тебя прекрасная вера, – сказал я старику от всей души, когда он кончил «Символ веры».
– Наша вера, – подхватил он, обрадованный, – изначальная, лучше нашей веры нету; весь свет обойдешь – не найдешь.
– Где ты нашел ее?
– Я сам себя крестил, – ответил старик, – крестился в реке.
«Какая эта вера?» – вспоминаю я читанное по расколу, и вот одна такая яркая, изумительная секта мне припоминается: люди отказываются от всего на земле, даже слово «свое» считают за дьявола. За грех почитают всякое замедление, всякое пребывание. И вечно идут.
– Есть, – говорю я старику, – вера еще лучше и еще старше вашей: странники, или бегуны.
– Милый ты мой, – крикнул старик, – да это же мы. Мы странники божий, ни града, ни веси не имам.
И рассказывает мне про свою веру: антихрист завладел теперь всем миром. Церковь божья до пришествия Христова стала невидима.
– Верно, – говорю я старику, – мы тоже думаем, что по нынешним временам церковь не может быть видимая. Есть, – рассказываю я, – один большой, большой человек, который тоже за вас, тоже за такую церковь, граф…
Рассказываю учение. Слушает старик меня долго, внимательно. И волнует меня это посредничество между двумя белыми стариками, там и тут.
– Верно, верно, – твердит лесной старик. – А скажи, как он молится?
– Как он молится? Не знаю…
– Щепотью или по-нашему?
– Он без перстов молится. По-своему.
– По-своему… Скажи ему ты, милый, от меня, он заблуждается. Без этого… – Старик поднял вверх два сухих, твердо сложенных перста. – Скажи ему, без этого он не спасется. Хоть и невидимая церковь, а все-таки церковь. Вот под большим холмиком скрыто Знаменье, а где мы сидим – Здвиженье животворящего креста господня, а подальше – там Успение божьей матери. Без этого нельзя, что ты! Не верь графу. Обегай его.
Задумался белый старик в лесу над озером о далеком графе и шепчет:
– Неси, дитя, в пустыню сердце измождалое, не виждь прелести мира, беги, аки зверь дикий. Затворись в вертепе, и приимет тя пустыня, яко мать чадо свое.
…Понимаю белого старика: церкви под холмами Светлого озера такие же, как и видимые. Но только там все правильно: иконы старинные, от зачатия века стоят, верующие в длинных староверских черных кафтанах, крестятся двумя перстами, попы ходят посолонь, служат на семи просфорах. И звон там, чудесный колокольный звон.
Чья-то рука протянулась ко мне из-за дерева, синяя, с черными жилами. Тянет кто-то упорно, шепчет: не слушай белых, бойся их, красные лучше, белых не слушай.
Тянет и тянет, уводит в лес, и вот стоит передо мной мужик, черный, низкий, корявый.
– Что тебе?
– Пойдем. Я наскажу.
Отводит поглубже в лес. Останавливается, глядит тупо, как невырытый пень. Где-то близко непонятно сговариваются сороки. Дятел долбит. Староверский холм гудит, с православного долетает: «Не убоимся, не убоимся».
– Их вера страшная, – бормочет мне этот странный мужик. – Пришел он, белый, в село. Кричит: «При дверях судия! Топите, братья, деревянных богов. Нету правильных икон, – краски теперь все с антихристовых лап. Топите». И другой пришел белый. Опять свое: «При дверях судия! Топите, братия, медь, складни там, все». И третий пришел. «Одевайте, – говорит, – белую одежу, трубит бездна в трубу, меркнет звездный зрак». Одели белую одежу, ушли в лес. Сидим, дожидаемся, голод долит. Стал чернику собирать. «Не тронь, не тронь, – кричит на меня, – леса удельные, размежеванные, во все концы пролегла цепь антихриста». Женщина старая вроде как померла от голода. Сделали из соснового корья гробик, стали зарывать, а она ножкой дрыгнула. «Ничего, – кричит старшой, – кидай землю, там дойдет». Закидали. «Пошла, – говорит, – душа в рай, душа рада». Те за ним: так и надо, так и надо. Страшно стало, ушел в лес… Бойся белых. И красным не верь. Мне поверь. Я больше всех. Меня сатана испытал. Прытко искушал. «Гляди, – говорит, – на небо». Гляжу вправо – вижу быдто венцы золотые. «Гляди, – говорит, – влево». Гляжу я влево – вижу, быдто месяц раскололся на части. Прытко искушал сатана. Раз дохнул. Спрашивает: «Хорош ли дух? А этот?» – спрашивает. «Ангельский, – отвечаю, – дух». Очень прытко искушал сатана. Голос с неба услыхал, понял: бог со мной прямо без церкви беседует. Не нужно церкви, не верь красным, верь мне. Часто слышу голоса. Сейчас слышу.
«… Не убоимся, не убоимся. Пал, пал Вавилон…» – Не тут… приложи ухо к дереву. Не слышишь. А я так слышу: земля плачет. Вот видишь. Не верь красным, не верь белым. Ох, земля-то плачет. Прытко плачет земля.
– Ну, побеседовал с Прохором Ивановичем? – встречают меня на староверском холме. – Хороший мужик, ему церкви не надо, он прямо с богом беседует, а нашему брату хоть махонькую часовенку, а нужно.
Потом пришли к нам на холм разные сектанты, немоляки, баптисты, штундисты. Пришли студенты с черными бархатными околышами и стали говорить о библейской критике; пришли студенты с синими околышами, заговорили тихонько от стражников про политику. Перебрался даже и батюшка, устроился и тут по-своему, часы опять положил на шляпу. На одно мгновение мелькнула в толпе и Феврония. «Вот как надо молиться, вот как надо молиться», – услыхал я ее тоненький голос и подумал о курсистках на концертах Шаляпина. Устал я и ушел отдохнуть в село до вечера.
У Татьянушки гости собрались. Пьют чай и беседуют. Я прилег на лавку в другой комнате и слышу их осторожный шепот:
– Кто праведный, так и звон слышит.
– Кто праведный.
– Татьяна Горняя слышала; звали к себе.
– Зря не позовут.
– Зря не берут. Умолишь угодников божиих, вот и позовут, и растворятся воротца, а пожалеешь кого, опять станет пустым и диким местом. Собралась Татьяна, надела сарафан черный, кофту черную, плат черный. Простилась. А мы и просим: как примут праведники, дай нам оттуда весточку. Это бывает. Даже письма шлют.
– Очень просто, что шлют.
– Простилась. Внучка Машенька плакала.
– Догадывалась.
– Пришла к озеру к полночи. Дожидается, как вода-то всколыбается. Зачерпнула ведро и пошла в гору. И вот-то звону!
– Ма-атушки.
– И вот-то звону! Волосы вянут. У них-то заутреню служат. У них правильно.
– Правильно.
– Идет Татьяна, молитву творит. А где больший-то холмик, стоит белый старик, вроде Миколая Угодника, рукой машет.
– Рукой машет.
– И ворота открыли. Колокола гудят. Праведники встречают: иди к нам, иди к нам, Татьянушка.
– Господи.
– Она тут и вспомни про внучку: вот бы мне сюда Машеньку.
– Машеньку.
– И только помянула, глядит, опять озеро и на горах сосны стоят.
– И звона нету?
– Ничего нету. Как был лес, так и есть. Дикое место, пустое.
Я пробудился под вечер и пошел к Светлому озеру. За день дождь принимался раз пять, грязь в селе по колено. Хрустальные поповны по-прежнему глядят на меня в окно и щелкают подсолнухи. Луг после дождя еще лучше: кричат перепела, цветы пахнут небывалою забытою родиной. В лесу над озером темнеет. Между стволами везде огни. Перед березой на коленях у самого Светлого озера горячо молится старушка.
Перед березой. Что это значит? Обхожу дерево и старушку; думаю, где-нибудь на суку да висит же икона. Нет. Молится просто дереву.
– Бабушка, – спрашиваю ее осторожно, – разве можно так… дереву, это святая березка?
– Не березка, родимый, – отвечает бабушка, – не березка, а тут воротца. Вот где больший-то холмик, там Знаменье, а там вон Здвиженье, а там Успение.
Зажигает свечку. Идет по берегу вокруг озера. Перебирает лестовку. Шепчет молитву. Я иду за старушкой. Изгородь на пути. Перелезаем и идем дальше. Озеро около версты в окружности. На половине пути опять изгородь, опять перелезает старушка, падает, свечка гаснет. Зажигаю ей свечку, помогаю. Хочу заговорить с ней о грешной травке у берега, спрашиваю: не за грехи ли зарастает Светлое озеро?
Молчит старушка. Перебирает лестовку и еще усерднее шепчет: «Обрадованная Мария». Может быть, звон слышит и праведники зовут ее.
Опять молится перед той же березкой. Может быть, видит, открываются ворота, встречают, зовут: «Иди, иди к нам».
И будто вижу я город: окна забиты, ни души на улице, ровный бледный свет, как белою ночью. Идут черные праведники к церкви. Звонят и зовут: «Гряди, гряди, святая старушка. У нас хорошо, у нас все правильно, служба длинная, образа старинные, от зачатия века стоят…»
– Бабушка, неужели тут, правда, воротца?
– И недалеко, родимый, всего четверти на две; в прежние времена пахали тут, сказывают, сохами за кресты цеплялись. Близко, а невидимо.
Еще молится. Ищет что-то рукой у корней дерева.
– Что там?
– Тут трещинка в земле. Ты посвети, а я пошарю.
Находим трещинку.
Опускает копеечку в землю, яйцо опускает куриное. Опять молится.
– Примите, праведные люди, милостыню от грешной старушки.
Я тоже опускаю медные деньги праведникам в трещину под березкой. Теперь я верю в невидимый град. Не такой, как у старушки, более бледный, как вторая отраженная радуга, но все-таки город.
Рада бабушка, что я опустил свою лепту в город невидимый. Делится со мной свечкой:
– Поставь, – говорит, – поставь.
– Куда же поставить?
– Куда хочешь. Хоть к Знаменью, хоть к Здвиженью или к Успению. Против этого холмика – Знаменье.
Берет щепку, прилепляет восковую свечу и пускает по озеру. Я делаю то же. Огонек старушки плывет к Знаменью. Мой тоже туда. Проходит по берегу еще кто-то со свечой, и еще, и еще. Праведники невидимого града выходят из темного леса с огнями. Сотни и сотни свечей. Идут безмолвленно вокруг Святого озера, перебирают лестовки, молитву творят.
И плывут по воде на лучинках огни к Успению, к Здвиженью, к Знаменью. Больше к Знаменью.
В шестой или седьмой раз хлынул дождь. Погасил все огни в лесу и на озере. Я долго стоял под сосной, пока и под ней не промок. Потом перебежал к костру на другом холме. Но дождь скоро залил и костер. Настала полная тьма. Стали расходиться и сталкиваться друг с другом. На что-то мягкое, живое я наступил. Нагнулся и испугался: на берегу озера под проливным дождем в грязи лежала женщина, лицом к земле.
– Не трогайте, не трогайте ее, – сказал мне кто-то, – она звон слушает.
Я оглянулся и опять испугался: водяник, настоящий водяник без шапки стоял передо мной. Вода так и лилась по его длинным волосам.
– Батюшка, – узнал я, – вы?
– Представьте себе, – сказал он, – раскольники мою шляпу стянули.
– А часы? – тревожно спросил я, вспоминая беседу с часами на новой шляпе.
– Часы целы. Да это не из корысти. Глупые шутки ихние.
Утром перед отъездом я пришел проститься со Светлым озером. Оно лежало опять пустынное и одинокое. Ярмарки не было. Праведники все ушли в землю. Остались только две женщины в лаптях и с котомками. Я подошел к ним. Плачут: опоздали.
– Где тут праведники-то живут? – спрашивают меня.
– Вот под большим холмиком, – говорю я, – Здвиженье.
– Здвиженье.
– А под этим – Успение.
– Успение.
– А под этим – Знаменье.
– Знаменье.
– А вот тут воротца… Тут…
Было яркое утро. Ни рябинки не было на круглой святой чаше в зубчатой раме. Все время, когда я потом шел по лугу, на меня глядело спокойное светлое око с длинными зелеными ресницами.
Глава VI. Согласие Дмитрия Ивановича
На Светлом озере говорили о каких-то немоляках-иконоборцах, и я спросил Татьянушку, кто они такие.
– Иродовы дети, – ответила спокойно старушка, – слуги антихриста. Иконам не поклоняются, святых отцов не чтут, никому не веруют.
– Может быть, богу, сказал я.
– Может быть, – согласилась она, поджимая недовольно сухую губу. – Богу… – помолчав, продолжала старуха, – да что в том… Бог один не спасет. Без угодников нельзя. Ты размысли: сколько в один только день со всего света к нему покойников преставляется, Сколько, думаешь?
– Очень много.
– Вот видишь. Мысленное ли дело ему одному без угодников со всеми управиться?
– Бог всемогущ, – попробовал я возразить.
– Да что ты заладил все: бог да бог. – разгневалась старая. – Он ведь тоже неладно делал, с ним одним далеко не уйдешь. Без Истинного нельзя. Иисус Христос – как адвокат за нас перед богом.
«Адвокат!» – обрадовался я, узнав образ истинного народного Христа.
Немного спустя после этого разговора я слушал горячий спор староверов на холмах возле Светлого озера. Сидел я в отдалении. Начетчики кричали, вскакивали с мест, чуть-чуть не хватали друг друга за бороды. Громадным петушиным боем рисовал я себе это состязание под соснами. В голове, утомленной впечатлениями этих именин Светлого озера, гвоздем сидели последние слова бегуна:
– Антихрист овладел миром; нужно спасаться в крестьянских лесах; в удельных лесах и казенных нельзя спастись – везде теперь пролегла цепь антихриста, всюду просеки.
Староверы шумели.
И вот чья-то спокойная проповедь стала тушить спор, как вода при пожаре. Прислушается один и стихнет. Прислушается другой и стихнет.
– Чей он? – спрашивают. – Какая это вера? Один за другим все смолкают; на середину круга из толпы выходит большой старик в лаптях и говорит о Христе:
– Он – Слово, он – Дух.
Ржавая церковная цепь из множества виденных мной в лесах староверов разорвалась. Наконец-то я почувствовал себя на свободе. «Назади, – думал я, – Христос-адвокат, русский простонародно-церковный, а теперь он – Слово, перелетевшее девятнадцать веков истории над церковными маковками».
– Чей ты? Какая твоя вера? – теснятся все вокруг проповедника.
– Поклоняюсь господу в Духе и Истине.
– А святых отцов почитаешь?
– Нет, не почитаю.
– Иконам поклоняешься?
– Нет, не поклоняюсь. И вы не кланяйтесь идолам, ни деревянным, ни медным, ни серебряным. Поклоняйтесь в Духе и Истине, и будете сынами божиими.
– Непоклонник, иконоборец, немоляка, – заговорили староверы.
На другой день рано утром Татьянушка подкралась ко мне, спящему, и на самое ухо шепнула свое: «Господи, Иисусе Христе».
Я вздрогнул.
– Не пугайся, – шепчет старуха, – немоляка пришел, говорит: прытко нужно видеть тебя.
Я впустил немоляку.
Вошел тот самый старик, который вчера проповедовал светлого и свободного бога староверам. Теперь передо мною был обыкновенный лесной мужик с нечесаной, клочковатой рыжей бородой, в лаптях.
– Пришел к тебе узнать, – говорит он, – не из Питера ли будешь?
«Наверно, – подумал я, – он хочет передать поклон какому-нибудь родственнику – дворнику или швейцару».
– Будешь там, – просит старик, – поклонись от нас Мерёжскому.
– М – у, писателю? – изумляюсь я.
– Ему самому. Скажи: Дмитрий Иванович кланяется.
Как сон, мелькнуло во мне воспоминание о слышанном и читанном про поездку одного из руководителей Религиозно-философского общества на Светлое озеро.
– Кланяйся ему, – просит старик, – и жене его, она памятливая: раз видела меня у Светлого озера, а на другой день прохожу мимо их дома, говорит в окно: «Вот Дмитрий Иванович идет, заходи, чайком попою». Спасибо ей. Скажи: «Дмитрий Иванович кланяется, благодарит за чай и за сахар».
– А он-то как, он? – стараюсь я отвлечь разговор от незнакомой мне супруги писателя.
– И он памятливый. У них все сообща. Книжки нам высылают, журнал, сразу в шесть мест. Они к нам пишут, мы к ним.
– Он вам пишет! – изумляюсь я, представляя родоначальника русских «декадентов» в переписке с костромскими мужиками.
– Пишет. И мы пишем и жалобимся ему.
– Что же он пишет? – пытаю я, как на допросе.
– Пишет он: Христа нужно во плоти разуметь.
– А вы?
– А мы пишем: по духу. Он гнет к себе, а мы его к нам перетягиваем.
– Не понимаю.
– Я тебя научу. Бери бумагу и карандаш. Вынимает из котомки Библию, дает мне, называет главы, стихи, зачала, прологи, просит все записывать.
– Вот и его я тоже так учил, да куда, не дается погладиться. Все от себя читает, без книг. «Нехорошо, – говорим ему, – без буквы, можно ошибиться». – «Нет, – кричит, – я не ошибусь, смотрите в книгу, так ли читаю». Глядим в букву: все верно. Умнеющий господин, вот только Христос-то его маленечко плотян.
– Не понимаю, не понимаю.
– Не спеши, поймешь. Он плотского Христа признает, а, по-нашему, Христа по плоти нельзя разуметь. Коли Христос плотян, так он мужик, а коли мужик, так на что он нам нужен, мужиков и так довольно. Вот ежели по-нашему, по духу, разуметь, так и мужик может быть первеющей богородицей.
– Не понимаю, ничего не понимаю.
– Не тужи. Такую премудрость сразу никто не поймет. Поедем со мной – научу. У меня телега, тихенько поедем, книгу развернем и будем читать. Заедем в Малиновку к Алексею Ларионовичу, потом к Николаю Андреевичу, потом к Федору Ивановичу. У них есть и письмо Мережского. Прочтешь, разумеешь – и нас с ним рассудишь. Поедем, я тебя по всем стихиям мира проведу.
Стал я расспрашивать о «стихиях», и оказалось, что все они на пути от Светлого озера к городу Семенову. Мой обратный путь из града невидимого домой как раз тут и был. Я никогда не упускал случая в пути стать поближе к жизни. Обрадовался случаю ехать по старинным местам раскола на телеге, с Библией, в обществе таинственного вероучителя, имеющего связь с людьми европейской культуры.
Собрался я в пять минут, попил чаю с Дмитрием Ивановичем, простился с Татьянушкой, и телега наша медленно двинулась в путь по стихиям мира.
За селом в лугах оглянулся я по сторонам и порадовался: трава у них в Заволжье хороша. Припомнился тот мой первый день на Волге, когда я с другого – «горного» – берега глядел сюда, «в леса».
Этот Семеновский уезд был сердцем староверской жизни. Там, где я проехал, в Ветлужских и Уренских лесах, теперь только отзвуки былого величия здешних Комаровских и других скитов.
Староверский быт всегда говорит моему сердцу о возможном, но упущенном счастии русского народа. «Раскольники», плохо понимаемые обществом и историей, только по виду неласковы. А в существе своем они наивные лесные гномы.
Телега наша еле-еле движется по лугавой дороге. Цветам поместиться негде: из низин, из пойм выбегают на угоры в яровые, даже в рожь. Всюду сине-желто-зеленые полоски, змеистые ручьи.
Въехали в поле ржи. Вдали над колосьями показались чья-то шляпа и длинные волосы. Немного спустя дорога выпрямилась, и показался весь батюшка, длинный, тонкий, как веха.
Необычным кажется мне его появление в «очаге раскола», его существование среди этого непокорного народа. Здесь после стольких жалоб в пути на «попов» мне теперь стало ясно, что деятельность православных батюшек, даже в лучшем случае, ведет к ослаблению религиозного чувства.
Шествует батюшка, машет широкими рукавами. За ним плетется женщина с двумя большими глиняными горшками.
За что-то жаль батюшку. Кажется, за рыже-зеленое пятно, выжженное солнцем на его сутулой спине. Но Дмитрий Иванович в другом настроении. Он по-своему реформатор старообрядчества. Глядит с лукавой усмешкой. Учительская важность сбегает с лица. Подмигивая мне, говорит:
– Сметанку собирал.
– Как сметанку? – удивляюсь я. – У нас священники сметаной не собирают, у нас хлебом.
– У вас места хлебные, а как у нас хлеба меньше вашего родится, так сметанкой докладывают, курами, яйцами, гусями, льном. Он всякую вещь берет. Он ни от чего не откажется.
Молча, не глядя друг другу в лицо, без поклонов, расходятся они: учитель народный, выросший из дикого семени, и тот, посеянный.
Рожь привела нас вплотную к селу.
Что тут за села! Даже на далеком, знакомом мне Беломорском Севере не сохранился так старинный русский быт. Тут самая маленькая лачужка украшена хитрейшей резьбой. У ворот под навесами сидят везде семьи ремесленников-ложечников, в кожаных фартуках, с инструментами в руках. Колют, строгают, чистят. Не очень даже глазеют на проезжего. Похоже, будто у них есть особое деловое семейное самолюбие: стоит немного попристальней глядеть на работу, сейчас же начинают строгать и чистить усерднее. Ложки так и летят в большие кучи перед избами. Горы ложек готовит Семеновский уезд. Пахнет стружками. Глядят далекие прошедшие века ремесленного быта. Здесь проповедует Дмитрий Иванович.
Зажиточный ложкарь Феофан Артемьевич, личный приятель Дмитрия Ивановича, но его религиозный противник, увидав нашу телегу, отложил работу. Встал с камня – головой достал до подоконника, украшенного резными хвостатыми чертиками.
– Заходите, – зовет, – побеседуем.
Половик уводит нас в избу. Благопристойнейшая тишина встречает нас на «чистой» половине старообрядца.
Дмитрий Иванович по пути рассказал мне: Феофан Артемьевич вроде староверского попа, придерживается Спасова согласия изо всей мочи, имеет свое кладбище.
Это, узнаю я, знакомый тип, один из вымирающих лесных стариков. Скоро они совершенно исчезнут с лица земли, большие дети, русские лесные рыцари. Вот тогда, если только суждено быть русской культуре, их воскресит какой-нибудь новый Вальтер Скотт. Замков, развалин, турниров не будет в романах, но зато лесные вертепы, могучие реки, полуразрушенные, заросшие мохом часовенки с кроткими, ручными, почти верующими медведями.
Я отношусь к Феофану Артемьевичу как к рыцарю. Он ко мне – как к знатному гостю. Показывает священные знаки на стенах, точно феодальный владелец гербы. Прежде всего птицы Сирии и Алконост за стеклом в черной рамке.
– Это певчие птицы, райские, – подводит хозяин к рисунку, молчанием прося вдуматься в таинственное значение птиц. – Есть такие птицы, – заключает он наше продолжительное созерцание и подводит к изображению старообрядческой лестовки, с подробным описанием пользования ею.
Здесь мы тоже долго молчим и наконец переходим к схематическому изображению какого-то великанша, разделенного такими же чертами, как быки в поваренных книгах.
– Голиаф?
– Нет. Сей истукан привиделся пророку Даниилу при царе Навуходоносоре. Сей истукан огромен, стоял в блеске, и страшен был вид его. Голова – чистое золото, голени…
С глубоким изумлением слушаю я рассказ хозяина, чувствую полноту веры в самую настоящую медь, в подлинные голени, чрево, серебро. Чувствую страшную силу, повернутую в сторону, темную, как ночь без звезд.
– Эти клетки, – рассказывает он, – суть царства и звери. Первый зверь – как лев, у него крылья орлиные, второй – как медведь, ему сказано: ешь мяса много. Третий зверь – как барс, на спине его четыре птичьих крыла и четыре головы, а четвертый зверь…
Хозяин так поглядел на меня, что я понял: в этом-то четвертом звере и заключается живой смысл истукана, его реальное земное народное значение. У этого зверя десять рогов и еще небольшой рог и на нем маленькая, похожая на детскую куколку, головка. Палец хозяина остановился именно тут.
– Понимаешь?
– Понимаю, – отвечаю я, – этот теперь?..
– Этот теперь царствует, – ответил Феофан Артемьевич, – и знай, сын человеческий, что видение сие относится к концу времени.
– Ой ли! – не выдержал наконец Дмитрий Иванович. – Так ли?
– Так лежит слово божие.
– Слово божие и лежит приточно, – говорит Дмитрий Иванович и лукаво подмигивает мне. И становится похожим на сельского старшину, мигнувшего писарю.
Старовер принимает вызов. Подходит к Библии, раскрывает, читает. Гремит пророк Исайя. Молодеет старый ложкарь, щеки краснеют, как у юноши, глаза горят, голос звенит, грудь ходит, и постоянно падают с кожаного фартука мелкие белые стружки на желтые страницы Священного писания.
– Все это было, – повторяет старовер, перевертывая страницы.
– Все это будет, – неизменно откликается Дмитрий Иванович.
– О старых богах и не смыслят, – гремит Исайя.
– О тех и баить не будем, – соглашается Дмитрий Иванович.
Слушаю я спор и так объясняю себе все это: для старовера сказанное в Священном писании совершилось, как есть в жизни; все это было, и все это ведет к настоящему русскому зверю; для Дмитрия Ивановича пророчества относятся к чему-то постоянно повторяющемуся в жизни, к чему-то вечно рождающемуся.
– «Остались, – читает старовер, – Едом и Моав, дети Адамовы».
– Останутся, – поправляет Дмитрий Иванович.
«Это мы, – думает один, – дети Адама, последние русские старики, ожидающие антихриста с рогами». – «Это мы, – думает другой, – немногие, познавшие истину».
– Остались.
– Останутся.
– Да как же останутся-то? Слушай.
И вновь читает ту же главу целиком.
– Видишь, остались, все это было.
– Останутся, все это будет всегда.
Тягостно слушать неверующему.
– Довольно, – прошу я, – ради бога, довольно, ехать пора.
– Еще одну главу, – просит хозяин и читает.
– Довольно, довольно, – умоляю я, чувствуя приступ головной боли.
– Еще одну.
– Нет.
Выходим решительно из избы. Садимся в телегу.
Но хозяин знать ничего не хочет. Кладет книгу на грядку телеги, читает новую главу. Один за другим оставляют другие ложкари свои инструменты, сходятся, окружают телегу, одни ближе к Дмитрию Ивановичу, другие – к староверу.
– Все это было, – говорят одни.
– Все это будет, – говорят другие, – все это притча. «Ничто же глагола без притчи».
Кричат. Трясут скрученными в пряди допетровскими бородами. И падают свежие стружки, как снег, с бород на фартуки, с фартуков на землю. Пахнет еловой смолой.
День удался. Светло. Жаворонки поют. Телега наша еле ползет по грязной дороге. Дмитрий Иванович не в шутку принимается учить меня Священному писанию. Сам он неграмотный, но Библию знает всю до тонкости. Раньше, когда еще не понимал в ней, нанимал для чтения мальчика. Тот читает, а Дмитрий Иванович «наставит ухо» – другим он не слышит – и внимает. Теперь вместо мальчика читаю я, но вероучитель мной недоволен. «Голос не тот», – останавливает он меня чуть не на каждой строчке. Кроме того, я постоянно путаю главы: с далеких гимназических времен я успел перезабыть славянские обозначения цифр. Учитель мой постепенно теряет всякое ко мне уважение, покачивает головой, постоянно вспоминая писателя «Мережского».
Немного неловко: «ученый человек», а не могу прочесть Библию правильно.
Извиняю себя только тем, что и настоящие почтенные ученые не прочтут Дмитрию Ивановичу правильным голосом. С мужиками вообще принято почему-то говорить о нужде и землице.
Читаем… Маленькие серые глазки косматого учителя сверлят воздух, как два острых буравчика. Тексты Писания как ремнями укручивают мозги. Остановиться неделикатно. Протягиваю руку ко ржи, глажу колосья, словно шерсть спокойного зверя. По старой привычке тут же нащупываю зерна: наливает.
– Рожь наливает! – говорю я, обрадованный, легкомысленно забывая острые буравчики учителя.
– Слава богу, – отвечает он. – Цвела хорошо. Сверху цвела. Значит, цены будут высокие.
Есть такая примета: если цветы ржи, золотые пружинки, висят на верху колоса, то цены будут высокие, если на низу – низкие. Цветы были на верху… Хорошо.
И, кажется, так бы просто перейти от хозяйства крестьянского к хозяйству Отца. Нет… До небесных цветов далеко. Пока мы выбьемся из темного лабиринта «буквы», пропадут всякие земные цветы. Но не так буква страшна, как толкование ее Дмитрием Ивановичем. Слушает он, косматый и мудрый, так, что земля умнеет. А начнет толковать… «Страшная, – думаю я, – эта книга, правду говорит про нее народ. Кто станет читать ее, проклянет небо и землю».
– Не понимаю, Дмитрий Иванович, ей-богу, не понимаю, откуда ты берешь все это.
– Я на себя веду, – отвечает он.
– На себя?
– Все на себя перевожу. Там все обо мне писано, о человеке.
О человеке! Как неясный сон, прошла передо мной духовная революция мальчиков, те же попытки в школе объяснить символически все эти совершенно невероятные, сказочные места Библии.
– Дмитрий Иванович, – говорю я, – кажется, я тебя понимаю.
– Слава богу, – обрадовался он. – Вы же понятливые, вы же ученые. Слово божие лежит приточно, рано или поздно все должно на меня обернуться.
Так и есть, радуюсь я, попал на истинный путь; и тут же припоминаю о реформации: на место иконы становится Библия, понимаемая духовно, на место объективного авторитета – субъективное сознание, на место «плоти» – «дух». Больше всего в пути доставляют счастья эти мгновения открытия, эти мгновенные полеты от каких-нибудь костромских мужиков к Лютеру.
– Вот оно что! – радуюсь я.
– В-о-от оно что! – подхватывает за мной учитель реформации. – «Ничто же глагола без притчи», сказано в Евангелии, все притчи.
– А как же Ветхий завет, Бытие? Что значит Адам?
– Адам – значит мой твердый разум. Понял?
– А Ева?
– А Ева – мой же слабый разум. Древо – Завет Ветхий, от коего можно ведать добро и зло, как разуметь. Бог сотворил твердый разум, впустил в Писание – в рай и сам почил: разбирайся как знаешь. Стал Адам читать книгу. Ох! – как трудно Адаму. И напал на него сон – неразумие, и во сне отделилось легкомыслие – Ева, и соблазнила твердый Адамов разум жена, значит, слабый разум.
– Вот оно что!
– В-о-от оно что! Все это, дорогой мой, тут было со мной же самим, а не на стороне. А мы-то думали: сатана – так и с рогами, страшный черт Хвать! – а это плоть моя, пока была не покорена Христом. Родился Христос, значит, родился во мне Дух, Слово, и стало моей плотью, и стало жить во мне. Где Христос, там и антихрист. Мы гадали, вот он придет, вот завладает. Хвать! – а Христос-то и антихрист ровесники и товарищи, за одним столом сидят, из одной чашки едят, одной ложкой хлебают. Во-от оно что!
– Вот оно что! – одобряю я и начинаю про себя упражняться в переводе с плоти на дух. «Рождество Христово, – размышляю я, – переведено; как бы теперь перевести воскресение. Да, конечно же, воскресение Адама из неведения в ведение».
– Верно! – хвалит учитель.
Перевожу еще что-то и еще. Останавливает меня только загадочная фраза учителя:
– Всякий мужик может быть богородицей.
Но через минуту я и это разгадываю.
– Богородица, – говорю я, – значит, я сам же, рождающий Христа.
– Верно, – удивился учитель. – Ну и башка же у тебя разработана.
Обрадовался Дмитрий Иванович так, что забыл и про лошадь. Она тоже, довольная, остановилась, оглянулась, подумала: «Чепуха», – и окунула голову в рожь.
– А можешь ли отгадать, – задает мне учитель новый и самый трудный вопрос, – кто были первые и последние?
– Первые и последние… Не знаю… Извини. Сразу трудно все понять.
– Где тут сразу понять, – извиняет учитель. – Первые – значит, буква (Писание), а последние – разумение. Когда все книги перечитаешь и каждое слово в них переведешь, наступает разумение, Христово воскресение
– Вот оно что!
– Вот оно что. Я теперь все перевел, сорок книг прочел и Библию всю на дух перевел, теперь я воскрес из мертвых, теперь у меня вечная Пасха.
Едем мы так с Дмитрием Ивановичем полями и перелесками. То примемся Библию по-своему переводить с плоти на дух, с вещественного неба на духовного человека, то разговоримся о хозяйстве, о наделах, о косых изгородях. В средней России, в которой я вырос, все это не так.
Не может же быть, чтобы жизнь этого мудрого человека прошла в переводе Библии, как пустой анекдот. Не может же быть, чтобы это не имело значения глубокого. Но как уловить его?
– Тот писатель, – спрашиваю я, – он тоже на дух все перевел?
– Много, – ответил учитель, – а не все. Он плоти прихватывает. Христос его плотян.
Есть ощущение бога, который родится на черте, отделяющей природу от человека. Тут он вечно рождается. Голубой лентой идут мимо него только дети и вечно исчезают за черной ширмой. Вот про такого-то бога хочется услышать от Дмитрия Ивановича. Но нет. Тот духовный человек или бог, на которого он переводит Библию, церковь, всю эту «плоть», рождается прямо за ширмами. И не могу я понять: на что только занадобился здоровому земледельцу Дмитрию Ивановичу такой скучный бог? Гляжу на старика сбоку. Мысленно одеваю его в одежду культурного человека, умываю, узнаю в нем какого-то очень знакомого профессора. «Может быть, – думаю, – там внутри него вовсе не религиозное искание, может быть, „перевод“ Библии – просто игра его не направленных методической культурой мозговых клеточек. Может быть, он жертва общественной несуразности или рока, посмеявшихся над стариком, определивших его жизнь для перевода сорока огромных книг на дух?»
Едем медленно, едва-едва обгоняем возвращающихся по сухим боковым тропинкам босых паломников со Светлого озера.
Наконец в одном перелеске встречаем старшего ученика Дмитрия Ивановича, тихонравного Николая Андреевича; сидит он на пне и безмолвно нам улыбается. Знает, что едем, ждет. В руках у него, кроме огромной книжищи, узелок.
– Николай Андреевич, – мигает и шепчет мне учитель, – здорово плоти прихватывает, начетчик райский, а освободиться не может.
Старший ученик, прикрываясь тихой улыбочкой, развертывает узелок, показывает новое, купленное у баптистов, Евангелие и картон с золотыми буквами: «Бог есть любовь». Порадовались встрече, едем дальше, ученик босой идет рядом с телегой по сухой тропе.
В ближайшей деревне, Малиновке, встречает нас другой ученик, Алексей Ларионович, бледный, с острой жидкой бородой, резкий и взвинченный.
– Этот, – рекомендует учитель, – далеко ушел.
В следующей деревне Алексей Ларионович исчезает и приводит недавно обращенного молодого ученика, Федора Ивановича.
– Этот, – любовно говорит учитель, – молодой, а от всего освободился.
Приходят другие ученики, ничем не замечательные, с широкими и жидкими бородами, с черными и светлыми.
Телега, окруженная босыми учениками, направляется в Шалдеж, где живет покровитель немоляков Иван Иванович.
Знаменитые Керженские леса в той части Семеновского уезда, где мы едем, вырублены. Сохранились пни, перелески и отдельные, ни к чему среди поля стоящие, деревья. Прежде в Керженских лесах (теперь в Ветлужских), как медведи, скрывались пустынники; никто из них, наверное, и не думал о духовном смысле Священного писания. Теперь же, когда исчезли лесные таинственные стены, прежние отшельники, словно рыба в спущенном пруду, осели на пни, глядят в огромные книжищи и переводят, переводят с «плоти» на «дух».
В этом переводе Писания с бога на человека, с плоти на дух, умирает пустынник, похожий на медведя, рождается не простой человек. Имя бога, без толкования, не принимает.
– Слава богу, – говорю я спутникам, – денек славный выдался.
Николай Андреевич оглядывает поля, луга, товарищей, останавливает взгляд на молодом Федоре Ивановиче и говорит:
– А вот некоторые бают, хозяина нету, так стоит хозяйство порожнее. Может ли это быть?
– Много вы, Николай Андреевич, перевели, – ответил Федор Иванович, – а Сам-то у вас в женском сарафане остался.
– Вы весь во плоти, – поддержал своего друга Алексей Ларионович, – воистину на вас прытко длинный сарафан.
Одни ученики поддерживают Алексея Ларионовича, другие Федора Ивановича, а сам косматый учитель лукаво перемигивается, подсмеивается и даже слегка похрюкивает. Всю правду он знает и еще сверх нее что-то, а потому молчит.
«Вот, – размышляю я, – мы до сих пор говорили о Христе, но как же Отца-то перевести? Если и его перевести на дух, то хозяйство рассыплется. Как жить мужику, земледельцу без хозяина? И жаль мне Отца».
– Кто же тогда, – спрашиваю я Федора Ивановича, – сотворил человека?
– Слово, – отвечает Федор Иванович, – от него и начался духовный человек. Вначале было Слово.
– Духовный… а тот… обыкновенный простой человек?
– Ветхий человек? Так тот же из глины сотворен. Он что… Он – пшик!
– А там? За гробом?
– Пшик по всем статьям. Писание про нашу, про здешнюю жизнь писано.
– Господь всемогущ, – строго сказал Николай Андреевич, – что там – неизвестно. Все на притчу нельзя перевести.
– Все притча! – крикнул в ответ Федор Иванович. – Гроб – одно только неразумение наше, читай книги, освобождайся. Когда все прочтешь и переведешь, настанет вечная жизнь, духовная, а не телесная.
Довольный, поглядывает на молодого ученика Алексей Ларионович; довольный, лукаво похрюкивает сам косматый учитель и одобряет: освободился, молодец, освободился, от всего освободился. Ехидно улыбается Николай Андреевич и ставит коварный вопрос: что значит евангельское «на что вы освободили осла; он был богу нужен»?
– Освободили осла, – ответил, не подумав, обрадованный успехом Федор Иванович, – значит, последние лямки отвязали, выпустили на свободу.
– Вот видите, – обращается ко мне Николай Андреевич, – он и осла на себя перевел.
– Вы все разные, – говорю я, – какое же это согласие?
– Все разные, все до одного разные, – подхватывает Федор Иванович. – Бог есть свобода, а они связанные, не получили мужества: Алексей Ларионович почти вовсе скинул сарафан, другой из-под него колено выставил, третий побольше обнажился, только вот Николай Андреевич у нас весь в бабьем одеянии.
– Так на что же осла-то освободили? – поддразнивает Николай Андреич.
– А вот на что, – отвечает молодой человек. – Для свободы освободили, для духа; буква убивает, дух животворит. Путался я в этом Писании, тонул в нем, аки олово в Черном море. Читаю: Черное море расступилось. Может ли это быть? Оно-то не узко. Хвать! А море-то буква. Я тонул в ней, путался в длинном женском сарафане. Тонул, а дух творил и освободил. Не нужно мне ни икон, ни Библии, я так все понимаю. Не боюсь я теперь, что и в муку пойду; умрем мы, как лошади, как коровы, как мухи, как тараканы.
– Так на что же тебе просвещаться, когда все одинаковы: и вор, и начетчик, и лошадь.
– Нет, я благодарю Писание, оно меня освободило, как камень отвалило.
– Федор Иванович, – с гордостью сказал его учитель Алексей Ларионович, – от всего освободился.
– На что вы освободили осла, – пробормотал тихонравный Николай Андреевич.
А сам учитель, вождь немоляк, поворачивает свою косматую голову, посмеивается, похрюкивает. И опять я мысленно одеваю его в одежду культурного человека, умываю и силюсь вспомнить, на какого это очень знакомого профессора похож он?
В селе Шалдеж мы встретились с баптистами. Пришел от них посланный, зовет послушать богослужение.
«Вот он, – подумал я на первых порах, – исход для немоляк, вот она, приготовленная европейской реформацией, удобная секта для объединения во Христе людей, потерявших веру в „плоть“».
Но я ошибся: немоляки и слышать не хотят о баптистах. Новые обряды им кажутся фальшивой подделкой старых.
Даже такая тоска по плоти, как у Николая Андреевича, недостаточна для перехода к баптистам.
Но все-таки, говорят, немоляки из других согласий многие переходят. Из староверства переходят в новую австрийскую церковь, из немолячества в баптизм. Одних притягивает церковь видимая, со старинными образами и длинными службами, других – «плотской Христос», объединяющий, успокаивающий размечтавшихся немоляк.
Согласие Дмитрия Ивановича отказывается посетить баптистов и желает ехать прямо же к своему покровителю Ивану Ивановичу. Я уговариваю. Мне хочется сравнить европейскую и русскую реформацию.
– Для чего? – не одобряет учитель.
– Как для чего? – поддерживает меня Федор Иванович. – Известно для чего: для разрезу.
– Разве что для разрезу, – колеблется учитель.
– Без разрезу, пожалуй, неловко оставить, – соглашаются все остальные.
Сговариваются между собой, выбирают Алексея Ларионовича. Он за всех даст разрез.
В этой обыкновенной русской избе есть признаки лютеранской церкви: ряды расставленных лавок, столик, похожий на кафедру. Божница завешена ситцем. Остальное все русское: обрывок розовой театральной афиши, приглашающей на «Лакомый кусочек», святой Серафим с медведем, громадная печь, возле нее бабушка ставит самовар.
Оба проезжие проповедника сидят, обложенные книгами, за столом-кафедрой. Седой старичок похож на саратовского немца-колониста. А молодой человек в косоворотке, очень уважаемый всеми Василий Иванович, – на обыкновенного «эсера» или «эсдека». Сходство его с ними до того велико, что и книги с крестами мне кажутся сомнительными, не сидит ли, думаю, внутри их Дарвин, Спенсер или Маркс?
Нет… Василий Иванович верит в Евангелие, в свое время даже пострадал за проповедь пашковства. Дело его прекрасное: он по опыту знает, что под действием его проповеди изменяется совершенно жизнь крестьянина, весь строй его внешней жизни, хозяйство, супружество, являются признаки сознательного воспитания детей. У Василия Ивановича под руками даже статистика, отчеты съездов, неопровержимые доказательства прекрасного, доброго дела.
Меня смущает только одно: как же поверить обыкновенному русскому неверующему интеллигенту в Евангелие? А если самому не очень верить, то где ручательство за подлинность доброго дела?
– Вера приходит от слышания, – успокоил меня Василий Иванович так же просто, как прежние марксисты: вера есть одна из идеологических надстроек над экономическим фактором.
Народ все собирался и собирался.
– Не угодно ли выслушать наше богослужение? – предложили мне оба проповедника.
Я остался, с тревогой ожидая «разреза» немоляк.
Василий Иванович начинает богослужение стихотворением своего собственного сочинения. Поет он один, старичок колонист простудился в дороге и охрип, мужики или не знают стихотворения, или не веруют в него.
Почему-то стыдно при этом нении. И приходит в голову: чтобы написать хорошие стихи, нужно быть грешником; чтобы молиться, нужно грешить.
После пения пресвитер в косоворотке встает, складывает руки на груди, закрывает глаза.
– Фарисейский обычай, – шепчет Алексей Ларионович, готовясь к разрезу. – Представляется Моисеем: не может взирать на лицо божие.
– Дорогие возлюбленные, – начинает пресвитер, – взгляните на мир в ясный солнечный день, какая красота!
Вот бы сюда, представляю я, того белого старика со Светлого озера, который, помню, так читал на холме «Верую», что капли теплые, добрые падали с ясного неба.
– Дорогие возлюбленные, нужно страдать, а люди часто избегают страдания.
– Знамое дело! – не удерживается Федор Иванович.
– Возьмите пример Моисея, – продолжает проповедник, не открывая глаз. – Несмотря на свою великую славу, он от всего отказался и лучше захотел страдать. Люди же теперь не хотят страдать.
– Кому охота! – отозвались немоляки так резко, что пресвитер приоткрыл один глаз.
– Они не хотят страдать, но это их большая ошибка.
– Большая ошибка! – всхлипнула по-настоящему, по-православному старушка у кипящего самовара.
И еще долго, долго говорил проповедник. «Амен», – закончил он проповедь.
– Аминь, – насмешливо отозвались немоляки.
Старичок колонист заволновался. Ему очень хочется тоже что-то сказать, но службу ведет, очевидно, Василий Иванович.
– Может быть, скажете что-нибудь? – снисходительно предлагает он.
– Немножко разве, – отвечает старичок, розовея, как девушка.
Говорит о постройке храма Иерусалимского. Читает о том, что Христос пришел во плоти.
Вот тут-то Алексей Ларионович и нашел подходящий момент дать немцам «разрез».
– Не во плоти, – поправил он наивного хорошего старичка, – не во плоти написано, а во плоти.
– Это все равно.
– Нет, не все равно: ежели Христа во плоти разуметь, так он мужиком был, а ежели во плоти… Прочитай от Иоанна. «Слово плоть бысть и вселися в ны». Вот. Слышишь, в «ны», а не в «ю». Ежели в «ны», то во всех нас вселилось слово Христос, а ежели в «ю», значит, в мужицкую плоть.
– Молодчина, – одобряет Дмитрий Иванович своего ученика за ловкий и мудрый разрез.
Богослужение прерывается. Баптисты сбиты с толку, шепчут: «Время теряется, с ними ничего не выйдет, едемте дальше».
– Кто же был, по-вашему, Христос? – спрашивают баптисты немоляк.
– Христос – Слово, он – Дух.
– А как же в Духа гвозди вбивали?
– Мысленное ли дело, – смеются немоляки, – в Духа гвозди вбить. Это были два завета пригвождены: Ветхий и Новый. Вот как нужно понимать. У нас духовная мудрость. Христос – Дух.
– Нет, Христос был на земле во плоти; в это нужно верить, это факт.
– То-то, факт ли? Что значит плоть-то?
– Тело, обыкновенное тело.
– Мужицкое али барское?
– Человеческое.
– А хлеб-то какой, правдашний, что бабушка испекла? А вино какое, клюквенное?
– Не верите вы во Христа.
– Нет, вы не верите. Вы обманщики, фарисеи, книжники. Мысленное ли дело, чтобы Христос в мужицкой плоти пришел. Да как вам не совестно его обижать. Мысленное ли дело, чтобы богородица простой девицей была. Обманщики!
Федор Иванович принимается ругаться.
В ужасе крестится старушка возле самовара. Ни она, ни баптисты не понимают, что немоляки ругают не Христа, а ту ужасную для них возможность, что бог мог вселиться в отвратительную мужицкую плоть. Никто не понимает, что, может быть, сами же святые пустынники-аскеты подготовили это презрение к плоти, этот немоляческий бунт. Это разъединение духа и тела.
– Я, – кричит Федор Иванович, – здесь боюсь моего Христа, я здесь дорожу жизнью. Он меня здесь останавливает. А ваш Христос никуда не годится, только на тот свет. Да мне-то тот свет не нужен, я здесь дорожу жизнью.
– Не верите вы в бога!
– Нет, верим. Он здесь, он на земле. А я умру, и вы умрете, как животные.
– Не верите во Христа.
– Как свиньи помрем, как собаки, как…
– Не верите.
– Как куры, как тараканы, как всякие гады…
Немоляки вышли демонстративно.
– Разрез дали, – сказал учитель на улице.
– Как можно без разрезу оставить, – согласились все ученики.
Я вышел за немоляками и тем, вероятно, совсем скомпрометировал себя перед европейцами.
– Непоклонники! – сказал нам один прохожий.
– Вредное дело, – согласился другой.
«Как бы с этими непоклонниками, – подумал я, – не попасть куда. Не превзошел ли я уже своих этнографических полномочий?» И припомнилось мне человек пятнадцать таких же непоклонников, вступивших в борьбу против всего мира, который казался им, как немолякам, в длинном бабьем сарафане: мои товарищи в юности по делам политическим.
Меня успокоили: после закона 17 апреля всякие проповедники часто бывают в селе. Привыкли. С учителем Дмитрием Ивановичем во главе мы двинулись по улице к большому двухэтажному, украшенному резьбой, дому Ивана Ивановича, покровителя немоляк.
Такие порядки в домах, как у Ивана Ивановича, создала за Волгой староверская культура, умевшая выходить из скитов в население. У Ивана Ивановича все как у староверов, только завешенная розовым ситцем божница режет глаза. Здесь богу, как обычно, не молятся. Хозяин в черном длинном староверском кафтане, с серебряной цепочкой, сухой, горбоносый, черный, кланяется:
– Добро жаловать!
И ни с того ни с сего подмигивает мне. Догадываюсь: совещание наше тайное.
Жена хозяина, как часто у староверов, обманчиво ласковая, кланяется низко-пренизко:
– Здравствуй, Дмитрий Иванович, здравствуй, Алексей Ларионович, здравствуй, Федор Иванович, здравствуй. – обращается ко мне, – добрый человек.
Под завешанной божницей садится сам рыжий, косматый учитель, по правую и по левую руку его любимые ученики: Алексей Ларионович и Федор Иванович. Другие, признающие немного «плоть», садятся возле тихонравного Николая Андреевича. Садятся все без молитвы.
Хочется мне потихоньку приотдернуть розовую занавеску божницы, посмотреть, как она, пустая, глянет теперь на наше тайное вечернее собрание.
По северному крестьянскому обычаю, перед едой пьют чай.
Пьют долго, как следует: внимательно и молча. Ничто так не сближает людей, как молчаливое чаепитие. Водка после чая совсем переполняет накопившиеся у немоляк добрые чувства ко мне.
– Мы тебе всю тайну откроем.
– По чистому сердцу расскажем.
– Без утайки чтобы все: как забросили богов деревянных.
– Да, как забросили.
Начинает Алексей Ларионович, самый нервный и говорливый. Религиозный пожар, видимо, совсем опустошил его: на бледном узком облике остались только жидкая борода и вострые раздраженные глаза с красными ободками.
– Не беззаботой дались мне эти дрова, – сказал сектант и отдернул рукой занавеску божницы.
Из наугольника блеснули правильные ряды инструментов ложкарного производства. Красный угол крестьянской избы глянул на нас, как пустой гроб из размытой могилы.
– Не беззаботой! Боже сохрани, не беззаботой!
– Не беззаботой! – отозвались все немоляки, и все поглядели на пустую божницу. Молодуха украдкой ото всех перекрестилась туда на стальные инструменты.
И странно было: те же самые староверы, которые когда-то за великое преступление считали пить чай, водку, курить табак, теперь все курят, пьют.
Кажется, после разрушения красного угла староверский «дух» отделился от «плоти», затаился где-то, а покинутая плоть потемнела и сморщилась, как продырявленный детский шар.
– Наломали они нам бока, – говорил Алексей Ларионович. – Было время, по десять лестовок вел, тысячу поклонов в день перед ними клал.
– Что говорить, себя не жалели.
– Не жалели. Боялся их и греха больше всего. Погасят огни, стою перед ними ночь, жена плачет.
– Не рада!
– Того ли хочет!
– Молюсь, кланяюсь. Ой, мыло идет, холод по плечам. Баба вздыхает: «Ты, – говорит, – живой хочешь на небо влезть, это с грязными-то ногами».
– Не думает о царстве небесном.
– Баба – баба и есть.
– Я не слушаю, молюсь им… Ну, и пала тут на меня искра. От сей искры весь сыр-бор и загорелся: Николай Андреевич Библию принес. «Хочешь, – говорит, – почитаем». – «Нет, – отвечаю, – она мне противна, от нее в бешенство впадают». – «Да ну, – просит, – попробуем. Шутки ради, – говорит, – отчего не попробовать». Слушаю. Вижу, дело читает, это закон божий, учусь. И другой день читаем, и третий. Чередненько учимся. Разбираем; какие-то ссылки, а понять не можем. Хвать! Да это неполная Библия, один Ветхий завет. Купили Евангелие, опять зачитали. Чтец-то вострый. И слышу, читает: «ничто же глагола народу без притчи». Мне словно кожу подрало. «Что ж это такое, – спрашиваю, – Николай Андреич?» – «Да, – отвечает он мне, – сумлеваюсь». Взяли мы с ним по горю и понесли в деревню Быдры к Дмитрию Ивановичу прямо ночью, в погоду[41].
– Приходят они ко мне, – перебил ученика Дмитрий Иванович, – все-то мокрые, все-то в грязи; думал, рехнулись. «Растолкуй нам: „ничто же глагола народу без притчи“». – «А то, – говорю им, – что все Писание – притча». И стал им переводить. По перву не рады: «Не тронь, – кричат, – не тронь, разве можно все ломать?»
– Всю ночь читали, – перехватил опять от учителя свой рассказ Алексей Ларионович. – С тех пор стали собираться, углубляться. Разуметь – разумею, что притча, а без привычки-то на себя переводить не смею, не знаю, где ущипнуть. Раз как-то читаю: «Был глагол единый, аз же слыхал от двоих». Мне какая-то разница помстилась, ровно не эдак лежит Писание, нет ли тут крючка. Ночью уж не молюсь больше, а лежу и перебираю: вот оно что, вот оно что. Дальше – больше, и стал на лету ловить, разум у меня другой стал, свой выговор. Как стал разуметь притчу, глянул на богов-то деревянных. Не надо, будет! Одну по одной стал я незаметно от жены наверх уносить, под карниз прятать. А у меня их много, иконы все дорогие. Перва вынес поновее, похуже, потом постарше. Тут жена замечать стала. «Ты куда это, – спрашивает, – божество переносишь?» – «Какое, – отвечаю ей, – божество, это идолы». Глядит на меня и плачет: «Ларионыч, никак же ты рехнулся?»
А я все ношу и ношу по одной. Последнюю вынес – родительское благословение.
И великая тягость отпала. Сердце отпыхло. Учу жену: нельзя молиться, это грех. Плачет и все свое: «Ты, Ларионыч, рехнулся».
Стал замечать за женой: по ночам пропадает. Проснусь – нету. Что бы такое? Выхожу ночью на двор – в боковушке огонек. Глянул в щелку, а она расставила божество-то деревянное и вот молится, вот молится и стонет.
Рассказчик на минуту остановился, закурил.
– По перву, – сказал Дмитрий Иванович, – баба всегда не рада, как очень прытко молишься, а потом уже схватится. Бабий рассудок, известно. Что молодуха-то, – мигнул он хозяину, – маленько прихватывает еще?
– Я отстала.
– Да ты никогда и не приставала! – крикнул на нее Алексей Ларионович. – Разве ты можешь такую муку вынести, что муж – разум твердый. Молчи… Думаешь, легко было, так ли я молился, как ты… Ну, хорошо…
Глянул я на жену, как она плачет да стонет. И такая же тут меня ревность взяла. Подбежал к ней, схватил родительское благословение да как со всего маху гокну. Надвое расколол. Жена вскочила, пробежала от меня маленечко так, рысью, и пала без памяти. А я всех обрал – и за ящик.
Наутро приезжает ко мне господин какой-то. «Что, – спрашиваю, – ваша милость?» – «А нет ли, – говорит, – икон продажных?» Вот, думаю, продать бы. Да не посмел: жена возле вертелась. «Нет, – говорю, – ваше благородие, я боюсь». А сам тихонько велел ему поутру приходить.
Не худо, размышляю, продать. А ночью взяло раздумье: страшно чего-то. Встаю поутру: нет, сам не буду грешить и людей не стану вводить в сомнение.
Пока жена спала – переколол. Связал, положил за санями. Завтра, думаю, в печке сожгу.
А господин тот пришел. «Как, – спрашивает, – продашь ли?» – «Нет, ваше благородие, поберегу». – «Ай, – спрашивает, – опять оборотиться думаешь?» – «Нет», – и показал ему за санями. – «А…» – говорит и пошел молча.
Тут жена подбежала, увидала, грохнулась. «Ладно, – говорю, – матушка, простись». Покидал в печку и затопил. Очувствовалась, бежит на улицу, смотрит на дым, не будет ли чуда. При пожарах, когда иконы горят, столбы на небе бывают. Дрожит, глядит: «Экой же дым, – говорит, – как и из других печек». – «Дура, – отвечаю ей, – дрова – дрова и есть».
Еще рассказ, и еще, и еще про свое согласие. Про другие согласия. Про какую-то деревню, где все до одного человека «покидали в реку» божество и теперь живут с пустыми божницами.
Во имя чего же это? Что значит теперь эта их. новая жизнь?
Гляжу на собеседников. Лица обыкновенные, деревенские, с хитрецой и лукавством. Нет и следа того раскольничьего аввакумовского рыцарства, которое я видел у староверов в Ветлужских лесах. Кажется, будто после их духовного возрождения одновременно совершилось и ухудшение плоти.
– Не понимаю, – говорю я им, – совершенно не понимаю, для чего вам нужно было принимать всю эту «муку»? Как вы живете?
– Так живем.
– А дети?
– Детям что. Мы за них муку приняли, мы их освободили. Живут без заботы.
– Подати платите?
– Платим.
– В солдатах служите?
– Служим.
– Если заставят повесить невинного человека?
– Повесим. Потому отдай богово богови, кесарево – кесареви. Это не мы повесим, а наши руки по чужому приказу.
– Но где же вы-то сами?..
– Мы в себе: Дмитрий Иванович в себе, Алексей Ларионович в себе, Николай Андреевич в себе, все разные, все по-своему…
Ничего не понимаю. Гляжу на них, мысленно сопоставляю их с теми староверами, которые умирают в лесу, боясь тронуть ягоду и гриб, потому что вокруг него лежит цепь антихриста – кесаря. Там за плоть умирают, тут за дух уходят куда-то так далеко, что плоть живет сама по себе. Дух сам по себе. Плоть сама по себе. Там хоть невидимая, но церковь, здесь освобожденное и… нелепое «я».
– На что же оно вам нужно, такое «я»? Что хочет каждый из вас для бога, для себя, а не для кесаря?
– А по нашей воле, так за великий грех и страх считаем обидеть другого человека, – говорит Дмитрий Иванович, и лицо его становится таким же значительным, как тогда на Светлом озере, когда я услыхал от него: «Бог – Слово, бог – Дух».
– Верно. За великий страх и грех, – говорят все немоляки.
Ночевать все улеглись на сеновале над скотным двором. Уснули сразу.
По непривычке я не могу уснуть: фыркает лошадь внизу, хлопает крыльями петух в ожидании полночи, сено пахнет, щекочет, вверху между дранками звезда.
Последние слова немоляк перевертываются в голове и так и сяк. Значит, и у них есть свое «я»: Дмитрий Иванович сам в себе, Алексей Ларионович сам в себе. Может быть, завтра это «я» утомится, перекочует и исчезнет в баптизме и штундизме. Но сейчас оно живо.
Я перехватил его на пути. Я унесу его с собою, я скажу о нем, оно останется жить. Это «я» состоит в том, что «за великий страх и грех считает обидеть другого человека». Значит, обижает другое, кесарево… Отдай кесарево – кесареви, богово – богови.
…Леса тут вырублены, антихрист и медведь ушли. Остались пни. И на пни осели бородатые гномы с огромными книгами. Читают, переводят с плоти на дух. Пока они переводят, вырастает вокруг них новый лес, кесарев.
Но они не видят этого: всякий по-своему находит себя. Это «я» дороже всего, оно свободно, оно не обижает никого. И никто его коснуться не может.
…Кричит петух в ожидании полночи, хлопает крыльями.
Сотни и сотни виденных мною людей обступают меня. Я выбираю из них настоящих, из одного делаю двух, из двух одного, и так мало-помалу очищается все ненужное, случайное, читаю жизнь.
Узнаю Дмитрия Ивановича и его согласие в прошедших веках. Вся история христианства прошла передо мной в этих лесах за Волгой; я видел пустынников, просидевших всю жизнь в лесных ямах, видел людей, добровольно осуждающих себя на голодную смерть; видел, как все это постепенно разлагалось на «я». Узнаю это «я»… Это душа протопопа Аввакума, освобожденная, блуждающая.
Кесарь смирил его непокорную плоть, а дух без плоти в наших лесах не бунтует.
Опять кричит петух. Недалеко от меня женщина бредит, кричит: от Исайи глава двадцатая.
– Ты что брусишь? – будит ее супруг. – Перестань. Отстать не можешь. Где-нибудь у тебя иконы спрятаны?
– Ей-богу, отстала.
– Чего же ты крестишься на божницу?
– Ништо. Она же пустая.
Опять засыпают. Сплю – не сплю. Чудится мне: висит на крыше плотный куль, и зерно бежит из него хорошее, а вырастают все бесцветковые: мох да папоротники. В смертельной тоске ожидают люди Ивановой ночи: надеются, зацветет. Но папоротник не цветет. Семена опять собираются в куль, земля оголяется.
Но где-то пахнет сено настоящей забытой родиной. Ржут небывалые кони в высокой траве…
Утром немоляки пристают ко мне:
– Скажи, открой нам, какой ты веры?
– У нас, – отвечаю я стереотипной фразой, – все верят по-разному. – И вспоминаю вдруг про первую нашу встречу с Дмитрием Ивановичем, про его переписку с петербургским писателем.
– Письмо! – прошу я. – Давайте письмо поскорее. В опустошенной божнице между инструментами хозяин долго роется и звенит стамесками.
– Нет, – вспоминает, – оно теперь в Выдрах.
– В Олонихе, в Богоявленском, – говорят другие. Очевидно, письмо гуляет по всему уезду.
– Что же он пишет вам, расскажите.
– Пишет, что нельзя все по духу разуметь, Христос – учит он – воистину воскрес, во плоти.
– Так же, как и баптисты?
– Нет… у него свое. Он притчами говорит. Предсказывает. «Загорится, – говорит, – пожар на всю землю». И верно, сбывается, загорается…
– Какой пожар?
Отвечают по Апокалипсису. Я ничего не понимаю, но чувствую: есть какой-то недоступный мне смысл в их словах. Чувствую: моя обычная чуткость к пониманию этих людей тут где-то притупляется.
Приносят книги, истрепанный, зачитанный журнал «Новый путь», с помарками, с отметками, спрашивают о всех членах Религиозно-философского общества. Слушаю их и думаю: «Какие-то тайные подземные пути соединяют этих лесных немоляк с теми, культурными. Будто там и тут два обнажения одной первоначальной горной породы».
– Кланяйся ты им, – просят меня на прощанье. – Скажи: Дмитрий Иванович кланяется со всем своим согласием.
– И духа не унимайте, – просит Николай Андреевич.
– Пожалуйста, духа не унимайте, – говорит Алексей Ларионович.
* * *
Так у стен града невидимого прошла передо мной жизнь лесных людей, начиная от пустынника Петрушки и кончая этим воображаемым духовным человеком, разделенным с плотью, этими немоляками, считающими за великий грех и страх обидеть другого человека и готовыми по приказанию кесаря убивать.
На обратном пути я все старался уловить, исторически объяснить себе возникновение в русском народе этого духовного человека, на которого переводят кесареву плоть.
«Обессиленная душа протопопа Аввакума, – думал я, – не соединяет, а разъединяет земных людей».
Все это мне так показалось у стен града невидимого.
Никон Староколенный*
I
В тот самый год, когда в Новгороде хлеб дорогой был, пришел в село Еруново на Ильмень-озеро Никон Дорофеич Староколенный, степенный человек, но только беспаспортный. Что он у себя на родине натворил, отчего у него паспорта не было, никому он не сказал, да не очень и спрашивали: в то время волю давали крепостному народу, много такого разного люда слонялось по Руси, а в глухих местах давно уже привыкли к беспаспортным. Поп, дьякон, дьячок – так и набросились на Староколенного: пришел человек, свет видавший, мастер на все руки и притом еще божественный. В Ерунове от рыбаков что услышишь хорошего? Глухое место: впереди вода, за водой лиманы и всякие такие непроходимые места, позади мох. Рыбак по рыбе хороший человек, а в одиночку, чтобы с ним поговорить – о чем говорить попу с рыбаком? – все о тех же сигах. А тут пришел человек новый, речистый, и жена у него, Анна Ивановна, красавица и хозяйка не хуже любой попадьи. Дьячок стал ходить к Никону Дорофеичу с церковными книгами: вместе читали Писание по славянским буквам; дьякон ходил слушать и спорить; любил горячие споры, и бас у Никона был хороший, дьякон басы любил; поп ходил больше из-за дьякона: с первых же дней у Староколенного с дьяконом такие забавные споры пошли, что как сцепятся – пух, бывало, от обоих летит, будто перетрясают старые подрясники. Никон Дорофеич смотрел на славянские буквы Писания как на кирпичи от веков сложенного здания, а Библию-книгу хоть и не считал, как многие простые люди, что прямо с неба упала, но верил твердо, что рукой писана нечеловеческой.
– Верю в невидимое, – говорил он, обращаясь к попу, – а дьякон верит только в видимое.
– Человек ты с оперением! – одобрял батюшка.
Дьякон сердился.
– Какое у него оперение? Начитался староколенный человек, и все тут; книга книгой, а ты и жизнь разумей, – понимаю, новую жизнь. Я верю как в невидимое, так и в видимое.
– Ум критический, – одобрял поп и дьякона.
Рассерженный Никон брал в руки Библию и отвечал:
– Долго ли ты, дьякон, будешь хромать на оба колена! Моя вера – вот! Не будь этой книги, все бы мы друг друга заели, как дикие, некрещеные людоеды, эта книга нам зубы опилила.
– Книга не опилит зубов, – смеялся дьякон, – это, братец, так идет само: живет человек, привыкает, научается и зубы теряет. Вот науку ты отвергаешь, а оглянись на себя, что на тебе без умысла человеческого: рубаха, штаны, сапоги, кушак, шапка, только что борода своя.
– Не своя, а божья, – ты пустяки-то брось, науку там, одежду, а вот о бороде давай говорить!
И пойдет, и пойдет… Попу любо: смотрел как на петушиный бой.
От книги и науки непременно перейдут к воле, и еще бы: время такое было, что всякий о воле говорил. Дьякон стоял за волю, Никон Дорофеич – за палку.
– При воле палка нужна! – твердил Никон Дорофеич.
Дьякон придирался к словам и смеялся над волей с палкою.
Безземельный Никон Дорофеич не о той воле думал, что Дьякон; ему хотелось земли, землю он волей считал, а при воле суд хотел строгий и праведный, так, чтобы ничего у человека своего не было, а чтобы все от бога. Праведный, строгий суд и называл Староколенный палкою.
– Какая же воля из-под палки? – смеялся дьякон.
– А какая же воля без палки? – отвечал Никон. – Глупость одна, этого всегда было довольно, иди, дури, свет не заказан, свет на воле стоит.
Занятные споры бывали. И до того к Никону Дорофеичу поп с дьяконом наездились, что редкий, редкий день, бывало, без них пройдет. Это заметили в Ерунове рыбаки и стали к пришельцу относиться с почтением и считать вроде как бы за богатого.
В ту осень, когда Никон пришел в Еруново, хлеб везде дорог был, и рыба не ловилась, ненастная погода чуть ли не с Успенья пошла без отрыву, так что в город проехать нельзя было (а из Ерунова в Новгород одна дорога, лодейная, через Ильмень и по Волхову). Расчет у Никона Дорофеича был, когда шел в Еруново, поставить масленку – льну в этом краю много сеяли – и денег для этого занять в Новгороде. Когда пали осенние ненастные погоды раньше времени и проезду по озеру не стало, все расчеты Никона расползлись, и остался он в чужом селе так. Маленькому, опущенному, когда есть нечего, легко с ручкой пойти, а как идти Никону Дорофеичу? Говорили про него в селе, что богатый человек, самостоятельный, попов каждый день принимает, а вот с ручкой пошел… Униженному низиться, а высокому падать. Трудно стало Никону Дорофеичу.
В ночь под Воздвиженье Анна Ивановна погребла муки, и нашлось только ребятишкам на колобок, ради потехи.
– На завтра у нас, Никон Дорофеич, хлеба детей накормить – не знаю, хватит ли.
Так тихонько сказала Анна Ивановна, не жалуясь, на ходу сказала от печки к столу. Никон Дорофеич сидел за столом и читал Евангелие на том самом месте, как пятью хлебами насытились несколько тысяч народа.
– Ладно, Анна Ивановна, погоди: будет у нас день, будет и пища.
Не читай Никон Дорофеич Евангелия, откуда бы взяться духу ответить так: расчет был простой: хлеба нет, взять неоткуда, завтра идти побираться. Но в невидимое твердо верил этот человек, прочитанное принимал за первую истину и переводил на жизнь. Перевел он и тут…
Ничего не ответила Анна Ивановна, помолилась богу и спать легла. Никон Дорофеич не лег, а принялся читать Писание. Бывало с ним, что под праздник всю ночь просиживал над книгами. В этот раз далеко до полуночи у него вдруг остолбенели глаза. Прислушался к погоде: бунтует озеро и гукает, – есть такая примета на Ильмене: гукает озеро, не быть благодатной погоде вплоть до мороза. Оттого, может быть, и остановились глаза у чтеца, что где-нибудь в сердце была все-таки мысль о завтрашнем голодном дне. Пробовал Никон Дорофеич много раз приниматься вновь читать, но не мог, – худые мысли все больше и больше поднимались наверх. Протер очки, прижмурился – ничего не помогает, ум замутился, голова – как зоб набитый, и на сердце тоска и страх, словно оторвался от людей, заблудился в лесу и уж не хозяин себе человек, а деревья, елки, курносые сосны, птицы и звери хозяева.
«Нищий я, нищий, завтра с торбой идти!» – подумалось.
И вдруг, когда дошла тоска уже до самого, самого дна – так бывает – стало покойно: словно кроткий свет осиял душу человека в самую тяжелую минуту, поднялся, встал и пошел и пошел…
Оглянулся Никон Дорофеич на свою семью: лежит Анна Ивановна, румянец на щеках играет, а груди по обеим сторонам близнецы сосут.
«Баба-то, баба-то какая у меня, – подумал Никон Дорофеич, – а я говорю – нищий!»
Развернул книгу, что откроется, – загадал, – то и – прочесть. Открылась книга Товита, и чудо совершилось большое, – так понимал Никон, – то не мог читать, глаза больные, а то вдруг с такой радостью и с такой легкостью и читалось и понималось, что будто и не сам читаешь, а кто-нибудь открывает. И открылась Никону Дорофеичу из книги Товита радость великая жизни, так что уже долго спустя, когда спать ложился и посмотрел на свою Анну Ивановну, прошептал, как Товия:
«Не для удовлетворения похоти, но поистине, как жену; благослови же, господи, помиловать меня и дай мне состариться с нею».
II
В эту бурную осень много тонуло рыбаков на Ильмень-озере. Вольному воля, да и кормиться же нужно, – едет в бурю смельчак на большое озеро и пропадает. В храме – так понимал Никон Дорофеич – жизнь этих пропащих людей продолжается, родные молятся о своих, покойники с живыми соединяются, невидимое с видимым, свет не обрывается, путь к царствию божию не зарастает. Так Никон Дорофеич понимал, а сердцем чтил обряд и за неправильную службу больше и ссорился с дьяконом. В праздник Воздвижения заметил он с клироса, что орарь у дьякона кое-как подвязан, и об этом шепнул ему. Дьякону это не понравилось, и так с неправильно повязанным орарем он и продолжал читать ектению. Не стерпел Никон Дорофеич:
– Отец дьякон, лента у тебя, а не банная мочалка; назначено по ней богу молиться, а ты спину чешешь!
– Уходи…
«К черту», – хотел дьякон сгоряча сказать, но тут как раз в церковной ограде петух запел, дьякон спохватился и поправился.
– Уходи к петуху! – тихонько пробасил и запел «О свышнем мире» все по-прежнему с неправильной лентой.
Тошно было смотреть на дьякона Никону Дорофеичу, да и свое-то нет-нет взбредет на ум: дома есть нечего. После обедни пошел к попу просить куль хлеба взаймы, – знал, что житница у попа была полная.
Чуть для виду помялся было поп и уж хотел было за мукой идти, откуда ни возьмись дьякон и шепнул что-то попу на ухо. Может, напомнил попу, что муку просит беспаспортный, а может – другое что, насчет ораря.
– Нет, – говорит поп, – дам я тебе куль, самому не хватит.
Нет и нет. Больше не стал просить Никон Дорофеич и, поговорив о том, о сем, как ни в чем не бывало пошел домой. И как ни в чем не бывало все сытые после обеда собрались у Никона: и поп, и дьякон, и дьячок. Хозяин и виду не подает, что обижен, Анна Ивановна королевой ходит, и, не пикнув, с печки, как жуки, смотрят на гостей ребятишки. Глядел, глядел дьякон на Анну Ивановну, красавицу, – был навеселе, размыло его, – и по-своему, по-дьяконски, пошутил, мигнув на ребятишек.
– Ну, Анна Ивановна, шейте к завтраму три торбочки-
У Никона волосы на голове пошевелились. Круто хотел поступить с дьяконом, но сдержался и ответил как следует:
– Что ты, дьякон, мне торбу сулишь, разве от тебя торба? Торба от бога.
Не вышла шутка. Прикусил дьякон губу. О том, о сем речь заводил поп, спор в этот день не наладился, и невеселые разошлись по домам гости спать или слушать, как воюет Ильмень-озеро.
Села к окошку Анна Ивановна. Гукает озеро. Катятся белые гребешки. Ни одного паруса между волнами. Ни единого человека на пути.
– Торбу сулит, экое дело, – молвил Никон, – да разве от человека торба?
Ребятишки на печке заплакали. Испугались торбы или есть захотели?
– Видно, и бог уж указывает торбу шить, – сказала Анна Ивановна.
– Нет! бог мне с торбой идти еще не указывал.
Только успел эти слова вымолвить, нищий в окошко постучал костылем.
– Хлеба не нужно ли?
У нищих всегда так: просят, просят, а то и девать некуда, продают.
– Нужно бы хлеба, да сейчас не при деньгах.
– Ничего, через месяц я опять той же дорогой пойду, приготовь, я поверю.
Пришел нищий в хату, вывалил торбу на стол, свесили: десять фунтов.
– Ух, караван пришел! – повеселел Никон после нищего. – Видишь, Анна Ивановна, говорил я тебе: будет день, будет у нас и пища.
С самого начала, с Бытия, стал вечером Никон читать, как начались звезды, и вода, и суша, и солнце, и луна, и рыба, и как человек начался, и как согрешил, размножился, и настал потоп. Когда Ной праведный сел в ковчег, подумал: «Вишь ты, мир-то какой тоненький: на едином человеке держится», – а когда снова человек размножился, радостно воскликнул: «Мир тоненький, да длинный, не обрывается!» И на себя перевел: «Вот и я так же думал, что с торбой пойду, а бог сколько хлеба дал, и завтра тоже: будет день, будет и пища».
Дьякон рано прибежал на другой день.
– Ну, что ели?
– Ели хлеб!
– Откуда взяли?
– Бог дал!
Пришел поп, дьячок, все спрашивают: «Ели?»
– Бог дал! – отвечает Никон. И рассказывает им о Ное праведном с самого начала и до конца и спрашивает, что это значит, если перевести на человека нынешнего времени. Дьякон хотел как-то по-своему истолковать, но Никон остановил.
Притча о Ное праведном значит, что он в бога веровал, а не в дьякона.
– Вот ты меня вчера в кусочки посылал, а я тебе ответил, что торба от бога. К тому говорится притча о Ное, что единым человеком мир держаться может: мир тоненький, да длинный.
– Эк, заехал куда! – засмеялся дьякон. – Себя за Ноя праведного почитает, какой самозван нашелся.
Это слово очень обидело Никона: не от себя он говорил, а от Писания, и не собой гордился. Обиделся и, дал ответ:
– Не смейся, дьякон, не к тому я речь веду: хорошая собачка на охоте надышкой идет, а плохая все в следах ковыряется, – ты идешь, как плохая собачка.
Их, взвился дьякон! Много было попу в этот день удовольствия.
– Не ворует ли? – шепнул дьякон попу, выходя от Никона.
Осмотрели житницы, – нет, незаметно. Спрашивали, не собирает ли.
– Ему ли собирать! – удивлялись рыбаки.
Что в самом деле бог дает, ни поп, ни дьякон не верили.
И другой нищий пришел к Никону и еще принес хлеба. Изба на краю стояла, и нищим тут был самый ход. Целый месяц семья торбочками кормилась, и никто в селе об этом не знал. Потом установился зимняк, покатил Никон в Новгород, денег добыл, закурилась масленка, и пошло дело день от дня лучше и лучше. По началу зимы сено было дешевое, стал это сено Никон скупать и корову завел, и другую, и третью, рассчитывал к весне выпросить у рыбаков где-нибудь клок земли и зажить хозяйством, как вечно жили его деды и прадеды.
У дьякона тоже много было скота; после Крещенья подобрался у него корм, и собрался дьякон в город сено покупать. Вдруг потеплело, испортилась дорога. День ото дня откладывал дьякон поездку, думал все, подморозит. А весна вышла ранняя, пошли дожди без отрыва, расползлось все, и Еруново опять на месяц от всего света отрезало. Ревет голодный скот у дьякона, плачет дьяконица, слушать жутко. Своим сеном Никон Дорофеич не называется, а дьякону просить совестно: осенью человека с торбой пустить хотел. И съела забота дьякона, как дождь весенний снег; идет мимо Никонова двора, шатается, как вешняя веха.
– Куда, дьякон, идешь, шатаешься? – спросил Никон.
– Иду скот резать.
– Зачем резать? Возьми у меня сена.
Распахнулась лисья шуба у дьякона, бежит, то упадет, то подымется и опять бежит, словно летит. Взял сена, накормил скотину, стих рев, и дьяконица плакать перестала. На шестой неделе дорога наладилась, и пошла дьяконова ладья в Новгород. А на седьмой неделе а Великий четверток сытый дьякон снова пришел в гости к Никону Дорофеичу, увидал, что он церковные книги с псаломщиком читает, и говорит:
– Что вы читаете-понимаете, только книги рвете! Эти слова ущипнули Никона.
– Читаем мы, – отвечал он, – как господь пятью хлебами насытил столько народу, и короба остались. Так мы вот и разгадываем: кому же короба пошли? Полагаем, что скот голодный был, так и скотинку накормили.
Ни слова дьякон не ответил, вышел, а вечером во время стояния прогнал с клироса Никона. Горько было такому человеку стоять опозоренному, и не мог он молиться так, чтобы не читать и не петь. В светлую заутреню со слезами подошел Никон к дьякону и просит прощения, а дьякон давно уже раскаялся. Облобызались враги и запели вместе басами: «Утренюем утренюю глубоку». Это узнала дьяконица и тоже подошла к Никону прощенья просить за Дьякона. И весь народ в селе узнал за эту зиму, какой справедливый и божественный человек Никон Дорофеич, бог с ним и с паспортом! Разве паспорт человека делает? о светлое Христово Воскресенье выпили, погуляли на его счет и отвели ему на житье Кладовую Ниву, что в глухом лесу на речке Видогощ, впадающей в Ильмень-озеро. А на Фоминой Никон поднялся и со всей семьей, со всем своим скотом поплыл в свои владения.
III
Лес и мох окружают Кладовую Ниву, мох искрещен тропами; по одной ходят бабы за брусникой и журавиной[42], по другой – за грибами, по третьей – молиться богу к Отрокам. На Кладовую Ниву лесом тропа идет между пнями, замеченными крестиками, между лохматыми кочками и ямами. Самый божественный крестьянин живет в Кладовой Ниве, а крещеные люди идут по тропе и, попадая в ямы-колдобины, чуть не на каждом шагу согрешают. Лесная нива исстари зовется Кладовой оттого, что в сопке под елями будто бы клад зарыт. Три раза видела Анна Ивановна сон о кладе и три раза говорила Никону Дорофеичу. Первый раз, услышав сон о кладе, он сказал: «Не мною клад зарыт, не мною откроется». Второй раз помолчал, третий раз так посмотрел на жену, что клад ей перестал видеться. Красавица Анна Ивановна была, и жил с ней Никон так, что дурой никогда не назвал, и все-таки она против него губ помочить не посмела и, если муж справа идет, влево уж не посмотрит. Так же и дети росли, как отростки березы и дуба: береза нежит, дуб учит; все, как хотел Никон: в ней, матери, была земля – воля, в нем – строгий, праведный суд, воля и палка сошлись в одно, и росла семья в лесу, как и все растет.
Бывает, береза на ниве стоит, словно вышла из темного леса богу молиться, и за ней вышли малые кустики, и на опушке дуб стоит здоровенный, глядит: правильно ли молится березка с детьми.
Так бывает и в крестьянской семье. Впереди мать стоит у самой иконы, молится:
– Господи, Иисусе Христе!
– Сусе, Сусе Христе! – шепчут дети за ней.
Отец, как дуб, стоит позади, зорко смотрит: чуть кто из ребят ногу отставит, сейчас подойдет и хлестнет ремешком по слабой ноге; или почешется кто в затылке – потянет за пискун-волос.
По отцу ведут себя маленькие дети, по матери молятся, учатся с губ. Шепчет привычную молитву мать и, бывает, усталые глаза отведет к окну; тогда все дети, один за другим переводят глаза в окно. Бог теперь там, куда мать смотрит, где седой туман обнял сосны, оставил только самые верхушки, и между верхушками красный месяц поднимается. Бог теперь там, все дети повернулись туда, и даже самый маленький, что, распустив лапки, кланялся в землю, теперь смотрит туда. Бог теперь там, между верхушками сосен у красного месяца.
Хлоп! – ремешок по босым ногам: не на месяце бог написан, а на иконе.
– Помяни, господи, дедов: Говрюка, Митрака.
– Митрака! – шепчут дети за матерью.
– Тетку Авдотью и Акулину!
– Кулину.
– Братчика Ваню.
– Ваню!
– Всех знающих и незнающих.
– И незнающих!
– Присыпушей, удавышей, заливушей, рай им светлый, пуховым пером им землица.
– Пуховым пером им землица!
Жить бы так и жить, да вот не один он такой, Никон Староколенный, в лесу. За Кладовой Нивой в том же лесу есть Высокое Поле, и там не одна изба, а пять, и у реки против каждой избы стоит баня. На пять семей и одной бы бани довольно, но вот, стало быть, хорошо же на Высоком Поле живут, когда все в разные бани ходят.
А за Высоким Полем есть деревушка, за нею погост, и так все шире и шире мир человеческий вплоть до главного города, где царь живет, и до святого города Иерусалима, где пуп земли. Много всякого люда идет через Кладовую Ниву в погост к Отрокам, а из погоста в базарные дни в Новгород. Многие заходят к Никону кваску попить, и слышит он от людей, что мир человеческий изменяется к худшему.
– Что далеко ходить? – указывает Никон на лес, где сам живет.
Была под кнутом и палкой канава прорыта во мху. С погоста и Высокого Поля и Кладовой Нивы в ту канаву стекала вода, и год от года становились суше лес, гуще луга, плодороднее нивы. Теперь, когда палку отменили, засорилась канава, никто не хотел ее чистить, луга мохом покрылись, нивы опять стали мокрые.
– Человеку палка нужна, – говорил, жалуясь на это своим гостям, Староколенный.
Гости вяло отвечали:
– Палка-то палка.
Бывало, старик увидит поломанную изгородь, позовет молодого хозяина, отстегает его, и опять изгородь новая. Бывало, старик идет, молодежь встает с лавки: «Здравствуй, дедушка!» – «Здравствуйте, здравствуйте, деточки!» – только и слышишь. Ныне стариков ни во что не считают.
– Это не воля, а слабость, – говорил гостям Староколенный.
– Слабость-то слабость, – вздыхали гости, слушали, а канаву не чистили, изгородь не ставили и стариков не почитали.
И так Никон разошелся с миром. И когда вечером, в осеннее дождливое время, приходилось читать ему о Ное праведном, то казалось ему, заливает потоп всю землю и время близится строить ковчег и начинать жизнь исстари новую. Думы думами, но не коснись самого человека, самой жизни его, станет разве он выходить из себя? Дни шли- за днями, и месяцы, и годы, и так незаметно перешел бы Никон в запас к тем старикам, что вечно сердятся на все новое и стоят, как седые кочки в лесу под молодыми березками, и молодые березки вырастают от них корявыми, и елки низкими, и сосенки курносыми.
Парень – Волк задел Никона. Оказался на Высоком Поле такой злодей парень. Поймал его у себя в хлеву Никон и так поучил, что на четвереньках приполз Волк домой. И вскоре после этого загорелся у Никона тот самый хлев, где он Волка бил, и сено в разных местах далеко от дома тоже загорелось, и все сгорело дочиста – и дом, и сарай, и баня, и сено, и скот – только, только что сами из дому выскочили. Кое-как оправился Никон, поставил избу, и сарай, и хлев, и баню, и Библию купил в городе. Но с этого самого времени стал он уж так читать, что Анна Ивановна задумалась. Жены всегда так: пока что на пользу видимой жизни идет, молчат или хвалят, а как стало вредить, начинают ворчать. Анна Ивановна не ворчала, а только осмелилась как-то сказать Никону Дорофеичу о Библии, что страшная эта книга и много читать нельзя: неладно бывает от этого.
– Дура, что ты понимаешь! – сказал Никон.
Первый раз в жизни своей жену дурой назвал.
И с этого времени Анна Ивановна еще больше утвердилась на своем и незаметно, осторожно стала отбивать Никона Дорофеича от Библии. И, может быть, удалось бы ей, не подвернись тут один человек из Старой Руссы.
Лето грозовое было. Как-то в субботу собрался Никон Дорофеич за грибами в лес, – любил грибы собирать и на ходу о всяких мудреных вещах раздумывать. За лесом незаметно бывает, как тучи по краям неба поднимаются, солнышко все светит в окошко, и кажется, нет ничего. Вдруг навесилось, стало темно в лесу, сверкнула молния, и яа глазах у Никона разодрало высокую сосну в щепки, расшвыряло вокруг и усеяло зеленую траву щепой, как белыми перьями. Испугался Никон, огляделся, куда бы ему от грозы притулиться, и увидел он на лесной гладине большой стог сена. Стал обходить стог кругом, высмотреть хотел, где ему удобнее ямку выкопать и перебыть в ней погоду. И только тронул сено рукой, вдруг из сена человеческий голос послышался:
– Не буровь лишнего, полезай сюда! В стогу человек сидел, седенький, строгий лицом, и так сразу заметно, что не простой это был человек.
– Испугался? – спрашивал его чужой.
– Как не испугаться, – молвил Никон, усаживаясь рядом в стог, – видишь, гнев божий на дерево пал.
– А как же Адам мог с господом разговаривать и Моисей внимал голосу из пламени? Не люди мы, а черви.
Об этом как раз и думал Никон и подивился, что чужой человек мысль его отгадал, и подумал: «Не простой это человек пережидает погоду в стогу».
Помолчали немного, и, чтобы сразу поставить на точку разговор, задал Никон нездешнему человеку такой вопрос:
– Скажи ты мне, ученый человек, отчего это, когда с полпути от Юрьева монастыря к Новгороду посмотришь на Ильмень-озеро, то видимо – вода выше города стоит, а город не затопляет?
– Горазд выше стоит вода в Ильмень-озере, – отвечал чужой человек, – а не заливает потому, что нет на это божьего указания. Двенадцать рек с востока текут в Ильмень-озеро и двенадцать рек с запада, дно поднимается, и вода поднимается, а город не затопляет. Видел ты на святой Софии голубка? Ну, так вот и сказано в Священном писании: когда слетит голубок, зальет водой Новгород, и рука Спаса Вседержителя разожмется.
О голубке много слыхал Никон, но о Спасе Вседержи теле ничего не знал.
– Писари вы, писари, не пишите меня с рукой благословляющей, а напишите меня с рукой сжатою, ибо когда разожмется рука, будет скончание граду.
Подивился Никон Дорофеич сказанию, задумался, вспомнил всю свою прошлую жизнь и нынешнюю, долго молчал и спросил:
– А ты видел ныне Спаса Вседержителя?
– Видел намедни в заутреню.
– Ну, как же теперь пальчики?
– Я, может быть, и не достоин видеть все, – сказал ученый человек, – а только вот словно бы ладонная мякоть виднее стала…
– Разжимаются? – скоро спросил Никон.
– Не говорю, что прямо разжимаются, – строго остановил его нездешний человек, – а ровно бы чуть-чуть ослабели, ладонь показалась.
– Ослабели, ослабели! – подхватил Никон, будто и дожидался только этого, – вот и народ ослабел.
– Воля! – молвил нездешний.
– Воля божья, – осмелился ответить Никон Дорофеич, – воля, я так понимаю, земля; чем больше земли, тем крестьянину свободнее.
– Воля волей, а суд судом, – сказал нездешний. И опять Никон изумился: как мог этот чужой человек отгадать все его мысли.
– Больше воли, строже палка, – сказал он.
– Мне палка не нужна, – ответил ученый.
– И мне не нужна, – сказал Никон.
– Стало быть, кому же палку сулишь?..
– Кто не слушается, вот у меня…
– Окоротись, – перебил ученый, – а знаешь ли ты из Писания: взявший меч мечом и погибнет. Палка нужна, а кто же той палкой бить станет?
Чуть подумал Никон Староколенный и сейчас же ответил:
– Царь, помазанник божий; он один может наказать нас после бога.
Сказал это так ясно, так твердо, словно «Верую» прочитал.
А погода за это время разошлась, дождь перестал, и пояснело. Расходиться нужно было, но Никону Дорофеичу дорог был этот человек, – не часто такие люди встречаются.
– Нынче суббота, – сказал он, – перебудь у меня, я баню тебе истоплю. Скажи, как зовут тебя и откуда ты?
– Зовут меня Тихоном, а сам я из Руссы, печник. Ежели я тебе не помешаю, то переночую с радостью; видишь, как глину размыло, дождем напитало мхи, а дорога в Руссу дальняя и все глиной да мхами.
Для гостя хорошо истопил Никон баню и вместе с ним попарился. После бани, поужинав, сели в красном углу, оба в чистых красных рубашках, в белых подштанниках, с очками на носу глядят в одну и ту же книгу – Библию, читают и толкуют по ней жизнь нынешнюю.
Далеко уже за полночь был у Никона с Тихоном такой разговор.
– Ежели в земле воля, а в царе сила, – спрашивал печник Тихон, – то отчего же теперь у нас слабость?
– Я царя не виню, – молвил Никон, – ежели царь плох, то не иначе, как за наши грехи.
– Мы виноваты в царе, – согласился Тихон, – а кто же из нас виноват?
Это сразу понял Никон и ответил:
– Обманули царя! Вот что, Тихон, мог бы я правду царю сказать, то упал бы в ноги: «Государь! вели мне дать двести палок, бей меня до смерти; невинный ложусь, только чтобы с меня началось, и бей после меня владык, и попов, и учителей, и купцов, и чиновников, и мужиков, всех бей, вороти назад свою строгость».
Усмехнулся Тихон-печник.
И, развернув Библию, прочитал, как говорил пророк Илия Ахаву-царю:
– «Жив господь Саваоф, пред которым я стою, долго ли будешь хромать на оба колена?» Вот как нужно сказать, вот каким голосом нужно с царем разговаривать. Но найдется ли на Руси такой человек смелый и не самозван чтобы, а богозван, где он, такой человек?
– Я!
Поздний был час. Тишина в избе. Голос был ясный, отчетливый в душе Никона: «Я!»
– И не самозван чтобы, а богозван, главное, чтобы не самозван, – говорил Тихон. – Где он, такой человек?
– Я! – был голос Никону, но гостю он не открыл.
Тихон-печник закрыл книгу, помолился и уснул, а утром никто не видал и не слыхал, как он встал, оделся и пошел домой в Старую Руссу.
IV
Был у Никона пчельник, и сад яблоневый рассажен был, и в саду между яблоньками, еще молодыми, разделывались грядки для овощей. С весны задумал Никон обнести это место можжевеловыми колышками и каждый день в свободные часы ставил новые колышки, когда три, когда четыре, когда пять. Но с тех пор, как побывал в гостях на Кладовой Ниве печник из Старой Руссы, остановились белые колышки. И было еще заведено у Никона, чтобы каждый день корчевать пень, два, три. Теперь и эта остановилась работа, выросла зеленая трава вокруг пней, и черные, обугленные, подготовленные к корчевке пни в зеленой траве стояли, как монахи в миру.
Все это видела Анна Ивановна, и то, что Никону Дорофеичу казалось началом нового, ей представлялось концом всякой жизни: слабела и слабела на глазах хозяйская рука. И главное – канава остановилась, а мох только и ждал, чтобы стала вода. Мох седой далеко вокруг нивы, на сотни верст лежит, на нем сосенки курносые в рост человека и березки корявые могут только расти. И седые головы мха словно пододвинулись к ниве, когда стала канава. Слабела и слабела хозяйская рука. Никон Дорофеич об одном только и думал теперь, как бы отвергнуться. Не о том, как попасть к царю, не о том, что говорить ему, думал Никон Дорофеич: разве думали пророки об этом? Отвергнутся они от земных уз – и ходят по воздуху, отвергнутся, и огонь небесный является в свидетельство их речей нечестивым царям. Об одном, как бы отвергнуться, только и думал теперь Староколенный. Тяжко ему теперь стало со своими мыслями быть на людях, сбил он себе наверху из досок келью, стал уединяться туда для молитвы и чтения. Полюбил образа и кресты старинной работы, всю пустыньку свою увешал ими, пил чай без сахара и ел одни корочки. Чаще и чаще ночевать стал в своей пустыньке, и там ему виделись сны, полные значе-ш1Я, как и у древних пророков.
Привиделось однажды Никону, будто стоит он против кузницы и смотрит на образок Спасителя, работы Ивана Алексеевича Сухого, и, как бывает во сне, чувствует, непременно ему нужно оглянуться назад. Обернулся он и видит: живой Спаситель стоит перед ним, в одной руке одежда, в другой – хоругвь о двух кончиках.
– Веруешь? – спрашивает Спаситель.
– Верую, господи! – сказал Никон.
И во второй раз ответил Никон твердо: «Верую!» В третий тоже хотел сказать твердо и вдруг смялся: была туча назади его, обнимающая полнеба; раньше он думал, что это настоящая туча, а теперь разглядел, что вся она из грешников, и у каждого из них дощечка с грехами, и все до одного теперь свидетелями смотрят. И он смялся в третий раз и ответил:
– Ты, господи, знаешь, помоги мне.
С этим проснулся. Хотел тут же идти лошадь запрягать, ехать в Новгород исповедоваться священнику и на исповеди открыться, что видел живого Христа. Что-то удержало его, и поездку он отложил до пятницы. В четверг под пятницу снится ему опять, будто он в Петербурге казенным десятником; рубашка на нем новая, штаны новые, картуз городской, сапоги блестят вычищенные, фартук белый, жилетка, часы и цепочка серебряные. Идет он казенным десятником мимо дворца, а с балкона государь Александр Второй подзывает к себе. Государь огромного роста, во всех орденах, лицо строгое.
– Ты казенный десятник? – спрашивает государь.
– Точно так, ваше царское величество, – ответил Никон.
– Десятник, знаешь ты свою обязанность?
– Точно так, знаю, ваше царское величество!
– Ну, так ты ее выполни, слышишь, ты свою обязанность выполни, выполни!
Три раза повторил государь «выполни» и строго, во всей царской полноте приказал это.
Очнулся Никон в своей пустыньке и первое, что увидел, – любимый образок Спасителя, помолился на образ и трижды поклялся выполнить свою обязанность. Из окошка виднелась изгородь, можжевеловые колышки окружали до половины пчельник и сад; возле последнего колышка пень стоял с воткнутым в него топором. Никон посмотрел на этот топор, спустился вниз, вынул топор и вошел в избу. Анна Ивановна обрадовалась, – думала, точить он хочет, за работу принимается, и подает ему брусок. А Никон стал на лавку, со всего маху воткнул топор в матицу и говорит:
– Будь свидетельницей, Анна Ивановна, и дети мои, будьте свидетелями: ежели Никон Дорофеич свою обязанность не выполнит, срубить ему этим топором голову.
В страхе спросила Анна Ивановна:
– Какую обязанность?
– Про то мне знать! – ответил Никон и пошел запрягать лошадь.
Был день базарный и время года, когда много бывает на базаре снетков и сушеных ершей, и все, кому нужно дешево купить, запасаются. Анна Ивановна выпросилась у мужа ехать с ним вместе покупать рыбу. И поехали муж с женой вместе на одной телеге, молча: она снетки покупать, он – к царю. Когда выбрались из мхов, и засверкали впереди золоченые главы Юрьевского монастыря, и Никон помолился и словно чуть повеселел, – Анна Ивановна осмелилась:
– Открой мне, Никон Дорофеич, для чего ты воткнул топор? Худого тебе от меня еще не было.
И заплакала слезами женщины, без вины виноватой. Увидев эти слезы, одумался Никон и как-то сжалился: худого он, правда, от жены в жизни своей ничего не видел, кроме хорошего, и только хотел было рот открыть, чтобы все рассказать, вдруг вспомнилось, как лишился Самсон своей силы за то, что открыл тайну женщине, и удержался.
– Не горюй, Анна Ивановна, сейчас я не могу тебе сказать, а скоро узнаете все.
И задумался. Вспомнилось ему, что он беспаспортный, что если хорошенько за него взяться, так и по этапу на родину, а семья теперь уж девять человек, и что с ними без него будет, ежели его казнят, да и как беспаспортному идти к царю.
Подумал о всем этом и представил, что назад вернуться нужно и топор вынимать и рубить им снова можжевеловые колышки, – тошно стало, припомнились огненные речи пророков к царям, и жалость к семье как задавило.
Ехали вблизи Волхова. Множество рыбаков везли из Паозерья рыбу на базар. Анна Ивановна вспомнила о снетках и сушеных ершах, у кого купить, да как купить, ia сколько, – беспокойные мысли отстали на время. Приехали в Троицкую слободу, свернули к Волхову мосту и только поравнялись с часовней Чудного Креста – бах! бах! ударил звонарь в большой колокол на Софийской звоннице.
Бах! – опять, и еще в Юрьеве ударили, и в Кирилловом, и в Десятинном монастырях, у Иоанна Предтечи и у Федора Стратилата, во всех церквах звонили, и весь город звонил. И народ сломя голову бежал по Волхову мосту, валом валил с Торговой стороны на Софийскую площадь.
Свернул к стороне Никон, слез, придержал лошадь и спрашивает, не пожар ли где, что народ так бежит? В нынешнем Новгороде ведь только на пожары и собирается народ.
Спрошенный посмотрел на Никона особенно и строго.
– Какой тебе пожар? Царя убили!
Никон так и дернулся, как лошадь, когда цыган, бросая жильную кровь, наставит острие и тяпнет вдруг.
Когда опомнился, перекрестился, дал вожжи жене и говорит:
– Ну, Анна Ивановна, поезжай скорее домой, тут тебе теперь делать нечего. Да ну, поезжай, говорят тебе, что ты стоишь, как ополоненная!
Повернул лошадь назад, хлестнул кнутом и побежал, куда все бегут.
Без памяти ехала Анна Ивановна и только возле Юрьева монастыря опомнилась немного и завопила.
– Чего ты голосишь? – спрашивали ее.
– Царя убили, – говорила она.
Кто слышал это, бежал в город и на ходу другим говорил, и все бежали, как на самый большой пожар, и как на пожаре сходятся такие люди, каких нигде никогда не увидишь, так и тут сбежался всякий невиданный медвежий народ.
– Царя убили, царя убили! – бежала весть от рыбака к рыбаку в глухом Паозерье, от одного лесного жихаря к Другому и к третьему.
На Софийской площади шпалерами стояли войска, господа кучками жались друг к другу, шептались, черный народ все прибывал и прибывал из слобод.
Никон все смотрел: не слетит ли софийский голубь? Но плотно сидел на кресте голубок, и мало-помалу одумался Никон. Была у него привычка, когда попадал в непонятную, дурачка валять: прикинется, будто он удивляется чему-нибудь наверху, и даже рот разинет, а сам так незаметно пододвинется, где больше говорят, и не то что ушами, а и своим открытым ртом слушает и мотает на ус. Теперь он уставился на софийского голубка и вплотную пододвинулся к двум девицам- в господской одежде: одна, постарше, слушала, а другая, молоденькая, в белой шубке, рассказывала, как убили царя, как он из кареты вышел и прислонился к решетке и как опять бросили бомбу.
Укусил себя за язык Никон Дорофеич. Как это может быть: весть только что прибежала в Новгород, только что ударили, а девица уже все подробно знала.
Часто-часто говорит белая девица, птичкой щебечет, разливается, а у Никона стопудовые жернова в голове не могут размолоть малое зернышко: «Как это она все узнать могла?» И сон, опять тот же самый сон с ясностью вспоминается, будто снова и наяву уж видится: стоит государь на балконе, а он идет мимо казенным десятником, и государь подзывает его и трижды велит ему, во всей царской полноте велит, выполнить обязанность. И теперь вот опять площадь, только дворца нет, – и государь убит, и вот эта самая девица… Больно-пребольно укусил себя за язык Никон Дорофеич и, все не спуская глаз с голубка, стал выпрастывать из-под тулупа руку и, когда освободил, еще ближе подошел к белой девице.
А она повернула к нему лицо; глаза у ней были как у мальчишки, и словно это Никону она говорила и всем, кто бы ни подошел.
– Так не сумеют сделать и во Франции, – молвила девица прямо в лицо Никону.
Стопудовые жернова в голове Староколенного вдруг повернулись от одного этого слова Франция. Слышал, что воля идет из Франции, и знал, что антихрист родится от седьмой девицы Наталии во Франции. Стопудовые камни повернулись и раздавили малое зернышко, все стало ясно: зачем покойник-государь приходил и какую велел обязанность выполнить. Это француженка Наталия убила царя.
Никон взял незаметно булыжник с острым концом, выпростал руку и наметился прямо в висок белой девице.
В прежнее время случалось Никону волков из берданки стрелять. Меткий он был и берданку свою хорошо знал; если под нижнюю шерсточку против левой лопатки метиться, непременно в сердце угодишь. Но все-таки и с ним, метким стрелком, случалось так: наметишься верно, а в самую последнюю секунду словно кто отвел мушку, и вот убегает волк, и столбик пыли виднеется от взрытой пулей земли. Кто это другой мушку отвел? Этого другого Никон считал за диавола.
– Ты десятник, ты свою обязанность выполни! – был царский приказ.
А другой, совсем другой голос ему прошептал:
– Никон Дорофеич, ведь ты беспаспортный; вот убьешь ты, заберут тебя, пока разберут, кого ты убил, семья твоя, девять человек, пропадет с голоду.
Послушался этого голоса, на минуту сдержал себя, и как раз тут-то раздалась барабанная трель, двинулись войска и разделили Никона с девицей. Когда прошли войска, опомнился: «Что же это я!» – и бросился туда, где стояла девица, но ее уже там не было. Стал он искать ее везде на площади, но нигде – на площади, и на улице, и в переулках – белой девицы не было… Изморился, измучился Никон в поисках и увидел, что все пропало, и камень из рук сам упал. А вот ясно так видно, стоит государь на балконе и скорбно так смотрит на него, не себя жалея, а его, Никона, как и господь на апостола Петра посмотрел бы, когда он трижды отрекся. Заплакал Никон и прямо, как был, пошел к попу.
Все рассказал, как задумал открыть глаза на всю слабость, что обманули его царя французы, евреи, немцы, владыки и чиновники, доктора, учителя, акушерки разные, как он голос слышал и видел живого Христа, и как царь во всей своей славе явился ему и велел выполнить свою обязанность, и как на другой день после этого оказался он убитым, и француженка Наталия на площади хвалилась этим, а он убить ее хотел и наметился уже, да вспомнил про свою семью и упустил.
– Не убить тебе надобно было, а поймать, – сказал поп.
Никон упал в ноги попу, просил архиерею представить, а ведь он может, он его к самому царю допустит.
– Ничего не выйдет, – сказал батюшка, – как же тебя владыка представит царю, когда на него же ты и жаловаться идешь? Чудак же ты! Ничего не выйдет.
И много еще рассказал поп, как трудно и даже невозможно к царю попасть.
– Ничего, ничего не выйдет, – отговаривал поп. А о француженке Наталии еще раз повторил:
– Жаль, очень жаль!
И посоветовал заявить в полицию.
Но Никон не пошел в полицию заявлять, а прямо домой, мохом и лесом. Дома, как посмотрел он на печальную Анну Ивановну, посмотрел, как все возле нее собрались, словно в ненастное время цыплята под курицу, посмотрел на топор, воткнутый в матицу, и говорит:
– Ну, рубите же мою голову, – Никон Дорофеич свою обязанность не выполнил!
А сам вынул топор и утром этим самым топором принялся отесывать можжевеловые колышки для изгороди.
V
Загадали в старину между собой мудрецы загадку: «Что сильнее всего на свете?» Один мудрец ответил: «Царь сильнее всего», а другой – что сильнее царя женщина. Пришлось вспомнить об этом Никону Дорофеичу на старости лет. Не повелось ему на Кладовой Ниве, до того не повелось, что хуже некуда, и все… из-за баб. Пока сыновья одного отца и мать слушались, все было ничего, а как поженились, все полезло врознь; такие злодюги невестки попались, алчные и неукротимые растащихи, – возом вози, они горсточками все перетаскают. Был Никон Дорофеич между ними как неезженый конь в трензеле; рванется в свою сторону, а бабы все скопом в другую, гнули упрямого старика, гнули; и стал он много, много мягче и тише и, может быть, вовсе затих бы, перебрался бы куда-нибудь в сторонку, в сарай, на безмолвное старческое житие и там в посте и молитве скончал бы дни своей смутной лесной жизни, да вот не пришлось так. Тихая, уветливая Анна Ивановна, пока жива была, незаметно втайне скрепляла дом, а как умерла и старик один остался – все разделились, зажили своими домами. И тут пошло у них воровство, пьянство, драка, брат на брата восстал. И все из-за баб! Какую-то укладку с платьями будто бы Никон Дорофеич удержал у себя при разделе, невестка озлилась и зажгла дом старика. И опять ни с чем он остался, едва сам выскочил, в чем был, и даже шапка сгорела. Хотел было смириться до конца, пойти с поклоном к злодюге-невестке, но вспомнил из книги Ездры, что еще сильнее женщины – истина. Так, в чем был одет – рубашка, штаны, без шапки, босой – пошел Никон прочь с Кладовой Нивы…
Шел, не обертываясь, берегом речки. По темной болотной воде из глубины леса плыли березовые дрова. Никон шел, куда плыли дрова.
Лес шумит, а дрова шепчутся. Дикий шум лесной – ничего в нем не понять человеку, а дрова человечьи, у них путь назначенный, они вымерены и сосчитаны. Сидят на поленнице лесные люди, сложив топоры и пилы, смотрят на плывущие дрова и беседуют. Когда вышел из леса белый старик без шапки, морщинистый, крепкий, крутой, как апостол Петр, лесные люди узнали его и окликнули. Но дед не слышал их голоса и, проходя мимо, не поклонился и «бог помочь» им не сказал.
– В себя не пришел, – сказал дядя Блин, – дети из дома выгнали; вот теперь идет к царю с жалобой. Крутой старик, а хозяин был отменный и человек божественный. Да вот не повелось ему с сыновьями.
– Отчего это бывает, – спросил лесной человек, – отец чуть не святой, а дети – воры, лентяи и пьяницы.
– Божественный человек, – ответил другой лесной человек, – в одну сторону смотрит: бог идет краешком леса, он смотрит на бога, а сын сидит в колчеватике.
– А я помекаю – за грехи, – молвил старый полесник.
– Грехи – это раньше было, – усмехнулся молодой.
– Раньше народ глуп был, греха боялся; нынче этого нет, греха нынче нету…
– В кого сыновья вышли… – перебил дядя Блин. – Вы лучше скажите, в кого у меня вышла телушка? Есть у меня коровенка бурая, на глазах очки, титьки только тронь, и бежит, и молока она дает четыре крынки с чашкой. Припустил я к ней бычка, и вышла коровенка – вылитая мать: и бурая, и в очках, и доиться тихая, вся в мать, а молока дает не четыре крынки с чашкой, а только две. В кого же это она у меня вышла?
– Дурак ты! – сказал Рыжий.
– Ты умный, – ответил Блин, – научи. Что нам о людях разговаривать, когда про телушку не знаем. В кого вышла телушка?
И дядя Блин повторил все с начала про свою бурую коровенку в очках.
– Дурак ты, дурак, битый дурак, – засмеялся Рыжий, – неужели ты все не понимаешь, в кого твоя телушка вышла?
– В кого? – спросил Блин.
– Да в быка! – молвил Рыжий.
Все лесные люди от этого одного слова так покатились со смеху, что поленница покачнулась и наклонилась к реке. А отсмеявшись, лесные люди вспомнили, что у Рыжего все дети вышли рыжие и только одна девочка черная.
– В кого девочка вышла, – спросил один полесник, – ну-ка отгадайте, в кого она вышла?
Другой полесник покопал в голове и ответил:
– В дядю Блина!
Осердился Рыжий да так свистнул обидчика в шею, что поленница рассыпалась, и сами полесники чуть-чуть с ней в реку не полетели. Отсмеявшись, отругавшись, снова принялись рубить и пилить.
А рассыпанная поленница чуть не вся скатилась в воду. Закружились березовые поленья, толк-толк одно в другое: «Тебе плыть вперед», – а другие спорят – «тебе», третьи на берег свесились, ни на земле, ни на воде, и думают: «Плыть или не плыть?»
Как живые, в диком лесу по черной реке плывут белые березовые дрова, шепчутся от человека полученным шепотом, плывут по назначенному человеком пути. А дед Староколенный идет к царю с жалобой на детей, на попов, на владык, на чугунку, на школы, на учителей, на монахов, на докторов, на слабые суды, на больницы, на евреев, на французов, на поляков, на немцев, на бесчестную торговлю, на безбожную науку, на всякое новое и чужое, от себя, а не от бога задуманное дело. И несет он к царю свидетельство времени: брат на брата пошел, сестра на сестру, дети на отцов. Несет старик знамения природы: земля перестала рождать, реки обмелели, мороз ослабел, а главное, самое главное, что в Софийском соборе в Новгороде от веков сжатая рука Спаса Вседержителя ныне разжимается.
От речки свернул дед зачем-то на белую дорогу и пошел по ней в лес. Стала дорога зеленеть; дед идет по зеленой дороге. Оборвалась зеленая, разбилась на множество троп. Дед идет по моховой тропе, по мягкой, и мягкая тропа сошла на нет, расступились высокие деревья, и открылись, как море широкие – мхи. Вокруг старика редкие сосенки курносые, рогатые корявые березки и под ними мхи: то темные, косматые и ушастые, то белые, как седые старики, то зеленые, покрытые красной журавиной, как каплями крови. Головой выше березок и сосен, без шапки идет седой дед-мошник, ныряет между моховыми подушками; то покажется его седая голова, то спрячется, то просветится он весь далеко между кустами, то снова скроется.
Солнць е видно на сером небе, нет пути, заблудился дед, потерял путь к царю, и кажется ему теперь, будто он на месте стоит на журавине, а идут к царю курносые сосны, корявые березки и всякая нечисть и дрянь лесовая: трем, кокоры, пни, лежины, сушины, грибы-плюхи, пыхалки, болиголовы, благушки. Он стоит, а они все идут, проплывают мимо него.
Во мху идешь, все кажется, будто кто-то за пятку хватает; заблудишься, уйдешь душой далеко-далеко, да так и вздрогнешь: живыми руками кто-то за пятки схватил. Опомнился – мох кругом, мох за ноги хватает, а где же я был сейчас? И вспомнишь все: где был, с кем говорил, кому улыбался, ниточку за ниточкой весь размотаешь клубок, и снова забыл про мох, и поверх сосен и березок кому-то улыбаешься, пока снова живыми руками за пятку не схватят.
Остановился дед на минуту, спохватился, огляделся, поправился и снова пошел, грозный, перебирая разговор с царем.
– От Исайи, от Исайи хвачу: «Слушайте слово господне, князья содомские!» – И только что начал царю смело говорить, как Исайя-пророк, вдруг схватило за пятку во мху:
– Никои Дорофеич! Что ты нос выше леса задрал, оглянись на себя, кто ты есть? Вспомни, как ты отрекся от меня и царя на семью променял. Тебе ли со мной разговаривать!
Выбился из сил старый дед-мошник и сел на красную журавину, как старый умирающий глухарь-мошник: смотрит на ягоды и уж не клюет. Везде, куда глаз хватит, все красная журавина, а он не клюет, нахохлился, глядит и не видит.
И прилетели настоящие глухари-мошники, клевали красную журавину и не боялись старика, словно это поседела одна зеленая кочка на мху. Напитался мох осенней водой, ни пройти по нем, ни прилечь. Куда хватит глаз – везде редкие курносые сосны и корявые березы.
Заболотилась, закислилась почва, не растет на ней настоящее дерево.
Черный Араб*
Длинное ухо
Сама родится новость в степи или прибежит из других стран – все равно: она, крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу.
Случается, джигит задремлет, и опустит поводья, и вот-вот прозевает новость.
Нет! Лошадь, увидев другого утомленного и задремавшего джигита, сама свернет и остановится.
– Хабар бар? (Есть новости?)
– Бар! (Есть!)
Лошади отдохнут, всадники поболтают, понюхают табаку и разъедутся. Миражи, как в кривом зеркале, отразят везде их встречу. Лишь у границы степи и настоящей песчаной пустыни новость чахнет, как ковыль без воды.
И рассказывают, будто земля лежит без травы и новостей серо-красная, и такая там тишина, что звезды не боятся и спускаются на самый низ.
Добрые люди мне посоветовали на время пути назваться арабом, и будто бы я еду из Мекки, а куда – неизвестно. «Так, – говорили, – скорее доедешь: и сунулся бы кто поболтать, – нет: араб ничего не понимает ни по-русски, ни по-киргизски». Я пустил этот слух, и вот побежало по Длинному Уху:
«На пегатом коньке с лысинкой едет Черный Араб из Мекки и молчит».
Новость побежала, как буран по степи, до настоящей пустыни, до тишины, до серо-красной земли, до низких звезд.
Но и туда, говорят, забегает оседланный конь. Там дикие кони без подков неслышно перелетают от оазиса к оазису, будто желтое облачко. Оседланный увидит их, скосится на спящего хозяина, брыкнет задом – и прощай!
– Хабар бар? – спросят дикие.
– Бар! – ответит подкованный.
И по-своему расскажет о Черном Арабе и пегатом коньке. Конь – по-своему. Я – по-своему.
Содержатель соленого озера – есть и такая должность – пустил слух из своего домика:
«Проезжему арабу из Мекки нужен зачем-то киргиз, знающий по-русски, пара лошадей и тележка».
Скоро под окном кто-то постучал и сказал:
– Араб здесь?
– Здесь араб! – ответил я и выглянул в окно. Там, на берегу соленого озера, стояла тележка и два сытых коня, а у окна – киргиз в широком халате и с нагайкой в руке.
– Что нужно? Откуда узнал обо мне? – спросил я его.
– От Длинного Уха, душа моя, – ответил этот киргиз и засмеялся.
Сверкнули белые, как сахар, зубы из-под алого сочного колечка губ, лицо закруглилось, желтое, как спелая дыня, глазки исчезли в узеньких щелках.
Мы долго чему-то смеялись.
У него все хорошо: и лошади, и тележка, и все кошемки, и все веревочки – все в лучшем виде.
– Моя лошадь телом не жирная и не очень сухая, масть вороная и саврасая. Чистые слова, – говорил Исак, мой будущий переводчик, спутник, товарищ.
– Чистые, чистые, – повторял я за ним.
– Ты, душа моя, верь мне, – просил он, – другой станет хвалиться: «Вот моя лошадь!» – а я такой привычки не имею.
Мы скоро поладили.
Стали укладываться, собираясь в далекое странствование, сотни верст от почтового тракта, по кочевым дорогам.
– Что, как убьют? – спросил я.
– За что убьют? – ответил Исак. – Раз мы их верблюда не трогаем, раз мы их лошадь не задеваем, какое им дело!
И вот, уложив сухари и всякие дорожные вещи, прикрутив крепко-накрепко все кошемки и мешки, перекрутив все еще раз веревками, мы с Исаком – в тележке. Карат и Кулат бегут размеренной рысцой, а назади в поводу мой пегатый конек. Показались на горизонте степные всадники. Длинное Ухо насторожилось.
– Хабар бар? – спрашивают одни.
– Бар! – отвечают другие. – Араб сел в тележку, а пегатый конек с лысинкой трусит назади.
Солнце согрело эту старую, зябкую по ночам землю, и теперь всюду полетели миражи. Телеграфные столбы почтового тракта ушли от нас, колыхаясь, как караван верблюдов. Зато головки гусей на длинных шеях вытянулись, и стоят на берегу соленого озера, и сверкают на солнце, будто фарфоровые чашечки телеграфных столбов.
Наша кочевая дорога вьется двумя колеями, поросшими зеленой придорожной травой, вперед и назад одинаково, словно это две змеи вьются по сухому желтому морю. Озеро – одно из тех обманчивых озер пустыни – блестит, как настоящее озеро. С воды поднимается птица и летит нам навстречу, размахивая двумя большими крыльями.
И вдруг будто сдунуло. Ни озера, ни птицы, ни верблюда – все будто рукой сняло.
Собака бежит нам навстречу, болтая ушами, как тряпками.
– Ка! – кличет ее по-своему Исак.
Собака, радостно взвизгивая, подбегает. Мы останавливаем лошадей. Желтая и тонкая, как пружинка, степная борзая собака. Она смотрит на нас ужасным для животного, раздвоенным взглядом, угадывая: мы или не мы?
– Ка! – зову я собаку.
Не мы! Она взвизгивает и мчится. Но сил нет, а впереди без конца дорога, как две змеи. Она садится на сухую землю и воет.
– Ка! Ка! – кричим мы в последний раз и трогаем лошадей.
Собака бежит к нам покорная, навсегда наша. И по виду будто довольна, и ничего с ней не случилось: не все ли равно, какому служить хозяину; впереди, как назади. Степь-пустыня везде одинакова. Степное большое солнце везде светит ровно, не мигнет, не заблудится за деревьями.
Свет и тишина… Собака бежит покорная. Но вой остался в пустыне, и раздвоенный взгляд остался. Длинное Ухо услыхало вой, и миражи заметили, как смотрела собака, потерявшая хозяина.
Пусто!
Для кого же светит в степи такое богатое и открытое солнце?
Тень одинокого облака, бродя от черепа к черепу, от косточки к косточке, будто указывает: вот для кого светит солнце в пустыне, – они тоже по-своему жили и выли, и не дешево досталась пустыне ее светлая тишина с миражами.
К полудню солнце в степи белеет. Мы останавливаемся у колодца попоить лошадей. Исак расстилает халат и молится богу. Карат, Кулат и Пегатый в ожидании, когда кончит Исак молиться, согнули головы и звездой смотрят вниз, в отверстие колодца: нельзя ли самим достать воду, а может, видят в этой воде, похожей на кофе, утонувшего степного зайца или крысу.
– Алла, алла! – шепчет Исак, падая на халат, и опять поднимаясь, и опять падая.
Его желтое лицо то сольется с сухим ковылем, то опять покажется на синем небе. Попадает, попадает, проведет ладонями по бороде, поднимет узкие, чуть-чуть раскосые глаза к небу и замрет, сложив ладони.
Даже кобчик не побоялся упасть в это время на птичку возле самого халата Исака, но промахнулся и помчался в степную даль. Исак будто и не заметил и все стоит на халате, ладони по-прежнему набожно сложены, но глаза без молитвы мчатся за птичкой.
В синеве заколыхалась большая белая чалма.
– Алла, алла! – быстрее замолился Исак.
– Мулла едет? – спрашиваю я, когда он повесил халат на тележку.
– Узбек на верблюде, – отвечает Исак.
И опять все сдунуло: не мулла, не узбек, а женщина-джигит, повязанная белым платком, мчится на коне. Она потеряла Мальчика.
– Не видали ли мы ее мальчика? – спрашивает женщина.
– Мы никого не видали, – ответил Исак, – только вот пристала собака. Не ее ли эта собака?
– Нет! – ответила женщина, спросила что-то Исака, меня, посмотрела на лошадей.
– Она спрашивает, – перевел Исак, – не видали ли мы араба на пегатом коне, – не он ли унес ее мальчика?
Исак на это ответил:
– Араб сидит тут в тележке и курит, а Пегатый стоит у колодца.
Тогда женщина, несмотря на все свое горе, спросила:
– Куда едет араб, зачем? Исак объяснил ей:
– Араб едет из Мекки, молчит, не он украл мальчика, а скорее всего Албасты, желтоволосая бесплодная женщина.
Наездница, как бы в ответ на это, хлестнула коня нагайкой и умчалась.
Мне тоже захотелось сесть на своего Пегатого и тоже быть причиной миражей, как эта женщина.
И вот я – степной джигит. На голове у меня малахай из меха молодого барана, обшитый сверху зеленым бархатом. На ногах мягкие козловые ичиги и сверх них тяжелые полуваленые, полукожаные саптомы. Полы бешмета обернуты вокруг ног и прижаты к седлу. Черный просторный халат закрывает и бешмет, и седло, и половину коня. В правой руке у меня нагайка, в левой – повода. И весь я в этой одежде, такой широкой, сижу на маленьком пегатом коньке с лысинкой. По виду – киргиз, по слуху – араб, – еду и сею миражи.
Опять на горизонте показываются всадники Длинного Уха. Два пустились мне наперерез. Но я их обману. Мне стоит только толкнуть тяжелыми саптомами Пегатого в бока, и края малахая на голове завертываются назад, как уши у гончей. Ветер свистит. Конек кипит. Степь оживает. Она не мертвая: она вся живая от конца до конца и вся поднимается, вся отвечает человеку.
– Берге (сюда), джигит! – кричат назади.
Я оглядываюсь. Оба всадника стоят на дороге далеко позади: у одного палка с петлей для ловли лошадей. С той стороны к ним подъезжает Исак.
– Хабар бар? – спрашивают они, когда мы съезжаемся.
– Бар! – отвечает Исак.
И рассказывает им по-своему, указывая пальцем на меня. Вот они видят теперь не мираж, а настоящего араба, слушают своими собственными ушами повесть о нем и наслаждаются.
– Ио-о! – восклицает один.
– Э! – отвечает другой. Только и слышно, что «о» да «э».
Чуть было и о деле не забыли. Как же! Они потеряли верблюдицу. Не видали ли мы их верблюдицу?
Нет! Мы верблюда не видели. Собака пристала. Видели женщину, потерявшую мальчика, а верблюда не видели.
Но все-таки джигиты уезжают очень довольные: посмотрели на живого араба! Теперь, через десять лет, через двадцать, если они приедут на это место, называемое Сломанное Колесо, то вспомнят араба со всеми подробностями: что малахай у него был зеленый и бешмет серый, а халат был подпоясан красным кушаком, и на лбу у Пегатого была лысинка.
Я поберег свою лошадку и сел опять к Исаку, и опять мы трусим по кочевой дороге и смотрим миражи.
До вечера у нас было еще несколько встреч. Возле местечка Закопанный Колодец нас остановили два джигита и долго говорили с Исаком.
– О чем говорили? – спросил я.
– Все о той же верблюдице, – ответил Исак. Вторая встреча была возле пересохшего ручья, когда от камней и черепов на степь легли вечерние тени.
– Про что теперь говорили? – пытал я Исака.
– Да все про ту же верблюдицу, – ответил он.
Под самый вечер мы увидели в степи тележку с опущенными оглоблями и подумали: «Это оставила женщина, потерявшая мальчика». Все встречные всадники потом до самого заката спрашивали о женщине, потерявшей мальчика, и рассказывали, что у верблюдицы волк утащил верблюжонка.
Когда солнце совсем близко подошло к степи, с чистого места поднялись три гуся – признак близости озера. А когда наконец Исаку непременно нужно было омываться перед вечерней молитвой, мы подъехали к большому, но сильно заросшему камышами пресному озеру.
Солнце будто бы стыдится вечером, думают киргизы-магометане: оно краснеет, потому что когда-то его считали за бога. Исак молится не солнцу, как хочется думать, а невидимой отсюда Каабе.
– Алла, алла! – падает он на халат.
Два последние всадника, рассказывавшие о волке и верблюдице, тоже сходят с коней. Вот на красном небе показались их черные халаты, и вот они сами то покажутся с воздетыми к нему руками, то сольются с землей.
– Алла, алла!
Теперь вся степь расстилает халаты и шепчет: «Алла!» У всех лица озарены заходящим солнцем, и только степные храмы-могилы все такие же черные.
Пока Исак молится, я хочу пройтись к озеру. Оно чуть не на версту заросло камышами. По еле заметной тропинке я вступаю в их лес, скрывающий от меня все. Тут, в этих зарослях, водятся гуси, ночуют дрофы; волки, наскоро оторвав у баранов жирные курдюки, закусывают и отдыхают. Тигры – намного южнее; но все-таки в полумраке такого сухого леса жутко. Тропинка сворачивает в другую сторону от Исака, уводит от озера, опять куда-то сворачивает, приводит к яме, наполненной водой, и опять ведет неизвестно куда.
Слепая тропинка.
Какая-то незнакомая птичка насвистывает.
«Что это за птичка такая? – думаю я. – Никогда в жизни не приходилось слышать таких голосов. Мне непременно нужно увидать эту птичку». Итак, я иду по слепой тропинке. Везде по сторонам в сухих камышах пугающие шорохи, и впереди то затихающий, то вновь зовущий голос незнакомой птички.
Я иду скорее, бегу от наступающей в камышах тьмы, сбиваюсь с тропинки, ломаю с треском камыши, падаю и, наконец, ясно вижу красный свет заходящего солнца и редкую черную сеть последних камышей.
Никакой птички за камышами нет. Между мною и красным диском солнца – черный купол степной могилы, высокий, как храм. Возле могилы движется стадо баранов, отливая красными на солнце курдюками, и с ними степенно едет старик пастух верхом на быке, посвистывая, будто птичка, и покрикивая:
– Чу!
– Берге! – кричу я старику, чтобы он подъехал ко мне и посмотрел с быка, где Исак.
Старик и бык услыхали.
– Чу! – крикнул старый на баранов.
Все стадо повернуло и двинуло ко мне. А за стадом – бык и старик.
– Руки, ноги здоровы? – приветствую я по-киргизски старика.
– Аманба, – отвечает он.
– Скот здоров?
– Аман. А как твои руки и ноги и твой скот? – спрашивает меня старик по-своему.
– Аманба. Аман, – отвечаю я.
Больше этого я ничего не могу сказать по-киргизски, а только показать рукой на камыши, где Исак.
Глажу доброго быка между рогами и приговариваю:
– Джаксы, джаксы!
Старик смотрит в камыши с быка; увидал Исака, обрадовался, понял.
Глажу доброго старика и приговариваю:
– Джаксы, джаксы, аксакал, хороший, хороший старик.
И он, добрый, слезает.
А я сажусь сам на быка, окруженного теперь множеством горбоносых баранов с отвислыми нижними губами, бородатых и рогатых козлов, овец, коз, ягнят, и во весь дух кричу над озерными камышами Исаку.
Исак давно отмолился и едет сторонкой, следя за мной по шевелящимся верхушкам камышей. Машет рукой. Зовет к себе.
Я свищу на баранов.
– Чу! – кричу на быка. – Берге, – зову старика.
Курдюки баранов колышутся, как резиновые подушки, козлиные рога между ними, словно живые вилы, все идут, бородатый козел впереди, старый киргиз позади – и так мы шествуем навстречу Исаку.
Недалеко, весь на виду, аул этого старика, несколько грязновато-белых шатров. Хозяин звал нас к себе переночевать, обещался зарезать для нас ягненка, но мы отказались: старик бедный, в ауле грязно, а тут у озера хорошо, и погода отличная. Старик что-то много рассказывал Исаку, помогал нам собирать сухой помет – кизяк – для костра и очень благодарил за несколько кусков сахару и сухарей.
– Что он рассказывал? – спросил я потом Исака.
– Все про того же араба, – ответил Исак, – про женщину, потерявшую мальчика, и про верблюдицу.
Ночью будто бы дочь этого старика хотела поправить мальчика в люльке, хватилась – нет мальчика; бросилась вон из юрты, а там на пегатом коне мчится с мальчиком в степь араб. Будто бы около этого же времени верблюдица хватилась верблюжонка, заревела и, не помня себя, унеслась. За ней ускакали женщина и сыновья. Так и остался хозяин аула на старости лет один пасти баранов.
Исак все рассказал бедному старику об арабе, уверял его, что мальчика унесла Албасты, желтоволосая бесплодная женщина, не араб, а верблюжонка – волк. Старик будто бы, по словам Исака, под конец поверил и сказал:
– Йо-о, Худай! Раньше, бывало, бесплодные женщины ходили ночевать и молиться в святые горы Аулие-Тау, за сотни верст, и великий Худай посылал им за это деток, а вот теперь стали красть мальчиков у бедных людей. Йо, Худай!
Так и уехал от нас старик, покачивая головой и приговаривая:
– Ох, уж эти бесплодные женщины!
Пегатый
Когда и как загорелась первая звезда, мы не заметили. Пока разговаривали со стариком, солнце садилось, и все время в ауле на красной заре дрались два козла. Старик угнал свое стадо в аул, а мы стали готовиться к ночлегу в степи. Попоили лошадей и покормили, надев им на морды мешки с овсом. Когда возились с лошадьми, воробьи слетелись к тележке; одни уселись спокойно на краю спинки, подставив грудки красному закату, другие бегали по тележке и переговаривались о всех событиях дня в степи. Потом мы вытащили из тележки кошму, сухари, чай, сахар, мясо и все разложили в степи. Подняли вверх оглобли тележки, перевязали ремнем и от ремня на уздечке почти к самой земле спустили чайник с озерной водой. Этот чайник Исак аккуратно, почти любовно обложил со всех сторон шариками сухого конского помета и поджег. Струя вечернего ветра как раз из-под тележки слегка поддувала, и под чайником горело синеватое пламя.
В это время в ауле остатки семьи старика возились со стадами. Что они там делали, нам было не видно: вероятно, доили коз, кобылиц и верблюдиц. У них там кто-то пел, и так просто и однообразно, будто это шалун-мальчишка позвякивал ручкой ведра. Под звуки этой песни стада постепенно ложились на землю. И вот, когда опустились два верблюда, и весь скот сравнялся, и песня смолкла, тогда я увидел первую звезду. Ее будто спустили к нам на серебряной нити – такая она была большая и низкая.
– Чолпан! – сказал Исак. – Пастушеская звезда восходит, когда стада возвращаются с поля, и меркнет, когда стада уходят утром кормиться. Самая хорошая наша звезда.
Она, конечно, была на небе давно, но мы ее заметили только теперь. Другая звезда всегда есть на небе, если первая замечена, а приглядеться – есть и третья, и четвертая.
Еще немного, и вот уже везде ворожат над нами созвездия.
Вдруг все изменилось. Чайник вскипел и брызнул из носика на кизяк. Зашипело. Исак встрепенулся и снял чайник. Тогда изнутри этой маленькой башни, сложенной из сухих шариков, в освобожденное от чайника место вырвалось беспокойное красное пламя. И небо, все это небо, с его большими пустынными низкими звездами, исчезло от маленького земного, но близкого нам пламени.
Исак на это не обратил внимания, заварил чай и привесил на конце уздечки котелок с водой для мяса. Как только котелок с водой прикрыл беспокойное пламя, небо снова открылось.
Чай настоялся. Мы сидим с Исаком друг против друга, поджав ноги по-восточному, и пьем чай вприкуску из китайских чашек без блюдечек, придерживая их снизу пальцами. Теперь мы говорим о звездах попросту.
– Что я могу сказать об этой звезде? – указал Исак кусочком сахара на небо.
– О какой? – спрашиваю я, – об этой? – и тоже своим кусочком сахара указываю на Полярную звезду.
Исак мычит в знак согласия и кивает головой. Что я могу сказать Исаку о Полярной звезде? Да, она неподвижная.
– И по-нашему она неподвижная.
– И у нас и у вас одинаково! – удивляюсь я.
– Все это видно на небе с древних времен, – отвечает Исак, – и у нас и у вас, везде одинаково. У нас она называется Железный Кол. А что можно сказать о двух звездах, яркой и тусклой, недалеко от Железного Кола? – спрашивает опять Исак.
– Это две звезды в хвосте Малой Медведицы; я о них ничего не знаю.
– Это два коня, Белый и Серый, – объясняет мне Исак, – оба привязаны за Железный Кол и ходят вокруг него, как Карат и Кулат вокруг тележки. А эти семь больших звезд, – указывает Исак на Большую Медведицу, – семь воров хотят украсть Белого и Серого коней, а они не даются и все ходят себе и ходят вокруг Железного Кола. Когда семь воров поймают Белого и Серого коней, будет конец миру. Все это видно на небе с древних времен. Все звезды что-нибудь значат.
– А эта кучка звезд? – указываю я на Плеяды.
– Эта кучка звезд – овцы, испуганные волком. Знаешь, как овцы от волка собираются?
– Неужели и волк есть на небе?
– Да вон же волк, душа моя!
И показывает мне кусочком сахара волка на небе.
– На небе, как на земле! – говорю я, удивленный.
– Как в степи, – отвечает Исак, – вон и мать тоже ищет ребенка.
– Может быть, есть и араб?
– Э-э!
– И Длинное Ухо?
– Э-э!
Мы молчим. Звезды тихо мерцают над нами, будто дышат, будто заметили нас возле тележки, и улыбаются, и шепчутся; и от звезды к звезде и по всему Млечному Пути такая большая семейная радость.
Звезда у звезды спрашивает, как джигиты в степи:
– Хабар бар?
– Бар! Араб чай пьет под звездами.
Исак зажигает от кизяка сухую тростинку. Он хочет ею осветить котелок и узнать, не поспело ли мясо. Отрезал ножом кусочек, пробует.
Котелок снят. Костер пылает. И неба со звездами опять будто и нет. Земное пламя освещает нашу тележку и небольшой круг сухой травы на степи.
Мы расстилаем грязную тряпку вместо скатерти и едим по-киргизски: прямо руками, швыряя кости нашей собаке. Она где-то во тьме под тележкой хрустит. Карат и Кулат шуршат травой. И какая-то большая птица все укает над нами и укает. Поравняется с нами, укнет, и опять надолго пропадет, и опять укнет. Это птица Юзак, будто бы жених, потерявший невесту.
Сверкнул какой-то огонек, похожий на зигзаг тлеющей спички. Фыркнули кони. Волк!
Мы стреляем по огоньку: снопы красного огня летят в тьму. И на гул выстрелов отвечает лай собак и гомон в ауле.
– Где лошади?
– Тут.
Заливаем пылающие шарики конского навоза остатками чая. Небо открывается нам на всю ночь. А месяц, будто венчик святого, показывается на краю степи. И в свете его на другом краю неба гаснут Плеяды – испуганное стадо овец, и волк, и мать, потерявшая ребенка, и часть Млечного Пути. Остаются только самые крупные звезды.
Ложимся по ту и другую сторону тележки на кошме. Под подушкой у меня малахай, в ногах – саптомы, сбоку – ружье, сверху – вторая теплая кошма. На стороне Исака кормятся Карат и Кулат, на моей – Пегатый. Чуть что – нужно сбросить с себя кошму и выстрелом пугать волка.
Вот и теперь ясно вижу, как птица Юзак, тоскующий по невесте жених, совершает свои большие круги под звездами; вот он над нами укает, вот дальше, вот не слышно, и опять приближается. Ищет, зовет, укает, но все по тем же и по тем же кругам. Безнадежно печальны эти стоны тоскующей птицы высоко над пустынной землей, но ниже звезд.
Карат подошел и чешется о тележку.
– Чу, Карат! – кричит на него Исак.
Лошадь переходит на мою сторону, к Пегатому. Теперь на моей стороне два коня. На небе четыре вора из семи один за другим медленно спускаются вниз, надеясь в эту ночь обмануть Белого и Серого коней у Железного Кола.
«Отчего тут звезды такие большие и низкие?» – думаю я, завертываясь в кошму. И кажется мне – оттого это, что земля тут подо мной такая сухая и старая. Чем старше земля, тем будто ниже и звезды. Чего им бояться?
– Чу, Кулат!
Открываю кошму. Второй конь переходит на мою сторону, а Пегатый ушел далеко и чуть виднеется, окруженный блестками мороза на ковыле, будто звездами.
Не слишком ли далеко ушел Пегатый? Подняться? Холодно. Исак спит.
Я надеваю на голову малахай, хочу встать, но вместо этого завертываюсь кошмой, согреваюсь дыханием и опять думаю: «Не слишком ли далеко Пегатый ушел по этим звездам?» Вот промчится желтое облако диких коней – и прощай Пегатый!
Хочу встать – не могу.
А Пегатый будто вот уже и подходит на самый край степи-пустыни. Земля серо-красная. Звезды спускаются и лежат. Мчится желтое облачко диких коней; увидали Пегатого, остановились, ржут, зовут. Звезды колышутся, поднимаются и опять опускаются, как искры, потревоженные лодкой на море. Пегатый согнул крутую шею, искоса, одним глазом смотрит на хозяина возле тележки.
«Спит ли? – спит!»
Высоко сверкнули подковы над степью-пустыней.
От оазиса к оазису перебегают дикие кони. Останавливаются при встрече.
– Хабар бар? – спрашивают старые.
– Бар! – отвечают молодые. – У края степи, возле самой пустыни спит Черный Араб, а пегатый конек с лысинкой здесь.
– Это там, на простой земле, он пегатый и с лысинкой, – поправляют старые мудрые кони, – а здесь его имя пусть будет отныне и до века – гнедо-пегий конь с белой звездочкой.
Степной оборотень
Рамазан, девятый месяц лунного года, был на исходе. В ясное утро показались степные горы, как высокие синие палатки великанов-кочевников. Степь взволновалась, дорога стала неровной; ведро с водой, привязанное нами к дрожине, расплескалось и зазвенело.
– Это хребет земли, страна Арка, – сказал Исак. – Счастливая страна! Тут баранина жирная и кумыс пьяный, как вино, – лучшая в мире страна для пастухов.
Семь юрт у подножия горы, будто семь белых птиц, уснули и спрятали между крыльями головы. У колодца, обложенного камнями, сидит девушка и стрижет овец.
– Примет ли нас Джанас? – спрашиваем мы, как язычники спрашивали Авраама в земле Ханаанской.
– Примет…
Вот он сам, седой, старый, выходит из юрты с двумя сыновьями. Все трое одеты в шкуры молодых жеребят. Старик прикладывает руку к сердцу.
Руки здоровы. Ноги здоровы. Овцы здоровы, верблюды, кони – все здорово и у них, и у нас. Слава богу, аман!
Сыновья приподнимают войлочную дверцу юрты. Отец, кланяясь, просит войти; девушка со звонкими подвесками бежит к колодцу стричь овец.
В юрте пастухов – будто внутри воздушного шара, и даже есть вверху отверстие, которое можно открыть и закрыть.
Наверху круг еще синего неба; внизу на земле три черных, обожженных камня с рогулькой – очаг. За очагом, против входной двери, обращенной к Каабе, устлано ковром место для гостя, а тут же, рядом с ковром, растет ковыль. Кругом все увешано.
Сам хозяин подает гостю воду омыть руки. Сыновья держат наготове полотенце. Один из них глядит на гостя острыми и дерзкими глазами; у другого больше заметны и кажутся почему-то добрыми его желтые босые ноги и растрепанная копна волос. Вспоминается: Каин был земледелец, Авель – пастух.
В степи еще солнце: когда войлочная дверца открывается и кто-нибудь входит – слепит глаза, и потом долго плывут фиолетово светящиеся склоны и огненные табуны. Входят поочередно все родственники хозяина, похожие друг на друга. Войдет и сядет, поджав ноги, у очага, войдет и сядет, и кажется, кто-то читает из большой древней книги: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова…
Но приглядеться – они не все одинаковы: у одного, очень толстого, такая маленькая тюленья голова; у другого, тоже толстого, с губ висят черные крысиные хвостики; у третьего, толстого, хвостики обкусаны; четвертый – поменьше всех и лицо медно-красное.
Они все сидят кругом от кровати до хомута и молча глядят и жуют.
Вот уже целый месяц я блуждаю в степи по кочевым дорогам, и со мною блуждает мой двойник, Черный Араб. Длинное Ухо от края до края разнесло о нем весть. Едет из Мекки, но куда – неизвестно. И вот наконец попался.
– Куда едет араб?
Со всех сторон впиваются зоркие степные глаза. Где-то сверкает из полуоткрытого рта белый и острый зуб, будто готовится раскусить араба, посмотреть, что в нем. И вот уж один сел близко-близко, смотрит так долго и пристально, что, устав, валится на подушку и храпит.
Другой подвинулся…
Довольно миражей…
– Я не араб!
– Йо-о! – воскликнул толстый с тюленьей головой.
– Йо! Алла! Он не араб! – заговорили другие. И все разинули рты.
– Кто же он? Что ему нужно?
– Ему ничего не нужно, – объясняет Исак, – это ученый, он не берет от степи ничего: ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.
– Йо, Худай, не дух ли это предков, аурах?
– Нет, он ест сухари, пьет чай, спрашивает о траве, о баранах, о звездах, о песнях, охотится, сам варит, ест, как киргизы, руками, богу не молится.
– Шайтан! – шепчет толстый с крысиными хвостиками.
– И не шайтан, – уверяет Исак, – шайтаны злые, это ученый из Петербурга, добрый…
– У него не мягкий ли палец на правой руке? – спрашивает толстый с обкусанными крысиными хвостиками.
У кого в большом пальце правой руки нет костей, тот Хыдыр, святой.
Смотрят на руку, трогают палец – палец у меня твердый. Гость – не араб, не аурах, не шайтан, не святой.
Исак им объясняет и час и два; лица краснеют, глаза горят, но тайна Черного Араба по-прежнему не разгадана.
Все щелкнули языками.
– Джок! Нет, непонятно.
Входят в юрту новые и новые люди, все присаживаются к очагу, глядят, спрашивают, и все щелкают языками и говорят:
– Джок! Нет, непонятно.
Чуть колышется войлок юрты: кто-то снаружи прокапывает в нем дырочку, и вот уже там блестит узкий и черный глаз. Посмотреть туда пристально – скроется, отвернуться – опять глядит. Нагляделся досыта, исчез; дырочка засветилась, как звезда. Теперь этот глаз, наверно, уже встретился со многими такими же узкими черными глазами. Там собрались все женщины, шепчутся – и араб, как степной оборотень, превращается из мельчайшего, в булавочную головку, джинна – в ужасную Албасты. И кто знает? Быть может, тайна Черного Араба сейчас тут же, в кустах чиевника, готова остановить поцелуи влюбленных; быть может, бесплодная женщина, собираясь отправиться ночевать в святые горы, смутила свои чистые мысли?
Но все кончилось просто.
Кто-то спросил:
– Есть ли отец у гостя?
Все обрадовались простому вопросу и подвинулись.
– Есть отец.
– А мать?
– И мать есть, и братья, и сестры, и бабушка, и дедушка, все равно как и у вас в степи.
– Все ли живы?
– Все живы, и все живут в Петербурге.
– Йо! – радуется старик, похожий на Авраама.
– Сколько же там в Петербурге домов?
– Тысячи!
– О! – вырвался из открытых ртов, общий радостный крик.
– А есть ли в Петербурге бараны? – спросил Авраам.
– Есть, но там не с курдюками, как в степи, а так.
– Как так?
– Без курдюков, с козлиными хвостиками.
Как искра, перелетела улыбка с губ переводчика внутрь этих открытых ртов с белыми, острыми зубами. Загорелись пороховые склады под широкими халатами, и наш воздушный шар будто лопнул и разорвался в клочки – так хохочут в степи!
Тот, уснувший на подушке, вскочил, протирает глаза, спрашивает, что случилось.
Ему отвечают:
– В Петербурге бараны не с курдюками, а с козлиными хвостиками.
Он падает на подушку в судорогах, как подкошенный. Падают назад, на спины, хватаясь за животы: и тонкий с медно-красным лицом, и толстобрюхий с крысиными хвостиками, и похожий на него другой толстый, и тот, что с тюленьей головой, и молодец с раздвоенной бородой, Авраам и даже Исак. Приподнимутся, посмотрят на гостя, и опять лягут, и колышут своими животами халаты. Кто может, подвигается поближе и поглаживает добродушного, прежде таинственного и страшного, Черного Араба.
И слышно, звенят за тонкой стенкой монеты на косах. Не боятся влюбленные в кустах чиевника. Не смущаются мыслями бесплодные женщины в святых горах. Он не страшный, этот Черный Араб, и будто жил он тут всегда, тысячи и тысячи лет.
Орел
Верхами на маленьких лошадках, похожих на куланов, едем мы к пустынной горе Карадаг ловить охотничьих орлов, беркутов. У меня к седлу привязана орлиная сеть, у спутника моего Хали в руке приманка: кровавое дымящееся сердце только что убитого нами горного барана архара. В долине горы Карадаг мы ставим орлиную сеть так, чтобы падающий камнем за добычей орел мог свободно залетать в ее отверстие и остаться в сети, бессильно распустив крылья. Внутри этого сетяного шара мы оставляем кровавое сердце и сами прячемся в ближайшей пещере.
До рассвета в темной пещере знаменитый охотник на беркутов Хали мне рассказывает про орлов, как они на охоте ловят зайцев, ломают спину лисицам и, если с малолетства приучать, даже и волка останавливают. До рассвета мы шепотом беседуем про орлов и, когда начинает светлеть и черная гора наверху зацветает, видим, как один орел делает круг над нашей долиной. Полет его такой спокойный, – кажется, это мальчики змей запустили и где-то держат невидимую нам нить. Он сделал круг над нашей долиной и скрылся на вершине горы: конечно, заметил добычу, но сразу взять не решился. Верно, он там посоветовался со своими или проверил хозяйство, обдумал, стоит ли рисковать. С тревогой, затаив дыхание, ждем мы в своей пещере орлиного решения и вот видим, орел вылетает, делает еще круг, на мгновение как бы останавливается в воздухе над ловушкой и вдруг камнем падает на кровавое сердце архара, и нам в пещере слышен шум падающего орла.
Да, он упал.
Мы спешим к ловушке, он упал и запутался, но пока повадки своей орлиной не бросает: клюв открытый, шипит, сердито нахохлился, запрокинул назад голову, и глаза мечут черный огонь. Но Хали не обращает на это никакого внимания, обертывает орла сеткой, как рыбу, подвешивает к седлу, и по блестящим искоркам осеннего мороза-утренника мы возвращаемся в аул с богатой добычей.
Мы радость привозим в аул: не часто попадают в сетку орлы, и за хорошие деньги можно сбыть его богатому Мамырхану, любителю охоты с орлами. Только перед тем, как продавать, конечно, нужно приручить орла и приучить к охоте.
И вот мы приручаем и приучаем его ловить зайцев, ломать спины лисицам и, может быть, если орел окажется очень хорош, на всем ходу останавливать волка.
В нашей юрте от стены к стене мы протягиваем бечеву, посредине сажаем орла, привязываем его лапы к бечеве, надеваем на голову кожаную коронку и закрываем ею глаза. Слепой и привязанный орел сидит на бечеве, балансируя, как акробат, а веревочку нарочно всегда шевелят и дергают, чтобы ни на одну минуту орел не успокоился и не пришел в себя: он должен себя самого навсегда потерять и свое совершенно слить с волей своего хозяина. Орел должен сделаться таким же послушным, как собака – друг человека.
Вокруг юрты, прислонившись спинами к подушкам, сидят, пьют кумыс киргизы-охотники, и среди них на самом почетном месте сидит и ест кувардак из жеребенка самый главный любитель охоты, владелец пяти тысяч голов лошадей, наш почетный гость Мамырхан, Он глаз не сводит с орла, и чуть только тот успокоится, делает знак, и киргиз дергает за веревочку.
Наелись охотники баранины и жеребятины, напились кумысу, улеглись спать, но и тут нет покоя орлу: кому надо бывает по своей нужде выйти из юрты, проходя непременно дернет за бечеву, и орел на пол-юрты взмахнет крыльями; кому забота на душе и надо проверить, все ли целы бараны, не крадутся ли волки, – тот, проходя мимо орла, непременно потрясет веревку. И даже кто, с боку на бок переваливаясь, заметил в покое орла, хлещет по веревке нагайкой. Так проходит день, два; задерганный, слепой, голодный орел еле-еле сидит, нахохлился, распустил перья, вот-вот упадет и будет висеть на веревке, как дохлая курица. Тогда снимут с глаз его кожаную коронку и покажут – только покажут! – кусочек мяса. А потом опять ставят орла, и это мясо вываривают и дают немного поклевать этого белого вываренного бескровного мяса. Продержат, подергают еще дня два, показывают свежего, кровавого, теплого, дымящегося мяса и отпускают орла.
Теперь, как пес, плетется орел за мясом по юрте. Мамырхан, довольный, улыбается, смеются охотники, маленькие дети подхлестывают орла прутиком, и даже собаки удивленно и нерешительно смотрят, не знают, что делать: по перьям – орел, хватать бы его, а ведет себя, как собака – друг человека.
– Ка! – кричит киргиз. – Ка!
Орел плетется себе. И над царем птиц все покатываются.
Мамырхану очень понравилась птица. Он сам хочет испытать орла на охоте, садится на коня, показывает орлу кусочек мяса:
– Ка!
Орел садится к нему на перчатку.
Мы едем охотиться туда, где много водится зайцев, – к пустынной горе Карадаг. Вот загонщики и выгнали зайца, кричат:
– Куян!
Заяц бежит по той самой долине, где мы поймали орла. Мамырхан снимает с глаз орла коронку, отвязывает цепь и пускает. Взлетает орел над долиной, с шумом, как камень, бросается, – вонзил в зайца когти, пригвоздил его к земле.
Вот клевать бы, клевать и, что еще проще: взмахнуть крыльями и унести зайца на вершину горы Карадаг. И, может быть, он уже и подумывает об этом, алая горячая кровь бежит у него из-под лап, в глазах опять загорается черный огонь, крылья раскрыты…
Мгновенье еще, и он улетел бы в горы к родным и был бы свободен, и, наученный, никогда бы больше не попадался в человеческую ловушку, но как раз в это мгновение Мамырхан крикнул:
– Ка!
И показал вынутый из-за голенища припасенный в ауле кусочек мяса.
И этот полувысохший, пропитанный потом и дегтем кусочек имеет какую-то силу над могучим орлом: он забывает и горы свои, и семью свою, и свою богатую, еще теплую добычу, летит к седлу Мамырхана, позволяет надеть себе коронку на глаза, застегнуть цепь. Магический кусочек мяса Мамырхан опять прячет за голенище и спокойно берет себе зайца.
Так приучают орлов.
Волки и овцы
Старый козел просунул к нам в юрту свою бородатую и рогатую голову.
– Желает гость козла или барана? – спрашивает хозяин.
– Барана желает гость, – отвечает Исак.
– Молодого или старого?
– Молодого желает гость.
Старик просит прощения: летом было мало дождя, – молодые бараны сухи, но он попробует выбрать.
И уходит.
Ставят на три камня очага огромный черный железный казан, наливают в него ведрами воду, подкладывают в огонь шарики конского навоза. Готовятся к пиру.
Черноногий молодой пастух на кровати запел о горбоносом баране, о госте, о какой-то долине с пятью тополями и о том, как они засыхали и как осталась долина с одним сухим тополем.
Хозяин входит в юрту с бараном, просит гостей благословить.
Исак обеими ладонями проводит по своей бороде, строит благочестивые, умные глаза, шепчет, – и баран благословлен.
Мальчик на кровати все поет о горбоносом баране, болтая ногами, сочиняя без усилий стихи и позвякивая струнами домбры.
Тот, что потоньше других и с медно-красным лицом, точит нож. Входит старая женщина и подкладывает в огонь навоз. Внизу, между камнями, огонь горит ярче, вверху видно вечернее предзакатное небо.
Барана связали. Голову свесили в медный таз: кровь есть жизнь, ни одна капля не прольется на землю. Вылилась кровь в таз, будто отвернули кран самовара. Темнел и темнел наверху круг неба. Мальчик на кровати пел. Из незакрытой двери виднелся бородатый козел, освещенный нашим костром. Блеснули звезды.
Толстый, с тюленьей головой человек вырезал из груди барана четырехугольник, прямо с шерстью, и хотел растянуть его на рогульке и обжарить на огне. Но пока он приготовлял рогульку, мясо, оттого что в нем сокращались мускулы, зашевелилось.
Исак указал на это соседу, тот – своему соседу, и всю юрту обежало: «Мясо шевелится». Стали спорить, можно ли есть такое мясо? Вспомнили такой же случай с мясом зарезанного волком ягненка. Тогда мулла разрешил, значит, и теперь можно.
Толстый растянул мясо на рогульке и, обжигая, сказал:
– Теперь оно больше не будет прыгать.
Медно-красный отрезал голову барана и передал женщине. Она проткнула ее длинным железным вертелом и, повертывая на огне, обжигала шерсть. Когда голова совсем почернела, на нее из кувшина лили воду, а женщина протирала кость в струе, и ее пальцы скрипели, и голова барана все белела и белела.
Медно-красный разделил тушу и вынул внутренности. Собаки, почуяв мясо, просунули в юрту головы. Им вылили таз с кровью.
Просунулись женские руки – отдали кишки. Еще какой-то руке отдали легкое.
Наконец, красную тушу и белую голову опустили в черный котел. Кровь, огонь и вода соединились, пар и дым поднялись вверх, закрывая спокойные звезды.
Когда баран поспел, перед ковром поставили низкий круглый стол и все к нему подвинулись. Достали голову и, отрезав ухо – лучшую часть, – предложили гостю съесть. Голову раздробили, мозг выбрали в особую чашку, накрошили туда лука, подлили из котла жижи, поочередно опустили руки в чашку, достали по горсточке, вкусно ели, тут же смазывая жирными руками уздечки, нагайки и седла. Закусив, принялись за барана.
Целая гора мяса лежала на блюде; двое с крысиными усами резали мясо, отделяя куски от костей.
Другие подхватывали мясо руками, окунали в соленую воду и ели, не чавкая, будто глотая целиком. Очень торопились. Зубы сверкали. Кости белели и белели. Гора таяла. Собаки опять просунули головы в юрту.
А там, за юртой, из последних сил светил ущербленный девятый месяц лунного года. На степи были блестки мороза. Овцы, положив друг на друга головы, согреваясь от холода, плотной массой прижались к темным человеческим шатрам. Теперь где-нибудь в трещинах гор уже горели красные волчьи глаза, на сопках сверкали их серебряные спины. Но добрые пастухи охраняют своих овец, и девушка-невеста всю ночь, чтобы не заснуть, поет песню.
Катятся вверху прозрачные зеленые лунные волны. Озаренные красным светом костра пастухи доедают барана. Мяса уже нет, они возятся с белыми костями, раздробляя их и вынимая мозг. Последние обрывки мяса, обрезки – все, что второпях падало на грязную скатерть, хозяин сгребает рукой и сует в ожидающие подачки руки совсем бедных людей. Ничего не пропадает: даже обглоданные и раздробленные кости, завязанные в ту же грязную скатерть, уносит женщина дососать и догрызть. Доев все дочиста, расходятся по своим юртам.
Мы, гости, приготовляясь к ночлегу, затушили остатки костра между обгорелыми камнями. В отверстие сверху влилась струя лунного света, забелело несколько забытых в юрте костей и череп возле котла. Спать легли на том самом месте, где только что пировали. Исак дернул за веревку. Отверстие вверху закрылось, и наша юрта, похожая на воздушный шар, казалось, полетела куда-то над степью. Девушка-невеста пела, пела над спящими стадами и уснула, а волки выходили из горных трещин в долину, ползли, прятали за сопками сверкающую серебром шерсть, горящие глаза. Крались к самым кустам чиевника возле самых юрт, подбирались и прыгали.
Всю долину будто рассекли длинным скрученным канатом – так крикнули в ауле. Но и сквозь лай, и гомон, и горловые крики был слышен тихий жалобный стон уносимого волками ягненка – и все дальше и дальше, тише и тише.
Не сон – этот затихающий крик. Вот и Исак открыл дверцу юрты, смотрит в долину. Видно, как по верхушкам далеких сопок серебряной точкой мелькает волчья спина, а за нею, все отставая, мчатся черные точки собак. Весь аул на ногах. Медно-красный сидит с ружьем на коне. Ему показывают рукой на горы. Он кивает головой и обещает хозяину отомстить волкам.
– Сколько утащили волки? – спрашиваю я Исака.
– Трех, – отвечает он, засыпая, – трех молодых, и у старых оторвали шесть курдюков.
Девушку долго и зло бранили женщины. Когда все улеглись, она опять запела над спящими стадами. Она поет, будто плещется при луне, переливаясь со скалы на скалу, горный ручей, а стада жуют и дышат, будто тысячи людей тихо идут по песку. Волки теперь уже не нападут. Но кто знает? Быть может, приедет в эту ночь новый гость, и опять пастухи утащат одну овцу и при красном свете костра растерзают. И она будет жертвой богам, охраняющим стадо.
Спят спокойно стада, прижавшись к человеческим жилищам. Зеленые волны девятого месяца лунного года, прозрачные, не заслоняя звезд, катятся и катятся по небу под песнь девушки-невесты, стерегущей стадо.
Так от века было в долине Пестрой Змеи.
Утром, когда мы проснулись, медно-красный охотник уже сидел у костра и рассказывал, как он страшно отомстил волкам: шесть убил и одного живым поймал в горной пещере. Живого волка он связал, снял шкуру, развязал, пустил, и он побежал.
– Ободранный? – изумился я.
– Ободранный, – ответил спокойно медно-красный, – ободранные волки немного могут бежать.
И рассказал всю свою ночную охоту.
При месяце в горах он увидел семь свежих следов. Сошел с лошади и стал идти по следам. Возле горы, где ловят беркутов, он увидал волка: то покажется, то спрячется. Это был караульный волк, а другие шесть, сытые, спали. Охотник поднялся на гору с другой стороны и посмотрел вниз из-за камня. Спал большой волк, как мертвый. Выстрелил – волк вильнул хвостом и остался. Три пошли на эту сторону. Свистнул – остановились. Один сел и завыл, другой завыл, третий завыл, другие три волка отозвались, пришли к мертвому и тоже выли. И тут завыл охотник. Выл и стрелял, прячась за камнями, меняя места, выл и стрелял. Последний волк, слегка раненный, упал в горную щель. Тут-то и поймал его охотник, ободрал и пустил, и он, черный, при месяце бежал версты три.
Так отомстил медно-красный волкам в долине Пестрой Змеи.
– Йо-йо! – удивлялись другие.
– Джаксы, мергень! – одобряли все.
И хохотали, и так весело хохотали, представляя, как бежал при месяце этот ободранный волк.
Исак дернул за веревку. Верхнее отверстие открылось, солнечный луч ворвался и осветил нашу юрту.
Мы стали собираться к отъезду, а хозяева – разбирать юрты для перекочевки. Пока мы укладывались, юрты были разобраны. Мы ехали дальше, на летнее пастбище, они назад – к зимовкам. А на том месте, где они были, остались только черные, обожженные камни и белые черепа.
Черный Араб
Аулы откочевали, колодцы пересохли, но мы все-таки ехали вперед, на летнее пастбище, к баю Кульдже, прозванному степным царем.
Блеснуло пресное озеро. Показалась долина, полная гнедых коней. Начались аулы родственников Кульджи, его табунщиков и барантачей – степных воров – для устрашения недобрых людей. «Мудрейший» судья пастухов – бай Кульджи – мог всегда усмирить непокорного, угнав его табуны.
Длинное Ухо давно уже разнесло весть о необычайном джигите на пегатом коне, едущем в гости к степному царю. Владелец восьми тысяч голов степных коней выслал навстречу чужестранному гостю и его спутникам шестнадцать молодых джигитов на лучших бегунцах всех мастей. Впереди ехали поэт, певец, музыкант и учитель, за ними – молодцы в лисьих и бараньих малахаях, на седлах, украшенных серебряной резьбой.
Все они проводили нас к аулу Кульджи – ко многим юртам, белым, как чайки. Седовласый, старейший в ауле аксакал вышел нам навстречу, приложил руку к сердцу и поднял войлок, закрывающий вход в юрту степного царя.
Тут просторно, как в зале. Драгоценные ковры и халаты сложены в кованые сундуки: все готово к перекочевке с летнего пастбища на зимнее стойбище. Кульджа доживал здесь последние дни, развлекаясь охотой с орлами и соколами.
Теперь он сидел против двери на ковре и писал, пользуясь голенищем своего сапога, как столом. Бархатная, шитая золотом шапочка только чуть обрезывала круглый, широкий тыквенный лик «отца пастухов». Маленькие, затерявшиеся на желтом просторе, будто сонные, но все замечающие глазки и широкий халат, прикрывающий вместилище не одного ведра кумыса, – так отлила степь своего царя.
За спиной Кульджи, неподвижная, как статуя китайской богини, сидела его старшая жена: байбича. По левую руку ее на блюде лежали два больших куска масла, по правую сидели три бронзовых мальчика – дети Кульджи, а впереди, на виду, стояла гордость старшей жены степного царя – швейная машина Зингера.
Мы вошли и прижали руки к сердцу. Кульджа прижал свою руку к своему царскому сердцу и спросил о здоровье наших рук и ног. Мы отвечали тем же и, усаживаясь, спросили:
– Слыхал ли отец пастухов о нас, едущих к нему вот уже месяц в степи?
– Э! – кивнул Кульджа в знак согласия.
– По Длинному Уху? – спросили мы.
– Слово бежит в степи всегда по Длинному Уху, – ответил степной царь. – Великое дело – слово, но оно же и губит племя Адама. Вот оно сейчас принесло весть о хорошем госте; мы рады: хороший гость, с хорошими пожеланиями – и овца приносит двух ягнят. Но Длинное Ухо доносит весть и о плохом госте: после такого гостя последнюю овцу уносит волк.
– Э! – согласились поэт, певец, музыкант и учитель.
– Что привело гостей в нашу землю? – спросил Кульджа.
– Привлекает посмотреть страну, – ответили мы, – где люди живут так, как жили все люди в глубине веков.
– Углубления и ямы страны, – ответил царь пастухов, – существуют только для тех, кто еще мало видел и мало знает, а на деле все просто. Но в этом случае гость прав: это лучшая в мире страна Арка – значит, хребет земли. Гость не ошибся. Гостю есть что посмотреть.
Степной царь сделал знак поэту. Он приподнял дверь, и мы вышли смотреть счастливую страну пастухов Арка.
Вечерело. Стада собирались, – лучшее время в степи. Где-то, гоняя с сопки на сопку, ловят одичавшую лошадь. Верблюдицы шагают, оглядываясь на верблюжат. Козлы идут впереди, бараны – позади. Табуны сходятся со всех сторон. Вечером степь живет любовною жизнью: все собирается.
– Это мои табуны, – указал хозяин в одну сторону, и в другую, и в третью, и в четвертую.
Без канав, без оград во все стороны было хозяйство степного царя-родоначальника: в долине белели юрты дяди Кульджи, и брата, и другого брата. За сопкой жил сват, за горою еще сват и бесчисленные бедняки, работавшие на богатых. И теперь, когда солнце садилось, там тоже сходились стада. Вся живая степь встречалась.
Навстречу стадам из юрт выходили женщины в белых платках и с ведрами в руках.
– Эта юрта моей матери, – указал хозяин на большую белую юрту, – эта – старшей жены, эта – младшей, эта – жены, доставшейся мне от покойного брата.
Все юрты стояли большим кругом и будто ожидали, когда все наполнится между ними животными.
Одних ягнят и козлят отвязывали, других привязывали. Разлученные на день с матерями, малыши радостно встречались и тыкали в сосцы носами. Козлят и ягнят дойных матерей вязали на длинную веревку – овцевязь – голова к голове. Женщины отпускались в стада для доения. Мужчины, осторожно охватывая руками задние ноги кобылиц, тоже доили, как и женщины. Девочка боролась с козой, мальчуган мчался на двух баранах, на одной лошади ехали три маленьких бронзовых бога. И везде лилось молоко. И пахло острым овечьим сыром. И крик был от ягнят и козлят, заглушающий всякий говор.
Степному царю было хорошо показать гостю свое богатство. Он и сам шагнул к стаду, посмотрел на женщин, доящих коз, посмотрел, как ловко, обманывая жеребятами, пастухи доили кобылиц и верблюдиц, и, когда достиг середины круга, наполненного животными, сам опустился в стадо и сел верхом на большого барана, чтобы выщипать на его лбу метку.
В соседних аулах почуяли гостя и пир в честь его. Первые приехали два муллы в белых чалмах, сели на землю, поджав ноги, не сводя глаз с хозяина, сидящего верхом на баране, озаренного красными косыми лучами уходящего солнца. Приехал дядя Кульджи, бий (судья) – огромная туша, скосившаяся от жира на седле. С ним приехал его сын Ауспан с белым соколом на руке и с филином, горбоносый красивый юноша, сам похожий на кречета. Приехал на белом аргамаке и другой дядя Кульджи и с ним три провожатых на вороных аргамаках. Приехал Джанас из долины Пестрой Змеи, похожий на Авраама, с сыновьями, похожими на Каина и Авеля. С ним приехали толстобрюхий с тюленьей головой, и другой толстобрюхий с крысиными хвостиками, и третий толстобрюхий с обкусанными крысиными хвостиками. Слегка наклонившись к луке, в ряд по двое, по трое, по четверо, на вороных, на белых, чубарых, соловых, гнедых, мухортых, всяких мастей аргамаках съезжались со всех сторон степи всадники в широких халатах, стройные и высокие горцы и толстобрюхие жители долин. Из ближайших аулов пешком сходились старцы, усаживаясь кругом возле юрт Кульджи. А вдали уже резали для гостей лошадь, и дымились внутри юрт костры, и стучали, сбивая кумыс.
Красавец Ауспан подарил Кульдже филина, пойманного им сейчас на охоте. Его драгоценными перьями красавицы аула украшают свои алые Шапочки, а самую птицу, ощипанную, не убивают, а пускают в степь. И бывает, скачет эта птица, голая, с большой головой, мчится жертва красоты в буран страшнее черного перекати-поля.
Кульджа очень благодарил Ауспана за птицу и отправил ее в юрту младшей жены. Солнце село, показались первые звезды; хозяин, указав рукою на юрту старшей жены, сказал:
– Время рот раскрывать!
Белые чалмы мулл склонились у дверцы; за ними склонился зеленый малахай и большой лисий малахай судьи и всех гостей. Последними вошли поэт, певец, музыкант и учитель.
Оба муллы заняли место против двери, обращенной к Каабе, и от них по правую руку кругом до спящего орла – все другие гости. Хозяин, жена и дети сидели по левую руку. Когда все разместились, громче застучали слуги, сбивающие в турсуках кумыс. На низкий стол поставили сахарницу и вокруг нее горкой насыпали хлебные шарики, барсаки, белые, красные пряники, царскую карамель и два больших куска масла. В огромный черный котел опустили разделанную красную тушу лошади.
Еще виднелось вверху розовое небо, и потому никто из правоверных не смел взять на столе лакомства и коснуться губой чашки с кумысом: была великая ураза (пост), рамазан, во время которого мусульманин может есть только ночью.
Своим гостям, иноверцам, хозяин, однако, кивнул головой на масло.
Как есть его без ножа и вилки? Разве попробовать отмазать немного хлебным шариком?
Не удалось: сухой шарик рассыпался.
Кульджа улыбнулся, взял в руки кусок масла, обнажил белые зубы и сказал:
– Грызите!
Мало-помалу стемнело. Хозяин взял себе на колени огромную чашку с кумысом и, помешивая большой резной ложкой, стал разливать в малые чашки гостей. Раскрылись рты, и целебная жидкость полилась, творя под халатами тепло и счастье.
– Что нового расскажут ученые гости пастухам о других виденных ими странах? – спросил судья.
– Недавно мы видели, – ответили мы, – такую страну, где летом солнце не заходит и ночей не бывает.
– Как же там постятся мусульмане? – сказал строго мулла. – Гость ошибается: нет такой страны.
И многие засмеялись над гостем, рассказывающим пастухам небылицы.
Хозяин вступился за гостя и сказал:
– Есть такая страна!
Мулла вскочил. Многие вскочили с мест, оставив кумыс. Поднялся спор и шум, и последнее слышанное и понятое нами слово было: «шерегат».
Когда все стихло, учитель нам рассказал, о чем спорили магометане.
Кульджа слышал о географии, верил в нее и, ссылаясь на светскую науку, говорил: «Есть на свете страна незаходящего солнца». Мулла говорил: «Нет такой страны, потому что в таком месте всегда светло и мусульмане не могут поститься». Кульджа все твердил: «География», – пока мулла не сослался на шерегат, который не может ошибиться. На это разгневанный степной царь крикнул: «Шерегат не прав!»
Вот тогда-то все вскочили и долго кричали, пока другой, более мудрый мулла не помирил всех простыми словами: «Страна незаходящего солнца есть, но там нет мусульман».
Это всех успокоило, и все снова протянули свои чаши за кумысом к степному царю.
И полилось кислое, пьянящее молоко на разгоряченные сердца. И лилось бы в молчании долго-долго, если бы Ауспан не вскочил и не выбежал из юрты с ружьем в руке.
Все услыхали топот и подумали: волк гонит испуганный табун.
Но выстрела не последовало. Ауспан вернулся с новым гостем. Это прискакал вестник Длинного Уха. Он ехал шагом и задремал в седле. Смеркнулось, стало темно. Джигит очнулся: нет дороги, нет гор и аулов, и везде только звезды и волчьи глаза. Всадник поехал по звездам и прискакал к аулу Кульджи.
– Аманба, аманба! – повторял заблудившийся, грея у костра руки.
– Аман! – отвечали ему и спрашивали: – Есть ли новости, хабар бар?
– Бар! – отвечал заблудившийся. – В долине Потерянный Топор украли просватанную девушку Нур-Джемеля. Жених потребовал возвращения калыма. Хозяин отказал. Жених сам угнал лошадей у отца невесты и теперь на берегу ручья сидит и ест одну из отбитых лошадей.
– Кто украл невесту?
– Не знаю, – ответил гость, – степь велика!
– Степь велика, – повторил степной царь и спросил: – Нет ли еще чего нового?
– Видел белую галку, – ответил гость.
– Белую? Мулла, есть ли белые галки?
– Есть, – ответил мулла.
– Йо! – удивились все.
Еще видел вестник Длинного Уха, как перед зарею проскакала желтоволосая и желтоглазая Албасты.
– Это бывает! – сказали пьющие кумыс.
– Еще видел, как после заката впереди уходил козел, неся в зубах легкое.
– И это бывает! – сказали люди в халатах.
– Еще видел при наступлении ночи черного зайца.
– Черного! Мулла, есть ли черные зайцы?
– Йо-о! – удивился мулла и щелкнул языком, ничего не сказав.
– Еще слышно, будто люди стали летать, как птицы.
– Йо-о!
– Еще слышно, будто люди пришли на то место земли, над которым стоит неподвижная звезда Темир-Казык, и что там вечная тьма.
– Мулла, есть ли такая страна?
– Есть, – ответил мулла.
– Что же еще есть нового в степи? – допрашивали люди, пьющие кумыс.
– Еще что? – повторил гость. – Еще вот уже два месяца от всадника к всаднику, от аула к аулу бежит слух, будто едет по степи Черный Араб и обертывается то святым, то чертом, не берет от степи ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.
– Он здесь! – сказали пьющие кумыс гостю, и тот в ужасе раскрыл рот.
«Нет, – подумали мы, – здесь уже нет Черного Араба. Здесь у костра сидит обыкновенный киргиз в широком халате и зеленом малахае, его теперь все знают, он – как все. А тот все едет до настоящей пустыни, до низких звезд, где только дикие кони перебегают от оазиса к оазису. Теперь тот настоящий араб, а не этот».
На всю ночь запировал степной царь в юрте старшей жены. Восемь тысяч вечно жующих отделяют эту юрту от юрты молодой жены. Светит последняя четверть девятого месяца лунного года. Завтра снимутся эти последние юрты с летнего пастбища. Снег занесет степь, ничего не останется.
Молодая жена, дочь благородного хаджи, садится перед своим костром и красит по-девичьи свои ногти в красный цвет и расплетает свои волосы на двенадцать кос, будто девушка. Берёт свою алую шапочку, выдергивает драгоценные перья из живого филина, подаренного ей возлюбленным, по-девичьи, будто весной, украшает шапочку перьями мудрой птицы, и падают двенадцатью черными змейками косы из-под перьев на смуглую шею.
Спят все восемь тысяч голов. Даже сторожевой козел Серке подгибает колени. Молодая овечка встала, почесалась ножкой и опять легла.
Придерживая рукой звонкие монеты, крадется жена, одетая девушкой, к кустам чиевника и шепчет:
– Это ты, мой медный кувшинчик?
– Это я, моя тонкогубая деревянная чашечка, – отвечает кувшинчик. – Это я – здоров ли язык?
– Язык здоров, на сердце боль.
– Болит твое сердечко, скушай яблочко с базара. Рассыпались черные змейки по желтому лицу. Желтый месяц. Желтое яблочко. Желтые щеки возлюбленного.
– Желтым, желтым, очень желтым видела я тебя во сне.
– И тебя я видел желтой, но твои волосы чернее чернил муллы.
– И твои, дорогой!
– Твои очи темней обожженного пня.
– И твои.
– Твои щеки алее крови зарезанного барана. Твои груди – как свежее масло. Твои брови – как серп новолунья.
– Клянись, – просит она, – обернись к луне, загни ноготь своего большого пальца.
Он повертывается к луне.
…А утром чубарый козленок пробрался в юрту гостей, лизнул их лица и разбудил. Степной царь уже отдал приказ к перекочевке.
Верблюды лежали перед юртами. Женщины снимали войлоки, обвивая ими горбы. Мужчины выдергивали деревянные кривые палки и тоже привязывали к горбам. Так, одна за одною, как сон, исчезали белые юрты: самого степного царя, его матери, его старшей жены и все другие. Когда разбирали юрту молодой жены, выскочил голый, совершенно ощипанный филин с огромной головой и поскакал в степь.
Караван двинулся тоже в ту сторону.
Скачет ощипанный филин. Катится черное перекати-поле. Полк за полком уводят старые журавли молодых в теплые края. Верблюды все шагают и шагают, попадая широкой мозолистой ступнею в старый след на кочевой дороге.
Проходят караваны, встречаются и разъезжаются степные всадники. Ищут колодец с живой водой. Спрашивают, где обетованная страна?
Одна в одну, как в зеркале, глядят голые сопки. И затерялся караван на этой желтой земле. Выбились из сил и остановились верблюды. Повертывают во все стороны свои птичьи шеи. Узнают и не могут узнать. Вспоминают и не могут вспомнить.
И немного осталось им времени думать: вот уже падает снег.
Бессильные, подгибают они колени и ложатся возле пересохшего колодца, протянув к камням длинные шеи и свесив пустые горбы.
Ревекка не выходит с кувшином из белых шатров напоить их: не та земля, не тут страна Ханаанская.
А в настоящей пустыне, где земля без людей и трава лежит серо-красная, от оазиса к оазису несут дикие кони весть о Черном Арабе. За этой пустыней текут семь медовых рек; там не бывает зимы; там будет вечно жить Черный Араб.
Славны бубны*
1
I
С нами в черноморском экспрессе ехала золоченая клетка и в ней две больные петербургские кошки. Накануне своей поездки на юг я узнал об этих кошках от ветеринарного врача, специалиста по болезням «маленьких пациентов», то есть кошек и домашних собак. Случилось так, что в день моих сборов у нашей квартирной хозяйки вдруг исчезла любимая кошка. Поздно ночью мы услыхали жалобный крик в глубине двора-колодца и отыскали полумертвую кошку внизу: упала из форточки четвертого этажа на острый камень. Дама наша была одинокая, бездетная, с утра до вечера добывала себе мужским трудом пропитание и вечерние свои досуги часто делила с этой кошкой. Вот было горе! В полночь стали звонить к ветеринарам, все отказывались, кто вежливо, кто грубо, и отсылали к специалисту по маленьким животным. Часа в два ночи мы наконец дозвонились к специалисту, и он обещал немедленно приехать. Это из-за кошки, после полуночи, за скромный гонорар! При свете лампы, у постели умирающей кошки, окруженной необычайным вниманием, в ожидании вызванного по телефону известного врача, конечно, приходили в голову мысли, что вот как же хороша цивилизация! И рядом с этим радостным чувством проплывали картины ужасающей брошенности жизни России народной, виднелись ее дороги, осенние хляби, овражки, перелески, всякие мочежинки, топики, и среди всего этого показывалось лицо, обращенное в тупые, серые будни, мимо всякой шалости, радости и всяких «иллюзий»: умирают за спиной, радуются за спиной. Какое же счастье телефон, какая роскошь это сочувствие женщине, плачущей о своей раненой кошке!
Мы все-таки думали, что этот врач какой-то не настоящий, или чудак-отшельник с неудачами, или пустозвон, явится в цилиндре, с сигарой и разыграет комедию лечения. Но когда явился этот врач, не только не исчезла наша иллюзия настоящего больного человека в доме, но тут-то и началось по-настоящему: врач был скромного вида, но держал себя с большим достоинством, очень серьезный, необыкновенно внимательный. Когда все необходимые перевязки были закончены, наша дама не знала, какими словами выразить благодарность симпатичному врачу: «Как человек, как человек вы!..» – лепетала она. И он был тронут искренней благодарностью нашей дамы. За чаем охотно рассказывал о своей практике.
– Я лечу, – говорил он, – не животных, человека лечу.
Маленькие пациенты играют огромную роль в жизни современного городского человека. Свинья, корова и все другие крупные пациенты – мясо, молоко – существа безразличные, а маленькие, напротив, именно личные. Этот болезненный климат, враждебная природе жизнь создают особенную близость человека к животному: на животное переносится нечто принадлежащее одному человеку.
Доктор передал нам и несколько тяжелых случаев, как однажды муж обезумевшей дамы выбежал за ним на лестницу, упал на колени со словами: «Доктор, если вы не спасете Ляльку, жена, не перенесет, спасите!» А вот что только вчера случилось в генеральской семье: доктор целую зиму лечил кошек у генеральши, ничего не помогало, кошки хирели; вчера генеральша сама заболела, стала упрекать врача. «Что я могу сделать, – ответил он, – вашим кошкам вреден Петербург, не в моей власти изменить климат!» – «Почему же раньше вы не сказали об этом?» – удивилась генеральша. И тут же стала снаряжать кошек к Крым.
Доктор еще много рассказывал подобного. Этой интимной потребностью очеловечить животное он объяснял нам необычайный успех в этом сезоне легенды о лошадях, извлекающих кубические корни.
На другой день, когда я сидел в вагоне, вижу, несут золоченую клетку, вероятно, с этими самыми больными генеральскими кошками. Я поехал, и кошки со мной поехали в Крым.
Необыкновенными цветами убранною представлял я себе на юге весну, и цветы эти пахнут особенно: понюхаешь – и сразу о всем догадаешься и вспомнишь свое такое далекое, последнее, что уже не себе одному, а всем равно мило и чего из-за привычки никак не доищешься в обыкновенных наших деревенских летних цветах. Мой друг хвалился своим садом в Крыму, писал мне, что сотни сортов развел он себе роз, каких я еще никогда не видал; в саду деревья посажены необыкновенные, с такими большими цветами, что ранней весной, когда листьев на дереве еще нет, от одних этих цветов под деревом тень, как у нас в июле от лип. Есть магнолии, американские бамбуки, итальянские кипарисы, вавилонские ивы, араукарии, допотопные растения, раины высотою до звезд, но самое главное – веллингтония, дерево жизни, вечно живет и растет, если погибает, то не от себя. Под этим деревом его детки Соня и Костя бегают теперь безгрешные, как Адам и Ева в раю. Родились они еще в Братовке, но ничего не помнят, не знают, что такое ржаная солома, соха, мужик, береза, карась, куколь в овсе, кувшинки в болоте. Мир для них на юге – синее море, где на зеленых островах живет какая-то Маговей-птица, а на север – стена Яйлы и прямо за Яйлою – какая-то Москва, тоже похожая на голубую Маговей-птицу. Райский сад, горы и море, теплое, синее, где некогда жили эллины, – чего же больше?
«Мы здесь, – писал мой друг, – будто на том свете, в раю; все, что было лучшего, осталось с нами, но преобразилось. Моя жена теперь здорова, но так, что вернуться не может на родину. За жизнь свою благодарит бога и благословенный край, а мы все, конечно, с ней. Приезжай непременно!»
Друга своего я послушался, поехал, поздно ночью прибыл в Коктебель и, утомленный дорогой, крепко заснул. Только в детстве и в путешествии бывает так, что заснешь и утром, просыпаясь, не знаешь, где раньше был, откуда пришел, только чуешь сквозь сон что-то невиданное и прекрасное.
– Скажите, в какой я стране?
Отвечает кто-то голосом моего старого друга, называет, как бывало на охоте, коротким медвежьим именем. Значит, я просыпаюсь в Братовке, в лесном шалаше.
– Где мы с тобой, в каком лесу?
– Ну, вставай, будет тебе бормотать!
И я пробудился ранней весной, перед открытым балконом, на берегу синего моря, в кругу своих, все равно что родных, людей.
Руки мои стали больше и сильнее, чем у самого Геркулеса, я охватываю этими руками весь горизонт синего моря, прижимаюсь грудью к родимой матери – морю; как море, спокоен и силен, все тут мое: мои чайки, мои буревестники летают над морем, мои дельфины играют, мои волны выбивают из черных скал разноцветные камни.
Здесь и бабушка, все такая же старая, вечно седая бестужевка. Она все любила на свете и ненавидела только, но Некрасову, какое-то очень далекое от ее жизни начальство. У нас в памяти остались от этой ненависти только прекрасные, целомудренные некрасовские стихи. По-прежнему она теперь своим внукам Косте и Соне показывает каких-то пришпиленных жуков. Когда-то ученая женщина собирала с нами серых жуков; время все шло, бабушка поседела и осталась такой навсегда, а жуки становились все милее, краше и вот теперь сияют, переливаясь на солнце всеми цветами; и море в цветах, и горы в цветах, вокруг нас носятся в свете солнца невоплощенные души цветов, и мы с ними новые, прощенные.
– Море, – говорит бабушка, – здесь лучше всего: подойдешь к нему, и всегда оно тебя успокоит. Другие в церкви находят утешение; те счастливые., знают, что со своими опять встретятся. А все наше старушечье горе отчего? Знаешь наверно, что уйдешь и никогда уж со своими не встретишься. Вот подойдешь к морю тогда, и оно чем-то всегда успокоит.
Но где же обещанный сад? Вот я вижу только маленькое, розоватыми цветами покрытое дерево и совершенно без листьев. У нас цветы бывают на зелени, здесь почему-то одни цветы.
– Листья здесь не торопятся, – объясняет мой друг, – здесь тепло, успеют; это миндаль.
Садовник Асан поливает маленькое, в аршин высоты, миндальное дерево; под горой вижу еще одно такое же, но то не цветет. Почему то не цветет?
– Почему то не цветет? – говорит Асан. – Там гора, гора смотрит на солнце, миндаль смотрит на гору, солнца не видит, оттого там и не цветет.
На том маленьком дереве чуть слышно поет единственный зяблик. Пролетел одинокий, полусонный зимующий грач, а земля просоленная, голая, горы тоже совершенно голые, вся площадка между голыми горами какая-то нищая, и вокруг нее реют невоплощенные души цветов. Спрашиваю своего друга:
– Где же обещанный сад, эти бамбуки, допотопные деревья, магнолии, кипарисы, дерево жизни?
– Вот сад, – показывает мой друг какие-то палочки, – только забудь наши обыкновенные меры, смотри больше на солнце, море, скалы и создавай свой собственный сад. У этого благословенного моря каждый мечтает и творит, для наслаждения здесь не нужно высоких деревьев, из этих палочек я создаю свой собственный сад. Видишь, вот здесь бамбуки, здесь будет множество роз, вот кипарисы, видишь?
Вижу я только палочки на просоленной, каменистой, бесплодной нищей площадке, вижу камень, воду. Но друг мой – поэт и может творить из ничего, почему бы и мне не попробовать?
– Вижу бамбуки, розы, кипарисы, – отвечаю я другу-поэту.
– Это, конечно, ты знаешь, – продолжает он, – дерево греков – маслины, мирты и лавры?
– Вижу мирты и лавры.
– Вот тис, может расти тысячи лет, он может быть современником Владимиру Святому.
– Вижу Владимира, едет креститься в Корсунь.
– А вот и знаменитая веллингтония, о которой я тебе так много писал, – дерево жизни, неумирающее. Видишь?
– Конечно, вижу дерево жизни.
Маленькая Соня так серьезно и напряженно глядит на меня, сероглазая и нервная, должно быть понимает, что я смеюсь над их садом.
– Ты видишь веллингтонию, – останавливает она, – а куда же ты смотришь?.. Я за ним давно смотрю, – доносит Соня, – он ничего не видит, притворяется, он врет, он…
– Соня! – останавливает бабушка. – Кто это «он», что это за «он» такой? У него есть свое имя.
– Медведь!
– Что? Как ты смеешь?
– А зачем он врет?
И побелела от злости, еще немного – расплачется.
– Ты разве никогда не врешь? – спросил я девочку.
– Я никогда не рву! – крикнула и убежала плакать к себе.
А добрый пузик Костя лезет ко мне, обнимает и шепчет на ухо:
– Дядя-медведь, ты не врешь, ты слепой, скажи, что слепой.
– Они у нас, правда, никогда не врут, – говорит бабушка. – Самим не нужно, и дети не будут, дети – хороший народ…
«Я никогда не рву!» – слышалось издалека сквозь детские рыдания.
Так провалился я в своем творчестве, вижу нищую площадку с колышками, голый камень, воду и прямо говорю своему другу: «Что тут любить?»
– Полюби камень – и ты все поймешь; из воды, камня и света построй новую вселенную.
Проходит несколько дней одинаково светлых. Без всякого изменения стоят палочки в саду и два миндальных куста, один с цветами, похожими на бумажные, другой по-прежнему смотрит на гору, гора смотрит на солнце, – куст не цветет. Единственный грач улетел, скрылся зяблик за горы справлять северную весну. Соня дразнит меня:
– Я в море купалась, а ты не купался, я в Отузах была, а ты не был…
Станет в углу и заведет свою дудочку, пока я тоже не начну дразнить:
– Я плавал по океану, а ты не плавала, я рожь косил, а ты не косила, – и наберу много всего, девочка разозлится и бежит к бабушке жаловаться:
– Он опять меня дразнит!
– Кто он? – спрашивает бабушка и проберет ее, а мне потихоньку скажет: – Вся в мою бабушку, большая будет плутовка!
Раз Соня начала было выделывать свои штуки:
– Я была на горе Кара-Даг, а ты не был!
«Как же это я до сих пор не собрался на знаменитую гору! – подумал я. – Непременно же надо сходить туда перед отъездом». Асан взялся меня проводить, и в то же Утро мы пошли на высокую и страшную черную гору.
Вблизи нас поднимался какой-то господин, похожий на полную женщину, с тетрадкой в руке; с ним была мужественная высокая дама с длинной палкой. Когда мы их догнали, господин спрашивал свою даму очень странно: «Через что я вас знаю?» Асан мне рассказал, что господин из «индийской партии», в этой партии и говорят, и одеваются, и живут совсем особенно.
– Через что я вас знаю?
Дама отвечала просто, что видит господина в первый раз.
– А я вас знаю, – говорил он, – через что я вас знаю?
Странные люди из «индийской партии» сели отдохнуть на камень. Мы обогнали их и стали подниматься выше, к могиле святого; у них тут могилы святых на вершинах гор, и всем им общее имя – Азис. Эта могила была самая мертвая из всех могил в мире: едва оформленная груда серых камней, и возле нее черные, корявые кустики. Возле камней могилы лежал халат: кто-то недавно здесь молился и был где-то вблизи. Не верилось, что кто-то еще мог оживлять эти камни молитвой. Мы сели возле могилы отдохнуть, и скоро из кустов вышел с водой бедный больной татарин. Он еще не молился, а только спускался за водой, чтобы омыть себе перед молитвой ноги. Болел он ногами, пришел издалека потихоньку, поднимается ежедневно на Кара-Даг и чувствует исцеление. Паломник Азиса долго не мог с нами разговаривать, стал на халате лицом к Мекке, зашептал свое «алла, алла», и могила от его молитвы начала оживать. Асан, как провожающий меня, по своим законам, мог не молиться, и я спросил его потихоньку о могиле:
– Почему она, кажется мне, расположена не в направлении к Мекке, как все мусульманские могилы?
Асан долго внимательно рассматривал серые камни и растерялся. Может быть, у него было в эту минуту сомнение, подлинно ли это мусульманский святой: этому святому одинаково ходят поклоняться мусульмане и христиане, татары и турки, болгары, греки, русские, и все говорят, что это их святой, и никто не может от него отказаться, потому что все одинаково получают исцеление. Асан долго осматривал, думал и наконец сказал:
– Это ничего! Пусть он лежит не так, но глазами он все равно смотрит на Мекку!
– Алла, алла! – молился больной.
В эту минуту святой Азис, может быть, и на меня перевел свои глаза: я вдруг стал понимать всю красоту этой суровой могилы на верху черного потухшего вулкана, и видел я море, цветистую линию гор, одну за другой уходящих в лазурную дымку, и возле одной из них сверкали весла триремы, плыл Одиссей…
Асан помогал мне, указывал окаменевший корабль, окаменевших людей, животных, птиц. Я понимал, что эти камни у моря можно оживлять и любить больше, чем наши поля, не теплой, родственной, а какой-то особенной вселенской любовью, и сердцем, а не головой постигал, чему напрасно по своим садовым палочкам учил меня друг: «Полюби камень, воду, свет и сотвори из этого вселенную».
Когда больной татарин кончил молиться, мы еще с ним поговорили о чудесах и узнали, что один даже вовсе безногий пришел на Кара-Даг и получил полное исцеление. Спросить, как безногий человек мог взойти на Кара-Даг перед исцелением, не пришло и в голову. Воздух был чист и благотворен.
Больной татарин стал спускаться в зеленые Отузы, покрытые святыми раинами, а мы – в пустынный каменный Коктебель. Внизу, где был уже слышен шелест прибойной волны, по-прежнему сидел господин с тетрадкой и с ним его мужественная дама с горной палкой, и, наверно, он спрашивал ее под шелест прибойной волны: «Через что я вас знаю, через что я вас знаю?»
Кара-Даг был вулканом. Теперь он перегорел, потух, почернел. А море по-прежнему осталось живое, то ластится к нему, то начинает хлестать мертвеца и выбирать из него разноцветные камешки – воспоминания прежней пламенной любви вулкана и моря: яшмы, аметисты, бериллы, топазы рассыпаны по берегу моря. Странные, с неподвижными глазами, в\ летнее время ходят по берегу взрослые люди и собирают эти камешки-воспоминания.
Мы с Костей, конечно, тоже пошли собирать эти камешки. Капризная Соня, по своему обыкновению, затеяла историю и шла отдельно, сложив губы бантиком. Вблизи нас шел тот господин, похожий на полную женщину, и его мужественная дама. Он, подавленный воспоминаниями, собирал камешки рассеянно, вынимая тетрадку, просматривал ее на ходу. Дама его деловито всматривалась в камешки и бросалась, как ястреб, на ценные. За шумом прибоя речь их была не слышна, а прибой выговаривал: «Через что я вас знаю, через что я вас знаю?»
Чашечку турецкого кофе каждому хочется выпить после прогулки у моря. Мы зашли в кафе «Славны бубны», пили кофе. Дама рассказывала полному господину о какой-то заграничной выставке Сецессион: там будто бы этой весной был выставлен ее портрет. Как только она сказала слово «портрет», спутник ее вдруг побледнел и вскочил
– Портрет! – закричал он – Портрет! Я знаю вас через портрет!
II. У деда под бородой
Дождь не мокрый, снег не холодный. Кипарисы возле пыльных дорог стоят серые. На стенах пустых дворцов, обвитых глицинией, бегают нехотя полусонные ящерицы: побегут и остановятся, серые, подумают и опять побегут или спрячутся. Деревья чужие, непонятные. Цветы раскрываются, когда им захочется, без поста, без праздника. Голубой весны не бывает на юге. Нет снега и нет голубой весны.
А в горах в это время кипела настоящая русская весна. Огромными пластами лежал еще снег на Яйле и спускался. Оттуда далекие, чуть видные сосны манили сказкой о морозе, что это он, могучий старик, спустил сверху свою белую бороду: в дни жаркие подбирает повыше, в холодные спускает, хочет заморозить цветущий миндаль и не может вниз дотянуться. Захотелось мне в это время туда, к сказочным соснам, к молодой весне подняться и поклониться для всех благословенному и мне малопонятному югу.
Никто из настоящих проводников не брался проводить меня в горы. Я пошел посоветоваться к добрым людям на базар. Тут были татары, греки, турки, армяне, продавали рыбу кефаль, над рыбой кружились залетающие с моря чайки, в кофейнях угощались чашкой кофе люди смуглые, черноусые, в красных фесках, говорили о политике, да еще как! Было время осады Адрианополя. Один красивый юноша в красной феске стоял возле своей фруктовой лавочки и задумчиво смотрел на бакланов и чаек. Он мне понравился, и, уж бог знает почему, я принял его за грека, подошел к нему и приветливо сообщил ему свежую новость, греки только что взяли еще один город у турок. Он мрачно переспросил: «Греки взяли?» И я вдруг понял, что турку я радостно сообщил о победе греков. Поздно извиняться, юноша тянет меня за рукав в свою палатку, готовлюсь побольше купить александрийских фруктов и загладить грех. Но юноша тянет меня не за фруктами. Вот на его столе большая раскрытая книга.
– Видишь эту книгу? – спрашивает юноша. – Мулла говорил, в этой книге написано, что и у нас есть Христос! А вы думали, только у греков, – нет. и у нас есть такой же Христос.
– Прекрасный юноша, я в этом уверен.
– Уверен? Это хорошо, это очень хорошо. Еще мулла говорил, в этой книге написано, греки возьмут Адрианополь и даже возьмут Константинополь, но только будут они в нем одни сутки. Потом опять придут турки и будут их всех бить не пушками, не ружьями, не штыками, не пистолетами, не кинжалами.
Юноша долго перечислял всякое оружие, я ожидал последнего: турки вернутся и будут бить словом истинного, общего Христа. Но чем больше перечислял турок всякое оружие, тем неподвижнее и страшнее становились его глаза
– Чем они будут бить? – остановил я его речь.
– Они их не будут бить, – ответил он.
– Милый юноша!
– Бить они их не будут, – повторил турок, – они будут их резать.
– Словом Христа, конечно?
Юноша отмерил одной рукой громадную величину другой, от ключицы до ногтя среднего пальца.
– Не бить, а вот такими большими ножами они их будут резать!
Так отомстил мне турецкий юноша за мое известие о новой греческой победе. Конечно, я купил у него винных ягод и фиников и на прощанье спросил о своем: не знает ли он, можно ли в это раннее время взойти на Ай-Петри?
Своими прекрасными, задумчивыми глазами юноша посмотрел на снежный край Яйлы и сказал:
– В книге написано: человеку можно взойти на всякую гору; почему же нельзя взойти и на Ай-Петри?
А все это южное солнце наделало: это солнце творит здесь из красной фески, из синей куртки, из поддельной раковины цветы, смотришь на эти цветы и не видишь турка и грека. Возле одной лавочки я залюбовался раковинами, должно быть, крашеными. Армянин, их владелец, вцепился в меня.
– Одна природа, другая природа, – хвалил он и показывал все новые и новые раковины.
Напрасно я отбивался от раковин, от разноцветных морских камешков, украшенных ими ящиков, детских игрушек: армянин предлагал все новое и новое. Понизив голос, он уговаривает меня купить у него контрабандный «Дюбек», очень дешево партию муската, кусочек земли с дачей, рыболовную фелюгу, сует свои карточки, он – комиссионер. А если ничего этого не нужно мне, то не могу ли я ему рекомендовать своих знакомых из Петербурга. Раньше он сам бывал в Петербурге и даже там жил высоко-высоко, на шестом этаже, и простудился.
Измученный, говорю я ему и сам, что попадется: как и я жил тоже высоко, на седьмом этаже, три раза в день подымался без лифта, и нет у меня богатых знакомых, а высоко я жил отчасти и потому, что очень люблю высокие места, и вот теперь только и хожу затем на базаре, чтобы узнать, возможно ли в это время пройти на Ай-Петри.
Поняв истинную причину моего блуждания по базару, армянин холодно сказал:
– Невозможно!
– Стало быть, и спрашивать нечего: зимой нельзя попасть на Яйлу?
– Отчего? – улыбнулся комиссионер. – Другим невозможно, а кто жил на седьмом этаже в Петербурге…
Был тут еще недалеко от нас старый грек, сидел, метился почистить мои запыленные сапоги. Когда я стался с армянином, он сказал:
– Армяне очень хитрый народ, ничего у них не нужно спрашивать, вот я вас научу, как пройти на Ай-Петри.
Радостно подставил я греку свои сапоги; он, чистя, быстро рассказывал мне занятные сказочки и приговаривал: «Очень просто, очень легко взойти на Ай-Петри».
Сказочки у грека были разные, но больше всего он говорил о храбром генерале-начальнике и о голубых, людях с коротенькими саблями.
– Прибежали, – рассказывал грек, – голубые люди. «Ваше превосходительство! – говорят. – Ваше превосходительство! Какой-то негодяй написал на пальце Ай-Петри слово „Долой“, по черному красным „Долой“, а дальше что, и сказать невозможно, все долой, от конца до начала». Генерал затопал ногами: «Сейчас же, – кричит, – поймайте разбойника и сотрите все „Долой“ от конца до начала, ничего чтобы не было видно!» Побежали голубые люди, махали, махали коротенькими саблями, не могут достать: скала неприступная. Думал, думал храбрый генерал, взял ружье, дал голубым по ружью, пошел на Ай-Петри, стрелял долго с голубыми людьми свинцом в красные слова и победил их.
– Очень просто, очень легко взойти на Ай-Петри, – говорил грек, наводя лоск на первый сапог, – не нужно только лазить на черные пальцы.
А то еще приезжал один немец с красивою тростью, с заграничными чемоданами, усы, как рога у степного быка. Долго немец со многими рабочими строил подмостки и наконец поставил на самом высоком черном пальце Ай-Петри немецкий флаг со словами «Велосипеды, велосипеды!..» Два часа только и висел флаг: как разглядел генерал, что флаг не русский, сейчас же и велел голубым людям флаг расстрелять.
Никому не везет, кто полезет на черные пальцы, а так очень просто, очень легко взойти на Ай-Петри!
И еще было. Три дня пировал богатый человек в ресторане «Ай-Петри» и выпил целую бочку вина, сел в пустую бочку, облил ее керосином, просил ресторатора поджечь и столкнуть с Ай-Петри. А ресторатор был армянин… Хитрый народ! Армянин говорит богатому человеку: «Не загорается, керосин отсырел». Богатый человек уснул в бочке, а когда пробудился, то больше не захотел катиться с горы, бочку подожгли и пустили одну.
Армяне очень хитрый народ, не верьте армянину, верьте старому греку: очень просто, очень легко взойти на Ай-Петри, не нужно только ничего такого выдумывать глупого.
Оба мои сапога блестели, оставалось только отвернуть концы брюк и дунуть, но даже и за это короткое время грек успел мне рассказать, что пустая горящая бочка, прыгая через леса и пропасти, прикатилась на двор к генералу-начальнику; храбрый генерал принял ее за бомбу и велел голубым людям ее расстрелять; голубые люди полили бочку водой, доложили, что была изловлена бомба, и получили награду.
Когда все с сапогами было покончено и хорошо заплачено, я спросил грека:
– Вы повторяете, что так легко и просто взойти на Ай-Петри, но почему же никто не берется меня проводить, и даже ученые люди Горного клуба говорили, что в это время невозможно пройти?
– Ах, ученые люди говорили, – воскликнул грек, – ну, тогда невозможно!
Прошу у грека объяснения: сейчас было так просто, легко – и вдруг опять стало невозможно.
– Видите ли, – ответил грек, – бывает так, что в одно время и возможно, и невозможно. Ваши ученые люди говорили о всех, для всех в это время пройти невозможно. Я посмотрел на ваши грязные сапоги и подумал: «Так много вы ходите! Для вас – все возможно». Но теперь у вас сапоги чистые, вы стали, как все, и потому для вас невозможно. Идите же смело; когда вы пройдете, будет и всем возможно.
После этого фокуса с горечью подумал я о настоящих, древних греках: очевидно, способность к философии у их потомков осталась, но какое же они находят ей теперь применение! Припомнилось читанное, что крымские татары находятся с настоящими эллинами в гораздо большем кровном родстве, чем эти греки. И правда, во многих лицах татар было что-то утонченное и очень далекое от базарной практики. Один старичок сидел на своей линейке и по-детски улыбался своим собственным мыслям. Я подошел к нему, рассказал о своих напрасных поисках, он и мне улыбнулся и просто предложил мне сесть с ним на линейку и поехать; потом, когда начнется снег, попробовать вместе с ним взобраться пешком. Быстро я купил на базаре кое-что для путешествия, сел на линейку татарина и поехал.
– Ну, вот и поехали, – увидал нас грек, – я же говорил, что для вас все возможно, вы пройдете, и все пойдут.
– Куда, на Ай-Петри? – сказал армянин. – И хорошо, я верно говорю: кто жил в Петербурге на седьмом этаже и три раза в день поднимался без лифта, тому уж не страшны Крымские горы.
Турки, армяне, греки, татары скоро смешались для нас в одну толпу, кипели остатки великого передвижения народов, как в спущенном пруду пескари, караси, головастики, и над ними с горы дедушка-скиф свесил свою белую бороду.
III. Любовь Османа
На пути нашем в городе было много дворцов, окруженных крепостью гор. Казалось, что в этих дворцах за крепостью Яйлы укрываются сбежавшие от мужика господа. В саду одного из них, я слышал, квакали настоящие наши лягушки, удивился и узнал, что лягушки вельможным владельцем захвачены с собой из настоящей России. Скоро, однако, исчезли дворцы, виноградники, табачные плантации за городом и начался высокий, особенный горный сосновый лес. Это был не наш северный лес, где весной поют хоры птиц и есть глубина и в глубине тропинка, ведущая прямо на квартиру к лесному хозяину. Горный лес весь сквозной; впереди камни, назади светится между серыми стволами синее море. Зато каждая сосна здесь красива по-своему, и каждое дерево можно отдельно разглядеть и любоваться. А еще хорошо, что ветер горный часто неожиданно вдруг откуда-то дунет, и тогда кажется, будто громадная стая птиц пронеслась, прошумела крыльями, и опять стало тихо.
В тишине спросил неожиданно мой вожатый:
– А если вы из Петербурга, то в каком вы там чине, – в военном или в гражданском?
– Не все в Петербурге родятся с чинами, – объяснил я вожатому и, в свою очередь, спросил его, откуда он родом и как зовут его.
– Меня зовут Османом номер первый, – ответил он.
– Как номер?
– Ну да, конечно, номер. Есть проводник Осман номер второй, а я – номер первый, старый Осман.
– Проводник?! Настоящие проводники, я слышал, должны быть молодыми, красивыми, чтобы ухаживать за барынями.
– Ну да, конечно, ухаживать!..
– И обирать их!..
– Ну да, конечно, обирать их!..
– Ох, Осман, да ведь это же нехорошо…
– Нет, это очень хорошо. Что в этом плохого, ухаживать бедному татарину за богатой барыней? Барыня богат, барыня рад. А если господин ухаживает за барыней или барыня за господином? То не плохо, и это не плохо.
Корабельный сосновый лес стал густеть, многие деревья были обвиты лианами, как змеями, – это я видел только в детстве на картинках. А у краев дороги на свободе цвели крокусы. Все было мне ново, интересно. Но все это не могло остановить меня заниматься вопросами: отчего существует столько поэм о любви господина к дикарке и так предосудительна любовь госпожи к бедному татарину? Что, если вообразить себе в этих горах красивую первую грешницу, с которой все это началось?
Осман в это время думал тоже о красивой грешнице.
– Вот, – показал он скалу над водопадом Учан-Су, – вот с этой скалы бросился барыня. С ним был Осман второй. Три ночи Осман был с барыней в горах. Когда барыня бросился, Осман сказал: «Куда ты бросился, туда я бросился». И прыгнул.
Вот и поэма! Я попросил Османа подождать полчаса возле водопада. Вид красивой струйки перенес меня к могучим северным водопадам, я забыл об Османе, о проводниках, о красивой грешнице. Но Осман все думал о грешнице и вдруг мне сказал:
– Я тоже очень много ухаживал за барыней.
– Осман старый за барыней?
– Ну да, конечно, за барыней. У меня было всего тридцать семь барыня!
Изумленный, смотрел я на благообразного, милого старика, одетого в какие-то татарские лохмотья.
– И весь мой барыня был молодой: самому старому было двадцать пять лет, самому молодому семнадцать. Он приехал ко мне, и я показал ему Ай-Петри, Яйлу, были с ним в пещерах, видел крепость Мангубкале, Качи-Кален и еще много всего; я его очень любил, и он меня очень любил.
– Так это, вероятно, была экскурсия, это совсем другая любовь.
– Ну да, конечно, это совсем другая любовь. Я был ему. как отец родной, я ему жизнь спасал, без меня он бы весь умер от сильного ветра. Вот как я ухаживал!..
Возле нас были желтые крокусы. Осман сорвал один.
– Вот цветок, что в нем? Мы ехали, было много цветов, и не останавливались, и не смотрели. А барыня мимо цветка не пройдет. Он очень любит цветы и оттого очень тихо ходит. Один рвет цветы, другой собрал, сидит и связывает, третий далеко отстал, четвертый сердит, пятый кушать хочет, шестой стоит на горе и песни поет, седьмой пишет карандашом, восьмой красками, девятый чернилами, десятый спать хочет и голова болит.
Осман пересчитал всех своих девушек, что они делают – все тридцать семь, – когда он их ведет в горы.
– В теплое время барыня туда-сюда ходит. Сел рвать цветы и кошелек потерял, прошел немного и кричит: «Осман, я кошелек потерял!» Надо искать. А другой уже еще кричит: «Осман, я платок потерял!» В теплое время барыня, как овца, ходит, а я с ним, как пастух. Я выхожу на большую гору, трублю, и он ко мне собирается. Если он хочет купаться, я опять выхожу на большую гору, смотрю на дорогу, не идет ли кто. Когда вижу человека, трублю, и барыня одевается или весь в реку уходит и плавает. Барыня всегда со мной кушал, привык ко мне и очень меня любил, и я его любил… почему любить барыню плохо?
– Так мы же, Осман, не про ту любовь говорим!
– Ну да, конечно, не про ту. Я ему был, как отец родной, учил его ходить по горам тихо и не останавливаться, а он меня не слушал, шел скоро в разные стороны и устал. Поздно вечером мы приходим к Яйле, и я там слышу ветер.
Отщипнув листок у крокуса, Осман посмотрел на грозный снежный край Яйлы.
– Вот как этот листок, так и человек, и овца, и даже лошадь, – такой бывает ветер на Яйле. Я слышу, ветер шумит, и говорю: «Вот, барыня, пещера, скорее собирайся в пещеру». Он весь туда забрался и стал дожидаться моджару с провизией. Но моджару ветер разбил, не пришла. Такой ветер скоро улетает, стало тихо, и мы вышли на Яйлу. А там сильный мороз, на земле бело. Барыне стало холодно, я развел костер. Но он все равно умирает: был голодный, с утра ничего не ел. Я говорю себе: «Если барыня умирает, то и Осман умирает». Оставил я всю барыню у костра, набрал ему много дров и пошел. Иду, мороз скрипит под ногой, темно, боюсь попасть в трещину, в глубокую пещеру, и сам все думаю: «Барыня, барыня, что делает теперь барыня?» Вдруг показался огонек глубоко внизу, я повернул на огонек, оступился и покатился. Открываю глаза: я у костра лежу, а вокруг чабаны сидят, бараны лежат и собаки. Купил я у чабанов одного барана, взвалил на плечи и думаю: «Барыня, барыня, жив ли мой барыня?» Поднялся на гору с бараном, смотрю, где огонь, – нигде не видать, потух костер. Зову – не отвечает, трублю – не слышит: умер мой барыня!.. Иду в ту сторону. Небо чистое, месяц взошел, по морозу вижу мой след. Подхожу – нет огня! Потух костер, барыня лежит кучками, там два, там три, кто кого любил, с тем и умер. Заплакал и громко сказал: «Барыня, барыня, умер мой барыня!» Я сказал, а он шевелится, он жив. «Вставай, – говорю, – барыня, пожалуйста, вставай, я барана принес, кушать, кушать!» Он поднимается, он радуется: «Кушать, – говорит, – кушать Осман принес. Что же, – спрашивает, – кушать будем?., где баран?» – «Вот баран!» – «Он живой! Этого кушать нельзя». Я смеюсь и достаю нож. Он испугался. Я режу – он плачет. Жарю – тише плачет. Есть даю – кушает. Поел, стал сыт, спал хорошо у костра, встал веселый, песни пел. Вот и все. Я тоже ухаживал за барыней, я его любил, он меня любил… это не плохо.
– Это другая любовь, Осман…
– За эту любовь мало денег дают. А то бывает хорошая любовь: бедный татарин получает большие деньги, строит гостиницу, покупает хороших коней, вот как Осман второй.
– Да ведь он же разбился, он бросился за барыней со скалы.
– Нет, он жив, и барыня жив. Это я привел молодого Османа к барыне. Барыня приехал и очень скучал. Я принес ему розмарин и говорю: «Не скучай, барыня, у нас хорошие яблоки». – «Не надо мне твои яблоки». Я приношу ему черешню, он черешню не хочет. «Чего же ты хочешь, что тебе надо?» – «Что мне надо, того у тебя нет, Осман». Думал я, думал, что барыне надо, думал я, много раздумывал, что барыне надо, и принес самую большую, самую сладкую грушу. «Не надо, – говорит, – мне твоей груши, а что мне надо, того у тебя нет, – ты старик». Ударил я себя грушей в лоб: так вот что барыне надо. Догадался! Привел ему молодого красивого Османа, и он его любил.
– Осман, – сказал я решительно, – это не твоя, это совсем другая любовь.
– Это другая любовь: молодой Осман получил много денег. А у барыни денег стало мало. Он пошел в горы и бросился. Осман увидал: барыня висит близко на дереве, и сказал: «Куда ты бросился, туда я бросился», – прыгнул на дерево и снял барыню. Но у барыни денег не было, и он бил его кнутом.
– Барыня татарина?!
– Нет, татарин бил барыню.
– Это совсем плохо!..
– Ну да, конечно, барыне плохо, а бедному татарину очень хорошо: он стал теперь первым проводником, у него много барынь, гостиница, хорошие кони, золотые часы. Бедному татарину стало очень хорошо.
Больше уже не было времени убеждать Османа, что у него совсем другая любовь. Над головой висели снежные глыбы Яйлы, где чуть не погибли курсистки с Османом.
Еще мы немного проехали. Кончились фиалки, крокусы и даже подснежники. В глубоком снегу лошади проваливались по самое брюхо. Сосны окружили нас, удивленные, и, казалось, думали: «Зачем это из миндальных садов и кипарисовых парков странные люди пожаловали, – уж не хотят ли у мороза клочок земли торговать, рубить сосны и строиться?»
IV. Алмазная гора
Старику Осману холодно в башмаках и летней одежде, мне жарко подниматься в сапогах и ватной куртке: он стремится бежать, я – постоять, оглядеться, дух перевести. Между нами молчаливая борьба и уступки. Идем и с каждым шагом видим, как небо и земля разделяются, курятся вершины, как огромные небесные кадильницы, и все беднее и беднее земля. Кончились фигурные сосны, мощные буки и грабы, началась жалкая дубовая мелочь, где прячется по нашим местам заяц трусливый.
Единственный человеческий след на снегу круто забирает вверх, древесная мелочь остается, как пепел на белом, внизу; близко над головой край Яйлы, слышно, как там, в степи, воет ветер. Взобрались на плоскогорие, как воры по желобу на крышу высокого дома, и глянули
– Здравствуй, Дед-Мороз!
Я успел наклониться и удержаться за камень, но палку мою вырвало и унесло куда-то в леса. Ветер, пурга, света не видно. Так встретил нас белый дед на Яйле.
У самого края Яйлы лепится на скале дом человеческий, научная станция; в ней живет ученый отшельник постоянно и, говорят, никогда не спускается в благодатный край у самого синего моря. Перед входом в дом в глубоком снегу была вырыта настоящая траншея, по ней спокойно ходила корова и петух с курами. В домике зябнет семья: тот молодой ученый – бодрый господин, мать его, жена и белый мальчик с синими глазами, представленный мне ученым ботаником, как Aedelweisz varietas Aj-Petri. В этой снежной семье, как на Рождестве у матушки, я греюсь у печки, слушаю вой метели. Снежные люди рассказывают, как им тут живется.
Была одна особенно тревожная ночь. Проснулась старушка и спрашивает сына, как маленького: «Юрик, что ты свистишь?» А тот и в ус не дует, буянит и не дает спать старухе. «Иезус, Мария! – прошептала старая. – Да то же не Юрик, то бес!» Стала молиться и каяться своему ксендзу в родной Вильне. Грех большой у старушки: по слабости, по материнской любви к сыну не может оставить бесовскую гору. Обещается каждый год уйти в Вильну и, когда приходит срок обещания, просится: «Юрик, отпусти меня на родину, я скоро умру». – «Куда же ты пойдешь, – говорит сын, – у нас теперь ничего нет в Вильне». – «Как ничего, а церковь?» Ясно, куда просится мать: тяжело нести годы земные, туда просится мать, где не сеют, не жнут бесплотные духи. Юрик мать свою не отпускает, а сама не смеет уйти. Вот и свистят теперь бесы, а старухе чудится, что это ее Юрик свистит. Прошептала молитву, чиркнула спичку; горит, а не светит огонь. Это была страшная ночь на горе. Ураган раскидал по крыше трубу и выдул в дом из печи золу. Огонь в пыли не светит, морозу в доме все прибывает, а маленький Aedelweisz был тогда еще совсем крошечный, грудной младенец. Пробовали печь затопить; ветер выкинул в дом горящие дрова, отворили дверь и форточки, морозу еще в доме прибыло. Пришлось ночью лазить по крыше над пропастью, собирать с фонарем кирпич по кирпичу и складывать трубу. Мать согревала телом дитя, отец мастерил трубу, старушка молилась и обещалась этим же летом идти на родину, искать свою церковь. Кончилась ночь благополучно, и мало-помалу зима прошла. А летом хорошо на Яйле, не жарко, не холодно, ноги и поясница не болят. Попросилась слабо раз-два у Юрика, смолкла и до сих пор живет на горе и, просыпаясь в бесовские ночи, спрашивает: «Юрик, ты что свистишь?»
Мучатся люди в одиночестве, а случится увидеть нового человека, непременно расскажут сначала о себе, а потом уже спрашивают о том, чего им не хватает: о мире далеком, прекрасном и полном.
– Что, персики внизу уже зацветают? – спрашивают снежные люди.
Не успеваю ответить о персиках, спрашивают о войне, о новом законе в Западном крае, о Художественном театре в Москве. За семь лет зимой это всего третий случай поговорить с человеком из мира, где в это время начинают цветы зацветать. Раз какой-то бедный чахоточный учитель по недостатку средств пешком возвращался через горы из двухнедельного отпуска в Крым для поправления здоровья. Другой раз под Новый год какой-то одинокий господин стосковался по снегу, родине и пошел прогуляться в горы. Стал подниматься выше и выше; пришло в голову, что в летнее время видел ресторан, и он задумал достигнуть вершины и в ресторане переночевать. А на Яйле была такая же метель, как теперь. Странный господин подошел к забитому ресторану, не заметил домика научной станции, перекружился, спутал направление и пошел в степь. Случайно его заметили и спасли.
– Яйла каждый год много людей кушает, – сказал Осман. – Пойдет человек и не вернется, много она кушает!
И мы принялись говорить об этой удивительной пустыне всего в нескольких сотнях саженей над богатейшим краем. Яйла зимой непроходима, летом странно здесь, как на луне: камни сложены торчком, ребро к ребру, травка между ними пробивается, все голо, ни ручьев, ни озер, а солнце, луна и звезды, как в настоящей пустыне, ближе и больше. Некогда жил тут святой, теперь живет ученый. Бедным людям долин по-прежнему нужен святой, – и так они из ученого чиновника создали святого; они говорят: «Когда ученый спустится, в долинах не будут уж драться из-за струйки поливной воды, богатые чужие люди вернут бедным татарам землю, будет так хорошо всем, как задумано Творцом, наделившим край лучшим климатом в мире».
И все это будто бы возможно. Ученый делает опыты, чтобы облесить Яйлу. Когда защитный лес вырастет, вода тающих снегов и ливней будет задержана. Воды много, ни одна тучка, не поплакав, не проходит мимо Яйлы. Вырастает защитный лес, будут заделаны какие-то грунтовые скважины, устроены бассейны. Вода будет задержана в пустыне, ее хватит для поливки садов всего края. Люди сухих долин будут разводить тогда легко и дешево сады миндальные, персиковые, виноградные, на земле будет рай, и ученый, конечно, тогда уже спустится.
Вечером стихла метель, где-то за горами всходила луна и колдовала у занесенного снегом замка Ай-Петри. В окно было видно все: черные башни, пониже – белая горбатая линия снега, еще ниже – какая-то серая шерсть, – и все пропадало в глубине. Казалось, наш домик стоял у края вселенной.
Я смотрел у окна в своей комнате один, как всходила эта небольшая луна горной пустыни. Диск луны был огромный, полный, на нем медленно выдвигался один самый высокий черный палец Ай-Петри. Я смотрел напряженно в этот черный край нашей земли; от этого видимый диск луны стал казаться большим сияющим полем, а по этому огромному сияющему полю черный палец Ай-Петри чертил свою линию – земля двигалась. Первый раз в своей жизни я действительно видел, что земля наша движется, видел, верил, понимал, удивлялся…
В это время все уже спали в домике, я не мог ни с кем поделиться, казалось мне, собственным необыкновенным открытием. Опять и опять я повторял свой удивительный опыт: земля двигалась явственно, нельзя было спорить, это было так очевидно. Когда палец Ай-Петри, совершая свой путь вместе с землей, опустился ниже луны, я стал повыше, луна понизилась, черный палец Ай-Петри опять чертил свою линию по сияющему громадному диску луны
Потом всю ночь мне, утомленному днем, приходили в голову рассуждения и разговоры, связанные сказками и украшенные зрительными видениями. Я видел снежную гору Ай-Петри, украшенную огнями алмазов; подножие горы было скрыто в непонятной бездне, а сама гора куда-то плыла, и ее черный верхний палец чертил свою линию по неподвижному огромному диску луны. Рассуждал я то с римским папой, то с нашими обыкновенными староверами. Спора у меня с ними не было; напротив, мы все вместе, видя настоящее движение земли, как-то жались друг к другу, как будто приехал к нам в захолустье какой-то страшный ревизор. У нас была несомненная правда, теплая и милая, но там, на сияющем диске луны, черный палец алмазной горы чертил свою несомненную, ужасную, холодную, снежную правду: земля двигалась! Наконец мы подняли свои робкие голоса, обсуждали долго, как нам теперь быть, и решили все согласно, что земля движется, земля круглая, но это не наша, а другая земля; наша земля тоже есть, но она плоская и неподвижная. Так всю ночь я рассуждал согласно с покойниками возле плавучей алмазной горы, ослепительной, снежной, с указующим черным перстом на луну.
С вечера я задумал встать до солнышка и посмотреть, какое бывает утро в горах, но петух, разбудивший меня, должно быть, не раз и не два кричал под окошком. Солнце было довольно высоко, а море, казалось, поднялось до самого нашего домика, белое, густое. Это были те облака, что люди, просыпаясь в долинах, видят высоко над собой, а в нашей равнине принимают даже за настоящее небо. Здесь облака внизу были совсем похожи на море, и внизу под ним, где-то в невидимом граде, звонили к заутрене. Потихоньку, чтобы не разбудить своих еще спящих хозяев, я вышел из дома пройтись и вблизи посмотреть на Ай-Петри. Шел я вдали от края Яйлы; что делалось внизу с туманами, мне было не видно, и так это нужно было, чтобы сразу поразить меня, когда выгляну. В одном месте ветер сдул снег, тут каменные плиты стояли одна к одной, как на мостовой торцы, только неровные и под углом налево к морю. Одна из этих громадных косых плит особенно высоко торчала, я поднялся на нее и догадался, что это Ай-Петри, еще ступил и вдруг… ступил и скорее склонился к земле Земля подо мной была плоская, надежная, каменная, а там, внизу, я на мгновение увидел в ослепительном сиянии голубой шар вселенной. Я был у края черной плоской земли; места было довольно для многих людей, но мне казалось, что только одно мое стучащее сердце помещается на каменной плоской родимой земле, ноги мои, руки и все тело висит, и голова тяжелая, вот-вот перевесит и утащит все в голубое. Когда я снова осмелился выглянуть и овладел собой совершенно, там все было по-прежнему: горизонта не было, моря и неба не было, был шар, и по голубому поднимался медленно вверх, как муха по стене, маленький дымящий кораблик. В эту минуту я понимал свой ночной сон, знал, за что бьются староверы и всякие старые люди: земля, на которой мы живем, действительно плоская, вся наша обыкновенная родовая жизнь складывается на действительно плоской земле; если бы в наш обиход, во все наши чувства ввели этот страшный шар, мы в безумном трепете, ощущая только свое бьющееся сердце, охватили бы нашу маленькую плоскую землю. Из-за этого они и бились, старые, они хотели сохранить нашу жизнь, и эта наша жизнь – земля воистину плоская.
Когда я еще немного осмелился подвинуться из-за камня и увидел роскошный южный берег Черного моря, покрытый дворцами и парками, то, после голубого шара, ничего уже не нашел удивительного. Розовую крышу казарм я принял за миндальный садик, искал крыши казарм и остановился на розовом саде. Море было наивное, как на изображении святого Афона; по нему плыли наивные кораблики, на гору поднимались наивные елки. Хорошо было слышно, как звонили в Ялте к обедне, а горы все еще курились, как будто в согласии со звоном долин в горах пели свою херувимскую.
V. Белый дед
Разгорелось утро, настал красный день, закапали капели – и вспомнилась родина в марте, когда у нас на подопревшую плотину у мельницы с крыши голубь слетает и мельник выходит проверить напор воды. Эта Яйла – таинственное, заоблачное горное пастбище под снегом – совсем как наша степная губерния. Хочу рискнуть один перейти ее пешком и спуститься в долины Бахчисарая. Хочется, и вспоминаются слова старого Османа: «Яйла зимой много людей кушает». Если ветер поднимется, не миновать беды. Полагаюсь на опыт ученого: как он посоветует, так и сделаю; недаром же у него висят на видном месте золотые часы с императорским гербом за верное предсказание погоды. Ученый посмотрел на небо и сказал: – Облака антициклонного типа, ничего дурного не предвещают, смело идите!
Я отправился в снежную степь по единственному, и то наполовину занесенному, человеческому следу. Сначала не проваливалось, я ставил свои ступни в чужие и шел, внимательно наблюдая след и размышляя о нем. Бог его знает, кто это шел по снежной равнине, откуда-то взялся и зачем-то пошел и пошел на полной свободе пространства. Снег сохранил отпечатки, и мне ясно видно, как ходит человек на полной свободе. Законы звериной жизни тянут его идти в сторону, чтобы кругом вернуться на старое место, но человек должен прямо идти, и вот передо мною на земле эта борьба человека с животным: след идет, как ползет змея, постоянно сбивается в стороны, а в общем – все вперед и вперед.
А солнце все греет и греет, первобытный след порыжел и вдруг стал проваливаться. Иду своим путем по ледяной корке, занесенной вчерашним пушистым снегом, стараюсь идти прямо, как можно вернее, и спустя немного оглядываюсь, – удивительно! След мой такой же, как и у первобытного человека, идет кругами – вавилонами, постоянно стремясь перейти в след гонимого зайца.
Недолго мне пришлось размышлять о первом следе человеческом, ледяная корка стала проваливаться все чаще и глубже, я ухожу в снег по колено, по пояс, выше и выше. Кладу плашмя перед собой палку, подтягиваюсь на ней, прохожу два-три шага и снова, мокрый, потный, измученный, опускаюсь в снежную ванну; вокруг меня на глазах разрушается дело мороза, и вот-вот где-то в лазури неба и золоте солнца запоет жаворонок. Что делать? Назад – далеко и обидно, впереди – неизвестное пространство. По шею в снегу стою и гадаю: вперед или назад? И вдруг не очень далеко впереди меня из снега поднялась голова, борода седая, длинная и до конца не показывается, как будто весь этот снег вокруг – одна слежалая, неподнятая борода старика. Поднимется голова немного и опять опустится, поднимется и опустится. Видно, что пропадает на солнце и тает. Уж не Мороз ли это вышел рано поутру по своим владениям погулять, посмотреть с края Яйлы, нельзя ли нынче пониже спустить белую бороду и заморозить цветущий миндаль у синего, теплого моря, вышел и вдруг попался: пропадает, ноги подтаяли, пар идет, одна голова бьется, путается в бороде.
Собираюсь со всеми силами, то хитрю, стараясь не ступать, а скользить ногами, как лыжами, то, сердитый, лезу напролом, иду на помощь пропадающему старцу, и бог, покровитель зимы, мне помогает: между мной и стариком возвышенность, едва заметенная снегом. Я выбираюсь из снега с одной стороны, дед лезет с другой, и вот мы лицом к лицу со старым белым хозяином.
– Здравствуй, дедушка! Что это выбрался ты в такое тепло?
– Здравствуй, милый… выбрался-то я выбрался, да, вишь ты, не угадал, день парной, раскиселило, иду-колыбаюсь, запрел.
– А куда же ты идешь-колыбаешься?
– Иду я в Ялту способие просить, потому я стар и живу без внимания. Да, вишь ты, голова-то у старого играет так и так, думал – хорошо дойду по морозцу, а ин вышел тын, потому, знаешь, у старого человека голова-то играет.
Дед вынимает из-за пазухи солдатский билет, смотрит серьезными, умными глазами в грязную грамотку и спрашивает:
– Скажи мне, ученый человек, по этому билету выйдет ли мне какое способие, потому, знаешь, стар я и живу без внимания.
Так мы встретились на Яйле с Дедом-Морозом, постояли, покурили, посоветовались, он о способии, я о своем пути, и разошлись в разные стороны.
А след на Яйле, узнал я от старика, был известного человека: из Кокоз в Ялту шел бедный татарин Мемет продавать яйца. По этому следу мне и дальше идти; только на сопке, где вчера вовсе сдуло след, нужно остановиться и посмотреть на землю, проверить путь: в этом месте лежит скорлупа, тут Мемет оступился и разбил яйца. По этому следу мне и дальше идти, а потом опять снег, и след пойдет до перевала, на перевале же и так все будет видно.
Как учил меня Дед-Мороз, так я и сделал: шел по татарскому следу, радостно встретил примету на сопке, разбитые яйца, под сопкой в ручье напился воды, отдохнул; снег становился все тоньше и тоньше, тут в последних числах путался март голубой. Скоро показались и первые теплые проталины, ореховые и дубовые мелочи, пахнуло землей, прелыми листьями; в полчаса из голубого марта перекочевал я в золотистый апрель. На перевале внизу увидел зеленую долину, покрытую не то высокими тополями, не то минаретами, я увидел желанный край, такой радостный, такой приветливый, и пустился бежать туда вместе с ручьями, благодарный старому Деду-Морозу за снег: без снега не бывает весны.
На половине горы, где уже цветет кизил и под орешником белеют, как скатерти, последние кружки снега, расчищали дорогу рабочие. Очень удивились они, что я в такое время решился перейти Яйлу. Но еще больше удивились они, когда я рассказал о старике: идет чуть живой, пар валит, колыбается, путается в своей бороде, а борода длинная, ниже пояса. Все мужики оставили свою работу, задумались: «Какой же это старик в такое время мог пойти?»
– Говоришь, белый и борода длинная?
– Борода, и на щеке у него была малиновая бородавка.
– Знаем!
Все объяснилось, как только я упомянул о бородавке: это был дед Кисет.
– Он говорил, что идет он в Ялту просить по солдатскому билету способие.
– Способие!
И вдруг загрохотали во все грохота.
– Чего же вы грохочете?
– Да как чего? Такой старый и захотел способия. Молодым не дают, а он такой старый…
И опять загрохотали.
А ручьи весело бежали по горе, орех золотился, внизу ожидали высокие раины. По влажной весенней земле, быстро перехватывая палочкой, бежал я в этот невиданный край, не бежал, а летел, как перелетная птица, и, как птица, ни о чем не думая, твердил одну песню: «Способие, способие, захотел старый дед способия».
VI. Трагикомедия
1
Когда огромная, окованная железом дверь караимского мертвого города Чуфут-Кале поддалась нашим усилиям, запела, приоткрылась и на скале показались глубокие колеи, пробитые телегами далеких обитателей мертвого города, конечно, я думал о вечной книге, приступая к чтению которой верующий христианин крестится и целует священный текст. Чуфут-Кале значит – иудейская крепость. Я знал из книг, что караимы, в исторической перспективе, такие же евреи, как наши хлысты – русские люди, но в то же время проводил бессознательно между ними большую черту. Очень мало людей, знающих караимов, но всякий почему-то повторяет, что караимы совсем не то, что евреи. Помню еще в гимназии двух мальчиков, еврея и караима; еврея, конечно, дразнил! «жидом», а караиму, как и всем нам, была кличка индивидуальная. Какая-то особая караимская благодать спасала мальчика от клички, ранящей семя жены в самозачатии. И эта самая благодать восстановила в моем воображении чистый образ старца-патриарха, самого древнего, самого мудрого. Когда запела и приотворилась огромная дверь мертвого города, я вспомнил одно необыкновенное дерево, встреченное мною в горах, черное, узловатое, видно страшно древнее и закаленное в борьбе с жестокими горными бурями. На сучьях дерева висели толстые, в руку, длинные ледяные сосульки и капали на снег, а на снегу от капель под каждой сосулькой была пробита небольшая кругловина, и на ней цвели белые, младенчески чистые подснежники. Когда я сорвал несколько цветов и, подняв от земли голову, встретился с деревом, то оно, казалось мне, черное, узловатое, поднимало тяжелые красные веки, как железные двери, и укоряло за свои молодые цветки. Это старое дерево и вспомнилось мне при входе в ворота мертвого города. Я ожидал и здесь встретить мудрого древнего старца в таком же сочетании с жизнью, как то самое старое дерево ледяными сосульками сочеталось с самыми молодыми цветами весны.
В кармане у меня было рекомендательное письмо к одной караимской девушке, Ревекке Шапшал, в Бахчисарае от ее учительницы, знавшей ее еще в школе. «Это письмо, – думал я, – откроет мне двери к тайнам загадочного народа», – я так в этом положился на Бахчисарай, что не очень был огорчен современностью, встреченной в Чуфут-Кале. Одна простая караимская женщина, вероятно, жена сторожа, взялась неотступно ходить за мной и все показывать. Самое главное в Чуфут-Кале, по ее мнению, был, конечно, дом, устроенный караимским обществом для знатных путешественников. В этом доме было чисто, но безвкусно и все напоказ, как у необразованных купцов, пожелавших стать аристократами… Еще мне показывала старые караимские кенассе, пещеры, ханский мавзолей, перед каждой древностью женщина становилась в позу и путала сказку, прекрасно знакомую мне из путеводителя. Настоящих памятников древности из караимской культуры и быть здесь не могло, от этого народа ничего не осталось. А развалины домов так легко было принять за развалины обыкновенных сараев. Благоговейное чувство к старине в мертвом городе очень субъективно, и у меня колебалось, в особенности от вида казарменного здания для знатных путешественников среди развалин на горе висящего мертвого города. Настоящее знакомство с караимами откладывал я до Бахчисарая и был уверен, что там узнаю нечто новое из глубокой и отверженной теперь старины.
В Бахчисарае улочки узенькие, как в средневековых городах, и все на виду. Вокруг меня были лавчужки, кофейни, открытые мастерские, на глазах тут шили цветные сафьяновые башмаки, мастерили трубки с длинными чубуками, резали восточные материи, паяли кофейники, жарили шашлыки и чебуреки, мололи, варили, пили кофе, играли в карты, в кости, били собак и просто гуляли спокойно, закинув голову, выпятив живот и заложив руки назад. Там проходит важно мулла в живописной чалме, там на верху минарета поет муэдзин, и на зов его, а может быть, и так, по улице, устроенной на сухом русле речки, идут таинственные, закутанные в белое восточные женщины.
Сказали, что Ревекка Шапшал – доктор, указали мне улицу, но я не подумал о европейском обыкновенном докторе в такой обстановке. Ревекка – доктор восточный, лечит целебными травами, ставит диагноз по созвездиям. Я искал глазами вывеску восточного доктора, но чего только не встречали глаза мои в поисках вывески: домики лепятся над домиками, от самого низа до самого верха, в домиках окна без всякой симметрии, двери иногда такие маленькие, что вот видишь, как лезет туда толстый татарин, и загадываешь: «Пролезет или застрянет?» Где-то, пройдя тополь, против фонтана я остановился, хотел внимательно во всем разобраться, но заинтересовался котом, как он спокойно перебирается с крыши на крышу. Следя за котом, я вдруг увидел желанную вывеску, повернул в закоулок и позвонил к восточному доктору.
Ревекка – молодая, красивая девушка с восточным лицом, глаза – как у мудрой птицы совы, нос – как У ведающего счастье слона, сидит одетая в европейский костюм за квадратным, полированным столом и читает тетрадку «Женского вестника». На столе и другие наши обыкновенные журналы, из открытого кабинета виднеются инструменты и вся обстановка обыкновенного нашего врача. Ревекка – доктор обыкновенный, из медицинского института. Ни в чем не может помочь мне Ревекка, давно разорвала всякую связь со своими отцами-караимами. Она даже как будто чуть-чуть обиделась, что к ней, европейскому врачу, обращаются с такими вопросами, как, может быть, обиделся бы иной профессор из купцов, если бы к нему обратились за советом о жизни замоскворецкой. И она, правда, ничего не знает, разорвала с обычаями караимов давно всякую связь.
Так ни с чем и вышел я бродить по незнакомому старинному городу, раздумывая о таинственном племени и образованной девушке, не помнящей своего родства. То, что у нас казалось так естественно, – полный разрыв отцов и детей, – здесь, у чужих людей, этот квадратный полированный стол, поставленный на место древнего хаоса, и за столом девушка с лицом восточной рабыни, читающая «Женский вестник», сразу округлялись в символические значения. В борьбе за свободу эта Ревекка, может быть, перешла через труп своего отца, вся она духовно иная, а лицо – той, прежней, библейской Ревекки…
Бахчисарай лежит в каменной чаше, а на краю ее высоко над городом стоят каменные сфинксы, к этим фигурам я и поднялся. Солнце садилось, приближалось время, когда на все минареты выходят муэдзины и, когда солнце касается земли, поют. Я видел в каменной пустыне, окружающей город, как один чалмоносный путник с длинным посохом спешит, чтобы до заката увидеть город, услышать муэдзина и помолиться на краю каменной чаши. Но как раз на пути к городу была пропасть, хаджи остановился возле нее, как-то беспомощно заметался туда и сюда – не попасть ему к закату, не увидеть минаретов Бахчисарая! Он был словно в конвульсиях и вдруг понял, что бесполезно спешить, и замер, недвижимый, в чалме, с длинной палкой, лицом к закату. Солнце коснулось земли, на всех минаретах запели муэдзины, а тот, неподвижный, за пропастью, не слыхал и молился один с протянутыми к солнцу руками.
Когда я спустился в город, то луна уже блестела между высокими тополями ханского дворца, на главной улице по красной заре мелькали черные точки летучих мышей, и все было так, что на вывеску доктора Ревекки Шапшал, мне казалось, я посмотрел глазами ее покойного отца из древнего хаоса.
2
Дома ожидал меня молодой человек, корреспондент провинциальной газеты, с письмом от Ревекки Шапшал. Она рекомендовала меня одному старому караимскому газзану. Корреспондент рассказал мне, что этот газзан был уволен от службы высшим духовным начальством. Покойный гахам Помпулов под конец своей жизни понял, что невозможно караимскому народу жить, как до сих пор, спиной к культуре из-за того, что иначе караимов сравняют с евреями и подвергнут тем же гонениям. Поняв это, гахам, под конец своей жизни, стал выбирать газзанов из молодых просвещенных людей, окончивших университет. На место здешнего старого газзана был назначен молодой. Старик озлился и будет очень рад с нами побеседовать.
Арабская сказка встретила нас, когда мы вышли на улицу искать дом старого газзана. Тополи ханского дворца при луне высятся до самого неба, по улице идут женщины в белом, как привидения, в звуках струйки фонтана узнаешь начало всей нашей музыки. Где-то в дремлющих темных заулках мы разыскали большой старый дом и вошли на его двор, окруженный покосившимися зданиями со стеклянными галереями. На дворе, освещенном только луной, в этом хаосе деревянных развалин мы долго искали чего-нибудь похожего на вход. Наконец сверху, в стеклянной галерее, раздался стук деревянных башмаков, и свесился к нам горбатый силуэт старухи; она и привела нас к газзану. Неожиданной, как домик в глухом лесу, была эта опрятная комната караимского газзана. Старая, скромная скрипящая мебель, картины с библейскими сюжетами – все было похоже на обстановку какого-нибудь нашего провинциального батюшки, только свиток пергаментной Торы на столе под стеклянным колпаком подсказывал, что арабская сказка все еще продолжается.
Старый отставной газзан вышел к нам в одежде, очень похожей на костюм французского адвоката, в черном, длинном, с пелеринкой, благообразный, туго седеющий старик с черными глазами-кулачками навыкате и с красными веками. Корреспонденту было очень легко сказать о себе: он пришел узнать подробности несправедливой отставки газзана. Я же постарался объяснить старику, что был увлечен видом караимского мертвого города и пожелал иметь о караимах живое свидетельство. Мои почтительно выраженные слова понравились газзану. Старик снимает с Торы стеклянный колпак и, развернув древний пергаментный свиток Пятикнижия Моисеева, гордый обладанием священной древности, молча указывает мне на непонятные строки древнееврейского текста.
– Непунктированное! – произносит, наконец, старый газзан таинственное слово.
И, с любовью, гордостью и с детски-старчески наивной верой глядя на текст, объясняет, что значит «непунктированное». Нынешние молодые газзаны не могут прочесть древнееврейский текст без особых пунктов, и потому теперь печатается текст пунктированный, а этот настоящий, старый список без пунктов, этот может прочесть только старый газзан.
Мостик от моего бескорыстного вопроса о караимской старине к вопросу корреспондента о деле отставки явился неожиданно, чудесно, как это может быть только у старых житейских людей. Наивное, и мудрое, и благочестивое лицо газзана мгновенно покрылось сетью лукавых морщинок, и тихонько он сказал на еврейском жаргоне в сторону корреспондента:
– Der Junge kann nicht lesen[43].
Я хорошо понимал, что «Der Junge» – это – газзан с университетским образованием, назначенный вместо старого. Я прямо спросил старичка:
– Неужели человек, получивший образование на факультете восточных языков, не может прочесть непунктированной Торы?
– В университете этого нельзя выучить! – горячо воскликнул газзан. – Нельзя и нельзя. Слово сказанное – не то, что писанное, писанное – не то, что печатное.
В доказательство он приносит груду образцов брачных договоров от старых времен и до последних: старые были написаны красиво, старательно, украшены художественными виньетками, новые были напечатаны, как вывески.
– И так во всем, – говорил старый газзан, – все дело религии такое, молодой человек из университета не может прочесть непунктированное.
Между брачными договорами был один новейший, о нем старый газзан рассказал печальную историю.
К старому газзану пришли бедные молодые влюбленные, Рахиль Катык и Абрам Месаксуди. Их брат и сестра состояли в браке, и потому по обычному закону Рахиль и Абрам не могут сочетаться браком, но они уже сочетались в любви, им грозит большая беда. Добрый старый газзан пожалел молодых людей. Кстати, в Пятикнижии Моисеевом нет запрещения таких браков, а Пятикнижие больше обычных законов. Пусть будет, что будет, газзан идет навстречу жизни и закона Моисея, он венчает Рахиль Катык и Абрама Месаксуди. Тогда-то гахам Помпулов – жестокий человек! – отдает старого газзана под суд и просит судей приговорить его к смертной казни. Но окружной суд не находит преступления и не приговаривает газзана к смертной казни. И вот пример, вот доказательство, какой жестокий человек был Помпулов: прямо на суде, в присутствии коронных судей, украшенных золотыми цепями, выслушав оправдательный приговор, гахам, духовный вождь караимского народа, бросается на бедного священника с палкой…
Со слезами дальше рассказывает газзан, как его уволили и разлучили с общиной и назначили молодого, безбородого, безусого университетского газзана, не умеющего даже читать по непунктированному…
Когда мы вышли на улицу, по-прежнему освещенную арабской луной, корреспондент сказал:
– Вы знаете, за что его хотел бить и даже предать смертной казни гахам Помпулов? Этот старый газзан совершил очень редкое у караимов преступление: взял за исполнение брачного договора Рахили и Абрама три тысячи. И все, что он говорил о Пятикнижии, все это верно, но только маленькая поправка: три тысячи.
3
На другой же день меня привели к молодому газзану, окончившему два факультета. Он был тоже в костюме французского адвоката, но вокруг его дома не было уже арабской сказки, в комнате не было пергаментной непунктированной Торы, стол был завален корректурами, и единственный в комнате признак связи молодого человека с прошлым – это на столе, за корректурами, портрет гахама Помпулова, с надписью: «Помпулов, потомственный дворянин, духовный вождь караимского народа». Этот «дворянин», поставленный на первом месте, был получен Помпуловым за низкие поклоны перед русским правительством, за всю эту хитрую политику, состоявшую в том, чтобы всеми правдами и неправдами скрыть близкое родство караимов с евреями, неутомимо льстя и угождая властям, отвлекать их от гонений, постигших еврейский народ. И так он стал потомственный дворянин и вождь действительно избавленного от возможных бедствий народа. Но под конец своей жизни Помпулов понял, вероятно, что эта политика – на ложном пути: нельзя жить теперь народу без общения с миром, понял и стал назначать в священники молодых, европейски образованных людей. И вот этот новый караимский священник сидит теперь за столом с корректурами.
– Это ваше богословское сочинение? – спросил я газзана.
– Нет, это моя беллетристика, я беллетрист.
Восточный ученый человек, я уже давно замечал, похож всегда на мудрую птицу филина: сидит себе на своем сучке, смотрит круглыми глазами и думает все как-то по-своему.
Удивительно было мне слышать от священника иудейской секты, что он беллетрист. Я спросил, какая же форма его беллетристики: рассказ, роман, комедия, трагедия.
– Я описываю жизнь, – ответил газзан, – а жизнь не комедия, не трагедия; форма моих произведений – трагикомедия.
Он рассказал содержание своей последней «трагикомедии». Герой драмы, молодой, образованный газзан, хочет спасти караимский народ, и перед ним две одинаково гибельные дороги: по одной пойдешь, погубишь народ в его заключенности, по другой – грозит, как и евреям, ассимиляция, потеря национального облика.
Я, конечно, спросил, почему же газзан эту настоящую трагедию называет трагикомедией, но он как-то не сумел этого объяснить.
– Была бы трагедия, если бы выход был, но выхода нет для героя, получается и трагедия, и комедия.
Мы занялись подбором лучших сочинений о караимах, справлялись в словаре, делали выписки, как делают это в библиотеке, и за этой работой я даже совершенно забыл, что нахожусь в необыкновенном городе. Только время от времени попадались мне на глаза корректуры «трагикомедии» и над ними лицо хитрого, умного, верующего старика с удивительной надписью: «Помпулов, потомственный дворянин, духовный вождь караимского народа».
Рассказы
Сашок*
I
Мне тогда было лет девять. Я сидел за столиком и отвечал урок учителю. Вдруг кто-то крикнул:
– Царица небесная… Сашок утонул!
Мы бросились к окну. Толпа народа виднелась у пруда. Мы туда. Толпа обступила почти весь пруд кругом. Несколько человек по ту и по другую сторону пруда тащили за веревки невод от плотины к «хвосту». Тащили, как всегда, довольно медленно, потому что мешали большие ивовые кусты у самой воды. Посредине пруда, на лодке, кто-то торопливо раздевался. Потом он крестился и нырял, влезал снова на лодку, отдыхал и снова нырял. Необыкновенно и страшно было то, что вся собравшаяся толпа молчала.
Все было так, как и просто на рыбной ловле, но теперь была еще эта странно молчаливая толпа, сосредоточенно смотревшая в воду. А вода была темная, мутная, с берегов почти до середины затянутая зеленой ряской.
В этой воде, где-то на дне пруда, лежал человек.
Пройдет еще несколько минут, и он там умрет. Вот почему молчала толпа, было страшно, и страх передался мне.
Невод притянули к «хвосту» пруда. Наступал решительный момент. Раздался вопль:
– Заступись… помоги!.. Родимый, батюшка…
Корна показалась пустая. В ней билось несколько серебристых рыбок…
Невод потащили назад к плотине. Кто-то сказал, что время еще есть минут десять, захватят в этот раз, можно будет откачать.
Я стал про себя молиться: «Господи, спаси Сашка!» Я вспомнил, что часы, тикая, отбивают секунды. Я стал считать секунды, и от этого, казалось, времени становилось больше: тик-так, тик-так, раз, два, три…
. . . . . . . . . . . . . . .
II
И как же я любил Сашка! Помню зимний вечер. Михаловна дремлет, угревшись на теплой лежанке, а мы с Сережей сидим на ковре под стульями. Мы едем по морю. Кругом стреляют морские разбойники, вздымаются высокие волны, а мы себе спокойно сидим под стульями, сидим и едем. Вдали показывается вершина горы Арарат. Мы выталкиваем сонного кота из-под стульев, а он возвращается назад в виде голубя и приносит зеленую масличную ветвь. Нам грустно: завтра Рождество, а елки не будет; не до веселья, говорят, в такой неурожайный год. Вдруг из передней в коридор отворилась дверь, что-то зашумело. Мы тихонько к двери. И что же! Сашок, весь в снегу, с белой от морозу бородой, тащит по коридору на холодную половину большую-большую елку…
И этот самый Сашок теперь на дне пруда. Если его сейчас не вытащат, он умрет…
Тик-так… раз, два, три, четыре… Да скорей же! Скорей обходите кусты!..
III
Сашок не молод, весь зарос бородой, почти лица не видно. Но все его зовут Сашок, потому что любят. Он страстный охотник, и особенно на перепелов с сеткой и самкой.
Вот мы сидим с луками в вишневой заросли, подкарауливая птичек. Из вишняка видно, как Сашок с сеткой в руке пробирается по зеленому полю. В это время весь заросший волосами Сашок кажется одним из тех таинственных лесных существ, про которые рассказывала Михаловна в зимние вечера, угревшись на теплой лежанке
– Сашок, возьми нас с собой!
И он брал. Пока не сядет солнце и не стихнут соловьи, не крикнет ни один перепел, и сидит, притаившись за «глудкой», боится ястреба. Но вот мы добрались до озимого поля, на краю его расстилаем сетку и дожидаемся, когда крикнет тот голосистый, «десятирублевый», которого никак не может поймать Сашок.
«Пить-пиль-вить!»
Далеко, далеко. Но самка «взяла».
«Трюк-трюк», – отвечает.
«Пить-пиль-вить! Трюк-трюк!»
На красном фоне вечерней зари мелькнула черная точка.
– Тихо, тихо! – шепчет Сашок. – Летит! – И все мы боимся дыхнуть, мы, маленькие мальчики, и этот большой волосатый человек. Скорчились, прижались почти к земле. Слышно, как сердце бьется.
«Ш-м-ш», – зашумела рожь возле нас. Упал возле сетки.
«Ма-ва, ма-ва», – шепчет перепел.
«Трюк-трюк», – отвечает самка под сеткой.
Не помня себя, спешит перепел под сетку, видно, как шевелится рожь. Тут все мы вскакиваем, встряхиваем сетку, и перепел висит, запутавшись крыльями и ногами. Потом мы возвращаемся домой через лес. В лесу уж темно, горят светлячки. Но нам не страшно с Сашком…
Неводом почти совсем разогнали зеленую ряску, почти вся обнажилась грязная, стоячая, прудовая вода. Еще пять минут, и Сашок умрет.
Тик-так, раз, два, три…
IV
Бывало, летом, когда возят снопы с поля, мы с Сережей всегда на возу у Сашка. Солнце палит жарко на теплых снопах. Но тут-то и разговорится Сашок. Рассказывает про перепелов, про всяких птиц. Ему и нам все интересно, от мельчайшего красненького паучка на коре старой липы до самых больших птиц. Он рассказывает, а небесно-голубые глаза на волосатом лице светятся ласково-ласково.
Тут на возу у нас и созревает план набега.
Мы в вишняке, дожидаемся, когда уйдет караульщик. Ушел. Мы к яблонке. Трясем, набиваем карманы и пазухи, мчимся к амбару у колодца, складываем добычу. А то возьмем длинный шест с гвоздем, взберемся на стену скотного двора и достаем яблоко за яблоком желтобокую антоновку и красную анисовку с синеватым пушком.
Тут двойная опасность: свалиться на двор, где страшный бык, и быть пойманным караульщиком.
Яблоки берегутся до вечера, когда у колодца собираются все запыленные, усталые рабочие. Все едят наши яблоки и похваливают молодцов. И мы едим вместе с ними. Тут Сашок всегда уж достанет из кармана какую-нибудь диковину: невиданного кузнечика, который может перелетать с треском, раскрывая красные и синие крылья, или перепелочку маленькую с черным пушком, иногда вытащит из-под амбара смешных слепых щенят.
V
Расступись, дай дорогу!
И расступилась толпа.
Идет старая женщина, седая, с лицом темно-бронзовым, словно почерневшим от времени. Но глаза светятся религиозным светом, и крепко сжаты сухие бескровные губы. В руках у нее большая деревянная чашка, и там горит «страстная» свеча, лежит ладан (наверно, ладан). Она идет прямо к пруду и пускает по воде чашку с горящей свечой. Легкая зыбь на мутной воде гонит чашку вперед. Замерла толпа. Все смотрят, где остановится чашка. Вот словно и остановилась, кружится на одном месте.
– Затаскивай крыло сюда! Волоки в угол к плотине!
Туго идет. Не зацепился ли?
Серьезные лица напряженно смотрят в одну точку.
И вдруг загудела толпа, как один человек.
Показалась голая нога, рука, прилипшая к телу мокрая рубашка, борода, лицо…
* * *
С тех пор прошло уже двадцать лет. Я видел Сашка. Он по-прежнему ловит перепелов, но жалуется, что птицы прилетают все меньше и меньше. А главное, переводятся голосистые, «так хрипуны и летят». И ходить-то не стоит, только лапти трешь.
Господа умилились*
Если идти у нас осенью по краю поля по склону, то, не зная вперед расстояния, можно сильно ошибиться. Кажется, до зеленого островка на безграничном безлесном пространстве – помещичьей усадьбы – рукой подать. Но вот под ногами глубокая промоина. Только обойдешь, – снова ров, словно пасть из красной глины на черной земле. И так поля, склоны с пожелтевшей травой и рвы; ни деревца, ни кустика. И людей не видно. Спутанная лошадь с угнутой к тощей траве шеей, ворон да стая табунящихся, готовых к отлету грачей – вот, кажется, и все живое. Между тем вся эта земля разбита на бесчисленное количество полос, и в этом месте, как нигде, идет борьба за клочок земли. Люди живут в огромных селах, оттого и не видно далеко жилья. Эти места были описаны Тургеневым, но теперь леса вырублены, мужик измельчал, помещик разорился или превратился в кулака… Теперь великий художник не стал бы писать о наших местах.
Вот Дубровка – роща из вековых дубов. Кто-то из хозяев ее говорил: «Эта роща при нашей жизни никогда не будет продана». Но теперь ее рубят. Чем дальше в глубину рощи, тем глуше и глуше удары топора. Показывается группа золотисто-желтых кленов, ясеней и лип, а среди них дом-вилла, весь обвитый покрасневшими уже листьями дикого винограда. В окнах тяжелые рубчатые ставни, двери заколочены. В доме никого нет. Тишина. Только звенит осенняя птичка, чуть шелестят листья и слетают один за другим с высоких лип на крышу покинутого дома.
Я был в этом доме лет пять-шесть тому назад. Тогда хозяин – самый либеральный из крупных владельцев нашего уезда – увлекался биметаллизмом. Он ходил в кабинете из угла в угол и говорил, говорил без конца. Время от времени он подходил к столу, брал иностранный журнал, читал выдержку и снова ходил и говорил. Молодой студент – только что выпущенный из тюрьмы марксист – опровергал его:
– Экономическая необходимость, борьба классов, революция…
– Неизбежная революция?! Что вы, что вы, молодой человек?! Наши мужики и революция!.. Разве это возможно? Посмотрите…
И хозяин широким жестом указывал на вид из окна.
С горы вниз к реке расстилались сады. По левую сторону реки на безграничном пространстве желтела спелая рожь помещика. А по правую сторону к самой воде ползли избы деревни, словно кучка потемневшей прошлогодней соломы. За избами – узенькие полоски крестьянских полей.
Теперь я почти на том же самом месте. Выходит старик сторож.
– Господа уехали за границу. Мужики выгнали… Вон пашут!
И на правом и на левом берегу копошатся черные точки. Это мужики запахивают посеянный ими на помещичьей земле хлеб.
Как же это случилось? Как время разрешило спор помещика и студента? Вот что можно понять из речей сторожа и рассказов соседей.
Почти прямо после 17 октября крестьяне явились к владельцу с требованием земли. Они указывали на несправедливость: у них по семи сажен на душу, у владельца многие тысячи десятин. Говорили о каких-то правах на землю, о каких-то старинных документах. Во что бы то ни стало они хотели «столбить» землю, то есть ставить столбы на «справедливых» границах. Помещик убедил их ехать с собой в губернский город «искать нравов», как говорили мужики. Он обещал их даже содержать на свой счет. Поехали. Ходили, ходили по разным местам, никаких нравов не нашли и вернулись ни с чем.
В следующий раз мужики явились с дубинками и топорами. Их встретили казаки и разогнали. Мужики принялись за работу; казаков отпустили. Но когда поспели хлеба, то от уборки хлеба мужики отказались и явились с требованиями в дом помещика. Сыновей – октябриста и кадета – не было дома. Старик не занимался хозяйством и ничего в нем не понимал. (Не так давно я где-то читал его воспоминания о славянофилах.)
Мужики явились к старику прямо в дом и с шумом потребовали к себе хозяина. Старик вышел, по своей всегдашней привычке нервно подергивая плечом и ногой.
– Попляши, попляши! – громко сказал кто-то из мужиков.
– Я прошу тебя снять шапку, видишь, я постарше тебя, а стою без шапки, – сказал всегда неизменно вежливый аристократ.
– Нет уж… Довольно мы настоялись перед тобой без шапки, теперь постой и ты перед нами…
– Как тебя зовут?
– Зовут?.. А зимой зовут Кузьмой, а летом зовут Филаретом.
– Го-го-го-го…
Кончилось тем, что землю отдали по дешевой цене в аренду. Нельзя было ничего сделать, все отказались работать, и даже домашняя прислуга ушла…
Я спускаюсь с горы по краю поля из помещичьей усадьбы к мужикам, сеющим хлеб. Сеют и запахивают привычно, обыкновенно, весело, совершенно так, как на своей земле, как будто ничего не случилось.
– Ну, как дела?
– Слава богу! Благодать. По десятинке на душу прибавилось землицы, а у кого есть скотинки побольше – и по две взяли.
– Да как это так вышло?
– А так… умилились господа и отдали.
Старые рассказы
Крутоярский зверь*
I
В Безверске много церквей, и много часовен, и два монастыря. Чудотворные иконы сами явились: Параскева приплыла по речке, Никола так пришел. Не от безверия жителей получил город свое название, а от зверя. В старых книгах так и написано: бе зверь. А богомолки от Темной Пятницы рассказывают, будто и поныне живет этот зверь в омуте озера Крутоярого. Никто зверя не видел, но знают, что губы у него телячьи. Никто зверя не слышал, а известно, что кричит он черным голосом. Слышит и видит зверя только роковой человек, на чью голову кричит зверь: час мой роковой.
В самом Безверске о звере забыли и вспоминают только под пьяную руку, когда приезжает с Крутоярого озера Павлик Верхне-Бродский.
Появляется Павлик Верхне-Бродский по своим пустяковым делам изредка. Первый замечает его монах на пароме и ждет с улыбочкой. Издали кажется, будто на двух худых кобылах едет только борода длинная и серая, как небеленый деревенский холст. Это Тимофей сидит на козлах, а сам Крутоярский барин – бритый: нет у него ни бороды, ни усов на лице, зато на породистом носу есть горбинка, как у шведских рыцарей, от которых будто бы и происходят Верхне-Бродские.
Но всего только одну горбинку на носу оставили своему потомку знаменитые благородные предки. Щеки у Павлика – красные отбивные котлеты, русские, и губы толстые, и круглый подбородок, и брюшко, и лысинка, и рыжая шерсть, видная за расстегнутым воротом, и легкомысленный глаз из-под светлых бровей – все русское, один только нос рыцарский. И не копье в руках Павлика, а длиннейший арапник с пулей на кончике для собак. Любит Павлик, проезжая селом, поднести пулю какой-нибудь сердитой забияке. Ай, как взвизгнет она! Тимофей умирает со смеху. И мужики не обижаются, – им тоже смешно. Самых старых и добрых псов Павлик не обижает, а только передразнивает по-собачьему.
– И веселый же наш барин! – говорят мужики, слушая барский лай из тележки.
В поле достает Павлик из тележки деревянную лопаточку и, чтобы не скучно было и время даром не пропадало, хлопает ею пролетающих оводов, шмелей и жуков.
– Ловко! – одобряет Тимофей.
Крикнет в лугу коростель, Павлик с тележки отвечает по-коростельному, грач – по-грачиному, ворона – по-вороньи, сорока – по-сорочьи, и так похоже, что птицы другой раз на лету оглядываются, будто справляясь: не сорока ли, не ворон ли, не грач ли едет в тележке? Весело, любо ехать Тимофею с таким барином, особенно если встретятся на дороге девицы. Все крестьянские девушки знают Павлика и, чуть только завидят Тимофееву бороду, бегут в сторону – в поле. Но у Павлика длинные руки. Издали он умеет показать такую штуку, что девицы взвизгнут и сядут на месте, а Павлик выскочит из тележки и пустится рожью…
Так едет потомок шведских рыцарей с Крутоярого озера в город Безверск. Если день теплый, то у перевоза, где давно уж с улыбкой ожидает монах, Павлик непременно искупается в речке.
За ним лезет в воду и бородатый слуга. Верхнее-Бродский любит цыкнуть по воде ладонью и обдать струей монаха. Сухой постный монашек по обещанию всю жизнь перевозит людей через реку; ему и не до шуток бы, а тут вот стоит он, опираясь рукой на канат, и улыбается. В серебряный день хорошо в брызгах радуга стоит, на воде собирается распуганная стая верховодок, выглянет и глубинная рыба. Тепло. Налим в глею шевелится. Парит. Рак, довольный, со дна пузырьки пускает. Монашек все стоит и улыбается.
– Лезь, святая душа, – велит Павлик.
И слушается монах. Снимает черную одежду, сухой и желтый погружается в серебряную воду. Верхне-Бродский трижды окунает монаха, приговаривая: «Во имя отца, сына и святого духа».
Синяя река, синее небо, синие маковки церквей на холмах. Хорошо будет вспомнить постному монаху серебряный день в темной келье, когда станет река.
Вылезает на крутой берег Тимофей. Борода его висит, тяжелая, как губка, напитанная водой. Ласточки не боятся Тимофеевой бороды: ныряют в береговые печуры. Верхне-Бродский вылезает красный, покрытый рыжей шерстью, и тащит за собой худого монаха. Сидят трое рядом, обсыхают.
– Стар ты становишься, монах, – скажет Павлик.
– Божья воля, – отвечает монах, – придет время, и вы остареете.
– Я не остарею, я буду лечиться, – теперь это можно: надо только впрыснуть под кожу медвежьи семена.
– Медвежьи?
– Или слоновые… много было опытов: впрыснут старому монаху семена – он и завертится, как стрекоза.
Пройди тут мужик, бродяга, нотариус с удочкой, мировой судья, Павлику все равны, – каждый сядет, и все будут говорить ерунду: на то он и есть Верхне-Бродский, Крутоярский барин, чудак.
Искупаются, оденутся; монах переведет паром, и возьмутся две худые кобылы тянуть Павлика на высокую Тяпкину гору.
– Эй ты, лукавая Арина! – кричит Тимофей на одну.
– Завистливая попадья! – стегает Павлик другую.
На горе – площадь, и церквей видимо-невидимо: везде зеленые, синие со звездочками и синие без звездочек, золоченые и серебрёные маковки. Безверск городок – Москвы уголок, да только улицы зеленые и с боковыми тропинками.
Как покажется из-под Тяпкиной горы седая Тимофеева борода на площади, Полюша – швея в деревянном домике с радужными окнами – покрывает ореховым чехлом свою швейную машинку и спешит одеваться, а главное – пудриться.
Сколько уж лет приезжает к Полюше Павлик; диван пролежал, стены прокурил, а все она его принимает парадно: одевается в зеленое платье с кружевами и пудрится. Такая уж отроду Полюша нарядная. В доме у ней залюбуешься: сама из косточек вырастила большие, до потолка, лимонные деревья; на окнах у ней всегда цветет герань; в углу – строгая икона, на стенах – цари и портреты хороших здешних господ. Тут у Павлика верное пристанище.
Подкатив к домику, он выбирает в повозке самого хорошего леща.
– Не худ ли? – спрашивает он Полюшу.
– Жирен, очень жирен, Павлик, – отвечает Полюша.
В повозке еще много лещей, судаков, глухарей и всякой дичины, но это для других, это потихоньку от Полюши в другие места разнесет Тимофей.
– Не худ ли? – обходя других Полюш, будет спрашивать Верхне-Бродский.
– Жирен, очень жирен, Павлик, – ответят радостно и другие Полюши.
Многие, очень многие женщины в домиках на зеленых улицах любили Павлика, и все такие же напудренные, как Полюша. Образованных женщин Павлик стеснялся, краснел и не знал, куда ему руки спрятать. Полюша все прощала Павлику.
– Павлик приехал, Павлик приехал! – бежит слух по зеленым улицам.
И везде радость, будто пояснело. Все любили Павлика, так что другой раз, подвыпивший, он и сам, расчувствуясь, спросит с дивана:
– Отчего это, Полюша, люди чего-то боятся, говорят о врагах, а я ничего не боюсь и никто меня не трогает? Как-то чудно!
– Ты, Павлик, дите, – отвечает Полюша, – ты живешь, как птушечка, – вот за что тебя все так и любят.
Разутешенный такими словами, Павлик засыпал, и так сладко, что не слышит, как грызут мухи его лысину и как брюшко его, мерно поднимаясь и опускаясь, скрипит пружинами дивана. Спал он сладко: из уголков рта слюнки текли.
Удивлялись Крутоярскому барину купцы в железных рядах. Сидели купцы длиннополые в своих лавках, как черные тараканы, и пронизывали понимающими взглядами каждого. Доставали они со дна души, знали, кто чем, как и почему живет, и что в прошлом потерял, и на что надеется в будущем. Но о Павлике, последнем в роду Верхне-Бродских, не могли ничего сказать купцы: не сеет, не жнет, а цел, и все ему кругом улыбаются.
– Какие он дела делает? – спрашивали купцы мужиков из Верхнего Брода.
– Никаких делов не делает барин, – отвечали мужики.
– А живет как?
– Живет с девками да с собаками.
– И не хозяйствует?
– Нет. Хозяйство швырком.
Улыбались тогда сами железные купцы и смотрели на Павлика вроде как на бессребреного и безобидного Афоньку-дурачка.
Зато в клубе очень ценили Павлика Верхне-Бродского. Как придет он туда вечером да примется о своем рассказывать, картежники бросят в карты играть, из биллиардной сходятся игроки с киями.
– Про утку и селезня! – требуют все.
– Чвяк, чвяк, – кричит Павлик, будто селезень, грубовато, по-мужицки.
– Ах, ах! – отвечает мировой судья, как барыня-утка.
И зимой видят люди весеннюю реку. Провожают глазами плывущие льдины; слышат, как падают капли в береговых ледяных сводах. Павлик подплывает к мировому судье и щиплет за хохол, и душит, и топит под стол, и выгоняет на берег, и в страстной погоне вертит хвостом, как селезень гузкой. Весь вечер так. Всякую птицу, всякого зверя представит Павлик, и вся его весна такая выходит верная, что клубная кошка зимой лезет на крышу и всю ночь мяучит.
– Натурально, очень натурально! – рассказывают после клуба граждане женам.
– И со вкусом, – поддакивают жены.
Зимой ухитрялся Павлик делать людям весну. Как же не любить его! Но вот есть же на свете такие люди, как учитель словесности в реальном училище, умнейший в городе человек, – не радовался он этой весне. Худой, как кол, с козлиной бородкой и красными белками, гвоздеватый, занозистый, прищурится и разглядывает Павлика, как насекомое.
«В морду бы ему дать!» – думает Павлик. Но не смеет не только дать, а и пошевельнуться свободно: будто его в этот вечер спаяли. И всегда так: как придет учитель словесности, без весны все расходятся из клуба домой и не будят жен.
Как-то в самый разгар такой весны тихо вошел учитель словесности и, никем не замеченный, сел в углу за столик. Павлик представлял ревнивого гусака, и все, окружив его, как стадо гусей, и по-гусиному вытянув шеи, гоготали. Никогда не имел такого успеха Павлик, никогда лучше не было весны. И вот тут-то, когда все кругом веселились, ему явственно послышалось страшное слово: филистер.
Весна оборвалась, как, бывает, и настоящая вeсна обрывается: зеленый ковер станет белым, деревья седыми, выбитая из гнезда птица спускается ниже, в полдерева, прячется под ветками и не может спрятаться…
Павлик замер: в углу за бутылкой пива сидел учитель словесности, смотрел красными белками, тонкие губы змеились, бородка тряслась.
– Филистер, – шептали кривые губы.
Человек с козлиной бородой сказал страшное, жуткое слово, сказал сам себе, быть может, не для кого, – так, в раздумье. А Павлик на себя перевел. И стало это обидное слово везде его преследовать. После нескольких промахов на охоте, когда и так-то не очень весело в лесу, Павлику вдруг вспомнится загадочное слово. В разгаре тетеревиных токов, когда в темноте видны только мелькающие белые петушиные подхвостники, когда горячий охотник в шалаше весь потом обливается, наводя ружье чуть-чуть ниже подхвостников, и тает всякая мысль, как стеарин на горячей плите, Павлику вдруг чудится злой шепот, видятся кривые тонкие губы, он делал промах и говорил:
– Я – филистер!
После таких несчастий лес для него сразу пустел, и вспоминались детские страхи, и непременно чудился зверь с телячьими губами. Потом, при удаче, все забывалось, лес опять звенел, и все казалось сном. В городе ему как-то долго не приходило в голову спросить о непонятном слове ученых людей.
– Что такое филистер? – спросил он наконец учителя чистописания.
– Дурак, – ответил учитель.
Поздно вечером в этот день Полюша допрашивала Павлика, отчего он такой пасмурный. И Павлик ей рассказал, как его ни за что ни про что дураком назвали.
– Неглупый ты, Павлик, – говорила Полюша, – только весь ты сияющий: ты думаешь, что они все, как ты, а у них-то на душе змея подколодная; напрасно ты перед всеми раскрываешься.
В эту ночь Павлик дал слово исправиться, но утром все, о чем с вечера думал, забыл. Кстати, учитель словесности отчего-то совсем перестал ходить в клуб, и все обошлось, наладилось, и слово забылось.
Ездил Павлик в город изредка. Появится сияющий, раздарит приятельницам жирных лещей, устроит свою весну, и, как ключ на дно, ни слуху ни духу о нем. Только если появится в городе какой-нибудь турист и ему расскажут, что город Безверск происходит не от безверья, а от какого-то Крутоярского зверя, то и вспомнят о Павлике.
– Бе зверь, – скажут туристу.
Тот поблагодарит, запишет, осмотрит старинные церкви, уедет.
И по-прежнему тихо дремлет Безверск со своими церквами в глухом лесу. А внизу у реки монах по обещанию вечно переводит паром…
II
Церкви не видно – вот какие леса вокруг озера! Только на самом верху Крутояра есть лысинка, и на ней в старом саду виден прелый господский дом с тремя деревянными колоннами. Тут исстари живут Верхне-Бродские. Отсюда из окон – как на ладони все озеро Крутоярое и за озером поля Верхнего Брода и самое село, прислоненное к лесу. Церковь и колокольню закрыла сосна. Но из окна Павлик редко смотрит, он всегда в лесу, или на озере, или в избе Тимофея внизу, где вьется тропинка к Темной Пятнице.
Бородатый Тимофей похож на самого старого глухаря в лесу. Детей у него – только дочка, вроде как дурочка, смирная, хлопот с ней никаких, и без горя ходил бы Тимофей с Павликом на охоту день и ночь, не будь у него сердитой старухи. Богомольцы часто захаживали в избу Тимофея и беседовали со старухой, научая ее божественному. А старуха все, бывало, ворчит на полесовщика. И хоть в лес не ходи после этого. Бабья журьба вредная: ничего не убьешь. Оттого-то перед охотой и ложится спать Тимофей поближе к своей старухе, разуважит ее, разутешит, приласкает и прислушается: спит ли. Если сопит старуха, Тимофей чуть-чуть отодвинется. Опять прислушается, опять отодвинется да потихоньку шарк вон. Без бабьей журьбы и зимой в метель, когда свету не видно, случалось Тимофею оглядеть занесенного снегом старика-глухаря. о полдерева под ветками, где спит старик, тихо падают снежинки на его голову, липнут к красным бровям и щекам, и так у глухаря будто борода вырастает. Тимофеева борода от снега тоже белеет, и оба – как один перед зеркалом: Тимофей похож на глухаря, глухарь – на Тимофея. Не погорячится охотник – в метель принесет из леса домой глухаря. Вот что значит ходить в лес без бабьей журьбы.
– Хорош ли мой петух? – спрашивает охотник за обедом старуху.
– Сладок, сладок, Тимофеюшко, – отвечает старуха.
Вечером Павлик долго выспрашивает Тимофея, как и где он убил глухаря, и в мыслях сам убьет его сто раз. Оглянуться не успели приятели, зимний вечер прошел. Вот что значит охота!
Как самые близкие приятели жили Павлик с Тимофеем. И весной, и летом, и осенью, и зимой – всегда они на охоте. Один только и есть месяц раздумья у хозяина Верхне-Бродского, когда птицы на яйца садятся и нельзя охотиться.
Тогда Павлик бродит в саду и делает открытия: там ни от чего выросла целая куртина смородины, там малина, там новая яблоня и рядом стройный ильм. Павлик не замечает, что молодая-то яблоня – дикая и вот-вот задушит старое славное бабушкино дерево. Павлик любит видеть хорошее, а плохое – бог с ним. И за это хозяину хорошо во всем. На скотном дворе прямо чудо случилось: гончие искусали чужую овцу и телку; пришлось их у мужиков купить; от этой овцы и телки развелось все крутоярское стадо. и теперь двор полон всякого зверья, и никто за ним не смотрит, все само живет помножится.
– Счастливец! – говорили другие помещики. – Самые заботливые хозяева теперь в трубу вылетают, а беззаботный живет, у него от собак скотина разводится.
Но, конечно, и на Крутоярской счастливой лысинке бывали невеселые деньки. Случалось осенью, когда дождик идет, чудится Павлику во сне, будто тихие шаги приближаются, кто-то подходит с озера к окну и все близится и близится… Представляется спящему, будто над дверцей шкафа медный крючок не висит, а топориком стоит и блестит. И хочется толкнуть его, чтобы повис крючок, но толкнуть-то некому, а встать и холодно, и страшно – в окне над озером мертвый месяц стоит. А кто-то велит толкнуть крючок и грозится. И, назло ему, не хочется встать.
– Не хочешь? – спрашивает тот.
– Нет, не хочу! – отвечает дремлющий Павлик.
– Ну, так вот же тебе!
И поднимается с озера страсть чернущая…
Просыпается Павлик; слышит, звенят колокольчик
«Перед этим и снилось!» – подумает крутоярский хозяин.
С колокольчиками может ехать только становой. Становой страшный, едет он описывать имение или за недоимкой. Мало ли за чем!
От такого гостя одно спасение – спрятаться. Все давно уж для этого прилажено. Кровать Павлика переделана из шкафа, и так, что крышка отворяется не вбок, а вниз, и на крышке спит Верхне-Бродский. Зазвенят колокольчики, Павлик – в шкаф и за ремешок, нарочно приготовленный, тянет крышку к себе. Очень удобная вещь!
– Штык, Штык! – кличет Павлик из шкафа.
– Слышу! – отзывается сторож.
– На охоте барин, – встречает Штык станового.
Но незваный гость лезет наверх. Взберется и плюхнется в кресло из карельской березы перед грязным кухонным столом. Штык ставит на стол бутылку водки, стакан и подвигает тарелку с бараньей костью. Выпьет толстяк, закусит, оглядится. Все по-старому в доме барина: над кухонным столом висит дорогая лампа с пузатенькими ангелами, в углу вожжи лежат, и знакомая много лет кучка ореховых скорлупок, и везде, даже в ручках кресла, торчат порыжелые от времени окурки; громадный неуклюжий шкаф, как мужицкая печь, занял полкомнаты.
– Штык, – скажет становой, – ты, бездельник, хоть бы подмел барину.
– Работать не люблю, – ответит Штык, – люблю компанствовать, как барин.
Становой загогочет и нальет еще стакан. А Штык расскажет, будто он человек не простой, а благородного, но тайного происхождения. И тут же поднимет рубашку и покажет пять синих желваков от картечин, всаженных ему на охоте вице-губернатором: вот он какой, охотился с самим губернатором! Штык выговаривает не виц, а лис-губернатор, уверенный, что на свете есть и над лисами губернаторы.
Пасмурный сидит в это время Павлик в шкафу. В дверце есть трещинка, и, как оглядишься, станет от нее светло, а на белой сосновой доске покажется темный облик. Павлик от нечего делать разглядывает свою тень и узнает в ней благородные черты.
«Неужели я? – думает Павлик, и щупает свой нос с горбинкой, и вспоминает прадеда, потомка шведских рыцарей, – До чего я дошел, до чего я дошел!»
И слышно ему, как дождь журчит в желобах, и чудится ему наяву, как во сне, будто тихие шаги приближаются. Отгоняя тоску, Павлик думает об охоте, мысленно набивает патроны и, заколачивая пыжи, шепчет:
– Номер третий – для зайца, шестой – для вальдшнепа, не мешает нуля: глухарь попадется.
Становой выпьет, закусит, вздремнет в старом вольтеровском кресле. На окнах висит из мелких дождевых капель серая сеть; мухи льнут к стене, гончие псы спят, как мертвые, и все отчетливее выступает тень благородного предка в шкафу.
– Нет, – бормочет правнук, – тот был столп, а мы что…
И хочется ему взглянуть в эту старину, узнать, отчего что началось и почему все так вышло. Но ничего он не помнит и знает одно лишь предание, будто бы некогда потомок рыцарей сказал: «Думал я и они, вышло они и я, так пусть же будет только я», – и ушел.
– Номер третий – для зайца, еще для зайца, еще… зайцев много, – шепчет Павлик в шкафу, мысленно пристукивая пыжи, отбивая тоску.
Но дождь все журчит; дом преет; желтый круг на потолке расплывается. Весь, как губка, пропитается прелый дом, и запахнут стены, чуланы, крысиные гнезда, из-под низу пахнет жилищем Штыка. Мутный поток у окна станет желтым от глины.
И кажется Павлику, будто и сам он уже глиняный и что вот-вот до него дойдет и размоет. Долго и скучно моросит осенний дождь; все глубже и глубже зарывается крот в кротовину.
– Унес черт, вылезайте, барин! – крикнет Штык.
Звенят, удаляясь, колокольчики.
– Барин, гусь пошел, – говорит, входя, старый бородатый Тимофей.
От этих слов как рукой снимет злую напасть. Как огурчик свеженький, выпрыгнет Павлик из шкафа и радостно спросит:
– Тимофей, да что это за штука такая охота?
– Охота, – подумав, отвечает Тимофей, – потому охота, что охота, и больше ничего.
С этим согласится и Павлик. Но самого главного не замечали друзья, что охота всех роднит и равняет: и барина, и мужика, и лесного бродягу. И попадись тут хорошая собака, так и ей выпадет равная доля. Но вот как раз хорошей-то умной легавой собаки и не хватало Павлику. Все его ублюдки, полукровки на охоте только мешают. Бывало, привяжет Павлик себе к поясу такого пса и подходит к птице. Взовьется петух. Пес за ним. Павлик за псом – и бух вниз. И птица улетит, и коленки в крови, и ружье забито землей. Рассердится Павлик, прицелится в пса: пах! – и готово.
– Три копейки истратил: цена выстрела, цена и собаке, – скажет Павлик.
– Чем бы не собака, – печалится Тимофей, – уши длинные.
– А хвост крючком, – отвечает Павлик.
– И стойки делала, – жалится Тимофей.
– Да ведь не мертвые стойки, – говорит Павлик, – нечего жалеть: три копейки цена.
III
В Безверск приезжал тот самый лисий губернатор, что когда-то сторожу Павлика всадил пять картечин в живот. С губернатором была неразлучная с ним Леди, дочь известного всем охотника Джека. Шерсть у губернаторской Леди была густая, ярко-рыжая, хвост пером, на лбу звездочка, на груди брошка, уши, как две косыночки, в надбровицах по три серебряных волоска, а мокрый нос всегда шевелился, будто везде в России ей дурно пахло. В этот приезд губернатора Леди была тяжела, сосцы напухли и отвисли. Встречаясь на улицах Безверска с мужицкими сапогами, Леди поднимала глаза и, шевеля серебряными волосками, так смотрела на проходящего, будто говорила: «Вы, конечно, можете толкнуть меня в бок сапогом, но, ради моего будущего потомства, умоляю вас, не трогайте!»
– Бессловесная, а все понимает, – бормотал удивленный такими глазами мужик и сторонился.
Верхне-Бродский, встречаясь с Леди, не только уступал дорогу, но и шляпу снимал и потом долго смотрел вслед.
– Как вежлива, – восхищался он, – вот бы щенка…
И представлялось ему, будто с такой собакой и жизнь стала бы совсем другая.
– Породиста! – говорил он.
– Золотая медаль! – отвечал Тимофей.
Просить щенка у губернатора Павлик не смел. Было известно, что лисий губернатор, как многие охотники, топил и зарывал в землю щенков из ревности, чтобы им было на свете собаки, подобной Леди.
– Собака при последнем пути, – сказал Тимофеи, – украсть щенка?
– Укради! – одобрил Павлик.
С тех пор Тимофей стал караулить в овраге под мостом, где дерут лошадей, душат собак, топят крыс, зарывают щенков и котят. Долго ждал Тимофей и как-то раз услыхал жалобный вой…
Незадолго перед этим Леди ощенилась в конюшне под яслями и, собрав девять щенков под себя, лежала утомленная, жарко и часто дыша. И вдруг дверь в конюшню отворилась, и вошел мужик с ведром.
«Я вам верю, вы благородны, вы не обидите моих детей», – казалось, говорили глаза матери-англичанки!
Мужик смотрел в ее глаза и с опаской погружал в ведро щенка за щенком.
«Помните, я вам верю», – повторяли глаза.
Мужик с ведром ушел.
Леди оглянулась на себя: капало молоко из упругих сосцов на солому, – детей не было. Леди и тут не подумала на мужика с ведром, а побежала в угол, где рожала. Долго она нюхала и раскапывала лапами навоз, выбилась из сил, ушла, забилась в самый угол под ясли и уснула. Молоко все бежало в сосцы, напрягало их и бросилось в голову. Boт тогда-то Леди вскочила, все поняла – и завыла. Тимофей услыхал и стал искать.
Где-то, отзываясь на вой, пищало. Тимофей пригляделся, заметил в земле рыжую слепую головку, выкопал, сунул за пазуху и побежал в дом Полюши.
– Кобелек или сучка? – спросил его Павлик.
– Сучонка, – сказал Тимофей.
А Полюша уже совала в рот щенку приготовленный детский рожок с молоком. Слепой наливался, дрожал!
– А, сосочек! – повторял Тимофей.
Немного спустя монах перевез Верхне-Бродского с Тимофеем за реку, и ни один человек ничего не узнал, и сам лисий губернатор уехал, уверенный, будто на всем белом свете есть одна только Леди, дочь великого Джека.
Так, будто ветром березовую летучку, перенесло семя славного Джека в глубину Безверских лесов, на берег озера Крутоярого. Неведомая охотничьему миру, там росла вторая Леди, вылитая мать: и шерсть вышла у нее рыжая и длинная, и во лбу была звездочка, и на груди брошка, и уши, как косыночки, и в надбровицах серебряные волоски, и нос мокрый постоянно дрожал, будто в доме Павлика всегда дурно пахло. Два месяца ее поили из детского рожка молоком, все лето ходили за ней, как за малым ребенком, и выходили. Зимой она, как и мать ее, губернаторская Леди, смотрела понимающим взглядом на беседующих за кухонным столом охотников: только что не могла сказать. Этих взглядов Павлик не выдерживал, его подмывало, и он вдруг срывался с дивана. Схватив свою рубашку за края и завернув ее вверх, крутясь и козликая, он мчался по старому дому из комнаты в комнату.
– Шерстной! – улыбался Тимофей. – Будто из-под печи выпрыгнул.
Леди мчалась за Павликом, настигала его и прыгала. Павлик подхватывал Леди, нес на диван и, растянувшись, щекотал ее.
– С собакой, – наставлял тогда Тимофей, – нужно держать себя постепеннее.
В крепостные времена Тимофей был помощником егеря и потому теперь себя считал понимающим.
– Бога благодарите за сучку, – говорил он Верхне-Бродскому в зимние вечера, – сучки всегда проворней и понятливей.
Павлик верил в Тимофееву мудрость и внимательно слушал.
– Дело божье, – наставлял Тимофей, – так свет стоит. Применитесь к нашему брату: когда-то мы еще начнем понимать, а девчонка уже и готова, и ребят нянчит, и в печь горшок сует.
– Ну, а после, – соображал Верхне-Бродский, – можно ли нас с бабами равнять?
– У нас, – говорил Тимофей, – так, а у них до старости сучки понятливей.
Высказав глубокую мысль, Тимофей любил положить в рот кусочек сахару и выпить блюдечко чаю.
– Сильной росой не пускай, – учил Тимофей, – собака захлебывается. Выходи не рано, не поздно, ищи выводок. Первое время не надейся на собаку, не отпускай от себя, топчи сам. Нашел выводок- и считай за великое счастье. Садись под куст. Жди. Будь тише себя, слушай, гляди зорко. Цыпленок свистнет, тетерка заквохчет, и пойдут друг другу навстречу. Зашевелится трава, разглядишь головки, перышки, росяные бродки. Тут весело, тут самому запахнет.
Но от Тимофеевых рассказов Павлику и так уж в комнате пахло. Он, слушая и глядя на Ледин нос, перебирал ноздрями.
– Может быть такой человек, – спрашивал Павлик, – чтобы чуял?
– Нет, – отвечал старик, – это человеку не дано, – и прихлебывал чай. – Им, – указывал он на Леди, – лисье передано, у человека же бог чутье отнял, а если бы человеку и пахло, то что бы было на свете?
– Зато нет человека хитрее, – возражал Павлик.
– Вот это ему дано! – соглашался Тимофей. – А чутья нет. У человека и волка нет этого, и справедливо.
Павлик смеялся, представляя себе, как волк чутьем бы знал, где стадо овец, а конокрад – где табун лошадей.
– Нет, это ему не дано, – повторял Тимофей.
«До чего все в мире так верно и хорошо устроено, будто приточено, – размышлял Павлик, лежа на диване, – и вот земля зачем-то сделана круглой…»
– Зачем это земля сделана круглой? – спрашивал он Тимофея.
– Для кабанов, – отвечал полесовщик, – по круглому кабанам лучше ходить, – и вспоминал, как однажды в здешние леса пришли кабаны.
– Откуда они пришли? – спрашивал Павлик.
– Из-под Киева, – объяснял старый охотник.
– А как попали в Киев кабаны? – загадывал Павлик, припоминая географию, но ничего не мог вспомнить и сам от себя подвигал к Киеву какие-то азиатские степи с солеными озерами, где в густых камышах водятся кабаны.
– И орлы залетают, – говорил Тимофей. – Покойный барин сам застрелил на копне, лапы обрубил и послал в Петербург.
– Какие же у него лапы? – допытывался Павлик.
– Медвежьи, – глазом не моргнув, отвечал охотник. Слушала Леди, и, быть может, и для нее, вскормленной людьми, в зимние вечера вокруг земли шли кабаны и пролетали орлы с медвежьими лапами.
Так и прошло зимнее время. Грянули сверху и вдребезги разбились сосульки. Лед на озере сел. Начался щучий бой. Потом полетела птица и в лес, и на озеро. Пошли старики и старухи к Темной Пятнице, зажгли лампаду в часовне.
Леди вышла в сад, будто монашенка в мир. Ветви неодетого сада, как жемчугом, были унизаны теплыми каплями. Весь сад был в каплях; сливаясь и блестя, падали они на прошлогоднюю листву. Молодая собака выбирала, за какою каплей ей броситься, какую искать. Порхнула первая бабочка – летучий цветок. За бабочкой хотела погнаться Леди – и остановилась: на угреве, распустив крылья, лежал воробей и смотрел на нее. Она подобралась, стала прямой, как скамейка, и окаменела.
– Очень вежлива! – сказал Павлик.
– Золотая медаль, – отозвался Тимофей.
– Очень умна! – хвалил барин.
– Природа губернаторская, – объяснял полесовщик.
Скоро и леса опушились. Будто прилетевшие из дальних стран изумрудные невиданные птички, сели на старые деревья молодые листки. Навстречу им снизу, прокалывая старую прель, вышла трава и потянулась вверх все выше и выше, пока все сошлось и слилось. Весной в одетых лесах не охотятся: птицы на яйца садятся. Но где-нибудь, в диких местах, можно найти старика-глухаря. Не охоты хотелось Павлику, а испытать собаку, чтобы сказать о ней последнее слово, и полюбить на веки вечные, и знать и говорить всем, что уже лучше нет на свете Леди Крутоярской.
Долго по-пустому ходили охотники и растеряли весь свой охотничий задор, и стало казаться им, будто лес опустел, птицы перевелись, и незачем ноги морить, и вся охота не стоит уморы. Везде были кусты и пни, закрытые папоротником. Как всегда, на однолетней посече высились кое-где семенные деревья, и по ним было видно, как нелегко жилось в лесу: на одном дереве ветви были только сбоку; у другого на длинном голом стволу – только зеленая макушка; третье дугой изогнулось; все изуродованные, искалеченные, изнывают они в тоске на свету и будто просят закрыть себя. Охотники натыкались на пни, закрытые папоротником, разбивали колени, царапали руки, изнемогали от жажды.
Много осталось на сучьях волос от Тимофеевой бороды, и думал Тимофей об одном: как бы поскорее добраться до воды и напиться в Зеленой Луже. Павлик и на Леди не смотрел, а вспоминал почему-то свою бабушку, у которой были добрые и сердитые камешки: вынется добрый – и бабушка весь день хорошая, вынется злой – и бабушка весь день сердитая. И до того избили ноги охотники, что уж к Зеленой Луже приползли на четвереньках. Вода в болоте стояла черная, плавали радужные кружки, скакали наездники, крутились жучки-вертунки, кишмя кишела всякая нечисть. Тимофей, как всегда в таких случаях, расстелил свою бороду по болоту и через нее стал цедить в себя воду. Павлик припал к бороде с другой стороны. В это время и Леди неслась, как ни в чем не бывало, на посече к Зеленой Луже. И вдруг ее будто кто стегнул спереди: остановилась она; левое ухо болтнулось, вывернулось и так осталось завернутым. Павлик почуял, дернул Тимофея за бороду, показал. Закапало, – полилось с бороды в Зеленую Лужу. Павлик даже и этого шума испугался и, вытянув Тимофею губы, прошипел:
– Выжми!
Тимофей подался к сухому месту, скрутил из бороды канат и, не расправив, стал красться за Павликом.
Вот когда полон лес! Роса еще не совсем сошла; трава, листья сверкали; все, что касалось их, становилось серебряным. Леди сияла и дымилась от волнения, звала глазами, торопила и, услыхав сзади легкий шорох и дыханье, повела.
Много в зеленых папоротниках было черных пней, всюду были Иваны и Марьи, волчьи ягоды, барвинки, былинки с малыми пташками – ничто не занимало. У чистой полянки Леди остановилась и, должно быть, подумала: «Не на ней ли?» Все остановилось позади, и все в страхе подумали: «Не тут ли, на открытом месте?» Леди прилегла к земле и переползла полянку. За ней ползли на животах Павлик, Тимофей, а за ними все черные пни, все зеленые папоротники, Иваны и Марьи, волчьи ягоды и пташки с былинками. Все смотрели на куст по ту сторону полянки. Оттуда Павлику пахло глухарем, но он успел одуматься: не глухарь пах, а порох в ружье и масло в замке. Тимофей чем-то хрустнул. Леди оглянулась. Павлик диким, ужасным взглядом посмотрел назад. Возле того куста, куда все ползли и все ползло, Леди сделала один мелкий шаг и другой, на половине же третьего замерла и остановилась с поднятой лапой. Побыв так немного, она стала повертывать нос туда, где пахло, а завернутое ухо стало сползать, и, когда ухо совсем сползло и повисло, Леди совсем окаменела, глаза ее стали неподвижными, безумными.
Куст был весь покрыт мелкими розовыми цветочками и гудел, бабочки порхали, пчелы стреляли во все стороны, жуки жужжали, басили шмели. На кусте был большой праздник; там никто не слушал человеческое сердце, стучащее, как чугунная гиря, и никто не догадывался, что внизу, под кустом, сидело ужасное и огромное.
Как темная туча, вырвался из куста глухарь: вся посеча ахнула, и весь лес вокруг захлопал и затрещал. Вот когда в груди умолкает стук, что-то будто отрывается и улетает.
– Отпустить – не уйдет! – шепчут какие-то чужие голоса.
И уж все само собой делается, и хотя не видно за дымом, но чудится, как прыгает за кочкой красная бровь, то покажется, то спрячется.
Полон лес! Под каждым кустом сидит глухарь. И всегда будет так: теперь найден ключ от всех кустов, пеньков, ямок, овражков, логов и болотных кочек.
Сколько времени прошло, а все было серебряное утро. На Зеленой Луже Тимофей опять расстелил свою бороду. На другом конце припал к бороде счастливый охотник. Собака вошла в воду, – выбежала серебряная. Недалеко от Зеленой Лужи в лесу по кладкам медведица переходила с медвежонком ручей. Сама старая перешла, а неуклюжий бултыхнулся и выскочил весь серебряный и побежал за матерью: пых-пых-пых! Лосенок в чаще на вострил розовые уши и тоже стоял серебряный. Луг у реки был весь – как медовая сота.
– Цены нет собаке! – воскликнул Павлик.
– Золотая медаль! – сказал Тимофей.
IV
У Тимофеевой дурочки крысы рубашку выше сердца прогрызли.
– Не к добру, – сказала старуха.
Так и вышло: дурочку скоро после того нашли в лесу мертвой, опозоренной и привязанной к дереву.
У Павлика Верхне-Бродского крысы тоже заполонили весь дом. Что-что он с ними ни делал: дырки заколотил в полах, отраву и крысоловки ставил, из ружья стрелял, – крыса все лезла и лезла.
– Ничего не поможет, – говорила старуха, – выживают барина.
Вот в это-то нехорошее время и собрался Павлик ехать в Безверск и взял с собой Леди. Проехал он леса и поля. Монах перевез его через реку. И уж стал он подниматься на Тяпкину гору, как вдруг показалось ему, будто на небе как-то особенно зашумело, зашумело и ахнуло. В детстве с Павликом такое бывало: услышит и потихоньку от других перекрестится, прошепчет: «Свят, свят, свят господь Саваоф!» Теперь же Павлик, удивленный, посмотрел на небо, а на небе ничего не было, только галки дрались с копчиком.
«Так себе», – подумал Павлик и хотел было погладить Леди, но ладонь его прошлась по пустому месту. Оглянулся. Там по синей реке монах переводит паром. Леди нет. Посмотрел вперед, где качаются черные колокольные языки и кипит базар, – Леди нет. Нигде нет любимой собаки.
– Тимофей, – сказал Павлик упавшим голосом, – Леди пропала.
Посмотрел Тимофей назад, где монах, и вперед – на базар и на колокольни, и даже на небо, где галки щипали копчика, – нигде не было Леди.
– Как протаяла! – сказал Тимофей.
Безверский базар – кипучий. Из лесных трущоб, с моховых болот, с гор и низин, со стороны Верхнего Брода, от Темной Пятницы, и от Сухого Сота, и от той стороны, где еще никто не бывал, съезжаются на базар крещеные люди. Кипит люд на площади, будто сельди в Белом море; воткнуть метлу, и пойдет метла по базару сама.
– Дядя, не видал ли рыжую собаку с длинными ушами? – спросил Павлик мужика.
Долго осматривал с головы до ног Павлика серый мужик в шляпе черепельником и наконец тоже спросил:
– А ты чей, дядя?
И вдруг загудели все колокола, – кончилась обедня, повалил народ из церквей и унес мужика и Павлика в разные стороны.
– Новая планета царя Магомета! – кричал черноусый ловкач.
– Не видал ли рыжую собаку? – спросил ловкача Павлик.
– Пробежала! – показал ловкач в сторону, где визжал поросенок. – Новая планета, – услыхал за собой Павлик, – не тлеет, не горит – всю правду говорит!
Впереди заливался поросенок, будто его за язык подвесили, – это городовой тянул его к себе за ноги, а поросятник отбивал, тянул к себе за уши.
«Вот у кого спросить», – подумал Павлик.
– Видел, – сказал городовой, – пробежала рыжая.
– А может, не рыжая?
– Все может быть!
– Цела, цела, видели! – заговорили кругом мужики.
– В стеклянную дверь лапилась, – сказал льняной дед на возу.
– В мясном ряду видел, – сказал желтый, как подсолнух, мужик.
– Возле лавки купца Пыльного грызет два коровьих рога, – сказал прасол.
– Рыжая?
– Черная!
– Как горелый пень!
– Разноухая!
– Лоб с выломом.
Мужики смеялись над Павликом.
– Барин, не слушай ты их, – говорил с воза льняной дед, – слушай, что я говорю: твоя рыжая собака лапилась в стеклянную дверь.
Павлик насилу выбился с базара к какому-то большому белому дому, с решетками на окнах. У ворот дед с ощипанной бородой давал своей лошади черную корку.
– Две недели не ели, господь кормил, – говорил ощипанный дед другому деду в лыковых лаптях, – под арестом сидела.
– А сам? – спросил лыковый.
– И сам сидел, – усмехнулся ощипанный. «Белый дом, – понял Павлик, – полиция!» – и он вошел туда.
Посинелый от смеха, сидел за столом пристав.
– Хи-хи! – осторожно смеялись писцы.
– Хихима замучила, – извинился пристав перед Павликом.
– Собака пропала, – сказал Павлик, – рыжая, с длинными ушами.
– Были у Волчонка? – спросил пристав. – Не ободрал ли?
– В городе волк? – удивился Павлик.
– А как же, – ответил пристав, – собак не драть, так что бы тут было!
– Зачем же они ему нужны?
– Он шкурки под лисиц красит! Молодчина!
– Прошлый год семьсот ободрал. Рыжих любит. Рыжую не пропустит. Ваша рыжая?
– Как лисица.
– Ну, так ободрал. Писцы захихикали.
– Вот хихима-то напала, – снова извинился начальник, но уж вдогонку.
Вихрем все кружилось на улице перед глазами Павлика, а когда он сосредоточился и посмотрел вперед, улица представилась ему такою длинною, будто смотрел он в бинокль обратными стеклами. В самом конце длинной улицы, представилось ему, сидел Волчонок возле ободранной Леди. Павлик прямо и пошел туда, где виднелась красная туша, и остановился, когда увидел и понял: не ободранная Леди виделась ему, а корова на двери лавки купца Пыльного, красная, без головы. Тут же висела свинья, белая, как живая, только с выпотрошенным брюхом. У порога лавки валялись два окровавленных коровьих рога. Сам Пыльный, мясник, хороший знакомый Павлика, сидел за столиком между красными тушами и пил чай.
– Стаканчик чайку! Как охота?
– Собака пропала. Волчонок ободрал.
– Рыжая?
– На лисицу похожа.
Пыльный задумался и надолго остановил свои черные рачьи глаза на пне, где сек курам головы. Он был добрый человек, думал тяжело и долго.
– А может, не успел ободрать, – перевел он глаза с куриного пня на Павлика, – может, захватите; ваша собака необыкновенная, не завалюха: захватите! Бегите скорей, – за речкой белый каменный дом.
«Захвачу! – радовался на ходу Павлик не той широкой охотничьей радостью, а острой и колючей, что вот-вот соскочит. – Семьсот ободрал, а эту захвачу», – радовался Павлик этой новой радостью.
И так перебежал он деревянный мост и остановился возле бакалейной спросить о Волчонке.
– Вот Волчонок! – сказал лавочник.
Павлик обернулся и увидел перед собой белый каменный дом. Золотыми буквами над воротами было написано: «Дом почетного гражданина Волкова».
– Волков! – изумился Павлик.
Волков, церковный староста и фабрикант знаменитой безверской пастилы, был такой же его приятель, как и Пыльный.
– Неужели он собак обдирает?
– Дерут, – сказал лавочник, – тем и дом нажили.
– Я потерял собаку рыжую.
– Очень просто, что у них. – Лавочник посоветовал, чтобы Волков не отперся, заглянуть в щелку через ворота: не висит ли свежая шкурка.
Павлик пошел к воротам и заглянул. У Волчонка двор был большой, мощеный, окруженный сараями. Из конца в конец на нем были протянуты веревки, и на них сушились собачьи шкурки. Сам длиннополый хозяин ходил между шкурками и постукивал по ним палочкой. Сухие отзывались на стук, сырые болтались, как тряпки. Готовые Волков снимал с веревок и складывал возле сарая.
«Вот он какой, – подумал Павлик, – отчего же я раньше не знал?»
Хлопнуло окно в доме. Павлик поскорее открыл калитку и вошел во двор.
– Собаку потерял рыжую, вы ее не… тронули?
– Рыжих нынче не принимал, – ответил степенно Волков, – черного принесли.
«Вот какой, – думал Павлик, – он и не скрывается, как же я раньше не знал?»
– Зачем вы это делаете? – спросил он купца.
– Как зачем? – удивился купец. – Тем занимаюсь, а вы думаете, по нынешним временам одной пастилой проживешь? И то дело, и это дело. Собачьи шкурки тоже необходимы: и мех, и лайковые перчатки.
– Это из собак?
– А как же! – засмеялся купец. – Нет, это дело тоже полезное: драть собак нужно, только знать надо – каких собак. Ваша собака необыкновенная.
– Так вы ее не ободрали?
– Господь с вами, я не живодер.
– Как же черного-то?
– Черного принес Петька Ротный; он дерет; к нему бегите; может, захватите. Павлик побежал.
Будто в лесу, когда после долгих блужданий попадешь на верный последний след и когда уже нет сомнений, что верно идешь, шел Павлик по Петькину следу.
– Какой Петька Ротный, где он живет? – спрашивал Павлик едущих с базара мужиков.
– Мы не здешние, – отвечали они.
«Что как, – думал Павлик, встречаясь с мужиками, – кто-нибудь из них приласкал собаку, подманил и увел с собой в деревню? Нет, – решал он тут же, – мужик не подманит; мужик норовит собаку обругать и ударить. Нет, это все Петька Ротный, это все в нем сидит в одном».
– Какой Петька Ротный, где он живет? – спрашивал Павлик пешеходов.
– Да все такой же, как и мы, – отвечали пешеходы, – только жительства настоящего не имеет, да поддевка у него с разными рукавами, да зубы на виду.
– Зубы все-таки на виду, – замечал Павлик, – а где же он дерет?
– Под мостом, – отвечали пешеходы.
Пришел Павлик к мосту. С виду – это самое красивое место в Безверске. Деревянный самодельный мост, будто дружеская рука, протянулся он от холма к холму, где красуются все лучшие церкви. Тут, на мосту, Павлик часто любовался, бывало, лесом ив, склоненных над речкой, и бросал вниз камешки, стараясь попасть в грачиное гнездо. Теперь он спустился вниз и пошел искать между ивами Петьку Ротного. Когда-то здесь Тимофей подстерег только что родившуюся и зарытую уже Леди. Теперь – на каждом шагу попадались собачьи скелеты. Там воронье расклевывало тушу лошади; там жуки-могильщики хоронили издохшую кошку; там голуби, мирно воркуя, выклевывали из груди убитой ястребом птицы какие-то зерна.
– Все Петька Ротный! – шептал Павлик.
– Ты, Павлуша, с ума сошел! – услыхал он над собой голос.
Полюша стояла на мосту и кудахтала, как курица.
– Ищу Петьку Ротного, – ответил Павлик, – злодей собаку мою ободрал. Принеси мне ружье, убью Петьку Ротного!
Полюша всплеснула руками и побежала вниз.
– Ну иди, иди за мной! – уговаривала Полюша и вела его, как водят женщины пьяных мужей. – Да можно ли так из-за собаки убиваться? – ласково говорила она. – Да какой же Петька злодей? Каждый своим делом занимается.
Каждому есть хочется. И собаки-то ведь стаями развелись, кипятку не хватает ошпаривать. Да и закон есть такой, чтобы истреблять собак. Не видали Петеньку Ротного? – спросила она, когда выбрались наверх из оврага.
– В бане! Он теперь банным старостой.
– Вот, видишь? – говорила Полюша. – Ты все: злодей, злодей!.. А он и место хорошее получил, служит. Может, и собак не дерет?
– Дерет, – ответил прохожий.
Наверху у самого обрыва стояла кирпичная стена, из нее через дырку валил пар, а пониже дырки было окно, где жил банный староста.
– Дома Петенька? – постучала Полюша.
– Петьки нету, – сказали оттуда, – он в трактире, пирожные есть.
– Как пирожные! – встрепенулся Павлик, будто его разбудили.
– Так, – сказала Полюша, – ты говоришь: злодей… а он вот так всегда: как завелись мало-мальски деньжонки, покупает пирожные и всех, кто есть в трактире, потчует. В рот капли вина не берет, а ты: злодей! Хороший человек, богомольный. Могилка у него есть на кладбище, так всю цветами убрал и даже зимой дорожку расчистит к могилке и посыпает песочком.
Так убаюкивая Павлика, подходила Полюша ближе и ближе к трактиру, и наконец в окне показалось белое лицо с блаженной улыбочкой, обнажавшей острые зубы.
– Слышал, слышал, – ласково сказал Петька Ротный, – рыжую не ловил, черный готов.
– Разноухий, лоб с выломом? – спросил городовой. Петька мотнул головой и надкусил шоколадную трубочку.
– Рыжую суку цыган увел, – сказал поросятник.
– Все может быть, – согласился городовой, – цыганский нос – вострый.
– Не цыгане, – перебил прасол, – сербы.
– Все может быть, – ответил городовой, – но только ежели сербы, то плохо.
– Барин, не слушай ты их, – говорил белый дед с воза, – твоя рыжая собака лапилась в стеклянную Дверь.
– Слушай деда, – усмехнулся, сверкая зубами, Петька Ротный, – дед знает, что и под кореньями растет. Полюша увела Павлика с базара.
– Уймись, Павлуша, забудь, – утешала она его дорогой, – цела твоя собака, сам увидишь; к вечеру прибежит, огуляется; знаешь собачьи свадьбы, – вот и убежала.
Но и вечером не пришла Леди домой.
Стеклянная дверь, в которую, по словам белого деда, лапилась Леди, не выходила из головы Павлика.
Ночью Павлик видел тяжкие сны. Ему снилось, будто идет он к какой-то стеклянной двери и уж видит стеклянную дверь, а дойти не может.
Возле Неуродимого луга вьется пыльная дорога с отпечатками копыт, звериных лап и босых человеческих ног. Шесть зайцев один за другим перебежали дорогу и скрылись в придорожных кустах. Черный дрозд запел вечернюю зарю. Заблеял бекас. Затрубил пастух. Зайцы опять перебежали дорогу, все шесть один за другим, и пошли вверх на холм, к опушке дубравы. Там, у первого дуба, первый заяц присел испуганный и пустился назад в кусты. Другой заяц так же, как первый, добежал, присел и свернул. Все шесть зайцев убежали от страшного дуба, скрылись в кустах и там слушали длинными ушами и глядели на дорогу круглыми глазами.
В зеленых полях, где выступал, будто черный корабль, угол далекого леса, на белой дороге взвилось облако пыли, близилось и росло. Оттуда слышался вой и звериное рычание. Павлик под дубом проснулся. Коровы и пастух показались из леса.
Впереди бежала рыжая собака, за ней по пятам неслась черная морда с отвислым языком, потом еще такая же морда, и дальше без конца в пыли виднелись все пасти и спины. Это мчалась весенняя собачья свадьба. Павлик пригляделся, сложил ладони у рта и свистнул. Вся свадьба повернула с дороги от Неуродимого луга вверх на холм, к дубраве.
Леди узнала своего хозяина, взвизглула, бросилась ему на грудь и еще раз прыгнула повыше, еще и, наконец, сунула прямо в лицо своим холодным, мокрым носом. Свадьба смешалась, окружила дуб. Псы, готовые растерзать каждого, на кого укажет их рыжая водительница, теперь мирные, уселись на корточки и, свесив языки, тяжело дыхали и хахали. Вокруг Павлика были звери: они кроткими рабскими глазами смотрели, признавая в нем старейшего и сильнейшего между всеми. Леди жалась к его ногам, умоляя пощадить свою покорную свиту. Павлик пробовал бить их камнями и сучьями, но псы, принимая удары, не двигались с места. Тогда, повесив ружье за плечи, он пошел на дорогу к Верхнему Броду. Первый пошел за ним черный овчар, вторым белый овчар и потом все другие в строгом порядке от сильнейшего к слабейшему. Шли белые, черные, серые, красные, бурматые, чубатые, половые, красно-половые, светло-половые; всех возрастов, всех мастей и всяких пород; растянулись псы по пыльной дороге: вислозадые и вислоухие, переслегие и прибрюшистые, длиннохвостые и куцые, долгоносые и курносые; шли псы не отставая, нога за ногой. Некоторых Павлик хорошо знал: два атласно-черных с белыми колечками на носах – прасоловы, красно-половый с перебитой ногой – дьяконов, хриплый старик с седым носом – поповский. На самом конце, чуть видная, бежала шавочка со старушечьим ликом, белыми, как чеснок, зубами, ростом в пол-Лединой ноги. За ней, отступая, бежал удивленный и глупый теленок и то остановится, то вдруг брыкнет задом и пустится скоком догонять свадьбу.
Павлик не пошел в село через околицу, а перелез забор у загуменной дорожки. За ним полез черный овчар и белый – и все. А когда Павлик прошел все село и свернул на стежку, вся загуменная дорожка была покрыта зверями, и только последняя шавочка визжала по ту сторону, и мычал теленок, положив на изгородь голову.
Стежка с крестьянских полей выводила на тропинку к Темной Пятнице и шла возле озера, где над водой, будто голова великана, простертого в полях, высился озерный крутояр. По каменным ступеням, выложенным когда-то давно Верхне-Бродскими, Павлик поднялся наверх и постучался в калитку.
– Нашлась! – сказал он отворявшему калитку Штыку.
– Пакость какая! – сердито проворчал сторож и захлопнул калитку перед самым носом старшего овчара.
По цветущему саду Павлик прошел в свой дом. Тут все было по-прежнему: и лампа с пузатенькими ангелами, под ней кухонный стол с привернутой машинкой для закручивания гильз, и шкаф с откидной крышкой, и вожжи в углу. Воздух был нехороший, спертый. Во все стороны шарахнулись большие, ровно кошки, крысы.
Павлик открыл окна. Пахнуло цветущим садом, сиренью. В этом году была дружная весна. На целый месяц раньше сбежала вода, и пробилась первая трава, и листики, будто зеленые птички, сели на ветви, и перекинулись от дерева к дереву висячие зеленые мостики, и зацвела черемуха, яблони и, наконец, сирень, – все одевалось и цвело в саду месяцем раньше, и все в саду было давно готово для встречи птиц. Но далекие птицы не знали о здешней ранней весне и ждали обычного времени. Так случилось и в этом году, что в саду, одетом и украшенном цветами, молчали соловьи, золотая иволга не купалась в зеленом свете лип, а в заросли цветущего терновника не мелькали красные, желтые и малиновые головки. Нарядный, цветущий сад молчал над озером.
Павлик открыл окна и, не зажигая огня, усталый, пошел к постели. Крышка его шкафа была откинута, тюфяк и подушка валялись неубранные; возле лежал сенной матрац для Леди. Павлик лег, не раздеваясь, лицом к шкафу, Леди легла на сенник. Как и прежде, засыпая, он положил ладонь на ее голову, но ему казалось, будто что-то было не так, как раньше. Он долго лежал с открытыми глазами и смотрел на медный крючок, запирающий вверху крышку шкафа. Крючок сначала был темный и висел головкой книзу, потом стал светлеть и заблестел и перевернулся топориком.
«Месяц всходит, – думал, засыпая, Павлик, – нужно бы встать и толкнуть крючок, мешает!» Но сам все лежал и смотрел на крючок и дышал сиренью, стараясь вспомнить, чем она пахнет: в этом запахе было что-то забытое, неузнанное и неразгаданное, внизу под слоем приятного запаха чудилось что-то темное и страшное. «Все это от крючка, непременно нужно его толкнуть!»
И вдруг заревело, лопнуло, что-то треснуло, поднялось с озера.
Павлик очнулся.
Большой и красный стоял в окне месяц, а пониже его свесив черные языки, с горящими глазами сидели два пса. И в другом окне, и в третьем, и в четвертом – везде, положив на подоконник лапы, дыхали и хахали в комнату псы.
Павлик бросился в угол, схватил вожжи и хлестнул по мордам псов. Псы взвизгнули, шарахнулись и скрылись в сиреневых кустах.
Месяц красный стоял над озером. Пела лягушка-турлушка о покое вечном. Стоя, протянув перед собой лапы, как руки, летел огромный жук, на весь сад жужжал.
Павлик лег на подоконник. Ему чудилось, будто идет он по тропинке к Темной Пятнице и видит, как, шевеля тростинками, вышла на берег черная водяная курочка на зеленых ножках, смотрит на него – не боится. А озеро не такое, как прежде: озеро совсем светлое, так что ясно видно, где щука спит, где стоит окунь, как ходят тихо у дна большие седые лещи и как сом на самом низу шевелит губами. А в саду на площадке, усыпанной желтым песком, стоит его маленькая покойная сестра, ждет его, чтобы вместе играть в огонь и воду – недозволенные детские игры. А на дерево, родоначальник всего сада, слетаются всякие птицы и поют, разными голосами перекликаются и перезываются. Весь Крутояр – в светлых прозрачно-зеленых деревьях.
Еще один жук стояком, протянув вперед лапы, как руки, пересек красный месяц и, пролетев у окна, разбудил Павлика.
Колокол ударил.
«Покойникам обедню служат!» – вспомнилось Павлику.
Еще раз ударили в колокол и в третий раз ударили. И звезды будто отозвались на небе земному звону. Запел настоящий здешний соловей, и другой отозвался ему, и скоро весь сад через озеро перекликался с лесом.
«Соловьи прилетели, – обрадовался Павлик, – вот когда начинается настоящая весна!»
И вдруг Леди прыгнула через него и очутилась в саду. Павлик позвал ее. А в ответ в сиреневом кусту шевельнулись две маленькие луны. Он посмотрел туда пристально и увидел множество маленьких зеленых лун. Наверху в ветвях все пели соловьи, и пахло, душило сиренью, а внизу сходились и расходились огни, будто шептались там заговорщики. Из-под сиреневых кустов, погруженных в лунные тени, выходило тяжелое дыханье.
Павлик взял вожжи, сошел на ступеньку террасы, потом на другую и так до самой площадки, окруженной сиреневыми кустами, и остановился. Против него пасть к пасти во всю ширину сада стояла стена зверей, за этой стеной другая стена и третья стена – во весь сад, до терновника. И по терновнику – по склону крутояра до самого озера – под красным месяцем были видны черные спины и спины.
Соловьи пели. Пахла, душила сирень. Пересекали месяц жуки.
Павлик отступил к террасе, а звери шагнули вперед – голова к голове, спина к спине, хвост к хвосту.
Павлик позвал свою Леди.
И на зов его, оскалив зубы, выступила из сиреневой тени на светлую площадку рыжая… Не рыжая Леди Крутоярская с серебряными волосками в надбровицах стояла перед ним, а чужая собака.
– Не та! – прошептал Павлик и взмахнул вожжой.
Рыжая сильней оскалила зубы и зарычала. И вся несметная звериная сила двинулась со звериным ревом на светлую площадку в сиреневых кустах прямо на Павлика.
Тропинка к Темной Пятнице веревочкой вьется по берегу озера Крутоярого. Весной, как обсохнет, идут богомольцы и зажигают лампаду в часовне. На высоком холме, в темном лесу горит святой огонь все лето до глубокой осени. И все лето крещеные люди прикладываются к темному лику и купаются в святом колодце. Осенью оголится лес, задует ветер огонь, спрячется зверь в норе, уснет бездушная тварь, пропадут и старички и старушки. И в неодетом лесу у потухшей лампады веет лишь ветер.
В долгие осенние вечера под соломенными крышами странники от Темной Пятницы рассказывают о Крутоярском звере.
Выходит зверь будто бы в темные полночи, и никто его видеть не мог, но все знают, что губы у зверя телячьи, и никто его слышать не мог, но все знают, что кричит зверь черным голосом, и кто услышит его – пропадет.
И далеко кругом до самого Безверска, и дальше, до Сухого Сота, и до той стороны, где никто не бывал, во всех селах и деревнях Безверских неисходимых лесов чуть что недоброе случится, сейчас все на зверя валят. Тоже потом сказали, как стряслась беда с Павликом, последним в роду Верхне-Бродских: на его голову зверь кричал.
На Павликову голову зверь кричал:
– Час мой – роковой!
Птичье кладбище*
I
Поздней осенью настал час покинуть перелетным птицам страну льдов и незаходящего солнца. Звеня крыльями, как стаи пущенных стрел, птицы полетели с полярных островов на юг. Вверху тучи висели, как размытые гребни осенней унылой пашни. Внизу у черных безлесных скал, будто одна из великих серых рыб, на которых стоит земля, с боку на бок перевертывалась, – океан качался у берега. Когда из-под туч-борозд вырвались светлые мечи, пронизали их, разбили, рассеяли, и второе голубое небо, высокое, открылось, и когда повеяли ароматы земли, – птицы стали спускаться на скалы, из воды на камни вышли усатые звери с человечьими головами.
«Не назад ли вернуться?» – казалось, думали птицы, рядами сидя, отдыхая на скалах.
Гуси, большие птицы, не верили в ароматы безлесной земли. Скрипя маховым пером, они степенно пролетели над черными скалами. Гусиный царь неустанно звал вперед, просил не обманываться вторым голубым высоким небом, на короткое время просиявшим и здесь. Как корабли близкие, но закрытые друг от друга волнами – последними тучами, перекликались гуси, и когда открылось все небо, без конца вдали виднелись бисерные нити летящих над океаном птиц. Они летели, не опускаясь на скалы, зная, что это не их земля и что далек их путь в страну обетованную. Не оглядываясь, летели серьезные строгие птицы, и скоро затихло назади их внизу то, что, будто великая серая рыба, на которой стоит земля, с боку на бок перевертывалось.
Гуси перелетели океан и спустились отдыхать на реке, где первые стелющиеся березки чуть-чуть поднялись на берегу, чтобы взглянуть на отдыхающих птиц. Купаясь в воде, советуясь, уговаривая в чем-то друг друга и наконец уснув в тихой заводи, провели здесь птицы беззвездную ночь. С первым утренним светом они двинулись дальше и отдыхали вторую беззвездную ночь в сырых мхах под седухами-соснами.
Третью ночь птицы летели, не отдыхая. Назади их сияла Полярная звезда, впереди далекий лежал Птичий путь.
Прекрасен был рассвет прозрачной осенью над лиственным лесом. Будто заря занималась, светились золотые клены и березы вокруг синего озера.
Увидав издали озеро, гусиный царь послал двух быстрых гусей лететь вперед, – осмотреть место для долгого приятного отдыха. Трепеща крыльями, как прясточки, остановились два быстрых гуся над озером, окруженным золотыми лесами.
Кто видел их тут стоящими в воздухе над озером? Кто слышал, как они друг с другом советовались?
Солнце взошло.
Гуси золотые вернулись к летящим усталым товарищам и сказали по-своему:
– Прекрасно синее озеро в золотых краях.
II
Светлое лесное зеркало, озеро Крутоярое, от множества отдыхающих на нем осенью птиц перестает отражать в себе высокую белую церковь села Верхний Брод и все четыре холма, окружающие озеро. Тот холм, где стоит Верхний Брод, самый высокий и сверху донизу лыс. Второй весь покрыт светлым березняком. Тут родится великое множество белых грибов. Третий холм покрыт старым, запущенным парком, и наверху его большая полянка с домом, где некогда жили господа Верхне-Бродские. Теперь лето и осень здесь проводит барин, по прозвищу Принц, любитель охоты и старинного барского житья. Между третьим и четвертым холмами в озеро стекает светлый ручей, и на нем лежат кладочки. По той стороне кладок, вверх за ручьем, поднимается белая славная тропинка. Как ручей, так и тропинка: спрячется тропинка в ракитовом кусту – и ручья не видно в траве, только осока шевелится да снегирь, птица радости, насвистывает; ручей сверкнул на солнце – стрельнула тропинка под соснами; дальше и тропинка, и ручей исчезли в большом лесу, и слышно только, что кипит большая радость там.
Четвертый холм спускается не в большое озеро, а в узкую ленту воды – озерный хвост, где кучками торчат камыши, будто нечесаные головы водяников. Тут, в хвосте, вся перелетная птица останавливается, и рыба забегает большими стаями. Тут, на берегу, приютился Степан Желудь, рыбак и охотник. Половина его избы белая, новая, половина черная. На вечерней заре, когда станет вовсе темно и когда в воду спрячутся даже и те кучки камышей, похожие на косматые головы, долго виднеется белая половина Степановой избы; она последняя скрывается. Белая скроется – в черной ненадолго появится огонек. Месяц оглядится – белая снова покажется. В ночь темную все так простоит невидимо.
В белой половине Степановой избы на время птичьего перелета в прежнее время съезжались охотники. Теперь, когда Принц поселился, охоту запретили. Принц, пожелавший сделаться охотником и жить, как в старину жили настоящие господа, был охотник жадный и оберегал для себя птицу строгими законами. Но как только он поселился здесь и запретил охоту, птицы все меньше и меньше стало прилетать на озеро.
– Не охотники переводят птицу, не в них дело, – уверял барина Степан Желудь.
– В ружьях, – говорил Принц. – Охотники и прежде были хорошие: в ружьях дело.
– И не в ружьях, – прищуривая свои насмешливые, узкие, но зоркие глаза, говорил Желудь. – Как нынешние мастера ни старайся, за прежних не сработают.
Принц вспоминал, что лучшее свое ружье он нашел в старинном доме господ Верхне-Бродских, и молча соглашался с Желудем.
– Так отчего же птицы становится меньше? – спрашивал он в раздумье.
– Бог знает, всего меньше становится, все слабеет: летом жар не тот, зимой снега меньше, земля не родит, господа перевелись настоящие, вот и птицы стало меньше, улетает.
– Куда улетает птица, куда девается? – спрашивал барин, пожелавший сделаться охотником.
Никогда бы не спросили так Степана прежние господа – настоящие охотники: те сами это знали и не делали мужику лишних вопросов. Сбитый с толку Степан ничего не отвечал на странный вопрос, а только повертывал свое желтое, желудиное рябое лицо в ту сторону, куда птица летит, и смотрел зоркими глазами вдаль, где лугом бежит белая дорога.
– Улетает туда! – показывал рукой Желудь.
– А весной возвращается назад, – говорил Принц, – отчего же ее меньше?
Желудь долго почесывал свой живот, соображая:
«И как это может быть, что птица улетает и вертается, а на озере ее меньше становится?»
– Нет, – говорил наконец Степан, – весной птицы меньше, оттуда она не вся вертается. Вон грачовник, – указывал своей лапой Степан за озеро, – все поле черно от грача. Бавятся[44] в поле и старые, и малые, и дедушки, и бабушки, и внучата, и здоровые, и больные, и вовсе хилые. А завтра морозы притякнут, бавиться нечем будет, – весь грачовник поднимется и улетит. Где же больные и старые? Кошка в дрова уходит помирать, язва[45] – в нору, а куда птица летит помирать? Туда! – указывал Степан в заозерную лесную синюю даль. – Там у них кладбище, – говорит Степан, и на его рябом желудином лице показывается что-то вроде улыбки, закрывающей и вовсе его зоркие глаза. – Птичье кладбище…
И так это скажет Степан, что уж и не поймешь: смеется он над барином или вправду верит, что в теплых краях есть настоящее птичье кладбище.
У Принца робкие, пустые глаза, как у малолетних обреченных детей, уши без мочек, лоб уходит назад и далеко впереди всего лица на длинной нижней челюсти висит рыжая бородка; по глазам – дитя слабое, по бороде – бодливый козел. Принц взял сюда с собой великолепные вещи для устройства старого дома, но вещи стоят в доме чужими и ненужными. В старом саду он проложил новые дорожки и к диким яблоням привил райские сорта. Но дорожки в саду, как новые вещи в старом доме, были чужими, райские сорта не привились на диких яблонях. На стенах Принц развесил дорогие ружья, но лучше всех из них оказалось все-таки старое длинное ружье Павлика, последнего в роду Верхне-Бродских. За убитую птицу в своих владениях Принц назначил штраф и везде поставил столбы с черными дощечками и охранительными надписями.
Охотники перевелись, но и птицы стало меньше…
Желтый, ржавый, почти черный источник бежал с холма, где жил Принц, и на пути ручья к Черному виру вырастали лопухи, чертополох и чертова теща. Тут водились самые старые, лохматые черти, и ни один пастух не даст тут напиться скотине: вода мертвая.
«Человеку дана одежда, – размышлял Степан Желудь при наступлении холодов, – зверю дана шуба, овце – шерсть, птице – перья, а бездушной твари: змее, ящерице, медведке – ничего не дано».
Степан жалел бездушную тварь и никогда не убивал ящериц, медведок, даже змей.
– Как же змею не убить, укусит, – спорил со Степаном Желудем другой Степан, по прозвищу Муравейник.
– А так, – отвечал Желудь, – идет змея – обуйся. Идет – и бог с ней, пусть идет; не к нам ее бог благословил, она не виновата. Убьешь муху – десять мух укусят, а не трогай – всякий зверь будет мил.
Такой был Степан Желудь. И, зная его, никто не удивился в селе, что отрок Алексей пришел не к кому другому, а к Желудю.
Поздней осенью, когда на землю уже легли белые кружева, а в воздухе перелетали белые мухи, к Желудю в избу вошел не человек, не зверь, не рыба, а так – бог знает кто: у носа и рта напутано не разберешь что, как у медведки, а лоб высокий и глаза большие, черные, отдельно от всего стоят, поясок на рубахе, будто у медведки переслежинка.
Алексей-отрок не сразу вошел в избу, а, приотворив немного дверь, показал два свои большие черные глаза.
– Это не я, это два гостя пришли! – сказал он.
Приди змея в Степанову избу осенью, он и змею бы пустил, а бродячего мальчика Алексея принял к себе на печь с радостью.
С этого раза пошли у Степана счастливые осени: и птицы много стало, и рыбы.
Алексей приходит к Степану каждую зиму, и каждый раз сначала только приотворит дверь и покажет два черные глаза.
– Алешенька! – обрадуется Степан гостю.
– Это не я, это два гостя пришли! – говорит отрок
Алексей, и входит в избушку, и живет в ней всю зиму.
Чуть потеплеет, Алексей уходит на волю к ручью. Сидит он часто в своем дубу, не шелохнется; только видно, что из дуба два глаза, как два гостя, глядят. Когда тихо сидишь в лесу, птица слетается и не боится.
Вот откуда-то перескочил на дуб дятел и, припав к стволу, долбит длинным клювом старое дерево. «Недобрая птица, – знает Алексей, – кому-то гроб впереди». Ворон вещий, пролетая, кувырнулся над дубом. «Быть беде!» – подумает Алексей. Белка, перескакивая с дерева на дерево, правя рыжим хвостом, летит к селу. «Быть пожару!» Вечером медведка-турлушка заведет свою печальную трель. Тихими зорями он с нею разговаривает и советуется. А в Черном виру, где живут самые старые косматые черти, начнут перебивать турлушку: бык водяной заревет.
– Замолчи, Бышка, – кротко скажет отрок Алексей, – ишь разревелся!
Тот помолчит. И Алексей опять с турлушкой советуется.
– Хвачу, я хвачу! – закричит кто-то в Черном виру.
– Перестань, Хватюшка! – просит опять Алексей.
И Хватюшка умолкает. И станет тихо в лесу. И при горькой песне турлушки звезды заблестят на листьях деревьев.
К чему эта горькая песня? «К росту, – знает Алексей, – в горе, в ночных тяжких снах растет трава, и цветы раскрываются».
Утром открыл Алексей глаза: краснозобый снегирь, птица радости, песню поет, и не узнаешь, что сталось за ночь с травой и цветами. Медуница-трава, вчера искал ее весь день, не нашел, а теперь она высокая, как казак в белой шапке, тут стоит возле дуба. Ты искал ее, а она за тобой ходила. Редкая трава, помогает от всех болезней. Желтые цветочки на низких зеленых ножках, лист круглый, и всегда на нем роска держится – от сердца помогает. Гусиные лапки, три пальчика – одна сторона гладкая, другая волосатая – от волосу, когда палец распухнет. От порезу – заячья капуста на облогах стоит, ее заяц варит себе. Попы, белые, лысые, с отвислыми усами, бог знает, зачем стоят. Божьи слезки – хорошая, веселая, ну, прямо живая трава!
Ходит Алексей-отрок по лесу, собирает цветы и всякие травы, сушит, варит, прячет в дуб, – ждет старых и малых людей.
Добрый человек идет к дубу верной стопой, злой – обегает. Вокруг дуба позвоночки-говоруны без конца говорят и не дают подкрасться зверю. И Хлопушки не хлопают, а грибы-пыхалки так пыхнут, что свету не видно. Идут богомольцы по белой тропинке возле светлого ключа и рассказывают, что все озеро натекло из этой светлой воды. Или не знают они, что с другого холма подземными путями бежит другой поток? Или знают, да не говорят, чтобы молодые хоть смолоду порадовались синему озеру в золотых краях.
III
Этой осенью, когда настал час покинуть птицам страну льдов и незаходящего солнца, в белой половине Степановой избы дожидался гусиного лета Принц. С барином жил в избе Иван Горшок, повар, и другой Иван, лакей, по прозвищу Пятак, – оба гусиные охотники с длинными ружьями.
Не первую уже осень дожидался тут Принц гусиного перелета, но убить ему не удавалось: гуси его облетали. Чего-чего только не перепробовал Принц: выроет яму возле озера на гусином пути – они пройдут по той стороне; спрячется там в копну – они будто узнают и пройдут над прошлогодней ямой и все сразу, одной великой гусиной ночью: только говор гусиный в ушах останется.
Нынешней осенью Принц взял с собой двух Иванов. Горшок сел в яму. Пятак – в копну, а сам Принц сделал себе плавучий шалаш, в нем поставил кровать, столик ночной со свечой и книгами, чтобы можно было плыть, лежать и читать. Так ровно две недели плыл по озеру Принц, читая книгу, прислушивался к гусиным зовам. И не раз вскакивал с кровати, через отверстие шалаша оглядывал небо. Но все было напрасно: гуси не шли. Через две недели кончилась провизия, и, кстати, кровать прибило ветром как раз к Степановой избушке. Принц вышел на берег.
– Степан! – сказал он строго. – Когда первые гуси покажутся, приди сказать.
И уехал на лодке к себе с обоими Иванами.
Осень шла и шла. Грачи давно улетели. Заблестела паутина в лесу. В ясном небе журавль затурукал. Морозы лежали от полдня до полдня. Уснула бездушная тварь, и пришел Алексей из леса в Степанову избу.
Днем Степан ходит с ружьем и смотрит на небо, не летят ли гуси; ночью чудятся ему крики птичьи, и он, сонный, вскакивает с лавки и идет на крыльцо. Вода чистая, тихая. Камыши не свистят. Босой, в одной рубашке, стоит на холоду охотник и чешется, будто скребницей лошадь дерут. Ни о чем не узнав, ни о чем не подумав, сонный возвращается Желудь и спит под тулупом.
Раз утром, до солнца, когда несметной силой протурукал над озером журавль, отрок Алексей разбудил Степана, и оба вышли.
Месяц отсветил и, оборванный, белый, единственным облачком был на чистом небе. На востоке горела заря; на западе клены стояли, будто заря.
Позариться вышли Степан с Алексеем, гусей послушать.
На лугу у костра грелись люди, – хотели накосить отавы, но косы не взяли мерзлое и ходили поверх травы. Косцы развели костер и грелись, дожидаясь восхода солнца, когда обогреет. Желудь подошел к ним и сел у костра.
На северной стороне, где солнце никогда не бывает, сам светил теперь золотой Крутояр.
По белой тропинке шел один Алексей. В лесу засыпало тропу: по колено налетело листа, шумящего, пахучего. Тонкие ветви молодых деревьев подавали теперь проходящему свои последние листья – ладони со скрученными пальцами. В глубине просвета колебались золотые монеты. Кровавая трепетала осина, но береза белая, как обмерзла холодной зарей, так и осталась, и, кажется, если бы тронуть ее, то зазвенели бы все ее листья золотыми колокольчиками. Тот могучий дуб был будто после пожара. Отсюда, сверху, было все будто после пожара: до самого синего озера горело жаркое золото, и пламень сверкал, и виднелись черные стволы и ветви, как опаленные здания.
Как радостно, как ясно и светло на душе, но это уж последняя, будто нездешняя последняя радость!
Потянул утренний ветер, затрепетала осина, зазвенела береза, желудь упал…
Отрок Алексей обернулся. Никого нет в осеннем лесу…
Ветер сильнее прошел по верхушкам деревьев. Из далеких-далеких времен доносились в шуме деревьев звуки охотничьих рожков, и лай гончих, и топот копыт. Ветер прошумел, замолчали прежние времена, и вдруг такие победные, бодрые клики пронеслись над золотым Крутояром. В голубом просвете мелькнули серебряные шеи и темные крылья. Солнце всходило. Два передовые быстрые птичьи гонца остановились на месте, пряли крыльями, поднимаясь все выше и выше над синим озером и золотым Крутояром.
Проня-сирота собирала орехи и вышла на площадку перед часовней, вся синяя: у ней большие глаза, как два синие гостя, синяя безрукавка не доходит до синей юбки и остается переслежинка, как у медведки. Проня, выйдя на площадку, сняла с головы синий платок и, завязав на нем узелок, махнула гусям:
– Гуси, гуси, помутитеся!
– Перестань, – строго сказал отрок Алексей, отпуская гусей: – В путь-дорогу!
Гуси-гонцы сделали круг над озером и полетели к гусиному царю сказать, что синее озеро в золотых краях прекрасное.
Степан Желудь согрелся у костра, вздремнул и не слыхал, как ушли косцы, не видал, как вместо них подошли к огню озябшие вороны и, лежа на сизых зобах, грелись.
Желудь открыл глаза, когда солнце взошло, и видит: два золотые гуся стоят над озером.
– Гусь пошел! – сказал он так, что воронье разлетелось в разные стороны.
Поскорее сел Степан в свою душегубку и поплыл к барину сказать, что гусь пошел и весь этою ночью будет на озере.
У Степана весло и жердь; на чистых местах он гребет, в камышах упирается жердью. Возле Попова луга камыши стоят во весь человеческий рост. Степан обернулся и завязил жердь. Когда вытаскивал, вдруг в камышах зашумело. «Гуси!» – обмер Степан. Обернулся, а камышей уже нет и гусей нет, а на Поповом лугу, на своем месте, сидит батюшка, удит рыбку и повертывает косичкой во все стороны.
– Гусь пошел, – сказал Степан.
Батюшка ничего не ответил, а молча, зачерпнув кружкой озерной воды, плеснул себе в карман подрясника.
«Червячков подмочить», – догадался Степан, зная, что батюшка всегда держит червей для ужения в кармане и они у него там подсыхают.
Из другого кармана батюшка, тоже молча, вынул фляжку и выпил стаканчик.
– Червячка заморить, – сказал он весело Степану. – Видел, видел: славные давеча два гусака пролетели!
– Плыву я сейчас вдоль бережка, – рассказывал Степан, – хоть глаз у меня и зоркий, ничего не вижу. В камышах взял жердь, обернулся назад, завязил. Ка-ак они шунули!
У батюшки клюнуло. Степан затих.
И вдруг им обоим почудилось, будто их сверху кто-то обоих позвал. И оба посмотрели туда.
Теперь уже не было на небе того оборванного белого месяца, что утром, как единственное облачко, таял на небе. Над синим озерком было такое же синее чистое небо, и там, наверху, неслись три первые великие хоровода гусей.
Белый дедушка на горе перекрестился в ту сторону, куда гуси летели…
Не туда ли уходят и хорошие белые деды?
Поповский гусак, что дремал, стоя на одной ноге, поднял красный глаз к небу и вдруг встрепенулся. Сунулся в одну сторону, сунулся в другую и побежал, размахивая крыльями.
– Крылья не подрезаны, – сказал Степан, – как бы он так не улетел за дикими.
– Куда гусаку домашнему улететь! – ответил спокойно батюшка.
– За тридевять земель улетит. Гусь – не курица, птица умная.
– Благует…
– Каждому воли хочется, батюшка.
– Какая тут тебе воля; просто изблаговался гусак: намедни гусыня околела, вот он и благует.
И, вынув из воды удочки, батюшка поплелся в гору привязать гусака. А Степан пошел к барскому двору.
Возле балкона у Принца собралось много мужиков по какому-то делу. Барин спал; они дожидались. Степан пробрался с черного хода и крикнул в спальню:
– Гусь пошел!
– Врешь? – послышалось из спальни. Степан перекрестился.
– Плыву я возле Попова луга вдоль бережка: весло в руке, жердь позади. Хоть глаз у меня и зоркий, ничего не вижу. В камышах, слышу, гуси; обернулся: как они шунули! И полетели, полетели. Гусак поповский чуть-чуть не ушел.
Не успел рассказать Степан, входит батюшка.
– Нашему брату, попу, – сказал батюшка, – одним глазком на землю, другим на небо надо смотреть. Сижу я сейчас, рыбку ловлю; одним глазом на поплавок, другим – наверх гляжу. Одним глазом вижу: рыбка клюет, другим – как гуси летят. Шибко идут! Мой гусак чуть-чуть не улетел. Гусь пошел, самый настоящий гусь!
«Как быть с мужиками?» – думал в это время Принц, догадываясь, что мужики пришли по одному затяжному делу.
«Как быть с мужиками? – перебирал в голове Принц. – Удрать потихоньку на озеро черным ходом или же крепко ругнуть, чтобы убирались все к черту и не являлись, пока весь гусь не пройдет. Удрать или ругнуть?»
«Ругнуть!» – решил Принц и открыл дверь балкона.
Впереди, с орденами на груди, стоял солдат-старшина.
– Тебе чего? – спросил барин.
– Доложить вашему благородию: нынче утром на заре гусь пошел!
За старшиной, заслоняя всю толпу красною бородой, стоял огромный Степан Муравейник.
– А тебе что? – спросил довольный старшиною Принц.
– Гусь пошел! – сказал Муравейник. – На чаек с вашей милости.
– Гусь пошел! Гусь пошел! Гусь пошел! – загоготали все мужики.
– Пятак, – говорил вечером Степан Желудь, усаживая лакея Ивана в копну, – ты счастливый: место у тебя сухое и теплое – смотри не усни!
– Горшок, – наставлял он второго Ивана, – не горячись, носа из ямы не высуни, в уток не пали, сиди в яме, как в печке, и жди.
– Каждому хочется гуся убить, – успокаивал Желудь завистливого Принца, провожая плавучий шалаш, – каждый хочет покушать гусятинки. Тут божья воля, и нельзя вперед загадать, где гусь полетит, чье будет счастье… Не приведет бог, ничего не поделаешь, плавай по озеру хоть месяц, – весь гусь пройдет стороной. А даст бог, так и за шалаш зацепится, рукой хватай. Что рукой! В шалаш влетит, сядет, будет глядеть на тебя, только не скажет, – возьми меня, щипи меня, жарь меня, кушай: сладки, сладки мои гусиные лапки! Ну, с богом! – заключил Степан свою речь и оттолкнул Принцев плавучий шалаш от берега.
Кружась, поплыл шалаш от Степановой избы в большое озеро, к Гусиному острову.
Радостный, сидел на кровати Принц с ружьем в руке, готовясь встретить великую гусиную ночь.
– Что может быть лучше охоты? – говорил он себе. – Ничего не может быть лучше охоты. И путешествия, – добавлял Принц, потому что шалаш медленно, но все-таки плыл.
В озере было течение к Гусиному острову. Когда-то здесь были леса и Соловей-разбойник будто бы жил в них, но господа Верхне-Бродские запрудили речку, протекавшую этими лесами; стало озеро с голым островом, на котором отдыхают перелетные птицы; течение запруженной реки сохранилось и теперь немного, и вот почему медленно, цепляясь за камыши, кружась, но все-таки плыл шалаш к Гусиному острову. На помощь течению дул сильный ветер. Низкие сердитые тучи к вечеру затянули все небо, и одно только медное холодное кольцо виднелось внизу, у самого горизонта. Две березки возле Степановой избы, пропадая во тьме, все еще пробовали умолить низкие темные тучи и стояли, как две матери с протянутыми к тучам руками. Белая половина Степановой избы долго виднелась, но наконец тьма закрыла и ее, и березки пропали, и медное кольцо сползло. Вот тогда-то в этих тучах, перекликаясь, как в море невидимые друг другу корабли, издали слышные, близясь и близясь к озеру, наконец-то полетели и гуси.
Так бывает в безлюдном краю, в степи-пустыне, где лежат чугунные рельсы. Далеко до прихода поезда загудят рельсы, и потом покажется огонь и свистки и сам поезд, бегущий из далекой и, кажется, прекрасной страны. И вот, как темною ночью в пустынной стране, когда загудят рельсы и послышатся первые свистки, так и на озере осенью при первых сигналах гусиных кораблей.
Приближаются хороводы птиц. Все гусиное царство летит, окружает все озеро, веют незримые крылья, начинается великий совет.
Принц все это слышал в своем шалаше: как гуси вверху совещались, как спускались, всплескивая водой, стая за стаей возле Гусиного острова, и как бормотали, почесывались, и наконец, уснули. Потом их что-то встревожило, в гусином крике слышался какой-то суд, какой-то совет…
На берегу свадьбу играли, доносились хороводные песни, собачий лай, неустанно кричал привязанный поповский гусак. Но Принц слышал только гомон Гусиного острова и медленно плыл туда, готовя опустошающие выстрелы…
А гуси спали, утомленные великим перелетом.
Напрасно думал Принц, что гуси спустились прямо на Гусином острове. Они упали на воду и, утомленные, сразу уснули. Течение медленно прибивало их к пологому острову, и, когда гусиные лапки коснулись песка, не подавая друг другу голоса, они вышли на берег, подогнули по одной лапке и спрятали головы в крыльях. Гусиный царь долго не спал. Гусыня оправляла ему перышки и что-то искала, как ищут добрые жены, положив себе на колени головы мужей. Усыпив мужа, гусыня-государыня и сама стала засыпать. И вот случилось неслыханное в гусином царстве, где все живут вечными парами. Один холостой непутевый гусак подобрался к гусыне и, пользуясь сном царя, стал отвешивать гусиные поклоны…
Когда лисица подкрадывается к спящим, или орел налетает, или человек с ружьем подползает, в последнюю минуту гусиный царь говорит страшное слово: «Кев!» «Кого?» – отвечают сразу все гуси с таким великим криком, что не только лисица и орел, а и человек прячется: гуси выклюют глаза, выщиплют волосы.
– Кев! – крикнул гусиный царь.
– Кого? – ответили гуси.
Скоро ощипанный непутевый гусак лежал на спине, зобом вверх и часто-часто дрыгал лапками. Гусиный царь велел спать.
В это время и наступила та тишина, в которой Принцу везде слышался гомон Гусиного острова, а когда шалаш повернулся в другую сторону, то Принц совсем закружился.
Небо расчистилось, кое-где наклюнулись – звезды, стал месяц оглядываться, показалась темная полоса леса на той стороне озера и была такою близкою, что Принц счел ее за берег Гусиного острова. Стоя в двух шагах от гусей, Принц нацелился в половину полоски далекого леса, версты за две…
Сколько звезд было на небе! Хоровод на берегу пел какую-то песню о зозуле горемычной. Но Принц ничего не слышал, а только видел перед собой темную полоску.
Он сразу спустил два курка. И услыхал он первое гусиное слово: «Кев!» «Ко-го?» – ответный крик всех стай он не слыхал.
IV
Все свадьбы в селе над озером Крутоярым начинались с Макарихиной лесенки: бывало, сядут на эту лесенку ночью и сговариваются, а Макариха не спит и смотрит через стеклянную дверь, как бы не ушли куда с лесенки суженые. Так смотрела она и на Принца, когда он пришел посидеть с ее дочкою. И тут попутал ее грех: уснула Макариха и опростоволосилась. Утром все звали ее дочку Принцессою. Мясник, богач и скряга, что питался одной печенкой да селезенкой и за это прозванный Иродом, один ничего об этом не знал и вдруг посватался. Так пришлось выдать Макарихе любимую дочку за Ирода, старого вдовца.
Свадьбу играли в трактире, ной тут не хватило места для всех, – пришлось выбрать кого почище. Из серых незваные вломились: Звонуха, Рассыпуха, Зелениха, Кобылиха, Жигжик, Далдон и Степан Муравейник. Свадьба вышла веселая. Дьячков племянник, певчий из города, подпевал себе басом, играя на гармоньи, вскидывал гривой и ужасными красными, налитыми глазами смотрел на девиц. Писарь с Кобылихой, круглые, как два мяча, плясали гусака: он – будто гусиный царь, она – гусиная царица; за ними тянулись все трезвые и пьяные, и в самом конце, будто солнце жаркое, горел краснобородый Степан Муравейник. Топнет писарь – половицы ходуном заходят; дыхнет – свечи тухнут; мотнет рукой, заводя хвост, – и посыплются пьяные, как орехи, а трезвые, глядя на них, посмеются, вы пьют и снова начнут гусака. Любопытные с улицы на деревья залезли, березку обломили, стали потолок разбирать.
Проня-синильщица, сирота, не посмела проситься у Макарихи на свадьбу, хоть и жила у ней в доме с малолетства, как утонул ее отец, рыбак, в озере. Как ей показаться на людях: вся синяя, руки ничем не отмыть, одежда вся синяя, самотканая, не нынешняя. Хотела Проня подойти к окну, – стена от народа вся черная, ни додору, ни продору туда.
На выгоне, на просторном месте, где стоял трактир и где водят девушки хоровод, Проня села на белый камень под качелями, потупила в землю свои большие синие глаза и стала тихо причитывать:
– Не плачет земля сухая, холодная: в непоказный час родилась сирота. На семь долгих лет выслал батюшка свою родную дочь, велел выходить за морянина. Кукушицей обернулась. Прилетела в батюшкин зеленый сад и стала горько-горько причитывать…
– Откуда ты, зузулюшка, такие горькие причеты берешь? – запел чей-то другой девичий голос.
И руки сошлись.
Никто не загадывал и не задумывал, так сам собой поплыл хоровод.
Вела хоровод Проня. Широк казался ей выгон, – вела хоровод. И чем дальше она шла и пела, тем все шире и шире казался ей круг. До самого края дошла, где, кажется, небо с землей сходится и где белобородый дедушка в золотой парчовой ризе, осыпанной частыми звездами, на землю слезает.
Никто не запомнил в селе такого хоровода, что вела в эту ночь Проня. И недаром ей чудилось, будто там, где небо с землей сходится и бог спускается к людям, блестела золотая риза: тучи расходились, месяц огляделся чистый, обирая с себя клочки туч.
И всю ночь бы ходить хороводу по выгону, но вот девушки ахнули, и руки у них разошлись от страха, и песня смолкла…
Земля дрогнула. Лесистый холм перекликнулся с дру гим холмом, и дальше от холма к холму побежал грохот в дремучий лес, где еще никто никогда не бывал. Страшен был грохот от выстрела, но еще страшнее был потом птичий крик на Гусином острове! Месяц теперь совсем огляделся, небо все открылось, загорелся Птичий путь. На ясном небе видели девушки, как выше и выше поднимались птицы, и где-то совсем высоко, под звездами, они сговаривались, советовались и уплывали корабль за кораблем куда-то по Птичьему пути.
– Это не так, – сказали в хороводе, – это они барина заклевали.
– И потопили, – ответили другие.
– Мертвый, – моет водица теперь его грешные косточки! – начала причитывать старушка.
– Уж на что грешнее его, – пробасил кто-то во тьме, – туда ему и дорога!
Не успели вымолвить эти слова, как вдруг и сам покойник, мертвец весь в белом, показался на выгоне. Все и рассыпались в стороны, как птицы от ястреба.
Но не покойник бежал по выгону к девушкам, а батюшкин белый гусак отвязался и летел низко, перекликаясь с дикими. За гусаком гнался и батюшка, но его в темноте никто не видал. Только уж когда гусь сравнялся с трактиром и стал вверх забирать, увидели, что за белым гусем и батюшка летел, размахивая широкими рукавами подрясника, будто крыльями.
За батюшкой из трактира все бросились ловить гусака: и старшина в орденах, и писарь с Кобылихой, Звонуха, Рассыпуха, Жигжик, Далдон, Степан Муравейник и сам Ирод с Принцессою. Вся свадьба убежала, за свадьбой весь хоровод, все село опустело, и остались только старые да малые.
Но где же ночью найти гусака? Да и страшен лес за селом! Скоро с разных сторон все стали сходиться и спрашивать:
– Нашелся гусак?
– Улетел.
– Гусак улетел, а батюшка?
– И батюшка…
Тем в эту гусиную ночь и закончилась свадьба. Дружно увел молодых в амбар, запер на ключ. Трезвые разошлись, пьяные расползлись. Сказать никто не смел, а многие благочестивые люди крепко держали в уме насчет батюшки.
Когда в селе перестали галдеть, в лесу у Глинища, в Черном виру выползла сальная язва на низких лапах и пошла напиться к озеру, шелестя листвой. Медведь идет тихо на цыпочках, ни один сучок не треснет. Волк тоже тихо ходит. Но всех тише идет лисица из леса к селу чистить курятники. В эту шумную гусиную ночь ей долго пришлось дожидаться, пока все не уснули и не остался только один огонек в доме матушки, где самые вкусные куры. Туда на огонек и пошла тихим ходом лисица.
Матушка ничего не слыхала: у ней в гостях был странник, ученый человек, собиравший на церковь, что в Белых Водах, за тридевять земель в тридевятом царстве.
– Мысли гони, – наставлял матушку странник, ученый человек, – первым делом мысли гони, а там все само собою приложится. Может, и всем-то нам жить осталось без году неделю: вот и берет к себе господь хороших людей. А гусак оттуда вернется, и не один, а приведет с собой целое стадо. Там он не останется. Там остаются только уж те, кому назначено. Там Птичье кладбище, а твой гусак молодой. Это бывает!
Божественные, темные глаза были у странника. Спокойные огоньки лампад отражались в них и становились подвижными красными жгутиками.
– Церковь нам сам бог послал на Белых Водах, говорил странник, ученый человек, – никто не строил, сама стала, как божия невеста. Было место пустое и дикое до меня. Я посетил в Троицу. Прихожу, вижу: пар валит из земли. «Жертва, жертва нужна!» – говорю я православным людям. Они принесли мне ветчинки три окорока. Пар сильней повалил от земли. «Жертвуйте, – кричу я, – Аврааму был надобен агнец!» Они принесли мне баранинки. «Теперь, – говорю я им, – Троица, теперь господь в трех лицах по земле ходит, а кто видел? И не увидите! А увидите – испугаетесь. Адам, первый человек, мог глядеть в лицо господу. Вы же увидите и не узнаете. Жертвуйте!» Они принесли мне винца. Я пью и пляшу, пью и пляшу. Теперь же на том месте, где я плясал, в Белых Водах, церковь стоит белая, как Христова невеста.
– Это бывает! – сказала матушка. – А вот что скажи, отец родной, как бы ты мне от ломоты помог: ноги не ходят
– Что тебе не жалко?
– Холстинки.
– Ну, возьми холстинки, приложи, где ломит, а я отнесу на Белые Воды, покрою холстинкой угодника, и ломота твоя, худоба так и свалится.
Обматывает матушка больную ногу холстинкой и молится на образницу четырем праздникам: Покрову, Всех Скорбящих Радости, Ахтырской и Знаменью.
– А в другой ломит? – спрашивает матушку странник, ученый человек. – Ломит? Другую обмотай. Тут пропустила! Зачем пропускать? Грех! Тут пусто… Холстинка вся? Наставь! Вот так! А мысли брось. Хороших людей бог живыми берет на небо: Енох был взят, Илья… В последние дни останутся только те, кому гореть назначено. Достоин батюшка – долетит, недостоин – завтра придет. Мысли брось!
Ночевать не остался странник, ученый человек, прямо ночью пошел на Белые Воды. Придет он туда в сороковой день, и в этот день пройдет ломота у матушки.
Лисичка выбралась тоже из курятника матушки сытая и поплелась в свою темную нору у Глинища. Невидимый, изливался в озеро темный поток из Черного вира, но озеро стояло светлое, каждая звезда, отражаясь в нем, становилась золотым шпилем церкви. Сколько звезд, столько и церквей было в озере А месяц так и остался месяцем, и вокруг него было три зари: заря утренняя, заря вечерняя и заря полунощная.
Последние пролетали птицы над озером: то просвистит малая, быстрая, как пуля, то прозвенит, как стрела, то большая, невидимая, слышно, скрипит в тишине маховым пером.
– Вчера ласточки были, нынче нет, – сказал отрок Алексей, – весной прилетят опять, а не все, – там останутся, там Птичье кладбище…
Проня о своем думала и сказала Алексею:
– Замуж я не пойду. Черничка обмирала, поднялась и все мне передала. Страшно замуж выходить, страшен ответ. Кто болтал – за язык подвешен, кто подслушивал – огонь из ушей. Горячие сковороды ногами топчут. В смоле кипят. Замуж я не пойду, я в монастыре постригусь.
– А не страшно отречься от мира? – спросил Алексей.
Проня посмотрела на озеро. Хорошо оно было теперь, все засыпанное звездами. И месяц там был, и вокруг него, как невесты, все три зари: заря утренняя, заря вечерняя и заря полунощная.
– Для вековух, рябых, глухих, слепых, разноглазых, и кривых, и горбатых, для нас, сирот, и для всех проклятых и в непоказный час рожденных младенцев есть ли счастье на свете, Алешенька?
– Что счастье, – сказал отрок Алексей, – счастье возьмешь, да с тем и уйдешь. Ты бери, что побольше этого счастья.
– А без счастья какая же радость?
– Вот что я тебе расскажу. Сижу я ночью в дубу у святого колодца. Медведка-турлушка песню запела. Сижу я в дубу и разговариваю с Турлушкой, советуюсь. Люблю я Турлушку: у ней святая песня, хорошо мне с ней… А Хватюшка, что в Черном виру живет, перебивает меня: «Хвачу, хвачу!» – кричит. Эта Хватюшка вроде счастья твоего: хватается. «Замолчи, Хватюшка! – прошу я ее ласково. – Перестань!» Она меня не слушает, все кричит и вовсе забила Турлушку. Прошу я ее второй раз. Нет! Тут взял было с досады камень, замахнулся, да и остановился. «Прости меня, – говорю, – Хватюшка!» Она и замолчала, а Турлушка, радость моя, запела. И стало мне на душе так светло, так радостно, что и лютейший из зверей, крокодил, приползи ко мне и раскрой свою пасть и будь у меня тут подсолнухи, так я и ему сказал бы радостно: «Погрызи, крокодиле, подсолнушка!» И стало в лесу светло, на полянке березы стоят золотые.
– Алешенька, милый человек, – воскликнула Проня, – я пойду за тобой, научи, как и куда идти!
– Куда идти? Куда пойдем? – задумался отрок Алексей.
Последние птицы пролетали над озером: малые свистели, как пули, другие звенели, как стрелы, большие тяжело летели, скрипя в тишине маховым пером.
– Куда пойдем, спрашиваешь? – улыбнулся отрок Алексей. – Мы пойдем с тобой на Птичье кладбище.
V
Блестят при месяце, как рельсы, накатанные осенние колеи большой дороги. По бокам у поля сидят бабушки-лозинки без веток и сучьев, как какие-то черные, старые, лысые култышки; сидят, смотрят на дорогу и будто чего-то дожидаются. В эту ночь конокрад, черный цыган, удирал от погони на вороном коне, спешил, менял, с кем встретится, своего измученного коня на свежего. Под самое утро, когда звезды скрываются и вдруг становится совсем темно, цыган куда-то пропал, а когда грянули последние петухи, опять показался с востока на белом коне и все близился и близился с большой дороги к селу. Но это уж был не цыган: это большое белое стадо гусей прасолы гнали в город, скупая в селах все новых и новых. За гусями и за прасолами шли, опираясь на длинные ветви, два белых старца. Когда повиднело, старцы заметили под старой лозинкой: бабушка сидит и разливается горючими слезами.
– Ты чего плачешь, старуха? – спросили старцы.
– Как же мне не плакать, батюшки, – ответила старая, – на гусей смотрю, жалко: не видать уж им своей родины.
Улыбнулись старцы и, белые, опираясь на ветви, за белыми гусями вошли в село.
Галки проснулись первые и, собравшись в огромную стаю, криком будили спящих под соломенными крышами людей. В опустелом гнезде проснулся ястреб-старик и с распластанными крыльями, как важный барин в карете, поехал над озером в поле.
Белая половина Степановой избы показалась у берега озера; из темной, еще не видной, вышел Степа Желудь.
– Вставай, Пятак, вставай, дрыхлый! – будил Желудь спящего в копне Ивана. – Вылезай, Горшок, вылезай, лежепар! – будил он другого Ивана. – Посмотри на барина, полюбуйся!
Долго чесались Иваны, долго протирали заспанные глаза и, когда наконец глянули и разобрали все – обмерли.
На берегу Гусиного острова спал Принц, а возле него голым зобом вверх, все шевеля чуть-чуть лапками, лежал непутевый гусак.
Утро как взялось за дело, так уж, не отступая от своего, и стало все оказывать. Восходящее солнце из всей толпы у амбара выбрало красное лицо и рыжую пламенную бороду Степана Муравейника. На ухвате, высоко над толпой, он держал что-то белое и, повертывая во все стороны, хохотал. Дружко ругался. Звонуха с Рассыпухой крепко держали за руки тещу, продевая ее в хомут. Зелениха и Кобылиха в солдатских шапках, уже пьяные, плясали гусака. А бабушка Секлетинья, выпуская весь дым из своей черной избушки, запекала блины; бабушка лучше всех знала деревенские порядки и пекла в тот раз блины с дырочками…
Все лазейки, все норки, все трещинки оказывало восходящее солнце. Приплелся откуда-то, хромая на обе ноги, батюшка, узнал своего гусака и отбил его у прасолов.
А на северной стороне, где солнце никогда не бывает, вставала другая заря. Как в парчовую ризу одетый, сам от себя светил золотой Крутояр.
Бабья лужа*
I
Когда-то в богатом приходе жил отец Петр, и так хорошо ему было, что завидовали даже городские священники. Стало ему трудно одному в большом приходе, и выхлопотал он в помощь себе второго батюшку. Скверный попишка был этот отец Иван, шлящий человек, шаромыжник – всю жизнь из одного прихода в другой перебегал. Довел он отца Петра до греха: прямо из алтаря через царские двери нехорошим словом пульнулся. За это слово отец Петр, лучший священник в краю, попал к нам в Опенки. Чуть не весь приход провожал Петра. Одни плакали, тужили. «Сам виноват, – говорили другие, – зачем он второго попа доставал: два попа в одном приходе – два кота в мешке».
Кто не бывал попом, тот не поймет, что значит попасть из богатого прихода в бедный и какие глухие, бедные бывают приходы у нас. В Опенках церковь – завалюшка деревянная, и та на оползне стоит у самого озера, а внутри церкви запустение: паникадила поднимаются на деревянных колесиках от прялки, на дверях бутылки с песком и кирпичи, как в кабаке, визжат. Прихожане в Опенках – залешане-медвежатники, и не поп, а колдун им нужен был. Оглянулся вокруг себя отец Петр, не выдержал и запил горькую. Бывало, упрекал Ивана-попа за кумовство с мужиками, а теперь сам до того дошел, что только по волосам узнавали, кто поп, кто мужик, и звать его стали уж не Петр Ферапонтович, а Понт Перепонтович и жену его Перепонтовной.
Матушка Перепонтовна не потерялась в глухом приходе; просветлила запущенный сад, огород устроила и великое множество птиц развела: гусей, уток, кур и каких-то особенных рыжих индюшек. От этих индюшек развелись у всех крестьян рыжие индюшки, и село стало ими славиться.
– У вас тут раек, – говорили матушки соседних приходов, – какие полные индюшки да увесные.
– Все от меня развелись, – радовалась Перепонтовна.
– Рай, чистый рай, – хвалили матушки.
Плохо было в раю только отцу Петру: пил, опускался все ниже, ниже, и вот уже стали говорить попы, что до низкости опустился священник.
Сам отец Петр и рад бы теперь был подняться, да уж не хозяин стал себе. Чего только он ни делал: обещался и записывался в трезвость, и даже к гипнотизеру в уездный город ездил – ничего не помогало. И вовсе бы пропадать, но кто-то научил его самому простому средству.
– Выпей ты, отец Петр, в смутный день один только графин вина и, как выпьешь, веселыми ногами ступай в лес, собирай ты грибы до упаду, и все как рукой снимет.
Испробовал это средство отец Петр, и вдруг ему лучше стало, и словно пробудился. Снял он прялочные шпульки с паникадил, отвязал бутылки с песком, помолодил старые иконы. Грибы спасли отца Петра, и к этому своему грибному делу он так пристрастился, что, бывало, даже обидится, когда солидные попы назовут его любителем грибов и природы.
– Не любитель, так кто ж такой?
– Я сам гриб, – отвечал он.
– Боровик? – смеялись ему.
– Да, боровик, а вы все благушки.
Грибы спасли отца Петра. И стал он обыкновенным деревенским хорошим попом. От прежнего у него остались только редкие смутные дни, когда, выпив графин вина, он на целые сутки уходил в лес за грибами. Эту смуту свою отец Петр в шутку называл маленькой нирваною.
Однажды около Петрова дня, когда показываются первые грибы подколосники, под вечер сел к окошку отец Петр и замутился духом. Туманы поднимались на сыром лугу, словно лесовые бабы-хозяйки белые холсты расстилали.
А ночь была светлая, летняя. Перепонтовна без огня пришивала пуговицы к его лесным шароварам. Старая записная книжка попалась отцу Петру под руку, и стал он ее рассеянно перелистывать. Были тут записаны семинарские рассуждения о боге, и рассказ мужика о сотворении мира, и мелкие расчеты, и, в конце, был небольшой стишок собственного сочинения:
Светит месяц, не зарница. Хочет Петенька жениться На Марусе.Прочитав стишок, отец Петр задумался и стал вспоминать Марусю, какая она из себя. Но так давно это было, что одна только рука вспомнилась, белая, с тонкими музыкальными пальцами. Радостно было видеть эту знакомую прекрасную руку и до того сладко, что когда проплыла она, отец Петр нарочно зажмурился, думал, так еще лучше покажется. Но ничего не показывалось закрытым глазам, а в открытых тонули в тумане последние верхушки деревьев.
Хотел еще в записной книжке поискать что-нибудь хорошее старое и нашел он страничку, мелко разлинованную, со множеством женских имен. Между ними отыскал он имя своей жены, матушки Перепонтовны; против этого имени было написано: «Тысяча рублей или сорок десятин».
На этом месте отец Петр закрыл свою книжку, выпил рюмочку и опять сел к окну.
В селе уже спали; лес, луг и река закрылись туманом; смотреть было некуда, слушать нечего. Одна только странная темная точка, как пьяная, шевелилась в тумане: она бывает знакома всем, кто в одиночестве сиживал так. Отец Петр и подумал сначала, что своя эта точка. Но точка все росла, росла, и мало-помалу уши показались, голова, ноги, и, никогда не виданный в селе, вышел из тумана бурый песик. Хвост у него был перебит и свернут к боку, а бок был ошпаренный, один глаз выбитый, и по всему видно – безыменный песик, живет без хозяина где-нибудь в бурьяне и до того забит, что только ночью выходит кормиться.
Отец Петр, глядя на бурого пса, выпил еще, и захотелось ему с ним поговорить.
– Жучка! – позвал он.
Песик поднял голову, посмотрел, кто зовет, и зарычал. До того был обижен песик, что на человека и смотреть не мог.
Стал отец Петр отгадывать, как зовут его. Выпьет и позовет обиженную собачку новым именем.
– Арапка!
Песик рычит.
– А кто же ты, Шарик?
– Кого это вы там дразните, Петр Ферапонтович? – спросила Перепонтовна.
И посмотрела на улицу. Были послушны всякие звери и птицы Перепонтовне: скажет слово чужой корове, и она, как своя, идет, кошке – кошка бежит, воробью – воробей летит…
– Бурик! – назвала она бурого пса.
Сморщив нос, улыбаясь по-собачьему, осторожно стал подходить обиженный пес к поповскому дому. Ступит и остановится. Перепонтовна бросит кусочек, позовет, и он снова идет. И так подошел к окну, съел кусочек и хотел даже еще попросить, но хвост перебитый не мог вильнуть, и только глаз-уголь жутко горел, а другой, выбитый, сливался с туманом, и еще два желто-бурых пятна смотрели, как два особенные глаза.
Отец Петр не мог долго смотреть на пса, отвернулся в комнату и, выпивая рюмку за рюмкой, глядел все на самовар. Вдруг самовар дрогнул от пристального взгляда и стал удаляться, а стены стали сходиться. И вот уж самовар далеко, бог знает где, на сером, как желудь, висит, а серая стена близко-близко, и на ней рука знакомая, белая, с длинными музыкальными пальцами, плывет и словно манит его за собой куда-то к окну и дальше, дальше…
А за окном уж волновались позолоченные восходящим солнцем туманы, и кукушка была слышна в лесу. Отец Петр взял корзинку, подманил Бурика и пошел с ним в Красаки, где водится много белых грибов.
II
На зеленой осоке, как острова, стоят Красаки, покрытые высокими соснами. Один холм выше всех, и на нем дуб заметный, видный, как церковь, на десять верст. К этому дубу и шел отец Петр; за ним в отдалении, шевеля осокой, плелся и Бурик. Недалеко возле дуба есть вырубка и на ней монастырская избушка. Раз в год сюда приезжают монахи грибы собирать, живут целый месяц и на целый месяц размонашиваются. Пни стоят возле избушки черные, как монахи, и между ними свой игумен есть, тоже черный, но плотный и весь обложенный мохом, как зелеными плюшевыми подушками. На игумене-пне почему-то всегда благушки растут, а вокруг пней по опушке под деревьями белые грибы. Сколько их тут бывало в прежнее время! Возами монахи возили, сушили, варили, солили, продавали и все-таки оставалось после них в Красаках столько грибов, что весь окрестный народ запасался. Нынче отчего-то перевелись грибы в Красаках, и за счастье считал отец Петр, если, проходив с раннего утра и до позднего вечера, принесет десяток грибов. Теперь было время, когда только что показываются первые грибы подколосники, – мало было надежды найти и десяток; посмотреть только, увериться, что, правда, показываются белые грибы, и за это одно дорого бы дал охотник за грибами отец Петр. Но солнце уже высоко поднялось, все знакомые места были осмотрены – нигде не было грибов подколосников. Бурик, как только в лес вошел, так и пропал, словно он тут и жил всегда и затем только в село приходил, чтобы сманить в лес батюшку. Уморенный, сел отец Петр на игумен-пень и задумался…
Вдруг собачка залаяла, и глухо раздался лай, словно тысячи лесовых собак жили тут и перекликались одна с другой.
«Кого это Бурик облаял? – подумал отец Петр. – Должно быть, зайца поднял».
И стал смотреть, не выскочит ли на поляну заяц из лесу. Но заяц не выбегал, лай был на одном месте, спокойный, ровный, упорный.
«Лось стоит», – догадался отец Петр.
Посмотреть, как стоит рогатый в лесу, очень захотелось батюшке. Лай был под тем самым огромным дубом, что на самом высоком холме стоит, старый дуб и такой широкий, что хоть на целую деревню под ним столы станови, и вокруг дуба сосны прямые, как свечи, стоят. Выглянул из-за сосен отец Петр: Бурик одноглазый стоит, лает, а лося нет, и лает пес даже не наверх – на белку, на тетерку или глухаря, а вниз, и так горячо, что пар валом валит изо рта, и глаз, как уголь, горит. Посмотрел батюшка по собачьему глазу, и вот огромный гриб боровик перед самым носом Бурика, как лампа, стоит. Глазам не поверил отец Петр, – отроду никогда не слыхал, чтобы пес мог грибы искать. И только когда уж ощупал теплую ножку и шляпку холодную, мокрую, как собачий нос, затрясся от радости. Вынул ножик, срезал гриб: белый, чистый, ни одной червоточинки, и такой большой, что одного на жаркое хватит.
А Бурик все на том же месте стоит и лает, словно его не срезанный гриб привлекал, а что-то другое.
– Ну, конечно, другое, не гриб… я-то, чудак, подумал, пес может грибы искать, – сказал сам себе батюшка.
И посмотрел опять по глазу Бурика на землю, а на земле еще лезет гриб.
Срезал другой гриб, а Бурик лает по-прежнему; куда ни посмотрит собака, всюду из земли лезет гриб.
Чудеса! Но до того уж привыкли к лесным чудесам эти грибные охотники, что не чуду удивляются, а самому грибу. Так и впился в эти грибы отец Петр, засучил рукава подрясника, ползает под дубом на четвереньках, режет и складывает, а Бурик все лает и лает. И так полную корзину верхом нарезал грибов под одним только дубом на первом холму. А Красаки место большое: перейти низину, будет новый холм, а там еще, а там уже сплошь пойдет строевой лес – далеко в другую губернию.
Куда же деть эту корзину грибов, куда складывать новые грибы? Отец Петр выбрал ложбинку между корнями, ссыпал грибы, затрусил травой и спустился в речные сутоки, где растет высокая, выше пояса, осока. Вся посеребренная, стояла на солнце трава, как зеленая пряжа, словно это болотные молодки составили кросна с своей суровою пряжей, а сами спрятались в болотных буковицах и колчеватике.
Оглянулся посмотреть, заметно ли то место, где ссыпал грибы. Головой выше сосен дуб стоял, а на нем большой лесной голубь сидел, смотрел, провожал глазами батюшку к другому холму-красаку. Обернулся к другому холму впереди, а там уж Бурик опять горячо лает. И не выдержал отец Петр; подобрав подрясник, пустился бежать по болоту на лай. Бежит, шлепает, брызги летят во все стороны, а за ним-то болотные молодухи шипят, и свистят, и ругаются, что рвет он ногами их суровую серебристую зеленую пряжу.
III
Бабы-боровницы отчего так часто блуждают в лесу? Идет боровница в лес и замечает дом по плечу. Бабье дело робкое: косится она в лесу на густые кусты, а дума все о плече, как бы не сбиться, как бы не забыть, что дом остался в левом плече. Идет боровница, думает, от думы плечо начинает чесаться, и выходит так, что где чешется, там и дом стоит. Вот, когда забралась боровница в лесную чащу, перекружилась вокруг себя, а время к вечеру и нужно домой поспевать, – идет она прямо, прямо в ту сторону, где чешется. Леший под вечер тут как тут: рад-радешенек бывает, когда у бабы зачешется. Она хочет прямо идти, а он ее кружит и с толку сбивает. Ведет он бабу кругами-вавилонами, и когда до упаду изморит, иссушит, покажет ей дивную полянку, всю покрытую большими белыми цветами-кувшинками. Идет баба на кувшинки, а под цветами-то окнища бездонные. Ступила раз, ступила два – запела трясина, заходила, заурчала, как огромный мягкий живот… Страшное место и зовется Бабья Лужа.
На боровом высоком месте вблизи этой Бабьей Лужи напал отец Петр на грибы, и до того их тут много было, что, пока резал, время незаметно подошло к вечеру. Спохватился, оглянулся: совсем незнакомое место было вокруг; неизвестно, откуда пришел, в какой стороне Красаки, где речка, – ничего не понять: с грибами сто раз перекружился в лесу. Остановился, спохватился, да уж поздно! И не такой человек был отец Петр, чтобы вовремя останавливаться, считать, рассчитывать и среди зеленого леса думать о зимнем Великом посте.
Да и всякий, кто собирал грибы, знает, как трудно вовремя останавливаться: только что хочешь остановиться, вдруг под деревом гриб стоит; срезал, кинул глаз, а впереди другой, а там третий манит.
А еще бывает и так: стегнет в лицо веткой лесной смородины, и вдруг вспомнится та смородина, садовая, как тогда ею запахло. А когда это было и где – не скоро поймешь, и кажется, вот идти бы вперед, все вспомнится где-то в глубине лесной.
Вспомнилось отцу Петру:
Светит месяц, не зарница. Хочет Петенька жениться На Марусе…Остановился удивленный; подумал: «Березки! да это же те самые березки; был возле них и опять к ним пришел; вот ель между ними чуть-чуть шевелит почему-то нижними лапами, и ель эту видел. Куда же идти?»
Прислушался: ясно звенят колокольчики. Слава богу: стало быть, где-нибудь вблизи деревенское стадо. И пошел прямо на звон колокольчиков.
Это было не деревенское стадо. Это прасолы гнали гурт лесною дорогой, огромный, чуть не в тысячу голов. К вечеру прасолы остановились на большой полянке, привязали одну серую корову-сбродницу на колышек, распустили гурт по поляне, а сами сидят у огня и кашу варят.
Ходит серая корова-сбродница вокруг колышка и по-своему, по-коровьи, думает. Дума коровья в лесу одинакова издревле: не покажется ли волк из лесу. Дума у коров общая: что одной подумается, то и всем представится; вот почему одну беспокойную корову привязали на колышек, и ходит она вокруг него, как часовой. И вот почудилось ей, что вышел из леса кто-то двуногий, длинноволосый и возле него серый на четырех лапах. Остановилась корова, вгляделась и пошла вперед. Веревка оттянула, но корова тут же приладилась: пошла, куда можно, скоро опять увидела низенького на четырех ногах, и показалось ей, что низенький волк все ближе и ближе. И так пошла серая корова по кругу, представляя себе, что прямо, все прямо на волка идет.
Отец Петр шел с Буриком на серую корову, видел, как она остановилась, вгляделась и с вытаращенными глазами пошла вокруг колышка. И такой он с грибами стал лесной человек, что понимал коровью тяжкую мысль. Эта мысль была у коровы заложена еще в те времена, когда собака не отделялась от волка, а волк и собака были одно. Эта мысль была не одной серой коровы, а общая, и потому она не боялась теперь на волка идти, что с нею все коровы шли, вся покойная родня ее – отцы, матушки, дедушки, бабушки…
«А по правде-то идет она одна вокруг колышка», – подумал отец Петр.
И как раз в это время остановилась серая корова и замычала. Весь гурт поднял рогатые головы. Перемычались, перебрыкались, перечесались коровы за длинную дорогу, и стал весь гурт, как одна корова; что подумала одна серая, то и все подумали: волк вышел из леса. Серая сбродница еще раз замычала, все посмотрели еще, уверились, и все тысячи голов, как одна, кинулись волка бодать.
Пустился отец Петр бежать назад к лесу, а под ногами кочки – лохматые дураки, вот-вот ногу вывернешь, по этим дуракам прыгал батюшка через два, через три, как заяц, и только-только успел скрыться в лесную чащу – гурт возле самого него по частым кустам рассыпался. Со всех сторон трещало, ломало, ревело, показывалось, – там хвост метнулся, там нога мелькнула, там рогатая голова с налитыми кровью глазами.
И вдруг, как это бывает в беспокойных сновидениях, обернулось так отцу Петру, что не коровы гнались за ним по лесу, а попы, тысячи рогатых попов…
Сзади наступают рогатые, а впереди виднеется лесное окошечко. Бросился туда на светлянку, и – вот она, пропасть бездонная, Бабья Лужа, вся покрытая белыми цветами – кувшинками…
Все равно пропадать!
Увидал отец Петр кусок сухой сосны, сел на него верхом и, как мальчишка с высокой горы, полетел в Бабью Лужу.
1912 год.
Соленое озеро*
Прелестна киргизская поэма о Баян-Слу и Козу-Корпеч. Уже в утробе матери обрученная, Баян разыскивает своего жениха, разбрасывая в степях и Алтайских предгорьях приметы: там она уронила запястье, там ленту, там черное перо из своего головного убора. Имена гор, долин, пастбищ, ручьев и колодцев в этом пустынном краю пастухов почти все сохраняют память о замечательной любовной истории, отразившей в себе древнейший колыбельный быт человека.
Я был очарован рассказами пастухов на берегу Иртыша, и так захотелось мне ехать дальше и дальше в глубину среднеазиатских степей, читать эту великую поэму не по книгам, а по жизни самих пастухов.
Но я был тогда очень беден и не мог нанять себе кибитку…
– Вот едет вдова капитана, – сказали мне, – в маленький городок за шестьсот верст отсюда, в степных горах, там Баян-Слу оставила черное перо.
Вдова, потеряв капитана, возвращалась к своей матери, она была молодая женщина, красивая…
Я был молод.
– Возьмите меня с собой, – сказал я, сняв шляпу.
Она осмотрела меня зелеными злыми глазами и сказала:
– А выдержите?
– Что?
– У меня масса вещей.
– Я все выдержу.
Мы сели в кибитку. Два киргиза начали выносить из домика вещи и заваливать нас. Мне легла на ноги сначала корзина, потом большая желтая коробка со шляпами, на шляпу поставили клетку с живыми плимутроками, привязали тут же гитару и парадную шпагу покойного капитана. Плимутроков я должен был придерживать рукой.
Да еще раз спросила:
– Выдержите?
Я ответил:
– Не беспокойтесь, сударыня, я все выдержу.
Киргиз айдакнул, хлестнул тройку своих диких степных коньков, и мы помчались.
Знаете, как ездят в степи? Все закружилось, впереди блестит соленое озеро, назади блестит соленое озеро, впереди белеет юрточка, назади осталась белая, как птица, впереди черная мусульманская могила, и назади колеи, как две зеленые змеи, впереди и назади все одинаково, и над всем открытое чистое солнце!
– Как хорошо! – крикнул я своей спутнице.
– Придерживайте гитару, – ответила она, – очень звенит.
Я осекся, но не надолго. Какая-то огромная птица поднялась с могилы и полетела куда-то далеко, осмотрела много места кругом, ничего не нашла: ни дерева, ни камня, ни могилы, где бы ей можно было присесть, и вернулась на старое место. Восхищенный этим величавым кругом птицы хозяина, я забыл, что капитанша сердится, и спросил:
– Не знаете, какая это птица?
– Вам хочется болтать, – сказала спутница, – лучше подержите свободной рукой пальмы, а я пообедаю.
Мне прибавился еще горшок с маленькими пальмами
Но, задавленный вещами, я вначале их совершенно не чувствовал, и вот какой я был тогда человек, юный и непонятливый: конечно же, втайне меня волновала близость молодой, красивой женщины в пустынном краю, а я переводил это на птиц, на степь, на солнце и связывал все прекрасной поэмой о Баян-Слу.
Она же, наверно, все понимала.
Одной рукой я придерживал пальму, другой плимутроков и думал: «Как же я буду обедать, или она будет мне в рот класть кусочками?» Между тем она ела курицу и не обращала на меня никакого внимания. Я подумал: «Она поест, возьмет вещи и предложит мне». А она съела целую курицу, выпила вина и, как ни в чем не бывало, взяла назад пальмы.
Вещи стали невыносимо давить мои ноги, и много меньше занимала меня природа, только блестевшее впереди соленое озеро со страшными фиолетовыми краями занимало меня и было мне, как безжизненный глаз убитого богатыря, жениха Баян-Слу.
Желая проверить хорошо мне известную поэму, я попросил ямщика рассказать, если он может, по-русски.
– Карыбай и Сарыбай, – начал киргиз, – охотились в горах. Карыбай сказал Сарыбаю…
– Сарыбай сказал, – поправила капитанша.
– Карыбай, – ответил ямщик.
– Карыбай, – поддержал я киргиза.
– А я говорю, Сарыбай.
И пошел спор, невозможно было слушать рассказ: ямщик говорит – Карыбай, она – Сарыбай, он – Сарыбай, она – Карыбай. Я даже вспотел, и ужасно мне есть захотелось. Хлеб у меня где-то был еще, и оставалось крылышко курицы; с большим трудом я докопался до еды, и сколько раз она меня за это время допекала: «Да перестаньте же, наконец, возиться!» Я начинал ее ненавидеть.
– У вас есть немного соли? – спросил я, приступая к куриному крылышку.
– У меня много соли, – сказала она.
– Будьте добры…
– Да, так вот и буду я вам ворочать вещи из-за щепотки.
В это время дорога вдруг стала белая, будто снег напал, это была соль, мы подъезжали к самому соленому озеру.
– Стой! – крикнул я ямщику.
И, навалив на капитаншу корзину с плимутроками, гитару, шпагу, выдернул ноги из-под вещей и, спустив их с кибитки, выпрыгнул в степь за солью. Но это были у меня уже не ноги мои, а что-то совершенно бескостное, мягкое, как бы резиновое и нечувствительное. Я, как мешок, рухнул и лег пластом.
Я лежал на страшном фиолетовом берегу соленого озера, а надо мной хохотала женщина с зелеными глазами, злая, как лисица в капкане.
Я отвел глаза от нее и смотрел на верблюда возле домика содержателя соленого озера, и понял я в эту минуту на всю жизнь его мудрую душу, отраженную в черных блестящих глазах, все на свете понимающих как-то по-своему.
И пошли пузырьки по моим ногам, от пяток кверху, как с донышка сельтерской воды, больше, больше. Я вскочил, сел в тележку, вымял себе, без всякой церемонии, сильными своими ногами место так, что от корзины со шляпами осталась только лепешка.
Капитанша окаменела.
Вечерело, и, как часто бывает в степи, после довольно знойного дня стало холоднеть, холоднеть, и вот уже при месяце на ковыле заблестели звездочки мороза. Я достал свою шубу из убитого мной когда-то медведя, прекрасную, теплую, кажется, единственное мое достояние, и хорошо завернулся. Капитанша была в летней кофточке, и, оттого что ей теперь нужно было держать вещи в обхват, почти до локтя руки у нее на морозе были голые.
Все-таки я предложил ей взять плимутроков, гитару и шпагу. Конечно, она ничего не ответила.
«Шут с ней», – подумал я и, обогретый теплой медвежьей шубой, отдался степным мечтам.
Можно было хорошо мечтать, – ведь, правда, трудно найти где-нибудь на земле место большое, на тысячи верст, определенное для одной поэмы о пастушке, разыскивающей своего жениха, здесь было начало, и на том конце, за тысячу верст, стояла большая могила – конец. Там Баян хоронила своего жениха. С высоты этой могилы она клялась начальнику каравана, что будет женой всякого, кто осмелится броситься вниз с высоты этой могилы. Один за другим бросались юноши, и все погибали, и все было, как в «Египетских ночах». А главное, что и сейчас тут люди кочуют со стадами, живут только одни пастухи.
И вот при месяце я вижу, идет караван, узбеки в чалмах раскачиваются, – будто молятся звездам. Караван останавливается у колодца. Виднеются бронзовые профили, верблюды подгибают колени, ложатся, и звезды, такие большие низкие звезды пустыни, горят в их умных глазах.
Юная душа моя перелилась через край: я все на свете принимаю, – я все люблю, все обнимаю…
И вдруг вспомнилась эта женщина рядом со мной. Ай, какой же я маленький, – как я мог так… Я посмотрел в ее сторону, и вдруг у меня все перевернулось в душе: она сидела в своей летней кофточке, на морозе, вся почернелая, вся дрожала, и слезы блестели при месяце.
Моя душа была взрывчатая, – я вдруг переменяюсь и решаюсь. Мгновенно я вылез, вытащил руки из рукавов, быстро схватил плимутроков, пальмы, гитару, корзинку и еще, и еще, все нашвырял на свое место и, рухнув сам, все покрыл своей теплой медвежьей шубою.
Теперь маленькие когда-то пальмы выросли до потолка, а я доживаю свой век, – есть ведь такая должность на свете! – содержателем соленого озера.
1914 год.
Заворошка Отклики жизни*
Родная земля
Заворошка*
– Как вы назовете свою книгу? – спросил меня профессор иностранной литературы.
– Должно быть, «Отклики деревенской жизни».
– Какое холодное название!
– Есть теплое, да боюсь сказать: очень уж странно покажется.
Я помялся. Профессор настаивал.
– «Заворошка», – прошуршал я.
– Как! Босоножка? Повторите! Постирушка?
Я стал защищать свое слово, говорил, что в нем есть тело народное и одежда та самая, которою одета вся наша земля.
– Непонятно! – сказал профессор. – Назовите уж лучше «Недотыкомка».
Дома, полузакрыв глаза, я стал припоминать: где, от кого услыхал я это слово.
Я из Петербурга ехал по железной дороге в 1905 году. Почтовый чиновник, старый, плешивый, подсел ко мне.
– Вы из Петербурга? – спросил он. – Ну, как? Одолеют или задавят их?
Он очень волновался. Я спросил, почему он так волнуется.
– Да как же, батюшка: начальство посылает в Рязань, а они ездить не велят, кого слушаться?
– Вы бы по совести…
Чиновник так и подпрыгнул на месте.
– Вы, должно быть, холостой, вы вольная птица, а у меня семья; у вас – так или так, у вас две совести, а у меня три.
Он посмотрел на часы.
– Без пяти двенадцать. Сказано: ровно в двенадцать часов начинается.
– Что? – спросил я.
– Заворошка, – прошептал чиновник и посмотрел на меня, как испуганная старуха.
Тут поезд остановился, чиновник вышел, и больше я его не встречал.
* * *
Ночь была. Мужики собрались на полустанке.
– Мы что знаем? – говорил один. – Мы, как скотина, что прасолы гонят. Обняла ночь, загнали прасолы скот в лощину: стена с одной стороны, стена с другой, стена с третьей, а на четвертой стороне, позади, сидят прасолы, костер развели, чтобы ночь перебыть. Скотина разве понимает, зачем ее в лощину загнали. Как скотина, так и мы.
– Что я видел? Что я знаю? – сказал другой мужик. И, загибая пальцы, перечислил все знакомые ему окрестные деревни и села.
– А вот бывалый человек, – сказал третий, – тот все знает, все видел. Намедни идет по морозцу человек без сапог, ноги в тряпочки завернуты, волосы длинные, и лицо вроде как бы священское. Пустили мы его в избу, обогрелся, запел, дали выпить – забалакал. Ученый оказался человек и бывалый. Был среди земного моря и на Тихом океане был и от самой китайской границы всю землю зайцем прошел. На прощанье диакон слово сказал, простился честь честью, завернул ноги в тряпочки и дальше пошел. И что ж вы думаете: сбылось слово, день в день, число в число.
– Какое же слово диакон сказал?
– Он сказал нам вот какое слово: «Будет у вас заворошка».
– Ну, вот видишь, – сказал первый мужик, – человек бывалый, человек ученый, свет обошел и все знает. А мы что? Мы, как скотина в лощине: с одной стороны – стена, с другой стороны – стена, с третьей стороны – стена, а на четвертой сидят прасолы.
Манифест 17 октября в деревне*
По внешнему виду родной город выглядел так же, как и раньше: та же площадь, куда по субботам съезжаются на базар мужики; те же ряды лавок, у которых вечно стоят черные «длиннополые» купцы, пронизывающие своим особенным провинциальным внутренним взглядом всякое новое лицо.
Знакомство с новой жизнью города началось лишь мало-помалу.
– Ну, как?
– Слава богу, у нас покойно. К нам даже из Москвы господа приезжают, а из уезда так каждый день помещики перебираются. Известное дело, боятся.
Мало-помалу знакомлюсь дальше: в городе митинги; есть социал-демократическая партия; чуть избежали еврейского погрома; гимназисты подали прокурору петицию об автономии гимназии, о выборе самими учениками учителей. Но самое любопытное, это – «зимние дачи». Помещики отправляют свои семьи для безопасности в город; нанимаются маленькие квартиры, перевозятся и складываются вещи.
– Федор Петрович, и вы здесь?
– Здесь, здесь, только не по своей воле; домашние обманом заманили сюда, да и арестовали, вещи перевезли. Живем в двух комнатках. Зайдите, у нас барышни, рояль перевезли.
В передней масса всевозможных вещей. Развязывают огромную корзину. Ввинчивают ножки рояля, а маленькая девочка уже играет «Чижика».
– Не капризничай, Маша, мужики придут.
– Мама, а что, забастовка кончилась?
– Кончилась, кончилась.
Мальчики играют в мужиков и помещиков. По сигналу: «мужики идут» – помещики схватывают свои вещи и несут в другую комнату. Немножко жаль старика Петровича – он с незапамятных времен сросся с землей. Но, в общем, на зимних дачах оживленно.
Еду в деревню. И тут с виду все по-старому, только в саду пасется стадо крестьянских коров да в лесу идет «подчистка» целым обществом. Дома бесконечные разговоры на тему: мужики идут!
Когда-то привозил столько новостей в деревню. Теперь не то. Теперь я здесь – отсталый человек. Мои петербургские впечатления тонут в море фактов, поднятых местной жизнью. Много сделала и пресса: благодаря ей рассказывать нечего.
Спрашиваю:
– Манифест читали?
– У нас еще не читали. Староста сказывал, в прочих местах о земле читали, что от помещиков отбирать будут. У нас пока нет.
На другой день и у нас читают манифест, то есть спустя уже более месяца после его выхода.
– Нельзя же, значит, предписания такого не было.
Священник выходит на амвон с большим листом; нагольные душистые полушубки теснятся ближе к нему и замирают. Тихо. Всякий боится недослышать царское слово о земле. С утра до ночи только и толков, что земля отходит. Старики рассказывают, что как раз так было, когда волю объявили. Тоже так поговорили, поговорили, а потом и воля вышла. Другой так уверился в нарезку земли, что думает: хорошо бы и другую лошадку к весне прикупить, на одной не управишься. И все слушают, стараясь не проронить ни одного слова: кто сосредоточился на почернелой иконе божией матери, а кто просто уставился вверх. Тончайший тенор пастыря выводит:
– «Мы, самодержец… и прочее, и прочее, и прочее. Признав за благо…»
«Ага, это об замирении», – думают мужики, дожидаясь возвещения «нарезки земли».
И опять тонкий тенор:
– «Мы, самодержец… и прочее, и прочее, и прочее».
Долетают: «неприкосновенной личности, гражданской свободы, дан сей…» О земле ничего не сказано.
И снова тенор выводит:
– «И прочее, и прочее, и прочее». Читается третий манифест о выкупных платежах. И тут о нарезке ничего.
Православные расходятся в недоумении. Кругом говорят о нарезке, а в манифесте ничего не сказано. Да быть того не может, это поп замалчивает.
– Слышал, как он об смуте-то неявственно читал. Известное дело, замалчивает.
– Фекла, – спрашиваю знакомую бабу, – слышала, что в церкви читали?
– Как же, слышала, батюшка, слышала, явственно читал.
– Ну говори, что поняла.
– Все поняла. Читали: царь польский, князь русский… и еще… Да, да, вспомнила: литовский царь. А потом еще сказал: все-ми-лос-ти-вей-ше. А под конец совсем явственно: протчая, протчия и протчие.
Как я укреплял тещу Никифора*
1. Молодая пустыня
Никифор – жидкий мужичонко со светлой бородкой. В рубашке, я знаю, он – худой-прехудой и похож немного на Мефистофеля; теперь же, в нагольном полушубке, выглядит ощипанным козлом с остатками бороды. В глаза такой мужик смотреть долго не может: что-то прималчивает, к чему-то прислушивается.
– Ну, и дорога! – говорю я.
– Никуды, – соглашается он.
До сих пор весна и осень превращают наши дороги в топь невылазную. То грязь, то раскиселевшие сугробы. Когда грязь – мажешь ее широкими полозьями, когда сугроб – месишь месиво. Заехали в лог, полнущий воды.
– Ноги вверх! – советует Никифор, а сам лезет прямо в топь в своих чудесных «амбурских» сапогах.
То лошадь провалится, то мужик. Боимся, как бы лошадь ногу не сломала.
– Дорога, нечего сказать!
– Дюже, дюже неспособно. Удивительно голо кругом. Вехи и те повалились. Boт она молодая пустыня!
Выбрались из лога на пригорок, вмазались в грязь.
– Неспособно. Лошадь угрелась. Не сгонишь.
Вся эта равнина, как траншеями, прорыта длинными балками. Со склонов бегут в них ручьи, совсем невинные и славные на первый взгляд. Бежит такой ручеек и вдруг скроется в черной рыхлой земле; но, невидимый, слышен: будто где-то на скотном дворе молоко цедят. Так овраг начинается. Все склоны изрезаны красными оврагами.
Идешь иногда весной по зеленому склону, и радуешься, и думаешь: для чего непременно деревья, – наши крестьяне любят простор и зеленую даль? И вдруг земля раскрывается под ногами, не зеленое, а красное в глубине, и дрянь какая-то сочится на дне. Будто болячки в анатомических атласах. Бывает, сойдутся так к одному месту четыре-пять таких оврагов, и вот, если спуститься вниз, в нашей равнине – горы, глиняная Швейцария. Бывает, тут сохранится еще узенький гребешок – прежняя дорога, по этому гребешку, расскажут, лет пять уже не ездят и даже мертвеца боятся носить, ходят только к обедне.
– А давно ли, – разведут руками, – была тут славная и близкая дорога!
Поставить бы плетенку на пути первых ручьев, и ничего бы не было.
– Почему вы этого не сделали? – спросишь в одной деревне.
– Да ведь это тем нужно было сделать, – покажут рукой на другую деревню.
А те покажут сюда и скажут:
– Энтим нужно было позаботиться. – Или просто: – Так, не заведено отцами.
В этой молодой пустыне люди еще не жили сознательно, а сколько испорчено на веки веков! Сколько на этой прекрасной, черной земле всяких ссадин и болячек. Сколько тут чья-то рука неуклюжим долотом долбила и бросала, долбила и бросала. Если такая мать, то какие же должны быть дети?
И бог послал нам поглядеть на детей. На пути – избушка караульщика помещичьего хутора. Лошадь измучилась, качается.
– Заедем?
– Прикоротимся.
Старика дома нет, только жена его и дочь, с глазами смелыми, но голыми, без стыдливости. Старуха мелом отмечает семнадцатый утренник. Молодая люльку качает, спрашивает нас, – будет ли война? Она – солдатка.
– Нет, – успокаиваю я, – войны не будет, солдат вернется.
– А хоть бы и не вернулся! – смеется женщина.
– Вот что! – удивляюсь я и подзываю к себе девочку посмотреть, отчего у нее такой неестественный румянец на щеках.
– Краской накрасила! – говорит она и глядит так же смело, как и мать.
– Как же без отца-то, – спрашиваю я мать, – если он не вернется?
– Это не его, – смеются бабы, – это – еще девичья.
– А вот эта?
– Эта – его, солдатская.
– А в люльке?
– Эта – после. А вот война будет, так и вдовьи пойдут. Все хохочут: старуха, молодая, девочки, Никифор. Семья какая-то голая, будто овраг.
– Смелые! – говорю я Никифору, выходя из избы.
– Артельные! – ответил он, – На артели сделана, в артели росла: тот дерганет, тот щупанет, – баба молодая. Вот и рожает. А дети у ней частые.
– Как же они будут жить без отца, если тот не захочет вернуться?
– Не вернется. Отписал уж им. Плохо: от земли отвыкли, землю им не пересилить. Охоты не хватает на землю.
– Куда же денутся дети?
– Да так… Как Сережкины: подросли и кто куды. Так и тут: одни будут рожаться, другие подходить, третьи отходить…
– Без конца!
– Так и пойдет чередом. Откормит грудью, завихрится и опять рожать, и опять кормить, а те подрастать и отходить, подходить и отходить.
2. Никифор и его теща
Об оврагах, чересполосице, скудости жизни уже столько говорено, что нового сказать невозможно. Все это на месте так приелось, пригляделось, что в другое время так-таки ничего бы и не заметил. Но теперь совсем другие времена. Пусть это все выглядит как есть, тем приятнее знать, что взялись же за ум: есть новый закон.
– Никифор, – спрашиваю, – знаешь ли ты что-нибудь про новый закон?
– Ей-богу, не знаю, у нас теперь все тихо и смирно, безобразней нету, ничего не знаю.
– Не то… Я про новый закон о земле, про укрепление наделов.
Долго молчит Никифор и наконец таинственно шепчет:
– Есть слух, а говорить нельзя.
– Какой слух? Говори!
– Есть слух: бабий закон вышел. Сказывают: баб уключатъ можно. Ежели есть в деревне вдова, солдатка и всякая такая порожняя женщина, а у этой бабы есть вдовий надел, так уключить можно.
– Уключить?
– Вдовий надел уключить. И вдова, сказывают, будет, как мужик, землею владеть, хозяйствовать и продавать. И ежели есть такой закон, я тещу укреплю, потому что она – порожняя, вдова.
– Тещу! Да разве она жива?!
…Я вижу опять перед собой эту умирающую женщину. Я тогда зашел в сени к Никифору укрыться от дождя. Он позвал меня в избу. Там, как только мы вошли, как мыши, прыснули ребята на печку; остались внизу только жена Никифора да древняя старуха на лавке.
– У меня, – рекомендовал Никифор свою семью, – баба – что пенек, ребятишки – что жуки.
– А это мать? – спрашиваю я про старуху.
– Нет, – отвечает, – теща, помирает.
Старуха повернулась к нам черным лицом, глаза у нее тусклые, как студень, но все-таки ясно видна искра сознания, даже любопытства и вкуса к последним отзвукам жизни.
Никифор прямо говорит ей в глаза:
– Распростал бы господь. Поскорей бы прибрал.
– Развязал бы нас с ней! – повторяет жена.
А старуха все глядит и глядит. Принято думать, что такие старухи крестьянки не хотят жить. На самом же деле они-то и хотят жить, а просят смерти, лишь соблюдая приличие.
Старуха глядит и глядит на нас. Я говорю Никифору:
– Человек еще не умер, а ты так…
– Да она же не работает, – удивляется мне Никифор.
– Только руки вяжет! – вторит жена.
Я заступаюсь за умирающую старуху, удрученный идиллией «святого земледельческого труда».
– Мальчики, – указываю на печь, – тоже не работают.
– Мальчики – другой разговор, – от тех мы ждем перемены.
– Ну, девочки, те уже вовсе бесполезны, замуж уйдут. Никифор подумал и говорит:
– Да и наши же матери были девочками! Так он сам разбил свое трудовое оправдание желать смерти старухи, но все-таки не унимается:
– Да поглядите, что в ней, высохла вся, краше с погоста ходят.
Запах от старухи ужасный.
– Вы, – говорю, – вымыли бы.
– Мыть, – отвечают супруги, – нельзя. Всю зиму не мыли. Отмочишь – завоняет и не продохнешь.
– Да она же, может быть, поправится!
– Избави бог!
…Так я познакомился тогда с тещей Никифора; думал, она давно уже умерла, и вот теперь опять слышу о ней в связи с новым законом.
– Неужели жива?
– Слава тебе, господи, – весело говорит Никифор, – жива, поправляется.
Ушам не верю: то избави бог, а то слава тебе, господи! А Никифор, как ни в чем не бывало, рассуждает:
– Вот разузнаю только, ежели есть вдовьи наделы – уключу.
«Теща – из другой деревни, – соображаю я, – она – вдова, детей у нее нет, а земли целых три десятины. По прежним порядкам земля после смерти старухи перешла бы к обществу, теперь же ее можно укрепить, „уключить“, и она перейдет к Никифору. Земля у нас – двести рублей за десятину; он продаст землю и получит шестьсот рублей».
– Да, – продолжает мечтать наследник тещи, – ежели вправду есть вдовьи наделы, ежели вправду можно порожних женщин уключить, то, как только маленько дорога пообвянет, запрягу я телегу и свезу ее к земскому, уключу, а там уж и бог с ней, помирай.
– А как раньше помрет? – беспокоюсь я за судьбу Никифора.
– Зачем… Без времени бог не возьмет. Поправляется. Стало быть, она тут нужна.
Я тут же решил помочь Никифору и укрепить его тещу.
3. У тетушки
Вскоре по моем приезде в деревню у тетушки вышел обычный спор с сельским батюшкой о значении Петра Великого.
– Вчера, – начала она, – я читала на ночь «Арапа Петра Великого» Пушкина. Какой все-таки колосс был Петр!
– Писатель Пушкин заблуждается, – принял вызов батюшка, – в настоящее время его уже таковым не считают.
– Вы поднимаете трудные, неразрешимые вопросы, – сказал я, боясь длинного и горячего спора.
– Весьма важные вопросы! – согласился батюшка.
– Очень серьезные вопросы! – согласилась и тетушка, сдерживая гнев.
Оба смолкли, довольные, что они и тут, в глуши, могут поднять серьезные вопросы.
Вот тут-то я и поставил между столь несхожими людьми темой обсуждения новый закон. Я рассказал им случай с тещей Никифора: как новый закон буквально спас старуху от смерти; раньше просили бога, чтобы она умерла, теперь просят, чтобы она жила. Такое чудесное свойство закона! Я сказал также, что решил принять в судьбе Никифора участие: я укреплю его тещу и тем даже сделаю маленькое государственное дело.
– Государство заблуждается! – строго перебил меня батюшка.
– Я тоже против, – сказала и тетушка, – куда безземельный денется? Приезжает раз вот так ко мне один землеустроитель советоваться. Я его спрашиваю: «Куда же безземельный денется?»
– «Кто это, – говорит он, – безземельный? Это – неспособный, лентяй, к черту его!»
Тетушка не успела кончить речь: вошла Фекла с живыми пескарями. Я подумал было, зная характер барыни, что она пошлет кухарку туда же, куда послал землеустроитель безземельного. Но нет, она внимательно разглядела и сказала: «Жарить». И продолжала:
– «К черту!» – говорит. Разве так можно? Вот сейчас в гостиную Фекла с пескарями вошла, а я бы, не разобравши дело: к черту!
– Одно слово, – сказал батюшка, – государство заблуждается. Этот закон против пятой заповеди. Вот случай в моем приходе: у одного старика был сын, у сына – мальчик. Этот мальчик услыхал откуда-то про новый закон и расскажи старику. Тот поднялся с печи, укрепил землю и говорит сыну: уходи от меня куда знаешь, на мой век хватит. Сын ушел, купил себе чрез землеустроительную комиссию участок земли и стал жить отдельно. А старик за это время деньги пропил и приходит к сыну с поклоном. «Нет, – сказал сын, – идите, батюшка, куда знаете». Вот вам и пятая заповедь!
Рассказали еще много таких случаев. Подъехал еще собеседник: старшина.
– Это как когда, – сказал он. – Ежели хорошие отцы, так и очень хороший закон: бояться начинают, слушаться, почитать родителей. И как хорошо теперь дочек замуж устраивать, можно приданое давать.
Но батюшка опять рассказал про какого-то несчастного короля Лира, который роздал в приданое дочерям землю, а они его выгнали.
– Таких Лиров множество! – подхватила тетушка.
Старшина не спорил. Все согласились на формуле: «Для хороших отцов – хорошо, для плохих – плохо; при хороших детях – хорошо, при плохих – плохо». Но решить, куда безземельный денется, не могли.
– Это, вероятно, производит большой переворот в народном быту? – спросил я.
– Большие переверты, – согласился старшина, – но только не извольте беспокоиться: это у нас за обыкновение. Что поднялось тогда, а ведь остановили же… Теперь, слава богу, и порядочным людям жить можно. Не извольте беспокоиться, весь закон проходит под великим страхом. Теперь крышка-с. Все за приглушиной.
– Золото все пропало, – вздохнул батюшка, – распространение России остановилось.
4. Волшебная избушка
После таких предварительных расспросов я решил наконец отправиться пешком в далекую деревню Никифоровой тещи и по пути спрашивать самих же мужиков о законе. Начал я, конечно, с того, что зашел за Никифором в его деревню.
Избушка Никифора всегда была похожа на навозную кучу, но теперь через соломенную крышу закуты высунула голову лошадь, и жилище похоже на волшебную избушку с лошадиной головой.
Старшая девочка подросла, плетет кружева, постукивает звонкими кленовыми «коклюшками». Цыпленок мирно дремлет у нее на голове. Ребятишки, «жуки», по-прежнему на полатях, баба в новом сарафане, теща, вымытая, приодетая, хорошая старуха, сидит на лавке.
– Поправляешься, бабушка?
– Поправляется, поправляется, – говорят супруги, – молится, чтобы господь веку прибавил, вот и поправляется.
– Вымыли?
– Вымыли. И духу-то, духу-то что было, не приведи господи! Теперь весь.
«И все это сделал новый закон!» – хочу я обрадоваться. Но Никифор тянет меня за рукав в сторону и шепчет:
– Помолчите…
– Что такое? – спрашиваю я, выходя с ним на улицу.
– Разнюхала, – говорит он, – про закон, ужимается, чуть что – я, говорит, уйду.
– Да разве она может ходить?
– Вона! Рысью! Я, говорит, уйду от вас, ежели вы меня не будете слушаться, поднимусь и уйду.
– Надо слушаться.
– Да теща-то какая. Когда бы она с пониманием, а то чуть что – я, говорит, уйду. И очень просто, что уйдет: манят. А ведь как плоха-то была, все суставы были видны, поди вот! Вот только бы допытаться бы нам новый закон. Может, и уйти-то нельзя.
– Барин, – догоняли нас какие-то мужики, – сделайте милость, скажите, где ходатайствовать об «уключении земли».
Рассказывает подробно, как «моряк»[46] Афонька в кабаке пропил ему надел за две бутылки.
– За две бутылки?! – изумляюсь я. – Да куда же он сам-то денется?
– Вот и он меня спрашивает: «Куды же я-то денусь?» А я ему говорю: «Дурак, да ты же – моряк, на что тебе, а глядь ты издохнешь». Ну, он и пропил. Барин, нельзя ли меня уключить?..
Я ему это советую. Он благодарит. И последнее, что я вижу, уходя из деревни в поле, мужика с шапкой, волшебную избушку с лошадиной головой. И последнее, что я слышу: «Барин, сделай милость, уключи».
5. Легенда об ораторах
Наш путь по берегу реки. Навстречу нам идет длинный худой мужик с такою же длинной и худой собакой. Шел, шел и вдруг как провалился. Посмотрели, а он уж внизу достает какую-то дрянь из воды…
– Гляжу, – рассказывает он нам, – верша плывет. Хотел поглядеть: не с рыбой ли? Нет, пустая и дырявая.
– Ну и худа же твоя собака!
– Собака-то… Да я сам худее собаки. А вот вы как дюже жирны, так у вас и собаки жирные. Ваши собаки, сказывают, десять мужиков стоят…
– Ну, когда это было?.. Расскажи лучше про новый закон.
– Да, скажите на милость, закон, что это такое? Я рассказываю о законе. Говорю: кто посильнее, скупит наделы и будет хозяйствовать хорошо, клевер сеять и все…
– А те куды же денутся?..
– Те… переселятся.
– А-а-а! Вот! Ну, так и мы думали, что переселятся.
И заливается смехом. Он даже мой серьезный ответ «переселятся» принимает за иронию, становится откровенным, шепотом спрашивает, не из ораторов ли я…
Есть какие-то ораторы, узнаю я новую народную легенду. Пришли наконец настоящие головы к народу и говорят: наступает третье освобождение. Первое освобождение было от кнута, второе освобождение от красной шапки и третье будет освобождение земли.
– Есть хорошие головы на Руси, – говорит мужик, – да ноги-то плохие…
– Чьи ноги… Ораторов?..
– Зачем, ораторы – те хорошие, мы плохие, ноги плохие, не поддержали, кого повыдали, господа опять одолели. А закон-то мы знаем зачем: хотят крестьянское общество стравить, а потом всех по одному и переловить.
6. Красный глаз
Мы остановились под деревом закурить, и вдруг кто-то кашлянул и крякнул за кустами. Посмотрели, а там на камне сидит мужик в белой рубашке, серьезный, строгий, похожий скорее на фабричного, чем на мужика. В руке у него красный кисет; насыпает «цигарку». Лошадь усталая, прямо в оглоблях повалилась на пашню, щекой легла в теплую рыхлую борозду; глаз ее, кровяной шарик, горит на солнце.
– Все еще сохами пашете? – завожу я речь.
– А то плугом… Пара тут! – машет он рукой. И сам начинает речь о новом законе. – Хорош закон, мочи нет хорош. Мы плохи, а закон хорош.
«Наконец-то, – радуюсь я, – встречаю довольного человека». И так это непривычно слышать у нас, где без разбору бранят все, что исходит от господ.
– Чем же он хорош?
– Всем хорош. Первое, что земля божья. Это дюже хорошо.
– Как! Земские начальники теперь говорят: земля божья!
– За-ачем земские? Ораторы!.. Вот и мы так думаем. «Грех, – говорим барыне, – за землю такие деньги брать». – «Это, – кричит, – не ваше дело, я перед богом отвечаю». Поди вот! А коли чуть коснется – грех да грех. Да что, господа, похоже старый-то бог на печке помирает, лежит, да и стонет: «Ох вы, озорники, ох вы, озорники». Шабаш! Теперь народ проглянул, новый закон.
– Куда проглянул-то? Все зажато..
– Ужатие великое, но рано ли, поздно ли, придет час: лопнет. Ну, поднимайся! – кричит он лошади.
Лошадь медленно поднимает голову, оглядывается и опять кладет ее в черную борозду, и опять горит на солнце красный кровяной глаз.
7. Марево
– Полодни бегут! – говорит мой спутник, указывая рукой на колеблющиеся струйки прозрачного пара у земли. Так называют у нас весеннее марево. Земля дышит теплым дыханием, и все в нем колышется, все опрокидывается. Перед нами – целое море воды, и по нему ходят большие черные птицы.
– Грачи?
– Нет… Мужики жеребьями попутались, делятся.
Целая деревня высыпала на поле. Старый дед сидит на камне; возле него еще два-три человека, курят трубки. А те, которые делятся, все повторяют: моть, моть. Когда я вижу много крестьян у земли, то всегда думаю: есть в земле что-то унижающее человека: чем ближе к ней, тем более ссоры и заботы. Все это так ясно видно простым глазом: пока будут эти мелкие полоски, всегда будут драки и ссора. Нужно непременно оторваться от земли, чтобы возвыситься до настоящего общинного духа.
Делюсь своими размышлениями с дедом.
– Верно! – согласился он, не понимая меня. – Нужно, чтобы земля была вся вообще, чтобы всем одинаково, потому она не человеческая, а божья, она – мать всем: и царям, и королям. По-настоящему нужно бы акциз на землю.
– Акциз, акциз! – подхватывают другие. Другие мужики услышали «акциз» и тоже идут к нам, и все галдят:
– Верно, первое средство – акциз.
– Какой акциз? Что такое? Обыкновенный? Как на водку?
– К-а-а-к на водку!
– Не понимаю: ведь мы и теперь же платим налоги.
– Теперь неравный акциз: мы – чижолый, господа – легкий, а нужно всем равный.
– Погоди! – перебивает дед. – Примерно: ты – доктор, я – мужик. Ты приходишь в контору и говоришь: «Милостивые государи, я не могу землю пересилить, я имею свое рукомесло, я – доктор, хочу лечить». А на тот случай я в конторе, и у меня земли не хватает. «Милостивейшие государи, – говорю я, – с превеличающим удовольствием готов платить акциз, и землю пахать, и доктора кормить, а он за то пусть моих деток лечит на здоровье».
– Верно; что верно, то верно, – соглашаются другие мужики. – Акциз – самое справедливое. Достоинство, наука, – бог с ней, а земля – наша мать.
– Мать?
– Как же земля-то?
«Акциз, – думаю я, – откуда это у них? Если бы это в прежние времена. Теперь не верится в их самостоятельное идейное творчество».
– Нет, – говорю, – это у вас не свое, это – ораторы.
– Ораторы! – подхватывают мужики. – Они – наши головы. Вот ноги-то плохи. Нет того, чтобы всем за одно взяться…
– Придет время – возьмутся!
– Придет. Первое дело, чтобы пришел настоящий оратор, самый первый, самый верный. В каждом человеке есть ангел и дьявол, а у того, чтобы один только ангел был, – вот какой оратор!
– Как Моисей?
– Ка-ак Моисей!
– И очень просто придет Моисей, – говорит старик.
– Казни были. Не понять только, где мы.
– Какая казнь?
– Первая была лягухами, все поле покрыло. Он и съершился.
– Кто?
– Фараон. «Я, – кричит, – не буду!»
– Ишь ты! Ну и полекшело?
– Утихло. А он отдохнул и опять за свое.
– Поди ты! Не унимается?
– Нет. Тут ему вторая казнь, не запомню чем, червями ли, прочим ли гадом. Он и опять сробел. «Не буду, – говорит, – я больше обижать». И так до десяти раз.
– До десяти!
– И, наконец, явился Моисей, человек чистый, без дьявола, с одним ангелом. «Я, братцы, вас выведу». Ну, известное дело, вывел.
– Так-то, братец ты мой, Моисей – такой человек.
– Ожидаете?
– Ожидаем. Рано ли, поздно ли – будет земля наша. Сейчас-то она лежит, ждет время, а дай…
Моисей, акциз, земля обетованная, Генри Джордж и ораторы…
А там впереди дрожит весеннее марево, как неясные мужицкие мысли… Дрожит лес, одинокие дубы, деревня, прошлогоднее жнивье, и пашня, и сама земля.
Может быть, это все вздор. Но, может быть, это так и должно быть, потому что слишком близко к земле. Может быть, если заглянуть в душу и самого просвещенного и разумного человека, на самом дне ее – такое же марево?
8. Укрепление тещи
Невесело встретила нас деревня, когда узнала, зачем мы пришли. Посыпались жалобы на новый закон, и больше всего упреки:
– Зачем мертвым душам жизнь дают и живых мертвыми съедают.
– Какие мертвые души? – изумился я, как гоголевская Коробочка.
Оказалось, что это – те души, которые при переделе должны бы отойти ко всему обществу, а теперь, укрепленные за одним лицом, продавались и уходили от общества.
– Почему же вы не переделились поскорее? – спросил я.
– Хотели, – ответили мужики, – и подали бумагу земскому. А он тогда еще не научился закон понимать и отказал, говорит: мало вас. А нас было много, но только он на затылок бумаги (на другую сторону) не поглядел.
Я стал убеждать мужиков в пользе закона, говорил о самостоятельном хозяйстве, о посеве клевера и прочем. Но мужики мне ответили:
– Нигде нет людей, которые бы укрепляли землю для хозяйства. Укрепляют только мертвые души. От этого выходит «стровка» и «попута». Дошло до того, что чужие зятья теперь стали землю отбирать.
Все поглядели на Никифора. Я за него заступился, послал за старостой и просил записать его заявление о желании укрепить тещину землю. Но тут влетела злая и крикливая баба Голендуха и стала доказывать, что земля не тещина, а ее. Обнаружилось то, что «прималчивал» Никифор: теща продала поместье Голендухе за восемнадцать рублей, а та поставила обществу ведро, и оно выдало ей бумагу на владение всею землей.
Никифор стал было доказывать свои права тем, что теща у него жила, а не у Голендухи, что он за ней ходил, что он ее вымыл и берется допоить, докормить и похоронить. После этих слов Голендуха вцепилась в жидкую бороду Никифора, а общество принялось хохотать.
Еще слава богу, что удалось нам уйти поживу и поздорову.
– Какую силу имеет водка в деревне! – сказал я Никифору на обратном пути.
– Первое дело – водка! – согласился он. – Кто поставит больше, тот и прав.
– Значит, мир несправедлив?
– Когда как, – ответил он. – Ежели справедливая сторона больше водки поставит, то будет справедливо; ежели несправедливая – несправедливо. Но еще сильнее водки, – объяснил мне дальше Никифор, – сильнее водки – шапка. Шапку снял, и закон пошел. Что пустое болтать: господа всегда сильнее. Снял шапку – и концы размотал.
– Но если кто-нибудь не захочет шапки снять? – спросил я.
– Так то дурак, – ответил Никифор.
Этим он хотел ободрить меня для борьбы с сельским обществом за права тещи. Но жизнь разрушила наши планы.
Через несколько дней захожу я в хижину Никифора и узнаю, что теща ушла.
– Как!
– Поднялась и пошла: дальше, дальше, палкой постукивает, идет – и ушла.
– Как же быть-то?
– Бог с ней! – махнул рукой Никифор. – С ней все равно каши не сваришь, теща какая-то разнобитная.
Грустно проводила меня лошадиная голова волшебной избушки, и вспомнил я сказку о рыбаке и рыбке и о разбитом корыте.
Как быть с мужиками?*
1. «Те – мужики» и «энти – мужики»
В Троицу с тетушкой случилась неприятная история. Шла она к обедне через свой сад и видит: в густой траве под ощипанной яблоней лежат три мужика. Возле них – большие букеты из яблоневых цветов. Тетушка прошла нарочно поближе, чтобы они «посовестились» и ушли без брани: нехорошо кричать возле церкви во время обедни.
Мужики не обратили ни малейшего внимания на тетушку, продолжали лежать и болтать ногами.
– Вы чего же лежите в моем саду? – спросила барыня «обыкновенным голосом», то есть сдерживая гнев.
В ответ на это два мужика, взяв цветы, ушли, а третий, продолжая болтать ногами, сказал:
– Как у меня своего сада нет, так очень любопытно в вашем полежать и ваши цветочки понюхать.
Тетушка опять промолчала, но неосвобожденный гнев не дал ей молиться. А после обедни другая беда: староста доложил, что лошадей загнали.
– Тех? – равнодушно спросила тетушка.
– Нет, энтих, – испуганно прошептал староста.
– Каких энтих?! – закричала барыня.
И вот тут-то она в изнеможении упала в свое старинное кресло и серьезно просила меня обсудить вопрос: «Как быть с мужиками».
Я следил за тонкой политикой тетушки еще с самого дня моего приезда. Помню: барыня сидит за своим утренним чаем, кипятит неизменный горшочек со сливками, и вдруг входит Фекла и говорит:
– Мужики пришли.
– Энти? – в страхе прошептала тетушка.
– Нет, те, – ответила кухарка.
– Ну, слава богу! – обрадовалась барыня. – Пусть войдут.
Пахучими тулупами наполнился коридор старого барского дома, волосами, как сухое сено, головами, похожими на нераспустившиеся кусты шиповника.
– Что вы пришли? – спрашивает барыня, будто ничего не зная.
– К вашей милости, пожалейте нас!
– Мне нечего вас жалеть, вы меня пожалейте! – закипает гневом барыня и срывается со своего места.
Она перечисляет все вины, все проступки мужиков, накопившиеся за прошлое лето.
– Это не мы, – защищаются «те мужики», – это все энти, они – разбойники, а мы…
– Энти! – сердится барыня. – А чьих загоняли?
– Мы прикоротим!
– Мы при-ко-ро-тим! А кто в сад лошадей гонял? Чьи копыта виднелись на грядке, на клумбе, в парнике?
– Энтих.
– Я вам дам энтих! Ваши копыта!
– Ей-богу, не наши.
– Ваши, ваши, ваши! А кто повыдергал прививки из школы? Чьи бабы выщипали траву в саду? Кто укатил бочку из сада и тыквы? Кто утку украл и пришлось утиные яйца раскладывать в галчиные гнезда? Все вы, вы, вы! Это – какой-то ад, а не хозяйство. Нет вам земли, сама буду хозяйствовать или сдам энтим.
Мужики молчат. Они в самодельных «дипломатах» и лаптях, – признак бедности. Они знают, что «энтим», богатым мужикам, барыня не сдаст по простому расчету: у бедных по одной лошади, у богатых по три, по четыре, значит, и потравы больше, да богатые и нахальнее, и нельзя их держать в руках.
Они знают и еще, что тетушка побаивается мужиков. Убедиться в этом они могли во время забастовки. Тогда она прямо отдала землю в аренду по недорогой цене. Потом, когда забастовка прошла, она могла бы вернуть землю, вызывая время от времени стражников, но не посмела. «Что, если, – говорила она, – у меня на дворе мужика убьют?»
Как только мужики стали арендаторами земли, то сейчас же и полезли их лошади и скот в тетушкин сад, в огород, в лес… Как тут быть? Раз пришли тайные гонцы от «тех мужиков», бедных, бесхозяйственных, с доносом: не они травят, а богатые мужики, у которых по три, по четыре и по пяти лошадей. Пусть сдаст барыня землю им, беднякам, за это они будут охранять ее сад и все, и «энти мужики» везде землю снимут; тут они и держатся только из-за того, чтобы кормить лошадей да воровать лес.
Тетушка обрадовалась. Сдала все свои сто десятин тем мужикам и взяла клятвенное обещание следить за «энтими».
Только что сдала, пришли «энти мужики». Тут произошла такая сцена. Тетушка до того взволновалась, когда ей доложили о приходе мужиков, что спряталась за гардинами и, глядя оттуда на двор в щелочку, повторяла: «Они, они, такие рожи!»
А богачи, в черных поддевках, в сапогах дудками, стояли у балкона и шумели, нахальные и злые. Это – мужики, которые теперь для бедных куда авторитетнее барина.
Тетушка пожелала сделать свой выход к мужикам случайным.
– Я, – сказала она, – буду будто что-то делать, а ты подойди к балкону и крикни: «Тетушка, мужики пришли!»
Я вышел на балкон, посмотрел на «рожи», на сапоги бутылками и крикнул:
– Тетушка, мужики пришли!
– Скажи, я занята! – донесся глухой голос. Но сейчас же показалась в дверях седая голова.
– Что вам?
– Землицы.
– Земля сдана!
До вечера был спор у балкона, а ночью у тетушки сгорело гумно.
. . . . . . . . . . . . . . .
Вот история отношений тетушки с мужиками. Теперь можно себе представить, как вскипела тетушка, когда, вернувшись от обедни в Троицын день, узнала, что загнали лошадей и «тех мужиков», и «энтих».
Стали допытываться, и оказались ужасные подробности: те мужики пропили тетушкины луга энтим.
– Ух! – упала тетушка в свое старое кресло и, подумав немного, сказала мне: – Давай с тобой серьезно обсудим вопрос: как быть с мужиками?
Я помню с детства, она всегда говорила: «Рано или поздно земля будет мужицкая». Теперь, вспоминая это, я говорю:
– Продать мужикам, оставить усадьбу.
– Тем или энтим?
– Тем.
– Но те не заплатят.
– Так энтим, чего на тех смотреть?
– Те меня сожгут.
Тетушка, как многие местные непосредственные люди, думает, что рано или поздно все опять лопнет и потому нужно жить в ладу с мужиками.
– Да, вот что: приходит мне мысль продать землю участками, как делает это землеустроительная комиссия; крестьяне станут частными собственниками и будут вести себя хорошо.
Тетушка не сразу схватилась за мою мысль, долго думала в кресле и наконец решила:
– Завтра же поезжай. Посмотри, как ликвидируют имения, что у них выходит, побывай в земстве, в комиссии, все разузнай, а там посмотрим: утро вечера мудренее.
Тетушка уснула прямо в кресле у окна в сад. Большие звезды спустились на ветви старых лип. Последний раз где-то прогудел бас Павла, потом Глеба, Стефана…
«Господи, благодарю тебя, – молился я когда-то маленьким мальчиком, – что ты не создал меня ни Павлом, ни Глебом, ни Стефаном».
«Какая фарисейская молитва!» – возмущался я собой, когда стал постарше.
«Господи, – молюсь я опять, – благодарю тебя, что не создал меня ни теми мужиками, ни энтими, ни Павлом, ни Глебом, ни Стефаном и ни тетушкой».
2. Моисей
В родном городе мне сказали одни добрые люди: «И не ходите в земство, теперь там все черносотенец на черносотенце, учителей хороших повешали, библиотеку закрыли, музей закрыли, – полное разрушение и тьма». Другие добрые люди говорили другое: «Земство стало теперь настоящее, трудовое, каким и должно быть всякое земство. Прежние, правда, были идейные люди, а эти хоть и недалекие, а дельцы. Да и так сказать: идеи, идеи, что ж тут хорошего? Нужно дело. Первое – ум, второе – образование. С одним образованием денег не наживешь, а с умом без образования… да сколько хочешь!»
Так говорили добрые люди. По внешнему виду я как-то не нашел перемен: та же толпа мужиков перед зданием управы, потом и дальше по лестнице, вплоть до канцелярии. И тут по-прежнему сидит за столом знакомый старичок в красной фуфайке и жует крендель, барышня пишет, другая глядит в окно и причесывается.
– Что же нового? Где тут землеустроительная комиссия?
Мне указали на большой шкап. Я не понял.
– Неужели комиссия в шкапу?
Старичок с баранкой сделал какой-то фокус пальцем, и я догадался: комиссия была за шкапом.
– Да уж не из Петербурга ли вы? – спросил меня красивый барин в форме, непременный член. И потемнел, услышав мой положительный ответ. И строго спросил, для чего мне все это нужно знать? Я изложил положение моей тетушки и ее намерение.
– А не для карьеры? – смягчился он.
Я поклялся, что нет, и вот что узнал.
Землеустроительная комиссия, это – маленький островок, окруженный волнами карьеризма. Чиновники делают карьеру на скорейшем проведении нового закона, торопят, путают. Комиссия отписывается и отписывается…
Барин очень много жаловался, но мне хотелось видеть вещи своими глазами, и я попросил показать мне, что сделала комиссия положительного. Тогда непременный член развернул план ликвидированного им имения Дубовый Дол. План этот – зеленое поле, разбитое на квадратики в виде шахматной доски; на каждом этом кусочке, – догадался я, – сидел мужик; на зеленом были пятна небесного цвета и черного; небесное, – узнал я, – колодцы с водой, черное – сухие колодцы.
Непременный член – большой оптимист и видит впереди массу хорошего. Я передал ему свои печальные наблюдения при укреплении наделов, недовольство крестьян, тревожное настроение, ожидание ими какого-то «оратора» без дьявола, с одним ангелом, чистого, как Моисей…
– Моисей! – засмеялся ликвидатор. – Вы это фантазируете, вы еще не видали настоящих крепких земле мужиков. Вот я вам сейчас представлю члена землеустроительной комиссии, умнейшего человека, преданного государству и закону. И его тоже зовут Моисей.
– Позовите Моисея Сазоныча!
Вошел крепкий земле человек в поддевке, в сапогах бутылками, загорелый, с черной бородой и глазами, похожими на две маленькие чашечки аптекарских весов, – не глядит, а взвешивает такой человек.
Непременный член сдал меня с рук на руки этому Моисею, и мы отправились с ним в трактир попить чайку и побеседовать.
– Закон, – говорил мне за чаем мудрец, – первое дело для нашего народа. Закон! Моисей дал закон народу, а сам получил от бога. Что говорить: закон свят. Да вот мужик-то наш, с позволения сказать, что топор источенный. Я им объясняю: первая польза от нового закона, что у кого есть дочь, может дочери землю оставить; вторая польза: у кого есть жена, за женой может оставить; третья польза: если с обществом не согласен и хочешь хозяйствовать по-своему, клевер сеять или томашлак, так сей. Для трех вещей, говорю им, хорош закон. Слушают, слушают, и ну галдеть: ты заодно с ними, ты от них деньги получаешь, нам бы давали денег, так и мы бы закон защищали, а куда же мы слабого человека денем, не пускать же его бобыль бобылем? А я им в ответ на это объясняю: законы издаются для мужественного человека, а не для слабосильного.
– Позвольте! – остановил я речь мужественного Моисея. – Не для того закон издается, чтобы сильный съедал слабого, напротив, Христос…
Моисей Сазоныч не дослушал моей речи, чашечки весов в его глазах вдруг заколебались, он хитро улыбнулся и спросил меня:
– Для того, чтобы сойтись двум человекам, что нужно?
– Искренность?
– Водочки выпить, – засмеялся Моисей и загнул два большие пальца: это служило указанием буфетчику дать две самые большие рюмки.
Пока буфетчик подавал, Моисей Сазоныч успел расспросить, кто я таков, чем занимаюсь. Когда он узнал, что я не чиновник, а совершенно посторонний человек, то он вдруг преобразился. Мне показалось, будто какая-то толстая шуба спала с его плеч и он страшно похудел.
– Оно, действительно, – сказал он, выпив и закусив, – ежели по-христианству…
– Вообще, – сказал я, – по-моему, закон несправедлив…
– Вообще, – обрадовался Моисей Сазоныч, – вообще и по преимуществу «не закон виноват, а начальство».
– Какое начальство? – переспросил я, думая, что он говорит, как и его Слижайший начальник, о петербургских карьеристах.
– Внутреннее начальство, – ответил он, – ни при чем, виновато внешнее, то, которое поближе к мужику. А внутреннее, которое в Петербурге, то хорошее, оно добра желает мужику. Сей, велит, люцерну, или могар, или томашлак, и будешь сыт, и скотинка сыта будет, и сам кваску попьешь. Внутреннее начальство доброе. Оно не понимает только, как я могу сеять то, чего и сам не знаю, – примерно, томашлак, – разве мы знаем, на что годятся его семена? Я должен до нитки знать, что я сею. Или говорят еще: привяжи овцу к колу. Мыслимое ли дело овцу к колу привязать! Внутреннее начальство и радо бы, а вот внешнее…
Моисей Сазоныч передал мне ряд примеров, как помещики прямо чрез банк (не чрез комиссии) продавали свою землю по двести пятьдесят рублей за десятину.
– Да ведь это чахотка! – воскликнул он. – Ведь это – садок мужику. Мыслимое ли дело мужику выплатить такие деньги и еще поправиться! Селятся только, чтобы землю захватить, а как война, так, говорят, сейчас все на три клина переделим. Только и ждут, как бы война, как бы война…
Моисей Сазоныч на этом месте вздохнул, перекрестился и сказал: «О, господи!»
Мне тоже стало как-то неловко: и я не раз слышал от крестьян это желание войны. И что-то похожее вспомнилось из настроений общества в японскую войну.
– О, господи! – продолжал Моисей свою речь. – Я другой раз всю ночь думаю, как вывести народ; думаю, думаю, – куда ни кинь – все клин. Ежели взять пример с Германии… Куда! Ежели Франция… Ну, у тех тоже ничего не выходит, как и у нас, только от других причин. Там что ни начнут, так господь их опять на прежнее место ворочает.
– Как?
– Очень просто. Вот я, к примеру, думал, думал и придумал, как народ вывести; подговариваю с собою других. Ну, сделали резолюцию и вывели. А другой тоже подговорил, сделал вторую резолюцию, и выходит все на том же месте, только слова: первая резолюция, вторая резолюция. Другой пример: бросили мы сохами пахать, ввели одноконный плуг, а в это время другой придумал двухлемешный, – он, говорит, лучше, он и пласт перевертывает, и корни выворачивает. Хорошо. Я только успел ввести одноконный, глядь, резолюция, и требуют двуконного, а там уже электрическими пашут. Не успела одна резолюция пройти, а уж и другая подходит, и третья… Значит, это столп выходит. С одной стороны, будто и столп, а с другой – круг, потому все опять к своему месту ворочается, только счет остается: первая резолюция, вторая резолюция, третья резолюция…
– Но ведь так же всегда, как же иначе, по-вашему?
– По-моему, не так: выдумал однолемешный плуг – и окоротись думать, погоди, когда другие введут… Так что Франция нам не пример. Думаю я так, думаю по ночам, как народ вывести, и полагаю, никто как бог выведет.
– На бога надейся, а сам…
– Да и сам-то я тоже божий. Господь милостивый, неужели он допустит погибнуть такому народу? Неужели он не поможет найтись такому начальству, чтобы поближе к народу стояло и не хапало.
– Вам бы в Думу надо, Моисей Сазоныч!
– В Думу… это хорошо. Надо бы с Петром Петровичем поговорить (земский начальник), он предлагает. Мужики-то зря галдят. А земский приедет и предлагает: «Я, с своей стороны, хошь Моисея Сазоныча желаю». А я тоже не плошаю, старшине суну, писарю суну, мужикам вина посулю. Ну, мужики и опять галдят: «А нам-то что, мы хотя и Моисея выберем…» Надо бы с Петром Петровичем.
Вышли мы после этого разговора на улицу, и я опять не узнал Моисея Сазоныча, – опять он пополнел, опять он будто шубу надел. И даже страшно стало: ездишь так, ездишь, смотришь, смотришь и, может быть, ничего не видишь, – одни только шубы.
На другой день, ранним утром, я выехал в имение Дубовый Дол посмотреть на хозяйство новых собственников.
Дубовый дол*
1. «Купцы»
Ранним утром еду я по «большаку», по широкой нашей, большой дороге, посмотреть, как хозяйничают мужики в старинном барском имении Дубовый Дол. Прохладно: утренник побелил зеленя, грачи по шею спрятались в рожь, только головы видны. Впереди мужики всей деревней высыпали на дорогу.
– Чегой-то мужики взгомозились? – удивляется мой кучер.
Мужики собрались в кучу, как, бывает, собирается толпа в городке при несчастном случае на улице.
– Чего вы собрались? – спрашиваю я, подъехав к ним.
– Чего мы собрались? Да вот поглядеть диковину: безлошадные приехали.
– Автомобиль! – изумляюсь я. – Настоящий автомобиль заехал в наши края!
Запыхтел, вырвался из толпы мужиков и умчался по большаку.
– Окоротитесь! – рассказывают мужики. – Они и окорачиваются. Спрашиваем: «Откуда вы, почтенные господа?» – «Издалеча, – отвечают, – из теплых стран; у вас тут мороз лежит, а у нас картошка во какая, в локоть». Где бы этим местам быть?
«Где бы этим местам быть? – повторяю я про себя. – Где эта волшебная страна? Где в мае картошка в локоть бывает? Где безлошадные люди мчатся со скоростью курьерского поезда?»
– Есть же такая земля! – говорю я мужикам.
– Мало ли земли болтущей! – хором подхватывают они. – Сказывают, в Сибири мешок картошки двугривенный стоит, говядина – три копейки фунт, свинина – две копейки, лесу руби – не вырубишь. Мало ли есть земли пустой, мы это только живем тут, как горох при дороге.
И так везде говорят о переселении. Народ стал не такой, как раньше: все что-то придумывает, все что-то загадывает. Народ – будто муравьи, вернувшиеся в раскопанный муравейник: стоит ли строить новую избу или перебраться на новые места?
Давно, испокон веку, стояла деревня у дороги, а теперь от нее остались два гнилые сарая. Деревня перебралась версты за две, к пруду, на помещичью землю. Купили и перебрались. У воды «способнее». Спрашиваешь себя: сказывается ли хоть сколько-нибудь время в этом народе; удобнее они теперь устроятся, чем раньше, или все так же, кучей, чтобы, если будет пожар, так гореть всем сразу?
Все так же. Будто это лопари или самоеды перенесли свои чумы и вежи.
Но тем любопытнее и любопытнее становится посмотреть, как устроились новые частные собственники по плану, задуманному не здесь и не мужиками.
– Где, – спрашивает кучер, – живут эти… как их у вас зовут… Ну, мужики-то, что в помещиков переделались, что господскую землю купили?
– Купцы-то – догадывается мужик. – Вам охота купцов поглядеть. Вон там, пониже дубков.
Кого ни спросишь про «купцов», все улыбаются добродушно: что-то среднее между мужиками и помещиками хочет выразить это слово, но, в сущности, значит: чудаки. Потому все и улыбаются.
Дубки, куда указывают нам, скрывают старинную барскую усадьбу. Здесь были построены первая школа в нашем уезде и первая больница. Господа были большими либералами. С тех пор имение перешло много рук и, наконец, попало в Крестьянский банк, разделено на участки и продано крестьянам-собственникам. От первой школы до первого частного собственника-мужика, от либерального барина до землеустроительной комиссии, – таков круг «благих порывов» в этом местечке.
Пониже дубков, у пруда, сотни две крестьянских дворов, – это и есть «купцы». С первого взгляда ничего особенного, ничего нового. Напротив, в старину, до освобождения крестьян, дворы у нас часто вот так же сидели против господской усадьбы, на глазах. После освобождения избушки с соломенными крышами, похожие на жилища кочевников, отступили от барских усадеб подальше, на другие места. И потому до сих пор наши крестьяне всегда считают землю, где они раньше жили, своею, во время «забастовки» ставили тут столбы на справедливых границах: «столбили землю».
Так что с виду не случилось ничего нового: избушки опять подступили к барской усадьбе. Правда, стоят они теперь не пелена к пелене, а на значительном расстоянии друг от друга, другие вовсе ушли в поле, но видно, как строятся в промежутках, и думается, что со временем все застроится.
На дворе в усадьбе человек медно-красного цвета, в картузе, банковский управляющий, не обратил даже внимания на мой приезд, – так все обезбытилось. Кажется, будто вошел в дом, где лежит покойник: никто не спросит, зачем пришел.
– Хочется расспросить мужиков, – сказал я управляющему, – как они устроились.
– Да знаете ли вы мужика? – спросил он меня. Я рассказал о себе.
– Это вы с высшей точки, – ответил мне управляющий, – а ведь мужик – подлец, такой разбойник, такой сукин сын. А впрочем, сами увидите. Пойдите по улице, поговорите.
2. Египетская жизнь
Прохожу по новой улице и думаю: «Вероятно, в Сибири на новых местах или у пчел в ульях новой системы так же без толку копошатся».
А избы! Одна повернулась в одну сторону, другая – в другую, третья – в третью. Одна далеко ушла от дороги, другая – поближе, третья и вовсе вылезла чуть не на середину улицы, так что всякий прохожий и проезжий обругает такую избу.
Настоящие анархические избы, полное непризнание соседней избы.
– Зачем так? Как вообще вы живете?
– Житье, ваше благородие, египетское, – отвечают мне «купцы».
– Сумку бы не надеть! – говорит пессимист.
– Пересилимся! – успокаивает оптимист.
– Где пересилиться! – заглушают его голоса.
Одна и та же тоскливая черноземная песня. И внешний вид «купцов» и жилищ, и настроение их перед опасностью не заплатить по случаю неурожая громадный долг банку – все сулит недоброе. Так ли начинают новое дело, где душа его: вера в будущее? В самом деле, какое-то… египетское житье.
– Садок! Зарез! – галдят «купцы».
– Зачем же вы шли сюда?
– Дома кота выгнать некуда, вот и пришли.
Тоскливо глядит на нас сверху барская усадьба, пустая, с каким-то отвлеченным, неумолимым хозяином, которому эти мужики должны выплачивать пятьдесят пять лет долг в двести пятьдесят рублей с десятины.
Подходит маленький мужичонко с кнутом в руке, ругается:
– Смертный вашу душу знает! Ты зачем своего сосуна по моей озими прогнал? Лихоманка, чистая лихоманка.
– Окоротитесь кричать, – вежливо отвечает ему владелец сосуна, – я еду на кобыле по дороге, а сосун, известно, путь поближе выбирает. Не в поводу же вести сосуна,
– Озимь обита, – не унимается маленький, – а все от вашего сосуна. Мой участок на бою, в тысячу раз за лето проедете, и тысячу раз ваш сосун пробежит, да вашего соседа, да пятого, да десятого, посчитайте всех сосунов!
– А я виноват!
– А кто же? Я прошение подам на вашего сосуна.
– Да вас не примут с прошением. Я плачу за землю.
– Да и я плачу.
– Ну, да ладно: еще не топтали.
– Топтать не миновать!
– Вот видите, господин, еще никаких видов не видали, а уж у нас сурьез и недотолчка. И тут будет драки, тут неприятностей и безобразия…
Жалуются на все, а главное – на то, что скотину некуда выгнать. Не могут себе представить, как можно скотину «на колу» держать. Двести дворов и двести пастухов! Немыслимо. А к колу еще хуже: баба пойдет к корове, а от избы один пепел останется. У кого-то удавилась корова. Кто-то сел на чужую лошадь и уехал. А сосуны, которые любят бежать прямыми путями! При новом хозяйстве невозможно коневодство, можно иметь только меринов.
Больше всех жалуются те, которые пришли издалека, меньше – у кого родная деревня поближе, которые живут здесь как бы на хуторе, и совсем довольны, которые из соседней деревни, имеют здесь только землю, а живут дома.
Но этих немного: два-три человека. Раньше нельзя было покупать землю без переноса построек, а когда разрешили, чужие, дальние люди заняли землю, принадлежащую, как считают всегда крестьяне, ближайшим деревням. Поэтому везде вблизи «злуют» на «купцов».
– Нам бы охота всю землю на три поля переделать. Вот тогда бы мы оперились, тогда бы и скотину погулять можно было… Мыслимое ли дело на десяти десятинах хозяйствовать!
– На десяти десятинах чернозема! – изумляюсь я. Неужели же лучше хозяйствовать на полосках? Собственность в одном куске, конечно же, лучше.
– Собинка, – подхватывают мужики, – известно, лучше, да какая собинка!
Начинаем вычислять, какая должна быть собинка, и выходит, что русскому для правильного хозяйства необходима большая собственность. Иначе скотину девать некуда.
– Сейте, – говорю я, – клевер, люцерну и кормите в стойле.
– Вот, вот, вот! – смеются мужики. – Приезжал тут один господин со светлыми пуговицами и объявляет нам: «Я – „человек по прейскуранту“ и везу вам всяческие семена, сейте эти семена, и будет всем хорошо». И дал нам всем по десятифунтовому мешочку. Вот…
Мужик приносит мешочек семян люцерны. Загадочно, таинственно глядят семена чудодейственной травы на мужиков, но не могут победить мужицкого неверия и насмешки… Спрашивают, что делать с ними, где их сеять, как сеять, что из них бывает и не лучше ли кашу сварить.
– Откуда же он приехал, этот «человек по прейскуранту»?
– Не миновать от государя императора. «Сейте, – говорит, – очень пользительные семена». Сказал – и след простыл.
И вот все, что остается в народе от ясных, как день, агрономических планов в Петербурге: денежное закрепощение мужика, окончательная ломка быта и эти какие-то в самом деле странные семена…
– Зачем вы шли сюда? – повторяю я.
– Что таить. – говорит один, – рано ли, поздно ли опять будет забастовка, опять лопнет, вот тогда-то мы и переделим на три клина, все опять смешаем…
– За это время, – говорю я, – кто посильнее, устроится и не даст бунтовать…
– Не успеют. То раньше будет. Не успеют, потому и им негде скотину кормить.
– А если вам сговориться и отделить По одной десятине под общий луг?
– С превеликим бы удовольствием. Барин, похлопочи, мы в долгу не останемся…
Спрашиваю одного, другого, третьего, – все, решительно все хотят иметь общий луг, готовы отвести по десятине.
Я знаю, как в Германии дорожат такими общими пастбищами и что научной агрономией признан вред стойлового кормления. Да и выгодам частной собственности такое общее пастбище ничуть не мешает… Почему им нельзя этого делать?..
А мужики все просят меня похлопотать, обещают заплатить мне за труд и, наконец, везут меня к «опытному человеку» писать прошение.
3. Опытный человек
– Эта штука, – сказал опытный человек, Пимен Игнатьевич; о новом законе, – эта штука на старинку перейдет!
Старик был бурмистром в этом же самом имении, потом тут же был приказчиком и, наконец, в качестве сведущего лица привлечен был к оценке ликвидируемого имения; за это все он и получил наименование «опытного человека».
Каким образом он истолковал новый закон как возвращение к крепостному праву – не знаю.
– И лучше было в те времена, – рассказывает старый бурмистр. – Теперь он, дурак, все говорит – свобода, свобода, а есть нечего. Такая ли свобода теперь, как в прежние времена! Тогда оброк заплатил и не знай… ну, там когда барана, или что… А насчет того, чтобы секли, так как себя поведешь; меня никогда не секли. Ну, и посекут, так что? А теперь разве не секут?
Я рассказал старику о желании крестьян подать прошение о разрешении им отвести землю под общее пастбище.
– Нет, – сказал старик, – ежели уж будет ваша милость, то хлопочите, чтобы разрешили русскому человеку хозяйствовать, как он пожелает. Когда меня земский начальник позвал землю расценивать, я ему тоже так и говорю: «Ваше благородие, не нужно оценивать, отдайте ее мужикам, всем чтобы ровно, а они уж и отведут где кому, дело это им привычное; всякую полоску, всякую лядвинку учтут до последнего полынка…» Сказал и не рад был, что сказал. Как он закричит на меня! И стал сам землю распределять. Пишет незнамо что. Я ему опять тихим голосом: «Ваше благородие, земля эта мне доподлинно известна, на эту десятину надо рубликов сорок набавить». «Как!» – кричит. А сам щупает землю пальцами и, вижу, наблюдает. «А тут, – говорю я, – щигры да бугры, надо полсотенку скинуть». Он скинул. Тише да тише, и вывешивает меня, спрашивает: «А тут как, Пимен Игнатьевич, а тут…» Ну, когда он совсем стих, я ему опять свое: «Дозвольте русскому мужику самому поселиться, мы каждую полоску определим». Он и вовсе стих, глядит исподлобья, спрашивает: «А как же клевер?» – «Что же, – говорю, – клевер, не в клевере дело, а если клевер понадобится сеять, так и то сумеем и ручательство подпишем, что будет у нас клевер, польза будет мужику, настоящая польза; главное дело – скотинке корм будет, а то и овцу некуда выгнать». Он все глядит исподлобья, и важно слушает, и спрашивает: «На что вам овцы? В настоящее время крестьянину овцы не нужны». – «Ваше благородие, – говорю ему, – я весь в овце». Посмотрел он на меня, – тулуп, валенки, рукавицы и прочее, – посмотрел и съершился. Я тут опять свое: «Дозвольте самим». А он: «Вы на три поля переделите». – «И переделим, – говорю, – от этого худа не будет». – «А как же чересполосица?» – спрашивает. «Чересполосица, – отвечаю я, – никому не мешает». Ка-ак он затопает на меня ногами, ка-ак закричит: «Духу твоего чтоб тут не было, такой-сякой!..» Ну, и прогнал.
– Тем все и кончилось?
– Тем все и кончилось. Ну, и что же хорошего вышло? Слышали, что мужики говорят, видели? А вы еще поглядите сухие колодцы да пруды, да расспросите их хорошенько. А только верьте моему слову: эта штука на старинку перейдет, перелезет. «Свобода!» – говорят. Дали мужику свободу, да как принялись господам мухи уши грызть. Не-ет, брат. Шабаш! Свобода, свобода, эх! Визгу много, шерсти мало!
4. У сухого колодца
Меня подвели к сухому колодцу. Я уже слышал давно об этих подземных памятниках землеустроителям. Почему-то нужно было спешить с ликвидацией имений, некогда было выписывать бурава, приглашать агрономов. Рыли попросту, где бог на душу положит. И так дорывались до страшной глубины, в девяносто и более саженей, так что колодец обходился в тысячу рублей, а вода все-таки не показывалась. В этом имении три сухих колодца. Тот, к которому меня подвели, возле самого пруда.
– Сухой? – спрашиваю.
– Ка-ак овин. Бросьте камень.
Камень летит. Сколько летит-то! И ударяется о землю.
Два нездешних мужика едут мимо, любопытные, останавливаются; один подходит, заглядывает в тьму, качает головой и смеется. Тоже пускает камень, опять смеется.
Я беру часы и замечаю по часам: камень летит три секунды. Мужик возвращается к другому, качает головой и что-то, смеясь, рассказывает.
Общее веселье возбуждает вид колодца.
Самое странное то, что он вырыт возле самого пруда, в двух или трех саженях от него, а воды все-таки нет.
– Хоть бы прудовая пошла, – говорю я.
– Избави бог, – отвечают мужики, – та вода – отрава.
И рассказывают, отчего вода в пруду стала горькой, отчего в нем даже и скотину купать нельзя.
Вокруг этого пруда стояли громадные ивы. Господам ивы понравились, срубили. «Подушки» увезли в свои имения, «горбыли» пустили на сухие колодцы, а ветки побросали на льду и забыли. Пришла весна, пруд растаял, ветки утонули. И вот с тех пор вода стала горькой, как в Мертвом море: скотина пить отказывается и даже купать нельзя, напорешь.
– На что же господам «подушки» понадобились?
– Поди знай… А то вот дубок…
Указывают на обрубок дерева, видно, огромного, но сгоревшего.
Стоял старый дуб на отлете. Зачем ему тут стоять, его прибрать надо! И велел главный барин срубить. Прислал за ним шестерку лошадей. Не берут лошади. Перепилили пополам. Увезли половину к барину. А тут, случись, другой барин: «Везите, – говорит, – эту половину ко мне: та – ему, эта – мне». Взялись было везти, а от главного барина лошади вернулись. Спор и драка. Господа приехали. «Я тебя смещу!» – кричит главный. «А я на тебя пожалуюсь: зачем казенный дуб срубил». Долго спорили, и ни тот, ни другой взять дуб не смеют. И высох дуб на солнце, а все господа взять не решаются. Тут мужики собрались да и сожгли его. И всей сказке конец.
– Не может быть! – говорю я.
– Как не может быть, да вот же пень лежит обгорелый, я же и поджигал. А ведь тоже в контракте у нас сказано: щадите деревья!
– Щадите деревья! – вторили все мужики и, долго помолчав, как эхо, повторяют: – Щадите деревья, что – щадите деревья…
Так мы подходим ко второму сухому колодцу. Возле него остановился обоз проезжих нездешних мужиков, а тот мужик, что смотрел на меня, как я камень пускал, рассказывает:
– Это что за колодец, тот глубже. Такая, братцы, глубина, такая глубина, что и сказать невозможно. Барин камень пускал, так по часам заметил: полчаса летел!
Так творятся легенды в народе. И, бог знает, правду ли мне рассказали про дуб, про ивы, правда ли вот и то, что сейчас неустанно жужжат: господа подшипники от барабана отвинтили, хомуты увезли, флигель разобрали…
Правда ли все это? Где тут разобрать проезжему, случайному человеку. Одно правда: к господам, к начальству, к ликвидаторам имения мужики не чувствуют ни малейшего уважения и просят господа бога, чтобы допустил им он самим устроить свою судьбу.
Управляющий говорил мне: «Мужик – подлец, разбойник».
– Как найти таких людей, чтобы не хапали, – говорят мужики.
«Земля божья, земля – мать», – всюду думают у нас. Но я берусь доказать: у нас чем ближе человек к земле, тем кривее его душа и низменнее дух.
– Хороша же мать! – сказал я мужикам.
– Земля неповинна! – ответили они. – Поглядите: дуб растет, первое дерево, значит, самая первая земля здесь. Земля неповинна.
Дружная весна*
(Из деревенского дневника)
1
– Дон прошел…
– Как прошел?
– Очень просто: теплынь у нас, такая прелесть стоит, огурцы сажать можно, на бугорках уж славно поусохло. Сколь далече едете? В X.? Нам по пути, поедемте, составим компанию.
И вот мы едем по весенней черноземной дороге, ползем, плывем, месим грязь. Показываются хохолки помещичьих усадеб и верхушки липовых аллей, зеленые и красные крыши…
– Эт-та, – указывает рукой попутчик на зеленую крышу, – живет Иван Андреич, а эн-та шурин его…
Попутчик знает всю подноготную этих усадеб, любит рассказывать и постоянно повторяет свое: ceci, cela; «эт-та» и «эн-та».
Так, мало-помалу, кажется, будто усадьбы сходятся к нам.
Мы говорим о хозяйстве помещиков.
Они снова ожили. Многие вернулись в свои заброшенные барские усадьбы, кто победнее, сдал землю в аренду, кто пооправился, отобрал все назад у мужиков и хозяйствует. И ничего живут: цены на землю громадные; арендная плата неслыханная, – отчего бы не жить?
Способы хозяйства все те же. Сохранилось даже наше знаменитое «зимнее хозяйство»: как и в прежние, дореволюционные времена, зимой от скуки помещики, прочитывая сельскохозяйственные книжечки, увлекаются мечтой и творят зимнее хозяйство. Так появился, например, у нас очень странный и очень распространенный прием: сеять клевер на семена, а рожь – на корм. И мало ли еще чего… Чернозем все терпит и дает доход, а помещики думают, что, хозяйствуя, они делают и общественное дело.
В результате их хозяйствования, однако, для постороннего человека получается расчет: в Швейцарии жить много дешевле, чем в глубине черноземных уездов.
Вообще водоносные тучки в нашей безлесной полосе любят останавливаться только над хохолками помещичьих усадеб, а кругом все сохнет и жить не из-за чего.
2. Наше преступление
Вхожу в сени большого старого барского дома. Курица, застигнутая врасплох, пытаясь выстегнуть глаза крыльями, проносится над моей головой. Раздается голос:
– Кто там кур гоняет?
– Это я, тетушка!
Она сидит в старом кресле и читает новую книгу о мужиках «Наше преступление».
– Вот так картинка, – восклицает она, надвигая очки на лоб, – очень правдиво, настоящий мужик!
– Как мужик? – изумился я.
Никогда до сих пор моя тетушка не говорила о народе в третьем лице, как в казенных учреждениях. Всю жизнь свою она имела дело с Никифором, Стефаном, Глебом, Павлом, Кузьмой, с их женами, невестками, золовками, тещами, и никогда я не слышал от нее слов: «он, мужик». Для нее мужики были такие же разные люди, как для нас люди интеллигентных профессий.
– Один бог знает, как я раньше любила мужика, – продолжала тетушка, – теперь я в него больше не верю. Родионов (автор новой книги) прав совершенно.
Я хотел было возражать, но тут произошло крупное событие, наложившее свой отпечаток на все мое весеннее пребывание в имении тетушки: загорелась караулка арендатора нашего сада.
Я опрометью бегу к пожару и на ходу кричу: «Павел, Стефан, бочку, бочку!» Они идут к амбару, будто за бочкой, а сами потихоньку из-за угла амбара следят за мной и посмеиваются, чувствую, говорят: «Какой горячий!» Кричу на них ужасно, и наконец повинуются. А караулка пылает! Народ валом валит из деревни через сад, собирая по пути прошлогодние прелые яблоки. Работ еще не было никаких, мужики соскочили со своих печей не вовремя, будто пчелы, разбуженные зимой в омшанике: кто в ободранном тулупе, кто в бабьей кацавейке, стоят, поплевывают, курят «цигарки», едят прелые яблоки. Вид пожара, однако, их развлек, кто-то швырнул «снежком» в пламя. И так мало-помалу все принялись весело пошвыривать снежками в горящее здание и закусывать прелыми яблоками.
Наконец Павел со Стефаном привезли бочку на двух колесах (два другие колеса рассыпались по пути). Бочка рассохлась, и вода частью расплескалась, частью ушла в трещины: воды не было.
Караулка сгорела вся до основания, сгорело вокруг шесть яблонь, и почернела целая куртина вишневого сада. Слава богу еще, что ветер был в сторону от дома.
– Тетушка, – говорю я, вернувшись домой в удрученном состоянии духа, – у вас тут жить страшно, у меня бумаги…
Она в слезы:
– Тебе, – говорит, – не меня жалко, а свои бумаги. Мы обнялись.
– Вот видишь, – говорит она, – какой он страшный, раньше мы не знали мужика, вот он настоящий…
– Тетушка, – умоляю я, – не читайте Родионова. Вы больше знаете о них, чем мы: всегда для вас мужики были разные.
– Нет, нет! Они все одинаковы…
И так совершилось в усадьбе моей тетушки настоящее грехопадение: моя тетушка, как обиженный бог, разложила преступление одного на всех. Казалось, что в нашей усадьбе появился кто-то новый, загадочный, неуловимый, бесчеловечный. До революции этого быть, конечно, не могло. Он появился после бунтов.
Мне было жалко расстаться с мечтой о последней Пульхерии Ивановне нашего уезда. Я решил во что бы то ни стало, пользуясь своими ежедневными прогулками, найти преступника и убедить тетушку, что он один, а не все.
3. Первая прогулка
– Мужик испортился от пьянства, – сказала раз мне тетушка.
Я вышел на прогулку, обдумывая эту мысль со всех сторон.
Снег сбежал. На огороде деревенские мальчики, утопая в грязи, дергали хрен и собирали прошлогодние луковицы.
Я хотел было пробраться к ним, но завязил калошу. Наклоняюсь, чтобы достать засосанную калошу, и чувствую: кто-то возле меня бухнулся в грязь по колени.
– Афанасий, – узнал я в стоящем на коленях нашего несчастного пьяницу, – это – ты, жив?
– Омертвили, омертвили, – говорит Афанасий, не поднимаясь из грязи.
Вот уже года два тому назад Афанасий пропал. Кто-то, чтобы воспользоваться его наделом, пустил слух об его смерти, а он вдруг ожил.
– Прослушали, прослушали, – рассказывал Афанасий, – и омертвили. Иду по белому свету от деревни к деревне, от села к селу, и везде встречают: «Афанасий, да ведь ты же помер!» «Нет, – говорю, – я жив». Не верят: «Видели, – говорят, – как тебя мертвого в больницу на простыне несли, – и все твое, и нос крючком…»
Афанасий стоял в грязи, пьяные слезы текли у него из глаз, из-за пазухи торчал кусок вонючей гнилой рыбы.
Я подумал об ужасной судьбе этого человека, вспомнил, как в Петербурге братец Иванушка сразу излечивает внушением человек по триста пьяниц, и спросил, почему он не запишется у батюшки.
– Записывался, – ответил Афанасий, – не помогает: месяц не пью, а на другой лягухи в животе заводятся, опять запиваю.
Я дал Афанасию несколько копеек, он поднялся из грязи и пустился в шинок, оставив на огороде гнилую рыбу.
У тетушки я поднял такой вопрос: почему бы не мог этот пьяница, ночуя в караулке, случайно ее поджечь? Наше преступление тогда окажется совершенно невинным.
– Нет, – ответила тетушка, – во-первых, караулка сгорела днем, а во-вторых, Афанасий всегда ночует в овраге. И вообще, я думаю, не в пьянстве наше зло, более глубокие причины преступлений – в земельных отношениях…
4. Вторая прогулка
Недалеко от нас есть имение, разделенное для мужиков на участки – хутора. Когда пруд разошелся, дороги подсохли и зазеленела ива, я отправился взглянуть на них: не получу ли я тут что-нибудь для своих наблюдений.
Прошлый год, когда хуторяне только что поселились, положение их было ужасно: если судить по тому, что они говорили, можно было думать теперь: они все ушли с сумой.
Но год был урожайный, теперь опять роскошные всходы. На полях хуторян, я вижу, кое-где зеленеет клевер, вика, люцерна – травы, о которых и не снилось общинникам. Я сам слышал прошлый год, как смеялись хуторяне над агрономом, привезшим семена трав, называя его «человек по прейскуранту» (он показывал крестьянам прейскурант кормовых трав). Теперь же этот «человек по прейскуранту» мог торжествовать.
Прошлый год здесь, ликвидируя имение, хозяйничали хищные люди, возбуждая злобу населения. Теперь, я слышал, их сменили.
– Сменили? – спрашиваю я одного знакомого хуторянина.
– Сменили, – ответил он мрачно, – да что в этом: чирий вырезали, болячку вставили…
И вообще как-то странно на этих хуторах: несмотря на весну, на удачу прошлого года – мрачно. Первое время трудно отдать себе в этом отчет…
Вот мы говорим о сухих колодцах, об испорченном ликвидаторами пруде. Но ведь это все в прошлом. Теперь же все мало-помалу налаживается. И, значит, то давящее настроение не оттого.
Мы говорим о том, как не подходит к русскому мужику стойловое кормление, как неразумно поступило начальство, разделив естественный луг на двести частей, так что хуторянам нужно теперь иметь двести пастухов вместо одного.
Но все это не то… Вот подходит зажиточный хуторянин и рассказывает о том, как хорошо хозяйствовать на отдельном участке. Другие его поддерживают. Прошлый год эти же самые люди говорили о том, что вот только бы дождаться новой «ризолюции» (революции), и все разделят по-старому на три клина. Теперь факт совершился: население признает единоличное хозяйство…
– Но ведь вместе с этим, – говорю я, – и во всем каждый отвечает за себя, при новом хозяйстве никому нет дела до другого, более слабого. Это тоже хорошо?
– Этого мы не знаем! – говорят все в один голос.
Значение этого «не знаем» такое: «Верно начало этого нового быта, хозяйственное его начало, а все другое – неизвестно». Если бы тут был не заинтересованный лично старик, он сказал бы: «Не по-божьему начали делать!»
И становится понятным, почему так невесело на этих хуторах.
Прежняя слитая пелена с пеленой деревня здесь расползлась, избы разъехались, люди разъединились. Стада теперь не возвращаются вместе с общего пастбища, бабы не бегают с хворостинами за своими овцами. Быт разрушен. Жизнь переделывается по новому замыслу.
Вот, я вижу, в одной избе старик плетет лапоть, а возле ног его на соломе хрипит теленок.
И жутко смотреть на этого старика возле больного теленка. Из-за чего он сидит? Разве это жизнь? Если бы раньше, в обыкновенной деревне, то подумал бы: он сидит, потому что так нужно, всем в деревне зачем-то нужно так быть. Здесь же нет этого – «для всех». Быт только начинается, и быт задуманный, чуждый этому краю
Я ухожу с хуторов и гляжу еще раз на них сверху, с бугра.
До того одинока эта единственная опытная хуторская деревня в наших необъятных полях, среди бесчисленных обыкновенных деревень. До того одинаковы эти квадратики, нарезанные чиновниками. Все тут сделано просто по предписанию, «по прейскуранту». Нет и следа от Павла, Архипа, Глеба, Стефана, как у тетушки; здесь живет он, мужик, здесь все сделано для него…
5. Третья прогулка
– Кто сжег караулку? – спросил я прямо Никиту.
– Руки, ноги не остались, – хитро улыбнувшись, ответил старик.
Мы сидели с ним под березкой с молодыми блестящими листьями, похожей издали на сказочный зеленый фонтан.
Никита считался у нас самым умным человеком в деревне, он политик и, как преобладающее большинство политиков, лукав. Просто говорить с ним нельзя. Мой вопрос был совсем неразумен.
– Обеими ногами ступаете, – посмеялся надо мной деревенский умница и замял разговор о караулке.
Поговорили о переселении в Сибирь. Мы оба там были: он ходоком, я – как любопытный, и оба пришли к одному твердому заключению: «Ехать туда нужно с капиталом и человеку сильному, а потому в наших местах разговаривать о переселении и смущать народ – дело очень вредное».
Мое полное единение в этом вопросе с ходоком подкупило Никиту; он спрашивает:
– К добру ли делюция?
Я уже слышал это нелепое, но замечательное по своему образованию слово. Оно происходит, с одной стороны, от слова «революция», а с другой – от насильственного деления земли при отводе и укреплении участка. Это – не освященный временем и общепринятый «передел», а насильственный раздел: делюция.
– К добру ли делюция? – спросил Никита.
Я не хочу ступать «обеими ногами» и прошу высказаться самого Никиту.
Ему кажется, что к добру: он, глава большой семьи, укрепляет за собой землю, младшие его почитают, как и в старое доброе время, и хозяйствовать на одном участке лучше: не будет чересполосицы. Я одобряю Никиту, говорю ему в тон: как хорошо будет то время, когда все такие умные, как он, укрепятся, а глупые, как Афанасий, разбегутся. Вот тогда крепкий земле крестьянин и станет помогать во всем правительству…
– Нет, погодите… – не выдерживает Никита.
– Да как же, – говорю я, – дело ясное…
И продолжаю развивать свою мысль. Никита одобряет, но, как только подхожу к правительству, перебивает и говорит мне: «Погодите…»
Так я дошел до пределов мудрости Никиты и, когда явно увидел его смущенным, огорошил вопросом:
– Зачем сожгли караулку?
– А зачем, – ответил Никита, – арендатор поставил ее на земле вашей тетушки?
– Вам-то какое дело!
– Нет, это наше дело, – ответил Никита, – он нонче избу поставил, а завтра сарай выстроит.
– Что же, если с согласия тетушки, земля же не ваша…
– Нонче не наша, а завтра, может, и наша будет. А он строится. Мы же для вашей тетушки и стараемся, оберегаем ее…
Никита все это сказал лукавыми штучками, и я, конечно, всерьез его речей не принял.
6. Приезд арендатора
Арендатор нашего сада и огорода лебедянский мещанин. Слово «мещанин» в общепринятом смысле совсем не подходит к нему и вообще к нашим мещанам. Эти люди у нас куда в худшем материальном положении, чем крестьяне, но всегда деловитее их и предприимчивее. Мещанин в наших краях – представитель свободного личного начала, крестьянин – родовой общинной косности. Арендатор нашего сада был смолоду пьяницей, потом отрезвился и взялся за ум. Кто-то дал ему двугривенный, на эти деньги он купил свечей, продал с прибылью и стал торговать куриными яйцами. Как сказочный герой, он менял все на лучшее и лучшее: из яичника стал медоломом, покупал кокошники с серебром, переливал серебро, скупал шкурки дохлых ягнят. В конце концов он с успехом занялся садами и даже определил своего старшего сына в гимназию.
Жизнь такого человека – скорее поэма, чем обычное мещанское существование.
Осмотрев сожженную избу, арендатор прямо сказал:
– Один работает!
– Вот, – обрадовался я, – один, конечно, один!
И рассказал свой спор с тетушкой и просил нас рассудить.
– И вы правы, и тетушка, – ответил арендатор. – Они, конечно, меня хотят сжить, боятся: укреплюсь, устроюсь, разбогатею, сниму всю землю у вашей тетушки, и им не достанется. Ну, и скажут когда, под пьяную руку: «Хорошо бы ему пустить красного петуха». А он слушает.
– Кто он? – спросил я.
– Он – такой человек, что много о себе думает, всегда чем-нибудь недоволен и, конечно, расчет имеет землю получить от общества, водку или что… Он услышит, что говорят, и заберет себе в голову, и работает. Два, три знают, а другие будто и ни при чем.
Рассказывая так и собирая обгорелые поленья, арендатор вдруг остановился, увидев на земле след сапог с подковкой.
– Это – Пашка! – сказал он уверенно.
И в самом деле: на всей деревне один только Павел носил сапоги с подковками, к тому же Павел – известный вор и плут.
С этого началось следствие, и немного спустя мы в состоянии были доложить тетушке о найденном преступнике.
– Он – Павел! – сказал я.
– Все на него указывают, – сказал арендатор, – все как в воду глядят; он, Пашка, темный, азият.
Тетушка навела, с своей стороны, справки, и ей все говорили: «Пашкино дело». Осмотрели хозяйство и нашли на сеновале разобранным потолок, в конюшне не хватает хомута, в лесу была срублена осинка, – все это он украл.
Тетушка Павла рассчитала.
* * *
Так было раскрыто наше преступление. Я указал тетушке виновника, но не вернул этим старой идиллии в барскую усадьбу старосветской помещицы. Вышло даже наоборот: с тех пор как тетушка уволила Павла, тот страх перед кем-то неизвестным усилился в нашей усадьбе. В особенности ухудшилось положение арендатора, этого борца за личное начало против мужицкой родовой косности. И раньше сжигали мужики у него соломенные шалаши, но когда сожгли избу, он серьезно задумался. В конце концов он решил поселиться под землей: выкопал себе в саду яму, обложил внутри тесом, пригодным для осенней укупорки яблок, поставил железную печь. И поселился там со своим сыном-гимназистом.
Раз, в конце апреля, я посетил его яму. Была удивительная погода: в апреле, целым месяцем раньше, цвели сады.
– Какая чудесная весна! – сказал я ему.
– Не радует, – ответил он из ямы, – вот увидите, какое будет скверное лето.
Тютенькин лог*
Село, где я устроился, сбегает вниз и рассыпается по обе стороны озера. На крутояре стоит колокольня и, белая, во всю длину, от края до края, отражается в озере. Видны отсюда все дороги: расходятся по лугу, как холсты, во все стороны, в леса.
Первое время в этом селе на меня косо смотрели и все допрашивали, откуда я, зачем я здесь, почему я здесь. Нужно ли мне купить в лавочке спичек, чаю, сахару, хочу ли спросить о дороге в другую деревню, узнать, есть ли в озере рыба, в лесах – волки и медведи, – всегда неизменно меня перебивают вопросом: «А вы чьи?»
По лености, по городской ли привычке дорожить временем, но правильного ответа дать им я не в состоянии. Необходимость всякий раз да отвечать же как-нибудь заставила меня наконец выработать удобное слово.
– Вы чьи? – спрашивают меня.
– Макарихин, – отвечаю я.
И все. Макариха – старушка вдова, синильщица. У нее – хороший каменный дом и много родственников в Москве и Петербурге, все людей «порядочных». Я будто бы один из ее родственников.
Чтобы мои отдаленные прогулки в полях и лесах не карались странными, а отчасти и по слабости к охоте, я привез с собой легавого щенка и стал его дрессировать. И так мало-помалу далеко в этом краю я получил широкую известность под кличкой «Макарихина охотника». Даже крошечные дети, встречая меня на улице, пищали:
– Вот Макарихин охонтик идет!
Я стал своим человеком.
Тютенькин лог – одно из любимых мной мест. Там среди моря ржаных полей и лугов виднеются верхушки елей, словно вырастающих из-под земли. Дикое место. В глубине провала, в лесной чаще, там много гигантских темных камней, один под другим и друг возле друга. Есть громадные чаши, молотки, скамьи, фигуры людей и животных, какие-то высокие стены – все будто окаменелый и разрушенный город. Народ так и называет развалины Чертово Городище. Черти будто бы строили город, но не успели достроить, петух запел, и все рассыпалось. На поле, возле провалища, лежит один камень. Этот черти будто бы не успели донести…
– Почему же называется Тютенькин лог? – спросил я Макариху.
– Сказывают, – ответила она, – тут какие-то тютеньки жили.
– Люди?
– Господь ведает. Одной морковкой кормились.
* * *
Раз, когда уже рожь была на цвету, Макариха собралась к Тютенькину логу по грибы. Я отправился с ней вместе натаскивать свою собаку. Спускаясь вниз по стежке ржаными полями, Макариха вдруг остановилась и вся замерла. Так, я замечал, бывает с простыми людьми, когда они в лесу прислушиваются к таинственным шорохам или ночью в доме к каким-то шагам. Кажется, в это время в них кто-то входит чужой, безликий. Тут всякое дело бросается, всякий разговор обрывается.
Макариха глядела на пук узелком завязанной ржи.
«Залом! – понял я. – Наконец-то своими глазами я вижу залом».
В селе у нас все верят в залом, что будто бы колдуньи и волшебницы, чтобы испортить человека, заламывают рожь на цвету. Верят в это так же глубоко и сильно, как и в чудеса иконы святой Прасковий у Святого Колодезя.
И только одно – божеского происхождения и к добру, а другое – дьявольского и к злу, – вся разница. Ни в то, ни в другое я прямо, как народ, не верю, но не отношусь и презрительно, как многие. Я знаю, что это – огромная действительная сила. Знаю, что чудеса бывают, что при вере в залом пучок завязанной ржи может погубить человека, – только бы верить. Теперь же меня очень соблазняет взять этот залом и присоединить к своей коллекции. Но как это сделать в присутствии Макарихи? Как сохранять в ее доме, где каждая вещь на виду? Я пытаюсь, как могу, объяснить старухе, что при безверии заломы не действуют, что я могу взять залом. Вот я его сорву.
Макариха в ужасе хватает меня за руку. Я опять терпеливо объясняю и наконец прошу добрую старуху.
Она согласна. Но куда же я его дену? В ее доме сохранять нельзя: мало ли что может случиться? И что, если в селе узнают? Нет, лучше оставить залом и уйти.
Я подчиняюсь благоразумию, но внутри меня все сопротивляется. Воображение рисует целые картины. Вот Макарихина девчонка увидала у меня залом, шепнула соседям. И пошло гулять по селу:
«Так вот кто Макарихин охотник! Вот зачем он здесь живет!»
В будни на меня косятся и остерегаются, в праздник пьяные ругают, бьют камнями окна. Бежать? Но если бежать нельзя. Может быть, мне и некуда бежать; может быть, я глубоко связан с этим краем и людьми. Тогда какая же страшная темная сила сдавит меня. Кошмар, настоящий кошмар!
Вот Макариха идет по краю лога и собирает грибы. Внизу, в Чертовом Городище, их много больше, но она боится. Я спускаюсь. И в первый раз за все время мне жутко. Ведь там, в логу, какие-то тютеньки…
* * *
В это лето луга не успели убрать, – рожь подошла. Мужчины остались на покосе, женщины принялись жать. В Тютенькином логу молодые тетерева стали чернеть. Я иду туда охотиться. Впереди меня молча идут две женщины с серпами на шее. Старуха – в лаптях, молодая – босиком и в одной длинной холщовой рубашке. День желтый и жаркий до упаду. Кто спешит сжать недожатое, кто – скосить недокошенное; но больше везут. По всем дорогам к селу один за другим тянутся возы, как караваны верблюдов.
Мы спускаемся в низину. Белая песчаная дорога зеленеет, показываются осоки и черная болотная вода. Обе женщины припадают к ней и пьют.
– Что вы делаете, остановитесь, – холера!
– Бог милостив, – отвечают женщины.
Я знаю, что эта низина проходит чрез зараженную холерой деревню, что пить эту воду, значит, принимать яд. Я рассказываю этим женщинам все, что знаю о холере, и убеждаю их пить кипяченую воду.
Они смеются. Ведь отсюда до их деревни десять верст; разве наносишься кипяченой воды! Здесь все пьют болотную воду.
Мы переходим по кладкам еще одно низкое место и еще. Суходол и низины, поля и луга, ржавые лужицы, осоки, голубые стрекозы…
«Не пейте сырой воды», – вдруг отчетливо представляю я себе петербургскую казенную надпись. И вот все, что я мог посоветовать женщинам. Но это не то… Немыслимо ставить над каждой лужицей столб с надписью: «Не пейте сырой воды».
Как же быть?
– Бог милостив, – повторяю я бабьи слова. И, спускаясь в Чертово Городище, проникнутый народными преданиями об этом месте, совершенно ясно представляю себе, что холера от черта. Вылезали из-под этих темных камней, из привала, хвостатые черти в дополуночный час, заламывали заломы, на погибель человеческого рода. Вот отчего в это лето, говорят, так много заломов и черных прожинов…
Бог милостив!
Под вечер с полной сеткой убитых птиц я вылезаю из Чертова Городища на поле и бросаюсь в первую копну. Лежу усталый, как мертвый, с открытыми глазами. Вижу желтое оржанище и низкое, но все еще желтое солнце. Недалеко, где кончается поле и начинается луг, мужик в лиловой рубашке косит траву, женщина сгребает сухие ряды. На край поля подъезжает курносый мужичонка с мальчиком и складывают последнюю копну в телегу.
– А у меня ослепни корова, – говорит он, укладывая снопы.
Косцы молчат.
– Корова, говорю, у меня ослепла.
На лугу все молчат.
– Бабенка сжала залом, – продолжает мужик, – и покатилась. Привезли в село – померла, слюнями истекла. Косцы бросают работу.
– Какая бабенка? Где залом? – спрашиваю я.
– Там.
Это тот залом, те женщины, которых я видел утром.
Вскакиваю с копны.
Нет! Вот они обе, старуха и молодая, идут по дороге, серпы за шеей, возвращаются домой. Не они… На поле много женщин, много всяких заломов и прожинов.
– Вот, – говорят мне усталые бабы, – придем домой и попьем кипяченой водицы, как ты говорил.
Косцы кончают косить. Мужик с мальчиком на возу уехали. Я иду за всеми в село. Впереди нас пылит дорогу стадо, звенят колокольчики, пастух трубит, вызывая последних коров из леса. Входим в село вместе со стадами белых гусей и коров. Женщины хворостинками загоняют животных. Везде – ржанье, мычанье, гусиное гоготанье и отрывистые окрики:
– Машка! Зарока! Пропадите вы, пропадущие!
Вечереет, темнеет; воздух звенит несметной июльской мошкарой. Кипит последняя работа, будто спешат перегнать темноту. Ни одного задумчивого взгляда в наступающий вечер, – все проходит так…
Один только седой дед Сапер громадной копной стоит на бугре возле своей избы и созерцает. Он мне улыбается. Мы с ним – большие приятели.
– Как охота? Послал что господь? Ого-го! Молодчина!
В избе деда голосит, причитывая, женщина.
– Что это, старый?
– Внучонка бог прибрал.
Старик все с радостью глядит на моих птиц, будто там, в избе, – не покойник, а так…
Мошкара звенит в воздухе. Сколько сотен ее гибнет при одном только почесывании старого деда.
Все реже и реже окрики и гуще тьма. Не перегнать деревенскому труду вечера и тьмы.
* * *
Утром в селе звонят.
– Душу провожают! – говорит мне толстый лавочник и крестится.
Вокруг нас – кули с мукой и крупой, ящики с гвоздями и всякой всячиной.
– Исправник приезжал, – рассказывает лавочник. – Собирал нас в пожарном сарае, не велит пить сырой воды, есть яблоки и огурцы, базары отменил, ярмарки не будет.
– Это хорошо, – говорю я.
– Какая категория… – отвечает он уклончиво. – Ежели по первой категории, то совершенно верно – хорошо; а ежели по второй, – то и не очень. Главное дело, конечно, – закон, и спора тут никакого быть не может, потому закон – и все кончено. Грязь, вы говорите. А скажите, где грязи нет? Где человек живет без грязи? Ежели взять Москву. Вам известно, какой в Москве воздух?
– Известно.
– То-то. В Киеве дерева насажены, а под деревьями знаете что?
– Знаю.
– В Петербурге, говорят, чисто. Не знаю, сам не бывал. Но ведь, полагаю, и там есть такие места?
– Есть.
– Чище нашего места и нет, пожалуй; потому у нас озеро и воздух от него легкий.
– От чего же холера?
Лавочник смотрит на меня, как тогда Макариха смотрела на залом.
– Мы в ней не виноваты, – говорит он наконец.
– Кто же виноват?
– Подкидная… – шепчет лавочник. – Приходили в село люди. В колодцы бросали яблоки, в озеро сыпали соль. Воду отравили, воздух загрязнили. Травят, губят, крещеный народ переводят. Кто помер – радуйся; живого в землю закопают.
Звонят. Душу провожают.
Лавочник крестится. Темная туча висит над озером. Гром гремит.
– А впрочем, – говорит лавочник, – все одно помирать. Помрешь так, а не хочешь так, – громом убьет.
«Шахтеры» в деревне
Я сел в чистенький вагон третьего класса и, довольный целой лавочкой, уснул. Вдруг на какой-то станции ворвались мужики с пилами, косами, гармониками и запахом пота, махорки и водки. Многие были очень пьяны и крепко ругались. Я встал и забился в угол у окна, но один пьяный с обгрызенными рыжими усами, уставив в меня свои мутные, бессмысленные глаза, с великой руганью потребовал от меня свой чайник. Призывая всех в свидетели, он кричал, что я украл его чайник. Разъясняя трезвым спокойно, что я чайника украсть не способен, скоро я привлек к себе общие симпатии, а пьяный уснул. Но, просыпаясь время от времени от толчков поезда, он мгновенно вспоминал свой чайник и снова лез на меня с ругательствами. В моем тревожном и кошмарном сне мужицкий потерянный чайник разрастался до ужасающих размеров.
– Кто этот мужик, откуда? – спросил я других.
– Шахтер, – ответили мне, – едет с Горловки в деревню к рабочей поре, помогать.
В другой раз я встретил недавно шахтера на большой дороге. Мы с попутчиком спешили к поезду. Вдруг ось сломалась… Деревня далеко, кузницы нет, ночь наступала. И вот едет телега, на ней – пять баб и мужчина в пиджаке, очень черный. Мне пришло в голову попросить этих проезжающих взять наши небольшие чемоданы, а самим идти пешком. Бабы отнеслись к нам очень сочувственно, но черный мужчина, тупо уставив в меня глаза, сказал:
– Богатые… Посидите ночь на дороге, вам так и нужно, чужеспинники…
И, стегнув лошадь, проплыл в сумерках со своими бабами, как кошмарное наваждение.
– Шахтер! – сказал нам ямщик.
А то вот шел я на днях по узенькой тропинке у реки лугом; навстречу мне шагал парень с гармоньей, круглолицый, угреватый, приземистый, и, работая локтями, кажется, стремился так растянуть свою гармонью, чтобы она, лопнув, издала какой-нибудь особенный и окончательный звук, после которого уж не нужно было и тянуть, а все бы стало совершенно ясно, спокойно и просто на свете. Поравнявшись со мной, парень не посторонился, – напротив, чуть не столкнул меня в реку, – а сам пронесся, как буря. Окончательный звук, видно, не давался ему, и, казалось, потому-то он и несся ураганом по лугу.
Этот парень оказался тоже шахтером. Вихрем он влетит в деревню и бог знает, что там натворит.
– Дураки! – сказал мне на днях «сознательный» шахтер о своих стихийных товарищах. – Вылезут из-под земли, от старого бога освободятся, а нового не сознают. Что толку от них? Придет в деревню, поп к нему с иконой, а он попа с бранью гонит. Что толку, – людей смешить, и жить в деревне ему нельзя. А жить можно. Почему нельзя шахтеру жить в деревне? Я попа не прогоню, а только дам ему не рубль, а двугривенный…
Так говорит «сознательный шахтер», передовой человек в деревне, близкий по типу к столичному политику-рабочему, но еще со всем запахом деревни: он <…> творит новое по-деревенски. Вот его воспоминания о забастовке на шахтах в 1905 году.
…Был человек огромного роста и чрезвычайной силы: «оратор» из студентов. Этот человек вывел шахтеров из-под земли на сражение с казаками. Увидав его, первый раз казаки ружья покидали. Пришел другой отряд, и оратору отрубили правую руку. Левой рукой продолжал оратор сражаться, убил офицера, надел его мундир, сел на его лошадь и сражался, не перевязывая руки, два дня. Потом истек кровью, потерял сознание, и без него шахтеры сдались. Которых посадили в тюрьму, которых сослали, а которых привели в церковь, поставили перед иконой «Истинная Россия» и заставили принять присягу.
– А оратор без руки?
– Оратор жив! – радостно воскликнул шахтер. – Оратору ничего не сделали, потому что он руки лишился, судили его, признали виноватым, а все-таки оправдали: потому что руки лишился, – довольно с него. Оратор и теперь работает, только тихо-тихо. Но скоро он опять покажется, и тогда уж кончено…
– Что же будет?
– Победит.
– А потом что?
– Потом все будет хорошо, первое – будет у нас земля, второе – у нас будет слово свобода и третье – равенство.
– Земля, какая земля?
– Господская, казенная, удельная, сибирская, мало ли у нас земли! Но все-таки больше господская. Земля эта больше к господам относится.
– А слово свобода?
– Слово свобода – это чтобы можно было все говорить открыто и смело, что есть на душе, – это больше к полиции.
– Земля и слово свобода, а равенство?
– Равенство, – задумался шахтер, – равенство – это чтобы все было общее, а главное – чтобы чиновников не было, – это больше насчет чиновников.
Политика на лугу
Опогодилось, и начался у нас сенокос. Здесь, где я живу теперь, на Оке, луга заливные, широкие. Хозяев луга очень много, но еще больше, конечно, тех, кто косит их из четвертой части. Вот ведь время потолковать и прислушаться к этой народной стихии, которая для одних из нас с некоторого времени перестала быть интересною, для других стала еще большею загадкою.
До чугунного моста, за которым теперь идет сенокос, я еду на велосипеде и, доехав, в жаркий день чуть живой взбираюсь на высокую железнодорожную насыпь. Я с ужасом вижу на чугунном мосту доску с надписью: «Ходить строго воспрещается». И тут же сторож стоит сердитый. Если он не пропустит, то объезжать нужно очень долго. «Пропустит или не пропустит?» – трепещу я.
А впереди меня идут человек двадцать мужиков с косами. Проходят доску – сторож молчит. Я прохожу – он все молчит, но, видно, очень сердитый. Объясняю себе его молчание тем, что сторож – мужик и понимает, как дорого время косцам в рабочую пору, а пропустив мужиков, меня остановить уж и неловко.
Спускаюсь с насыпи на луг и, догнав мужиков, здороваюсь. Они окружают меня и за что-то благодарят.
– За что?
– Как за что? Будь мы одни, сторож с нас по семерке бы взял, а вот как увидал барина – боится: может, это не вы, а переодетый чиновник. Это бывает! Ну, спасибо же, милый.
И вот «стихия», вполне благорасположенная ко мне. Теперь, впрочем, и вообще внешним образом облегчился способ общения с народом: нового человека не боятся, как прежде, и, кажется, скорее склонны видеть в нем «студента», чем шпиона. И спрашивать не нужно – сами говорят.
Один, рыжий, высокий, просит у меня «хорошенького» табачку.
– От плохого на Черном море отвык, курю хороший табак, сейчас мне из города папирос принесут. Я даю табаку. Он продолжает:
– На Черном море Потемкина знал, и Шмидта, и Дрейфуса. Всех трех при мне расстреляли на острове.
Рыжий врет. Он один из тех бродячих людей, которые сокращением производства после забастовки выброшены из города на родину, к земле, которую теперь уже не могут осилить. Каждая деревня теперь богата таким бродячим людом. Кажется, он дает окраску времени. Когда такой враль говорит, то всегда становится обидно за стоящих рядом степенных настоящих людей.
– Есть, – разливается рыжий, – в Одессе «птичий магазин», и в том магазине есть водица, в которой все само собой заводится: лягушки, ящерицы и обезьяны.
Степенные слушают.
– А человек, это – не больше, как «орангутан», – говорит он, поглядывая на меня, как на своего, а на степенных с лукавой усмешкой.
Рыжий хочет показать мне, что и он интеллигент.
– Хороша трава! – обращаюсь я к оседлым степенным мужикам, чтобы избавиться от бродячих. Но отвечают бродячие.
– Ну, что ж, что хороша? На господ косим, нам только четвертая доля, трудимся, трудимся, берешь, берешь, а отдавать нечего.
– Верно! – вступаются степенные.
– А кто виноват? – подхватывают бродячие. – Виновата во всем матушка Екатерина, что она роздала всю христианскую землю вельможам, с нее начинается.
Степенные мужики, услыхав об Екатерине, сами пытаются что-то сказать. Один тужился, тужился и вдруг выпалил:
– Бог сотворил свет?
– Ну, бог.
– Ведь не сотворил же он его одному, вот как барину нашему тысячу десятин, а мне тысячу вершков? Бог сотворил свет для всех одинаково, а эта неправда, стала быть, от Екатерины этой самой.
– От нее!
Все мужики теперь объединяются в общем гуле недовольства, и уж больше не разобрать, кто степенные и кто бродячие. Бранят Думу, бранят правительство, господ, но особенно бранят хутора.
«Куда деться тем, кто лишится земли?» – вот общая жалоба. «Тех больше, кто останется без земли». Но самое главное: «Зачем все это сделано?»
– А вот зачем…
Один бродячий объясняет теорию о «крепкой земле» и верных правительству мужиках.
Все это знают, но делают вид, что слышат первый раз и будто сразу, неожиданно, открывают «заковырку», отчего становится понятна вся механика политики правительства с самой нехорошей стороны.
Кричат, ругаются…
Что можно вывести из этого беспорядочного крика на лугу не пьяных, а собравшихся для работы людей и вдруг забывших о работе при встрече с незнакомым человеком?
* * *
Я не хочу мешать работе. Беру велосипед и нечаянно цепляю колесо за траву: оно быстро крутится. Мужики мгновенно бросают спор и с величайшим вниманием и восхищением смотрят на удивительную машину.
– Поднять бы старого деда! – говорит один.
– Гурьича! – подхватывает другой.
Жил когда-то Гурьич-дед, всему удивлявшийся, на все имевший свои складные прибаутки. Жил этот дед «в одном окошке» величиной с зубчатку велосипеда. Вокруг него были все такие же, как у него, курные, в одно окно, избы, чугунки не было, и не было этого великолепного моста, на постройку которого ушел весь бор. Вот про этого-то деда и говорят теперь мужики.
– Поднять бы Гурьича, и не узнал бы он место, – с каким-то возрастающим почти восхищением говорили мужики – Изба кирпичная, железом крытая, теперь изба, что нумер стоит! Откуда все навозили, накопали, все так ладно, а копаного нигде и не видно! Чай пьют с сахаром, едят калачи, одеваются в ситец.
Так говорил бы воскреснувший Гурьич.
С удивительным согласием все степенные и бородатые мужики восторгаются теперь цивилизацией, все больше и больше проникаясь удивлением Гурьича. Все забыли о том, что пять минут тому назад говорили чуть ли не о наступлении конца света и невозможности жить теперь мужику.
Я прямо и спрашиваю их, что сказал бы Гурьич, когда, осмотревшись кругом, прислушался бы к недовольным обитателям хат-нумеров.
Задумались степенные и бродячие, и после долгой паузы один, с умными глазами, решительно сказал наконец так:
– Раньше народ был глуп!
– Вот это так! – согласились все.
– Раньше народ был глуп: греха боялся.
– И это так!
– Теперь народ поумнел, а земли поубавилось.
Оратор подробно и дельно изложил причины семейных разделов, одобряя их, видя в них хорошее. Выходило, что народ умнел, а способность применить свой ум ускользала. В этом и виновато правительство.
– А вот хорошие правители так бы делали: на каплю поумнел человек, ему бы за это вершок земли. За каждую каплю – вершок. Вот то было бы дело! – закончил оратор, и с этим дружно и горячо согласились.
Итак, по лугам говорили все о той же земле. То новое, что бросается в глаза, – это, конечно, увеличение в последние годы бродячего люда и та особая цивилизация их, которой заражаются и оседлые. Имея в виду будущее хуторского хозяйства, размножению этого бродячего люда и конца не предвидится.
У хуторян
Вот громадное лесное имение Смоленской губернии, площадью равное хорошему уезду. Этому имению теперь пришел конец: оно ликвидируется и превращается в крестьянские хутора.
Старый дед, из крепостных, рассказывает о том, что было пятьдесят лет тому назад:
– Жили, никли, но зато другой человек широк был!
Барин Андрей Иванович был широк; он был либерал и мудр до того, что даже полиция его боялась. Барин говорил мужикам: «Старосельцы, будете вольными!» А барыня была крепостница, она показывала свою ладонь барскую и говорила: «Когда волосы на ладони вырастут – будете вольными».
На крайней неделе (последней перед волей) барин велел кучеру запрячь своего лучшего жеребца в навозные сани, скакать и кричать в деревнях: «Вольные, вольные!» Прискакал кучер и закричал: «Старосельцы, вольные!» Скоро и правда, воля вышла, а у барыни на ладонях шерсть стала показываться…
Потомство либерала и крепостницы теперь совершенно иссякло, имение переходит в крестьянские руки; за несколько последних лет все это лесное имение превратилось в тысячу и больше крестьянских хуторов. Строевой лес сведен, дровяной для скорости выжжен, там виднеется черная гарь, там по гари работают «смыгом», там виднеется полянка хлеба на нови; во ржи, как монахи, торчат горелые стволы деревьев, между желтыми соломинами хлеба краснеют лесные ягоды и вырываются лесные птицы, тетерева.
Видел я хуторское хозяйство только в Орловской губернии, на черноземе, где прежнее господское имение делится на квадратики и на маленькую площадку пересаживается из деревни поощряемый мужик. Я думал, что и везде так… Но вот передо мной – серьезное дело: на глазах лесная дебрь расступается, впускает небольшой дом и вокруг дома поля. Глядя на эти наивные лесные поля, становится и леса не жалко- слишком уж очевиден труд полезный, человеческий.
На десятки верст – все хутора… Со мной ехал один господин на ликвидацию имения: не этого имения, а другого, соседнего. Он немного расстроил свои финансы и теперь хотел в глуши немного поправить их. Он улыбается моему невежеству, что я это большое и серьезное дело представлял себе по Орловской губернии.
– Квадратики, – говорил он, – давно теперь брошены.
Ликвидатор вполне верит в свое дело, предан ему.
За две недели пребывания среди этого вырубленного леса мне, занятому другим делом, конечно, не удалось фактически изучить окружавшую меня жизнь, но впечатления были…
Я поселился в крестьянской избе не хуторянина, а в обыкновенной деревне. И вот в глуши, за сорок верст от железной дороги, какую же семью встречаю я в наше новое время: отец старик из крепостных, тот самый, что рассказывал о барыне, у которой выросла шерсть на ладони; сыновей у старика трое: один – рабочий с большого петербургского завода, конечно, социал-демократ; другой – флотский матрос, третий – шахтер с юга. Все сыновья явились домой к рабочей поре помогать старику и бабам. В рассуждениях молодых ничего нет оригинального, однако, когда представишь себе эту глушь, послушаешь старого деда из крепостных и подумаешь, что много таких других людей в деревне, то все это кажется новым и странным. За деревенскими полями начинаются хутора и та совершенно новая, отличная от деревенской, жизнь собственников хутора, которые на первых порах кажутся символом начинающейся новой личной жизни в массе народной…
На первых порах, однако, не заметно тех напряженных отношений между хуторянами и деревней, о которых приходится читать и слышать. Напротив, в праздник и хуторяне, и деревенские собираются иногда вместе. Только после, когда разберешься в самом составе хуторян, начинаешь понимать, какая глубочайшая психологическая пропасть должна быть между деревенским русским крестьянином и отдельным существованием хуторянина в лесу.
Я наблюдал несколько групп крестьян, покупающих участки. Одна из них – крестьяне ближайшей деревни, которые смотрят на покупаемый участок просто как на расширение своего надела, живут в деревне и ничем не отличаются от обыкновенного крестьянина. Вторая, – значительная и, быть может, самая большая группа, – бродячие, пробующие пристроиться к земле малосильные люди.
– Барин, – спрашивает меня один из таких, останавливая меня на большой дороге, – барин, не скажешь ли, где тут земелька хорошенькая?
Я называю одно имение. Крестьянин отвечает, что там он уже пробовал и теперь ищет получше.
Третья и самая основательная группа – латыши и выходцы из западных губерний, известные под общей кличкой «поляков».
Живут эти «поляки» хорошо, пришли сюда с деньгами, но мрачные, одинокие, психологически совершенно чуждые перестраиваемой крестьянской жизни.
Ни в той, ни в другой, ни в третьей группе поселенцев не мог я найти, конечно, ничего, что указывало бы положительное новое в переустройстве русской крестьянской жизни.
Только раз я набрел на русского хуторянина, который превосходно устроился на новой земле. У него – большая семья, хороший скот, и севооборот на полях восьмипольный, и все устройство так похоже на обычное русское, и сам он деловой и угрюмый, совсем не такой, как русские общинники. Расспрашивая его, я узнал, однако, что он давно уже разорвал связь с деревенской жизнью, здесь же он купил теперь землю, потому что тут получше.
Когда я возвращался назад и смотрел на эти новые деревянные домики, на лесные поля, на всю эту картину борьбы человека с природой, так поразившую меня вначале, то уже не видел для себя ничего нового. Я уже знал, что это делают «поляки», а не русские общинники-крестьяне.
На светлой земле*
I
В нашем краю крот невидящий, нащупав под собой почву, может у себя в норе с точностью представить картину жизни. Если земля мягкая, рыхлая, чернозем, то на нем голо, хоть шаром покати, леса вырублены, ручьи пересохли, люди живут под соломенными крышами, отопляются навозом, одеваются в городскую одежду и боже сохрани тут поклониться проезжему барину: шапочки не покривят! Зато в этой же самой губернии, в том же самом уезде, если только почва легкая, светлая, для земледелия не очень удобная, – все наоборот. Стоят леса дремучие, на удивление всем, стена стеной, везде змеятся ручьи и речки, шевеля зелеными тростниками и осоками, трава на лугах по пояс. Тут мужики и бабы одеваются в холщовую самотканую одежду и с господами кланяются низенько-пренизенько.
Рожденный на полосе с темной почвой, это лето я живу на светлой земле.
Вот иду я возле опушки дремучего леса и края ярового под вечер. Уже начинали косить овес, брать лен, гречиха сморщилась и потемнела, пустое оржанище покрыто рано табунящимися грачами. Опять я запоздал, и домой мне до ночи не добраться. Придется, думаю, ночевать в копне или где-нибудь по соседству в деревне. Под защитой своей собаки и охотничьего ружья везде я себя чувствую как дома и очень даже люблю такие случайные ночевки где-нибудь. Повертываю к маклаковской вершине, за которой должны быть Маклаки, и вдруг вижу, из леса в поле высовывается длиннейшая пика.
– Кондрашкин, ты? – окликаю я.
– Я! – отвечают мне из леса. – Не бойся.
Выходит маленький мужик с длинной пикой. На голове у мужика рваный картузишко, бороденка жидкая, нос сплюснут, будто кто-то хорошо дал по нему кулаком, ноздри спирально закручены, и при всем этом мизерном виде в руках страшнейшая пика славяно-варяжского стиля.
Солнце еще не село, еще видны на поле трудящиеся спины с темными пятнами пота на белых, прилипших к телу рубахах. Все так серьезно, так значительно, и вот зачем-то курносый мужичок с пикой.
Я не раз с ним встречался и, бывало, любопытствовал.
– Кондрашкин, – спрошу, – на что тебе пика?
– А как же, – отвечает он, – нынче народ хам!
И, право же, совсем неглупые, серые, холодные глаза выглядывают из-под его рыжих бровей. Дело в том, что Кондрашкин уже начальство, он полесовщик. С него начинается вся бесконечная цепь начальствующих лиц. Вид его, конечно, мужицкий, но вот уже пика и это хождение в лесу, когда все работают на поле. Как самый нижний и ближайший к молоку шарик сливок все-таки есть уже жировой шарик, так и Кондрашкин – начальство. Ему не легче от этого. Все простые люди, отработав день, могут жить беззаботно: хватит сил – веселись, уморился – спи. А Кондрашкин всегда должен быть настороже, ему вверен лес. Обыкновенный человек другой раз потянется и скажет: «Хорошо все-таки жить на белом свете крещеному человеку». Кондрашкину потянуться нельзя. Ему не легче… Конечно, есть кое-какая выгода, – без этого нельзя, – но тут суть-то не в выгоде, а в мыслях. Кондрашкин думает по-своему, а они – по-своему. Кондрашкин – начальство…
Когда я гуляю возле маклаковской вершины и иногда, восхищенный синевою лесов и ветром разноцветных полосок хлебов возле далекого сельца с колокольней, вдыхаю смолистый лесной воздух и бываю иногда готов уже признать, что где-то, вне меня, все соединено в одном, – неожиданное появление Кондрашкина с пикой меня останавливает. «Нет, – думаю я, – то, что меня восхищает, есть мой собственный мир, художество, так сказать, специальность, а вот этот человек – совсем другое. И нет тут никакого соединения: то – художество, а те – Кондрашкин с пикой».
II
– Кондрашкин, бог тебя знает, ноздри твои как-то не так улажены, – говорит старый дед-полевик.
Мы сидим возле леса на мягких зеленых моховых подушках.
– Ноздри, – отвечает деду Кондрашкин, – вывернуты и перекручены не один раз, от боя такие ноздри.
– Кто тебя бил, за что тебя били? – спрашиваю я.
– Народ, – отвечает Кондрашкин. – Знаешь, какой теперь народ: хам! Сидел в лесу, грелся у костра. Подходят двое, заводят разговор. А сзади еще двое подходят – и цап-царап! Схватили за плечи, повалили. Пику об голову четыре раза сломали. Вылежал в больнице два месяца. Вот отчего у меня ноздри, бог их знает, какие-то…
– За что же тебя били?
– Что лес стерегу.
– Не может быть!
– Нет, может быть. У них на меня в носу. Им мною пахнет.
– А как же я ночую в лесу?
– С собакой ничего. А без собаки попадешься, тоже зацепят. Хам стал народ… Пойдем лучше ночевать ко мне в пуню.
Ночевать в пуне на сене… Я согласен. Мы прощаемся с полевым дедом. Сухие открытые поля с копнами, возами, бабами и мужиками остаются у нас за спиной. Мы вступаем в мрачное царство Кондрашкина, в вечерний лес. Уже просыпаются ночные птицы. На небе узкой лесной просеки уже чертят короткие линии летучие мыши. С открытых полей еще доносится хоровая песня; здесь только пика Кондрашкина шевелит листву.
III
Тихая, теплая и звездная ночь. Пахнет сухим сеном.
– Ну, иди! – слышу я впереди себя голос Кондрашкина. – Идешь?
– Иду!
Мои протянутые вперед руки нащупывают что-то огромное.
– Телега, не наткнись…
Я повертываю налево и опять натыкаюсь.
– Сани, держись посередке.
Там, откуда тянет сеном, вдруг приглушается голос моего проводника, и сам я через два шага не вижу звезд, вокруг кромешная тьма и шорох сена.
– Ну, иди! – слышу я голос где-то высоко над собой.
Ползу по сену на голос. Ложусь в приготовленную ямку. Как большую отраду, вижу в выломе ворот звезду.
Запах сена душит. Сухие былинки колют везде и щекочут. Тьма непобедимая: смертным грехом считается спичку зажечь. То ли дело дремать где-нибудь на поле или на лесной лужайке, прислониться к сухой копне.
Не спится. Я опять говорю Кондрашкину.
– Неужели так-таки и изобьют, если в лесу ночевать?
– А может, ничего, – отвечает он, – какие люди попадутся. Бывают и порядочные. Вот раз со мной было… Иду я ночью в лесу к маклаковской вершине. Светится огонек, и люди сидят у костра. Что за люди? Подхожу шагов на двести. Человек десять сидят у костра, а какие люди, все не видно. Я еще ближе подхожу, шагов на пятьдесят; им меня из-за огня не видно. Разглядываю: кто сидит, кто лежит, курят, все по-хорошему. Сапоги у них в калошах, пиджаки, картузы, как теперь на фабриках носят, папиросы в коробках, сморкаются в белые платки, одно слово – люди не какие-нибудь, а все до одного порядочные. Что они мне сделают? Выйду…
«Вы что за люди?» – спрашиваю. «А ты кто такой и зачем?» – отвечают они. «Я – Кондрашкин, полесовщик». Оглядели меня с ног до головы, а тронуть не тронули. «Садись, – говорят, – с нами, сейчас придет наш человек, угостим». – «Спасибо, – говорю, – вам на добром слове». – «Садись!»
Приходит их человек из поселка с большим мешком. И колбасы разные, и сыры, и рыба, и вино. Накормили меня, напотчевали досыта. Костер затоптали, прощаются. «Мы пойдем, а ты чтобы никому, смотри ты, а не то… – Пригрозили. – Ступай!» – говорят. А мне их жалко, люди хорошие и вдруг так пропадут. «Куда же вы-то?» – спрашиваю. «Ну, этого, – отвечают они, – мы тебе уж не скажем». Засмеялись и ушли. «Рискунцы, – говорю им вслед, – не сносить вам головушек. А мне что. Мне вы худа не сделали, а даже совсем напротив, напоили, накормили. Моя хата с краю, ничего не знаю».
Хорошо… Так подходит Спас и ярмарка. Еду в поселок разговеться медом и ситником. Сижу на своей телеге, закусываю. Слышу, кто-то за полу дергает. Оглядываюсь. Стоит человек, одежа порядочная, ухмыляется. «Помнишь, – говорит, – маклакову вершину?» Я перепал. «Молодец же ты, – говорит, – хорошо молчишь. Нам все известно. Пойдем в трактир, угощу». Мне недосужно было. «Ну, – говорит, – на так…»
Дал мне целковый и пропал, будто протаял. Малое время спустя, слышу, почту ограбили. Не иначе, думаю, мои рискунцы. Потом – сборщика. Потом – еще и еще. Им бы ограбить да окоротиться, ограбить да подождать. А они чередом. Так жуть кругом навели. «Ох, – говорю, – не сносить вам головушек!» И, конечно, попались. Шестерых повесили, четверо – в каторжные работы пошли…
– Так вот видишь, – заключил Кондрашкин свой рассказ, – ты спрашиваешь, как ночевать в лесу, вот теперь сам смотри: попались недобрые люди – избили, а попались порядочные, так и наградили…
IV
– Какие же они порядочные, когда их повесили? – спрашиваю я.
– Так ведь их же за дела повесили, – отвечает Кондрашкин.
«За дела повесили, – повторяю я про себя, – а то, что не дела, то, что они „порядочные“ и не избили Кондрашкина, это куда же делось? Тоже повешено с „делами“ или как-нибудь отдельно живет?»
Хочу спросить об этом Кондрашкина, но не могу найти понятных ему выражений.
– А ты видел ли, как вешают людей? – перебивает меня Кондрашкин.
– Нет, не видал.
– А я видал на Кавказе. При мне пятьдесят человек армян повесили. Их очень просто вешают. Есть такие кошки железные с крючками, подхватят горло, табуретку вон, те и танцуют; попрыгает, попрыгает, вытянется и повис, как плеть.
– Страшно?
– Страшно. Одного посмотришь, а больше и не хочешь, отвертываешься.
Кондрашкин помолчал и продолжал:
– А вешал, должно быть, хо-ро-ший человек. Как же, ему дают по десять рублей за голову, а он не берет: «За деньги, – говорит, – этих делов не делаю».
– А без денег?..
– Без денег что же, тут – закон, не по своей воле, кто-нибудь да должен вешать.
– А может быть, не должен?
– Что же с ними делать? Грабят, убивают. Ведь у них такая природа. Возьми конокрада. Посади ты его в тюрьму хоть на десять лет, – выйдет и опять за свое. А повесь его…
– Кондрашкин, да ведь это же не по-христиански!
– Конечно, не по-христиански, – отвечает смущенно Кондрашкин.
– Так как же быть?
– А ведь они-то зачем же не по-христиански?
– Конокрады?
– Хоть бы конокрады. Они не по-христиански, и с ними не по-христиански.
– Око за око и зуб за зуб?
– Зуб за зуб! – сказал решительно Кондрашкин и как-то весь сразу притупился и иссяк.
Сколько раз я ни пытался после повернуть его опять на острие вопроса, Кондрашкин неизменно говорил:
– А они зачем не по-христиански? Они не по-христиански, и с ними не по-христиански.
– Око за око? – спрашивал я.
– Зуб за зуб! – твердо отвечал Кондрашкин.
V
Как хорошо проснуться утром на светлой земле! Через открытые Кондрашкиным ворота и через все щели пуни пробилось солнце. Я лежу наверху душистой золотой горы. Во всю длину перемета от стены к стене грудь возле груди сидят ласточки и смотрят на мою собаку. А она своим носом, покрытым множеством породистых пятнышек, медленно проводит от края перемета и до края, будто считает. За пуней лес. Я угадываю его по птичьим песням, по говору березовых верхушек. И золотое и зеленое певчее утро на светлой земле…
Кондрашкин показывается в дверях, тоже весь золотой.
– Тебе что?
– Пику забыл…
Новые места
Адам и Ева*
I. Вечная пара
1
Ехали легкими почвами, светлыми. Целый день мелькали в окне скромные рощи у скромных ручьев, стада белых гусей на лугах, тихие заводи и поруби с последними склоненными березками. И еще ехали целый день по той же равнине. Тянулись тяжелые, жирные, черные нивы. Еще на день хватило размашистого Поволжья и прославленных Аксаковым уфимских краев. Тут уже первые уральские сопки и, наконец, самый Урал, весь Урал, как седая бровь старика.
На легких почвах – легкие копны, на тяжелых – тяжелые, солидные, в тринадцать крестцов. Просторно думается: в больших пространствах есть своя поэзия. Вспоминается Ермак Тимофеевич.
И еще много таких дней впереди, и все будет та же страна, и до конца ее я не доеду.
На Урале докашивают. Сверкает смелая привольная коса впереди, а позади смиренная женщина склонилась над скошенным хлебом. Он – косит. Она – вяжет. Вечная пара, покорно выполняющая заповедь бога: в поте лица своего добывай хлеб.
Она красива, эта пара людей, на этом поле, окруженном угрюмыми, однотонными, но выразительными старыми-старыми уральскими сопками.
И вдруг конец библейскому пейзажу. Окончена лента кинематографа.
Перед моими глазами – красный занавес с надписью: «Теплушка для людей». В маленькое окошко где-то высоко высунулась всклокоченная, бородатая голова и другая, в ситцевом платке; глядят, как лошади, из темной маточной на светлый двор. Лента кинематографа окончена. Занавес закрыт. В уродливое отверстие глядит та же самая вечная пара: Адам и Ева.
Кто-то спрашивает:
– Обратные?
– Нет, туда. До осени все туда. С осени до масленицы назад. С масленицы опять вперед. Назад идет, лохмотьями трясет, вшей бьет; вперед…
Я вижу в приоткрытую дверь теплушки, как Ева что-то ищет в склоненной к ней на колени голове Адама…
Занавес опять открывается: Адам и Ева, прекрасные, косят. И закрывается: возле рельсов в ожидании «теплушки» лежат грязные тела с грязными мешками. С отвращением глядят на них проезжающие, с отвращением, недружелюбно говорит о них сибиряк, и кондуктор, ругаясь, цепляет новыми сапогами за старые лохмотья.
Занавес то открывается, то закрывается. Когда он закроется, я думаю: «Почему эти же люди так красивы там, когда косят, и почему отвратительны здесь, в теплушках, в обстановке этого, казалось бы, такого красивого движения на новые места, в страну обетованную?»
Я объясняю себе так: те Адам и Ева живут в лад природы, они не начинают жизнь от себя, они повторяют вечные круги природы, став прекрасными от вечного повторения, от вечного напоминания о себе. А здесь, в теплушках, самое-то самое голое начало задуманного человеческого быта. Этих Адама и Еву бог только что выгнал из рая.
2
Я ехал в глубину среднеазиатских заиртышских степей, к пастухам-кочевникам. Я рисовал в своем воображении бесчисленные табуны, стада, степных всадников, перегоняющих их с места на место; старался представить себе в действительности психологию людей того мира, который для нас, горожан, существует как сказка. Мои глаза были прямо обращены туда, по краюшкам; я решил наблюдать и вечную пару Адама и Евы.
Весной в самом сердце России, в черноземных губерниях, я наблюдал, как в народе зарождаются мечты о новых местах. Там, в этой чудесной стране: картошка – двугривенный, хлеб – четвертак, мясо – три копейки; лес – даром бери. В таком смешном, съедобном стиле рисуют себе синюю птицу и страну обетованную люди земли, оторванные от нее, вот-вот только ставшие мечтателями и поэтами по необходимости.
Весною в родном краю я сочувствовал этим забавным и несчастным мечтателям, напрасно добивающимся «билета на новые места» в землеустроительной комиссии.
Теперь, осенью, я наблюдаю осуществление этой мечты. Мне кажется, если я увижу край, населенный просто сытыми людьми и здоровыми, я буду доволен.
Осенью переселенцы, убрав хлеб, едут на новые места. Я видел, как катились эти теплушки с людьми. Теперь вижу их на берегу Иртыша.
– Груз хороший, – говорит мне капитан, принимая от чиновника переселенцев, – славный груз: не подмокнет, не сгорит.
Чиновник рассказывает мне, как обширно, как хаотично это движение и как это все хорошо устроится теперь, после проезда переселенческого начальника, самого-самого главного. Везде назначены ревизоры. Приняты самые строгие меры относительно взяточничества, – бича переселенческого движения. Он показывает мне большой самовар с кипяченой водой с надписью: «Не пейте сырой воды». Показывает новый барак и больницу. Читает свое собственное стихотворение о переселенцах. Он либерален.
– Прослужит год-два и уедет, – говорит мне мудрый, видавший виды капитан. – У нас чиновники не живут: сделают карьеру – и лататы. Остаются взяточники. Без этого тут нельзя, в Сибири.
И какой-то почтенный сибиряк развивает тут же свои оригинальные, парадоксальные мысли: русский народ неземледельческий; о земледелии всё славянофилы раздули и народники; немецкие колонисты живут хорошо, русские – плохо; немцы – культурные, русские – некультурные; земледелие от культуры, значит, русский народ неземледельческий.
– Сами увидите! – напутствует он меня.
Пароход наш прекрасный, удобный. Своды Иртыша там и тут поднимаются стаи гусей, уток, лебедей; беркуты парят над степью или, большие, сутулые, дремлют на песчаных отмелях. Природа однообразная и угрюмая, но видно, что нетронутая и потому прекрасная. Спуститься к переселенцам вниз можно, только принудив себя.
Тут представители всех концов России, как кули, сложены на полу; пьяный парень с гармоникой прямо идет по телам.
– Анчутка! Анчутка! – шевелятся просыпающиеся женщины.
Таврические, черниговские, полтавские, рязанские, оренбургские…
– А есть орловские?
– Нету.
– Ка-ак нету! Мы – орловские…
Полтавские рядом с орловскими, а не знают о них ничего. То – кацапы, а эти – хохлы. И многие так, лежа друг возле друга, ничего не знают: кто он и откуда. Держатся семьями, отдельно, все со своими иногда затаенными планами. И только с внешней стороны кажется, что вся эта серая масса, объединенная одним горем, движется в одну и ту же страну обетованную.
Семья плотников. Едут целое лето. Приедут в город, заработают денег – и дальше. Их четверо, заработали много. На месте припишутся к знакомому старожильскому обществу. Вид у них бодрый, веселый.
Бочкари и овчинники – солидные люди, будущие сибиряки, деловитые, но угрюмые и строптивые.
Но эти самостоятельные люди, независимые от правительственной помощи, иногда попавшие просто случайно в общую массу, немногие. Большинство – серый, обиженный люд. Едут зря, «на волю господню». Все это – живая иллюстрация к общему закону переселения: лучшие переселенцы, это – независимые от правительства. Вся остальная масса инертна… Я вспоминаю спор двух чиновников: «Половина из них просто бродяги», – говорит один. «Не половина, а одна треть», – оспаривал другой.
Биографии однообразны, неинтересны. И только, что вот едут они куда-то на волю божию, на риск, куда-то на Алтай, в «золотые горы», привлекает к ним участие.
Обгорелая лопата под ногами… Вспоминаю ее… Где-то видел: в Самаре, в Челябинске, в Омске? Кажется, в Омске. Мы по поводу ее долго рассуждали с переселенческим чиновником: во что обходится эта обгорелая лопата, которой сажают в печь пироги, если привезти ее из Таврической губернии на Алтай? Сколько новых лопат можно купить на эти деньги? А старый хомут? Кочерга? Связка лучинок, чтобы потом на новых местах согреть самовар? Сколько тут из-за этих лучинок, наверно, было ссор с мужьями? И вот опять эта вечная пара: хохол и хохлушка у кормы на фоне желтой сибирской степи. Он говорит с товарищами о хуторе на берегу Иртыша. А она грустно смотрит в пустую степь без деревьев, без яблонь и вишен, без мазанок белых с плетнями, без церквей, желтую, сухую, дочиста выжженную солнцем, с сухой низенькой щеткой вместо травы, и говорит:
– Як бы трошка землицы в Полтаве, так на що б я в ту бисову землю поехала!
3
Переселенцы уплывают вверх по Иртышу. Говорят, им будет там впереди хорошо: в долинах Алтая будто бы есть чудесные земли, почвы каштановые и плодороднейшие лёссы.
Со мной в этот степной городок Павлодар вышли немногие. Да я тут же и забыл про них, охваченный новыми впечатлениями от этого сухого края.
Знойное лето спалило листья на немногих деревьях. Еще в июле, как позднею осенью, они попадали. Ручьи, реки, колодцы, – все высохло. Пастуху это все – не беда, земледельцу – конец. Мусульманский киргизский бог прогневался на православного: многие переселенцы бежали обратно в Россию.
Обратные переселенцы, о которых столько везде в Сибири говорят, которые служат таким очевидным доказательством дурной постановки переселенческого дела, – что-то страшное, если подумать о том, чего стоит им добраться сюда. Какие они, эти степные неудачники? Правда ли все это говорят?..
Городок, куда я вышел с парохода, чтобы отправиться в глубину заиртышских степей, – весь сквозной: глаз бежит по улице в степь и по пути захватывает верблюжью голову, белую чалму, малахай, многоцветный халат и широкие, с гордостью носимые киргизами на виду ситцевые панталоны.
Городок сообщается со степью, с той стороной Иртыша, посредством «самолета». Это – плот с колесами, как у парохода, но приводимый в движение лошадьми.
Ветер – боковой. Самолет не смеет отчалить. Мы стоим у берега с раннего утра и до обеда. Вокруг нас скопляются верблюды, бараны, коровы. Сзади напирают новые стада. Быки нам давят бока своими рогами, лошади стегают хвостами по киргизским лицам, желтым, как спелые дыни. И хохот, и дикие крики, и забавное стеганье друг друга нагайками, и мудрая беседа почтенных людей на верблюжьих горбах – все это было так ново мне и странно, – в глубине сердца знакомо.
– Тпр… Тпр…
– Как, и у вас «тпру»? – спрашиваю я переводчика.
– Да, и у нас «тпру», – отвечает он.
Вот оно, это знакомое, догадываюсь я: когда-то эти степные всадники были к нам близехонько. Их острые глазки, их насмешливый вид, болтовня и вся эта хаотическая суетня и многое, что указывается чутьем, но еще не улавливается сознанием, – все это и у нас есть и только прикрыто чем-то другим.
Плот трогается. Корова падает в воду. Доски трещат.
– Ай-ай-ай. Джамантой!
– Ха-ха-ха! Верблюд падает.
– Господи! – шепчут прижатые к рулю Адам и Ева. – О, господи!
Плот кружится. Все, кто близко, лупят нагайками изморенных, вертящих колесо лошадей. И хохот, и крик. Животные падают, плывут. И так странно, что все еще эта громадная масса животных не разломит плот, что вся эта визжащая, хохочущая и кричащая бесформенная масса не рассыплется. Несмотря на всю эту нелепицу, мы едем. Одно утешение: может быть, это все с непривычки так кажется опасным, а на самом деле так оно и быть должно?
Кошка прыгнула с верблюда на лошадь, с лошади – к нам.
– Брысь!
– Как, и у вас «брысь»?
– Да, и у нас тоже «брысь».
– Во-от что!
– Вот что.
И чем ближе подплывают к нам юрты с той стороны Иртыша и новые стада, чем страшнее становится, что эти стада с той стороны непременно же двинутся на нас, когда мы причалим, и, быть может, столкнут нас в воду, чем сильнее подпирают в бока бычачьи и коровьи рога и ближе дышит сзади верблюд, тем все понятнее и понятнее то, что-то знакомое.
Да вот же оно: это – та же Россия, это – она, от нее не уедешь никуда, это – тоже свое, близкое.
Бесформенность, хаос и все-таки лик.
Вот-вот потонем.
Но плот все плывет.
4
Мы едем сутки в степи, едем другие, и все оно такое же и такое сухое желтое море: как снег, выступает соль на дорогу, озера мертвые, соленые, со страшными фиолетовыми краями
Жутко: потонуть нельзя в этом сухом океане, но во если бы пешком, так все равно пропадешь, и думать об это так же страшно, как иногда глядеть в глубину с парохода Хорошо, что лошадь трусит.
Все знают тут единственное дерево. Возле него ручей размыл солонец, оттого оно и выросло. Тут останавливаются для ночевки все караваны. Мы тоже останавливаемся, собираем кизяк, разводим огонь; недалеко от нас киргизы тоже разводят огонь. Месяц всходит. Вырисовываются бронзовые профили сартов и киргизов, и…
– А этот бородатый, там, у огня, с женщиной?
– Переселенцы.
Адам и Ева, – радостно узнаю я земляков.
– Вы – обратные?
– Нет, едем пошукать: нет ли тут еще где земли?
– Плохо вам?
– Плохо. Глаза потеряли плакавши. Вот…
Показывают зеленый хлеб, похожий на куски малахита. Женщины думают, страшнее этого зрелища нет ничего: и скисает, и хлюпает.
– Куда вы едете?
– В Семирек (Семиречье), там хлеба много.
– Не ездите, – говорю я, – не ездите.
Я уже говорил с обратными из Семиречья. Они едут оттуда потому, что там дико, там хлеба много, хлеб нипочем, но жить нельзя: человек из России хоть и простой, но не первобытный человек и не фантастический Робинзон Крузо. Он теперь уже не может жить на одном хлебе и бежит из диких мест. Я сам видел их, говорил с ними: там хлеб – двадцать копеек за пуд, здесь – один рубль семьдесят пять копеек, и все-таки они бегут оттуда сюда.
– Не ездите, – говорю я, – поезжайте лучше в Россию, – и рассказываю, что сам видел обратных из Семиречья.
– Так то кацапы, – отвечают хохлы, – им бы только деньги забрать: заберут – и тикать. Мы пошукаем.
Поднимаются караваны, скрипят и визжат арбы, будто сотни собак сцепились; плывут высокие переселенческие фуры по глухой, ровной, степной дороге. Соленые озера глядят глазами пустыни. Полудикие всадники…
Я сам, своими глазами, видел, как проехали два переселенческих чиновника; говорят, где-то тут близко будут землю нарезать. Видел, как они скрылись по боковой кочевой дороге, и спрашиваю себя: как же жить тут? Вот эта солончаковая земля, прикрытая галькой, желтая щетка на ней, стелющаяся полночь над ней…
Сибирь – богатейшая страна. Сибирь – необъятное пространство. Сибирь – золотое дно, страна обетованная. И вот эта степь – пустыня с мертвыми солеными озерами. Этот край, где нужно брать с собой воду, чтобы не пить из ям, где тонут степные зайцы и крысы, где вода среди лета пересыхает и колодцы становятся вдруг солеными.
Зачем же здесь Адам и Ева? Да еще кому-то они мешают: кругом стоном стоят жалобы на этих непрошеных гостей.
Трудно на первых порах утомленному переездами в триста – четыреста верст во всем этом сразу разобраться.
Пока я решаю странный вопрос так: богу наскучили жалобы вконец испорченного человека. Он сотворил его вновь и пустил опять в рай. И опять согрешил человек, и опять был изгнан из рая обрабатывать землю. Но бог забыл про малоземелье, что теперь земля уже вся занята. И вот бродят теперь Адам и Ева, ищут места, где бы лучше и скорее выполнить заповедь божию. Бродят по тундрам, тайгам и пустыням. Но и тут земля занята.
II. Самодуровцы
Движение, движение… Когда же наконец водворение Адама и Евы? Здесь уже Средняя Азия, недалеко отсюда уже «исторические ворота народов». Места пустынные, с большими низкими звездами. Самое подходящее место для изучения жизни первых людей после грехопадения.
– Тут они, – говорят мне, – тут где-то недалеко, за той горой, в Закопанном Колодце.
Бас-Кудук, значит «Закопанный Колодец», – название местности.
Киргизы, по мнению некоторых ученых, своим творчеством напоминают греков при Гомере: они воспринимают внешний мир непосредственно и воспевают его таким, как воспринимают. На это отчасти указывают уже одни названия мест. Потеряется лошадь во время ночевки в степи – место это назовут «Потерянная Лошадь»; сломается колесо на дороге – урочище назовут «Сломанное Колесо»; попадется на глаза это колесо во время рождения ребенка – киргиз и ребенка назовет Сломанное Колесо.
Места, получившие наименование Закопанный Колодец, обыкновенно имеют современное происхождение. Вода здесь, как говорят ученые агрономы, «в минимуме»: не так почва, не так климат, как вода определяет возможность какого бы то ни было хозяйства.
И вот, когда переселенческий чиновник, проехав суток двое-трое солонцами, вдруг увидит где-нибудь в горной долине земельное «удобствие» и будет так неосторожен и похвалит его. то киргиз после проезда чиновника закопает колодцы: будто здесь воды нет. Местность потом у киргизов будет называться Закопанный Колодец.
Так это мне объясняли.
– Тут, – говорят мне, – живут переселенцы, в Закопанном Колодце, вот уже близко, вот и озеро. Большое озеро блестит перед нами.
– Пресное?
– Пресное.
– Как это может быть? При чем же тут закопанный колодец?
И вот какую повесть рассказывают мне о долине Закопанный Колодец.
– Да, это было. Колодец почему-то закопали, и место получило свое название Закопанный Колодец. Но раз как-то кочующий киргиз во время ночевки откопал колодец, чтобы попоить своих верблюдов. Из колодца побежала вода. Киргиз напился сам, напоил всех своих верблюдов, а вода все бежала. Он уехал. Вода бежала и бежала. Из закопанного места налилось целое озеро воды. Но по-прежнему осталось название Закопанный Колодец.
– Может ли быть?
– Может ли быть? – повторяет мой переводчик-киргиз. – Да, это может быть. По ту сторону озера поселился богатый киргиз, а по эту сторону – бедный. Богатый давал бедному за шерсть пасти баранов и объезжать своих диких степных коней. Бедный был очень доволен богатым, а богатый был очень доволен бедным.
– Так-таки и доволен бедный богатым?
– Так-таки и доволен. Да, бедный был доволен богатым. Они жили ладно у озера. Скоро завелась в озере рыба. Пришел русский казак и стал ловить рыбу и продавать. Богатый киргиз велел всем бедным киргизам ловить в озере рыбу и продавать одному только русскому казаку. Казак скоро разбогател. Богатый киргиз и русский казак стали друзьями, пили часто кумыс и резали баранов и жеребят.
– Русские не едят жеребят!
– Этот казак ел жеребят и очень хвалил. Пришли два русских переселенца, прогнали бедных киргизов вилами и оглоблей. Русский казак перестал ходить к богатому есть жеребят и баранов и пить кумыс. Русский казак стал заступаться за переселенцев. Богатый киргиз поехал к начальнику и давал ему пять тысяч. Начальник приехал сгонять переселенцев.
– Начальник взял деньги? Может ли быть?
– Да, это может быть. Начальник взял деньги. Но переселенцы не пошли. Начальник бранился. Переселенцы пожаловались старшему. Старший сказал: «Спасибо, братцы!» – и прогнал младшего начальника.
– А бедные киргизы?
– Они разорились и ушли в Голодную степь.
– Вот так история!
– Вот так история! – повторяет за мной переводчик.
Такие истории я уже слышал множество раз, но мало ли чего ни говорят в дороге. И я неохотно слушаю все это. Среднеазиатская степь-пустыня с этим кочевым народом, ведущим патриархальную жизнь, стада, бродящие по склонам гор, пастухи-хозяева в лохмотьях, с длинными палками, верхом на лошадях и это открытое большое, богатое, степное солнце – все это ново, увлекает. А тут будто мухи жужжат.
Переселенцев все бранят: сибиряки-старожилы, туземцы-кочевники. Даже чиновники бранят: им тоже нерадостно селить Адама и Еву среди этого безбрежного солонцового океана, заставлять заниматься земледелием в краю, природой созданном для пастухов. Этих переселенцев, куда я еду, особенно бранили: они самовольно заняли место, они – «самодуровцы».
Киргиз мне показал рукой на какие-то траншеи у подножия гор и сказал:
– Это самодуровцы живут.
Траншеи вблизи оказались землянками, как раз такими, в которых зимуют киргизы и хоронят своих мертвецов.
– Быть может, это киргизы?
– Нет, там скота ходит и свинья ходит.
Правда. Рядом с коровой я вижу свинью. Мусульмане не держат свиней. Больше. Все, что пожирает свинья, считается нечистым. Возле Галкита живут тысячи диких свиней, но никто их не трогает. Стоит русскому завести свинью, как живущие вблизи киргизы уходят.
Землянки совсем низкие. Их и вблизи можно принять за батарейные возвышения. Позади – безлесные горы и степь желтая. На сотни верст – ни одного куста. Отопляют здесь собранным в степи навозом. С этой стороны хорошо, но радоваться нечему. Степняк может радоваться, заезжий путешественник; но как жить русскому без березки?
Вместо церкви – фантастические черные горы из разветренного гранита, дикие, с капризными, разбегающимися, как облака, фигурами.
Горы растут, черные фигуры превращаются в разных пугающих диких зверей. Но землянки все такие же низкие.
Переезжаем пересохшую речку. Вечереет. Блестит рыбное озеро, розовым подчеркивая синие горы. На той стороне, как нефтяные цистерны, белеют юрты богатого киргиза. Здесь, но эту сторону, – землянки казака-рыботорговца, и вот тут переселенцы.
Мужик пашет, поднимает новь, – настоящий русский мужик, настоящим плугом. Другой возвращается с поля.
Женщина гонит корову. Землянок – шесть или семь, но только две жилые и курятся, остальные покинуты. Хозяева умерли, или вернулись в Россию, или, может быть, отправились куда-нибудь «шукать» землю в «Семирек».
Эти низенькие землянки теперь, вечером, когда уже над пустынной, девственной степью зажигаются низкие звезды… И эти одинокие люди, пахарь и женщина, здесь, за тысячу верст от железной дороги, за тысячи – от родины…
Что-то такое поднимается: не то детские мечты о жизни Робинзона Крузо, не то юношеские – о толстовских колониях… Не то вся эта русская мечтательная дума красиво и хорошо из ничего начать.
Но голое начало всегда некрасиво. Этот плуг, красиво поднимающий новь, скован чужими руками. Вот и этот светлобородый мужик похож уже не на Робинзона, а на босяка или бродягу, бегает-бегает глазами, так что думаешь: «Сейчас бросит все и в „Семирек“ убежит». Другой, чернобородый, постепеннее, посолиднее. Женщина…
– А где другая женщина? Или холостой? – спрашиваю я светлобородого.
– Другая женщина, – отвечает он, – дите родила, лежит.
– Как же крестить-то? – любопытствую я узнать, как первые люди, изгнанные из рая Адам и Ева крестят в пустыне детей.
– Как крестить? Да так. Когда-нибудь перекрестим… Не ловить же в сети попа за бороду.
Весело хохочут все, даже киргиз, мой спутник, и женщина. Юмор никогда не оставляет русского человека.
– А женщинам не жутко?
– Без попов-то? На что их. Женщинам одно только плохо: мамушки далеко. Ну, а как сказать, мужчина о том не вздыхает.
– Заходите в избу.
Все влезают в землянку.
Я прощаюсь на всю ночь с этой степью-пустыней, которую успел уже полюбить, прощаюсь с фантастическими черными горами без деревьев, с висячими низкими звездами и влезаю в землянку Адама и Евы.
– Ну, рассказывайте же, как, за что, почему вы попали сюда.
– Я, – начинает светлобородый, – можно сказать, всю Сибирь исходил и только в Семиречье не бывал, я все виды видал и никакого начальства не боюсь.
Черный тоже не боится: он перед самим Куропаткиным «во как стоял».
– Да бросьте начальство, расскажите о себе, как вы странствовали и что видели в России и Сибири.
Чешутся в затылках, поглядывают друг на друга, прилаживаются, с чего и как бы лучше начать.
– Тут все пересказать, – начинает чернобородый, – так уши развесишь. Ну, так сказать, у этого человека граммофон был.
– Граммофон!
– По-го-ди! – перебивает светлобородый. – Поехали мы сюда на первых колесах. Ходоки нас ведут, говорят: «В Заводную степь, – мол, – едем». Мы их это пытаем: «В какую, – мол, – такую Заводную степь?» «Сами, – говорят, – удивляемся, почему так называется. Но только по живой рубеж мочи нет хорошо, и посередке чистый-пречистый ключ бежит». Весело, ну, прямо, весело едем. В городе к начальству являемся. «Вы, – спрашивают, – в Заводную степь едете?» Мы отвечаем: «В Заводную степь желаем ехать». Выдали нам денег по сту рублей. Приезжаем на место, видим, все как говорили, земля не то чтобы наша, потоньше, но ничего, все как говорили ходоки: и живой рубеж, и все. Потом хватились, а ключа-то нет?! Мы ходоков жать: где ключ?! «Не сумлевайтесь, – отвечают, – где-нибудь да есть». Искали день, два… Что за притча, – нет ключа. Вовсе воды нет…
– Куда же она делась?
– Сами удивляемся, куда делась вода. Нету воды. Стали глядеть, нет ли тут где поблизости места. И полюбилось нам, собственно, вот здесь: озеро рыбное, земля не то чтобы, а – луг, и ярмарка близко. Но только одно: тут киргизята живут. Как тут быть?
Светлобородый рассказчик остановился, поглядел на чернобородого. Оба как-то неловко поглядели на моего переводчика-киргиза, еще раз поглядели друг на друга и фыркнули, как маленькие дети.
– Ну, конечно, у меня вилы, – сквозь смех сказал чернобородый.
И опять фыркнул.
– А у меня, так сказать, оглобля, – сказал светлобородый.
Оба опасливо поглядели на гостя-киргиза, но тот, глядя на их рожи, тоже засмеялся.
Тогда все дружно захохотали. И так это щекотливое и трудное место рассказа прошло весело и приятно, что я не подумал о своей легенде, о том, как богу наскучило потомство первых людей, и как он сотворил вновь Адама и Еву, и как опять их выгнал, забыв про то, что земля занята другими.
Все это я и забыл: вилы и оглобля мелькнули, как веселый анекдот.
– Да, – продолжает рассказчик. – Приезжает к нам после того начальник. Нам бы следовало начальство, как следует, в строгости принять, а мы граммофон завели. Граммофон играет плясовую, начальство радуется: «Я, – говорит, – думал, вы тут с голоду помираете, а у вас – граммофон. Недурно, недурно, очень недурно у вас». А мы ему на это: «Ваше благородие, мы начальство всегда в веселом духе встречаем; а вот насчет киргизят-то подписали бы нам бумажонку…» – «Давайте, – говорит, – бумагу…» Мы туда-сюда: нету бумаги.
– Моя жена… – вставил чернобородый.
– Собственно, чрез вашу жену, – строго сказал светлобородый, – и вышло все. Их жена, – обратился он ко мне, – за коровой ушли и унесли ключ от сундука. А в сундуке бумага была. Ведь вот бы этакий клочок бумажки, папироску свернуть, так ничего бы потом и не было. Поискали мы, поискали. «Нету, – говорим, – ваше благородие, бумаги, женщина ключ унесла». – «Нет? Ну, ничего, можно в другой раз написать». И уехал.
Хорошо. А те киргизята, что на нашем месте жили, все не унимаются: «Вы, – кричат, – нас разорили, кормите теперь». Ну, конечно, мы им надавали хороших лещей. Они – за озеро, к богатому киргизу, волостному управителю, жаловаться. Человек тот – богатый и умственный; они промеж него как барашки живут.
«Ладно же, – говорим, – вы своему царю жалуетесь, а мы – своему. Я тут хлебопашеством занимаюсь, а вы – баранами; я не для себя делаю, а для правительства».
Приезжает и наш управитель. «Как хотите, – говорит, – уезжайте, участка нет на плане; я пять тысяч на начальство не пожалею, а вас сгоню». – «Ладно, – отвечаем, – ты с пятью тысячами, а мы с дурной головой мужицкой».
Мы свое, а они свое тарахтят.
Так, господин, тем временем мы кое-как землю расковыряли и посеяли пшеницу, и уже поспевает. Катит к нам переселенный начальник с казаками и киргизами:
«Убирайтесь!» – кричит. «Ваше благородие, – говорим мы, – вы сами же нам разрешили жить и еще бумагу спрашивали». Знать ничего не хочет: орет. Мы ему опять тут его же словами все рассказали и про бумагу помянули. И тут он нас такими словами стал лупить, что если бы тут убить его, то и не ответили бы. «Бейте их, – кричит он киргизам, – жгите их!»
Мы сейчас, не будь дураки, эти его слова – да на бумагу, и казаков, и киргизов прижимаем. Слышали? Подписывайтесь! Он сробел, а у нас духу прибыло.
После этого вскоре приезжает на ярмарку самый главный начальник. Мы ему все рассказали: как нас ходоки обманули, как мы землю заняли, и про граммофон, и про бумагу помянули. «Мы, – говорим, – ваше превосходительство, не для себя живем, а для хлебопашества и, так сказать, для правительства». – «Спасибо, братцы, – отвечает он нам, – не бойтесь никого, живите себе».
Вскоре межевой приехал, нарезал нам земли вволю: куда глаз хватит – все наше…
– На две семьи столько нарезали? – не доверяю я.
– Зачем на две; разве нас двое было.
– Где же те?
– Разбежались. «Земля, – говорят, – тут тонка, засуха я иней среди лета падает».
– А киргизы?
– Киргизят мы, как маленьких ребят, жамочками кормим.
На этом рассказчик окончил, и все мы улеглись спать в этой землянке на новых местах. А утром, записывая рассказ, я спросил, что это за «жамочки», которыми они кормят киргизов.
– Жамочки! – засмеялись самодуровцы. – Вот…
Мне показывают рукой на степь, на луга, на все это громадное количество солонцовых степей, непригодных для земледельцев, но нарезанных исключительно потому, что участки чернозема лежат между ними. Места совершенно непригодные для земледельца, но необходимые пастуху Вот эти-то места и отдают переселенцы в аренду согнанным киргизам «двадцать пять рублей за клочок» и называют это «жамочки».
– И ничего они? – спрашиваю я, удивляясь.
– Ничего. Маленько потопчут когда наши огороды, ну, мы им тут лещей надаем; они и перестанут. Мы им говорим: «Занимайтесь хлебопашеством, собирайтесь в поселки».–
«А ежели, – отвечают они, – мы поселками будем жить, так нас в солдаты заберут и в свою веру перекрестят». На это мы им отвечаем тоже: «У нашего государя гонения за веру нет, не то чтобы по прочим государствам».
III. Арка
1
Беда тому, кто приедет в Сибирь с обычным представлением о пространстве, с привычными мерами его и, значит, времени. Масштаб тут приблизительно такой: у нас десять, у них – сто, у нас – двадцать, у них – двести и т. д.
Я проезжаю пустынною степью на протяжных верст шестьдесят в день. Проходит так день, другой, третий, четвертый…
Небо и желтый сухой океан. Потом еще горы, синие палатки или черные окаменелые волны, если подъедешь поближе. Почва все солонцовая. Растительность: низкая полынь, травка «кипец», или «щетка» в несколько вершков высоты, похожая на аптекарскую банную мочалку.
Земля пропитана солью, белые пятна солонцов будто снег. Слой гальки везде покрывает почву.
Иногда, потеряв эту плохо заметную кочевую или, как говорит киргиз, мой проводник, «кочующую» дорогу, мы останавливаемся и ждем подъезжающего к нам всадника.
– Эй, бер-ге-ле-гет! – зовет его проводник. – Поди сюда.
Тот замечает русского и удирает.
– Берге, берге, берге! – напрасно кричит проводник. Тот улепетывает.
– Берге-пкечь, берге-пкечь! – надрывается проводник.
Верховой останавливается на недосягаемом расстоянии и спокойно нас наблюдает.
Обычно же у киргизов не только люди, но и лошади останавливаются при встрече в степи.
Мы идем к аулу. Голые ребятишки, завидев нас, прячутся. Словом «о-орос» (русский) пугают маленьких детей, как у нас волками. Мы подъезжаем к аулу, спрашиваем: дома ли мужчины?
– Джок (нет), – слышится женский голос из юрты.
Но мужики, конечно, дома.
– Джок, джок…
Пустынные степи и вот эти напуганные люди. Трудно представить себе душевное состояние образованного человека, которому поручено здесь во что бы то ни стало найти земли, удобные для водворения странствующих, ищущих приложения труда Адама и Евы.
Раз мы увидели в степи две белые точки и подумали: вот чайки, наверно, уже близко озеро. Немного спустя две чайки оказались белыми палатками. Был конец сентября, стояла страшно холодная погода с ночными морозами до 10 ° R и снежными буранами. Кто же это может жить в таких легких палатках?
И оказалось, тут живут две петербургские барышни, студентки политехнического института. Они – топографы, нарезают участки для переселенцев. Барышни в своих ватных кофточках страдают от холода, торопятся поскорее закончить работу и уехать в Петербург. Они получают сто рублей в месяц. Погоня за заработком загнала их так же, как и Адама и Еву, в эти дикие, пустынные края. В другом месте мы встретили семинаристов, технологов. Из-за заработка они стали топографами и гидротехниками.
– Что поделаешь, – говорят они, – кормиться нужно; а так дело это безобразное…
Но не только молодежь смущается своим занятием, но и заправские чиновники говорят очень часто, что они тут ни при чем. Движение все направляется из Петербурга, в конечном счете каждый переселенец получает место здесь по назначению из Петербурга. Даже ходоки и те направляются в заранее намеченные им места.
Мне объясняют, что мест этих очень ограниченное количество и нелегко получить их: большая конкуренция.
Чиновники не сочувствуют переселению в этот горный степной край, созданный богом для пастухов, а не для земледельцев.
– Переселение сюда, – говорят мне, – совершается для политических целей: киргизы – народ неблагонадежный. – Для политических целей! Но вот которые сутки уже я еду в степи вдвоем с киргизом-переводчиком. И в голову мысли не приходит, что кто-нибудь может на меня напасть. Напротив, я, русский, – пугало для края.
Пожимают плечами, улыбаются, шутливо рассказывают про какой-то обед двух губернаторов, на котором был поставлен вопрос: благонадежный ли народ киргизы?
Неблагонадежный? Ну, хорошо. Но при чем же тут Адам и Ева? Какой они совершили такой новый грех, чтобы их изгнать в эту пустыню? Они ищут землю, а им дают оружие! Какое оружие! Чтобы киргизов прогнать, нужно только свинью завести. Что свинья понюхает, то киргиз по закону должен бросить. Возле свиньи жить ему нехозяйственно. Самое первое оружие против киргиза – свинья.
2
Четыре месяца – ни одного дождя! В наших земледельческих местах был бы страшный голод, а тут не очень и жалуются. Кони ходят сытые, бараны жирные, колышут курдюками, как резиновыми подушками. Они питаются этой низкой, сухой, но очень сытной травой кипец, имеющей здесь, в степи, такое же значение, как ягель в тундре.
Но мало того, что скотина только сыта. Этот край безводный, безлесный и соленый по-киргизски называется «Арка», – значит, «хребет», «пуп земли», лучший край на свете, осуществленная Аркадия.
Взволнованная желтыми сопками степь здесь иногда переходит в довольно высокие горы из сильно разветренного гранита. На возвышенных горных долинах есть тут места чудесные для зимовки скота (кетау). Ветер сдувает снег с горных мест, скоту не нужно делать больших, истощающих его в зимнее время усилий, чтобы добыть себе пропитание. На этих кетау и трава растет прекрасная, почва на них плодородная. Вот в этих-то местах и заключается разгадка этого странного для всякого проезжего человека вопроса: как могут киргизы называть эту пустыню Арка? Если есть такие убежища для зимы – кетау, то летом вся остальная степь представляет сплошное пастбище, джайлоу. Только благодаря этим кетау, этим пятнам плодородной земли, можно использовать степь-пустыню. Пока летом скот пасется на джайлоу, на местах зимовых стойбищ вырастает новая трава и обеспечивает сохранение скота зимой.
И вот эти-то кетау отбирают от киргизов и селят на них Адама и Еву.
Хорошо ли они там живут – другой вопрос, но киргизы разоряются. Степи при земледелии должны остаться неиспользованными.
И Дума, и правительство это сознают: есть указ 3 июля о том, чтобы щадить места киргизских зимовок.
– И вы их щадите? – спрашиваю я местного чиновника.
– Если щадить, – отвечает он, – то куда же девать переселенцев? Тогда и не нужно переселение в этот край. Мы так и сказали. Нас услышали и подарили параграф. Теперь дело в таком виде:
Закон: щадить места зимовок.
Параграф: в случае крайности не щадить.
И мы не щадим.
3
Можно понять аскета, попирающего закон природы для приобретения сознания бессмертия своего духа.
Но когда речь идет только о насыщении Адама и Евы, об их физическом благополучии, то попирание законов природы – очень нехорошее дело.
Можно понять и почему с богатых, удобных для земледелия мест Акмолинской области русские гонят киргизов и ставят им ультиматум: «Селитесь поселками, как мы, так выгоднее использовать землю: на одном и том же месте прокормите большее число людей».
Но почему места, предназначенные природой для пастбищного хозяйства, населяются земледельцами, трудно понять.
И никто не понимает, к кому я ни обращался.
Разоренные нашествием русских, киргизы бегут в свою Аркадию, страну пастухов. Здесь мясо чудесное: два фунта каркаралинского равны пяти фунтам петропавловского. Здесь кумыс такой, что люди пьянеют, как от водки, а в Петропавловске – как вода.
Ну, и живите в вашей Аркадии, – вот что нужно бы сказать.
Нет, их и отсюда гонят. Аркадия, мол, велика. Она тянется вплоть до Голодной степи, где летом только кулоны (дикие кони) перебегают от оазиса к оазису. Пусть они уходят туда. И в самом деле, зимой и туда проникали киргизы. Питаясь кусочками сухого курта и айраком, киргиз может жить там, где невозможна никакая мысль о земледелии.
Купцы, ведущие торговлю со степью, все против земледелия в этом крае; они говорят:
– Никогда здесь не может исчезнуть кочевник-киргиз, никто его не может сменить в этом занятии. Киргиз может жить вовсе без хлеба, питаясь молочными продуктами.
Люди бывалые говорят:
– Венгрия – культурная страна, но венгерцы же гордятся своими табунами. Земледелие не обязательно.
Маленькие местные чиновники, изучившие язык и быт киргизов, говорят:
– Понаблюдайте у киргизов переход от пастушеского быта к земледельческому, и вы увидите, сколько человечество потеряло, если оно когда-то все вот так оседало, как эти киргизы-джетаки.
Я наблюдал джетаков. Они здесь – первые земледельцы, не назначенные из Петербурга, а естественно возникшие по законам природы.
И как жестока она, природа, к этим людям, променявшим кочевую жизнь на оседлую, к этим лентяям (джетак – лежит!) в сознании кочевников, и пролетариям, как мы называем.
Но чтобы понять, почему так презрительно киргизы-кочевники относятся к джетакам, нужно знать, что такое джайлоу.
Всякий киргизский акын (поэт) непременно сочиняет стихи о джайлоу. Поездка на джайлоу (пастбище, спокойствие, отдых) для киргиза есть все. Ночуя иногда по необходимости во время бурана в киргизских зимовках, этих конурах из земляного кирпича, задыхаясь в дыму от костра из навоза, искусанный насекомыми, я представил себе, что чувствует кочевник, когда весной эта «могила», как они называют, вдруг становится не нужна, спадает эта глиняная и навозная скорлупа, человек выходит со своими стадами на пастбище…
– Руки, ноги здоровы? – приветствует один киргиз другого. И потом сейчас: – А скот здоров?
Скот – главное. Человек-то перезимует, но скот не всегда: если будет гололедица, то наступает джут (мор), животные режут себе ноги, разбивая лед, и умирают…
Бедняк иногда лишается почти всего скота. Ему, пожалуй, и незачем и не с чем кочевать на джайлоу. Он не кочует, «лежит», он джетак, он ковыряет землю, сеет пшеницу и добывает семена, не меля их, жарит на сале и ест свой «бидай».
Джайлоу, – значит, простор, свобода, значит, движение. Так прославляют поэты свою весеннюю кочевку. Джетак, – значит, лентяй, лежит; в этом слове заключается смысл презрительный: «лежишь, ну, и лежи».
Такое отношение поэтов к своим обедневшим собратьям, конечно, не очень нравственное, но что поделать, если одно – красиво, другое – отвратительно.
Естественное начало земледелия в этом краю, так же как и искусственное, некрасиво.
Всякий, кто ночевал в ауле кочующего киргиза и слышал ночью спящие стада, – не то шум реки, не то поезд вдали, не то шелест множества идущих людей по песку, – кто видел киргиза, выбирающего для заезжего гостя лучшего барана, и потом попадет к джетакам, первым земледельцам, ужаснется.
Он увидит голодные рты, волчьи глаза, уйдет от них обманутый, обворованный, унеся впечатление величайшего падения человеческого существа.
Все лучшее, что дает родовой строй, – гостеприимство, эту радость приезду чужого, ничем как будто не нужного им человека, – здесь вырождается в свою противоположность: воровство.
Навоз от животных, который при перекочевке остается в степи, высыхает и дает потом топливо, здесь скопляется возле аула. Скот и люди насиживают место, грязнят его, сами грязнятся и, оборванные, смердящие, встречают гостя, щелкая зубами и косясь глазами на его сухари; они все разворуют, если на минуту оставить вещи в ауле. Так встречают они гостя. И когда тот, оборванный, материально равный им, попросит у них есть, они дадут ему горсть жаренной на сале пшеницы.
«Вот эта-то горсть пшеницы, – подумает тогда гость, – и есть факт грехопадения кочевника».
Говорят, что лет пятьдесят тому назад или немного больше в этой киргизской Аркадии пастухи и лето, и зиму жили в юртах и кошах (палатках), не разлучаясь со своими стадами. Да и теперь сохранились старики, – а подальше, к Балхашу, их много, – эти старики зимуют в летних юртах и говорят: «Живой не хочу лезть в могилу». В то время, говорят, и стада были лучше: хозяева, не прикрепленные к месту зимой, могли лично наблюдать скот и не поручать это дело особому лицу. Очень возможно, что в то время киргизы в некоторых местах вовсе не знали, что такое мука, понятия не имели о баурсаках, этих мучных шариках, зажаренных на бараньем сале. Теперь без этих баурсаков не обходится киргиз. Разве только где-нибудь возле Голодной степи все еще питаются киргизы исключительно куртом и ойраном.
Шарик вкусен. В этом – прогресс, но вкусивший его пастух почему-то совершает грехопадение.
Есть ли на свете быт более безобразный, чем этих джетаков, первых земледельцев в краю. Голое начало оседлой жизни при взгляде на них кажется отвратительным, и невольно приходит в голову: а что, если в самом-то начале все так оседали? И сам собой напрашивается общий закон переселения: раз начало оседлой правильной и хорошей жизни выходит не из пустыни, раз природа всячески борется с оседлостью, то те будут лучше здесь жить, кто дальше в глубину истории своего народа может отнести это начало. И потому-то лучшие переселенцы – немцы. Но зачем попадут сюда они, в эту киргизскую Аркадию, Каркаралинский уезд?
Первые земледельцы*
Авель стерег стада,
Каин был земледелец.
Из Книги БытияПоздней осенью, перед самой зимой, степь опять зеленеет. Наверху журавлиный крик: птицы улетают на юг. Внизу блеют козлы и бараны: кочевники едут на зимнее стойбище.
Ветер, наш третий неизменный товарищ, отбегает за гору и встречает нас на той стороне: катит перекати-поле, черное, круглое, жутко одинокое. Белые юрты движутся с летних пастбищ на осенние, с осенних к черным землянкам, похожим на степные могилы, – зимним стойбищам.
Теперь, осенью, кажется, будто в степи два игрока забавляются игрой в черные и белые кости и игрок с белыми все проигрывает и проигрывает. Настанет время: во всей степи не будет белых юрт, а только могилы и зимовки. Мало, совсем мало осталось здесь стариков, которые, помня счастливый золотой век, остаются зимовать в юртах. «Не хотим, – говорят они, – живые лезть в могилу».
Мы едем будто в стране Авраама: на тысячи верст тут живут одни пастухи. Мы у источника красивых и горьких иллюзий.
Вот бронзовый пастух, весь в лохмотьях, едет шагом верхом на лошади и напевает. А бараны под песню пощипывают на ходу низкую, желтую, сухую траву.
– Жирейте, мои бараны, и потягивайтесь, – поет пастух.
– Мы жиреем и потягиваемся, – отвечают бараны.
– Пеняйте на себя, если не разжиреете, – напевает пастух.
– Будем пенять на себя, – отвечают бараны, конечно, голосом того же пастуха.
Позвякивают струны домбры. Тихо ступает лошадь под песню о добром пастухе и счастливых баранах. Кто за кем идет: пастух за баранами или бараны за пастухом, – не понять.
– Где аул Джонжи? – спрашиваем мы пастуха.
– На осеннем пастбище, – отвечает он и указывает своим бронзовым подбородком. – Там, за сопкой Маира.
Это не близко. Киргиз указывает подбородком в такую даль, что сарт, по степной поговорке, может ехать два дня.
– Чу! – подгоняем мы лошадей на гору. Взбираемся вверх, спускаемся вниз в долину, опять в гору, опять в долину, а сопка Маира все далеко.
Степные горы похожи на волны, и совсем будто море, но только ветер напрасно свистит – волны не катятся. Перекати-поле взлетает вверх и снова летит вниз. Начинается буран.
С горы нам видно, как на той стороне широкой долины пылит верблюд, а за ним несется пыль, будто огромный желтый кометный хвост. Нам не миновать его, заранее закрываемся халатами и гоним лошадей. Душит. Спешим скорее обогнать верблюда.
– Кто едет? – спрашиваем седока.
Едет сарт с шерстью. Он нездешний и не знает аулов. А впереди новый кометный хвост, и опять мы обгоняем и спрашиваем:
– Где аул?
– Далеко, – отвечают, – на осеннем пастбище. Мамырхан перекочевал, Ауспан перекочевал, нет близко аулов, зимовок и даже могил.
Над долиной, где мы ехали, спустились тучи, как темные волосы; вечерело; впереди горела степь, будто сотни волков, сверкая глазами, шли в одну линию нам навстречу.
Мы стали искать для ночлега горную трещину и вдруг увидали спокойный огонь. Кто-то жил внутри этого хаоса, прислонив к горе землянку. Перед входом лежали бык и верблюд. Внутри этой кротовины на земляном полу, возле пылающих шариков конского навоза, сидели мужчины и женщины, такие старые, будто они тут были со времени изгнания из рая первых людей. Наш случайный спутник, еврей-скототорговец, увидев их, стал молиться и восхвалять бога.
– Все правда в Талмуде, – бормотал старик, – и нет ни одного слова неверного: и степь, и горы, и огонек, и люди, как Адам и Ева.
Первые люди поставили перед нами чашку с зернами жаренной на сале пшеницы.
– Земледельцы!
– Джетаки, – сказали спутники, – лежат, не кочуют.
И стали под свист бурана рассказывать, как в степи разрывается обычный круг кочевого года и по ту сторону общей жизни остаются эти первые земледельцы, джетаки…
– Все как в Талмуде, – повторил еврей.
В степи поэт начинает весну. В темной кротовине, сидя на корточках у костра, он поет, что слышит движение творческих сил в земле. Тают ледяные сосульки на окне, и свет проникает в землянку. Видны месяц, звезды и все светила небесные. И так исполняется библейское: «Да будет свет!»
Шумят весенние потоки: суша и вода отделяются. Птицы летят, неустанно разговаривая: стрепет звенит крылом, копчик и пустельга дрожат в воздухе. Суслики поют у нор. Каждая сопочка зеленая стоит. В землянке после поэта будто бы первая видит весну мышь. Она взбирается на горб верблюда и пищит, что видит весну.
И выходит человек, и видит, как при входе в рай, что все хорошо. Говорят, будто тут ему богомолка с ветки зеленой спаржи мохнатой лапкой указывает путь на летнее пастбище.
Караван идет окруженный животными. Впереди на лучшем аргамаке едет самая красивая девушка аула в алой одежде, в шапочке, отороченной соболем и украшенной совиными перьями. На стоянке она вдруг стегает своего коня и мчится вся в красном по красным цветам, как огненный пал по суходолу. Джигиты хотят догнать ее и коснуться рукой ее груди. Но девушка извивается, как ящерица, хлещет джигитов нагайкой прямо в лицо и скачет дальше, на край степи.
Кровь бежит по лицам. Нелегко догнать красавицу Только один, самый ловкий, достигает своего, и девушка едет с ним покорная, как после ночи бессильная луна. Тогда даже подвижник пустыни верблюд сходит с ума. И вереницей тянутся в святые горы бесплодные женщины ночевать там и просить бога послать им этой весной деток. Великий Худай всем посылает, и все радуются и множатся. Проходит весна, лето, и опять от аула к аулу, от зимовки к зимовке, от могилы к могиле катится, как черный грех, перекати-поле.
– Знает великий Худай свои дела, – говорят старики земледельцы, потерявшие пастбище.
И рассказывают эти старики о страшном годе Зайца, когда они лишились скота, и не могли уж больше весной выехать на летнее пастбище, и остались в своей зимовке на вечные времена в поте лица обрабатывать землю.
В год Зайца великий Худай послал джут: степь заледенела, скот, добывая из-подо льда траву, резал ноги, худел без пищи и падал. Буран подхватывал животных и гнал, как перекати-поле, из края в край. После бури при солнечном свете из трещин гор выходили волки, слетались вороны, стервятники и сороки. Вся степь была покрыта трупами. Был вой, и карканье, и стрекотанье, и последний ужасный рев.
Великий Худай не совсем погубил бедных людей, приютивших нас во время бурана, оставил им одного быка и верблюда, чтобы в поте лица обрабатывать землю и сеять «бидой» (пшеницу).
Так рассказывали нам в землянке под свист бурана люди, знающие степь, и старики, испытавшие на себе год Зайца.
– Как в Талмуде, – повторял еврей, – там нет ни одного слова неверного.
Пищали мыши, жевал бык, сопел верблюд, – все живое, что осталось с этими людьми по изгнании их из рая.
И трудно было представить рай нам, утомленным дорогой, изгнанным очень давно, никогда и не видавшим летнего пастбища кочевников. И нельзя было представить себе землю, где можно бы быть просто счастливым и не вспомнить: «В вас самих царство божие», а не в земле.
Но эти люди были уверены, что вот за сопкой Маира, куда мы чуть-чуть не доехали, где совсем недавно они кочевали, и находилась земля обетованная.
– Арка, – говорили наши Адам и Ева, – тут хребет земли, это и есть та земля.
– Да почему же она Арка, почему Аркадия? – спрашивали мы.
– Баранина жирная, кумыс пьяный, хлеба не сеют и не едят, – ответили первые земледельцы.
* * *
Утром после бурана степь еще позеленела. Позднею осенью степь-пустыня оживает на короткое время. Раздвигались на небе хмурые морщины. Солнце всходило. Ложились на небе золотые борозды.
У озера кто-то размахивал белым. Мы подумали: «Это охотник втравливает белого кречета». Стали дожидаться полета птицы. Но охотник все махал, а кречет не летел. Старик джетак рассказал нам про охотника: это – его помешанный зять; раньше у него были несметные стада гнедых лошадей, но в год Зайца великий Худай отнял у него все и указал ему жить в землянке и обрабатывать землю. Гордый человек сказал на это: «Не хочу жить живой в могиле», – и поселился в трещине горы. За это великий Худай лишил его рассудка: раньше он был первый охотник с белыми соколами и кречетами, а теперь, когда видит уток на озере, выходит из трещины и машет белой шапкой, как кречетом.
– Ой, Алла! – вздохнул старый Адам.
И ему ответила Ева совершенно так же:
– Ой, Алла!
Мы хотели с ними проститься, но они пожелали проводить нас на пастбище, показать нам счастливую страну за сопкой Маира. Стали укладываться и собираться, как весной на кочевку. На горизонте везде, как бисерные нити, тянулись журавлиные стаи. Над нами старые журавли учили молодых строиться в треугольники и уводили полк за полком в теплые края. И мы тоже, как журавли, осенью собирались ехать куда-то на пастбище.
– Чок, чок! – крикнула женщина на верблюда.
Он нехотя и с криком подогнул колени. Женщина села верхом и, держась за худой горб, крикнула:
– Чу!
Верблюд поднял женщину высоко над землянкой.
Старик сел на быка.
Наши лошади трусили скорее верблюда, а бык от всех отставал.
– Чу, чу! – хлестал старик быка, тоже трусил и, нагоняя нас, говорил свою степную пословицу:
– Если товарищ твой кривой, старайся поджимать глаз, чтобы быть с ним под пару.
У Чертова озера*
(Степной эскиз)
I
Чтобы не уморить лошадей в степи на протяжине, едут размеренной трусцой от колодца к колодцу. Мы едем так как нужно ехать, и потому кажется, будто днем и солнце идет по небу, как мы, а ночью так же движутся звезды. Степь за Иртышом, если ехать к Балхашу, вначале такая ровная, дорога такая гладкая, что вода в ведре, привязанном к дрожине, не расплескивается. Если непогода заставит нас укрыться в зимовке кочевников или в озерных камышах, то потерянное время мы набираем лунной ночью.
Раз после такой ночной езды, мы увидели горизонт не таким правильным, как раньше. Казалось, будто кто-то неумелой рукой ножницами обрезал круглый, как сковорода, круг горизонта. Скоро и под нами степь взволновалась.
– Чу, Карат! Чу, Кулат! – подгоняли мы лошадей с сопки на сопку.
Степь стала волнистой, как море в мертвую зыбь, езда неправильной. Мы поднимались все выше и выше; каждая сопка давала что-нибудь новое. И так наконец показались настоящие степные горы, будто взмахи окаменелых и наказанных волн.
Здесь все еще выступала на землю соль и белела на дороге, как снег. Но уже бежали с гор пресные ручьи, уже стала по краям показываться какая-то древесная щетина. Выше, будто воткнутые стреляя, стояли на голых камнях сосны. Еще выше, на разломанных скалах, рос настоящий лес, блестели горные озера. Отсюда далеко вокруг было видно желтое море степи и на нем везде такие же горы, будто синие палатки. Казалось, мы приехали в страну великанов, кочующих в этих синих шатрах.
В глубине одного из таких оазисов с пресной водой и лесом укрылся маленький город Каркаралы – куча серых деревянных домов, похожих на осыпавшиеся с гор обломки гранита.
Вот тут-то и есть страна пастухов Арка, что значит с киргизского «Хребет земли», благословенная страна, которой не хватает всего только трех букв до настоящей Аркадии.
II
Я остановился на почтовой станции возле площади. Из ряда домов выделялось каменное здание уездного правления с двумя небольшими пушками, о которые терся верблюд. На самой площади было множество баранов, вокруг которых, прямо на земле, сидели киргизы, болтая и пощупывая жирные курдюки. Всадники, окружающие баранов и сидящих на земле людей в халатах, время от времени слезали с лошадей и тоже пощупывали и похлопывали баранов. Красивые сарты-торговцы, муллы в чалмах, женщины на деревянных балконах и сосны на высоких, врезанных в сентябрьское небо утесах – все будто беседовали с баранами. А они, горбоносые, подставляли общему вниманию свои курдюки.
Под вечер я вышел из дома почтовой станции пройтись в горы и посмотреть на все это сверху. Но горы только казались близкими. Я забыл и про то, что смеркается здесь быстрее, чем у нас. Я только стал было подниматься, и вдруг смерклось, словно моргнуло, и наверху у острия камня, похожего на орлиный клюв, заблестела звезда. Я повернул назад, и когда входил в город, все звезды были на небе, стало совсем темно.
Кажется, в этом городке есть и вторая площадь, и я, вернувшись с гор, вероятно, попал на эту вторую: почтовой станции тут не было. Я шнырял из конца в конец; верстовой столб исчез. Что делать? Все было пусто. Окна заставлены. Спросить было некого, так как все кочевники уехали в степь, а оседлые жители были неприступны. Я остановился и прислушался. Лаяли в городе собаки, выли волки в степи, цукала выпь в озерных тростниках, стучала колотушка. Я пошел на стук искать сторожа. Но искать колотушку на темной улице все равно, что по звуку ловить сверчка в стене. Не вздумайся сторожу отдохнуть, усевшись верхом на пушке уездного правления, никогда бы мне его не найти. Он сидел и стучал. Я подошел. Новая беда! Я не знал по-киргизски слов «почтовая станция».
– Здоровы ли руки и ноги, здоров ли скот? – сказал я обычное приветствие.
– Амамба! Аман! – ответил киргиз и спросил о моем скоте.
Я ответил, как и он, спросил подробно о здоровье его овец, лошадей, верблюдов, рассказал все о своем скоте, пользуясь всего только двумя словами «амамба» и «аман», но о почтовой станции узнать не мог ничего. Наконец он взял меня за рукав и куда-то потащил в переулок. Я увидел настежь раскрытые двери и переднюю, освещенную керосиновым фонарем.
– Хош, – сказал киргиз, – прощай!
– Рахмет, – ответил я, – благодарю.
Я вошел в этот дом, чтобы спросить о почтовой станции, и в полутемной зале увидел множество спин и ярко освещенных свечками лиц.
Так я попал в залу общественного собрания и познакомился с интеллигентным населением дикого степного и горного оазиса Каркаралы.
III
В первое же воскресенье члены клуба в честь меня устроили пикник в горах, где в каменных складках спряталось очень странное озеро. До того причудливы эти глыбы гранита в степных горах, до того тут много трещин, проходов и поворотов, что редко кто может найти это озеро сразу. Все блуждают, и все думают: «черт водит», за то и дали название «Чертово озеро». Рассказывают, будто архиерей, побывав в Каркаралах, пошел с попом и дьяконом освящать озеро. Но и они заблудились и разбрелись в камнях в разные стороны. Помолились с особым усердием и услыхали свист кулика. Пошли на свист и вышли к Чертову озеру. Отслужили благодарственный молебен, освятили, поставили на горе каменный крест и назвали «Освященное озеро».
Это было давно, с тех пор крест упал в воду, и озеро по-прежнему стало называться Чертовым.
В этот раз члены клуба добрались благополучно на вершину горы и, утомленные, сели на камнях возле озера, очень похожего на искусственно сложенный бассейн.
Кружились над водой несколько стрекоз. Внизу под хвойной массой лесов летала бабочка, будто обрывок белой бумаги. Кое-где между суровыми соснами и громадами скал гасли в сентябрьском солнце березки. Сколько тут полуразрушенных фантастических замков, дремлющих фигур, изменчивых, как облака: поверженный Мефистофель, коленопреклоненная женщина с молитвенником в руке, и жаба, и верблюд, и громадные, пузатые, с вытаращенными глазами уроды, – все дремали на скале, и все медленно обрастали снизу соснами, как мохом. Где-то вдали никло к степи синее облако. Где-то блестело соленое озеро.
Наш белобородый проводник-киргиз, аксакал, развел на берегу Чертова озера костер и стал готовить из баранины кувардак. Члены клуба, все еще утомленные, глядели в степь – вниз, вдаль.
– Позвольте мне ваш зонтик, – сказал толстый добряк, секретарь уездного съезда, жене помощника лесничего.
– На что вам? – сказала эта единственная между нами дама.
– Раскрою и полечу с вами, – ответил добряк.
Все засмеялись, представляя секретаря летающим.
Посмеялись и помолчали.
– Не улетишь! – вздохнул содержатель соленого озера.
– Не улетишь! – ответили ему многие чиновники.
Не весело жилось им в оазисе, вокруг которого на необъятном степном пространстве люди живут до сих пор, как Авраам, в шатрах, кочуя со стадами.
Не улетишь!
– Велика, велика матушка-степь! – сказал судья, старшина клуба. – Извольте видеть.
Судья солидным разговором захотел подавить невеселое настроение и рассказал, как он ездит на реку Чу, когда там бывает убийство. Человек, извещающий о происшествии, едет месяц к судье. Следующий месяц едет сам судья. За ним гонят табун сменных лошадей и верблюдов с водой. Судья-следователь приезжает на место и видит только кости.
– Зачем же ехать?
– Закон.
В этой стране судья служит только чистой идее закона. Там, возле реки Чу, живут стада кабанов; в камышах водятся тигры. Палатку судьи стерегут, окапывают, чтобы не забрались к нему фаланги и скорпионы. Бураны всегда могут засыпать судью. Опасности на каждом шагу. Но зато с каким же великим торжеством встречают члены клуба своего старшину, когда он является невредимым в начале четвертого месяца после убийства.
– Сказочная страна! – воскликнул я, думая, куда русский может заехать, не выходя из своих пределов. – Фантастическая страна!
– Ничего, ничего, все очень просто! – сказал судья.
– Тигры…
– Обыкновенные тигры.
– Фазаны, дикие кони…
– И это обыкновенно.
– Кочевники, как в Библии, теперь, в наше время…
– А? Ну, так что же? И ведь это же все очень просто.
– Ко всему привыкаешь, – вздохнула жена помощника лесничего.
– Привычка свыше нам дана, – запел агент Зингера, вояжер, вечно стремящийся догнать свои убегающие с губ усы.
Помолчали. Степной голубь, не заметив собравшихся людей, подлетел напиться к Чертову озеру и вдруг ринулся вниз, обратно в степь, мелькал, мелькал крыльями и исчез.
– Пропал! – сказал содержатель соленого озера, очень печальный человек.
Пикник как-то не клеился. Я спросил нашу даму, танцуют ли в клубе.
– Мало, – ответила она. Кому хочется жизни – уезжают отсюда, остаются все некрасивые, мало танцуют, и как-то у них все не ладится.
– Одно слово Каркаралы, – сказал цветущий помощник уездного начальника. – Ведь это, батенька мой, те же тартарары, да еще почище; сюда заехал, как под стену попал.
– Что значит это слово? – спросил я членов клуба. Никто не знал.
– Ты не знаешь ли, аксакал? – спросили мы старика киргиза у костра.
– Каркара, – ответил он, – значит черное перо; в этих горах красавица Баян оставила черное перо из своего головного убора.
– Какая Баян? Расскажи! – заговорили члены клуба.
– Видите вы эти синие горы? – спросил старик.
– Видим, видим, – ответили мы.
– За этими горами есть еще синие горы, а за теми горами еще пять синих гор. На последней горе Карыбай и Сарыбай увидали беременную козу. «Слушай, душа моя, – сказал Карыбай, – у меня жена беременна, я не буду стрелять эту козу». – «И ты слушай, душа моя, – ответил Сарыбай, – у меня тоже жена беременна, и я не буду стрелять беременную козу». Карыбай и Сарыбай не стали стрелять беременную козу и поклялись: если родятся мальчики, будут братьями, если девочки – сестрами, если мальчик и девочка – женихом и невестой.
– Джаксы? – спросил старик.
– Джаксы, аксакал, – одобрил учитель.
– Очень, очень интересно, – одобрила жена помощника лесничего.
Старик продолжал.
– Видите вы эту долину с сухой рекой?
– Видим, – отвечали мы.
– Вон идет караван верблюдов. Я вижу, перед ним летит туча черных скворцов. Карыбай и Сарыбай увидали: с неба спускается к ним черный скворец: «Душа моя, – сказал Карыбай, – это – посланник божий. Он нам предвещает жизнь. Видишь, идут джигиты; слышишь, кричат нам?» – «Слышу, душа моя, слышу, – ответил Сарыбай, – они кричат нам, что родились дети. Но смотри, посланник божий опустился мне на плечо. И жизнь, и смерть предвещает черный скворец». Сарыбай сказал, конь оступился, всадник упал на скалу и умер. А Карыбай испугался, взял свою дочь и уехал от вдовы Сарыбая. Но когда он уезжал, то перед его верблюдами летела туча черных скворцов. Видите вы черных птиц?
– Видим. Дальше, аксакал!
– Невесту звали Баян-Слу, – продолжал старик, – а жениха Козу-Корпеч. Они жили далеко друг от друга и выросли. Он стал батырь, она – красавица. Лучшие женихи сватались за Баян, но она говорила: «У меня есть жених, он придет, когда у него отрастет золотая коса». И потому, кочуя со стадами, Баян оставляла ему приметы: в горах Алтын-Тарак она оставила золотой гребень, в наших горах Каркаралы она оставила черное перо из головного убора. Джаксы?
– Очень, – одобрил даже и судья.
– Замечательно, – заговорили другие, – как это мы раньше ничего не знали. Так вот что значит Каркаралы. Ну, что же дальше?
– Дальше. Видите вы эти пятна в долине? Что это?
– Табуны.
– Нет, это – овцы. У Баян было много овец и коз. Молодой пастух нанялся к ней пасти овец и коз: пас хорошо, стадо размножилось; Баян полюбила этого молодого пастуха. Очень полюбила. Но как-то раз у любимой козы сломалась нога. Баян рассердилась и ударила пастуха по голове. Шапка упала, и сверкнула золотая коса. Молодой пастух был Козу-Корпеч. Джаксы?
– Дальше!
– Когда киргизский батырь Козу-Корпеч лег отдыхать в долине Чок-Терек, злой калмыцкий батырь Кудар-Кул убил его и взял голову и отдал красавице Баян. Невеста пришла с головой жениха в долину Чок-Терек и молила бога воскресить его на три дня. Козу-Корпеч воскрес, и невеста оставалась с ним, как жена, три дня в долине Одинокого Тополя, Чок-Терек. Джаксы?
– Дальше, дальше!
– Дальше: перед третьей зарей умер батырь Козу-Корпеч. Баян поклялася отомстить. Обещала выйти за калмыцкого батыря и просила его только достать воды из глубокого колодца. Спустила туда свою косу, и когда по ней батырь спустился – засыпала колодец землей. Проезжему начальнику каравана обещала выйти замуж, если он сложит над Козу-Корпеч высокую могилу и бросится вниз. Начальник каравана бросился и умер. Всем храбрым юношам каравана обещала быть женой, если осмелятся броситься. И все бросались и умирали. Потом она вошла в могилу своего жениха Козу-Корпеч и заколола себя кинжалом.
– Все, аксакал?
– Все, – ответил старик, – только вот смотрите на эти далекие синие горы. Видите? За этими горами есть еще десять гор и потом гладкая степь. Возле дороги там и теперь стоит могила Баян-Слу и Козу-Корпеч.
– Так разве все это правда? – сказали мы.
– Раз! – ответил старик. – Все это правда.
IV
Члены клуба оживились. Страна Арка, хребет земли, которую пастухи считают лучшей в мире страной, была возле нас.
– Степь ведь такое дело, – сказал секретарь уездного съезда, – где еще есть на земле такое место? Вот я, как есть, возьму плетку, сел на коня и пропал, и знаю, что не помру, каждый меня примет, живи хоть неделю, хоть две.
– Хоть месяц! – сказал агент Зингера.
– Хоть год! – воскликнул учитель.
– Сколько хочешь живи, – заговорили все и вспомнили про политического ссыльного, как он жил в городке и вдруг ушел в степь и там пропал.
– Может быть, умер? – спросил я.
– Жив! – сказали все.
«Есть такая страна, где можно быть и не быть», – думали мы. Кувардак наконец поспел; откупорили бутылки, чокнулись; радостное настроение все возрастало.
Есть за этими синими горами страна Арка.
– Есть! – восторженно говорил содержатель соленого озера, уже подвыпивший.
– Есть, есть! – чокались мы.
– Господа, а кто нам это открыл? – сказала жена помощника лесничего, указывая на меня. – Ведь это гость наш, он первый спросил аксакала, что значит Каркаралы.
– Ваше здоровье! – чокались со мной.
– Освежили, очень, очень освежили! Господа, мы попросим гостя написать свое имя на камне.
– Непременно!
– Извините, господа, карандаш у меня обыкновенный, а скалы такие большие.
– Мы увеличим!
– Охота, путешествие! – ликовал добрый толстяк, восторженно глядя на меня. – Господа, да неужели же опять в клуб катить шары, играть в карты?
– Верно, – поддержали охотники, – еще обыграют и не проспишься, а на охоту сходил – придешь свеженький.
– А лучше всего, господа, – сказал учитель, – книжечку почитать.
– Освежили, очень, очень освежили!
В общем, пикник сошел хорошо. Поддерживая друг друга и следуя за трезвым старшиной клуба, мы благополучно спустились в глубину оазиса.
Новая Земля
Спас-Чекряк*
Брань, широкая, как море, и звучная, как лес на горе! Это православный народ бранит того, кому, по всеобщей народной уверенности, одному живется весело, вольготно на Руси. Спросите первого встречного крестьянина, каков у них поп, и почти всегда получите один и тот же ответ: «Грабитель!» И до того уж мы привыкли к этому, что и не удивляемся дикому сочетанию слов: священник – грабитель. Русская жизнь вообще так богата устоявшимися противоречивыми формами, что для того, чтобы видеть, необходимо постоянно, как молитву, твердить себе: «Я – не здешний, я вижу и слышу все это в первый раз, удивляюсь, удивляюсь…»
Заговорив себя так, войдите в семью ругаемого попа, осмотрите его жалкую обстановку, прислушайтесь к ропоту матушки.
– Nicht standes gemuss[47],– скажете, вообразив себя иностранцем из немцев.
А зависть народная этому «житью» беспредельна, ни с чем не сравнима… Удивительное противоречие!
Но это что! Вот дальше, когда вы задумаетесь с батюшкой и матушкой о судьбе их детей. Сыновья священника получили духовное образование и все хотят сделаться ветеринарами. Они предпочитают скромнейшее место лекаря животных завиднейшему, по мнению народа, положению священника. Они делают это не по идейному разрыву «отцов и детей». Напротив, бегство детей – чисто стихийное, и сам батюшка тут же вам и объяснит, что есть две причины сему пагубному явлению: первая – это материальная необеспеченность духовного лица, а вторая – дурное отношение к нему общества. В таких условиях скромнейшее место ветеринара является желанной целью.
Народ выживает попа, конечно, вовсе не потому, чтобы в нем не нуждался. И на место ушедшего образованного вступает, конечно, другой, из низшей среды, с более простыми инстинктами. Этому помогают наверху. Устраиваются даже какие-то облегченные, чуть ли не четырехлетние, курсы для этих новых людей.
Такова общая схема; но если спуститься вниз, в частности, какие тут запахи! «Зверь со свежим чутьем тут с ума бы сошел», – как сказал один счетчик последней петербургской переписи, спускаясь в подвальные этажи какого-то окрайного дома в столице.
Зато какая же должна быть личность священника, если и в такой обстановке его деятельность получит всеобщее народное признание, если каждый крестьянин с величайшим уважением отзовется о нем, если вы сами, воображающий себя иностранцем, чтобы не притупить чутье, – вы, неверующий и сомневающийся во всем, – в этом случае скажете: «Вот настоящий, цельный человек, каких мало теперь в городах».
Я говорю об отце Георгии из села Спас-Чекряк и хочу передать здесь свои впечатления не в назидание другим пастырям, а просто с этнографической точки зрения, как когда-то приходилось говорить о певце былин, встреченном на Крайнем Севере, на острове одного дикого лесного озера.
* * *
Священник отец Георгий, или, как называет его народ, отец Егор, пользуется теперь в народе почти такой же известностью, как некогда старец отец Амвросий. Некоторые говорят, что оптинский старец «угадывал» лучше, но другие уверяют, что и этот все видит, а кроме того, у отца Егора «молитвенный дар» – служит хорошо. С этой(оценкой, конечно, не согласятся люди, причастные к культу отца Амвросия, но мы говорим здесь в условиях живой действительности. Отец Георгий имеет и прямое отношение к оптинскому старцу: от него он получил благословение и поставление жить в глухом селе Чекряк, в одном из самых бедных приходов Волховского уезда. Отец Георгий – не монах, как старец Амвросий, а до сих пор обыкновенный священник и всю жизнь свою провел в миру, в обыкновенных условиях, что, с одной стороны, лишает его обычного ореола подвижника, но, с другой – ставит его ближе к тому (и таких людей очень много на Руси и из простого народа), кто не очень обольщается ореолами прошлого.
Дело отца Георгия все на виду. Тридцать лет тому назад он поступает в маленький, беднейший приход Волховского уезда, в сорока верстах от железной дороги. Церковь в селе Чекряк была деревянная, завалюшка, похожая на часовню. Отношение населения, конечно, – обычное: у попа глаза завидущие, руки загребущие. Жизнь – почти нищего, и очень понятно, что матушка молодого священника ропщет.
Теперь, через тридцать лет, над тем «ровочком», где до сих пор стоит церковь-завалюшка, далеко виднеется великолепный каменный храм, возле храма стоит трехэтажное здание приюта для крестьянских детей и небольшая больница, недалеко от села – еще одно прекрасное здание – школа для подготовки сельских учителей; в уезде есть еще несколько школ, построенных тем же отцом Георгием; есть даже два или три имения, доходы с которых идут на развитие образовательного дела в крестьянской среде. Сам отец Георгий живет теперь не в лачуге, как раньше, а в хорошем доме с большими светлыми окнами; у счастливой матушки на дворе гуляют стада кур и всякой другой птицы. Никому из народа, однако, и в голову не придет попрекнуть батюшку его благоустроенной личной жизнью; напротив, пишущему это не раз приходилось слышать похвалу, что священник и сам живет хорошо, умеет жить. Дело священника все на виду; советы – советами, служба – службой; а вот еще храм, приют, школы, имения, доходы с которых идут на общественное дело. Да и советы его – не какие-нибудь, а самые житейские и дельные. Не только крестьяне советуются в своих немудреных делах, а купцы, помещики, весь целиком город Волхов ведет свои дела по указанию священника; управа присылает свои сметы.
– Как это мог он? Кто ему помогает? – спросишь, изумленный этой цельностью человеческой личности.
– Кто помогает? Бог, – отвечает так просто крестьянин, что кажется, будто бог – совсем обыкновенный старик и живет он тут же, в селе Чекряк, под соломенной крышей.
Самое же главное, самое удивительное – это не в зданиях, устроенных отцом Георгием, и не в том, что управа с ним советуется, а своя собственная уверенность в том, что есть какая-то точка, где глас народа есть действительно глас бога, и что уж тут никакой не может быть фальши.
* * *
Многочисленных паломников, направляющихся в Спас-Чекряк через Белев, так наставляют:
«Встань до зари, иди по Волховской дороге, к полудню дойдешь до Зайцева. Уморишься – отдохни, запоздал – переночуй. Ночевать везде вольно. От Зайцева спросишь дорожку и придешь, где три земли сходятся: Тульская, Калужская и Орловская. Отсюда недалеко в ровочке и будет тебе отец Егор».
Село Спас-Чекряк возле трех земель – соломенное, но не такое, как другие соломенные деревни: не самотканая одежда у мужиков, не старинные головные уборы у баб, а что-то еще невыразимое дает тон селу, и, когда придешь сюда, кажется, будто из парка в лес попал или с дачи в имение. «Ровочек», о котором говорят, – неглубокая балка, покрытая редким лесом; по ней протекает ручей, и первое, что встречаешь здесь, это – колодец под деревянной крышей на круглых столбах. Тут все паломники останавливаются и непременно запасаются водой. Бутылку из-под казенного вина, – ту самую бутылку, за которой, может быть, вчера сидел муж, выпивал и колотил жену, – теперь женщина наполняет святой водой и потом подходит с ней к отцу Егору.
– Для чего водица? – спросит священник.
– От мужа, батюшка: муж дерется, – ответит женщина…
Когда я подходил к этому месту, пел соловей, лозина, береза и орех распустились, дуб, липа и осина стояли еще черные. Три женщины отдыхали возле колодца; у одной сарафан был в красных цветах, у другой – в белых, – девушка; третья была старуха, и сарафан у нее был в черных цветах. Купец, толстый, с большой четвертной бутылью, и молодой человек, рыженький, с пугливо бегающими глазками, сидели рядом с женщинами.
– Иду я по мужнину делу, – рассказала баба в сарафане с красными цветами, – муж гоняется за мной, убить хочет; не за себя боюсь – за ребенка. Так вот уйти собираюсь, бросить его.
– Ну, что же, – отвечает купец, – нынче можно, нынче слабо, чем тебе себя губить, благословись, да и с богом.
– А я иду по детскому, – объясняет купцу старуха, – сыновья хотят на хутор переходить, на участки, а я боюсь.
Девушка собирается замуж выходить. А сам купец «маленько винцом зашибает» и хочет дать обещание.
Журчит вода. Соловей поет.
– Живописное обозрение! – восклицает рыженький молодой человек.
– Вы откуда? – спрашивает его купец.
– Из Петербурга.
И рассказывает свою историю.
– Выпивал… И вдруг решился здоровья. Страх стал брать при работе. Бросил пить – страх не проходит. Пошел к докторам, а они говорят: «Ты здоров, иди и работай». Работаю – страх все не проходит. Последний доктор дал ландышевые капли. Пил много, безмерно пил, а страх усилился. Тут понял, что доктора не помогут, потерял веру в докторов и пошел к священникам. Обошел всех известных, и все говорят одно: «Ты здоров, иди и работай». А страх все не проходит. Теперь осталось испытать последнее: посоветоваться с отцом Егором.
– Отец Егор поможет, – сочувственно воскликнули все три женщины, – страх твой пройдет!
До молебна оставалось немного времени; все поднялись осмотреть отца Егора «заведение».
С мыслью о народном «прозорливце» всегда соединяется представление о черной рясе, о скудном, «богорадном и самоозлобленном» житии и всегда овладевает чувство неловкости. Потому, когда тут у отца Егора встречают нас сытые матушкины куры и дом, прекрасный, светлый, в котором так хорошо жить и работать, где все так дельно, разумно устроено и где нет следа юродства, – становится легко.
В согласии с домом священника развертывается и все остальное вокруг. Не случайностью кажется то, что приютские девочки, здоровые и веселые, одеты в красные кофты; не случайно то, что сестра, читающая Псалтырь богомольцам, – в кумачовом сарафане, и не случайно, что в этот светлый весенний день дети сажают между могилами старою кладбища яблони. Ни черных ряс, ни кликуш; вся масса народа, отдыхающая возле гостиниц на солнце, спокойна: пришли посоветоваться с отцом Егором.
Я любовался большой плотиной у пруда, которую целых три года в свободное время отец Егор насыпал вместе с детьми. Когда я услыхал сзади себя шум и оглянулся, около верхней ступеньки паперти виднелась большая седая голова, а за ней массой шел в церковь народ.
– У простого попа, – говорит народ, – дело самое легкое: раз махнул рукой, два махнул – и кончено. А у отца Егора трудно.
И в будни каждый день служит отец Георгий. И не как-нибудь служит, а от девяти до часу (молебен); после молебна, тут же, не выходя из церкви, он иногда часов до семи вечера дает свои советы. Час отдыхает и принимает к себе. Двери дома священника всегда открыты для всех. Кроме того, требы, всевозможные новые замыслы, постройки. Труд – немыслимый без особой веры в свое призвание. И лицо, и фигура отца Георгия соответствуют его кипучей деятельности. Лицо его – сильное, почти грозное.
И в церкви такая же простота и отсутствие всяких традиционных благолепных приемов. У отца Егора в будни нет помощников. Сам он подметает сор на полу, сам он наливает масло в лампады, ставит свечи, зажигает, и так еще до службы он привыкает к толпе и толпа к нему привыкает.
«Молитвенный дар», о котором все говорят, у отца Георгия состоит в том, что слова Священного писания, непонятные народу у других, здесь совершенно становятся ясными.
– Молитва терпкая, – говорит отец Георгий перед иконой божией матери. – Стена неколебимая… – И только занесет руку, чтобы перекреститься, – все уж в церкви, как один человек, крестятся. Склонит голову – все склоняют. Он подходит к каждому в церкви («Никого не пропустит, никого два раза не помажет!» – удивляются потом.) и каждого спрашивает, как его звать. Так обойдет он во время службы много раз: то, чтобы помазать, то с Евангелием, то с крестом. И так с ходом службы все больше и больше сживается народ с священником.
Странное и жуткое чувство охватывает, когда стоишь в толпе, верящей, что человек, который сейчас подойдет к молящимся, – не простой человек, а наделенный сверхъестественной силой знать судьбу каждого в прошлом, и настоящем, и будущем. Кажется, если бы на одну секунду поверить в это целиком, как верят все присутствующие в храме, так ужас такой охватил бы, что и убежал бы поскорее… И такая разница в психике! Все простые люди, как ни в чем не бывало, смиренно склоняют свои головы перед существом, знающим не только судьбу людей, но и животных, коров, лошадей, кур и всего, чем владеет крестьянин. Окончив молебен, отец Георгий уходит в алтарь и возвращается со святым копнем в руке и еще каким-то медным сосудом. Вот теперь-то и начинается самое главное, из-за чего и собралась вся эта толпа: советы отца Георгия.
Толпа теснится к амвону, где против открытых царских врат стоит священник. Уже протянулась чья-то рука с бутылкой воды.
– Для чего водица? – спрашивает, сливая воду со святого копия в медный сосуд, священник.
Робкие, невнятные слова верующей женщины и благословение: «Во имя отца, сына и святаго духа. В час добрый!»
Доходит очередь до знакомой мне женщины в сарафане с красными цветами.
– Для чего водица?
– Муж гоняется, – убить хочет.
– А ты поосторожнее, прячься…
– Батюшка, не за себя, за ребенка боюсь. Я уйти от него собираюсь, бросить его.
– В час добрый, – не колеблясь, говорит отец Георгий.
Женщина стоит пораженная, кажется, думает: «Как же так скоро судьба решилась», – и будто не верит ушам.
– В час добрый, – настойчиво повторяет священник. И видно по всему, что уж не первый раз он дает такой совет, что уж по долгому опыту у него составилось общее решение, и правда этого случая дошла до него теперь мгновенно, быть может, от какого-нибудь ему только слышного движения голоса этой женщины.
– В час добрый, – говорит он ей в третий раз и благословляет.
Подходит девушка-невеста, шепчет что-то свое…
– А сколько у него коров? Лошадь есть? Хорошая лошадь? А отец? Да ты его не знаешь. Узнай! Подожди. Узнай!
– Батюшка, корова скидывает.
– Вот тебе свечка.
– Курица…
– Покури ладаном.
Сотни пустяковых вопросов, и всегда неизменно ласковый ответ. Кто-то не решается на операцию, не верит докторам. Он говорит, что операция – легкая и докторам нужно верить. Бледная женщина подошла сзади, как евангельская кровоточивая, держится за край одежды. Он ей шепотом дает совет. По всему видно, что отец Георгий – не только умный человек и верующий, а и читает, следит за результатами науки.
Наконец, и женщина в сарафане с черными цветами добилась своего: спрашивает о своем земельном вопросе, – переходить ли ей с сыновьями на отруба.
Можно, конечно, вперед сказать, что отцу Георгию, как и всякому сельскому священнику, не очень-то хотелось бы посылать семьи на отруба. И он, видимо, без удовольствия отвечает женщине:
– Ведь это – не своя воля. Сыновья хотят?
– Сыновья.
– Это – не своя воля… Этого правительство хочет. Ну, что же… в час добрый!
Женщина чутьем угадывает неполноту ответа.
– Батюшка, – говорит она, – в нашем участке будет тридцать десятин.
– Ну, вот, чего же тебе… Прекрасно можно жить! В час добрый!
Старуха теперь отходит, довольная, к Другим, получившим советы и отдыхающим в церковных углах.
– Прекрасно жить будете, – делится она своей радостью, – будете прекрасно жить. И хорошо будет вам во всем. Так и сказал и благословил: в час добрый, переходите, переходите; этого и сыновья желают, и правительство.
А другие женщины в ответ ей рассказывают о своем и тут же творят для себя из этого «материала» свою собственную легенду, как и старуха с земельным вопросом. Если кому и неприложим к делу совет, тот помолчит, зато уж тот, кому верно вышло, – тот прославит отца Егора.
Про неудачу скажут раз, про удачу – тысячу раз, а из удач какая-нибудь самая большая – разукрашенная и расцвеченная, перейдет границу, где три земли – Тульская, Калужская и Орловская – сходятся, и пойдет гулять по всем другим землям, привлекая верующих.
* * *
Отец Георгий вышел из храма только часам к семи вечера. А дома у него были уже Болховские купцы и помещики со своими земельными и торговыми вопросами. Паломники расходились домой утешенными, с верой и надеждой в сердце, что теперь уж все обернется, бог даст, к лучшему. Один только не получил облегчения маловерный, что от страха к жизни сначала лечился ландышевыми каплями, а потом советами старцев. И странен, и жалок был вид этого фабричного рабочего, сокрушенного в своей новой вере и возвращенного в среду первоначально, детски верующих людей.
– Что же отец Егор вам посоветовал? – спросил я его.
– Да все то же: иди и работай, – ты здоров!
– И вы исполните?
– Я еще посоветуюсь в последний раз с отцом Михаилом в Дорогобуже, – тот, говорят, человек замечательный.
Такому маловерному отец Георгий не помог. Но… и сам Христос удалился в другое место, когда ему не верили.
В общем, от деятельности отца Георгия остается такое впечатление, что есть в ней какая-то живая черта, из-за которой не хотелось бы отнести ее в область седой старины вместе с причитанием воплениц и былинами северных певцов-рыбаков. Эту живую черту можно заметить и в Шамардиной пустыне, устроенной оптинским старцем Амвросием. Там и тут мы находим на одной стороне безотчетную народную веру как основу всего, а на другой – целый ряд разумных действий для просвещения того же народа; между тем и другим – цельная и высоконравственная личность проповедника. И кажется, что живая черта, отличающая Шамардину пустынь от других монастырей, и деятельность отца Георгия от подобных ему состоит в признании разума в религиозном деле. Вероятно, это-то и сделало то, что, как кто-то выразился, золото отца Амвросия от прикосновения к нему великих наших писателей, великих скептиков, не почернело.
О братцах*
(Письмо из Петербурга)
1
Это было в день Рождества прошлого года. Тогда еще в Москве братцев не отлучали, и мы шли на собрание без всяких предвзятых мнений.
– Где тут братец живет? – спросили мы пожилую женщину.
– Зачем вам? – спросила она и, внимательно оглядев нас, как оглядывают простые русские люди, сказала: – Он вас не допустит, а если и допустит, то вы его бремя не выдержите.
– Нам, бабушка, только узнать бы…
– Узнать, – строго сказала она, – тут знать нечего.
И ушла своей дорогой.
Так часто в России, при первом сближении с народом на почве веры, получишь упрек за желание «знать».
Знать тут нечего, нужно только верить, а то не допустит. Но нас допустили. Мы, мужчины, сказали условный пароль: «Ищем трезвую жизнь», – а наши спутницы: «Хотим послушать слово божие», – и нас впустили.
Петербургский Лурд с виду не такой, как у Золя. Жалко выглядят только женщины, но и то не все. Мужчины, напротив, кажутся совсем не убогими. Но это только так кажется. Мужчины у братца почти исключительно бывшие и настоящие пьяницы. Это – те люди, которых мы все видим в столицах под вечер, люди, которых боятся барыни, на которых косится городовой, за которыми издали, боясь подойти близко, чтобы не получить затрещину, следят женщины, бледные, исхудалые, – жены пьяниц.
Все эти люди стекаются к братцу за помощью. С раннего утра и до четырех часов вечера они стоят на улице, перед входной дверью, длинной шеренгой, как перед театрами. В зале их помещается человек триста, и стоят они тут молча, прислонясь к стене или опираясь на длинный и узкий стол с евангельскими надписями. Точно не известно, когда явится братец и начнется проповедь. Женщины, встречаясь, целуются и чуть-чуть шепчутся.
– Все по семейному положению, – тихо рассказывает нам о себе и братце жена старшего дворника. – Я вся во скорбях, век скорбела от пьяницы. Придет, бывало, наряжу, как куколку, а наутро опять раздевается. Все пропил. Места лишили. Остались с малыми детьми без крова. Его посадили в острог. Тут я к братцу: «Помоги, братец, я вся во грехах». А он мне на это говорит: «Не бойся, Христос для праведников не приходил, тем и так хорошо, Христос приходил для грешников. Ну, рассказывай свое горе». Я ему все рассказала, как муж сбаловался и как в острог попал и остался без крова. «Ты, братец, – говорю, – ото всего можешь, я к тебе по вере пришла, помолись за меня». Он помолился и дал маслица, чтобы я ему в острожную пищу подлила. «Ты, – говорит, – ему дай». Я дала, и что же вы подумаете?
Дворничиха показала на своего мужа, и больше не нужно было рассказывать. Старший дворник, одетый, «как куколка», с расчесанными и смазанными волосами, был первый трезвенник во всем собрании.
– Маслице от всего, – зашептали сочувственно другие женщины, – маслице даже и скотинке помогает.
– Походите, походите, чудеса увидите.
– Глаза закрываются, вот какие чудеса!
– Братец все может: больных, хромых, убогих выправляет. Слепые прозревают!
– Ссыльные с дороги ворочаются!
– У нас все испытано. Походите. Походите, – увидите… – И совсем уже тихо, на ухо шепчут, как умирал генерал, и почти что умер, и опять воскрес по молитве братца. Показывают генерала, переодетого в штатское, и его молодую дочь. Перестают шептаться. Встают с лавок. Вот-вот явится братец. Теснятся ближе к помосту.
– Братец, как Моисей, его дела делает!
– Наплывает, наплывает народ.
Хотелось бы теперь быть в дремучем лесу, в часовне, заросшей мохом, там слушать проповедь и думать о таинственной жизни лесов. Но здесь, где гудит вентилятор и горят электрические лампочки и слышны звонки трамваев, в этом Петровском парке, где и грибы не растут, и птицы не поют – трудно отрешиться от культуры.
Он явился в яркой зеленой одежде. Возле него, не сводя глаз, стал юноша со светлой улыбкой и хор девушек в белых платках.
Поет все собрание: «Рождество твое…» А братец с блаженной улыбкой, весь пропитанный радостью, счастьем, вглядывается в толпу, словно нащупывая: нет ли тут каких-нибудь закаменелых людей, неспособных слиться с другими и отдаться ему. Когда кончили петь, он развернул Библию и стал читать плохо, торопясь и сбиваясь:
– Авраам родил Исака…
Ему было просто скучно читать.
– Долго… – остановился он. И улыбнулся по-детски.
– Кто кого родил… ну и родил… а вот есть же Евангелие?
– Есть, есть, дорогой! – ответили в толпе.
– Как он родился? Тут и Аврам и Сарры и Агары. Ну, и ладно… Родили дитю живую… и ладно.
– Родили, родили, дорогой!
– А можете ли вы родить живую дитю?
– Твоими молитвами, дорогой!
– С гармоньями, с балалайками да с пьянством?
– Прости, дорогой!
Братец развел руками и улыбнулся опять по-детски. Но там, в толпе, уже нарастало и подхватывало всех какое-то особенное чувство. Что это было? Для нас это было сознание, что между этой толпой пьяниц и бесконечно пропащих людей было лицо такое светлое, детское; трогала уверенность, что есть это лицо. Одна из женщин упала в истерике. Запели, чтобы заглушить вопль. И вынесли женщину. Братец продолжал говорить о рождении Христа.
– «Как же это так дева зачала без греха? Слыханное ли дело, чтобы женщина без греха зачала. Без этого не может родиться дитя». Кто так говорит?
– Научи, дорогой!
– Так диавол соблазняет. Ему неохота. Он хочет, чтобы женщина была не госпожой, а рабой, вот что ему нужно, вот зачем он спрашивает: «Может ли дева без греха зачать?» А вот же и без греха!
– Без греха, дорогой!
– Вот вы были хромые и убогенькие, а теперь выпрямились.
– Твоими молитвами, дорогой!
– Без хлеба сыты.
– Сыты, сыты, дорогой!
– Без вина пьяны…
– Напоил, напоил!
– Хорошо. Он родился, а волхвы идут. Звезда идет. Волхвы лягут спать. Звезда останавливается. Там!
– Там, дорогой!
С пением идут прикладываться к кресту. Братец дает каждому пузырек с маслом, ладан и медную монету. Становится, как и в церкви, когда все кончается. Напутствуя расходящихся, братец просит поменьше есть мяса в этот день.
– Скотина будет благодарна. Волы пашут. Корова молоко дает. А мы резать! Животное тоже понимает. Будут смотреть на вас. Примиритесь с животными и через животных с богом!
* * *
Вот точный список с наших впечатлений от рождественского собрания у братца. В этом же собрании нам указали одну домовладелицу, немку-лютеранку. Она как-то побывала из любопытства у братца, и ей понравилось. Увлеклась и стала ходить. Пастор узнал об этом и тоже явился на собрание.
– Ничего, – сказал он домовладелице, – продолжайте ходить, это – тип христианского праведника, сохранившийся еще в России. Продолжайте, это не мешает вам быть лютеранкой.
2. Не от мира сего
Я иду вдоль оврага по тропинке, пробитой исключительно людьми, имеющими дело с банком. По той же тропинке впереди меня идет девочка с большим мешком на плече; тяжесть не по ребенку: она то пойдет, то сядет. В мешке у девицы – бутылки с водкой, и тащит она их из «винополии» в шинок. Завтра – банковский день, съедется много народу, и водка необходима. округ кредитного товарищества кишат шинки.
Так сочетается в русских условиях жизни кооперация с винной монополией. Потребительское общество возникло здесь давно, еще до «забастовки». Один либеральный барин, большой земец, устроил общество при содействии «третьего элемента». К наблюдению были привлечены учителя, учительницы, помещики с женами, служащие в экономии. Но как ни хлопотали все, плут-продавец перехитрил, проворовался, и лавка закрылась до последнего времени. Кредитное товарищество имело подобную же судьбу: не только ссуды распределялись при помощи водки, но даже без бутылки вина, бывало, и свои-то собственные деньги назад ни за что не получишь; и так мало-помалу и товарищество запуталось и сошло на нет. Теперь я иду в село, потому что услыхал по своем приезде новости: кредитное товарищество будто бы процветает, а потребительское общество возрождается; и самое главное, самое для меня удивительное – что там и тут заведующими делами избраны баптисты. Быть может, в местах, где много сектантов и где к ним привыкли, и не удивительно, что население оценило их нравственную стойкость, но здесь, у нас, это поразительно. Наши сектанты – не какие-нибудь чужие, пришлые люди, что-то вроде «немцев», а здешние, всем известные Никита и Егор. Они изменились у всех на глазах. Никита был где-то на заработках и пришел домой баптистом. Егор, глядя на него, тоже, как говорят, «стал книжки читать и водку пить бросил». Чего-чего не пришлось испытать на первых порах сектантам: становой опечатал и увез у них Библию; священник придирался ко всему, чтобы их изгнать; население издевалось, чуждалось. И еще бы! «Эти люди угодников отменили, отказались от всего родительского». И вот теперь, спустя три года, я слышу поразительную новость: этих самых людей село выбрало на завидные и почетные должности и будто бы в связи с этим процветает кредитное товарищество и возрождается потребительское общество.
Кредитное товарищество – внутри села, в красной кирпичной избе. В маленьком человечке, склоненном над книгой, покрытой цифрами, я с трудом узнаю Никиту. Я привык его видеть или в доме в семье, где он по воскресеньям читает с домашними и объясняет им Библию, или же на поле всегда усердно работающим. Теперь он приспособлен к чуждому его натуре делу. Тут же стоят его серые, обыкновенные односельчане и глядят с раскрытыми ртами на пишущего. А ведь три-четыре года тому назад эти же мужики собирались для обсуждения вопроса об изгнании этих людей и чуть-чуть не изгнали; и было тогда так вообще, что приходило в голову: точно ли русский человек относится, как принято думать, терпимо к сектантам? Вот этот-то вопрос я и ставлю на обсуждение тут же, прерывая на несколько минут занятия.
– Вот с божьей помощью и выбрали, – говорит Никита.
– Раньше мы их боялись, – говорят мужики, – а потом привыкли, и они к нам прирусели, водки не пьют, не безобразничают, так и выбрали.
И все объяснение. Так бывало, когда приедешь на лето в чужое село, то все долго косятся, пока не привыкнут, а обойдется, – какое кому дело до убеждений, до верований приезжего. И, думается, что так, предоставленный самому себе, обошелся бы и всякий народ и везде. Тяжелый будничный труд – главное в деревне, а верования, убеждения – вопросы праздничные, имеющие значение для исключительных людей.
С этим согласны все в этой избе, где я своим приходом вдруг прервал обычное занятие.
– А костры инквизиции, религиозные войны? – спрашиваю я Никиту.
– Так то – времена, – отвечает он. – Их было семь времен. И было по времени семь церквей. Теперь же все мертвое. Но я закрою глаза и выйду.
– Куда выйдешь?
– Выйду к духу, верну свои утраченные права. А на все преходящее закрою глаза.
Никита сидит над цифрами развернутой счетоводной книги и рассуждает о вечном; серые мужики, которые пришли сюда по своим маленьким, «переходящим» делам, ничего не понимают, но слушают сочувственно.
– Трудное ваше дело, Никита Евдокимыч, – говорит один.
– Как поймешь, так нетрудно, – отвечает сектант, – то – белое, а то – черное.
– Как понять-то?
– Сразу: вот белое, а вот черное.
– Я пойму, а как же бабы-то, другая такая злодейка… Никита терпеливо объясняет:
– Не в бабе тут дело; сам поверишь, – баба поверит; тут сразу нужно, чтобы душа встрепенулась и пробудилась; закрой глаза на все остальное и увидишь; а это все здешнее – преходящее, на этом нам основываться нельзя.
Когда я возвращался домой по той же тропинке, где встретил девочку с водкой, возле глубокого оврага, разделяющего все село на две части, то совсем почему-то не испытывал чувства умиления перед терпимостью русского народа к людям других убеждений. Я чувствовал только досаду, что между людьми земли не нашлось ни одного честного человека и пришлось сделать заем у неба, выбрать для простого житейского дела человека не от мира сего.
3. Голгофское христианство
С одним моим знакомым случился «отрадный факт»: был приговорен к смертной казни и помилован. Он участвовал в каком-то военном бунте, начатом из-за дурной пищи. «На самом деле, – рассказывает он теперь, – „червей в мясе“ не было, а восстали так, вообще за правду». Религиозным он был всегда, но ожидание смертного приговора его поколебало в вере: настолько он не сомневался в правоте восставших. Он колебался в тюрьме… Помилованный, он поставил себе задачу: найти оправдание перед богом своему революционному гневу.
Он сделался баптистом из-за того, что в этой религии «есть хоть немножко протеста». Но баптизм его не удовлетворял, и напрасно пресвитер рассказывал ему об апостолах, которым всем было дано одинаково, но которые не все одинаково выполнили свою задачу. Он возражал на это тем, что каждый из апостолов все-таки сознавал всю полноту дела Христова. А баптизм он считал делом частично хорошим, удобным для семейной жизни и воспитания детей. В дальнейших своих исканиях он попал наконец в интеллигентские кружки.
Я помню, – он делал доклад в одном из таких кружков, – старался убедить нас, что царство божие должно быть на земле.
Большинство возникающих на наших глазах религиозных общин и всяких религиозных исканий в народе и в интеллигенции объединяет всеобщая тяга к земле и бунт против неба, забывшего «прокаженную» и поруганную землю. Лучшая жизнь у людей, лучшее будущее здесь, это – земля. Как на яркий пример такой народной религии, устремленной к земле, из вновь возникших сект я укажу на «Новый Израиль», а из культурных слоев вытекает «Голгофское христианство», идейным выразителем которого считается епископ Михаил.
На нашего докладчика о царстве божием на земле напали. Возможно ли, – говорили, – на такой прокаженной земле царство божие?
И что такое – эта земля, о которой все говорят, к которой все стремятся теперь, но все по-разному?
Искатель бога был смущен, больше не выступал с докладом и долго оставался в. тени. Я его встречал потом в народном университете, на лекциях по истории религий, и, наконец, совсем утерял из виду.
И вот теперь, направляясь в Белоостров, к епископу Михаилу, чтобы узнать от него о голгофском христианстве, я снова увидал на вокзале моего знакомого богоискателя.
Нашел ли он свою землю, нашел ли оправдание в боге своему бунту? Да. Он теперь спокоен. Он все нашел в христианстве Голгофы.
Мы едем вместе. И вот это небольшое путешествие в Финляндию, к «запрещенному» епископу. Незаплеванный вокзал. Опрятные вагоны. Дельные и вежливые проводники. И все это – после русских станций и полустанков, где я только что проводил по шести, по семи часов в ожидании поезда.
– Как просто то, что нужно делать в России, – сказал я своему спутнику.
И он так хорошо меня понял, улыбнулся, будто отдыхая от той сложности, куда завели его искания правды.
Но вот на границе Финляндии мы проходим мимо часового. Этот солдат на обратном пути будет шарить в наших карманах: не везем ли мы револьверы?
– Как трудно то простое, что нужно делать в России, – внесли мы поправку к прежним словам. Мы шли по глубокому снегу, по пустой улице, между занесенными дачами. И когда я представил себе, что где-нибудь тут, между этими покинутыми деревянными домиками, в холодной комнате, живет бывший профессор канонического права и теперь старообрядческий епископ, то все больше и больше приходили мне на память мои посещения отшельников в Ветлужских лесах. И эти массы засыпанных снегом дач вблизи огромного города оставляли по-своему не менее жуткое впечатление, чем заросшие мохом и заболоченные леса.
Ставя свои калоши в чьи-то следы, мы обошли одну дачу до черного хода. Прошли одну пустую комнату, холодную кухню; в третьей, в старообрядческом кафтане, у стола, покрытого бумагами, сидел епископ Михаил.
Он весь в своих думах и вздрагивает от чужой мысли, как от физического прикосновения. Монах двадцатого столетия. Один из немногих убежденных людей в России.
Епископ сам затопил печку, сам согрел самовар и начал свою беседу с нами.
Что же такое голгофское христианство и чем оно отличается от баптизма, толстовства, учения духоборов и, наконец, от христианства господствующей церкви?
Все эти исповедания, по мнению епископа Михаила, держатся на одной великой ошибке: они исповедуют, что Христос принес в жертву за мир кровь свою и с этой поры совершено искупление мира. Люди спасены. Им открыты двери рая, если они только впишутся в списки искупленных. Стоит только поменьше грешить и побольше каяться в благодарность Искупителю. Так верят все: и православные, и протестанты, и баптисты, и толстовцы. А Христос требует, чтобы каждый был, как он. Как он, принял Голгофу, взошел на нее. Почувствовал на своей совести зло мира, как свое дело, свое преступление, свой позор и принял на себя долг сорвать с жизни ее проказу. Христово христианство – постоянная Голгофа. Великое распятие каждого. Принятие на себя, в свою совесть всего зла, в котором лежит мир, ответственность за все, что жизнь разлагает, пятнает проказой. Искупление не совершено до конца. Мир еще не спасен. На Голгофе принесена только первая великая жертва за мир, величайшая жертва, как образец и призыв, как проповедь и великое действие слияния воли Христовой с волей человеческой. Церковное христианство думает, что Христос ушел от земли, чтобы строить на небе чертоги для праведных, что земля – только темная, грязная дорога на небо, которую надо скорее пройти, чтобы прийти туда. Нет! Христос – бог живых, на земле хочет создать царство свое, – для человечества, соединенного с ним. Для земли он умер, чтобы ее спасти, ее обновить, с нее хотел он снять древнее проклятие.
Эта основная мысль о земном Христе приводит епископа Михаила к целому ряду выводов, к которым мы вернемся в другой раз.
– Как такие «еретические» взгляды терпят старообрядцы? – спросил я епископа Михаила.
И получил от него совершенно новое и не ожиданное мной объяснение.
– Старообрядцы, – говорит епископ Михаил, – нетерпимы только в обрядах, которые в них входят, как и все природное, от отцов, бессознательно. Что же касается общих взглядов, то они очень терпимы…
Пробираемся домой между пустыми дачами. Во тьме огонек отшельника – все тот же узкий и тесный путь и все к тем же и еще большим страданиям…
«А если я не дан тебе? – вспоминается из Гёте. – Если отец хочет оставить меня у себя?»
Если я и так довольно страдал не по своей вине, неизвестно за что? Если даже заповедь «в поте лица своего обрабатывай землю» я не могу выполнить, потому что земля уже до моего изгнания занята, истощена и мои здоровые руки делают не свое, чужое дело?
И как поверить, что этот узкий, тесный путь новых страданий непременно приведет меня к светлой земле?
4. Земля нового Израиля
В прошлом году я был на именинах у пророка одной общины, близкой к тому, что известно обществу под именем хлыстовства.
Две худенькие, как восковые свечки, девушки провели меня к узкому длинному столу, уставленному тарелками с пряниками и орехами. По обе стороны этого стола сидели все такие же худенькие, изможденные девушки и женщины. Именинник был в углу возле столика, на котором стояла икона; он – черноглазый красавец великан в блестящих высоких сапогах и русском кафтане, немолодой, но кудрявый, с горящими глазами в темных впадинах. Нам всем подали чаю. Хозяин сделал какой-то знак девушкам, они запели тягучую церковную песнь. Потом хозяин особым языком – нелепой смесью славянского с новейшим газетным – долго говорил и пророчил о последнем времени, когда даже «все микроскопы» (микробы) замерзнут. Перед каждым стаканом чаю повторялось то же самое: церковное пение «ангелов», хозяин говорил «о двух психологиях»:
– Одна психология крови, – объяснил он нам, – а другая психология – просто чистый янтарь, постав божий… Окончив свою речь, он говорил:
– Теперь прошу по стаканчику чая, – и садился в угол к столику с иконой Михаила Архангела.
И вот вдруг, как-то неожиданно, из ряда многочисленных бывших на именинах гостей поднялся небольшой человечек с подвижным лицом и с какими-то неестественными манерами, со всякими штучками и ужимочками, и попросил у хозяина для себя и для своих дать спеть по-земному.
Хозяин очень поморщился, но из вежливости разрешил. И ясно было, что дело тут вовсе не в земной песне, а в чем-то другом, нам неизвестном. Грянула не то камаринская, не то «По улице мостовой». Вслушались мы. Ну, так и есть. Земного в песне был только мотив, а слова были все о тех же чистых янтарях, божественных сосудах и шествии Израиля. Напев же земной был избран для того, чтобы тут же и заявить о своей земной религии. Так и оказалось: после пения гость начал говорить против неба, обличать именинника, уверять его, что бог на земле. Говорил он совершенно для нас непонятно и с такими ужимками, с таким кривлянием, что красавец именинник прямо казался в сравнении с ним куполом небесным. Потом, после близкого знакомства с демонстрантом, оказалось, что он вовсе не то, что кажется, что он только будто земной человек, как и его песни только будто земные, только символы земли. Внутри же этого человека была какая-то огромная таинственная сила, такая страшная религиозная воля, направленная к этой будто бы земле, что раз одному образованному и верующему господину сделалось страшно: «Не черт ли это?»
Долго мы не могли понять ничего, чему учил этот пророк, и только после очень долгих и упорных усилий объяснилось учение «Нового Израиля», то учение, которое, выметая все небесное, обращается к земле. Сейчас мы увидим, какая это земля.
– Бога нет! – сказал он раз и стал, сличая библейские тексты, доказывать несообразность буквального понимания Священного писания.
– Может ли это быть! – стучал он, весь бледный, кулаком в стол. – Все это – выдумки досужих людей.
И поистине было что-то демоническое в этом человеке, когда он так говорил: это было не простое кощунство неверующего человека, а возмущение верующего по-своему.
– Он здесь, на земле, – открыл наконец пророк свою тайну. – Из нас всех Христос.
– Во всем Священном писании нет ни одной буквы неверной, но все это нужно понимать притчей.
– Некогда бог, сотворив природу, вошел в душу человека и с тех пор пребывает здесь, на земле, в душе человека.
– Священное писание есть накопленный опыт о боге, и понимать его надо иносказательно, переводя все на себя.
– Неба нет. Писание нельзя понимать буквально. Люди создали небо, обманывая других людей. Вся истина в человеке на земле и живущем в нем боге.
– Царство божие на земле.
Вот учение, которое по существу своему нового ничего не представляет и обще многим мистическим и рационалистическим сектам. Но вот где начинается нечто изумительное: когда, веруя в то, что царство божие на земле, веруя в каждую букву Писания, что оно есть программа для устройства царства божия здесь, – эти люди приступают к делу осуществления этого царства здесь.
Сотни тысяч людей объединяются верой в земного Христа, какого-нибудь даровитейшего и умнейшего Лубкова. И потом дальше все, как в Писании: и пророки, и Иоанн Креститель, и семьдесят равноапостольских мужей, и семь столпов небесного свода. Даже вся Россия поделена на семь частей света, имеющих свои наименования: 1) Верхняя страна Кем; 2) Нижняя страна Кем; 3) Великая Годаринская равнина; 4) Берега священного Нила; 5) Страна Римского отчуждения; 6) Великий Рим; 7) Палестина.
Тут и своя география:
Закавказье в честь альбигойцев называется «Южная Франция», Елисаветполь – Иерусалим, здесь гроб господний, город Бобров – Вифлеем.
Так создалось царство божие на земле. Пятьсот тысяч людей Старого Израиля и быстро растущая громадная армия Нового Израиля живут вместе с нами в той же России такой своеобразной жизнью, что страшно становится: ведь тут что ни шаг, то отживший миф и легенда, направленная в живую струю земной жизни, ведь это – не люди, а тени. Земля… Что же это такое? Земля – лозунг большинства новейших религиозных искателей. Но что же это такое – земля? Если это текучее творческое жизненное начало, то где же оно осуществляется?
Отклики на смерть Толстого*
I
По нездоровью я должен был сидеть дома в меблированной комнате, дверью выходящей в коридор. На дворе – слякоть, в комнате – пасмурно, в коридоре – мрачно, как в тюрьме. И вот тут известие об уходе Толстого. Сразу стало светло.
«Значит, и в старости можно бежать, значит, это может сохраниться, эта детская Америка, превратиться на остаток дней во что-то большее…» – думал я.
Теперь, вот теперь, когда слякоть везде, старец поднимается и идет…
На глазах всего мира! Выдержит ли? Что, если вернется, что, если все окончится чем-нибудь маленьким?
Нет, никогда, что бы ни было, – у Толстого этого не может быть! Толстой не вернется. Никогда…
Вот это сознание, что Толстой уже не изменит, какой бы он ни был старый, но пошел и будет идти, с самого начала меня подхватило и несло к какому-то большому миру, в котором исчезают перегородки уж всяких меблированных комнат. И я встал и пошел в коридор с газетой, чтобы поделиться с первым, кто встретится, уверенный, что и все должны переживать то же, что и я.
– Хорошо уйти старику, вот если бы он раньше, молодой, ушел, – встречает меня голос.
Я прячусь назад в свою конуру, но господин с «Новым временем» в руках наступает.
– Если бы, – говорит он, – посмотреть на это с точки зрения сближения Толстого с церковью, это другое: зачем он был в Оптиной? Если бы его гордыня, его ницшеанство склонилось перед святым Серафимом. Если бы он ушел, чтобы помириться с православной церковью…
– Знаете, что тогда? – выскакивает дама из соседней комнаты. – Тогда Толстой обманул бы нас всех. Если Толстой так сделает, значит, ничего в России порядочного нет, – я за границу уеду.
– Сударыня… – идет к ней господин.
Но она перед самым его носом хлопает дверью и закрывается.
И я ухожу к себе. Стараюсь понять, почему же так разно действует на людей одно и то же событие, и мало-помалу мне представляется, что и должно так быть, что где-нибудь на Невском в электрических театрах и вовсе никакого действия на людей уход Толстого не окажет, что даже в своей собственной душе есть такие далекие от этого инстинкты. Тут одно: надо поставить вокруг себя ограду, чтобы не лезло ничто постороннее. «Уехал мириться с церковью…» – повторяю я про себя слова из коридора и припоминаю почему-то одного монашка, гостинщика из Оптиной пустыни, которому Толстой сказал:
– Примешь ли отлученного Льва?
– У нас всех принимают, – ответил этот монашек.
Я знаю и эту гостиницу, и этого монаха, я только что там был. Монах этот, худенький, постный, простой сердцем, – лучшее, что я находил в монастырях. Он принял меня ласково, и я, устроившись в нумере, отправился в скит старца Амвросия, куда и Толстой по приезде своем пошел. Тропинка в лесу. У корней высоких сосен – аллея калек и убогих. Колодец, скитская ограда в лесу, ворота. Изумительная тишина в скиту: вокруг скитского сада плотным кольцом сошлись сосны, шумят, а внизу, в саду, листик не дрогнет, бабочка спокойно порхает от яблони к яблоне, от осеннего цветка к цветку. Тут белая келья старца Иосифа, совсем будто могила. И тут-то постучался Толстой. Я не решился войти, мои помыслы были слишком земные и беспокойные, чтобы решиться войти. Я вернулся в гостиницу. Всенощная еще не кончилась. Тот постный монашек-гостинщик сидел на лавочке и рассуждал с приезжим купцом об игумене Варсонофии.
– Вот, – говорил купец, – полковник, а стал монахом, почему бы так?
– Может быть, война его оттолкнула от мира? – сказал я.
Монашек взволновался, напомнил мне об иноке Пересвете.
Я ему опять сказал о войне, кажется, привел пример из последней войны, настаивая, что война христианину не к лицу.
Монашек растерялся, задумался и вдруг, будто найдя ключ ко всему, сказал:
– А православие? Если не будем воевать, придут католики и завоюют.
И он сказал это так просто, так ясно, что спорить уж было и нехорошо, и видно было, что монашек начал подозревать во мне вовсе неверующего человека. Чтобы успокоить его, я подарил ему копеечных брошюр Почаевской лавры, и он с удовольствием принялся их читать вслух. Этот монашек, инок Пересвет, нерассуждающий, верующий смиренно и просто, мне вспоминается очень ясно.
– Примешь отлученного Льва? – сказал ему Толстой.
– Благословляю тебя на войну с католиками, как инока Пересвета, – отвечает монашек.
Возможно ли это?
Конечно, нет.
Лев Толстой и инок Пересвет несоизмеримы. Их разделяет не гордость одного и смирение другого, а разные ступени религиозного сознания. Так, перебирая свои впечатления из прошлого, я опять возвращаюсь к тому же: «Толстой пошел, Толстой не вернется».
Новое известие: Толстой заболел.
Минутное сомнение, и опять то же: умрет, но не вернется.
В наши комнаты приносят газету за газетой.
– Жив?
– Слава богу, еще жив.
В коридоре тихо. Чувствуется, что сходятся возле события концы всех мировых вопросов, что тут завязывается узел.
В последний день не принесли газет. Из коридора я услыхал рыдающий голос:
– Умер…
– Без покаяния умер? – ответил другой, грубее и черствее.
Тот голос зарыдал сильнее:
– Какое же покаяние, ведь он всего себя добру отдал!
II
Об этом, кажется, не писали в газетах, но так везде передавали друг другу в Петербурге: торжественное собрание соединенных Обществ не только не удалось, но и вовсе провалилось. Молодежь прямо говорит: «Пожар заливали». Ораторы с темпераментом, «интересные», отказались говорить в рамках, поставленных властями, а другие, почтенные общественные деятели и ученые, должны были выступать под великим страхом: чуть что скажешь лишнее или кто пикнет из публики – собрание закроют. В публике ходила легенда, что в случае насильственного закрытия собрания устроителям грозит какой-то огромный штраф в тысячи и тысячи рублей. В этой обстановке настоящей рабской (то есть грубо внешней) несвободы и совершилось чествование великого свободного человека. Можно себе представить теперь психологию какой-нибудь барышни после такого собрания, потерявшей целую неделю, чтобы добыть себе билет на это собрани.
Ведь были, говорят, даже и физически пострадавшие от усердия достать билеты: где-то у кассы разгоняли толпу. В этом всеобщем стремлении пробить броню внешних грубейших препятствий, чтобы на смутное свое откликнулось свое других людей и вместе стало яснее, конечно, много наивного и того, что называют «стадным». Мною ли найдется из всех этих устремленных на собрание людей действительно готовых зарыть свою «зеленую палочку»? И если есть они, такие люди, то найти им друг друга в таких собраниях невозможно, и не только по внешним причинам, но и по внутренним: не хватит смелости на полную искренность, потому что в каждом из нас есть свой маленький бог, которого опасно оказать на людях.
Эти вопросы объединения разобщенных я теперь называют церковными, так же, как раньше в широкой массе нашей интеллигенции их называли социальными. Слово «церковь», связанное теперь со всей суммой новейших интеллигентских исканий, не совсем совпадает с обычным бытовым понятием, и последнее, в отличие от первого, называют «историческая церковь» или даже просто «церковная иерархия». Я говорю это для того, чтобы сделать понятнее изложение своих впечатлений от вчерашнего чествования Толстого уже не на торжественном собрании соединенных Обществ, а в закрытом заседании Религиозно-философского общества. Здесь, в отличие от первого собрания, почти отсутствовали рамки внешней несвободы; здесь собрались и те «интересные» ораторы, которых там не было, словом, – здесь уж, как нигде в другом месте, можно было ожидать, что память Толстого наконец-то будет действительно почтена.
Не было обычного вставания. «Это после всего», – предупредил председатель. Вставание и, быть может, еще нечто большее должно было само собой последовать за речами, выйти естественно. Начались речи заранее уже намеченных ораторов. Передать все, что говорили о Толстом, не так легко. Я могу говорить лишь о своих впечатлениях. Хорошо было то, что каждый из ораторов старался сказать не то, в чем он несогласен с Толстым, а в чем согласен. Согласие больше несогласия – вот что получалось из этого, и личность Толстого росла и росла. Раньше большинство людей разделяло Толстого как художника и как учителя. Но вот тут становилось совершенно очевидным, что это – одно и то же лицо. «Когда-то Толстой смотрел на освещенные предметы и показывал на них, потом Толстой повернулся лицом к солнцу, и от его огромной фигуры легла большая тень», – так я представлял себе когда-то соотношение Толстого художника и учителя. И вот даже это мое представление показалось мне слишком резким, когда я слушал речи. «Тень не нужна, – думал я, – Толстой всегда стоял лицом к солнцу»- Зарытая ребенком зеленая палочка и возвращение к ней старика и связанная с этим легенда о царстве божьем на земле – вот канва, по которой говорящие в этом собрании рисовали перед нами великую целостность этой личности. Замечательным оказалось то, что эти все столь различные люди сходились здесь в чем-то одном.
– Быть может, – говорил один из ораторов, – такое согласие – уже начало того большого согласия разных слоев интеллигенции и народа вокруг имени Толстого?
– Быть может, это уже и есть начало ожидаемой церкви?
Кто-то высказал мнение, что это согласие в духе само по себе непрочно, если нет организации, что душа одного человека, соединяясь с другой и третьей, непременно ищет выражения; необходимо дать этому соединенному духу возможность удержаться в одном сосуде…
И как бы в ответ на это старообрядческий епископ Михаил напомнил собравшимся, что Толстой молился.
Тогда все встали, и епископ Михаил с большим чувством прочел молитву. Заранее приготовленный хор запел «Нагорную проповедь».
Тут, однако, произошел один маленький инцидент, о котором и не следовало бы говорить, если бы он не перебил мое настроение и, вероятно, многих. Когда хор запел «Нагорную проповедь», то на стул вскочил небольшой господин и начал неистово кричать. Если бы это был какой-нибудь рядовой политический демонстрант, то уж, конечно, он не мог бы повлиять на настроение, но кричал солидный человек, философ, воспитанный, робкий, застенчивый в общежитии. Кричал же он: «Жизнью и делом покажите связь с Толстым, а не так».
Его уняли. Пение продолжалось. Но я уже не чувствовал пения, а думал, и совершенно определенно думал, о том сосуде, в который будто бы неизбежно, по словам одного из ораторов, должен быть заключен соединенный дух человеческий. Пример – на глазах: Толстой не заключался… Но мы – не Толстые. С другой же стороны, найдется ли тут десяток человек, которые могли бы вместе зарыть зеленую палочку, то есть отказаться от всего случайного во имя вечного и законного, после чего только и можно говорить об истинной церкви. Для того же, чтобы совершить этот подвиг, нужно и маленькому человеку жить по примеру больших, не заключая себя, а в одиночестве доводя себя до всего. Осуществление церкви в таком случае отодвигается в бесконечность, а с этим – и совершение всяких обрядов…
III. Смута в сердце
– Прекрасная могила!
– Чем она тебе нравится?
– Так… в лесу…
– Что же тут хорошего?
– Да сам-то хорош был.
Рассказывает нам еще туляк по пути в Ясную Поляну, как он вместе с Толстым на этой самой дороге чей-то упавший воз поднимал. Больше он о Толстом ничего не знает, книг вообще никаких не читал. Там и тут виднеются соломенные гнезда, в которых выводятся такие простейшие существа, как наш возница-туляк. По той же дороге едут автомобили, коляски, вероятно, тоже, как и мы, на могилу Толстого.
Почему-то кажется, что эти паломники в автомобилях едут совсем не из той земли, где жил Толстой, а откуда-то ужасно издалека, что это все иностранные гости, которые и в самом деле так часто посещали Ясную Поляну.
А по тропе боковой краем ржи плетутся простые богомольцы поклониться праху старца Амвросия в Оптину пустынь. И когда-то сам Толстой, по примеру этих людей в лаптях, этой же самой тропой, тоже ходил к оптинскому старцу.
Едет много экипажей по тракту, но простых паломников в сторону толстовской могилы на боковых тропинках нет.
– Когда это будет? – спрашиваем мы, обращаясь друг к другу…
Для нас «вопрос» вырос в самой живой форме. Спутница моя, дама старая, недавно сильно хворавшая, ехала в Шамардину пустынь говеть и… – могила Толстого была почти на пути, – заехала перед говеньем поклониться праху Толстого, великого, любимого ею и почитаемого человека. Грех! Пусть будут свободолюбивые и умные пастыри доказывать текстами, что нет греха заехать семидесятилетней, седой, православной женщине перед исповедью на могилу Толстого. Грех! Мы это чувствовали уже потому, что не всем в пути это и сказать-то можно было. А когда образованные шамардинские монахини совершенно серьезно, ссылаясь на свидетельство очевидцев, говорили нам, будто земля яснополянская трижды сотрясалась при погребении Толстого, – разве не осудили бы они старуху, узнав об ее поездке на могилу?
И не могу я забыть еще другую старую женщину, которая после смерти Толстого молилась за него, а узнав, что молиться нельзя, – каялась.
Вот встречается на пути книгоноша. В ящике у него брошюры Толстого и отца Иоанна Кронштадтского, – объединяющее начало, очевидно, рубль, но книгоноша не довольствуется этим.
– Тут, – указывает он на книги Иоанна Кронштадтского, – о церкви, а тут – книги Толстого о неправде человеческой. Ведь Христос не одевался в золотую одежду, и апостолы не носили митры с драгоценными камнями.
Смута в сердцах и речах…
Вот еще старик, высокий, прямой, стоит на площадке вагона; к нему подходит другой, рыжий, узнают друг друга, поздоровались.
– Лета мои короткие, – сказал рыжий, – да жизнь долгая, лютая жизнь, а лет мне всего только пятьдесят с очками.
– Ну, и времена! – вздохнул белый старик, всматриваясь, как это бывает, одновременно и с состраданием, и с презрением в лицо молодого старика. – Эх, ты! – качает он головой. – В пятьдесят лет старик. Да ты мне во внуки годишься: тебе пятьдесят с очками, а мне – восемьдесят с очками.
– Глубокие года! – сказал рыжий.
– Севастопольский солдат я; Толстому ровесник, с ним в одном отряде был: я – солдат, он – поручик.
Вмешиваюсь в беседу, спрашиваю у солдата, какой был Толстой поручиком.
– А все такой же. Ты о людях вот что примечай: ежели он сказал тебе что и через десять лет опять об этом так же сказал, – стало быть, человек тот – настоящий. А Толстой и тогда был такой же: с солдатами душа, а начальство ругал, этих генералов…
Очень крепкое словцо пустил севастополец. Дверь вагона первого класса сердито хлопнула.
– Нелюбо слушать! – засмеялся старик и продолжал еще пуще честить начальство, и за Думу, и за японскую войну, и за земельное неустройство. Таких обличителей теперь сколько угодно, и первое время сослуживец Толстого в моих глазах как-то дешевел. Но по мере того, как старик севастополец накоплял новых и новых своих обличений, я начинал понимать, что не обыкновенная эта была речь рядового обличителя, что тут у старого человека мысль вертелась вокруг какой-то основной неподвижной правды. Наконец он сказал:
– Толстому был дар божий неправду видеть. А его отлучили! – продолжал старик. – Такого человека и отлучили от церкви! Господин! – вплотную наступал севастополец. – Я тебе открылся, откройся и мне, чистой кровью откройся, можно ли так судить человека?
Меня занимала в это время мысль старика, что у Толстого был дар божий видеть неправду.
– Судить? – ответил я. – Каким судом судить, – человеческим или божеским?
Старик вдруг весь осел от моих слов.
– Ну, господин, не ожидал от тебя такого ответа. Прости меня, из духовного ты звания или по газетам? По газетам. Хорошо! Давно я не слыхал такого ответа.
Севастополец вдруг весь размяк и прослезился, и никогда я еще не видал более быстрого перехода от силы к слабости. Он рассказал, и как он на Афоне кашку варил, и как был на Валааме, и у Троицы, и у Саровского, и в Соловках.
– Троица, богородица, бог, бог-сын и двенадцать апостолов, родное семейство! – бормотал этот обличитель, обращенный лицом к очагу своей веры. И когда, оправившись, снова обратился сюда, в сторону неправды человеческой, то опять по-севастопольски воскликнул: – Свету конец! Всей России конец наступает! Остается жить сто пять лет. Ибо сказано в Писании: «У орла клюв обновляется, так и земле нужно огнем обновиться». Смотри, смотри, как напутали! – Старик указал на телеграфную проволоку. – Сказано, что перед концом весь свет паутиной будет опутан.
– Боже мой! – воскликнул старик, мысленно уже пережив конец света. – А ведь какая страна-то была, какое богатство. Выли у нас и моря, и леса, и озера, и реки, и птицы, и рыбы всякие, и ягода, и луга заливные, земли черные, светлые и травы всякие по ней. Самая богатая страна была, а хозяина в ней не было. Говорили – мужик плохой. Грязен он, глуп и мал, как цыпленок. Да разве в мужике дело? Дайте мне в руки, я любого мужика в месяц на дело поставлю. Не в мужике дело. Дело – в правительствующем Синоде, – сказал севастополец. – Синоду нужно было объяснить мужикам, что такое – бог, что такое – моря, реки, леса, горы… А Толстой, что же Толстой?.. Он – человек, как и мы, только ему дар божий дан видеть неправду человеческую.
IV. Вагон Толстого
Мертвая станция в безлесных полях. Поезда нет, – спит жандарм, спит буфетчик, спят лакеи, и на столе лежат блюда с холодным, покрытые чем-то белым, будто покойники. Поезд идет – все просыпаются. Открывают блюда с холодным. Тащат огромный самовар. Зажигают огни. Маленькая станция в безлесных полях на десять минут оживает и творит поэму, такую причудливую, такую непонятную для безмолвных, бедных наших полей.
К коротенькому поезду с единственным вагоном для пассажиров сходятся на станцию из ближайших деревень бородатые мужики в овечьих шубах, садятся в зале третьего класса на лавки, на столы и даже на пол. Становится тесно и душно. Поднимаются синие клубы махорочного дыма, слышится не речь, а отдельные ночные звуки под вечный аккомпанемент щелкающих семечек.
В этом году здесь ожидали мужики воздушного корабля. Прибежал сюда этот страшный слух от кондуктора коротенького поезда. Мужики поверили и стали ждать. Поплевывая на землю, люди в овчинных тулупах теперь смотрели на небо и думали: «Вот-вот покажется желанный воздушный корабль». Но не сбылись ожидания. Корабль опустился где-то в сорока верстах от станции, поднялся снова и улетел назад.
– Пустяка не дошел, – сказали мужики. И перестали ждать.
А станция в это время уже готовила новую фантастическую поэму. В единственном пассажирском вагоне коротенького поезда проехал сам Толстой. И когда он умер не очень далеко отсюда, на такой же станции в безлесной равнине, то и люди в овчинных тулупах стали вместе со всем миром творить поэму о нем.
– Праведник! Праведник нынешнего века! – говорили мужики.
Станция напрягала все свои творческие силы. Коротенький поезд удлинился. Проехало великое множество всяких людей. По телеграфным проволокам пробежали слова со всех концов света.
Теперь, спустя несколько месяцев, здесь по-прежнему ходит раз в день коротенький поезд с единственным пассажирским вагоном. Песенка спета. Мужики сходятся и молчат. Не ждут воздушного корабля, на небо не смотрят, а только сплевывают на землю махорочный нагар и семена подсолнухов.
Неужели напрасно творила маленькая станция свою поэму в печальных полях?
V
В Изумрудове, – восемь верст от станции, – и теперь беседуют и спорят о Толстом так же горячо, как и в день его смерти. Тут, в прекрасном саду, насаженном руками самого покойного батюшки отца Федора, в теплом деревянном доме, сложенном под его внимательным глазом, доживают век три старушки. Одна – матушка, вдова отца Федора, тихая, как тень, и такая спокойная, что, когда чай наливает, кажется, будто покойный отец Федор обедню служит. Другая старушка – глухая, но любопытная, все слушает в трубу и ничего не может услышать. Третья – вдова протоиерея; эта всегда молчит и, должно быть, ничего не слушает, вся поглощенная пасьянсом. Тишина в доме. И не будь в Изумрудове живописца и золотых дел мастера Михаилы Петровича, человеческое слово давно бы спряталось в маятник старых часов. Этого Михаилу Петровича вывез сюда откуда-то еще покойный отец Федор, когда нужно было подновить иконостас. С тех пор много прошло времени, батюшку схоронили, а живописец, бритый старик с седым вихром, все живет и все философствует. И теперь, как и раньше, чтобы мысль родилась, ему стоит только придавить пальцем кончик своего носа и посмотреть так, будто собеседник его – стеклянный и сзади еще кто-то стоит. Глаза Михаилы Петровича очень черные, но теперь из года в год как-то желтеют, будто внутри они медные, и черное от времени сходит. Щетина его бороды теперь стала совершенно седая.
– Опасный человек! – предупреждала матушка Анна Александровна покойного отца Федора.
– Ничего в нем не вижу опасного, – отвечал батюшка, очень довольный живописью Михаилы Петровича. – А что в церковь не ходит, – так кто теперь из образованных ходит. Насильно себя не заставишь. Невольник – не богомольник.
– Какой он образованный? Просто – невер! – стояла на своем матушка.
Отец Федор умолкал. Он знал, что матушка, такая для всего добрая, в этом ему не уступит.
Опасный человек, однако, привык к дому батюшки до того, что редкого дня здесь его не увидишь. А когда умер отец Федор, то был единственным тут человеком слова и единственный приносил сюда со станции новости.
В этом году Михаиле Петрович, как только услыхал, о воздушном корабле, прибежал к матушке.
– Восхитительно! – закончил он свой рассказ об аэроплане.
– Что же тут хорошего? – ответила матушка. – Шеи поломают, а неба все равно не достигнут.
Спор о небе и земле у Михаилы Петровича с матушкой – давнишний, старинный. Анна Александровна всякий разговор переводит на то, что там, а Михаиле Петрович защищает, что здесь. И не так просто принял он эти слова: «Неба все равно не достигнуть».
– А вот и достигают, – ответил он.
– Без бога неба нельзя достигнуть, – сказала матушка. – Забываете Вавилонскую башню, Михайло Петрович.
– Вот куда хватили, матушка! – смеется Михайло Петрович. – Ведь это было в те времена, а теперь все изменяется.
– Все по-прежнему, – говорит матушка. – Как сказано в Писании, так все и стоит.
– Почему же всякие другие писания меняются, а это – на месте?
– Потому что его дали нам пророки, святые отцы и мученики.
– О чем спор? – спрашивает глухая.
– О Вавилонской башне, – отвечает протоиерейша.
– И достигнут, – говорит горячо Михаиле Петрович о своем, – и достигнут.
– Невер! – твердит матушка.
Добрая матушка кончила этот спор тем, что будто шутя, а все-таки порядочно отодрала Михаилу Петровича за седой вихор.
В этот раз победа осталась за небом. Воздушный корабль не долетел сорока верст и потом исчез неизвестно куда. И хотя в газетах постоянно писали о воздухоплавании, но сам Михайло Петрович, кажется, уж не очень этому верил.
VI
Слух о смерти Толстого передала матушке молочница. Старушка тут же, на глазах молочницы, стала к образам и помолилась за душу усопшего Льва. И об этой горячей молитве молочница рассказала Михаиле Петровичу, когда стало известно, что молиться нельзя. Старичок философ немедленно явился, уселся в углу и долго молчал.
– Что же вы молчите? – спросила наконец матушка, только что узнавшая о запрещении молиться.
– Восхитительно! – сказал Михайло Петрович.
– Хорошего мало, – ответила матушка. – Умер без покаяния.
– Молитвы праведников спасут его, – намекнул Михайло Петрович на то, что узнал от молочницы.
– Напрасно намекаете, – ответила матушка. – Я помолилась и покаялась теперь.
– Очень вас сожалею, – сказал Михайло Петрович. – И позвольте просить вас объяснить мне, почему это по христианству и за врагов нужно молиться, а за такого человека нельзя?
– Потому, – ответила матушка, – что, как крысу, вредную тварь, мы изгоняем из дома, так и вредного человека отлучает церковь.
– Ошибаетесь! – крикнул Михайло Петрович, разгоряченный. – Крысы с хвостами, а человек – без хвоста!
– Ну… – хотела сказать что-то матушка.
– Не ну, а тпру! – перебил ее Михайло Петрович.
Матушка, и сама в глубине души не верящая тому, что в этот раз говорила, и сдерживаемая стремительностью собеседника, умолкла.
– Вот и ни гу-гу! – торжествуя, сказал Михаиле Петрович, чувствуя победу земли. – Восхитительно умер Толстой, – сказал он, обращаясь по своей привычке к какому-то невидимому и понимающему его другу. – Оправдал себя: один жил, один лег!
– О чем спор? – спросила глухая, приставляя трубу.
– Как Толстой жил и лег, – ответила протоиерейша.
– Ну, как же? – спросила глухая.
– Оправдал себя! – крикнул в трубу Михайло Петрович.
– Нет, – тихо сказала матушка, – не оправдал он себя; мне его жалко: сам себя погубил.
В этот раз спор на этом и окончился. Творя вечернюю молитву, старушка матушка опять нечаянно помолилась за грешника и, вспомнив, покаялась.
* * *
Каждый день на печальную станцию в безлесной равнине приходит коротенький поезд с единственным пассажирским вагоном третьего класса, в котором ехал Толстой. Мужики равнодушно смотрят на поезд, сплевывая шкурки семечек. Придет вагон – станция оживится. Уйдет – станция дремлет. А в Изумрудове старая матушка до сих пор то помолится, то покается, то помолится, то покается.
Сборная улица*
1. Сборная улица
Вероятно, эта часть города заселялась как-нибудь случайно, без всякого плана, а потом, когда обратили внимание на беспорядок, стали склеивать улочки, переулочки, огороды, пустоши, – так образовалась капризнейшая в мире улица, и название дали ей Сборная. Обитатели этой улицы – те самые известные русскому читателю растеряевцы, люди без завтрашнего дня.
Расскажу два случая, как я хотел поселиться на Сборной улице и как я бежал или, вернее, меня согнали.
Первый случай. Vir ornatissimus[48], могучего роста, превосходного телосложения. Служил он на железной дороге и вышел от взрыва благородного негодования. Из какой-то крайней партии он тоже вышел, – «разошелся в тактике». Сдал он экзамен на частного поверенного и стал весьма успешно вести крестьянские дела. Раз в глуши уезда от бывшего его клиента я услыхал такую оценку своего адвоката: «Человек корректный и вполне специальный, говорит по-гречески, настоящий Рюрик!» Я попросил у собеседника разъяснения; он спросил: «С какой точки зрения?» И пошел, и пошел.
Когда я у адвоката осматривал дом, он сам рекомендовал себя человеком «вполне интеллигентным», относя это свое достоинство к числу квартирных удобств.
– На нашей Сборной улице, – говорил он, – все из предрассудков состоят, а я этого не признаю.
Квартира была мне мала. Он сейчас же согласился уступить мне одну из своих комнат, а дверь заделать.
– Я это сделаю бесплатно. Печки не было.
– Тоже бесплатно сделаю.
– Кладовки нет.
– Бесплатно!
– Цена велика…
– Уступлю, почти бесплатно живите, только живите, потому что не так, чтобы я из-за денег, а как вы человек интеллигентный вполне…
Помню, из окошка, возле которого мы стояли, лес виднелся и солнце садилось за лес.
– Живописное обозрение! – сказал мне хозяин.
Я поселился и начал работать по своей «письменной части», поглядывая время от времени на «живописное обозрение».
Хозяин заходит иногда. Я не обращаю на него внимания и работаю молча. Раз, два заходит. Замечаю, он мрачнеет. И вот останавливается как-то у моего окна и смотрит: закат был точь-в-точь такой же, как и тогда.
– Вам нравится солнце? – спрашивает.
– Солнце хорошее.
– Значит, вам нравится?
– Ну, да!
– А мне не нравится.
Музыка в тоне. Я понял тон, – опаснейший тон.
Приходит какой-то праздник. У хозяев гремят бутылки; приглашают меня. Я отказывалось. Бутылки хлопают, гул голосов. Снова является хозяин и требует «категорически» объяснить, почему я отказываюсь. И, не слушая моих объяснений, торопливо заявляет:
– Позвольте, я такой же интеллигент, как и вы.
– Что вы хотите от меня? – раздражаюсь я. – Деньги вам уплачены.
– А я разве вас из-за денег пускал, я вам бесплатно устроил кладовку, теплое отхожее место.
– Это необходимо…
– Какой генерал, подумаешь, какой генерал!
И вот я чувствую: костяк обнажился, костяк жизни, костяк Сборной улицы…
От «интеллигента» я переезжаю к черносотенцу.
Случай второй.
Хозяин, надворный советник, занимается археологией, имеет пять деревянных флигелей, нигде не служит, весь день сидит в пивной и, возвращаясь домой, на своем дворе поет басом церковные напевы. Ходит он в широкой провинциальной разлетайке, шляпой закрывает череп, разбитый и плохо сросшийся. Жильцы – актеры, борец, городовой и я. У меня большой отдельный флигель, и поселяется у меня художник-офортист, большой знаток русской жизни.
Сидим мы как-то вечером и разговариваем о черносотенстве, хотим дать ему определение не логическое, а, как выражается художник, пластическое.
– Дмитрий Карамазов черносотенец?
– Типичный!
– Нет!
– Почему нет?
– В нем есть дух божий, за ним девушка в Сибирь пойдет. А в черносотенстве именно нет духа божия, будущего нет…
Трах! Дверь открывается, в дверях – взволнованная Мария Антоновна, жена городового.
– Вора поймали! Идите, идите!
– В чем дело?
– Бельевая корзина ушла, сама ушла к хозяину под грушу… Взяли корзину, а вечером одумались: сама корзина не может уйти под хозяйскую грушу. Побежали к хозяину; он смекнул дело, хвать – а под грушей вор. Сел на вора верхом и кричит: «Зови жильцов!»
– Мой-то (городовой) на посту. Идите. Бога ради, идите помочь! – зовет Мария Антоновна и убегает звонить к борцу и к актерам.
Ночь. Огни в саду мелькают. Какие-то старухи в ночных коротких темных юбках стоят с лампами. Под грушей, странно освещенной ночными огнями, в белом нижнем белье сидит надворный советник; вор – под ним, в траве вора не видно.
Приходим мы. Вот когда почувствовал хозяин и вспомнил, что он – надворный советник. Ему совестно, он освобождает руку, вытирает пот с лица и, обращаясь к нам, говорит:
– Фу, как разволновался!
Молчание с нашей стороны.
– Ну, что же, – спрашивает хозяин, – пускать?
Встает, отпуская вора. Вор не бежит.
– Подымайся!
– Не пойду, буду лежать. У вора свой каприз.
Приходит полиция и, найдя шесть сорванных груш, уводит вора.
– Фу, как разволновался! – повторяет хозяин, ища нашего сочувствия.
Но мы уходим молча и молча уносим конфуз надворного советника в свой флигель.
Это молчание нас погубило. На другой день, когда хозяин, бася, возвращался из пивной, мы развешивали на стенах квартиры привезенные художником офорты.
– Боже наш, помилуй нас! – раздается в сенях надтреснутый бас.
– Войдите!
– Аминь нужно сказать, а не войдите; или вы некрещеные?
Он выпил, глаза беспокойные, острые.
– Вы не рады? Или мне уйти?
– Нет, зачем…
– Покажете мне картины?
– Вот картины, смотрите.
– Нет, я желаю, чтобы сам художник показал.
– Вот, – показывает художник, – вот и вот… Новый конфуз для надворного советника: он ничего не понимает в этих отвлеченных картинах.
– Дозвольте, – говорит он, – мне повесить у вас свою икону своего письма?
– У нас есть икона: вот Николай Угодник.
– Вы не желаете моей работы!
И пошло… Костяк, обнаженный костяк Сборной улицы. Опять надо квартиру искать.
2. Русский человек
Перед праздником вагоны были переполнены, и нас из второго класса перевели в первый. Тут в купе сидел один только пассажир, господин очень нездорового вида.
– Куда едете? – спросил его купец из второго класса.
Господин ответил неохотно. Но купец, очень добродушный с виду, не смущаясь этим, всех переспросил. Все ехали в N.
– Где же вы там хотите остановиться? – допрашивал нас купец.
Господин первого класса назвал «Петербургскую гостиницу».
– Сохрани вас бог! – воскликнул купец. – «Петербургкая» плохая гостиница, первое неудобство, конечно, клозет на дворе…
– Как! – изумился нездоровый господин. – Мне гостиницу рекомендовал X. как лучшую.
– X., хромой? – спросил купец.
– Вот уж не знаю, – ответил господин, – он мне писал, а так я его не знаю.
– Он хромой, – сказал купец, – ему ходить трудно, вот он вам и рекомендовал гостиницу поближе к своему дому, чтобы к вам почаще ходить. Плохая гостиница; первое неудобство я назвал, второе – насекомые, третье – прислуживает пьяный мужик.
Купец, загибая пальцы, перечислил все неудобства «Петербургской гостиницы». Пассажиры были в ужасе.
– Куда же, куда же нам деться? – спрашивали купца.
– Остановитесь в «Московской», – ответил он, – там очень хорошо.
И все благодарили купца, как благодетеля.
– Здорово я их! – сказал купец мне, когда нас с ним опять перевели во второй класс. – Здорово, ведь хозяин-то «Московской гостиницы» – я!
И закатился добродушнейшим смехом русский человек, хохотал до слез, меня заразил смехом.
– А вы коровьим маслом торгуете? – спросил он, успокоившись.
Долго допрашивал меня купец и наконец добился своего, узнал, чем я занимаюсь.
– Пишете, – одобрил он, – это правильная точка.
– Какой вы партии? – спросил я спутника.
– Партии я, конечно, черносотенной, – ответил он, – а в душе и по совести – трудовик…
И тут же, по русскому обыкновению, рассказал всю свою жизнь, как доказательство того, что он – трудовик. И правда, передо мной прошла трудовая жизнь. Мыл рюмочки у «Яра» – вот начало карьеры. И через пятьдесят лет – собственный трехэтажный каменный дом, «Московская гостиница» в N. Вся жизнь как лишение, как подчинение себя каким-то мудрым правилам, найденным тут по пути, в самом процессе жизни. Приходилось даже отказывать себе в любви к дочери.
– Жена может любить ее, – рассказывал отец, – а мне нельзя: бояться не будет.
Так описывал купец свою жизнь как подвиг, в результате которого – каменный дом. Поезд приближался к монастырю, где раньше жил святой человек. Я заговорил о подвижнике. Купцу не хотелось начинать об этом. Я настаивал.
– Не верю я им, – сказал наконец мой спутник, – я верю только богу и умному человеку, – и решительно отклонил разговор о религии.
«Тоже аскет!» – приходили мне в голову отрывки из современных рассуждений о мещанстве как о результате церковного воспитания народа. И так ясно было теперь, что этот человек произошел не от церкви, не от интеллигенции, а прямо от земли, что передо мной – истинно русский, крепкий земле человек.
Мы говорили о земстве.
– Народники! – ядовито сказал купец. – Мы за народ, выбирайте нас, говорят, поют на все лады. А народ…
Купец вдруг надулся от смеха, залился на высочайшую ноту, не удержался на ней и, весь багровый, как-то пфыркнул губами и щеками.
– А народ, – хотел сказать что-то купец, но опять залился на ту же высокую ноту и опять пфыркнул. – Народ им верит, – сказал он наконец, – знаете наш народ. А они-то, они-то разливаются! Конечно, люди образованные, им и карты в руки. Народники!
Купец мой вдруг совсем преобразился. И как далеко было теперь то его добродушие, с которым он зазывал пассажиров первого класса в свою «Московскую гостиницу». Он теперь говорил ядовито одно:
– Народники!
– Кто они? – спросил я.
– Все, – ответил купец, – теперь и графы, дворяне, – все за народ. Да хотя возьмите Некрасова, на что уж народник был?
– Поэт Некрасов? – спросил я.
– Стихотворец, – ответил купец, – сочинял стихи о народе. А в душе?
– И в душе Некрасов любил народ, – заступился я.
– А в душе у него реакция, – ответил купец. – На словах они все народники, а в душе у всех реакция.
– И граф Толстой? – спросил я.
– Политикан! – решительно сказал купец, – этот говорил другим отдать землю, а сам не отдавал.
– Да ведь он же ушел из своего дома и умер от этого.
– Фокусы, – сказал купец, – ничему не верю, графские фокусы. Вы знаете, почему он ушел? Очень просто все. Остарел, писать сам уж не мог. Дай, думает, хлеб им дам. И дал. Посчитайте теперь, сколько о Толстом написано. Сколько это стоит, если на деньги перевесть? А куда пошло все это? Мужикам? Поди-ко! Да все тем же писателям. Это он для своего же брата и старался. Это все фокусы. Политикан!
– Как же теперь быть? – спросил я купца.
– Очень просто, – ответил он, – народ хотя и глуп, а умнеет. Настанет час, и всех на осинку: дворян, князей, графов…
– И писателей? – спросил я.
– Да и писателей, – ответил купец…
О двух крайностях*
(К характеристике времени)
– Подожди, что скажет двенадцатый год!
И спор кончается. Собеседник умолкает, потому что за будущее теперь никто не поручится, да и слово-то какое: «двенадцатый»!
В этом таинственном двенадцатом году нечто должно совершиться. Что – бог знает: многие говорят, будто в этом году отойдет мужикам какая-то большая земля, которую француз под Москвой оставил.
Слышал я первый раз о двенадцатом от молодого парня на телеге, когда добился его расположения, потом по секрету сказали на ярмарке, потом сказал один батюшка, и теперь часто слышу:
– Двенадцатый… Ну…
– То-то, двенадцатый.
Прислушиваясь к народу, можно подумать, что в стране – какой-то заговор и слово «двенадцатый» служит паролем. Но это – не заговор, а только одно упование, подобное чаянию конца света. В народе до сих пор не перевелся тип предсказателя, как вообще мало что переводится в народе, а только отодвигается на задний план.
– Народ стал задумчивый и невеселый, – говорят знатоки сельской жизни, – и все его куда-то тянет, места себе не находит и веселья не видит в вине.
Пьют много, пьют, быть может, так, как никогда, а веселья себе не находят, пьют и толкуют о двенадцатом. А жены невеселых пьяниц в Петровский пост вереницей тянутся к святым местам просить у господа бога защиты от пьяных мужей.
Посмотрите на взволнованное ветром море наливающейся ржи, приглядитесь внимательно и непременно увидите между волнами темные бабьи головы, плывущие по ржи, как челноки по морю. Это – жены пьяниц по богомольной тропе текут к ручьям, колодцам и чудотворным иконам. Вот подходят они к святому колодцу, и, далеко еще не доходя, одна или две из них начинают взвизгивать и смеяться. Что ближе, то хуже: визг переходит в певучий вой, а смех – в дикий хохот. Кликушу подхватывают, раздевают и спихивают в холодную воду. Стон и хохот смолкают, женщина лишается чувств, и ее вытаскивают полежать на траве. Лежит почерневшая, безобразная, с открытым ртом, а рука судорожно сжимает припасенную для святой воды бутылку из-под казенного вина. Другие женщины, набирая в рот святой воды, переливают ее в рот истеричной, не помогает, – льют в открытый рот масло, курят ладаном. В конце концов кликуша открывает глаза. Журчит ручей. На ивах соловьи поют. Везде бегают солнечные зайчики. Кликуша ничего этого не видит и не слышит. Вялая, сонная, подходит к ручью и пустую бутыль казенного вина наполняет святой водой.
Приглядитесь к другим женщинам: у большинства из них в руках – те же пустые казенные бутылки, которые они тоже наполняют святой водой. Вчера муж сидел за этой бутылкой и колотил жену, сегодня она – у святого колодезя.
Что же тут нового? Силоамская купель существует с библейских времен. И мы ответим: новое – в том, что старое выдвигается на передний план. По примеру отца Илиодора из недр русской жизни вышли другие отцы, малые, не так видные, но тоже очень ретивые. За ними идут те несчастные женщины с пустыми казенными бутылками, идут странствующие и путешествующие, идут люди веселого и мрачного характера. Петровки – время свободное, теплое время, луга цветут. – настоящее благорастворение воздухов.
– Ловко отец Херувим ходы делает! – одобряют путешествующие.
– Что говорить… Фигура! Глаза голубые. Голос очаровательный.
– Стрелок!
– Мироносицам числа нет. Солидные жены дома покидают.
– Викарного скоро получит.
Тут же и говорят все это, шествуя многотысячной толпой за иконой в ясный солнечный день. Хлынет дождь – помолчат, но идут, все равно идут и ни за что не сядут в рядом бегущий – поезд железной дороги. Совестно перед язычниками, скажут потом: «Николу Угодника в телячьем вагоне привезли».
Малые Илиодоры в большом числе, это – несомненная черта времени. Есть и еще кое-что, но об этом потом. Теперь меня больше всего занимает схождение в одну точку двух крайностей: как бутыль казенного вина верующие бабы наполняют святой водой. Размышление об этом направляет мою мысль к одному господскому каменному дому, на месте которого раньше стоял деревянный, сожженный в забастовку мужиками.
* * *
Это не обыкновенный теперешний безвкусный помещичий дом. В нем живут люди просвещеннейшие и гуманнейшие. Чего-чего только не настроили в селе благорасположенные исстари к народу господа. Пишущему это приходилось уже говорить о хорошо устроенном потребительском обществе и кредитном товариществе, дела которых по желанию самого православного народа ведут сектанты-баптисты. Оба эти учреждения основаны господами. А профессиональная школа, поставляющая знаменитые кружева! А прекрасная общая народная школа! А всякого рода благотворительность! А старые заслуги перед народом во время освобождения крестьян! Вспомнишь все это и чувствуешь, как губы сочнеют.
Теперь помещик стал безвкусным и серым до невозможности. Но нужно сказать правду, что и мужик оказался как-то во всей своей наготе. Вот в забастовку взяли и сожгли дом гуманнейших людей вместе с дорогой библиотекой, старинной мебелью, записками, дневниками и, быть может, ценными рукописями… Кончилась забастовка, – исчезли последние следы тех старых добрых помещичьих чувств, проявление которых мы еще могли наблюдать в нашем краю до революции. Исчезли следы чувств, воспитанных эпохой освобождения крестьян.
Владельцы сгоревшего деревянного барского дома вгорячах решили отомстить мужикам. Поверят ли мне? Они перестали выдавать дрова для отопления ими же устроенной народной школы…
Так некогда один мой знакомый, саратовский немец, старичок, Адам Адамыч, рассердился на своего Серко. Лошадка не вовремя дернула, а старичок из-за этого ногу сломал. Шесть недель молча лежал Адам Адамыч, и когда выздоровел, то прямо на костылях пошел на конюшню. Там он засучил рукава, поплевал по ладони, долго прилаживал, примеривался и, наконец, дал своему любимому Серко жестокую пощечину в нос.
* * *
– Как мысли быстры! – слышал я недавно восклицание на именинах в провинции.
Быстрее мысли, однако, был ход событий в сожженной усадьбе. Стучали молотки о камни и железо. Понукали мужики своих кляч. Те самые мужики, что сожгли усадьбу, теперь возили камень для нового господского дома. Дом построился быстро, как в сказке.
Теперь я еду туда и вижу, – выросло что-то еще большее, высокое, красное.
– Что это еще там строится? – спрашиваю.
Присмотритесь и поздравьте. Неужели не видите? – сказал мне управляющий имением.
Я пригляделся и разобрал, что между холмом, где стоит господский новый дом, и другим берегом реки, где живут мужики, возле мельничной плотины, как-то из-под низу, с реки поднимается высокая труба.
– Винокуренный завод строится, – сказал управляющий.
И теми же самыми владельцами, которые тут же настроили всевозможные благотворительные учреждения. Вот прямо передо мной, окруженная школами и кооперативными учреждениями, и поднимается труба…
– Замечательная труба, – говорит управляющий, – вы сходили бы посмотреть, сегодня будут громоотвод ставить.
Это было в Духов день. В этот святой день недалеко от нас происходит громаднейший кулачный бой, в другом селе – знаменитая конская ярмарка. Кроме того, теперь в новой церкви торжество установления креста, и вот еще на винокуренном заводе громоотвод ставят. Куда идти? Кулачный бой и ярмарка в разных сторонах, громоотвод и крест – в одной. Хочу убить двух зайцев, иду в сторону винокуренного завода.
Управляющий спорит со мной.
– Спирт, – рассуждает он, – весь целиком сдается в казну, на месте ничего не остается. Винокуренный завод дает местному населению только заработок, только хорошее и ничего дурного. Соседство завода с благотворительными, просветительными и кооперативными учреждениями на практике вовсе уже не так противоречиво.
Владельцы винокуренного завода настолько просвещенные люди, что даже их управляющий считает себя последователем Толстого, Джорджа и Рёскина. Я легко мог сослаться на имена. Но знаю по опыту, как опасна философия, когда идешь наблюдать практическое дело. Между тем я знаю наверно, что местные крестьяне, живущие возле винокуренных заводов, каким-то образом спиртом пользуются. Как – не знаю.
Мы подходим к заводу. Толпа мужиков окружила мастера, собирающегося поднимать блоком своего помощника для установки громоотвода на высоте.
– Как это ухитряются с заводов вино таскать? – спрашиваю ближайшего ко мне мужика.
– Мочалкой, – отвечает он.
Рабочие окунают мочалку в спирт, потом выжимают и пьют.
– А из бочек – соломинкой…
Просверливают бочку и пьют соломинкой. Это общеизвестно.
Но ни мочалка, ни соломинка не удовлетворяют меня. Есть какой-то радикальный и массовый метод.
В конце концов докапываемся до истины: владельцы заводов, которые обыкновенно бывают и владельцами крупных имений, расплачиваются за полевые работы водкой, а водка дешевая, и уж самому-то хозяину не трудно сберечь «для себя» в размере местного потребления. Само собой, не всякий владелец так делает, а о нашем не может быть и речи. На этом соглашении и оканчивается наш спор с управляющим.
Между тем мастер, владимирский мужик, укрепив на веревке осиновую «чурку», предлагает помощнику садиться на нее.
Высота огромная. Зрелище необычайное. Толпы народа стекаются посмотреть установку громоотвода к трубе винокуренного завода. Какой-то мужик не то иронически, не то серьезно напоминает, что сейчас и крест на колокольне будут ставить, что вот-вот должен ехать протопоп, так не лучше ли, прежде чем поднимать человека на такую высоту, немного обождать и попросить батюшку дать напутственный.
Владимирские мастера, серьезные, дельные люди, работают молча. Но, услыхав теперь слово «протопоп» и «напутственный», мастер вдруг неожиданно обернулся к толпе и такую штуку сказал о попах и молебнах:
– Отмочил! Пульнул!
Как один человек, грохнула толпа, и под общий дикий гул, крутясь по веревке выше и выше, стал подниматься человек на трубу винокуренного завода.
Труба все одолела, все пересилила. Труба выше господского дома, выше колокольни, выше всего.
* * *
Почти возле самого винокуренного завода строится еще какое-то кирпичное здание.
– Это дом винокура?
– Нет, это община сестер милосердия.
– Как?! Строит та же рука?
– Из одного источника, но, конечно, лица в семье разные…
Ну, вот и рассудите: легко ли дать теперь характеристику времени. Хочу отметить полнейший упадок прежних добрых чувств в помещичьей среде и вдруг вижу рядом с винокуренным заводом общину сестер милосердия (я забыл еще упомянуть об обществе с капиталом для выдачи замуж беднейших крестьянских невест). Хочу я сказать о распространенности шинков, об ужасном невеселом теперешнем пьянстве народа – и вдруг умиляюсь: верующие бабы наливают в казенную бутыль святую водицу.
По круглой поверхности
– В настоящее время демократизация весьма переработалась! – сказал мне в вагоне сосед.
Мы говорим с ним о новом русском явлении – лихорадочном стремлении низших слоев общества к образованию. С истинным образованием тут, конечно, очень мало общего, дело тут даже вовсе не в образовании, а лишь бы вывести детей в люди, но в результате, смотришь, у повара дочь – гимназистка, швейцар под лестницей надевает сыну гимназическую куртку. Из каких бы источников ни исходило это стремление, но в результате, правда же, «демократизация».
Мой собеседник говорит ужасным русским языком, но он – специалист по подготовке детей в средние учебные заведения. Бедняки отдают ему детей, и он, не выходя из программы, буква в букву, зубрит с ними учебники. Это – специалист, выдвинутый временем, как в свое время у нас появился и агитатор-политик, не знающий истории. Он самоуверен, о своем образовании мнит бог знает что.
– Ах, сколько кислороду, сколько кислороду! – восклицает он, открывая окно.
– Мне холодно… – жмусь я.
– Изолируем! – успокаивает он меня и закрывает окно, и пристукивает, и опять говорит совершенно довольный: – Полнейшая изоляция!
Мы подъезжаем к Козельску, к Оптиной пустыни. У меня там есть дело: собрать для одного знакомого материалы о жизни Константина Леонтьева.
– В Оптину! – восклицает изумленный и разочарованный собеседник.
Я объясняю, зачем мне…
– Не согласен! – восклицает он.
– Да с чем же вы не согласны?
– С вашим знакомым.
– Он – ученый, это – научные материалы…
– Все равно, ведь лучше Загоскина не напишет. Поезд подходит. Мои руки заняты. Я киваю головой и извиняюсь, что не могу пожать руки.
– Ничего, – успокаивает меня репетитор детей, – в настоящее время демократизация так переработалась, что руки можно и не подавать: через руку – зараза и прочее…
– Прощайте!
А вот другой полюс круглой поверхности.
Мы в тех же краях, но не у города, а в лесу, в глухариных местах. Над нами свешиваются арки склоненных друг к другу бурей деревьев, экипаж то и дело натыкается на поверженные и гниющие стволы. И вдруг лес расступается, большой, молодой фруктовый сад, пасека с додановскими ульями, помещичий дом. Раньше в этой лесной даче жил какой-то Жуковский, дворянин, теперь живет мужик серый-пресерый, и зовут его уже не Жуковский, а просто Жук. Мужик-то и развел этот сад и пчел. Жук весь какой-то красный: борода красная, лицо, шея, только глаза затуманенные, водянистые, да в улыбке есть что-то монастырское. Это – счастливейший в мире человек; всякому заезжему он охотно проболтает свою биографию. Прежде всего он восхвалит господа бога и тут же, быть может, споет псалом и пригласит к пению все свое семейство и даже рабочих. И потом расскажет, что и к истинной вере он пришел от счастья; нужно же кого-нибудь хвалить…
– Я вышел из своей деревни вовсе серым, был серее волчиного подбрюдка, – начинает он свой рассказ.
В солдатах его подчистили. Какой-то блаженный молодой солдатик наставил его на «божественное». И вот тут все пошло. Сразу все открылось, все стало понятно. Серый волк принялся хвалить господа на всех перекрестках Начальство одобряло его. Заводились знакомства в духовном мире. После службы просветил себя паломничеством по монастырям и святым местам и в конце концов, получив совет от каких-то двух монашек-«сироток», купил целое имение без гроша денег. Для этих «сироток» он устроил даже пруд с карасями и угощает их, когда они к нему приезжают. Кроме того, хочет строить тут же дом для вдов имени тех же «сироток».
Выслушав эту биографию, я отметил для себя этот редкий путь к богу от счастья и сказал:
– У нас в России к богу приходят обыкновенно от несчастья…
– А я от счастья! – воскликнул Жук.
Он показал мне целый большой шкап с божественными книгами: все больше книги журнала «Паломник».
– Истинная печать, – сказал Жук, – не масонская.
– Масонская! – изумился я.
– В настоящее время почти вся печать масонская, – твердо сказал Жук. – Ибо сказано в Писании, что при последнем времени придет антихрист и даст печать с цифрой шестьсот шестьдесят шесть. Эта самая печать и есть масонская. Ах, как трудно теперь спастись! Как трудно непросвещенному человеку узнать, какая печать истинная, какая масонская! Те же буквы, те же слова, а глядишь – то божественное, а то масонское. А самый старший масон неприступен, и живет за границей, и носит имя «Сионский царь», от него-то и вышла вся забастовка. И еще выйдет, и втрое будет горше первого, и одолеет всю Русь, и явится и сядет на царское место сам Сионский царь, старший масон, сатана и жид.
Жук плюнул. А я смотрел в окно на белые, вымазанные известкой яблонки в лесу, на желтые пчелиные домики и удивлялся про себя, как можно в таком близком чаянии Сионского царя так хорошо устраиваться. Я вспоминал того репетитора-горемыку с его иностранными словами, отмеченного, несомненно, печатью Сионского царя, и русская жизнь мне представлялась круглой поверхностью, на одной стороне которой был репетитор, на другой Жук, – два полюса.
В «Капернауме»
– Там какой-то парень спрашивает, – кричит обо мне хозяину трактирный мальчик.
– Какой парень, – обращая ко мне любезное, а к мальчику грозное лицо, спрашивает хозяин. – Где тут парень?
– Барин, – увертывается мальчик, – я сказал: барин спрашивает.
– То-то, «парень»… – ворчит хозяин. – Пожалуйте, барин.
– На людях разговаривать будем?
Я в «Капернауме»[49]. Это – трактир, интереснейший центр общения народа, наследие все того же пятого года.
«Капернаум» – такое сложное учреждение, с такими разнообразными типами, что нет никакой возможности дать о нем понятие в двух-трех словах. Нужно себе вообразить Растеряеву улицу в пятом году, когда, кажется, и тараканы выползли из щелей и заговорили «на людях», потом нужно представить себе отлив, уходящую волну и забитых отливом на берег диковинных существ, которые продолжают разговаривать, не замечая, что они уже – на сухом берегу. Тут люди, бессознательно (ибо есть совершенно определенная физиономия «сознательных») принимавшие участие в погромах, сюда же ходят и члены «Фракции» (прогрессивного клуба), люди всех партий, всех исповеданий. Это похоже на московскую «Яму», но только примитивнее, ближе к земле, свежее. Как в пустыне, встретив обожженные камни и кости съеденного животного, говоришь себе: «Человек был», так и тут уносишь впечатление: «Человек заговорил».
Человек заговорил! Какой глубокий интерес наблюдателю жизни – проследить момент появления слова, момент выхода его из глубины существа, затерявшегося где-то на Сборной улице, приобщение этого существа к человеческому обществу. Я не преувеличиваю, не фантазирую. Вот, например, известный у нас в городе черносотенец X., человек трудящийся (подрядчик), прославивший раз навсегда господа за то, что он помог ему избавиться от запоя. Но бог, освобождающий человека от запоя, еще – не весь бог… Когда в пятом году появляются в городе чужие, неизвестные, темные личности и зовут его выходить на защиту родного бога и отечества – он идет и громит… А вот теперь он заговорил в «Капернауме»; он скажет слово, а другой, более его просвещенный, скажет двадцать, и бог, освободивший человека от запоя, ведет уже не к погрому, а к милосердию: X. жертвует деньги в какую-то организацию помощи бедным.
Человек заговорил! Чего уже стоит то, что буфетчик «Капернаума» за прилавком, за этим рядом бутылок, держит всегда наготове Библию, и гости временами требуют ее к себе из буфета для справок.
– Вопросы, вопросы, только задавайте нам вопросы! – встречают меня в «Капернауме».
Я спрашиваю то, о чем думаю в последнее время:
– Правда ли – все эти теперешние описания деревенских ужасов, не от себя ли пишут это интеллигенты?
– Не от себя! Правда!
И начинаются рассказы, передаются факты из местной жизни, всем тут известные. Вот наиболее яркие.
Три молодые парня, трезвые, пришли к полотну железной дороги и поклялись зарезать первого, кто пройдет мимо них (у них из-за болот все по полотну ходят). Стали дожидаться. Приходит свинья, и зарезали парни свинью.
Второй случай. Мальчишка-кузнец сковал себе шило длинное, четверти в две. Этим шилом можно пырнуть незаметно. И начал парень с того, что на посидке пырнул гармониста. Во вражде он с ним не был, а так себе. Гармонист повалился, думали, пьяный, а оказалось, проткнут.
Третий случай (он был описан в местной газете). Молодой парень стал на большой дороге с ножом. Шел обоз. Парень ткнул ножом первую лошадь, и вторую, и третью, и так переметил весь обоз, а сам ничем не воспользовался.
Множество подобных случаев рассказывали в «Капернауме», и всегда было в них одно и то же: ребята молодые, действуют бескорыстно и средствами из ряда вон выходящими. Во всем есть что-то фантастичное, а главное, чужое, нездешнее, постороннее человеку земли, скромному труженику. Откуда у него такая странная, дикая фантазия?
Конечно, тут книга виновата, что-то вычитанное… Прочитав книгу, мальчики бегут в неведомую страну, взрослые мальчики из народа начинают странствовать, искать невидимый град.
Какая же тут книга, какая идея?.. Да, конечно же, все тот же Пинкертон, все эти рассказанные случаи так пахнут Пинкертоном…
Я не давал свои объяснения в «Капернауме», они сами, первые, назвали Пинкертона виновником необузданной, дикой фантазии теперешней деревенской молодежи, они мне это доказывали, сравнивая типичные новые жесты, манеры деревенских ребят с жестами героев Пинкертона.
– Азия, – сказал кто-то из «Фракции».
– Нет, батюшка, это Европа! – ответил русский человек.
И начался в «Капернауме» спор об Европе и Азии.
О смирении
Приехали националисты, депутаты от нашего края, читали о Финляндии, Польше, евреях <…>. Интерес поднялся на минуту, когда заговорили о ритуальных убийствах, но и этот вопрос националисты постарались стушевать, оставляя для будущего двери открытыми: с одной стороны, конечно, «кровавые наветы» и прочее – дело нехорошее, но, с другой стороны, почему бы не быть таким убийствам: «существуют же у всех народов всевозможные изуверские секты».
Ничего яркого, волнующего скучную провинциальную жизнь, депутаты не сказали, прочли, раскланялись и уехали. Между тем в ожидании их лекции большое оживление было в «Капернауме». Куда любопытнее лекции было послушать рассуждения купцов-подрядчиков, ремесленников в трактире.
Среди посетителей «Капернаума» есть несколько евреев, типа тех «талмудистов», которых можно встретить в глубочайших недрах России, где-нибудь, например, на Мурмане или Печоре, и в отвлеченной беседе о природе человеческой, о боге с каким-нибудь агентом Зингера отдохнуть душой. Русские в «Капернауме» разделяются на крайне-левых и крайне-правых; те и другие беседуют друг с другом благодаря особенности темы, а тема эта в большинстве случаев – Христос. Левые все хотят доказать, что бог существует в общественности неимущих людей, – левые социалисты, бедные люди. Правые, все – люди богатые, церковники, но совесть их часто взбаламучена несогласием бога, покровительствующего имущему, с Христовым учением.
По случаю приезда националистов, конечно, все эти люди собрались в «Капернауме» перед лекцией и отправили трактирного мальчика купить им билеты.
– Конечно, в основе всего – национальность, – сказал талмудист. – Моисей и пророки все до одного за народ стояли, за кровь, шли они с мечом и огнем, а не то чтобы как-нибудь тихо и смирно. Только вот один Христос – исключение, но ведь и не живут, как учил Христос, церковь устроила для жизни дело Христово, и, стало быть, в основе опять-таки – национальность.
– Пророки, известное дело, были суровые люди, – подхватил и по-своему стал толковать стекольщик Сергей Иванович, левый и неимущий человек. – Вот, например, пророк Елисей. Дети кричат ему: «Лысенький, лысенький», – а он и напустил на них медведицу!
– Не горюй, Сергей Иванович, – сказал другой левый и передовой. – Не горюй, этого не было!
– Как не было! Давайте Библию, сейчас покажу!
Буфетчик достает из-за прилавка Библию и почтительно преподносит ее Сергею Ивановичу.
– Вот медведица, да еще и не одна, а две!
– Ну, что ж, все равно этого не было.
В таком роде и начался разговор «о национальности» и о том, что националистские депутаты, подобно древним пророкам, идут с огнем и мечом, а не с христианским смирением; а если со смирением ничего не поделаешь, то, стало быть, где же Христос?
Спор, наверно, разбежался бы в конце концов ручейками и сошел бы на нет, если бы один молодой человек, очень левый, проникнутый учением Толстого, не сказал бы:
– А все-таки русский народ смиренный.
– Русский народ смиренный? – с насмешкой переспросил деловой человек.
– Конечно, смиренный. Вот, например, какой расчет ему, нищему, сидеть у земли? Ясно, что ему выгоднее бросить и уйти от нее, а вот он все сидит и кормит нас с вами.
Это был lapsus linguae[50] со стороны толстовца: нет ничего опаснее иллюстрировать идею христианского смирения на примере смирения русских мужиков.
– Провокатор! – крикнул до глубины души оскорбленный Сергей Иванович.
Толстовец вовсе не провокатор в жизни, но тут, в трактире, среди большинства крайне-правых, слова его, конечно, сейчас же были использованы: церковники по-своему заговорили о «смирении».
– Черносотенцы, погромщики! – закричали левые на правых.
– А вы – подкидыши! – заревели смиренные. – У вас ни отцов, ни матерей нету.
Потом начался шум невообразимый: кто-то кого-то обвинял в разгроме женской гимназии, кто-то настойчиво доказывал незаконнорожденность Сергея Ивановича, и тот обещался «смазать»: «Молчи, – смажу! Замолчи, – смажу!»
С изумлением следил я за спором, стараясь понять, как слово «смирение» и даже «христианское смирение» могло вызвать подобные страсти. Мне припомнился спор в Петербурге в одной из фракций Религиозно-философского общества. Помню, читался доклад о «совлечении и нисхождении». Мысль докладчика состояла в том, что русский народ, воспитанный православной церковью, стремится не к земной жизни, материальной, а к духовной, небесной, достигая этого упрощением своей жизни («нисхождением и совлечением»). Развивая эту мысль, докладчик приходил к тому заключению, что русский народ, воспитанный православной церковью, выработал в себе пассивное отношение к общественности, гражданственности и что в конце концов придут некие и поработят этот пассивный народ. Кто-то в кружке понял «совлечение и нисхождение» по-своему и выразил своими словами как «смирение и покорность». Ужасно возмутился этим искажением докладчик, он говорил о христианском смирении, а его поняли совсем иначе: смирение и покорность, как известно, были основами крепостного строя. Помнится, и тогда поднялся, как и теперь в трактире, беспорядочный спор с «личностями», но само собой, конечно, в более благопристойных формах, чем в «Капернауме».
Кто же виноват в таком смешении чудовищно противоположных понятий, как смирение христианское и смирение обыкновенное, смирение как средство приобщения к жизни небесной и другое смирение, результатом которого является усиленное, напряженное желание жизни земной? И как быть теперь с этим опасным словом в общежитии? Слово необходимое, а скажешь как-нибудь неловко в «Капернауме», подобно толстовцу, и вдруг еще кто-нибудь «смажет».
Бог знает чем окончился бы спор смиренных и подкидышей в «Капернауме», если бы не возвратился мальчик с билетами на лекцию националистов; все стали получать свои билеты и успокоились.
– А фамилия-то иностранная! – увидав на афише имя одного депутата, ядовито сказал подкидыш смиренным.
– Ничего, – ответили ему, – инославным виднее наши дела.
О пятках и носках
Писать о хорошей стороне жизни невыгодно: материал скоро истощается.
– Что вы мало пишете? – спрашивают меня.
– Материалов нет.
– Как же так? Кругом безобразие, а у вас материалов нет?
«В самом деле, – размышляю я, – не написать ли о безобразии, сколько уж лет тружусь над хорошим, и не единого письма к автору от читателя».
Захожу в трактир, слышу – рассказывают о свинье, как мужики ночью пообещались зарезать кого-нибудь да свинью и зарезали. Спрашиваю:
– Почему такое безобразие? Отвечают:
– Это пахнет Пинкертоном.
Я и пишу о безобразии и как сам народ его понимает: «Пахнет Пинкертоном».
Кроме простого опыта писать в новом жанре, мне казался факт любопытным со стороны своей окраски (фантастической) и что сам народ отмечает это. А если знать, что в настоящее время беллетрист склонен писать субъективно как-то, а публицист на основании вырезок из несчастных наших провинциальных газет, то факт безобразия, помимо личной моей выгоды опыта, представляется ценным, как непосредственно наблюденный факт. Ну, словом, и я, уступая пессимистическому настроению интеллигента в настоящее время, написал о безобразии.
Я через несколько дней захожу в читальню и глазам не верю: во всех газетах безобразие перепечатано со всевозможными комментариями. Так вот, стало быть, о чем надо писать, вот что важно, а я-то, я-то… Прихожу домой: письма к автору, наконец-то, наконец, желанные письма к автору.
Не Пинкертон виноват, – пишут мне (кстати, я от себя и не давал никакого объяснения), – а революционер. Не революционер, – пишут в другом письме, – а провокатор. В третьем письме жалуются на одностороннее освещение мною жизни: рядом с озорничеством в современной деревне существуют кружки самообразования, театр и множество других вкусных вещей.
Словом, отмеченный мною факт безобразия заинтересовал людей всех партий и сразу мне дал то, чего я много лет напрасно добивался путем описания трогательных сторон русской жизни. Теперь путь найден, материалов же такая масса, что я на первых порах ставлю ориентирующий вопрос: «Какие безобразия выгоднее всего описывать?» Ответ ясен: мужицкие безобразия выгоднее, ибо мужик глуп, а возле глупого умному гораздо свободнее. Припоминается мне что-то из Шекспира по этому поводу, но точно я не могу привести слова Гамлета. Иду искать в своем городке Шекспира, захожу в одну библиотеку – нет Шекспира, захожу в другую – тоже нет, наконец попадаю к одному человеку.
– Позвольте мне на минутку Шекспира.
– А возьмите хоть совсем, я Шекспира читать больше не буду.
– Почему же не будете?
– Да что же хорошего в нем. после разоблачений Толстого какой же интерес может быть в нем? Человечество ошибалось в оценке Шекспира, я не хочу повторять ошибку, – король гол.
В провинции от самоучек я не раз уже слышал подобное, спорить не стал и принял Шекспира с благодарностью. Вот слова Гамлета:
«За последние три года век наш так обострился, что носок мужицкого сапога касается пятки аристократа и начинает бередить в ней ссадину».
Раздумываю об этом и начинаю искать носок и пятку в русской жизни. Носок сразу мне дался: провинциал, не признающий Шекспира, конечно, самый острый носок, но пятка мне не сразу далась, я припомнил множество неинтересных, чисто зоологических пяток, которым отрицание Шекспира не причиняет ни малейшей ссадины. Наконец я вспомнил об одном господине, доказывающем, что русского народа вовсе нет. Совершенно так же, как носок говорит (начитавшись Толстого), что Шекспира нет, так же и пятка дает сдачи: русского народа нет. Детская перебранка с обратной: «Тебя нет!» – «Тебя самого нет!»
Я не сочиняю людей для символов. Я мог бы с фактическими данными в руках представить здесь душевную картину этого господина в последовательном развитии его от славянофильства, от горячей веры в народ-богоносец и до предпоследней его ступени, когда он писал обвинительный акт русскому народу (дома, для себя), и, наконец, до последней ступени, когда он твердо сказал на основании исторических, археологических и этнографических изысканий (комнатных), что русского народа нет, король гол.
Стало быть, по одной стороне Шекспира нет, по другой – народа нет. Я не буду анализировать глубже эти факты; быть может, если бы углубиться в существо вещей, то очень возможно, что человек, отрицающий русский народ, в глубине существа своего больше его утверждает, чем не признающий Шекспира, и, наоборот, душа самоучки ничего не содержит народного, а вся для Шекспира, только не понимает своего назначения. Я не о существе вещей, а все о том же своем безобразии: куда же он при такой обостренности в наш век отношений интеллигента и человека из народа попадет, что с ним будет там, в этой гуще? Потом нужно всегда иметь перед собой и не одни только духовные носки и пятки, а и зоологические, где всякий и дурной факт о народе используется съедобно, где ссадины бывают настоящие, кровавые.
Из всего этого вывод такой: о безобразии писать очень выгодно, но беспокойно для совести, особенно беспокойно в то время, когда для отрицания Шекспира не требуется силы Толстого и для горьких слов о народе – беззаветной любви Успенского.
Что же делать мне, скромному наблюдателю? Какие факты текущей жизни отмечать? Писать о хорошем – читать не будут, писать о безобразии – беспокойно для совести (всем почему-то хочется безобразия).
Не испробовать ли мне третий путь, написать немножко о хорошем, немножко о дурном, кстати, это поможет и больной пятке аристократа…
Круглый корабль*
Кто бывал у святых колодцев, где поклоняются чудотворным и явленным иконам, замечал, конечно, что верующие люди, искупав младенцев, оставляют их рубашки и крестики тут же, у колодца, на ветках ближайших деревьев. Крестики потом, конечно, падают на землю. И есть в народе такая примета: найдешь крест с лицевой стороны – он сам придет, найдешь с исподней – нужно его искать…
Я слышал эту легенду недалеко от Оптиной пустыни и вспоминаю теперь в Петербурге, раздумывая о последних трех или четырех годах своих наблюдений. Между моими знакомыми есть люди, верующие так ясно и просто, что кажется, будто Христос к ним сам пришел, а есть ищущие, и из этих ищущих для многих стоит глухая стена.
1. Иванушка
Прошлый год я был на Рождестве у братца Иванушки и стоял в громадной толпе пьяниц, проституток и трезвенников, начавших при помощи братца новую, хорошую жизнь. Иванушке нужно было как-то доказать нам, что Христос родился без плотского греха, от чистой девы. Должно быть, это была ему очень нелегкая задача. Он волновался, разводил руками, приводил всякие примеры. Как ни кинь – все выходило, что человеку без греха никак нельзя родиться.
– А все-таки он родился без греха, – сказал братец.
– Без греха, дорогой! – ответила толпа.
– Слышите, – показал братец на окно, – гармонья играет, пьяницы идут с разными музыками.
– Прости, дорогой! – сказали в толпе.
– А вы собрались без музыки и пьянства, без греха, вот он и тут!
– Тут, дорогой!
И правда, нечаянно, негаданно явился Христос в это собрание. Каждое слово, сказанное братцем, после того как поняли, что он тут, было великой милостью. Все жадно ловили, будто пили, его простые, не имеющие в записи никакого значения слова.
– Вы тут были и пили! – сказал в заключение братец.
– Напоил, напоил, дорогой, – отвечала толпа.
Под конец все по очереди пошли прикладываться к образу, который был около братца. Прикладывались, однако, не к образу, а к руке братца и даже к его одежде. Уходили из дома со светлыми лицами, получив пузырек масла, ладан и по две медных копейки.
– Не объедайтесь! – было последнее слово братца.
Он ушел. Электрическая лампочка, освещавшая сверху его лицо, погасла.
Что же было сказано? Вспоминал я потом и ничего особенного не мог вспомнить. Сказано не было ничего. Все вышло само собою. Христос пришел к этим людям сам. Крестик был найден с лицевой стороны.
Моему представлению этого собрания мешает звук вентилятора, слышанный в этой зале, и электрическая лампочка над головой брата. Мысленно я отодвигаю это собрание в Керженские леса, на холмы озера Светлоярого, где скрыт от грешников град Китеж. Я вспоминаю ночь, проведенную среди людей, ожидающих утреннего звона в невидимом царстве, и свои какие-то неясные думы. Я был где-то в давно пережитых веках и смотрел оттуда на здешний мир. И в моем воображении в эти русские леса приходил какой-то светлый иностранец не с одним электричеством, а со словами утешения этим людям-призракам, фатально лишенным общения с миром. И казалось в эту ночь, что открывается какой-то путь от керженской сосны до эллинской статуи. И вот, если бы в эту ночь явился на Светлое озеро Иванушка и загорелась над его головой электрическая лампочка, то и она светила бы в тайном согласии с его немудреными словами.
2. Светлый иностранец
– Наша беда, – говорил изящный хозяин, – в том, что это не мы, а говорить мы так должны, будто это мы…
– Ложь? – спросил молоденький студент.
– Нет, – ответил наш культурный хозяин, – не ложь, потому что я верю, что за нами явятся те, которые будут говорить, как и мы, но только те будут настоящие. Мы же так пройдем, что-то начнем и уйдем.
Юноша студент, очарованный хозяином, таким серьезным и далеким от толпы, просит указать путь к Христу.
– Церковь, – отвечает хозяин, – вспомните детство, когда вы верили, свое прошлое и других, передумайте историю, начиная с себя.
– Не могу, все как-то растеряно, – сказал студент.
– Есть и другой путь, – ответил хозяин, – скажите мне, что вы любите в искусстве, в литературе?
– Кнута Гамсуна! – выпалил студент. Наш хозяин улыбнулся. Ему, классику, последний крик европейской литературы был неприятен.
– Нет, – сказал хозяин, – новейшую иностранную литературу я не люблю, назовите что-нибудь из русской.
– Из русской, – задумывается студент, – из русской больше всего я люблю декадентов.
Это еще было хуже для нашего хозяина.
– У вас дурной вкус, – сказал он, – поймите раз навсегда, что по форме русская литература не ушла дальше «Капитанской дочки» Пушкина. Читайте это, учитесь понимать красоту в простоте. И когда вы себя к этому приучите, то увидите, что самое простое и совершенное творение есть Евангелие. Вы полюбите его, и вам откроется другой путь…
– Все равно, – ответил студент, – я никогда не пойму тайну воскресения Христа во плоти, не духовно, а во плоти.
Хозяин переглянулся с бывшими в комнате богословами, проповедующими в обществе новое религиозное сознание. «Как, – спрашивал он, – отвечать на такие наивные, но неизбежные вопросы?» Стали разбирать, что значит слово «плоть». Воскресение плоти, – объясняли ученые юноше, – только тогда понятно, если исходить не из материалистического мировоззрения. Тогда и слово «плоть» будет значить нечто другое.
– Теперь, – говорили ученые, – новейшие гносеологи как раз и работают над этим вопросом.
И разговор принял специальный философский характер.
В бесконечной осложнённости этот и другие разговоры из квартиры нашего хозяина переходили в Религиозно-философское общество. И там каждый отдельный оратор высказывал свое особенное мнение о вопросе согласования религии и культуры, русской культуры и мировой. Все, о чем спорила когда-то русская интеллигенция на почве материалистического и идеалистического миросозерцания, тут выступало в новом освещении религиозно-философского сознания.
Прошло много таких собраний. Тот молоденький студент стал говорить смело о грехе, об искуплении, о человекобожестве, и богочеловечестве, и богосыновстве.
«Но что, – спрашиваю я себя, – сталось с образом того светлого иностранца, который мне виделся в Керженских лесах?»
Не могу сказать, чтобы он совершенно исчез, но он как-то распылился на много отдельных личностей, и перед каждой из них, несмотря на всю утонченность и искренность исканий, была будто непереходимая пропасть в сознании того, что он делает не общее, а частичное дело. А дело Христово – ведь цельность прежде всего.
Христос к этим людям, как они ни стремятся к нему, сам не приходит, крест ими найден не с лицевой, а с исподней стороны.
3. Чан
На эстраде залы, где происходили религиозно-философские собрания, часто поднимался спор о русском народе. Одни говорили, что русский народ вообще склонен к упрощению жизни («нисхождению и совлечению»), другие, напротив, указывали на сектантскую и староверческую напряженность религиозной воли. Одни говорили, что народ и интеллигенция есть одно, другие, напротив, будто между народом и интеллигенцией такая пропасть, что ноги поломаешь, когда доберешься. Все эти, в сущности, очень простые и общеизвестные интеллигентские разговоры, облеченные в ткань новейших религиозно-философских терминов, неподготовленному человеку не так-то легко были доступны для понимания. Между тем один из присутствовавших в зале, по виду совершенно простой и необразованный человек, до того, кажется, все хорошо понимал, что оратор только откроет, бывало, рот, а он уже смеется, да так ехидно, как настоящий сатир.
– Чего вы смеетесь? – спросил я его однажды, выходя с собрания вместе с ним на улицу.
– Да как же мне не смеяться, – ответил сатир, – разве можно, как они хотят, все звезды по одной пересчитать? Надо найти звезду одну, настоящую, а потом и считать не нужно.
– Настоящая звезда – бог? – спросил я.
Он хихикнул.
– Вот и вы тоже про бога, – сказал он, – оставьте вы его в покое. От бога остался только звук, – сказал он через некоторое время серьезно. – Мы заблудились в диком темном лесу, напугались, стали звать бога. Этот наш звук услыхали, явились к нам с факелами и стали говорить: «Я знаю бога, я знаю бога». И повели за собой. «Где же он?» – спрашивали странники вожатых. «На небе!»
– Смеяться тут нечего, – сказал я сатиру. – попробовали бы сами распутать узел.
– Очень просто, – ответил он, – людям нужно пуп отрезать от неба, чтобы они были на земле и чтобы знали одно: бог на земле.
– Значит, вы отрицаете культуру, – сказал я, – как же быть без культуры?
– Да никак, – ответил сатир, – ваша культура теперь вся распукалась, так сама и развалится.
Не помню, когда еще в своей жизни я встречал такие неожиданности: сатир вдруг превратился в пророка. Человек, исходивший русские леса, степи и горы, теперь шел по Невскому проспекту и говорил, как пророк:
– Свершился круг времен: прошла весна, лето, наступает время жатвы. Чающие бога скоро предъявят иск обещающим. Спросят чающие обещающих, а у тех не бог, а звук. Время жатвы приблизилось. Нивы побелели. Грачи табунятся.
Маска сатира была сброшена, передо мной был человек, до того презирающий культуру, до того верящий в какого-то своего бога здесь, на земле, страшного, черного, что те уважаемые ученые и талантливые люди на эстраде клуба казались малюсенькими пылинками, поднятыми случайным ветром перед ураганом.
Этот сатир-пророк, узнал я, не затем ходит в наше Общество, чтобы учиться, а хочет привлечь на свою сторону интеллигенцию.
В них есть что-то большое, – говорил он, – в них есть частица того, что и у меня, но только они с небом играют… Шалуны! – не раз повторял сатир-пророк.
Слушая этого сильного человека земли, я не раз мысленно сопоставлял его с образом моего светлого иностранца. «Что, если бы они соединились в одно, – думал я, – и есть ли пути к этому?» Так, увлекаемый любопытством к тайнам жизни, я попал куда-то на окраину Петербурга, в квартиру новой, неизвестной мне секты. В душной, плохо убранной комнате за столом сидел старый пьяница и бормотал что-то скверное. Вокруг за столом сидели другие члены общины с большими кроткими блестящими глазами, мужчины и женщины, многие с просветленными лицами. Между ними был и пророк с лицом сатира, посещающий религиозно-философские собрания.
– Я – раб того человека, – сказал он, указывая на пьяницу, – я знаю, что сквернее его, быть может, на свете нет человека, но я отдался ему в рабство и вот теперь узнал бога настоящего, а не звук…
– Как же вы поверили? – спросил я, с отвращением вглядываясь в лицо пьяницы.
– Как я в это чучело поверил? – сказал сатир.
Он рассказал свою биографию. Когда-нибудь и я расскажу о русском купце, бросающем свое положение, семью, все, скитающемся в степях, в лесах в поисках истинного бога.
– Я убедился, что ты более я, – сказал пророк, – и отдался в рабство этому скверному, но мудрому человеку. Он принял меня, он убил меня, и я, убитый им, воскрес для новой жизни. Вот и вы, интеллигенты, должны так умереть и воскреснете с нами.
– Нет, мы должны знать вперед, ради чего мы умрем, а то как же поверить, что воскреснем, – сказал я.
– Воскреснете! – хихикнул сатир. – Посмотрите на всех нас, как мы в рабстве познали друг друга, мы как в чану выварились, мы знаем не только, у кого какая рубашка, чулки, а всякую мысль, всякое желание знаем друг у друга. Бросьтесь в чан и получите веру и силу. Трудно только в самом начале.
Чучело, в котором жил будто бы бог, властвовало над этими людьми. Пьяница, – узнал я подробности, – не только пользовался имуществом и заработком своих людей, но требовал, когда ему вздумается, их жен, и они покорно отдавались не чучелу, а богу, который в нем живет. Так жили эти люди. Я не упускал их из виду более двух лет, и на моих глазах совершилось воскресение их. Однажды они все одновременно почувствовали, что в чучеле бога уже нет, что они своими муками достигли высшего счастья, слились все в одно существо, – и выбросили чучело, прогнали пьяницу.
Уступая просьбам пророка-сатира, я знакомил его с вождями религиозно-философского движения. Все признавали его необыкновенным существом, даже гениальным, демоническим. Но никто из них не пожелал броситься в чан.
– Шалуны! – сказал сатир и куда-то исчез.
* * *
Я люблю Иванушку с его древним и похороненным теперь православием. С волнением вглядываюсь в попытки светлого иностранца начать у нас возрождение и трепещу, созерцая трагедию чана. Но вот что меня выводит из себя и заставляет сердиться. В последнее время начали всплывать на поверхность столичной говорящей и пишущей «братии» самозванцы из народа. Они, получив способность к членораздельной речи от той же самой интеллигенции, обливают ее помоями и все как бы от имени народа. Сами они только что разорвали связь с народом, не замечают этого, не понимают всей сложности души культурного человека и требуют от него невозможного: забыть свою личность и броситься в чан.
Вот одна из таких книжек, на обложке которой изображен разбитый тонущий корабль. Другой неясный корабль выступает из тумана. Первый корабль – символ интеллигенции, второй – народа. Смотрю на эту обложку и думаю, какой же этот новый народный корабль. Мне вспоминается мое путешествие по Северному Ледовитому океану с поморами на рыбацком судне. Моряки тогда рассказали мне, что во время Парижской выставки один помор-судостроитель решил представить туда русский корабль невиданной формы. Долго думал архангельский помор и наконец решил сделать корабль круглым и самому отправиться вокруг Скандинавского полуострова в Париж. И выехал… Круглый корабль проплыл благополучно горло Белого моря, но в океан не вошел. Последний раз его видели лопари у Святого Носа.
– Хороши невиданные круглые корабли, – просятся у меня злые слова в ответ на обвинения самозванцев из народа, – но только такие корабли тонут.
Комментарии
Список условных сокращений
Избранные произведения – М. Пришвин. Избранные произведения в 2-х томах. М., Гослитиздат, 1951–1952.
ИМЛИ – Отдел рукописей Института мировой литературы АН СССР им. А. М. Горького, Москва.
Собр. соч. 1935–1939 – М. Пришвин. Собр. соч. в 4-х томах. М., Гослитиздат, 1935–1939.
Собр. соч. 1956–1957 – М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6-ти томах. М., Гослитиздат, 1956–1957.
ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.
В краю непуганых птиц*
Книга вышла в 1907 году. Ее полное название: «В краю непуганых птиц. Очерки Выговского края». М. М. Пришвина. С 66-ю рисунками по снимкам с натуры автора и П. П. Ползунова. С.-Петербург. Издание А. Ф. Девриена. В последующих изданиях книга печаталась с сокращениями и в отрывках, без вступления («На угоре»), без первой и последней глав («От Петербурга до Повенца» и «Скрытники»).
В качестве первой части в книгу включались очерки Онего-Беломорского края («Отцы и дети». М.-Л., ГИХЛ, 1934). В Избранных произведениях главы «Выговская пустынь» и «Скрытники» были опущены, в тексте очерков сделаны сокращения.
В судьбе Пришвина многое значили его путешествия – на Север, в Заволжье, в Среднюю Азию, на Дальний Восток. «Почему я путешествовал? – вспоминал он. – Потому что я хотел изучить язык. Я отправился на Север, где говорят чисто древним языком, как, например, в Олонецкой губернии… Там я с утра до ночи записывал сказки, песни, былины и таким образом сильно расширил свои знания по языку <…>.
Путешествовать – это значит видеть впервые вещь, необходимую для писателя» (беседа Пришвина с литкружком завода «Серп и молот» 14 февраля 1935 г. – ЦГАЛИ, архив М. М. Пришвина). Конечно, путешествия нужны были писателю не только для изучения языка, но и для своего рода обновления взгляда на мир, для получения свежих впечатлений, необходимых Пришвину для работы в избранном им роде творчества.
Во время путешествий сложилось пришвннское правило документально-точного (очеркового) изображения мира. «Когда я в путешествии обретал несомненную уверенность, что какой-то огромный мир существует вне меня, – писал он, – что я был свидетелем его, то в сочинениях появлялась мысль и оригинальный язык» («Литературная газета», 1973, 31 января, № 5, с. 6).
Книга «В краю непуганых птиц» была началом целой серии очерков Пришвина о путешествиях в разные географические районы России. Обобщая этот новый, по существу, писательский опыт, М. Горький писал в «Литературной газете» о писательской работе Пришвина как о «глубоко поучительной и, несмотря на новизну, красивой, как древние песни, которые когда-то легли в основу эпического творчества молодых народов» («Литературная газета», 1933, 11 апреля).
Первая книга привлекла внимание современников и, вызвав немало благожелательных откликов, принесла автору определенную известность; сам Пришвин называл произведение своим писательским рождением и в биографических справках неизменно упоминал «В краю непуганых птиц», книгу, от которой, по его словам, он «и начал вести счет своих лет» (ЦГАЛИ, архив М. М. Пришвина).
Обстоятельства появления первого произведения Пришвина важны для понимания его авторского стиля: Заонежье стало писательской «колыбелью» Пришвина. Что же представлял собой этот край в то время?
«Олонецкий край вообще – одна из самых любопытных местностей русского Севера <…>. Геологически он любопытен как область о юр. мраморов, болотной и озерной руды; этнографически – как страна карелов и финнов (в западной части), как богатейший исконный хранитель древних былин. Нет ни одного края в России, который бы поспорил с Олонецким в богатстве былин <…>.
Сюда же убегал в древнее время раскол и произвел поразительно быстро погибшие произрастания: Даниловский и Лексинский раскольничьи монастыри, так называемую Выгорецию. Олонецкий край отличается еще и тем, что он – страна охоты на всякого зверя, на всякую птицу, половина населения живет охотою» («Памятная книжка Олонецкой губернии на 1908 год». Петрозаводск, 1908, с. 289–290). Эта часть Севера (Олония) сохранила следы исполинского труда крестьян в борьбе с жестокой природой, отчетливыми были и следы духовно-религиозного подвижничества («с древности существовало до 54 монастырей»; там же, с. 289), через дебри края прошла «Осударева дорога» Петра I – путь первых русских кораблей из Белого моря в Балтийское. Уклад края являл собой результаты необыкновенной энергии крестьянства, это был своеобразный заповедник старинного быта, языка, поэзии, поражавших человека «машинного» XX века.
О возросшем внимании к русскому Северу в начале XX века можно судить по многочисленным описаниям путешествий, например, записям Н. К. Рериха, проехавшего по Неве, Ладоге, Волхову в 1900 году (очерк «По пути из варяг в греки»). Многое здесь близко пришвинскому восприятию – тревога за судьбу древних памятников культуры, вопросы хозяйственного развития края, а также установка на «живописный» способ изложения («…многое важное ускользает от внимания в заглазных рассказах, пока не увидишь воочию». – Н. К. Рерих. Избранное. М., «Советская Россия», 1979, с. 83). Начали проявлять интерес к Северу и предприниматели.
Много энергии за время своего путешествия Пришвин отдал собиранию фольклора. «Этот род творчества <…> совсем почти не изучен, – отмечал академик С. Ф. Ольденбург, – <…> в то время, когда почти бесповоротно гибнет народная сказка…» («Отчет Императорского русского географического общества за 1908 год». С.-Петербург, 1909, с. 17). Пришвин записал здесь тридцать восемь сказок, которые вошли в сборник Н. Е. Ончукова «Северные сказки».
Произведение получило признание и как опыт этнографического исследования: о нем с уважением отзывались ученые, охотники, краеведы. Как путешественник и исследователь Пришвин в апреле 1910 года был удостоен избрания в Российское географическое общество, награжден серебряной медалью.
Содержание очерков «В краю непуганых птиц» удачно связало точные сведения о жизни северных крестьян с поэтической силой ее восприятия.
По существу, книга Пришвина стала первым художественно-цельным отражением жизни северной России. Замечания самого писателя, связанные с произведением, помогают понять его роль в жизни Пришвина, свежесть материала и языка, истоки пришвинской прозы в целом. «„В краю непуганых птиц“ – это одна из книг, сформировавших меня как человека, – писал автор. – Мне было довольно лет, чтобы сделаться молодым министром, а я, как наездник, попав в седло впервые, как мальчик, поскакал на своем коньке-горбунке в небывалое <…>, схватил свое счастье, как птицу на лету, одним метким выстрелом» (С. Липеровская. За волшебным словом. Жизнь Михаила Пришвина. М., 1964, с. 77). «Я открыл себе второе детство на Карельском острове огромного Выгозера, и место переживаний этого второго детства назвал и описал, как вновь открытую страну непуганых птиц» (Собр. соч. 1956–1957, т. 2, с. 793).
Влияние пришвинских очерков оказалось устойчивым. «„В краю непуганых птиц“, – писал Пришвину Фадеев, – это одна из книг, сформировавших меня как человека <…>» (А. Фадеев. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 7. М., 1971, с. 175). Сам Пришвин за долгую жизнь стал свидетелем участия своей книги в воспитании чувства родины у людей разных поколений. Советский писатель В. Г. Лидин в книге «Люди и встречи» писал: «Мне приходилось бывать по следам Пришвина, и можно было порадоваться, как на Севере в 1924 году первым, о ком меня спросили там, был Пришвин» (Собр. соч. 1956–1957, т. 2, с. 788).
Писатель дорожил познавательной ценностью своей первой книги и при переизданиях добивался сохранения ее первоначального содержания. «„В краю непуганых птиц“, – писал он Горькому в 1915 году, – хорошо издать с интересными иллюстрациями в расчете отчасти и на то, что все эти книги могут читаться и потомством» (ИМЛИ, архив А. М. Горького. Письма М. М. Пришвина А. М. Горькому).
Текст произведения, согласно воле автора, печатается по изданию: М. Пришвин. В краю непуганых птиц. СПб., изд-во А. Ф. Девриена, 1907.
На угоре. – Угор – северное название возвышения на местности.
Полунощное солнце – незаходящее солнце полярного лета.
Петр Великий… смотрел на бой… – Здесь упоминается взятие Нотебурга (Шлиссельбурга) 11 октября 1702 г. Штурм бывшей крепости Орешек, основанной в 1323 г. великим князем Георгием Даниловичем, положил конец шведскому господству на восточном побережье Балтийского моря и открыл России морской путь в Европу («…Зело жесток орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен», – писал Петр I). Петр I руководил боем с близлежащей горы, которая была названа по имени участвовавшего в штурме полка Преображенской. С начала XVIII в. Шлиссельбургская крепость стала политической тюрьмой, в 1908–1917 гг. – каторжный централ.
Петр Великий наказал этой канавой непокорное озеро… – Имеется в виду судоходный канал вдоль южного берега Ладожского озера, строительство которого началось по инициативе Петра I в 1719 г. Строительство канала разрешило проблему безопасности судоходства по озеру, южная часть которого была мелководной и опасной частыми бурями
…с его сгущенной формой – расколом. – Раскол – отделение от официальной русской церкви так называемых старообрядцев после реформ, проведенных патриархом Никоном и утвержденных церковным собором в 1653–1656 гг.
…сам Иона, сложив руки, молится под водой… – Согласно библейскому сказанию, пророк Иона, прогневивший бога Яхве непослушанием, был брошен с корабля в море и проглочен китом, в чреве которого пребывал в молитвах три дня и три ночи.
Бёклиновский «Остров смерти». – «Остров смерти» – картина швейцарского художника Арнольда Бёклина (1827–1901), представителя символизма и стиля «модерн».
В Ильин день – день почитания пророка Илии Фесвитяни-на – 20 июля но ст. ст.
…говорит Барсов… – Барсов Елппдифор Васильевич (1836–1917) – русский фольклорист, исследователь древнерусской письменности. «Причитания Северного края» – один из главных научных трудов Е. В. Барсова (т. 1–3, 1872–1886), посвященных исследованию фольклора, памятников литературы Киевской Руси, собиранию древних рукописей и т. д.
Хотя и сяжно было… – Сяжно – удобно, сходно.
С Крещенья… – Празднуется 6 января по ст. ст.
…мережный весенний… – Лов рыбы мережами, то есть растянутыми на обручах сетями, образующими мешок с отверстием для входа рыбы.
В Великую пятницу… – Пятница перед Пасхой.
Наутро снова бегут по следу. – Описываемый Пришвиным способ охоты теперь запрещен законом.
…Троица подходит… – Приходится по календарю на конец мая – начало июня.
…беспоповская моленная. – Беспоповство – одно из течений в старообрядчестве, возникшее в XVII в. и отвергающее церковно-православную иерархию и таинство священства. Богослужение у беспоповцев совершается выборными наставниками пли начетчиками.
…самого Феофана Прокоповича. – Феофан Прокопович (1661–1736) – сподвижник Петра I, церковный деятель, публицист, поэт, драматург, один из наиболее образованных людей России своего времени.
…передача благодати… – На богословском языке благодатью называется сила, даруемая богом человеку для спасения.
…как бежал Лот… – Лот – племянник Авраама (см. ком-мент, к с. 720); согласно Библии, бежал из Содома, обреченного богом на гибель в наказание за грехи его жителей.
…лицо Никиты Пустосвята… – Суздальский священник Никита Константинович Добрыня, названный за ересь официальной церковью Пустосвятом. Один из инициаторов челобитной царевне Софье в защиту старой веры. Казнен И июля 1682 г. в Москве на Лобном месте.
За волшебным колобком*
Впервые книга опубликована в 1908 году в издательстве А. Ф. Девриена (С.-Петербург). В 1923 году очерки вышли в издательстве Френкеля под названием «Колобок». Отдельные очерки включались почти во все последующие сборники произведений Пришвина. В Собр. соч. 1935–1939 книга пополнена очерками путешествия автора на Север в 1933 году. В Избранных произведениях в тексте «Колобка» были сделаны сокращения, изменения в названиях глав, а главы «Кильдинский король» и «Александровск» были объединены. В Собр. соч. 1956–1957 текст дан по изданию А. Ф. Девриена с учетом позднейших поправок.
Современники отмечали большое значение «Колобка». А. Блок в разговоре с М. Пришвиным заметил: «Это, конечно, поэзия, но и еще что-то» (Собр. соч. 1956–1957, т. 4, с. 9–10). Горький писал В. С. Миролюбову, редактору «Журнала для всех» в сентябре 1911 года: «„Колобок“ Пришвина – превосходен» («Горький. Материалы и исследования». Под ред. С. Д. Балухатого и В. А. Десницкого. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1941, с. 70).
В очерках «Колобка», посвященных второму путешествию Пришвина на Север, автор передал нравственную атмосферу труда и быта крестьянина, особый обрядный склад отношений с природой, веру в приоритет добра, привнес в свою книгу атмосферу сказочности и лиризма. «Колобок» оказался книгой единого поэтического настроения, писателю удалось добиться стилистического единства в описании бытовых картин и романтически-чарующих пейзажей Севера.
Один из наиболее чутких читателей Пришвина, видный советский лингвист А. А. Реформатский писал автору в 1938 году: «Недавно перечитал „Колобок“ – получил еще и еще раз громадное удовольствие. В Вас пленяют четыре вещи: 1) поразительная наблюдательность, такая, что и ученому и художнику дается только интуицией… 2) изумительное владение языком… 3) прекрасное владение формой изложения… 4) то особое „пришвинское“, что присутствует в Ваших творениях: эта „радостность“, сочное и веселое восприятие жизни, всегда интересное и обещающее» (ЦГАЛИ, архив М. М. Пришвина).
Читателей Пришвина привлекали в книге поэтическая сила языка, по достоинству были оценены исследовательский материал очерков, сам характер писательского наблюдения, а также общий жизнерадостный тон произведения, новизна и зрелость художественного стиля.
Текст произведения печатается по изданию: М. Пришвин. За волшебным колобком. СПб., изд-во А. Ф. Девриена, 1908.
Преподобные Зосима и Савватий – монахи-отшельники, в середине XV в. основавшие Соловецкий монастырь.
Был у Саровского, иду к преподобным… – Саровская пустынь, расположенная в Тамбовской губернии, была известна деятельностью монаха этого монастыря Серафима (1760–1833), признанного в русских православных кругах «самым великим подвижником благочестия последних времен». Как проповедник он привлекал своими трогательными и живыми беседами. В качестве преподобных церковь вводила в пантеон святых последователей христианства, отказавшихся от всех благ жизни, уходивших в монашество.
…песнь о том, как англичане нападали на Соловецкую обитель. – Во время Крымской войны 1854 г. 6–7 июля английские военные корабли обстреляли Соловецкий монастырь и потребовали его капитуляции; однако английский флот вынужден был уйти, не добившись цели.
К Благовещенью… – Празднуется 25 марта по ст. ст.
Калевала – легендарная страна, воспетая в древних карело-финских народных песнях-рунах. Финский фольклорист Э. Лён рот составил на основе рун эпос «Калевала».
Рыбаки-покрученики – наемные рабочие на рыбных промыслах беломорского побережья, забиравшие плату за свой труд вперед, в счет будущей путины, и, как правило, на кабальных условиях у предпринимателей-промысловиков.
Святой Трифон – Трифон Печенгский, христианский миссионер, крещеный еврей, проповедовавший среди лопарей Нордкапа, на реках Печенге я Пазреке, настоятель основанного им в 1533 г. Троицко-Печенгского монастыря (разоренного шведами в 1590 г.), организатор северного рыболовства, ловли устриц, звероловства, соляных варниц, лесных дворов, а также морского судоходства. Скончался в 1583 г.
Капитан Гаттерас – персонаж романа Жюля Верна (1828–1905) «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» (1866).
Бар – гряда в прибрежной полосе морского дна, образованная наносами.
Совик – эскимосская шуба из оленьей шкуры шерстью наружу, с капюшоном, надевается с головы.
Воляпюк – искусственный язык, изобретенный в 1830-х гг. пастором И.-М. Шлейером в качестве средства межнационального общения. В данном случае имеется в виду язык, составленный из слов, относящихся к различным национальным языкам.
Бисмарк – Отто Бисмарк (1815–1898), первый канцлер Германской империи с 1871 по 1890 г.
…расторгла ненавистную унию с Швецией… – В 1905 г. Норвегия расторгла силой навязанную ей в 1814 г. унию (союз) со Швецией.
…в стране Бьёрнсона, Ибсена. – Бьёрнстьерне Мартнннус Бьёрнсон (1832–1910) – норвежский писатель и драматург, участвовал в борьбе за самобытную национальную культуру. Генрик Ибсен (1828–1906) – норвежский драматург.
Стортинг – норвежский парламент.
Кнут Гамсун (псевдоним; настоящая фамилия – Педерсен; 1859–1952) – норвежский писатель.
Григ – Эдвард Григ (1843–1907), норвежский композитор.
Михаил Capo – Эрнст Юхан Capo (1835–1917), норвежский историк. Подчеркивал исключительность развития Норвегии, связывая его с особым положением крестьянства, хранителя демократических традиций.
Нансен – Фритьоф Нансен (1861–1930), норвежский исследователь Арктики.
Скальды – народные исландские и норвежские поэты IX–XIII вв.
Эдда – название двух памятников древненсландской литературы, Старшей – собрания эпических текстов мифологического и героического содержания (ок. X в.) и Младшей, написанной ок. 1222–1225 гг. исландским скальдом Снорри Стурлусуном и содержащей много древних сказаний.
У стен града невидимого*
Впервые повесть вышла отдельной книгой в издании: М. Пришвин. У стен града невидимого. М., типо-литография т-ва И. Н. Кушнере и Ко, 1909.
В журнале «Русская мысль» главы книги публиковались в первых трех номерах за 1909 год; в том же году очерки были опубликованы отдельной книгой издательством «Прометей». В третьей книге собрания сочинений М. М. Пришвина, выпущенного издательством «Знание» в 1914 году (СПб.), очерки назывались «Светлое озеро». В этом издании была опущена первая глава – «Черный сад» и сделаны небольшие сокращения. В последующих изданиях этот состав очерков сохраняется. Глава «Церковь видимая» в Собр. соч. 1956–1957 называется «Звон» и дана без вступления, содержащегося в первом издании.
Повесть показывает консервативную и вместе с тем экзотическую среду – старообрядческое сектантство на его заповедной территории по реке Ветлуге, – в краю, где соединились исторические, социальные и поэтические начала религиозного движения, где пришлому человеку надо было «доказывать» свою веру и право на участие в «мистериях» и спорах. В отличие от таких сведущих в букве богословия людей, как Д. С. Мережковский, Пришвин видел в культе «невидимого града» бытовой и поэтический народный уклад. Доверие к нему «закрытых» людей он объясняет своей искренней заинтересованностью всем, чем живет народ, отказом видеть в таких явлениях, как вера в чудо «невидимого града», лишь одну сторону – косность и невежество. В повести «У стен града невидимого» Пришвин повествует о раскольниках как свидетель событий, он видит этот мир во всей его конкретности, изнутри, детально и точно. Известный знаток раскола писатель П. И. Мельников (Андрей Печерский; 1818–1883) так писал о специфике этого явления и трудностях, связанных с его изучением: «Не в одних книгах надо изучать раскол. Кроме изучения его в книгах и архивах, необходимо стать с ним лицом к лицу, пожить в раскольничьих монастырях, в скитах, в колибах, в заимках, в кельях и т. п., изучить его в живых проявлениях, в преданиях и поверьях, не переданных бумаге, но свято сохраняемых целым рядом поколений; изучить обычаи раскольников, в которых немало своеобразного и отличного от обычаев прочих русских простолюдинов; узнать воззрение раскольников разных толков на мир духовный и мир житейский, на внутреннее устройство их общин и т. п.» (П. И. Мельников – Андрей Печерский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., 1976, с. 15).
В рецензии на книгу С. Дурылина «Церковь невидимого града (Сказание о граде Китеже)» («Русские ведомости», 1913, 4 декабря) Пришвин отмечает трагический факт расхождения русской интеллигенции и народа. «<…> Современное интеллигентное общество в своем суждении о церкви принимает ее часть за целое. На это сбиваются роковым образом все рассуждения Толстого, Мережковского и русской интеллигенции. Народная душа, наоборот, если видит несовершенство в земной церкви, находит себе утешение в церкви небесной, невидимой: так создалось сказание о невидимом граде Китеже. Мысль эта совсем не новая, но, вышитая на узоре необыкновенного поэтического сказания о невидимом граде Китеже, и притом очень заботливо, искренне и талантливо, – увлекает». Сам факт разрыва между наивной верой народа и отвлеченны ми теологическими построениями интеллигенции и побуждает, по мнению Пришвина, относиться к чуду «невидимого града» как к серьезной проблеме современной жизни. «Старушка ветхая, сморщенная, лезет ползком к коряге, подле овражка, и что-то тычет туда, за корягу, в валкий, провалистый мох, образующий что-то вроде отдушины.
– Бабушка, что ты?
– Пообносились угоднички то. Ризы ветхие, холстиночки им сунула. Не прогневились бы. Тихо плескает вода.
Отбросьте эстетику умиления автора <…>, прибавьте роковую душу интеллигента, потомка этой старушки, ищущего видимую церковь на земле, – и будет трагедия, а с нею смысл».
Таким образом, отношение Пришвина к сектантству тех лет далеко не ограничено интересами этнографа и фольклориста. Писатель изучал сектантский мир в самых разных его проявлениях. «Опыты мои, – писал он в очерке „Астраль“, – были естественным продолжением поездки на Светлое озеро, где я встретился с совершенно новым для меня миром мистического сектантства. Я видел там, что наивная народная вера в бога-дедушку с седой бородой и Христа – адвоката грешников перед строгим Судьей исчезала у простых людей и заменялась верой в божественность своего личного „Я“ и как это „Я“ совершенно так же, как у наших декадентов, не достигая высшего „Я“, равного „Мы“, где-то на пути своего развития застревало, и каждый такой „сознательный“ человек делался маленьким богом, царем своего маленького царства. Меня поразило, что это высшее „Я“, найденное простым деревенским мужиком, каким-нибудь немолякой Дмитрием Ивановичем, становится пассивным к внешнему миру „кесареву“: для кесаря такой человек (хотя бы на словах) может повесить невинного человека, ничуть этим не задевая себя, он это делает для кесаря, а не для себя. Получалось как бы два человека в одном: один механический кесарев и другой в футляре кесарева человек настоящий, божественного происхождения… Старинное крепкое православие этих людей казалось мне в Ветлужских лесах берегом обетованной земли, от которого почему-то отчаливал богоискатель немоляка. Куда он приплывет, этот маленький бог, где его маленькое „Я“ сольется с другим, третьим и станет большим, сильным, созидающим новую землю?» («Заветы», 1914, № 4, с. 80–81).
Пришвин угадал необходимые условия вхождения в мир сектантства – неподдельное внимание к этим людям, собственная самобытность, отсутствие «профессорской» отдаленности от сектантов. «Я поехал в Заволжье, – вспоминал он в 1921 году, – и написал книгу „Невидимый град“ – о сектантах. Если устранить из нее несколько манерничание стиля в начале и романтическую кокетливость, то книга эта еще больше, чем „В краю непуганых птиц“, удивляет меня, как я, абсолютно невежественный в сектантствоведенин, умел за месяц разобраться и выпукло представить почти весь сектантский мир <…>. Я встречал профессоров, просидевших годы над диссертациями о сектантах, и с удивлением видел, что знаю больше их…» («Контекст 1974», М., 1975, с. 319).
Своеобразие произведения было отмечено А. Блоком, указавшим в рецензии и на недостатки новой книги писателя, и его ранних повестей в целом: «М. Пришвин прекрасно владеет русским языком, и многие чисто народные слова, совершенно забытые нашей „показной“ и по преимуществу городской литературой, для него живы. Мало этого, он умеет показать, что богатый словарь, которым он пользуется, и вообще жизнеспособен, что богатства русского языка доселе еще далеко не исчерпаны.
К сожалению, М. Пришвин владеет литературной формой далеко не так свободно, как языком. От этого его книги, очень серьезные, очень задумчивые, очень своеобразные, читаются с трудом. Это богатый сырой материал, требующий скорее изучения, чем чтения; отсюда много могут почерпнуть и художник, и этнограф, и исследователь раскола и сектантства» (АлександрБлок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.-Л., 1962, с. 651).
Основная заслуга автора «Светлого озера» состоит в том. что Пришвин показывает раскольничью среду как часть современной ему русской жизни, социальные и другие проблемы которой преломлены здесь через местный быт: сам характер религиозных исканий был связан с содержанием общественной жизни кануна социальной революции. Народная идея существования невидимого града Китежа, скрытого богом от врагов христианства во время татаро-монгольского нашествия, подчеркивала отчужденность народных масс от официальной церкви.
Текст произведения печатается по изданию: М. Пришвин. У стен града невидимого. М., изд-во т-ва И. Н. Кушнерева, с учетом позднейших поправок автора, сделанных им в Собр. соч. 1935–1939.
Хозяйку имения, куда я еду, мы прозвали «маркизой»… – Речь идет о матери Пришвина Марье Ивановне (урожд. Игнатовой). В автобиографической справке, составленной М. М. Пришвиным, о матери говорится как о белевской уроженке «старообрядческого происхождения, впоследствии православной» (ЦГАЛИ, архив М. М. Пришвина).
Лучше всех перепелиный охотник. – Друг Пришвина, крестьянин по прозвищу Дедок (см. рассказ «Сашок», помещенный в данном томе).
Сердцем я с козлоногими. – Козлоногие. – Имеются в виду античные образы сатиров. Автор говорит о своей приверженности к живой, «языческой» стихии жизни, в противоположность умствующим сектантам.
Вспоминаю полузабытый роман о заволжских лесах. – Роман «В лесах» (1871) П. И. Мельннкова-Печерского (1818–1883).
Тайна семи звезд… Жена, облеченная в солнце… Конь бледный и на нем всадник, имя которому Смерть… – Образы-символы Апокалипсиса (Откровения Иоанна Богослова), одного из древнейших памятников христианской литературы.
…скиния бога с человеками? – Скиния – походная церковь израильтян. В данном случае слово употреблено в значении единения бога с людьми.
Под Иванову ночь… – Ночь с 23 на 24 нюня по ст. ст. – древний земледельческий праздник летнего солнцестояния.
…в годину жестокого святого… – Здесь упоминается имя местного святого Варнавы.
Поднимает костлявую руку с лестовкой… – Лестовка – четки староверов, по которым верующие ведут счет поклонам во время молитв.
Трусы – землетрясения.
Гог и Магог – в иудейской, христианской и мусульманской религиях два диких народа, нашествие которых должно предшествовать Страшному суду.
Аввадон (Аваддон) – в иудейской и христианской религиях – фигура, близкая к ангелу смерти.
…семь просфор, хождение посолонь, двуперстие… – Элементы раскольничьего богослужения.
Это «Жизнь протопопа Аввакума» Мякотина. – Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937) – русский историк, публицист, сотрудник журнала «Русское богатство», автор книги «Протопоп Аввакум» и других исследований.
Издан закон о свободе совести… – Имеется в виду признание окончательного права раскольников (как и всех других верующих в России) на свободу вероисповедания Манифестом 17 октября 1905 г. и законом от 17 апреля 1908 г.
…был Савлом, а стал Павлом. – Согласно Деяниям Апостолов, Савл был одним из наиболее яростных гонителей учеников Христа, но затем, приняв христианство и став называться Павлом, сделался одним из апостолов.
Заглянуть бы в Псалтырь… – Псалтырь – часть Библии, книга песнопений (псалмов), приписываемых царю Израильско-иудейского царства (конец XI в. – ок. 950 г. до н. э.) – Давиду.
…читанной в детстве страшной книги: «Охота за черепами». – Очевидно, автор имеет в виду книгу английского писателя Майн Рида (1818–1883) «Охотники за черепами».
…пребывание Ионы в чреве китовом… – См. коммент. к с 56.
Австрийское согласие – течение поповского направления в старообрядчестве, признающее церковную иерархию, но считающее официальную церковь еретической; поэтому имело самостоятельную, старообрядческую иерархию. Название получило по месту первоначального пребывания своего епископа Амвросия, селу Белая Криница на Буковине, входившей в состав Австрии (Белокриницкая иерархия).
В 1853 г. была основана Московская архиепископня, центр Белокриницкой иерархии в России.
…ходил к Серафиму… – См. коммент. к с. 210.
Дикирий и трикирий – двусвечник и трисвечник.
У одного «Никон Черной горы»… у другого «Маргарит»… у третьего Кириллова книга, Ефрема Сирина… – Книги, которые особенно почитались раскольниками как старопечатные, древние; «Никон Черной горы» – Никон Черногорец, монах Черной горы близ Антиохии (вторая половина XI в.), составил на греческом языке книги: «Пандекты» (свод правил и объяснений общих обязанностей монахов) и «Тактион» (размышления о православной церкви); «Маргарит книга» («Жемчужины») – древнерусский сборник поучений религиозного характера, взятых по преимуществу из проповедей константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста (347–407); Кириллова книга – сборник полемических статей против католиков и лютеран, составленный Стефаном Зизаннем, церковным деятелем юго-западной Руси XVI–XVII вв.; Ефрем Сирин – живший в Месопотамии автор многих богословских сочинений, молитв и песнопений (IV в.).
Есть ли ответ-то у тебя? – То есть документ, удостоверяющий личность.
…в книгу Голубиную. – Одно из самых распространенных произведений духовной апокрифической литературы («Духовный стих о книге Голубиной»), посвященное космогоническим вопросам: начинается с эпического введения о происхождении книги (упавшей, согласно легенде, с небес в Иерусалиме при царе Давиде). Известна в многочисленных вариантах.
…Переплетчик похож на сапожника, которому нанялся ангел служить. – Имеется в виду рассказ Л. Н. Толстого «Чем люди живы?».
Припоминается… какая-то опера о граде Китеже и девице Февронии. – «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», опера Н. А. Римского-Корсакова на либретто В. И. Вельского по мотивам нескольких древнерусских сказаний. Феврония – персонаж древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских».
…человек Спасова согласия… – Одна из разновидностей сектантства, возникшая в результате разделения беспоповщины на различные толки (учения).
«Ты, Петра, – камень… и на сем камне созижду церковь, и врата ада не одолеют ее». – Передаются слова Христа, обращенные к апостолу Петру («Петр» по-гречески означает «камень»).
Ежели видение Даниила, то как ему не верить. – Имеется в виду предсказание пророка Даниила о воскресении людей («И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление»; Книга Пророка Даниила, 12, 2).
Эпитемья (епитимия) – церковное наказание за нарушение правил и уставов церкви.
…сочти число зверя, ибо это число человеческое: число его шестьсот шестьдесят шесть. – Приводятся слова из Апокалипсиса.
…большой человек… граф… – Л. Н. Толстой.
Под большим холмиком скрыто Знаменье, а где мы сидим – Здви-женье животворящего креста господня, а подальше – там Успенье божьей матери. – Китеж (Кидишь), древнерусский город, разрушенный во время монголо-татарского нашествия, воспринимался верующими старообрядцами как скрывшийся от врагов христианства город праведников, ставший невидимым, но продолжавший существовать.
Затворись в вертепе… – Вертеп – пещера.
…попы ходят посолонь… – По солнцу.
Складень – складная икона.
…поклонись от нас Мережскому… – поэту-символисту и теологу Д. С. Мережковскому (1866–1941); впоследствии белоэмигрант. Стр. 455. Приточно – иносказательно.
…припоминаю о реформации… – Реформация – широкое общественное движение в Западной и Центральной Европе XVI в.; носило антифеодальный характер, приняло форму борьбы против католицизма, отрицавшего национальность и дававшего огромные привилегии церкви. В результате реформации возникла протестантская церковь.
Начетчик – церковный чтец.
…афиши, приглашающей на «Лакомый кусочек»… – «Лакомый кусочек» – пьеса В. А. Крылова (1838–1906), русского драматурга, автора многочисленных драм, комедий и водевилей.
…проповедь пашковства. – Религиозная секта, близкая к баптизму. Пашковцы, или евангельские христиане, назывались по имени русского миллионера и филантропа полковника В. А. Пашкова.
Пресвитер – протестантский священник.
«Слово плоть бысть и вселися в ны». – Евангельский стих: «И слово стало плотию и обитало с нами…» (Евангелие от Иоанна, 1, 14).
…отдай богово богови, кесарево – кесареви. – Согласно Евангелию, слова, сказанные Христом на вопрос о том, следует ли платить подать кесарю.
Ты что брусишь? – Брусить – нести чепуху, городить нескладицу, бредить, врать (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка).
…зачитанный журнал «Новый путь» – литературно-философский журнал, выходивший в Петербурге в 1902–1904 гг., орган Религиозно-философского общества (или Религиозно-философских собраний), объединявшего писателей-символийтов, философов-идеалистов и др.
Никон Староколенный*
Впервые рассказ напечатан в литературно-художественном альманахе «Шиповник» (СПб., 1912, кн. 18). Вошел без изменений в первое Собрание сочинений Пришвина (кн. 3; СПб., изд-во «Знание», 1914), а также в Собр. соч. 1935–1939 и в Собр. соч. 1956–1957.
Рассказ, посвященный эпохе, когда, по словам Л. Толстого, «…все перевернулось и только укладывалось», изображает крестьянина, несущего в себе умонастроения и уклад дедов и прадедов, как бы выброшенного стремительно развивающейся историей за пределы современной жизни. Пришвин сочувственно изображает этого крепкого духом человека, обреченного на одиночество в быстро меняющемся мире, которого он не может принять.
В. Львов-Рогачевский писал о рассказе «Никон Старо коленный»: «…какая-то красивая грусть и нежная тишина» («Современный мир», 1912, № И, с. 362).
Печатается по изданию: «Шиповник», СПб., 1912, кн. 18.
…поставить масленку… – то есть построить кустарную маслобойку для получения растительного масла из семян льна, конопли.
Книга Товита – одна из книг Библии. В канонические тексты Ветхого завета Книга Товита не вошла.
Орарь – длинная широкая лента, которая одевается поверх облачения дьякона.
Ектения – молитвенное прошение в церковной службе от лица всех молящихся.
…установился зимняк… – санная зимняя дорога.
…на седьмой неделе в Великий четверток… – четверг седьмой (последней) недели Великого поста.
…вечером во время стояния… – Торжественная и длительная церковная служба с чтением «Двенадцати Евангелий».
…Моисей внимал голосу из пламени? – Согласно Библии, бог Яхве беседовал с Моисеем из горящего и несгорающего куста («неопалимой купины»).
…как говорил пророк Илия Ахав у-царю… – Согласно библейской легенде, пророк Илия обличал царя Израиля Ахава в отступничестве от бога Яхве и добился обращения царя в истинную веру.
Трензель – железные удила.
Книга Ездры. – Ездра – один из древнееврейских (ветхозаветных) пророков; Книга Ездры входит в состав Библии.
…от Исайи хвачу… – Книга Пророка Исайи входит в состав Библии.
Черный Араб*
Очерки напечатаны впервые в журнале «Русская мысль» (1910, кн. 11) с подзаголовком «Степные эскизы». В первом Собрании сочинений М. Пришвина (СПб., «Знание», 1912–1914) «Черный Араб» напечатан полностью по тексту «Русской мысли». В Собрании сочинений 1927–1930 годов (ГИЗ), Собр. соч. 1935–1939 автор дополнил книгу очерком «Соленое озеро» (впервые напечатан в журнале «Современник», 1914, № 6, под заглавием «Медвежья шуба»); после главы «Волки и овцы» введена глава «Сопка Маира» (вторая половина очерка «Адам и Ева»); глава «У степного царя» получила новое название – «Черный Араб». В сборнике «Моя страна» (М., Географгиз, 1948) очерки дополнены частью «Орел» (впервые опубликован в журнале «СССР на стройке», 1935, № 10); глава «Сопка Маира» перенесена снова в самостоятельный очерк «Адам и Ева»; очерк «Соленое озеро» был опущен (впоследствии печатался как самостоятельный). В Избранных произведениях и Собр. соч. 1956–1957 книга печаталась с этими изменениями.
Пришвин считал, что повестью «Черный Араб» окончательно устанавливается его принцип поэтической обработки материала. Одна из характерных записей в позднем дневнике (1952 г.): «Великое утро в лесу. Явился план последней части „Сузем“. Мотив его будет тот, что сузем „чуткий“ (сузем – дремучий лес на широком пространстве. – А. К.). На этом все и построить, как сделан „Черный Араб“» (Собр. соч. 1956–1957, т. 6, с. 616). Таким образом, одно из последних произведений – повесть «Корабельная чаща» – дописывалось Пришвиным в том же стилистическом ключе, что и «Черный Араб». Пришвин решает задачу воплощения документального материала через единый мотив, каким в повести стало открытие древнего мира степи.
«Пришвин утверждал, – пишет исследователь, – что „Черный Араб“ представляет собой лишь сохранившуюся часть большого произведения. Остальной рукописный материал сгорел во время пожара. В домашнем архиве М. М. Пришвина есть тетрадь в клеенчатом переплете, на первой странице тетради рукой М. М. Пришвина сделана надпись: „Черный Араб“, но это не черновик произведения, а дневники, которые содержат непосредственные путевые наблюдения и впечатления. Дневники позволяют судить о том, каким громадным материалом располагал Пришвин. Легенды, предания, бытовые эпизоды, размышления дают представление об интересах писателя…» (С. Б. 3 а р х и н. «Адам и Ева» и «Черный Араб». – В сб.: «М. М. Пришвин о литературе». Пермь, 1958, с. 47).
О «Черном Арабе» восторженно отзывался Горький: «Вот как надо писать путевое, мимо идущее» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29. Гослитиздат, М., 1955, с. 140). В письмах М. Иорданскому (1910 г.), А. Амфитеатрову (1911 г.), П. Романову (без даты) Горький советует им прочитать «Черного Араба», восхищается поэзией очерков, называя повесть «чудесной вещью». Судя по ответному письму Пришвина, Горький написал об успехе очерков и автору: «Плясал, пишете Вы, когда прочел „Черного Араба“, а вот у меня дома, как прочли Ваше письмо, стали меня качать» («Горький и советские писатели. Неизданная переписка». М., АН СССР, 1963, с. 321). Сам Пришвин отмечал позднее: «„Черный Араб“ <…> свободный и, осмелимся сказать, праздничный… Моя поэзия есть акт моей дружбы с человеком, и в ней мое поведение: пишу – значит, люблю» (Собр. соч. 1956–1957, т. 2, с. 801–802). Печатается по изданию Избранные произведения, т. 2.
Мекка – священный город мусульман.
Кааба – главный мусульманский храм в Мекке.
Славны бубны*
Очерки впервые опубликованы в журнале «Заветы», 1913, № 9 (под названием «Трагикомедия»), № 10. В первом издании начинались главой «Коктебельские камешки», в последующих изданиях эта часть публиковалась без названия.
Произведение было посвящено поездке писателя в Крым, к знакомому петербуржцу. «Лицо края» вырастает, как обычно у Пришвина, из замечаний, диалогов, описаний путешественника, как бы заново открывающего экзотический мир Крыма; повествование сочетает точность изображения с поэтической выразительностью рассказа.
Среди немногих критических отзывов на книгу – рецензия в газете «Речь» от 2 июня 1914 года. Рецензент отказывает произведению в единстве: неудачный подбор очерков, по его мнению, «…лишает книжку и того значения, которое она могла бы иметь – интересного документа-дневника». Хотя очерки действительно имеют определенные композиционные недостатки, критик не смог объективно оценить очередную книгу путешествий писателя («южный „Колобок“», по мнению автора) как прозу, в которой Пришвин объединяет разнообразный материал и, оставаясь строгим документалистом, достигает лирической свежести и богатства художественного изображения.
Печатается по изданию: Собр. соч. 1934–1935, т. IV.
Бестужевка – слушательница Бестужевских высших женских курсов в Петербурге; открыты в 1878 г. Во главе педагогического совета находился профессор К. Н. Бестужев-Рюмин.
Владимир Святой – великий князь киевский Владимир Святославич (в крещении – Василий; ум. в 1015 г.), крестился в городе Корсуни (Херсонесе) в Крыму; в 988–989 гг. ввел христианство на Руси в качестве государственной религии.
Трирема – у древних греков и римлян боевое морское судно с тремя рядами весел.
…о какой-то заграничной выставке Сецессион… – Речь идет о художественных выставках, организуемых немецкими и австрийскими объединениями живописцев и графиков Сецессион, противопоставлявших себя академическому официальному искусству (от лат. secessio – «уход»).
Было время осады Адрианополя. – Во время первой Балканской войны Адрианополь был блокирован болгарской армией с октября 1912 г. по март 1913 г.
…на его столе большая раскрытая книга. – Имеется в виду Коран.
Мулла говорил, в этой книге написано, что и у нас есть Христос! – В Коране упоминается пророк Аллаха Иса; считается, что коранические представления об Исе в отдельных частях отразили воззрения некоторых христианских еретических сект.
…представленный мне… как Aedelweis varietas Aj-Petri – то есть как «ай-петринская разновидность эдельвейса».
…как на изображении святого Афона… – Афонская гора на побережье Эгейского моря к востоку от Солоникского залива, на которой находится множество православных монастырей, храмов, скитов и т. д.
Хаджи. – Так называется у мусульман верующий, который совершил паломничество в Мекку.
Караимский газзан – караимский священник.
…гахам Помпулов… – Гахам – высшее духовное лицо караимов.
…свиток пергаментной Торы на столе… – Тора – древнееврейское название Пятикнижия (части Библии) Сефер-торой называются пергаментные свитки, написанные особыми писцами с величайшей тщательностью. Здесь идет речь именно о таком свитке.
Сашок*
Рассказ впервые напечатан в журнале «Родник», 1906, № 11–12, с. 512–514.
Детство дало Пришвину «вечный» запас впечатлений от природы и общения с людьми. Птицелов Сашок – спутник ярких моментов его детства. «Есть в природе прекрасные факты, – записывает Пришвин в 1905 году, – неопровержимые, независимые от нашего воображения, от нашего творчества, например, цветок. Это не наше воображение… Так и сказал Александр по прозвищу „Дедок“. Впрочем, какой он старик: мне кажется, он всегда был таким» («Пришвин и современность». М., 1978, с. 236).
Печатается по изданию: «Родник», 1906, № 11–12.
Корна – мешок, которым заканчивается середина сети.
Страстная свеча – свеча, которая была возжена на Страстной неделе – седьмой (последней) неделе Великого поста перед Пасхой.
Господа умилились*
Очерк впервые опубликован в газете «Русские ведомости» 1906, 4 октября, под рубрикой «У мужиков и помещиков (Деревенские впечатления)».
Печатается по изданию: «Русские ведомости», 1906, 4 октября.
Биметаллизм – денежная система, при которой законным платежным средством считаются и золото, и серебро. В конце XIX в. в большинстве стран заменен золотым монометаллизмом.
17 октября. – 17 октября 1905 г. Николай II подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», которым правительство «даровало» России буржуазные гражданские свободы – слова, печати, личности, совести, собраний и союзов, обещало привлечь к участию в Государственной думе население, лишенное избирательных прав (рабочих). Манифест, бывший вынужденной уступкой самодержавия восставшему народу, не затрагивал главного для крестьян вопроса о ликвидации помещичьего землевладения и передачи земли крестьянству. В рассказе отражена характерная для того времени общественно-политическая ситуация, когда крестьяне сами захватывали помещичьи земли (аграрные «беспорядки»).
Крутоярский зверь*
Первая публикация рассказа: альманах «Шиповник», СПб., 1911, кн. 15. В издании т-ва «Знание» (М. Пришвин. Рассказы, т. 1. СПб., 1912) рассказы «Крутоярский зверь» и «Птичье кладбище» были опубликованы под общим названием «Озеро Крутоярое».
Три произведения Пришвина: «Крутоярскнй зверь», «Птичье кладбище», «Бабья лужа», время создания которых датируется 1910–1912 гг., составили особый цикл, которому Пришвин дал название «Старые рассказы». В определенной мере в них сказалось влияние литературной обстановки после 1905 года, с определенным налетом мистицизма и поэтизации непостижимого, но, как писал один из рецензентов, «„мистик“ не заглушил в Пришвине его интереса к земле, к конкретному, индивидуальному облику вещей, и природа и люди – главным образом северные – у него живут, они описаны красочно и колоритно <…>». Но «беллетристической» законченностью, по мнению рецензента, «обладает только рассказ „Крутоярский зверь“. Отдельные картины в нем очень ярки и поэтичны. Но всему замыслу недостает цельности и ясности. В этом рассказе особенно бросается в глаза склонность автора к манерничанью. Сюжет умышленно развивается сбивчиво, запутанно и туманно; между грезами и явью стерты все грани…» (Е. Колтоновская. Этнограф-поэт. – «Речь», 1912, 13 февраля, с. 3).
Все три рассказа этого цикла вырастают из непосредственных впечатлений. Как всегда, материал дневников писателя (судя по многочисленным подготовительным записям под общим названием «Птичье кладбище») содержит и легенды, и точные сведения о жизни края. Мотивы «Крутоярского зверя» взяты им из глубинной жизни России, глубоко ей органичны. Крутоярский зверь прокричал смертный приговор не только герою произведения – Павлику Верхне-Бродскому, типичному для эпохи вырожденцу-помещику, но и всему уходящему в прошлое усадебному помещичеству. В символическом образе Крутоярского барина иронически выражены писателем вполне определенные черты русской провинции: юродство и карикатурность духовной жизни, животный примитивизм нравов.
Печатается по изданию: М. Пришв и н. Рассказы, т. 1. «Знание», СПб., 1912.
Налим в глею… – на глинистом дне.
Птичье кладбище*
Впервые опубликовано: «Русская мысль», 1911, № 7, с подзаголовком «Сельские эскизы».
Пришвин вспоминал о работе над этим произведением: «Вот хотя бы рассказ „Птичье кладбище“ <…>. Для этого рассказа я собирал слова и поверья в районе Брыни, записывал все на клочках <…>. Чтобы заучить тысячи слов и сотни поговорок, поверий, я разрезал лист на тонкие полоски в огромную длинную ленту, списал материал на ленту и скатал в два ролика. Перематывая ленту с ролика на ролик, я мог всюду заучивать свой материал: на конках, в амбулатории, в приемных, на полустанке при ожидании поезда». Далее писатель вспоминает, как за изучением этих материалов его застал А. Н. Толстой: «В своей отличной шубе он остановился на пороге моей комнаты… изумленный. В совершенно пустой комнате, на полу, подстелив под себя пальто, на животе лежал среди бумаг, записок и длинных лент… этот самый „Пришвин“
<…>.
Толстой, по-своему как-то мигая, строил серьезную мину и в то же время, явно сдерживая смех, спросил:
– А ленты-то для чего?
Я скатал ролики и, перекатывая один на другой, показал. Тут он не мог не расхохотаться и сказал:
– Ну, так написать рассказ невозможно.
– А вот напишу, – сказал я.
– Не напишете, не напишете, – повторял он со смехом, уходя от меня.
<…> Я простил ему его смех. Не мог же он, столь счастливый писатель, понять, что ролики мои не были просто способом усвоения материала, а вытекали из всей темы моей жизни творчества как поведения» (Дневник, запись от 13 января 1941 г. Цит. по Собр. соч. 1956–1957, т. 4, г. 705–706).
Текст печатается по изданию: Собр. соч. 1935–1939, т. III.
Бабья лужа*
Впервые напечатан в газете «Речь», 1912, 25 декабря; затем в издании т-ва «Знание»: М. Пришвин. «Славны бубны» и другие рассказы, т. 3. СПб., 1914. В Собр. соч. 1956–1957 текст рассказа напечатан по Собр. соч. 1935–1939, т. III.
Образы и финал рассказа «Бабья лужа», как и в других рассказах цикла, символичны. Для священника отца Петра, спившегося в бедном приходе, спасением стала грибная охота; смещение смысла жизни человека в иллюзорный план влечет за собой роковой исход.
Печатается по изданию: М. Пришвин. «„Славны бубны“ и другие рассказы», т. 3. СПб., «Знание», 1914.
Благушки – грибы-поганки.
Соленое озеро*
Очерк опубликован впервые под названием «Медвежья шуба. (Рассказ содержателя соленого озера)» в журнале «Современник», 1914, № 6. Название «Соленое озеро» дано рассказу в книге «Длинное Ухо» (Библиотека «Огонек», 1925). Печатался в цикле «Черный Араб».
Печатается по изданию: Собр. соч. 1935–1939, т. III.
Заворошка. Отклики жизни*
Сборник М. Пришвина с таким названием вышел в 1913 году в Московском книгоиздательстве. Автор писал в предисловии: «Первая часть этой книги – „Родная земля“ представляет собой отклики деревенской жизни родного мне края; вторая часть, „Новые места“ – впечатления от поездки с переселенцами в сибирские степи; в третьей части я собрал то, что заметил в другом движении русского народа: к Святым местам, на Новую Землю».
В настоящее издание сборника не вошел очерк «Соловки» (как часть повести «За волшебным колобком») и очерк «Пальна и Аграмач», текст которого входит в роман «Кащеева цепь».
Само название книги Пришвина отражает неустойчивый, кризисный характер ситуации, сложившейся в России после 1905 года.
«Заворошка» состоит из очерков, заметок и корреспонденций, опубликованных в газете «Русские ведомости», журнале «Заветы» и других изданиях конца 1905–1913 годов. Они важны как художественные документы периода Столыпинской реформы и нарастания новой волны революционного движения, – это итог работы Пришвина-журналиста, человека демократических убеждений, глубоко знающего настроения и быт крестьян, простого народа, интеллигенции («третьего элемента»).
Период, отображенный Пришвиным, отличался исключительной сложностью; русское общество, пережившее 1905 год, стояло накануне новых, еще более грозных социальных потрясений – первой мировой войны и двух революций; в народе усиливались брожение, недовольство, искания новых путей общественного развития.
Среди крестьянства распространяются еще не осознанные, но сильные, неодолимые чаяния лучшей жизни. «Века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости», – так определял состояние русского крестьянства В. И. Ленин (В. И. Лен и н. Поли. собр. соч., т. 17, с. 211), характеризуя данную эпоху как эпоху «крестьянской буржуазной революции» (там же, с. 210). Но эти чаяния еще не находили определенных форм для своего выражения. «Вся прошлая жизнь крестьянства научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа па все эти вопросы» (там же, с. 211). Поэтому общественная жизнь и настроения масс в эти годы принимают самые разные, порой весьма своеобразные, причудливые и уродливые формы и направления.
Годы, описываемые Пришвиным, вошли в историю как годы Столыпинской реформы, названной по имени П. А. Столыпина, председателя совета министров царского правительства. Разрушение общины и насаждение частной крестьянской земельной собственности составило главное содержание этой аграрной реформы. Разрешением продажи и покупки наделов правительство облегчало отлив бедноты из деревни и концентрацию земли в руках кулачества, активно содействовало переселению бедноты на окраинные земли, при этом русскими переселенцами невольно (а царской администрацией чаще всего сознательно) ущемлялись права исконных обитателей этих земель.
В своих очерках Пришвин показывает нам крестьян, ждущих войны (!), чтобы ликвидировать последствия Столыпинских реформ; деятелей земства, видящих путь к улучшению положения дел в реформаторстве; членов различных партий, зачастую действующих скорее в соответствии со своими корыстными личными намерениями, чем с какой-либо политической программой; споры участников различных религиозных кружков, ищущих смысла человеческого существования в решении религиозных вопросов; передает свои впечатления от общения с представителями разных слоев русского общества.
По реакции деревни на изменение аграрной политики писатель уяснял для себя исторический, общероссийский смысл событий между двумя революциями.
Ломка общинной системы отдавала землю зажиточному крестьянству, буржуазии, помещикам-капиталистам и должна была «выключить» крестьянское большинство из революции. Однако реальный процесс осуществления реформы не оправдал ожиданий правительства: не облегчил положения масс и не погасил недовольства и революционных настроений. По словам В. И. Ленина, политикой капитализации деревни самодержавие открывало «последний клапан» (В. И. Ленин. Поли, собр. соч., т. 22, с. 21). Пришвин видел (и это отчетливо отражено в его очерках), как реакционный смысл действий правительства проявлялся во всей повседневной жизни. Крестьяне не могли воспользоваться преимуществом «укрепления» земли в силу запутанного отношения с обществом (общиной), здесь действовал откровенный коммерческий принцип («Как я укреплял тещу Никифора»); Пришвин показывает неизбежное экономическое подчинение бедноты богатым мужикам, которые, откупают аренду помещичьего луга, отданную беднякам «из сочувствия», за водку («В имении тетушки»). Признаки нового в деревне – это расслоение деревенского общества, рассуждения крестьян об «ораторах» (политических пропагандистах), которым не доверяют (еще нет, по их словам, настоящего крестьянского вождя), о справедливом налоге; это общее революционное брожение, цели которого еще не осознаны до конца самими крестьянами.
Все очерки первой части представляют собой единый сюжет, своего рода хронику нескольких пореформенных лет. Повествователь – участник обычных «мирских» дел – хлопочет о ликвидации имения тетушки-помещицы, посредничает между крестьянами и чиновниками, наблюдает жизнь «отрубщиков», хуторян, ее неуютный и нехозяйственный склад. «Ни в той, ни в другой, ни в третьей группе поселенцев не мог я найти, конечно, ничего, что указывало бы на положительное новое в переустройстве русской крестьянской жизни», – писал автор («Тютелькин лог»).
Во второй части «Заворошка» – в очерках «Адам и Ева», «Первые земледельцы», «У Чертова озера» – Пришвин показал крах переселенческой политики царского правительства, стремящегося уменьшить «земельную тесноту» в деревне в пользу крупных собственников. Переселение крестьян (а с 1913 года и всех других сословий) за Урал, на казенные земли азиатской России, велось ускоренно и не было обеспечено материально и организационно. Даже сам Столыпин во «Всеподданнейшей записке» о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 году наряду с общими сведениями о переселении указывал, что «правительственная организация переселения во многом несовершенна» (С. М. Дубровский. Столыпинская земельная реформа. Из истории сельского хозяйства и крестьянства России в начале XX века. М., 1963, с. 387).
Пришвин совершил поездку с переселенцами летом 1909 года. В очерках отражена драма разочарования, гибели, отчаяния, неприспособленности людей к новым местам, брошенность их на произвол судьбы. Государство недостаточно заботилось о больницах, школах, благоустройстве. Между тем к концу 1915 года в азиатской части России было вновь образовано 71 725 единоличных хозяйств. Общим итогом Столыпинской реформы оказалось разорение по стране значительного числа крестьян, понижение культуры земледелия, рост эксплуатации. По оценке В. И. Ленина, «все противоречия обострились, возросла эксплоатация <…>, совершенно ничтожен прогресс хозяйства» (В. И. Ленин. Поли, собр. соч., т. 19, с. 307).
В третьей части книги собраны очерки, может быть, о самой сложной для читателя области русской народной жизни той эпохи – духовно-религиозной. Будучи по опыту писательской жизни знатоком живых современных проявлений раскола, сектантства, жизни провинциального русского духовенства, Пришвин стремится выявить связь между общественно-политической обстановкой и духовно-религиозными формами жизни тех лет. Он остается верным методу непринужденного внимания и «удивления» перед явлениями русской жизни, проникновения в их сущность через живые человеческие отношения. «Русская жизнь вообще так богата устоявшимися противоречивыми формами, что для того, чтобы видеть, необходимо постоянно, как молитву, твердить себе: „я не здешний, я вижу и слышу все это в первый раз, удивляюсь, удивляюсь…“» (М. Пришвин. Заворошка. Московское книгоиздательство, 1913, с. 182).
Внимание Пришвина к нравственно-религиозным вопросам, несомненно, связано с обострением идейно-философской борьбы в среде русской интеллигенции начала века. Он пишет по впечатлениям своей жизни на родине матери (город Белев, Тульской губернии), в Новгороде и Петербурге, где был хорошо знаком с кругом интеллигенции, занятой религиозно-философскими и социальными проблемами русской жизни, – Д. С. Мережковским, Д. В. Философовым, 3. Н. Гиппиус и др. Позиция Пришвина в религиозных вопросах отличалась от реакционно-декадентской глубоким знанием народной жизни, здоровым чувством и инстинктом писателя-реалиста, огромным опытом общения с разнообразными людьми.
Писатель обращается к разным формам русской религиозной и духовной жизни, прослеживает ее проявления в различных слоях русского общества – и не может найти настоящей, цельной и чистой веры. Нет искренней, беззаветной веры у монахов Соловецкого монастыря; есть что-то болезненно-кликушеское в собраниях верующих у «братца»; схоластические, в сущности, бессодержательные споры, которые ведут члены различных сект, не дают ответа на вопросы смысла жизни, роли человеческого «я» в обществе.
Образ «светлого иностранца» возникает у Пришвина из обстановки ученых споров среди участников Религиозно-философского общества, собрания которого проводились в Петербурге в 1901–1915 годах. Идеи Д. С. Мережковского о реабилитации в глазах верующих русской православной церкви за счет приобщения народа к «подлинным» ценностям христианства Пришвин и оценивает в очерках. «Иностранцем» он иронически называет Мережковского, не знающего народа, судящего о нем умозрительно.
Отобразив в своем произведении религиозные искания представителей самых разных слоев русского общества, автор приходит к выводу схоластические религиозно-философские теории, оторванные от жизни, заводят людей в тупик, мешают им найти свое счастье в действитель ности.
Идея страдания, проповедуемая идеологами «чана» (то есть совокупного «погружения» в пучину жизненной грязи и мук), требует особого внимания, по Пришвину – опасна своим скепсисом и отказом от личностного начала. Знакомясь с основами учения сект «Голгофского христианства» и «Нового Израиля», писатель подчеркивает трагический разрыв между идеей повторения пути «Голгофы» каждым человеком ради спасения и реальным строительством новой жизни.
Очерки, вошедшие в сборник «Заворошка», отражают разные стороны действительности, таящей в себе коренные социальные перемены, доносят до нас атмосферу той эпохи.
Тексты печатаются по изданию: М. Пришвин. Заворошка. Отклики жизни. М., 1913.
Заворошка*
Впервые опубликовано: М. Пришвин. Заворошка. Отклики жизни. М., 1913.
Недотыкомка – образ романа Ф. К. Сологуба «Мелкий бес» (1907), символ неуловимого, гадкого и скользкого начала.
Одолеют или задавят их? – Речь идет о событиях революции 1905 г. Стр. 637. Прасолы – скупщики скота, сырья и др., оптовые торговцы.
Манифест 17 октября в деревне*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1905, 26 ноября.
Манифест 17 октября. – См. коммент. к с. 573.
Читается третий манифест о выкупных платежах. – Имеется в виду царский манифест от 3 ноября 1905 г., по которому крестьяне освобождались от выкупных платежей за землю после реформы 1861 г. (с января 1906 г. крестьяне освобождались от половины платежей, а с 1 января 1907 г. – полностью).
Как я укреплял тещу Никифора*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1909, 14, 18 июля.
Я про новый закон о земле, про укрепление наделов. – Правительственный указ сенату 9 ноября 1906 г. о разрешении крестьянам выходить из общины и закреплять используемую ими землю в личную собственность – «укреплять» ее. Впоследствии правила землепользования от 4 марта 1906 г., утвержденные Государственной думой, Государственным советом и царем, стали новым законом 29 мая 1911 г.
Этот закон против пятой заповеди – евангельской заповеди о любви к ближнему.
Коклюшки – кустарное приспособление для вязания.
«Моряк» – деревенский босяк, люмпен-пролетарий.
Первое освобождение было от кнута, второе освобождение от красной шапки и третье будет освобождение земли. – Так названа отмена крепостного права в 1861 г., замена рекрутской повинности с двадцатипятилетним сроком службы в армии введением всеобщей воинской повинности в 1874 г.; в третьем случае имеется в виду надежда крестьян на передачу им помещичьей земли.
Пара тут! – Непаханая, отдыхающая земля.
Полодни бегут! – Полдни, полудни, полыдни – название южного ветра (а также середины дня). «Полодни бегут» – движение нагретого воздуха над пашней.
Мужики жеребьями попутались, делятся. – Жеребьевка – обычный способ распределения участков земли между крестьянами.
Акциз – государственный налог.
Казни были. – Имеется в виду библейское сказание о казнях, которые послал бог, чтобы заставить фараона разрешить еврейскому народу покинуть Египет: воды Нила превратились в кровь, невиданно размножились жабы, мухи, пошел мор на скот, тела людей покрылись нарывами и т. д. Самой страшной казнью было избиение богом Яхве первородных младенцев у всех египтян. Исход из Египта, согласно Библии, происходил под руководством Моисея, вождя еврейского народа.
Генри Джордж (Джорж Генри; 1839–1897) – американский экономист, публицист, радикал, пропагандист буржуазных реформистских взглядов среди рабочих, автор идеи «единого земельного налога» как средства достижения всеобщего достатка.
Стровка и попута – раздоры и путаница.
Как быть с мужиками?*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1909, 23 июля.
Они в самодельных «дипломатах»… – «Дипломат» – кустарная верхняя одежда.
Землеустроительные комиссии – учреждения, созданные повсеместно для ликвидации общинного землевладения.
Сей, велит, люцерну, или могар, или томашлак… – Клевер, томашлак, люцерна, могар – названия урожайных кормовых трав и удобрений.
…привяжи овцу к колу. – Речь идет о стойловом содержании овец, при отсутствии выпасов из-за «укрепления» земли по новому закону.
…прямо через банк (не чрез комиссии)… – Имеется в виду так называемый Крестьянский банк, учрежденный согласно указу 9 ноября 1906 г. для купли-продажи земли.
Дубовый дол*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1909, 1 августа.
…утренник побелил зеленя… – Утренний мороз покрыл инеем хлебные всходы.
…земли болтущей! – Не занятой никем земли.
…не пелена к пелене… – Пелена – плоскость стены.
При новом хозяйстве… можно иметь только меринов. – Имеется в виду невозможность свободного содержания конского молодняка из-за отсутствия свободной земли для выпаса.
…будет забастовка… и переделим на три клина, все опять смешаем… – Здесь говорится о стремлении многих крестьян возвратиться к старой общинной системе трехполья, при котором одна часть земли занята под семенной хлеб, вторая – под хлеб для прокормления семьи, третья – под усадьбу, луга и выпасы для скота.
Старик был бурмистром… – Название управляющего помещичьим имением.
…всякую лядвинку учтут… – Пустую заросшую землю.
Дружная весна*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1910, 23 мая.
…читает новую книгу о мужиках «Наше преступление». – Книга писателя-народника И. А. Родионова «Наше преступление (Не бред, а быль). Из современной народной жизни» (СПб., 1910), рисующая картину разложения русской пореформенной деревни.
Хутора – обособленные земельные участки с усадьбой владельца.
…из яичника стал медоломом… – то есть из торговца яйцами превратился в торговца медом.
Тютенькин лог*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1910, 8 августа. Стр. 681. О ржанище – поле, засеянное рожью.
На Черном море Потемкина знал, и Шмидта, и Дрейфуса. – Упоминаются: восставший 14 июня 1905 г. броненосец Черноморского флота «Потемкин»; руководитель восстания моряков на крейсере «Очаков» лейтенант П. П. Шмидт (1867–1906); А. Дрейфус – офицер французского генерального штаба, по национальности еврей, обвиненный в 1894 г. французской реакционной военщиной в шпионаже в пользу Германии. Под давлением общественного мнения реабилитирован в 1906 г.
…причины семейных разделов… – Имеется в виду выделение членов крестьянской семьи на собственные участки земли.
…там по гари работают «смыгом»… – Расчистка лесного участка после выжигания леса под вспашку.
На светлой земле*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1910, 22 августа. Стр. 694. Пуня – хранилище для сена, сеновал.
Адам и Ева*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1909, 8, 15, 19 ноября, с подзаголовком «Сибирские впечатления». В сборнике «Моя страна» (М., Географгиз, 1948, 1954), во втором томе Избранных произведений и в последующих изданиях очерк печатался с небольшими изменениями в тексте.
…рисуют себе синюю птицу… – Имеется в виду название и образ-символ одноименной драмы М. Метерлинка (1862–1949).
Бочкари и овчинники – ремесленники, мастера по выделке деревянной посуды и овчин.
…то – кацапы… – Малороссийское прозвище русских.
…мечты… о толстовских колониях… – Имеются в виду попытки сторонников толстовской идеи опрощения и сближения с народом создать поселения-коммуны.
…перед самим Куропаткиным… – А. Н. Куропаткин (1848–1925) – русский военачальник, генерал; участвовал в завоевании Средней Азии. В 1898–1904 гг. – военный министр.
Аркадия – область в центральной части Пелопоннесса (Греция); традиционно изображалась райской страной с патриархальной простотой нравов. В переносном значении – счастливая страна.
Питаясь кусочками сухого курта и айраком… – Пища кочевников: домашний овечий сыр и кислое молоко.
Первые земледельцы*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1909, 17 апреля.
Мы едем будто в стране Авраама… – Авраам – легендарный праотец еврейского народа; был скотоводом.
Все правда в Талмуде… – Талмуд – собрание догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма. Сложился в IV в. до н. э. – V в. н. э.
У Чертова озера*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1910, 25 марта.
Дрожина – продольный брус у повозки.
…запел агент Зингера, вояжер… – торговый представитель электротехнической компании США «Зингер», основанной в 1863 г., ведущей торговлю швейными машинами, текстильным оборудованием, мебелью и др.
Спас-Чекряк*
Впервые опубликовано: М. Пришвин. Заворошка. Отклики жизни. М., 1913.
…приходилось говорить о певце былин… – Речь идет об Иване Трофимовиче Рябинине (1844–1909), сказителе былин, жителе деревни Гарницы Онежской губернии.
…старец отец Амвросий… – старец (то есть наставник) Оптина монастыря близ г. Козельска, Калужской губернии, Амвросий (в миру А. М. Гренко; 1812–1894), руководитель монастырского издательства, один из прототипов старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Амвон – возвышение в храме для проповедника. Царские врата – двери алтаря.
…как евангельская кровоточивая… – Женщина, исцеленная, согласно Евангелию, Христом благодаря своей вере.
Отруб – земля, находящаяся в личном владении крестьянина после выхода из общины и сведенная в один участок.
…и сам Христос удалился в другое место, когда ему не верили. – Согласно Евангелию, Христос покинул те места, в которых люди не верили в его миссию, не сотворив в них чудес.
…в Шамардиной пустыни… – Женский монастырь в Шамардпно, в четырнадцати верстах от Оптиной пустыни; основан оптинским старцем Амвросием.
…золото отца Амвросия… – Имеется в виду авторитет оптинекого старца.
О братцах*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1910, 8 апреля, 22 октября (под названием «Не от мира сего»), 7 ноября (под названием «Земля нового Израиля»).
Петербургский Лурд… – Французский город Лурд упоминается здесь в связи с его репутацией как места чудесных исцелений.
Он родился, а волхвы идут. – Согласно Евангелию, родившегося Христа пришли приветствовать волхвы из далеких восточных стран.
…до «забастовки»… – до событий январской всеобщей забастовки рабочих, начатой в России в знак протеста против расстрела петербургских рабочих 9 января 1905 г.
…при содействии «третьего элемента». – Так Пришвин называет интеллигенцию (см. очерк Пришвина «Земля и власть», газета «Дело народа», 1917, 10 сентября: «Вместо дворян – мужики, и мы все те же бесправные при дворянах и при мужиках интеллигенты – „третий элемент“»).
…в честь альбигойцев… – Так называлось еретическое движение на юге Франции XII–XIII вв., которое объединяло противников католических догматов и церковного землевладения.
Отклики на смерть Толстого*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1910, 12 ноября, 23 ноября; 1911, 19 января. 13 ноября.
…господин с «Новым временем»… – «Новое время» – газета, издателем которой с 1876 г. стал А. С. Суворин. В годы первой русской революции – по отзыву В. И. Ленина, образец «продажных газет»; орган черносотенцев.
…об иноке Пересеете… – Александр Пересвет, монах Троице-Сергиева монастыря, 8 сентября 1380 г. начал битву на Куликовом поле единоборством с татарским богатырем Темир-Мурзой (Челибеем).
«Зеленая палочка» – детская мечта Л. Толстого, символ всеобщего счастья.
…запел «Нагорную проповедь». – Название части Евангелия, в которой Иисусом Христом излагается сущность его учения; часть богослужения.
Иоанн Кронштадтский – Иоанн Ильич Сергиев (1829–1908), протоиерей Андреевского собора в Кронштадте. Его почитатели, образовавшие секту иоаннитов, объявили Иоанна Кронштадтского святым.
Сборная улица*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1911, 7 октября.
Трудовик – название членов «Трудовой группы», мелкобуржуазной демократической фракции в Думе.
Мыл рюмочки у «Яра»… – Известный московский ресторан, открытый в 1826 г. французом Т. Яром на Кузнецком мосту. С середины XIX в. – один из самых модных ресторанов с цыганскими хорами.
Петровский пост – приходится на вторую половину июня.
Силоамская купель – силоамский источник и находящаяся при нем купальня (купель) в юго-восточной части Иерусалима; считается у верующих местом исцеления.
Мироносицы – святые жены, принесшие благовония (миро) ко гробу Христа.
Викарного… – Викарий (лат.) – заместитель епископа.
Илиодор – иеромонах, в миру Сергей Труфапов (род. в 1SS0 г.), получивший в 1905–1906 гг. известность как проповедник черносотенных взглядов.
…Толстого, Джорджа и Рёскина. – Рёскин Джон (1819–1900) – английский теоретик искусства, критик, историк, публицист, обличитель капиталистической цивилизации. Генри Джордж. – См. коммент. к с. 651.
…материалы о жизни Константина Леонтьева. – К. Н. Леонтьев (1831–1891), русский писатель и критик, представитель позднего русского славянофильства, сторонник церковности и монархизма в России («византизма»). В Оптиной пустыни К. Леонтьев принял монашество.
…книги журнала «Паломник». – Издание, предпринятое в России Императорским православным палестинским обществом, учрежденным в 1882 г. для паломников, совершающих путешествия в Палестину.
…после разоблачений Толстого… – Имеется в виду трактат «Что такое искусство», в котором Толстой отрицает искусство Шекспира, как непонятное народу, сословное, искусственное.
Светлый иностранец. – Здесь говорится о Д. С. Мережковском.
О двух крайностях*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1910, 13 октября; 1911, 12 января, 23 июня; 1912, 4 февраля, 9 марта, 18 марта.
Круглый корабль*
Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1911, 1 января.
Примечания
1
М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 19, кн. I. М., «Художественная литература», 1976, с. 33.
(обратно)2
Р. В. Иванов-Разумник. Великий Пан (О творчестве М. Пришвина). – Сочинения, т. 2. СПб., «Прометей», 1911, с. 44, 51.
(обратно)3
А. Блок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.-Л., ГИХЛ, 1962, с. 651.
(обратно)4
Альманах «Феникс», кн. 1. М., 1922, с. 177–178.
(обратно)5
Лешить – делить поле при засеве на полосы.
(обратно)6
Белыми ламбинами называются озера со светлой водой, черными ламбинами – с темной, от темного болотистого дна (Здесь и далее примеч. М. М. Пришвина).
(обратно)7
Райно – рея.
(обратно)8
Девяткой на Выг-озере называется всякая большая волна, но, конечно, не всегда «девятый вал».
(обратно)9
Ливить – спустить курок, потянуть за ливку – собачку.
(обратно)10
Щельями на Севере называются скалы.
(обратно)11
Е. Барсов. Причитания Северного края. Предисловием этой прекрасной книги мы здесь и пользуемся.
(обратно)12
Записано со слов вопленицы Степаниды Максимовны. Выг-озеро, Карельский остров.
(обратно)13
Плёса – спокойное место после порога.
(обратно)14
Бурак – корзина из дранок, новгородская «мостина».
(обратно)15
Пятюготь – значит бесшумно подкрадываться на пятках.
(обратно)16
Лонись – то есть прошлый год.
(обратно)17
Шагарка, или пристав – подставка, с которой стреляет полесник и которую он берет с собой из дому.
(обратно)18
Возникновение странного выражения «нанять в казаки» мне хочется связать с преданием о панах (см выше). Казаки долго грабили местных жителей, но потом, укрываясь от преследований, по-видимому, сами попали в зависимое положение от населения. Мне рассказывали, что в старину этих укрывавшихся в лесу людей крестьяне запрягали в соху вместо лошадей.
(обратно)19
«Закрыть корову» на языке колдуна означало сделать ее невидимой.
(обратно)20
И. Филиппов. История Выговской пустыни.
(обратно)21
Крошни – приспособление для носки тяжестей на спине.
(обратно)22
Автор, конечно, не придает этому факту общего значения.
(обратно)23
Пешня – орудие вроде лома, употребляется для пробивания льда во время рыбной ловли зимой.
(обратно)24
Автор, склонный смотреть на староверство как на усиленное православие, противополагает ему «раскол» лишь в условном значении.
(обратно)25
Автор передает здесь не воображаемую возможность, но точно изученную им действительность.
(обратно)26
Ропаками поморы называют высокие плавучие льдины. Несяками – льдины, задерживающиеся на мелях (кошках).
(обратно)27
Охотничья куртка (нем.). – Ред.
(обратно)28
Услуга за услугу (фр.). – Ред.
(обратно)29
Наживка – рыбка, вообще все, что насаживается на крючок для ловли рыбы.
(обратно)30
Ярус – тоже, что перемет, которым ловят рыбу, только большой, в версту длины и больше.
(обратно)31
Высокая гора, с которой на Мурмане промышленники смотрят в море. На глядне всегда ставится большой крест.
(обратно)32
Промысловая лодка.
(обратно)33
Мальчиков, участвующих в рыбной ловле, называют зуйками.
(обратно)34
Пожалуйста (норвеж.) – Ред.
(обратно)35
Добродушный саксонец (нем.). – Ред.
(обратно)36
Кто вы? (нем.) – Ред.
(обратно)37
Не желаете ли? (нем.) – Ред.
(обратно)38
Что это? (нем.) – Ред.
(обратно)39
Храни вас бог (нем.). – Ред.
(обратно)40
Хващение – от хвастать.
(обратно)41
На Севере погода означает непогоду.
(обратно)42
Журавина – по-новгородскому – клюква.
(обратно)43
Молодой человек не умеет читать (нем.). – Ред.
(обратно)44
Бавятся – пробавляются, кормятся.
(обратно)45
Язва – барсук.
(обратно)46
«Моряк» – значит деревенский пролетарий.
(обратно)47
Живет не в соответствии с занимаемым положением (нем.). – Ред.
(обратно)48
Великолепный мужчина (лат.).
(обратно)49
В городе Новгороде.
(обратно)50
Ошибка (лат.). – Ред.
(обратно)


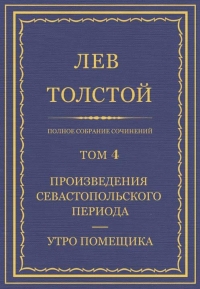
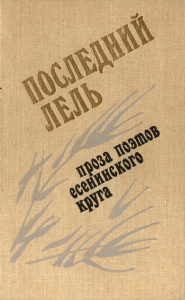
Комментарии к книге «Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком», Михаил Михайлович Пришвин
Всего 0 комментариев