Михаил Михайлович Пришвин Собрание сочинений в восьми томах Том 4. Жень-шень. Серая Сова. Неодетая весна
Жень-шень*
I
Звери третичной эпохи земли не изменили своей родине, когда она оледенела, и если бы сразу, то какой бы это ужас был тигру увидеть свой след на снегу! Так остались на своей родине и страшные тигры, и одно из самых прекрасных в мире, самых нежных и грациозных существ – пятнистый олень, и растения удивительные: древовидный папоротник, аралия и знаменитый корень жизни Женьшень. Как не задуматься о силе человека на земле, если даже оледенение субтропической зоны не могло выгнать зверей, но от грохота человеческих пушек в 1904 году в Маньчжурии они бежали, и, говорят, тигров встречали после далеко на севере, в якутской тайге. Вот и я тоже, как звери, не выдержал. Как гудел роковой снаряд, подлетая к нашему окопу, я слышал и отчетливо помню и посейчас, а после – ничего. Так вот люди иногда умирают: ничего! За неизвестный мне срок все переменилось вокруг: живых не было, ни своих, ни врагов, вокруг на поле сражения лежали мертвые люди и лошади, валялись стаканы от снарядов, обоймы, пустые пачки от махорки, и земля была, как оспинами, покрыта точно такими же ямами, как возле меня. Подумав немного, я, химик-сапер, вооруженный одним револьвером, выбрал трехлинейку получше, набрал в свой ранец патронов побольше и не стал догонять свою часть. Я был самый усердный студент-химик, меня сделали прапорщиком, я долго терпел и, когда воевать стало бессмысленно, взял и ушел, сам не зная куда. Меня с малолетства манила неведанная природа. И вот я будто попал в какой-то по моему вкусу построенный рай. Нигде у себя на родине я не видал такого простора, как было в Маньчжурии: лесистые горы, долины с такой травой, что всадник в ней совершенно скрывается, красные большие цветы – как костры, бабочки – как птицы, реки в цветах. Возможно ли найти еще такой случай пожить в девственной природе по своей вольной волюшке! Отсюда недалеко была русская граница с точно такой же природой. Я пошел в ту сторону и скоро увидел идущие в гору на песке по ручью бесчисленные следы коз: это валила к нам в Россию на север через границу маньчжурская ходовая[1] коза и кабарга. Долго я не мог их догнать, но однажды, за перевалом, где берет начало речка Майхэ в горной теснине высоко над собой, на щеке увидел я одного козла, – он стоял на камне и, как я это понял, почуял меня и стал по-своему ругаться. В то время я уже истратил все свои сухари и дня два питался белыми круглыми грибками, которые потом, созревая, пыхают под ногами: эти грибки, оказалось, были сносною пищей и возбуждали, почти как вино. Козел мне теперь на голодуху был очень кстати, и я стал в него целиться особенно тщательно. Пока мушка бродила по козлу, мне удалось рассмотреть, что пониже козла под дубом лежал здоровенный кабан, и козел на него ругался, а не на меня. Я перевел мушку на кабана, и после выстрела откуда-то взялось и помчалось целое стадо диких свиней, а на хребте, на обдуве, всполыхнулась не видимая мне вся ходовая коза и помчалась стремительно вдоль Майхэ к русской границе. В той стороне виднелись на сопках две фанзы с небольшими пятнами китайской пашни. Хозяева-китайцы охотно взяли у меня кабана, покормили и дали мне за мясо рис, чумизу и еще кое-какое продовольствие. После того как оказалось, что патроны – та же валюта в тайге, я стал чувствовать себя очень хорошо, довольно скоро перешел русскую границу, перевалил какой-то хребет и увидел перед собой голубой океан. Да, вот за одно только за это, чтобы увидеть с высоты перед собой голубой океан, можно бы отдать много трудных ночей, когда приходилось спать на слуху, по-звериному, и есть, что только придется достать себе пулей. Долго я любовался с высоты, считая себя по всей правде счастливейшим в мире человеком, и, закусив, начал с гольцов спускаться в кедровник, а из кедровника мало-помалу вступил в широколиственный лес маньчжурской приморской природы. Мне сразу же особенно понравилось бархатное дерево своей простотой, почти как наша рябина и в то же время не рябина, а бархат: пробковое дерево. На серой коре одного из этих деревьев были черные от времени русские слова: «Твоя ходи нельзя, чики-чики будет!» Что было делать? Прочитав еще раз, я подумал немного и, соблюдая таежный декрет, круто повернул назад, чтобы найти другую тропу. Между тем меня наблюдал человек за деревом, и когда я повернул, прочитав запрещение, он понял, что я неопасный человек, вышел из-за дерева и замотал головой в стороны, чтобы я его не боялся.
– Ходи, ходи! – сказал он мне.
И кое-как по-русски объяснил мне. Три года тому назад этот распадок был захвачен китайскими охотниками: тут они ловили изюбров и пятнистых оленей, а это написали для страху, чтобы другие не ходили тут и не пугали зверей.
– Ходи-ходи, гуляй-гуляй! – с улыбкой сказал мне китаец. – Ничего не будет.
Эта улыбка и пленила меня, и в то же время привела в некоторое замешательство. В первый момент китаец мне показался не только старым, но даже очень древним человеком: лицо его было сплошь покрыто мелкими морщинами, цвет кожи был землистый, глаза, едва заметные, прятались в этой сморщенной коже, похожей на кору старого дерева. Но когда он улыбнулся, то вдруг загорелись черным огнем прекрасные человеческие глаза, кожа разгладилась, оцветились губы, сверкнули еще белые зубы, и все лицо во внутреннем смысле своем стало юношески свежим и детски доверчивым. Так бывает: иные растения в непогоду или на ночь закрываются серыми щитками, а когда станет хорошо, открываются. С каким-то особенным родственным вниманием посмотрел он на меня.
– Мал-мало кушать хочу, – сказал он и повел меня в свою маленькую фанзу у ручья, в распадке, под тенью маньчжурского орехового дерева с огромными лапчатыми листьями.
Фанзочка была старенькая, с крышей из тростников, обтянутых от сдува тайфунами сеткой; вместо стекол на окнах и на двери была просто бумага; огорода вокруг не было, зато возле фанзы стояли разные орудия, необходимые для выкапывания Жень-шеня: лопаточки, заступы, скребки, берестяные коробочки и палочки. Возле самой фанзы ручья не было видно, он протекал где-то под землей, под грудой навороченных камней, и так близко, что, сидя в фанзе с открытой дверью, можно было постоянно слушать его неровную песню, иногда похожую на радостный, но сильно приглушенный разговор. Когда я прислушался в первый раз к этому разговору, мне представилось, будто существует «тот свет» и там теперь все разлученные, любящие друг друга люди встретились и не могут наговориться днем и ночью, недели, месяцы… Мне суждено было много лет провести в этой фанзе, и за эти долгие годы я не мог привыкнуть к этим разговорам, как перестал замечать после концерты кузнечиков, сверчков и цикад: у этих музыкантов до того однообразная музыка, что через самое короткое время их перестаешь слышать, – напротив, они, кажется, для того только и созданы, чтобы отвлекать внимание от движения собственной крови и тишину пустыни делать полной, какой никогда бы она не могла быть без них; но я никогда не мог забыть разговор под землей оттого, что он всегда был разный, и восклицания там были самые неожиданные и неповторимые.
Искатель корня жизни приютил меня, покормил, не спрашивая, откуда я и зачем сюда пришел. Только уж когда я, хорошо закусив, добродушно поглядел на него и он ответил мне улыбкой, как знакомый и почти что родной человек, он показал рукой на запад и сказал:
– Арсея?
Я понял сразу его и ответил:
– Да, я из России.
– А где твоя Арсея? – спросил он.
– Моя Арсея, – сказал я, – Москва. А где твоя?
Он ответил:
– Моя Арсея Шанхай.
Конечно, так пришлось и сошлось в нашем языке «моя по твоя» совершенно случайно, что и у него, китайца, и у меня, русского, была как будто общая родина Арсея, но потом, через много лет я эту Арсею стал понимать здесь, у ручья, с его разговорами и считать просто случайностью, что когда-то Арсея Лувена была в Шанхае, а моя Арсея в Москве…
Всего только шагах в двадцати от фанзы начиналась непролазная крепь, дубняк и бархатное дерево, мелколиственный клен, граб и тисе, крепко-накрепко перевитые лианами лимонника и винограда, колючками с высокой, саженной полынью и той самой сиренью, которая встречается у нас только в садах. Лувен, спускаясь часто за водой, пробил здесь тропу, и эта едва заметная тропка, обходя крепкое место, вскоре приводит к обрыву, и тут весь разговор, слышимый возле фанзы, как бы на том свете, вырывается наружу: поток, являясь на белый свет из-под скалы, сразу же разбивается о встречный утес и летит вниз радужной пылью. Но и вся широкая отвесная скала немного сочится, всегда мокрая, всегда блестит, и эти ее бесчисленные струйки сливаются внизу в открытый и веселый поток. Никогда не забуду я этого счастья! Какая награда мне была за весь мой нелегкий переход искупаться в этом потоке! Там, назади, за хребтом гнус мне жить не давал, а тут, у самого моря, уже не было ни комаров, ни слепней, ни мошек. Пониже того места, где я купался, был водоворот в камнях; тут я оставил в стирку свое белье, сам же сел в купальню, а на голову мне сверху летели брызги, как душ. Вот этот шум падающей воды и скрадывал от животных всякий звук от ужасного для них человека, они доверчиво подходили к потоку напиться, и даже в самый первый раз я кое-что заметил в этой приморской тайге. Под сенью широколиственных деревьев на тенелюбивых травах всюду были разбросаны зайчики богатого солнца сорок второй параллели. Летом – время туманов, только в редчайшие дни это солнце показывается в приморье во всей своей возможной славе и силе, и так счастливо оно встретило меня в этот день. Среди солнечных зайчиков невозможно бы мне было заметить совершенно такие же пятна на красной шерсти животных, если бы они не двигались: пятнистые олени, полежав, наверно, где-нибудь тут вблизи, встали и пошли, перемещая свои пятна среди солнечных зайчиков, на водопой. Кто не слышал, приближаясь к востоку, об этом редчайшем звере приморской тайги, сохраняющем будто бы в своих рогах, когда они молоды и насыщены кровью, целебную силу, возвращающую людям молодость и радость? Сколько легенд я слышал об этих пантах, столь драгоценных у китайцев, что даже всем сказкам и небылицам придаешь какое-то значение. И вот эти самые знаменитые панты высунулись между двумя огромными листьями маньчжурского орехового дерева у самой воды, они были бархатистые, красно-персикового цвета, на живой голове с большими прекрасными серыми глазами. И только Серый Глаз наклонился к воде, рядом показалась безрогая голова с еще более прекрасными глазами, но только не серыми, а черно-блестящими. Около этой ланки-самки оказался молодой олень с тонкими шильцами вместо пантов и еще совсем маленький олененок, крошечная штучка, но тоже с такими же пятнами, как у больших; этот маленький залез прямо в ручей со всеми своими четырьмя копытцами. Мало-помалу олененок, подвигаясь вперед от камушка к камушку, стал как раз между мной и матерью, и когда она захотела проверить его и посмотрела, то взгляд ее как раз попал на меня, сидящего истуканом в брызгах воды. Она замерла, окаменела, изучая меня, угадывая, камень я или могу шевельнуться. Рот ее был черный и для животного чрезвычайно маленький, зато уши необыкновенно большие, такие строгие, такие чуткие, и в одном была дырочка: светилась насквозь. Никаких других подробностей я не мог заметить, так захватили все мое внимание прекрасные черные блестящие глаза – не глаза, а совсем как цветок, – и я сразу понял, почему китайцы этого драгоценного оленя зовут Хуа-лу, значит – олень-цветок. Так трудно было представить себе того человека, кто, увидев такой цветок, прицелился в него из ружья и пустил свою страшную пулю: дырочка от пули так и светилась. Трудно сказать, сколько времени мы смотрели друг другу в глаза, – кажется, очень долго! Я едва переводил дух, мне становилось все трудней и трудней, и, вероятно, от этого волнения блики на глазах моих двигались. Хуа-лу это заметила, медленно стала поднимать переднюю ногу, очень тонкую, с маленьким острым копытцем, согнула ее и, вдруг с силой выпрямив, топнула. Тогда Серый Глаз поднял свою голову и тоже стал смотреть на меня с таким выражением, будто он с большой высоты хочет разглядеть какую-то неприятную мелочь и, не будучи в силах по природе своей замечать гадкие подробности жизни, смотрел, сохраняя достоинство властителя оленей, и только не говорил, как говорят иногда высокопоставленные маленьким просителям: «Я все готов сделать вам, только поскорее выясните, в чем тут дело, не самому ж мне выяснять!» В то время как топнула Хуа-лу и Серый Глаз поднял в недоумении свою величественную голову с короткими бархатистыми пантами, там, чуть-чуть пониже, много чего-то шевелилось и среди других голов одна большая подалась вперед, и показался весь олень с черной, отчетливой, как ремень, полосой на спине. Даже издали можно было понять, что Черноспинник не по-доброму смотрел, и в глазах его, черных и сумрачных, была какая-то недобрая затея. Не только все эти олени возле Черноспинника по сигналу Хуа-лу стали неподвижно созерцать меня, но и олененок из ручья, подражая взрослым, точно так же старался окаменеть. Мало-помалу он стал утомляться, а кроме того, конечно, его, как и всех оленей, ели клещи, он не выдержал скуки, поднял ногу и почесался. Тогда я тоже не выдержал, улыбнулся, и тут Хуа-лу уже поняла и решительно и так сильно топнула ногой, что камень отвалился и булькнул в воду с брызгами. После того она вдруг шевельнула своими черными губами и совершенно по-человечески свистнула, а когда повернулась и бросилась бежать, то раздула свою особенную широкую белую салфетку, чтобы следующему за ней оленю можно было следить, куда она будет мчаться в кустах. За матерью бросились саёк-олененок[2], Серый Глаз, Черноспинник и другие олени. Когда же все умчались, прямо на середину ручья выскочила хорошенькая ланка, остановилась и как будто спрашивала своей хорошенькой мордочкой: «Что случилось, куда они убежали?» Вдруг она бросилась через ручей в совершенно противоположную сторону, скоро очутилась на половине щеки распадка, посмотрела на меня оттуда сверху, опять бросилась, опять посмотрела со всей высоты и скрылась за чертой черной скалы и синего неба.
II
Лувен в глубоком распадке спрятал свою фанзочку от страшных тайфунов приморского края, но если подняться на щеку распадка вверх метров на сто, оттуда видно море, Тихий океан. Наш распадок Чики-чики очень недалеко от того места, где я встретился с оленями, входил в большую падь Зусухэ, вода здесь становилась много спокойней, падь постепенно переходила в долину, и река спокойно и торжественно, закончив свой мучительный бег по горным распадкам и падям, вливалась в океан.
На другой же день, как я прибыл сюда, в бухту Зусухэ пришел пароход с переселенцами и, пока они устраивались, стоял тут две недели, и вот за эти две недели и совершилось то самое большое событие моей жизни, о котором я и буду рассказывать. Та долина, где бежит Зусухэ, вся сплошь покрыта цветами, и тут я научился понимать трогательную простоту рассказа каждого цветка о себе: каждый цветок в Зусухэ представляет собою маленькое солнце, и этим он говорит всю историю встречи солнечного луча с землею. Если бы я мог о себе рассказать, как эти простые цветы в Зусухэ! Были ирисы – от бледно-голубых и почти что до черных, орхидеи всевозможных оттенков, лилии красные, оранжевые, желтые, и среди них везде звездочками ярко-красными была рассыпана гвоздика. По этим долинам, простым и прекрасным цветам всюду летали бабочки, похожие на летающие цветы, желтые с черными и красными пятнами аполлоны, кирпично-красные, с радужными переливами крапивницы и огромные удивительные темно-синие махаоны. Некоторые из них – я тут только это впервые и видел – могли садиться на воду и плыть, а потом опять поднимались и летали над морем цветов. Пчелы реяли на цветах, осы; с шумом носились по воздуху мохнатые шмели с черным, оранжевым и белым брюшком. Случалось, когда я заглядывал в чашечку цветка, там оказывалось такое, чего я никогда не видал и назвать до сих пор не могу: ни шмель, ни пчела, ни оса. А по земле между цветами всюду юлили проворные жужелицы, ползали черные могильщики, таились огромные реликтовые жуки, собираясь при случае вдруг подняться на воздух и прямо лететь, никуда не сворачивая. Среди всех этих цветов и кипучей жизни долины только я один, так мне казалось, не мог прямо смотреть на солнце и рассказывать просто, как они. Я могу рассказать о солнце, избегая встречаться с ним глазами. Я человек, я слепну от солнца и могу рассказывать, лишь окидывая родственным вниманием все разнообразные освещенные им предметы и все лучи их собирая в единство.
С высокой скалы над нашей фанзой я заметил пароход, и мне захотелось посмотреть на людей. Пока я спустился к тому месту, где наш ручей Чики-чики вливается в Зусухз, стало очень жарко, я устал и захотел отдохнуть. Тут, на месте слияния ручья и реки Зусухэ, на берегу лианы винограда до того опутали молодые маньчжурские ореховые Деревья, что некоторые из них превратились в сплошные темно-зеленые, непроницаемые для солнечных лучей шатры. Мне очень захотелось проникнуть внутрь какого-нибудь шатра, и если там окажется хорошо и прохладно, посидеть и отдохнуть. Не так было легко проникнуть туда через целую сеть спущенных к земле виноградных, довольно толстых лиан. Раздвинув лианы, однако, я увидал вокруг ствола заплетенного и совершенно невидного снаружи дерева довольно просторную сухую площадку, и тут в большой прохладе сел я на камень, спиной прислонясь к серому стволу дерева. Конечно, внутри шатра не было так непроницаемо для солнечных лучей, как казалось снаружи, зелень здесь светилась как бы сама от себя, и всюду были солнечные зайчики. Была полная тишина в воздухе, и потому я через некоторое время с большим удивлением заметил какое-то движение, перемещение среди солнечных зайчиков, как будто кто-то снаружи то заслонял, то опять открывал солнечные лучи. Осторожно я раздвинул побеги винограда и увидел всего в нескольких шагах от себя осыпанную своими собственными зайчиками ланку. К счастью, ветер был на меня, и на таком расстоянии даже я мог чуять оленя. Но что было бы, если бы ветер дунул от меня на нее! Мне даже страшно стало, что она по какому-нибудь моему нечаянному шороху догадается. Я почти не дышал, а она приближалась, как все очень осторожные звери, – один шаг ступит и остановится и свои необыкновенно длинные и сторожкие уши настраивает в ту сторону, где что-нибудь причуивает по воздуху. Раз я уже подумал было, что все кончилось: она поставила уши прямо против меня, и тут я заметил на левом ухе дырочку от пули и с большой радостью, как будто друга встретил, узнал в ней ту самую ланку, которая топала на меня возле горного ручья. В недоумении или раздумье она теперь, как и тогда, подняла переднюю ногу и так осталась, и если бы я задел своим дыханием хоть один только виноградный листик, она бы топнула и скрылась. Но я замер, и она медленно опустила ногу, сделала один и еще один шаг ко мне. Я смотрел ей прямо в глаза, дивился их красоте, то представляя себе такие глаза на лице женщины, то на стебельке, как цветок, как неожиданное открытие среди цветов Зусухэ. Тут я еще раз понял необходимость имени олень-цветок, и мне было радостно думать, что много тысяч лет тому назад никому не известный желтолицый поэт, увидев эти глаза, понял их как цветок, и я теперь, белолицый, их понимаю тоже как цветок; радостно было и оттого, что я не один и что на свете есть бесспорные вещи. Мне стало понятно и особенное предпочтение китайцами пантов именно этого оленя, а не грубого изюбра или марала: правда, мало ли на свете полезных и даже целебных веществ, но так редко бывает на свете, что полезное в то же время и совершенно по красоте. Между тем Хуа-лу, сделав еще несколько шагов к моему шатру, вдруг поднялась на задние ноги, передние положила высоко надо мной, и через виноградные сплетения просунулись ко мне маленькие изящные копытца. Мне было слышно, как она отрывала сочные виноградные листы, любимое кушанье пятнистых оленей, довольно приятное и на наш человеческий вкус. По ее большому вымени, из которого сочилось молоко, я вспомнил о ее олененке, но, конечно, не посмел наклониться и посмотреть из дырочки по сторонам: тут где-то он должен быть непременно. Как охотника, значит тоже зверя, меня очень соблазняло – тихонечко приподняться и вдруг схватить за копытца оленя. Да, я сильный человек и чувствую, что, возьмись я крепко-накрепко обеими руками повыше копытцев, я оборол бы ее и сумел бы связать поясным ремешком. Всякий охотник поймет мое почти неудержимое желание схватить зверя и сделать своим. Но во мне еще был другой человек, которому, напротив, не надо хватать, если приходит прекрасное мгновение, напротив, ему хочется то мгновенье сохранить нетронутым и так закрепить в себе навсегда. Конечно, все мы люди, и понемногу у нас у всех это есть: ведь и самый страстный охотник с трудом скрепит в себе слабое сердце, когда простреленный зверь умирает, и самый нежный поэт хотел бы присвоить и цветок, и оленя, и птицу. Я как охотник был себе самому хорошо известен, но никогда я не думал, не знал, что есть во мне какой-то другой человек, что красота, или что там еще, может меня, охотника, связать самого, как оленя, по рукам и ногам. Во мне боролись два человека. Один говорил: «Упустишь мгновенье, никогда оно тебе не возвратится, и ты вечно будешь о нем тосковать. Скорей же хватай, держи, и у тебя будет самка Хуа-лу, самого красивого в мире животного». Другой голос говорил: «Сиди смирно! Прекрасное мгновенье можно сохранить, только не прикасаясь к нему руками». Это было точно как в сказке, когда охотник прицелился в лебедя – и вдруг слышит мольбу не стрелять ее, подождать. И потом оказывается, что в лебеди была царевна, охотник удержался, и вместо мертвого лебедя потом перед ним Явилась живая прекрасная царевна. Так я боролся с собой и не дышал. Но какой ценой мне то давалось, чего мне стоила эта борьба! Удерживаясь, я стал мелко дрожать, как собака на стойке, и, возможно, это дрожание мое звериное перешло в нее, как тревога. Хуа-лу тихонечко вынула из виноградных сплетений копытца, стала на все свои тонкие ноги, поглядела с особенным вниманием в темноту кущи мне прямо в глаза, повернулась, пошла, вдруг остановилась, оглянулась; откуда-то взялся и подошел к ней олененок, вместе с ним она довольно долго смотрела мне прямо в глаза и потом скрылась в кустах таволожки.
III
Река из горной тайги каждую весну и в каждое наводнение летом и осенью тащит на морской берег множество подмытых и сваленных тайфунами лесных великанов – тополей, кедров, грабов, ильмов – и засыпает их песком, и так много песку, и так много лет проходит, что самое море отступает и образуется бухта.
Сколько же сот лет прошло, пока работой моря и реки Зусухэ завернулась полукругом линия моря и суши? Сколько морских зверей перебывало на маленьком каменном острове посредине бухты, пока наконец гудок парохода не нарушил тишину морской пустыни и все нерпы от страха не попрыгали с острова в воду?
У самого моря из песка, будто спина окаменелого чудовища, виднелось полузанесенное песком огромное дерево; от вершины его остались два громадных сука, и они торчали черные, узловатые, рассекая до горизонта голубое небо. На малых ветвях этого дерева висели белые круглые хорошенькие коробочки, – это были выброшенные тайфунами скелеты морских ежей. Какая-то женщина сидела спиной ко мне и собирала себе в баульчик эти подарки моря. Вероятно, я был еще под сильным влиянием грациозного животного возле дерева, опутанного виноградом, что-то в этой незнакомой мне женщине напомнило мне Хуа-лу, и я был уверен, что вот сейчас, как только она обернется, я увижу те прекрасные глаза на лице человека. Я и сейчас не могу понять, из чего это выходило и складывалось, ведь если мерить, рисовать, то будет совсем не похоже, но мне было так, что вот, как только она обернется, непременно явится передо мной олень-цветок Хуа-лу, воплощенная в женщине. И дальше, как бы в ответ моему предчувствию, как в сказке о царевне-лебеди, началось превращение. Глаза у нее были до того те же самые, как у Хуа-лу, что все остальное оленье – шерсть, черные губы, сторожкие уши – переделывалось незаметно в человеческие черты, сохраняя в то же время, как у оленя, волшебное сочетание, как бы утвержденную свыше нераздельность правды и красоты. Она глядела на меня настороженная, удивленная, казалось – вот-вот топнет на меня, как олень, и убежит. Сколько разных чувств проходит во мне, сколько мыслей туманом проносится, и в них как будто каких-то решений в мире неясного и непонятного, но слов, совершенно правдивых и верных, я и сейчас не найду и не знаю, придет ли в этом когда-нибудь час моего освобождения. Да, я так бы и сказал, что скорей всего слово свобода будет самое близкое название тому особенному состоянию, когда, поняв красоту необыкновенного зверя, я вдруг получил возможность продолжать это бесконечно далеко в человеке. Было – как будто я из тесного распадка вышел на долину Зусухэ, покрытую цветами, с бесконечным продолжением ее в голубой океан.
И вот еще самое главное, было два человека. Когда Хуа-лу просунула мне копытца через виноградные сплетения, один был охотник, назначенный схватить ее сильными руками повыше копыт, и другой – неизвестный еще мне человек, сохраняющий мгновение в замирающем сердце на веки веков. Так вот я без колебания теперь скажу, что именно так, именно тем неизвестным мне самому человеком, робко-восторженным и бесконечно сильным в своем замирании, подошел я к ней, и она сразу меня поняла. Она и не могла не понять меня и не ответить. Если бы это не раз в жизни пришло, а всегда жило в себе, то можно бы всем нам всегда и всюду каждый цветок, каждую лебедь, каждую ланку превращать в царевну и жить, как мы жили с этой моей превращенной царевной в долине цветов Зусухэ, в горах, на берегах рек и ручьев. Мы были с ней и на Туманной горе, бывшей когда-то вулканом: там теперь родятся драгоценные пятнистые олени. Мы слушали в фанзочке подземный разговор наших предков, и тут же искатель корня жизни Лувен рассказывал нам о чудесных свойствах этого корня, способного наделять человека вечной молодостью о красотой. Он показывал нам даже порошок, составленный из корня жизни, пантов и еще каких-то целебных грибов, но когда мы, смеясь, стали просить у него порошок вечной молодости и красоты, он вдруг рассердился и перестал с нами разговаривать. Скорей всего ему стало досадно, что мы не доверяем ему и смеемся, а может быть, он, уверенный, что для успеха в искании корня жизни надо иметь чистую совесть, хотел и нам намекнуть на это: что и мы, как и он, искатель, должны тоже подумать о чистоте своей совести. И то возможно, что старый Лувен мог видеть в нашем счастье там и тут рассекающие его молнии. Во мне жило два человека, те самые, как в отношении прекрасной Хуа-лу: один – охотник и другой – еще неизвестный мне человек. И когда мы шли в мой виноградный шатер постеречь Хуа-лу, я сделал ошибку, – вернее, не весь я, а я как охотник. Она, возмущенная, вдруг переменилась ко мне: казалось, внезапная молния разорвала наш союз; но я снова собрался в себе и занял обыкновенную свою, покоряющую все высоту. Мы сидели в это время в виноградном шатре – и вдруг через окошко увидели во всей красе Хуа-лу, как она с олененком перешла полянку, совсем недалеко от нас ела листики винограда и потом дальше куда-то ушла в кусты таволожки и туи. Оставаясь на той занятой мною высоте, я стал ей рассказывать о встрече с Хуа-лу, когда она поднялась на задние ноги, просунула копытца в виноградные сплетения, и как я дрожал мелкой дрожью, удерживаясь от искушения схватить ее за копытца, и вот неведомый мне самому какой-то другой человек помог мне удержать в себе прекрасное мгновенье, и как бы в награду за это олень-цветок превратился в царевну…
Мне хотелось этим рассказом показать ей, что я могу занять всю высоту, что ошибка моя перед этим просто случайность и больше она у меня не повторится. Я говорил, не глядя на нее, в какое-то окружающее нас зеленое пространство. Мне хотелось высказать ей это мое самое тайное, не глядя ей в глаза, и когда мне подумалось, что вот я достиг, вот теперь-то уж я могу посмотреть ей прямо в глаза, вот теперь-то я увижу там… Я думал – встречу там все голубое, и вдруг все вышло обратное и непонятное: не голубое тем было, – я там встретил огонь. В пламенном румянце, с полузакрытыми глазами, она склонилась на траву. В это мгновенье раздался гудок парохода, она не могла не слышать его, но она его не слыхала. А я точно так же, как было с ланкой оленя, я замер, потом я, как и она, был в пламени, потом металл мой побелел, а я продолжал сидеть неподвижно. Тогда раздался второй гудок парохода, она встала, оправила прическу и, не глядя на меня, вышла…
IV
Чем успокаивает шум моря, когда стоишь на берегу? Мерный звук прибоя говорит о больших сроках жизни планеты Земли, прибой – это как часы самой планеты, и когда эти большие сроки встречаются с минутами твоей быстренькой жизни среди выброшенных на берег ракушек, звезд и ежей, то начинается большое раздумье о всей жизни, и твоя маленькая личная скорбь замирает, и чувствуешь ее глухо и где-то далеко…
У самого моря был камень, как черное сердце. Величайший тайфун, вероятно, когда-то отбил его от скалы и, должно быть, неровно поставил под водой на другую скалу; камень этот, похожий своей формой на сердце, если прилечь на него плотно грудью и замереть, как будто от прибоя чуть-чуть покачивался. Но я верно не знаю, и возможно ли это. Быть может, это не море и камень, а сам я покачивался от ударов своего собственного сердца, и так мне трудно было одному и так хотелось мне быть с человеком, что этот камень я за человека принял и был с ним как с человеком.
Камень-сердце сверху был черный, а половина его ближе к воде была очень зеленая: это было оттого, что когда прилив приходил и камень весь доверху погружался в воду, то зеленые водоросли успевали немного пожить и, когда вода уходила, беспомощно висели в ожидании новой воды. На этот камень я забрался и смотрел с него до тех пор, пока пароход не скрылся из глаз. После того я лег на камень и долго слушал; этот камень-сердце по-своему бился, и мало-помалу все вокруг через это сердце вступило со мной в связь, и все было мне как мое, как живое. Мало-помалу выученное в книгах о жизни природы, что все отдельно, люди – это люди, животные – только животные, и растения, и мертвые камни, – все это, взятое из книг, не свое, как бы расплавилось, и все мне стало как свое, и все на свете стало как люди: камни, водоросли, прибои и бакланы, просушивающие свои крылья на камнях совершенно так же, как после лова рыбаки сети просушивают. Прибой примирил меня, убаюкал, и я очнулся, разделенный водою от берега; камень же наполовину был потоплен, водоросли вокруг него шевелились, как живые, а бакланов на косе теперь доставала вода прибоя: сидят, сушат крылья – и вдруг их окатит водой и даже сбросит, но они опять садятся и опять сушат крылья, раскинув их так, как это у орлов на монетах. Тогда я принимаю в себя вопрос, как будто очень важный и необходимый для разрешения: почему бакланы держатся именно этой косы и не хотят для просушки своих крыльев перелететь немного повыше?
А то было на другой день, я опять пришел сюда слушать прибой, долго смотрел в ту сторону, куда ушел пароход, и потом очнулся в тумане. Чуть виднелось, на берегу копошились новоселы. Любого спросить, думалось мне, каждый признает во мне бродягу, бездомное существо и поспешит спрятать от меня топор и лопату. Как они ошибаются! Был я бродяга, но теперь я прострелен насквозь, и от этого через боль свою я везде чувствую одно и то же: мне везде теперь родина, в чем-то этом моем все существа на земле одинаковы, и нечего больше теперь мне искать, никакая перемена внешняя туда, внутрь меня, не принесет ничего нового. Не там родина, думалось мне, где ты просто родился, а вот родина, где ты это понял, что нашел свое счастье, пошел навстречу ему, доверился, отдался, а оттуда в тебя, в ту самую точку, где находится счастье, начали стрелять.
Морское летнее тепло поднималось наверх, охлаждалось у хребта и садилось обратно туманом и бусом. Но мне было – будто огромные белые стрелки в белой широкой одежде, колыхаясь, наступают и расстреливают меня не сразу пулями, а мелкой дробью, чтобы я, расстрелянный, уничтоженный, сам в себе жил, мучился и через эту необходимую муку все понял. Нет! Теперь больше я не бродяга и очень хорошо понимаю бакланов, почему им плохо крылья сушить на этой косе, а они все-таки не хотят перелететь повыше, на другую скалу: им тут пришлось рыбу ловить, и тут они застряли. «А перелетишь, – думают они. – повыше, где лучше сушиться, то еще, пожалуй, и рыбку упустишь. Нет, мы останемся жить на этой косе». Да так вот и живут, перебиваются, обживают морскую косу. И так еще мне было, что вот этот камень-сердце лежит и чуть-чуть при ударе волн качается, и так он должен, может быть, сто лет и больше, тысячу лет лежать и покачиваться, а я никаких особенных преимуществ перед ним не имею, так почему ж буду я переменять место и утешаться? Нет утешения!
И вот как только я сказал себе со всей силой, со всей решимостью, что нет утешения и не быть повторению и соблазну ожидания лучшего в переменах на стороне, то па какой-то срок мою боль отпустило, и даже на минутку представилось, что жизнь для меня продолжается и после расстрела. Тогда я вспомнил про своего Лувена и пошел в его фанзочку, как в свое родное гнездо.
В глубине распадка жаркая сырость в эту ночь подняла всех летающих насекомых, и многие миллионы из них в брачном полете зажгли свои ночные фонарики, как будто заняв для них свет у невидимой луны. Я сидел под навесом фанзы и старался проследить начало и конец пути какого-нибудь светляка. Срок света каждому из них назначен был очень короткий, секунда, может быть, две, и все кончалось во тьме, но тут же начиналось другое. То же ли насекомое, отдохнув, продолжало свой светящийся путь, или же путь одного кончался и продолжался другим, как у нас в человеческом мире?
– Лувен, – спросил я, – как это все твоя понимает?
Неожиданно Лувен отвечал:
– Моя сейчас понимай, как твоя.
Что это значило?
В это время под землей, где все так и продолжался постоянный неровный разговор, вдруг что-то случилось, грохнуло. Лувен прислушался, стал очень серьезным.
– Наверно, – сказал я, – там камень упал?
Он не понял меня. И я руками воздух обвел, сделал пещеру, представил, как упал камень в воду и нарушил течение ручья. Лувен во всем со мной согласился и опять повторил:
– Моя сейчас понимай, как твоя.
Так он второй раз это сказал, и я все еще не догадывался, о чем он говорит. Вдруг Лайба поджала хвост и бросилась в глубину фанзы, – по всей вероятности, где-нибудь очень близко тигр проходил, а может быть, и прямо залег в камнях, рассчитывая Лайбу схватить. Нам пришлось развести костер для защиты, и тогда сразу же на огонь собрались к нам бесчисленные ночные бабочки, и так много их было в эту сырую и жаркую ночь, что явственно слышался шелест крыльев. Этого я никогда не слыхал: так много бабочек, что слышится в ночном воздухе шелест. Будь я простым и здоровым, как было еще так недавно, я не придал бы этому шелесту такого особенного значения, как это было сейчас: шелест жизни! Но теперь почему-то все это глубоко касалось меня. Я настороженно слушал и, с большими глазами, удивленный до крайности, спросил об этом Лувена, как это он понимает, и в третий раз Лувен значительно сказал:
– Моя сейчас понимай, как твоя.
Тогда я всмотрелся в Лувена и вдруг наконец-то понял его: не жизнь летающих светляков, не обвал под землей, не шелест жизни бесчисленных бабочек занимали Лувена, а я сам. Он-то все это живое давным-давно принял к сердцу и жил в этом и, конечно, по-своему все понимал, но ему важно было через мое внимание к этому понять меня самого. И, конечно, он тоже хорошо знал, кого от меня увез пароход. Вот он берет теперь барсучью шкурку, свою неизменную спутницу в поисках корня жизни, и тут же возле меня, под навесом, свертывается на ней, как собачка. Он так спит всегда, что с ним говорить можно всю ночь и он будет отвечать во сне разумному вопросу, все равно как и неясному бормотанию спящего.
Теперь, когда много лет прошло и я все испытал, я думаю, что не горе дает нам понимание жизни всей во всем родстве, как я ее в ту ночь понимал, а все-таки радость; что горе, как плуг, только пласт поднимает и открывает возможности для новых жизненных сил. Но есть много наивных людей, кто понимание наше жизни других людей в родстве с нами прямо приписывают страданию. И мне тоже было тогда, как будто болью своей я вдруг стал все понимать. Нет, это не боль, а радость жизни открывалась во мне из более глубокого места.
– Лувен, – спросил я, – была ли у тебя когда-нибудь женщина?
– Моя не понимай, – отвечает Лувен.
– Одно солнце, – говорю я.
И делаю отрицательный жест. Это значит – одни сутки я отбрасываю, и получается вчера. А два пальца значит – вчера нас было двое. Вот один палец: я показываю на себя.
– Я сегодня один.
И – показывая в ту сторону, куда ушел пароход:
– Там женщина!
– Мадама! – радостно воскликнул Лувен.
Он понял: моя женщина у него значит «мадама». И показал: голова лежит с закрытыми глазами.
– Спи-спи, мадама!
Значит, его мадама давно умерла.
– Это была твоя жена?
Опять не понимает, и опять я ему показываю, как двое спят большие и рождаются маленькие.
Лувен понял и просиял: это бабушка, значит, жена, а мадама – значит, невеста. Он показывает человека в полроста – один, другого еще поменьше, третьего еще на ступеньку, еще, еще, и совсем маленький привязан сзади, и в животе есть еще…
– Многа, многа, а руками работай!
И это бабушка, жена его брата, а сам брат «спи-спи», и его собственная мадама «спи-спи», и его бабушка «спи-спи», и его дети «спи-спи», а сам Лувен работает для бабушки брата и им посылает в Шанхай.
Наша ночь продолжается. Я бормочу во сне:
– Спи-спи, мадама!
А Лувен отвечает:
– Живи-живи, мадама!
Может быть, мне и приятно слышать, и я невольно опять вызываю и получаю желанный ответ:
– Живи-живи, мадама!
Вероятней всего, что тигр у нас не задержался и дальше прошел. Лайба скоро выбралась из фанзы и свернулась возле Лувена. Костер, конечно, погас. Замолк шелест крыльев, но до утра чертили ночную тьму фонарики лунного света в брачном полете, и растения, собирая своими широкими листьями из насыщенного влагой воздуха воду, как в блюдца, вдруг проливали ее…
С рассветом опять вышли с моря белые стрелки в широкой одежде и опять стали расстреливать меня дробью.
Вот скала. Из ее бесчисленных трещин, как из слезниц, влага вытекает, собирается крупными каплями, и кажется – скала эта вечно плачет. Не человек это, камень; я знаю хорошо, камень не может чувствовать, но я такой человек, так душа моя переполнена, что я и камню не могу не сочувствовать, если только вижу своими глазами, что он плачет, как человек. На эту скалу опять я прилег, и это мое сердце билось, а мне казалось, что у самой скалы билось сердце. Не говорите, не говорите, знаю сам, – просто скала! Но вот как же мне нужно было человека, что я эту скалу, как друга, понял, и она одна только знает на свете, сколько раз я, сливаясь с ней сердцем, воскликнул: «Охотник, охотник, зачем ты упустил ее и не схватил за копытца!»
V
До чего же я в то время был наивен и прост! Я был уверен тогда, что, схвати я свою невесту, как оленя, – и все: и вопрос о корне жизни решен. Дети мои, любезные юноши и милые девушки, в то время я тоже, как и вы, по молодости слишком много придавал значения тому, о чем вы теперь говорите вполне естественно и будто бы может происходить и что-нибудь значить почти без покрова, или, как вы говорите, любовь без роз и черемухи. Да, конечно, корень жизни нашей находится в земле, и любовь наша с этой стороны, как у животных, но нельзя же из-за этого зарывать стебель и цвет свой в землю, а таинственный корень обнажать и лишать начало человеческой жизни покрова. К сожалению, все это становится ясным, когда опасность проходит, а новые дети меньше всего верят опыту старших и в этом отношении больше всего хотят быть беспризорными. Мне, однако, счастливо пришлось. что был возле меня Лувен, самый нежный, внимательный и – я осмелюсь сказать – самый культурный отец, какие только бывают на свете. Да, я так уверился навсегда в своей пустыне, что – в душистом мыле и щеточках заключается только ничтожная часть культуры, а суть ее в творчестве понимания и связи между людьми. Мало-помалу мне стало ясным, что главное жизненное дело Лувена было врачевание, – какое оно уж там было с медицинской точки зрения – не мне судить, но я видел своими глазами, что все люди уходили от него с веселыми лицами и многие приходили потом, только чтобы поблагодарить. Из разных концов тайги приходили к нему манзы, китайские охотники, звероловы, искатели корня Жень-шень. хунхузы, разные туземцы, тазы, гольды, орочи, гиляки с женщинами и детьми, покрытыми струпьями, бродяги, каторжники, переселенцы. У него было множество знакомств в тайге, и, кажется, после корня жизни и пантов самым сильным лекарством он считал деньги. Никогда он не имел нужды и в этом лекарстве: стоило только ему было дать знать кому-нибудь из своих – и лекарство являлось. Раз было, среди лета Зусухэ так разлилась, что смыла все поля, и новоселы остались ни с чем. Тогда Лувен дал знать своим друзьям – и русские люди были спасены от голодной смерти только этой китайской помощью. Так вот тут-то я и научился понимать, на всю жизнь, не по книгам, а на примере, что культура не в манжетах и запонках, а в родственной связи между всеми людьми, превращающей даже деньги в лекарство. Сначала было немного смешно слышать это от Лувена, что деньги – это лекарство, но условия нашей пустынной жизни сами собой привели к тому, что и я стал их понимать как лекарство. Кроме Жень-шеня, пантов, денег, у него лекарством была еще кровь горала, струя кабарги, хвосты изюбра, мозг филина, всевозможные грибы, наземные и древесные, разные травы и корни, среди которых много было и наших: ромашка, мята, валерьян. Раз я смотрел в лицо старика, заботливо разбирающего травы, и решился спросить его:
– Лувен, твоя понимай всего много. Скажи мне, болен я или здоров?
– Всякий люди, – ответил Лувен, – есть здоровый люди и больной люди за один раз.
– Что мне нужно? – спросил я. – Панты?
Он долго смеялся: панты он дает для возбуждения страсти при утрате жизненных сил.
– А может быть. – спросил я, – мне поможет Жень-шень?
Лувен перестал смеяться, долго смотрел на меня и в этот раз ничего не сказал, но на другой день так загадал:
– Твоя Жень-шень расти-расти, моя скоро тебя покажи будет.
Лувен зря ничего не говорил, и я стал ждать случая своими глазами наконец-то увидеть не порошок только этого лекарства, а самый корень, растущий в тайге. И вот раз глубокой ночью Лайба с лаем бросилась в глубину распадка. Лувен вышел за ней из фанзы, и вслед за ним я вышел с винтовкой.
Возвращаясь из тьмы вместе с Лайбой, Лувен сказал:
– Не нада ружье, наша люди.
Скоро пришли к нам шесть хорошо вооруженных китайцев, красивые горбоносые маньчжуры с винтовками и большими ножами.
– Наша люди! – сказал мне еще раз Лувен и по-китайски тоже, показав на меня, наверно, то же и им про меня: «Наша люди».
Маньчжуры приветливо мне поклонились, и очень высокие люди, наклоняясь, один за другим вошли в наше маленькое жилище. Там они все сели в кружок, положили что-то на пол, что-то немного поделали и все сразу замерли в созерцании.
– Лувен, – сказал я потихоньку, – можно и мне посмотреть?
Лувен опять сказал по-китайски наши люди, маньчжуры все обернулись ко мне с величайшим почтением, раздвигаясь и приглашая меня тоже сесть и на что-то смотреть, как они.
Вот тут-то я и увидел впервые Жень-шень, корень жизни, и столь драгоценный и редкий, что для переноса его назначено было шесть сильных и хорошо вооруженных молодцов. Из лубка кедра был сделан небольшой ящик, и в нем на черной земле лежал небольшой корешок желтого цвета, напоминающий просто нашу петрушку. Все китайцы, пропустив меня, снова погрузились в бессловесное созерцание, и я тоже, разглядывая, с удивлением стал узнавать в этом корне человеческие формы: отчетливо было видно, как на теле расходились ноги, и тоже руки были, шейка, на ней голова, и даже коса была на голове, и мочки на руках и ногах были похожи на длинные пальцы. Но приковало мое внимание не так совпадение вида корня с формой человеческого тела, – мало ли в капризных сплетениях корней можно увидеть каких необыкновенных фигур! Приковало меня к созерцанию корня молчаливое воздействие на мое сознание этих семи человек, погруженных в созерцание корня жизни. Эти живые семь человек были последними из миллионов за тысячи лет, ушедших в землю, и все эти миллионы миллионов так же, как эти последние живые семь человек, верили в корень жизни, многие, может быть, созерцали его с таким же благоговением, многие пили его. Я не мог устоять против этого внушения веры, и как все равно на берегу морском отдавался на волю какого-то большого планетного времени, так точно теперь отдельные жизни человеческие были мне как волны, и все они ко мне, живому, катились, как к берегу, и как будто просили понимать силу корня не по себе самому, которого скоро тоже размоет, а в сроках планетною и, может быть, еще и Дальнейшего времени. Впоследствии я узнал из ученых книг, что Жень-шень – это реликт из аралиевых, что общество окружавших его растений и животных в третичный период земли теперь неузнаваемо переменилось, и вот это знание не вытеснило во мне, как это часто бывает, волнения, внушенного верой людей: меня и теперь, при всем моем знании, по-прежнему волнует судьба этой травки, за десятки тысяч лет переменившей в обстановке раскаленный песок на снег, дождавшейся хвойных деревьев и среди них медведя…
После долгого созерцания маньчжуры вдруг все разом заговорили, заспорили, как я понял, о разных мельчайших подробностях в строении этого корня. Может быть, они спорили о том, что вот такая-то мочка лучше идет к корню мужскому и украшает его, а к корню женскому, напротив, она не идет, и не лучше ли осторожно совсем ее удалить. Таких вопросов могло быть великое множество, многие внезапно возникали и перебивали сложившееся суждение, возникал резкий спор. Но всякое такое столкновение мнений Лувен в конце концов с улыбкой разрешал, и с ним непременно все соглашались. Лувен теперь больше не вспыхивал, а ровно жил, царствовал, как царствует всякий, в совершенстве овладевший знанием своего предмета. Решению Лувена все беспрекословно подчинялись. Когда страсти совсем улеглись и началось спокойное обсуждение, я решился наконец спросить Лувена, о чем у них теперь идет разговор.
– Многа-многа лекарства, – ответил Лувен.
Значит, разговор теперь шел о деньгах, сколько могло стоить такое редчайшее сокровище. Лувен рассказал, что один бедный искатель корня Жень-шень нашел этот корень и был убит, а сокровищем завладел машинка, значит – мошенник, и один купеза, значит – купец, приехал на место прямо из Китая, дал много лекарства и нанял этих людей перенести корень. Но, конечно, купеза дал очень немного, а сколько корень стоит – этому нет и конца: каждый купеза будет перекупать и давать больше и тоже брать все больше и больше, потому что каждый купеза есть машинка.
– Чем же это кончится? – спросил я.
– Не кончится, – ответил Лувен. – Такой корень гуляй-гуляй. В таком корне многа-многа лекарства. Маленький люди, кто нашел его, спи-спи, а большой люди гуляй-гуляй.
Отдав драгоценный Гуляй-корень под охрану Лувена, маньчжуры улеглись на холодном камне и, вероятно, еще до рассвета ушли.
VI
Странный какой-то гул разбудил меня, очень похоже было на телеграфный столб, как гудит он в непогоду. Но какой же тут, в приморской тайге, может быть телеграфный столб? Я открыл глаза и увидел Лувена. Он тоже к чему-то прислушивался.
– Ходи, ходи! – сказал он. – Твоя Жень-шень расти будет, моя тебе покажи.
Он был одет, как искатели Жень-шеня из китайцев, во все синее, спереди был привешен для защиты от росы промасленный фартук, назади – барсучья шкурка, чтобы присесть и отдохнуть в сырой день, на голове коническая берестяная шапочка, в руке длинная палка для разгребания листвы и травы под ногами, у пояса нож, костяная палочка для выкапывания корня, мешочек с кремнем и огнивом. Синий цвет дабы, из которой сшиты рубашка и штаны, напомнил мне страшных людей, кто охоту на таких синих китайских искателей называет охотой за фазанами, а на корейцев в белом – охотой на белых лебедей.
– Что это, Лувен? – спросил я, указывая в ту сторону, откуда слышался гул, подобный гудению телеграфного столба в непогоду.
– Война! – без колебания ответил Лувен.
Мы высекли огонь. Я поднялся наверх и там в куче хлама нашел причину войны: там запуталась большая бабочка бражник и гудела при частых взмахах крыльев, как телеграфный столб. Это я показал китайцу, но он найденной причине не придал никакого значения и повторил:
– Такая гу-гу бывает к войне, война ходи будет.
Суеверие, неподвижный остаток каких-то отдаленных, быть может, когда-то живых верований, в моем понимании унижало человека не более, чем унижает иных непобедимая привычка к разным вещам мещанской цивилизации: внутри суеверий и привычек к определенного сорта помаде или формату писчей бумаги можно оставаться живым культурным человеком. Но в этот раз суеверие Лувена больно задело. «Разве газеты, – думал я, – а в наших условиях даже слухи от новоселов не в тысячи раз вернее говорят о войне, чем наши догадки по каким-то знамениям природы? И разве шелест жизни от крыльев бабочек у ночного костра сам по себе не меньше говорит о необъятности производящей силы земли, чем суеверное представление?» Раздумывая глубже о причинах особенной неприязни к суеверию в этот раз, я пришел к догадке о том, что легенда многомиллионного народа, существующая уже несколько тысяч лет о корне жизни, до того пленила меня, что я немного боялся проверки ее в личном опыте, безбоязненно применяемом мной ко всяким легендам.
Эта боязнь теперь переходила в раздражение от малейшего соприкосновения с суеверием.
Мы вышли из фанзы еще в полной темноте, направляясь распадком в сторону моря. Если бы даже и рассвело, мы ничего бы не видели от густого тумана, почти постоянного здесь в летнее время. Единственным светом, но только возле самого носа, был свет фонариков летающих светляков. И вот – сила наследственного суеверия: глядя на летающих светляков, я вспомнил о множестве умерших на поле сражения. Я вспомнил о них, как, умирая в муках, они отходили куда-то. «Не они ли это?» – спрашивал я себя, как дикарь. И, вспоминая иных из них, находил в себе ту самую сохраненную мной боль, которую принял от них по сочувствию, и так получилось, что они отошли и летают себе светлячками, а я с их болью остался и, может быть, бессознательно теперь в иных случаях поступаю именно под влиянием этой боли, сохраненной мною при потере друзей на войне. Но доброта Лувена такая, как будто он не случайно при виде летающих насекомых стал о чем-то догадываться, а раз навсегда догадался, всю эту боль принял и, связывая веру свою в лучшую жизнь с силой жизни корня Жень-шень, определил себя на помощь больным.
Так, глядя на летающих насекомых, я по-своему старался отделить и очистить легенду о корне жизни от мертвых и часто в современной жизни вредных суеверий, сохранившихся в нас от далекого прошлого. Летающие насекомые вдруг как-то исчезли, но казалось – это они после себя оставили ровный свет, и от этого света стали нам показываться разные предметы снизу, а не как бывает при рассвете в ясное утро: сначала видишь небо, и только долго спустя – им освещенные сверху предметы на земле. Мы были в горах, у самого моря, и нам скалы показывались из тумана черными фигурами. Я в них читал и прямо видел, как олень-цветок превращается в женщину, а Лувен тоже. наверно, догадывался о чем-то заветном своем. Это нам Друг другу совсем не нужно было раскрывать, и оттого мы шли с ним молча, совсем ничем не стесняя друг друга. Во время рассвета холодок резким ознобом прошелся по телу, и через свое тело, слитое с миром в одном ощущении предрассветного холода, мне стало казаться, будто вся природа сейчас, скинув одежду, умывается. Мне показалось, что и Лувен об этом хотел сказать, когда вдруг остановил меня, сделал ладонями, будто он умывается, после чего развел руками в значении «везде, везде!» и сказал:
– Хоросё, хоросё, шибко хоросё!
Вскоре оказалось, это он так предсказывал о погоде: очень часто бывает в тихоокеанском приморье, что даже и очень густой туман внезапно переходит в невидимое состояние и воздух, хотя и насыщенный парами воды, становится совершенно прозрачным. Мы встретили восход солнца на высоком берегу, на тропе, в каких-то густых кустарниках, из которых иногда вылетали красивые монгольские, с белым колечком на шее, фазаны и зачем-то при взлете, случалось, оглядывались на нас и по-своему говорили: ко-ко-ко… Скоро я понял эти заросли, отчего они были такие низенькие и страшно плотные. Это море с тайфунами сотни лет било скалу и добилось все-таки жизни: в трещинах скал выросли разные цветы, а потом и дубки. Так море добилось жизни, но что это за жизнь была на первых порах! Те дубки, что поближе к морю, думать не смели хоть чуть-чуть поднять голову вверх, – они росли лежа, ползли тонкими стволами прочь от моря и очень были похожи на волосы, гладко причесанные. Но чем дальше мы отходили от моря, тем выше и выше поднимались дубки, хотя тоже до известного предела: начиная от высоты человеческого роста, все засыхали сверху, образуя сплетением нижних ветвей непроходимую чащу, очень пригодную для жизни фазанов в ту пору, когда молодых надо было охранять очень заботливо от покушений разных хищников.
Отступая от моря в глубину тайги, мы не сразу с ним расстались: мы то спускались, то опять поднимались, теряли и опять встречались с солнцем, как бы переживая новый восход; и так еще было, что берег моря, изрезанный бухтами, загроможденный камнями, проливчиками, давал для солнца все новые и новые ширмы, отчего каждый раз при новом восходе являлись нам все новые и новые фигуры. На последней скале, откуда открывался вид далеко в океан, росли необыкновенно фигурные погребальные сосны, похожие на японские зонтики и на пинии Средиземного моря. Они были такие ажурные, что, кажется, сколько бы их ни скопилось в одном месте, море через них все равно бы виднелось. Там мы с последней скалы через пинии даже простым глазом различали в море головы множества морских зверей.
В самой темной тайге можно бы разглядеть муравья, с добычей своей пересекающего тропинку, когда мы совсем расстались с морем и спустились в глубокую падь. Мы шли по тропе, лишенной всякой растительности, пробитой ногами изюбров, оленей, горалов и коз, а после приспособленной для себя человеком. С той тропы мы свернули в глубокий распадок с безыменным ключиком, постоянно исчезающим в завалах камней и дающим знать о себе оттуда только своей подземной болтовней. Тут, на камнях, едва видимая тропа пересекала ручей то в ту, то в другую сторону, но мы бросили эту неверную тропу и шли от бочага к бочагу, часто прыгая с камня на камень. Лувен часто указывал мне и просил запомнить то отметину на коре бархатного дерева, то залом на колючей аралии, то кусочек моха, вложенный в дупло тополя, все эти знаки были не для каких-нибудь случайных путников, звероловов, охотников и каких бы то ни было таежных добытчиков, – все это было сигналом для других искателей корня жизни: путь этот обыскан, и незачем им тут трудиться. Но этот же путь вел к моему собственному корню жизни, и Лувен показывал мне приметы, чтобы я, неопытный еще в корневании, сам бы мог потом найти без его помощи.
– Что делать, – спросил я, – если тайфун вырвет этот мох из дупла или весенний поток унесет замеченное бархатное дерево, или вот эта щека распадется и завалит весь путь наш камнями?
– Нада иметь чистая совесть в голове, – ответил Лувен.
Я понял, что он говорит о смекалке, и показал ему на щеки распадка, на деревья и травы; все завалит, и никакая смекалка уже не поможет.
– Пропал-пропал голова! – сказал я.
– Голова не нада, – ответил Лувен, – пропал голова, вот где голова.
Он показал на сердце, и стало понятно, что в поисках корня жизни надо идти с чистой совестью и никогда не оглядываться назад, в ту сторону, где все уже измято и растоптано. А если чистая совесть есть, то никакой завал не испортит пути.
Мало-помалу высокие щеки распадка стали снижаться, и мы подошли к небольшой впадине с болотцем, из которого и выходил ручеек, создавший этот глубокий распадок в скалах. Отсюда, с перевала в широкой долине, начинались величественные кедры, настолько редкие и с таким низким подлеском, что можно было между их стволами проглядывать очень далеко вниз и догадываться по солнечным зайчикам, по мелькающим силуэтам и теням крыльев о какой-то особенно богатой жизни этой Певчей долины: множество разных мелких певчих птиц распевало среди разных деревьев; тут были тополя не менее как по триста лет, иногда подслеповатые, сгорбленные, узловатые, с дуплами, в которые постоянно зимой ложились медведи; были гигантские липы, высокоствольные ильмы и пробковое дерево.
Певчая долина с гигантскими деревьями, достаточно редкими, чтобы обеспечить светом богатую жизнь подлеска, была так прекрасна, что мысль о чистой совести, необходимой для верного поиска корня жизни, являлась сама собой. Направляясь вперед, мы скоро пересекли Певчую долину в северо-западном направлении, и вдруг перед нами открылась древняя речная терраса, нисходящая в другую долину, покрытую другой растительностью: среди коренастых стволов осокоря тут были черная береза, ель, пихта, граб, мелколиственный клен, и дальше, когда мы прошли этот густой лес, перевитый лианами лимонника и винограда, в третий раз переменилась растительность на берегу какого-то неизвестного ручья: тут вперемежку с широколиственными ореховыми деревьями были только изредка кедры: редкие крупные деревья утопали в густейших зарослях крушинника, бузины, черемухи, дикой яблони, под сенью которых, среди буйных тенелюбивых трав, где-то и надо было искать корень жизни Жень-шень.
Мы тут отдыхали с Лувеном и долго молчали. Что было в тишине при нашем долгом молчании? Бесчисленное множество, неслыханное, невообразимое число кузнечиков, сверчков, цикад и других музыкантов устраивали, все время играя, эту тишину: их совсем не слышишь, если найдешь в себе равновесие для свободной и спокойной мысли. А может быть, все эти бесчисленные музыканты именно своей музыкой так делают, что сам по-своему принимаешь в ней участие, перестаешь их замечать, и оттого начинается какая-то настоящая, необыкновенная, живая, творческая тишина. И еще тут где-то ручей бежит, тоже, кажется, молча; но если ход спокойной мысли от какого-нибудь нечаянного воспоминания оборвется и невозможное желание кому-то близкому что-то сказать вырвется даже сильно сдержанным стоном, то вдруг из этого ручья, бегущего, вероятно, по камням, быстро вырвется: «Говорите, говорите, говорите». И тогда все неслышимые музыканты, многомиллионные, бесчисленные, все вдруг с ручьем заодно играют: «Говорите, говорите, говорите!»
И мы заговорили с Лувеном о какой-то птице, стерегущей корень жизни Жень-шень. Я догадываюсь, что говорил Лувен об одном из трех видов кукушек, населяющих этот край: будто бы эта небольшая, черного цвета кукушица стережет корень жизни и видеть ее может только тот, кто увидел своими глазами корень жизни и успел в это мгновение воткнуть возле него свою палку. Так очень часто бывает, постоянно будто бы случается с искателями корня, что вот только увидел сокровище – и уже нет его: Женьшень в один миг превращается в какое-нибудь другое растение или животное. Но если ты, завидев его, успел воткнуть палку, он больше от тебя никуда не уйдет. Нам, однако, теперь нечего и беспокоиться: этот корень был найден тому назад уже двадцать лет, тогда он был очень молод и оставлен расти еще на десять лет. Но случилось, изюбр, проходя этим местом, наступил на головку Женьшеня, и он от этого замер. Недавно он снова начал расти и лет через пятнадцать будет готов.
– Ты сейчас бегай-бегай, – сказал Лувен, – а тогда понимай.
Мы помолчали. Я в этом молчании силился представить себе, что будет со мной через пятнадцать лет, и мне представилась встреча. Прошло ведь пятнадцать лет раздельной жизни, мы едва-едва и со страхом узнали друг друга, стоим, смотрим растерянно и ничего не можем друг другу сказать.
Ох! и больно же стало! Но как только вырвался «ох!» – вдруг из ручья:
– Говорите, говорите, говорите!
А вслед за тем все музыканты и все существа Певчей долины заиграли, запели, вся живая тишина вдруг раскрылась и позвала:
– Говорите, говорите, говорите!
– Через пятнадцать лет, – сказал Лувен, – ты молодой человек и твой мадама молодой.
После того мы встали, по стволу дикой яблони, склоненному над ручьем, перешли на тот берег, и там скоро среди разнотравья Лувен стал на колени и, сложив руки ладонями, долго стоял. Я был так взволнован, что невольно опустился с ним рядом, представляя себе, будто стою где-то У самого источника творческих сил. Мысль моя, согласованная с ударами сердца, была совершенно ясна, и сердце билось согласно всей музыке тишины. Но скоро сам собой наступил срок: Лувен раскрыл травы – и я увидал… Было несколько листиков, похожих на человеческие ладони с пятью вытянутыми пальцами, на невысоком и тонком стебельке. Для такого нежного растения был опасен не только изюбр со своим грубым копытом, но даже и муравей. если бы ему зачем-нибудь понадобилось, мог бы в короткое время еще на множество лет остановить эту жизнь. Сколько же случайностей за пятнадцать лет грозили этому растению и жизни моей!
На прощанье Лувен указал мне зарубку на стволе кедра; от этого кедра до корня был ровно локоть, и с другой стороны, от ствола бархатного дерева, был локоть, с третьей стороны зарублен был дуб, и с четвертой – акация.
VII
Раз я вышел в тайгу попытать свое счастье в пантовке: так называется охота на самцов пятнистых оленей, или изюбров, когда их рога – панты – налитые кровью, уже достаточно отросли, но еще не окостенели. Эта охота чрезвычайно добычлива, есть панты ценою более тысячи золотых иен. В то время как охотники начинают добывать панты, самки уже выводят своих маленьких на покати гор. но самцы редко показываются и держатся на северных склонах – в сиверах, прячутся в кустарниках, стоят часто очень долгое время неподвижно, вероятно, из опасения потревожить чувствительные ко всякому прикосновению панты. Туманная гора, куда я шел в тот раз, почти вся была открыта, и только самая вершина ее черная расплывалась в тумане. Гора эта с трех сторон окружена морем, очень похожа на погасший вулкан и, вероятно, была им не очень давно: не раз на берегу бухты находил я пемзу. Гора была, конечно, сильно размыта и со всех сторон на боках прорезана глубокими падями и распадками. В этих падях, конечно, и укрывалось и зверье, и особенная реликтовая растительность, и все эти драгоценные для охотника пади сходились наверху почти в одну точку, и вся гора была узлом этих богатых и зверьем и растительностью падей. Теперь я шел берегом моря на юго-запад, куда выходили три красивейшие пади Туманной горы – Голубая, Запретная и Барсова. В глубине каждой из них бежит ручей, создатель самой пади от верху до низу; по ручью внизу, под укрытием от всех ветров, кроме южного с моря, сохраняются драгоценные реликты отдаленных эпох; а наверху, на ребрах падей, задорно играя с тайфунами, красуются погребальные сосны. С берега моря левой стороной Голубой пади я поднялся на самый верх Туманной горы и тихо шел по кряжу, как тигры ходят и барсы[3], чтобы сверху им все видеть по сторонам. Там и тут, и в Голубой пади и в Запретной, я видел оленей, но все это были лапки с маленькими, по две, по три; иногда среди них был саёк, годовалый самец с тоненькими рожками-шпильками. Вдруг в глубине пади, которую после я стал называть Барсовой, мне послышались крик, стон и храп. С хребта я бежал туда по россыпи очень быстро, стараясь не шевелить и не ронять камней, перескочил в кусты, начал скрадывать и скоро увидел против себя, на той стороне пади, через кусты, какого-то желтого зверя. Он почуял меня и нехотя, ленивой рысцой побежал наверх, то показываясь, то исчезая в дубовых кустарниках. Я ожидал, пока он откроется весь в россыпях, но там он залег, как это умеют делать хищники из породы кошек: из-за камней виднелись только глаза. На таком расстоянии эта цель закрывалась мушкой, и невозможно было убить. Я поспешил тогда перебраться на ту сторону пади, посмотреть, какая же это жертва попалась желтому зверю. Чтобы не сбиться, я наметил себе вехой особенной формы пинию. Под самым этим деревом на весу лежал громадный камень, кажется, – тронуть – и полетит вниз, сшибая по пути все, что ни попадется. Думалось, вот за этим именно камнем и была кровавая расправа. Мне пришлось туда добираться на вытянутых руках, хватаясь за молодые пинии. Я не ошибся: за камнем я увидел распростертого пантача с роскошными и, к счастью, совсем не поврежденными пантами. Я не раз слышал от Лувена, что ценность пантов зависит не так от массы их, как от формы, и самое главное в форме – это полная согласованность правой и левой стороны. Кажется, это не суеверие и не прихоть моды: при малейшем повреждении какой-нибудь стороны животного соответственно с этим по-разному развиваются отростки на той и на другой стороне, и, значит, если лекарственная сила пантов зависит от здоровья животного, то об этом отчасти можно судить по форме пантов.
Я наломал как можно больше лапнику с горных пиний, укрыл оленя от проникающих сюда лучей солнца, а сам пошел выслеживать леопарда. Камень, под которым спрятался зверь, был похож на громадного орла. Я сделал далекий обход по хребту, узнал замеченный камень и стал осторожно скрадывать, каждое мгновенье готовый схватить зверя на мушку. Но барса под камнем больше уж не было. Тогда я по кряжу обошел все плато, бывшее когда-то, может быть, кратером вулкана, – нигде барса не было. Я сел отдохнуть возле одной необыкновенно ровной, как будто отполированной плиты горного сланца, и когда смотрел на нее против солнца, то заметил на пыли, покрывавшей плиту, намек на отпечаток мягкой лапы красивого зверя. Много раз я ставил свой глаз по разным направлениям, и сомнений у меня не оставалось никаких: леопард проходил по этой плите. Конечно, мне было известно, что тигры и леопарды ходят по хребтам, и наблюдение следа на плите мне еще ничего не давало теперь: прошел куда-нибудь и скрылся в камнях, найти без следов невозможно. Тогда я перевел глаза на красивый мыс у подножья Туманной горы и стал разглядывать его скалы, украшенные точно такими же красивыми и задорными соснами, как и все ребра южных падей. Я мог отсюда разглядеть, что на этом узком мысу, покрытом низкой, но любимой оленями травой, паслась ланка, и возле нее в тени куста лежал желтый кружок, можно было догадаться о нем: олененок. Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь дохватить и попасть в недоступные темно-зеленые пинии, поднялся орел, взвился высоко над мысом, выглядел олененка и бросился. Но мать услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила: она встала на задние ноги против детеныша и передними старалась попасть в орла, и он, обозленный неожиданным препятствием, стал наступать, пока, наконец, острое копытце не попало в него. Смятый орел с трудом справился в воздухе и полетел обратно в пинии, где у него, вероятно, и было гнездо. Было время около полудня, становилось жарко; в этот час олени с открытых пастбищ переходят до вечера в места постоянного своего пребывания, прячутся в распадках среди тенистых деревьев. Вот и эта ланка, единственная на мысу, подняла своего олененка и повела его с мыса Орлиное Гнездо прямо к тому самому распадку, где укрывалась наша фанза. Я почти не сомневался, что это была Хуа-лу, и вот какие разные чувства вдруг разом вспыхнули во мне, сменяясь, как свет и тени на бегущих внизу волнах океана! Но вдруг эти чувства мои были перебиты мыслью, определившей потом всю мою деятельность в этом краю. «Мыс Орлиное Гнездо, – думал я, – не имеет никакого выхода для оленя, кроме узенького, в какие-нибудь сто метров, перешейка, и если этот перешеек заградить частоколом, то оленю останется единственный выход – броситься с отвесной высоты в море и вплавь достигнуть берега. Но и это был бы тоже не выход: внизу то показываются из воды, то прячутся черные острые камни, и всякое живое существо, упав на эти страшные рифы, неминуемо разобьется». Вот эта мысль мне пришла в голову и незаметно для меня начала прорастать и заполнять всего меня. Отдохнув, я решил осторожно еще раз обойти все плато по хребту, приглядываясь к каждому рыжему пятнышку: авось за это время зверь надумал что-нибудь… Мне было видно, как ланки там и тут переводили своих малюток с пастбищ в родные распадки, а то просто тут же у пастбищ находили себе временный приют в дубовых кустах. И сколько тут раз приходилось видеть, как пятнистый олень, войдя в тень даже и не очень густолиственного дерева, благодаря своим защитным пятнам-зайчикам становился невидимым. Тут, в тени, они проводили время, то скусывая листики винограда, то вычесывая копытцем задней ноги клещей-мучителей. Нигде я не мог рассмотреть леопарда и пришел в конце концов к той же самой плите и опять присел возле нее. На досуге я снова стал присматриваться к отпечатку барсовой лапы и вдруг заметил рядом с первым отпечатком другой, и еще более отчетливый. Но мало того: на том, другом, следу, приглядываясь против солнца, я увидел – торчали две иголочки, и, взяв одну из них, узнал шерстинку из лапы барса. Солнце за время моего обхода, конечно, стало немного под другим углом падения посылать свои лучи на плиту, и я мог допустить, что тогда пропустил другой след, но шерстинок я тогда не мог не заметить, – шерсть явилась во время второго обхода, и, значит, барс все время крался за мной. Это было согласно и с тем, что приходилось слышать о барсе и тигре: это их постоянный прием – заходить в спину преследующего их человека.
Теперь нечего было терять времени. Быстро, чтобы орлы не проведали об укрытом олене, я поспешил к Лувену и, к счастью, застал его дома и, к его большой радости, рассказал ему о добытом пантаче. Мы направились туда сокращенным путем крутой падью наверх. Там, на высоте, мы с Лувеном тихо, разглядывая каждый камень, обошли кругом по хребту все плато, и против плиты, чтобы скрыть свой след, при помощи длинной палки я прыгнул вниз и еще раз прыгнул до первого кустика и там притаился в заветрии. Лувен продолжал свой путь по кряжу, а я, утвердив локти и дуло винтовки на камнях, стал ждать. Немного спустя на голубом фоне неба против себя я увидел черный силуэт ползущего зверя: громадная кошка ползла, не подозревая, что я на нее смотрю из-за камня через прорезь винтовки. Лувен, конечно, если бы даже и глядел назад, едва ли бы мог что-нибудь заметить. Когда барс подполз к плите, встал на нее, приподнялся, чтобы поверх большого камня посмотреть на Лувена, я приготовился. Казалось, барс, увидев одного человека вместо двух, растерялся, как бы спрашивая окрестности: «Где же другой?» – и когда, все кругом расспросив, он подозрительно посмотрел на мой куст, я подвел мушку к его переносице и, затаив дыхание выстрелил. Зверь лег на плиту, опустив голову между лапами, хвост его сделал несколько движений, и все походило теперь, будто он притаился, чтобы сделать свой роковой прыжок.
Какой прекрасный ковер мы добыли, но не этой ценной шкуре обрадовался Лувен: в его таинственной, смешанной с бесчисленными суевериями медицине какую-то важную роль играли сердце леопарда, печень и даже усы. Однако и это все драгоценное он забыл, когда увидел панты убитого оленя.
– Многа-многа лекарства! – говорил он, вырубая панты из черепа вместе с лобовой костью.
И на вопрос мой, почему он не срезает панты с коронок и берет их с костью, ответил:
– Так моя хочет взять три раза больше лекарства.
Ценность пантов, оказалось, бывает в два или три раза больше, если их вырезать с лобовой костью. Те, простые, срезанные с коронок панты идут только на лечение как лекарство, а лобовые панты – игрушка, это подарок, залог семейного счастья, в самых богатых китайских домах они хранятся под стеклянным колпаком; и когда от времени сохранят эти панты только форму, то эта видимость, труха будет подавать хозяину надежду в глубокой старости поднять свою страсть.
– Это панты гуляй-гуляй, – сказал Лувен, – и многа стоят лекарства.
Как и особенно ценный Жень-шень, гуляй-панты, нарастая в цене, обойдут много разных рук, разных «купеза», пока, наконец, самый богатый и ловкий «машинка» не принесет их к самому сильному мандарину, незаметно сунет их в левый широкий рукав, а правой рукой мандарин сделает для купезы какое-то приятное дело.
– Мандарины тоже машинка? – спросил я.
– Мандарины гуляй-гуляй хочет, – ответил Лувен.
Мы нагрузили на себя мясо оленя, взяли его пятнистую шкуру, драгоценные панты, сердце, печень, усы, ковер леопарда, и когда, спускаясь с Туманной горы, были против Орлиного Гнезда, посмотрев туда случайно, я увидел там… Мысль моя, незаметно работавшая усиленно в эти часы, получив теперь себе на помощь дорогой материал, стала от этого ясной, и я сам утвердился в себе, и мне стало вдруг почти хорошо.
А увидел я то, что видел Лувен, прожив тут тридцать лет, множество раз: я увидел, как олень-цветок вступала через переузок на пастбище Орлиного Гнезда.
Указав Лувену на ланку, я сообщил ему простой план добывать постоянно много лекарства, и он в совершенном восторге сказал:
– Хоросё, хоросё, капитан!
И это мне было материалом для долгого размышления, и окончательно я и до сих пор того вопроса еще не разрешил: почему именно с того самого момента, когда я сообщил Лувену о своем маленьком открытии, он начал постоянно называть меня капитаном?
VIII
Лувен каким-то способом поймал прекрасного фазана и принес мне его показать.
– Давай кушать, – сказал я, зная, какое прекрасное белое мясо у монгольских фазанов.
Лувен отвечал:
– Кушать люби-люби не могу контрами[4], капитан.
Я отрубил фазану голову. Он сказал:
– Хоросё, капитан!
И принялся щипать. А потом мы, засыпав суп рисом, вместе с ним ели и наслаждались.
Конечно, это очень маленькое дело – отрубить голову фазану, но все-таки, раздумывая, почему же именно я вдруг для Лувена стал капитаном, не мог я не присоединить к материалу и это маленькое дело: свойство капитанов, оказывалось, не только делать открытия, но и рубить головы. Лувен, по-видимому, пришел в тайгу не тем глубоким и тихим человеком, каким он сделался в поисках корня жизни. Когда-то он вместе с китайцами-звероловами ловил оленей, изюбров и коз ужасной китайской лудевой; валил деревья тесно корнями друг к другу, оставляя кое-где между ними свободные места для пробега животных: тут, в этих свободных местах, были закрыты прутьями ямы, и в них животные падали, часто ломая себе ноги. Лувен настигал оленей по насту со своей маленькой собачкой, такой злющей, что она впивалась в бок оленю и мчалась с ним, пока он, изрезав вконец ноги о наст, не останавливался. С такими легкими собаками китайцы старались загонять по насту оленей в море и там на лодках ловили их и скручивали в воде веревками. Пойманных оленей держали у себя и кормили до тех пор, пока у них не отрастали панты, и потом, срезав ценные панты, убивали на мясо. Но трудно было теперь представить себе то время, когда Лувен вместе с другими китайцами-звероловами так жестоко расправлялся с редким, вымирающим зверем только для того, чтобы достать для богатых людей гуляй-панты. Так жизнь свою в тайге он начинал звероловом и, конечно, уж лучше мог разбираться в следах зверей и по следам догадываться о планах зверей, да, пожалуй, даже и сам мог по-звериному думать. Но я не испытывал к этому опыту таежного следопыта того благоговейного удивления, с которым некоторые говорят о таких следопытах. Я же – как химик, следопыт в тысячи раз более сильный, чем все эти таежные следопыты, взятые вместе. Что мне это знание дикарей-следопытов, если я могу сделать химический анализ любого вещества по качеству и вызнать количество его составных частей с точностью до четвертого знака! Мало того: я могу в любую область направить свое испытующее внимание, как в химии, и в короткое время обогнать любого следопыта, истратившего всю свою жизнь на личный опыт в одном каком-нибудь деле. Нет, не это испытующее внимание к жизни тайги дивило меня в Лувене, а то родственное внимание, с которым он относился ко всякому существу в природе. Меня удивляло не то, что он мог разбираться в жизни тайги, а все на свете оживлять. Видимо, какой-то глубокий перелом произошел в его жизни, отчего он бросил свое жестокое дело и это губящее жизнь дикое звероловство переменил на поиски корня жизни. Есть переживания, о которых никогда не следует ни рассказывать, ни спрашивать: сами по себе они мало говорят. Человек своей деятельностью рассказывает об этих своих глубочайших переживаниях, и другой человек, друг его, сам догадывается, рассматривая эти дела. Мне было известно, что у Лувена на руках была большая семья брата, и я часто думаю, что Лувен был глубоко обижен при каком-нибудь семейном разделе и ушел в тайгу смертельным врагом родного брата. Быть может, первые десять лет своего звероловства он истратил только на то, чтобы доказать своему отцу, считавшему его негодным работником, что средства к жизни он может добывать трудом своим лучше, чем брат. И вот прошло время, он приехал в Китай с доказательством в руках к отцу и с презрением к брату, а и доказывать было некому, и презирать было тоже некого: после какого-то страшного мора, как это постоянно бывает в Китае, осталась в живых только жена брата Лувена с кучей маленьких детей. Очень возможно, что с этого разу и переменился Лувен. Была раньше его жизнь для доказательства, а то вдруг стало некому доказывать. Я слышал потом от китайцев много подобных историй. И если бы то же услыхал я от самого Лувена о себе, то все-таки меньше бы это сказало мне, чем два великих тополя возле фанзы, посаженных когда-то руками Лувена. Как он радостно с ними встречается и бормочет всегда какие-то свои китайские слова разным, сидящим там, в зелени, в ожидании его, существам! Любимая его ворона была не серая, как у нас, а черная. Подумаешь с первого разу: «Вот грач!» – а потом присмотришься и вспомнишь, что у грача бывает нос белый, а тут он черный. «Так это ворон!» И вдруг из того черного ворона и крикнет наша обыкновенная серая ворона. Очень она была умная и, бывало, когда Лувен уходит в тайгу, долго провожает его, перелетая с дерева на дерево. Еще голубая сорока жила на дереве, пересмешник, зимородок, дрозды, иволга, кукушка, прибегала перепелка и кричала в кустах не «пить-полоть!», как у нас, а вроде как бы: «му-жи-ки!» И так все до одной птицы были видом точно как наши, сразу узнаешь, а что-нибудь одно маленькое в них так – и не так. Скворец тоже и черный, и нос желтый, и радужные отливы на перьях и тоже, как петь собирается, весь растопорщится, и вот-вот, думаешь, с волнением ожидаешь, как он по-нашему по-весеннему защелкает, – и ничего не дождешься: хрипит, и больше ничего. А кукушка кричит не ку-ку, а ке-ке. Со всеми ними Лувен беседовал по утрам, подкармливал, и мне очень нравилась эта дружба и какое-то родственное внимание ко всем живым существам. Особенно нравилось мне, что это не было у Лувена как-нибудь из-за чего-нибудь или навязывалось другим как хорошая жизнь, ни о каких примерах он не думал, а так все само из него выходило. И так ему попался фазан, конечно же, надо бы съесть, но как это сделаешь, если надо «контрами»? Вот он просит сделать «контрами» человека, более для того способного, капитана. Зато с каким удовольствием узнал он, что сам капитан возмущается истреблением прекрасного исчезающего зверя, что он хочет охранять его и разводить!
Выполняя мой план, мы тут же, в своем распадке, нарубили много виноградных, лимонных и всяких лиан, закоптили эти веревки на огне, чтобы зверь далеко чуял эту копоть, узнавал в ней человеческий истребительный замысел и побаивался. Тут же мы сделали санки, чтобы можно было на них навалить все эти лианы и везти одному человеку. Далеко до рассвета я был на Туманной горе, дождался, когда олень-цветок провел своего олененка на мыс Орлиное Гнездо, и развел сигнальный огонь. Спускаясь после того, я не достиг еще и половины Туманной горы, когда Лувен занял место на переузинке, и дело ланки-матери было кончено: она скорее бы бросилась в море на острые камни, чем решилась идти прямо на человека, она была заперта, и с этого разу мыс Орлиное Гнездо сделался маленьким и самым красивым в мире скалистым зоопарком. Мы до ночи работали, перетягивая свою копченую веревку из лиан поперек переузинки. Утром, прячась за камнями, мы дождались часа, когда олени с пастбищ переходят на свои родные тенистые места в распадках, и увидели, как олень-цветок спокойно шла к выходу по оленьей тропе на скале. Вчера мы той тропой ходили на мыс, чтобы срубить себе для столбиков одну пинию. Теперь ланка дошла до наших следов, остановилась, раздула ноздри, что-то почуяла внизу и наклонилась. Потом она высоко подняла голову, при чуяла по воздуху запах копченой лианы, вгляделась в место нашего пребывания, уверилась в опасности, свистнула, побежала обратно, и за ней в дубовых кустарниках, не упуская из виду ее белого раздутого зеркала, кое-как запрыгал и олененок.
Теперь я был уверен, что эта ланка-мать и была моя Хya-лу: левое ухо у нее светилось дырочкой. Проводив ее глазами, мы, веселые, вышли из своей засады и с этого же пазу приступила к ежедневной работе над изгородью. Так мы добровольно соединились: я, обученный европеец, с точки зрения китайца – капитан, способный быстро во всем разбираться, придумывать новое, делать неожиданные открытия, и этот старый искатель Жень-шеня, не только знающий тайгу и зверей, но умеющий глубоко их понимать и соединять вокруг них все в тайге своим родственным вниманием. В смысле истинной человеческой культуры я угадывал в нем старшего и относился к нему почтительно. Он, вероятно, видел во мне светлого европейца и относился ко мне с тем радостным удивлением и теплой дружбой, как относятся многие китайцы к европейцам, если только бывают уверены, что европейцы не хотят их насиловать и обманывать. В то время, конечно, я и не подозревал, куда приведет нас начатое дело и что оно наряду с воздухоплаванием и радио есть именно самое новое дело. Приручением животных люди занимались только на заре человеческой культуры и, добыв себе несколько видов домашних животных, почему-то забросили его и продолжали с домашними жить по рутине, а диких стрелять. Мы возвращались к этому заброшенному делу с накопленным за это время безмерным знанием, и, конечно, и мы были другие, и по-другому должно было создаваться дело, начатое на заре человеческой культуры дикарями.
IX
Сибирь начала дышать в нашу сторону, и субтропики южного приморья начали одеваться в сибирский наряд. Давно исчезли все до одного светящиеся насекомые в горах. Фазаны взматерели, вышли из крепких убежищ в причесанных тайфунами дубовых кустарниках и всяких других крепких зарослях. В прохладных утренниках закраснелся лист винограда, ясень стал золотиться. А самое главное, постоянные туманы исчезли, и как у нас солнце весной является, так явилось оно тут осенью – и какое солнце явилось! Оно светило тут совершенно так же, как светит солнце в Италии, и в этом свете сибирская осень вспыхнула и зацвела гораздо ярче всех весенних цветов обыкновенного нашего климата. В один из первых сентябрьских утренников в тайге заревел изюбр, и раз лунной ночью мы с Лувеном в своей фанзочке слышали рев, потом сухие ударь рогов. А еще было раз: заревел где-то изюбр, и ему в другой стороне ответил кто-то, почти как изюбр. Лувен заметил тонкую разницу между ревом первого изюбра и второго Тигр тоже будто бы может реветь, подражая изюбру, и человек подманивает взволнованного гоном зверя в берестяной рожок; второй должен быть, говорит Лувен, тигр или человек. Мы стали прислушиваться и угадывать, кто ре вел – тигр или человек. Скоро первый рев стал приближаться к другому, неподвижному, и все ближе и ближе тесней, тесней, – и все замолкло. Изюбр молча подходит, и только слегка изредка где-нибудь треснет сучок. Тигр залег на опушке полянки и готовит свой ужасный прыжок. Человек взвел курки и, подражая зверю, нарочно треснул каким-то сучком. Страшно замолкла тайга в своем ужасном вопросе: тигр или человек? И вдруг в тишине раздался определенный винтовочный выстрел. Дело решил человек.
Расцветающие, ярко вспыхивающие в обильном свете перед зимней спячкой деревья и этот мучительный рев страдающего зверя, – вот у них, у оленей, какая любовь! Однажды в кустах я нашел два черепа со сплетенными рогами. Силачи-изюбры с восьмиконечными сплетенными рогами погибли в бою за самку, а какой-нибудь плутишка после того был счастлив, – не так ли обидно это бывает и у нас, у людей?
День за днем крепче утренники, горный камыш на рассвете является в кружевах и, только уж когда солнце взойдет, обдастся росой и засверкает каплями. Остается немного ждать, и мороз не будет очень-то бояться утреннего солнца, и кристаллы его засверкают на солнце еще много ярче капель воды. Во время гона изюбров пятнистый олень готовится к своей мучительной поре. Не раз я видел в лучах вечернего солнца в тайге, как рогач-олень терпеливо, заботливо вытирает о дерево шерстинки со своих теперь уже крепко-накрепко окостеневших рогов. Пока ревет изюбр, он готовится к бою, и когда мороз хорошенько проберет спеющий виноград и он сделается сладким, пятнистый олень начинает реветь.
Нам надо добыть рогачей для нашего питомника пятнистых оленей, и мы тоже с Лувеном готовимся к гону. Мы хотим приучить к себе Хуа-лу, чтобы во время гона можно было ее выпустить и, когда рогачи из-за нее начнут бой, позвать привычным зовом в берестяной олений рожок, в надежде, что за ней прибегут к нам и обезумевшие от страсти своей рогачи. Горе наше было в том, что на пастбище Орлиного Гнезда в этот год был урожай питательных оленьих трав, и Хуа-лу пробавлялась на нем, не обращая внимания ни на веники наши, собранные из веток самых вкусных для оленей деревьев, ни на зерна кукурузы и сои. Среди метелок горного камыша, уже сов-сем пожелтевшего, она находила низенькую, нам совсем в желтом пастбище не заметную травку и очень просто проводила свое время: то, склоненная к земле, выщипывала эту зеленую травку, то стояла неподвижно в тени дерева, кормила олененка, случалось, лежала и старалась выбирать у себя и у олененка зловредных клещей. С какой радостью однажды наконец-то я увидел, что она, почуяв мой след, не убежала, как раньше, а прошлась немного по нем, как будто любопытствуя узнать, не спрятался ли поблизости я где-нибудь, и когда увидела меня, то не бросилась, как олени, очертя голову, а только круто обернулась и тихонько стала удаляться вместе со своим олененком. Другой раз было, когда она почуяла мой след и я заиграл, и она, увидев меня, играющего на берестяном рожке, остановилась и долго слушала. Она старалась понять, к чему это все, но, конечно, в конце концов ничего не поняв, топнула, свистнула и тихонько ушла, вероятно, понимая, что так-то, по старинке, будет верней. Каждый день я непременно играл ей и добивался только того, что она, заслышав рожок, переставала траву щипать и шла на рожок, пока не видела меня, потом долго стояла и слушала: пока я играл, она все стояла, а ее олененок от нечего делать часто, случалось, сосал ее. Но я не мог в первое лето приучить ее подходить вплотную к себе на рожок.
Между тем морозики, хотя и очень легкие, подсушивали и красили все листья. Мелколиственный клен запылал, светло-красный, зажелтели огромные смелые листья маньчжурских ореховых деревьев. А что теперь было на берегу Зусухэ, где я впервые увидел Хуа-лу достающей на задних ногах изумрудный в просвете лист винограда! Там, где летом был целый зеленый аул из заплетенных виноградом деревьев, все эти хижины теперь от винограда стали красными, и та зеленая куща, где случилось мне провести свой роковой час, особенно выделялась красным и желтым. Раньше казалось – виноград совсем задушил какое-то дерево, теперь стало видно, что дерево и под зеленью винограда достаточно находило себе света и жило: это маньчжурское ореховое дерево теперь из-под красных листьев винограда просвечивало золотом, и всюду: то на красном, то на желтом, там и тут висели чуть тронутые морозом спелые черные кисти амурского винограда.
Однажды ночью Лувен разбудил меня и просил выйти. Он показал мне в ту сторону, где Большая Медведица, опираясь на черную гору углом своей обыкновенной кастрюльки, как бы вытаскивала из-за черного хребта последнюю недостающую звезду своего хвоста. Какие звезды начались! Сколько их сыпалось! Было сухо, прозрачно, морозило, и вот в тишине с горы, из-под Медведицы, послышался совсем особенный звук: он начинался свистом, как обыкновенно у пятнистых оленей, а потом, обратно сирене, с очень высокого свиста рев падал быстро, все более и более густым звуком, на самый низ. На другой, противоположной стороне распадка этому свисту-реву ответил точно такой же, и дальше, на Туманной горе, слышно, ревело еще, и дальше – чуть слышно, как эхо нашего рева, и еще дальше – как эхо нашего эха.
Наступило давно ожидаемое нами время. Начался гон пятнистых оленей.
Рев продолжался до утра, и когда рассвело, мы увидели – на склоне горы, у поляны, стоял большой рогач с заметной черной полосой на спине. Он был очень похож на того Черноспинника, подходившего с другими оленями к ручью, когда я в нем купался. Этот рогач теперь казался издали еще более строгим, чем я видел его тогда. С высоко поднятой головой, он тихонько прохаживался, постоянно озираясь по сторонам и как бы ожидая чего-то в тревоге. Потом, видно, что-то случилось в кустах, и он туда со всех ног бросился, а из куста выскочила лапка, помчалась, и он – за ней, на хребет. Как раз в этот момент из-за хребта прорвались первые лучи восходящего солнца, весь обмороженный горный камыш засверкал, и сверкание всей горы нас ослепило. Когда мы с Лувеном взбежали наверх, то ланка уже спряталась в табунке пасущихся, как – бывает – в играх резвая девушка успеет скрыться и стать недоступной среди подруг. Но вот из-за этой единственной ланки теперь никому из всего табунка нет больше пропуска. Черноспинник медленно ходит. Он еще ночью где-то выкупался в грязи, вероятно, успокаивая насколько возможно свою мучительную страсть. Живот его судорожно сжимается. Ничего не ест. И, видно, никакой отрады, ничего, кроме мученья, не дает ему страсть, и вся жизнь его теперь выходит в почти непрестанном и мучительном реве. Нет ему ни мгновенья покоя. Если хоть одна ланка из гарема вздумает немного отбиться, он сейчас же спешит и возвращает беглянку обратно в табун.
Вдруг олени все повернули головы в одну сторону, и там, из-за сопки, начали вырастать чьи-то рога. Черноспинник насторожился, но рога оказались ничтожными: подходил по следу той же самой убежавшей ланки какой-то средний, самый обыкновенный рогач. Черноспинник не стал даже его отгонять, а только поморщил нос, фыркнул, и тот, как вкопанный, стал на склоне, не смея ни на один шаг продвинуться. Чуялись следы и по ветру и по земле. Оттуда, с горы, по той же самой тропе рогачи проходили, обнюхивая след ее, и шли вперед, как бы кланяясь, исчезая за последней сопкой и вдруг всем показывая из-за нее свои рога. Но все это были такие, что по одной только игре ноздрей Черноспинника останавливались. Показались и дерзкие. Черноспиннику приходилось, сморщив нос, выкинув набок серый язык, бежать на них и прогонять. Выли и такие, что их прогонят, а они потихоньку опять начинают наступать, пока сам хозяин гарема не поймет, что нет никакого вреда ему и убытка, если эти поганцы, не шевелясь и довольствуясь лишь пахучим воздухом, будут стоять возле стада. Были молоденькие, со шпильками вместо рогов; те от нечего делать, подражая взрослым оленям, свистели, храпели друг на друга и лоб в лоб долго упирались, стараясь один другого спихнуть с места. Так мало-помалу наладилась обычная в жизни оленей длительная простота, что-то вроде нашего человеческого быта в пору длительного мира: ланки мирно паслись, укрывая в своем табуне хотя еще и неохочую, но близкую к этому ланку, сайки потешно скрещивали свои шпильки, как бараны, упираясь лоб в лоб, рогачи-ассистенты чинно стояли вполгоры, подчиняясь воле могучего хозяина гарема. И вдруг все стадо, что-то при чуяв необыкновенное, повернулось в сторону к той сопке, из-за которой приходили все рогачи по следу охочей ланки. Скоро все увидели, что из-за сопки наверху начали показываться рога – и какие! Рога медленно вырастали, и казалось, все встревоженные олени думали: да когда же конец? Но когда вслед за рогами показалась могучая голова с непобедимым лбом, все положение сразу определилось: пришел самый сильный, властелин тайги. Я тоже сразу же догадался, что могучий олень-рогач был тот самый Серый Глаз, на которого с таким восхищением смотрел я в первый день своего прихода в распадок Чики-чики. Он и тогда мне казался в сравнении с другими, и даже с Черноспинником, очень внушительным, но теперь шея у него ужасно раздулась, зимняя серая шерсть из-под шеи висела, как бороде, кровяные чувствительные панты теперь стали страшным оружием с надглазными отростками, бьющими насмерть врага. Как и Черноспинник, он весь был в грязи, живот его, грязный, забрызганный своею же похотью, конвульсивно сжимался, – зверь был готов на все, лишь бы только сохранить за собой единственное право на продолжение оленьей жизни в новом поколении, зверь был вне себя. Завидев табун, Серый Глаз остановился только на одно мгновенье и сразу все понял, и все поняли сразу его: по всей вероятности, силы рогачей были смерены в боях прежних лет, а может быть, сила просто видна в своем внешнем выражении. Все рогачи, бывшие между стадом и Серым Глазом, так и шарахнулись в сторону. По всей вероятности, у Черноспинника с Серым Глазом были свои старые смертельные счеты и, может быть, неписаный договор о том, что Черноспинник не должен попадаться Серому Глазу, а если встретились, то уж не отступать и биться до всей погибели. Рога, конечно, страшное оружие, но не в рогах все-таки дело, – были случаи, комолый олень ломал ребра рогатому. Но рога Серого Глаза показывали скрытую силу. Зато в злых глазах Черноспинника как будто таился замысел устроить силачу ловушку или подвох: «Себя не пожалею, но и тебе будет не сладко!» Серый Глаз, однако, не хочет тратить времени и открыто, загнув голову, бежит и бьет рогами в рога Черноспинника и лбом в лоб. Черноспинник подался, но выдержал и устоял на ногах, а ведь только бы устоять: если упал даже просто на колени, противник успеет, высвободив рога, воткнуть надглазный отросток в бок, в сердце – и тогда кончено. Биться рога в рога, лоб в лоб можно сколько угодно, лишь бы не ослабеть, лишь бы не упасть. И все обещало бой затяжной, изнуряющий, но случилось – во время своего удара Черноспиннику попался под ноги пень, и благодаря упору передних ног в этот пень удалось нанести такой удар Серому Глазу и так неудобно сошлось, что властитель тайги припал на колени. Но Черноспиннику не удалось воспользоваться выгодным своим положением. Поняв смертельную опасность, Серый Глаз мгновенно оправился и с такой силой ударил, что Черноспинник не только упал на передние ноги, но даже и покачнулся, чтоб рухнуть на бок. Казалось, Серый Глаз сейчас жe освободит рога и падающему даст в бок с такой силой, что тот, упав, больше уже и не встанет. Так непременно бы и получилось, но вдруг почему-то Серый Глаз стал падать вместе с погибающим соперником, и оба теперь бьются и хрипят па земле, как будто в смертельных конвульсиях.
Трудно было понять что-нибудь в этом событии, но Лувену случалось это видеть, он первый понял, очень обрадовался и бросился как можно скорее бежать за веревками: все это значило, что олени сцепились рогами, и пока не разнялись или не изуродовали себя, мы должны были связать их.
Такая удача, такой удивительный случай!
Но это не дело, если нет счастливого случая, так всегда бывает, а потом приходит случай несчастный… С первого шагу наше дело отлично пошло. Мы сумели связать двух отличных рогачей, в наших руках был властитель оленьего гона. Серый Глаз, и злейший враг его, Черноспинник, и еще четырех рогачей помоложе и двух сайков поймал Лувен в лудеву.
X
Предрассветный час в моем понимании дается человеку взамен того обыкновенного счастья, когда люди, насладившись близостью или, напротив, измучив друг друга попреками, ревностью, предчувствиями чего-то грядущего, страшного или криком больного ребенка, поутру спят как убитые. Эта обыкновенная смена боли и радости, конечно, и во мне происходит, но в счастье этом строится дом, а в предрассветный час, данный мне вместо счастья, я, соединенный со всеми силами природы в единое целое, делаю то незаметное общее дело, благодаря которому счастливые люди, проснувшись в лучах солнца, часто в восторге говорят: «Ах, какое нынче прекрасное утро!» И я теперь, искушенный в жизненных предрассветных догадках, с уверенностью говорю, что в основе всякого истинного счастья непременно лежит эта незаметная и совершенно бескорыстная работа всех соединенных сил мира в предрассветный час. Я встаю всегда раньше даже Лувена и несколько десятков минут, прислонясь плечом к чему-нибудь твердому, чего-то дожидаюсь и думаю, пока не дождусь решения: дней, до точности похожих друг на друга, как два стула, не бывает в природе, день показался один-единственный раз и ушел навсегда. Вот по мере того, как в предрассветный час определяется этот новый, еще никогда не бывалый в своем качестве день, я тоже о чем-нибудь своем согласно думаю, и когда все сойдется во мне, а извне сложится наступающий день, я выхожу на работу. Впрочем, конечно, бывает – утро как-то размажется, и в нем ничего не поймешь, и мысли не сложатся, и топор мой тюкает просто по-заведенному сегодня, как вчера. Пока на земле еще сумрак, удивительна и необычайна жизнь неба в этом краю осенью и во все зимнее время после непрерывных весенних и летних туманов. По виду зимнего неба, с его силой света итальянского солнца, при рассвете должна бы открыться земля необыкновенно цветистая, но сибирский ветер все погубил, и весь великий свет обращается к морю, и все оно, весь океан голубеет, и чернеются на голубом разные скалы, и на скалах пинии, эти вечные борцы с тайфунами, всегда разные, ни одна на другую не похожие. Потом, когда свету сильно прибавится и откроется по голубому в бесконечность золотая дорога, то и на земле, если встретится хоть какой-нибудь цвет, всякое маленькое, даже блекло-цветистое пятнышко превращается в самый яркий цветок. Вот теперь от всей моей зеленой виноградной кущи, где я когда-то встретил Хуа-лу, осталось одно черное дерево, по сучьям своим обвитое черной виноградной лианой, а там, где в шатре было мое окошко, теперь висит лиана петлей, и в этой петле трепещется единственный лист винограда, быть может и не очень красный, но при таком свете – как кровь. А вот на безжизненном желтом пастбище показываются пятнами, как блюдечки, покрасневшие остатки листьев азалий до того заметно и такие живо-красные, что кажутся кровью убитых оленей: пролилось и осталось красным блюдцем.
Вот озаряется утренним светом вся земля; показываются в лощинах скрытые до сих пор уголки оленьего пастбища, дубовые кустарники со свитыми в серую трубочку дубовыми листьями, – это зимний корм пятнистых оленей, не умеющих, как северные простые олени, копытить траву под снегом. А что, если эти липовые и дубовые заросли снегом завалит? Чем же мы будем в зимнее время кормить своих оленей? С этой тревожной мыслью больше невозможно стоять, прислонясь плечом к дереву. Мы берем топоры и отправляемся рубить веники…
Лувен дал знать в тайгу, и в нашу фанзу пришли китайские рабочие. В загороженном Орлином Гнезде, где свободно паслась одна Хуа-лу, мы построили питомник оленей со стойлами, со двором для выгула и панторезным сараем. Мы целый день работаем, а вечером я вычисляю, записываю, выдумываю конструкцию панторезного станка, и множество тут надо было, при нужде нашей в железе, гвоздях, проволоке, придумать всего, чем можно бы заменить крючки, петли, винты. С изумлением смотрю я на китайцев, как они в карты играют: если кому-нибудь приходит счастливая карта и банк достается ему, то он не дает себе труда открыть товарищам карты и показать счастливую, – он просто бросает карты вместе со счастливой в общую кучу и загребает банк. Никто и не думает его проверять, обман невозможен. Так прекрасно. А между тем, если случится все-таки обман, то обманщика не за ухо потреплют, как у нас, а просто убьют, и оттого, боясь смерти, никто не позволяет себе обманывать: как будто и не очень прекрасно… И множество всяких неразрешимых вопросов является; иногда думаешь – оттого нельзя их решить, что для справок нет ни книг, ни людей образованных; на самом же деле, как я потом убедился, вопросы эти при справках с чужими мыслями заглушаются временно и отсрочиваются, но не решаются: вопросы эти невозможно решить просто сидя, – решение этих вопросов в деле, согласном со всей переменой во времени. Главное, что меня разделяет с китайцами, это – что я все считаю, записываю и во всем отдаю отчет себе самому. У них же все на доверии и все в памяти. Довольно только того, что я все считаю, все записываю, вычерчиваю маленькие планы питомника и панторезных станков, чтобы все эти люди звали меня капитаном…Почему это? Да, есть много вопросов, таких острых, так необходимо кажется их решение, а между тем справиться негде. Я хотел бы знать точно, какого именно происхождения моя капитанская власть. Является ли эта власть частью силы капитана всего мира Европы, имевшей уже довольно давно над всеми странами превосходства счета, записи и действия, или я стал капитаном в глазах китайцев просто за одно то, что я, белый, в их глазах являюсь деятелем капитана-капитала… Мне очень много приходит в голову разных вопросов, и невозможность решить их иногда приводит к страданию от одиночества, к такой острой боли, что я лишаюсь способности считать, записывать и выдумывать проекты панторезных станков. В это время старый Лувен всегда мне приходит на помощь, и не прямо, а как-то больше улыбкой всегда сумеет напомнить мне, что мой корень жизни цел и только замер на время: олень копытцем своим наступил на головку ему; пройдет сколько-то лет, и его цвет на стебле непременно поднимется вверх. Я думаю иногда об этом так упорно и долго, что этот корень жизни превращается в легенду, пульсирует вместе с кровью моей, становится силой моей, и вдруг вместо острой боли является такая же острая радость, и мне хочется и Лувена, и всех китайцев-рабочих чем-нибудь тоже обрадовать. На ужасном языке «моя по твоя» стараюсь доказать Лувену необходимость счета и записи для восточных народов, чтобы сохранить все свое для себя и тоже быть капитанами. По доброте своей Лувен и птиц и зверей понимает, а не только меня.
– Твоя считай, – говорит он, указывая на бумагу, – ты это понимай?
– Да, да, конечно, с пониманием.
– А моя считай понимай нет, наша тебе помогай, так и будет хоросё, хоросё: многа-многа лекарства! Твоя считай, наша тебе помогай!
XI
Когда кончился гон и последняя оплодотворенная ланка ушла зимовать в родные распадки Туманной горы, рогачи, измученные ревом, постоянным хождением в поисках ланок, голоданием, ненавистью друг к другу, теперь как ни в чем не бывало собираются в табунки и отправляются лечиться от ужасной болезни повыше в горы, в кедровники. В то время и мы своих пленников из денников питомника выпустили во дворик, и все они, недавние враги, стали мирно кормиться в длинном корыте, сделанном из одного громадного дерева с пустой сердцевиной. Тут был могучий Серый Глаз – властитель оленей; буковатый Черноспинник с мрачным загадом в глазах; Щеголь – молодой трехлетний олень, собранный весь в струнку, с очень редкими у пятнистых оленей большими карими глазами; Мигун – небольшой, но коренастый и очень добродушный: если посмотреть ему прямо в глаза, то он непременно мигает; Развалистый и Круторогий, по-видимому – родные братья: у всех оленей пятна разбросаны в беспорядке, а у этих белые пятнышки располагались по красной шерсти правильными рядами, наверно от одной, такой же, ланки. Молодежь, сайков, мы стали звать почему-то просто Мищутками. Выгул оленей представлял собой не совсем маленький двор, совершенно неправильной формы, потому что столбами нам служили деревья на корню. И в самом дворике ни одно дерево нами не было тронуто, чтобы в жаркий день пантач мог укрываться в тени. А еще деревья оставались для того, чтобы к ним, в случае нужды, можно было прибить жерди треугольником, и тогда весь дворик приобретал форму треугольника, вершиной обращенного в узкий коридор с денниками; стоило только нажать на оленей в основании треугольника, и они все бы непременно вошли в коридор с денниками. В конце коридора был панторезный станок: это ящик с подвижным дном, олень в нем проваливается и висит, удерживаясь боками в подпорных досках, а ноги его болтаются в воздухе. Так можно было каждого оленя во всякое время поймать для срезки пантов или для взвешивания.
Вся долгая и довольно-таки шумная работа китайцев по устройству выгула, питомника с панторезным станком много задерживала приручение Хуа-лу; в это время она со своим Мишуткой забилась куда-то в дебри скал и пряталась между соснами в самом конце мыса. Я там давно уничтожил орлиное гнездо, чтобы хищники не волновали оленей, способных в момент испуга скопом разрушить всякое препятствие и убежать. Когда же на мысу с питомником дело было покончено и снова все затихло, я снес туда, в сосновые скалы, корытца с соевыми бобами и несколько дубовых веников. В скалах есть было нечего, Хуа-лу сильно проголодалась и, конечно, в первую же ночь истребила все бобы и веники. Тогда я передвинул корытце поближе в сторону питомника, еще подсыпал бобов и поиграл немного на берестяном рожке. Вскоре она стала появляться, была вся на виду, и сколько бы я ни играл, все стояла и слушала. Я уже начинал подумывать, что игра на рожке ей доставляет удовольствие, но однажды она осмелилась подойти к корытцу во время игры и, угнув голову, стала есть; с тех пор она постоянно ела и не обращала внимания, играл я или так стоял и наблюдал. Мало-помалу я довел ее почти До питомника, пробовал даже ставить корытце у самых открытых ворот дворика, но сколько я ни играл на рожке, она войти туда не решалась.
Недолго, однако, пришлось с ней возиться. Настало время, когда и всякий вольный олень, если бы только знал, в каких условиях живут наши пленники, пришел бы сюда и сам стал проситься пустить его к корыту с бобами. Был такой день, когда у нас вдруг совсем неожиданно наступила зима. Случилось раз вечером, я увидел наверху группу скал, похожих на оленей, и залюбовался, принимая эту скульптуру за случайную игру света и тени в горах были там три взрослых оленя, две ланки, один рогач, с ними саек и два олененка. Все эти различно поставленные головки веером собирались на фоне вечернего неба. И вдруг одна из этих скал, похожая на оленя, шевельнулась, и мало того, сюда, вниз, долетел чуть слышный олений свист. Оказалось, это были на такой высоте олени, и тоже наверху другой щеки были олени, и на высоких ребрах падей Туманной горы тоже, сливаясь в сумраке с горами, везде были олени. Лувен, увидав оленей на горах, сейчас же принялся поправлять сетку, стягивающую тростниковую крышу нашей фанзы: он был совершенно уверен в том, что если олень вечером вышел на гору, то назавтра быть непогоде. Я тоже по какому-то смутному предчувствию ждал событий в природе. Мне казалось неестественным, страшным, что последние дни совсем не отличались друг от друга, как будто это был один-единственный день, отраженный в зеркалах: тихо-тихо, морозно, безоблачно, и жуть оттого, что над совершенно мертвой, в желтом цвете застывшей пустыней светило-то все-таки итальянское солнце сорок второй параллели! Никем не обжитая земля, неизвестная природа! Мне казалось, будто я попал в край вечной революции, где весеннее солнце днем вызывает движение сока в деревьях, а вечером от мороза обманутый сок замерзает, и все дерево от низу до верху разрывается в трещины. Десятки лет, а бывает, и даже столетия под скалой укрывались могучие деревья, и вдруг развалилась скала, стала россыпью, а тайфун расшвырял деревья, как коробочку спичек. А что делают наводнения! И как это странно, что человек, разумнейшее существо в природе, должен справляться у оленя о завтрашнем дне!
С волнением выхожу я наутро в предрассветный час узнавать, что же нам предсказали олени. И когда начало определяться, то вдруг у меня, как у оленя в панторезном стайке, под ногами исчезла опора, спутались страны света, времена года: стало очень тепло, появились летние облака, очень светлые, потом темные, прекрасные, добрые тучи, и началась небывалая здесь за все лето отличная наша гроза с громом и молнией. И так было до вечера.
Казалось, олень обманул; как вдруг вечером стало очень холодно, застыла в ведрах вода, и начался снежный тайфун.
Но что делают горы! Между высокими щеками нашего распадка мы спокойно сидим у огня в своей фанзе, слушаем рев и свист и особенный грохот падающих скал: что-то особенно грохнуло у моря, и мы подумали о скале, висевшей над самой тропой. А то вдруг станет совсем тихо, как будто чудовище Тайфун огромной длины все летело-летело над нами и кончилось хвостом: улетел хвост, и началась тишина В это время море с великим, каким-то подземным грохотом выкатывало на берег гальку – бесконечное множество своих круглых придонных камней, и скоро эту гальку уводило обратно, и она была недовольна, ворчала и роптала. Море успело так выкатить свою гальку и увести ее обратно раз десять, как вдруг со всем свистом и ужасом, все заглушая, вернулся Тайфун и опять в черноте над нами долго летел, пока вот опять послышался с моря гул и ропот: накатывало гальку и уводило, а Тайфун в это время повертывался…
Не будь благодетельных юр, наша фанзочка взвилась бы вместе с нами, как фазанье легкое перышко, и все бы олени взлетели, и барсы, и тигры. Но звери еще накануне почуяли опасность и переходили в заветренные места. Там, в оленьих отстоях, они стояли в совершенном безветрии и даже, от нечего делать, стоя заламывали сучки на деревьях. Не раз на охоте в горах я видел эти оленьи отстой, узнавал их издали и по заломам, и по набитой земле. Но, конечно, мы это предусмотрели и питомник устроили так, чтобы тайфун совсем не задевал наших оленей. Но было страшно думать о Хуа-лу, – весь мыс Орлиное Гнездо продувался, и укрыться можно было только в одном отстое, где был устроен наш питомник: она могла спастись только в нем.
Мой предрассветный час в тот раз помог глазам моим мало-помалу привыкнуть к белому, но и то глазу почти невыносимо было потом сверкание снега при свете итальянского солнца. С меньшей силой, но тайфун продолжался, а нам непременно надо было пробраться в питомник и спасти Хуа-лу. Мы шли между сопками, опасаясь встречи с ветром точно так же, как при скрадывании зверей на охоте, и след наш теперь так странно оставался на снегу. Быть может, где-нибудь теперь и голодный тигр выходил и тоже оставлял свои тигровый след на снегу? Или он предпочитал голод этому ужасу – видеть свои след на снегу? Снег ложился, конечно, только в лощины, на обдувах по-прежнему волновался желтый горный камыш, но переходить эти обдувы нам было трудно: мы их переползали, как ящерицы, и нас таких, ползущих, тайфун хотя и хватал, но не мог оторвать от земли. С последнего обдува мы увидели весь мыс Орлиное Гнездо и порадовались нашим оленям, спрятанным в стойлах, а Хуа-лу со своим Мишуткой стояла в лощине против питомника с таким видом, что вот только ждала, как бы кто-нибудь открыл бы ворота и пропустил ее во дворик. Она там, в лощине, и ушами не повела, когда мы открыли ворота и вошли. Я взял корытце, так хорошо ей знакомое, насыпал туда бобов, поставил на середину дворика. Зацепив ворота веревкой, чтобы можно было потянуть и закрыть ворота, мы с Лувеном зашли в пустой денник и для света чуть-чуть приоткрыли выдвижное окошко. В эту дырочку я стал направлять звук своего берестяного рожка, а Лувен держал веревку, чтобы дернуть за нее по моему приказанию. При первых звуках рожка у ней подобрели, уменьшились глаза, уши, обычно столь строгие, разошлись кое-как в разные стороны; вытянув шею, она стала перебирать ноздрями и сделала первый маленький шаг. Я еще поиграл, она еще раз ступила, и еще, и еще. У самых ворот она остановилась, впала в раздумье, а я нарочно молчал, чтобы она не очень привыкла к зову. Лучше рожка ее манили сами бобы, теперь уж ей хорошо видные. Помолчав, я вновь заиграл и все этим решил: она тронулась, подошла к корыту, поела немного, и тут я сделал знак Лувену. Он осторожно потянул за веревку, и ворота закрылись для нас совершенно неслышно. Она же, конечно, услыхала, обернулась, поставила уши рожками. Ей не показалось странным даже, что ворота были теперь закрыты, ее занимал один вопрос – можно ли беспрепятственно есть бобы? И когда она в этом уверилась, то опять нагнула голову к корыту и стала черными своими губами хватать понемногу приятные желтые бобы.
XII
Не раз приходило мне в голову во время зимы сходить посмотреть зимой на Жень-шень. С трудом я представлял себе эту жизнь под снегом нежнейших из самых нежных растений субтропиков. Как мог этот корень пережить всю перемену южного климата в такую ужасную сторону? Мне тоже очень хотелось видеть и самую Певчую долину под снегом, послушать ее тишину без птиц и летних музыкантов – кузнечиков, но такая была работа зимой по уходу за оленями, что так и не удалось собраться. Мы занимались кормлением, чисткой денников. Я не могу все-таки сказать, чтобы тот черный труд мне прискучил. У меня никогда не проходило особенное чувство к Хуа-лу, как будто это был не просто олень, а еще цветок, притом особенный, связанный самому мне еще не понятными возможностями моей собственной, еще не раскрытой личности. Да и все другие олени, и все это возникающее большое новое дело было и моим личным делом, и в то же время для себя я от него ничего не ждал и на будущий доход наш смотрел, подобно Лувену, как на какое-то лекарство для будущих, мне еще не известных людей. Мне же лично самое дело было лучшим в мире лекарством. Целыми часами я следил иногда, как Хуа-лу переводила ушами в разные стороны, и я потом смотрел туда, где она слышала; бывало, долго гляжу, пока это не завижу своими глазами. Случалось, орел пролетал или волк проходил, и тогда ее длинные слезницы под глазами расширялись, и от этого ее и так-то прекрасные большие глаза становились огромными. Хуа-лу теперь я не только мог во всякое время гладить между ушами, но даже приучил ее к нашей Лайбе: собака всегда присутствовала во дворике при общей кормежке оленей. И все олени к ней очень скоро привыкли и не обращали на нее никакого внимания. Не совсем равнодушна к Лайбе из-за своего Мишутки была одна Хуа-лу. Она отлично понимала, что Лайба не посмеет тронуть олененка, но инстинкт матери заставлял ее все-таки постоянно коситься на нее во время еды, и при всяком удобном случае она старалась собаку подальше отогнать от себя. Лайба, однако, была так увертлива, что ланка никогда не могла попасть в нее своим острым копытцем. Только раз было, Лайбу укусила блоха, и, как в таких случаях поступают собаки, вдруг она забыла все на свете и, сосредоточив свое злобное внимание на одной блохе, стала, сморщив нос, зубами по брюху доходить До блохи, а задние ноги торчали. Это заметила Хуа-лу, подбежала к собаке, подняла переднюю ногу… В то же самое время все олени, Мигун, Развалистый, Круторогий, Щеголь, даже Серый Глаз, даже Черноспинник, бросили есть и с интересом смотрели. В то время я уже начинал понимать их смех, как у них бывает не на щеках, а в глазах что-то мелькает, и особенно было заметно это шаловливое выражение глаз у Хуа-лу, когда она подняла вверх переднюю ногу и с наслаждением легонечко тюкнула Лайбу. Что тут было!
Зима была страшна не так морозами, как сильными холодными ветрами. Ни на вершинах гор. ни на ребрах их снег не держался, злые ветры, тайфуны, его сдували, но в лощинах, падях, распадках и горных долинах снегу было довольно, и только благодаря следам на снегу я однажды раскрыл план нападения красных волков и угостил их свинцом. Снег открыл мне раз, что в той самой Барсовой пади, где я застрелил леопарда, жила его самка с двумя барсятами. Раз по намерзи вверху дерева я догадался, что внутри его спал медведь, как оказалось – небольшой, белогорлый. Пришлось однажды видеть на снегу след тигра.
Когда начались сильные холода с ветрами, все олени с сиверов перебрались на солнцепеки и тут кормились в дубовых кустарниках. Умей они, как северные олени, копытами разбивать снег и доставать себе сухую траву, страшной для них могла быть только одна гололедица. Но эти реликтовые звери, по-видимому, не сумели всесторонне приспособиться к суровому климату и при глубоких снежных завалах, в которых исчезают кустарники, они становятся беспомощными существами. Трудно им было! Всего оставалось до весны перебыть какую-то неделю, и вот одна беременная ланка не дотянула, погибла от истощения. Не будь у нее плода, она, конечно бы, осталась жива. И так, я потом заметил, очень часто бывает, что старые ланки кончают свою жизнь из-за плода: животное этим последним роковым усилием как будто диктует наказ всем живым существам стремиться вперед в размножении до последнего издыхания.
Когда при первых весенних туманах обнажились от льда верхние обдувы и на них показался вкусный мох, одна молодая ланочка вышла туда покормиться и наступила на снежный надув, висящий глыбой над морем. Глыба, подморенная весенними туманами, рухнула, но не будь гололедицы, проворная ланка успела бы одними передними ногами выбросить свое тело наверх. Теперь на ледяном крае остались от копыт только царапины. Разбитая ланка лежала на камнях у самого моря: добыча лисиц, барсуков, енотов, а может быть, и самого осьминога.
Много жизней погибло в это трудное переходное время от зимы к лету. Одна ланка, став на задние ноги, доставала себе сухие листки с молодого дуба. Вероятно, от гололедицы, задние ноги ее поскользнулись на своих твердых копытцах, и ланка, падая, попала своей шеей в развилину дуба, и так я нашел ее тут висящей. Еще было, рогач скакнул через дубовый куст. Сложенный из многих тесных стволов, куст пропустил тело оленя, но задние ноги у самых копыт зажало. Да, много и у них бывает несчастных случаев, и больше всего, как я заметил, оленя губит испуг…
Весна – это дождь и туман. Редко бывает, на какой-нибудь час покажется солнце, и то успеет наделать много беды: обманутые теплом деревья начинают жить, а вечером поднятые соки замерзают и рвут древесину.
Невидимо в тумане расплывается и разбегается ручьями снег на горах. Невидимо поднимаются потом могучие травы. И только по слуху можно догадываться о великом перелете птиц. Неделя, две проходят в густейшем тумане, ничего, кроме фанзы, не видно, и вдруг выпал счастливый день: в солнечных лучах открылись зеленые сопки, и – до сих пор была тишина – вдруг во всех сторонах закричали фазаны.
Олени начали сбрасывать старые рога. Сильные рогачи сбросят их раньше, зато у них раньше и новые начинают расти, и к гону они раньше бывают готовы. Много раз в зимнее время Лувен мне рассказывал о каком-то бессмертном олене, который будто бы никогда не меняет рогов. Все легенды и сказки Лувена мне были дороги своим каким-то исходным верным основанием; всегда, слушая его легенды, я старался перевести на свое понимание и добывать из них полезный мне смысл. Вот так вышло и с бессмертным оленем. Когда все олени сбросили рога, и начались первые отелы у ланок, и нельзя было думать о каком-нибудь олене со старыми костяными рогами, я однажды увидел с горы – на пастбище одиноко пасся бессмертный олень с ветвистыми костяными рогами. Мне нужно было разгадать тайну бессмертия оленя, и оттого я, решив вообще никогда не стрелять пятнистых оленей, в этот раз не пожалел убить одного и послал свою пулю. Тогда тайна несменных рогов сразу же и раскрылась: по всей вероятности, во время осенних боев на гону этот рогач потерял свои половые органы, и молодая жизнь, напирающая из-под низу на старые рога, прекратилась, живые рога не росли, а мертвые, костяные, оставались без перемен. Но там, где нет перемен и в старом все остается по-старому мертвым костяком, легче всего видеть бессмертие, да, пожалуй, это самый понятный для всех и правдивый образ бессмертия: мертвые бессменные костяные рога. Я, конечно, все рассказал Луве-ну, показал костяные рога и зарубцованное гладкое место у оскопленного рогача. И, конечно, Лувен ответил, что это не тот олень, что бессмертный остается бессмертным и пулей его не убить. Мне в это время мелькнула горькая мысль, что в легендах своих сам Лувен похож на рогача с несменными костяными рогами. Мне было горько, потому что поневоле и как будто даже не из-за самого главного и не по существу, но все-таки я лишился общества этого лучшего человека, наши пути тут расходились, и я оставался I один, и с человеком прекрасным мне было, как все равно среди животных: как их ни люби, как ни сближайся, а все-таки непременно с ними остаешься один, и своим высшим и для себя-то, может быть, и лишним добром с ними обменяться нельзя.
Наши олени, конечно, как и на воле, постепенно один за другим сбрасывали свои старые рога. Первым сбросил Серый Глаз, вскоре за ним Черноспинник, потом Мигун, Щеголь и братья – Развалистый и Круторогий. После того как рога были сброшены, Мигун однажды подошел ко мне с особенным своим писком, согнул свою голову, как будто собираясь поддеть меня на несуществующие рога. Я догадался почесать ему коронки: там, как мне казалось, непременно ему должно чесаться. В этот раз ему очень понравилось. В другой раз он, издали завидев меня, с писком бросился и чуть не сбил меня с ног. Я почесал, и мы разошлись. Но в третий раз, разбалованный, подбежал с видом как бы приказания: хочешь – почеши, а нет – я сам почешусь! Конечно, я не стал подчиняться нахалу, а он, желая сам почесать рога об меня, с такой силой ударил меня лбом, что я не только упал, но даже и отлетел к самому забору. Поняв теперь мое ничтожество, Мигун налетел на меня, и. конечно, он бы ударил меня еще раз так, что я и не встал бы. Но в этот момент, когда он нагнул голову для удара, я понял свое положение, мгновенно схватил левой рукой его правую ногу повыше копыта, а правой дал ему в бок с такой силой, что он повалился. Но мало того! Я успел выхватить из забора жердину и так откатал его, что он с этого раза и навсегда сделался смирным. Он по-прежнему мигал, посвистывал, подставлял коронки для почесывания, но стоило мне только погрозить ему пальцем, и он отходил. Другие рогачи все оставались дикими и не пускали близко к себе.
Много мне пришлось повозиться с весами, но все-таки конце концов я их смастерил и соединил весы с панторезным станком. Когда олень вступал в этот ящик, я нажимал рычаг, и дно станка превращалось в весы. Для опытов я назначил двух, совершенно сходных – Развалистого и Круторогого. Одного, Развалистого, я кормил, как свинью, концентрированным кормом и сколько он только может съесть. Другого, одинакового с ним весом, оленя кормил нормально, как всех. Цель моего опыта была узнать, какой лишний вес пантов даст раскормленный олень и нельзя ли таким образом мало-помалу добыть панты большого, неслыханного в Китае веса. И по мере того, как время шло и вырастали панты, мне и на глаз даже было видно, как отлично они наливались кровью у кормленого, как они прекрасно просвечивали своим персиковым цветом и как славно серебрились на них волосики. Да и мало ли у меня было планов? Но самый главный план, моя страстная мечта была в том, чтобы, наработав дорогих пантов, продать их, купить на эти деньги много проволоки и такой проволочной сеткой отрезать от материка всю Туманную гору со всеми ее оленями и врагами их: леопардами, волками, енотами и барсуками. Я представлял себе мое пантовое хозяйство в четырех формах: первое хозяйство – это мой домашний питомник, где пантачи содержатся в неволе до срезки пантов и потом выпускаются во второй отдел, в полупарк, на мыс Орлиное Гнездо; третий отдел – парк Туманная гора; и, наконец, примыкающая к Туманной горе тайга – как постоянный резерв диких оленей. Я мечтал дальше, что я в своем новом деле приручения новых видов диких животных окружу себя, по рекомендации Лувена, китайцами, подобными ему, и сделаю так, чтобы они, оставаясь внутренне независимыми от соблазнов цивилизации, сами бы становились, как европейцы, капитанами и могли постоять за свое.
Может быть, я еще и о многом мечтал, но все эти мечты были, как я их потом стал называть, досрочными. В этом надо всем нам сознаться, что есть сроки жизни, не зависимые от себя лично; как ни бейся, как ни будь талантлив и умен, – пока не создались условия, пока не пришел срок, все твое лучшее будет висеть в воздухе мечтой и утопией, только я чувствую, я знаю одно, что мой корень Жень-шень где-то растет, и я своего срока дождусь.
XIII
Летняя жаркая сырость. По ночам всюду летают огни. По утрам большие пауки заплетали кустарники, травы; ходишь в тайгу с палкой, расчищая впереди себя паутину. Если случится – утром выглянет солнце, то за один этот час прощаешь недели туманов. Тогда каждая сетка паука, непременно при такой сырости покрытая мельчайшими, одна к одной каплями, превращается в жемчужное тканье удивительной красоты. Случилось в такой час, что ланка пришла к тому камню, где я отдыхал, легкий ветерок обманул ее, и я, лежа вверху на камне, мог наблюдать это в оленьей жизни большое событие. Олененок родился таким же пятнистым, как мать, и эти пятна среди солнечных зайчиков до того укрывали и мать и олененка, что можно было рядом пройти и ничего не заметить. С отелу олененок не мог стоять, и она легла и долго билась над тем, чтобы верно подсунуть вымя к его голове и так подсказать ему. Немало времени прошло, пока теленок понял и начал сосать. Когда ей показалось, что он достаточно окреп, она поднялась, и он тоже поднялся и пробовал стоя сосать, но был еще слаб, покачнулся и лег, и тогда она тоже легла, но больше не подвигала к нему вымени: теперь он сам знал. В это время мне захотелось неудержимо кашлянуть; как я ни бился, как я ни закрывал рот, этот сдержанный кашель она услыхала, встретилась со мною глазами и в одно мгновенье, не успев даже свистнуть, исчезла. Испуг матери передался маленькому, но, конечно, бежать он не мог, а прилег к самой земле и затаился. Мне кажется, что рассмотреть его, не зная вперед, было невозможно. Желая скрыться, уничтожиться, исчезнуть с глаз врага, он как будто сам поверил в неразгибаемость своего тела, и когда я поднял его, то он в таком скорченном виде и остался, и я положил его обратно, как вещь. Жаль мне было оставить его, но у нас с Лувеном не было коровы, Лувен не пил молока и говорил: «Если пить молоко, то ведь корову надо будет своей мамой считать». Но из этого опыта на будущее время я для нашего дела нашел ценную мысль: в будущем, когда у нас заведутся коровы, мы будем ходить в тайге с Лайбой во время отела и легко находить таких каменеющих телят; выхоженные из таких телят олени, наверно, будут совершенно домашними животными.
Пока ланки растеливались, у пантачей подрастали панты, и мало-помалу у ланок и пантачей началась одинаковая забота: ланка бережет своего олененка, а пантач бережет чувствительные и нежные панты, способные даже при самом легком ударе превратиться в кровавую лепешку. Серый Глаз по росту пантов заметно был впереди, и было одно утро, когда Лувен, посмотрев на эти панты, наверно, не менее часу, сказал:
– Нынче наша резать будет!
И мы стали готовиться к этому большому и рискованному делу: панты Серого Глаза, по словам Лувена, стоили не менее тысячи иен лекарства! Но главное было не в лекарстве, а в самом олене: при неудаче испуганный олень не знает препятствий, он не только панты превратит в красные лепешки, но себе ноги поломает, если только не разрушит препятствие. И нам не у кого было учиться. Сам Лувен срезал панты в старину варварским и тоже рискованным способом: китайцы просто связывали и валили оленя.
Приступая к делу, ужасно рискованному, мы выпустили всех оленей во двор, и в деннике остался один Серый Глаз. Если теперь из денника выпустить оленя, то ему из коридора один ход – в панторезный станок; другой выход из коридора прегражден подвижным висящим щитом. В этом щите есть дырочка, и Лувен, стоящий сзади щита, видит в нее, как я открыл денник и выпустил оленя, а сам ушел в другой конец коридора и там схоронился, как и он, за прикрытием. Я тоже, как Лувен, смотрю в дырочку, в руке у меня ручка от рычага: как только олень войдет в станок, я нажму на рычаг, он провалится, а боковые, обитые мягкой циновкой доски подхватят оленя за бока, и так он останется в воздухе, болтая ногами. Но до этого далеко. Серый Глаз, выйдя из денника, стоит неподвижно в полутемном коридоре: то место, где он обычно выходит на двор, теперь закрыто щитом, а идти в другую, неизвестную сторону очень не хочется. Как быть? Тогда Лувен начинает тихонько нажимать на щит и продвигать его. Олень в колебании – идти в опасную сторону или броситься на Щит, разбить его, может быть разбить и себя. Щит приближается, из-за него слышится знакомый ласковый голос:
– Мишка, Мишка!
Лувен всех оленей одинаково зовет всегда Мишками.
Серый Глаз успокоился, решил идти осторожно в опасную сторону. Пройдет и остановится. Лувен нажмет, он еще немного пройдет, и так вес ближе и ближе к тому месту, где пол под ним вдруг провалится. Самое страшное, как бы он перед самым станком не понял хитроумной придумки. У него есть еще один выход – просто лечь на пол, и тогда мы почти что бессильны, потому что взять насильем нельзя: ему стоит только прыгнуть – и тогда все пропало. Такая тишина, только чуть-чуть поскрипывают блоки. Наступает момент, когда оленю остается только лечь или рискнуть. Вот передние копыта наступили на живой пол, теперь щит подкатился вплотную и смело нажал. Я нажал на рычаг, что-то грохнуло, и в один момент Лувен, открыв дверцу щита, бросился в станок, сел для верности верхом на оленя, зажатого боковыми досками. Тогда я вышел наружу, поднял колпак, закрывающий станок, и примотал голову беспомощного пантача к планке, распирающей стенки станка. Операция срезки очень болезненна, кровь брызнет фонтаном из-под рук, но боль мгновенна. Молодой олень орет и в ужасе закатывает глаза, но старый гордый олень часто и виду не покажет. И вот какой олень был Серый Глаз: в том ужасном положении, когда ноги болтаются в воздухе и им совсем не за что и не на чем установиться, когда для дикого оленя все погибло, притом с боков чем-то плотно прихвачено, на спине сидит один человек, а другой срезает радость жизни – панты, и это все равно что на глазах матери убивать дитя, – в таком положении! Серый Глаз не только не крикнул, но и глазом не повел, и я, видя пример властителя оленей, сохраняю для себя это как идеал: я видел сам и знаю, что унизительных положений нет, если сам не унизишься.
Срезав панты, я развязал оленю голову. Лувен соскочил. Я нажал рычаг, опускающий боковые доски, олень провалился в яму до дна и, получив там опору ногам, как снаряд, вылетел из ямы во дворик. Не проходит после того десятка минут, пока мы рассыпаем в общее корыто бобы, как Серый Глаз уже не чувствует боли и вместо с другими оленями, комолый, жует себе бобы. После трудного дела такая радость охватила меня, что я даже обнял своего Лувена, и он, старый, прослезился от удовольствия.
Вот в то самое время, как мы праздновали победу, страшная беда прокралась к нам в виде маленького, полоса того, очень похожего на белку зверька. Этих бурундуков везде здесь было так много, что я не обратил теперь никакого внимания на одного, изо дня в день собирающего у нас бобы под корытом. Случилось теперь, что боб лежал возле самого копытца Хуа-лу, бурундук прибежал его взять, но как раз в этот момент Хуа-лу переставила копытца и, сама того не чувствуя, прижала к земле хвост бурундука. Зубастый грызун, конечно, ответил тем, что впился в ногу Хуа-лу, та вздрогнула, глянула, и тут ей представилось, наверно, бог знает что! Так бывает в битком набитом театре, когда кто-нибудь крикнет: «Пожар!» – люди, в точности как звери, почуяв смертельную опасность, ничего не помня, кроме себя, бросаются. Так ужас Хуа-лу, увидавшей на своей ноге черта с хвостом, мгновенно передался всем оленям, и все они, семипудовые, сложенной силой в полсотни пудов, притом бросив эти полсотни пудов с силой всех своих ног, конечно, в один раз разнесли забор вдребезги и очутились на воле. Грохот падающего забора, царапины, боль, причиненная ударом о забор, – все это, наверно, для Хуа-лу было нарастанием полосатого черта на се ноге. Она мчалась, раздувая во всю мочь свою белую салфетку, показывая путь другим, и все мчались за ней, и каждый передний следующему за ним показывал свою салфетку, и за всеми ними мчался, подхлестывая, невидимый полосатый черт Бурундук.
Как я потерял себя и как может потерять себя человек! Я бросился в горы искать оленей, как будто бы напуганных диких зверей можно найти. Где только я ни бродил, нигде их не было, но к вечеру, в сумерках, вдруг всех их я увидел высоко над собой, на скале. Повернув голову в другую сторону, я там на другой скале тоже увидел оленей, и так везде было, и у нас в распадке на щеках были все олени и олени. Я чуть с ума не сошел, и добрый Лувен всю ночь не мог ничем меня успокоить.
XIV
От всяких неудач и дурных настроений я придумал себе верное средство – в предрассветный час выходить из фанзы и, прислонясь к чему-нибудь твердому, сосредоточивать себя на мысли, что мой корень жизни растет, что для этого нужен срок, и оттого не надо никакой беде поддаваться, а всегда встречать беду как неминучее и думать о сроке, что непременно рано или поздно срок моих достижений придет.
Мне казалось, что я этим повседневным упражнением; развил в себе сильную волю и навсегда обезопасил себя от позорной слабости перед бедой. И вот при первом серьезном столкновении с жизнью мой хорошо придуманный, но мало испытанный прием изменил мне, и я до того расстроился, что забыл про Жень-шень.
На развалинах своего питомника пятнистых оленей сижу я с Лайбой, время от времени наигрываю в свой олений рожок. Мне пришло в голову, что будь я хоть сколько-нибудь суеверный человек, расположенный понятное и; простое, но трудно выносимое объяснять себе какими-нибудь непонятными причинами сверхъестественного происхождения, – как не подумать мне тогда о Хуа-лу, что это – ведьма, завлекающая меня красотой своей: она превратилась на моих глазах в прекрасную женщину, и когда я полюбил ее, вдруг исчезла. А когда я наконец-то с большим трудом начал справляться, своей мужской творческой силой расширяя заколдованный круг, вдруг та же самая Хуа-лу разбивает все это вдребезги. И в конце концов появляется какой-то полосатый черт Бурундук. Так вот с отдаленнейших времен нарастает на человеке эта защитная рубашка суеверия: ведьмы и черти сменяются вещами, обстановкой, форматами, и только дети, одни только дети остаются живыми…
И много всего такого проходило в моей опечаленной голове в упадке жизненной волны. А новая волна была не за горами. Лайба давно поглядывала как-то странно назад и потом на меня, как будто там, назади, происходило нечто обычное, из-за чего не стоит беспокоиться, но все-таки там! не просто было назади, а что-то происходило. Почему-то! я молчаливому указанию собаки не придавал значения и занимался своими меланхолическими думами до тех пор, пока прямо сзади меня не послышался явный шорох. Тут я оглянулся и… сзади, возле самого меня, стояла Хуа-лу с Мишуткой и подбирала рассыпанные на земле во время разгрома соевые бобы. Что же это за радость была! Но мало того! Бурундук, и не один, а штук пять полосатых чертей, больших и маленьких, тоже усердно занимаются соевыми бобами. Так вот сколько раз у меня в жизни бывало – только-только начнешь прибегать к мудрым толкованиям, к таинственным и далеким силам для понимания и облегчения своей беды, как вдруг жизнь сама перед тобой раскроется и тебе, своему любимцу, из себя самой такой подарок представит, что прямо без памяти ржешь и орешь, и мед на усах и хвост пистолетом. Никогда не забыть мне этого часу, как солнце вышло из тумана и вся орошенная паутина засверкала бриллиантами, жемчугом, и сколько тут было цветов, и какие! Там в жемчужных бусах азалия, там в каких-то алмазных чепчиках саранка и лилия, там строитель серебристой ниточкой захватил этот белый и нежный цветок эдельвейс и тоже притянул его к своему строительству утренней радости. Такое богатство драгоценных камней только в арабских сказках можно найти, но и их удивительная арабская фантазия не могла создать такого богатого, такого счастливого калифа, как я.
Какая глубина целины, какая неистощимая сила творчества заложена в человеке, и сколько миллионов несчастных людей приходят и уходят, не поняв свой Женьшень, не сумев раскрыть в своей глубине источник силы, смелости, радости, счастья! Вот сколько же было у меня оленей, и какие! Вспомнить только, как вел себя под ножом Серый Глаз! Но разве я радовался когда-нибудь им всем, как обрадовался бешено, когда пришла одна Хуа-лу? Можно бы подумать, что я в то время понимал, что с помощью Хуа-лу я могу переловить множество оленей, и оттого так обрадовался. Совсем нет! Я обрадовался потому, что разлука с оленями раскрыла мне самому, какие силы вложил я в это дело, я обрадовался потому, что мог теперь снова начать свое необыкновенно прекрасное строительство. Вот мы теперь скоро и радостно с Лувеном заделываем забор и так надстраиваем, чтобы никак не могли олени опять перепрыгнуть и завалить, даже соединенными силами. Теперь мне мало-помалу становится понятным, что приход Хуа-лу из дикой тайги на олений рожок значит для моего дела гораздо больше, чем обладание всеми исчезнувшими рогачами. Я теперь без всякого риска делал ежедневные опыты: утром выпускал Хуа-лу на вольное пастбище, а вечером вызывал ее оттуда оленьим рожком. Мало того: в каждый призыв, давая какое-нибудь заботливо приготовленное лакомство и ей и Мишутке, я добился того, что в любой час дня, стоило мне заиграть, и она рысью бежала по сопкам к питомнику.
Так мало-помалу время опять стало приближаться к осеннему гону, и однажды нечаянно я вдруг догадался, как надо мне действовать, чтобы возвратить к себе своих оленей, а может быть, и новых добыть. Было раз, на сопку против Орлиного Гнезда пришел табунок ланок, и с ними был почему-то Развалистый с большими костенеющими рогами. Время осени было раннее, еще даже изюбр не; ревел, но и у животных, конечно, как и у людей, бывают баловники. По всей вероятности, хорошо мною раскормленный для опыта олень раньше срока стал баловаться и, может быть, приставать безуспешно к еще совершенно по времени девственным ланкам. Наблюдая из-за прикрытия Развалистого, я выждал время, когда он был за сопкой, открыл тихонечко ворота питомника, насторожил веревку ловушки и выпустил гулять Хуа-лу. Она весело побежала к табуну, но тут ее заметил Развалистый, подбежал к ней и встретил. Возможно, у них уже некоторая дружеская связь была между собой благодаря необыкновенной для оленей жизни в питомнике. Но она, конечно, позволяла себя обнюхивать до известного предела: как только раскормленный рогач перешел границу, она ушла от него и скрылась в табунке ланок. Времени прошло около часу, она забыла про Развалистого и вышла из табунка. Не успела она отойти, как он тут опять с неприятным своим приставанием. Ей тогда ничего не оставалось делать, как опять бежать в табунок, но я нашел этот момент самым выгодным для себя и, лежа за камнем в заветрии, крепко сжимая конец веревки в руке, заиграл в олений рожок. Тогда она сразу, со всех ног бросилась, и я не ошибся в расчете: он тоже бросился за ней со всех ног. И у него не только ни-малейших сомнений не было, когда он вбегал в ворота, но даже, когда закрылись они за ним, он не обернулся и, мало того, ничуть не смутился при моем появлении.
С каким же нетерпением стал я дожидаться времени, когда начнется гон пятнистых оленей. Постепенно румянились листья винограда, вспыхивали огни мелколиственного клена, и однажды, после небольшого тайфунчика, в тишине, в звездную ночь родился мороз, и в ту же самую сентябрьскую ночь опять, как и прошлый год, в той же самой стороне, на той же самой горе заревел первый изюбр.
Прошло еще две недели в ежедневных, глазу заметных переменах. Поспел виноград. На желтых пастбищах закраснелись блюдечками приплюснутые к земле умершие азалии, и все пастбище стало как будто после боев с пролитой кровью оленей. Тогда опять ночью в таинственной тишине, там, где черный хребет пересекается хвостом Большой Медведицы, заревел первый олень, и ему, как эхо, ответил другой, этому эху – еще отдаленное эхо. Самое главное мне было теперь, после того как начался рев, не упустить у Хуа-лу тот день, когда всякая ланка начинает на следах своих оставлять запах, ужасно волнующий всех рогачей: почуяв его по ветру издали или прямо перед собой на земле, они перестают есть, идут и в поисках ее ревут. Чуя этот след, рогачи готовы на смертный бой из-за ланки, но сама ланка в такой день хочет играть, и больше ничего: проворная ланка сама станет первая заигрывать с неопытным или тупым рогачом, а когда он, воспаленный, бросится к ней, то она побежит во весь дух, как будто уверяя его, что этот брачный пробег и есть самое лучшее и все единственно ценное в ланке. Благодаря тому, что Развалистый был пойман вновь и жил у меня, я мог до точности верно узнать тот день, когда Хуа-лу будет именно в таком состоянии, чтобы шалить и бежать, но никак не даваться грязным, забрызганным своей собственной похотью рогатым быкам.
Настал же наконец такой вечер, я заметил первые признаки. Беру Хуа-лу на веревочку и медленно очень знакомой тропой иду с ней вокруг Туманной горы. Наступила лунная ночь, везде слышался рев, а иногда откуда-то долетал до слуха сухой треск от ударов костяных рогов. Лунною ночью почему-то олень не очень боится, и часто я вижу совсем близко от себя то рога, то белую салфетку. И так близко, случалось, ревел рогач, что это был уже не рев, как издали кажется, а множество разнообразнейших звуков, хотя все они говорили, как и отдаленнейший рев, только о страдании: мучительный хрип, стон, крик. Вместе со своей Хуа-лу я чувствовал в себе какую-то глухую неприязнь к этому, вблизи совершенно безобразному реву страсти самцов, но среди этих грубых звуков была одна нотка наивной, почти что детской обиды и нежно-смиренной просьбы сочувствия. По-человечески мне так представлялось, что и Хуа-лу была внимательна к реву только из-за этой просьбы сочувствия к страданию и что она из-за этого именно и готова была теперь с любым рогачом поиграть и побегать. Она часто останавливалась, прислушивалась, вздрагивала и, конечно, оставляла везде свои заметки. Тихий ласковый ветер обнимал Туманную гору, и в то мгновенье, когда рогач чуял Хуа-лу, он переставал реветь и шел на ветер до следа, но рядом со следом желанным он чуял след самого ужасного зверя и останавливался в глубоком недоумении, забывая даже реветь. Да, У них есть чутье, о котором человек теперь совершенно забыл. Я по той жалобной нотке догадываюсь, что в их чутье, как у нас теперь осталось с цветами, первоначально тоже дается какой-то образ красоты, хотя бы на одно только мгновенье независимый от самой страсти, и когда вслед за тем страсть врывается и в одной красоте ничего для себя не находит, то вот у нас музыка, а у них рев…
Так, вероятно, много рогачей по ветерку, обнимающему Туманную гору, учуяв Хуа-лу, переставали реветь, шли на ветер и, встретив ужасный след человека, смущенно останавливались, долго стояли на месте, а потом осторожно шли все-таки вперед, по следам и заметкам.
XV
На рассвете родился мороз. Я ввел Хуа-лу в питомник, насторожил ворота-западню и в заветрии, из-за камня, стал ждать событий на сопках, расположенных одна за одной до Туманной горы. Воздух, чуть-чуть морозный, был совершенно прозрачен, и море, совсем голубое, охватывало Туманную гору, а горный камыш в белых кружевах от мороза на голубом все хорошел и хорошел. Мало-помалу с прибавлением света до того становилось красиво, что как будто от этого в глубине меня начиналась острая боль, и такая, что вот бы немного еще, и я, как олень, подниму голову вверх и зареву. Так отчего же, если кругом так прекрасно, является эта как будто смертельная боль? Или, может быть, я, как олень, при виде прекрасного жду чего-то приятного и, не имея его, страдаю и тоже вот почти готов реветь, как олень?
Когда везде стало видно и все заблистало, на косых оленьих тропах Туманной горы показались там и тут рогачи, сначала издали маленькие, как мухи, а потом побольше, на время совсем исчезали в боковых распадках между падями и показывались из-за первой сопки, потом из-за второй, а когда рогач забирался на последнюю сопку, то вырастал из-за нее рогами, – так и казалось, будто из-под земли вырастают рога. На сопке против Орлиного Гнезда стояла единственная пиния, закаленная в постоянной борьбе с тайфунами, вся-то она была в узелках, и каждый узелок – след удара тайфуна – держал победоносную веточку с длинными темно-зелеными хвоинками, да и самый-то ствол был весь в искривлениях, но все-таки это был победоносный высокий ствол, и тень от него по желтому пастбищу с кровавыми пятнами умерших азалий лежала протянутая до самой лощины с густой зеленой травой и дубовым кустарником. Эта лощина была как маленькая падь: все больше и больше углубляясь, она доходила до самого моря, и на дне, в камнях, то показываясь, то исчезая, бежал самый маленький ручеек. Вот в этой лощине и пасся теперь табунок ланок с сайками, и еще тут были два рогача, очень темные и спокойные, не ухаживали за ланками, не ели, не ревели, а просто неподвижно стояли вроде каких-то монахов-созерцателей. Из-за сопки к дереву с падающей тенью вышел необыкновенно огромный олень с чрезвычайно важной осанкой и в то же время без рогов. Странное впечатление оставлял этот олень с царственной важностью властелина оленей и в то же время вместо рогов с небольшими шишками на голове. Серый Глаз, конечно, пришел тоже по моим следам с гор и теперь смотрел с высоты сопки прямо к нам в открытые ворота. Я вздумал взять его, как Развалистого, тихонечко раскрыл ворота, насторожил веревку, погладил Хуа-лу на прощанье и выпустил. Она весело вышла и тихонечко, степенно направилась было в лощину к табунку. Но Серый Глаз понял, что из табунка ее скоро не выживешь, и бросился на прямых ногах прямо наперерез и успел пересечь ей путь и остановить. Давно ли видел я этого оленя таким прекрасным, и вот он теперь весь в грязи, весь измызганный, сокращающий судорожно мышцы на животе, огромная, раздутая от постоянного рева шея, налитые кровью глаза. От этого ужасного чудовища Хуа-лу бросилась бежать в сторону дерева, он – за ней, и оба скрылись за сопкой. Тогда я схватился за свой рожок, проиграл, и, видно, она услыхала, завернула и показалась в самом начале той лощины, где пасся табунок и неподвижно стояли два черных монаха. Не задержи ее лощина с кустарником, конечно, она принеслась бы ко мне и привела бы непременно за собой быка, но она чуть-чуть задержалась в кустах, и Серый Глаз ее тут настиг.
…Был ли у него в это время, как у нас, людей, какой-нибудь свой, олений, созданный силой особенного обоняния, образ независимой красоты? Нет, я думаю, теперь У него никаких возможных следов этого образа не оставалось, не красота была перед ним, а хорошая, приятная жизнь. Он поднялся быком на воздух. И вдруг там, в воздухе – нет ничего. Да, так бывает: вот бы только, вот-вот, а и нет ничего! Хуа-лу прибегла к единственному средству спасения: легла на землю. Тогда все вдруг пропало, и красота, и хорошая жизнь. А Серый Глаз, увидав, что действительно нет ничего, запрокинул назад свою голову и тонко засвистел, и от тонкого свиста обратной сиреной, переходя в рев, все ниже и ниже проревел, и потом опять и опять. В промежутке между свистом и ревом была у него, как и у всех быков, одна нотка не то жалобы, не то обиды, и эта именно нотка была ключом к пониманию происхождения оленьей музыки. А еще я и о себе думал: да, конечно, и моя смертная боль была оттого, что я когда-то, как олень, не мог разделить красоту и хорошую жизнь, но хорошая жизнь вдруг исчезла, и оттого чувство красоты во мне сопровождается смертельной болью.
Если бы я на оленьем гону был, как ученый, и начал бы правильно исследовать, то я с того бы начал, что отказался бы оленей по себе понимать. Но я же сам тут, в пустыне, страдал, совершенно как всякое животное, и в этом чувствую с ними родство, мне их жалко, я чувствую их по родству: она лежит, пережидает, а он стоит над нею, мучительно униженный, исхудалый, забрызганный грязью, измызганный властелин тайги с костяными шишками вместо величественных рогов. Так ясно, так просто понятно, что единственное средство сохранить себя – это бой! Теперь все вопросы свелись к одному: или я один, или ты, или я убиваю, или сам умираю…
Приходят из лощины всем табунком ланки и окружают свою сестру Хуа-лу, как будто ее понимают, сочувствуют. А властелин гарема Серый Глаз стоит в ожидании будущей хорошей жизни, ищет, с кем бы только поскорее сразиться. Оба монаха, один в рогах о шести, другой о четырех концах, стоят как вкопанные, не смеют продвинуться ни на шаг вперед. Или они понимают, что с одними рогами ничего не поделаешь? Или они, увидев своего властелина комолым, еще не могут с духом собраться? Или уже завидели, что с гор сюда оленьими тропами спешат Черноспинник, Круторогий, Щеголь и еще много рогачей, испытанных в предыдущих боях? Черноспинник почему-то стал на сопке у дерева и ближе не захотел подходить; как всегда, было в нем что-то затаенное, как будто у него был теперь какой-то дьявольский загад. Между Черноспинником на сопке и лощиной, где в грозной готовности стоял Серый Глаз, разместилось но увалу восемь разных и мне совсем не известных рогачей. Быть может, план Черноспинника был – предоставить всем восьми рогачам драться с Серым Глазом по очереди, и только если Серый Глаз всех поочередно разобьет, самому напасть на усталого или даже просто добить?
Серый Глаз начал с того, что сморщил нос и презрительно фыркнул в сторону первого к нему на увале рогача. Часто бывает этого довольно, чтобы противник бежал. Но рогач не обратил никакого внимания на предупреждение комолого. Серый Глаз выкинул набок язык. Тот все стоял. А дерзкий сам сморщил нос. Тогда властелин тайги пошел на махах, но и тут неизвестный рогач не бежал, а напротив, угнул рогатую голову и сам подался немного вперед. Наверно, он был еще молодой, задорный олень и не понимал, что такое удар Серого Глаза. От одного удара костяными шишками по лбу он упал на передние ноги, а Серый Глаз, как все бойцы в таких случаях, ударил в бок против сердца с такой силой, что сломал своими костяными шишками ребра, и обломки этих костей пронзили смертельное место под левой лопаткой. Смельчак больше не мог уж подняться. Тогда Серый Глаз сморщил нос на второго, и тот убежал; выкинув язык, бросился к третьему, и тот убежал, а за ним и все, вплоть до Черноспинника; а когда Серый Глаз сморщил нос на него, то Черноспинник сам сморщил нос и пошел в наступление.
Недалеко от единственного дерева на сопке когда-то было второе, но теперь от него оставался только пенек. Враги сошлись у самого этого пенька, каждый, быть может, имея в виду воспользоваться им для упора передних ног. Оба уперлись в пенек и начали друг друга теснить лбами и пересиливать. Они очень долго кружились возле пенька, никто не мог пересилить, и вот заметно уже стало, что вокруг пенька вырылась копытами глубокая яма. Вдруг при новом нажиме пенек вырвался из-под ног и полетел далеко в сторону. Тогда оба бойца упали один на другого. В этот момент вдруг из-за куста выбежала Хуа-лу и, спасаясь от Щеголя, бросилась бежать, а я заиграл в олений рожок. Хуа-лу направилась прямо ко мне, и за ней Щеголь. Бойцы тоже заметили Щеголя, бросились, и за ними все рогачи, и все стадо оленье, теснясь, прошло прямо возле меня. Когда все они пронеслись далеко на конец мыса, я не только закрыл ворота, но даже хорошо осмотрел забор возле них и даже кое-где в слабых местах успел немного подправить.
Я пришел в Сосновые скалы к самому концу боя и не мог уже успеть ни своим появлением, ни выстрелами в воздух спасти прекрасных оленей. Серый Глаз и Черноспинник бились у самого края отвеса, над рифами, и, конечно, бой давно бы закончился, если бы у Серого Глаза были рога. Но, не имея возможности парировать рогами, при отсутствии рогов, с незащищенной шеей он много получил в нее ударов. И когда от сильной потери крови он упал на передние ноги, кровь ручьем бежала у него изо рта. Черноспинник ударил его в бок, пронзил ему сердце, но тут в последний момент Серый Глаз вдруг поднялся и неожиданно, остатком последних сил нанес такой удар, что Черноспинник вдруг оборвался и полетел вниз, на рифы, прыгая, как мяч, со скалы на скалу. Серый Глаз еще успел посмотреть сверху вниз и, может быть, еще успел заметить, как покраснели белые гребешки волн, вечно беспокойных на рифах. Потом Серый Глаз покачнулся и пал.
Там и тут в скалах слышались сухие удары костяков хрип, стук падающих вниз камней. И все эти олени были мои.
XVI
Прошло десять лет с тех пор, как я с помощью прирученной Хуа-лу поймал много рогачей и начал строить большое пантовое хозяйство. Мой друг не пришел, я строил один. И еще год прошел. Я все был один, и мне отдыху не было. И еще год… Бывает, проходит какой-то срок ожидания, и близкого, живущего где-то вдали человека начинаешь вспоминать, как умершего. И вдруг, когда с наружного виду и вы и друг ваш переменились неузнаваемо, приходится встретиться. Это ужас! Вздрогнув, бледнея, вы начинаете догадываться по чертам, изрезанным временем, и наконец узнаете по голосу. Мало-помалу, углубляясь с другом в пережитое, вы постепенно и бессознательно начинаете как будто кому-то прощать, становится очень легко на душе, и наконец происходит желанная встреча: под напором возвращенной радости жизни оба друга для себя становятся такими же молодыми, как были. Я так понимаю действие корня жизни Жень-шень. Но бывает напряжение корневой силы жизни так велико, что вы любимого человека, раз навсегда утраченного, находите в другом и начинаете нового любить, как утраченного. И это тоже я считаю как действие корня жизни Жень-шень. Всякое другое понимание таинственного корня я считаю или как суеверие, или просто медицинским. Так, по мере того хода времени: год, другой, – друг не приходит, я начал забывать, и наконец совершенно забыл, что где-то в тайге все растет и растет мой собственный корень жизни. Вокруг меня так все переменилось: поселок на берегу Зусухэ стал небольшим городком, и столько собралось тут разных людей. Я часто езжу по своим большим делам в Москву, в Токио, Шанхай. И на улицах этих больших городов чаще вспоминаю свой Жень-шень, чем в тайге. Вместе со всеми тружениками новой культуры я чувствую, что из природной тайги к нам в нашу творческую природу перешел Корень жизни и в нашей тайге искусства, науки и полезного действия искатели корня жизни ближе к цели, чем искатели реликтового корня в природной тайге.
Работа очень увлекает меня, и, конечно, это она спасает меня от тоски. Но вот приходит срок моему мужскому одиночеству. Мы встречаемся и долго не можем сказать друг другу верного слова. Вот тут было дерево, на котором она когда-то сидела и собирала прелестные коробочки от морских ежей, тайфунами и волнами развешенные на ветках этого дерева. Теперь Зусухэ столько нанесла песку на это дерево, что только по едва заметным намекам можно было узнать место, где олень-цветок обернулась мне женщиной. Молча мы стояли тут, на берегу, возле белого кружева океана, под мерный ход большого времени вместе с морскими ежами, ракушками, звездами узнавая короткий счет своего человеческого маятника.
А как скоро разрушаются горы! Вон там висела скала, под ней проходили к морскому берегу к соленой воде олени, изюбры, еноты, и мы тоже когда-то под руку прошли вместе со зверями по общей тропе. Теперь тайфун свалил ту скалу, и тропа кругом обходит рассыпанные камни. На том месте, где стояла фанза Лувена с окнами из бумаги, теперь стоит исследовательская лаборатория, большое здание с широкими итальянскими окнами. Из всего большого пантового хозяйства с оцинкованной сеткой в несколько километров, отрезающей всю Туманную гору, теперь уже осталось немного старых оленей, по Хуа-лу жива и бродит везде совершенно свободно, как домашнее животное.
Мы подошли к могиле Лувена под огромным кедром. Китайцы вырубили в дереве небольшую кумирню, где совершают свои обряды, сжигают бумажные свечи. Вот тут, рассказывая подробности из жизни самого дорогого мне человека, я вдруг вспомнил о моем корне Жень-шень, растущем где-то недалеко от Певчей долины. Почему бы нам теперь из любопытства не пойти туда и не посмотреть на Жень-шень? И мы пошли вдвоем искать вновь когда-то уж найденный корень.
Конечно, я давно забыл оставленные Лувеном приметь но знал, что к Певчей долине надо идти через Семивершинную падь в третий Медвежий распадок. Так мы прошли эту падь и по распадку поднялись на самый верх. В Певчей долине все было по-прежнему, те же громадные редкие деревья с большими солнечными просветами и поющими птицами. Но когда мы из Певчей долины спустились по древней террасе в частый лес, где живут тенелюбивые травы, я потерялся. Мы долго бродили взад и вперед в надежде найти то место, где мы долго сидели с Лувеном молча.
Сколько раз мне случалось находить забытое место лучше ночью, чем днем, и даже больше, – прямо в себе самом найдешь какой-нибудь вопрос, поставленный себе еще в то время, и вдруг по особенно сильному запаху грибов догадываешься, что вопрос этот явился именно при таком запахе, и это где-нибудь тут должно быть; тогда повнимательней посмотришь вокруг себя и вспомнишь. Так и тут, когда мы наконец пришли ощупью к верному месту и наша спокойная беседа остановилась, вдруг из ручья послышалось:
– Говорите, говорите, говорите!
И тогда все музыканты, все живые существа Певчей долины заиграли, запели, вся живая тишина раскрылась и позвала:
– Говорите, говорите, говорите!
После того я увидел ствол дикой яблони, по которому мы когда-то с Лувеном перебрались на тот берег ручья, и все вспомнил до мельчайших подробностей. На том самом месте, где мы когда-то стояли на коленях, он молился, я думал, и мы тоже теперь остановились и осторожно перебирали руками тенелюбивые травы. Мы с таким интересом, волнением работали, что некоторая маленькая натянутость наших отношений совершенно исчезла, мы стали быстро сближаться и вдруг увидели Жень-шень! Потом я долго делал из коры кедра точно такую же коробочку, как видел тогда давно у маньчжуров, и потом вместе мы сшивали кедровую кору лыком. Осторожно, чтобы не повредить ни одной мочки, мы выкапывали корень, и он оказался очень похожим на тот, который видел я тогда у маньчжуров: имел он вид человека нагого, руки были и ноги, на руках тоже мочки, как пальцы, и шея, и голова, на голове коса. Мы насыпали ящик землей, той же самой, где рос корень, с большими предосторожностями уложили его и возвратились на то место, где мы когда-то сидели с Лувеном и, слушая живую тишину, молча думали каждый о своем. Теперь мы так независимо молча не могли долга сидеть, в ручье началось:
– Говорите, говорите, говорите!
Заиграли музыканты Певчей долины, и мы хорошо сговорились между собой.
Я не хотел бы раскрывать, но если уж говорить, то говорить до конца. Это пришла ко мне не та женщина, но говорю: сила корня жизни такая, что я в ней нашел собственное мое существо и полюбил другую женщину, как желанную в юности. Да, мне кажется, в этом и есть творческая сила корня жизни, чтобы выйти из себя и себе самому раскрыться в другом.
Теперь у меня есть вечно увлекающее меня, созданное мною самим дело, в котором я чувствую себя, будто мы, вооруженные знанием и современной, особенно острой потребностью в любви, возвращаемся к тому самому делу, которым занимались наши дикие предки на заре нашей культуры: приручением диких животных. Я ищу ежедневно всякого повода соединить методы современного знания с силой родственного внимания, заимствованного мной у Лувена. Итак, вот у меня есть заманчивое дело. У меня есть друг-жена и милые дети. Если смотреть на людей, как они живут, то я могу себя назвать одним из самых счастливых людей на земле. Но опять повторяю: говорить, так уже говорить до конца! Есть одна мелочь в моей жизни, если смотреть со стороны, не имеющая никакого влияния на общий ход моей жизни, но эта мелочь, мне иногда кажется, является таким же исходным моментом жизнетворчества, как у оленя смена рогов. Каждый год непременно той туманной весной, когда олени сбрасывают свои старые, отмершие костяные рога, у меня тоже, как у оленей, происходит какое-то обновление. Несколько дней я не могу работать ни в лаборатории, ни в библиотеке и в счастливой семье своей не нахожу себе отдыха и успокоения. Какая-то слепая сила с острой болью, тоской гонит меня вон из дому, я брожу в лесу, в горах и непременно попадаю в конце концов на скалу, из бесчисленных трещин которой, как из слезниц, вытекает влага, собирается крупными каплями, и кажется – скала эта вечно плачет. Не человек это – камень, я знаю хорошо, камень не может чувствовать, а между тем я так сливаюсь с ним своим сердцем, что слышу, как у него там где-то стучит, и тогда я вспоминаю прошедшее, делаюсь сам совершенно таким же, как был в молодости. Перед глазами моими в виноградный шатер Хуа-лу просунет копытце. Является все прошлое со всей его болью, и тогда, как будто совсем ничего не нажил, говорю вслух своему истинному другу, сердцу-скале:
– Охотник, охотник, зачем ты тогда не схватил ее за копытца!
Похоже, как будто в эти болезненные дни я сбрасываю с себя все созданное, как олень свои рога, а потом возвращаюсь в лабораторию, в семью и снова начинаю работать и так вместе с другими тружениками, безвестными и знаменитыми, мало-помалу вступаю в предрассветный час творчества новой, лучшей жизни людей на земле.
Серая Сова*
Наша русская охота в руках наших писателей всегда была лишь в малой степени спортом, если сравнить ее с иностранными охотниками. Охота у нас в некоторых случаях, как у Пржевальского, была методом познания природы, а в массах охота – это любовь к природе, или, точнее, всем доступная поэзия радости жизни. Очень верю, что со временем из нашей охоты вырастет необходимое нам дело охраны природы.
Я решил познакомить своих читателей с творчеством индейского писателя Серой Совы: он также пишет об охоте, но в Америке она превратилась в хищническое истребление животных. Борьбе с такой «охотой» и посвятил Серая Сова всю свою жизнь.
Мое знакомство с Серой Совой книжное, но книга Серой Совы, по которой я с ним познакомился, – это жизнь потомка одного из самых воинственных племен индейцев Северной Америки.
Когда-то, еще мальчиком, я не в шутку пытался убежать к индейцам.
Не удалось мне тогда побывать у индейцев. А вот теперь – удивительно наше писательское дело! – моя книга приводит прямо как бы в мою комнату тех самых индейцев, к которым в детстве своем пытался я убежать.
Мне нравится в этой книге прежде всего большая правдивость в изображении животных. Рассказ Серой Совы о жизни бобров имеет как бы два лица, или героя: одно лицо – это бобры, как они есть, без очеловечивания; другое лицо – это сам человек, ухаживающий за животными. Серая Сова. Такое параллельное изображение человека и животного я давно считал верным приемом изображения животных, пользовался им постоянно. Но Серая Сова вовсе и не думал о каком-нибудь художественном приеме, он просто описал свою жизнь канадского охотника за бобрами.
Индейский писатель Вэша Куоннэзин, в переводе на русский язык Серая Сова, родился в Канаде в 1888 году. Отец его шотландец, мелкий служащий, мать – индеянка. Рано оставшись сиротой, Серая Сова попадает в девственные леса северной части Онтарио, – там его воспитали индейцы племени Оджибвей – родное племя его матери. Дикая природа севера с его необъятными лесами и многочисленными озерами и реками стала родной стихией Серой Совы, обычаи индейцев – его обычаями.
На легкой ладье из березовой коры он странствует по дальним водным путям, охотится, работает проводником, лодочником, носильщиком.
Во время первой империалистической войны британское правительство Канады призвало Серую Сову в армию. В 1917 году Серая Сова возвращается на родину в Канаду с тяжелым ранением, полный отвращения к буржуазной цивилизации. Он переживает глубокую трагедию, видя, как уничтожается индейское кочевье и туземцы обрекаются капиталистами на смерть.
Серая Сова живет охотой и промыслом, но мысль об охране природы все более овладевает его сознанием. Он решается опубликовать свои записки: ему страстно хочется возбудить в людях возмущение против варварского истребления бобров, этой, по выражению Серой Совы, «души» индейского кочевья.
Мне, русскому читателю, особенно близко это страстное чувство охотника-индейца, эта неуемная тяга узнать, изведать, что там, «за горами», как говорит индеец, и, как у нас говорят, «за синими морями».
И я не раз пытался рассказать о своих странствованиях туда, куда-то в страну непуганых птиц, а теперь вот оттуда, из той самой страны, куда я еще мальчиком хотел убежать, сам индеец, потомок прославленного воинственного племени, пишет, что он там, в той стране, пережил.
Серая Сова не только пишет в защиту бобров, но и сам сторожит и охраняет их колонии от охотников, которые рыскают в лесу. Но один в поле не воин. Семья бобров, которую бережно охранял и приручал Серая Сова, оставляя их в природных условиях, была уничтожена охотником в отсутствие Серой Совы. Для Серой Совы это было крушением воздушных замков, которые он строил, мечтая развернуть свою работу по охране бобровых колоний.
И когда естествоиспытатели Канады обратили внимание на работу Серой Совы и предложили ему занять пост хранителя бобрового заповедника, Серая Сова недолго колебался и принял это предложение, хорошо понимая, что только в условиях заповедника можно будет осуществить свою работу по охране бобровых колоний и леса.
Работая хранителем бобрового заповедника, Серая Сова не изменил своего образа жизни. В 1938 году он умер на этом же посту, живя в хижине, похожей на ту, которую он себе выстроил собственными руками, когда был промысловым охотником.
Часть первая Путешествие в страну непуганых птиц и зверей
Охота за счастьем
Путешествие начинается от маленького городка северной Канады, где с давних времен Серая Сова продавал свою пушнину, добываемую им в окрестных лесах. Собственно говоря, весь этот город состоял из единственной лавки «Компании Гудзонова залива» и лесопилки; еще было тут разбросано беспорядочно по горному склону около пятидесяти домиков, и в стороне стоял индейский лагерь. В этом городе, Биско, не было ни обычных городских улиц, ни палисадников. Несмотря на это, Биско довольно известный городок, потому что он занял положение в центре многоводных рек, из которых можно назвать хотя бы только Испанскую и Белую, Миссисогу и Маттавгами. Из этого городка открывалось множество путей на юг – к Гурон-скому озеру и Верхнему, а также и на север – к Ледовитому океану. Далеко вокруг гремела слава местных лодочников и проводников. И еще так недавно район Альгама в провинции Онтарио считался богатейшим пушным местом во всей северной Канаде. Но вскоре после того, как в этот богатейший край нахлынули так называемые «странствующие охотники за пушниной», или, попросту говоря, охотники за длинным рублем, край опустел, и звери почти совершенно исчезли.
Городок Биско, конечно, падал; но, как бы то ни было, этот городок был почти что отечеством нашему герою, Серой Сове, проведшему большую часть своей жизни среди необъятных лесов, с проникающими в глубину их на сотни миль водными путями. Два раза в год из недр этих водно-лесных дебрей Серая Сова прибывал на своем послушном каноэ в Биско, продавал свою пушнину, закупал продукты питания и опять уплывал обратно в родные леса.
Ну, теперь все кончено. Прощайте, белые и краснокожие друзья! Серая Сова уплывает далеко, в страну непуганых птиц и зверей. Тяжело было у него на душе, но он не один покидал в этот день свою охотничью родину. Опустошенную, разграбленную местность покидали и другие охотники, но только Серой Сове на его пути в страну непуганых птиц не досталось ни одного товарища: все они устремились в даль Миссисоги, к ее еловым скалам и кленовым хребтам.
С невеселыми думами весенним вечером, в полном одиночестве, Серая Сова покинул родимый городок. С каждым ударом весла легкое каноэ уносило его все дальше и дальше по пути к неведомому счастью. Около девятнадцати километров так он плыл, под песню воды при мерных ударах весла, и прибыл к первому волоку. Шесть с половиной километров волока – это порядочное расстояние, если принять во внимание, что и багаж и каноэ надо тащить на себе. Но земля под ногами была довольно ровная, хорошо освещенная полнолунием. Закаленному лесной трудной жизнью индейцу не страшен был этот путь, – напротив, работа выгнала из его головы невеселые думы. Все сразу унести было невозможно, пришлось отнести и вернуться за второй половиной; так что, в общем, сделалось из шести с половиной километров волока тринадцать с тяжестью и шесть с половиной – без всего. Пожалуй, что такая работка у каждого выбьет из головы лишние мысли! Вскоре после восхода солнца работа была окончена, искатель счастья спал до полудня и потом продолжал свой путь в каноэ.
Далеко впереди была желанная страна, вокруг же все были знакомые, исхоженные вдоль и поперек когда-то богатые охотничьи угодья. Лесной пожар пронесся по всей этой местности и оставил после себя совершенную пустыню, с оголенными скалами и обгорелыми стволами, – вот невеселое зрелище! И Серая Сова все спешил и спешил отсюда вперед, на северо-восток, в район Абитиби в северном Квебеке, где, как сказывали, местность была мало обжита и очень редко заселена индейцами из племени Отшибва.
Как много было исхожено мест в поисках пушного зверя! Большая часть пути в страну непуганых зверей лежала по исхоженным и теперь едва узнаваемым местам. Везде были железнодорожные рельсы, проложенные на пожарищах, везде опустошение и разрушение. На людей и смотреть не хотелось: то были лесорубы из местных лесных людей, опустившихся, грязных и нечесаных. Эти люди прозябали в своих «каменных дворах», собирая ежегодно два «урожая»: один снегом, другой камнями. Невероятная была перемена! Беспокойство забиралось в душу; путешественник невольно задавал себе вопрос: «Что же дальше-то будет?»
И дальше все новые и новые разочарования. Да, не так-то легок путь в страну непуганых зверей! Вот старый, так хорошо знакомый когда-то форт Маттавгами. Теперь он совершенно затоплен, и от него осталась только на сухой вершине целиком залитого холма малюсенькая миссионерская церковь. Прямо к лесенке паперти подплыл Серая Сова и тут устроился обедать. На другом берегу виднелся торговый пост, холодное и неприятное строение. Пообедав, Серая Сова проплыл мимо него, не завертывая, по крайней мере, в расстоянии сот восьми метров.
Попадались в пути иногда знакомые люди и рассказывали Серой Сове о его прежних друзьях и товарищах убийственно печальные истории. Вот старый мельник из того же затопленного Маттавгами: так и не мог старик вновь подняться, жил на ренте «Компании Гудзонова залива» и все горевал о своей мельнице, и все горевал… А старые друзья и товарищи, лодочники, носильщики, проводники – «индейская летучая почта», – в каком положении они теперь все были! Вот Мак Леод с озера Элльбоген, – какая печальная судьба: повредил себе при гребле бедро, потом гангрена докончила дело, пришлось охотнику отнять ногу. Никто не мог его утешить, и он умер с проклятиями и ругательствами. Умер также и знаменитый старый охотник, почти символ индейской страны, старый Джон Буффало с реки Монреаль. И так было почти со всеми друзьями: одного гангрена, другого ревматизм выгнали из лесу и заставили прозябать всю жизнь в городишке. Подумать только! Великий, такой великий мастер охоты, как Анди Люке, которому нести на себе четыреста фунтов было детской игрой, служил теперь поденщиком на железной дороге! Великан Алек Лангевин, которому пробежать на лыжах какие-нибудь восемьдесят километров вовсе ничего не значило, вынужден был отправиться в Квебек за куницами. И Серая Сова встретил его с пустыми руками на обратном пути. А то вот еще Томми Савилле, белый индеец, принятый родом Отшибва еще в детстве: во время золотой лихорадки он сумел нажить себе целое состояние и тут же прожить, – теперь он жил где-то в городе, пожираемый тоской по свободным лесам. Говорят, иногда тоска по лесам до того его доводила, что он спускался в подвал дома, из щепочек устраивал маленький костер, варил себе чай и переживал тут, в каменном подвале, очарование былой лесной охоты.
Все это значило, конечно, что вся лесная вольная пустыня рушилась, и оставалась от нее только мечта, будто не здесь, а вдали все-таки где-то еще сохраняется в нетронутом виде страна непуганых птиц и зверей.
Но и дальше все было не лучше даже в таких когда-то богатейших местах, как Шайнинтри и Гаваганда. В прежнее время, когда еще эти местности не пересекались вдоль и поперек железнодорожными путями и буржуазный прогресс не смешал еще всех в одну кучу, в людях тут сохранялся хороший лесной закал. Никакая сила, бывало, не могла у этих людей отнять надежду на лучшую жизнь, на то, что рано или поздно найдется для них какая-нибудь богатейшая золотоносная жила. Теперь вся эта местность возле Гавагандского озера была выжжена и на месте лесов торчали только голые камни да скалы.
Так изо дня в день, продвигаясь вперед, проехал в своем каноэ Серая Сова не больше, не меньше как шестьсот пятьдесят километров и достиг города на железной дороге Темискаминг – Онтарио. Бывал он здесь и раньше, еще в то время, когда тут был только пограничный пост. Тогда еще, до железных дорог, здесь, в девственной стране, разные любители спорта удовлетворяли охотой свою страсть к приключениям. Тогда Серая Сова и подобные ему индейцы служили этим людям проводниками. И когда приходила зима и проводники оставались одни, было весело вспоминать летние приключения и показывать друг другу дружеские письма «господ». Так было всего тому назад лишь пятнадцать лет, и за этот срок пограничный пост превратился в шумное гнездо туристов с автомобильным шоссе. В этом гнезде как раз к прибытию Серой Совы одно нью-йоркское общество искало себе проводника. Серая Сова взял это место. То были все веселые люди, вели себя по-приятельски, как это всегда у американцев бывает во время отпуска. И все-таки теперь между ними и проводниками был какой-то фальшивый тон. Раньше проводники были товарищами и соучастниками, теперь проводники – это слуги, лакеи и прихлебатели. И до того даже доходило, что господ надо было обслуживать в белых перчатках! Кто привык жить по старине, тот, глядя на эти новые порядки, только покачивал головой, но сам-то поступал, как все. И что поделаешь! Если не стало в лесу пушного зверя, человек должен как-нибудь жить.
Поглядев на эти новые порядки, Серая Сова уложил присланные сюда почтой свои вещи и направил их дальше, еще на четыреста девяносто километров вперед. Пополнив тут свои пищевые запасы, он поплыл в своем каноэ, разочарованный и возмущенный. Воспоминания о прежних лесных охотах оставались воспоминаниями, а на леса вокруг и смотреть не хотелось: что это за лес, если он расти уж больше не мог!
Свадьба Серой Совы
Пустыня лесная отступала, надо было ее догонять, и Серая Сова, пересылая с места на место свои вещи, пополняя в более крупных местечках свои запасы, плыл все дальше и дальше. Только осенью останавливал он свое продвижение и ставил ловушки где попало. Так прошло целых два года, и так проехал он три тысячи двести тридцать километров в своем каноэ. Двигаться дальше становилось все трудней и трудней из-за того, что прямой путь пересекался встречными потоками. Чаще и чаще приходилось с одного водного пути на другой перетаскивать вещи и каноэ волоком. Так замучился на этих волоках Серая Сова, что, к стыду своему, последнюю часть пути должен был проехать по железной дороге. Впрочем, едва ли индеец, верный сын лесной пустыни, сел бы в поезд, если бы для этого не было причины более серьезной, чем простое физическое утомление. Дело в том, что Серой Сове понадобилось во что бы то ни стало с кем-то обмениваться письмами. Первая встреча со своим корреспондентом у Серой Совы произошла в одном курортном местечке, где год тому назад он служил проводником. Там жила одна милая, способная и даже относительно образованная девушка-индеянка, ирокезского племени. Может быть, она стояла в общественном своем положении ступенькой выше Серой Совы, но тем не менее, как ему казалось, унывать вовсе не стоило. И он стал за ней решительно ухаживать. И правда, дело пошло без всяких интермедий. Попросту говоря, Серая Сова, доехав в своем каноэ до определенного пункта с железнодорожной станцией, купил тут своей невесте, как раньше уговорились, билет, послал ей, она приехала и вышла за него замуж.
Вот и вся свадьба Серой Совы!
Молодожены во многих отношениях представляли собой полную противоположность друг другу. Серая Сова рос у своей тетки, англичанки, и тут у него, кроме некоторого интереса к географии, истории и английскому языку, особенных каких-нибудь дарований не открывалось. Серая Сова, впрочем, совсем даже неплохо занимался английским языком. Но, к сожалению, уже в ранней юности он остался на собственном лесном иждивении и большую часть своего времени или молчал, или говорил с такими людьми, которые вовсе не знали английского. Только замечательная память да, пожалуй, необычайная жажда чтения еле-еле поддерживали зажженный когда-то в детстве огонек интереса к языку. Английский язык у Серой Совы был как новый костюм, который надевают лишь в парадные дни и чувствуют в нем себя очень неловко. Так себя вообще и держал Серая Сова в обществе: чуть что покажется ему обидным, он смолкает и затаивается в глубине себя, как бы опасаясь расстаться со своей личной свободой. Эта черта в характере Серой Совы особенно усилилась во время военной службы. Такого рода люди, как Серая Сова, редко встречаются в романах. Ни малейшего интереса он не имел к достижению офицерского звания во время войны. Ни малейшей охоты не имел к чинам. Рядовым он вступил в армию и рядовым ушел из нее вследствие ранения, чтобы опять таким же, как был, вернуться в родные леса. Служба снайпером не могла переменить его убеждений в отношении белых господ в лучшую сторону, – напротив, в нем еще более окрепло индейское убеждение в том, что капиталистическая цивилизация людям хорошего не может дать ничего. Да и что в самом деле мог получить для себя в европейской войне представитель угнетаемой и даже истребляемой народности?
Не нужно только смешивать нашего Серого Сову с настоящими пессимистами. Не могло создаться такого тяжкого положения, в котором бы этого индейца могла покинуть охотничья вера, что где-то там, за горами, есть страна непуганых птиц и зверей. И ничто не могло остановить его в стремлении узнать, повидать своими глазами новый, особенный мир где-то там, за горами.
Гертруда, жена Серой Совы, или, как он звал ее по-индейски, Анахарео (что значит «пони»), не была очень образованна, но она обладала в высокой степени благородным сердцем. Происходила она от ирокезских вождей. Отец ее был один из тех, которые создавали историю Оттавы[5].
Анахарео принадлежала к гордой расе и умела отлично держаться в обществе, была искусной танцовщицей, носила хорошие платья. Ухаживая за такой девушкой, Серая Сова тоже подтягивался. У него были длинные, заплетенные в косы волосы, на штанах из оленьей кожи была длинная бахрома, и шарф свешивался сзади в виде хвостика. На груди как украшение было заколото в порядке рядами направо и налево множество английских булавок. И почему бы, казалось, Серой Сове не украшать себя булавками, которые в то же самое время могли быть очень полезными: днем как украшение, ночью же при помощи их можно развешивать и просушивать свою одежду. К этому внешнему облику Серой Совы надо еще прибавить, что у него было много закоренелых, не совсем салонных привычек. На воде, во время гребли, он никак не мог разговаривать, а на суше, в лесу, до того привык ходить по тропам гуськом, что, если шел рядом с человеком по улице, непременно его так или иначе подталкивал. Месяц, проведенный молодыми на охоте в лесу, был наполнен прелестными и разнообразными приключениями.
Скоро в лесу на охоте оказалось, что Анахарео владела топором ничуть не хуже, чем Серая Сова. И можно было любоваться устройством ее походной палатки. Несмотря на то, что в то время еще очень косо глядели на женщину в мужском костюме, Анахарео стала ходить в удобных мужских штанах, носила высокие охотничьи сапоги и ма-кинаканскую рубашку. К свадьбе Серая Сова купил ей несколько метров саржи или чего-то вроде этого, но когда увидал ее на охоте, то подумал, что не материю бы ей надо было покупать, а топор или оружие. Увидев подарок, Анахарео развернула материю, взяла ножницы, карандаш и принялась тут же что-то кроить. Боязливо, со стесненным сердцем смотрел Серая Сова, как гибла хорошая и дорогая материя. Но сравнительно в очень короткое время жалкая куча лоскутиков превратилась в безупречные и даже прямо элегантные брюки-бриджи. Конечно, на чисто мужской работе ей многого не хватало, но уж по части портновской она оказалась мастерицей прекрасной.
Ее приданое состояло из большого сундука с платьями, мешка с бельем, одной огромнейшей книги под заглавием «Сила воли» и пяти маленьких зачитанных тетрадей «Письмовника» Ирвинга, захваченных нечаянно вместо руководства домашней хозяйки. Кроме того, в этом приданом была еще превосходная фетровая шляпа, которую Серая Сова присвоил себе и в особенных случаях носит ее и до сих пор. «Письмовник» Ирвинга, захваченный, как сказано, совершенно случайно, принадлежал сестре Анахарео, муж которой имел слабость к писательству. Лесные супруги собирались при первой возможности отослать эти тетрадки, но так и не собрались и, как будет ниже рассказано, хорошо сделали.
Временами Анахарео очень и очень тосковала, но виду никогда не показывала. Только раз она было попросила своего мужа купить ей радиоприемник. Но Серая Сова в то время разделял тот предрассудок, что будто бы электрические токи, пробегая в атмосфере, влияли на погоду. И ему было неловко от мысли, что где-нибудь в Монреале или Лос-Анжелосе поет какой-то юноша, а в лесу из-за этого какому-нибудь достойному рабочему человеку бывает невозможно на лыжах идти. Вот почему Серая Сова с большим тактом отклонял всякую мысль, всякий разговор о радиоприемнике. Вместо этого у них было постоянное развлечение – смотреть в единственное окошко хижины и каждый день провожать солнце: это было всегда прекрасно! Много шутили за едой. Вставали до восхода солнца, а то даже целые ночи проводили в лесу. За санками, лыжами, каноэ ухаживали, как за кровными рысаками, и маленькая женщина часто должна была пропускать обеденное время. Мало-помалу она стала ревновать Серую Сову к лесу. А он все шептал ей о каком-то лесном участке, населенном бесчисленными куницами, и поискам этого заповедного края непуганых зверей отдавал все свое свободное время. Анахарео начала ненавидеть этот край непуганых птиц и зверей. А Серая Сова в своем ослеплении вообще в ней не замечал никаких перемен.
Так они ели, спали, видели во сне все те же ловушки, охотились; вечерами, склонившись над картой, обдумывали новые пути или делали приготовления к новым странствованиям. Работа поглощала все время Серой Совы, так что ни о чем другом не могло быть и речи. Охота была религией Серой Совы, и, как всякий фанатик, он стремился навязать свою веру другому.
Переворот
Жизнь в напряженном труде, вечные отлучки из дому, вызываемые охотничьей профессией, не давали возможности сглаживать неровности семейной жизни интимными объяснениями, – до того ли уж тут! Такая была спешка, такая гонка с установкой и осмотром ловушек в осенний и предзимний сезон, – язык высунешь. И вот однажды перед самым Рождеством, вернувшись домой после кратковременной отлучки, Серая Сова увидел свою гордую индеянку в жалком виде: растрепанная, лежала Анахарео в кровати, с глазами, опухшими от слез. Вот тогда-то мало-помалу и стала показываться во всех подробностях сокровенная жизнь. Вначале муж никак не мог понять, в чем тут дело. Казалось, ведь так же все отлично шло! Не был же он вовсе никогда тем равнодушным и невнимательным супругом, как это бывает у индейцев, совсем даже нет: он так уважал, так ценил свою жену, так ею восхищался! Да и как не уважать, как не восхищаться такой женщиной среди таких невозможных лишений?!
– Уважение! – получил ответ Серая Сова. – Но ведь это больше всего относится к покойникам. Восхищение! Какой толк из этого? Можно восхищаться спектаклем. А где же тут сам живой человек?
И в конце концов:
– Мы живем, как упряжные собаки: греем печку, равнодушно пожираем свою пищу…
С великим изумлением теперь выслушивал Серая Сова горькие жалобы на отсутствие чопорной церемонии во время еды той самой женщины, которая могла с улыбкой на лице спать под дождем на открытом воздухе.
– А дальше, а дальше-то что! Вечные мечты и думы над тем, где бы получше и побольше можно было наставить ловушек. А после того, как это удается, мы еще и хвастаемся: «Мы набили, намучили больше других!»
Последним обвинением Серая Сова был огорчен и возмущен.
«Чем же я-то виноват? – думал он. – Ведь я же старался просто заработать для нашего существования, а то как же иначе? Вот сейчас падает цена на мех, значит, надо убивать все больше и больше для добывания средств… При чем же тут я?»
И тем не менее Серая Сова, несмотря на все свои совершенно правильные рассуждения, чувствовал, что какая-то непрошеная правда мерцала в ее жалобах…
Несколько задетый, в замешательстве, но совсем не рассерженный, выслушал все это Серая Сова и отправился из дому на свой любимый холм. Там он развел костер, сидел, курил, раздумывал о всем случившемся, привычной рукой снимая шкурку с убитой куницы. В то самое глубокое раздумье погрузился он и переживал ту самую борьбу с собой, какую до сих пор в своем одиночестве переживала Анахарео. И он постарался тут сам с собой довести спор свой с ней до конца.
И вот внезапно, как при свете молнии, увидел он весь свой эгоизм, развившийся во время скитаний. Стало понятно, как узка была дорожка, по которой он шел. Уважение, внимание, восхищение! Да ведь это были только крохи от его настоящих переживаний! И эти крохи он подносил женщине, вручившей ему свое сердце!
Поняв это все, Серая Сова отбросил всю свою мужскую самоуверенность и свои мужские права и на лыжах узкой горной тропою ринулся вниз, к лагерю.
«Не опоздать бы! Вот только бы не опоздать!»
В этот знаменательный вечер, когда Серая Сова впервые только глубоко заглянул в себя, и начинается его медленное внутреннее продвижение в действительную страну непуганых птиц и зверей, в ту страну, которую создает человек своим творчеством, а не в ту, о которой он только мечтает по-детски. В этот вечер зародился тот самый переворот, который потом переменил всю его жизнь.
Охота за бобрами
Не нужно думать, что душевный переворот у охотника на бобров произошел внезапно: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Да если и случаются иногда под давлением обстоятельств такие внезапные перемены, то это бывает обыкновенно на короткое время. Нет, в этом случае речь идет о перевороте как длительном процессе чередующихся умственных сдвигов самоанализа, порывов вперед, возвращения к исходным позициям и опять вперед, к новым достижениям. Такой переворот требует самодисциплины и, само собой, сразу совершиться не может.
Во всяком случае, грозные тучи, висевшие над семейной жизнью Серой Совы, в тот знаменательный вечер совершенно рассеялись. Супруги по-прежнему усердно работали на промысле, но зато уж когда возвращались домой, то прекращали всякий разговор о своей профессии. У них даже появилась потребность в домашнем уюте, хижину свою они стали украшать и разговоры вели о таких вещах, о каких раньше и помину не было. Если же днем, смотря по ходу промысла, нужно было расходиться в разные стороны, то обоих тянуло поскорее снова сойтись. Бывало, при лыжных пробегах путь раздваивался, – тогда тот, кто первый выходил на общий путь, писал на снегу шаловливые послания. Так мало-помалу счастье снова вернулось, и Анахарео стала такой же деятельной и жизнерадостной, какой была раньше. Вот только для Серой Совы полученный им жизненный урок не прошел даром и привел в конце концов к самым невероятным последствиям.
Анахарео при новом отношении к ней мужа стала неизменно сопровождать его во всех охотничьих предприятиях. И хотя охотой она занялась по-настоящему только теперь, в эту последнюю зиму, но тем не менее быстро овладела техникой, научилась отлично расставлять ловушки и следить за ними. Часто она даже первая прокладывала лыжный след и пользы приносила Серой Сове даже больше, чем в прежнее время его компаньоны-охотники. Но сильная и закаленная женщина, работая на промыслах, не закрывала себе глаза на жестокости своей новой профессии. Глубокое сострадание вызывал у нее вид окоченевших, искаженных предсмертной агонией, скорченных мертвых существ, или зрелище добивания животных рукояткой топора, или удушение животных, умирающих с мольбой в глазах, и после того – новые и новые ловушки для новых жертв. Хуже всего было, что в ловушки случайно попадало множество ненужных птиц и белок, и часто при осмотре они были еще живы; некоторые кричали или слабо стонали в мучениях. И вот странно! Животные как будто отгадывали, что делалось в душе Анахарео, и в последней своей борьбе за жизнь всегда обращались к милосердию женщины; так, особенно ярко выделяется случай с рысью, которая, умирая, подползла к ее ногам.
Все эти случаи делали Анахарео глубоко несчастной. И не раз Серая Сова дивился, как это кровная индеянка не могла привыкнуть к смерти животных, убиваемых для существования человека.
Серая Сова, как и все подобного рода бродяги по обширным и безмолвным пространствам лесной страны, всегда был склонен наделять животных личными свойствами. В глубине души благодаря этому он, конечно, должен был иметь к животным какое-то чувство сострадания. Но от этого человеческого чувства самим животным не было легче. Да и как это можно было думать о каком-нибудь милосердии в условиях крайней нужды, вечной задолженности у промышленника-пушника! Единственное, что можно было спрашивать с охотника, – это чтобы он не мучил животных зря, не убивал без нужды.
И не будь Анахарео, Серая Сова так бы и оставался в пределах обычной этики канадского охотника и не стал бы беспокоить себя лишними мыслями. Но необходимость считаться с душой своего товарища заставила его вылезть из своей скорлупы и открыть глаза на мир непривычных явлений. И оттого действительно он стал обращать внимание на такие вещи, которые при одном только голом стремлении к наживе должны были бы от него ускользать. Мало-помалу Серая Сова благодаря этим новым мыслям начал чувствовать некоторое отвращение к своему кровавому делу.
Конечно, нельзя сказать, что душа охотника была жестокой и все перерождение Серой Совы совершилось исключительно под влиянием милосердия женщины. Даже и в те дни суеверного прошлого, когда Серая Сова еще верил, что будто бы радиоволны как-то влияют в дурную сторону на климат, в отношении к животным он не лишен был некоторого чувства справедливости, еще не осознанного и проявлявшегося в странном виде. Тут не обошлось, конечно, без влияния предков-индейцев, этих примитивных фантастов. Унаследованные от них правила, доходившие до чистого суеверия, Серая Сова с юности своей выполнял, не жалея ни времени, ни труда. Со стороны едва ли можно относиться к этим обрядам сколько-нибудь серьезно, однако для Серой Совы эти ритуальные торжества значили очень много. Ни одного медведя не убивал он без того, чтобы какая-нибудь часть его тела – обыкновенно череп или лопатка – не подвешивалась где-нибудь на видном месте в районе его обитания. Тело ободранного бобра устраивалось в удобном положении, и рядом складывались отрезанные «руки», ноги и хвост. Когда было возможно, тело со всеми указанными частями спускалось в воду через прорубь, часто с трудом проделанную во льду. Если случалось употреблять бобра в пищу, то его коленную чашечку, столь необычную для животных, отделяли и предавали ритуальному сожжению. Все эти обряды выполнялись не только полуцивилизованными индейцами, но даже и относительно развитыми. И если бы кто-нибудь спросил о причине этих обрядов, ему бы ответили: «Озаам тапскохе аницинабе магуин», то есть: «Потому, что они так сильно похожи на индейцев».
К этим обычаям предков Серая Сова присоединял еще и свои собственные и выполнял эти собственные правила с той же строгостью, как и правила предков. Так вот, например, провожая в лес туристов-охотников, он никогда не позволял им фотографировать раненое животное до тех пор, пока оно не умирало. Точно так же, если приходилось раненое животное донести живым до лагеря, то тут надо было его непременно выходить и отпустить. Однажды весной Серой Сове попался маленький, месячный, волчонок, и охотник принес его домой и стал ухаживать с добрым намерением выходить его и, когда он будет в состоянии сам добывать себе пищу, отпустить на волю. При самом лучшем уходе маленький сирота чувствовал себя несчастным. У него было только два развлечения: или, он жевал старый мокасин[6] под кроватью – единственное развлечение, похожее на игру, – или часами, уставившись неподвижно, смотрел на стены хижины своими косыми непроницаемыми глазами, как будто он сквозь стены видел что-то вдали. Волчонок не обращал на Серую Сову никакого внимания и замечал его лишь тогда, когда тот приносил ему корм. Так он все и продолжал глядеть затуманенными зелеными глазами в свою желанную страну, пока, наконец, не умер.
Сироты
Однажды по окончании зимнего охотничьего сезона Серая Сова отправился продавать свою пушнину, но цены были низкие и падали все ниже и ниже из недели в неделю. В это время роковые слова о конце первобытных лесных промыслов уже были написаны в лесной чаще.
За год перед этим участок, на котором теперь работал Серая Сова, был обловлен хорошим охотником: и мало попадалось, и цены были так низки. Что делать? Всего только около шестисот долларов было заработано – вовсе ничтожная сумма в сравнении с обычным заработком. После погашения долгов и закупки летнего провианта не останется от шестисот долларов ни малейшей основы для возможности двинуться вновь куда-нибудь на поиски девственного, не видевшего охотника участка, а без этой возможности какой же интерес томиться ловлей зверей в таких поруганных человеком местах? Чтобы как-нибудь выйти из трудного положения, Серая Сова решил поохотиться и в весеннее время, когда мало-мальски смыслящий что-нибудь в своем деле охотник вешает ружье на стенку: бить зверей, когда у них рождаются дети, – это все равно, что рубить сук, на котором сидишь. Но что же делать! Положение было безвыходное, а на участке еще оставалась одна семья бобров. Серая Сова успокоил себя тем, чем всякий успокаивает себя в этих случаях: если он не возьмет этих бобров, придет другой и покончит с ними.
Случилось, запоздал один покупатель, и пришлось из-за этого провести даром целую неделю, а потом длинная дорога на участок, где Серая Сова должен был сдать пушнину, отняла еще больше времени, и вот к охоте надо было приступить лишь в конце мая, когда бобрята непременно должны были уже родиться. Не оставалось в этом никакого сомнения. Но Серая Сова все-таки пошел на охоту, и, когда ставил свои капканы, из старой, но подновленной бобровой хатки послышались слабые, тоненькие голоса бобрят. Услыхав эти знакомые звуки, Серая Сова загремел веслами и тем отвлек внимание Анахарео. Пойми женщина, в чем дело, она упросила бы снять капканы. Никогда не приходилось раньше делать этого, поэтому, услыхав писк бобрят, и сам Серая Сова почувствовал боль.
Но работу свою он продолжал: деньги были очень нужны.
На следующий день Серая Сова вытащил из капканов тела трех бобров, но четвертого капкана не было: бобровая мать оборвала цепь и ушла в воду вместе с капканом. Было прощупано все дно в поисках тела бобра, была отчасти спущена и вода, но ничего не помогло: нигде ничего не находилось. В этом горе от потери самой ценной шкуры Серая Сова и вовсе забыл о маленьких беспомощных бобрятах, обреченных теперь, без матери, на голодную смерть. После целого дня, истраченного на поиски бобра, он уложил свои капканы, снаряжение и направился в лагерь, не думая возвращаться еще к этому опустелому месту. Но события иногда вторгаются в нашу жизнь и действуют как будто по собственной воле. На другой день Серая Сова вдруг почему-то переменил свое вчерашнее решение не возвращаться больше к пруду, и ему захотелось проверить, не вернулась ли самка в свою хижину. Вместе с Анахарео они стали грести к опустелой бобровой хатке. Но никаких признаков жизни там не было: ни по следам, ни по звукам.
Ничего не оставалось больше делать, как повернуть обратно и покинуть это место окончательно и навсегда. И только они повернули лодку, вдруг позади себя Серая Сова услышал плеск, оглянулся и увидел какое-то животное вроде выхухоля на поверхности воды возле бобрового домика. Хоть чем-нибудь вознаградить себя за потерянный день! И охотник поднял ружье, стал прицеливаться. На таком расстоянии промахнуться было невозможно, и палец уже готов был нажать на спуск, как вдруг это животное издало тихий крик, и ему ответило другое животное таким же голосом. Они сплылись, и их можно было убить одним выстрелом; но они опять закричали, и по этому крику вдруг стало все понятно: то были маленькие бобрята. Тогда Серая Сова медленно опустил ружье и сказал Анахарео:
– Ну, вот тебе и бобрята!
При виде маленьких сирот у нее сразу же пробудился инстинкт женщины.
– Спасем их! – воскликнула она взволнованно.
И потом более тихо:
– Мы обязаны.
– Да, – ответил смущенно Серая Сова, – мы обязаны. Возьми их.
Однако поймать их оказалось не так-то легко: бобрята были уже не маленькими и отлично могли плавать. Но, терпеливо преследуя их, охотники своего добились: странного вида пушистые зверьки были пойманы и спущены в лодку. Они были каждый около полуфунта весом, с длинными задними ногами и чешуйчатыми хвостами. По дну лодки оба зверька стали ходить со свойственным бобрам видом спокойствия, настойчивости и целеустремленности. Супруги-охотники смотрели на эту парочку несколько смущенно, с трудом представляя себе, что же дальше-то делать с ними. Однако милосердные люди и вообразить себе не могли невероятных последствий появления этих животных в семье человека.
Приемыши
Молодые супруги, конечно, не представляли себе того, как свяжут их по рукам и ногам принятые на воспитание дети звериного царства. Бобрята вовсе не были похожи на дикие существа, как мы их себе представляем: не прятались они по углам в ужасе, не глядели тоскующими глазами и ни в чем не заискивали. Совсем напротив: они гораздо более походили на два глубоко сознательных существа, видевших в людях своих защитников. Правда, они всецело отдались в человеческие руки, но зато уж, со своей стороны, требовали к себе непрерывного внимания, напоминая людям о взятой на себя ответственности, приучая даже к спать-то начеку, с рукой, положенной на жестянку со сгущенным молоком.
Не так-то легко было найти способ кормления их. Что делать, если они не хотели пить молоко из тарелки, а бутылки с соской нигде нельзя было скоро достать? К счастью, осенила мысль погружать веточку, взятую с дерева, в банку со сгущенным молоком, а потом давать ее в рот бобренку обсосать и облизать.
После еды эти кроткие существа, полные обезоруживающего дружелюбия, считающие как бы вполне естественным такое отношение к ним людей, просились на руки, чтобы их поласкали. А скоро они взяли себе в привычку засыпать за пазухой, или внутри рукава, или свернувшись калачиком вокруг человеческой шеи. Переложить их из выбранного ими места в другое было невозможно, – они немедленно просыпались и решительно, как в свой собственный дом, возвращались назад. Если же с излюбленного места их перекладывали в ящик, то они пронзительно кричали, прямо требуя своего возвращения, и стоило протянуть к ним руку, как они хватались за нее и по руке взбирались и опять калачиком свертывались вокруг шеи.
Голоса людей они скоро научились различать, и если к ним, как к людям, обращались со словами, то оба, один перебивая другого, старались криками своими что-то тоже сказать. Во всякое время им разрешено было выходить и бродить вокруг палатки, и все было у них хорошо до тех пор, пока они не теряли друг друга из виду. Неистовый крик поднимался, когда им приходилось поодиночке заблудиться. Тут они теряли всякую свою самоуверенность, самообладание и звали на помощь людей. А когда их соединяли, то нужно было видеть, как они кувыркались, катались, вертелись, визжали от радости и потом ложились рядышком, вцепившись друг в друга своими цепкими лапками, чрезвычайно похожими на руки. Часто, когда приемыши спали, им в шутку что-нибудь говорили, и они слышали и сквозь сон пытались ответить по-своему. Если же это повторялось слишком часто, бобрята становились беспокойными и выражали свою досаду, как дети. Действительно, их голоса очень напоминали крики грудных детей. Смотря по времени дня или ночи, в определенные часы из глубины ящика слышались соответственно часу и определенные звуки. Легче всего было людям понять, конечно, громкие, настойчивые и продолжительные крики, требующие еды и повторяющиеся приблизительно через каждые два часа.
Серая Сова не был сентиментальным человеком, но эти причудливые маленькие создания сумели привязать к себе охотника до того, что он сам дивился своим чувствам. Каждый из бобренков сразу же выбрал себе своего шефа и оставался верен своему первому выбору. Бобрята изливали свою любовь забавными способами: завидя людей, они опрокидывали свой ящик и мчались навстречу или ночью залезали под одеяло и располагались калачиками вокруг шеи избранного шефа. Если им что-нибудь грозило снаружи, они пугались и тихо крались, животами почти касаясь земли, к людям; каждый садился возле своего друга, и так они ждали, пока воображаемая опасность не проходила.
Они постоянно удирали, и в первое время немало было тревоги и хлопот, чтобы находить таких крошек в кустарниках. Но после вся эта тревога оказывалась напрасной, потому что, чуть заслышав где-нибудь шаги или зов своих друзей, они сами со всех ног бросались им навстречу. Мало-помалу маленькие бродяги вошли в такое доверие, что их хозяева стали забывать о разных мерах предосторожности и однажды перед отходом ко сну забыли закрыть ящик, а утром нашли его пустым. В тревоге бросились за бродягами, искали, плавая в каноэ целый день; всю ночь стерегли в кустах, постоянно проверяя, не вернулись ли они в палатку. Трудно было вообразить себе, чтобы бобрята, столь привязанные к людям, могли их по доброй воле покинуть. Но все-таки они были дикими животными, способными бегать где захочется, самостоятельно питаться и, может быть, вообще даже обходиться без людей: взбрело что-нибудь в голову – и вдруг одичали и ушли навсегда. Забиралась в душу еще и худшая тревога: везде было множество ястребов и сов, а какой-нибудь выдре и вовсе ничего не стоило расправиться с ними по-своему. Так прошло более тридцати часов со времени их исчезновения. За это время, думалось, если они только остались в живых, они должны были удрать так далеко, что поиски вблизи палатки делались вовсе напрасными. Измученные, с понурыми головами, вернулись супруги в палатку на отдых. А там, в палатке, и не подозревая, сколько они своим друзьям причинили тревоги, восседали на постели оба беглеца и выжимали воду из своих шуб прямо на одеяла.
После этого тяжкого испытания супруги перенесли свой лагерь прямо к старому озеру и, конечно, принимая разные меры предосторожности против хищных птиц и зверей, дали бобрятам волю уходить и бродить где им только нравится. Часто бобрята ненадолго спускались вниз, к озеру, своей обдуманной походкой, купались там, плавали в тростниках и возвращались важно, с видом двух старичков, делающих прогулку для моциона. Бобрята были неплохие хозяева. Когда окончился молочный период их кормления, в дополнение к их естественной пище приходилось давать им еще овсянку. Каждый бобренок получал свою отдельную тарелку, и вот нужно было видеть, как они обходились с этими тарелками! Инстинкт бобров – накладывать все полезные материалы друг на друга где-нибудь в стороне, чтобы они не мешали, – перешел и на тарелки: заботливо вычищенные тарелки отодвигались к стене палатки, и тут их непременно нужно было поставить на ребро у стены. Это было, конечно, нелегко сделать, но они упорно добивались, и большей частью им удавалось прислонить тарелки к стене.
К трем месяцам своего возраста бобры перестали доставлять своим хозяевам беспокойство, и нужно было только удовлетворять их жадный аппетит к овсянке да остерегаться их особенного, неустанного любопытства к мешкам и ящикам с запасами провизии. Они нуждались в частой ласке, и приходилось считаться с их обыкновением появляться во всякие часы ночи на постелях хозяев насквозь промокшими и обдавать своих спящих друзей сыростью и холодом. Но они были сами щепетильно опрятны, кротки, воспитанны, совершенно ничем не пахли, и, в общем, это была парочка представителей Маленького Народа, которая так себя вела, что каждому бы доставило удовольствие с ними жить. Оки старались держаться незаметно, и большую часть времени их было не видно и не слышно, и только перед закатом обыкновенно они чувствовали особенную потребность во внимании, и с этим надо было считаться. В эти минуты они попискивали, хватали за руки своих хозяев, слегка покусывали кончики пальцев, карабкались вверх, насколько только могли повыше, сопровождая все это курьезными ужимками, с тем чтобы показать свою особенную привязанность к людям. И вот эта потребность в человеческой ласке, зовущий голос, игра с локоном волос, то с пуговицей или бахромой от одежды делали их очень похожими на детей. Но подобные приливы чувств не были длительными: поиграв с людьми на вечерней заре, они исчезали по своим делам до рассвета и появлялись утомленными, промокшими и сонными.
Нет ничего удивительного в том, что Анахарео как женщина не только полюбила этих деток звериного царства, но всецело себя им посвятила, как будто они были ее собственные дети. Серая Сова решительно терялся в этом неожиданно нахлынувшем па него чувстве: оно грозило подорвать главный источник средств его существования – охоту на бобров. По временам он даже стыдился этих чувств, как недостойных мужчины. Однако в этих случаях вспоминался ему один громадный и с виду злой индеец, безобразного вида, с изуродованным оспой лицом; его все не любили. Однажды он провел целый день под дождем в поисках своего потерянного бобра; найдя его, он снял с себя верхнюю одежду, завернул в нее бобра и под проливным дождем шел домой в одной нижней рубашке. Другой индеец застрелил свою прекрасную ездовую собаку, вожака, за то, что она заела бобра, которого он два года выращивал. Значит, было же что-то привлекательное в этих чертенятах, если под их влиянием изменяли свой характер самые грубые люди!
Серая Сова вначале старался затаиваться в своих чувствах, когда это происходило на глазах Анахарео. но это было чрезвычайно трудно. Их чихания и детские покашливания, нежные хныканья и другие разные звуки, выражавшие их любовь к людям, – как они были привлекательны! А их постоянные пылкие ответы на всякую ласку, крохотные цепкие, похожие на руки лапки, их по временам нетерпеливо топающие ножки и маленькие взрывы чувств при защите своей независимости – все, казалось, в них было создано для того, чтобы вызывать самые нежные чувства, дремлющие в каждом человеческом сердце. Большей частью они были шумно счастливы, но бывали у них иногда приступы сварливости и повышенной возбудимости, когда они ссорились между собой, били друг друга и даже своих хозяев. Но такое дурное состояние духа длилось обыкновенно недолго, и – как удалось установить – причиной его было плохое пищеварение. Их «руки» (иначе и нельзя назвать их передние конечности) были для их дела столь же совершенны, как и человеческие. Они могли ими подбирать очень маленькие предметы, манипулировать палками, камнями, ударять, толкать, поднимать тяжести и так сильно обхватывали вещи, что трудно было их вырвать. Очищая зубами сочную кору с палки, они вращали стволик «руками», так что работа шла, как на токарном станке.
Жадные зверюги постоянно стремились что-нибудь друг У друга стащить, но редко это было всерьез, и еще реже затея удавалась. Владелец какой-нибудь палочки всегда был настороже и в случае злонамеренного приближения товарища поднимал протестующий крик и до того в этом расходился, что долго не унимался и после того, как неприятель оставлял всякую мысль о грабеже. Ни малейшего недовольства они не выказывали, когда подходили к ним во время еды; можно было даже их и погладить; но стоило только потянуться за их деревянными сандвичами, как они резко вскрикивали и повертывались, заслоняя задом свои съедобные прутики от людей.
Молодые супруги перенесли на своих бобрят, по-видимому, всю заботу и нежность, какие таились в них для воспитания собственных детей. Случалось им уплывать куда-нибудь по озеру, и, когда возвращались, они, не доезжая до берега, принимались звать, и приемыши подплывали, вытягивали руки, хватались за спущенные пальцы, глядели вверх, просились и что-то бормотали по-своему. Для такого случая припасались кусочки чего-нибудь лакомого, и приемыши поедали это на воде, звучно чмокая губами и всячески выражая свое довольство. Впрочем, покровителям детей звериного царства такая встреча, кажется, доставляла не меньшее удовольствие, чем и самим зверятам. В особенности им стало это занятно, когда оказалось, что лакомым кусочком можно было на воде манить бобрят за собой, и они старались даже вскарабкаться в каноэ. В этом им было очень легко помочь, так как хвост бобренка может быть удобнейшей ручкой. Восторг приемышей при встрече с хозяевами в каноэ был неописуемый, и если Анахарео и говорила иногда, что этот восторг небескорыстный, то Серая Сова урезонивал се такими словами:
– Укажи мне даже самого близкого друга, теплое сердце которого еще более не теплело бы оттого, что ты его приглашаешь к своему столу.
И не раз после таких забавных сцен, собираясь в новую поездку, Серая Сова и Анахарео, представители двух племен, самых воинственных, изводили друг друга спором о том, какую приманку взять в этот раз, что больше любят или не любят два маленьких существа, которые, по нравственным нормам спекулянтов цивилизации, не стоили даже заряда пороха.
Дети звериного царства
В середине лета понадобилось непременно Серой Сове побывать на железной дороге и там посоветоваться с людьми той же профессии о перспективах предстоящей зимы. Во время этого путешествия бобрам разрешалось бегать свободно, потому что выскочить за борт каноэ они никак не могли. Когда же приходилось каноэ тащить за собой по суше, то их сажали в мешок от зерна и подвешивали к лавочке для гребца в перевернутом каноэ. Один из этих волоков был длиною в две мили, и бобрята всю дорогу кричали, потому что тучи комаров облепляли мешок. Не было с собой удобного ящика, чтобы бобров устроить хотя бы на время остановки; приходилось от комаров привешивать мешок у костра и подкапчивать бедных зверьков. Почти все время они спали и ничего не ели, но тем не менее прибыли в довольно хорошем состоянии и только казались немного пьяными. Посмотрев на них в таком состоянии, один индеец даже сказал, что они умирают. Но всего через какой-нибудь час или два, проведенные в воде, они вполне отдохнули. Теперь пришлось их днем и ночью держать в заключении из-за множества бегавших на свободе ездовых собак. Бобры не оставались равнодушными к своему заключению, а проворно выгрызали себе выход из всякой посудины, в которую их приходилось сажать.
Вслед за этим путешествием предстояло совершить еще одно плавание – назад, в лагерь, за оставшимися вещами. Пришлось отдать бобров на попечение одному приятелю, который запер их в свой бревенчатый сарай. Через несколько дней путешественники прибыли, и, как только выгрузились на берегу, Анахарео отправилась навестить бобров, а Серая Сова пошел раздобыть крепкий, хороший ящик, чтобы в тот же вечер сесть на поезд и отправиться дальше. На обратном своем пути Серая Сова встретил бледную, обезумевшую от горя Анахарео: бобры исчезли. Они выгрызли себе выход в сарае на более тонком месте, где одно бревно соединяется с другим, и отправились в свое путешествие. Владелец сарая, зная, как молодые супруги дорожили бобрами, крайне взволнованный, надел намордник своей охотничьей собаке и отправился искать беглецов по следам. Взяв направление к отдаленному озеру, Серая Сова, в свою очередь, принялся широко обшаривать мель. Бобры не могли быть далеко, и при обычных условиях их легко бы можно было найти; опасность угрожала от упряжных собак и от охотников-шкурятников, убивающих все, что им на глаза попадается.
Однако спустя немного самка показалась сама во дворе; она беспечно пробиралась между собаками, и они ее заметили и уже со всех сторон бросились, чтобы схватить. Но с криком, дикими прыжками Анахарео бросилась, выхватила бобренка и, преследуемая врагами, унеслась в ближайшую дверь. Серая Сова узнал об этом, вернувшись из своих безуспешных поисков.
Поиски с охотничьей собакой тоже не дали никаких результатов, вероятно потому, что детеныши большинства животных не оставляют на следу никакого запаха, и это именно им служит защитой от хищников. Узнав об этом, Серая Сова и Анахарео значительно между собой переглянулись, оба думая об одном: что самец, чрезвычайно любознательный и страстный бродяга, отправился в свое последнее путешествие. И тогда большой крепкий ящик с одним бобренком им показался слишком большим и пустым. За свою короткую жизнь бобрята не разлучались между собой больше, чем на несколько минут, и оттого теперь самочка причитывала тем голосом, который являлся у нее в одиночестве при больших неприятностях.
Серая Сова искал безуспешно весь вечер, пока наконец не стало темнеть. Вся местность кишела издыхающими от голода упряжными собаками, для каждой из которых бобренок – один-единственный глоток. Шансов найти теперь оставалось немного, а пропавший бобренок как раз и был любимцем Серой Совы. Печаль стала глубоко проникать в его душу. Трудно было думать, чтобы маленький бобр успел добраться до озера, но искать нужно было, тем более что этот маленький бродяга часто попадал в трудные положения и все как-то счастливо отделывался. Быть может, он и в этот раз ускользнет от верной гибели? И Серая Сова, размышляя об этом, вдруг с достаточной ясностью увидел на другом берегу узкого залива что-то темно-коричневое, быстро исчезающее в наступающей темноте. Несколько раз Серая Сова громко позвал, и в ответ немедленно, только вовсе не со стороны того коричневого предмета, а совсем недалеко впереди, в расстоянии броска камня, послышался горестный вопль. Ивняк был густой, и разглядеть что-либо в нем было невозможно. Серая Сова, однако, шел вперед и кричал, и каждый раз на свой призыв получал ответ, пока наконец бродяга, с выпученными глазами и шерстью, поднявшейся дыбом, не прорвался через чащу и не бросился к ногам Серой Совы. Вмиг Серая Сова подхватил маленькое пушистое тельце, крепко прижал к своей груди, и бобренок, тыкаясь носом в него, тоже выражал свои чувства едва слышным жалобным писком. Он был совершенно сух и, значит, почти достигнув воды, не пошел в нее, а вернулся на голос, столь хорошо ему известный.
Никогда Серая Сова раньше не испытывал такой радости от находки чего-нибудь потерянного. Что же касается Анахарео, то она была вне себя от восторга. И пусть ящик по-прежнему был слишком велик для двух маленьких бобров, – теперь пустота его людьми больше не чувствовалась; напротив, он казался полным, и уже неслись оттуда знакомые звуки ссоры из-за лакомого кусочка, той самой ссоры, которая выражается словами: милые бранятся – только тешатся.
Наблюдая теперь зверушек, живущих в полном неведении опасностей, прошлых, настоящих и будущих, Серая Сова с некоторой тревогой думал о своей к ним привязанности, перерождающей его самого из охотника – истребителя бобров в их покровителя. С чисто экономической точки зрения Серая Сова давно уж был противником массовой бойни, естественно, теперь приходящей к концу из-за отсутствия жертв. Но такого рода холодный расчет был совсем другое, чем прямая любовь к живым существам. Оказалось, что эти животные обладали чувствами и могли отлично их выражать; они могли разговаривать, имели привязанности, знали, что такое счастье и что такое одиночество; одним словом, они были маленькими людьми. А наблюдение над двумя маленькими неизбежно сопровождалось пониманием всего Бобрового Народа: что он весь такой! Под влиянием этого у Серой Совы всплывали в памяти разные истории о бобрах, слышанные им в детстве и потом казавшиеся неправдоподобными. Недаром же дикие индейцы давали своим бобрам такие имена, как Бобровый Народ, Маленькие Индейцы, Говорящие Братья. Недаром матери-индеянки, потеряв ребенка, кормят грудью бобров и в этом находят утешение. И как нежно ухаживали за ними все индейцы, в руки которых они попадали! Но почему же раньше Серая Сова, ни на мгновение не задумываясь, предавал их смерти? Это прежнее свое отношение к бобрам Серая Сова теперь считал совершенно чудовищным.
Так раздумывая о маленьких детях звериного царства, Серая Сова в последний раз на ночь заглянул к ним и отправился спать. Но неугомонные зверьки в течение ночи выгрызли себе выход из нового жилища и, утомленные этой работой и еще разными своими делами, крепко заснули снаружи, возле прогрызенной ими стенки ящика. Тут их и нашли поутру, когда решался вопрос, садиться в поезд или еще один пропустить.
Между тем слухи о ручных бобрах привлекли в лагерь одного торговца мехами, пожелавшего посмотреть на бобров. Он рассказал, что есть недалеко отсюда еще парочка бобрят, которых один индеец принес хозяину магазина в уплату своего долга, и что он собирается их купить. Он прибавил, что те бобрята очень неважно выглядят и могут умереть в пути. И потому он их не хочет касаться и ждет, что владелец сам на свой риск ему их доставит.
Напротив, бобры Серой Совы показались торговцу превосходными и произвели на него сильное впечатление. Он даже сделал очень выгодное предложение, которое, конечно, было отвергнуто, хотя денег было и вовсе мало. После ухода торговца явилось желание поглядеть и на тех бобрят. Собираясь туда, Серая Сова и Анахарео поместили своих в оцинкованную лоханку, приставили сторожа и наказали в свое отсутствие никому бобров не показывать. Владелец бобров оказался не простым торговцем: его универсальный магазин соединен был с гостиницей, самым же главным источником его дохода была торговля контрабандным вином. Этот торговец контрабандными напитками в душе был неплохой парень и тратил на угощенье почти столько же виски, сколько и продавал. Притом он был еще и набожным человеком и в своей личной комнате имел нечто вроде алтаря с неугасимой лампадой. Здесь он обыкновенно и молился со своей семьей; и весьма нередко случалось, что, поднявшись с колен, приходилось идти прямо за прилавок, отпускать запрещенную водку покупателю, а потом возвращаться в свою священную комнату и, осенив себя крестным знамением, снова опускаться на то же самое место. Купив бобрят, этот хозяин не имел ни малейшего понятия об уходе за ними, и потому маленькие создания имели вид до крайности жалкий, в полном смысле слова, можно сказать, умирали, и своими слабыми голосами непрерывно кричали. Когда к ним в ящик просовывали руку, они хватались своими крохотными ручками за пальцы с жалобными криками, как будто они умоляли спасти их, вытащить из черной бездны, в которую они погружались.
Серая Сова мог только жалеть, но не осуждать хозяина: сам когда-то так поступал.
– Если бы только он нам позволил их взять к себе! – говорила Анахарео. – Пусть бы хоть они умерли возле наших и не были такими одинокими!
– Мы их купим! – ответил Серая Сова. И пошел к лавочнику.
– Сколько вы хотите?
– Много, – ответил торговец. – А сколько у вас денег? Серая Сова ответил.
– Мало, – сказал торговец.
Анахарео предложила торговцу ухаживать за бобрами. Но, как ни старалась она втолковать ему, что от этого бобры поправятся и будут стоить дороже, хозяин отказался и от такого бескорыстного предложения. Он послал за лицензией, чтобы иметь право отправить бобров к торговцу мехами, и говорил, что будет вполне удовлетворен, если бобры проживут до заключения сделки и будут погружены живыми.
– Если же они, – говорил он, – подохнут после заключения сделки, то это будет даже забавно.
Одним словом, это был типичный представитель спекулянтов среди торговцев мехами, порожденных последними аферами.
Но бобрята, без воды, подходящей пищи, какого бы то ни было ухода, к их счастью, не долго промучились. Один маленький пленник в ближайшее воскресенье утром был найден мертвым в своей темнице, другой так же безжизненно растянулся возле ведра с водой, до которой он, мучимый жаждой, напрасно старался добраться. С глубокой скорбью смотрел Серая Сова, как бросили в помойное ведро два существа, рожденные в чистой, благоуханной свободе безмолвных лесных просторов, чудесные существа, не понятые людьми, опозоренные…
И позже, глядя на своих двух маленьких крошек, Серая Сова не мог забыть тех несчастных и давал себе нерушимый обет никогда, ни при каких условиях не продавать своих зверенышей в рабство и сделать их свободными существами во что бы то ни стало. С болью вспоминал он при этом их загубленную мать.
– Пусть никогда не будет, – говорил он, – в жизни моей столь же тяжкого дня и не буду я больше участвовать в чем-нибудь подобном тому, чему я был свидетелем в жалкой лавке спекулянта. Я на это не пойду, если даже и придется самому голодать.
В неясном еще сознании, но, по всей вероятности, именно в это время у Серой Совы созрело решение бросить охоту на бобров навсегда.
Из-за чего пришлось подтянуть пояса
Как сожалеешь, когда исчезает любимый пейзаж или гибает последний представитель какого-нибудь благородного животного! Так было, когда пал последний бизон: были охотники, которые после этого навсегда отреклись от ножа и винтовки. И сколько ветеранов-охотников из индейцев посвятили себя делу восстановления исчезнувшей породы животного! То же самое теперь происходило с бобрами: их добивали. И трудно было уйти от этого, не участвовать самому в этой бойне. Легко сказать – бросить охоту на бобров! Но чем же существовать, особенно такому, как Серая Сова, с малолетства связавшему свою жизнь с судьбою бобра? Нет, ни в каком случае это решение отказаться навсегда от охоты на бобров не могло быть осуществлено прямо же вслед за тем, как вздумалось. Еще и еще много раз жизнь должна была убеждать в бессмыслице истребления бобров, и должен был явиться какой-нибудь случай, за который можно было бы схватиться и спастись от ненавистного дела истребления любимого животного Сто тысяч квадратных миль земли Онтарио теперь оставались совсем без бобров, и если бы не встречались кое-где их брошенные хатки, то можно было бы думать, что они здесь никогда даже не существовали. Около двух тысяч миль проплыл Серая Сова в каноэ по стране, считавшейся бобровой, и нашел только кое-где еще уцелевшие колонии и разрозненных одиночек. Серая Сова сидел на совете у оджибвеев на Симоновом озере, беседовал с другими племенами с большого озера Виктория, с верховьев реки Св. Маврикия, и все в один голос говорили одно и то же: что бобр или вовсе пропал, или находится на границе исчезновения. И по всему так выходило, что в очень скором времени бобры должны вовсе исчезнуть. Лес без бобров! Но как это представить себе человеку, который связал свою судьбу с судьбой бобра и всей окружающей обстановкой! Без бобра, казалось ему, исчезал всякий смысл в природе. И что же оставалось думать о себе самом, в сущности помогавшем нашествию беззаконных трапперов[7] и спекулянтов мехами?
Глубоко задумывался об этом Серая Сова и вспоминал ранние дни своей лесной жизни, те беззаботные дни одиночества среди молчаливых, обширных и безлюдных просторов. Увы! Эти дни, когда можно было бездумно убивать живые существа, ушли безвозвратно. В то время ведь он был один, спешки не было, и убийство животных в целях добывания средств существования казалось занятием вполне естественным. Нашествие безрассудных трапперов с их нечеловечески жестокими приемами убийства бобров – вот что заставило впервые призадуматься. Индейцы, как воспитанные, профессиональные звероловы, ставили обыкновенно капканы свои подо льдом, и там, в воде, животное, захваченное капканом, или тонуло, или вырывалось и спасалось. Но у пришельцев были совсем другие приемы…
Что может быть ужаснее спрингпуля[8] который выхватывает бобра из воды за лапу и подвешивает его живым в воздухе?! Так, давно, в первые времена нашествия варваров, Серая Сова нашел однажды мать, схваченную за лапу, а бобрята сосали у нее молоко. Она стонала от боли, и, чтобы освободить ее, пришлось отрезать ей лапу. Несмотря на боль, она поняла, что добрый человек ее освободил, и, доверяя ему, уходила медленно, поджидая своего маленького. Другая самка в то время встретилась еще в более ужасном положении: пойманное спрингпулем животное кричало голосом, до странности напоминавшим наш, человеческий. Спасти ее было невозможно, оставалось только опустить ее в воду, чтобы она поскорее задохлась. И вот, умирая, несчастное животное своей одной, неповрежденной, лапой крепко сжало палец помогавшего ей умереть человека. Оказалось, что эта самка была на последних днях беременности. Довольно и двух случаев жертв этого дьявольского изобретения убийства животных. Но они встречались десятками: выхваченные из воды животные висели много дней живыми, пока не умирали от жажды и голода. Часто птицы выклевывали глаза еще у живых…
Подобная бесчеловечность белых цивилизованных людей у индейца вызывала чувство особенной близости к животным и первобытной природе, и пусть эта природа в борьбе за существование была тоже безжалостна, но все-таки она, даже разграбляемая, оставалась благородной. И оттого убийство бобров белыми варварами вызывало у Серой Совы чувство глубокой солидарности с животными: собственное убийство бобров ему стало казаться особого рода предательством, как если бы он стал ренегатом, помогающим завоевателю обирать своих соотечественников. И так вот Серая Сова был приведен к сознанию необходимости заключить мир со всеми жителями лесов, с тем чтобы начать общую борьбу против гнусного и беспринципного врага.
Истребление зверей белыми варварами сопровождалось и другими прискорбными бытовыми явлениями. Появилось неведомое раньше воровство. Началось это бедствие с похищения капканов и скоро распространилось на все. Звероловы, возвращаясь с промысла в свою лесную избушку, оказывались без продовольствия, без лыж, печей, одеял и капканов. Лагери очищались от запасов и бросались в загаженном виде; угонялись даже каноэ. Рушились старые лесные заветы. Охотники делались осторожными и недоверчивыми. Особенно удручающее впечатление оставалось в тех случаях, когда осторожность некоторых приводила к необходимости запирать свои хижины на замок. В старое время своровать запасы провианта было таким позорным делом, что виновный расстреливался как оскорбитель народной святыни. Если бы в те времена кто-нибудь вздумал себе на хату повесить замок, его бы сочли за чужеземца или за человека, не заслуживающего никакого доверия. И этот позорный способ охраны своего жалкого добра, казалось, столь противный самому существу человека, теперь становился необходимым и законным средством. Такими явлениями сопровождалась цивилизация индейской страны.
Бобрята рождаются с середины мая и до конца первой недели июня. В северных районах в это время бобровая шкура, бывает, еще сохраняет все зимние качества. Вот почему весенняя охота может быть вполне рентабельной и отчего бродячие охотники в это время смерчем проносятся по стране, вторгаются в чужие участки, бьют легко доступных в этот сезон самок и обрекают сотни бобрят на голодную смерть. Помимо особой жестокости, этот способ охоты ужасен тем, что он в десятки лет опустошил страну больше, чем зимняя охота уничтожает, быть может, лишь только в сотни лет. Часто бедные маленькие существа, обреченные на голод, пытаются следовать за каноэ охотника, увозящего труп их матери; плывут и отчаянно кричат. Местные жители в таких случаях почти всегда приручали таких сирот. Но дальнейшая судьба их всегда была плачевна: они живут в заточении, стонут и молят о внимании к себе до того жалобно и неустанно, что когда недели через две умирают, то хозяевам все чудятся их голоса.
Серая Сова в своей жизни их много спасал, и теперь эти случаи спасения маленьких зверенышей с таким удовольствием вспоминаются. Так вот был один малыш у Серой Совы, спал всю ночь непременно возле головы, свернувшись в меховой шар. Когда приходилось перевертываться, то и он переползал на другую сторону и там свертывался в шар. Он очень любил взбираться на плечи, а во время работы за столом лежал, прижавшись к шее, под одеждой. Это был больной бобренок; под конец он до того ослабел, что уж не мог больше всего этого проделывать и однажды умер, делая слабую попытку взобраться на свое любимое место.
Давно уже Серая Сова томился в глубине своей души необходимостью вечной бойни, в полном смысле слова бойни, потому что в марте приходилось бить бобров просто дубинкой, когда они показываются на поверхности воды. Их смирение перед лицом смерти не могло не волновать чуткого человека: некоторые ведь даже, понимая неизбежность удара дубинкой, пытались защитить свою голову передними лапками. Был один случай, когда смертельно раненный бобр приплыл к берегу, лег в нескольких футах от охотника и чего-то ждал, как будто просил добить себя, но у охотника долго не могла подняться рука.
Давно уже от всего этого тошнило, но мало ли на свете профессий, от которых тошнит, и все-таки люди до конца не оставляют их, потому что им надо жить. И Серая Сова тоже, как все, продолжал бы оставаться в плену ужасной профессии, если бы не встретилась женщина, если бы маленькие пленники не заставили обратить на себя особенное внимание и не заменили одиноким людям в диком лесу родных детей. Они иногда казались людьми с какой-то иной планеты, язык которых надо было еще научиться понимать. Такие любознательные, такие любвеобильные, детски милые – и вот такие-то существа убивать! Нет! Серая Сова теперь будет наблюдать, изучать, учиться понимать их. А может быть, удастся основать собственную бобровую колонию и вступить в борьбу за жизнь бобров и не дать им исчезнуть с лица земли. Пример с бизонами был недалек, и если идея охраны их принесла свои плоды, то почему же Серая Сова не может сделать чего-нибудь подобного с бобрами? С чего бы, однако, начать? Надо, конечно, начать с того, чтобы найти какую-нибудь бобровую семью, на которую не мог бы претендовать никто из охотников, и защитить ее от охотников – бродячих, случайных людей. Но найти, охранить и приручить – задача нелегкая… На все это нужно время, а чем существовать в дикой, отдаленной от населенных пунктов местности? Безумное занятие, обрекающее на голод. Если же поселиться в богатом пушном районе, где можно было бы приладиться к какому-нибудь побочному занятию, то пришлось бы иметь своего сторожа, и началась бы из-за этого вражда с другими охотниками, которые Серую Сову сочли бы за предателя…
И все-таки через все эти препятствия надо было пройти и с чего-то надо было немедленно же начинать. А пока что все оборудование состояло из двух маленьких бобров и счета из бакалейной лавки.
После некоторых размышлений с большой опаской Серая Сова наконец решился вовлечь в свои планы Анахарео.
– Ну вот, – сказал он насколько мог решительно и бесповоротно, – мы займемся какой-то другой работой: охоту на бобров я бросаю навсегда.
Недоверчиво поглядела на него Анахарео и буркнула:
– На что уж бы лучше…
– Нет! – перебил ее сомнения Серая Сова. – Это решение совершенно серьезное. Отныне я и президент, и казначей, и единственный член общества покровителей Бобрового Народа. Что ты скажешь о наших финансах?
– Фи! – сказала она, чрезвычайно обрадованная.
Что такое финансы, если вопрос переходит к самым существенным вопросам жизни! Она никогда не думала, что Серая Сова может быть способным принять такое решение.
– Что ты теперь намерен делать? – спросила она.
Серая Сова тогда подробно посвятил Анахарео в свои планы.
– Может быть, – заключил он, – нам туговато будет, придется, может быть, подтянуть пояса…
– Подтянем как-нибудь, – ответила Анахарео.
Давид Белый Камень
Мечта одинокого человека… Сколько раз такая мечта засыхала подобно кустику, выросшему на берегу бурного Соленого моря! Сколько бродяг с мечтой в голове были вынуждены покинуть свою семью только потому, что редко понимают пророка в своем отечестве! И как она оживает, как прорастает эта мечта, если встречает тут же, на родной почве, таких энергичных людей, какой была Анахарео! Вскоре в помощь двум чудакам, затеявшим дело спасения Бобрового Народа, присоединился третий – старый индеец племени Алгонкинов, по имени Давид Белый Камень (Уайт Стоун), родом, как и наши индейцы, из того же Онтарио.
Давид был представителем того типа индейцев, которые много усвоили из науки белого человека, сохранив почти все особенности своей расы. Он хотя и с заметным акцентом, но все-таки бегло говорил по-английски и по-французски. Был он высокий, суровый человек, мускулистый, со скромными манерами и замкнутым характером своего народа. У него были проницательные глаза, исключительное чувство юмора, и мог он замечательно искусно выть по-волчьи. Под хмельком он распевал довольно посредственно псалмы из молитвенника; имел дробовик, из которого заряд вылетал так кучно, что, по словам владельца, «им можно было, как из винтовки пулей, подстрелить в толпе на выбор любого человека». Во время своих, к счастью редких, припадков религиозного усердия он не на шутку стремился продемонстрировать могущество этого редкого оружия В дни своей юности он слышал о знаменитых набегах ирокезов на северное Онтарио, и теперь старик был уверен в том, что их отряды и до сих пор, может быть, скрываются где-нибудь в неприступных местах, замышляя новые злодеяния. Он участвовал в строительстве Канадской Тихоокеанской железной дороги; присутствовал, когда Эдуард, принц Уэльский, с избранными гребцами начинал свое историческое путешествие в каноэ по древнему пушному пути вниз по реке Оттава в Монреаль. Он еще верил, что в таинственных, пока не открытых местах было множество зверя и… золота. Он был золотоискателем.
Как это было бы кстати: золото – людям, желающим посвятить жизнь свою счастью Бобрового Народа! Давид всего год тому назад нашел золотоносный участок, на который еще не было сделано никаких заявок. Но Серая Сова до сих пор был равнодушен к золотоискательству, хотя как гребец и носильщик принимал участие в разного рода золотых горячках и лихорадках. Он чувствовал легкое презрение к этому обманчивому пути, к этим людям, со страстью копающим камни и грязь. Но теперь невозможно было и самому удержаться, когда энтузиазм старика воспламенил воображение Анахарео, происходившей тоже из семьи золотоискателей. Вечерами все трое долго разговаривали о золотых россыпях, разглядывали с видом знатоков образцы пород и углублялись в изучение карты. Однажды, после длительной беседы, дело дошло до того, что только невозможность в ночной, поздний час достать продовольствие удержала энтузиастов от решения немедленно, в эту же ночь пуститься в экспедицию туда, в золотые края. Один только Серая Сова оставался до некоторой степени благоразумным и с некоторым трудом уговорил Давида и Анахарео подождать хотя бы до весны, когда можно будет отправиться без значительного риска. Уверенность в грядущем счастье была так велика, что Давид предложил великодушно все добытое в его участке разделить пополам, потом закупить хорошее снаряжение и направиться на север, в дикую страну, за пределы цивилизации, ибо все трое еще верили, что где-то «за далекими холмами» есть зверь.
Сколько еще было разговоров об устройстве бобров, которые к тому времени будут большими! Сколько любовной заботливости было к ним проявлено, как будто это были не животные, а собственные дорогие дети! Добрый Давид часами играл с ними, как маленький, и учил благопристойному поведению в обществе людей. Серая Сова, однако, план свой от него пока скрывал, отдавая долг суеверной примете многих людей: если о чем-нибудь загадал, то ни в коем случае, пока не приступил к делу, нельзя рассказывать об этом людям непричастным.
До весны, однако, было еще далеко, и надо было обдумать, как бы теперь получше скоротать оставшееся длинное время. В тех местах, кроме того, жить становилось довольно опасно. В этой части Квебека три лета подряд лили непрерывные дожди, отчего стало чрезвычайно сыро, и жить в палатке было неприютно. Индейцы умирали как мухи от туберкулеза и других болезней, связанных с дурной погодой. Их охотничьи участки были совершенно выбиты бродячими разбойниками, и кто из индейцев еще не умер с голоду, тот до того истощался на голодухе, что не мог оказывать сопротивления болезни. Индейский доктор из Оттавы был завален работой с больными и рекомендовал настойчиво трем искателям счастья как можно скорее бежать из этого края.
Тут, к великому счастью, подвернулась одна охотничья компания, и, чтобы сдвинуться с места, все трое, и даже вместе с бобрами, нанялись к ней на службу. Бобры сразу же сделались счастливым талисманом охотничьей компании и получили тут множество развлечений: они знакомились со спортсменами, прогрызали дыры в палатках и в брезенте, воровали хлеб, залезали в масло, били яйца и всем мешали. По ночам они отпускались на полную свободу и часто терялись, потому что стоянки были очень короткие и они не успевали ознакомиться с местностью. Но рано или поздно, а домой все-таки они всегда возвращались. Однажды утром, в три часа, по ошибке ввалившись в чужую палатку, один из них вскарабкался на спящего спортсмена и начал об него вытирать свою промокшую от хвоста и до носа шубу. Это вызвало целую сенсацию и коротенькие, но ядовитые замечания. К концу экспедиции иссякли запасы провизии, и все тогда завидовали бобрам, потому что их пища росла кругом в большом изобилии. Так несколько дней сытыми членами экспедиции были одни только бобры.
Джо Айзек
Когда-то в юности казалось очень странным такое явление, что когда задумываешь что-нибудь и о своем загаде держишь, как Серая Сова, язык за зубами, то случай сводит с такими людьми, которые живут и думают в том же самом направлении. Теперь я не вижу тут никакого волшебства: просто задуманное заставляет обращать внимание в желанную сторону и выслушивать соответствующих людей. Так вот: не будь в голове у Серой Совы фантастического плана устройства республики Бобрового Народа, не стал бы он, наверное, задерживаться на фантазиях золотоискателя Давида, и потом не отправился бы он вместе с ним служить в охотничьей экспедиции.
Около этого же времени трое милых чудаков познакомились еще с одним индейцем из Нью-Брунсвика, по имени Джо Айзек. В своих скитаниях такой человек, как Серая Сова, конечно, встречал великое множество всякого рода вралей, как бездарных, так и художников. Но такого художника-враля, как Джо Айзек, ему довелось встретить впервые. Природа как будто для этого только его и создала. Слушателя своего он как бы гипнотизировал и заставлял верить себе в желанном ему отношении, хотя во всех других отношениях тот вполне понимал его как лгуна. Он много болтал о себе, что он, например, отличный профессиональный атлет, и не отрицал того, что он хороший, покладистый человек. Но вот какие курьезы бывают с такими покладистыми людьми. Он отлично зарабатывал своей профессией атлета, но ввиду того, что он всегда и всюду непременно брал первые призы, у других исчезал самый стимул заниматься атлетикой, и потому ему запретили выступать на всем материке. Вот почему, не желая простой, грубой работой портить себе мускулы, он выжидает снятия запрещения и ничего не делает.
Для Джо Айзека неведомых географических названий не было, – в любой кем-нибудь названной местности он был. Если же вы сами бывали в названной местности и смущались его россказнями, то он сейчас же вас успокаивал тем, что Спутал название, и очень ловко выходил из затруднения. У него были шрамы, полученные им будто бы в битвах, на самом же деле, как потом это выяснилось, шрамы эти были просто следами хирургических операций. Обширность его житейского опыта казалась великоватой для его возраста и возбудила в некоторых подозрение. Кто-то сделал точное вычисление на основании показаний рассказчика, и оказалось, что ему должно быть не менее ста восемнадцати лет.
И вот подите поймите, как мог такой-то джентльмен сыграть огромную роль в жизни хороших людей, пожелавших стать на путь пионеров бобрового дела?! Не дети же были эти люди! Тяжелым трудом они добывали себе средства существования, знали нужду, видели всяких людей… Джо Айзек увлек их рассказами о местности Темискауата, которая, как потом оказалось, действительно существовала. Там, в Темискауате, на озере Тулэйди, он будто бы имел свой собственный охотничий домик с лодками и всяким оборудованием; там он имел отличный кредит в лавках, Множество приятелей, которые всякого из его друзей встретят с распростертыми объятиями. Серая Сова все слушал внимательно, высчитал всю ценность названного имущества, для верности почему-то разделил все на шесть, и даже после такого деления Темискауата на Тулэйди, или как бы там она ни называлась, была местностью, достойной всякого внимания.
Самое же главное, конечно, было в том. что местность была для искателей счастья Бобрового Народа совершенно новая и далекая; даль манит воображение охотника, и в таком состоянии человек имеет способность населять всякий такой неведомый, далекий край зверем и птицей. Но как ни далеко был заманчивый край, все-таки он не выходил за пределы Канады, а уж кто же, как не Серая Сова, на своем опыте, на своей собственной шее не изведал нынешние пушные богатства вконец разоренной Канады! Между тем Джо говорил – и ему верили, будто в том далеком благословенном краю человеческие поселки были вследствие вторжения диких животных доведены до состояния полнейшей нищеты. Олени там будто бы вытаптывали хлеб на корню, речные хорьки и выдры не давали жить рыбакам> а на сплаве леса до того одолевали бобры, что на лесопилку бревна приплывали вовсе изгрызенными и никуда не годными. И еще там будто бы водится порода страшных кошек-людоедов, за истребление которых взялось даже правительство и выдает охотникам премии.
Высказав столь яркие и убедительные факты девственного состояния края, Джо погрузился в молчание, которое было, несомненно, короткой паузой для собирания в памяти своей новых материалов. Серая Сова воспользовался случаем и подверг его маленькому перекрестному допросу.
– Вы сказали, Джо, что там есть бобры? – спросил он его небрежно.
Джо получше укрепился на своем стуле, как будто затем, чтобы удобнее было сдержать свое негодование, и поднял губу, как будто с тем, чтобы свистнуть.
– Бобры! – сказал он. Глаза его загорелись, и вот он понесся. – Да, бобры там действительно во множестве… Там столько бобров, что маленькие ручьи перенаселены до последней крайности. Говорят, что некоторым из них в ручьях вовсе даже не хватает жилой площади и приходится жить им исключительно на суше, вследствие чего замечаются у них некоторые органические перемены: на хвостах вырастает короткая шерсть, как у выдры. Подобные экземпляры известны под названием «травяных бобров».
Странно, что при дальнейших вопросах о травяных бобрах Джо несколько смешался и ответил, что не ручается вполне за факт существования подвида травяных бобров, так как об этом не имеется никаких сведений, кроме его личных наблюдений. Было, действительно, странно, что на таком пустяковом вопросе он смешался, но, по-видимому и у лжи есть свои пределы.
Темискауата была недалеко от его родины, вот почему быть может, он и глядит на нее без тех розовых очков, в которые люди видят обыкновенно чужие, отдаленные страны. Но все-таки кое-что верное было и в его рассказах иначе Серая Сова вовсе не мог бы и поехать туда и найти там материал для этой книги, – во всяком случае, сама Темискауата была. Что же касается «охотничьих рассказов» то и они были поистине увлекательны, при всех своих величайших и разнообразнейших противоречиях. Тая в душе свою идею охраны бобров, Серая Сова несколько пересолил в своих перекрестных допросах, после чего Джо обнажил свою руку и стал задумчиво смотреть на шрам. Вероятно, он хотел этим сказать, что рубец был получен от укуса бобра в какой-нибудь битве со стадом одной из разновидностей бобров – наземной, водяной или травяной.
Серая Сова поспешил из деликатности переменить тему: творец охотничьих рассказов чрезвычайно расстраивался, если ему не верили. Да и довольно уж было рассказано, потому что Серой Сове, в сущности, вовсе и не нужно было много бобров, ему для начала разведения их было довольно одной только семьи. И потому опять были извлечены карты, и опять трое энтузиастов чертили палкой на песке свои маршруты и целую неделю только и разговаривали что об этой Темискауате на Тулэйди.
Охотничьи рассказы! Ведь знаем же мы им цену, эту цену летящего в небе журавля, но почему же все-таки мы так любим их слушать, любим сами рассказывать и – самое смешное – до какой-то степени все-таки им немного и верим. И вот почтенные люди, умеющие по-настоящему работать, срываются с места из-за того только, что какой-то Джо сказал, что он от какого-то охотника слышал о каком-то месте со множеством бобров.
– Обратите внимание, – говорил Джо, – напиленные ими горы деревьев столь велики, что, перебираясь через них, один человек сломал себе обе ноги и умер на месте. И тем самым открывается секрет, почему тут никто больше не охотится: боятся тоже сломать себе ногу. Зато какая там теперь охота, какой лыжный путь, сколько бобров!
И он, тесно сжимая пальцы на руке, через щелочки пытается глядеть на собеседника, давая тем понять, как много их там живет.
Давид имел привычку стоя слушать такую брехню и, будучи чрезвычайно умным, никогда не возражал ни одним словом, как будто хотел сохранить всю чудесную фантастику в совершенной неприкосновенности. Конечно, и все другие очень мало верили охотничьим рассказам, но это мало имело значения, когда манило Неизвестное и пробуждался от этих рассказов бродяжнический дух – коренное свойство индейской души. Достаточно было двух-трех коротеньких намеков в каком-нибудь рассказе, чтобы слушатели вспыхивали, схватывались за карту и в каждой ее линии начинали видеть свой особенный смысл. И вот эти люди, постоянно высмеивающие неправдоподобные рассказы, отдавались сами их влиянию и готовились всем рисковать.
Но почему же, в самом деле, и не рискнуть, если риск – благородное дело? И так вот, в результате слушания охотничьих рассказов, люди отправлялись в какую-то Темискауату.
Далекий путь
Серой Сове пришлось продать для этого путешествия каноэ, истинного своего друга, спутника далеких плаваний, и кое-как наскрести на билеты себе и Анахарео. Бедный Давид почти плакал, не будучи в состоянии купить себе билет, и невозможно было ничем помочь ему. На вырученные от продажи вещей деньги можно было только доехать двум до места, рассчитывая там, в чужом месте, на авансы в счет будущей охоты. Нечего делать! Искателям счастья пришлось расстаться со своим другом и обещать ему выписать его немедленно после того, как что-нибудь попадется в капканы.
У путешественников, конечно, было другое, новое каноэ и полное охотничье снаряжение: лыжи, ружья, продукты и всякая всячина. Бобры поехали в обитом жестью ящике с чашкой для воды, прикрепленной в углу. В багажном вагоне для них поместили целую охапку тополевых веток. Во время пересадок Серая Сова переносил на спине ящик с бобрами, придерживая его ремнями. В городе Квебеке пришлось кормить бобров на станционной платформе; собралась громадная толпа, и пошли толки о том, что «везут диких животных, недостаточно прочно запертых в ящик на спине». Бобры непрерывно вопили, карабкались и пролили даже всю воду на спину Серой Совы. Индейцы привлекали всеобщее внимание, частью недоброжелательное, но большей частью дружелюбное. Занятно было наблюдать выражение лиц окружающих, когда неслись крики. Один джентльмен, изрядно выпивший, даже просил индейцев «ради бога, выпустить ребенка из ящика, как подобает добрым христианам».
В конце концов путешественники опять благополучно укатили на поезде. Это удалось сделать благодаря доброте посторонних людей и их желанию помочь, что вообще очень характерно для населения восточной части провинции Квебек.
Поезд тронулся, бобры прекратили нытье, и путешественники стали наблюдать из окна новую местность. Скоро Серая Сова с беспокойством заметил, что поезд все более и более забирает на юго-восток, в густо населенные места, для охотника чрезвычайно унылого вида. Там и сям торчали отдельные деревья, в которых легко было узнать последних представителей дремучих лесов, когда-то покрывавших весь этот край. И невольно, конечно, эти одинокие деревья возвращали мысль индейца на себя самого, тоже как на одного из последних представителей когда-то могучего племени.
Великая река Св. Лаврентия в нижнем своем течении резко отделяет дикое нагорье от более культурной низменности. И когда поезд пересек реку и стал по низменности катиться все дальше и дальше на юг, тоска по родине взялась мучить странников леса с большой силой; им казалось, они теперь навеки отрезали себя от родины и друзей. Было очень похоже на сказочную росстань; казалось, досталось им идти по гибельному пути и путь назад был отрезан. В это время окончательно вскрылось гипнотическое влияние рассказов Джо Айзека, а быстро бегущие колеса поезда уносили все дальше и дальше, в глубь неведомой, чужой страны с такой неумолимой силой, что невольно судьба людей, увлеченных своей мечтой, сближалась с судьбой диких животных, пойманных в лесной чаще, упакованных в ящик и отправленных неизвестно куда.
Мало ли где приходилось ездить Серой Сове в поезде и тоже так, из окошка, разглядывать чужие, неведомые края! Ведь он был даже в Европе, на войне. Но все эти путешествия были так или иначе обеспечены кем-то и теперь в сравнении с этим настоящим путешествием казались очень легкими. Да, это вышла, во всяком случае, не увеселительная поездка и в сравнении с теми поездками была похожа на битву – действительную битву на передовых позициях в сравнении с битвой на экране в кино.
Мысль о пропитании тоже совсем иначе сверлит душу, если приходится думать не только о себе, но и о судьбе связанных с тобой существ. Будь то лес кругом, индейцу бы не было жутко: в лесу он всегда добудет себе и своим близким трем существам пропитание. Но что делать в безлесной населенной местности человеку, совсем к ней не приспособленному? И чем дальше и дальше поезд удалялся на юго-восток, тем Серой Сове ясней и ясней становилась вся неразумность этих поисков страны непуганых птиц и зверей в населенной местности с опустошенными лесами.
Анахарео, подняв голову от ящика с бобрами, вдруг поймала озабоченный взгляд Серой Совы.
– И о чем ты так беспокоишься? – сказала она. – Непременно как-нибудь мы да выпутаемся.
– Да ты посмотри только, – ответил Серая Сова, – погляди в окошко, – так ли выглядит страна, где добывают зверей!
А поезд все больше и больше забирал на юг.
– Поезд переменит направление. Я готова спорить, что Темискауата вся покрыта лесами.
Тогда Серая Сова сказал как только мог веселей и спокойней:
– Может быть, может быть, и правда – скоро будут леса, а что мы выпутаемся из трудного положения, то и я в этом совершенно уверен.
Пришла в голову мысль поговорить с кондуктором о местности: может быть, он хоть что-нибудь знает и скажет, куда несет поезд лесных жителей с их бобрами. Серая Сова нашел это должностное лицо возле киоска газетчика. Кондуктор оказался добродушным человеком с оптимистическими взглядами.
– Вам, – сказал он, – выдан билет до Кобано, и все ваше имущество в багажном вагоне следует тоже до этого пункта. Ну, вам тут нечего особенно раздумывать: местность эту я знаю, она вовсе не так уж плоха. Может быть, там и неважная охота, – этого я не могу сказать, – но люди там отличные.
И, подумав немного, добавил:
– Если вы ищете лес, то лесов там прямо уйма… Вот то-то и плохо, что там слишком много лесов.
Слишком много лесов!
– Ну, как? Что сказал кондуктор? – спросила Анахарео, когда вернулся назад ее муж.
– Говорит, что там слишком много лесов, – ответил Серая Сова. – Пустая болтовня. Наверное, воображает, что несколько миль тополевой поросли называются лесом.
А фермы, города, шоссейные дороги так и мелькали, так и мелькали в окне, и бедные индейцы, тесно прижавшись друг к другу, сидели на скамейке и со стесненным сердцем вглядывались в эту страну, столь не похожую на родной дикий и любимый север. Здесь индейцы были, правда, как рыба на сухом берегу. И два маленьких звереныша у их ног были единственной живой связью с родным лесом и водой, и никогда раньше не казались они столь близкими им существами. И представлялось индейцам, что ехали не два человека и не два животных, а ехали и скитались в чужой стране четыре друга.
Пришлось еще раз пересесть в Ривьер-дю-Лю, и хотя отсюда поезд двинулся на юг, прямо как по компасу, вид из окна становился более утешительным: показались далекие пурпуровые, покрытые лесом холмы, и время от времени блестели озера.
Между тем бесконечное путешествие стало серьезно расстраивать самочувствие маленьких зверенышей. К счастью, симпатичный кондуктор разрешил нарушить поездные правила – ввиду того, что вагон был почти что пустой – и маленьких пассажиров выпустили свободно гулять по вагонному проходу. После того кондуктор еще посоветовал перейти всем с бобрами в товарный вагон, где воздух был много свежее. И когда путешественники, послушавшись доброго совета, перешли и напоили бобров свежей водой прямо из холодильника, зверушки ожили. И так с ними бывало всегда: вода и свежий воздух их оживляли больше, чем пища. Благородный дух старого Квебека стал сказываться и в поезде: узнав, что бобры всю дорогу почти ничего не ели и люди тоже не ели, волнуясь за своих друзей, поездная бригада всех, и людей и зверей, отлично покормила, отдав, наверно, большую часть своего обеда.
Такое дружелюбное отношение и вид большого Теми-скауатского озера, обрамленного на другом берегу высокими зелеными горами, напоминавшими спину слона, увенчанными соснами, освежили и людей, как зверей освежили вода и воздух. А когда приблизились к месту назначения, то увидели, что начиная от восточной части озера и куда только можно было бросить взгляд был наконец-то настоящий лес.
Серая Сова погрузил все свое снаряжение в фургон, который должен был доставить его к озеру. Город оказался маленьким, но сразу было видно, что зто город лесной. На этом берегу, правда, были все фермы, но дальше, за водой, места были совершенно в индейском вкусе, и можно было понять, что их очень много. Стало много веселей, но тревога все-таки совсем не могла оставить путешественников: провизии было на месяц, а кормиться нужно еще целую зиму, пока охота не принесет своих плодов. Все зависело, конечно, от получения аванса под охоту.
Итак, заплатив хозяину фургона, Серая Сова подсчитал свой капитал и положил его весь обратно в карман куртки из оленьей кожи: весь этот капитал состоял из одного доллара и сорока пяти центов.
Город-консерв
Город Кобано – это большая деревня, очень типичная для Французской Канады просторная деревня, раскинутая с заветренной стороны старого лесистого горного кряжа. Тут приезжего не испугает холодное городское равнодушие. В этом милом, солнечном местечке у людей вовсе не было того измученного выражения на лицах, какое видишь обыкновенно у горожан. Даже обрамленные рядами деревьев тротуары и непритязательные, но изящные дома по-своему выражали доброту хозяев.
Главной достопримечательностью города был, конечно, лесопильный завод, без которого город вообще не имел бы никакого смысла существования. Каменная церковь на холме стояла так высоко, что казалось, будто под кровом ее собирается все население.
Приезжие шли по городу рядом с телегой, в которой было погружено их имущество. Им встречалось много народу, и разговор всюду был слышен на одном французском языке. Английской речи вовсе не было слышно, и Серая Сова поднимал в своей памяти те приблизительно сорок французских слов, которые он усвоил когда-то во время европейской войны.
– Индейцы! Дикари! – разобрал он долетевшие до него слова.
Индейцы явно интересовали всех встречных. Но, при всей откровенности их любопытства, даже особенного, пристального внимания к приезжим, назойливости, свидетельствующей о невежливости, не было. Наоборот, вот какой был характерный случай: один раз, когда индейцы хотели пробраться через группу людей, забывших в оживленной беседе, что они загородили путь идущим по тротуару, они, вдруг завидя индейцев, опомнились, расступились; женщины кивали головами, мужчины раскланивались.
Дальняя часть восточного берега была покрыта уймой лесов без всяких видимых признаков человеческого жилья. Там где-то и была Тулэйди: врата в страну непуганых птиц и зверей. Туда! Конечно же, туда, как можно скорее, чтобы там, у края лесов, раскинуться лагерем, и отдохнуть, и собраться с новыми силами! Так вот люди обыкновенно из лесу стремятся поскорее добраться до гостиницы и там принять ванну, заказать обед в ресторане, а эти индейцы из благоустроенного города стремились к лесному уюту. По бурному озеру катились валы, и пассажиры, сидевшие на пароме, стали беспокоиться за судьбу индейцев: можно ли по таким-то волнам плыть в хрупком каноэ! Однако эти индейцы им скоро показали, что каноэ может плыть не только по тихой воде, но и там, где никакое другое судно не может проплыть.
Паром назывался «Св. Иоанн Креститель» («Св. Джон»), как и все в этой стране называлось именами святых. Он ходил одну милю через озеро и служил соединительным звеном между Кобано и дорогой в другой, значительно меньший городок – выселок. В этом выселке проживало приблизительно около ста семейств, и, как расположенный на Тулэйди, он был доступен и едущим в каноэ.
Так вот, имея в голове план как можно скорее добраться до Тулэйди, путешественники уложили все свои вещи на «Св. Джона», сами же рядом с ним пустились в каноэ. Бобрам, столько времени лишенным воды, была предоставлена полная воля; но, завидев огромное пространство воды, плыть они не решились. Они просто бежали вдоль берега, время от времени бросаясь в воду и вновь появляясь на суше.
Спустя некоторое время за поворотом послышались голоса: это, оказалось, шли те самые люди, которые предостерегали индейцев от плавания по бурному озеру; они шли, чрезвычайно обеспокоенные судьбой каноэ, потому что, потеряв его из виду, они допускали возможность катастрофы. Один из них на беглом английском языке сказал путешественникам, что все они очень обрадованы благополучным окончанием плавания. Можно себе представить, какое впечатление произвела эта дружественная заинтересованность на людей одиноких, изнеможенных борьбой с мрачным предчувствием! Серая Сова даже почувствовал, будто у него как-то непривычно запершило в горле. Не находилось слов благодарности. Но французы открыли принесенную с собой корзину, начали выкладывать и печенье, и сандвичи, и конфеты. И, предлагая, уговаривали принять все это в такой деликатной, исключающей всякую возможность отказа форме, что у Анахарео заблестели глаза, и только чуть бы еще – и по щекам у нее покатились бы росинки.
Вдруг кто-то закричал:
– Lesbabettes!
Это бобры показались из воды и остановились на берегу с наблюдающим видом.
– Посмотрите на этих крошек! – кричали женщины и наклонялись, чтобы их приласкать.
Но почему-то женщины вдруг испугались, отскочили, бобры – за ними; потом и бобры чего-то испугались, прыгнули в озеро и ударами хвостов о воду забрызгали все общество и оживили всех чрезвычайно.
День превратился в увеселительную прогулку на берегах старой Темискауаты, и единственным теневым местом было только сомнение Серой Совы: не истолкует ли все это веселое общество некоторую растерянность приезжих от неожиданного внимания в том смысле, что индейцы чуть-чуть глуповаты?
Милые люди, возвращаясь к себе в город, упросили индейцев на память о себе написать им свои имена по-индейски и по-английски и нарисовать свое животное-покровителя. Анахарео охотно изобразила свою лошадку (пони), а Серая Сова, рисуя, тоже постарался придать особенную важность своей птице – серой сове. К сожалению, от большой важности она казалась вроде как бы дохлой…
Но компания вполне удовлетворилась таким художеством и, оставив полный ящик печенья, бутылку красного вина к ужину, со словами: «Не забывайте нас!» – ушла. И после того даже, когда они обогнули мыс, долго были слышны их голоса.
Куда девалось это чувство подавленности и одиночества, охватившее перед тем искателей страны непуганых зверей! А добродушные люди едва ли даже в малой степени понимали, сколько своим вниманием они сделали добра этим пленникам своего собственного воображения. Проводив веселых гостей, путешественники пришли в себя и стали быстро приводить в порядок разбросанные вещи, устраивать лагерь и на всякий случай в незнакомой местности сделали загон для бобров.
Когда озеро успокоилось, по тихой воде явился еще один гость и поднес в подарок странникам леса несколько пойманных им маленьких форелей. Он, как можно было думать, вовсе не знал английского и потому ничего не говорил, а только улыбался, кланялся и предлагал свою рыбу, стоя в лодке. Серая Сова всеми силами старался поблагодарить его при помощи того, что считал у себя французским языком, то есть разных вежливых, подходящих к случаю фраз. Слова были, казалось Сове, вполне верными и подходящими к случаю, но гость, очевидно, ничего не понимая, только улыбался и кивал головой.
– Это забавно, – сказал наконец Серая Сова своей Анахарео в большом смущении, – я говорю вполне правильно, он же не хочет понять своего собственного языка.
– Лучше, лучше старайся! – ответила Анахарео. – Припомни все, что ты знаешь, и рано или поздно он тебя непременно поймет.
– Хорошо, в чем же моя ошибка? Ведь я же по-французски говорю, и, кажется, правильно?
– Какое тут по-французски! – сказала Анахарео по-английски.
Услыхав английский, гость вдруг повеселел.
– Вот и отлично! – сказал он на прекрасном английском Серой Сове. – Это моя ошибка: я почему-то думал, что вы говорите на одном только индейском.
Анахарео была совершенно права: то, что Сова принимал за французский, гость-француз принимал за индейский.
В лагерь индейцев, пока они стояли на берегу Темискауаты, приплывало на лодках много гостей, и некоторые в своем местечке были даже и важными гражданами. И, видимо, их влекло к индейцам не одно свойственное людям любопытство – нет! Можно было понять, что они как хозяева здесь считали своим долгом так устроить чужеземцев, чтобы те чувствовали себя на чужбине по возможности, как у себя дома. Гости даже привозили дары: одни – картофель, другие – вино. Кто-то даже надавал адреса лиц, с которыми, по его словам, не мешало бы познакомиться. Торговец мехами из соседнего города приехал с предложением продать ему бобров за такую сумму, с которой можно было бы прожить до Нового года. И что бы там ни было – любопытство или дело, – к большому удовольствию Серой Совы, почти все были вежливы и внимательны. Один или два инцидента были, конечно, и рассказу совершенно без всяких неприятностей никто бы и не поверил. Но, в общем, хорошее отношение французов для Серой Совы было совсем неожиданно. Да, слишком много пришлось ему перенести от французских дезертиров в 1917–1918 годах – отвратительных людей, наводнивших канадские леса, шкурятников, истреблявших всякую дичь. Французы-дезертиры, с их живым темпераментом, легко поддались самым скверным влияниям и превратились в омерзительные существа. И вот после таких-то французов Серая Сова попадает к французам строго аристократического Квебека, с тремя столетиями за спиной. Тут люди в благоприятнейших условиях как бы консервировались и не могли испортить еще свой природный характер. Кто знает, какие они люди были в своем существе и как они в глубине души относились к лесным скитаниям индейцев, – не все ли равно? Серая Сова столько горя хлебнул и у себя на родине, в опустошенных лесах, и на войне цивилизованных народов, что если приходили к нему люди с улыбающимися лицами, то этого было вполне довольно.
Манна небесная
Если бы появились охотники-индейцы где-нибудь в северном пушном промысловом районе, то спекулянты пушниной давно постарались бы снабдить их продуктами в долгосрочный кредит. Но здесь никто и не думал об этом, и в городе даже не было никаких признаков учреждений, занимающихся скупкой мехов. Надо было полагать, что местные лавочники и понятия не имели о таких операциях, как выдача аванса под охоту. Между тем время все двигалось к охоте, и в воздухе уже кружились осенние листья.
Как же все-таки быть-то? Где достать денег? Занялись пока что сбором сведений об этой стране по источникам более надежным, чем прежние заманчивые рассказы Джо. Таким образом узнали, что лес, начинающийся на гребне горы, похожей на спину слона, тянулся от устья реки Тулэйди до самого Нью-Брунсвика и почти до Атлантического океана. Все это было очень хорошо, но только мистер Джо, приманивший своими яркими рассказами охотников в эти края, в свое время нарисовал картину местности несколько иначе, чем она была на самом деле. Охотничьего участка у него никакого не было, а была только хижинка. И лодочного флота тоже не было. Пушные звери вовсе не причиняли никакого вреда населению, и разве только олени иногда трогали сено. Что же касается кошек-людоедов, то у кого-то был дедушка, а у дедушки этого… Но не стоит докапываться до той правды, которая отнимает охоту у талантливого рассказчика повторить свою легенду еще раз какому-нибудь легковерному своему слушателю.
На одном ирландском пароходе люди, знавшие все окрестности вдоль и поперек, рассказали Серой Сове, что если отправиться отсюда миль за сорок или пятьдесят, то, может быть, и удастся раздобыть несколько норок, лис и одиночных выдр.
Они тоже утверждали, что и бобры были, несколько семейств, на очень больших друг от друга расстояниях. На них-то, конечно, на этих бобров, и был смысл охотиться, но Серая Сова зарекся истреблять бобров и нарушить свое обещание не мог. Из этих теперь уже бесспорных сведений одно становилось ясным, что свое торжественное обещание не убивать никогда бобров Серой Сове придется выполнять в не очень-то легких условиях. Но мысль о создании бобровой колонии не покидала его, согревала и давала возможность мечтать и строить планы на будущее: правда, зачем унывать, если не одни только бобры доставляют пушные товары, – можно жить и другой пушниной. Но так именно жил и поступал каждый охотник, каждый вкладывал в свое дело много-много труда, каждый много-много видел на своем веку и каждый много-много радовался жизни. Сколько ни ставь на карту, много ли, мало ли, результат выходил почти одинаковый. Серая Сова за все время своих скитаний еще ни разу не видел такого охотника, который, много поработав, к старости стал бы покойно жить на свои сбережения.
Есть леса, есть звери, – и ладно! Но вот новые тревоги появились на горизонте искателей страны непуганых зверей. Ни с того ни с сего вдруг почему-то начали лысеть бобры, и со скоростью чрезвычайной. Днем и ночью они непрерывно терлись, чесались, выдирали целые пригоршни шерсти и в короткое время сделались такими же голыми, как змеи, и только на середине спины оставались узкие гривы, недоступные для вытирания. В таком виде бобры несколько напоминали изображения индейцев с выбритыми головами в исторических книгах. Как раз родичи Анахарео в особенности любили приводить себя в такой вид, за что Серая Сова и Анахарео теперь стали в шутку называть своих бобренков Маленькими Ирокезами. Болезнь была, однако, вовсе не шуточная. Ирокезы сделались беспокойными, отказывались от еды, избегали воды: всё очень скверные признаки для этих животных. Пришлось обратиться к врачу, и он, осмотрев бобров, посоветовал переменить корм, так как, по его мнению, овсянка перегревала кровь, отчего они могут даже и умереть. Так что дело с бобрами было неважное: зима на носу, а они вовсе без шуб. Доктор оставил баночку мази, успокаивающей чесотку, и рекомендовал кормить бобров патентованными средствами для кормления маленьких детей. Ни за совет, ни за лекарство доктор не взял ничего и сказал на хорошем школьном английском:
– Я старый солдат и никогда не беру деньги с товарищей. Когда заболеете, идите прямо ко мне, и это вам ничего не будет стоить. Я всегда ваш друг.
Вот повезло! У Серой Совы всего-навсего было тридцать центов. С этими деньгами он отправляется в лавку в надежде, что их хватит на патентованное средство. Как раз в этот день он решился наконец где-нибудь занять денег, – где-нибудь, все равно, только бы дали.
– Soixanteetquinze![9] – сказал лавочник, выкладывая лекарство.
Серая Сова посмотрел на лекарство и подумал, что с таким же успехом он мог сказать и семьдесят пять долларов. Между тем там, на берегу озера, два несчастных больных существа ждали этого лекарства. Но когда положение становится безвыходным, откуда-то берется и храбрость.
– А нельзя ли в кредит? – спросил Серая Сова.
И принял вид человека, вполне заслуживающего доверия, хотя внутри себя чувствовал, будто он падает и ему при этом наносят последний удар.
– Maiscertainement, monsieur… Ensuite?[10]
Серая Сова повернулся к Анахарео, у которой, как ему сейчас казалось, слух к французскому был лучше.
– Что такое он говорит? – спросил он.
– Еще что-нибудь угодно? – спросил лавочник во второй раз.
Серая Сова изумленно сжал пальцы, потрогал прилавок, переступил с ноги на ногу и охотно прочитал бы молитву, если бы знал хоть одну. По всему выходило, что торговец сам напрашивался, и Серая Сова вдруг наконец-то понял, что ему сейчас надо хватать быка за рога.
– В ближайшее время, – сказал он, – я отправляюсь охотиться на Тулэйди. Мне нужен запас провизии на зиму.
– В какое место реки?
– На рукав Хортон.
– Прелестное место! – сказал лавочник.
А Серая Сова, кроме Хортона этого, и не знал ничего.
После того лавочник, достав книгу заказов, взял карандаш и стал записывать в нее все, что нужно было Серой Сове. В конце концов, выходя из лавки, Серая Сова имел еще сто двадцать долларов сверх провизии на конец зимы. На улице Анахарео сказала:
– Сегодня мы должны раскупорить нашу бутылку шампанского.
Вернувшись в лагерь, индейцы нашли своих маленьких бобров в том самом виде, как их и оставили: жалкими, молчаливыми, голыми, слабыми. Бывало, при встречах после разлуки они так комично скакали, – где тут! А когда им открыли загон, то они вовсе даже и не захотели оттуда выходить. Стали втирать лекарство в их шелудивые тельца: это вызвало новое раздражение кожи, они стали еще больше чесаться и тем самым втирать в себя мазь еще глубже. После того им предложен был отвар из патентованного укрепляющего средства. Бобры – из тех животных, которым ничего нельзя делать насильно, и вот почему Серая Сова и Анахарео облегченно вздохнули, когда бобры, предварительно обнюхав и несколько раз испробовав, принялись есть и съели порядочное количество. В тот же самый день к вечеру их самочувствие значительно улучшилось, и они опять отлично ели. А через несколько дней к нихм вернулось в значительной степени их прежнее бодрое состояние духа. Редко можно встретить других животных, способных столь скоро восстанавливать свои силы, как вышло в этот раз у бобров. На основании последующих опытов Серая Сова пришел к заключению, что при том питании, которое было до сих пор, бобрята только случайно не умерли. И месяца не прошло, как они обросли шерстью; мало того, у них прекратились даже их обычные припадки сварливости.
Но мы забегаем далеко вперед в своем рассказе. После получения аванса Серая Сова дал сроку только три дня, чтобы бобры стали на ноги, погрузил в каноэ половину запасов провизии и ясным осенним утром снялся с лагеря.
В воздухе пахло морозом, над водою стлался легкий туман, слетали золотые и багровые листья. Отважная четверка двигалась вперед, за холмы, в далекие леса, в страну непуганых птиц и зверей.
Холодная ванна
Река оказалась не из глубоких и в то же время без тех частых бурных порогов, на которых так привычно работать обитателю лесов северной Канады. Довольно часто приходилось плыть впритычку, упираясь шестами о дно. Это, конечно, не представляло особенных трудностей и опасностей, но стоять часами в каноэ, как требуется при этом способе передвижения, настоящему, природному гребцу, каким был Серая Сова, было чрезвычайно надоедливо. Плыть приходилось против течения в перегруженном каноэ, так что на восемь миль до цепи озер Тулэйди пришлось истратить весь день. Здесь наконец-то можно было сесть в лодку и грести обычным приятным способом! На второй день в полдень по тихой воде странники приплыли в поселок, где можно было все разузнать о дальнейшем пути.
На окраине поселка жили люди, все знание мира которых ограничивалось районом их крошечных ферм и наставлениями их духовников. Те, кого правильней всего назвать передовыми людьми их общества, были добры, радушны и прогрессивны. Один из них был до того даже предприимчив, что, имея всего одну только руку, разбирал на части старые автомобили и делал из них моторные сани. Кроме того, он выстроил маленькую электростанцию и завел собственный паром на Темискауате. Но встречались и такие, что на проходящих индейцев глядели через едва приоткрытые окна и двери. Иные же, увидев индейцев, от избытка любопытства застывали с выпученными глазами. Те же граждане, которые ехали навстречу, повертывали своих лошадей и затем медленно ехали рядом с индейцами, рассматривая их в упор широко открытыми глазами.
На берегу был склад, принадлежавший владельцу мельницы, и тут удалось сдать на хранение провиант, а из расспросов выяснилось, что ехать нужно еще миль за тридцать к устью реки Стоуни Крик. Там у верховьев реки было озеро, рекомендованное как хорошее место для жизни. Как говорили, там должно быть некоторое количество норок, выдр и лисиц; кроме того, в этом же озере жила семья бобров, быть может, даже и единственная во всем районе. Единственная! Слышать об этом Серой Сове было странно. Какой путь проделан в страну непуганых зверей, чтобы услышать это: единственная на весь район! Казалось, что чем больше углубляешься в действительную географическую страну, тем скорей спешат разлетаться птицы, разбежаться звери, тем дальше и дальше отступает страна непуганых птиц и зверей. Вот еще тоже «хорошим» сюрпризом было узнать от местных жителей, что дальше река эта разделяется на два рукава, отчего становится очень мелководной и быстрой: в нагруженном каноэ ехать там и думать нечего. Как же быть? Оказалось, груз следовало отправить на лошади по лесной дороге вдоль берега реки. Перевозка стоила десять долларов, которых не было. Казалось, можно было бы впасть в уныние от такого сюрприза, но уныния отчего-то и вовсе даже не было у лесных странников. Как и все лесные существа, живые и бодрые, они были исполнены веры в жизнь, в то, что будет день – будет и пища, будут и деньги, и десять долларов откуда-нибудь да явятся.
Случилось, во время возвращения за остатками не вошедшего в каноэ имущества наши индейцы заметили красную лисицу, которая как раз в это время вздумала переплыть на ту сторону реки. Она уже почти достигла противоположного берега, как вдруг совсем неожиданно для нее из-под яра показалось каноэ. Так бывает с курицей на шоссе, когда наезжает на нее автомобиль: ей надо бы броситься вот к этому близкому краю, а она бросается в длинный путь, по которому пришла, и, конечно, попадает под колеса машины. Так и всякий зверь при опасности спешит на лежку, да и сам человек, – может быть, по тем же самым законам природы, – стремится на родину. Лисице оставалось сделать небольшое усилие, и она бы спаслась, но, завидев внезапно каноэ, она повернула назад. Ее, конечно, очень легко настигли, поймали и посадили в мешок. И нужно же так, что эту живую лисицу удалось сейчас же продать как раз за десять долларов!
Торговец, купивший лисицу, был тот самый, который старался когда-то купить бобров. Подумав, что индейцы начали распродаваться, он опять принялся торговать бобров и поднял цену до ста долларов наличными. Торговец был чрезвычайно настойчив, отвязаться от него было до крайности трудно, и все-таки пришлось бобров отстоять. Каждый из них теперь весил уже по восьми фунтов, хотя, вследствие недостатка движения и особенно плавания, нормального для своего возраста веса они еще не достигли. Но зубы от этой недохватки в развитии тела ничуть не пострадали. Свой ящик, обитый жестью, они уже переросли, и в связи с этим возник трудный вопрос, как их перевозить.
Вот из-за этой-то тесноты ящика случилось, что однажды при переезде через озеро бобры вывалились в воду, и пришлось потерять почти полдня в ожидании, когда они наконец соизволят пожаловать обратно в каноэ. Снег уже лежал на земле, в затишных местах вода подергивалась льдом, надо было очень спешить, и невозможно было растрачивать по полдня времени на ожидание бобров. И вот тут пришла в голову «гениальная идея»: бобров посадили в жестяную печку, устроенную в виде продолговатого ящика; при этом, конечно, туго привязали кружки и крепко заперли дверцу. Кормили же их через отверстие для трубы, откуда перед едой несся столь знакомый длительный и громкий крик. Это остроумное изобретение было самым удобным приспособлением из всех, какие только были испробованы: ночью, когда печка нужна была самим хозяевам, бобры шныряли в воде; днем, когда надо было двигаться, бобры исчезали в печке и входили в состав обычного груза. К этой печке бобры очень скоро привыкли и послушно отправлялись спать в свой жестяной дом, на постели из веток. Однако из-за этого же гениального изобретения индейцам чуть-чуть не пришлось навсегда расстаться со своими любимцами.
Вот как это случилось.
Устроив все для отправки груза кружным путем к устью реки, которому суждено было стать местом длительного обитания странников леса, сами они наконец-то отправились вверх по реке в каноэ. Несколько раз уже были основательные зазимки, и сама неумолимая зима была почти на носу. Каноэ быстро обросло льдом, на обитых железом шестах столько намерзло, что они сделались толстыми дубинами, шлепали по воде, разбрасывали брызги так, что борта каноэ превратились в глыбы льда, а дно – в каток. При этих условиях стоять на скользкой корме, как требуется для человека, двигающего лодку шестом, было очень трудным делом. В лодке были вещи, только самые необходимые для привала людей, для питания и ухода за бобрами. Эти немногие вещи, включая каноэ, легко можно было бы отправить вместе со всем грузом и самим идти пешком, но что-то вроде чувства собственного достоинства не позволяло унизить каноэ, позволить тащить его в позоре, вверх дном, по земле вдоль совершенно судоходной реки. Но оказалось, что и на воде можно опозорить каноэ – еще сильней, чем на суше. Когда Серая Сова в одном очень трудном месте быстро бежавшей реки хорошенько нажал шестом, то его скользкие, как стекло, обледенелые мокасины поехали по ледяному дну каноэ, как коньки, и сам он, весь целиком, головою вперед полетел в реку. Можно было так упасть в воду, что каноэ моментально бы опрокинулось, но Серая Сова, падая, успел об этом подумать. Легкое каноэ от сильного толчка и напора воды быстро стало наполняться водой и постепенно опрокидываться вверх дном. Анахарео, конечно, при этом бросилась в воду головой вперед. После этого благополучного легкого прыжка обоим странникам леса сразу же пришла в голову страшная мысль: где-то в стремительно мчащемся ледяном потоке уносятся запертые в свою железную тюрьму и бобры. Они ведь заперты наглухо и самостоятельно никак не могут спастись…
Тюки мало-помалу начали всплывать, и освобожденное от них каноэ тоже скоро должно было всплыть на поверхность. На все это странники не обращали никакого внимания: стоя до плеч в ледяной воде, они только и занимались тем, что ощупывали дно ногами. Один раз Анахарео даже была сбита с ног, но каким-то чудом очень ловко справилась с водой и опять встала. Что делать? Ведь бобр, внезапно погруженный в воду, тонет, конечно, как и всякое животное, а между тем времени прошло уж порядочно. Но скорее всего у индейцев, до плеч стоявших в ледяной воде, здорово что-то замутилось в голове, иначе как же это объяснить, что когда они очнулись, то увидели, как они ногами на дне реки ищут печку с бобрами, а в руках держат эту же самую печку, и вода из нее выливается в реку.
– Они живы, они живы! – очнувшись, закричала Анахарео.
Но Серая Сова стоял, бессмысленно сжимая в руке ручку от крышки бачка, в то время как сам бачок, наполненный салом, плотно закрытый крышкой, весело мчался на глазах вдаль по реке.
Температура была значительно ниже точки замерзания, ледяная вода резала ноги, и странники леса рисковали потерять способность стоять, что значило быть унесенными стремительной водой.
Берег был приблизительно в пяти «родах» (род равняется почти пяти метрам), но Анахарео, обдуманно пользуясь шестом, перешла это значительное при таких условиях расстояние очень благополучно и опустила на берег печку со взбешенными, ревущими бобрами. После того она еще три раза выдерживала напор холодного стремительного потока и, бросаясь в воду, выносила разные вещи. В то же время Серая Сова, как более сильный и опытный, спасал каноэ.
К счастью, каноэ в этом случае не изменило путешественникам: пострадала только часть обшивки, брезент же был цел, и суденышко вполне могло служить в дальнейшем путешествии.
Времени у индейцев, чтобы поздравить друг друга с победой, вовсе не было. Сильно морозило, все замерзало вокруг, и одежда тоже становилась ледяной. Промокли, конечно, и сами до костей, и страшно было подумать о голых бобрах. К счастью, часть одеял в узле оставалась сухой. Серая Сова, завернув в эти одеяла Анахарео вместе с бобрами, сам бегал рысью – собрал много хвороста, развел громадный костер. Как бы там ни было, но беда прошла. Через короткое время эти же самые люди, веселые и счастливые, сидели у костра в ожидании, когда закипит чайник и зажарится на сковороде оленина.
В то же самое время водолазы уютно устроились на новых постелях в своем жестяном ящике и поедали конфеты, припасенные хозяевами для особенных случаев; из-за этих конфет у них там иногда поднимался шум и гам.
За исключением бачка и еще одного пакетика с салом, при катастрофе ничего не было утеряно; даже два оконных стекла, привязанных к стиральной доске, были найдены целыми на некотором расстоянии вниз по течению.
Часа через два путешественники продолжали свой путь как ни в чем не бывало и сожалели единственно только о том, что потеряли времени на обед не час, как следовало, а два. Большую часть ночи потом они провели за сушкой подмоченного имущества, а их лысые приятели не обнаруживали ни малейшего желания лезть в воду: очевидно, накупались достаточно. Вместо плавания свой избыток энергии они посвятили земляным работам и, прежде чем уснуть, прорыли внутри холма длинный тоннель.
Приятное развлечение
На следующий день, еще довольно рано, странники добрались до того самого места, где нанятый возница сложил весь их провиант. И вот какой неприятный сюрприз ожидал их здесь. Те, кто рекомендовал здешний ручей, чтобы добраться по нему до района охоты, к Березовому озеру, сказали, что он был длиною в восемь миль. Это было совершенно верно, только одно они забыли сказать: что при длине в восемь миль ручей был шириной в три фута и глубиною в шесть дюймов!
Конечно, каноэ тут выходило в отставку. По суше до озера оставалось шесть миль пути, земля была покрыта снегом толщиною в полфута, и по такому-то снегу предстояло по частям перенести туда не менее восьмисот фунтов груза! Судьба решительно издевалась над бедными искателями страны непуганых зверей и создателями колонии Бобрового Народа.
Будь ровное место, такой профессиональный носильщик, как Серая Сова, не стал бы и разговаривать, но все это место до самого озера было загромождено верхушками поваленных деревьев и всяким хламом от вырубленного леса. И по такому-то пути переносить такое чудовищное количество груза!
Но делать было нечего, пришлось заняться этим истинно сизифовым[11] трудом.
Серая Сова перевез все вещи на другой берег, под покровом ночи сложил их в укромном месте, на высоком берегу спрятал каноэ, чтобы до него не мог добраться весенний разлив. На другой день он размотал ремни для ношения грузов, и «приятное развлечение» началось.
Нести зараз можно было не более ста или ста пятидесяти фунтов, потому что приходилось все время или перелезать через поваленные деревья, или пробираться через непролазную чащу зарослей, а также еще бороться и со снегом. Каждый шаг до остановки доставался с борьбой. Остановкой же у индейцев называется удобное место, где сбрасывается груз. Это обыкновенно делается через шесть – восемь минут ходьбы, потому что с хорошим грузом именно столько минут может идти человек без утомления. По дороге назад за следующей порцией груза он восстанавливает свои силы. Этим способом, индейцы считают, можно скорее и больше перенести груза, чем если брать груз меньший и нести его до конца.
Карабкаясь через скользкие от снега стволы деревьев, пробиваясь через путаный кустарник, проваливаясь в прикрытые снегом ямы, искатели счастливой страны ходили вперед и назад, с грузом и без груза, весь день без разговора, без отдыха, кроме того только, что в полдень чаю напились. Лишь с наступлением темноты наконец-то вернулись они в лагерь, мокрые от пота, усталые и голодные, но удовлетворенные сознанием успешно выполненной работы: перенесли груз весом в восемьсот фунтов на расстояние полумили.
Счастливая находка
На следующий день так хорошо уже не работалось: лесные завалы были так велики, что не было отдыха даже на обратном пути, без груза. В некоторых местах по вырубке идти было совсем невозможно; в таком случае шли по дну ручья, ступая с камня на камень или же по смеси льда и воды. Наконец, чтобы время даром не пропадало, пришлось пожертвовать днем и проложить дорогу. В течение третьего дня, к концу его, в стороне от ручья удалось найти заброшенную тропу, и трудности ходьбы кончились. Правда, продвинулись только на милю, но все-таки теперь работа стала иной. Явилась охота даже к своего рода рационализации труда: тюки разделили на более легкие и тяжелые; для легких грузов остановки сделали реже – с ними удобнее было разведывать путь для тяжелых нош.
На четвертый день лагерь со всем имуществом был перенесен несколько вперед от последнего пункта, а ночью весь переносимый груз значительно уменьшился: из трех мешков картофеля два промерзли, и еще промерзло фунтов пятьдесят луку, так что теперь более двухсот фунтов не нужно было уж больше носить, и в этом было, что бы там ни говорили, хорошее утешение. Одного было все-таки жаль: что дурацкая картошка не замерзла дней пять тому назад.
Бросалось в глаза, что вся эта местность была недавно покрыта большим лесом, и оттого можно было надеяться на близкие нерубленые места. И еще больше бы приободрился Серая Сова, если бы показались следы каких-нибудь пушных зверей. К сожалению, вокруг ничего не было, кроме следов оленей, чрезвычайно многочисленных. Во всяком случае, обилие оленей было тоже неплохо: это значило, что охотник будет хорошо обеспечен свежим мясом, а у сытого и удача должна быть, – как же иначе? Около дороги стоял старый деревянный барак, в который путешественников загнала непогода. В этом бараке нашли бочонок емкостью более чем в сто литров и в полной сохранности. Много радости доставила труженикам эта находка: бочонок мог быть превосходной спальней для бобров и не был мертвым грузом, потому что во время переходов в него удобно класть еду и разные мелочи.
С тех пор как индейцы расстались с ручьем, бобры не делали никаких попыток бродить по ночам и спали с ними под одним одеялом. Они ложились каждый к плечу своего шефа головой, кос прижимали к шее и, если шеф двигался, сердито дули носом, пыхтели, иногда и храпели. При такой непомерной работе, какая выпала странникам леса в эти дни, легко могло случиться, что в непробудном сне кто-нибудь навалится на бобра всем телом и задавит его или даже просто сам бобр задохнется под одеялом. Вот почему найденный бочонок был истинным счастьем: в нем и безопасно и тепло, и, казалось, вследствие вогнутой поверхности, едва ли бы они могли его так скоро разгрызть. Но как только бобры попали в этот бочонок, из которого они не могли выглянуть, и почувствовали себя в неволе, в заточении – как же страстно они запротестовали, какой ужасающий подняли вопль! Люди, конечно, им уступали и вынимали из бочонка, но они и сами, не будь плохи, очень скоро на середине высоты бочонка прогрызли себе квадратное отверстие. Они любили возле этого отверстия стоять, по-своему тут, у ветерка, болтать, а то вытянут оттуда «руки» и выпрашивают чрезвычайно любимые ими оладьи. А что за потеха, когда они сами высунутся оттуда и с курьезной жестикуляцией стремятся что-то сказать на своем языке, звучащем иногда совсем по-человечески! Иногда же они из своей дырки смотрели с выражением такого страстного любопытства, какое можно наблюдать только на железнодорожной станции у людей, глядящих на мир из окошка поезда. Поймав однажды это выражение на лицах бобров, индейцы стали их звать не Ирокезами, как раньше, а Иммигрантами, и эта кличка осталась за ними надолго.
Вскоре бобры полюбили бочонок и признали его за собственный дом. Когда им хотелось из него выйти и погулять, они подгребали подстилку в сторону отверстия и выпрыгивали на подставленный ящик и по этому ящику так же и возвращались назад. Они много спали, но, проснувшись, умели наверстать все проспанное – до того были проказливы! Кроме того, они были невероятно самовольны, упрямы, настойчивы в достижении своих целей, будь то изучение ящика с бакалейными продуктами или сокращение числа домашних вещей. Всякое противодействие в них вызывало только новые пароксизмы решимости довести свое дело до конца или привести в исполнение многочисленные свои затеи, для осуществления которых набитая вещами палатка давала столько возможностей. И если они все это проделывали еще будучи совсем молодыми, то чего же можно было хорошего ждать в будущем, когда они сделаются еще более изобретательными!
Путь через бездну
Маленькие бобры своим паясничаньем, перебранками и болтовней вносили веселье в жизнь индейцев, покинувших свою родину. Если бы теперь, когда они так глубоко вошли в жизнь людей, представить себе внезапную утрату их, то без этих животных у людей осталась бы такая пустота, какую заполнить было бы трудно до крайности. Люди теперь даже начинали иногда удивляться, как только могли они раньше жить без этих пронзительных криков, которыми их встречали животные после рабского труда по переноске вещей. Возвращаясь домой, люди развлекали себя, обсуждая и гадая, какие новые проказы затеяли звери в их отсутствие. Но ни для какого, даже волшебного, воображения нельзя было представить то, что они придумают сделать в отсутствие хозяев. В первый момент открытие какой-нибудь их проказы, конечно, мало доставляло удовольствия: печка опрокинута, тарелки исчезли с обычных мест, пресные лепешки, только что приготовленные, перегрызены и превращены в бесформенную массу. Но все это после первого потрясения в конечном счете, оказывалось, не имело серьезного значения. Было что-то бесконечно трогательное в привязанности этих зверушек друг к другу и в полной зависимости их от людей. Бывали моменты, когда их нежность к людям и уступчивость как будто не имели ничего общего с их поведением, с их отношением ко всему другому. Обычно они относились к своим покровителям, как будто те были существа одной с ними породы. Ко всякому постороннему вторжению в их жизнь они относились враждебно. Вот раз вздумалось ласке посетить палатку. Один из бобров это заметил и попытался лапой своей угостить ее хорошей затрещиной. Однажды Серая Сова внес в палатку тушу молодого оленя, чтобы она тут оттаяла. Бобры приняли эту «дичь»… за врага и всю ночь с ней храбро сражались.
Трудно себе представить другие существа, которые могли бы так приспосабливаться к новой среде, и только этим можно объяснить себе, что они счастливо выжили в таких суровых условиях. Конечно, они были животными с одинаковой потребностью воды и суши, но если не было много воды, то они довольствовались только одной-един-ственной чашкой, поставленной возле их гнезда. Курьезно, что ведра возле них нельзя было ставить, – напротив, ведро надо было держать от них как можно дальше, потому что они его принимали за отверстие и прыгали туда, как в прорубь, со всеми последующими из этого неприятностями. Не имея возможности набрать себе теперь подстилки из-под снега, который был не менее фута толщиной, они собирали возле печки хворост и превращали его в стружки.
Как только лагерь был перенесен на другое место, они тоже, конечно, приступили к работе для своего в нем устройства. Ни в чем не уступая людям в умении использовать всякий материал, который находился под руками, они строили баррикады, выискивали подстилку, а иногда, если было не очень уж холодно, срезали молодые тополевые прутики и приносили их домой для пищи. И часто случалось, когда люди и звери вместе работали, что те и другие сталкивались, и не раз людям приходилось стоять с охапкой дров в руках или с ведром воды в ожидании, пока бобры тоже протащат в дверь свою ношу. Они прекрасно приспособлялись к условиям погоды. Когда бывало тепло, они бегали по палатке, никогда не покидая ее без крайней надобности; если было холодно, они оставались в своем бочонке и закупоривали отверстие. В таком случае люди обыкновенно закрывали их крышкой и о них уж больше не думали.
Становилось мучительно холодно, и по ночам даже лепешки замерзали накрепко. С каждым днем снег становился все глубже, но пользоваться лыжами все-таки было невозможно: с грузом за спиной на вырубке переломаешь всякие, даже самые хорошие лыжи. Трудность работы быстро возрастала, а свертывание и установка лагеря на снегу превращались в регулярное мученье, гораздо большее, чем самая переноска. Дело в том, что палатка, яечно мокрая от тающего на ней снега, замерзала в ту же минуту, как погасала печка, становилась твердой, как дерево, и сложить ее было так же трудно, как если бы она была железная. Постоянная тяжелая работа наконец стала сказываться на людях, и Анахарео совсем изнемогла. С большим трудом Серая Сова наконец-таки отговорил ее от переноски груза, ссылаясь на то, что теперь для бобров нужно всю ночь поддерживать огонь.
К счастью, везде вокруг было множество хороших дров.
Время шло, приближался сезон осенней охоты. Серая Сова в удобных местах поставил ловушки, чтобы, на худой конец, хоть в одну что-нибудь попало. Но ничего не попадалось в ловушки и никак не могло попадаться, потому что с тех пор, как странники леса покинули поселок, нигде не попадалось следов и не было никаких признаков пребывания здесь каких-нибудь пушных зверей. Это путешествие на основании непроверенных слухов начинало казаться все более и более безнадежным. Утешало только одно: что за десять дней переноски груза была исследована сравнительно совсем ничтожная часть территории, и можно было надеяться, что впереди непременно будут следы. Бывали дни, когда продвигались вперед всего лишь на несколько ярдов: работать-то ведь теперь приходилось одному Серой Сове, а тут того и жди – еще хватит непогода и дорога сделается невозможной.
Однажды явилось даже сомнение в правильности взятого направления: приведет ли еще этот путь к Березовому озеру? Разведка впереди не обнаружила никаких даже признаков Березового озера, и вообще никакого там, впереди, не было озера, а все та же самая унылая вырубка. Так оказалось, что направление было взято неверное, и Серая Сова решил вернуться назад, к ручью, и оттуда пройти вверх вдоль него до озера и наметить хорошую дорогу назад, к лагерю. Оказалось, там, к северу, местность быстро понижалась, обнаружилось наличие озерных формаций. Пробив себе путь по болоту через густейший кедровник, какой только бывает на свете, Серая Сова вышел к узкому водоему длиной не более полумили. И тут, оказалось, в самом деле жила семья бобров, которая запрудила выход воде и так создала из обыкновенного болота это озеро. Дальше озера не было никаких заготовок, и начинались леса – открытие самое приятное! Дорога через болото шла по еще не замерзшему торфу, хотя и закрытому снегом, и эта часть пути была опасна для нагруженного человека. Однако все-таки путь этот был совершенно свободный – не было ни одного поваленного дерева; что же касается болота, то ведь оно будет с каждым днем, замерзая, все крепнуть… Так и шел Серая Сова по этой дороге, представляя себе, что он с грузом идет, тщательно выбирая, где нужно ступить, оставляя заметки в нужных местах. Шел Серая Сова по этой дороге, пока дозволяло направление, и затем свернул на кряж, поросший лиственным лесом. Отмечая, насколько возможно при лунном свете, удобный путь, он поднялся на вершину холма над той самой равниной, где находится лагерь. Тут он остановился, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Вокруг царило белое молчание. Дурные предчувствия угнетали душу искателя страны непуганых зверей.
Пусть все его мысли и чувства вертелись пока в кругу маленьких дел, но ведь в этой простой пустынной жизни он был человеком, затеявшим создать себе лучшую жизнь, найти лучшую страну, быть может, создать себе своим собственным усилием новую родину.
Далеко внизу он видел маленький огонек освещенной палатки, где приютились те, которыми он теперь так дорожил, единственные на свете ему действительно близкие существа, напоминавшие о безмятежных днях прошлого: ожидающая его утомленная женщина и двое крошечных сирот звериного царства.
«Неужели, – думал Серая Сова, – от всей моей мечты останется позор возвращения нищим, обесчещенным в город, принявший нас так дружественно и доверчиво?..»
Долго смотрел Серая Сова на маленький огонек, такой слабый, такой ни с чем не сообразный, героически все-таки посылавший свой бледный свет из самых недр опустошенного края, из дебрей, остатков поваленного и погубленного леса.
Серая Сова спустился вниз с тяжелой душой.
Но внутри палатки, куда скоро вошел Серая Сова, все оказалось светлым и счастливым. Там было так приятно покурить и понежиться в тепле маленькой жестяной печки, которая служила так хорошо! Она гудела, потрескивала, в веселье своем докрасна накалялась, а Серая Сова рассказывал о своих дневных приключениях: о том, как он нашел озеро, как открыл бобровый дом, имеющий такое огромное значение для их путешествия, высказывал полное свое удовлетворение тем, что за день он связался-таки наконец с местом, где будет устроен их зимний дом.
Мало-помалу Серая Сова вовсе забыл о своих злых предчувствиях, стал рассказывать из жизни своей до встречи с Анахарео о разных случаях, о курьезнейших оригиналах. Анахарео заливалась смехом, слушая о похождениях некоего Бангалоу Билла, который жил в такой тесной лачуге, что, когда жарил блины и нужно было перевертывать блин, приходилось для этого высовывать сковородку в дверь наружу. А то еще было с Бангалоу необычайное приключение, когда он пошел в лес за черникой. Наполнив оба взятые с собой ведра, Бангалоу понес их домой и по пути заметил мчащийся на него циклон. Поставив ведра, сам он бросился бежать к своему каноэ и потом оттуда глянул на ведра с черникой. Как раз в это время вихрь подошел к ведрам, всосал в себя ягоды, и вся черника из двух ведер поднялась в воздух двумя темными столбами. При рассказе своем сам Бангалоу в этом месте звучно щелкал себя по коленкам и говорил:
«Поверите ли? Внезапно вихрь оборвался, и ягоды вернулись обратно в свои ведра. Да, сэр, ни единая ягода не пропала!»
Оглушительный смех после этого рассказа возбудил любопытство в бобрах; через окошко своего бочонка они вылезли и стали бороться среди обеденных принадлежностей. Опрокинулся бачок с тарелками, и пошла у них уже настоящая драка из-за этих тарелок, а у людей – веселье.
Флаг Серой Совы
Все на свете имеет конец, и даже сизифова работа однажды, перед самым наступлением темноты, была закончена, и решительно все, до последнего фунта, до последнего пакета, лежало на берегу Березового озера. За неимением саней, или тобоггана, странники леса при свете костра соорудили нечто вроде нашего клина, посредством которого в некоторых местах у нас еще до сих пор расчищают на шоссе снежные заносы. Погрузив на этот клин все лагерное снаряжение вместе с бочонком, они потащили его во мраке по малонадежному льду к тому самому месту, где жили бобры и где Серая Сова заранее облюбовал местечко для лагеря.
В эту ночь искатели счастья в лесу погрузились в такой праведный сон, какой немногим дается: завтра им не надо будет пробивать себе путь по вырубке, завтра замерзшие ремни от груза не будут давить на онемелые плечи, завтра там, на постоянном местожительстве, не надо будет разбирать лагерь, прикованный к снегу жестоким морозом, завтра не будет такого рабского, напряженного труда.
Среди ночи, когда все спали, Серая Сова проснулся от напора нахлынувших мыслей. Он поднялся, открыл дверцу печки и, сидя в ее свете, курил и размышлял. Свет из узкой дверцы падал на усталое лицо Анахарео – этой женщины, с такой отвагой и верностью отдавшейся борьбе с такими тяжелыми испытаниями. Какие узы брака, какое чувство долга могли бы сравниться в своей силе со стальной силой, связавшей этих двух товарищей, которые бок о бок бились и одержали победу над невыразимыми бедствиями!
В то время как Серая Сова так думал, Анахарео зашевелилась и в полусне сказала:
– Мы больше не пойдем носить груз по снегу, нет! Совсем не будем. Мы дошли.
– Да! – ответил Серая Сова, выпуская клуб дыма.
– Мы дошли! – повторила она. И, улыбнувшись, заснула.
А Серая Сова все курил и думал о будущем. Дошли, конечно, дошли, но куда? Предстояло строить хижину на выбранном чудесном участке, в роще из величественных сосен, среди которых было несколько скромных, изящных и нежных берез. Несказанная красота и величие окружающей природы на первых порах как бы несколько подавляли людей, открывая им взгляд на самих себя как на жалких карликов. И в то же время сила мощного леса тут же чарует, заставляет забыть, что буржуазная цивилизация тут где-то, совсем близко, что всего лишь в нескольких милях отсюда начинаются унылые развалины леса из пней и сучьев.
Но раздумывать, особенно над ходом цивилизации, не было времени. Начиналась вторая неделя ноября, и глубина снега была больше фута. Надо было спешить с постройкой, и на другой же день Серая Сова принялся за новую работу. Деревья замерзли и с трудом поддавались топору. Деревья нужного размера для постройки были довольно далеко, приходилось впрягаться в ремни и тащить их на полозьях. Конечно, легче было и строить дом там, где рос подходящий для этого лес, но роща сосновая, с чудесными березами, была так привлекательна, что ради возможности жить среди такой красоты не жалко было никакого труда. Но при условии доставки материалов издалека, конечно, постройка дома не могла двигаться быстро. К тому же каждый день шел снег, и каждое утро приходилось, прежде чем приступить к самой работе, порядочно поработать лопатой. Без конца обсуждалось при этом, как лучше поместить фасад дома, где сделать дверь, с какой стороны вырубить окна. Последнее потом удалось превосходно: окна были прорублены в сторону красивейших групп деревьев.
Работа шла на берегу озера, противоположном палатке.
Однажды вечером строители вернулись домой и нашли бочонок пустым, и два запутанных нерешительных следа, каждый отдельно, шли к озеру. С момента ухода прошло порядочно времени, и первою мыслью индейцев было, что бобры почуяли близость своих сородичей и отправились к ним. Но это предположение оказалось неверным: следы, как бы блуждая, уходили в другом направлении, вниз по берегу озера. Бобры обладают таким большим чувством дома, что инстинкт безошибочно их приводит туда, куда надо. Но молодые бобры, возможно, еще не могли оценивать расстояние с точки зрения запаса своих сил, и оттого Серая Сова опасался, что они пошли к месту последней стоянки, где они над чем-то очень много трудились. Весь этот день погода стояла мягкая, но к вечеру стало морозить, образовалась корка, на которой не оставалось никаких следов. Самая же беда была в том, что бобры обросли шерстью еще только наполовину и при таком дальнем пути неминуемо должны были замерзнуть. Но невозможная путаница следов на берегу сразу же открыла, что у них не было никакой определенной цели и желали они только побродить. Разобраться же в их следах не было никакой возможности, и пришлось сделать большой круг, освещая себе путь фонарями. Приходилось очень спешить, потому что морозило все сильней; шли, спешили и все время звали и звали… И наконец, почти у половины пути к озеру, на призыв послышался слабый ответ: маленький зверек – это был самец – лежал на снегу головой к дому; видимо, он понял беду и хотел вернуться домой, но обессилел и потерял даже надежду. Анахарео подхватила его и помчалась скорее домой, а Серая Сова продолжал поиски.
Очень скоро, однако, он увидел условленный сигнал светом и, вернувшись, узнал, что другой еще до прихода Анахарео вернулся и ждал в бочонке.
Оказалось, что, прежде чем отправиться в безрассудную экспедицию, предприимчивые искатели приключений подрыли и опрокинули печку, отчего нескоро удалось наладить тепло и вернуть всем обитателям палатки хорошее расположение духа. С тех пор строители стали брать бочонок с его обитателями с собой на работу и поддерживать возле него постоянный огонек для тепла.
Хотя супруги оба очень усердно работали над хижиной, но прошло целых одиннадцать дней, пока наконец-то она была объявлена вполне годной для вселения. В это время условия жизни в палатке стали очень неприятными из-за тесноты: в нее все втащили от мороза. И потому однажды вечером строители с великой радостью отправились в свое новое помещение. В то время эта хижина была похожа на ледяной дом, потому что маленькая печка оказывала слабое действие на замерзшие стены, и щели между бревнами не были еще законопачены. Мох, припасенный для конопатки, был заготовлен в большом количестве, но для того, чтобы пустить его в дело, надо еще было его оттаять. Чтобы ускорить таяние, его разложили вокруг печки в трех кучах.
Кто видел когда-нибудь строительство бобров, тот непременно останавливался в большом раздумье, потому что это строительство напоминает что-то близкое: человек в животном узнает или как бы вспоминает себя самого. Но сейчас примитивное строительство человека зимой в лесу, в свою очередь, наводило мысль на работу бобров. Как только люди, измученные дневной работой, крепко уснули, а мох у печки все таял и таял, из своего бочонка вышли бобры погулять по новой избе. Они, конечно, почувствовали, что отовсюду дует, и сейчас же принялись, по своей бобровой привычке, заделывать щели – таскали мох и конопатили, и, когда люди утром проснулись, все было превосходно законопачено до той высоты, до которой бобры могли дотянуться.
Такой человек, как Серая Сова, наверное, и во сне тоже готовился к предстоящей днем работе, и можно себе представить его изумление, когда он, проснувшись, застал бобров за той самой работой, к которой готовился…
Весь этот день Серая Сова заделывал щели мхом, засыпал землей внутри и потом укреплял стены снаружи; в то же время Анахарео мастерила и подвешивала полки на стены, сколачивала стол и вообще делала уют для жилья. Когда все было готово, с гордостью любовались строители на свой дом, на эти гладкие красные бревна канадской сосны с темно-зеленым мхом между ними, на султан белого дыма, который медленно рассеивался там высоко, между темными ветками сосен-гигантов.
Да, они любовались на дым своего дома, как любуются все лесные жители на свой первый огонь: вид дома был радостный, мысли рождались о хорошем житье, о прочной оседлости. Внутри в это время стены отходили: на стенах, на балках была сырость, и капало. Но это не помешало новоселам отпраздновать конец строительства. Вот только печная труба оказалась несколько узкой, и при плохом ветре в печке не хватало тяги – появлялся дым. Однако это была небольшая беда: дым можно было очень скоро выгнать в открытую дверь одеялами. Во всех других отношениях дом был превосходным сооружением.
Закончив постройку хижины, Серая Сова перенес весь провиант из сделанных по дороге запасных складов, запасся дровами, убил и приволок оленя и после того начал осматривать местность. Было уже начало декабря, и охота на норок, если они тут водились, была на исходе. Оставался расчет на куниц, на лисиц и рысей. На поиски следов этих зверей и отправился теперь Серая Сова. Было мало, очень мало лисьих следов, от остальных же пушных зверей не то что следов, а даже и волоска нигде не нашлось. Захватывая с собой кусок холста для прикрытия от ненастья, половинку одеяла, немного чаю, муки, топленого сала, ружье, он странствовал далеко и широко по холмам и долинам, по лугам, некогда занятым бобрами, пересекал овраги и водоразделы, прослеживал ручьи до истоков. Случалось проползать в путаных кустах на трясинах, переходить цепи горных кряжей, всюду высматривая лазы животных; он изнурял себя ходьбой до невозможности, спал, где заставала ночь, – но все было напрасно.
Странно, что при таком положении дела Серая Сова не падал духом, и ему уж казалось, что самое трудное было теперь за спиной. Он совершенно бескорыстно заинтересовался страной, и ему хотелось знать о ней все больше и больше. Он рассуждал так: хуже того, что было, не может быть и перемена должна быть только к лучшему.
Но Серая Сова ошибался. Совсем неожиданно и как будто никак не ко времени начало таять, и дорога сделалась отчаянно плохой. Настали сырые, пасмурные, промозглые, туманные дни. Снег спрессовался, осел, на лыжи так налипало, что передвигать их стало почти что невозможно. Вслед за этим вдруг хватил мороз, оледенивший деревья; снег покрылся коркой, разлетавшейся под лыжами вдребезги, как стекло. Как бы осторожно ни двигаться по такому прозрачному стеклу, все равно не миновать провала, от которого сотрясается тело и теряется ритм, столь необходимый для управления лыжами. А то, бывало, корка зацепит за лыжу, и от внезапного толчка человек падает на колени. Никакой возможности, конечно, не было на такой корке найти какой-нибудь след: животные ходили по ней без следа. Вот эти последствия дряблой погоды для северного жителя были до крайности неприятны; тут, в этой новой, неведомой стране, постоянно вспоминался родной далекий север, где человек скользит мягко, ритмично, бесшумно по снежному покрову глубиною в шесть футов. Серой Сове казалось, что все стихии объединились, чтобы мешать ему в достижении цели; он не находил в себе способности переносить это безропотно и проклинал, сколько духу хватало проклинал этот край. Что делать! Человек всегда готов проклинать свою розгу, хотя, быть может, одна она только способна вывести его из летаргии самодовольства, в которой он пребывает. Трудно было, однако, покориться Серой Сове, пусть хоть она, эта розга, и была бы для него в какой-то мере и благодетельной. Ведь в конце-то концов вся затея спасения Бобрового Народа рушилась, приходилось спускать флаг с корабля или свертывать знамя.
На другом конце озера стоял бобровый домик, и в нем жили четыре бобра. С каким трудом далась эта близость к ним, это начало осуществления великой идеи! Эта небольшая семья и свои два бобренка – больше бы, кажется, ничего и не надо. Но как же выйти из положения? Казалось, карты были крапленые с самого начала.
Так вот после мучительного раздумья Серая Сова однажды вечером решил спустить флаг со своего корабля и приступил к приготовлениям. Ему казалось, что он готовится к выполнению смертной казни, а не к охоте. Он взял лом для рубки льда, приманку, четыре ловушки. Не каждая должна была поймать по бобру, но в два приема их можно было переловить всех дочиста. Анахарео стояла рядом; она помогала: передавала Серой Сове ветки, которые должны были направить жертву в ловушку. Она была взволнована до глубины души, но ничего не говорила, зная по опыту, что бесполезно мужа просить, раз он решился на что-нибудь. А кроме того, это, пожалуй, и не было в ее природе – просить.
Солнце закатывалось и своими зимними лучами грустно освещало бобровую хатку, покрытую снегом: весной эти бобры не увидят солнца. Но Серая Сова выкинул из головы эти дряблые мысли и закончил работу: дня через два уплата долга будет обеспечена.
И, только охотники собрались уходить, вдруг послышался резкий дискантовый голос, почти что детский, из самой глубины бобровой хатки. Серая Сова остановился, пораженный. Анахарео тоже слышала.
– Совсем как у наших, – сказала она.
– Да, то же самое, – согласился Серая Сова.
И прислушался. Другой голос запротестовал. Вся домашняя сценка стала понятна во всех своих подробностях.
– Один ест, – сказала Анахарео, – а другой хочет отнять.
После того – звуки примирения, бормотание, шепот удовлетворения, хруст грызущих зубов.
– Палку у него отняли, – детально излагала Анахарео. – А теперь она вернулась к нему, он ест.
– Пони! – сказал резко Серая Сова. – К чему ты мне все это говоришь?
Затем кто-то нырнул, и вода в одной из только что сделанных прорубей поднялась; во всяком случае, это должна была быть старая бобриха, мать. Серая Сова быстро подбежал к ловушке, быстрым ударом воткнул в нее лом и задрожал, когда она захлопнулась. Затем быстро обежал все другие и все их захлопнул.
После того между супругами не было никаких разговоров. Они даже избегали друг на друга смотреть. Собрав все принадлежности, они молча пошли домой, а солнце еще не успело сесть и продолжало освещать бобровую хатку.
Серая Сова опять поднял свой флаг.
Мак-Джиити и Мак-Джиннис
Серая Сова вовсе бросил странствовать в этой местности, очевидно, до того изученной, исследованной в таких подробностях, что открытия в ней сделать можно было бы разве лишь в области каких-нибудь исторических древностей. Кроме того, такому артисту лыжной тропы, каким был Серая Сова, здесь никогда не было хорошего пути.
Для таких людей, каким был Серая Сова, прекращение странствий, отказ от неутолимого желания узнать, что же находится там, за холмами, означает застой, означает пребывание в часах безделья с их мрачным спутником – самоанализом. Но бобры были спасением. К этому времени они значительно выросли, весили каждый по пятнадцати фунтов, а мех их стал густой, пышный, блестящий.
Их возмужание, однако, вовсе не влияло на их детские отношения к людям. По-прежнему они лезли к ним на кровати. К сожалению, часы их сна не совсем совпадали с хозяйскими: по утрам особенно они всегда стремились встать пораньше людей. Притворяясь спящими, люди тихо лежали, в надежде, что бобры понемногу успокоятся и снова заснут, но, видимо, бобрам нравилось видеть всех на ногах по утрам, и потому они начинали своих хозяев щипать за брови, за губы, беспокоить всяким способом, пока наконец те не поднимутся. Спать из-за них приходилось на полу, на койке с ними было бы тесно, а не взять их к себе тоже нельзя было: они вопили до тех пор, пока их не возьмут. Можно бы, конечно, поместить их на свое место, как животных, но их понимание всего было такое ясное, близость отношений зашла так далеко, что не хотелось их обижать.
Малейшую перемену в отношениях, даже в настроении они хорошо замечали. Суета каких-нибудь приготовлений побуждала их, в свою очередь, к такой же деятельности. Например, когда люди стлали постель, бобры бегали вокруг них и тянули во все стороны одеяла, а то прямо даже и удирали с подушками. Когда люди смеялись или вели оживленный разговор, они тоже по-своему начинали болтать и оживляться. Случалось и Серой Сове, как всем людям, расстраиваться и в сердцах на что-нибудь не считаться с возможностью причинения обиды другому своими словами, – бобры это понимали и старались в такие минуты не показываться людям на глаза. Серая Сова это хорошо заметил, и такое наблюдение помогло ему сдерживать свой нрав.
Мертвая точка, на которой очутились охотники при перспективе полного безделья в течение трех месяцев, до начала мартовской охоты, была бы невыносима, не будь этих живых созданий, о которых никогда нельзя загадать, что они завтра выкинут. Если разнообразие является солью жизни, то они своим разнообразием действительно оказывали на людей самое оживляющее действие. Они вытворяли самые непредвиденные, неслыханные вещи и по временам приносили непоправимый вред. Часто требовалось немало самообладания, чтобы смотреть сколько-нибудь спокойно на результаты их работы в течение целого дня. В свободное время они всегда чего-нибудь требовали, или передвигали какой-нибудь маленький предмет с места на место, или резвились между ног, и вообще избавиться от них можно было, лишь когда они спали, да и то не всегда. Но они были истинно счастливы и довольны всей окружающей их обстановкой, их смехотворные проделки так оживляли скучную и закоптелую хижину, что им все прощалось.
И когда эти маленькие эльфоподобные существа, работая, прыгали, скакали, бегали взад и вперед или ковыляли на задних лапах, появляясь, исчезая в полутьме под койкой, столом или в углах, то казалось, будто их не два, а множество, и у хижины получался такой вид, будто она населена целой толпой деловитых духов. Непрестанно они издавали странные крики и сигнализировали друг другу пронзительными детскими дискантами. Иногда они усаживались на корточках на полу, подняв туловище вертикально, и делали свой регулярный и очень тщательный туалет или сидели, крепко прижав передние лапки к груди, положив хвосты перед собой, и так очень походили на маленьких идолов из красного дерева.
Случалось, в разгаре их бурной деятельности они вдруг оба, как по сигналу, останавливались в позах прекращенного движения, вглядывались в людей с внезапной молчаливой настороженностью, впивались в них глазами так пытливо, так пристально и мудро, как будто внезапно догадались, что люди вовсе не такие, как они, бобры, и им надо поэтому немедленно прийти к какому-то решению.
«Да, большие друзья, – казалось, говорили они, – мы знаем, что мы еще малы, но… погодите немножко!»
И разглядывали людей глазами, полными смысла, и этим производили на них такое жуткое впечатление, будто они были маленькие люди с сумеречным умом, которые когда-нибудь заговорят с большими людьми.
Но к концу дня обычно наступало время, когда вся эта мудрость и бдительность, все их мастерские, искусные затеи, все дела и делишки отбрасывались и забывались, – тогда дух получеловеческого сверхинстинкта у них исчезал, и оставались два усталых маленьких животных, которые с трудом тащились каждый к своему человеческому ДРУГУ> просили, чтобы их подняли на руки, и затем с глубоким вздохом громадного и полного удовлетворения погружались в сон.
Эти переменчивые существа в гостях у людей принимали лагерную жизнь как нечто вполне естественное, несмотря на условия, столь неестественные для их породы. У них не было бассейна с водой, и жили они совершенно так, как жило бы любое сухопутное животное, удовлетворявшееся одной только миской для питья, прибитой к полу.
Они были вполне удовлетворены этим оборудованием, и хотя в мягкую погоду дверь наружу обыкновенно была открыта, они все-таки не делали попыток спуститься к озеру. Один раз их взяли к проруби, но они отказались влезать в нее или пить, а убежали со льда как можно скорей и стали карабкаться вверх, к дому, по снежной тропинке.
У них в головах роились разные планы, и в результате попыток выполнить их человеческая хижина принимала фантастический и часто неряшливый вид. Наиболее замечательной в этом отношении у них была попытка выстроить собственный дом. Пространство под койкой они захватили в свою собственность и ходили туда именно как собственники, с таким видом маленьких буржуа, что можно было, глядя на них, покатиться со смеху. Они взялись это пространство под койкой превратить в нечто вроде личной комнаты, для чего однажды ночью перетащили все содержимое дровяного ящика и построили баррикады со всех сторон, оставив себе только выход. Внутри отгороженного места они прогрызли дыру в полу и выкопали тоннель под задней стеной. Впоследствии этот тоннель стал служить им спальней, но первоначальное его назначение было другое: это была шахта с материалом для штукатурки.
Люди долго не подозревали существования грязевой шахты в их собственном доме, как вдруг однажды заметили, что через эту стену возле койки перевалилось нечто тяжелым шлепком: кусок глины. За глиной последовал камень порядочного размера, позднее – еще комок глины. Обследование обнаружило тоннель; внутренняя сторона перегородки была отлично и гладко оштукатурена, а странные предметы, валившиеся в комнату, были избытком штукатурного материала. Между прочим, бобры отлично экономили материал: заметив через некоторое время, что часть штукатурки свалилась в комнату, они ее подобрали и оштукатурили стену и с наружной стороны. Но мало того – они пользовались в совершенстве тем, что у людей называется организацией труда: пока в узком тоннеле можно было работать только одному, они работали посменно, а когда можно было действовать вместе, то один был занят тем, что только приносил материал, а другой штукатурил.
Исследование сооружения, между прочим, объяснило людям таинственные глухие удары и ссоры, ворчанье и тяжелое дыхание, исходившие несколько ночей из-под койки. С течением времени баррикада из дров и снаружи была полностью оштукатурена и оставлено одно только наблюдательное отверстие, подобное тому, которое они сделали в бочонке. Нора была под нижней стороной хижины, и, когда случалась теплая погода, вода с крыши сливалась в нее, просачивалась насквозь, превращая сухую глину в жидкое тесто. В таких случаях бобры обыкновенно выползали в хижину к людям настолько облепленные глиной, что были почти неузнаваемы, и в таком-то виде пытались вскарабкаться на колени.
Около этого времени супруги достали где-то себе книгу о строительстве в давние времена Тихоокеанской железной дороги в Соединенных Штатах и, читая в ней о трудолюбии и настойчивости ирландских рабочих, думали о строительстве бобров под кроватью: чем они хуже ирландцев? И так они дали своим бобрам ирландские имена: Мак-Джиннис и Мак-Джинти. Имена эти в самом деле очень подходили бобрам, потому что бобры были так же энергичны, а порой и так же вспыльчивы, как любые два джентльмена из Корка (город в Ирландии).
У самца (ныне Мак-Джиннис) была своя маленькая и любимая игра с людьми. Каждый день к полудню, когда он просыпался, ложился он настороженно за углом своего укрепления и ждал, пока не пройдет тут кто-нибудь из людей. Затея эта была каждое утро, без пропусков, и потому люди уже знали вперед, что будет, и нарочно шли мимо этого места. И как только человек подходил, Мак-Джиннис с ожесточением бросался в атаку. Затем после этого нападения выходила Мак-Джинти, чтобы произнести свой утренний монолог, декламируя громким голосом со множеством различных интонаций. Иногда они оба усаживались рядом, как бы для смотра или для парада, торжественно качали головами и издавали самые странные звуки.
Индустриальные имена Мак-Джиннис и Мак-Джинти были похожи, как были похожи между собою сами бобры, и потому, когда звали одного, приходили оба вместе: очень пришлись эти имена и прижились.
После утренних упражнений Мак-Джинниса в своей воинственной забаве и Мак-Джинти в ее морализировании и витиеватых речах люди их кормили разными лакомыми кусочками, которые бобры уносили в свой дом, и там, сидя как можно дальше друг от друга, ели, вполголоса поварчи-вая, чтобы предотвратить попытки возможного пиратства.
Их звучное чавканье во время еды было очень аппетитно, но в пище они были очень разборчивы и вкусы имели индивидуальные. Остатками или объедками они никак не довольствовались. До того иногда были капризны в еде, что из нескольких кусков одной и той же лепешки иногда не сразу брали любой, а несколько раз колебались в выборе того или другого. Так герой одного романа в трудную минуту много времени тратил, чтобы выбрать себе папиросу из дюжины совершенно одинаковых.
Покончив с завтраком, бобры в отличном расположении духа появляются для выполнения своих дневных дел на полу, двигаются проворно, суетливо, как бы говоря: «Ну, вот и мы! Что прикажете делать?» Вслед за этим они обыкновенно включаются в общую работу: люди по-своему делают, и они тоже по-своему. Источником постоянного интереса для людей была та правдивость, с которой их голоса и действия регистрировали их эмоции. Казалось, они были даже одарены в какой-то степени чувством юмора. Однажды Серая Сова заметил, как один бобр мучил другого до тех пор, пока жертва не испустила жалобный крик; тогда он, достигнув, очевидно, своей цели, закачал головой взад и вперед, скорчился как бы в конвульсиях смеха и затем повторил свое представление: казалось, что вот-вот и не в шутку послышится смех…
Серая Сова постоянно пристально наблюдал жизнь своих маленьких друзей, и мало-помалу у него созрело убеждение в том, что бобры обладали способностями, необычайными для животных. Он сомневался только в том, что в таких самостоятельных и независимых существах эти способности могли бы совершенствоваться и развиваться…
На своем веку лесного бродяги видел он не раз, как боролись между собой собаки, волки, лисицы, наблюдал за большинством других животных, от кугуара до белки, и все они во время игры скакали и били лапами друг друга. Одни только бобры не удовлетворялись подобной свойственной всем животным игрой. Эти необыкновенные созданья при борьбе становились на задние лапы, обхватывали маленькими, короткими лапами друг друга и боролись, совершенно как люди: назад, и вперед, и кругом, но никогда не в сторону. Наступая, толкая, топая, ворча и пыхтя от прилагаемых усилий, применяя все приемы, какие только они знали, изо всех сил так они боролись за первенство. Когда же наконец один из них громким криком давал знать, что побежден и больше не в силах стоять за свое первенство, схватка заканчивалась и оба, сделав по нескольку прыжков, обращали свое внимание на дела более серьезные.
Капризной и предприимчивой Мак-Джинти эти вполне легальные занятия были недостаточны для удовлетворения ее натуры, жаждущей более острых переживаний. Она разработала себе целую систему умеренных преступлений, выходок, столь известных и в человеческом обществе. Так вот, например, она имела свободный и вполне законный доступ к небольшому запасу картофеля, который во время переноски удалось спасти от мороза. Она брала его, когда хотела, совершенно открыто, никто ей в этом не мешал. Но ей было гораздо интереснее его воровать, и она продырявила сзади мешок и таскала картофель потихоньку. Так, ее можно было видеть крадущейся с добычей вдоль стены с выражением наслаждения страхом быть пойманной. Люди, конечно, и сами наслаждались ее наслаждением и позволяли ей носить картофель, сколько ей вздумается. Но противодействие – это дыхание жизни бобров; вся их жизненная школа связана с преодолением препятствий. И как только Мак-Джинти заметила, что таскать картофель ей можно, это занятие для нее потеряло всю свою прелесть.
Вслед за этим преступница начала воровать табак. Однажды ночью раздался жалобный стон, означавший, как оказалось, настоящую беду: отважного вора нашли распластанным на полу возле украденного табака, часть которого была съедена. Бедная зверушка сильно страдала, пыталась подползти к людям, но у нее не действовали задние ноги: они были будто парализованы. Любимицу Анахарео осторожно подняли и положили на койку. В серьезной беде бобр очень льнет к человеку и глядит на него чрезвычайно выразительным умоляющим взглядом. Мак-Джинти прижалась к Анахарео, уцепилась за ее платье лапками, потерявшими силу, с немой мольбой ожидая от нее, только от нее, своего спасения.
Серая Сова впервые в жизни своей видел такую сцену, и она его сильно растрогала. В своем прошлом опыте он стал искать средство лечения. Рвотное она не хотела или не могла проглотить. Через короткое время она впала в оцепенение, сердечная деятельность ее почти прекратилась, и тут Серая Сова вспомнил один случай отравления опием. Он сказал Анахарео, чтобы она растирала ее тело покрепче, массировала «руки и ноги» и ни в каком случае не давала бы ей заснуть. Это было несколько жестоко, ко вопрос шел о жизни и смерти. В свою очередь, и Анахарео вспомнила о пользе в таких случаях горячих горчичных ванн. Когда ванна была готова, бобр был уже без сознания и настолько обессилен, что, когда его опускали в ванну, голова его безжизненно погрузилась в жидкость. Не сразу проникла жидкость сквозь мех, но было достаточно даже того, чтобы ноги и хвост подверглись ее действию, – результат сказался почти что мгновенно: держа руку под грудью бобра, Анахарео сказала, что сердечная деятельность возрастает.
Потерявшее сознание животное настолько ожило, что стало слабо стонать и приподнимать голову. Но только вытащили ее из ванны, как бедная зверушка снова поникла, и сердечные удары были почти неощутимы. Пока Серая Сова готовил вторую ванну, Анахарео усердно растирала животное и не давала ему уснуть. Помещенная во вторую ванну, Мак-Джинти пришла в себя; после того ее опять растирали, опять купали, стараясь всеми силами сохранить маленькому созданию жизнь. Более десяти часов так работали, чередуя ванны с растиранием, и временами вовсе теряли надежду: неподвижная, слабеющая, с закрытыми глазами, она выскальзывала из рук людей… Три раза начинались конвульсии, но все-таки она при постоянном воздействии людей жила, и время рассвета, по замечанию Серой Совы, фатальное в споре жизни и смерти, миновало: рассвело, а Мак-Джинти еще не умерла. При наступлении полного дня кризис как будто миновал: сердце сильно забилось, она встала, и вдруг тут ее схватила судорога – она упала и вытянулась.
Серая Сова уронил полотенце: это был, очевидно, конец.
– Ну, Пони… – начал он.
И отвернулся, чтобы положить дрова в печку, и стал там возиться, чтобы только не глядеть. Сердце разрывалось…
– Ну, Пони… – начал он второй раз.
И вдруг он услышал крик сзади себя – не крик смерти, как ожидал, а что-то вроде рассуждения, декламации, с получеловеческими звуками…
Серая Сова оглянулся.
Мак-Джинти сидела на задних лапках совершенно прямо и даже делала попытки причесать свою мокрую, растрепанную шубу.
Анахарео плакала. Серая Сова в первый раз в своей жизни видел ее плачущей.
Между тем Мак-Джиннис, по свойственному всем животным инстинкту, понял, почуял беду и все время пытался пробраться на койку к Мак-Джинти. Теперь, когда он ожила, конечно, прежде всего им позволили встретиться. Мак-Джиннис обнюхал свою подругу очень тщательно, как бы стараясь после столь долгой разлуки (одиннадцать часов!) убедиться, действительно ли это она. Он издавал тихие звуки, похожие на отрывистые стенания, звуки, которых раньше от него никогда не слыхали. Она же восклицала пронзительным голосом, по своей обычной привычке. Хнычущие звуки продолжали раздаваться довольно долго и под койкой, а позднее, когда к ним заглянули, они лежали в обнимку, крепко вцепившись лапками в мех, как делали, когда были совсем маленькими.
Этот драматический эпизод надолго отбил охоту у Мак-Джинти заниматься скверными делами: она исправилась. Всякое подлинное несчастье действовало на них исправи-тельно. То же было и с Мак-Джиннисом: после той беды, когда он чуть-чуть не замерз на льду, он до того сделался примерно-порядочным, что Анахарео стала опасаться за его судьбу: она верила, что хорошие дети долго никогда не живут.
У бобров были характеры если не сложные, то очень противоречивые, с резко выраженными индивидуальными особенностями. Мак-Джиннис, если ему делали выговор, беспрекословно подчинялся, принимался за что-нибудь другое, а потом, сделав невинную мину забывчивости, принимался опять за то самое, что ему запрещали. Мак-Джинти не поддавалась никаким увещаниям, и только насилие могло прекратить ее преступные замыслы. И как только она начинала понимать, что нехорошие дела ее замечены, она принималась визжать, как бы авансом протестуя против вмешательства. Но в какую бы форму ни выливалась борьба людей с их своеволием, в конце концов враждебных чувств она не вызывала у бобров: привязанность их к людям оставалась прежней. Главное, неприкосновенным оставался всегда и неизменно тот час их дня, когда все споры, все неприятности исчезали и тесная дружба их к людям выходила как бы из какой-то задумчивости: быть может, это чувство приходило от материнской любви, навеки ими утраченной.
Но как бы ни были разны их характеры, как бы ни менялись обстоятельства, в одном они были неизменно единодушны, и одно желание у них никогда не остывало: это была жажда узнать всеми возможными и невозможными путями, всеми правдами и неправдами, что же там было скрыто, за пределами их досягаемости, там, на столе.
С самого момента начала жизни в этой хижине стол и то недоступное им, что было там, на столе, обладали необычай ной силой чарующего притяжения для бобров, и они, казалось, думали, что вот именно там, на столе, находится все то желанное, чего им не хватало тут, внизу, на полу Они были особенно крикливо-требовательны во время еды людей за столом, и хотя им всегда давалось, сколько они могли съесть, все равно, сколько бы они ни ели – еда едой, а территория стола оставалась для них неисследованной. Всеми им доступными средствами они стремились узнать, что там находится, и однажды им удалось стащить клеенчатую скатерть. Грохот упавших железных тарелок, казалось, должен был бы послужить им хорошим уроком, и все-таки нет: этого урока, оказалось, им было еще недостаточно. Серая Сова, наблюдая эту постоянную тягу бобров к столу, понимал, конечно, что рано или поздно, каким бы там ни было способом, они своего непременно достигнут, но ему никак не могло прийти в голову то, что случилось в действительности.
Серая Сова и Анахарео никогда до сих пор в этой хижине не оставляли бобров одних более чем на несколько часов, потому что было холодно и надо было поддерживать тепло в хижине. Но однажды случилась большая оттепель, и супруги предприняли небольшое путешествие, за несколько миль, в лесозаготовительный лагерь. Ночью возвращаться домой им не захотелось, они приняли приглашение переночевать. На другой день повар, слыхавший о бобрах, пожелал их посмотреть, и Серая Сова, расставаясь с ним утром, предложил ему зайти к концу дня. Повар пообещал зайти и на прощанье дал для угощения бобров сверток солидных размеров. Это был первый визит в хижину лесных странников, и, чтобы подготовиться к встрече дорогого гостя, они поспешили скорее домой.
Так с этой мыслью, чтобы поскорей взяться за дело и не ударить в грязь лицом перед гостем, Серая Сова и Анахарео подошли к своему дому, но, взявшись за дверь, отворить ее не могли: дверь была забаррикадирована изнутри кучей одеял.
Но это были пустяки в сравнении с тем, что открылось хозяевам, когда они вошли в свое жилище: комната была разгромлена.
Бобры нашли простейший способ опустить пониже недоступный им стол: они подгрызли ножки, и стол сам опустился. Вещи, лежавшие на столе, то самое, чего достигнуть им так страстно желалось, оказались не особенно интересными: посуда. Однако они не пощадили и посуды; большую часть этих вещей позднее нашли в норе, но некоторые вовсе не были найдены; вероятно, они запрятали их в самом отдаленном конце тоннеля. Все остальные вещи были разбросаны на полу и находились в разных стадиях разрушения. Умывальник был опрокинут, и мыло исчезло. Банка с керосином, емкостью в пять литров, упала на пол, но, к счастью, удачно: отверстием вверх, так что ничего не вылилось. Сам пол не пострадал, но был густо покрыт стружками, щепками, обломками разного изгрызенного имущества. В дальнейшем пионеры колонии Бобрового Народа испытывали нападения гораздо более разрушительные, но первый разгром произвел потрясающее впечатление и отбил всякую охоту принимать гостя.
Между тем сами-то бобры по-своему задумали что-то построить. То, что людям представлялось картиной разрушения, с их, бобровой, точки зрения, это было лишь этапом какого-то, им только известного созидания: они не чувствовали ни малейшей вины и, прерванные в своем строительстве, разглядывали вошедших через свою бойницу, а когда убедились, что это свои, то сразу оба выскочили и запрыгали через груды развалин, чтобы радостно приветствовать своих милых друзей.
Какой смысл было наказывать этих маленьких гномов? Им дали лакомства, присланные поваром, и они ели среди обломков, наслаждаясь таким чудесным завершением, быть может, самого прекрасного дня их жизни.
Как Серая Сова стал писателем
Кто может сказать, где именно кончается инстинкт и начинаются сознательные умственные процессы? Этот вопрос много раз ставил себе Серая Сова, наблюдая жизнь своих бобров. Вспомнилась ему однажды виденная где-то в газете фотография японской железнодорожной станции с надписью: «Точно такая же, как и у нас». Издатель, очевидно, был изумлен, что японская станция сделана не из бамбука или бумаги. И Серая Сова, вспомнив наивного издателя, подумал о себе самом, что его отношение к уму животных было точно такое же: «У них, как у нас». Но после появления в обстановке его повседневной жизни маленьких послов, детей животного царства, подобная снисходительная точка зрения была невозможна, а дальнейшее углубление в этот замечательный мир обещало волшебные возможности: сфера жизни, совсем не изученная. У бобров их внутренняя жизнь сказывалась, конечно, эффектнее для наблюдателя: но в какой-то мере, конечно, и все животные обладают своими, неведомыми людям свойствами в том же роде, – область неведомая, сулящая целый мир открытий.
Это новое для Серой Совы, как бы родственное внимание ко всему животному миру настойчиво искало своего применения. К счастью, зима была очень мягкая; разного рода животные пользовались ею, всюду шныряли, и Серой Сове захотелось интерес свой, возбужденный бобрами, расширить вообще интересом к жизни природы. Можно ведь было начать приручение разных животных – не только бобров. Началось с ондатры, с которой подружилась Анахарео. Это был жирный, курьезного вида самец. За свое толстое брюхо он был прозван Фальстафом. Очень часто он посещал прорубь, из которой бралась питьевая вода, засорял ее то травой, то ракушками съеденных им улиток, чем доставлял поселенцам некоторые неприятности. Он любил сидеть у самой кромки льда и поедать разные кусочки, которые Анахарео оставляла тут для него. В конце концов Фальстаф до того привык к людям, что ел прямо из рук. По всей вероятности, он вообще стал ее подстерегать, потому что сейчас же высовывал из воды голову, как только Анахарео начинала спускаться вниз. Он даже бежал по льду к ней навстречу, но уже через несколько метров терял уверенность, его охватывал страх, и он мчался назад в прорубь и оттуда снова выглядывал. День за днем, однако, росло его доверие к Анахарео, и путешествия к ней навстречу по льду удлинялись, отступления становились не столь стремительными. У Фальстафа был домик на берегу, сделанный из травы и грязи, у него кто-то там жил, но выходил к поселенцам только один Фальстаф, другие никогда не показывались.
Удалось так же скоро приручить двух белок: они стали даже приходить на голос, прыгать людям на плечи, из рук брать кусочки лепешек. Между собой эти белки ссорились, жестоко дрались, но к людям неизменно выказывали дружелюбие, – возможно, оно было притворное, возможно, и нет; во всяком случае, оно было вызвано надеждой получить подачку.
Еще из живых существ возле хижины поселенцев было около дюжины соек, которые поселились в соседстве с людьми. Как будто они даже в присутствии людей несколько изменили свой нрав и не болтали, как всегда. Они глаз не сводили с двери и в то же время старались показать всем своим скромным поведением, что в подачках они совершенно не заинтересованы. Как только открывалась дверь, они становились очень оживленными, некоторые даже начинали и посвистывать. Но все прекращалось, как только закрывалась дверь.
Дружеские отношения между ними, однако, не удерживались при появлении еды. На них еда оказывала такое же влияние, как деньги на весьма многих людей. Если бросалась пригоршня крошек, то каждая сойка, не обращая внимания на другую, стремилась захватить себе как можно больше и улетала. Однако все-таки при этом они не теряли вовсе ума, и если случалось, что в такой момент сойка была только одна, то она обыкновенно ходила между кусками и крошками, спокойно выбирая себе самые большие. Сойки скоро сжились с поселенцами, так что, какую бы вещь ни выбросили из хижины, они в воздухе бросались на нее, как атакующие самолеты. Некоторые же сойки на мгновенье садились даже на протянутые пальцы и явно при этом наслаждались новыми, не испытанными ими переживаниями, а может быть, просто теплом рук.
Сначала все сойки людям казались совершенно одинаковыми, но вскоре люди стали их различать, открывать в каждой сойке индивидуальную внешность и свой личный характер. Можно бы назвать такое отношение к животным родственным вниманием, потому что нужно, конечно же, сознавать себя до некоторой степени в единстве со всем миром, если находишь возможность открывать личность даже в таком отдаленном существе, как сойка. Они были легкими птицами, и хотя полет их и не был особенно быстр, но этот недостаток силы они возмещали проворством. Они напускали на себя самый мрачный вид, когда были сильно голодными, хотя, возможно, делали это бессознательно, и вдруг, как только появлялась еда, становились воинственно-бойкими. Одна из них хитроумную способность соек притворяться довела до того, что во время перебранок из-за лакомого куска начинала кататься по снегу со всеми признаками дурноты. Всегда это среди других птиц производило смятение, пользуясь которым она прокладывала себе путь к лучшему куску, схватывала его и в полном здоровье улетала с ним. Почти все добытое сойки упрятывали в укромных уголках и щелях, где находили его очень деятельные белки. А после кладовые белок, в свою очередь, ограблялись сойками.
Помимо бесстыдного попрошайничества, эти пернатые подхалимы еще и отлично мошенничали, так что будь они людьми, то принадлежали бы к категории тех очаровательных негодяев, которые вытянут у вас последнюю папиросу и дадут вам почувствовать, что делают вам одолжение.
В свое время Серая Сова десятками ловил соек в ловушки, поставленные для более крупных хищников. Взятые за ноги, они бились и теряли свою безобидную жизнь в безнадежной борьбе. Странным казалось теперь Серой Сове то, что он от любимых бобров пришел в царство животных с тем же чувством родственного внимания. Теперь это не была сойка вообще, одна и та же сойка во множестве экземпляров, как номер газеты в своем тираже. Теперь самые разнообразные существа бежали за ним, всползали по ногам, бросались к рукам и пальцам, чтобы посидеть на них в полном доверии, заглянуть ему в глаза своими глазами, в которых сияло радостное чувство бытия…
Анахарео очень гордилась всеми этими животными, окружавшими дом, и сами они придавали месту какое-то очарование. Поселенцы от этого чувствовали, что на чужбине они приняты как друзья и сограждане пернатого и пушного парода. Конечно, такое равновесие в отношениях людей и природы стоило немало забот; семья поселенцев разрослась до больших размеров, и это была семья дикая и вечно голодная: нелегко было всех удовлетворить. В конце концов, чтобы жить с такой семейкой, пришлось выработать правила и расписания.
Несмотря на такие развлечения, часто дни были монотонными и тянулись долго. К счастью, странники леса оба были большими любителями чтения и в свое время натащили в лес множество журналов. Эти журналы более чем окупали труд по своей переноске тем развлечением, которое они доставляли: их постоянно читали и перечитывали и в одиночку и вслух. Среди этих журналов был один – для читателей английского помещичьего дворянства. Поселенцы, в свою очередь, были тут тоже помещиками, хотя и не дворянами, и журнал сделался любимым. Но, возможно, журнал и просто потому привлекал диких «помещиков», что в нем описывалась жизнь, до крайности не похожая на их собственную. И потому они пробегали по страницам чопорных и превосходных наставлений, как будто сами, будучи в куртках, имели возможность удовлетворить свое любопытство свободным общением со знатью.
Очень часто припадки тоски по великой, свободной, покинутой ими стране были так велики, что прямо приходилось изыскивать средства и способы для успешной борьбы с ними. Анахарео в таких случаях становилась на лыжи, бродила по лесам или же делала эскизы знакомых по памяти мест, в чем была большим мастером. В то же время Серая Сова пописывал на блокнотах, или на полях журналов, или на оберточной бумаге. Он делал комментарии к несообразностям, какие встречались в рассказах из жизни природы, описывал достопамятные происшествия собственной жизни, излагал свои краткие впечатления от необычайных явлений или от личностей, с которыми в жизни своей встречался. Так, восстанавливая в памяти утраченное, он до некоторой степени восполнял прежнюю жизнь, вновь переживал ее и получал некоторое удовлетворение.
Иногда поселенцы тушили свет и, широко открыв дверцу печки, сидели на полу у огня, и колеблющийся свет тлеющих углей бросал огненно-красные и малиновые лучи в призрачную мрачную хижину, рисовал странные узоры на стенах. Снопы света озаряли оловянную посуду, котелки и другую утварь, начинавшую светиться, как начищенная медь в древнем замке барона, превращая висевшие на двери одеяла в редкостную драпировку. Из земляного сооружения, сделанного бобрами, доносилось их бормотанье, как заглушенные далекие голоса прошлого. Обоим добровольным изгнанникам в чужую страну тогда все казалось таинственным, они начинали говорить только шепотом; смотрели пристально, как вспыхивал жар, как он гас, ломался, рассыпался на куски в красной, пламенной пещере. Тогда являлись лица, образы показывались и уходили, как на сцене. Призрачные эти образы вызывали из глубины памяти полузабытые истории, случаи, мысли. Тогда, вспоминая каждый свое, лесные друзья, сидя в маленьком красном кругу света печи, начинали друг другу рассказывать.
Анахарео любила рассказывать о некоторых из бесчисленных подвигов Нинно-Боджо, колдуна, который бывал иногда злым, иногда добрым, по временам святым, – бес на все руки. Это был правдоподобный образ негодяя, с удобными, вследствие гибкости, понятиями о чести: не то бог, воплощенный в жизнь, не то бес, живущий в фольклоре ирокезов, народа Анахарео.
Серая Сова, в свою очередь, рассказывал о нужде и голоде и о рискованных приключениях в великих темных лесах по ту сторону Высокой Страны. Иногда беседа была о войне и дазних днях времен Биско. Так в хижине, около маленькой печки, всплывало многое, давным-давно погребенное. Друзья до того углублялись в свои воспоминания, что действующие лица выходили на сцену огненного амфитеатра с мельчайшими подробностями. Похоже было, что их вызывали сюда, в эту избушку, из их могил, и они тут снова селились и жили, и уйти совсем опять в свое темное неизвестное больше уже не могли…
Некоторые из этих рассказов Серая Сова попробовал записывать и получал от этого величайшее удовлетворение. Мало-помалу он стал возвращаться к этому занятию: исписанные лоскутки стал собирать, прятать и хранить. Скоро из них собралась целая большая кипа. Вместе с тем он писал еще маленькие рассказы об ондатрах, белках, птицах и читал их вслух Анахарео. Глубокого впечатления на нее они не производили, хотя Серая Сова втайне на это рассчитывал. Но рассказы были забавные, – Анахарео потом с удовольствием пересказывала их бобрам. И они ее слушали, и трясли затем головами, и катались на спине. Вот и вся оценка, которую Серая Сова получал за свои рассказы. Но это не мешало ему продолжать свое дело, и так, занимаясь, он мало-помалу пришел к тому, что английских слов для писания ему не хватает. Этот недостаток он стал восполнять, находя такие слова в английских журналах. Занятие писательством наконец дошло до того, что Анахарео намекнула ему, и он понял: он начал делаться для окружающих надоедливым.
Однажды Серая Сова, не имея какого-нибудь действительно серьезного намерения, решил критически пересмотреть все написанное и попробовать, нельзя ли из него извлечь что-нибудь цельное. Он заметил, что многие из прочитанных им рассказов, несмотря на все мастерство их авторов, если хорошенько их разобрать, содержат на костях своих мало «мяса». И он решил взяться написать такой очерк, чтобы в нем была масса «мяса». С этой целью он начал спаивать все кусочки воедино. Приблизительно через неделю из этих клочков у него вышло произведение в шесть тысяч слов длиною, очень «мясистое», в котором рассказывается о северной Канаде, с подробным описанием эпизодов из жизни большинства животных того края. Было в нем и о бобрах, и о тех иждивенцах, которые сейчас тут жили во дворе и на озере.
Несколько раз перечитывал Серая Сова свое произведение, и каждый раз ему казалось, что написано хорошо. Исправив замеченные места, он, лихорадочно работая до глубокой ночи, все окончил, переписал начисто. Еще раз он теперь прочитал вслух Анахарео и, кажется, охотно прочитал бы бобрам, если бы они только дали согласие его выслушать. Анахарео прослушала все терпеливо, но отметила несколько неясных мест. Эти неясности Серая Сова легко исправил, прибавив длинные и точные объяснения. Над этими неясными местами Анахарео тоже работала, и до чего не мог додуматься один, давал другой. Так они часами ломали себе голову, боясь упустить что-нибудь. Эти дополнения и вставки увеличили первое творение Серой Совы до восьми тысяч слов, что считал он очень неплохим достижением для первого раза. Анахарео пробовала осторожно намекнуть, что очерк несколько растянут. Серая Сова, однако, резко отверг это возмутительное предположение. Он же читал подобный очерк, и там автор мог из своей темы выжать не восемь тысяч, как он, а только полторы тысячи слов!
Чем больше мог автор выжать из своей темы слов, тем, казалось Серой Сове, получалось больше «мяса». Ему тогда и в голову не приходило, что многословие находится в противоречии с этим «мясом».
«О нет, – думал Серая Сова, – исправлять тут больше нечего. История, попавшая на бумагу, делается воплощением мечты, зданием, усеянным драгоценными камнями, и без особенной причины ни один из них не должен быть сдвинут с места».
Всякое предложение теперь вычеркнуть что-нибудь для улучшения целого вызывало в нем чувство, похожее на ужас при виде убийства. Нет, конечно, никаких изменений больше не будет! Он сделал тщательную копию со своего манускрипта, запечатал его, вложив около пятидесяти фотографий, иллюстрирующих, как он надеялся, очерк. После того он сделал для отправки пакета пробег в город за сорок миль.
Он отправил пакет в Англию одному знакомому со времени великой войны в Европе, полагая, что эта страна, Англия, и есть мировой рынок для подобного рода материалов. Своему посреднику он дал инструкции в том, что права на перепечатку в периодических изданиях, переводы, воспроизведения в фильмах, напечатания в отдельных изданиях удерживаются за автором. Сделал это распоряжение Серая Сова, конечно, потому, что прочитал в своем журнале, как распоряжаются относительно своих произведений настоящие авторы. Сам он о деньгах не думал, ему хотелось только, чтобы его произведение прочло много-много людей. Впрочем, конечно, если бы дали деньги, то он бы не отказался, и это было бы хорошо. Но именно только влияние журнала толкнуло его сделать все по форме. После он немало дивился, какой это демон толкнул его, такого пролетария, связаться с журналом фешенебельным, обслуживающим аристократию.
Всякий, кто в жизни боролся за счастье быть самим собой, знает, что сила и успех этой борьбы зависят от уверенности, с которой идет искатель к своей цели. Все пораженные потом, истратив веру в себя, не в состоянии больше «собраться с духом» и снова ринуться в бой. Поступок Серой Совы может быть исключительно ярким примером. Такой простой вещи, как отказ журнала напечатать очерк, ему даже и в голову не приходило. Да, конечно, во всем этом важно было одно: что многие прочтут его писание. Но после этого-то все-таки деньги ему ведь очень же нужны. Но это выйдет само собой: раз напечатают, то, конечно, и деньги пришлют. И непременно пришлют: приблизительно через месяц чек должен быть здесь. Но если он так уверен в этом, то почему же теперь, раз дело сделано, авансом не купить чего-нибудь хорошего к празднику: Рождество не за горами. Итак, захватив с собой кое-что в лавке, Серая Сова отправился домой. Была сильная снежная метель; человек прокладывал себе лыжный путь, и сразу же за ним заметало следы.
В этом мерном ритме лыжного хода задумывается человек, и там, в этой «задумчивости», мысли порхают, ка# в метели снежинки. Он чувствовал, благодаря писанию, будто крылья выросли у него за спиной, а до тех пор он, бескрылый, был привязан где-то далеко от своей желанной родины. Раньше ему тяжело было оставаться самому с собой и давать полный ход своей мечте: эта бескрылая мечта вызывала острую боль, почти что до крика. Теперь это мученье кончилось, и нет больше одиночества: на всяком месте, при всяких условиях он может из себя самого извлекать целый мир, и с пером в руке он может скитаться в стране дикой романтической красоты, вновь переживать приключения, которые без помощи пера, по всем признакам, больше уже никогда не повторятся.
Чувство родства с природой, годами росшее в Серой Сове, достигло теперь силы сознательного действия; последние опыты с дикими животными показали ему свою силу родственного внимания к ним, силу, которой можно управлять как созидательной силой. Нет! Не только бобров, столь близких к человеку, но и всех животных нельзя считать бессмысленными существами!
«Как можно сомневаться в этом смысле, – думал Серая Сова, – раз все они так удивительно быстро отвечают на всякое малейшее проявление в отношении к ним человеческой доброты!»
Вспомнился Серой Сове один молодой олененок, который кормился на том берегу их озера. Он был всегда один, и Серая Сова догадывался, что, вероятней всего, олененок остался от одной из самок, которых ему пришлось застрелить для своего питания. Этому маленькому одинокому существу еще не было времени выучиться бояться человека, и он иногда переходил озеро и, поднимаясь вверх по дороге, проходил мимо самой хижины. Это бывало всегда приблизительно в один и тот же час через день. Поселенцы, заметив это, стали выходить из хижины и поджидать его. Олененок не обращал на это никакого внимания и проходил безмятежно. Иногда он останавливался, рассматривал людей. Скоро он стал вовсе ручным, и можно было свободно ходить около него, когда он обгрызал тополевые ветки, припасенные для бобров. Поселенцы чрезвычайно радовались этому новому другу, а его доверчивость, или, может быть, незнание, или невежество были лучшей гарантией его безопасности. После его появления Серая Сова за мясом стал уходить далеко в глубину леса, чтобы выстрелом не пугать молодого олененка. А всего только год тому назад Серая Сова, чтобы не тратить пулю, убил бы его дубинкой. А что было бы, если бы он в свое время не обирал, не оскорблял свой любимый север непрерывным убийством? Но откуда же взять средства существования для жизни? Серая Сова не был тем сентиментальным человеком, который ест мясо, а сам рук своих не хочет марать для убийства животного. Раз нельзя не есть, нельзя обойтись без еды, то почему же и не убить? Но если бы явилась такая возможность, чтобы лично можно было обойтись без этого и свои силы тратить на то, к чему больше лежит душа, то как бы это было хорошо! Не может ли вот это писательство дать возможность жить наблюдением животных, разведением их? Сколько платят за такой товар?
Сколько можно всего передумать, совершая путь в сорок миль! Снежинки кружатся, падают без конца, и пусть себе падают – об этом нечего думать, и мысль, привыкая к снежинкам, как бы освобождается от необходимости внешнего мира, она прочищается и начинает принимать какую-то форму.
Вот теперь только стало совершенно ясно, что не надо жалеть о том невольном поступке, когда Серая Сова, будучи в долгах, сам захлопнул капканы, перед тем, как им надо было убить бобров. Бобры теперь были целы, решение не убивать бобров от этого стало серьезней. Открылся путь приручения диких животных. Все эти маленькие животные – белки, сойки, ондатры, молоденький олень, – по мере того как вырастало их доверие к человеку, в то же время открывали ему путь для увлекательного изучения природы; живые они были интересней, чем мертвые. Но ведь это же несомненно: они гораздо интереснее, и самое дело охраны должно быть полезнее, чем дело разрушения, и если кто занимается этим серьезно, то, наверное, он должен и зарабатывать гораздо больше, чем просто за шкурки. Нет никакого сомнения, что основанное на этом чувстве охраны жизни писательство должно хорошо оплачиваться. А если это так и Серая Сова может жить и писать, как ему хочется, то вовсе и не нужно будет искать охотничий участок. На каждом месте тогда он может своим собственным усилием создавать страну непуганых птиц и зверей.
Серая Сова, конечно, понимал, что для перемены своей профессии охотника в желанном направлении требуется что-то большее, чем обычное физическое мужество лесного человека. Но относительно своих литературных попыток он не понимал, что в его положении даже ангел нуждался бы в спасательном круге.
Да, конечно, он фантазировал, он строил воздушные замки.
Лесная жизнь воспитывает железную волю. Серая Сова так понимал, что если человек считает себя способным на что-нибудь направить все свои силы со всей искренностью, то он добьется любой разумной цели. Он в своей жизни этому видел сотни примеров.
Но что, если он теперь ставит задачу научиться ходить по воде?
Бушевала метель, но в душе Серой Совы совершалось такое, что эта ярость стихии только бодрила его, она вызывала в нем такое чувство, будто сейчас совершается в природе какое-то торжество, вроде стихийного карнавала, и он шествует, сливаясь душой с этим диким разгулом, и чувствует, что нет ничего такого, чего бы он не мог преодолеть. Серая Сова несся на лыжах через бурю в своем собственном ритме, в бешеном вое находил такое упоение, что вот только бы петь, – и он кричал, он орал, как зверь…
После он сам, вспоминая этот решительный момент своей жизни, записал:
«Но, вдумайся глубже, я понял бы, что, несмотря на все мои выкрики, хваленое искусство и опытность, я не мог бы остановить падения ни одной из этих тысяч летящих снежинок».
Серая Сова прибыл домой в самый разгар снежной бури, и было так уютно войти в маленькую хижину прямо из метели. Анахарео к мешкам от сахара, разрезанным и вымытым для занавесок, пришивала теперь яркоцветные шерстяные бордюры. На окнах такие занавески придавали всему домику уютный вид.
Бобры, как рассказала Анахарео, почувствовали отсутствие Серой Совы, и особенно Мак-Джиннис: после ухода он, казалось, что-то искал и провел много времени около двери, поглядывая на нее снизу вверх. При входе Серой Совы ни один из них не показался, но через наблюдательное отверстие их крепости виднелись носы: очевидно, бобры старались еще понять, кто бы это мог быть. И как только поняли, то сразу выскочили и запрыгали вокруг него. А Мак-Джиннис непрерывно бросался до тех пор, пока Серая Сова не стал на колени и не угостил его специально для этого припасенными конфетами. Оба бобра с громким чавканьем принялись за угощение..
После того Серая Сова выложил свои скромные покупки, сделать которые уговорил его добрый лавочник ввиду близости Рождества. Серая Сова был всегда слишком занят охотой в лесу и никогда не мог быть уверенным, что вот сегодня такое-то число. И потому Рождество он обыкновенно пропускал. А может быть, ему в душе и не особенно хотелось вспоминать праздник, когда из-за какой-то лицемерной сентиментальности нельзя бывает лишать жизни животных, но теперь он был семейный человек, жил в стране, где Рождество для всех праздник, и он решил в этот раз не отставать от людей и тоже по-своему отпраздновать.
Хорошо выстрогав несколько досок из сухого кедра, Серая Сова разрисовал их индейскими рисунками и повесил возле окон, как наличники. Если смотреть отступя, казалось, будто эти наличники разукрашены бусами. Кроме того, лесные отшельники развесили в освещаемых местах украшения с племенными эмблемами. На пол положили два коврика из оленьих шкур. Наперед зная, что они сделаются игрушками бобров, их прибили гвоздиками. Но и это не помогло: завидев коврики, бобры стали из них целыми пригоршнями выщипывать шерсть. Из перьев убитого орла Серая Сова сделал военный головной убор – это целое сооружение из перьев, красок и поддельных бус. Вырезав из дерева подобие лица воина, он нарисовал на нем, на случай прихода гостя, дружественные знаки и надел головной убор. С другого конца стола у этого воина был очень внушительный вид. Везде на видных местах были расставлены раскрашенные свечи, к балкам подвешены японские фонари. От всего этого и получилось так, что если заглянуть снаружи в окно, то можно было бы подумать, что хижина заселена какими-то индейскими духами, вкусы которых были наполовину дикарскими, наполовину благочестивыми.
К сочельнику все было готово: загорелись свечи, освещая с лучшей стороны украшения. На тарелках были разложены яблоки, апельсины, орехи.
Увидев все это, Анахарео решила устроить для бобров елку; взяла топор, стала на лыжи. А Серая Сова остался смотреть за куском оленины, шипевшим на печке, и за рождественским пудингом, купленным в лавке.
Легкий ветер колебал сосновые ветки, и они сначала еле слышно гудели, но ветер, наверное, усиливался, – звуки нарастали низкими волнами, поднимались до высокой дрожащей ноты и замирали. Слушая эти звуки, Серая Сова поднял окно и увидел Анахарео: она тоже слушала восторженно эти чудесные звуки сосен и говорила, что это, пожалуй, не хуже рождественских колоколов. Чудесное дерево принесла Анахарео. Его воткнули в трещину пола, к вершине прикрепили горящую свечу, на ветках привесили все так, чтобы можно было добраться бобрам: конфеты, кусочки яблок и разные вкусные вещи со стола.
Бобры довольно равнодушно смотрели на все эти приготовления, но запах дерева их привлек к себе; они вгляделись, обнаружили висевшие лакомства, начали немедленно обрывать веревочки, спускать лакомства на пол и смаковать. Сами хозяева тоже сидели за столом, тоже ели и наблюдали своих маленьких приемышей. Бобрята быстро истребили все висевшее на дереве; пришлось им подбавлять, привешивать повыше, и вот началась такая забава, что сами хозяева забыли о своей собственной еде. Маленькие существа становились на задние «ноги», хватали, срывали подарки, воровали лучшие куски друг у друга, толкались в спешке с такой силой, что какой-нибудь падал и комично спешил подняться, опасаясь, что другой в это время все съест. Болтали, кричали, визжали от возбуждения. Новые и новые лакомства подвешивали добрые хозяева, показывали бобрам, говорили: – Глядите, что еще мы нашли!
Зверюги начали уносить еду про запас, то шествуя на задних «ногах» с подарком в «руках», то на четвереньках – с добычей в зубах. Когда же все было съедено, растащено и больше уже ничего не добавлялось, то мудрая и бережливая Мак-Джинти опрокинула дерево и поволокла его, как бы желая упрятать подальше самый источник снабжения до будущего урожая. Но тут уже началась такая потеха, такое веселье охватило людей, что похоже было, будто в благодарность за Рождество бобры стали сами по-своему для людей устраивать свое, бобровое Рождество. И они как будто в самом деле были счастливы, что забавляют людей. И Анахарео счастлива была, что бобры счастливы, и Серая Сова радовался, что все были счастливы.
Наевшись до самого горла, утомленные кутилы удалились за перегородку и завалились спать с полными желудками среди собранных рождественских даров. После их ухода воцарился покой и молчание; раскрашенный воин стал особенно серьезно глядеть из-под своего оперенного головного убора. Пришлось удовлетворить его немую просьбу – выпить, и Серая Сова достал заветную бутылку красного вина. Начались тосты за этих спящих бобров, и за бобров на той стороне озера, и за величавого индейца в перьях, и за доброго француза, снабдившего таким отличным вином. Выпив последний тост за здоровье друг друга, новоселы установили, что во всем Квебеке не было никогда такого веселого Рождества, и если уж не во всем Квебеке, то, во всяком случае, на этом озере.
Счастье
Какому разумному человеку придет в голову связывать свою судьбу с каким-то рассказом, написанным в лесу и отправленным в Лондон? Кто, послав такой рассказ, пойдет через какой-нибудь месяц в город получать за него деньги по чеку?
Но Серая Сова пошел, прихватив с собой для верности и свою подругу Анахарео. И надо же было так случиться: когда они спросили на почте о чеке – чек был тут.
В отдельном конверте любезно был прислан экземпляр журнала, в котором был напечатан очерк Серой Совы, сокращенный приблизительно до одной четверти оригинала, иллюстрированный пятью из пятидесяти присланных им фото.
Анахарео и Серая Сова, когда открыли указанную страницу в этом царственного вида журнале, вдруг увидели и узнали слова, фразы, возникшие в столь жалкой обстановке; тут было даже изображение хижины, сделанной собственными руками, бобровой плотины, самих Мак-Джинниса и Мак-Джинти…
Чудеса! Может ли быть?
Анахарео бросилась отнимать журнал у Серой Совы. Отняла и впилась: все действительно как у них, и все-таки странно.
– Возможно ли?
И он, в свою очередь, тоже вступает в борьбу с Анахарео, отнимает журнал.
Так несколько раз журнал переходит из рук в руки, пока наконец Серая Сова не уступает его в полное владение Анахарео, а сам принимается с необычайным волнением разглядывать ярко-розовый кусок бумаги, представляющий собой деньги, которыми можно уплатить почти что весь долг, взятый под пушнину в районе Тулэйди.
Но мало чека! Редактор прислал ему лично самое любезное письмо, в котором просил писать еще и еще в этом роде. Случилось – чувствовал всей душой Серая Сова – нечто для него великое и, если хотите, даже торжественное, но без всяких ненужных для истинного торжества церемоний и суеты. Во мраке он сделал свой первый шаг, но шаг был сделан верно.
«Как же так может быть? – думал он. – Ведь никакого же плана не было в этом писательстве, и если взять труд, которым добывается в лесах пушнина, то тут вовсе не было даже этого труда: было пустяковое, праздное и приятное времяпрепровождение в тяжелые часы уныния. Как же из этих пустяков могла встать для него, загореться ослепительно заря новой жизни?»
Прежде чем написать согласие на сделанное предложение, Серая Сова с легким головокружением вышел из маленькой гостиницы, купил для себя толстое желтое «вечное перо», немного чернил, много бумаги и для Анахарео новый «кодак» Добрый лавочник, на которого лесные жители привыкли уже смотреть как на небесного покровителя, услышав приятные новости, потрепал Серую Сову по плечу, сердечно, во французском духе, поздравил и сказал, что, конечно, он всегда был уверен в чем-то подобном. Но, по правде говоря, он мог бы с той же самой уверенностью рассчитывать, что Серая Сова будет на египетском троне.
Закон клыка и когтя
Обратное путешествие в шестьдесят километров Серая Сова и Анахарео совершили весело по лесу, сверкавшему снежным покровом, не соблюдая ради привалившего счастья суровый закон молчания на лесном пути. Шли даже и не гуськом, как всегда, а рядом и все время разговаривали и строили планы о приручении тех бобров Березового озера, которые так счастливо спаслись, когда уже были на них расставлены капканы. Для своих бобров можно тут же выстроить что-нибудь вроде бобрового домика. Они – и ондатры, и белки, и молоденький олененок – должны тоже улучшать свое положение, по мере того как оно будет улучшаться у людей. Хорошо бы вот еще найти где-нибудь лося. Хорошо бы расширить хижину, сделать пристройки, населить их рогатыми, пушными, пернатыми друзьями. Серая Сова будет о них писать. Анахарео – снабжать иллюстрациями при помощи нового «кодака»[12]. Раз уже есть теперь свои ручные бобры, есть на озере бобры дикие и разные прирученные животные, и – самое счастливое – написан очерк и получены деньги, то почему и не могло совершиться и дальше так именно, как вот теперь хочется? Здесь ведь вовсе нет трапперов, которые могли бы вторгнуться и помешать осуществлению плана устройства Бобрового Народа. Ручные бобры и дикие смешаются, размножатся, заполнят пруд, распространятся и населят вокруг него пустые ручьи, и «Дом Мак-Джинниса», как уже и теперь зовут лесорубы лагерь Серой Совы, станет центром бобровой культуры и со временем даже станет знаменитым местом.
Так вот как расширяется душа у людей, когда им повезет, и вот так бы нам всем всеми средствами помогать такому расширению души у людей: сколько бы они в таком состоянии наделали всего хорошего!
Хотя прошло вот уже пять ночей, как лесные жители оставили свою хижину, но беспокоиться им было не о чем: морозы были самые легкие и повредить бобрам не могли. В свою очередь, и бобры ничего не могли для своих хозяев наделать дурного: ножки стола, койки, умывальника теперь были защищены запасными печными трубами, вещи были сложены на эти бронированные укрепления и на полки.
Не было никаких дурных предчувствий. Но в нескольких милях от лагеря новоселы заметили странный лыжный след, идущий прямо по их пути. Отпечатки следов, сделанных в мартовскую оттепель и теперь замерзших, было бы легко разобрать и, может быть, о чем-нибудь догадаться, но уже темнело, когда был замечен этот след, и понять что-нибудь было невозможно.
В этом пустынном жительстве люди, конечно, всегда настороже, и им, как и Робинзону, именно след человека больше всего и вселяет в душу тревогу. Стали делать всякие предположения и в то же время, конечно, помчались вперед на лыжах как можно скорей.
Первое, что пришло в голову, что это кто-нибудь из лесорубов приходил посмотреть на бобров; но это предположение сразу же отпало: след шел не с той стороны. И этот человек не расставлял широко лыжи, как делают белые, а держал лыжи одну к одной, как индейцы. Вот показалась и хижина, и в ней был свет! И когда наконец хозяева с таким волнением открыли дверь своего дома, перед ними с широчайшей улыбкой, с протянутыми вперед руками стоял Давид Белый Камень! Старик алгонкинец достиг своего и добрался до своих желанных друзей.
Какое же это было чудесное свидание! Серая Сова не помнил дня в своей жизни, когда бы он был так рад человеку. Оказалось, тот знаменитый дробовик, с таким кучным боем, из которого можно было в толпе на выбор, как пулей, подстрелить любого человека, все еще был цел. Давиду посчастливилось хорошо подработать с охотничьей экскурсией на лосей. Он занимался трапперством всю зиму в Нью-Брунсвике и, найдя там партию бобров, хорошо выручил.
Сели ужинать, и после того, как за ужином переговорили обо всем и разговор на время замер, Серая Сова и Анахарео стали звать Мак-Джинти и Мак-Джинниса, которые по какой-то причине не показывались. Какие-то неясные звуки слышались из-за перегородки; несомненно, они были тут, но почему же они все-таки не показывались?
Почему? Давид посмотрел на Анахарео и хитро подмигнул обоими глазами, как сова.
– Понимаю, – сказал он, оскалив зубы, – они там работают, но и я тоже у вас тут не бездельничал! Вот вам подарок.
И, дойдя до перегородки, вытащил одного за другим двух взрослых бобров, еще мокрых и… мертвых.
Анахарео уронила ложку, которую она вытирала, и та с легким стуком упала на пол. Серая Сова вынул трубку. Тихий треск спички показался взрывом – такая вдруг в комнате наступила тишина.
Потом Анахарео подняла ложку и приступила к тарелкам. За промежуток времени, показавшийся таким длинным, Серая Сова вспомнил, что человек этот ведь был же другом.
– Спасибо, Дэйв, – ответил он.
И хотел еще что-то сказать, но вдруг пересохло в горле. А когда оправился, то спросил:
– А где же остальные?
– Там стоят еще капканы, – ответил Давид.
Серая Сова зажег фонарь и сказал:
– Пойдем же, друг, посмотрим на них.
Давид, конечно, что-то почуял неладное и, когда вышли, спросил:
– В чем дело, Арчи? Кажется, я сделал что-то нехорошо… Скажи мне, в чем дело?
– Почему? – ответил Серая Сова. – Успокойся, пожалуйста, вовсе же нет ничего такого.
И поднял фонарь, чтобы видеть его лицо и в то же время скрыть свое лицо от него.
– Нам всю зиму, – сказал он спокойно, – как-то не везло… Ну вот и все, а так решительно нет ничего. Не беспокойся, пожалуйста.
Около бобровой хатки они вытащили пять капканов: оба бобренка поймались. Давид был один из самых лучших охотников.
– Ну, теперь мы их всех выловили, – сказал он нерешительно.
И затем прибавил:
– Это все, что здесь было, – и бросил на Серую Сову внимательный взгляд.
– Да, – согласился Серая Сова, – это все, что здесь было.
И посмотрел вниз, на двух маленьких бобрят, безжизненно лежавших на льду, под звездами. Возле них был домик, теперь пустой и холодный. Но делать было нечего: старый закон клыка и когтя, очевидно, был сильнее всего, а все, что строилось мечтой, рассыпалось в прах.
Последний крик
На другой день в глубокой печали Серая Сова снял шкуры с бобров и отдал их Давиду. Останки же – четыре туши – отнес он к озеру и засунул под лед возле хатки. Быть может, он тут про себя, по старой привычке, прошептал и одну языческую молитву…
Начало таять, и когда Давид предложил всем вместе отправиться разбить лагерь на озерах Тулэйди, то с этим все согласились: переселяться. Теперь не было никакого смысла оставаться здесь: таких друзей, как сойки, ондатры, молодой олененок и белки, можно было найти везде. И они как жили без человека, так и будут продолжать свою жизнь без всякого для себя ущерба. Итак, старик сделал салазки, и однажды на рассвете в них погружено было все имущество, бочонок с бобрами и знаменитая печка.
Все было готово. Анахарео спустилась на берег к домику из грязи, покормила там ондатру в последний раз. В это время на руки к Серой Сове садились сойки, по ногам взбегали белки и брали от него его последние дары. Потом попрощались с воином в перьях, с домиком Мак-Джинниса, с задумчивыми соснами, его окружающими, поглядели тоже в сторону того, другого, теперь пустого домика…
Давид теперь ясно разглядел печаль на лицах своих друзей и даже высказал во время пути, что он догадывается: случилось что-то неладное. Потом он замолк и больше никогда не заводил об этом речь. Только сделал для чего-то пометку на кедре, нарисовал знак Утки, своего животного-покровителя, в зарубку сунул кусочек прессованного жевательного табаку и произнес слова, другим непонятные.
Бочонок с бобрами находился на самом верху воза, и когда проходили берегом незамерзшего ручья, то Мак-Джиннис не упустил случая и совершил полет сверху из бочонка в ручей. Поиски бобренка несколько рассеяли печаль путешественников, и отряд двинулся с холма на холм по тяжелой дороге, в голубую даль Тулэйди.
Это был очень утомительный путь, и отряд четыре дня еле тащился. Двигались больше ночью, когда подмерзало и наст держал лыжи. Несколько раз тобогган с бочонком наверху опрокидывался и пассажиры вываливались в снег. Не очень-то им нравились такие сотрясения, – они спешили опять залезть в бочонок и ссорились за первенство, когда залезали. Двигаться так двигаться! Если же почему-нибудь происходила остановка, то крышка с окошка немедленно сбрасывалась и две коричневые мордочки с маленькими черными глазками недовольно выглядывали. Если их немая просьба не достигала цели и сани не приходили в движение, то они беспокоились и начинали жаловаться. Серая Сова был сам точно такой – двигаться так двигаться! – и потому бобров хорошо понимал. Но у Давида была другая точка зрения: ему казалось, что бесплатные пассажиры на казенных харчах могли бы немного и потерпеть и помолчать. Все эти неприятности, однако, совсем прекратились, когда путешественники добрались до дороги, – тут их подобрали повозки «Компании». В этой стране редкая подвода проходит мимо путника, не предлагая ему присесть. Но мало того! Один служащий «Компании», узнав о том, что охотники предполагают жить в палатках, предложил им маленькую уютную хижину на берегу Тулэйди. Этот лагерь, известный под кличкой «Половинка» (половина пути), и был отдан охотникам до тех самых пор, когда им вздумается двинуться дальше.
Бобрам тут дали полную волю, и они по ночам принялись изучать местные воды, а днем спали в лагере, который находился теперь всего лишь в пяти милях от Кобано. Жить тут стало куда веселей, потому что тут было много посетителей, и было бы даже и совсем хорошо, если бы не эта трагедия на Березовом озере. Спустя некоторое время, однако, энергия опять вернулась к Серой Сове, и с новой силой охватила его мысль об охране Бобрового Народа. Он даже написал второй очерк, но только сомневался в его пригодности для журнала: ему казалось, что его новое «вечное перо» писало несколько меланхолично.
Тем временем пришлось усилить охрану бобров, потому что этот район был заселен, и довольно густо, и много тут было всяких бродяг, сплавщиков. Все они во время посещений были приятным обществом, но Давид, свободно говоривший и по-французски, однажды подслушал обрывки разговора о бобрах такого характера, что охрану пришлось еще больше усилить. Все трое по очереди ходили дозором по окрестности, не спуская со слуха бобров. Обязанности следить, однако, не были трудны: бобры всегда где-нибудь шумели. Они были заняты сейчас тем, что строили себе маленький забавный бобровый домик недалеко от лагеря, там, где берег очистился от снега и открылась вода. Они подгрызали и валили маленькие тополя, ивы; их крики, драки, споры были далеко слышны в любое время. Перед самым рассветом они царапались в дверь, просились домой, потом лезли в постели хозяев и спали. Около полудня они просыпались и, не ожидая еды, спешили по своим великим строительным делам.
Вскоре сюда приехал один старик, уже много лет ловящий ондатр на этих озерах: охота по праву тут ему принадлежала и от него зависела. Его появление было угрозой для жизни бобров, и, нечего делать, пришлось поскорей утекать. Давид отправился в Кобано и, как знающий французский язык, хотел поискать там себе работу. А Серая Сова и Анахарео собрали бобров, посадили их в бочонок и, погрузив все в попутную повозку, перевезли на одно маленькое озеро возле дороги, еще ближе к городу. Под большими вязами здесь разбили лагерь; бобры же забавлялись в старой бобровой хатке и на плотине в конце маленького пруда. Для них, не говоря уже о старых стройках, здесь было много воды и еды, здесь они могли бы жить в очень хороших условиях, пока Серая Сова не выберет постоянное место для бобровой колонии.
Окончив работу по разбивке лагеря, Серая Сова и Анахарео пошли к озеру и позвали бобров. Услыхав знакомый призывный сигнал, они бросились наперегонки и в величайшем возбуждении стали ластиться, прыгать, бормотать. Не оставалось никакого сомнения в том, что им хотелось каким-нибудь образом передать друзьям свое огромное удовольствие от находки бобрового «замка». Поев немного наспех конфет, они опять бросились туда, к своей новой собственности, бесконечно счастливые. Ведь уже почти год прошел, как они попали совсем маленькими существами под надзор людей. И теперь как было не оценить, что они, совсем взрослые и будучи на полной свободе, будучи возбуждены своей интересной деятельностью в новом месте, все-таки не забывали людей и при первом призыве спешили к ним, только чтобы выразить свое удовольствие старым друзьям.
Однажды вечером они пришли в лагерь, почесались, долго и громко о чем-то поговорили, потом вышли, побродили вокруг палатки, как в старину: ведь эта палатка была их домом полжизни. Они обнюхивали печку, участницу стольких приключений; Мак-Джиннис обжег себе нос, Мак-Джинти, вытаскивая лепешки, опрокинула ящик для пищи. Лепешек они съели изрядное количество и вообще чувствовали себя совершенно как дома и превосходно. Особенно нежно они потом приласкались к своим хозяевам и напомнили им даже те далекие теперь уже дни на Березовом озере, и людям было приятно вспоминать о тех вечерах в старой палатке с горящей печкой и сидящими в ее свете маленькими друзьями.
Бобры даже поспали немного в палатке и вообще ни малейшего повода не дали думать о какой-нибудь перемене в их отношениях к людям. Отдохнув, они направились к своему озеру.
Люди, как всегда, проводили их до берега и в душе желали, чтобы они опять стали маленькими.
Серая Сова и Анахарео стояли на берегу и смотрели на следы на воде от двух бобров, плывущих по озеру к своему домику. Два следа расходились углами и мало-помалу скрывались в сумраке. И при свете звезд все были видны серебряные волны, поднятые бобрами, – как они катились к берегу и тут терялись. В ответ на зов людей последовал ответ на долгой звенящей ноте, потом был ответ на другой ноте. И оба голоса слились, смешались, как в хоре, и эхом отражались от холмов – тише, тише и вовсе замерли.
И этот долгий плачущий крик из мрака был последним криком, который слышали от них Серая Сова и Анахарео.
Сознание полной утраты любимых животных пришло, конечно, не сразу. В следующий вечер зеркальная поверхность пруда не покрылась рябью и на зов не последовал обычный пылкий ответ. Прошла вторая ночь, и третья, и еще четвертая, – с воды больше не доносился шум, веселая болтовня, и знакомые коричневые тельца не скакали вверх из воды. Дождь смыл их следы, конфеты их лежали нетронутыми. В лагере «Половинка» их маленькие постройки разрушались, недоконченный домик был затоплен и скоро вовсе снесен. От них ничего, совсем ничего не останется.
Вслед за весенним разливом они непременно должны идти к устью ручья или, может быть, вернуться домой.
Прошли по ручью вверх до истока, проваливаясь в подрытом течением снегу, прошли таким же образом и вниз до устья, ковыляли по талому снегу на поломанных лыжах и все звали… Обегали весь окружающий район, обследовали шаг за шагом все берега Тулэйди, проверили каждый ручей. Действовали, пока не исчерпались все возможности. Прислушивались к каждому выстрелу, выслеживали, проверяли следы всех людей во всех направлениях. Все могло быть! Нашли убитого оленя, шкуру с которого потревоженные браконьеры не успели снять. Несмотря на время года, всюду были расставлены ловушки. Нет! Едва ли бобры могли добраться до устья. Как все прирученные животные, они не могли утратить свое доверие к человеку, и оттого этих любвеобильных зверушек каждый легко мог убить просто дубинкой.
Все кругом холодно говорили: одни, что бобры, конечно, убиты; другие, что они непременно живы и их надо искать. Ну и, конечно, искали с надеждой, искали и без надежды…
И наконец вблизи все было обыскано, оставалось только расширить район при помощи каноэ. Но каноэ находилось отсюда в сорока милях. Что же делать? Искать так искать! Пошли, и оттуда три дня плыли на каноэ обратно. Видели по пути место старого лагеря, там, на берегу реки, еще стояли шесты от палатки и рядом уцелел загон для бобров. Молча прошли мимо того места, где тогда бобры чуть-чуть не утонули вместе с печкой. Ночевали на берегу Темискауаты. И на следующий день возобновили свои поиски. И еще много дней ходили по окрестностям, почти не ели, спали беспокойно, бодрствовали в печали. Часто, когда доходил какой-нибудь слух, совершали длинное путешествие только для осмотра какой-нибудь шкуры: у Мак-Джинниса был обожженный нос и седые волосы; Мак-Джинти была черна, как смоль. И каждый раз радовались только тому, что шкуры были не от их бобров. Расспрашивали всяких странников, некоторых выслеживали, одного или двух даже и обыскали. Мрачными и молчаливыми стали поиски.
Ходили всегда вооруженные и нажили себе много врагов. Оживали, когда попадали хоть на какой-нибудь лыжный след, но скоро, проверив, опять приходили в уныние. В утомлении, в полуснах являлись полувидения, полупредчувствия, и это нереальное часто толкало к новым поискам. При таком исследовании мало что укрылось, – нашлись даже бобры, о существовании которых никто не подозревал.
Анахарео похудела, побледнела, у нее впали щеки, глаза приобрели напряженное выражение, как от голода. Однажды она сказала:
– Хотела бы я знать теперь, в чем же мы виноваты?
В другой раз:
– Пусть бы с нами случилось все, что угодно, только не это.
И еще:
– Мы думали, что они будут всегда у нас…
И далее:
– Они любили нас.
Серая Сова и Анахарео все надеялись долго и после того, как потерялась всякая надежда. По ночам сидели во мраке около несчастного лагеря под вязами, ожидая, наблюдая, прислушиваясь, – не донесется ли столь памятный крик приветствия или топанье неуклюжих, с трудом идущих ног. И все ждали и ждали существ, которых нет, которые не могут прийти. И ничего не было видно, кроме кольца обступающих деревьев, и ничего не было слышно, кроме журчания ручья. Мало-помалу деревья оделись, даже на старом бобровом доме выросла трава. Пруд высох и превратился в болото, и остался только ручей, медленно бегущий по его дну.
И, наконец, все кончилось, иссякли все родники надежды. Ничего не осталось от бобров, кроме пустого бочонка на берегу озера, и он тоже мало-помалу рассыпался на части и превратился в груду досок и ржавых обручей.
Часть вторая Королева бобров
Золотые россыпи
Для французского населения, среди которого у всех на глазах разыгралась драма с бобрами, было вовсе непонятно отношение индейцев к природе, их самоотверженная любовь к двум маленьким животным. Они смотрели на индейцев как на диво, как на остатки язычества. И Серая Сова, которому не раз приходилось выслушивать замечания в этом роде, соглашался: возможно, что да, что все его благоговение к дикой природе является остатком язычества. Но что же из этого? Чем плохо такое чувство, если оно, развиваясь все сильней и сильней, приводит человека к необходимости деятельности, гораздо более благотворной, чем та, которой он занимался раньше. Вот исчезли те два маленьких существа, и он теперь хочет возместить потерю, чтобы они жили в сердцах множества людей и образы двух милых существ побуждали бы всех, кто может, охранять Бобровый Народ.
Старая шрапнельная рана, оставленная без призора за этот тяжелый месяц поисков маленьких друзей, открылась и вывела Серую Сову из строя. Давид Белый Камень, узнав о трудном положении своих друзей, бросил свою новую службу, пришел помогать. Ему что-то пришло в голову, и он с какою-то мыслью сидит и глядит теперь на остатки бочонка на берегу озера. Он покачал головой и улыбнулся Анахарео такой улыбкой, какой у него почти никогда не бывало.
– Знаешь, – говорит он, – я тоже вроде как бы захотел видеть бобров возле себя.
Оказалось, что где-то, за двадцать пять миль отсюда, среди холмов Сахарная Голова, есть бобры: он это узнал и хочет идти туда за ними, чтобы опять тут, возле людей, жили бобры. Услыхав это, Анахарео тоже хочет идти – помогать Давиду. Они скоро собираются и уходят. Бобры действительно нашлись возле Сахарной Головы; в хатке их было четыре, но старик взял только пару – из-за того, что бобровой матери было бы тяжело перенести плен, она бы погибла.
Анахарео всю дорогу несла их на спине в мешке, и они прибыли расстроенные, полуголодные – два комочка, которые можно бы спрятать в полулитровой банке, и весом каждый не больше ста граммов. Они были очень хрупкие, жизнь еле-еле теплилась в их крошечных тельцах.
Давид остался еще на две недели, чтобы помочь поставить бобрят на ноги. Но как ни старались, маленький самец, названный Сахарной Головой, не выдержал и погиб. Самочка была тоже близка к этому: не ела ни хлеба, ни сгущенного молока и лежала, положив голову на угол ящика. Хотя для населения, как сказано выше, непонятна была привязанность индейцев к животным и вообще их отношение к природе, но населению это все нравилось, оно сочувствовало и старалось помочь индейцам всеми средствами. Со всех сторон в отношении больного маленького бобренка столько давалось советов, что будь он человеком, то никак не мог бы получить большего внимания. Одна женщина предложила снабжать молоком, два врача, – а их и было в городе всего два, – пришли на помощь. По их совету, стали коровье молоко очень сильно разводить, чтобы приблизить состав его к бобровому. Ухаживала за бобренком одна пожилая ирландка. Каждые два часа происходило кормление при помощи стеклянной спринцовки.
Двое почтенных супругов решили довести это дело до конца: один из них держал бобра, другой выдавливал молоко. После третьего или четвертого впрыскивания бобренок стал крепнуть. А через два дня был здоров совершенно и стал проявлять признаки той смелости и независимости, благодаря которым сделался потом одним из самых известных диких животных Северной Америки.
Да, пожалуй, это несколько мрачное начало можно считать первым выступлением в обществе ныне знаменитой Джелли Ролл, звезды экрана, любимицы общества номер первый, королевы Бобровой Колонии.
Да, Джелли Ролл – ведь это персона, о которой говорили даже в заседании правительства Оттавы!
После выздоровления Джелли Ролл лагерь был перенесен на Большую Темискауату, к устью того самого ручья, по которому в последний раз уплыли Мак-Джиннис и Мак-Джинти. Надежда на их возвращение до конца все-таки еще не покидала индейцев, и им казалось, что если они когда-нибудь вернутся, то скорее всего сюда. Тут, в тихой заводи возле ручья, Джелли Ролл забавлялась, рыла на отмелях пещерки, сооружала забавные постройки из палок или же просто носилась галопом вверх и вниз по дорожке к палатке. Она быстро росла и, как только значительно окрепла, начала таскать журналы, овощи, дрова и все, что только могло привлечь ее капризное внимание. Из всех ее поступков мало-помалу стала обрисовываться крупная индивидуальность, подготовленная к встрече со всевозможными превратностями жизни. В палатке жить она вовсе не захотела, а предпочитала одно из четырех или пяти выстроенных ею самою жилищ там внизу, на прудике.
Если не считать привязанности к человеку, которая у нее проявлялась стихийно, бурными припадками, то она ни в чем не была похожа на своих предшественников. Она рано потеряла своего товарища, и оттого эта утрата прошла для нее незаметно. Для Мак-Джинниса и Мак-Джинти характерна была их зависимость от людей. Джелли Ролл, напротив, считала людей и их имущество своей собственной, естественной средой.
Преданность индейцев животным, их великое чувство природы, видимо, производили все более и более сильное впечатление на жителей города, симпатии их к лесным жителям возрастали, и наконец, несмотря на разницу в религии, языке, цвете кожи, их дружески признали гражданами города. По праздникам целые партии народа приплывали к «индейскому» берегу, устраивались пикники в тени березовой рощи. Джелли всегда внимательно осматривала каждого члена этих компаний – прием знакомства, сохраненный ею и до сих пор. Изучив гостей, она никогда не выражала кому-нибудь из них особенного предпочтения; с таким презрительным видом она убегала после осмотра, что все покатывались со смеху, а кто-нибудь, может, и чувствовал облегчение. Среди этих гостей иногда бывали и очень почтенные люди; так, был один языковед, проницательный знаток человеческой природы, – тот прямо заинтересовался жизнью Серой Совы, изучал ее с большим вниманием и чрезвычайно благожелательно.
Первое время Серая Сова и Анахарео несколько стеснялись гостей, но их тактичное и внимательное отношение скоро победило все неловкости. Никто, кроме французов, не мог ладить с представителями покоренной расы: начиная с первых французских поселенцев, это повелось и сохранилось до сих пор. Только у французов краснокожий не чувствовал себя существом, которое должно быть стерто с лица земли. И до сих пор врожденная вежливость, инстинктивное уважение к чувствам других сохранялись в самой атмосфере этого городка Кобано. Мальчики вежливо снимали шапки перед людьми, одетыми в оленьи куртки. Маленькие девочки, застенчиво краснея, кланялись женщине побежденной расы. Женщины улыбались и приветствовали, мужчины останавливались и дружески разговаривали. Приходилось во время нечастых посещений города индейцам возвращаться и с какой-нибудь ношей, – в таких случаях люди сходили с тротуара и уступали дорогу. И это ни в каком случае не было тем фальшивым, напускным лоском вежливости, имеющей в конце концов корыстное происхождение. Случались, например, в городе пожары, тогда тушить пожар, помогать пострадавшим бросались все. Если же кто-нибудь из граждан умирал, то на время движения погребальной процессии останавливалось всякое движение в городе, лавочники выходили на улицу с обнаженными головами в знак уважения; жизненная репутация умершего теперь не имела никакого значения: раз умер – о том молчи или говори только хорошее.
В этой тихой заводи бурного потока человеческой жизни на короткое время проходила угрюмость, сглаживалась угловатость в характере. И наши индейцы тоже мирились с белыми и забывали себя как представителен истребляемой расы.
Давид Белый Камень до того часто стал отлынивать от своей работы, чтобы в чем-нибудь помогать своим друзьям, что место свое потерял и другого найти так и не мог. С большой радостью Серая Сова и Анахарео приняли его в свою семью и стали всем делиться с ним поровну.
Пришел гонорар и за второй очерк. Все было уплачено по счетам и пополнены запасы в палатке. Серая Сова снабжал хозяйство бакалеей. Давид добывал в соседних лесах и озерах мясо и рыбу. Так сложилась эта маленькая община, самостоятельная, независимая. Можно бы так долго и жить, ни о чем не горюя, если бы не постоянная тоска о севере, не эти вечные разговоры с воспоминаниями о прошлом, с планами на возможное будущее.
Некоторое состояние равновесия в отношении средств существования не могло удовлетворить надолго индейцев. Здесь осуществить свой проект Бобровой Колонии Серая Сова не видел никакой возможности. Давид, в свою очередь, очень волновался о своих золотых россыпях. Мало-помалу эта мечта о золотых россыпях овладела всеми одинаково: старику Давиду нужно было золото, чтобы удалиться на покой; Анахарео влекла наследственная страсть к золотоискательству; Серой Сове нужны были средства, чтобы создать свой заповедник. Путешествие на золотые прииски было хорошо обдумано, не хватало только средств. Между тем был уже июль, нужно было теперь же, не дожидаясь осени, позаботиться о зимних запасах и всех предстоящих расходах на трех человек на это трудное плавание за двести миль, со многими волоками, в перегруженном каноэ. Золотоносный участок принадлежал Давиду. Чтобы самому не войти в это общество золотоискателей с пустыми руками, Серая Сова решил заработать денег и стал для этого особенно внимательно наблюдать жизнь Джелли. Вскоре он написал о ней рассказы и длинный очерк о дикой природе с его новой точки зрения. Эти свои произведения Серая Сова прочитал кое-кому, из понимающих по-английски, и, по их словам, они получили большое удовольствие.
Один из этих слушателей Серой Совы, кто-то вроде публичного лектора, сказал, что выслушанное им годится как хороший материал для лекций. Но Серая Сова для этого недостаточно знал по-французски. Ближайший поселок, где все говорят по-английски, был дачный поселок на южном берегу реки Св. Лаврентия, известный под именем Метис-Бичо. Это было несколько далековато, но Серая Сова захотел попытать счастья: ему очень хотелось поделиться своим опытом с другими людьми. Итак, не долго раздумывая, Серая Сова передал свое хозяйство Давиду, а сам вместе с Анахарео, пожелавшей его сопровождать, упаковали Джелли Ролл, провиант, лагерное снаряжение и сели на поезд, идущий в Метис-Бичо.
Индейцы прибыли на место, по обыкновению своему, с пустым карманом; всего наличными было: один доллар и шестьдесят девять центов. Между тем для выступления с лекциями, оказалось, нужны были кое-какие расходы: например, на объявления, на оплату устроителя и т. д. Но еще раньше денежных затруднений встретилось такое неожиданное препятствие, как необходимость в разрешении стать лагерем. К счастью, нашелся один француз, который разрешил раскинуть лагерь на своей собственной земле, и это затруднение кончилось. Но тут же возникло новое, обидное и невозможное: оказалось, что для лекции необходимо заняться саморекламой! Услыхав об этом, Серая Сова и Анахарео съежились, как два червя, попавших в тарелку с солью. Читать лекции – это одно, а заниматься такой пошлостью, как самореклама, – это совсем другое. Так создалось опять трудное положение. Джелли, привыкшая к большой воде, приходила в своем ящике в бешенство и непрерывно кричала.
Прошло две недели в таком раздражении, что тошно было и думать о лекции. От обидной неудачи в своей попытке объясниться с людьми Серая Сова и Анахарео захирели и затворились в своей палатке на берегу столь недружественного Атлантического океана. Джелли исхудала от жажды плавать в воде, но пустить молодого бобра в соленую морскую воду было опасно. Давид писал, выражая надежду на хорошие дела. А дела были такие, что все запасы приходили к концу. Мелькала уже мысль дать телеграмму доброму лавочнику в Кобано – выслать деньги, как он обещал, на случай неудачи, на обратный билет. Но Серая Сова преодолел это малодушие, удалился в лес – остаток лесной страны – и там написал лекцию величиной приблизительно в пять тысяч слов.
Между тем слух о намерениях прибывших индейцев разнесся по всему дачному поселку, и один из первых здешних поселенцев, владевший почти всею землей, наконец-то отвел площадь для лагеря, на которой находился маленький пруд. Здесь Джелли Ролл опять зажила припеваючи. В это время одна дама, видное лицо в поселке, заинтересовалась планами Серой Совы, прочитала его лекцию и очень одобрила его мысли и чувства. Она твердо решила пустить интересную затею в ход и сама сделалась секретарем, устроителем и казначеем всего этого предприятия. Ее молодые сыновья и друзья продавали билеты. Сама же она, – как оказалось, большая мастерица в этих делах, – нарисовала много прекрасных плакатов. Назначен был день чтения, место определено было в танцевальном зале. Кроме того, добрая дама дала Серой Сове несколько ценных советов в ораторском искусстве.
Пришел назначенный вечер. Серая Сова и Анахарео скромно прошмыгнули в здание через черный ход. Ожидая вызова, они сидели в задней комнате в большой тревоге за Джелли: не опрокинула бы она в лагере молоко, не переехал бы ее один из автомобилей, которыми кишела эта страна. Представляя себе это свое чтение, Серая Сова, казалось ему, охотно бы поменялся своим положением с положением Джелли под колесом автомобиля. Наконец лектора вызвали, и это шествие в комнату экзекуции Серая Сова считал одним из самых храбрейших поступков своей жизни. Анахарео шла за ним как моральная поддержка, хотя, в сущности, это было похоже на то, как если бы слепой вел слепого.
Когда же Серая Сова очутился лицом к лицу с тесной массой нескольких сот устремленных на него лиц, он почувствовал себя, по собственному его выражению, как змея, проглотившая ледяную сосульку и пронзенная холодом от головы до хвоста.
Спасение, однако, было тут же, рядом. Леди-покровительница выступила вперед и произнесла короткое, но хорошо составленное вступительное слово. Собрание ей аплодировало. Наступило молчание. Пришел час броситься в бой.
И вот что пишет об этом решительном шаге своей жизни сам Серая Сова:
«Я остановил свой взгляд на добром лице в первом ряду и неожиданно обнаружил, что говорю. Я слышал шепот. Люди смотрели друг на друга, кивали головой, казались заинтересованными. Тогда я почувствовал уверенность, увлекся темой и развил ее до конца. На мгновенье была пауза, и затем аплодисменты, громкие, настойчивые, долгие. У меня закружилась голова: такой шум – и для нас! Поднялся полковник британской армии со словами высокой оценки, и он – я с трудом мог верить своим ушам – сказал, что это была не лекция, а поэма. Новые аплодисменты. Затем весь этот народ столпился вокруг нас, пожимал руки, поздравляя».
Последовали другие лекции. Серую Сову приглашали говорить в других залах, в отелях. Всегда рядом с ним на лекциях стояла Анахарео. Тяжело ей было вносить свою долю участия: какие мужественные усилия нужно было иметь, чтобы, преодолевая мучения застенчивости, самой держаться спокойно и свободно! Некоторые родители приводили своих детей, прося поучить их мудрости индейцев, живущих в лесах. Серая Сова не отказывал наивным родителям в их просьбе, и, наверное, из его рассказов и советов детям не все упало на каменистую почву. Анахарео с ее женским тактом в отношении детей имела, конечно, больший успех. Она догадалась рассказать истории ее ирокезского народа о привлекательном, но в каком-то отношении и жестоком Нинно-Боджо. Что же касается Серой Совы, то он совсем упустил из виду, что дети в известном возрасте питают склонность к рассказам кровожадного содержания. Он слишком много останавливался на чувстве родственного внимания человека к слабейшим существам, населяющим лес. Нет никакого сомнения в том, что особенно восприимчивые дети хорошо поняли Серую Сову, но однажды он был вовсе огорошен, когда в ответ на предложение задавать любые вопросы поднялся рослый парень лет тринадцати и спросил:
– Убили вы кого-нибудь?
– Нет! – признался Серая Сова несколько робко. Он так сказал это «нет», как будто извинялся в таком маленьком своем упущении.
– Снимали ли вы когда-нибудь скальп? – продолжал этот эмбрион прокурора.
– Нет! – опять повторил Серая Сова.
Эмбрион бросил долгий презрительный взгляд и сказал:
– Ну, так вы просто дурак!
На таких беседах всегда присутствовала Джелли и звуками своего неодобрения скучным лекциям много вносила оживления.
Хорошо ли, худо ли, но деньги за лекции поступали, и в банке был открыт текущий счет. Лагерь индейцев был всегда окружен толпою детей, и Джелли сделалась самой популярной личностью в Метис-Бичо.
Но что же это? Ведь в конце-то концов Серая Сова сделал себе карьеру в Метис-Бичо без малейшей протекции, и не было ни одного лица, кто мог бы подтвердить тождество личности его с тем, кого он изображал. Только на самом последнем вечере присутствовал знакомый миссионер «Канадского библейского общества», да и то, читая лекцию, Серая Сова не знал, что он здесь. И вот после прощального слова Серой Совы этот его знакомый земляк встает, рассказывает о своем знакомстве с Серой Совой на севере и подтверждает полное тождество его с тем, о ком он рассказывает.
Этот случай особенно ясно представил сознанию Серой Совы порядочность людей, которые доверились ему без всяких рекомендаций и приняли за правду все, что он им рассказывал о себе.
«Я никогда не думал, – пишет Серая Сова, – что эти люди могут быть такими добрыми. И когда одна изящная и милая леди, занимающая высокое положение в обществе большого города, сказала нам на прощанье, что мы кое-чему научили людей, я вспомнил слова восточного пророка, которые когда-то прочитал и теперь повторил, быть может банально, только вполне искренно: „Я научил? Тогда, значит, я также и научился“. В моем ответе было смысла, возможно, больше, чем она предполагала. Нашей же покровительнице, которой мы всем были обязаны, дали имя Ша-Сан-Скет, что значит: Та, Которая Рассеяла Тучи».
По возвращении домой Серая Сова и Анахарео были радостно встречены Давидом, который долго не мог опомниться от изумления и поверить вполне в правду похождений Серой Совы. Но он должен был поверить текущему счету в банке и двум билетам до Абитиби, которыми их снабдил добрый английский полковник. Да не то что Давид, но и сами они, Серая Сова и Анахарео, неясно сознавали еще, что ведь теперь же они были свободны, они могли осуществить свои заветные планы, могли вернуться на свой суровый вольный север, с его романтикой, с его дикой свободой, с его золотом. И они могут же наконец оставить эту печальную, изуродованную страну с ее замученными, опустошенными лесами и воспоминаниями печальными, бедственными. Времени оставалось мало, а ехать было далеко. Потому на следующий день уже лагерь был свернут, и золотоискатели направились к станции. Каноэ со всеми пожитками было погружено в багажный вагон, а Джелли, в особом ящике с вентиляцией, – в пассажирский.
Сидя на станции в ожидании поезда, Серая Сова смотрел на Темискауату, на темную Слоновую гору, стоявшую так тихо и спокойно на страже у входа в Тулэйди. Каждый знал, о чем думал другой, и эта дума действительно была одна и та же: они думали, что два любимых существа, возможно, и живут где-то там, сзади этих гранитных скал, увенчанных соснами. С этими существами у них было связано все самое задушевное. Через них в Анахарео пробудилась женщина со всей ее нежностью, через них Серая Сова открыл себе путь такой широкой свободы, о которой й не мечтал. И сейчас Серая Сова хотел бы лучше там, за этими скалами, сидеть, писать, искать потерянных друзей, ждать их возвращения, чем искать золото: он никогда не любил это дело. Напротив, Анахарео, как дочь золотоискателя, стремилась душою заняться этим, но вспомнила, глядя на скалы, что, возможно, милые звери живут себе где-то там и она теперь ради золота изменяет своему долгу найти их, дождаться…
Нужно и еще кое-что вспомнить, более ясно представить себе жизнь этих лесных людей и сравнить ее с жизнью людей так называемых вполне современных, чтобы понять дальнейшее.
– Я ухожу, – сказала Анахарео сдавленным голосом.
Серая Сова сразу понял ее. Он взял свои тщательно упакованные для путешествия ружья.
– Ты права, – согласился он. – Один из нас должен здесь остаться, и я остаюсь.
Сразу стало легче.
Серая Сова никогда не менял своих решений, и это решение было ясное: какой же он золотоискатель! И вот Джелли ведь тоже не любит езду в поезде, она даже умереть может от этой езды.
Так Серая Сова и Джелли вышли из поезда. Осталось взять из багажа одну палатку, немного провианта, свои личные вещи, потихоньку сказать своему старому любимому каноэ: «Прощай!»
Да, конечно, Серая Сова хорошо знал, как его дорогим людям хочется ехать. Давид вышел из поезда на станцию. Его лицо было решительно и серьезно, в глазах волнение: индейцы никогда не разлучаются случайно.
– Заботься о ней, старина! – сказал Серая Сова.
Давид уже шестьдесят семь лет в пути… Серая Сова знал, в каких она будет руках, – быть может, лучше, чем в его собственных.
– Да, буду, – просто ответил Давид.
– Все садись! – раздалась команда.
Давид крепко сжал, моргая сразу обоими глазами, руку Серой Совы и, догоняя убегающие ступеньки вагона, закричал:
– Мы вернемся с мешком золота, вот погоди только, и какую же мы тогда устроим попойку!
И потом, уезжая, издали закричал, как в старину кричали индейцы: – Хей-ей-ей-иа!
Поезд быстро набирал скорость, и Серая Сова напряженно следил глазами за двумя коричневыми лицами, черными, развевающимися на ветру волосами и махавшими руками. Они делались все меньше, пока поезд не повернул и все не закрылось. Тогда Серая Сова погрузил свой багаж в фургон, крепко обхватил одной рукой Джелли и пошел по пустым и грязным улицам к парому, назад на Тулэйди.
Зима вдвоем с королевой
Оказалось, не так легко приспособиться жить в полном одиночестве. Уехала Анахарео, доблестная, верная, пережившая вместе такие испытания! А этот Давид с его взволнованными глазами, при прощании потерявший самообладание, может быть, единственный раз в жизни! И его теперь больше нет! Серая Сова в тоске своей чувствовал свою душу, обнаженную, пустую, измученную, голодную, потерянную.
Привязанность индейца к своим вещам бывает не менее сильная, чем к людям. Теперь он впервые за двадцать пять лет, исключая время военной службы, оставался без каноэ и чувствовал себя точно так же, как всадник, оказавшийся в пустыне внезапно без лошади. Это каноэ было его верным спутником во многих утомительных путешествиях и было ему теперь совсем как живое существо. Правда, он был горд, что мог подарить его Давиду, а тот был горд тем, что этот дар принимал… Но все-таки, потрогав в последний раз то стертое место на борту каноэ, где так долго работало весло, Серая Сова испытал волнение капитана, когда на его глазах его возлюбленное судно погружается в волны. Одно только и утешало, что каноэ было в достойных руках и послужит достойной цели. Тоже и благополучие Анахарео было в тех же руках, и ей, теперь исполненной честолюбивых надежд в поисках счастья, еще не ведающей, с чем придется встретиться в суровой действительности, нужна была такая рука. Они ехали почти к Лабрадору; холод и бури сурового климата могли бы устрашить кого угодно, только не такую дочь своего народа, как Анахарео. С этой стороны л?рая Сова за нее не боялся.
Но сам он был так одинок в первый раз в своей жизни. Ему оставался теперь только единственный забавный и веселый товарищ – маленький бобренок Джелли, которая если и чувствовала когда-нибудь свое одиночество, то, во всяком случае, этого никогда не показывала. Она уже перестала быть детенышем и развилась в прекрасный экземпляр своей породы. Она всегда была веселая, оживленная, у нее была прекрасная пушистая темно-блестящая шуба, которую, бывало, Анахарео каждый день расчесывала с такой гордостью.
Как бы там ни было на душе, к зиме надо было сейчас же готовиться. По указаниям местных людей, Серая Сова в пяти милях за Слоновой горой, на берегу маленького озера, нашел лагерь, хорошо выстроенный и сохранившийся. Туда вела лесная дорога, большей частью по болоту. Наняв телегу для перевозки запасов, сам Серая Сова двинулся туда пешком. За спиной в мешке у него была Джелли; голова и «руки» у нее были свободны, и она могла во все стороны обозревать окрестности.
Серой Сове теперь казалось, что он сейчас удаляется от линии, разделившей его старую жизнь от новой: он идет теперь вперед, в новую жизнь, и в свидетельство этого за спиной его сидел этот маленький визгливый ребенок. Джелли болтала, бормотала, ругалась, теребила волосы Серой Совы, и он никак не мог в это время думать, что такая дурочка со временем станет знаменитой «леди» и создаст имя себе и ему. В полной сумятице прошли первые пять месяцев ее жизни. Ее возили туда и сюда на поездах и в фургонах, в разнообразных ящиках, показывали на лекциях как главный экспонат, и под конец целых два дня она провела в конюшне, где вместо пруда для плавания она имела только таз и вместо тополевых веток кормилась оладьями. Немудрено, что теперь эта актриса в мешке за спиной безумствует и теребит волосы Серой Сове. Но переход был небольшой, скоро пришли к маленькому, но глубокому озеру, расположенному высоко в горах. Здесь маленькая Джелли может сколько ей угодно кружиться на воде и нырять в глубину. Глины здесь тоже довольно для игры – можно из глины строить бобровые хатки на берегу. Была даже длинная нора со спальней в конце, оставленная когда-то семьей ее племени. Такого счастья Джелли в своей жизни еще не знавала, и оттого первое время она была в совершенном экстазе. Она спала в норе, находившейся в полумиле от хижины вверх по ручью, но каждый вечер около заката она появлялась около хижины и царапалась с просьбой впустить ее в дверь. Ночью тоже она любила заглянуть на часок к хозяину, с любопытством проверяя, что он делает, чем занимается. В особенности ее интересовала койка, на которую она взбиралась по особому приспособлению, а уходила, просто сваливаясь. Оставляя дверь хижины всегда полуотворенной, Серая Сова часто по утрам находил ее спящей возле себя.
Между тем для писательства Серой Совы открылись новые возможности. Однажды в его руки попал номер спортивного журнала, целиком посвященный идеям охраны природы. В нем была помещена статья одного автора из Онтарио, которого Серая Сова в свое время хорошо знал. Автор был теоретик, писал с чужого опыта и во многом был введен в заблуждение. Взяв темой ошибки автора, Серая Сова тут же в городе написал статью и отправил в этот журнал, бывший официальным органом «Канадской лесной ассоциации», пожизненным членом которой вскоре он и сам сделался. Это было первое выступление Серой Совы в печати родной страны.
Статью напечатали, и Серая Сова в этом журнале стал постоянным сотрудником.
А тот английский журнал, в котором были напечатаны два очерка и целая серия длинных, написанных во время припадка тоски одиночества писем к издателю, тоже не забывал Серую Сову. Ему было прислано оттуда предложение написать книгу.
«Я принял это предложение, – пишет Серая Сова, – не имея в то время ни малейшего представления о том, как надо приступить к делу. Когда я стал об этом размышлять, то при незнании техники писания вот что, казалось мне, было непреодолимой трудностью: как можно описать какое-нибудь событие, в котором я не только наблюдатель, но и действующее лицо, чтобы, описывая, избежать неприятного углубления личного местоимения в первом лице. Я знал два приема: холодно говорить об авторе в третьем лице и заменять местоимение „я“ числительным „один“. Однако это мне казалось жонглированием словами. Такое неестественное пользование подменами привносило в рассказ дух ужасного лицемерия, недостойного такой простой и благородной темы, как моя возлюбленная дикая природа. Впоследствии я сделал открытие, что эти подчас удобные формы могут быть по меньшей мере увертками, под которыми скрывается ваш собственный чистейший эгоизм. Вот почему я решил писать не личную биографию, а серию очерков о самом севере. Однако в настоящей книге я решил допустить в небольшом количестве честно стоящие на своем месте естественные, безуверточные „я“».
Серая Сова получал множество предложений продать Джелли Ролл, и всем он должен был постоянно объяснять, что есть вещи непродажные и никакие деньги никогда не соблазнят его расстаться с любимым зверьком. Одно из таких предложений было от лица, жившего в ближайшей деревне – Нотр-Дам-дю-Лак. По его приглашению, – конечно, без всякого намерения расставаться с Джелли, – Серая Сова навестил его. Он оказался горбуном и занимался дрессировкой животных. У него было что-то вроде цирка, благодаря которому он и существовал. Цирк состоял главным образом из собак; некоторые из них танцевали, а одна могла ходить по натянутой проволоке. Еще у него был солидных размеров медведь, умевший вертеть ручку шарманки и ездить на трехколесном велосипеде. Медведь мог и ружье носить на плече, и падать после пистолетного выстрела, делая вид, будто умер, и по приказанию опять воскресать. А все вместе – и медведь, и собаки – могли под граммофон танцевать. Чтобы следить за порядком танцев, горбун тоже ходил в кругу между животными, и казалось, будто он вместе с ними танцует. Горбун был пониже медведя, и оттого казалось, что странными танцами руководит медведь. В темной, плохо освещенной галерее эти танцы производили несколько жуткое впечатление. Горбун был широко известен под кличкой «Горбун из Нотр-Дам» и многим казался довольно жуткой фигурой. Но при ближайшем знакомстве в нем открывалась самая нежная, самая добрая душа, так что нельзя было сомневаться в его словах, что всех результатов с дрессировкой животных он достигал только добротой и терпением. Самым замечательным в его представлениях был непринужденный, почти неслышный голос, которым он пользовался так, что слепое повиновение животных было походке на сотрудничество, вольное соучастие. Вскоре человек этот умер, к опасение, выраженное им перед смертью, оправдалось: его зверинец был расформирован, и животные рассеялись. Медведь, отпущенный на свободу, решительно отказывался жить в лесу и, сколько ни прогоняли его, все возвращался в старый дом, пока не был убит трусливыми крестьянами.
Около этого времени пришло наконец письмо от Анахарео. Все шло там у них хорошо, если не считать чувства одиночества, с которым, в свою очередь, и Серая Сова познакомился. Отправляя это письмо, Анахарео готовилась отплыть в тяжело нагруженном каноэ на озеро Чибаугамау, за двести миль на север от железной дороги.
В городе Квебеке, рассказывала Анахарео, были приключения: Давид пропал где-то в бесчисленных тавернах. Прождав его возвращения два дня, Анахарео наконец собралась его разыскивать и расспрашивала в каждой пивной. Конечно, его прекрасно знали везде, и в последний раз, когда его видели, он был порядком-таки навеселе. Учитывая его церковные наклонности в этих случаях, она искала его и в церквах и обошла все, начиная с самых больших. Нигде не было никаких следов – ни в церквах, ни в пивных. На очереди были полицейские пункты, – и там о Давиде никто ничего не слыхал. И наконец она нашла его, измученного, голодного, на железнодорожной станции.
Оказалось, что Давид до того доходился по тавернам, что потерял всякое представление о времени. Он почему-то решил, что опоздал к тому поезду, на котором Анахарео уехала без него. Испуганный этой ужасной мыслью, он бросился в первый попавшийся поезд – без билета, без денег, без снаряжения; притом поехал и проехал миль шестьдесят совсем даже и не в том направлении. Поняв свою ошибку, он выскочил из поезда и так вот кое-как добрался… Серая Сова вспотел, читая эту историю, но, поняв из письма, что они теперь уже в лесу, уже в лодке, успокоился: в лесу равных Давиду не было.
Открылся охотничий сезон, и леса наполнились охотниками. Серой Сове стало жить здесь беспокойно: пришлось охранять район деятельности Джелли всю ночь, а иногда и спать возле норы. Между тем он вовсе не думал плохо о людях, что они возьмут и убьют его Джелли, но он думал, что, как в случае с Мак-Джинти и Мак-Джинннсом, один какой-нибудь убийца всегда может найтись.
Вот и приходится теперь спать у норы из-за этого одного.
В деле охраны Джелли неожиданно оказался полезным тот самый охотник, который как старожил имел претензии на этот участок. Вместо того чтобы стараться выгнать Серую Сову, он дал ему свое каноэ и начертил план местности. Благодаря такой возможности двигаться водой дело охраны упростилось.
Охотничий сезон прошел. Леса опустели. Серая Сова и Джелли, каждый по-своему, стали готовиться к зиме. Сток воды из озера, около которого находилась хижина, проходил по торфяному болоту, и ближайшие окрестности были покрыты карельской березой, которую Серая Сова принялся теперь рубить на дрова. Джелли выбрала себе место с более красивым пейзажем: она устроилась жить у ручья, сбегавшего с горы по заросшему лесом оврагу. Тут она соорудила себе из глины, палок и мха целую крепость. Внутри же у нее была чудесная чистая постель из стружек, наструганных ею из сворованной доски; тут же был у нее маленький склад съестных припасов. Но ей одной тут было, наверное, не всегда весело: она часто спускалась вниз и много часов проводила в лагере. Когда шел снег, она боялась ходить, и тогда делал визит к ней сам Серая Сова. Обычно она слышала его шаги на большом расстоянии и бежала навстречу с криками, вся извиваясь в знак приветствия.
Так, посещая друг друга, зверь и человек необычайно сближались. Серая Сова иногда часами сидел, наблюдая за ее работой, а случалось, принимался и сам помогать. Когда вода покрылась льдом и посещения Джелли прекратились, Серая Сова часто приносил ее к себе в ящике за спиной. Видимо, она не сердилась на такие путешествия и по дороге произносила длинные речи и всячески старалась поддержать разговор. К себе домой она проложила каким-то таинственным способом свой собственный путь подо льдом и всегда благополучно добиралась. Однако Серая Сова сопровождал ее берегом с карманным электрическим фонарем и уходил обратно, лишь когда убеждался, что она благополучно дошла. Расстояние было свыше полумили, и она могла путешествовать так долго подо льдом лишь плутовским способом: она вставляла свой нос в норы ондатр и так пополняла запас воздуха.
Однажды ночью после ее ухода Серая Сова уснул, а утром нашел дверь широко открытой, и она спала рядом с ним на подушке. Больше она уже и не уходила, очевидно, решив зимовать вместе с хозяином. Имея в виду эту зимовку, Серая Сова купил небольшой оцинкованный бак, вставил его в пол, выкопав яму под одной стеной. Этот бак после продолжительного осмотра был признан вполне подходящим, но самый дом оказался неудобным; он был решительно отвергнут и даже закупорен мешочной материей и оленьей кожей. Затем она, потратив много труда, вырыла длинный тоннель под углом хижины, причем грязь она вытаскивала целыми кучами и затем размазывала ее по полу, как блины. Всякая попытка Серой Совы вычистить грязь вызывала у нее новую лихорадочную деятельность, и снова участок пола радиусом в шесть футов покрывался грязью. Из всей этой земли она устроила себе прочный тротуар к баку с водой; и еще у нее была около своей двери хорошо утрамбованная площадка для игр. Когда она убедилась, что Серая Сова ей не мешает и землю не убирает, она успокоилась и больше не подрывала здание, которое, при дальнейшем упорстве хозяина, должно было свалиться. После окончания этих земляных работ оказалось, что они были только предварительными. На зиму ей надо было переменить все внутреннее устройство лагеря.
По ночам она начала работать над дровяным ящиком с целью устроить из дров леса, по которым она могла бы лазить на стол и на окна. Все сделанное не из железа и стали подлежало переработке, имевшей характер настоящей оргии разрушения. Особенно привлекал ее внимание низ двери, из которой немного дуло. Она заделывала его любыми материалами, какие только находились в ее распоряжении, и в особенности она любила заделывать одеялом. Выговоры только временно приостанавливали подобную опустошительную деятельность, а шлепки и порка вызывали визги с энергичным кружением, качанием головой и другими курьезными кривляниями, благодаря которым эти животные кажутся такими смешными в первый год их жизни.
Случалось, Серая Сова, выведенный из терпения, решался серьезно ее наказать, и она это сразу же понимала: она становилась на задние лапы, смотрела прямо в лицо, спорила ворчливым дискантом и, оскорбленная, возмущенная, сама шлепала своего хозяина по спине. Однако и в этих случаях крайнего возмущения она никогда не пользовалась своими страшными зубами. Попадая в немилость, она обычно залезала в ящик, стоявший возле стола, голову клала на колени к хозяину, смотрела на него, болтала на своем нехитром языке вроде того, что: «Какое значение могут иметь в отношениях между людьми несколько ножек от стола или ручка от топора?» И она всегда получала прощение, потому что ведь она же, по существу, была такая хорошая, что долго сердиться было невозможно.
Часто бывало, Серая Сова сядет на коврик из оленьей шкуры возле печки; тогда появляется Джелли, кладет на его колени голову и, глядя вверх, начинает издавать ряд колеблющихся звуков в разных тонах, – не иначе это была попытка петь. Во время этих представлений она не сводила глаз с Серой Совы, и потому он считал себя обязанным слушать со всей серьезностью. Это времяпрепровождение скоро стало регулярно повторяться, каждый день, и мелодичные звуки, ею издаваемые, Серая Сова считал самыми странными, какие он когда-либо слышал от животных.
Так вот человек и животное, с поведением человека и голосом ребенка, несмотря на некоторые разногласия, в течение зимы сближались между собой все тесней и тесней, вероятнее всего потому, что оба по-своему были так одиноки. Мало-помалу животное стало согласовывать с человеком даже свои часы вставания, ухода ко сну и еду. Лагерь, обстановка, постель, бак с водой, ее маленькое логовище, сам Серая Сова и были теперь всем ее собственным миром. На человека она смотрела как на бобра и, возможно, надеялась, что сама тоже, когда дорастет до этого большого бобра, будет сидеть рядом с ним за столом, или, наоборот, что у человека когда-нибудь вырастет хвост и он станет точно таким, как и она.
Серая Сова часто уходил за продуктами, покидая лагерь дня на два, а когда возвращался, она яростно била его по ногам, пытаясь опрокинуть. Когда же он опускался на корточки и спрашивал ее, как шли у нее дела за это время, она садилась, трясла головой назад и вперед, каталась на спине, неуклюже вокруг него скакала. Как только он разгружал тобогган, она тщательно изучала каждую вещь, каждый пакет, пока не находила желанных ей яблок: это для себя она всегда находила. Найденный пакет с яблоками она немедленно разрывала, набирала, сколько могла ухватить «руками» и зубами, и стоя отправлялась к баку с водой, где одно съедала, а остальные пускала в воду.
В воду она входила не часто и после выхода из ванны шла обычно на определенное место, где садилась и выжимала из меха воду и действовала при этом передними лапами, совершенно как руками. В луже, образовавшейся под нею, она не любила сидеть и в этих случаях завладевала берестой, пользуясь ею как банным ковриком. Но вскоре она открыла, что гораздо лучше это выходит на постели, потому что одеяло впитывает влагу. После значительных усилий хозяина и не без возмущения с ее стороны она остановилась на том, что сдирала бересту и на нее настилала слои мха, вытащенного из стен. Периодически она вытаскивала просушивать из своей спальни постель, состоявшую из прекрасных длинных стружек, содранных с настилки пола, и лоскутьев от мешков, и раскладывала все это на полу для проветривания. Через некоторое время она считала проветривание достаточным и убирала опять свою постель в спальню.
Обе эти процедуры Серая Сова считает замечательным примером приспособления животных, и в особенности проветривание подстилки, потому что в природе бобры подстилку просто меняют на свежую. Кончив еду, она всегда тарелку перетаскивала в угол и до тех пор не успокаивалась, пока не ставила ее на ребро, прислонив к стене. Серая Сова убедился, что ставить тарелки на ребро свойственно всем бобрам и происходит от желания держать внутренность своего жилища в чистоте; точно так же и все обломки, все палочки они собирают и ставят к стене.
Если приносились ветки для еды и складывались на необычном месте, она их перетаскивала и аккуратно складывала возле воды. Она терпеть не могла, чтобы палки и всякие материалы разбрасывались по полу. Все это она уносила и складывала в кучу всякого хлама, устроенную под одним из окон. Но это правило – все лишнее отправлять на помойку, – к сожалению, распространялось и на носки, и на мокасины, и на стиральную доску, на веник и т. п. Веник у нее был чем-то вроде символа власти уборщика; она его постоянно носила при своих инспекторских осмотрах, а иногда вдруг перевертывала его низом вверх и начинала им завтракать. Откусывая по одной соломинке из веника, она втягивала ее в себя, крошила зубами с такой быстротой, что напоминала шпагоглотателя, а издаваемые ею при этом звуки были похожи на шум испортившейся швейной машины. Из-за этих веников у нее с хозяином были великие перебранки, пока он не догадался, что проще всего покупать новые.
Иногда она была не расположена выходить из своих покоев и тогда сонным голосом заводила с хозяином бесконечные разговоры через отверстие. Она то повышала, то понижала тон, и в таком ритме, что казалось, она действительно говорит. А может быть, это и на самом деле с ее стороны было попыткой говорить? Ведь на всякие же вопросы человека его пушистый товарищ непременно старался что-то ответить; не только днем, во время работы или еды, но даже и ночью, сквозь сон, достигшее слуха человеческое слово вызывало со стороны бобра попытку ответа.
Нужно было пять раз сходить за водой, чтобы наполнить бак, и оттого звяканье ведра стало для нее сигналом к перемене воды. Тут она выходила из своего уединения, вертелась между ногами и контролировала, насколько плотно закрылась дверь по выходе хозяина за водой: не дует ли из двери страшный холодный воздух. Такие попытки сотрудничества хотя и несколько затрудняли работу, но ей доставляли такое большое удовольствие, что Серая Сова терпел. Но самое большое удовольствие было для нее делать что-нибудь запрещенное. У нее даже глаза загорались какой-то нечестивой радостью, когда она, набезобразив, видела приближение Серой Совы: в каком она была восторге, с каким визгом от страха быть пойманной она удирала! Она считала себя собственницей пола и всего, что находилось в пределах ее достижения: значит, всего, что лежало на высоте двух с чем-то футов, – это было большинство вещей. Пока зима была в самом разгаре, собственно разрушительной деятельностью она занималась мало. Ее вполне удовлетворяло занятие перетаскивания вещей с места на место или изучение их с целью выбора и последующего присоединения к тем самым разнообразным вещам, из которых был сложен ею вал, вдоль которого она ходила из своего жилища к ванне. Некоторые вещи, – например, кочергу, жестяную банку, железный капкан, – она расставляла на определенных местах, и, если их передвигали, она переносила их обратно, и сколько бы раз ни убирали, столько же раз она их возвращала обратно. Осуществляя какой-нибудь свой проект, она работала с таким увлечением, что забывала все другое и делала перерывы только для еды и чтобы расчесывать себе шубу своими гибкими лапами.
Проказливость мартышки у нее соединялась с капризами ребенка, а неуклюжие шаловливые приветствия очень оживляли Серую Сову при его возвращении домой после утомительной дороги. Невероятно своевольная, она имела сильный собственнический инстинкт, вполне естественный для существ, строящих себе жилища и окружающих себя предметами, сделанными собственными руками. Весь лагерь, несомненно, она считала личной своей собственностью, и, когда кто-нибудь приходил даже издалека для того только, чтобы на нее поглядеть, она не всякого желающего пропускала в лагерь. Подвергнув длительному, внимательному осмотру, некоторых она безоговорочно пропускала; но если кто ей не нравился, она становилась против него на задние лапы и старалась вытолкнуть вон из лагеря. Это среди гостей производило сенсацию, и они стали ее называть кто Хозяйкой, кто Госпожой озера, а кто Королевой. Из всех этих кличек удержался только царственный титул. И нужно сказать, что Королева правила своим маленьким государством не мягкой рукой.
Замечательна та перемена, которую внесла Королева в строй мыслей такого человека, как Серая Сова. Возможно, что именно вследствие отшельнического образа жизни встреча с людьми для Серой Совы всегда имела особенно сильное значение. Но до появления Анахарео встречи эти были случайны и редки. Место людей тогда в его сердце занимали вещи, которыми он себя окружал. Это были: каноэ, проверенное во всякую погоду, пара легких лыж, топор с тонким, хорошо закаленным стальным лезвием, прочные ремни для ношения груза, меткие ружья, искусно сделанный для метания нож. Все эти вещи для Серой Совы были как живые существа, даже целое общество живых существ, от которых зависели его жизнь и благополучие.
После отъезда Анахарео, казалось бы, Серая Сова должен был в своем одиночестве снова вернуться к прежнему своему благоговейному очеловечиванию своих дорогих вещей, но оказалось – нет: их место заступила целиком одна Королева. И немудрено! В этом существе жизнь была создана не рукой самого человека: оно само возникло в лесу; в этом существе было свое понимание, оно говорило, отвечало человеку, двигалось, – сколько во всем этом было действительно близкого, общего с человеком! И вот это общительное, домолюбивое животное, игривое, трудолюбивое, сознательное, утолило жажду дружбы одинокого человека, да так, как никто бы другой не мог сделать, кроме человека, и притом человека именно той же самой духовной природы, каким был сам Серая Сова.
Собака, несмотря на свою привязанность и верность, мало имеет средств для выражения своей личности, и ее деятельная жизнь слишком далека от человеческой; собака часто бывает слишком покорна. Джелли, напротив, вела себя как существо, единственное в своем роде, как личность, и занималась тем самым, чем и человек стал бы заниматься в ее положении, если бы не захотел потерять своего достоинства: она строила хижину, приносила запасы, задумывала и осуществляла разные собственные планы, стояла твердо и решительно на своих собственных ногах, имела независимость духа, близкую к человеческой, смотрела на человека как на сожителя, принимала как равного, и не больше. Серая Сова действительно находил в своей Джелли такое существо и никогда и ни в чем не хотел ставить себя выше, кроме случаев ее разрушительной деятельности.
Попытки установить какое-то общение с человеком, подчас забавные, подчас вызывающие сострадание, – вот эти попытки, думал Серая Сова, и ставят бобра значительно выше уровня обыкновенных животных. К этому надо прибавить еще общность интересов в сохранении вещей в порядке, в поддержании дома в чистоте.
Скоро снег сделался достаточно глубоким для хорошего лыжного пути и дал возможность Серой Сове начать систематические передвижения по стране с целью окончательно установить, живы ли Мак-Джиннис и Мак-Джинти или их больше нет. Зимой, даже самой снежной, для охотника определить местожительство бобров не так уж трудно, как это кажется. И Серая Сова так решил, что зимой он определит, по возможности, все хижины бобров, а после, в летнее время, проверит, кто именно в них живет. Вскоре Серая Сова таким образом нашел в нескольких милях от хижины, в тех же водах, еще три семьи. Это открытие не принесло много радости Серой Сове, потому что мысли свои – устраивать заповедник в стране, где так дешево ценили жизнь животных, – он совершенно оставил. Конечно, потерянные бобрята могли найти приют в любой из колоний, но решение этого вопроса откладывалось до позднего лета.
Серая Сова начал составлять план книги, но писать самую книгу чувствовал себя не в состоянии. Он никак не мог себе представить, как это можно такое множество всего связать в одну книгу. Вспомнив о захваченном вместо поваренной книги «Письмовнике», он извлек его из приданого Анахарео и погрузился в такие вопросы, как Форма, Диалог, Точка Зрения, Единство Впечатления, Стиль. Из всего этого Серой Сове более понятным было только Единство Впечатления, и он стал сводить все свои тропинки воспоминаний, думая постоянно об этом Единстве Впечатления. Что же особенно трудно было – это чтобы все придуманное входило в план; рассказы Серой Совы, напротив, имели способность сами собой писаться, вопреки всяким продуманным планам, и к концу убегать совсем в другом направлении.
Обдумывать книгу очень мешало беспокойство за судьбу Анахарео; правда, хотя она была и хорошо снаряжена и находилась на попечении человека, равного которому не было по знанию леса, все же она отправилась в страну громадных озер, суровых бурь и с таким климатом, в котором здешняя зима, в Темискауате, как раз соответствует тамошней поздней осени.
Чтобы хоть как-нибудь отделаться от таких мешающих работе тревожных мыслей, Серая Сова придумал совершить паломничество в те места, где зародились его первые литературные устремления, где так много было пережито. Не удастся ли на том месте целиком сосредоточиться на книге? Не долго раздумывая, Серая Сова поручил лагерь одному из своих новых хороших и надежных знакомых, нагрузил тобогган снаряжением и отправился на Березовое озеро.
Печально изменилось старое гнездо человека. Хотя в крыше и появились отверстия и в стенах трещины, в общем, хижина имела вид почти такой же, как и была, когда ее оставили. Но вот бобровая плотина без починки своих покойных хозяев сдала, и озеро ушло, и настолько, что, не будь снега, тут были бы только камни и тростники. Бобровый домик, никем не населенный, теперь высоко возвышался над пустым бассейном, и отчетливо виднелся даже и самый вход. После ухода воды, конечно, и ондатры должны были переселиться. Птицы улетели, и чужая белка быстро бросилась бежать, завидев Серую Сову. Только громадные сосны все еще стояли возвышаясь, могучие в своем молчании.
Войдя в хижину, Серая Сова почувствовал себя, как в храме. Все реликвии были на своих местах, но протекавшая крыша плохо их защищала. Знаменитый военный головной убор из перьев висел безжизненно; веселые орлиные перья упали в грязь; с лица воина сошли знаки приветствия, и сам он превратился в чурбан. Милые рисунки, когда-то столь похожие на бусы, потеряли форму, а то и вовсе были смыты. В углу лежало высохшее рождественское дерево. Подрезанные ножки стола, выщипанные оленьи шкуры, тарелка для питья на полу, вся с пометками от бобровых зубов, занавески на окнах, сделанные руками Анахарео, – все сохранилось. Крепость, выстроенная столь трудолюбиво, осталась нетронутой, и только не выглядывали пытливо из ее отверстий черные глазки бобрят, не слышно было тоненьких дрожащих голосков.
С грустью сел Серая Сова на свое обычное место на скамье, раскаиваясь, что пришел на старое пепелище. И так, пока он сидел в задумчивости в избушке, наступили сумерки. Но снаружи небо еще алело от заката, и через щели и отверстия печной трубы пол и стены были покрыты красными пятками. От этого волшебного света закоптелая пустая хижина преобразилась и опять получила обаяние прежних дней, опять стала Домом Мак-Джинниса и Мак-Джинти во всей его прежней славе. Все зашевелилось в этом доме. Серая Сова зажег свет и тут же начал писать.
Две ночи писал Серая Сова, обманывая себя и читателей в том, что его маленькие друзья Мак-Джинти и Мак-Джиннис еще были живы. Но почему же обман непременно? Возможно, они и жили тут где-нибудь, даже и недалеко. Как бы там ни было, во всяком случае, Мак-Джинти и Мак-Джиннис живут теперь и путешествуют по всему свету, переходя с книжных страниц в сердца людей самых разнообразных.
Об этом своем творчестве в домике у пересохшего Березового озера Серая Сова так записал:
«Неделю я неистово писал, а в ушах у меня звучали и нежный смех женщины, и тоненькие голоса, столь похожие на детские. Призраки сидели возле меня, двигались, играли, и действующие лица рассказов жили опять. Эти привидения вовсе не были печальны – напротив, они радостно проходили возле меня, когда я писал. И наконец я оказался в силах справиться с мыслями, ранее недоступными мне для выражения. Тут наконец я понял, почему эти маленькие звери производили на нас такое впечатление. Они были по своим привычкам Маленькими Индейцами, символом расы, живой связью между нами и средой, живым дыханием и проявлением неуловимого нечто, этого духа опустошенных земель: леса вырублены, звери истреблены, как будто с виду и нет ничего, а вот, оказывается, остается все-таки какое-то нечто. В каком-то вполне реальном отношении эти бобрята, их природа типически представляют собою основу всей природы. Это высшее животное леса есть воплощение Дикой Природы, говорящей Природы, всего Первобытного, бывшего нашим родным домом и живой основой. Через них я получил новое понимание природы. Я много размышлял об этом душевном перевороте, перемене всего моего отношения к природе, полученной через бобра. И я думаю, что и каждое другое животное, а может быть, даже и вещи в соответствии со своим местом и употреблением в той же мере могли бы выполнить подобную миссию, хотя, может быть, и не так очевидно. Я всю жизнь свою жил с природой, но я никогда не чувствовал ее так близко, как теперь, потому что раньше я имел всегда дело лишь с частью ее, а не с целым. И это близкое понимание существа природы породило во мне благодетельную силу самоограничения: теперь я уже ясно понимал свою неспособность толковать это или описывать, и если бы я стал это делать, то это было бы равносильно попытке написать историю творения. Нет, я должен был в силу этой необходимости самоограничения придерживаться темы, оставаясь в границах личных наблюдений и опыта.
Ритм бега индейца на лыжах, качающаяся, свободная походка медведя, волнообразное движение быстрого каноэ, жуткое, стремительное падение водопада, тихое колыхание верхушек деревьев – все это слова из одной рукописи, мазки одной и той же кисти, отражение неизменного ритма, убаюкивающего Вселенную. Это не преувеличенное благоговение перед языческой мифологией, не учение о почитании животных и природы, а отчетливое понимание всепроникающей связи всего живого на свете, того, что заставило одного путешественника в экстазе воскликнуть: „Индеец, животные, горы движутся в одном музыкальном ритме!“
Чувство всепроникающей связи всего живого породило и мои писания как элемент связи. Дерево падает и питает другое. Из смерти восстает жизнь: таков закон связи. Эти писания перестали быть моими, и я теперь смотрю на них как на отражение эха. Не как на горделивое творчество, а как на подхваченное при моем убожестве эхо тех сущностей, которые раньше меня обходили.
Я почувствовал наконец, что создан был для понимания этого. И Дом Мак-Джииниса и Мак-Джинти, когда я покидал его при звездном небе, больше не казался мне камнем над могилой потерянных надежд и вообще был не концом, а началом. Перед уходом я взял две ободранные палочки, несколько стружек, коричневых волосков, ветку рождественского дерева и туго завернул их в кусок оленьей кожи, чтобы они были моим лекарством, моим счастьем, символом.
Я попрощался с духами и ушел, оставив их всех у себя за спиной. И когда я шел вперед памятным путем, на котором теперь не было ничьих следов, кроме моих собственных, я чувствовал, что там где-то сзади меня, в хижине у печки, сидела женщина с двумя бобрятами».
Поиски слов
По возвращении домой Серая Сова нашел у себя второе письмо Анахарео. Писала она, что оба они с Давидом живы, здоровы, но все золотые надежды на скорое обогащение рухнули. За двадцать восемь дней до их приезда участок Давида был закреплен за другим, и он действительно оказался богатейшим участком в краю. Обоим искателям золотого счастья пришлось работать на жалованье на том самом месте, которое считали за свою собственность. Пропало последнее Эльдорадо Давида, и он сразу же сделался стариком. Потрясенный горем, вовсе разбитый, он теперь ушел назад, в свою страну Оттаву, чтобы сложить свои кости рядом с предками под поющими соснами. Анахарео теперь ждала только вскрытия реки, чтобы самой вернуться, – ранее июля этого быть не могло.
Итак, книга теперь для Серой Совы была не одним развлечением, а самым серьезным делом; от успеха этого рискованного предприятия зависел самый отъезд его с Джелли из этого чужого края. И, конечно, работа пошла горячая – как у хозяина, так и у его Джелли. Он работал над книгой теперь непрерывно, писал по целым ночам, выходя только затем, чтобы пополнить запасы дров.
«Я, – говорит Серая Сова, – не претендовал и не претендую на высокие литературные достоинства – они недоступны мне – и ограничивался правильным распределением красок в словесной картине. Я чувствовал тогда и теперь это чувствую, что если я при моих слабых знаниях буду обращать внимание на технические красоты, то мои мысли облекутся в железо, а не в мягкие одеяния, которыми природа покрывает даже самую мрачную действительность. Если я считал, что, поставив на первое место слово, которое должно бы стоять сзади, я лучше выражу мысль, то я делал это по тому же принципу, по которому часто удобнее рыть снег лыжей, а не лопатой и выгодней бывает прокладывать себе путь через поросль ручкой топора, а не лезвием. Я, конечно, всегда с презрением смотрел на свой искусственный английский язык, но теперь, оказывалось, его можно было употреблять. Я извлек его из холодных складов, где он попусту у меня лежал три десятилетия, и, рассмотрев его при свете новых нужд, признал его до ужаса ограниченным в отношении количества слов. Нужно было его улучшить, и я часами воевал со справочниками по английскому языку. Из сборника стихов, из «Гайаваты» Лонгфелло, из «Песни Сурду» Сервиса я выкапывал стихи, подходящие к главам, предварять которые они должны были. Это, мне сказали, давно вышло из моды, но мне нужно было высказаться, а до моды мне дела не было.
Груда рукописей выросла до внушительных и довольно угрожающих размеров. Я часто просыпался, чтобы внести изменения, постоянно делал заметки, и, чтобы добиться нужного эффекта в трудных местах, я читал их вслух Джелли, которая, обрадовавшись вниманию к ней и шороху бумаги, кружилась и кувыркалась в восторге. Я соорудил стол около койки, так что я мог, сидя там, добраться в любой момент до рукописи, набросать любую мысль, пришедшую в голову.
Когда я писал, Джелли преследовала свои цели и занималась чрезвычайно важными делами, как, например, перетаскиванием и перемещением предметов и мелкой домашней работой, вроде заделывания щелей под дверью или реорганизации кучи дров. Часто она садилась, выпрямившись, рядом со мной на койке и с напряженным вниманием смотрела вверх, на мое лицо, как будто пытаясь проникнуть в глубину тайны: для чего я могу заниматься странным царапаньем? Она была любительницей бумаги, и ее внимание очень привлекал шорох страниц. Она постоянно воровала оберточную бумагу, журналы и книги, утаскивая их к себе в дом. Сидя на койке со мной, она то и дело добиралась до записной книжки и других бумаг, и мы по временам оживленно препирались, причем не всегда я выходил победителем. Однажды она достигла успеха, превышавшего, я думаю, всякие ее или мои ожидания. Я забыл поставить барьер между койкой и столом и, вернувшись с рубки дров, нашел все перевернутым, включая аппарат, лампу, посуду и книги. Она засвидетельствовала свое полное одобрение моим литературным опытам, утащив всю рукопись целиком. Только немногие листы моей работы валялись на полу: остального не было видно. Я посетил для обыска жилище преступницы, встреченный визгом страха и протеста. Однако я выставил ее вон и извлек рукопись вместе с закоптелой деревянной кочергой и куском проволоки, несмотря на безнадежные старания этой чертовки восстановить свои права на владение. К счастью, все, кроме одной страницы, нашлось. Джелли, несомненно, схватила всю стопку бумаги сразу мощной своей пастью, и потому она мало была повреждена. Зато все так перепуталось! Представьте себе около четырехсот перепутанных листов, убористо исписанных карандашом с обеих сторон, со вставками, приписками и заметками, вложенными в разных местах, с черточками, стрелками и другими кабалистическими обозначениями того, что за чем шло, а главное – непронумерованных, и вы только тогда поймете всю беду по-настоящему. У меня пропало три дня на приведение в порядок, а иногда и на переписывание рукописи. На этот раз я тщательно пронумеровал страницы.
Так мы двигали вперед книгу – Джелли и я, – и дело стало приближаться к концу. И всегда, когда я писал, передо мной вставало пышное зрелище далекой Высокой Страны – густые леса, царствующие, колышущиеся до самого севера, ряды покрытых снегом деревьев, стоявших, как духи, выстроившиеся вдоль дороги, и смутно видневшихся в свете утренней зари; по дороге, как по аллее призраков, шли вереницы лыжников, и их тобогганы звонко пели на замерзшем снегу; или мрачно крались одинокие молчаливые охотники. Я писал не столько о людях, приход которых, и уход, и самое существование так мало значили в просторах Великого Белого Молчания, сколько о Границе во всех ее аспектах и стадиях, о Границе, которая и теперь исчезает и кажется обреченной на исчезновение. Развалины, среди которых я сейчас жил, ясно показывали, какова ее судьба. И потому я назвал свою книгу «Исчезающая Граница»[13].
И неуклонно моя мысль возвращалась на Миссисогу, ревущую между горами, увенчанными кленами, к громоподобному реву водопада Обри, падающему на красные скалы, к Гросс Кэпу, с его отвесными гранитными стенами, с сучковатыми, скрюченными, убогими соснами, растущими на неустойчивых выступах, к темным пещеристым сосновым лесам, запаху увядающих березовых, ясеневых, тополевых листьев, ритмичному, заглушённому стуку весел о борт каноэ, голубому дыму, поднимающемуся от тлеющих углей слабых костров, к спокойным, наблюдательным индейцам, расположившимся лагерем под красными соснами около быстрого потока…
И все время в душе моей жила болезненная тоска по простом добром народе, товарищах и учителях юных дней, чьи пути стали моими путями и чьи боги – моими богами; народ, ныне умирающий с голоду терпеливо, спокойно и безнадежно, в дымных жилищах, на обнаженных, ограбленных пустошах, которые им Прогресс определил для жизни. Я думал о маленьких детях, так жалостно умирающих, в то время как родители с окаменевшими лицами бодрствуют над ними, отгоняя мух, пока они, как маленькие бобры, не улетят на серых крыльях рассвета, которые уносят так много душ в Великое Неизвестное. И я вспомнил, что их положение, несмотря на весь мой ропот, бесконечно хуже моего, и почувствовал, что мое место – быть с ними, страдать, как они страдают, что я должен разделить их несчастья, как разделял когда-то их жизнь в счастливые времена.
Пришло Рождество, которое мы провели вместе. Я думаю, Джелли получила удовольствие, потому что она так наелась, что на следующий день явно чувствовала себя плохо. Но мое одинокое празднование было пусто и несчастливо. Как бы там ни было, а я повесил бумажный фонарь под потолок, и, когда зажег свечу в нем, Джелли много раз смотрела на него, и потому я не чувствовал себя так уж вяло и нелепо в конце концов. Я получил приглашение на Новый год и, оставив Джелли хорошо запертой с едой и водой в нагретой хижине, провел вечер и ночь в Кобано.
У всего города был такой праздничный вид, что он не мог не оказать влияния даже на самого кислого наблюдателя. Улицы были полны народу, одетого в лучшие свои платья. Звонили церковные колокола, люди ежечасно прибывали из лесов, распевая на улицах, и весь город был полон такой доброжелательной атмосферы, что никакая погода, даже самая бурная и свирепая, не могла бы проникнуть или заглушить ее. Музыка неслась со всех сторон, начиная с организованного разгула радио и до рева граммофона, и на морозный воздух летели пронзительные звуки скрипок, наигрывавших дикие ритмы жиги и «восьмерок»[14], а также искусные и запутанные танцы с разными па, в которых этот народ нашел выражение и выход для своих чувств.
Что-то мне показалось таким напоминающим внутренний общинный дух индейской деревни, что волна тоски по дому захлестнула меня, когда я проходил по узким улицам, обрамленным рядами деревьев. Но она скоро прошла, потому что меня приветствовали со всех сторон, пожимали руку, звали в дома, где я никогда не бывал раньше, и заставили принять участие в веселье, которым они наслаждались. Все это делалось так безыскусственно, искренно и просто, и я совершенно забыл, что был мрачный полукровка, и в ответ отдал должное веселью.
Каждый дом был полон музыки, игр и смеха. Здесь не было заунывных, отупляющих «ритмов» или эротических, сентиментальных нелепостей, а были веселые кадрили, чудесные старые вальсы, живые фокстроты. Каково бы ни было материальное положение хозяина, – давал ли он торжественный званый пир или мог предложить не больше, чем жареную свинину или оленину и прекрасный французский хлеб, – гостя всегда спешили накормить до отвала и с добрыми пожеланиями подкрепляли на дорогу, пожалуй, еще и несколькими стаканами красного вина. Церемонным людям, если были такие, не было нужды рисоваться или принимать позы, потому что ничьи глаза на них долго не останавливались в этом здоровом, сердечном веселье, и многие солидные граждане теряли свое достоинство в эту ночь, возвращая его себе только утром.
На одном из этих вечеров присутствовал старый джентльмен, занимающий довольно видное положение в городе. Он под конец забыл свой возраст и сказал во всеуслышание, что он мог бы, как уверен, перепрыгнуть даже через дом (конечно, не через слишком большой), и рассказал, какой удалью он отличался в молодые годы. Он поведал, как однажды, попав в засаду хулиганов, прорвался через целый нападавший отряд и перешел сам в наступление из-за их же прикрытий, нанося удары направо и налево так энергично и ловко (в этой части рассказа, оказалось, ему было необходимо несколько раз наклонить голову, как бы уклоняясь от удара), что враг обратился в бегство в ужасе и замешательстве, оставляя на месте упавших товарищей. Он так увлекся, воспроизводя доблестные деяния былых славных дней, что, покидая дом, надел чужое пальто и, будучи невысоким человеком, величественно шествовал по улицам в одеянии, слишком большом для него, с рукавами, доходившими почти до колен, и полами, волочившимися сзади него по снегу.
В другом доме был гость, тоже не здешний, как и я. У него был маленький грузовой «форд», на котором он разъезжал с места на место, нигде не селясь надолго, и, объезжая деревни, продавал швейные машины, сигары, поваренные книги и даже хорошие рецепты самогона. Лицо его было в шрамах; будучи близоруким, он носил очки с необычайно толстыми стеклами. Он надевал ковбойскую шляпу. На правой руке у него остался только один палец. Он и не думал скрывать свои физические недостатки или уменьшать их, как сделало бы большинство из нас, но щеголял ими, как счастливыми дарами Судьбы, дававшими ему возможность оказывать удовольствие другим, не столь одаренным. При помощи этих недостатков он представлял, пел комические песни, играл на рояле шестью пальцами, изображая великих музыкантов, и танцевал на проворных ногах. Потому дамы были рады запечатлеть новогодний поцелуй на его несчастном, обезображенном лице, а мужчины – пожать изуродованную руку этого благородного, приятного в обхождении клоуна, и все бывали огорчены, когда он уезжал, и желали успеха.
В полночь раздалась стрельба из всех видов огнестрельного оружия. Стреляли после каждого удара часов, а так как часы шли вперед или отставали, то залпы раздавались несколько минут. Хотя пули летали над озером во всех направлениях, никто особенно не тревожился, куда они упадут, потому что ни у одного доброго гражданина не могло быть причин оставаться вне города в эту ночь.
В разгар празднования и веселья я вдруг вспомнил о маленькой коричневой крошке, одиноко ожидающей меня в темной пустой хижине. И я ускользнул, не прощаясь, на лыжах по полуночному лесу домой, за Слоновую гору. За пакетом с земляными орехами, яблоками и конфетами Джелли также отпраздновала Новый год и наслаждалась, как я, а пожалуй, больше, – ведь у нее не было воспоминаний. Где бы и в каких бы условиях я ни находился, я никогда не забывал о своей миссии и, в случае успеха, о ее возможных результатах. Я никогда не переставал внимательно прислушиваться, изучая язык и задавая осторожные вопросы; я всегда был на страже. Я искал не только живых бобров, или, может быть, их шкуры или кости, но самого человека[15]. И часто я ходил, чувствуя ненависть к людям, которые должны были бы быть друзьями.
В конце февраля я отправил законченную рукопись и, освободившись, приступил к изучению слов с помощью книги синонимов и словаря. Я нашел, что слова увертливы и трудноуловимы. Но всякое слово, попавшее в книгу или журнал, было уже поймано, переходило в мою записную книжку, постоянно возобновлялось в памяти и перечитывалось. Я так усердно занимался этой записной книжкой и непрерывной охотой в непролазных джунглях книги синонимов, что по временам забывал об обеде. Я стал думать по словарю и пользоваться такими редкостными словами, что часто меня не понимали даже говорящие по-английски друзья. Со мною случались припадки рассеянности, и в конце концов я дошел до того, что взял бутылку с чернилами, желая набить трубку табаком, а в другой раз поймал себя на том, что хотел наполнить «вечное перо» из жестянки с табаком.
У меня был знакомый юрист, часто меня посещавший, всегда с собою приносивший оживление, а иногда приводивший и веселую толпу своих друзей. Он редко приходил без подарка и однажды, заблудившись по дороге, появился глубокой ночью и возвестил, что недалеко по дороге оставил радиоприемник. Это была портативная модель. На следующий день мы притащили его из лесу со всеми принадлежностями. Машина для меня была таинственная, но юрист сам все наладил и сделал антенну, и в эту ночь лагерь, обычно тихий, был полон музыки.
Я, ради слушания через этот приемник, довольно легко преодолел свое отвращение ко всем видам машин, начиная с плугов и кончая железными дорогами. Скоро я сделал открытие, что приемник был неисчерпаемым источником слов. Скоро моя ночная компания состояла из дикторов, авторов, обозревателей книг, чтецов новостей по радио, политиков и других людей. Этот народ, а также книги Эмерсона и Шекспира – все они дали свое для удовлетворения моего всепожирающего аппетита в погоне за средствами себя выразить».
Побег королевы
Ночные скитания для Серой Совы с давних пор имели неизъяснимую прелесть, за что, собственно, он и получил свое имя Уа-Ша-Куон-Азин: Тот, Кто Ходит Ночью, – Серая Сова. Эта привычка жить в темноте теперь очень помогла ему охранять Джелли, и в любой час ночи он мог легко ее разыскать. В промежутках между обходами и часами сна он изучал английский язык. Конечно, такое ночное изучение требовало большого расхода керосина, и оттого его долг в лавочке за керосин все возрастал. Но было много оленей вокруг, и оттого можно было экономить на одежде: Серая Сова носил теперь одежду из оленьих шкур и сам занимался их выделкой. Вот это занятие дубильным делом однажды привлекло внимание местного лесного сторожа, и он явился с письменным приказом наложить штраф. Когда же Серая Сова объяснил сторожу свое положение, тот понял, что произошла ошибка, и посоветовал написать в город Квебек. Вскоре было получено письмо от главы районного лесного управления, в котором начальник очень извинялся за причиненное беспокойство и тут же прилагал разрешение на право постоянной охоты. Так старый благородный Квебек и тут в грязь лицом не ударил.
Во время новогодних празднеств Серая Сова познакомился с одной ирландской семьей, которая приняла его к себе в дом на положение близкого любимого родственника – сына или брата, – и ему тут было все так устроено, что он чувствовал себя совершенно как дома. С ними Серая Сова заключил дружбу на всю жизнь, и каждый приход Серой Совы здесь был сигналом для веселой вечеринки с музыкой и пением.
Однажды, вернувшись домой с такой веселой вечеринки, Серая Сова увидел, что дверь его домика открыта, а маленький товарищ зимнего уединения исчез.
Серая Сова обезумел от горя и тупо уставился на открытую дверь. Первый момент он думал о похищении и закипел гневом, но после внимательного осмотра мысль эту пришлось отбросить: Джелли ушла сама, разрешив наконец-то проблему открывания двери изнутри. Теплое солнце ранней весны манило ее из дому на возможную гибель от замерзания: вода еще не открылась, а в лесу снег был до четырех футов. Следы показали, что она отсутствовала целый день, и вели вдоль озера к ее осеннему игрушечному дому.
Не найдя отверстия во льду, она пошла вверх по течению ручья, но пробраться к воде нигде не могла. Ручей терялся в болоте, в лабиринте ольховых и кедровых деревьев, и она тут, в лабиринте, блуждала во всех направлениях. Ее шаги делались все короче, а во многих местах она ложилась и долго пережидала. Под ней даже успевал подтаивать снег, и легко можно было понять, где ее застала ночь. Стало сильнее морозить, начала образовываться корка, отпечатки следов делались все менее ясными. Наконец слабые, безобразные, косолапые следы лапок, с пальцами, обращенными внутрь, продолжая удаляться от дома, совершенно исчезли. Температура резко упала, а лапы и хвост бобра легко замерзают, совершенно искалечивая животное.
В эту ночь Серая Сова вовсе не возвращался в лагерь; до рассвета он обходил болото и все звал и звал свою Джелли. Последующие дни и ночи, кроме болота, он обыскивал овраги, ущелья. Наступил период нулевой температуры, нередкий ранней весной. Теперь уже Серая Сова знал, что если его маленький друг и миновал нападения таких врагов, как, например, лисица, то без воды она должна за это время совершенно замерзнуть. В подтверждение этому он нашел в таком замерзшем состоянии дикобраза. После нулевого периода погода стала мягкая, и Серая Сова все искал, все искал хотя бы каких-нибудь признаков своей беглянки, искал даже возле таких озер, куда она никак не могла добраться. После двадцатидневных поисков Джелли лыжи отказались служить, потому что по мокрому снегу физически ходить невозможно, и все-таки Серая Сова ходил; он измучился, но выдерживал, а лыжи рассыпались. Но вот после нескольких дней проливного дождя хватил сильный мороз, и Серая Сова взялся хоть как-нибудь починить лыжи, чтобы, пользуясь морозом, обегать еще раз все места, где беглянка могла бы найтись хотя бы мертвой. И только вышел Серая Сова из домика, вдруг увидел – что-то коричневое движется вдоль линии берега, в пятидесяти ярдах от него, и направляется к хижине. Никакого сомнения не оставалось: это в сильно потрепанном виде сама Хозяйка возвращалась домой.
В дни поисков, подобных таким, какие были у Серой Совы, люди как будто, сами не зная того, копят горе свое, как уксус, для того чтобы когда-нибудь посредством волшебных дрожжей переделать его в самое чудесное вино и тут же все сразу и выпить. Так пьяной радостью, созданной из своего собственного же горя, встретил Серая Сова свою Королеву. Она же как ни в чем не бывало наелась до отвала и проспала двадцать четыре часа. Позже Серой Сове удалось найти то место, где инстинкт безошибочно подсказал ей воду в почти пересохшем ручье; там она и сидела, в этой норе, под снегом, пока дождь не образовал течения, по которому она спустилась в озеро и вышла на волю через полоску открытой воды.
Вскоре вскрылось все озеро, и Королева ушла из лагеря. Серая Сова опасался, что она теперь станет шататься далеко по окрестностям в поисках супруга и, когда найдет, не вернется. Но это предположение оказалось неверным: она отправилась вверх по озеру, завладела там одной норой и в то же время не забывала лагерь, – за ночь она Серую Сову посещала несколько раз. Часто, завидя каноэ Серой Совы, она плавала рядом, а раз даже вскарабкалась на борт и шлепнулась внутрь. После того она стала проделывать этот прием постоянно и разнообразила его тем, что забиралась на корму и оттуда, с высоты, бросалась в озеро.
Иногда она устраивала разные шутки с Серой Совой: покажет ему направление, и он поплывет, а она нырнет и вдруг окажется совсем в другой стороне. А когда он подъедет, начнет кувыркаться, как бревно на воде, крутиться, так разбрасывать брызги, что они попадали ему в лицо. Иногда она дурачилась таким образом долго, полчаса и больше, играя с хозяином. А то, бывало, на быстром ходу каноэ она нырнет неглубоко и думает, что скрылась, а Серой Сове даже видно, с каким напряжением работает у нее каждый мускул, какие она тратит усилия, чтобы перегнать его и появиться на поверхности воды впереди. А когда он ее догоняет, она проделывает то же самое вновь и так движется вместе с каноэ все дальше и дальше.
Она часто давала сигналы пронзительным криком на высокой ноте, слышным за полмили. И если тем же самым звуком и он звал ее, то редко не отвечала. Еще любимым развлечением ее было схватить хозяина своими «руками» около запястья и, прижав к груди, стоя, толкать то от себя, то к себе в напряженном усилии его опрокинуть. Иногда она откидывалась назад, чтобы сильно дернуть вперед и заставить хозяина потерять равновесие. Теперь ведь она уже весила двадцать фунтов, у нее был крепкий костяк, сильные мускулы. Впоследствии Серая Сова узнал, что ничего особенного не было в этих забавах бобра с человеком: это самые обычные развлечения каждого бобра. Замечательно другое: она предпочитала оставаться в обществе человека, в то время как в каких-нибудь трех милях жили легко ей доступные сородичи.
Приход Роухайда
Как раз перед тем, как распуститься листьям, Серая Сова поставил капкан в ручье на безобразного разбойника – выдру, в помете которой он нашел бобровые волосы.
«Так ведь, – думал он, – в ее зубы может попасть и доверчивая, жизнерадостная Джелли», – и поставил капкан на выдру А однажды утром он заметил, что капкан куда-то исчез. Заглянув под бревно, там внизу он заметил хвост бобра, а когда потянул за цепь, почувствовал сопротивление и потом вытащил живого бобра. Захлебнувшись водой, испуганный до полусмерти, он почти и не пробовал защищаться, дозволив посадить себя в джутовый мешок. У него была сильно повреждена задняя, самая важная для плавания нога, и оттого Серая Сова, прежде чем отпустить его на свободу, решил попробовать полечить. Первые сутки бобр прятался от Хозяйки, выходил только попить и совсем ничего не ел. В конце же суток он вышел на середину комнаты, до крайности подавленный чувством страха. В руки он никак не давался, но позволял с собой разговаривать и не отказался от яблока. Когда же Серая Сова провозился с ним всю ночь, то добился такого успеха, что бобр начал обходить комнату, – правда, хромая, – изучая все последовательно, включая и дверь, которую вовсе и не пытался даже погрызть. В ходе исследования он открыл койку, вскарабкался на нее по сходням, сделанным для Джелли, признал ее очень удобной и с тех пор и ел, и спал на ней, спускаясь только для личных надобностей, – чтобы разложить напиленные чурбачки или же принять ванну. Спал он между подушкой и стеной, но среди ночи начинал тосковать, перебирался спать под руку Серой Совы, а утром до рассвета опять уходил к себе за подушку.
Хотя погода и продолжала оставаться холодной, печку топить Серая Сова остерегался: в такую ярость приводил бобра шум этой печки. Даже табачный дым заставлял его часами скрываться. Занятие перевязкой ноги было чрезвычайно трудное. Она распухла до ужасных размеров, и две кости плюсны проткнули кожу. Зубы его от попыток перекусить капкан расшатались, и нужны были недели, чтобы они могли снова служить. Оторванная часть скальпа высохла и свисала с головы. Серая Сова отрезал эту кожу и дал при этом кличку бобру «Роухайд» («Роухайд» значит «Ободранная Кожа»).
Целых две недели Серая Сова возился над спасением ноги Роухайда, но ничего не добился; и только пиявки, гроздьями присосавшиеся к ране, сделали то, над чем долго ломал себе голову человек.
Трудно сказать, что именно повлияло: внимательный ли уход или, может быть, одиночество, но только животное очень скоро и сильно привязалось к Серой Сове, – Роухайд ковылял за ним по пятам, кричал громко и жалобно, когда он отлучался. Эти звуки однажды привлекли внимание Хозяйки. Увидев в своей хижине чужого бобра, она с такой силой бросилась назад, что о закрытую за ней дверь чуть-чуть не сломала себе шею. Когда же одумалась, то стала внимательно разглядывать гостя и, поняв, что он калека, решила, что его следует просто побить. С большим трудом разнял Серая Сова сцепившихся врагов и стащил свою завояку в озеро, где она продолжала беситься. Да и как не беситься, если она – Королева и Хозяйка, а тут появился какой-то непрошеный чужак, тоже, наверное, с какими-то своими правами! «Знать ничего не хочу!» – говорил весь ее вид, и с тех пор Серая Сова стал от нее дверь держать всегда на запоре.
Когда пациент Серой Совы оправился, не без чувства огорчения пришлось пожелать ему счастья и отпустить на свободу. На другой день, направляясь к жилищу своей царственной завояки, Серая Сова заметил бобра и позвал его. Животное ответило на крик и поплыло к каноэ. С изумлением и радостью Серая Сова узнал своего калеку, который поплыл вслед за каноэ и потом, когда хозяин вышел на берег, потащился за ним в лагерь. Полежав немного на оленьем коврике, похныкав, поласкавшись немного об руки, он ушел назад к себе в озеро. Это он продолжал делать и дальше; иногда с некоторой помощью влезал на колени к Серой Сове и усердно занимался тут мокрым своим туалетом. Можно ли это назвать благодарностью? А если нельзя, то как назвать это чувство животного, заставлявшее всюду ходить за человеком по пятам до тех пор, пока другое животное, по ревности v своей, не отгоняло его? Да, Королева была безумно ревнива и не позволяла даже близко подходить к лагерю, когда сама была дома. Не раз она преследовала его далеко вниз по ручью. Но он был тверд и возвращался.
Несмотря на ее злость, он бегал вслед за ней везде, прихрамывая на поврежденную ногу и издавая жалобные звуки. Казалось даже, что он с трогательной настойчивостью добивается ее близости как вернейший ее поклонник. Складывалось у Серой Совы даже и такое понимание, что, умирая с тоски по дружбе, вечно отвергаемый Джелли, он именно потому так и тянулся все к человеку; деваться больше некуда. Однажды он до того осмелел, что после нескольких неудачных попыток вдруг ввалился в каноэ в то самое время, как в нем на своем царственном троне восседала сама Королева. Ну и задала бы она ему трепку, если бы не вступился Серая Сова! Все подобные необычайные поступки Роухайд совершал так бессловесно-покорно и вместе с тем с таким спокойно-решительным видом, что Серая Сова всегда становился на его сторону против самоуверенной Джелли. Своей спокойной настойчивостью, непреклонной решительностью, действием скрытой в нем какой-то силы Роухайд преодолел одно за другим все препятствия, везде выдвигаемые новой средой, и наконец нашел свое место, получил свою власть и стал не просителем, а вождем.
Хозяйка продолжала дружить с Серой Совой, как дружат иногда равные. Они были грубыми и беспорядочными товарищами по играм, старыми сожителями, могли позволять себе разные вольности и расходиться в разные стороны, кому куда захочется. Но Роухайду для полного его счастья надо было только немножко доброты. Он был так же нежен, как прикосновение ночного ветра к листьям. И в то же время Серая Сова однажды видел своими глазами, как, разъяренный слишком затянувшимся злобным преследованием Хозяйки, он так встряхнул ее, как будто она была только бумажным мешком.
И, возможно, эта Королева дожила до наших дней благодаря только Роухайду.
Какой-то негодяй-бобр, старый, бдительный, умный, очевидно, из какой-нибудь разоренной охотниками колонии, обозленный несчастьем, блуждал вокруг лагеря. И однажды он спустился в самый лагерь, и ему захотелось у двух чужих ему бобров отнять все их имущество. Когда Серая Сова вернулся домой, Джелли лежала на земле возле лагеря. Тонкий след крови вел к двери, но она, должно быть, была слишком слаба, чтобы пойти, и потащилась назад, к берегу, чтобы подождать там возвращения друга. Горло у нее было разорвано и обнажено, нижняя губа почти оторвана, обе «руки» прокушены, распухли и были никуда не годны; хвост тоже насквозь прокушен около корня почти на дюйм. Оставалось только как можно скорее дезинфицировать раны. Она лежала при этом инертная, с закрытыми глазами и тихо стонала, а кровь медленно стекала на ту самую землю, где она утверждала свою власть.
Всю ночь просидел около нее Серая Сова и время от времени кормил ее молоком из той самой спринцовки, которая когда-то один раз уже помогла ее спасти. К утру, как показалось, в ней ожили скрытые источники жизни, и она медленно, с мучением, поползла в хижину. Весь день она оставалась в хижине, выпила большую часть молока из двух банок и ночью, очевидно, находясь на пути к выздоровлению, ушла. Только волшебные восстановительные силы диких животных помогли ей спастись. Целую неделю она не выходила из своей норы, не отвечала на голос. По разным признакам, найденным около озера, и по всему, что произошло, можно было догадаться, что посетитель был колоссальных размеров, и, несомненно, она была бы убита, если бы находилась одна. Роухайд тоже имел знаки встречи не меньшие, и на основании уж неоднократно проявленных им способностей Серая Сова был уверен, что только его участие решило исход этой битвы.
С этого дня оба бобра стали жить и действовать в совершенном согласии. На зато, поняв по себе, какую боль, какие страдания могут принести посторонние существа, Королева всех их предала анафеме. Теперь гости, желавшие поглядеть на бобров, желавшие любоваться красотой меха, выразительностью глаз, благородством очертания головы и т. п., имели право стоять только на определенных местах. Малейшее сопротивление с их стороны вызывало неприятности. Между тем она претендовала и на берег, и на озеро, и на каноэ. Даже лагерь – она, кажется, воображала, что сама его выстроила: выгоняла людей из него, гнала их по дороге…
Бобры усердно работали над прудом и его окрестностями, и без них он скоро превратился бы в мелкую, жалкую большую тинистуло лужу. Их присутствие каким-то образом всему сообщало жизнь; сама долина приобрела жилой вид, что может вообще сделать только один человек. И действительно, бобры, обжившие долину, понемногу вслед за собой стали привлекать и человека. Много людей стало ходить сюда только затем, чтобы поглядеть на бобров. Некоторые из приходящих, люди с поэтическим инстинктом французов, стали в честь бобров давать имена местности. Так, холмы, сбегавшие от высокой вершины Слоновой горы и собравшиеся вокруг озера, стали называться холмами Джелли Ролл; пруд стал озером Роухайда, а лагерь – Бобровым Домом.
Так все три деятеля долины, человек и два бобра, официально попали в местную летопись, утвердились во владении и работали над улучшением своего имения. Бобры прочищали водные протоки, места для выхода на берег, строили дом и постоянно поддерживали плотину в полном порядке. Сам же Серая Сова делал завалинку у своей хижины, законопачивал щели в стенах и выравнивал двор.
Около своего дома бобры устроили себе площадку для игр, на которую нога ни одного человека, кроме Серой Совы, не смела ступить. Джелли однажды так преследовала трех гостей, что два из них убежали на высокий холм, а третий влез на дерево. После этой победы Королева стала в центре площадки, трясла, крутила головой, непрерывно весело кривлялась: так обыкновенно бобры выражают свое удовольствие после какой-нибудь удавшейся шутки.
Джентльмен с седыми волосами
Так вот и шло время в постоянных тревогах, если смотреть на все со стороны человека, а если смотреть на бобров, то все шло к росту и благополучию: они достигли уже трех четвертей своего полного роста и были могучие звери. В разгар браконьерского периода тревожные слухи дошли до Серой Совы, и он, от греха, запер своих бобров в хижину. В первую же ночь, проведенную в лагере, они подгрызли стол, разломали часть пола, опрокинули ведро с водой и разбили окно. Способ, каким они добрались до окна, достоин внимания зоопсихологов. Вот как это вышло. На полу вдоль одной из стен лежал шест для каноэ длиною в восемь футов, с железным наконечником. Серая Сова заметил, что они с этим шестом играли, но мало обращал на это внимания, пока наконец зачем-то они не взялись вдвоем и не потащили шест по полу тяжелым концом вперед. Когда Джелли дошла до противоположной стены, она стала там на задние ноги, а шест подняла высоко над головой. В то же время Роухайд на противоположном конце продолжал движение и, толкнув железным наконечником с силой вперед, разбил окно. Не нужно думать, что бобры знали свойство стекла биться. Нет, их цель была в устройстве помоста, по которому можно бы взобраться и закупорить отверстия, по их убеждению, существовавшие в окне^ Таков был этот замечательный случай настоящей совместной работы бобров с точно продуманным планом действий.
Серая Сова, внимательно наблюдавший подобные случаи, все посылал и посылал свои очерки о бобровых повадках своему издателю, и тот это все безотказно брал. В последнем письме своем этот издатель сообщал, что описания жизни бобров побудили его сообщить о них Управлению национальными парками департамента внутренних дел в Оттаве в надежде, что деятельность бобров можно снять на кинопленку. Почти немедленно вслед за письмом к Серой Сове прибыл один служащий Управления национальными парками, джентльмен с пышными седеющими волосами стального цвета. У него было острое, но доброе лицо с проницательными голубыми глазами, смотревшими из-под косматых шотландских бровей до смущения пристально. Он сообщил Серой Сове, что хотя он лично совершенно уверен в правдивости его рассказов, но прежде чем приступить к дорогостоящим операциям по съемке, он должен на все посмотреть своими глазами. И он сам говорил, что приготовился увидеть нечто необычайное, но когда Серая Сова привел его на озеро, усадил в каноэ и позвал бобров, джентльмен пришел в совершенное изумление. Началось с того, что бобры, услыхав голос своего друга, незаметно для гостя поднялись на поверхность, неожиданно высунулись из воды возле него, вскарабкались в каноэ и уставились на гостя, тщательно его изучая. Они испачкали его платье, но он не обратил на это никакого внимания; главное, он сразу же убедился, что рассказы Серой Совы о бобрах были совершенной правдой.
Гость остался на два дня, и все это время бобры находились или внутри, или около хижины. В конце концов джентльмен признался, что виденное им ни с чем не сравнимо и что нужно немедленно же принять меры, чтобы эта сказка не развеялась от какой-нибудь случайности. Серая Сова при этом рассказал ему, что душой всего дела были Мак-Джинти и Мак-Джиннис. Выслушав эту историю, до крайности растроганный джентльмен сказал, что подобное больше не должно повториться.
На что намекал этот седой джентльмен? Ничего определенного в этот свой приезд он не сказал и только просил приготовиться к встрече кинооператоров. Меньше чем через неделю загудели киноаппараты, а Джелли и Роухайд плавали, ныряли, ходили, бегали, таскали палки, влезали в каноэ и, кроме того, проделывали тысячи всяких фокусов, которых, кроме Серой Совы, на свете еще, может быть, никто не видал. Все это и послужило для первого на всем свете фильма «Бобровый Народ».
Трудностей по съемке бобров было множество. Один оператор, в своем энтузиазме, провел много времени, стоя в воде и глине, а однажды даже погрузился в воду по грудь. Но он мало знал о бобрах, а Серая Сова еще меньше этого понимал что-нибудь в технике съемки. Сами бобры много помогали: они целыми днями охотно позировали, и вся трудность состояла только в том, чтобы удержать их на соответствующем месте.
Фильм вскоре был выпущен. Картину встретили овациями по всему доминиону, и было решено показать ее во всех цивилизованных странах. После того опять приехал седой джентльмен с новым и совершенно особенным предложением. Серой Сове было предложено работать над бобрами под покровительством доминиона и за определенное жалованье. Бобрам гарантируется безопасность на всю жизнь, судьба их не будет зависеть от каких-либо политических перемен, и они никогда не будут служить материалом для каких-либо экспериментов. Управление бобрами, точно так же как и увеличение их числа, будет находиться исключительно в руках Серой Совы. Будут даны также все возможности развивать дело охраны природы в том именно направлении, как думает об этом Серая Сова, и без необходимости бороться за материальные средства. Мало того! В предложении было предусмотрено, что для Анахарео будет выстроен дом, какой ей вздумается, что бобры будут снабжаться таким количеством яблок, сколько им только захочется. Вот за эти последние удобства Серая Сова должен будет нести некоторые обязательства, а именно: он со своими бобрами должен помогать изучению дикой природы и биологии, представлять все, что может, для исследований ученых специалистов. Ожидается, что вклад, вносимый Серой Совой со своими бобрами в дело распространения среди публики знания жизни национальных животных, будет делом государственной важности и, в свою очередь, будет побуждать к развитию дела охраны природы. Таким образом, Серая Сова, потомок воинственного племени индейцев, неукротимых в лютой ненависти к цивилизации белых господ, должен теперь стать слугой правительства Канады.
Седой джентльмен, делая свое предложение, сумел тонко внушить Серой Сове, что он чрезвычайно расположен к индейцам, что он действительно друг животных и всей природы. Седой джентльмен сумел для своей дипломатии воспользоваться тоном такого дружелюбия, такого почти родственного внимания, что Серая Сова не выдержал и рассказал обо всем, что лежало бременем у него на душе. Он рассказал о своих идеях, и целях, и о жестокой борьбе, выдержанной за их выполнение. После окончания этой исповеди седой джентльмен кратко сказал:
– Вы тот, который нам нужен.
И с бесконечным тактом дал понять, что от согласия Серой Совы выигрывают только бобры.
Распростившись на станции с гостем, Серая Сова пошел в глубокой задумчивости назад к себе, за Слоновую гору.
Вот как он сам рассказывает о своей борьбе за свободу и как она ему теперь представилась, эта вечно носимая в индейской груди столь желанная свобода.
«Кроме скитания по лесу, – пишет Серая Сова, – и работы проводником, я никогда ни у кого не служил. Теперь же, поступив на службу со всеми ее многочисленными выгодами, мне казалось, я совершенно откажусь от свободы и тут будет конец моим лесным скитаниям. Мне это представлялось слишком решительным, несколько пугающим и неожиданным. Но, с другой стороны, раз я должен был оставаться верным своим обязанностям, добровольно взятым на себя при достижении цели, то я должен был отбросить всякие мысли о личной свободе. Два факта стояли передо мной повелительно ясно, как свет: первое – самая головка намеченной цели сейчас была в моих собственных руках; второе – оба маленьких друга избавлялись от возможности несчастья и гибели от охотников. Вот что было ясно, все остальное ничтожно.
Итак, наконец я окончательно решился и тут же стал, быть может, свободнее, чем когда-либо был…
В своем согласии принять предложение и предоставить бобров и себя в распоряжение Национального парка Канады я просил, чтобы никогда не разлучали бобров и меня и чтобы разрешено было взять Мак-Джинти и Мак-Джинниса, если я их когда-либо найду.
Оба требования были приняты.
Так вот пришло исполнение моих долгих желаний, и пришло так, как мне и не снилось. И оно пришло не благодаря каким-либо моим особенным действиям или ошеломительному проявлению моих личных способностей и вовсе даже не благодаря чему-нибудь мной высказанному или написанному, за исключением, конечно, того, что само возникло из сказанного в силу естественного процесса роста сил, всегда более сильного, чем все нами придуманное. Нет, все это счастье пришло благодаря дару провидеть и дальновидности других».
В то время как все было решено и Серая Сова стал собираться к отъезду, наступала мало-помалу зима, и он, имея сказочные планы охраны Бобрового Народа впереди, вовсе выпустил из виду, что в действительности в жизни наступает зима со всеми своими неуловимыми последствиями. Когда все было уложено и готово к отъезду, оставалось только взять самих героев, самих действующих лиц, из-за которых все и происходило. И что же? Наступила зима, и герои ушли под лед зимовать в своем собственном доме… Они были теперь для Серой Совы совсем недоступны и дальше от него, чем сам Китай.
Тайна ондатры
Странное и унылое положение – зимовать на берегу озера совершенно одному, без всякой даже возможности общаться со своими маленькими друзьями и ни в коем случае не иметь возможности серьезно куда-нибудь отлучаться: охотников на бобров везде множество. Кроме того, постоянно мелькала ужасная мысль, что совершенно взрослая пара бобров могла одичать, уплыть по весеннему паводку неизвестно куда и пропасть точно так же, как пропали Мак-Джиннис и Мак-Джинти.
Много раз теперь Серая Сова совершал паломничества к высокому домику на дальнем конце озера, засыпанному снегом. Часто говорил он в отверстие для воздуха знакомые слова и фразы, которые раньше всегда вызывали странные кривляния и крики радости. Теперь оттуда ничто не отвечало, и голос разносился в пустоте. Под белым коническим холмом, высоко стоящим над торфяным болотом, была все-таки жизнь, и два пушистых круглых тела лежали в глубоком сне. Они спали под надежной охраной, но Серая Сова знал, что если он почему-нибудь снимет эту свою охрану, им не дожить до весны. И при одной только мысли о возможности опасности какого-нибудь нападения на них Серая Сова чувствовал, что в борьбе с врагом он готов не только эту свою жизнь отдать, но и заложить всю свою будущую жизнь…
Всегда готовый к такой борьбе, Серая Сова однажды пришел проверить бобровую хатку и на тонком льду возле нее нашел вырубленное топором отверстие. Сильная буря совершенно смела все следы на болоте. Счистив с отверстия снег, Серая Сова нашел там красное пятно – кровь!
В какие-нибудь пять секунд, промчавшихся, как одно мгновенье, Серая Сова стал таким же диким, как его предки, и все свои ожившие способности обратил на одну охоту – на высшую, на охоту за человеком. Не на открытом пространстве, где буря с ног человека сбивала, а под кровом леса он нашел признаки… И несомненно было, что кто-то хотел запутать человека, который пойдет по следам. Беглец знал свое дело, но все-таки и недостаточно хорошо его знал. Лыжа, врезаясь глубоко в снег при подъеме, делает такие отпечатки, какие не может занести и множество метелей. И этому делу зарубцевания самой метелью следов нельзя подражать: человек искусственно так никогда не сделает.
К счастью для всех участников этого дела, они ушли часа на два раньше прихода Серой Совы и теперь находились где-нибудь в безопасности, дома. По разрозненным признакам следопыт кое о чем догадался, позднее кое о чем расспросил, и так мало-помалу лицо было найдено… Целых две недели Серая Сова страдал в проклятых душевных муках, строя планы, тщательно и хладнокровно продуманные. И после долго эта картина мщения не раз беспокоила мирный сон Серой Совы…
Но случилась оттепель, и на некотором расстоянии от бобрового домика открылось искалеченное тело ондатры, очевидно, убитой совой, потому что голова была оторвана и шкура содрана. И как раз в это время подозреваемый человек, – может быть, кое-что и услышав, – пришел и рассказал, что он раскопал нору ондатры около бобрового домика, чтобы достать себе воды, и тогда заметил кровь. Сообразив, какие могут быть из этого сделаны выводы, он побоялся зайти и сказать Серой Сове, а понадеялся на бурю и утек.
Услышав этот рассказ, Серая Сова признался себе, что он немножко перестарался.
История Давида
С этого раза Серая Сова применил тот же метод дозора, каким пользуются у нас крестьяне, когда находят медвежью берлогу. Сделав медвежью берлогу центром, они описывают вокруг нее на лыжах круг и до тех пор, пока не кончится торг с охотниками о шкуре неубитого медведя, ежедневно совершают по своему следу обход, во время которого можно открыть даже мышь, если она вздумает переместиться через заветный круг в сторону медведя.
И вот однажды, когда Серая Сова возвратился из своего обычного дозора, он нашел в своей хижине ожидавшую его Анахарео! Оказалось, она прилетела сюда со своих золотых россыпей на самолете. Узнав о таких превосходных новостях, Анахарео потеряла интерес рассказывать обо всех своих неудачах.
– Погуляла по белому свету! – призналась она.
И в свете предстоящей новой жизни все это стало казаться ей просто жизненными мелочами. Только не могла, конечно, она не рассказать печальную историю бедного Давида.
Какой-то человек, из тех, кто без просьбы лезет в чужие дела, озабоченный идеями развития и просвещения диких умов, усерднейшим образом растолковал Давиду, что взлелеянная им мысль об обширных нетронутых охотничьих участках, существующих где-то далеко за северным горизонтом, – иллюзия: что белые люди проникли в самые глухие места дикой страны и добрались до конца и не нашли ни бобров, ни сосен; все это – один миф. Никому до сих пор в голову не приходила мысль тревожить веру простого человека. Кто знает – быть может, и у каждого великого творца, создателя новых путей человечеству, в глубине души скрывается как движущий фактор всего его существа какая-нибудь подобная простейшая вера в существование где-то на земле у нас или на какой-нибудь другой земле, где мы когда-нибудь будем, страны непуганых птиц и зверей. Но этот тупой реформатор не погнушался трудом, чтобы убедить свою жертву: нет на свете страны непуганых птиц и зверей. И добился успеха, целыми месяцами угощая его ядом с древа познания. Хотя и существовали, и сейчас существуют основания для подобных мыслей, Давид только наполовину в них верил; но эта жестокая и полная утрата иллюзий в соединении с потерей богатства, чуть-чуть не полученного, безжалостно потрясла его карточный домик. Его мечты разбились вдребезги, его последняя надежда исчезла, и он погрузился в меланхолию, из которой не мог уж больше выбраться. Жизненный источник в нем иссяк, и он стал увядать и сохнуть. Его возраст сразу навалился на него и превратил в изношенного, несчастного старика.
И однажды ночью, незадолго до листопада, он пришел попрощаться с Анахарео. Он отправился домой. И в каноэ, последнем даре Серой Совы, с маленьким снаряжением, своим возлюбленным ружьем и воспоминаниями, он уплыл в тихую лунную ночь по пути к местам детства – с разбитой душой, без надежд и одинокий.
Пришло мое время
Так зима проходила не без событий. Книгу приняли, издали слово в слово, изменив только название. Последовали многочисленные и интересные результаты. В банк на текущий счет Серой Совы начали просачиваться маленькие деньги.
«Мои статьи, – пишет Серая Сова, – начали появляться в разных органах печати. Некоторые издатели любезно хотели вносить в них поправки, заменяя ошибочные выражения более соответствующими правильному словоупотреблению. Но эти изменения, как мне казалось, как-то нарушили то впечатление, которое я пытался произвести, и, не будучи в состоянии сам достигнуть лучшего, я решительно протестовал. После оживленных и всесторонних прений по почте (забавных и вполне безопасных) с моими требованиями соглашались, – возможно, больше для того, чтобы положить конец переписке, а не по другой причине. Я представляю, как некоторые мои письма по этому поводу выносились из редакции щипцами и с чувством облегчения бросались в печь для кремации.
Несомненно, меня спасало только то, что я был любителем, а не профессионалом. Да и издатели к тому же в конце концов не были уж такими плохими ребятами.
Я получил много газетных заметок. Большинство обозревателей прессы, понимая, быть может, отсутствие у меня знания техники писания, были добры и снисходительны и даже хвалили. Некоторые из них, возможно, желая увидеть, как далеко я могу пойти, ободряли меня и советовали продолжать. В некоторых американских и английских газетах напечатали сочувственные статьи в несколько столбцов. Приходили письма из Германии, Австрии, Лондона и Нью-Йорка. Канадский университет в Онтарио – моей родной провинции – дал свое одобрение. Я находился в приподнятом настроении духа, но и в некотором страхе: я начал что-то большое. Я послал стрелу наугад в воздух, и она вернулась назад в пышном оперении. Один или два критика (хотя, впрочем, я должен быть более точным и сказать: один критик), очевидно, несколько шокиро^ ванные тем, что какой-то некультурный обитатель лесной глуши, с заведомо туземной кровью, осмеливается выйти из подобающего ему положения и членораздельно говорить, – были более суровы. Они, казалось, сочли за личное оскорбление, что нашлись два существа, не просвещенные благами официального образования, знающие многое такое, чему не обучают в учебных залах, и выражали сомнение в нашем знании того, о чем сами-то они могли иметь только смутное представление.
Затем появилось жестокое и самое болезненное обвинение, что почти весь текст моей книги был продиктован духом какого-нибудь писателя. Это было несправедливое обвинение, и я пережил несколько неприятных минут. Значит, это не я писал книгу, а два каких-то других молодца из Утики в штате Нью-Йорк или какой-нибудь человек из Абердина? Ну, хорошо! А мое пыхтение над книгами, мое выуживание слов даже по радио и договоры вот с этим самым словарем синонимов! Впрочем, и Шекспир имел, кажется, те же неприятности с человеком по имени Бэкон, и все-таки он вполне хорошо справлялся с писательским ремеслом. Что касается намека, сделанного немного презрительно, что я должен был иметь некую более высокую эрудицию для выполнения такого труда, что я, наверное, как-то обманываю, что я в действительности самозванец, выдвинувшийся из своего класса, то опять-таки мне удачно приходит на помощь Эмерсон:
«Они не могут представить, какое право видеть имеете вы, чужестранец, как вы могли увидеть, и говорят: „Значит, он как-то своровал свет у нас“. Они даже не понимают, что свет без системы упорно льется во все хижины, и даже в их».
Я был очень утешен мыслью, что всегда найдутся отдельные такие люди, которые не станут на нас смотреть через свою щель, рассаживать по категориям в отдельные ящички и запирать в них.
Другими словами, пришло мое время.
Были и другие последствия. Моя переписка разрослась до угрожающих размеров. Мир, оказалось, был полон чудеснейших людей, и некоторые письма заставили почувствовать, что я наконец из положения разрушителя перешел в ряды творцов, хотя и меньшего калибра. Эти выражения одобрения делали нас обоих очень счастливыми. Теперь уж мы больше не кричали бессмысленно во мрак ночи. Наши задачи признавались вполне здоровыми и разумными. Некоторые из просьб были немного неисполнимы. Какая-то дама из Чикаго, мужа которой посадили в тюрьму, настаивала, чтобы мы поменьше энергии тратили на животных, и предлагала в качестве альтернативы, чтобы мы ее приютили, пока заблудший супруг не будет освобожден; это, по ее мнению, будет достойной попыткой уменьшить страдания человечества.
Появились репортеры, прощупывавшие нас деликатно насквозь. Мы были приглашены на съезд в Монреале, и предполагалось, что я буду говорить. Убедив Анахарео отправиться со мной для известной моральной поддержки, мы организовали группу друзей для охраны бобров и уехали вдвоем.
С этих пор я начал встречаться с защитниками природы, профессиональными и действительными. Истинных можно узнать безошибочно, и я вступил в ценное и высокопоучительное общение со многими, причем не с малым числом, – оно до сих пор продолжается.
Выло и гнетущее подозрение, что многие не интересовались делами, если не слышали за ними заглушённого шелеста денег. Потому появился грустный страх, что левые руки у большинства этих джентльменов отлично уже наперед знали, что будут делать правые. Слушая их разговоры, я начал понимать разницу между доверием и доверчивостью в делах. Мне стали понятны слова автора комедии, что доллар никогда не падает так низко, как низко падает человек, чтобы его получить.
Но больше мне пришлось соприкасаться с искренними и серьезными людьми, относившимися к дикой жизни очень сердечно, и я установил многие связи, бывшие источником вдохновения и послужившие основой для дружбы. Я получил несколько коммерческих предложений от групп, которые, будучи честными в своих намерениях, хотели войти в это рискованное предприятие, полагая, что я стану богатейшим владельцем пушной фермы.
Они смеялись с видом знатоков, когда я говорил, что совершенно не собираюсь коммерчески пользоваться тем, что со временем накопится благодаря знанию.
Были и другие предложения, но никто не мог предоставить бобрам такую охрану, какую гарантировало Управление национальными парками».
Пробуждение спящих героев
В письмах из Оттавы сообщили Серой Сове, что его Королева, Джелли Ролл, и ее друг Роухайд привлекли широкое внимание публики не только здесь, но и за границей, за океаном. А в то время, как слава гуляла по свету, сами прославленные лежали себе и похрапывали в своем замке из замерзшей глины. Бывают же на свете такие чудеса!
В марте Серая Сова и Анахарео решили принять какие-нибудь меры к пробуждению спящих счастливцев. Начали с того, что прорубили дыру во льду около пищевого склада, и тут обнаружили пустоту. Стали пополнять склад свежими ветками березы, тополя, ивы. И хотя бобров не было видно, ветки исчезали.
Пришел апрель, и с ним настали теплые дни. Снег таял, лед размяк. Наступил критический момент в отношении к бобрам: или, одичалые, они уплывут по весеннему паводку, или вернутся к людям, определившим себя на службу Бобровому Народу. Серая Сова серьезно опасался, что дух независимости их возьмет верх над привязанностью к человеку. Однако он ни одной минуты не позволял себе быть нерешительным и вообще ставить свои действия в зависимость от того или иного будущего поведения бобров. Он составлял и заполнял накладные для отправления бочек и ящиков, как будто совершенно уверенный, что когда бобры проснутся, то придут и тоже будут отправлены по железной дороге. Из своего большого опыта с животными он вывел себе правило никогда ни в чем не быть нерешительным: он подозревал, что животные каким-то шестым чувством своим понимают нерешительность человека и это состояние используют для своей дикой независимости.
Мало-помалу все имущество, кроме самого необходимого, было перевезено на станцию: так были сожжены мосты за собой и оставалось приступить к решительным действиям. Около домика во льду были прорублены два отверстия и в них положены ветки ивы и тополя, уже покрытые свежими почками. На провизию набрасывались голодные ондатры, но веток хватало для всех: их всё клали и клали в изобилии.
Наблюдение за отверстиями было поочередное в течение круглых суток. Почти только через неделю, во время своего дежурства, Серая Сова наконец заметил рябь и большие пузыри от проплывшего бобра. Прежде чем взять ветку, бобр несколько раз проплыл вокруг отверстия, но так далеко, что рассмотреть его было невозможно. Очевидно, бобр остерегался нападения какого-нибудь врага через отверстие. Тогда Серая Сова положил приманку на середину отверстия, чтобы бобр мог ясно ее рассмотреть. Но до темноты ничего не было взято.
Погода сделалась теплой, и лед начал таять вдоль линии берега. Серая Сова и Анахарео по очереди сидели неподвижно на небольшом расстоянии от прорубей и тихо звали бобров таким голосом, на который в прежнее время всегда получался ответ. В третий теплый вечер, после предварительных долгих осмотров, наконец из-под воды выскочил бобр, испустил долгий низкий зов и с громадным шумом исчез. Его продолжали ждать на берегу с напряжением и легкими позывами. Приблизительно через полчаса бобр появился опять, неуверенно поплавал несколько минут, удостоверился, понял все, узнал и вскарабкался на лед. Это была Джелли Ролл. Хозяйка своей собственной персоной появилась и сразу же начала обычный свой туалет. Тот же голос, та же неуклюжая перевалка, тот же высокомерно-самодовольный вид, с каким она приняла яблоко: потрясла головой и с короткими визгами принялась есть тут же, в непосредственной близости.
Вот это триумф! Ведь почти после шести месяцев раздельного житья она вернулась к людям, верная, как времена года. Оставался под сомнением теперь только Роухайд, и вот еще через две ночи, при свете молодого месяца, Серая Сова и Анахарео разглядели что-то темное, лежавшее неподвижно на поверхности воды на большом расстоянии. Джелли суетилась тут же возле ног, а плававший предмет по форме казался бобром. О том, что это бобр, и бобр, который вполне пробудился от зимнего сна, можно было судить по одному тому, что он вдруг мгновенно исчез. В следующую ночь он так приблизился, что взял яблоко, и следующий вечер почти весь провел тут же, вместе с Хозяйкой около людей. Но это был уже новый триумф, потому что это был не выросший у людей бобр, как Джелли, а совершенно дикий, и вернулся он почти после полугодового отсутствия. Атмосфера прояснилась. Можно было не сомневаться в исходе, и Серая Сова телеграфировал в Управление национальными парками о самостоятельном возвращении бобров.
Теперь оставалось только захватить их и, таким образом, подвергнуть ужасным страхам и трудностям путешествия больше чем за тысячу миль, и притом не спугнуть доверия и верности в простой душе животного. Ведь достаточно всего раз пли два их обмануть, и многолетняя работа вся пропадет, после чего только тончайший такт и дипломатия вернут прежнее, и то лишь в наиболее умных представителях.
Серая Сова пробовал поймать Джелли Ролл, но она стала такой большой и сильной, что поднять ее от земли без борьбы было невозможно; но именно насилия-то и хотелось бы избежать совершенно. Анахарео тоже пробовала и тоже не имела никакого успеха. Таскали за уши, открывали рот, дергали за хвост, опрокидывали на спину, а вот поднять себя она не дозволяла. Сделали деревянный ящик, положили на бок; крышка лежала горизонтально в сторону озера. Хозяйка вошла в ящик, ничего не подозревая. С виноватым чувством людей, обманывающих друга, хотя бы и для его собственной пользы, Серая Сова и Анахарео захлопнули крышку. Приладив ремни, Серая Сова взял груз на спину и понес. Хозяйка замерла и до самого своего освобождения в хижине молчала. Потом ее немое замешательство сменилось дикими завываниями и потягиванием Серой Совы за платье. Ее ребячья обида была так велика, что утешать ее пришлось совсем как ребенка. Серая Сова взял ее к себе на колени, – а это был уже порядочный бочонок! Она прижалась к нему, и он покачивал ее и уговаривал, и уговаривал. Потом понемногу она стала глядеть по сторонам и, разобрав привычную обстановку, постепенно пришла в себя и успокоилась.
Роухайд не хотел входить в ящик, и поймать его было труднее; но с ним Серая Сова бросил всякие церемонии: просто схватил его руками и принес в хижину.
Ночью бобры не делали никаких попыток удрать и позволили поместить себя в проветриваемый оцинкованный ящик, приготовленный специально для них. После этого труднейшего дела все было окончено и оставалось всем вместе двинуться в город. Квебекское правительство отказалось от всех прав на бобров, и разрешение на перевоз было тут же получено. Индейцы оставляли в городе множество настоящих друзей. От города прощаться пришла депутация – веселые, приветливые французские канадцы. Индейцам тоже нечего было унывать: их страна непуганых птиц и зверей не оказалась пустой, как у многих подобных искателей.
В краю непуганых птиц и зверей
Вот как описывает Серая Сова жизнь в его бобровом заповеднике:
«Сейчас осень, время урожая, и Королева и маленький отряд озабоченно собирают запасы на долгую зиму, как делают везде полезные члены общества, имеющие чувство ответственности.
Были расчищены места для выхода на берег и протоки воды. В них со странной точностью сваливались деревья с шумом почти каждый час, начиная с четырех часов вечера и до рассвета. Громадные запасы пищи, сваленные в воду перед хижиной, делались с каждым днем все грузнее, все шире и солиднее. Сверху наваливались тяжелые бревна, чтобы погрузить пищу глубже в воду. Ветки же сваленных деревьев, и особенно лучшие части из них, укладывались ниже линии будущего льда.
Тяжело нагруженные бобры медленно плывут в одиночку, группами или выстроившись в линию, как на параде, с грузами, весело покрытыми ветками с разноцветными листьями, как украшениями, – Пышные Шествия Работников Леса. Иногда я настраиваю радиоприемник, и тогда бобры плавают в своих упорных медленных процессиях под звуки симфонического оркестра. Я хотел бы, чтобы весь мир был здесь и увидел эту картину.
Осенью начали и молодые бобры выполнять полезную работу, но до сих пор, видимо, к ним относятся только немногие из правил поведения взрослых. Они ведут счастливую, беззаботную жизнь игр, борьбы и изучения мира. Они парами и группами носятся по воде родного пруда. Среди них образуются дружественные группировки, и, отделившись, они зовут друг друга пронзительными криками. Они надоедают старшим на работе, и, хотя это должно очень раздражать, взрослые не проявляют никаких признаков возмущения, и им приходится иметь много хлопот, чтобы нечаянно не ранить молодых. Это кажется трудным делом, потому что молодые постоянно попадаются на пути тяжелых бревен или груды веток, заполняют толпой дорогу. Видимо, эти безответственные любимцы находятся под особым покровом счастья и из каждой катастрофы не только выходят невредимыми, но ищут еще и новых развлечений.
Проплывет мимо большой бобр с грузом на буксире – вот и повод, посланный небесами, для суматохи. Точно по уговору, они стремительно налетают на груз, прицепляются к нему, толкают, отрывают куски, влезают на спину нагруженного животного или тщетно стараются вовлечь его в матч борьбы или другой вид водного спорта. Такие развлечения вызваны желанием нарушить монотонность жизни на маленьком пруду, но они доставляют серьезные неприятности взрослым бобрам, хотя те и относятся к ним добродушно. Взрослые, конечно, сопротивляются этим выходкам: не ожидают неподвижно, когда такая банда мародеров рассеется, а ныряют неожиданно вместе с буксиром и плывут под водой, чтобы сбить неприятеля с позиции; но эти военные хитрости редко удаются, – при первом же движении или, наоборот, при появлении из глубины воды эти паразитические маленькие чертенята обрушиваются и преследуют, пока не завладеют грузом.
Описываемое здесь, сопровождаясь разнообразными шумными движениями и соответствующими волнениями, придает веселый карнавальный дух слишком серьезным работам, требующим значительной затраты энергии и терпения. Однако с течением времени эти корсары прекращают пиратскую деятельность и направляют преизобилующую энергию на более продуктивные дела. Их можно увидеть таскающими собственные маленькие грузы по всем правилам и с большим терпением.
Оживленные драки и борьба, которыми бобрята занимаются друг с другом, часто носят буйный, но безвредный характер. Среди них всегда находится кто-нибудь, считающий себя выше всех по силе, и в один прекрасный день он неминуемо попадает в засаду целой толпы молодцов. Если это случается на берегу, где избегнуть их трудно, он быстро разочаровывается в своей хвастливой удали. Не будучи в состоянии выдержать давления, он устремляется к воде и бросается в нее как попало – вперед головой, спиной, боком – и исчезает из виду, как камень. Инцидент быстро забывается, – эти маленькие животные ничего не принимают близко к сердцу и низложенного чемпиона по его возвращении больше не тревожат.
Большую часть дня над прудом царствует полная и совершенная тишина. За час до заката из воды появляется первая, затем другая темная голова, несутся громкие крики со всех сторон, и скоро спокойная поверхность воды и пустые берега озера около хижины имеют вид, оживлением напоминающий двор старой кирпичной школы в четыре часа дня.
Казалось бы. что задача опознавания отдельных, да и всех бобров – так они все похожи по внешности – почти неосуществима. Однако это возможно. До двухмесячного возраста они держатся очень близко от дома, и в это время я особенно напряженно занимаюсь приручением. Затем они, развиваясь, получают индивидуальные особенности в голосе и движениях и легкие отличия в форме тела, что, если изучать их усердно, и дает возможность их узнавать. Прежде чем дойти до этого, я насчитывал среди них не менее двадцати бобров, похожих друг на друга, как горошины или комнатные мухи.
Мы обычно даем имя бобрам сейчас же, как только они делаются различными. Так, у нас есть Счастливый и Хулиган, Уэйкини и Уэйкину, Серебряные Пятки и Крупная Дробь, Сахарная Голова, и Джелли Ролл Номер Второй, и множество других, и у нас уже истощаются запасы имен. Во всяком случае, они никогда не отвечают на свои имена, но всегда приходят на определенный зов, состоящий из заунывного дрожащего звука, очень приближающегося к их собственному обычному сигналу, но настолько отличный, что они могут узнать, от кого он исходит. Этот крик, протянутый, как «ма-у-и-и-и-и-и», с колеблющимися модуляциями и повторенный несколько раз, редко не привлекает того или другого из них или хотя бы не вызывает ответного крика. А вскоре он превратился в общее имя для всех, и мы начали всех и каждого звать Ма-Уи. Если мы зовем одного, то приходят все: очень удобная выдумка. Это имя удобно и по другим причинам: оно напоминает по звукам оджибвейское слово, означающее «кричать», а этому занятию бобры предаются при всяком удобном случае. Но независимость их характера такова, что, раз появившись или ответив на зов, они вновь ответят не ранее, чем через несколько часов. Однако по ночам они появляются не менее трех раз и обязательно при утренней проверке, перед уходом ко сну.
Разрушения продолжаются как и во время оно. Часто, вернувшись в хижину после долгого обхода дозором, я находил следы набегов на мое жилище, и почти неизменно происходили какие-нибудь кражи со взломом. Искусно открывали крышку на котелке и утаскивали всю, до последней, картошку. Однажды картошка была в соусе, «руки» же бобров для вылавливания не приспособлены, и они нашли простой выход – опрокинули котелок и достигли цели. Иногда очищался ящик для дров или открывался ящик с яблоками. Был утащен в озеро даже стул, но за полной бесполезностью брошен. Тарелки, очевидно, считались трофеем высокой ценности. Не прикрепленные к полу тарелки с рисом немедленно исчезали после съедения риса, и больше мы их не видывали.
Так пропало их несколько, хотя одна, впрочем, через три месяца была вежливо возвращена и брошена сухой и чистой на берегу около хижины.
Как-то я вернулся после несколько затянувшегося посещения лагеря лесничего и пошел набрать дров позади хижины, где я наколол их для ночи, но все они исчезли. Не было видно также и свежесрубленных палок, приготовленных для поддержания медленного огня. Интерес, вызванный этим, был так велик, что я сразу не заметил еще более серьезных провинностей. Только почувствовав какую-то пустоту вокруг, я обнаружил исчезновение палатки со складом. Исследование показало, что она лежала на земле, а большинство шестов, ее поддерживавших, исчезло. К счастью, в ней ничего не было. Неподвижные козлы для пилки, сделанные из свежего тополя, были срезаны около самой земли, целиком похищены, и я больше их никогда не увидел. Все это, конечно, были труды Королевы, налагавшей подати на свои владения. Во всем этом не было ничего необычного, кроме того, что все случилось, когда я – единственный раз! – позволил себе задержаться вне дома в необычное время.
Я получал массу писем об охране природы и близких мне вопросах. Их у меня было несколько мешков, причем я разделил их по темам. Захотев просмотреть один из мешков еще раз, я принес его в хижину и необдуманно поставил в углу. Занятый вне комнаты, я не обращал внимания на него, пока не собрался посмотреть письма, но мешок с ними исчез! Волнение, происходившее в бобровом доме, о причине которого я спокойно недоумевал, означало, что награбленная добыча была перенесена туда и с драками делилась. Неистовые визги и крики хорошо знакомого голоса известили меня о личности вора, потому что это Джелли Ролл боролась, безнадежно отстаивая свои права. Последовавший гвалт был почти ужасающим, и вся сцена должна была быть до крайности нелепа, потому что Джелли Ролл храбро и тщетно боролась за обладание добычей, состоявшей из нескольких сот писем, объять которые она не могла.
Быть может, она решила, что, будучи уже долгое время звездой экрана, и, несомненно, крупной величины, ей пришло время для поддержания достоинства иметь свою собственную переписку с поклонниками. Во всяком случае, вся эта почта до сих пор осталась без ответа. Авторы писем, даже при самом диком воображении, никогда не могли себе представить, что написанное ими будет использовано для устройства подстилки целой семье бобров. Однако в конце концов они послужили идеям охраны природы, то есть того, что авторы, во всяком случае, и намеревались делать.
Когда начал замерзать лед, бобры с успехом поддерживали открытую воду на канале, по которому они до последней минуты буксировали нарезанные ветки для пищевых запасов. Вся семья для этого каждый день часами ломала лед, что удавалось им, пожалуй, около недели, но затем водный проток, естественно, замерз. Джелли почти до Рождества посещала прорубь, сделанную нами для наших личных нужд, и через нее я давал ей яблоки. Она их уносила через определенные промежутки времени, и после ее возвращения домой следовали звуки спора, сменяющиеся мерным и довольным чавканьем и жеваньем. Как я подозреваю, морозный воздух может вызвать болезнь в легких у животных, привыкших к мягкой погоде и влажной атмосфере бобрового дома. Меня к этой мысли привело то, что в холодную погоду, когда из проруби появлялась Джелли, она никогда не издавала обычных приветствий. Ближайшие же наблюдения показали, что в холодные ночи она задерживала дыхание на воздухе и быстро убегала назад. Теперь я позволяю в проруби образовываться корке льда и подсовываю яблоки под нее, потому что Королеву я больше не вижу; но яблоки регулярно исчезают.
Полтора года тому назад в быстро растущем королевстве Джелли появилась новая подданная – у нас родилась маленькая дочь. Она и Джелли хорошо проводят время вместе, но мы не пускаем дочь в неподходящие места – из-за обычая Джелли присваивать понравившиеся ей вещи.
Хотя Джелли и тяжелее дочери фунтов на десять, они приблизительно одного роста. Они храбро становятся во весь рост друг против друга и подчас разговаривают. Разговор у них ведется на языке, которого, как мне кажется, еще никогда никто не слышал. Маленькая девочка приходит в восторг, когда эта большая черная меховая игрушка, этот добродушный плюшевый мишка с такими красиво покрашенными зубами[16] берет у нее из рук яблоко. Бобриха берет подношение мягко, без тех безобразничаний, которые она позволяет по отношению к нам, однако никогда так нежно, как Роухайд, скромный, неутомимый, терпеливый Роухайд. Он никогда, видимо, не вспоминает о хромой ноге, такой уродливой рядом с нормальной, и, возможно, забыл, как я чуть не отнял у него жизнь. Теперь все это для него имеет ничтожное значение. У него есть работа, собственные, бескорыстно любимые дети, и он по-своему просто счастлив. Иногда, когда он сидит и смотрит на меня так спокойно, внимательно и непроницаемо, много дал бы я, чтобы узнать, какие мысли таятся за этой бесстрастной маской, за этими серьезными, наблюдающими глазами.
Ибо он – безмолвная власть Бобрового Дома. И если он решит в любой день увести отсюда свой народ, то ничто на земле, кроме заточения и смерти, не сможет его остановить. И мне нужно быть осторожным, чтобы его не обидеть.
Он и Джелли хорошо известны во многих странах, но они мирно спят в невинном неведении своей славы. И когда они там лежат, удовлетворенно похрапывая, я сижу в размышлениях: вспоминает ли Королева о темной хижине на далекой Темискауате, о койке, столе, коврике из оленьей шкуры, на котором около печки она любила спать, и о приветствиях при моем возвращении домой? Не проносятся ли у нее воспоминания о долгих одиноких днях до прихода Роухайда, когда мы были такими друзьями, часто спали вместе, о том, как она любила «помогать» мне носить воду, захлопывая дверь перед самой физиономией, как мы писали вместе нашу книгу, как она пропала и чуть не умерла и как Анахарео вернулась к нам?
Возможно, что она только смутно припоминает все это, потому что ныне она уже господствует над Роухайдом, и Анахарео, и маленькой Доун[17], и всеми нами – и удовлетворена».`
Неодетая весна*
Путешествие
I. Дом на колесах
Много в жизни своей я бродяжничал, но в какое бы новое место ни приходил, везде мне хотелось построить тут себе дом и жить долго. Так я обыкновенно и приступал к изучению любого края, – будто бы я выбираю себе место, где бы мне поставить свой дом. Пусть множество раз попытки найти точку своего постоянства разлетались, как мыльный пузырь, каждая местность, каждая новая земля непременно возбуждала во мне уверенность, что рано или поздно я свою точку найду. И вот, выбрав где-нибудь место для постройки дома, я присматриваю себе лесной материал, привыкаю к новым для меня ручьям, долинам, горам, растениям, животным. И так я мысленно строюсь, охочусь, наблюдаю, пишу, пока не кончается запас моих средств для путешествия. Однажды я даже и купил себе домик в Загорске и прочно в нем устроился, но это вовсе не укротило мою врожденную способность строиться на каждом интересующем меня месте.
Откуда взялось у меня это противоречивое желание – в одно и то же время и быть на одном месте, и быть везде?
Я припоминаю любимую мою детскую мечту устроить себе дом на колесах и уехать в невиданную страну непуганых птиц и зверей, – не оттуда ли это? В то время, когда я так мечтал, читая старика Жюля Верна, мечта моя осуществиться никак не могла. Но, верно, я не один подумывал о подвижном доме: лет через двадцать после чтения Жюля Верна я прочитал в газетах корреспонденцию о «безлошадной коляске», проехавшей по Английской набережной в С.-Петербурге. В жизни мне вообще повезло, почти все мои детские мечты мало-помалу начали осуществляться, и наконец под старость мне удалось устроить себе самодвижущийся домик и уехать в желанную страну. Этот волшебный край, оказалось, находится вовсе и не так-то далеко: я нашел его под Костромой, в той самой деревне Вежи, где жил некрасовский Мазай, спасавший во время весеннего половодья тонущих зайцев. Там на высоком месте в лесу я поставил свой дом на колесах, и, когда Волга весной разлилась и опрокинула вспять бегущие в нее реки, весь этот край залило. Тогда все животные, не одни только зайцы, стали сплываться ко мне, и я хочу теперь рассказать, как шла весна в этом году, как боролись Мороз и Солнце, Вода и Ветер и в какую беду попали животные, как они спасались, и как мы их спасали, и как строили себе Дом великий, такой великий, что, правда, иногда казалось нам, будто мы были и на одной точке земли, и в то же время были везде.
Устроить себе дом на колесах помог мне один журнал, с которым мы заключили договор: я буду писать о своем путешествии, а журнал мне за это поможет устроить себе дом на колесах. Вскоре после заключения договора мне прислали в Загорск из Москвы грузовик «ГАЗ», полуторатонку, и я стал обдумывать, из чего бы мне устроить на этом грузовике охотничий домик. Мысль о прицепном домике-даче, как в Америке, я сразу же отбросил, потому что ездить мне придется по бездорожью и больше в лесах, да еще по грязи ранней весной. Я люблю природу почему-то особенно ранней весной, когда деревья еще не одеты. Редко видит кто природу этой неодетой весной, и само собою понятно, что о неведомом и куда интересней читать, и мне, писателю, куда охотнее пишется. Весна света и половодья для меня лучшее время года, но только тянуть в это время по грязи за собою прицеп невозможно. Вот потому я мысль о прицепе типа американской дачи сразу отбросил и решил себе устроить нехитрый кузов из двойной фанеры, как это делают себе теперь у нас постоянно разные заводы и учреждения для перевозки своих служащих и рабочих. Неизменный спутник в моих путешествиях сын мой Петя, селекционер соболей и канадских лисиц в Пушкинском зверосовхозе, вошел в переговоры с мастерами своего совхоза, и они сделали нам в Пушкине по нашему указанию домик из двойной девятимиллиметровой фанеры. Такая фанера имеет вид почти что доски, достаточно прочна и, как мы скоро убедились, держит отлично тепло. Можно бы, конечно, придумать что-нибудь гораздо лучшее, но думать-то некогда было: оставался всего лишь месяц до полой воды, и коты уже всюду с криком лезли на крыши. Нам же, конечно, надо было выехать много раньше воды, чтобы, пользуясь крепким утренним настом, продвинуть дом на колесах в глубину страны непуганых птиц и зверей. Полукруглый цилиндрический верх домика, сделанный из той же фанеры, мы покрыли еще хорошей клеенкой защитного цвета и весь домик окрасили в защитный цвет, чтобы можно было в лесах затаиваться и не пугать птиц и зверей. С некоторого времени охота с фотографической камерой стала меня увлекать, пожалуй, даже еще больше, чем с ружьем, вот почему при постройке охотничьего домика я обратил серьезное внимание на приспособление его к лабораторным работам. Оба окна по сторонам так плотно задвигались, что внутри делалось при этом совершенно темно, и негативы проявлять можно было прямо на месте. Третье окошко, впереди, совсем маленькое, имело два назначения: одно – чтобы можно было просунуть руку и постучать в кабинку шофера, другое – чтобы пользоваться дневным светом для проявления, пропуская его через красные, зеленые и желтые стекла. Внутри домика мы сделали два ларя для спанья на их крышках, для провизии внутри, для складных лодок, ружей и фотокамер. Между ларями оставался настолько широкий проход, что в нем можно было ночевать и третьему члену нашей экспедиции. Лари наши оказались такой длины, что если растянуться на них, то и для собаки в ногах остается достаточно места. Конечно, в каждом ларе было много перегородок, чтобы вещи и продукты не смешивались. Впереди же, у цветного окна, у нас был столик, точно такой, какие бывают в железнодорожном купе. Везде тоже были сделаны крючки, вешалки, полочки.
Когда домик был готов, несколько раз окрашен и высох, я, давно уже привычный к управлению легковой машиной, проделал у себя на дворе упражнение с четвертой скоростью грузовика и поехал за домиком в Пушкино. Может быть, рессоры мало нагруженной машины чересчур высоко меня подбрасывали, может быть, и неприятен кому-нибудь визг грузовика при подъемах, но если бы условием обладания домика на колесах была езда верхом на капоте, в положении фигурки на пробке радиатора, я бы не побрезговал таким положением, приладился бы как-нибудь, привык и поехал. Что же касается управления, то я сразу заметил, что опасности при встрече с другими машинами на грузовике меньше, чем на легковом: шоферы легковых машин побаиваются грузовиков и сторонятся, а шоферы грузовиков относятся особенно уважительно, как к своему брату. Еще чувствительней мне было после езды на легковой отношение едущих на лошадях колхозников: грузовиков больше боятся и охотней свертывают. Моя первая поездка на грузовике от Загорска до Пушкина прошла без сучка, без задоринки. Мастера установили зеленый домик на машину, боковинки ящика грузовика плотно прикрепили железными скобами к стенкам домика, после чего общий вид его стал напоминать какое-то громадное насекомое. Это было от расчлененности огромной задней грузовой высокой части от передней моторной, соединенных между собой, как у насекомых, тонкой переслежинкой. На обратном пути отношение всех встречных ко мне было еще уважительнее, потому что машина моя теперь была на положении автобуса, везущего людей. А когда это диво, это огромное зеленое насекомое стало у меня в Загорске во дворе, большое чувство удовлетворенности охватило меня: через полстолетия после чтения книги Жюля Верна «Дом на колесах» я воплотил мечту мою в жизнь и теперь мог ехать в страну непуганых птиц и зверей.
Великая радость охватила меня, и я шептал своим неведомым друзьям:
– Дорогие друзья мои, не забывайте никогда свои детские мечты, храните это дитя свое в себе со всеми его задушевными мечтами и увидите, что рано или поздно оно вас обрадует!
Детям, всем детям на всем свете я говорил:
– Радуйтесь, дети, вы можете смело теперь встречать любую свою мечту и говорить ей: «Пусть хотя бы и через полвека это будет, как было у Пришвина, но все-таки ты, мечта, в моей воле, рано или поздно ты, голубушка, будешь моя!»
II. Ариша
Не сразу пришло мне в голову ехать в край старого Мазая, и скажу еще больше: у меня совсем даже и не было никакого плана путешествия, никакой цели, какая непременно бывает, с чего, собственно, и начинается всякая настоящая экспедиция. Меня радовало просто, что могу теперь ехать, куда мне только захочется, и куда бы я теперь ни заехал, везде со мной был и дом. Ближе всего, конечно, была мне страна Дриандия, где жили непуганые птицы и звери, страна, которую я сам себе сочинил с помощью дриад и Дианы, древней богини лесов. Эта Дриандия начиналась почти от самого моего загорского домика. Тут через какие-нибудь пятнадцать минут ходьбы я попадал в лес и той самой дорожкой, по которой ходили когда-то монахи Сергиевой лавры в свои лесные скиты, шел непрерывными лесами куда только хватит сил. Отсюда я дохаживал до Берендеева болота и проследил на поезде до самого Архангельска, что Дриандия непрерывно идет на север и там уже у самого края, снижаясь до тундры, подходит к самому морю. И на восток зеленая Дриандия, перевалив через Урал, дойдет до Байкала, и Забайкальем, не выходя из лесов, можно добраться тоже до океана. Бродяжничал я из конца в конец по всей великой Дриандии, и вся она была мне тогда как невеста, и как будто все ждала и ждала, когда я наконец-то перестану бродяжничать и у меня будет свой дом. Теперь же вот наконец это великое событие свершилось, у меня теперь есть дом на колесах, и в любом уголке Дриандии, если я стану и оглянусь вокруг себя с родственным вниманием, увижу я несметное, бесчисленное население родственников в моей Дриандии. Цель моей экспедиции – построить себе дом на колесах, приехать в такое место, чтобы вся родня в Дриандии была бы в сборе. Тут на свободе в Дриандии мне хотелось бы чувствовать себя не гостем, не бродягой, а быть дома, быть у себя.
Конечно, таких экспедиций в поисках родства и дома, должно быть, вовсе еще не бывало на свете, и вот отчего мне приходится так долго рассказывать о себе, – мне хочется убедить читателей, что хотя, конечно, в основе моей затеи – неизвестно куда ехать в доме на колесах – лежит игра, но что игра эта должна привести нас к результатам, во всяком случае, не менее серьезным, чем самая настоящая научная экспедиция. У них цель что-нибудь открыть новое, а моя цель – приблизить к себе все население какого-нибудь уголка Дриандии, и чтобы через это сближение вся Дриандия мне стала как дом, и я бы мог в него собрать всю родню. Но если даже и животные и растения посредством родственного внимания должны у меня стать своими, как же мог бы я взять в свою экспедицию чужого человека, шофера, или фотографа, или охотника? К счастью, мы с сыном Петей оба шоферы и машину можем вести сами. Петя зоолог по профессии, следопыт по любительству и большой мой друг. К великому нашему горю, жена моя, тоже вечная моя спутница, по здоровью своему теперь никак не могла ехать с нами. Конечно, мы с Петей могли быть и поварами и не раз целыми месяцами сами варили себе. Но дело не в вареве, а в женском любовном внимании, без которого дом устроить никак невозможно: не сложится чувства постоянства пребывания на определенном месте, а все будет, как бродягу, тянуть куда-то дальше и дальше, неизвестно куда. Вот тут-то на помощь пришла нам Ариша, третий, замечательный член нашей экспедиции, посвященной собранию дома в диком лесу. Эта Ариша появилась в нашей семье два года тому назад, когда мне стало необходимым выйти из своего загорского отшельничества и устроить квартиру в Москве. Жене трудно было по здоровью своему жить постоянно в Москве, я тоже не мог отказаться от бродяжничества и замариновать себя навсегда в каменном доме. Нам нужна была теперь домашняя работница; долгое раздумье на эту трудную тему привело нас наконец к Арише, отдаленнейшей родственнице моей жены. Еще маленькой девочкой видела жена моя эту Аришу, и она тогда еще отметила, что Ариша «вся в бабушку будет», а бабушка была человек такой души, какие не часто бывают. Но только в жизни этой милой девочки, как говорят крестьяне, «доли не вышло». Многосемейные бедные родители, чтобы сбыть с рук лишний рот, отдали девочку одной старой деве, и та все богу молилась, а девочка на нее работала, и пахала, и косила, и стирала. Так в великом труде пропустила девушка свое счастье, и только уже когда минуло тридцать лет, как-то освободилась от своей колдуньи, выбралась в Москву и поступила куда-то домашней работницей. Вот эту Аришу вспомнила моя жена, когда нам понадобился для московской квартиры свой человек. С некоторым трудом мы ее разыскали, и она пришла к нам, тоненькая, как восковая свеча, и сразу же без всякого договора как иждивенка наша вошла к нам в семью. У нее такое лицо, что каждый, кто только ее видит в первый раз, думает, будто где-то он видел такое лицо, и долго мучится, вспоминая где, пока наконец не хватит себя по лбу и не вспомнит: видел в Третьяковской галерее, или у Васнецова, или у Нестерова, а может быть, даже и у Рублева. Главное же в Арише было, что доля-то ее личная выпала из жизни и взамен этого, как изредка бывает у старых дев, явилось родственное внимание ко всем хорошим людям и животным. В первые же дни после ее переселения в наш огромный дом на Лаврушинском переулке она открыла нам, что! в Третьяковской галерее, расположенной как раз против! нашего дома, живет сверчок, что над Москвой носится огромное множество стрижей, и спрашивала нас, где они все могут жить, и тоже спрашивала, куда это каждый вечер летит возле нас такое множество галок. С первых же дней все собаки, живущие в квартирах по нашей лестнице, а потом и в других подъездах, ей стали приятелями, и начались с утра до ночи к нам дружеские звонки: это домашние работницы разных квартир приносили Арише остатки кухонного производства для ее любимцев-собак. Скоро некоторые собаки узнали даже Аришино окно, и как выйдут на двор, так и глядят наверх, нет ли ее там в окне. Много было у Ариши и других достоинств, кроме этого удивительного родственного внимания к животным, но сама она в себе это или вовсе не замечала, или не ценила. То, что она в себе замечала хорошего и чем гордилась и что высказывала, это было только одно: что чужого она ничего не возьмет.
– Вот положи мне, – говорила она своей подруге Зине. – положи на этот стол миллион, и я чужой копейки из него себе не возьму.
– Я тоже не возьму, – отвечала Зина, – но. Ариша, мы с тобой разные, чужого-то и я не возьму, но за свою трудовую копейку, за свою трудовую копейку, я… я… – И, сделав зверское лицо, она говорила: – Я… я… я за свою трудовую копейку…
И, видя на лице Ариши смущение, страх, недоверие, а может быть, даже и жалость к кому-то, настаивала:
– Не веришь? А вот я такая, чужого не возьму, а за свою трудовую копейку…
И опять хотела и не могла назвать род ужасной казни тому, кто посягнет на ее трудовую копейку.
III. Английский замок
При рассказе об устройстве дома на колесах я совсем забыл сказать, что входная дверь в него запиралась на английский замок, совершенно такой же, какой врезан в дверь моей московской квартиры. Кроме этого замка, была еще на двери и цепочка, такая же, как в городе: эта цепочка дозволяет увидеть изнутри в щелку того, кто пришел и стучится, но пришедший не может не только войти, но даже и руку просунуть в такую щелку. Этот английский замок и цепочку в доме, посвященном делу сближения со своими родственниками в Дриандии. не мы с Петей придумали, этого английского замка и цепочки, точно таких, как у нас в городе, от нас потребовала Ариша.
Когда мы ей предложили ехать с нами в Дриандию, неожиданно Ариша оказала нам самое бурное сопротивление. У нее от корчевки пней в этой Дриандии и до сих пор руки болят, и в ногах неизлечимый ревматизм, и перед ненастной погодой спина вовсе не разгибается. Вот еще, поедет она с нами в Дриандию какую-то в ящике из фанеры на безобразном грузовике! Ездила она на этих грузовиках не раз, бывало, с «грачами», случалось, так тряхнет, что «грачи» сверху посыплются и у кого нога сломится, у кого рука. А если в ящике запереться, то в нем и вовсе закидает вместе с вещами!
Но страх перед поездкой на грузовике не был главной причиной ее отказа, главным оказалось, совсем для нас неожиданно, это ее нелюбовь к тому, что мы с благоговением называли природой. Знает она эту природу! Эта природа отняла у нее здоровье и счастье, отняла и обездолила. С пяти лет и до тридцати пяти она работала в этой природе и теперь рада-радехонька, что попала в город: тепло, сухо, людей выбирай себе по душе каких только хочется, и даже собаки-то в городе и добрей и красивей.
И зачем это она поедет в какую-то Дриандию искать себе родственников среди птиц и зверей, когда тут у нее полна Москва настоящих родственников: в Сокольниках у нее живет сестра и свояк, сестра на фабрике, свояк хлеборез, не пашет землю, а прямо режет хлеб, скажи такому – поедет он тебе в деревню! Да что родные, тут в Москве у каждого деревенского человека чуть ли не полдеревни живет знакомых своих деревенских. Нет, родню теперь надо в городе искать, а не в Дриандии.
Против этого потока необдуманных раздражительных слов я, конечно, с выдержкой, постепенно давал понять, что наплыв деревенских людей в город явление временное, болезненное, что. конечно, город перед деревней имеет свои преимущества, но зато и деревня… вот хотя бы грибы…
Я знал, что грибы – это Аришина слабость, и на грибы я налегал, и рассказывал, и рассказывал об одном осиннике в Дриандии, таком частом, что все зайцы, добежав до него, повертывают назад: пролезть невозможно. И в этом частом осиннике даже в годы, когда нигде ничего не бывает, всегда бывают грибы. В годы же урожайные… Но тут я уже привирал, что будто в урожайные годы сюда приезжают на телегах целыми колхозами и ни одна подвода домой не приходит пустая.
Так я, постепенно и политично, пуская в ход то грибы, то ягоды, малину, бруснику, чернику и клюкву, выправил бедную Аришину душу и убедил ее, что невыгодное положение деревни сравнительно с городом есть временное положение и теперь разумные силы нашей страны направлены к уравнению деревни и города.
Слабо сопротивляясь, она возражала:
– Не будет же так, что в городе мы будем грибы собирать, а в деревню ездить за мануфактурой.
На эти слова я рассказал ей о культуре шампиньонов в городских условиях, а относительно мануфактуры указал я случай, когда в городе был недостаток, а в деревне везде был ситец: это временные недостатки распределения. Вот было тоже, в городе невозможно было достать велосипед, а я сам себе и сыну купил два велосипеда в сельпо.
После этого настроение Ариши переменилось, и она была в это время похожа на металлический лист с выпуклиной в одну сторону, как это бывает, а если хорошенько пальцем нажать на выпуклину, вдруг со звоном выпуклина переходит в обратную сторону. Мне оставалось сделать небольшое усилие, и Ариша бы вдруг всей душой стала за Дриандию. Но я сделал непростительную глупость, желая добра: я предложил Арише вместе с ее подругой Зиной в ближайший выходной день отправиться в зоопарк посмотреть на разных птиц и зверей. Этой экскурсией я хотел было возбудить в ней широкий интерес к животным, но достиг как раз обратного. Вместе с толпой Ариша попала в зоопарке к чудовищам и прежде всего увидела бегемота. Довольно бы даже было и одного такого чудовища, чтобы отшатнуться старой деве от Дриандии, но ей показали после бегемота удава, крокодилов, льва, тигра и носорога.
Тогда в душе ее всколыхнулись и встали разговоры ее поработительницы о том, что вся природа лежит во зле и что лучше не входить в нее близко и оставаться девушкой. Бедная Ариша, поглядев на крокодила, удава, бегемота и носорога, поняла, что ханжа, ее тетка, говорила ей истинную правду и в Дриандию ей ехать не следует: подальше от фени – греха мене.
В разговоре же со мной она еще припомнила тех своих подруг, которые вышли замуж: у них теперь по пять человек детей и все будто бы завидуют Арише.
Напрасно я возражал Арише тем. что не все же девушки выходят за крокодилов, и спрашивал ее, знает ли она, что в нашей природе нет ни крокодилов, ни носорогов и удавов; она отвечала мне, что если и нет крокодилов, то есть что-нибудь вроде того, и что речь идет вовсе даже и не о замужестве и крокодилах, а о том, что вся природа лежит во зле и ехать в Дриандию незачем.
Когда Петя приехал ко мне из Пушкина и я рассказал ему, что Ариша насмотрелась на зверей в зоопарке и ехать с нами не хочет и я тоже не желаю брать ее насильно, он запечалился. Он хорошо помнил, сколько хлопот нам доставляло приготовление пищи, уборка вещей. Вот тогда, поглядев на красивого и вдумчивого Петю, я сказал ему:
– Ты поговори с ней, Петя, как ты умеешь говорить с женщинами, постарайся отвлечь ее от старухиных бредней, расскажи ей, какие чудесные есть в Дриандии птицы и звери и хорошие люди, которые их выбирают, приближают к себе, а хищников отгоняют и убивают, что в этом отборе и будет весь наш Домострой.
После того я ушел в город за покупками, и когда возвратился, чудесное действие Петиных слов уже сказалось: железный лист вывернулся в другую сторону, Ариша была согласна ехать с нами в Дриандию открывать своих родственников среди птиц и зверей, начинать большой Домострой.
И вот тут-то Ариша и потребовала от нас, чтобы мы непременно врезали в наш подвижной домик английский замок и такую же цепочку, как у нас в городской квартире. Можно было понять, что Ариша, убежденная Петей, решилась сбросить с себя замок, надетый на ее душу злой рукой, открыть дверь в широкую Дриандию, но поопасилась, как бы ей сгоряча не забыть о том необходимом замке, которым всякая порядочная девушка запирается от недобрых людей.
И тогда, соглашаясь поехать в Дриандию, она потребовала от нас английский замок.
IV. Собаки-путешественники
Когда я уговорил Аришу ехать с нами, она в число условий своих поставила, чтобы наш ирландец Бой был взят с нами как сторож. Она была права. Бой как сторож собака замечательная. Но та же самая нервность, которая делала его чрезвычайно чутким, была для меня мученьем на охоте во время натаски его, еще теперь не законченной. Известно, что дрессировка собак начинается тем, что по приказу «к ноге» собака должна беспрекословно слушаться, идти рядом с левой руки (с правой – ружье). Вот я и хожу так с ним часами в лесу и не даю ему воли. Но ему страшно не терпится, он ждет позволения «вперед», идет рядом, танцуя, весь напряженный. Я же иду, конечно, то наблюдая, то что-нибудь обдумывая, и когда придет в голову новая мысль, я хватаюсь быстро за книжку, вынимаю из кармана, записываю. Бой этого только и ждет: пока я, забыв о нем, пишу, он исчезает. И потом я долго свищу, пока наконец он не явится с пеной у рта. Не по душе мне эта собака, и взял я ее, с одной стороны, из тщеславия, – аттестат уж очень хорош, с другой, из-за красоты, необычайно красив, и, в-третьих, из-за того, что щенком он жил у покойного С. А. Бутурлина – охотника из охотников. Вот и теперь опять в экспедицию беру я его тоже без всякого удовольствия, уважая разумное требование Ариши: сторож незаменимый.
– Весною, – сказала Ариша, – клюква вытает из-под снега самая замечательная, захочется клюквенного кисельку, придется мне за клюквой в болото идти, вы будете с Петей на охоте, кого при машине оставить?
Отбиваясь вначале от собаки, заражающей меня своей нервностью, я сослался Арише на Ладу, что ведь Лада-то непременно поедет со мной.
– А Лада будет машину стеречь? – спросила Ариша.
И Петя принялся хохотать, впрочем, и сам я это сказал только для смеха: Лада во всех отношениях замечательная собака, но сторож она никуда не годный. Сама от себя прямо на человека, мне кажется, она даже и вовсе лаять не может. И только уж когда все мои собаки, дикие зверогоны, заревут на дворе, тоже пытается по своему собачьему долгу издавать какие-то смешные, нелепые звуки. И все ее отношение к человеку написано в ее больших черных глазах, доставшихся ей от знаменитого предка, черного пойнтера. Два эти черные глаза и черное чутье, вот только три этих черных точки резко выделяются на всей ее белой рубашке, покрытой редкими светло-желтыми пятнами. Вот оттого-то, может быть, и встречаешься постоянно с ее прекрасными глазами и видишь там себя маленьким, перевернутым вверх ногами человеком. Глядишь тогда на этого маленького человечка и думаешь: «Вот ты какой?» А Лада в это же время, перенося свою любовь с ее какого-то Всегочеловека, большого, прекрасного, как будто пытается возвысить тебя в твоих собственных глазах. И это не только со мной, но она однажды сумела возвысить в собственных его глазах одного настоящего, профессионального вора.
Было это еще в то время, когда у нас в Москве был «Торгсин», сыгравший значительную роль в этой истории с Ладой. В то время от одной наследственной болезни погибли все мои немецкие легавые, которыми я долго занимался, и я остался без собак перед охотой. Случайно в районе Завидовского охотхозяйства в одной деревне я нашел мусорного пойнтера, которого звали в деревне Венерой. Собачке был тогда всего только год, я попробовал ее в лесу и сразу же открыл в ней чутье небывалое и понятливость человеческую. При ее молниеносном карьере ее чутье было всегда по ноге, и всякие ветры она умела ловить на всяком ходу. Купив собачку за бесценок, я назвал ее Ладой и в тот же самый сезон с ней чудесно охотился. Вот так бы и жить и радоваться, но червячок постоянно точил меня, что Лада мусорный пойнтер, что происхождение ее неизвестно, и хотя экстерьер ее превосходный, все-таки ростом она маловата и прут в основании чуть-чуть толстоват. Все бы это понятно было, если бы я был любителем кровных собак, но я кровностью никогда не занимался, ничего в этой кровности не понимал, и тянуло меня к этой кровности не больше, не меньше, как иного плебея тянет к себе «хорошее общество». Случилось, на следующее лето, известная в охотничьем мире любительница немецких легавых («курцхар») Мария Дмитриевна Менделеева-Кузьмина (дочь великого химика) написала мне письмо о каком-то замечательном черном пойнтере, таких великих кровей, такого изумительного экстерьера, что она была бы готова даже изменить курцхарам. если бы не ее Ласка: с Лаской она не может расстаться, а держать двух ей не по средствам. За сорок лет охоты никогда я не гонялся за кровностью, и даже когда попадались кровные собаки, никогда этим не хвалился и на выставки не водил. А тут вот загорелось во мне, во что бы то ни стало купить Черного. Однако с гончими и Ладой Черный был бы четвертой собакой, и этого бюджет мой выдержать никак не мог. Если брать Черного, то надо расставаться с Ладой, и вот почему с таким укором из Ладиных глаз глядит на меня постоянно в перевернутом виде маленький человечек: из-за какого-то пустого тщеславия я с Ладой расстался и принял в свой дом Черного с его бесчисленными аттестатами за кровность, за экстерьер и за первенство на полевых испытаниях.
При расставании с Ладой совесть мою успокоило, что я ее не продал, а подарил хорошему охотнику и отличному человеку, писателю Новикову-Прибою. Алексей Силыч сам приехал за Ладой ко мне в Загорск, на лугу возле нашей речки Кончуры я показал работу Лады по перепелу, и восхищенный моряк поблагодарил меня от всей души, обещаясь ухаживать за ней, как за родной дочерью.
За свою измену я жестоко поплатился, и охотничий сезон у меня совершенно пропал. По всей вероятности, чутье у Черного было когда-то, иначе как же мог он и в Ростове, и в Москве, и в Ленинграде на полевых испытаниях получить дипломы. Но что-нибудь случилось роковое в жизни собаки, и она совсем потеряла чутье. Черный или стуривал птиц на своем невозможном карьере, или проделывал бесчисленные ложные стойки, необычайно красивые, но пустые. Вот тогда-то тоска, настоящая тоска по Ладе, как по любимейшему человеку, охватила меня, и в этой тоске днем и ночью чаще и чаще вставал передо мной тот Весьчеловек, глядевший из прекрасных Ладиных глаз. И однажды, когда мне почудился этот Весьчеловек, я подумал: «А может быть, Алексей Силыч вовсе даже и не подозревает, кого он взял у меня». И я написал ему откровенное письмо и просил его, если он может, пусть возвратит мне Ладу, я же ему собаку достану, и если он хочет, то могу прислать ему сейчас Черного…
Мне потом рассказывали, что Алексей Силыч, прочитав мое письмо, потемнел в лице, но тут же справился с собой и сказал:
– Черный так Черный.
И Ладу прислал обратно ко мне, я же ему послал Черного со всеми его дипломами и аттестатами.
Неинтересно рассказывать, от кого и как я узнал эту историю из времен пребывания Лады у Новикова на его даче в Тарасовке. Пусть будто Лада прошептала все это на ухо мне, старому своему учителю и охотнику. В одну из коротких летних ночей один из подмосковных профессиональных воров наметился обокрасть в Тарасовке какую-то богатую дачу и по ошибке попал на дачу Новикова-Прибоя. Пока вор разобрался в ходах, пока возился с отмычками и другими всякими специальными воровскими инструментами, стала заря заниматься и в комнатах начинало светлеть. Ничего особенного, чтобы украсть, вор внизу не нашел и поднялся наверх, всеми силами, конечно, пытаясь не скрипнуть на лестнице. Солнце за это время тоже, конечно, не дремало, и когда вор вошел в верхнюю комнату, там все было видно, как днем. Стоял небольшой письменный стол и на нем с заложенным белым листом стояла писательская портативная пишущая машинка «Корона». Рядом со столом, под старой, порыжелой от времени курткой, на дачном простом диване спал человек. А под столом, свернувшись калачиком, спала белая собака с рыжими пятнами. Трудное положение было вора, собака брехнет, человек проснется, и что, если у человека наган под рукой? Но собака крепко спала и даже похрапывала. Вор подошел к самому столу, собака храпела. Он осторожно уложил машинку в футляр, собака спала. Тогда вор, слушая сопение человека и храп собаки, осмелел, стал оглядывать комнату, нет ли тут еще чего-нибудь. И ничего больше в комнате не оказалось. Тогда вор подумал, уж не захватить ли ему и кожаную куртку. Вор был артист в своем деле и снять куртку мог теперь без всякого риска. Он стал на одно колено, чтобы ему видна была собака и чтобы в случае беды можно было быстро вскочить, схватить машинку и умчаться вниз по лестнице. Лада крепко спала, но голова ее все-таки была обращена к вору и, когда вор приподнял край кожаной куртки, вдруг почуяла, пробудилась и открыла свои большие, прекрасные черные глаза. Вор, конечно, не знал, что Лада на человека даже и лаять-то не умела, он приготовился совсем к другому приему. А Лада как лежала, так и осталась точно в той же позе калачика, только теперь из этого калачика глядели глаза… Потом на суде вора спрашивали:
– А знали ли вы, что, может быть, под этой курткой сам Алексей Силыч лежит?
– Что вы, что вы, граждане судьи, – замахал рукой образованный вор, – да ведь я же два раза его «Цусиму» перечитал, да знай я тогда, что я в его доме, я бы сгорел со стыда. И как мог я коснуться тогда его куртки, зная, что, может быть, он в этой же кожаной куртке в Японском море страдал.
И когда судьи, повеселев, попросили вора дальше рассказывать, вор сослался на большие глаза собаки: собака глядела и не защищала хозяина, только глядела, а он не мог куртки снять: осторожно опустил край, взял машинку, и когда спускался, еще оглянулся. Собака глядела на вора с вопросом: «Не стыдно ли тебе, старый плут?»
– Позвольте, – перебили его судьи, – вот вы говорите, что вам стыдно стало, когда собака молча глядела на вас, как вы со спящего человека снимаете на заре куртку, но как же не стыдно вам вообще заниматься своим позорным ремеслом?
– Вообще, граждане судьи, – ответил вор. – я должен признаться, что ремеслом своим заниматься не стыжусь и в этом не прошу вашего снисхождения. Но я вам искренно передаю, как в этом случае было: такими глазами собака на меня поглядела, что казалось мне, Весьчеловек на меня поглядел. И я вдруг понял, что свой же брат, человек, под курткой лежал, и куртка эта старая, порыжелая, и вот заря занимается, сейчас, может быть, станет холодно, человек проснется, хватится… Нехорошо! И мне стало стыдно, что в своем ремесле я дошел до такой низости.
Судьи поняли вора и судили его снисходительно. И если даже профессиональному-то вору было стыдно от Ладиных глаз, как же мне стыдно было, что я из-за какого-то тщеславия изменил своему милому другу и променял его на черного фигуранта. Конечно, и Алексей Силыч скоро понял, какая это собака Черный. Он, в свою очередь, подарил его в питомник Военно-охотничьего общества, и там очень дорожили им как замечательным производителем. Недавно он у них помер. Ладе же теперь девять лет, возраст для рабочей собаки хоть и значительный, но она еще очень свежа, ни зубы не портятся, ни слух, и на охоте резвость свою ничуть не теряет и работает на славу всем пойнтерам.
Кроме Боя, взятого как отличного сторожа, Лады, друга моего, пришлось взять и Петиного друга, молодого спаниэля, с целью показать этой универсальной охотничьей собачке следы птиц и зверей. Мы достали спаниеля для расширения своего охотничьего опыта, – очень хотелось испытать на практике пригодность к охоте этих собак; величиной чуть больше кошки и с сеттеровыми ушами почти до земли. Те владельцы семьи спаниелей, у которых удалось нам достать щенка, назвали всех щенков этого помета одной кличкой Джимми. Мне объясняли, но я как-то не мог уловить смысла такой затеи, чтобы всех называть одним именем. Кажется, так им было легче следить за судьбой щенков, попадающих в разные руки. Скорее же всего, я думаю, это было рабское следование за английской модой. Не нравилась мне эта чужая кличка, да притом ужасно незвучная: изволь орать «Джимми!», когда дрессируемый щенок помчится за котом или зайцем. Но с неудобной кличкой на практике всегда бывает, как со всем неудобным для произношения. Слова, как все равно камешки в быстром ручье, скатываются и становятся удобными: камешки для продвижения, слова для произношения. Мы сначала превратили Джимми в арабского Джинна, и когда этот арабский дух Джинн засел верхом на утку нашу Клеопатру и начал ее жать, то мы все разом закричали на него не Джинн, а Жим. После того точно так же этот Джинн засел на курицу нашу, знаменитую и прославленную моими рассказами Пиковую Даму, и мы опять кричали на него «Жим!» в смысле: «Не жми!» И так оно и пошло бы, наверно, и со смыслом практическим, и было неплохо для произношения. Но случилось, однажды Жим засел на Хромку, охотничью уточку, и без того уж убогую, хроменькую.
– Жим, перестань, Жим! – закричали мы.
Но он не слушал и продолжал жать Хромку. В это время за калиткой на улице кто-то звучно крикнул:
– Сват!
И, услыхав этого «свата», Жим бросил уточку.
– Вот кличка-то! – сказал я. – И звучная, и милая, давайте попробуем Жима звать Сватом.
Не успел это я сказать своим, как послышался за калиткой отчетливый разговор каких-то прохожих.
– Да он же мне, милый, не сват, не брат, – сказал один.
А другой ему сочувственно:
– И не сват и не кум!
И пошло, как под музыку:
– И не сват, и не кум!
– И не тесть.
– И не зять.
– И не шурин.
– И не свояк.
А после некоторого молчания и уже издали, чуть слышно:
– Никакая не родня, а просто седьмая вода на киселе.
На другой день, случилось. Жим разогнал нашего кота и сам ударился за ним через подворотню на улицу. Я выбежал в калитку и во все горло закричал:
– Сват!
Тогда сапожник, сосед мой, и разные другие соседи, и мальчишки-голубятники, и разные прохожие с величайшим изумлением поглядели на меня, вызывающего из неведомого пространства свою родню.
А кот за это время, сделав круг и не успев вскочить где-нибудь на дерево, показался бегущим обратно, и за ним, чуть ли не на хвосте, мчался Сват. Тогда по лицу моему, по всему удовлетворенному виду все поняли, кто был моим сватом. И сколько тут было смеху, сколько звонкой радости, старый и малый все орали вслед бегущему коту и собачке: кто Сват, кто Кум, кто Тесть, кто Зять, кто Шурин, кто Деверь, кто Свояк.
Кот же, конечно, нырнул в подворотню и, чувствуя у самого хвоста своего морду Свата, на дворе по брезенту, прикрывающему капот моего дома на колесах, махнул вверх на машину и прижался задом к стеклу, через которое шофер глядит на дорогу, и передние лапы поставил на бензиновую пробку. Сват же, конечно, по брезенту тоже за ним на капот и остановился возле пробки радиатора, осторожно переступая пространство. С пробки радиатора медленно наступал на пробку бензина. Но по мере того, как подвигается вперед Сват, Васька, вглядываясь в него холодным, зеленым расчетливым глазом, медленно заносит назад правую лапу точно так же, как бойцы заносят назад руку с гранатой, чтобы с силой бросить вперед. И когда нос Свата был возле самой бензиновой пробки, граната ударила по носу и с шипом разорвалась, и Петя мой, сочувствия коту, произнес:
– Я тебе не сват, не брат.
И это без конца повторялось, и так долго, что я успел принесть два аппарата, большой и «лейку», и снимал, и снимал, а Петя все время твердил:
Не сват, не брат, Не тесть, не кум, Не зять, не свояк, И не шурин и никакая не родня: Седьмая вода на киселе.V. Этажи леса
Ну, вот и все живые существа, члены нашей экспедиции: мы с Петей, Ариша, наши милые собаки-путешественники – Бой, Лада, Сват – и еще две охотничьи (подсадные) уточки, Хромка и Клеопатра.
Конечно, много предстояло еще подумать о разном необходимом инвентаре, но все это было мелочью в сравнении с самым главным, чего у нас не было: у нас не было самой цели экспедиции, не было темы для исследования. И об этом мы с Петей серьезно задумались. В сущности, у нас был только дом на колесах, но мы не знали, куда и зачем он покатится. Должен сказать, что в глубине души и самого-то меня это не очень смущало: однажды мне подарили ружье, и я стал отличным охотником, моему же другу подарили музыкальный инструмент, и он стал музыкантом. Так и в моем домике на колесах таились возможности такие же чудесные, казалось мне, как в ковре-самолете.
Об отсутствии цели я не тужил: был бы домик да мы. Но вот полезли на крыши коты, значит, оставался до полой воды лишь месяц, и мы с Петей серьезно задумались о цели нашего путешествия, и я особенно задумался о Пете: как бы сделать так, чтобы это путешествие оправдало его отрыв от занятий в зверосовхозе. Это известно, что для родителей дети их так и остаются детьми навсегда, и мы думаем о них всегда, как о маленьких. Помню, когда я учил Петю в его детстве, чтобы не зубрить историю, а рассказывать ее своими словами, он возразил мне:
– Если я вызубрю, это будет, как надо, если же я стану своими словами рассказывать, я буду рассказывать, как мне самому хочется: так нельзя, мало ли что мне самому вздумается.
– Нет, Петя, – возражал я, – надо верить в себя, будь смелей!
– Получится не история, – отвечал он, – а сказка.
– Если хорошая, умная сказка, – говорил я, – это будет не хуже истории. Вот ты прямо и попроси разрешения: позвольте мне, как мне самому хочется. Учителя это тебе с большой радостью разрешат, они от вас этого только и ждут.
На эти слова мои Петя улыбался, как улыбаются взрослые люди неопытным детям, и рассказывал для меня историю, как ему хочется, а в школе отвечал назубок: как надо.
Точно то же у нас повторялось и теперь при обсуждении цели и плана экспедиции. Я звал его к науке, чтобы жить потом своими мыслями, я доказывал ему, что служить, как он теперь служит, в смысле выполнения готового плана, гораздо удобней и легче, но это и не так интересно, и меньше оно пользы приносит обществу. Я советовал ему немедленно заняться аспирантурой, обещал помочь ему в этом, пока он не станет на свои ноги, не окрылится, не захочет сделаться пионером какого-то небывалого дела. Мало-помалу я увлек его, и мы стали выбирать дисциплину, в которой интересней всего будет работать. Из биологических наук пас обоих больше всего интересовала экология, или учение о доме живых существ («ойкос» с древнегреческого – «дом»). Но, конечно, каждый из нас понимал это учение о доме животных по-своему.
Петю интересовало взаимоотношение животных со своей средой; как охотник он способен был к этому чрезвычайно. Ему достаточно взглянуть на лесную поляну, чтобы сказать: вот тут-то, а не там находится выводок тетеревов. На болоте он догадывался о болотных жителях, на воде сразу угадывал, где нужно поставить рогатку на хищника. Следы животных или рыбьи кружки на воде – всем то пустяки: следы для него есть уже самый зверь, а вот трудность прийти к такой среде, в которой должны быть следы.
Меня же увлекала самая сказка этой удивительной науки, страстное желание своими глазами повидать, своими словами рассказать о домике каждого животного, может быть, и растения, и все эти домики соединить в ландшафт страны. Мне хотелось, чтобы ландшафтом не только бы праздно любовались, когда захочется, а чтобы ландшафт раскрывался перед всеми, как Дом живущих на земле растений, животных, человека. Эта необъятно широкая задача, вытекающая из недр моей родственной связи с природой, мучительно требовала уточнения, ясного понимания, за что взяться, с чего начать.
Мы решили для этого войти в связь с кафедрой экологии в университете и там получить тему для Петиной работы: эта тема для Пети будет аспирантской работой, для меня же именно тем, «с чего начать», чтобы потом войти в великий дом живых существ, повидать там все своими глазами, рассказать потом для всех своим языком. Пусть наука открывает неведомые миры, пусть они, ученые, этим занимаются, но обживать-то эти миры будем мы – не ученые, а просто люди, живые, любящие жизнь, страстно желающие о ней другим рассказать: я хочу быть первым жителем неведомой, открываемой наукой страны.
Все это я говорил Пете и просил все это передать профессору экологии А. Н. Формозову для того, чтобы ему ясно стало, чего мы хотим. Петя слушал меня очень сочувственно и очень обрадовался нашей затее, но идти к профессору и рассказывать какие-то сказки ему было трудно, он был очень смущен. После колебаний, раздумья он, конечно, пошел, но явился еще более смущенным. Профессора он не застал в этот раз, но он был в его лаборатории и слышал там разговор, по его словам, для нас очень-таки поучительный. В лаборатории восхищались какой-то исследовательской работой молодого аспиранта о лягушке, и восхищались не каким-нибудь открытием чего-то нового в жизни лягушки, а исключительно добросовестностью исследователя, сделавшего около миллиона измерений лягушки в длину и около миллиона тоже в толщину.
– Вот видишь, – говорил отрезвленный Петя, – ты меня соблазняешь своей фантазией о каком-то доме животных, включенном в то, что называют просто ландшафтом, а между тем я прав: экология есть точная наука и требует точно такого же усердия и длительности, как и наше пушное дело в Пушкинском зверосовхозе. Давай же просто охотиться с тобой, как раньше, – я буду тебе доставать всякие материалы, и ты пиши свои сказки. К Формозову я больше не пойду.
– Если тебе стыдно прослыть фантазером, – сказал я, – то сошлись на меня, скажи, что это я прошу профессора для себя дать мне лесную экологическую тему с возможностью разработать ее в один весенний сезон.
После этого разговора Пете пришлось созвониться с профессором, в назначенный час он пошел к нему на квартиру и вернулся, как я это и предвидел, сияющим.
– Формозов, – сказал Петя, – как только я назвал тебя, понял меня с первых же слов, сам тужил, что забил себя окончательно наукой и не может больше глядеть на мир первым художническим глазом, и сочувствует тем, кто свободен. Он дал тему «Этажи леса», самую увлекательную, какую можно лишь себе вообразить. Экологически лес оказывается разделенным на много этажей, начиная от корней, среди которых живут землеройки, полевки и другие животные, кончая вершиной. В тропических странах будто бы есть птички, которые так постоянно и живут в верхних этажах и никогда не спускаются вниз.
– Есть и у нас, – вспомнил я, – такая малюсенькая птичка, названия ее не знаю и песенку ее не слыхал, только видел, что носик ее раскрывается весной, что-то поет: вот какая малюсенькая птичка, вот как высоко живет, что песенка ее до земли не доходит. Я прозвал ее Птичка-Невеличка.
– Не думаю, – ответил Петя, – что Невеличка никогда не спускается на землю.
– Я не говорю, что никогда, – поправился я, – а что она, может быть, большую часть своей жизни проводит в верхнем этаже.
– Это возможно, – согласился Петя, – но профессор мне сказал, чтобы я строго ограничился нижним этажом и выбрал себе в этом этаже одно самое маленькое и почти не изученное позвоночное: оно величиной почти с наперсток, если взять его без хвостика и рыльца, а рыльце у него с хоботком…
– Землеройка! – узнал я.
Мы, охотники, знаем это животное: весною, когда стоишь на тяге вальдшнепов, при ропоте ручейка иногда послышится шорох в прошлогодней листве и раздастся тоненький, как кончик иголки, писк: это она пищит, землеройка, величиною с наперсток, в любовной погоне за другим таким же наперстком. А то бывает на тяге, слой прелой листвы шевелится, поднимается как будто самовольно и опускается – это она! И так бывает неловко: ты стоишь тут, думаешь, один, а на тебя из-под листвы глядят – там, тут, везде.
Восхищению моему «темой» конца не было: и то было прекрасно, что Дом живых существ в лесу имел этажи и что осязательно ясно было, с чего нам начать: с самого маленького, вовсе не изученного позвоночного.
– В нижнем этаже, – сказал добросовестный Петя, – я буду по всем правилам науки изучать землеройку, а ты в верхнем свою Невеличку.
– Рано ты вбираешь в себя ученую спесь, – ответил я, обиженный за свою Невеличку. – Но почему же непременно нижний и верхний этажи, разве тебе профессор ничего не говорил о средних?
– В средних, – ответил Петя, – живут дупляные птицы, профессор сказал мне, что если времени у меня от землеройки останется, то я могу заняться и дятлами.
– Значит, – сказал я, – выше среднего этажа профессор тебя не допускает?
Петя понял мой намек и ответил:
– Нет, выше среднего он меня не пускает, верхние этажи он предоставляет тебе, ты можешь там открывать Невеличку, а может быть, откроешь еще и птицу с ликом девы.
Так спорной птицей Сирином и закончился наш первый экологический разговор.
VI. Край дедушки Мазая
С тех пор как определилась наша экспедиция как изучение этажей леса, нам стало все ясно, и снаряжение устраивалось само собой. Петя достал себе место в экологической лаборатории, читал там с утра до ночи книги по экологии. Я же сидел в Библиотеке Ленина и пересматривал всех писателей и поэтов, выбирая у них все для меня ценное в отношении поэзии леса. Очень скоро в моих исканиях явилась интересная литературная тема «Лес в русской поэзии» и тем самым определилось значение каждого писателя и поэта в деле изображения русского ландшафта. Совсем неожиданно для себя я открыл, что чувство природы в литературе сказалось вполне оригинально только у тех, кто был охотником. У Льва Толстого, Мамина-Сибиряка и в особенности у Некрасова. Мне казалось даже, что никто никогда не понимал Некрасова через его чисто охотничье чувство природы, во всяком случае, у меня на это впервые открылись глаза, и впервые через себя самого я понял Некрасова и через Некрасова приблизился к себе самому. Мне очень трудно теперь в этом сделать себя понятным для тех, кто не обладает охотничьим чувством природы и создал себе представление об этом через вульгарные охотничьи рассказы, построенные на иллюзии (вранье). Множество охотников, конечно, и врут, но самое чувство природы непогрешимо, и это некрасовское чувство природы состоит в чувственном единстве красоты и правды. Не знаю, как бы сделать себя еще более понятным. Вот представим себе, что зимней порой после метели охотник заметил след и пошел за куницей. Он не видит куницы, он идет по тем соринкам, которые роняет куница, перебегая с дерева на дерево, по тем просветам, оставшимся на опущенных веточках, когда куница своими лапками выбила из снежных стенок кристаллы, по ямкам-рябинкам внизу на чистом снегу от обрушенных куницей снежных кулачкой, собранных веточкой. Случается, охотник и заночует в лесу зимой, наверно, не раз бывало, что и замерзнет, не увидев куницы. А бывает, и на вторую ночь останется охотник в лесу, но потом дойдет до нее и возьмет. Вот это «взять» и есть правда охотника, и только когда он возьмет, ярким светом вспыхнет весь лесной волшебный путь достижения, и эти волшебные видения снежных фигур на ветвях в этом случае, как путь достижения, есть поэзия охотника. Не возьми же куницу, все эти фигурки не вспыхнут светом единства и в душе охотника будут утомительно однообразным хаотическим собранием всякого вздора. И тогда на долю поэта останется только соврать. Вот почему такая поэзия, как у Некрасова, предполагает внутри себя непременно правду: Некрасов куницу убил. А сколько бы я-то сам книг написал, какие короба наврал всякого вздору, если бы меня тоже не связывала по рукам и ногам эта необходимость лично самому убить куницу, чтобы рассказать о снежных фигурках, сопровождающих путь лесного зверька!
Мне пришло в голову, читая Некрасова, что пренебрежение к низшим существам и полунаука приучили нас относить к животным лишь стадные действия. Но вот хотя бы эта коварная вода, незаметно, неслышно наступающая, застает ведь каждого зайца на отдельной лежке, и каждый заяц от потопления должен спасаться по-своему, и у одного это выйдет – он спасется, другой поглупей, неверно выбрал линию спасения и погиб. Так почему же нас с детства приучают к тому, что свойственно всем зайцам, а не к тому, чтобы учиться понимать животных, как мы учимся понимать людей с первого момента нашего сознания. Нас приучают думать о животных, как мы думаем бесстрастно о людях на большой, переполненной улице. И вот бывает, в этой безликой толпе двое узнали друг друга и бросились навстречу друг к другу! Вот и мне хочется тоже так изучать природу: среди всех зайцев, всех дятлов, землероек находить своего зайца, своего дятла, свою землеройку. Этим путем родственного внимания Лев Толстой начинал создавать – и как удачно! – свою зоологию, свою ботанику для детей…
Я особенно обратил внимание у Некрасова на его поэму «Мазай и зайцы», и мне очень захотелось побывать в этом краю и своими глазами поглядеть на животных, которые спасаются каждое по-своему во время наводнения. Тут же вот, читая поэму Некрасова, я раздумывал о том, что если какому-нибудь зайцу выпадает доля спасаться, не глядя на других, а совершенно по-своему, как ни один заяц никогда не спасался, то изучение такого зайца как индивидуальности и есть путь родственного внимания, но ведь не одни же зайцы, все животные спасаются, и каждое из них спасается по-своему, и если так изучать всех, то получится совсем необыкновенная зоология, продолжающая дело, начатое Львом Толстым.
Это свое открытие я сообщил Пете и просил его рассказать Формозову, спросить его, что в этом неверного и почему зоологи этим методом родственного внимания вовсе не пользуются.
– А может быть, пользуются? – сказал Петя.
– Если же пользуются, – ответил я, – тогда ты спроси, какие, например, есть на свете исследования повадок животных во время наводнений.
Петя покраснел, и я понял его по себе: в студенческое время, бывало, тоже хочется спросить профессора о чем-нибудь особенном, о чем сам догадался, и в самый последний момент вдруг покраснеешь и не решишься. Я понял по себе, что Петя о таком спросить профессора никогда не решится, и сам спросил, но не Формозова, а тоже известного зоолога. И он мне сказал, что, кроме очень тощей немецкой брошюрки о повадках животных во время наводнений, на свете нет таких исследований. А на вопрос мой, почему же нет. профессор улыбнулся и ответил, что во время наводнений ведь как раз же бывают экзамены в университете, некогда бывает ни профессору, ни студентам. Что же касается самого метода исследования по родственному вниманию, то, конечно, такое исследование с наукой не имеет ничего общего. И он был, конечно, прав, и Петя хорошо сделал, что не послушался меня и не спросил о том же Формозова.
Пока мы так занимались с Петей каждый своим делом, день за днем разгоралась весна света, в Загорске пудовые наросли сосульки на крышах, в Москве на всех углах продавали мимозы. Случилось, в это время к нам в охотничью секцию клуба писателей поступило предложение взять как охотничью базу тот самый край, где была создана поэма Некрасова «Мазай и зайцы». Оказалось, что уже лет десять ездил сюда охотиться писатель Новиков-Прибой и привозил оттуда множество уток. Старый охотник неплохо делал, что помалкивал о богатых дичью местах, не так-то уж много их остается возле Москвы. Уток его мы все ели, но только не могли дознаться, откуда он их достает в таком количестве. Тут, к счастью моему, пришло время юбилейного чествования Некрасова, и Алексей Силыч, по-видимому, не счел себя вправе больше умалчивать о Вежах, где жил Мазай: он предложил нашей секции сделать Вежи охотничьей базой писателей и тем почтить память поэта. Мы узнали тут, что Вежи и сейчас находятся в том же самом виде, как при Некрасове, что точно так же, как и в его время, каждую весну волжская вода приходит в эту большую низину и спасать приходится теперь не только зайцев, но и лосей, которых со времени Некрасова здесь развелось очень много. Еще удивительней было узнать, что дед Мазай жил не только в воображении Некрасова, а действительно жил все время в этих Вежах, охотился с Некрасовым, спасал зайцев, а после него в этом же самом доме живут до сих пор Мазаевы, его потомки. И эта находка Мазая в Вежах сразу скрепила мысли мои о единстве правды и вымысла в душе охотника – Мазай был! До того тянет к правде, что с трудом меняешь имена, и когда переменишь, частица какой-то волшебной силы уходит в эту дыру перемены. Мало того, я постоянно беру с собой фотографические аппараты, делаю тысячи снимков совершенно мне, по существу, бесполезных: это мне, охотнику, тоже хочется уверить всех, что мои поэтические видения правдивы и каждый, если хочет, может это увидеть и сам.
Так определилось место, где мы с Петей будем изучать этажи леса. Секция охоты сделала постановление командировать меня в некрасовский край для охотничьей разведки и для устройства охотничьей базы клуба писателей.
VII. Земля улыбается
Все наши собаки, легавые и гончие, отлично понимали, что мы собираемся уезжать, но у всех это выражалось по-своему. Трубач со своим сыном чувствовали, что мы их не возьмем, и от обиды забрались в свои конуры. Бой нервно бегал по двору из конца в конец и всюду оставлял без конца свои заметки. Сват же поселился под машиной и, когда кто-нибудь из нас приносил вещи, мгновенно вылетал оттуда, хватал за штаны или за что-нибудь и тащил. Всех предусмотрительней оказалась Лада. В то время как я ходил в свой гараж за каким-то инструментом, она прошмыгнула туда и незаметно для меня залезла в приоткрытую дверку моего старого «газика», на котором вот уже восемь лет с той же Ладой ездил я на охоту. Из опасения, что ее не возьмут, она залезла туда, залегла, как убитая, и весь день без пищи, без питья лежала там, затаив дыхание. Мы же в суете сборов о ней вовсе забыли, и гаражик свой запер я на замок.
С утра до ночи мы грузились, вычеркивали уложенное из списка, приписывали новое, что во время укладки само собой приходило в голову. Был у нас хлопот полный рот, но все-таки я помню, что это был день весны света, когда днем около полдня во всем городе летят золотые капли с сосулек и от них пахнет живой водой. Вечером же капли стали намерзать, сосульки на глазах удлиняться, и от них запахло морозом и солнцем. Потом вышел месяц на чистое небо. В последний раз мы проверили список, и все оказалось на месте. Полноправной хозяйкой по особой лесенке вошла Ариша внутрь домика с Боем и Сватом, а когда Петя взялся за ручку, чтобы повертеть немного мотор, перед тем как его завести, послышался изнутри домика встревоженный голос Ариши: «Батюшки мои, да где же Лада?» И тут мы вспомнили все, что весь день Ладу не видали. Петя положил ручку и отправился за Ладой. Ариша, Бой и Сват всюду искали ее, но Лады нигде в доме не оказалось. Стали догадываться, не залезла ли куда-нибудь в курник, что ли, и там посмотрели, и там, и кричали на весь двор и потом на всю улицу, – нигде Лады не было. К счастью, скоро жена моя догадалась и сказала, что она должна быть в гараже. С интересом бросились мы в гараж, и она там оказалась в машине, теплая и голодная и такая упрямая, что только силой можно было ее вывести и перетащить в дом на колесах.
Мороз усиливался с каждой минутой. Мотор остывал. Петя повернул с трудом коленчатый вал, и странная огромная тень человека легла во весь двор на снегу. Сват обратил внимание на то, что тень на снегу двигалась, он глазам своим не верил и насколько только мог старался приподнять свои невозможно длинные уши и услышать что-нибудь от движения тени. Очень возможно, ему и почудился какой-нибудь звук, и он отпрыгнул назад и брехнул. Петя это заметил и нарочно сильнее повернул ручкой. Сват прыгнул с лаем вперед и опять отпрыгнул назад. Тогда при лунном свете из конуры выходит громадная собака, зверогон Трубач, движется по громадной Петиной тени, долго разглядывает движущуюся тень и понимает: это тень, это ничего не значит. Трубач возвращается в конуру, и Сват понимает: там нет ничего.
Машина прогрелась, Петя уходит в кабину шофера и Сват к Арише по лесенке. После обычного чиханья, вспышек новая, хорошо отрегулированная машина успокаивается и своим равномерным дыханием на холостом ходу мирится с нами, с ночью, с собаками: все молчит, только ровно дышит машина.
– Петя, береги отца! – были последние слова на нашем дворе.
И так мы поехали.
Днем ли ехать или ночью, – не все ли равно, ведь наш дом теперь на колесах, и где только и когда только нам ни вздумается, мы можем стать и жить, как дома, с той, однако, разницей, что «дома» мы отделены от природы, в Москве каменными стенами, в Загорске вековым влиянием соседей с их заборами, петухами и всей обстановкой, ограждающей улицу с маленькими домами от входа лучей всего великого мира в душу людей, называющих себя в маленьких домах, на маленьких улицах не без лукавства маленькими. Здесь же стенка из девятимиллиметровой фанеры не задерживает лучей великого мира, и в доме на колесах мы входим в такую же связь с погодой, как заяц, лежащий в брусничке между выпуклыми ветвями корней, или как птица, дремлющая на сучке: мы в своем доме теперь не по термометру и барометру, а сами по себе чувствуем погоду и все перемены и звуки.
В темноте трудно было определиться в местности, мы свернули где-то с шоссе и с проселка тоже куда-то завернули в сторонку, чтобы никому не мешать, и стали. Воду из машины спустили, нашли воду свежую, вскипятили на керосинке. Домик от керосинки очень скоро нагрелся, и мы в одних рубашках пили свой первый чай.
Пока Ариша после чая стелила нам постели, я вышел и очутился в совершенной тишине под звездами, очень яркими в эту морозную ночь. Отойдя по холму так далеко, что только чуть-чуть светили огни нашего домика, я сел на горелый пень. От звезды к звезде, от созвездия к созвездию я проводил свои антенны, и мне кажется, получал какие-то небесные вести. Когда же я вернулся, то Петя уже залез в свой спальный мешок и Ариша дожидалась меня, тоже чтобы устроиться спать между ларями. На вопрос же их, куда я ходил и почему так долго, я ответил, что соединял звезды антеннами.
– И слышал что-нибудь? – спросил Петя.
– Конечно. Слышал сообщения и в заключение: «Последние известия передавали Телятников и Фриденсон».
– Детский ум! – засмеялась Ариша.
Так она всегда говорила, если что-нибудь у меня выходило смешно.
И стала раздеваться, не стесняясь, как раздеваются на ночь всегда целомудренно и серьезно в деревенской избе.
Утром мы сразу же узнали место своей ночевки: сколько раз тут мы гоняли лисиц и зайцев. С этого места Ярославское шоссе, белое в темных хвойных лесах, то глубоко падает, то поднимается, и машину то пускаешь надолго катиться с выключенным мотором, то, напротив, тяжело поднимаешься к далекому, видному уже где-то на небе просвету между лесами. И так далеко, и так все время с горы на гору, и так все время лесами. Бывает, конечно, встречаются и поля, и деревни, но едешь скоро, и эти поля между лесами проходят, как полянки при лесных переходах.
Видел я горы на своем веку, и много чудесного и возвышенного я видел в тех настоящих горах. Но всегда вид этих гор напоминал мне о страданиях земли, воздвигнувшей непонятный хаос вершин, и от этого великого страдания земли я переходил к пикам собственной жизни. Тут же но Ярославскому шоссе к Переславлю, конечно, земля когда-то, как везде, тоже страдала, переживая свои страшные эпохи. Вот тут я чувствую, что страдания перешли какую-то свою границу, и сквозь слезы наконец-то наша многострадальная земля улыбнулась. По этим улыбкам-холмам едешь и любуешься лесами, как они то сходятся, то расходятся, и все разные: тут, вблизи, темные, голубые вдали и там где-то, далеко на горизонте, все еще видны в таком цвете, какой еще никогда не бывал; и не бывало и не создано слов для названия, цвет какой-то смешанный из синего василька, желтой соломинки и пера сизого лесного голубя.
VIII. Братья по духу
Вот так мы все ехали и ехали, пересекая по очереди Переславль, Ростов, Ярославль. Никто в городах на скромный наш экипаж не обращал никакого внимания. Мы становились где-нибудь в сторонке на площади и глядели в окошко, как будто бы мы тут жили в своем доме, и ночью, поужинав, спали, как и все постоянные граждане города. В Костроме мы пересекли Волгу, засыпанную еще глубоким снегом, переехали город и покатились вдоль реки Костромки, пересекая покрытые крепким льдом озера и маленькие бесчисленные пои. Все эти озера, озерки и пои остаются здесь на пойме от весеннего времени, когда Волга, разливаясь, опрокидывает все впадающие в нее реки и заливает весь край. Совсем недалеко от некрасовских Веж лед на пойменном месте при самом выезде из озерка треснул, и наша машина забуксовала в грязи. Неосторожно Петя дал газу, и от этого колеса безнадежно зарылись. В то время как мы в поте лица, не обращая ни на что вокруг никакого внимания, возились с машиной, вдруг возле нас послышался веселый звучный голос:
– Эх вы, пыль подколесная!
Мы бросили машину и с изумлением оглянулись. Перед нами был великан с русой бородой, сидел он на облучке старинных извозчичьих санок, какие теперь встречаешь как большую редкость. Что-то гордое от избытка силы и свободное было во всей осанке великана, как будто это был не извозчик, а полновластный хозяин всего этого приволжского края. У Максима Горького я это знал и еще у одного большого певца, тоже с Волги: как будто это у них от Волги, та разливается, и эти могут и готовы расшириться душой, не обращая никакого внимания на мелочи, на пыль подколесную.
– Здравствуйте! – сказал нам великан.
– Здравствуй, дорогой, – с удовольствием ответили мы этому отличному и здоровому телом и, наверно, душой человеку, принявшему облик извозчика. – Помоги нам, – попросили мы, – но только скажи вперед, за что ты нас назвал подколесной пылью?
– Да разве я на вас? – с изумлением сказал великан и принялся хохотать, и так весело, что и мы тоже из сочувствия стали дружно смеяться.
Оказалось, это и вправду никак не к нам относилось, а было взамен того неприличного, что повторяет русский человек и что в зависимости от оттенка звука одинаково может означать и вражду и дружбу. И «пыль подколесная» точно с такими же оттенками звуковыми в этом случае означала сочувствие и готовность помочь.
– Вот настоящий Мазай! – сказал я Пете, – некрасовский Мазай, когда он был еще в полной силе.
– Пыль подколесная! – с изумлением воскликнул этот наш новый Мазай, – да вы наших Мазаевых знаете?
– Пыль подколесная! – повторил Петя вслед за Мазаем, – мы охотники, мы едем в первый раз в Вежи и Мазая знаем по Некрасову.
– Мазай и зайцы! – засмеялся новый Мазай, – увидите, скоро увидите, как будут тонуть. А только меня кличут не Мазаем, а Пчелкой.
– Нечего сказать, – ахнули мы, – вот так пчелка!
– А это по лошади, – смеялся Мазай, – лошадь у меня была Пчелка, и меня тоже, я кричу на лошадь «Пчелка!», а на меня говорят «божья Пчелка».
Услыхав в открытое окошко разговор о божественном, Ариша выглянула и своим нежным голоском спросила Мазая:
– Вы, наверно, в церковь ходите?
– Нет, не хожу, – ответил Мазай, – все как-то вроде как совестно было раньше.
– Чего же совестно? – спросила Ариша.
– Из-за одежи больше, – сказал Мазай, – то на охоте, да на рыбе, да вот зимой на лошади в Костроме езжу. Совестно было стать с людьми. Да так вот и не привык тогда, а после и вовсе отвык и людям дивлюсь: как это они могут зачем-то стоять.
– Неверующий, – сказала Ариша.
Великан серьезно, глубоким взглядом поглядел на нее, задержался, всмотрелся как бы сверху; так, бывало, великан староста церковный стоит с тоненькой копеечной свечкой и глядит на нее и пальцем приминает сплав воска от тепла: Ариша настоящая свечка в сравнении с Мазаем. Можно было понять, что вопрос, верующий он или неверующий, впервые стал перед Мазаем, и он в Аришу глядел, как бы стараясь в ней же самой найти и ответ. Закончив изучение «свечки», «божья Пчелка» все в ней понял и тогда обратился к нам с вопросом:
– Вы зачем ее возите?
И ответа нашего не стал дожидаться.
После того, привязав Пчелку за береговую ольшину, Мазай, ничего не говоря, берет наш топор, куда-то уходит и скоро возвращается с такой огромной осиной, какую бы нам с Петей и Аришей втроем ни за что не донесть: и это у него будет вагой! После того другое дерево он рубит на куски, складывает их колодцем, поддевает вагой под ось и мы все втроем наваливаемся и сразу высоко вздымаем вверх дом на колесах… Теперь нужно только подложить что-нибудь под колеса и перестроить «подмог», чтобы еще повыше поднять. Но как только Мазай встает, вага выпрямляется и мы с Петей высоко взлетаем на воздух.
– Пыль подколесная! – восклицает Мазай. – Да какие же вы легкие, – и принимается вновь выкладывать подмог и заделывать вагу.
И опять мы поднимаем машину. Только теперь уже не Мазай, а Петя, всех нас полегче, встает. Но равновесие держалось как раз на всех трех, и как только выбыл Петя, мы с Мазаем опять высоко взлетаем на воздух.
И с хохотом и с криком «пыль подколесная!» опять все переделали и трое все навалились и в этот раз наконец догадались попросить умную Аришу, чтобы она подложила под колеса поленья.
Очень скоро после того мы выправили машину, и дом на колесах поднялся легко но хорошей дороге на горку.
Тогда, отирая с лица пот рукавом, Мазай подал нам руку и сказал:
– Ну, ребята, спасибо!
– Тебе спасибо, – ответили мы, – нам-то за что?
– За что, за что, – сказал недовольно Мазай, – а ни за что, ни про что, за то, что мы теперь братья по духу.
Нам это было непонятно, и, подумав, мы решили, – это за то, что мы охотники. Но оказалось, что нет.
– Охотники это само собой, – ответил Мазай, – охота и есть охота, а я говорю, что по духу.
Тогда мы поняли, и у нас с собой это было, и мы об этом сказали Мазаю, что мы братья по винному духу.
– Нет, – ответил Мазай, – пить не откажусь, только не думайте, я не питух. Бывает, конечна, бывает, простужусь и тогда беру ковшик, наливаю в него пол-литра вина и в вине развожу стакан горчицы…
Этого Ариша не выдержала и в ужасе воскликнула:
– Горчицы!
– Горчицы, – подтверждает Мазай, – целый стакан развожу в вине, сыплю туда две ложки толченого перцу и четыре ложки малинового варенья.
– Горчицу и малиновое варенье, царица небесная!
– Вот тебе и царица небесная! И еще, забыл сказать, ложку соли, все подогреваю на загнетке и выпиваю одним духом.
– Одним духом это нельзя.
Мазай опять изучающим глазом долго глядел на нее и опять нас спросил:
– И зачем вы ее возите?
И опять, не дожидаясь ответа, продолжал о том, как он, выпив лекарство, ложится на горячую печку, укутывается двумя тулупами и наутро встает свежий, как огурец под росой.
– Так вот, – закончил он свой рассказ о самолечении, – это я пью и с вами на радостях выпить готов, а так сказать, чтобы пить – нет, я не питух.
– Ну, так почему же мы тогда братья по духу?
– Эх вы, пыль подколесная, – засмеялся Мазай, – да как же вы не догадываетесь, да как же мы не братья по духу, когда по воздуху все вместе на одной оглобле летали?
IX. Вежи
После провала в грязь при выезде с озера Великого мы ехали дальше так осторожно и медленно, что даже и Мазай не отставал от нас на своей Пчелке. Там и тут нам встречались столбы с надписью – «Большая Волга», и эти простые слова каждый раз при встрече с ними так сильно говорили, что казались огненными, как на стене Навуходоносора. В словах «Большая Волга» был конец всему старому, привычному и вызов для каждого определиться в новом, неведомом. При встрече с этими словами я думал, о животных, которым каждый год было в разливе Волги страшное предупреждение: ведь каждый заяц имел в лесу или поле свое логово, и прибывающая вода предупреждала каждого зайца отдельно, и каждый заяц должен был спасаться по-своему, а не глядеть на других, каждый в деле своего спасения должен был подумать впервые самостоятельно. И так точно вот эта Большая Волга была для человека, рутинного жителя некрасовской деревни: перед Большой Волгой в нем должен был, по-моему, пробудиться, всколыхнуться внутренний человек и действовать не по примеру, как было раньше, а по-своему.
Желая представить себе чувство зайца, впервые ужаснувшегося перед неожиданным явлением воды, наступающей со всех сторон, я брал себя самого, какой я теперь, я – пожилой человек, переживающий Большую Волгу, революцию и всемирную войну как величайшее историческое наводнение. И вот я припомнил год за годом всю свою суровую борьбу за жизнь, жизнь мне казалась в этой борьбе все волшебней, все чудесней. Каждый раз я хотел людям сказать, напомнить, указать, как чудесна эта жизнь, которой так пренебрегают. Плохо, конечно, неумело, корявой рукой писал я о солнце, о цветах, о ручьях, но даже и на такие слабые сигналы я получал со всех сторон отклики других людей, и они убеждали меня, что я чувствую жизнь no-настоящему, что рано или поздно придет новая, радостная жизнь, какой не бывало, жизнь – больше всех нас, больше Пушкина…
И вот он последний столб с Большой Волги на речке Идоломке, перед самыми некрасовскими Вежами. Тут неподалеку от Веж, при слиянии Идоломки с Сотью, нам указали какую-то Барань, Большую и Малую: на этих Баранях при слиянии рек были недавно открыты стоянки первобытного человека: тут неолитические люди ловили рыбу и варили уху. И в некрасовских Вежах живут те же самые рыбаки, они поставили когда-то свои шалаши (вежи), несколько отступя от Барани. Наверно, был и тогда здесь какой-нибудь холмик, спасающий шалаши от наводнения, и с течением столетий холмик этот от мусора человеческого все нарастал и нарастал вверх. Так вот и выросла в течение веков большая кочка на пойме, и на ней в необычайной тесноте сгрудились домишки, окруженные для защиты от большой воды плетнем. За плетнем же вплотную стоят свайные постройки, те же самые домики, только на высоких ходулях. У Некрасова поэтически преувеличено, будто все Вежи на сваях, – нет, на сваях только бани, но когда подъезжаешь, то до того бросаются в глаза эти дома на ходулях, до того они интересны и уводят к первобытному человеку, что кажется, будто на ходулях все Вежи стоят.
Мы въехали на холмик и очутились в такой тесноте жилищ, стогов сена, соломы, навоза и людей, вплотную нас окруживших, и таких зорких глаз, что казалось, будто сквозь одежду проглядывают и рассматривают по-людоедски и судят, кто у нас пожирней, кто похуже. Но это, конечно, не они были злы, а мы сами злились под упорным разглядыванием. А когда собаки выскочили и Сват углядел на одной крыше кота, влекущего заячью шкурку, и я, желая остановить его, крикнул «Сват», сейчас же мальчишки начали кричать, точно как у нас в Загорске на улице. И когда на общий зов Сват вернулся и я прочитал ему строго обо всем, что он мне вовсе не сват, и не брат, и не кум, и не зять, и не свояк, а просто седьмая вода на киселе, то все без единой ошибки стали это повторять с этого часу и до тех пор, пока мы не уехали вовсе из Веж; в воздухе приволжской поймы с утра до ночи это звенело: не сват, не брат, не кум, не зять, и все навертывалось больше и больше: и что не шурин, и не деверь, и не тесть, и не свояк, и вода на киселе из седьмой становилась и девятой, и десятой, и поскольку только мог считать маленький наследник первобытного человека, построившего шалаши на реке Идоломке. Знакомство же с большими гражданами началось опять с того же кота. Петя указал на того же кота, с которого все началось, влекущего заячью шкурку в запрещенное для охоты время.
– Вот у зайцев, – сказал я, – теперь детки рождаются, во времена Некрасова у вас зайцев спасали, и теперь весной законом запрещено их бить.
– Какой же закон может быть для котов, – ответил Мазан.
И весело, сверху, как будто он все еще на санках сидел, поглядел, по-видимому, на того, по чьей крыше кот тащил шкурку.
Мы все посмотрели на «кота», это был не совсем простой серый рыбак, одет в кожу и внутри как будто железный прут был вставлен, как у «начальника», какие время от времени появляются и потом куда-то сплывают.
– Начальник? – спросил я.
Мазай ответил за него:
– Был, да сплыл.
«Начальник» ничего не ответил, сделав презрительный вид, как человек, заявляющий, что он остается при особом мнении.
Между тем замеченный кот остановился у самого князька и начал выгрызать из шкурки что-то ему очень вкусное: не оставалось никакого сомнения в том, что шкурка свежая, что заяц только что был убит.
– А мы думали, – сказал Петя, – что у вас по-прежнему, как при Некрасове, зайцев спасают.
– Спасают! – ответил «начальник». – Это Некрасов выдумал, мало ли что выдумать можно.
– И Мазая не было? – спросил Петя.
– Вон Мазаевы живут. Был Мазай и есть, да только зайцев не спасают, а кушают.
– Пыль подколесная! – воскликнул Мазай. – А ну-ка, ребятки, – велел он, – живо на крышу, отнимай у кота шкурку, давай сюда.
Ребята через мгновенье по слову Мазая были на крыше, и через другое мгновенье Мазай держал в руке заячью шкурку, с торжеством указывая на ухо с надрезом.
– Этот – мой заяц, меченый, – сказал Мазай, – я их каждую весну сотнями спасаю, и одного только держусь я крепко, чтобы ни один заяц не спасся без моей отметинки.
– Метка-то зачем? – спросили мы.
– Пыль подколесная! – воскликнул Мазай. – Да как же его так-то пускать, был у меня в руках и так пустить: нет уж, ты побыл у меня в руках и знай, и помни, о в другой раз не попадайся, в другой раз я тебя съел.
Тогда выступил небольшого росточку гражданин с лицом серым, острым и умным.
– Павел Иванович оживился[18], – сказал кто-то в толпе.
Это значило, что Павлу Ивановичу сегодня рыбка попала в мережу или в вентерь.
– Лещ? – спросил второй голос.
– Язь, – ответил Павел Иванович.
– Оживился! – сочувственно и с завистью сказали многие голоса.
А он так «оживился», что вдруг качнулся и чуть не упал, и когда выправился, то провел ладонью по умному лбу и вдруг вспомнил и сказал, обращаясь ко мне лично:
– Лично вам, уважаемый, свидетельствую, Мазай был и есть Мазай, и вся душа моя в Пушкине.
После этих слов, что душа в Пушкине, определилось полное сочувствие нам, вроде как бы посланникам от Некрасова, Пушкина, и общий разговор перешел на охотников идеальных, вроде Некрасова.
– А что ему, – говорил Павел Иванович, – разве ему заяц нужен или птица, – ему только плюнуть на все надо и обрадоваться.
Тогда и это поняли и повторяли:
– Как оживился-то Павел Иванович!
А вновь прибывшие, услыхав «оживился», спрашивали:
– Лещ?
– Язь, – отвечали им.
Все, очевидно, ждали лещей.
– Чудно! – вдруг вспомнив что-то, воскликнул вслух Павел Иванович.
И стал рассказывать, и другие, вспоминая, у него перехватывали нить рассказа, вставляли свое и подтверждали, и все казалось «в пику» тому, кто сначала сказал, будто Мазая вовсе не было и Некрасов сам его выдумал.
Разговор шел о каком-то чудесном охотнике в старое время, как это передавалось отцами.
Однажды будто бы в половодье приплыл в Вежи неизвестный любитель охоты и просил отвезти его в такое место, где много непуганой птицы, так много, чтобы вся вода вокруг была покрыта густо птицей, чтобы на воде от птицы было черно. Неизвестный охотник до того хорошо угостил рыбаков и охотников, что они приняли эту затею близко к сердцу и стали думать, где бы найти такому хорошему человеку край непуганых птиц. После долгих споров решили везти охотника на гривку Волчий Стан, от которой сейчас при полой воде оставались только небольшие «копейки». Птица любят жаться к таким копейкам и нарастать и лепиться возле них, как опилки возле магнитного поля. На одной копеечке поставили шалаш, посадили неизвестного охотника, сами же далеко уехали и так расположились, что если будут стрелять, то вся птица непременно будет лететь к Волчьему Стану. Всю вечернюю зорю стреляли, и всю зорю до полной темноты птица летала к Волчьему Стану. Но выстрелов оттуда не было, даже и ни одного выстрела не было. И по утренней темнозорьке тоже всюду началась стрельба, и птица все утро валила к Волчьему Стану. А выстрелов с Волчьего Стана не было: прямо ни разу и не было ни одного выстрела. Так ждали почти до обеда и тогда уж решили поехать узнать, что же это такое случилось с охотником. Осторожно сплылись со всех сторон к Волчьему Стану и увидели там издали: на верхушках затопленных деревьев токовали тетерева, и им очень хотелось спуститься вниз и подраться, но спуститься на воду было невозможно, и они только пели, но не дрались. Лебеди и гуси плавали возле самого шалаша; утки всяких пород собрались, кулики, чайки. Охотник же стоял в шалаше, и голова его была открыта, и он открыто глядел и любовался, а не стрелял. Тогда только поняли рыбаки и охотники, что ему только и надо было, чтобы полюбоваться. И странно было, что эти охотники и рыбаки, кто только тем и занимался, что убивал птицу, зверя и рыбу, теперь говорили: «Вот это был настоящий охотник, настоящий любитель». Почти такой же точно рассказ я слышал в Заболотье о Ленине, и, конечно, был тут, наверно, тоже какой-то дивный охотник, которому прилично не убивать, а только любоваться природой.
– Когда это было?
– Давно.
– Некрасов у вас охотился. Не он ли это?
– Очень просто. Правда ваша, кому же и быть, кроме него. Вот как это вам в голову пришло: наверно, Некрасов.
X. Мелкодырчатый
Мазай был вдов и жил в верхней комнате своего племянника Данилыча, где и мы нашли временный приют в Вежах. И хотя у нас было все с собой и мы могли бы жить у себя в своем доме на колесах, но было опасно возиться с огнем, с бензином, с керосинками и таганами на улице, сплошь заставленной стогами соломы и сена. Мазай нам говорил о своем племяннике, что такого певца, каким был Данилыч, на свете еще не было, что всякий раз, и еще с юности, как, бывало, в поле запоет Данилыч, непременно на голос его явится понимающий человек и зовет его в оперу. Случалось, тут же прямо и деньги давали, только бы ехал. Но Данилыч в юности боялся отца-старовера, а когда женился, стал бояться жены-староверки. И даже дома услышать мы его сейчас не можем, потому что сейчас Великий пост и жена петь ему не дозволяет. Мазай утешал нас тем, что ждать остается немного, не сегодня-завтра Волга пойдет, раскинется море великое, и тогда на лодочке-ботнике Данилыч поедет за рыбкой, и уж там на воле держать его будет некому, там ни на жену, ни на пост он не посмотрит и, как вода все кругом тогда заполняет, так и песня Данилыча по всему раздолью будет слышна, и где бы мы тогда ни находились, песни Данилыча не минуем: тогда с Данилычем всякая птица, всякая тварь петь будет. Ждать остается недолго.
И когда мы, выслушав это от Мазая, сказали ему, что в Калинине ледоход, Мазай чуть не вскрикнул и с упреком на нас поглядел, и с сомнением. Когда же мы сказали, что слышали по пути от людей из Калинина и то же по радио слышали и в костромской газетке прочли, Мазай воскликнул:
– Ну, ежели в Калинине ледоход, то и у нас не задолится.
Весть о том, что в Калинине ледоход, быстро обежала всю деревню, и возле нашего дома начался базар: все пришли под предлогом великого события, – что в Калинине ледоход, и спрашивали: «Правда ли?» И когда мы отвечали, что правда, говорили все одинаково, что ежели в Калинине теперь ледоход, то и у нас не задолится.
Приходили к нам, чтобы не терять время, с какими-то палочками, прутиками и тут же, сидя на опрокинутых ботинках, стали делать из них дуги рыболовных снастей, вентелей. Некоторые тут же за плетнем, у самого будущего берега разлива, растопили смолу и засмаливали худые ботинки. Весть о ледоходе в Калинине собрала на берег, к дому Данилыча, всех рыбаков, и мы показывали им разные наши удивительные и замечательные вещи: показывали цейсовские призматические бинокли и наш советский, и все, кроме того «начальника», дивились и подтверждали, что наши бинокли чуть потяжелее, а смотреть в них тоже неплохо. Мы показывали дивную зеркальную камеру Грофлекса, и все могли видеть на зеркале любое изображение. Надували пневматическую военную лодку, какие теперь применяются в авиации, и тут же вспоминали полярных героев, о которых все уже знали. А какое ружье у меня – тройник, стреляющий одинаково хорошо и дробью и пулей! С каким восхищением на все это глядел Мазай; когда же мы дошли до тройника, он выхватил его у меня и прицелился. Быстро я вынул «лейку», чтобы сфотографировать Мазая, но он в то же мгновенье, как заметил, что я хочу его снять, возвратил мне ружье.
– Почему же, – спросил я, – ты не хочешь сняться с моим ружьем?
– С таким-то ружьем! – воскликнул он. – Да какой же интерес мне сниматься с таким-то ружьем: все будут не на меня смотреть, а на ружье. Да и неправда, и нехорошо: никто не поверит, чтобы у меня могло быть такое ружье.
Когда почти все мои замечательные вещи были показаны, «начальник» с ехидной улыбкой потрогал мои резиновые сапоги и сказал:
– Хвалитесь вещами, а сапоги никуда.
– Первейшие сапоги! – воскликнул Мазай. И правда, это были роскошные сапоги из резины, во всю ногу, как у спиннингистов, чтобы стоять в воде по живот, сапоги, хорошо защищенные в нижней своей части от пробоев гвоздями и острыми камнями. Я долго искал и с большим трудом достал для воды и болот такие прекрасные сапоги. Но этот «начальник» держал что-то в уме и сказал:
– Резина, – сказал он, – вред человеку приносит: воздух не пропускает, и делается у человека от этого кружение в голове. Как же вы, образованные люди, это не знаете.
Я ответил, что резина действительно отчасти и вредна в теплое время, но это не простая, это резина микропористая.
– Слышал звон, – ответил я, – да, голубчик мой, не знаешь, где он.
В первое мгновенье «начальник» растерялся от иностранного слова, но потом стал повторять знакомые слова: микроскоп, поры, и вдруг сложил сам слово «микропористый», весь просиял и всем перевел:
– Микропористый – это значит мелкодырчатый.
И тут же как победитель обратился ко мне, не как прежде, заносчиво, а как добрый и к равному, тоже образованному:
– Я понимаю, что эта резина воздух пропускает, но как же с водой?
– Такие мелкие дырочки, – ответил я, – что воздух проходит, а воду не пропускают.
– Понимаю, – сказал он, – вот они ведь ничего не понимают, темные люди некрасовских времен. Для них простое слово мелкопористый труднее китайского.
– Пыль подколесная! – воскликнул Мазай, – кому ты говоришь, сам ты мелкодырчатый!
Тогда все рыбаки покатились со смеху, а Мелкодырчатый, заметив, что все, что даже мы с Петей и Ариша в окошке нашего домика – веселые, поспешил поскорее удалиться. А потом, как это постоянно бывает в русском народе, пошла во всеуслышанье чистка, и во все самые мелкие дырочки заглянул проверяющий глаз, и сделали такое заключение, что давно бы этому человеку быть в лагерях и водяных работах, да, вишь, говорит, дырочки мелки, воздух проходит, а вода не берет…
И как тоже всегда бывает в подобных чистках, кто-то из присутствующих вспомнил, наверно, что-то свое, ущемленному человеку стало неловко смеяться, понадобилось пожалеть, и он стал тяжело рассуждать.
– Вот, – говорил ущемленный, – вы моете кости человеку, а бывает же так на свете, что не человек виноват, а время такое…
– Бывает! – согласились другие.
– Время временем, – ответил Мазай, – а ты не зевай, время ты должен понимать.
– Ну, как же его поймешь это время: помните вы, не забыли, когда начались колхозы и были всякие вредители и как у нас же самих за десяток кочней капусты человек был осужден на пять лет.
– Украл? – спросили мы.
– Вот то-то, что не украл даже и никакой вины на нем не было, а нужна была тогда по времени строгость, вот с этого времени человек и пропал.
– Но как же так, – спросила Ариша, – человек не украл, а ответил?
– Он был сторожем на капустном огороде, и, когда в своей будке уснул, кто-то утащил у него в колхозном огороде десять кочней. Так пропал человек за капусту.
– Врешь! Не за капусту, – вмешался Мазай.
– Именно за десять кочней, – сказал ущемленный.
Мазай ему ответил:
– Не за капусту пропал, а за то, что служил сторожем на капусте и вора проспал.
XI. Мазаев прут
У Мазая в избе на стене рядом с ружьем прибит длинный сухой можжевеловый прут и черной краской намазана дуга, по которой ходит конец прута и указывает погоду, на одном конце черной дуги белый кружок – это солнце, на другом черный кружок – это дождь. Такой барометр можно видеть в Сибири у таежных охотников, но Мазай сам заметил однажды, что ветви елей в хорошую погоду подымаются, а в плохую опускаются, – и после того сделал себе такой барометр из прута можжевельника. Каждый изобретатель, создав хорошую, полезную вещь, стремится прославиться, но Мазаю и в голову не приходило хвалиться и распространять свое изобретение: он не себе радовался, а Всемучеловеку и, указывая на прут, всем повторял, что человек хозяин всего мира и человек может все, и каждый, если захочет, может быть человеком. Прут у Мазая в избе стал такой же святыней, как староверские боги-иконы в избе певца Данилыча. И скажи только Мазаю кто бы ни был, что прут ошибся, что прут обманул, как Мазай вскрикнет: «Пыль подколесная!» – и в пух и прах разнесет того оскорбителя. Но как и вправду может прут обмануть, если перед непогодой весь лес опускает своп ветки, а перед погодой их поднимает? Прут у Мазая есть выражение веры его в правду природы и Всегочеловека в его борьбе и согласии.
– Прут опускается! – сказал нам Мазай с вечера, и это было нам сигналом, чтобы немедленно сложиться и рано поутру выехать и стать на какие-то Варварины Куженьки, до которых никогда еще не доходили вешние воды.
В эту ночь мы спали тревожно, опасаясь тепла и дождя. В одну ночь твердый, как камень, наст мог отволгнуть и наш дом на колесах остаться на всю весну воды здесь, в деревне, и переживать судьбу самого плохонького домика в Вежах. Ведь раз же в году бывает весна, и, чтобы хорошо чувствовать весну, каждый раз надо думать, что, может быть, для меня эта весна будет последней. Вот почему нас охватила тревога упустить свое счастье в этом году и вернуться ни с чем. Десятки раз в эту ночь выходил я, и даже когда засыпал, то, как заяц, спящий где-то во мху между выпуклинами еловых корней, по себе чувствовал борьбу стихий, как борьбу великанов. Мазай, конечно, был прав: прут по существу своему никак не мог обмануть, и до полуночи ветер вызвал откуда-то темные тучи, и месяц закрылся, и земля, одетая тучами, как одеялом, быстро стала согреваться, и снег под ногой человека перестал хрустеть. Тогда огромные, наросшие по краям крыши колхозного сарая сосульки стали рушиться, и вода прямо с железа свободно закапала на землю. После же полуночи Месяц, этот вечный друг Мороза, начал время от времени показывать, какая великая происходила в природе борьба: покажется – увидишь, и все скроется. Мало-помалу, однако, эта сторона, союз Мороза и Месяца, начала побеждать. Месяц выстоялся, и по нему было видно, с какой быстротой убегала армия разбитых сил Весны. Мороз взялся и крепнул, Ветер стал стихать, потом забежал с другой стороны и начал дуть на вновь замерзающие капли колхозного сарая. Только уже перед самым восходом Ветер перестал дуть на сосульки, и было уже и бесполезно: больше не капало, но сосульки в борьбе Мороза и Ветра вышли кривыми. Мороз, когда рассвело, был такой сильный, что даже где-то потрескивало дерево. И когда Солнце бросило свои первые лучи, то даже в лучах солнечных Месяц не сходил с неба и оставался свидетелем победы Мороза. Весело из всех труб в Вежах повалил дым прямо вверх, и, завидев кривые сосульки, многие колхозники и колхозницы стали смеяться, и, по-моему, было чему: я в жизни никогда не замечал, чтобы у Мороза когда-нибудь выходили кривые сосульки. Больше же всех это, конечно, привлекало мальчишек, и они начали сшибать кривые сосульки.
Когда к нашему дому стали сходиться рыбаки, чтобы в последний раз перед нашим отъездом на нас поглядеть и с нами проститься, Мелкодырчатый, завидев Мазая, при всех прямо же и бросил ему:
– Ну, как прут?
– Подымается, – ответил спокойно Мазай.
– А вчера вечером ты что говорил?
– Вчера я говорил: опускается.
– Ну, вот и я говорю: прут обманул.
А это уже все знали, конечно, что, если сказать Мазаю, что прут обманул, это значит больше, чем его самого назвать обманщиком и негодяем.
– Пыль подколесная! – вскрикнул Мазай.
К счастью для Мелкодырчатого, к соседней избе подъехал на заиндевелой лошади человек с ассирийской бородой, и, несмотря даже на мороз, такой черной, как была когда-то в молодости у меня самого. И борода, и усы, и волосы, видные из-под шапки, у него были вороного крыла. Но, завидев его, рыбаки воскликнули:
– Рыжий!
Это, я уже не раз замечал, это в нашем народе бывает: человек вовсе не рыжий, а его зовут рыжим в том смысле, что, мол, валите на Рыжего, Рыжий все снесет.
Рыжий приехал из Костромы.
– Ну, что слышал, – бросились к нему рыбаки, – правда, говорят, будто в Калинине ледоход?
– Что в Калинине, – ответил Рыжий, – вчера и в Ярославле передвинулся лед.
– Слышал? – сказал Мазай Мелкодырчатому, – передвижка льдов в Ярославле, а ты говоришь, прут обманул; человечишка, тебе подобный, обманет, а прут не лукавится, не из-за чего ему, братец мой, и лукавиться.
– Вода не задолится! – сочувствуя Мазаю, сказали рыбаки.
На прощанье мы решились просить нашу хозяюшку, Настасью Павловну, чтобы она разрешила Данилычу спеть нам в поход одну песенку.
– В походе, – говорили мы, – иногда посты разрешаются.
– А он же не маленький, – ответила Павловна, – я же его не держу, и как это я, баба, могу держать мужика. Пусть поет!
В это время Данилыч покачивал колыбельку и тихонечко мурлыкал простую деревенскую колыбельную песенку: можно было даже и по этому мурлыканью догадываться, какая это выйдет песня, если Данилыч запоет во всю волю. Услыхав, что петь можно, Данилыч робко поглядел своими глубокими голубыми глазами на жену, и мы при этом сами же заметили, что губы у Павловны сухо поджались, как можжевеловый прут в сухую погоду. Один только взгляд кинул Данилыч на сухие губы и наотрез отказался.
– Придет время весеннее, – сказал он, – услышите все.
– Великий пост, – сказала Ариша, – это правильно: петь нельзя. Но ежели, Настасья Павловна, спеть бы что-нибудь божественное?
– Это у вас, никониан, – ответила Павловна, – можно, а у нас не шутят с божественным.
Я как отрезала.
Почти вся деревня, и старые и малые, вышла нас провожать. Павел Иванович опять «оживился» в счет вчерашнего улова и повторял нам свое: «Вся душа моя в Пушкине». Вынесли большой самовар горячей воды, влили в радиатор. От горячей воды рубашка мотора быстро согрелась, и от одного поворота дом на колесах ожил. С трудом пролез вслед за Аришей Мазай, и мы с Петей, сидя в шоферской кабине, сожалели, что не могли слышать разговор с глазу на глаз между столь различными людьми, как Мазай и Ариша. По льду рек и озер, по насту лугов и болот мы покатили, понимая, что Мороз именно для нашего путешествия расстелил везде свои крепкие белые скатерти.
XII. Эолова арфа
Варварины Куженьки в незапамятные времена по всей вероятности были пасекой. На предпоследней площадке древней террасы неведомый нам теперь муж Варвары посек лес. и на этой пасеке поставили колодки с пчелами (куженьки). А после него вдова его, Варвара, наверно, долго маячила плавающим по разливу Волги рыбакам своими куженьками. Дуб теперь остался на этой площадке такой огромный и старый, что, пожалуй, и в Варварино-то время, сто лет или больше тому назад, был разве только чуть-чуть помоложе и посвежей. Ниже этой площадки с куженьками весь склон, быть может, высокий берег древней Волги, теперь до самой поймы был покрыт густым можжевельником. И только подминая под себя эти кусты, наш дом на колесах, не буксуя, мог взобраться наверх и стать возле древнего дуба. Над головой у нас теперь был лес, внизу пойма, по которой бежали в Волгу две речки-сестры Соть и Касть. Отсюда Вежи были как на ладони, и в самой дали виднелся берег нынешней Волги.
Когда мы стали на место и я вышел из шоферской кабинки, то, как всегда на всяком новом месте, стал все вокруг себя присваивать, в то же самое время никого из местных обитателей не лишая его права па логово, дупло, нору. И это самое удивительнее в моем присваивании, что оно никому не мешает, и миллионы всякого рода существ могут жить рядом, не мешая друг другу. Знаю, конечно, что это мое чувство поэтического или философского происхождения, но это вовсе не значит, что оно пустая мечта. И не я один, писатель такой, а в неведомой глубине это у каждого есть, кто солнышку радуется. Вот и Мазай, я знаю, чувствует то же самое и говорит мне так же, как будто я сам говорю:
– Хорошо бы тут дом поставить!
– Вот он, – отвечаю ему, – вот он дом мой стоит: я всю жизнь хотел этого, сделать дом на колесах, и вот он!
– Счастливый! – воскликнул Мазай.
И он был прав! Как счастливый наследник всего великого мира я обошел кругом свой древний дуб с выжженной серединой, поставил Петю внутрь, сфотографировал, разглядел множество дупл, в которых живут разные птицы, заметил, как в переходе между двумя пластами коры шмыгнул какой-то жучишко. Миллионы существ жили тут и в дуплах, и под корой, и в корнях, и все это, если я узнаю и пойму, я могу присоединить себе, все это будет мое!
Я хорошо, конечно, знаю, что это чувство наследства бесконечных богатств очень скоро притупляется и способность присоединять к себе родственников прекращается. Обыкновенно я спешу поскорее как можно больше всего себе набрать. Но тоже я знаю, что теперь, ранней весной света, в самой природе начнутся без конца перемены, и если сам не устанешь внутри себя, то вокруг все будет тебя поднимать и вновь увлекать. Каждый шаг теперь вокруг дома на колесах наполнял меня счастьем, и везде я делал открытия без всяких усилий. Вот и на кустах наших домашних можжевельников сохранилось много ягоды, и любимые мои птицы тетерева, эти тоже мои домашние птицы, окружили каждый куст цепочкой своих следов, огромной толщины пласт зимнего снега им помогал, и они, наверное, даже и не очень-то вытягивая вверх свои шеи, могли их доставать. При первом взгляде моем в сторону леса я подумал было, что под высокой елкой стоит засыпанный снегом стог сена, а это был муравейник: и на некотором расстоянии такой же еще выглядывал из-за стволов. Будь это стог, будь это сделано руками человека, никакого бы и не было впечатления: люди все могут делать, к этому мы чересчур даже привыкли. Но когда сначала подумаешь – «люди!», а потом сообразишь и поймешь, что муравьи делали, как люди, и что это не стог сена, а величайшее в нашей зоне муравьиное государство, и что и там из-за стволов выглядывает второе родственное ему, то как же тут не обрадоваться, не почувствовать себя наследником великих и неслыханных богатств!
С этими муравейниками на охоте не очень-то я церемонюсь, а когда встречу их усталый, взбираюсь наверх, сбрасываю снег, разгребаю сверху этот удивительный сбор из хвоинок, сучков, лесных чистейших соринок и сажусь в теплую сухую ямку. Тогда в этом муравьином кресле всегда приходят в голову скрытые за лесными стволами, стерегущие человека в лесу мысли, и начинаешь их связывать, и часто я при этом думаю, что для того мы и есть на земле, люди, чтобы все связывать…
Увидев такой огромный свой домашний муравейник, я очень обрадовался и немедленно же забрался наверх. Тут мне пришло в голову соединить вершину этой ели и нашего великого дуба антенной и, пока не проснутся муравьи, слушать радио здесь, на муравейнике, после же, когда они очнутся и заработают, можно куда угодно уйти. Немедленно же мы стали это устраивать, и Петя хотел с муравейника по сучкам ели забраться наверх. Но несколько выше муравейника дерево было окольцовано, и такая густота смолы была на кольце, что Петя не захотел мазаться и лезть на вершину. Загадочно нам было это окольцеванне дерева повыше муравейника: если нужна была кому-нибудь кора ели для коробки под ягоды, то зачем же было лезть на муравейник, если же дятел кольцевал, то так чисто не бывает у дятла. Мы думали над этим вопросом все вместе с Мазаем и ни до чего не могли додуматься. Это я не раз в лесу замечал, что есть и такое, до чего невозможно додуматься: мало ли что может человеку прийти в голову, он сделал для чего-то своего случайного, и ты случай этот никогда и не можешь понять: это случайно…
Из-за такого пустяка, однако, мы не отказались перекинуть антенну от ели к дубу: мы уже давно это делаем на больших охотах. Конец антенны привязывается к шпагату, который свертывается широким кольцом. Другой же конец шпагата привязывается к гирьке, и Петя швыряет гирьку так, чтобы она перенесла шпагат по возможности через самую верхнюю мутовочку дерева. Конечно, гирька сверху сейчас же стремится бежать вниз, тащит за собой шпагат, а мы за шпагатом втаскиваем антенну. Так мы очень скоро соединили ель и дуб антенной. Никто не обращает внимания на проволоки, когда вокруг много антенн. Но когда вокруг нет ничего искусственного и наша антенна единственная, то на всякого она действует очень внушительно. Это бывает оттого, что в городах мы избалованы множеством даровых удобств и начинаем смотреть на все чудеса человеческого ума эгоистически, с точки зрения только своих удобств, и эти удобства закрывают нам чудеса, и во всем мы не видим ничего удивительного. Когда же забираешься в лесную пустыню и, по склонности человеческой, с такими усилиями начинаешь разбираться в жизнях бесчисленных существ и для понимания эти жизни связывать между собой, то и эта связь с людьми через медную проволочку, висящую между елью и дубом, становится чудеснейшей связью, той самой, о которой тысячи лет мечтал человек – и черный, и желтый, и белый, и краснокожий…
Мазай, как многие простые люди, не спешил к радио. И что ему эта музыка, если ветер, вода, птицы вечно ему играют, поют. А потом есть люди, – им бы только схватиться за новенькое, а есть и такие, что не торопятся и ждут случая, и когда дождутся, то уже тут новое не пролетает из одного уха в другое. Вот наша установка и стала тем случаем: Мазай впервые вплотную встречался с радио. Мы притащили несколько березовых поленьев, установили на них детекторный приемник и одну пару наушников отдали Мазаю, другую, каждый по одной половинке, взяли себе. Так получилось у нас. что одно ухо ждет напряженно звука из человеческого мира, другое ухо хватается за какие бы то ни было лесные звуки. В лесу очень близко от нас дятел пускал свою весеннюю барабанную трель, и ему отзывался другой, с другой гривы. Волчий Стан. Но кроме этих забавных звуков и брачного пения большой синицы на нашем же дереве, до нас долетали совсем особенные мелодичные звуки, как будто в этих горячих лучах весеннего солнца, проходящих сквозь морозный воздух, содержались и они, эти звуки эоловой арфы. Я поглядел внимательно на Петю, чтобы проверить себя, не сам ли я эти звуки создаю себе, вдыхая живительный солнечно-морозный воздух.
– Слышишь? – спросил я.
Он кивнул головой.
– А что это?
Он сказал:
– Погоди!
И когда поправил детектор, вдруг явственно и резко в нашу пустыню ворвались новые, нездешние звуки:
– Внимание, слушайте, говорит Москва!
Сразу же лицо у Мазая стало таким напряженным, как будто лось в лесу показался и он в него целится, мы же с Петей и все нас окружающее исчезло из его поля зрения. Напротив, Пете, как нашему механику, только этого и надо! было, чтобы радио заговорило, теперь свободным ухом слушал, как и я, мелодичные звуки.
– Что же это такое? – спросил он меня потихоньку.
И я ему тихонько сказал:
– Эолова арфа.
И, сойдя с муравейника, я начал спускаться вниз к реке, откуда к нам и долетали по временам эти звуки эоловой! арфы. Среди засыпанных снегом кустов можжевельника слагалось множество получеловеческих, полузвериных фигур. Казалось, эти безобидные существа и двигались, и шептались в их тесном собрании, но мгновенно останавливались, как только падал на них человеческий взгляд. Вот так идешь и чувствуешь, что тут же, у тебя за плечом, стоит какая-то живая фигура и, может быть, тебе же и показывает язык, а обернулся – и нет: в совершенной неподвижности в белоснежном тулупе сидит ночной сторож, и с такой миной, будто он век так сидел, а ты себе придумываешь разные глупости. «Что за вздор!» – скажешь себе. А только отвел глаза, чувствуешь, как он сзади опять язык тебе, и все другие фигурки приходят в движение. Каждую снежную зиму после снежной метели я прихожу с фотоаппаратом в это общество безобидных существ, снимаю фигурки, и среди них всегда повторяется и вот такой ночной сторож, и обыкновенная, всем известная Снегурочка. Теперь Снегурочка виднелась впереди, на берегу речки, и те мелодичные звуки, то исчезающие, то опять приходящие на слух, казалось, были прямо оттуда, где стояла Снегурочка. Странно было, что чем я ближе подходил к источнику мелодических звуков, тем они были неявственней. Это бывает с весенним пением косачей: вдали гремят звуки на весь горизонт, а когда совсем близко подойдешь, бормочет себе под нос вовсе же негромко краснобровый черный петух. Так было точно, когда я, умирая от яркого света, приблизился к бедной Снегурочке. В солнечных лучах она уже наполовину растаяла, и множество меньших сестер ее тоже обтаивали, и вода под ними собиралась в озерко и просачивалась под корни ольхи, растущей на берегу Соти. Вешние воды, как это постоянно бывает, обнажили корни, очень частые и разной длины, под нависшим над водой берегом. В эту пещеру туда собралось уже довольно воды, и с этих корней, с разной высоты от Снегурочки, сверху стекала и падала каплями разной силы на пещерную воду та, верхняя вода, и вот эти самые звуки от капель были первыми звуками весны и достигали нашей радиостанции на муравейнике.
В самое сердце проникли мне эти исходящие от солнца первые звуки весны. Мне самому захотелось или запеть, или хорошему своему человеку сказать небывалое по красоте и силе задушевное слово. В то же время под пение первой воды я думал о первом человеке на земле, произнесшем свое первое слово: может быть, он тоже так, ослепленный солнечным светом, как я, закрыл глаза и услыхал эти звуки, исходящие от солнца, и ему тоже, как мне теперь, захотелось запеть самому или сказать свое необыкновенное, небывалое слово. И он это сделал, и он это сказал, и с этого все началось: от солнечного луча на земле родилось первое слово.
– Ну, что это? – спросил меня Петя, когда я вернулся к дому и подошел к муравейнику.
Я ответил:
– Пение первой воды.
И, в свою очередь, спросил потихоньку, что это они так внимательно слушают? Как раз когда я спросил, кончился доклад о Большой Волге, и Мазай, положив наушники радио, сказал:
– Конечно, запрут.
– Волгу? – догадался я.
– Волга, – сказал он, – будет служить человеку; человек сильнее всего на земле!
В это время подошла Ариша и, услыхав разговор о Большой Волге, что это Волгу Старую запрут и она будет человеку служить и что человек сильнее всего на земле, сказала:
– Человек, конечно, сильнее всех на земле, только будет ли человеку от этого лучше, что Старую Волгу запрут?
– А как же? – сказал Мазай.
И всмотрелся в нее. Но свое «зачем вы ее возите?» в этот раз не сказал.
XIII. Следопыты
Кошачьи хвосты на небе, иногда совершенно ясном, лучше барометра предсказывают приближение циклона. И вот они, хвосты, начали показываться. Пройдет день, два, много три, и вода загудит. Но и сейчас в полдень солнце так распаривает, что весь снег в лесах покрывается какой-то черной, мельчайшей пылью. Мы подумали было сначала, что это где-нибудь угли жгут, но оказалось, что вся эта пыль – мельчайшие прыгунки: приблизишь к ним ладонь – и нет их, и на всем сером снегу остается белое с голубым отсветом пятно чистого снега. Тут же на какой-нибудь час, два оживают на снегу разные мелкие жучки-паучки-блошки, даже комарики перелетывают; чего-чего только не кишит на снегу весной света в полдневных лучах. Случится, под вечер придут облака, укроют землю, тепло соберется под одеялом, талая вода, разделяя зернышки снега, проникнет вглубь, и оттуда, приняв это за тепло воды, за начало весны, начнут выбираться на свет и существа покрупней блошек и паучков. Но в предрассветный час, перед самой зарей. Мороз сжимает кулак, и тогда все живое спешит поскорее убраться, и чистый, крепкий наст, чуть припорошенный, раскрывается, как белая книга с голубыми следами зверей.
Наш домик от этого Мороза тоже озяб, и когда только-только начался свет, мы вышли с Петей, чтобы познакомиться с нашими соседями и отдаленнейшими родственниками человека. Первое, что мы увидели, это был маленький последыш эпохи громадных рептилий и ящериц. Обманутый вечерним теплом, почти возле самого нашего дома выполз наверх из-под снега небольшой розовый лягушонок и отправился в наземное путешествие. В эту ночь как раз хорошо припорошило, и путь этого странника легко можно было разобрать. Вначале след его был прямой и верный в сторону одного незамерзающего родника. Возможно, что лягушонок действительно знал, куда ему двигаться, как все равно и я сам, когда в детстве своем выдумал бежать из гимназии в Америку, тоже знал, где лежит Америка, и у меня в кармане был даже подробный план. Немного, однако, пришлось бедному лягушонку двигаться по прямой в край незамерзающих родников. Когда Мороз взялся за вожжи, лягушонок остановился, потом сунулся туда, сунулся в другую сторону и круто повернул обратно к теплой дырочке, из которой он в эту ночь почуял весну. И когда Мороз стал подхлестывать своими вожжами сильней и сильней, лягушонок в ужасе стал метаться в разные стороны. В звездной пороше, блестящей, как кристаллы бертолетовой соли на елочной вате, перед нами лежала вся причудливая паутина следов путешественника в край незамерзающей воды, и в конце этого лабиринта, возле резинового колеса нашего дома лежал и сам он, розовый, растопырив безжизненные лапки.
Совсем близко от нашего дома проходил тоже в сторону незамерзающего родника заячий след. Мы поднялись в лес по следам и скоро открыли в лесу огромную, поваленную ветром осину. Зайцы всю зиму глодали эту осину, и этот Заячий Клуб от множества следов и орешков далеко виднелся в лесу. Поняв здесь, где был наш замеченный заяц и чем он тут занимался всю ночь, мы безошибочно решили что след на нашей площадке был прямой след на лежку И тогда мы очень скоро нашли и самого хозяина следов: он лежал под крутым берегом лесного ручья и обыкновенно белый, почти неотличимый от снега, теперь в лучах весеннего света лежал, как плоховатая желтая вата на куске крепкого сахара-рафинада, белого с голубым отсветом. Легкая пороша до того смягчала хруст валенка по крепкому насту, что и теперь заяц нас близко подпустил и глядел на нас своими черными блестящими пуговками, наверно, думая, что мы его, белого, не можем заметить на белом снегу.
Возле незамерзающего родника виднелся следок водяной крысы, а под колодиной нашли мы спрятанный кусок щуки и поняли, что тут в соседстве с нами выдра живет. На самом рассвете, когда уже вовсе не было пороши, сюда зачем-то приходила лисица и оставила чистенький след, свой обратный след она зачем-то скрыла в своем же следу, и так искусно, что только очень опытный глаз следопыта мог понять эту хитрость по необычайной резкости и четкости следа. Мы вошли в лес по этому двойному следу и на песчаном склоне оврага, на самом верху, нашли лисью нору среди отнорков барсучьего жилища.
Лиственный лес, заваленный снегом, был совершенно непроходим, с трудом мы двигались даже и по хвойному лесу, разглядывая там и тут на ветвях деревьев капризную скульптуру Мороза. Нам было отчасти это и первой школой изучения леса в его этажах: мы учились смотреть не только перед собой, как все смотрят в лесу, а так, чтобы одновременно видеть лес во всех его этажах и не упускать там, где-то вверху, кудри Аполлона, а внизу, между деревьями, волчий след. Пришлось нам некоторое время идти этим следом, чтобы на чистой полянке убедиться, верно ли это след волчий, а не собачий. И скоро наш опыт подсказал нам, что в лесу шел действительно волк, и старый, с плохими зубами: такой волк не может поспевать за молодыми, когда они пожирают добычу, живет в одиночестве и оставляет длинные причудливые следы.
Мало-помалу солнечные лучи наверху елей начали нагревать еловые шишки, и они стали от тепла расширять свои дольки и терять семечки. На своих маленьких парашютиках эти семечки с верхнего этажа, из царства света, стали спускаться к нам в нижний этаж, в царство мороза и мрака. Зародыши драгоценной жизни прекрасных будущих елей ложились у наших ног на снегу с тем, чтобы полежать и уплыть неведомо куда с вешней водой. Кровавого цвета клесты возились там на самом верху и роняли вниз целые шишки.
Красногрудый снегирь на боковом пальчике верхней мутовки самой высокой ели сидел рядом со своей скромной подругой и не клевал шишек, не почесывался даже, просто сидел, отвечая красному солнцу своей красной грудью: затем как будто и сидел, чтобы солнце ему красило грудь. Вдруг откуда ни возьмись такой же точно снегирь, тоже красный, только оживленный, тонко подобранный, с огненно-черными глазками, раз повернулся, два, прогудел по-снегириному, полетел, и самочка с ним улетела. Вот когда встрепенулся первый снегирь, повернулся туда, сюда, перепрыгнул с одного пальчика еловой мутовки на другую, на третью, обскакал всю еловую розетку и – делать нечего! – полетел в ту же сторону, куда с его собственной подругой улетел дерзкий чужак.
В то время как я увлекался наблюдениями жизни в верх них этажах леса, Петя все не спускал глаз с волчьего следа, по которому мы шли. Так мы пришли в осиновый лес, сначала было заваленный снегом до непроходимости, а потом нашлась просека между хвойным и лиственным лесом, и нам стали попадаться осинки, с которых снег был стряхнут кем-то, открылись лосиные оглоты, орешки. По всяким другим признакам мы догадались, что близко около пас находится лосиное стойбище. Тут волк-одинец круто свернул в хвойный лес, мы же, опасаясь, как бы не раскис наст под лучами горячего солнца, свернули по компасу домой. Со мной, и, наверно, эхо бывает со всеми, иногда случается так, что вот ясно видишь что-нибудь своими глазами и догадка при этом рождается и все, а сделать вывод из этого и поступить соответственно почему-то не можешь. Так было со мной в этот раз, когда мы были уже не очень далеко от дома и на лесной поляне заметили почему-то не вывезенный зимой стог сена. Приблизительно на высоте груди человека была довольно широкая щель, по краям очень обледенелая. Я даже подумал тогда, разглядывая щель краешком глаза, что, наверно, она сделалась из большой дыры: кто-то, может быть, залезал туда, а потом стог постепенно оседал, и так дыра превратилась в щель. После, когда все объяснилось и я рассказал Пете о своем наблюдении, он тоже вспомнил, что думал то же самое, но тоже почему-то не Довел мысль до конца и не подошел к стогу.
Так вот тоже бывает, когда записываешь свои наблюдения, всего не расскажешь, множество остается такого, что забываешь, хотя чувствуешь, как много осталось недосказанного. Конечно, и в этот раз, наверно, тоже я чего-то не вспомнил. Когда же мы вернулись к дому, лучи солнца снаружи и Ариша своими двумя керосинками изнутри до того нагрели домик, что пришлось даже для вентиляции открыть дверцу. А в тени резиновой шины в морозе по-прежнему, растопырив лапки, лежал замерзший лягушонок. Глядя на этого бедного лягушонка, я опять вспомнил свое мальчишеское путешествие в Америку, вспомнил, как мать моя отогрела тогда своим участием мою замерзающую от насмешек и попреков душу. Это воспоминание о себе через лягушонка, пытавшегося убежать в страну незамерзающих родников, опять наводило на мысль о родственной связи всего живого на свете. А когда мы показали этого лягушонка Арише и раскрыли весь его бедственный путь в страну незамерзающих родников, она даже руками всплеснула и воскликнула жалостно:
– Миленький мой!
И взяла его в руки и стала дуть на него из себя теплую весну. А из вскипевшего чайника в полоскательницу налила горячей воды и потом к горячей добавила холодной, и в теплую воду пустила лягушонка, уже согретого дыханием весны.
Вот во время-то этого оживления лягушонка я вспомнил и мать свою в детстве: она ведь была матерью только ее же собственного дитяти. Но Ариша как настоящая любящая мать относилась к какому-то лягушонку и, наверно, ко всему живому в природе.
– Скажи, Петя, – сказал я, – разве эту Аришину любовь ко всему живому в природе нельзя отнести к нашей экологии, как науке о связи?
– Старая дева, – ответил Петя, – своего ребеночка не было, вот и любит все. Какая же тут экология, даже в твоем расширенном смысле? Там от избытка, тут от недостатка.
XIV. Любовь Мороза
Мороз укрыл маленькую речку внизу, в ольховых кустах и засыпал ее глубокими снегами. Но в глубине своей речка эта жила своей жизнью со всеми своими рыбами, раками, жуками, червями, лягушками. Во второй половине зимы была оттепель, и поверх тяжелого ледяного одеяла, укрывающего старую жену Мороза, пришла другая, молодая вода, и Мороз, конечно, поиграл с молодой водой и укрыл ее таким одеялом, какого старая жена его никогда и не знала. Какими чудесными цветами, какими узорами разукрасил Мороз свою красавицу, но она не могла его полюбить и потихоньку из-под одеяла убежала от старого затейника неизвестно куда. Ничего об этом не знал старый Мороз и, думая, что она все еще тут, осыпал цветистое одеяло молодой жены на всю зиму до весны пушистыми снегами. Но вот ранней весной вода стала прибывать и снизу нажимать на лед старой жены Мороза. Пришли сюда рыбаки из Веж с вентелями, с мережами, с пешнями. И когда Мазай, желая сделать ильяло (прорубь), ударил по верхнему льду, тяжелая пешня, как бумагу, пробила легкое цветистое одеяло, вырвалась из рук и в глубине зазвенела о настоящий лед, аршинной толщины одеяло старой, настоящей жены Мороза.
После Мазая и все рыбаки топорами, пешнями, дубинками стали дробить висящий над пустотой цветистый ковер и, разглядывая иные обломки, смеяться и тут же вместе со мной создавать эту сказку о молодой жене Мороза.
– Пыль подколесная! – смеялся Мазай, – отчего это и у нас бывает: свои дом, своя жизнь, и хорошая жизнь, а на стороне все кажется лучше.
И странным образом, непостижимой игрой ума от любви Мороза Мазай перекинулся к любви человеческой и стал осуждать премии за обильное деторождение. Самую мысль о премии многосемейным он горячо поддерживал, только ему хотелось бы так все устроить, чтобы не на месте, а прямо же в Москве проверяли и назначали то лицо, кому надлежит пользоваться премией.
– Там-то уж не ошибутся, – говорил Мазай, – а у нас попадет вот такому…
Он указал на Мелкодырчатого.
– Или вот на этого пьяницу…
Указал на Павла Иваныча.
– Пьяницы премию пропьют, пьян без ума и честь такова, а детишки сидят на картошке пузатые и ходят в школу босые и рваные.
– Как же это можно из Москвы увидеть и разобрать, кто пьяница и кто надежный человек?
– Пыль подколесная! – воскликнул Мазай. – Да пьяницу же по морде видно, вон погляди на Павла Иваныча, весь тощий и зеленый, а нос красный!
С глубокой тоской в глазах и с милой улыбкой, как бы с покорнейшей просьбой о прощении и милости, поглядел на нас бедный Павел Иваныч. И Петя спросил:
– Но как же все-таки можно из Москвы рассмотреть, у кого нос красный?
– По радио, – спокойно и уверенно ответил Мазай.
О телевидении он, конечно, не знал ничего, но такой уж Мазай, что раз он услышал своими ушами из Москвы звуки человеческой речи, то почему тоже нельзя и лица увидеть: слышно или видно, не все ли равно.
XV. Сежа
Расчистив очень скоро узоры несчастной Морозовой любви, рыбаки принялись вырубать себе полыньи (иль-ялы). Возле каждой группы рыбаков скоплялась целая стена выбитого льда, и каждый старался так сложить выбитый лед, чтобы ледяная стена защищала его от холодного ветра. Под такой стеной Мазай устроился с Петей на всю ночь на сежу. Неподалеку от них сел под своей стеной Павел Иванович, а подальше возился Мелкодырчатый со своими воителями и мережами.
Я долго стоял возле Павла Ивановича, мне очень хотелось, чтобы он поскорее «оживился», и мое сочувствие к нему росло с каждой минутой ожидания. Ничего уже больше нельзя было с ним говорить, все внимание было его сосредоточено, все чувства собрались в двух пальцах, которыми он держал веревочку. Павел Иванович по этой веревочке чувствовал, как по нерву, всю жизнь реки, этой подледной воды, только-только начинающей переходить от старого хозяина Мороза к новым своим хозяевам – Ветру и Солнцу. Сквозь ячейки сети проходила прибывающая вода неровно, и такова чувствительность пальцев у рыбака, такое внимание, что толчки от струек прибывающей воды он мог отличать от толчков маленькой, проходящей сквозь ячейки сети, «сквозной» рыбки. Но Павел Иванович, чувствуя постоянно пальцами всю жизнь воды, знает, какой толчок бывает от настоящего счастья. Бледный, с пустым животом, неделями, бывает, лежит он, пропуская толчки струек и сквозных рыбок, в ожидании настоящего толчка большой рыбы. Кому тогда, как не Павлу Ивановичу, если это редкое счастье придет, и не выпить, ному тогда от всей души не сказать: «Вся душа моя в Пушкине!»
Так на всю ночь и устроились рыбаки на своих сежах, и чем больше они сидели, тем сильнее усиживались и теряли охоту обмениваться словами. Темнело, и они мало-помалу погружались все больше и больше в темноту, в молчание.
У нас, охотников, когда желают друг другу удачи, говорят: «Ни пера, ни пуха!» – а у приволжских рыбаков, если перевести охотничье счастье на рыбное, надо сказать: «Ни вандыша!»[19]
Так и я сказал в сумерках Павлу Ивановичу:
– Ни вандыша, Павел Иванович!
И в ответ он поднял на меня свои грустные глаза и улыбнулся такой милой улыбкой, будто он, сочувствуя мне, без слов говорил самое для меня приятное:
– Вся душа моя в Пушкине.
XVI. Стук-стук
Не хотелось ни спать, ни читать, ни писать. Петя остался на рыбе, Ариша улеглась и в полусне все тревожилась, как бы без Пети кто-нибудь к нам не пришел.
– Бандитов боишься, какие же теперь у нас бандиты? Если бы даже целой шайкой напали, погляди, сколько у нас навешано оружия!
– Я не человека боюсь, – отвечала Ариша, – я о зверях говорю, в пустыне же стоим, в лесу, мало ли кто может к нам подобраться.
– Ну, кто?
– Ну, скажем, удав.
– Нет у нас удава.
– Или тигра?
– Да я уже тебе говорил, что никаких тигров нет у нас.
– Мало ли что говорил, а вдруг.
– Перестань же, Ариша, думать о пустяках, спи!
Долго молчит и в полусне, перебирая всевозможных страшных зверей, вдруг опять спрашивает:
– А выдра?
– Ну, с выдрой, Ариша, ничего не поделаешь.
Так мало-помалу трусиха уснула, и я остался совершенно один, без охоты к труду, к чтению, остался один с глазу на глаз с семилинейной керосиновой лампой.
Никогда почему-то не пишут путешественники, исследователи полярных и всяких стран, о страшных минутах одиночества, обязательных для всех, молодых и старых, для ученых и для поэтов и для всего рода больших и малых деятелей. В эти минуты не только не боишься, и в особенности, как Ариша, каких-то несуществующих зверей, но за великое счастье счел бы сразиться один на один с каким-нибудь тигром и утешать себя тем, что раз «тигру» победил, то и все победил. В том-то и дело, что в эти проклятые минуты бывает в душе, как на мельнице зимой: колесо останавливается и обвешивается со всех сторон сосульками льда. Тогда в душе человека нет ни страшной «тигры», нет и неведомого друга, для которого приготовлена у меня и лежит вот теперь возле семилинейной лампы моя записная книжка с голубым карандашиком фабрики имени Красина «Пионер». Мало пишут об этом, но в преодолении таких-то минут и состоят главные трудности всех начинаний чего-нибудь нового…
Я залез в спальный мешок, привернул лампу, укрылся с головой, оставил себе дырочку для дыхания и, чтобы отделаться от ненужных мыслей и уснуть, стал считать до тысячи. В этот раз я считал счастливо, чуть ли уже не на второй сотне счет начал путаться, как вдруг где-то раздался совершенно такой же отчетливый и таинственный стук, как в рассказе Тургенева «Стук-стук!». Через несколько секунд стук этот повторился, и Ариша, очень чуткая, услышала и даже ответила:
– Сейчас, сейчас открою!
И не в шутку стала одеваться. У многих трусов это я не раз замечал, что трус настоящий о страхах только и говорит, а случится на самом деле что-нибудь страшное, этот же трус забывает все страхи и после сам себе удивляется: как будто во время опасности в нем пробудился другой человек.
Я велел Арише спокойно лежать, сам же опять зажег семилинейку, быстро оделся и, прежде чем выйти, прислушался.
«Стук-стук!» – опять, как у Тургенева.
Тогда тихонечко, чтобы не спугнуть этот таинственный «стук-стук», я повернул английский замок, без всякого звука открыл дверь и спустился по лесенке. Ждать в тишине под открытым небом пришлось мне недолго: опять и здесь отчетливо раздался этот «стук-стук», и опять, и опять. Но тут я что-то понял и приложил ухо к домику, и мне стало ясно: стук был по машине и внутри шоферской кабинки. Тогда я взял свой карманный фонарик с динамкой, мой вечный спутник в ночных переходах, подкрался к окошку и, когда раздался «стук-стук», дал туда свет и посмотрел. Какая чудесная картина открылась мне во все сиденье шофера Лада раскинулась, а Сват, стоя задними ногами возле рычага скоростей, передние лапы положил на подушку и лизал теплый Ладин живот усеянный розовыми сосцами. И когда он лизал, Лада от удовольствия била своим прутом по железу машины.
XVII. Вакхическая песнь
Так вот и окончилась, как всегда, моя страшная пустая минута, без которой нет путешественников, приливом необычайной радости жизни, удовольствия жить и дышать на земле вместе с чудесными ее существами. Тихонечко я спустился тропой между тесными кустами можжевельника к речке, подкрался к рыбакам. Они меня, конечно, заметили, но так рассиделись на своих сежах, что ничего даже не хотели сказать мне. По-прежнему, в той же самой позе, полулежал Павел Иванович с веревочкой в руке.
– Поймалось ли что-нибудь?
– Ни вандыша.
– Ох, Павел Иванович, и трудно же рыбка дается!
На это ответил голос Мазая из ночной темноты:
– Без труда не вынешь рыбку из пруда.
В эту ночь стихийные силы весны и зимы вступили в окончательный бой. Ветер менялся, горы нарубленного рыбаками льда, обращенные вечером против ветра, теперь больше не могли защищать людей. В погоне за счастьем каждый из них мог схватить в эту ночь воспаление легких.
– Петя, наверно, тебе невыносимо же холодно, пойдем-ка лучше домой, застыл?
И бодрым голосом из тьмы кромешной Петя ответил:
– Отец, тебе же сказано: без труда не вынешь рыбку из пруда.
– Вот это правильно, вот это так, – обрадовался Мазай, – что верно, то верно. Сын учит отца: без труда не вынешь рыбку из пруда.
В эту минуту, оказалось потом такую счастливую, слабый человек Павел Иванович с огромной силой, как будто он был великан какой-то, крикнул во все свое сиплое, Измученное вином горло то самое, взамен чего кричит Мазай свое «пыль подколесная!». И все бросились к нему на помощь, очевидно, по самому звуку догадываясь о всем Мало того, через минуту с топорами, с пешнями прибежали сюда и те рыбаки, которые друг друга называли кто кум, кто сват, кто свояк. И началась в темноте кутерьма, в которой я долго ничего не мог понять. Непрерывно слышался стук пешней о лед и стук топора: вырубали лед, вырубали колья, и, видно, все знали, что делали, и только были слова от Мазая, его непрерывное «пыль подколесная!». И Петя на ходу успел мне бросить: «Отец, это сом!» И слова хриплые Павла Ивановича: «Врешь, не уйдешь!» Мало помогал мне и мой карманный фонарик до тех пор, пока все не закрепилось в себе и не определилось окончательно: тогда все кричали одинаково торжественно, одинаково уверенно: «Врешь, не уйдешь!» А Павел Иванович сидел верхом на рыбине величиной почти в человека, весом в два пуда. Павел Иванович обеими руками держал ее за жабры и орал: «Врешь, не уйдешь!» А Мазай огромной, вырубленной из ольхи дубинкой гвоздил сома по голове и тоже повторял: «Врешь, не уйдешь!» Все были пьяны от счастья, пуще чем от вина.
И когда мало-помалу, будто сам собой, разгорелся костер и тоже сам собой пришел литр вина и поспела в котелке сомина, то Мазай поздравил со счастьем Павла Ивановича и сказал мне:
– Давно ли я тебе говорил: без труда не вынешь рыбки из пруда.
После этого скоро пришло на пир наш само Солнце. И когда первые лучи засверкали, Павел Иванович, румяный, пьяный, упоенный счастьем, сказал мне, писателю:
– Вся душа моя в Пушкине.
И предложил мне выпить чaрочку вина за Пушкина.
Отказываться от таких тостов не в моем обычае. Принимая чарочку и указывая на бледнеющий в лучах солнца костер, я сказал:
Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует Солнце, Да скроется тьма!– Пыль подколесная! – воскликнул Мазай, – до чего же здорово!
А Павел Иванович, с своей стороны:
– Вся душа моя в Пушкине.
XVIII. Жук-водолюб
Когда-то слой напирающей воды теплым полднем вырвался из-подо льда, покатился, разлился на лугу и вскоре замерз. Из-под этого слоя потом выбилась новая вода, опять покатилась и опять замерзла, и так между началом первого разлива и второго образовался далеко заметный змеистый рубец. На следующую ночь, уже третью, опять прибывала вода и напирала и в полдень опять разлилась, и образовался второй соединяющий змеистый рубец. Так и в четвертую ночь светил месяц, полный, чистый, помогая Морозу ковать, и в четвертый раз вода сделала попытку вырваться из рук Мороза. В конце пятой ночи внезапно Ветер изменил Морозу и стал на сторону Солнца, и пятый слой на лугу у Мороза вышел последним. Солнце, соединенное с силой южного ветра, в это утро вступило победителем и сразу же растопило снег на крыше нашего дома, и темная поверхность ее так закурилась, будто внутри начался пожар. А на пойме последний, пятый, слой льда, запирающий воду, как будто только и дожидался меня. И вот я пришел и ударил с силой ногой по льду и проломил лед очень легко. Тогда сжатая подо льдом вода с силой бросилась вон ил тюрьмы. Вместе с водой вынесся черный жук, быстро на ходу струи обернулся, поставил себя против воды и двумя своими специально плавательными лапками, совершенно как матрос саженками, греб, не давая воде унести себя.
И этого одного отверстия было довольно, чтобы вода, выбегая из него фонтаном, скоро широко разлилась на пойме, и я вынужден был отступить. Тогда, как бы в ответ этому первому разливу воды, послышалась песнь токующего тетерева, очень похожая на первую песню воды, и этому тетереву ответил где-то другой, и чудесный этот звук скоро обнял весь горизонт.
Теплые лучи солнца после морозов вначале, когда еще не создалась привычка, отнимают у человека всякую энергию, и оттого, когда я вернулся домой, то вначале от усталости ничего не мог записать, как это всегда делаю. Но я держу в уме образ жука-водолюба и работаю, значит, борюсь с усталостью, которая обволакивает мои впечатления и отводит их от меня. Мало-помалу я успеваю войти в ритм волнения сегодняшнего утра и, согласно позыву, расстанавливаю привычной рукой родные мне слова и тем создаю нечто новое, небывалое в мире, вроде как бы расширяю, продолжаю свое лучшее познание в природе дальше себя самого, и в этом достижении опять закрепляюсь, опять живу, как новорожденный, и побеждаю стихию усталости, как на моих глазах в это утро жук-водолюб победил стихию воды.
XIX. Жаркий час
Бывает часто, что перед концом зимы валом валит снег, но такого снега, каким в этом году весна света перешла в весну воды, я за всю свою жизнь но видал. Сплошной белой стеной из желтого неба целые сутки валил последний снег, и невидимый скульптор природы целые сутки в лесу лепил на деревьях, на кустах и на пнях свои удивительные фигурки. Самое замечательное в этих фигурках, что они по-разному питают воображение даже двух рядом идущих людей: в той же самой фигурке один видит одно, а другой совсем другое. Наперекор этому своеволию я люблю свою какую-нибудь избранную фигурку снимать фотоаппаратом, питая в себе надежду своим снимком потом всем доказать действительность моих милых фигурок.
Теперь, как только через сутки снег прекратился, я отправился в лес искать бесспорные вещи среди грез и мечтаний. Пока я выискивал себе формы, возможные для воспроизведения на пленке, на помощь мне выглянуло солнце, и это было в лесу, заваленном снегом, как если бы – эти спящие фигурки воскресли и бросились друг с другом играть. Серебряные птицы полетели во все стороны и за ними золотые стрелы, и там и тут мне показывались замечательные образы Сервантеса, Шекспира, Данте и всего сонма эллинских богов. Трогательны тоже были явления моих милых умерших родственников, друзей и рядом с ними, не скрою, моих не менее любимых покойных собак Ярика, Кенты, Соловья, Верного, всех, кого я описывал, пытаясь распространить между детьми ту самую дружбу, какая была у нас с ними.
Ни малейших следов каких бы то ни было зверей, кроме единственного самого свежего беличьего следа, нигде не было. Проходя тою поляною, где был в прошлый раз мною замечен стог сена с узкой обледенелой щелью, я вспомнил эту щель и хотел даже в этот раз поглядеть на нее, но ни малейших следов теперь от той щели не осталось. Я подумал: «Так что-нибудь показалось», – и вышел на ту просеку, по которой в тот раз шел следом одинца-волка и наткнулся на лосиное стойбище. Необычайное зрелище представляла теперь просека, по которой в тот раз мы шли рядом совершенно спокойно. Теперь весь молодой лес земно поклонился старому: перегруженные снегом вершины тонких берез лежали арочными мостами, и под ними, наклоняясь, еще можно было кое-как проходить. Но кусты орешника, круто склоненные целыми пуками, представляли собой непролазное заграждение даже на просеке. Между тем солнце после великой метели светило вовсе не через мороз, как весной света, а это было свободное, настоящее весеннее солнце. Лучи были такие горячие, что можно было снять всю свою одежду, положить на снег и нагим сидеть, как летом на горных ледниках: на короткое время так и у нас бывает почти каждой весной. И так мало-помалу в лесу настал жаркий час, освобождающий каждую рабски согнутую веточку. Началось с того, что я, перед тем как пройти под аркой согнутой березы, чтобы обрушить нависший снег, слегка ударил по ней палкой. Тогда от моего легкого удара, почти только прикосновения, все дерево прыгнуло, и передо мной, как в сказке красавица, – стала высокая, прямая, прекрасно белая березка. Но самое удивительное было вслед за этим: большая ветвь большой ели уже сама поднялась, сама все стряхнула с себя и закачалась. Так вот и случилось, что как будто ударом своим по молодой березе я в этот жаркий час начал движение, и у деревьев в лесу наступила, как у людей, великая революция. Всюду прыгали молодые деревья, сбрасывали с себя белые шапочки и белые простыни, раскачиваясь, шептались друг с другом, схлестывались, помогали стряхнуть последнее.
А в большом лесу, где я только что видел образы великих творцов и своих милых родных существ, было не хуже, чем в молодом лесу. Рыцари печального образа, падая сверху, обрушивали десятки рассевшихся ниже их всевозможных существ, и каждая ветвь, освобождаясь от тяжести, раскачивалась и сшибала все остальное на ближние ветви, В голубом бирюзовом просвете вниз головой летел Аполлон. Движение почти одновременное всех деревьев было так же удивительно, как в революцию движение тоже, казалось бы, постоянных, неподвижных, привычных мыслей о жизни. Глухой шум падающих снежных тел, шепот, скрип и треск со всех сторон, при полном отсутствии ветра, приводили, казалось, самую душу в движение, и самому хотелось в ужасе из леса бежать. И когда мне захотелось бежать, одна тяжелая фигура попала в то место, где под снегом ночевали тетерева. Одна за другой черные большие птицы вырывались из-под снега, разбрасывал белую снежную пыль, и мчались на лес, но сам лес качался, и они в ужасе, смешивая обычный свой полет, мчались неизвестно куда. Откуда-то выбило глухаря, и он, растрепанный, не обращая внимания на мою человеческую фигуру, сел нелепо на осину. Но не успел он прийти в себя, как с соседней высокой ели на него слетел шар в несколько раз больше футбольного, и обезумевший глухарь помчался, тоже как тетерев, неизвестно куда. Чуть ли не в десять каких-то минут непроходимая просека очистилась от снега, просветилось далекое расстояние, и мне видно было, как через лес минул знакомый по своему следу волк-одинец. В совершенном безумии трусливые белки, зайцы скакали через просеку и, встреченные снежной бомбардировкой в лесу, возвращались обратно, и опять выскакивали и, путаясь, неслись вдоль просеки. Останавливаясь, прислушиваясь, с острым ушком, белой грудкой и драгоценной «трубой», поставленной для верности вверх, прошла лиса. Какие-то большие тени одна за другой, мелькая, загораживали на мгновенье просеку.
Когда же потом скоро послышался треск ломаемого льда, я догадался: это лоси, бывшие здесь всю зиму на пастбище, махнули через речку, ломая верхний лед-тощак, одеяло красавицы Мороза.
В этот жаркий час все живое в безумном страхе выбегало из лесу и гремело звонким льдом на реке. Вот посмотреть бы, как они там проваливались! И я поспешил обратно через полянку, где стоял забытый стог сена. Теперь ни одной снежинки не было на всем стоге, и по-прежнему зияла огромная дыра, и след шел оттуда сплошной, как будто было громадным плугом пропахано. А из теплой дыры на всю поляну пахло медведем.
XX. Булка с косточкой
Много зверей промчалось в этот жаркий час из нашего леса через речку в затопленный край: не ко времени пришелся этот чудовищный лесной снегопад. Но ни волк, ни медведь, ни лисица, ни зайцы не занимали меня – «эти как-нибудь спасутся, – думал я, – а если и погибнут, то не все же погибнут». Но лосей мне было жалко, и я все держал и держал их в уме, вспоминал знакомство свое с ними возле озера Казноковенде, – как-то раз в хмурый день возле этого зарастающего озера я огляделся возле себя и почувствовал лося в этом пейзаже и понял законность формы его головы, столь чудовищно нелепой в иной обстановке. Не так просто передать это чувство, когда по необъяснимым признакам раньше собаки угадываешь, что вот тут-то непременно где-то должен быть тот или другой зверь или птица. В тот момент кажется, что каждая травинка свидетельствует и для того именно она создана, чтобы продолжать собой живущего где-то тут близко хозяина в перьях или в шерсти. Так было мне возле озера Казноковенде: везде тут и во всем я чувствовал близость лося. Со мной был самый лучший в краю, прямо сказочный охотник на лосей Михаиле Комаров. Ему уже восемьдесят лет, но едва ли найдется у него на голове много седых волос, и походка этого маленького и сухого человека самая легкая, юношеская. Как настоящий природный зверовой охотник, он очень туг на слова и даже, как ни любил в свое время собаку, а чтобы с ней «тубо говорить», – никогда!
– А если бы я много говорил, то как бы я мог тогда лосей много убивать: что-нибудь одно!
– А много убил на своем веку?
– Приятелем их не был.
– Сколько же всего?
– Взял свою половину.
– Штук двести?
– Поменьше.
– Сто?
– Побольше. Да что вы меня испытываете? Свою половину взял и за все только девять дней в тюрьме отсидел.
С таким охотником в этих лосиных местах бродишь и как будто читаешь самую увлекательную книгу о звере. Вот зеленый след в осоке, как будто в травке свито гнездо маленькой птичкой. Это шла лосиная корова с теленком, а ступишь сам в этот след – и провалишься по самую шею.
– Вот, – спрашиваю, – корова с теленком пошли в одну сторону, а этот откуда же след другой, разве что старый?
– Нет, это самый свежий: вот листик забрызган грязью, возьмите в руку, грязь еще не засохла.
След вышел под выворотень: это был лось и с ним нетель. Под выворотнем они напились. Вот и орешки остались.
– Бывало, увидишь лосиные орешки, и в картуз, и в Москву показывать, а теперь это везде. Эва ломал!
Скусанные осины, целая большая куртина осин, особенных, скусываемых из году в год, корявых. Вот одна из них вовсе как будто окольцованная, но как-то живет, переносит питание по самому тоненькому мостику коры. Тут же рядом скусанные можжевельники, крушинник. В этом осиннике, в этой лощине постоянно бывает отел: тут хорошо можно укрыться – теленку пососать, корове нажраться на месте. Как раз вот тут же Михайло раз теленка нашел.
– Что с ним сделал?
Михайло засмеялся и даже повторил: «Что сделал?» А потом уже долго спустя:
– Что сделал? Конечно, не за ухо только подрал: у маленьких мясо неплохо.
Почески на осинах: рога чистил. Оглоты, скусы разных трав и кустарников: таволги, Иван-чая, дикой рябинки трилистника.
– Смотри, вот молодой скоблил!
Мало того что молодой, мы узнали даже, что ему третий год: раз Комаров может оглот рукой достать, значит, молодому лосю пошел третий год.
Мы нашли место, где бык лежал, и даже поняли, что лежал, поджав ноги от слепней: ноги спасал. Быки теперь лежат, жир нагуливают и готовят себя к сентябрю: тогда будет рев, и лось весь жир свой спустит: в природе лосей любовь проходит как тяжелая болезнь.
На сухой земле возле болота мы нашли яму, пробитую будто бы лосем прошлый год во время гона. И Комаров даже слышал тогда, как лось пробивал эту яму: земля сухая бунчала.
– Для чего эта яма?
– Для увязи.
За неделю до Иванова дня лось начинает бить яму. Стучит, как в бочку: ум, ум. От этой пробоины лосем пахнет за сто шагов, и, наверное, кто-то из них, самец или самка, в эту яму ложится. А то от чего бы так далеко пахло?
Видимо, самому охотнику не очень было ясно назначение ямы, но весь остальной роман лосей знал он до точности.
– Лось кашлянет, как из пушки ударит: я далеко слышу, иду, а он меня слышать не может. Вот на бугор выходит корова с теленком, и лось так нежно ей: «Ох!» А она ему тоже: «И-о!» И побежала на махах, и он за ней, а теленок, как немазаная телега, на весь-то лес!
Рев лосей под Москвой! – кажется, вот говорил бы об этом и говорил без конца, но только с кем-нибудь, а не с Михайлой: каждое слово из него достается клещами. Под конец, когда мы сели с ним отдохнуть на сухом бугорке, я пристал к нему, чтобы рассказал мне он о лосях что-нибудь с выдумкой.
– Соври что-нибудь!
– Не умею: могу только рассказывать, как было.
– Неужели же никогда не врал?
– Нет, было: солгал.
И рассказал, как он однажды убил самку лося: разрешено убить лося-самца, а он – самку, – это нельзя, за это штраф. А у него был один рог лося, и он привинтил к убитой самке один рог, а о другом сказал, что сломался. Вот и сошло за самца! Вот и соврал.
– Ну что это! – сказал я. – Ты же ничего тут не выдумывал: ты рассказал то, что было, а я тебя прошу сказать такое, чего не было, с приключением как-нибудь расскажи.
– С приключением тоже можно, было врал и с приключением. Вот объездчик Прохор был вострый, не знаю, жив ли теперь. «Ох, – говорит, – попадешься, Михаиле, с лосем – обдеру! Съем тебя, как французскую булку». Хорошо! Приезжает к нам однажды таксатор, я ему лося нагнал, стрелял, ранил, не нашли. На другой день таксатор уехал, а я нашел другого лося, убил, мясо привез домой, посолил. На грех, когда мясо из лесу вез, печенку потерял. Прохор с печенкой этой по моему, следу и кадушку с мясом нашел. «Твое дело?» – «Нет, – говорю, – не мое. это таксатор вчера убил, а я сегодня нашел». Прохор написал таксатору, а тот-то рад и пишет, что рад без памяти и просит шкуру продать и пропить, а мясо Михаиле отдать за труды. Вот я и говорю тогда: «Помнишь, Прохор, ты сказал тогда, что съешь меня, как французскую булку, а ведь булка-то оказалась с косточкой!»
XXI. Лоси
Когда мы с Мазаем осмотрели на речке, сколько обезумевшие от страха лоси обрушили ледяной нависи, подсчитали, сколько они, выбиваясь наверх по крутому берегу, оставили следов, мне пришлось задуматься о поэме Некрасова «Мазай и зайцы». Почему же, правда, Некрасов, такой страстный охотник, широко изображая в поэме затопляемый Волгой край Мазая, ничего не сказал о лосях: разве эти звери, увидев которых на свету всякий чувствует, будто он в лицо увидал духа лесных болот, тоже не погибают от наводнений и тоже не спасаются, как зайцы и всякие звери?
Я задал этот вопрос Мазаю, и он, местный человек, объяснил мне это тем, что лоси не каждый год бывают во множестве, как теперь: то ли они вымирают от болезней, то ли куда-нибудь уходят. Возможно, при Некрасове случилась с лосями какая-то беда, возможно – переселились.
Осмотрев следы всех лосей, перебежавших речку тесным строем, мы направились к дому и по пути наткнулись на отдельный след большого быка. Так же как и все лоси, этот бык тоже бросился в речку и разбил вдребезги лед-тощак, послуживший одеялом-покрышкой убежавшей воде. Но в то время, как все лоси взлезали по крутому берегу. минуя деревья, этот лось бросился прямо в заросли черной ольхи, и эта заросль, спружинив, отбросила назад даже такого огромного зверя, и он опять, несмотря ни на что. поднялся и по черной ольхе сделал просеку.
– Зачем ему нужно было ломать, – спросил я Мазая, почти рядом же вот есть свободное место?
– Слепой, – серьезно ответил Мазай.
Было это так жутко услышать, никогда не случалось мне слышать и думать о жизни слепого зверя в лесу.
– Было это, – рассказал Мазай, – нынче осенью, много белок пришло, раньше времени выкунели, стали мы раньше времени на белок ходить, и тут как раз приходится гон у лосей. Набежал на нас бык, и мальчишка Баляба сдуру хватил ему дробью в глаза. Сам не видел, но люди скалывают, все видят: в лесу живет слепой лось.
Когда мы пришли домой и сели за чай. я сказал под влиянием тяжелой думы о судьбе слепого лося:
– Знаешь, Мазай, этот слепой лось теперь у меня из ума не выходит и хватает за сердце; когда же я был мальчишкой, то сам мучил животных и птиц. А как ты, в молодости тоже, наверно, был жесток?
– Да, – ответил Мазай, – я их бил беспощадно.
– Солил? – спросила Ариша.
И не только нас с Петей, но и самого Мазая удивила дремлющей в глубине ее крестьянской практичностью: вчера оживляла, как мать, замерзшего лягушонка, а при разговоре о лосях сразу же вот это «солил»!
– Сорокаведерные кадушки засаливал, – ответил Мазай.
– Можно было?
– Нет, лосей бить нам и тогда запрещали.
– Что же, подобрел после революции?
– Нет, – спокойно ответил Мазай, – не подобрел, а попритчилось.
– Что такое?
– Попритчилось мне, – начал рассказывать Мазай, – будто не зря и он, лось, ходит по земле, и тоже и у них все, как у нас, только они сами по себе, а мы тоже сами по себе, мы ходим за ними, они ходят от нас, и когда нам бывает радость и счастье – им наше счастье есть смерть.
– От смерти не уйдут ни лоси, ни мы, люди.
– Это правду, Ариша, ты говоришь.
И голос Мазая вдруг как бы сломился, и стало ему вроде как бы совестно, что начал рассказывать.
– Смерти никто не минует, Ариша, а когда живешь, хочется жить, правда, Михайло Михайлович!
– И еще как!
– Правда, Петр Михайлович?
Петя ничего не ответил, и Мазай окончательно смутился и не стал рассказывать, что такое ему попритчилось отчего он бить лосей перестал.
– Хорошенькие они! – сказал он, заминая тот рассказ.
– Они ни на что не похожи, – возразил Петя, – и скорее даже безобразные, чем хорошенькие.
– Очень хорошенькие, – настаивал Мазай. – Раз было, по убылой воде, вижу, лосиха плывет с двумя лосятами, а я за кустом. Хотел бить в нее, да подумал: деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну, вот она плывет, а они за нею не поспевают, а возле берега на этом озере отлывно: она идет по грязи, а они тонут, далеко отстали. Мне стало забавно, сем-ка, думаю, покажусь ей, убежит она или не кинет детей?
– А как же, – остановила Ариша, – да ведь ты же убить ее хотел?
– Вот вспомнила, – удивился Мазай, – я, Ариша, в то время забыл, вот как есть говорю, все забыл, только одно помню, убежит она от детей или тоже и у них, как у нас? Ну, как вы думаете?
– Думаю, – ответил я, вспоминая разные свои случаи, – отбежит к лесу и оттуда из-за деревьев или с холма наблюдать будет или же дожидаться…
– Не мели, не мели, – перебил Мазай, – оказалось, у них, как у нас. Мать так яро на меня поглядела, а я на нее острогой махнул, думал, убежит, а лосенков я себе захвачу. А ей хоть бы что, и – на меня к берегу, и так яро, яро глядит. Лосята еще вытаскивают длинные ножонки из грязи люк-люк! И что же, вы подумаете, что они делать стали когда вышли на берег.
– Мать сосать?
– Нет, как вышли на берег – прямо играть! Шагов я на пять подъехал к ним на ботничке, и гляжу, и гляжу один был особенно хорош… Долго играли, а когда наигрались, то к матке и пошли, и пошли…
– И ты не тронул? – удивилась Ариша, – охотник и не тронул?
– Так вот и забыл, Ариша, как все равно мне руки связали: сижу и гляжу, а в руке острога, и стоило бы только двинуть рукой…
– Студень-то какой! – сказала Ариша.
Мазай с уважением поглядел на нее, очевидно, узнавая в ней хорошую деревенскую хозяйку.
После этого студня Мазай осмелел и начал рассказывать сам, без нашей просьбы, что ему такое попритчилось и отчего он перестал бить лосей.
– Так вот, – рассказал Мазай, – в прежнее время я их приятелем не был, сорокаведерные бочки насаливал. А в революцию, когда вернулись солдаты с фронта с винтовками, с патронами, началась прямо война, и всех лосей перебили начисто. Оставался старик лось огромный, с ним матка ходила, два нетеля и лосенок. Долго их гоняли, и пропали они неизвестно куда. Но раз иду я по берегу, стоит этот лось-старик на берегу, я ударил, – он в воду упал. Поглядел я, а рядом корова стоит – я и в нее, а и она тоже в воду. Подошел к ним и через кусты вижу нетелей, и их тоже я так, и теленка. После теленка слышу назади что-то плещется, обернулся: старик стоит, и кровь из него, и матка тоже встает. Я их опять уложил и самому стало жутко. Слышу, опять что-то сзади шуршит, оглянулся: нетель стоит, и другой нетель встает. И уже чудится мне, будто назади опять плещется, и опять я оглядываюсь, а нет ничего, все мне попритчилось: лежат лоси в воде, и от них бежит река красная крови… Ну, вот с тех пор и не хожу, сердце мое не выдерживает, попритчилось мне, и думаю теперь, лось тоже не зря по земле ходит, и только у нас и у них все по-разному: нам счастье – им смерть. Но не все же смерть? И у них тоже, как и у нас, бывает же счастье? Вот тут я вспоминаю, как они играли, хорошенькие, ушки розовые. Есть и у них тоже свое счастье, и через это я сознаю, что закон тоже не глупый, закон, чтобы не бить животных зря? И через это я подчиняюсь и, не как прочие, лосей не бью.
XXII. Серые слезы
Есть весенние серые слезы радости, прямо голубь в душе заиграет, когда их после долгой зимы в первый раз У себя увидишь на окошке. Но еще радостней бывает, когда теплая капля весны попадет на лицо, и тогда каждый Думает, что вот он-то и есть избранник весны, ему, первому счастливцу, попала на лицо первая весенняя капля. В молодости я тоже хотел быть избранником, а теперь мне это даже смешно, пусть, думаю, «избранники» тешатся, я-то знаю, что весна приходит для всех. Весною теперь мне хочется быть со всею природой и радость свою разделять со всеми людьми. И как первая капля весенней живой воды вызывает другую, третью и потом сотни и миллионы, так и я тружусь, усиливаюсь, чтобы вызвать всех людей на великий праздник Неодетой весны.
XXIII. Воды
В природе нет существ более близких мне. чем лесные ручьи, вытекающие из болот, потом рассекающие темные леса глубокими оврагами. Эти маленькие ручьи такой скрытой силы, что, если встретится на пути такого ручья любая гора, пусть Казбек или Эльбрус, все равно, он и Эльбрус размоет, чтобы донести свои разноцветные камешки в Черное море, и потом опять с моря подняться легкими пузырьками, и садиться серенькими каплями весны на щеки людей, на шубы зверей, на сучки деревьев, и опять из капель собираться ручьями, и опять пробивать себе путь в океан.
Как люблю я ранней весной думать, что слова мои, если только суметь вызвать их из самого сердца, тоже могут собраться в ручьи и прийти в океан жизни Всегочеловека, где нет ни больших, ни маленьких писателей, а все организованы в единстве Целого, где все творцы.
И до того природа весенней капли при глубоком радостном раздумье весной сходится близко с природой человеческого слова, что вот, кажется, вот-вот сейчас я из этого что-то открою, вот-вот назову. И когда наконец я как будто пришел к какой-то окончательной мысли и говорю: «Творчество человека есть та же вода», – все вокруг надо мной начинают смеяться, и я стою в дураках, и все мне повторяют: «Творчество твое, как вода!»
XXIV. Огонь или вода?
Капли падают на каждую веточку нашего великого дуба и собираются в крупные, но огонек на берегу горит, пока не обращая никакого внимания на падающую в него первою весеннюю воду. Это развели костер еще с вечера Мазей и Петя и при нем переночевали. Вот они, видно и сверлу, горячо о чем-то заспорили, даже встали и руками размахивают, и Мазай указательный палец поднес к самым Петиным губам и им раскачивает, подтверждая каждым покачиванием указательного пальца свое сокровенное убеждение в чем-то.
Я знаю и Петю, и Мазая и хорошо теперь понимаю, они спорят не как обыватели за свое личное место: всякий такой тор сводится к тому, что Ты или Я. Знаю, что и для сына моего, как и для меня самого, недаром пришли с неба сегодня эти первые теплые капли весны, не может Петя в такой для всякого охотника священный день выставлять свое «я». Нет! Я смотрю на них и думаю о Сократе на площади, об одном старом еврее-философе с выпуклыми шишками на голом лбу, как он, помню его уже лет тридцать, на всех собраниях, как только завяжется принципиальный спор, выступает и начинает доказывать, точь-в-точь как и Сократ…
Любопытство подхватило меня, и я быстро пошел туда узнать, о чем они спорят и не попался ли наконец желанный налим к обеду на донные удочки.
К счастью, Петя уже приладился отлично ко мне и знает, чего я ищу и что надо из разговоров и споров сохранять для меня. После того как он обрадовал меня хорошим известием о том, что у нас сегодня будет уха из налимов, он рассказал еще мне и о споре с Мазаем о том, что сильнее в природе – огонь или вода? Поводом к этому спору послужила падающая в огонь дождевая вода. Тогда оказалось, что я верно понял сверху выразительные движения: они спорили, как древние греки, о начале начал. Мазай в споре шел путем Фалеса, стоял на том, что в мире все началось от огня. Петя же, с которым я постоянно делюсь мыслями двоими о природе воды, столь близкой к человеческому творчеству, стоял за воду как за начало всех начал. Петя читал историю философии и, конечно, не стал бы возражать Фалесу, но в образе воды скорее всего он хотел за начало начал признать человеческое творчество. Хитрый Мазай, однако, перехватил Петину мысль раньше, чем сам Петя успел ее ясно выразить. Это был как раз тот момент, когда я сверху смотрел на них и видел, как палец Мазая качался у Петиных губ с каким-то утверждением, полным силы и неколебимой веры. Эти покачивания указательного пальца сопровождались словами Мазая:
– Ни огонь, ни вода, а человек: сильнее всего на земле человек.
Петя, конечно, с этим был совершенно согласен и спорить, казалось, больше было и не о чем: именно то же самое и Петя хотел передать, вступаясь за воду. Но Мазай до того разгорелся, что, как только мы вернулись в наш дом и сели за чай, опять повторил:
– Да, Петя, выкинь из головы и огонь, и воду, и всех зверей, самых даже сильных: человек сильнее всего.
– А лев? – сказала Ариша, в этот раз, возможно, и не без плутовства. И потом уже явно кокетливо: – Или тигра, или мало ли что!
– Что же еще-то? – ухмыльнулся Мазай.
– Как что, – бойко ответила Ариша, – а выдра?
– Выдра! – засмеялся Мазай, вполне понимая, что Ариша смеется.
И он больше уже не сказал свое: «Зачем вы ее возите?» Мы даже заметили, что с тех пор, как Ариша пожалела о потерянном студне, в то время как Мазай рассказывал о хорошеньком лосенке, она стала его интересовать и, может быть, нравиться.
XXV. Теплая птица
Наш дятел, Майор, как мы его успели прозвать за его самую сильную трель, выдолбил себе дырочку в трухлявой березе как раз под древесным грибом, похожим на лошадиное копыто. Солнце он встречает, сидя на копыте, в дождь заберется в дырочку и глядит из нее под копытцем. И мы тоже так, недалеко ушли, приоткрыли окошко и глядим себе из домика своего, как из дупла. Все живое во время дождя так свертывается и замирает в сочувственном единстве, где-то сокровенной природой своей понимая священную силу для всей жизни на земле этой падающей с высоты воды. В особенности чувствительны к теплому весеннему дождю деревья. У них в это время обмываются почки, и у ольхи прямо даже и видно, как белая чистая дождевая вода, обмыв почки, стекает вниз, и снег под ольхой становится желтым, будто возле каждого дерева лисица прошла и помочилась.
Когда наш огромный дуб собрал на себя столько воды, что больше она не могла держаться в покое, то отдельные капли стали сливаться и, тяжелые, стали катиться к стволу и так дальше, как придется: если дупло, то в дупло, если же уступ или выпуклина, то прямо с уступа вниз водопадом. Но большая часть воды бежала ровно по всему стволу, и от этого внизу вытаивал на снегу круг, и так под каждым деревом в лесу возле ствола собирался кружок.
Всю зиму, конечно, с елок сыпались желтые отмерзшие хвоинки и незаметно распределялись в снегу. Слой за слоем все время зимы ложился падающий снег и хоронил хвоинки. А теперь снег сседался, слои снега сбегали, и хвоинки, похороненные на зиму, теперь встречались, и так их было много, что снег становился рыжим. То же делалось и с шариками зайцев, и с пометом разных других животных. И все это всплывало: и семена из шишек, из березовых сережек, и самые шишки, сброшенные клестами и белками. В этих первых маленьких резервуарах воды возле стволов было так много всего, что самая вода скрывалась, как летом под ряской. Большая работа была в лесу во время дождя, лес готовился с весенней водой выслать семена, и каждая лесная порода готовила столько, чтобы хватило одной этой породой обсеменить все.
На пойме с высоты нашего яра очень скоро стали выделяться от белого лугового снега нежно зеленеющие очертания рек, озер, подозерков и тех совсем маленьких водоемов, наливаемых вешней водой, которые у рыбаков называются поями. Во множестве эти пои выглянули теперь, как глаза.
В полдень дождь не переставал, но так теплело, так тоже и светлело, что везде на всех деревьях лиственных неодетых зацвела кора: молодые осины показались, как зеленые свечи, молодые березки внизу были розовыми, а постарше такими белыми, как еще не бывали зимой, и тоже кусты ранней ивы оживали корой своей и выделялись зеленоватым оттенком своего дымка. С огромной вязанкой таких гибких, насыщенных теплой водой прутьев пришел к нам Мазай и, не успев скинуть вязанку с плеч, спросил нас:
– Видели теплую птицу?
– Видел жаворонка и пигалицу, – сказал Петя.
– Глядите лучше, – ответил Мазай, – вся теплая птица летит.
И это было понятно: где-то на близком юге, у границы наших снегов, птица дожидалась и скапливалась, и теперь, не соблюдая обычную очередь: грачи, потом жаворонки, потом скворцы и другие, – все, кто туда успел прилететь, при первом решительном теплом дожде бросились на север, к местам гнездований, на свою северную родину.
Мы стали глядеть на юг, и ждать нам недолго пришлось, показались грачи, и жаворонки, и всякая «теплая» птица.
Чайка одна по ветру очень быстро неслась, и сзади пер виднелась головка какой-то другой птицы, быстро ее настигающей: эта птичка оказалась жаворонком. Вслед за чайкой и жаворонком спокойным, но быстрым полетом выехал из мглы ястреб-тетеревятник. Странно было видеть, что одна из самых хищных птиц, ястреб-тетеревятник, летела почти рядом с чайкой, не обращая на нее никакого внимания, что жаворонки находили себе время на глазах хищника тут же и спариваться.
Нам казалось, что и наша-то местная птица радовалась прибытию «теплой» птицы. Несмотря на дождь, весь горизонт был окружен множеством песен тетеревов, слившихся в славе, рождающейся в воде: сами они пели вместе, как сотни ручьев. В лесу же и днем прогоготал гугач (филин) и серая сова, сплюшка, запищала свое постоянное: сплю! сплю!
XXVI. Трясогузка
Каждый день я ждал любимую мою вестницу весны – трясогузку, и вот наконец и она прилетела и села на дуб и долго сидела, и я понял, что это наша трясогузка, что тут она где-нибудь и жить будет. Мы стали даже узнавать. когда птичка садилась с прилету на дуб. Наша эта птичка, будет ли она тут с нами вблизи где-нибудь жить, или ей надлежит дальше лететь и тут присела она лишь отдохнуть Наш скворец когда прилетел, то нырнул прямо в свое дупло и запел, наша трясогузка с прилету прибежала к нам под машину, и Сват стал прилаживаться, как бы ее обмануть и схватить. С передним черным галстучком, в светло-сером, отлично натянутом платьице, живая, насмешливая, она проходила под самым носом Свата, делая вид, будто вовсе не замечает его, а когда он бросался на эту изящную француженку со всей своей собачьей страстью, она, конечно, заранее приготовленная к нападению, отлично понимающая собачью природу, отлетала от него всего на несколько шагов. Тогда он, вцеливаясь в нее, опять замирал, и она, раскачиваясь на своих тоненьких пружинистых ножках, глядела прямо на него и только что не смеялась вслух. только что не выговаривала:
Да ты же мне, милый, не сват, не брат, И не деверь, и не кум, и не зять, и не свояк.И наступала, иногда даже прямо рысцой. И замечательно было, что спокойная пожилая Лада, если только она тут быта где-нибудь, неподвижная, замирала, как на стойке, и наблюдала игру, не делая ни малейшей попытки вмешиваться. И Бой тоже, конечно, видя игру, замирал, но у него замирание было только от избытка страсти. Огненным глазом он созерцал птичку-француженку, не смея сдвинуться с места, хотя бы игра продолжалась и час, и больше. Лада же следила совершенно с тем же комическим интересом, как и мы, когда француженка, увертываясь от Сватовой пасти, отлетала, когда же та начинала наступать, подбегать, то переводила свой черный глаз на Свата, стараясь понять, выдержит он и поймает или же француженка опять покажет ему длинный хвост.
Еще забавней было глядеть на птичку эту, всегда веселую, всегда дельную, когда снег с песчаного яра над рекой стал оползать и прибывающая вода образовала свою начальную полоску между льдом и берегом. Тогда трясогузка зачем-то стала бегать по забережью, по песку возле самой воды. Пробежит, напишет на песке строчку своими тонкими лапками. И, глядишь, когда птичка возвращается, написанная строчка уже под водой, и пишется новая строчка, и так почти без перерыва весь день. Трудно было узнать, что тут вылавливает себе птичка, да меня в этом и не то занимало. Невозможно было заметить коварное наступление прибывающей воды, но по исчезающей строчке трясогузки я мог следить, как по часам. Во время этих наблюдений вода для меня становилась мало-помалу как бы живым существом, начинающим мало-помалу овладевать всей нашей наземной природой. После, долго спустя, когда весенняя трагедия на пойме кончилась и вода начала убывать, на яру открылась целая рукопись, написанная лапкой трясогузки с разной ширины промежутками: вода двигалась медленней – и строчки были шире, вода быстрей – строчки чаще.
Сколько усилий делал я, чтобы снять птичку-писателя за ее неустанной работой, но даже отличный цейсовский телеобъектив в триста двадцать миллиметров подавал мне в зеркало птичку величиной не больше макового зернышка. Неустанно работая, она в то же время как будто особым, скрытым за перьями глазом наблюдала мое приближение и пересаживалась подальше без всякого перерыва в работе. Точно так же не удавалось мне ее захватить и в штабелях Дров, где, по всей видимости, она себе намечала устроить гнездо. Но вот было однажды, когда мы с Петей за ней охотились в дровах с зеркалкой и «лейкой», к нам приблизился Мазай и, поняв, чего мы добиваемся, засмеялся и сказал нам:
– Эх вы, мальчики, птичку не понимаете.
И когда трясогузка от нас перелетела к другому штабелю и там скрылась, велел и нам тут же скрыться, присесть за нашим штабелем дров.
Не прошло десяти секунд, как любопытная француженка прибежала узнать, куда делись мы, и сверху от нас в двух шагах сидела и трясла своим хвостиком в величайшем изумлении.
– Любопытная она! – сказал нам Мазай.
Тогда мы проделали то же самое несколько раз, приладились, спугнули, присели, навели аппараты на одну веточку, выступающую с поленницы, и не ошиблись: проскакав по всей поленнице, птичка села на веточку, и мы сняли ее зараз и «лейкой» с телеобъективом, и зеркалкой.
Очень довольный успехом, нам говорил Мазай, что у всякого зверя, птицы и рыбы есть свой характер, и на то у человека разум, чтобы характер понять. И еще у всех зверей и у всякой твари есть место любви своей и родины. Спугните зайца, он сделает круг и вернется на лежку. Стоит судачиха, приходит судак, заколешь острогой судака, оставишь судачиху, а на другой день к этой судачихе другой судак приплывет. Вся хитрость в этом, и человеку дан разум, и он это понял и стал на земле хозяином, и нет ничего на земле сильней человека.
– Вот ты говоришь, – сказал Петя, – постоянно говоришь, что человек сильнее всего, и с большой радостью, а какая радость в том, что человек все захватывает и разоряет?
– Это не человек разоряет, – ответил Мазай, – это враг человека. А я за то дивлюсь силе, что вижу в этом добро, и когда вижу, как добро перемогает зло, – радуюсь.
XXVII. Дупло
Всю ночь слушали дождь, как слушало его всяко! живое существо в своей норке, в дупле, в корнях и во все! этажах леса. Во время этого живительного дождя все, что движется, останавливалось, затаивалось, припадало к стволу дерева и, если бы можно было, уходило даже в самое дерево, в дупло.
И я вспомнил великое дерево, возле которого мы поставили свой дом на колесах, мне казалось в это время, что мы недаром поставили свой дом возле самого древнего, самого большого дерева в этих лесах. Человек часто ставит свой дом рядом с деревом и даже в больших городах непременно выращивает возле своего жилища деревья и внутрь дома вносит цветы. Вот и мы тоже, создавая себе подвижной дом, в то же время поставили его возле большого, надежного, неподвижного. И в дождь оно дало о себе знать: мы чувствовали себя, как в дупле дерева, и под нами были гигантские корни, тоже населенные бесчисленными живыми существами.
Под музыку дождика Неодетой весны я перебрал в уме своем все домики, в которых жили все существа, с тех пор как они вышли из моря, и для себя лучше дупла ничего не нашел. «Стрясись со мной, – думал я в полусне, – такая страшная беда, что и жить не захочется, скроюсь в дупло, и когда станет лучше, выгляну оттуда и увижу белый свет и золотые лучи солнца, проникающие сквозь густой зеленый шатер из живых листиков на тонких ветвях, и услышу пение птиц, и писк землеройки, и так обрадуюсь, что прямо из дупла брошусь вниз, и, как молодой птенец ласточки… полечу».
XXVIII. Желтая трава
Маленькое озеро вокруг нашего дуба, такое же, как возле каждого дерева в лесу, в эту ночь переполнилось. Снег превратился в зернистую крупяную кашицу, и это больше не могло сдерживать воду: вдруг эти снежные сосуды под каждым деревом прорвало. Туман, однако, был так велик, что мы утром долго не могли увидеть картину разрушения снега возле нашего дуба. Когда же туман поредел, нам открылась под нашим деревом поляна во всю гигантскую крону, первая земля, которую мы в этот год увидали. Кое-где на этой первой рыжего цвета поляне лежали кружева истлевающего снега, похожие на белую пену морского прибоя. Истлевая, эти кружева большими холодными каплями росились по старой, желтой траве. И желтая трава их охотно принимала и по стеблю своему провожала к тем корешкам, на которых скоро должна подняться молодая зеленая трава. Старая трава, не думая знает, что каждый год природа убирает землю два раза один раз она убирает ее зеленой травой и цветами, другой раз белым снегом. Старая, желтая трава, как только выглянула на свет из-под снега, стала ждать и провожать каплю за каплей, чтобы зеленая трава поскорее бы закрыла ее…
XXIX. Дерево-вождь
Чем ближе подходит ко мне моя последняя весна, тем я сам становлюсь моложе и чувствую много острее тоску и после тоски общую радость всего живого при встрече с весенним солнышком.
Чувство старой травы, это поскорее бы спрятаться в зеленой, я не с себя прямо переводил на траву, – нет. я, чувствуя всеобщую радость весны воды, стал искренно на сторону старой травы, и вовсе я не о себе только думал. Я так в это время был предан самой траве, что внимательно разглядывал ее и через эту родственную близость скоро проник в такие тайны этой травы, какие равнодушный глаз с мыслию о себе только не откроет. Мое внимание было остановлено красноватыми пятнами среди рыжей травы, и, разделив пальцами красноватую траву от рыжей, я догадался, что красноватое было остатками прошлогоднего темно-зеленого щавеля. А потом, складывая друг с другом щавелевые пятнышки, я вдруг как-то догадался о всем и так обрадовался своему открытию, что вызвал Аришу и Петю.
Они быстро поняли меня и по красным пятнышкам, как дети из кубиков, стали складывать ветви гигантского дерева, распростертого на желтой траве. Нам стало скоро понятно, что трава щавель требует лучшего удобрения, чем обычные злаки, и старый дуб, который когда-то упал сюда, он-то, истлевая, и давал щавелю свое удобрение. Когда он рос, когда упал, сколько лет истлевал и сколько дал урожаев щавеля своим удобрением? Не родня ли был этот дуб тем огромным дубам, которые всюду лежат тут в реках? Люди этого помнить не могут, но темно-зеленый щавель каждую весну, каждое лето до сих пор выписывает на обыкновенной зелени точный образ древнего дуба-вождя.
Нет, я не о себе только думал, когда принимал к сердцу старую траву и открывал в ней желание поскорее скрыться в зеленой траве, сделаться удобрением и вместе со всею землей рождать новые травы. Если бы я о себе думал, я бы и видел только себя и не открыл бы на поляне возле нашего дома так долго не умирающий, сохраняемый травами образ дуба-вождя.
С нетерпением ждали мы, когда наконец рассеется туман и нам откроется пойма в своих переменах после дождя
Но когда разошелся туман, ожидаемых перемен мы не увидели. Легко было зимой навалиться такому снегу, нелегко было теперь его убрать. По-прежнему перед нами было белое поле, только дороги стали рыжее, тропы темнее и совсем отделились своим нежно-зеленым цветом речки, озера, подозерки. По дорогам и тропам из дальнего леса шли люди с вязанками прутьев в руках: это рыбаки спешили запастись материалом, пока не стало так, что ни пешком, ни на лошади, ни в ботнике добраться до леса не будет никакой возможности. А вода, видно, напирала уже на лед из-под низу с большой силой, потому что вчера еще обыкновенного вида прямой мост через Соть выглядел теперь финтифлюшкой. Сюда и собирались из Веж с топорами и пешнями колхозники, чтобы заблаговременно разобрать мост, сплотить и по первой воде отвести в безопасное место. Когда же и мы к ним подошли, то, увидев еще издали нас, люди эти полезли в карманы, достали кисеты и стали свертывать себе козьи ножки. Это было у них оттого, что мы для них были не свои люди, а интересные, чужие, и у них у всех накопилось за эти дни столько интересного, что издавна заведенное захотели они нам все пересказать.
Интересно было им поделиться с нами сильным впечатлением от быстрого перехода весны света в эту весну воды. Все они видели, и как стал рушиться снег в лесу, и как зашумело от обвалов снега, и как заходили-закачались деревья и запрыгали ветви и в какой-нибудь один час лес стал голым и все звери разбежались и многие птицы убрались.
Все рыбаки видели, как волк-одинец перемахнул через пойму в Бухалово, а бухаловские сказывали, от них одинец перекатил в Ожогу и вскоре вслед за ним пропахал снег и сам Михаиле Иванович… Лоси же все как стояли на зимнем стойбище в Варвариных Куженьках, так тесным стадом перекатили через речку и, наверное, тоже стали в 0жоге и будут там стоять, пока лес не зальет.
– Куда же они бросятся, когда зальет последний бугорок? – спрашивали мы.
И нам отвечали, что ежели придет большая вода и Ожогу зальет, то лосям деваться некуда, тогда возле них будет море.
– Копеечки будут, конечно, торчать кое-где, и лоси поплывут от копейки к копейке.
– И в свою сторону, конечно, – сказал Мазай, – на родину, где вы теперь стоите, на Варварины Куженьки.
– Но им туда не доплыть! – сказал Рыжий, – ежели только не вздумают броситься в сторону Волжи и лесами выбраться.
– Куда? – спросили мы.
– А за Волжу, там за Волжей все кончается, и там спасается каждый зверь.
– Ежели будет вода, – сказал Мазай, – никто не спасется, туда не побегут, а кто где был, где стоял, где лежал, где кормился, туда и будет пробовать вернуться. Зверь, как рыба, как всякая тварь, стремится на родину.
– На пути им ставят ловушки и сети.
– Да, конечно, – согласился Мазай, – вся охота на этом стоит: бежит на родину, а тут ему ловушка. Да этим способом и человека ловят.
– Кто человека ловит?
– А кому вздумается, – сказал Мазай. И вспомнил своего племянника Данилыча, что вот ведь какой певец! Слушать бы его в Москве, а вот попался и, как кот, мурлычет себе дома колыбельную песенку. – И так вот, – закончил Мазай, – человек попался, а вы говорите: зверь, рыба, всякая тварь стремится на родину, и тут ему часто вместо дома – ловушка.
Тогда Рыжий вспомнил про одного странного лося: все бежали вместе, а один бежал из леса шагов на двести, в стороне от стада, перебежать хотел речку, но как будто на дерево наткнулся, и свалился, и опять вылез и пошел дуром, ломая ольху.
– Я видел, – сказал Мазай.
– Будто слепой?
– А он же самый и есть, помнишь Балябу?
Рыжий вспомнил, и все согласились, что именно это и был слепой лось.
Тогда каждый представил себе в лесу жизнь слепого лося, и каждого ущипнуло это за сердце больше, чем если бы не лось, а человек был слепой: для человека есть всякая помощь и близкие люди, но у них, у животных, всех отстающих бросают.
Не захотелось после мысли о слепом лосе и разговаривать больше. Рыбаки стали на работу, и как только тронули сваи, из-под берега речки выбежали наверх мыши, и эти были первые, прибылая вода их пожала, и они бросились вверх.
Рыбаки же, увидев первых зверьков, потерявших от воды свою родину, взяли длинную мочалку, опустили ее в прорубь и стали смотреть, куда вода потянет мочалку.
Оказалось, что вода, выгнавшая первых мышей из насиженных мест, была вода не здешняя: это речка Узекса нажала на Соть, а на Узексу Костромка нажала, а Костромку остановила и повернула назад Волга.
А из-под берега вверх и дальше по белому снегу бежали и бежали неизвестно куда нажатые водой черненькие сытенькие мыши.
– Ну, мышата, – сказал им Мазай, – прощайтесь со своими норками, больше вы их не увидите, подкулашники!
XXX. Лисица мышкует
Мороз ночью не собрался с силами, ослабел и разошелся легкой порошкой. Лисица, сообразив кое-что о мышах, вышла на речку и на порошке оставила свой печатный след. Вода же в это время больше уже не боялась Мороза и нажимала, и нажимала на берег, пока с той и другой стороны лед не отъехал и свободная вода, бегущая теперь уже из самой Волги, не отрезала с той и другой стороны лед от берегов. Мыши и водяные крысы теперь уже все, сколько их ни было, выбежали из-под берега наверх, мчались по зернистому снегу и, сделав быстро на ходу норку, уходили под снег.
Заметив след лисицы, Петя сказал:
– Неужели же эта лисица вначале боялась намочить себе лапки и все шла и шла по льду по свежей пороше, надеясь, что где-нибудь лед еще не отошел от берега и она перейдет, не замочив лапки?
Мы с Петей заинтересовались этим следом лисицы и шли берегом, желая узнать, чем же все кончится, как перейдет на берег лисичка, не желающая замочить своих ног. В солнечное утро этот след, совсем голубой по белой чистой пороше, дразнил нас и зазывал все вперед и вперед А рядом с белой серединой реки и широкой полосой зеленого подмоченного снега, с двух сторон его, ласкалась живая, свободная голубая вода.
Мы шли и постепенно догадывались, что вода ночью прибывала очень быстро и так, что лисица скорее всего это знала и не хотела делать рискованный прыжок. Но и зачем ей это нужно было, если она знала, где вода должна кончиться и где находится ее обыкновенный переход (лаз). Так подошли мы следом лисицы под самые Вежи, где в Соть впадает речка Идоломка. Тут на Идоломке лед еще вовсе не отделялся от берега, и лисица пришла сюда и начала на берегу губить мышей и полевок и, когда наелась, продолжала их давить и бросать, как деревенские мальчишки хлещут прутами и бьют все, что от них убегает.
Нам указали на лес:
– Глядите, глядите, вон леший баню топит!
И правда, в лесу было, будто не человек задымил своим костром, а нечистая сила: человек бы развел огонек в одном месте, ну в двух, ну в трех, а тут словно под каждым деревом, везде разложили костры и весь лес задымился.
– Леший баню топит, – сказали нам.
– Леший, – усмехнулся Мазай, – все еще мелют старые жернова и треплет язык старые сказки: не леший это, а кора обмылась, деревья отходят и пар дают.
– Не леший, – повторил за ним Баляба, – а дым.
– Не дым, – поправил Мазай, – а пар.
По зернистому снегу стало свободно ходить, и нога совершенно без всякой задержки проваливается до земли, и так идешь себе, не обращая внимания на снег: это не снег, а вода. Даже заяц, прыгая, проваливается до земли, брюхом задевает, и на таком снегу от заячьего брюха остается полоса. Мы до лесу дошли без труда и остановились на опушке, обращенной к солнцу, изумленные и обрадованные. Обмытая дождями, расцветающая от горячих солнечных лучей кора теперь курилась, как будто дерево горело изнутри. Только теперь, еще в неодетом лесу, при полной силе проникающих в дерево лучей света можно было обратить внимание на жизнь коры, как на кожу нашего тела. Особенно на некоторых старых деревьях, разделенная глубокими трещинами на неправильные дольки, кора напоминала кожу на шее трудящихся в природе сильных стариков. Теперь от каждой такой лесной шеи, обмытой весенней водой, отепленной весенним горячим лучом, валил пар: леший баню топил, старики в лесу парились.
А что на опушке-то делалось! Тут вся полоса опушки против солнца была сплошная горячая проталина. Внимательный солнечный луч проникал в каждую скважинку между старыми листьями и вызывал оттуда и освобождал силой родственного внимания разного цвета жучков и букашек. Все они, выправляясь, начинали бегать, шнырять, и над всеми ними, наконец, пролетела первая лимонного цвета бабочка.
Принимая в себя, как все живое, горячие лучи, мы долго сидели молча на березовых пнях и мало-помалу разглядели не очень далеко от себя такого же цвета, как прелая прошлогодняя листва, птицу с большими черными выразительными глазами и носом длинным, не менее половины обыкновенного карандаша. Когда прошло много времени и этот вальдшнеп уверился, что мы неживые, он встал на ноги, взмахнул своим карандашом и ударил им в горячую прелую листву. Невозможно было увидеть, что он там достает себе из-под листвы, но только мы заметили, что от этого удара в землю сквозь листву у него на носу остался один круглый осиновый листик, а потом прибавилось еще и еще, и когда мы его спугнули, так он полетел вдоль опушки и чуть ли не с десятком листиков на своем длинном носу.
Одна большая осина стояла на опушке леса, и вечером, когда мы с Петей мимо нее проходили на глухариный ток, мы обратили внимание на запах осиновой почки: возле осины на значительном расстоянии держался этот запах осиновой почки, – вот до чего распарило солнце за день лесную опушку. При входе в лес мы заметили на одном не очень большом муравейнике, что муравьи начали уже подниматься наверх.
А когда потом утром возвращались с тока, на этом самом месте опять тот же запах осиновой почки напомнил нам о муравейнике, и мы нашли его. За эту теплую, безморозную ночь все муравьи выбрались наверх и плотной, неподвижной массой в несколько рядов сидели на муравейнике, и при первых же лучах солнца муравейник стал куриться и просыхать. Наш большой муравейник под яром возле елки не так-то легко было прогреть, муравьи еще не выбрались, но тоже забегали с большой силой. муравей-разведчик даже попытался было зачем-то пуститься вверх по дереву, но ель тоже силой весеннего солнца стала пробуждаться от зимнего сна, и на пораненном месте выступила в обилии липкая смола: дерево лечилось, стараясь целебной смолой заделать свою огромную рану. Но муравью-разведчику нужно было во что бы то ни стало перебраться по ели вверх через липкое кольцо. Нащупанное опасное место поставило его на некоторое время в раздумье, потом он побежал по краю кольца, везде останавливаясь и пробуя. А когда обежал полный круг и понял, что нигде не было перехода с нижней коры на верхнюю, то бросился в эту смолу, стараясь силой преодолеть препятствие. Но вязкость смолы была больше силы муравья, и он, подрыгав лапками, вмазался в смолу и застрял в ней.
Заметив такое передвижение муравьев из нижних этажей своего жилища вверх, мы перенесли нашу радиостанцию вниз и поставили ее для защиты от дождей под машину и так устроили провода, что можно было сидеть на приступочке подвижного дома и слушать, как на завалинке дома обыкновенного.
Внимательный солнечный луч этого утра после первой за весну безморозной ночи стал проникать во все тайные щелки и поднимать и вызывать жизнь везде. Откуда-то – взялась большая черная муха и сейчас же почему-то выбрала себе белую березу и села на белое и на нем осталась. Мы чаю попили и долгим, крепким сном сняли усталость от бессонной ночи, а муха все так и сидела на березе, будто влипла в нее. За несколько часов нашего сна муравьи из громадного муравейника всей массой выбрались наверх и просыхали, прогреваясь в проникавших под елку солнечных лучах. Несколько муравьев на наших глазах пробовали помочь разведчику, утонувшему в смоле, но сами тоже завязли и не вернулись к своим.
Необычайная перемена совершилась за эту ночь на пойме. Тот лед на реке, по которому тогда ходила лисица, стал казаться узкой полоской на широкой свободной голубой реке. География воды и суши стала неузнаваема: откуда-то взялся Гудзонов залив, и там, где было рядом два озера, стало одно огромное, и маленькие пои и подозерки стали озерами, и явственно образовалась на всей пойме, как на карте, громадная собака Скандинавии с головой и хвостом, и нашли мы тоже и вместе признали Индию, Корею и Панамский канал.
И до чего упрям в своем составе снег, – везде кругом уже гуляла голубая вода, выживая все живое из нор, но белая, покрытая снегом суша не чернела. Мы спустились вниз, чтобы посмотреть, как и чем держатся зернышки снега друг за друга, и только мы по снегу шарахнули ногами, вдруг все вокруг нас почернело, и все это черными полосами веером разбежалось, и все опять вокруг нас стало белым. Оказалось, весь этот снег был начинен мышами, и только что казался белым, внутри он весь черный и живой.
XXXI. Ящерицы
Вечером лучи солнца на коре нашего дуба стали давать малинового цвета пятна. Мы обратили внимание на одно из таких пятен на белом выступе из-под земли большого корневого колена: на этом малиновом пятне, угреваясь в луче солнца, тесно прижались друг к другу ящерицы и общим своим умом по-своему, конечно, догадывались о том, что солнце покидает землю, что солнце садится. Последние лучи с нижнего этажа дерева непременно должны подниматься в верхние. Очень скоро и вправду мы увидели, как малиновое пятно с голенькими существами переместилось с выступа корневого колена, из подвального этажа в первый, к основанию ствола.
Большое кроваво-красное солнце коснулось воды. На пойме в первый раз наконец мы услышали живительно игривый крик большого кроншнепа и увидели его самого, на огромных гнутых крыльях пересекающего солнечный диск. На водной глади черной копеечкой чернела не объятая еще водой земля, и на ней сидел у самой воды другой, такой же большой, с таким же огромным выгнутым клювом кроншнеп, напоминающий этим клювом изгиб носовой части лося. И эта птица, и тот зверь как будто доживали У нас свою древнюю эпоху сплошных болот. Играя в воздухе свою резкую живительную песенку, как бы выговаривая слова: «Вив, вив», – значит: «Жив, жив», – верхний кроншнеп стал спускаться ниже и все ниже, пока, наконец, поддерживая себя в воздухе крыльями, не коснулся ногами спины своей подруги, и в таком положении, весь красный в лучах, кричал солнцу: «Вив, вив», – значит: «Жив, жив».
– Плыть, плыть, плыть! – на лету закричала желна и села к нам на дуб наш, черная, обгорелая, с огненно-красной головкой: птица, как головешка, выброшенная вверх силой пожара.
В то время как прилетела желна, мы вспомнили о тех голеньких существах, которые, согревая друг друга, двигались по этажам дерева вслед за теплым солнечным пятнышком. Теперь мы нашли это пятно с ящерицами уже в среднем этаже. Тут было большое дупло, и мы думали, ящерицы воспользуются им и спрячутся туда на ночь. Но скоро мы увидели, что ящерицы не могли расстаться с пятном и сидели на нем, как люди зимой на теплой лежанке, и двигались по этажам дерева все выше и выше.
Когда солнце для лас совсем скрылось, ящерицы все еще видели его с высоты верхнего этажа и все двигались и двигались вверх. И когда последний луч разбился на верхних сучках дуба и вскоре вовсе погас, ящерицы слились с темной корой дуба, стали для нас вовсе невидимы.
Стало очень тихо везде, но внутри меня шевельнулось желание войти в такую страну, где все наше милое потерянное нашлось бы и все милые, родные существа окружили меня.
– Плыть-плыть-плыть! – закричала, улетая, пожарная птица желна.
И тогда в нижних этажах леса стало темно. На площадку вышел едва видимый заяц, закричал по-своему, и ему ответил Гугай.
– Помогите примус прочистить! – сказала Ариша.
И от ее голоса вся моя внутренняя музыка исчезла, и зайцы убежали, и какие-то тени неслышно скользнули.
– Ну, что же вы сидите, – требовала Ариша, – иголка сломалась, надо же чем-нибудь примус прочистить.
Мы осмотрели сломанную иголку, нашли, что исправить ее невозможно, и разложили под дубом костер. Когда в темноте поднялся большой столб пламени, мы вспомнили про ящериц и разглядели их на самом верху, на том месте, где последний луч солнца сошел со ствола и скользнул по сучкам.
XXXII. Волшебная игла
Два больших дерева в лесу схватились корнями, как у нас двое схватываются, чтобы перенесть на руках больного. На этих переплетенных корнях и удержался тяжелый слой земли, послуживший руслом стремительному весеннему ручью. А там, где кончаются корни, ручей этот падает в глубокую промоину, и оттуда звук выходит, как из пустой бочки, и бубнит на весь лес. Несколько уже дней по ночам на глухариной охоте мы определяемся этим отчетливым звуком. Прислушаешься, установишь, где Бубнило бубнит, и по звуку направляешься в желанную сторону. И еще было у нас несколько таких заметных ручьев: Говорун, Звонило и всякие безыменные во всех сторонах. Вот когда большое красное солнце село, тут-то и оказалось, что маленькие ящерицы недаром оставили свое зимнее убежище и поползли вверх по дубу за последним лучом: ночь пришла первая теплая, и все лесные ручьи не только не затихли на ночь, как раньше, а очень усилились. И то ли ветер менялся ночью несколько раз и приносил нам звуки ручьев с разных сторон, то ли, схваченные за душу весенней тревогой, мы часто во сне перевертывались с боку на бок и к нам приходили звуки то с той, то с другой стороны. Под пение ручьев мне привиделось во сне, будто я нашел брошенную вчера вечером негодную иглу от примуса и разглядел, что игла эта не сломалась, а только сильно пригнулась к железке. Необъятная радость охватила меня, и я проснулся в мой любимый предрассветный час с жаждой жизни, в миллион раз большей, чем у всех бегущих и поющих ручьев. И вся эта радость, вся эта жажда жизни сходилась, выражалась в обладании этой волшебной иглой от примуса. Когда же я наконец совсем проснулся, в душу мне будто нож воткнули: волшебная игла мне только снилась, а в действительности нет ее и напиться чаю теперь в темнозорьке, как я люблю, под пение ручьев, мне не придется. Но такова была убежденность моя во сне в существовании волшебной иглы, такая обида родилась, когда я проснулся, такая сила в себе поднялась навстречу недостойному обману, что я решил во что бы то ни стало сделать иглу и встретить темнозорьку со стаканом чая в руке. С помощью своего карманного фонарика я скоро нахожу сломанную иглу в шоферских инструментах, и там в хламе попадается мне обрывок кабеля, из которого я выматываю стальную проволочку как раз такой толщины, как игла. Разогнуть пассатижами железку, вставить кусочек проволоки, постучать молотком, – дело маленькое и короткое.
Петя и Ариша спали еще глубоким сном, когда я устроился на приступочке машины с чайником и всем чайным хозяйством против темнозорьки. Свист и шум крыльев множества прилетающих птиц присоединились к пению лесных ручьев, и победа моя над собственным унижением после волшебного сна дала мне такую силу, что мне казалось, будто в сжатом моем кулаке находится какой-то чудесный театр, и по мере того как зорька разгорается, я разжимаю кулак и показываю на весь мир величайшее действие…
Милый друг! Если бы вы могли прилететь ко мне в этот ранний утренний час и поглядеть своими глазами, какие чудеса, какой великий театр открывается, когда ваш друг вместе с наступающим рассветом добродушно освобождает свои сжатые пальцы. Кажется, будто сила всей природы собралась во мне и от меня самого зависит сжать эту силу в себе или разжать руку и показать весь мир в красоте.
Прилетели бы вы ко мне, и я взял бы вас за руку и повел в лес, где под елями еще совершенно темно. Мы поднялись бы в боровую возвышенность, где отзывается, как в деке музыкального инструмента, всякий звук, даже самый малейший. Тут мы стали бы к дереву и долго бы привыкали к стуку своего сердца, и к звону своей крови в ушах, и к скрипу кожи своей одежды, и к воспоминаниям, с болью встающим из далекого прошлого. Когда весь этот круговорот обломков, мчащихся по кругу жизни каждого человека, стал бы привычным и вы бы при каждой встрече повторили несколько раз: «Не то, не то!» – вот тогда-то в полной, найденной вами тишине вы услышали бы первый сокровенный звук лесного крылатого существа. Я бы тогда научил вас понимать этот щебет как будто самой маленькой птички, и вы бы сразу же научились простому искусству скакать навстречу этому звуку и, когда следует, замирать и самому делаться неподвижным, как дерево. Так, чередуя скачки с замиранием, мы останавливаемся у самого того дерева, откуда слышится этот щебет маленькой птички, в то время как еще вся природа молчит. Тогда, разглядывая на просвет темные кулачки сосновых хвои, мы увидели бы черный силуэт огромной птицы с дрожащими от величайшего напряжения перьями. Вы стоите в трепетном ожидании, и мало-помалу светлеет, и к песне глухаря присоединяется долетающее сюда баюкающее пение тетеревов. Тогда на восходе солнца нас начинает знобить, и тогда мы по себе знаем, что с нами весь мир зябнет от радости.
В это замечательное утро глухари бились друг с другом так сильно, что казалось, будто лесные бабы лешихи там белье стирают и лупят что есть духу вальками. Ток разгорелся так сильно, что все глухари и глухарки спустились на низ. Два лучших бойца на этом току попались в силки, расставленные Мазаем, и когда попались, то еще сильнее стали бить друг друга, каждый думал, что не силок его держит, а враг. Потом, когда кончился ток, глухари не улетали, а расходились, и петухи оглядывались, опасаясь, как бы другой петух не хватил его сзади. В лесу с остатками снега было так, будто гости съехались и между кустами и деревьями расстелили белые скатерти. И глухари уходили, оставляя на этих белых скатертях крестики своих больших следов. По этим крестикам, если идти в пяту и соединять концы следа с началом их на другой скатерти, легко можно было бы прийти на место тока, где столько было надрано глухариных перьев и пуха, что легко можно было подумать, будто это вправду лешихи тут себе набивали перины.
XXXIII. Улитка
Мазай принес из леса двух глухарей и одного из них подарил Арише. Когда же Ариша, приняв глухаря с благодарностью, хотела приняться за свою обычную работу, Мазай сел на лесенку, по которой ей надо было войти в домик, и не дал ей войти. Видно было, что он ей хотел в чем-то признаться, о чем-то просить. И она это поняла, прислонилась к крылу и потупилась в ожидании. Мазай был вдов и еще достаточно силен, чтобы начать новую семейную жизнь, и ему Ариша очень нравилась. Только не знал он, бедный, что Ариша была неприступна. Тайна Ариши была непонятна Мазаю, и ему, когда он подносил глухаря, казалось, совсем просто было сказать ей о своем собственном доме, что внизу живет племянник Данилыч, а верх у него свободный и что на извозчичьем деле в Костроме он заработал этой зимой хорошо, можно корову купить, и что лугов у них довольно, о корме для коровы заботиться нечего, и что, ежели есть свой дом и своя корова, и рыбы в воде много, и в лесу всякой дичи, то жизнь в Вежах может быть очень хороша, самая даже лучшая жизнь на земле…
Нет, в это утро Мазай недаром Арише подарил своего глухаря, при этом подарке он расположился было о многом сказать и нарочно уселся на лесенке, чтобы в трудных местах разговора улитка не убралась бы в свою ракушку. Но почему-то в этот раз язык перестал повиноваться Мазаю, и молчание стало неловким. Тогда Ариша, чтобы рассеять неловкость, указала на глухаря и сказала:
– Нынче на рассвете из леса слышалось, будто там бабы лешихи белье полоскали и вальками хлопали, это не они так?
– Они. – охотно ответил Мазай, – глухари, а только не лешихи: в лесах лешего нет.
– Будет тебе, как же так нет, как же так без хозяина?
– Очень просто, – ответил Мазай, – всю жизнь в лесах ходил и ни разу никакой рожи не видел. А ты ходила тоже в лесах, встречалась ли тебе-то там рожа?
– Я в лесу с молитвой хожу и крестом.
– Не всегда же молитва, не всегда крест, забудешь пошептать, а он и покажется. Гляди-ка, гляди, что там делается!
И указал Арише на белых чаек.
Среди воды открытой, и льда, и трухлявой ледяной намерзи струились светлые быстрики, и вот на одной розовой в лучах солнца льдинке сидела белая чайка и быстро мчалась на ней.
– Зачем ей это нужно? – сказала Ариша.
– Катается, – ответил Мазай.
И рассказал, что у рыбаков есть примета: когда чайки так на льдинках поедут, весна пойдет без остановки.
А в иных местах дикие утки, направляясь к темнеющей копеечке земли, плыли по намерзи очень легко, но за собой оставляли по мертвой намерзи канальчики голубой воды. Такая тонкая была намерзь, что водяные крысы, чтобы не проваливаться, к той же копеечке земли плыли по утиным канальчикам, и только мышки и полевки прямо по намерзи перебегали к твердой земле.
Еще показал Мазай Арише на одно дерево с вороньим гнездом, рассказал ей, что вчера еще это дерево было целое дерево, а вот теперь всего осталась от него половинка, и если так пойдет дальше, то плохо будет вороне.
– Зальет?
– Залило бы, конечно, – ответил Мазай, – да не дадут ребятишки, вот поедут на ботинках и, когда рукой можно будет дотянуться, станут везде поджигать вороньи гнезда.
И заставил Аришу глядеть на воронье гнездо, чтобы она увидела ворону. Долго не могла Ариша понять, но вдруг увидела с одной стороны гнезда хвост, а с другой нос – и очень обрадовалась.
После вороны Мазай показал Арише на забор возле Веж: вчера еще вода была по нижний перехват на плетне, а теперь торчат только одни колышки, и вся деревня теперь окружена водой со всех сторон и люди в ней, как в садке.
– Попались, – говорит Мазай, – попались, голубчики!
И так, показав Арише все замечательное на разливе, только-только решился было начать разговор о самом главном, как вдруг у самого берега очень взволновалась вода. Тогда Мазай вместо нужного и необходимого сказал:
– Это щука мечет икру.
В это время Ариша пли устала глядеть, или по привычке что-нибудь делать, не умея сидеть сложа руки, сказала Мазаю:
– Да ты что, долго ли будешь держать меня?
Тогда Мазай встал с лесенки. Улитка вползла в свой домик и скрылась.
Но без этого, чтобы не скрывалась улитка, не убегала коза, не улетала бы птичка, никогда и нигде не бывает романа.
XXXIV. Наступление муравьев
Этот день вышел таким, какого целый год дожидаются живые существа, и день этот всегда можно узнать по силе жизни в себе самом: в этот день не устаешь следить за переменами и своими глазами всюду видишь начало романов и необычайных общественных дел. Кинув взгляд на муравейник, расположенный вокруг окольцованной ели, мы увидели на светлом кольце какое-то темное пятно и, вынув бинокли, стали разглядывать. Тогда оказалось, что муравьям зачем-то понадобилось пробиться через покрытую смолой древесину вверх. Нужно долго наблюдать, чтобы понять муравьиное дело: много раз я наблюдал в лесах, что муравьи постоянно бегают по дереву, к которому прислонен муравейник, и не обращал на это особенного внимания: велика ли штука муравей, чтобы разбираться настойчиво, куда и зачем он бежит или лезет по дереву. Но теперь вот оказалось, что не отдельным муравьям зачем-то, а всем муравьям необходима была эта свободная дорога вверх по стволу из нижнего этажа дерева, быть может, в самые высокие. Препятствие для движения вверх отдельных муравьев поставило на ноги весь муравейник, и в сегодняшний день для устранения препятствия была объявлена всеобщая мобилизация. Весь муравейник вылез наверх, и все государство в полном составе тяжелым черным шевелящимся пластом собралось возле осмоленного кольца. Муравьиные разведчики еще раньше того пытались за свой страх пробиться наверх и по одному застревали в смоле. Но каждый следующий разведчик пользовался трупом предыдущего, чтобы продвинуться вперед на длину своего товарища и, в свою очередь, сделаться мостом для следующего разведчика. Но теплая ночь и горячие полдневные лучи, по-видимому, поставили перед муравейником необходимость более быстрых темпов строительства моста через широкое кольцо смолы. Широким развернутым строем повели муравьи наступление, и до того быстро, до того успешно, что мы даже снизу, от нашего дома, заметили перемену в привычном белом кольцо: это передние муравьи без колебания, самоотверженно бросаясь в смолу, бетонировали собой путь для последующих, и те, достигнув смолы, в свою очередь, устилали путь для других.
XXXV. Окунь
Все рыбаки сегодня с вентелями, мережами и сежами на ботинках, осторожно проходя между льдинами, перебрались против нас за речку Касть и многие пришли к нам на то место, где был изловлен сом огромных размеров. Тут, в этой маленькой речке, сохранился еще лед с теми ильялами, которые были вырублены еще в тот раз. Рыжему захотелось испробовать, насколько еще крепок лед, и он ударил пешней возле края ильяла. Лед был так слаб, что кусок его сразу от одного прикосновения пешни отвалился, и пешня, рассчитанная на сопротивление, вырвалась из рук и скользнула в ильяло. И видно было сквозь воду белую деревянную ручку пешни, но как взять? Ступить на лед, он обломится, и в речке воды больше, чем на рост человека, и вода ледяная. А тоже и как же быть рыбаку без пешни, и такой пешни, как у Рыжего, другой не найдешь. Рыжий готов был заплакать, и каждый заплачет, у кого случится такая превосходная пешня и он ее упустит под лед.
– Дашь на литр, – сказал Мелкодырчатый, – я достану.
– Ты спекулянт.
– А ты коммунист, ну, так сиди без пешни.
Подумал, подумал Рыжий, в затылке почесал и ответил:
– Давай!
Согласились, Рыжий принес литр, Мелкодырчатый принес острогу. Привычным глазом прицелился, ударил зубцами остроги в деревянную ручку пешни и осторожно вытянул вверх через ильяло.
Тут как раз подошел Мазай и, узнав, в чем дело, сказал:
– Хорош окунь!
И положил себе в карман обе поллитровки. Мелкодырчатый успел только глаза вытаращить.
– Чего ты, окунь, глаза таращишь, на всякого окуня есть щука, а вино казенное.
И велел рыбакам всем идти за собой к нашему домику При содействии Ариши, уделившей обществу часть жареного глухаря, праздник спасения пешни очень удался. И пока все было готово, муравьи собственными трупами зачернили все смолистое кольцо и по этому бетону свободно побежали наверх по своим делам, одной полосой вверх, другой полосой вниз, туда и сюда, и закипела работа по мосту из товарищей, как по коре.
Указав рыбакам на работу муравьев, Мазай с особенным выражением сказал Мелкодырчатому:
– Вот учись!
И Мелкодырчатый с гнусной улыбкой ответил Мазаю:
– Согласен, только ты ложись нижним муравьем, а я по тебе побегу.
– Это мы знаем, – ответил Мазай, – и за твою худобу тебя и наказываем.
XXXVI. Петин башмак
По разным нашим охотничьим признакам мы догадались, что сегодня на воде будет первая прекрасная вечерняя заря, и стали готовиться к утиной охоте. Все в деревне, кто только был охотником, надели хомутики на ножки своих подсадных уток и, привязав к хомутикам длинные веревочки с гирькой или камешком, пустили их на воду, стали замачивать своих охотничьих уток. Даже самый старый охотник Мироныч не выдержал и тоже вышел на костылях на все поглядеть и самому своих уток замочить и ботник подготовить. Ревматизмы совсем извели старика, но еще хуже того для охоты куриная слепота, – вот уже это настоящее бедствие: как только сгущается вечером сумрак, Мироныч становится совершенно слепым, и тут ему очень трудно бывает, до того трудно, что и замерзнуть и утонуть очень легко. И сколько раз об этом ему все говорили, предупреждали:
– Оставь, Мироныч, окоротись, пора, не живи другой век, дай молодым тоже пожить.
– Молодым я не мешаю, – отвечал Мироныч, – молодые себе сами дорогу найдут, а ежели умереть, – смерть от себя не отгораживаю, только понимаю, что не всем же на печке помирать, и ни в каком Писании печка для старого человека не указана.
У Мазая его утка Маруська живет шестнадцатый год и до того привыкла к хозяину, что он когда едет на ботнике, то не в корзине Маруську везет, как все, а свободно держит на корзине и крылья даже не подрезает: хочешь, поднимайся и улетай. Но куда ей, старой утице, лететь, если в корзине сидит старый друг ее селезень и тихонечко ей подшваркивает.
Почуяв прекрасную зарю, мы тоже, как все, стали готовиться и Клеопатру тоже посадили, как все, на хомутик, а Хромку пустили просто: Хромка тоже, как и Маруська, от нас не уйдет. Эта Хромка, как и всякое живое существо, тоже имеет свою историю. Случилось, крыса облюбовала ее, схватила за ногу и хотела в дыру протащить, но утенок не прошел в дырку, да и мы подоспели. Как мы потом ни старались, но утенок остался хромым, и трудно теперь передать все мученья, на которые он был осужден из-за поврежденной ноги. Нападали на него как на убогого не только свои утки, но и гуси и куры тоже понимали, что уродливое существо в природе подлежит уничтожению, и не упускали случая тюкнуть клювом своим его по затылку. Скоро, однако, умный утенок понял, что единственное спасение его – это близость с человеком, и стал не упускать случая возможного сближения с нами. До того дошло у нас, что мы ездили на лодке, а Хромка плавала за нами, и когда лодка развивала скорость, ей недоступную, сначала давала нам знать писком, а потом и подлетывала. Такая хорошая она сделалась, такая привязчивая, так ее у нас все полюбили, так жалели, ухаживали, что Хромка выросла и стала уткой не хуже других и по крику своему отставала лишь от одной Клеопатры.
Ровно пять минут было нами истрачено в то утро, чтобы надуть резиновую лодку. При накачивании воздуха входящая в клапан струя издавала до того страшный звук, что все собаки наши, Бой и Сват, и даже Лада, окружив лодку, лаяли на нее, как на страшного врага. Когда же лодка была надута и враг исчез, неудовлетворенное желание подраться обратило внимание Свата на большой тяжелый Петин башмак, оставленный им возле машины при перемене обуви на резиновую. С быстротой необычайной и яростью рассвирепевшего тигра Сват бросился на башмак, схватил его и унес куда-то в чащу густейших можжевельников. Конечно, спасая драгоценный башмак, мы все врассыпную бросились искать Свата и не могли найти ни его, ни башмака до тех пор, пока Сват не вернулся сам к нашему дому с видом полного удовлетворения. Как мы ни бились, сколько мы ни топтались, нигде башмака найти не могли. После всех наших напрасных усилий Пете пришла в голову мысль: он предложил дать Свату второй башмак в том расчете, что он непременно унесет его и зароет на том самом месте, где зарыт был первый башмак, мы же все сразу бросимся вслед за ним и подсмотрим. Мы так и сделали, и все рассчитано у нас было верно, кроме одного: мы не могли развить скорость, равную со Сватом, сразу же от него отстали и потом, сколько ни топтались, опять не могли найти и второй наш драгоценный башмак.
– Никакой пользы, Петя, – сказал я, – хитрость твоя нам не принесла: мы лишились и второго башмака.
– Но и вреда никакого, – ответил Петя, – все же равно в одном башмаке никуда не уйдешь.
Но Ариша на эти слова стала горячо протестовать, она, бродя по кочкам мха, в поисках самой ценной зимовалой клюквы, нашла и принесла домой довольно-таки свежий лапоть.
– Вот если бы, – говорила она, – у нас был бы теперь непарный башмак, то можно было бы отлично, одна нога в башмаке, другая в лапте, ходить по болоту за ягодой.
XXXVII. Скорая любовь
Кроме резиновой надувной лодки, у нас есть еще байдарка, чисто спортивная лодка, которая складывается из полусотни симпатичных отполированных палочек: этот каркас потом вдевается в мешок из прорезиненного холста, имеющего всем известную форму байдарки. Крупным недостатком этой лодки является длинная возня с пригонкой палочек, но зато вся эта возня, весь труд сборки в тысячи раз искупается тем, что холщовая байдарка движется по воде совсем без затраты усилий. Двухлопастным веслом на байдарке вовсе не надо грести, а только ласкать воду, чуть касаясь ее. Когда же тело освобождается от труда, мысль на воде от свежего воздуха с такой силой начинает работать, что забирает с собой все видимое на воде и на небе, и кажется тогда, будто все происходит во сне. В этот раз нам особенно трудно далось складывание байдарки, и мы провозились до самого вечера, когда к нам из Веж приехал целый флот любителей утиной охоты с Мазаем во главе и со старым Миронычем в хвосте.
Мы отправились на вечорку всем флотом. Ледяные остатки зимних рек на пути нашем были неустранимым препятствием, и все мы должны были через лед перетаскивать свои лодки с некоторым риском искупаться в ледяной воде. Но все благополучно перебрались через лед и перетащили Мироныча с его костылями. После того как мы перебрались через Соть и потом через Касть, охотники начали распределяться на своих излюбленных местах, и так мало-помалу весь наш охотничий флот рассыпался и затаился среди верхушек затопленного леса. Мы с Петей выбрали себе места недалеко друг от друга для того, чтобы крик моей Клеопатры достигал Петиной Хромки и возбуждал ее. Петино место называлось Под Липовой, мое же просто Камень.
Это был небольшой островок, прямо на глазах от прибывания воды меняющий свои очертания. По середине его не было кустов и лежал камень громадных размеров. Когда я подъезжал, один из захваченных водою на островке зайцев забрался на камень и на нем стал толкачиком: можно было подумать, что он тут не один; наверно, тоже было тут много разных зверьков, кроме зайцев. Почти бесшумно вдвинул я свою узенькую байдарку в густые ольховые кусты, согнул над собою ветви, связал их и сделал шалаш окошками на воду и в сторону камня. Клеопатра моя, как только попала на воду, сразу же и начала драть горло, и сейчас же вдали в ответ ей закричала и Хромка. Летела пара крякв: впереди серая утка, сзади селезень в брачном наряде. Вдруг навстречу им откуда-то вывернулась другая пара. И вот обеим парам только-только бы встретиться, вдруг ястреб кинулся на утицу из второй пары, и все смешалось. Ястреб промахнулся. Утка бросилась вниз и на пойме скрылась в кустах. Ошеломленный ястреб скрылся под синюю тучу. А селезень из разбитой пары, придя в себя после нападения ястреба, сделал маленький круг: нигде в воздухе его утицы не было. Вдали первая пара продолжала свой путь. Одинокий селезень, вероятно, подумал, что это за его потерянной уткой гонится чужой селезень, пустился туда и стал нагонять.
Потерянная утка скоро опомнилась от нападения ястреба, выплыла из кустов на плес и стала кричать. Прилетел новый одинокий селезень. Между уткой дикой и моей подсадной завязалась борьба голосами. Моя утка разрывалась на части от крика, но дикая все-таки ее пересилила. Селезень выбрал дикую и потоптал.
Совершив огромный круг, вернулась первая пара, и за ней мчался селезень, потерявший свою утицу при нападении ястреба. Неужели он все еще воображал, что это не чужая, а его утка летит и за ной гонится чужой?
Его настоящая утка, довольная, очищала на плесе перышки и молчала. Зато моя Клеопатра взялась одна без соперницы достигать селезня. И он услышал ее… Так ли верна, что их любви все равно, какая утка, была бы утка! А что, если время у них мчится гораздо скорей, чем у нас, и одна минута разлуки с возлюбленной равняется десятку лет нашей безнадежной любви? Что, если в безнадежной погоне за воображаемой уткой он услыхал внизу голос естественной утки, узнал в ней голос утраченной – вся пойма тогда стала ему как возлюбленная…
Он так стремительно бросился на крик Клеопатры, что я не успел в него выстрелить: он ее потоптал. После того он стал делать вокруг нее обычный селезневый благодарственный круг на воде. Я бы мог тут спокойно целиться из моего прикрытия, но вспомнилась своя горячая молодость – и я не стал стрелять в этого селезня.
XXXVIII. Землеройка
Услышав что-то сзади себя, я бесшумно оглянется и увидел, что назади возле камня два белых зайца друг друга так тузят, что зимняя белая шерсть летит во все стороны и падает на темную землю, как пух с тополей. Не время бы зайцам сейчас еще выходить, но вода, наступающая на островок, их встревожила, и они кружились в поисках выхода и, встречаясь друг с другом, драли – ь Прямо на глазах моих вода, прибывая, поедала сушу и земля уходила под воду со всем плотным слоем своих прелых листиков. Раз было, вблизи края воды вдруг сам от себя шевельнулся один из прелых листиков и стал на ребро, вслед за этим шевельнулся другой, и еще и еще, потом показалась какая-то голова, и спряталась, и опять показалась, потом вылезла водяная крыса, очистилась, омылась лапками и пошла себе к камню, в сторону зайцев.
На что только не насмотришься, когда сидишь в шалаше на вечорке. Вот немудреная штука воронье гнездо на березе, нос торчит в одну сторону, хвост в другую: ворона сидит на яйцах, а вода движется, и видишь по пятнам разной формы на стволе березы, белым и темным, как исчезает то пятно, как другое, и все ближе и ближе подступает вода к вороньему гнезду. Бросить бы надо было вороне гнездо и улететь на другое место и начать новую семью, но она этого не может, и ни у кого нет охоты подсказать ей, и если бы даже и явилось бы желание, поди вот, как ей подскажешь такое простое.
Мало-помалу вечер надвигался над поймой, и вода на далекую ширь улеглась в разноцветной красе. Разные живые струйки мелькнули вдали, и мало-помалу определилось движение неизвестною существа по воде, разделяющее всю ширь воды надвое, голубую в одну сторону и красную в другую. Вода была так спокойна, что существо, волнующее всю ширь, могло быть и очень маленьким: казалось, это просто даже и жук плыл какой-нибудь, задумавший под нажимом воды переселение в другой край. Скоро определилось ясно, что переселенец держал направление прямо на Камень, и я разглядел в бинокль торчащий из воды хоботок землеройки: самое маленькое млекопитающее, величиной почти что с наперсток, задумало далекое путешествие и покинуло свой родной, залитый водой край. Когда землеройка приблизилась к одному из прутьев ивы возле самого носа моей лодки, она, очевидно, очень измученная путешествием, сейчас же пристроилась на боковую веточку от прута и начала тут, сидя у самой воды, отдыхать. Но вода кралась, и ей скоро пришлось перебраться немного повыше. В это время как раз Клеопатра хватила на посадку, и на воду шлепнулся селезень, разбрасывая вокруг себя на воде голубые и огнистые зыбульки. Снаряд от моего выстрела, пролетая вблизи прутика с землеройкой, нажимом сжатого воздуха качнул его, окунул землеройку, и ей пришлось перебраться этажом выше. В это время теплый солнечный луч попал как раз на нее, и маленькие глаза, не больше крупинок самого мелкого бисера, вспыхнули огнем, и мне казалось волшебной сказкой, что у такой безделушки, без хвостика и хоботка не больше наперстка, тоже были глаза и в них отражалось то же самое великое солнце, как и у нас, многодумов, в наших больших человеческих глазах. Точно так же, как и в тот раз с ящерицами, солнце опускалось на горизонте на лоне воды, и от этого нижние лучи его постепенно поднимались. И землеройка, не желая расстаться с теплом луча, тоже выше и выше поднималась по прутику. Теперь глубоко под водой были те подвальные этажи леса, где обычно живут землеройки, а подземная жительница, взятая лучом солнца, поднималась все выше и выше куда-то, может быть понимая по-своему, что и там, в верхних этажах леса, тоже есть норы и что на самом небе тоже можно устроиться, как на земле. Главное, трогательны мне были эти глазки-бисеринки, горящие там, наверху, в то время как внизу уже не видно было и зайцев и только по прибывающим в темноте белым пятнам можно было понять, что они тут где-то были и продолжали тузить друг Друга и драть свою зимнюю шерсть.
XXXIX. Слепой лось
Когда последний луч расстался с нами и горящие глазки землеройки исчезли во тьме, грянул Петин выстрел и прямо вслед за этим послышался такой шум, будто огромная стая птиц поднялась или же большое животное бросилось в воду. В темноте больше было нечего ждать, и я, усадив на место Клеопатру, поплыл в Ожогу, где по уговору мы должны были ночевать все вместе. Ехал я и все думал: «Что же это за шум такой был после Петиного выстрела и во что он мог стрелять в темноте?» Месяц взошел, точная половинка лимонного ломтика, и что меня удивило особенно – тут, рядом с ломтиком, из тончайшего облачка густо-синего цвета сложилась вилка, и дальше чья-то рука этой вилкой брала ломтик лимона. Этого свету от лимона было недостаточно для освещения залитых лесов, и все и без того переменное в природе благодаря половодью еще раз переменялось и становилось для меня точно таким же фантастическим, как в прочитанных в детстве американских романах. И до того это тогда прочно засело в голову как Небывалое, что возможность встретиться с ним, или самому даже из чего-нибудь создать Небывалое, не покидала всю жизнь и теперь находила ответ. Везде вокруг было все небывалое: верхушки залитых кустов с протоками меж ними становились как сильвасы, а если среди них станет настоящее дерево, то оно кажется таким огромным, каких никогда нигде еще не было. Я бы, наверно, до утра путался в этих протоках, если бы охотники, достигнув Ожоги, не зажгли там сигнальный огонь.
Охотники, среди них Мазай и старый Мироныч, сидели уютно вокруг теплинки и все слушали с большим вниманием Петин рассказ.
– Во что ты стрелял? – спросил я.
И Петя повторил то, что сейчас всем рассказал. Когда стало сильно темнеть, он решил уезжать, и только усадил Хромку, вдруг послышался необыкновенный шум за ближайшим кустом. Тогда он приналег на весла и в резиновой лодке бесшумно и быстро стал огибать мыс. Там же, за мысом, все так и слышался тот самый удаляющийся шум, и когда наконец-то Петя выдвинулся из-за мыса, то на воде были видны только следы, как две огненные реки на голубом. Сообразив по-охотничьи в одно мгновенье, что это лось удалялся, Петя пустился по боковой протоке ему навстречу и, чтобы завернуть зверя назад, выстрелил в воздух. Эхо несколько раз перекатилось, и лось, услышав со всех сторон выстрелы, остановился и замер на какое-то мгновенье. Как раз в это самое мгновенье выехал Петя на плес из протоки и лося увидал всего в каких-нибудь сорока шагах от себя. Было одно только мгновенье, вполне, конечно, достаточное, чтобы лося этого убить, но Петя не убить хотел, а только, как он сам говорил, поглядеть…
И он достиг своего: он увидел против себя в свете красной зари на воде сооружение, похожее на кран, посредством которого поднимают тяжести, – и это был лось огромных размеров. Через мгновенье лось услышал капли, падающие на воду с Петиного весла, и вдруг исчез, и осталось только в глазах видение крана и две огненные реки на следах.
– Ты, – спросил я Петю, – сказал, что лось услышал тебя не раньше того, как начали падать капли с весла, он тебя должен был видеть?
– Вот о том же я и говорю, что нет: он стоял, не видя меня, до тех пор, пока не упала в воду капля с весла.
Мазай на это сказал:
– Конечно, слепой.
И все охотники:
– Видимо дело, слепой.
– Ты лося увидел, – спросил я, – кажется, когда месяц еще не всходил.
– Но все равно видно было все: он шел на зарю.
– И что же, глаза не отвечали заре?
– Не отвечали: блеска не было.
– Может быть, длинными ресницами закрывались глаза?
– Блеснуло бы и через ресницы.
– Слепой! – решили все охотники.
И Мазай, узнав, что у Пети третий ствол был заряжен пулей, стал упрекать его, что не пожалел зверя слепого и не убил.
Мазай искренно жалел слепого лося, но другие кое-кто, конечно, и обрадовались случаю на законном основании убить лося, и им всем захотелось разговеться, всем запахло лосиным мясом. Все оживленно стали обсуждать план загона слепого лося, и все вскоре сошлись на том, чтобы выгнать его на Нехаляву. И когда ему неминуемо надо будет плыть через озеро, из кустов на легких ботничках выедут Мелкодырчатый с зятем и накинут петлю на голову плывущему. А Мазай на другом берегу заляжет в кусты с винтовкой и прикончит лося выстрелом, если вздумается плыть не на кручу, а на мель.
До того точно и быстро все сговорились, что сомнения у нас с Петей не оставалось никакого: дело бывалое. Только непонятно было нам, почему же лося надо было направлять с мелкого места на приглубое к высокому берегу.
– Потому надо, – ответил Мазай, – что когда лосю накинут петлю и он помчит ботник по воде, то если хватит ногами мелкое место, – пыль подколесная! – так хватит, что от Мелкодырчатого, и ботника, и от зятя останутся одни только щепочки. Если же направим на кручу и место будет приглубое, лось как будет на кручь выбиваться, Мелкодырчатый с зятем возьмут его в топоры.
И. увидав, что Петя, услыхав заговор, нахмурился, сказал ему:
– Эх, пыль подколесная, в лесу же нет ни докторов, ни сестер милосердных!
И рассказал нам известную народную легенду о гусях, как во время перелета один гусь не выдержал пути и стал снижаться. И милосердные гуси все спустились к нему, заклевали и даже будто бы засыпали песком.
XL. Куриная слепота
После разговора о слепом лосе при общем веселье Мазай рассказал, как он пришел на помощь Миронычу, внезапно застигнутому куриной слепотой, и о том, что пережил в эту вечорку бедный старик.
Приплыл Мироныч в Бухалово, где у него есть своя Миронова гривка, никогда не затопляемая. Там в кустах устроился старик, закрылся лапником, прокопал окошечки и, конечно, высадил на воду утку. Вскоре и случись такая беда, что утка его замечательная в этот раз, как будто в рот воды набрала, знай себе копается в перьях, охорашивается и молчит. На голос чужой дикой утки откуда ни возьмись селезень и сел на воду. Теперь бы только закричала утка, и селезень забыл бы о дикой и подплыл, но она молчала, и Мироныч стал жать селезня, чтобы свой селезень зашваркал, и тогда бы уже наверно своя-то утка бы закричала. К счастью, селезень послушался Мироныча и, когда тот пожал его, стал шваркать, и утка, услышав любимого супруга, хватила сразу на посадку, и дикий селезень, тоже пошваркав, стал подплывать. Когда Миронычу расстояние между ним и селезнем показалось достаточным для ружейного выстрела, он просунул ствол в дырочку, прицелился и выстрелил. Селезень был убит наповал и сразу перевернулся на брюхо. А Мироныч зимой вовсе даже не чаял, что он доживет до весны, и когда весна пришла, не чаял, что соберется выехать, и когда выехал, не чаял, что придется убить. А вот он, вот он лежит, его селезень, в воде, и вот оно счастье пришло, и было это охотничье счастье старику много слаще, чем простое обыкновенное счастье молодых охотников. Наглядеться не мог Мироныч на своего убитого селезня. А между тем как раз в это время «Касть пришла»: это значит, прибылая вода Волги так нажала на Касть, что та повернула обратно, и с такой силой, что вода стала бить из береговых кустов и мутить чистую пойменную воду. Прибежала мутная струя и к Миронычу, и, завидев ее, Мироныч понял и сказал себе: «Это Касть пришла и намарала». Между тем эта мутная струя попала как раз на убитого селезня и стала его подвигать. Сначала Мироныч не беспокоился, но когда увидел, что селезень движется все скорей и скорей, потому что Касть все прибывает и струйка усиливается, он забеспокоился. Тут не совсем в том было дело, чтобы привезти домой селезня и съесть: дело было в том, чтобы его показать всем, как победу над старостью. И поди-ка вот расскажи, что селезня убил, что селезень был. Всякий скажет на это: «Был, да сплыл». Показать надо, а вот на глазах струя относит добычу все дальше и дальше. Тогда жизнь влилась старику в жилы с такой силой, что. как молодой, он выскочил из шалаша, забыл про свои костыли и прямо пустился водой по мелкому месту доставать селезня. И скоро он селезня достал. Темнело на пойме. «Кстати, – подумал Мироныч, – надо и утку взять, не дай бог еще хватит меня куриная слепота». Злое предчувствие не обмануло его, – только-только взял он свою утку в руки, вдруг все кругом потемнело, и старик с уткой в руке и с убитым селезнем остался среди вод в полной тьме. Тогда поскорее направился старик к берегу, и стало ему чудиться, будто вода становится все глубже и глубже. Он проверил по сапогам, и оказалось правда: он пошел не в ту сторону. «А куда же идти?» – подумал он. Никаких звуков приметных не было. Он пошел в обратную сторону, и направление это, оказалось, было вернее: вода становилась все мельче и мельче. И вдруг старик чуть-чуть не окунулся: сразу обрыв и глубина. Вот в эту-то опасную минуту старик догадался пожать утку свою, чтобы домашний селезень, супруг ее, отозвался в шалаше и по крику и по шварканью его определился бы и берег. Мысль была верная, но, на горе старика, утка молчала. Тогда он стал сильней и сильней нажимать. К великому счастью старика, в это время сам селезень на берегу догадался, в чем дело: что, не ровен час, старик и вовсе его утку задушит, и, не будь плох, сам зашваркал, и старик по селезню скоро нашел свой шалаш. – Вот видите, – сказал Мазай, – тут есть чему поучиться, – ведь человек это, и в своем разуме; закричит – и помощь ему, помирать станет – милосердные сестры касторки дадут. А и то вот, когда пришел ему слепой час, нам страшно. А как же теперь лосю слепому в лесу? Нам надо помочь.
XLI. Гусь
Самое главное, что случилось со мною за вечер, проведенный в ольховых кустах, была встреча с этой землеройкой, в глазах у меня был маленький зверек, потерявший свою подземную родину. Глядя на горящие поленья костра, я видел, как она поднималась по веточке ивы все вверх и вверх за солнечным лучом. Я рассказывал охотникам о своей дивной встрече в том смысле, что вот не только это у нас, у людей, бывает так, что несчастье, утрата любимого и даже всей дорогой родины поднимает иного человека и заставляет кого-то еще больше любить и создавать себе новую, лучшую родину. Бывает, говорил я, видно, так даже. и у зверей: кто может сказать, зачем это подземное животное из самого нижнего этажа леса стало подниматься в самый верхний за солнечным лучом.
– Скажи мне, Мазай, – спросил я, – как ты об этом думаешь, зачем это маленькая землеройка полезла на такую высоту?
– Так вздумалось, – ответил Мазай.
А Петя в это время тоже глядел в огонь, и тоже у него в глазах, наверно, видением показывался черный на фоне красной зари слепой лось, а Мироныч видел селезня, как его уносит струйка прибывающей Касти.
– Скажи, Мазай, – спросил Петя, – зачем это слепому надо было перебираться в Ожогу?
– Так вздумалось, – ответил Мазай.
И даже старый Мироныч не удержался и тоже поставил Мазаю труднейший вопрос, почему его убитый селезень, когда был жив, не на свою дикую утку позарился, а на чужую.
– Стар ты стал, Мироныч, – ответил Мазай, – будь бы ты молод, не стал бы спрашивать меня о таких пустяках: всякий молодец знает, что своя же милая, да на чужом огороде и то слаще.
И был тут у костра Мазай, для всех нас, как царь Соломон с готовым ответом на все. И он ответил на вопрос, куда теперь скроется от воды волк-одинец, только что перевиденный в Бухалове, и двенадцать лосей с вожаком во главе, застигнутые водой под Нехалявой: вожак заревел и поплыл, и все заревели, и все поплыли и, когда увидели, что везде вода и впереди воде нет конца, опять все разом заревели. На все у Мазая был ответ, и все спрашивали про свое, только один Баляба глядел в огонь, о чем-то своем думал и ничего у Мазая не спрашивал и перевертывал палочкой горящие поленья.
– Ты что это, – спросил его сам Мазай, – золото ищешь?
– Думаю, – ответил Баляба.
– О чем же ты, индюк, думаешь?
– Да вот гуся видел, о гусе и думаю.
– Врешь, гусей еще нет: ты видел не гуся.
– Как же не гуся, я даже стрелял.
– Врешь, парень.
– Ей-богу, не вру. Налетел на меня огромадный большой гусь, я в него выстрелил, и он свалился в кусты.
– Не чуди, сказка известная: гусь был, да сплыл.
– Нет, я нашел его, бежит, пострел, в кустах мелькает, а я бегу за ним во весь дух, патроны роняю, и зарядить бы надо, и боюсь упустить. Ну, пришел я в себя кое-как, остановился ружье зарядить, и гляжу, он тоже замучился и сидит в кусту. Стал я заряжать, а нет ни одного патрона, все на бегу растерял. Вижу, гусь окаянный все сидит и еще на меня оглядывается и только не говорит: «А ну-ка, дурень, давай-ка опять побежим, кто кого обгонит».
На этом месте рассказа Мазай весело расхохотался.
– Стало быть, – сказал он, – гусь-то был не глупый, понял, что ты дурак.
– Не будь я плох, – продолжал Баляба. – спрятался я, затих и стал скрадывать, подползать к нему. А он чего-то задумался и голову повесил. Я же как увидел, что он голову свесил, очень обрадовался и хвать его рукой из куста. Он же, подлый, вдруг стал на крыло, полетел и зашваркал.
Тогда даже Мироныч очнулся от своей глубокой, с старческой дремы и удивленно спросил:
– Как ты сказал, гусь зашваркал?
А Мазай этого только и ждал, он же хорошо знал, что гусей еще не было, а когда у Балябы гусь зашваркал, как селезень, он понял все и повалился на спину и хохотал, повторяя:
– Баляба подкачал!
– Баляба подкачал, – хохотали все охотники.
Сам же Баляба по-прежнему впился глазами в огонь и тихонечко повертывал головешки. Когда же все довольно натешились, он опять стал говорить.
– Может быть, сознаю: не гусь это был, а большой селезень в темноте мне гусем показался. Но тогда, скажите, откуда же взялась такая вода?
– Какая вода?
– А весь я мокрый стал, после того как селезень улетел, и льет с меня вода, как с крыши.
– Ну, тогда верю, – сказал Мазай, – верю, что это гусь был у тебя, конечно, гусь.
Баляба очень обрадовался.
– Гусь-то гусь, – сказал он, – а вот откуда же вода-то взялась?
– Да с гуся же, – спокойно ответил Мазай, – ведь говорится же, что ему как с гуся вода: а у тебя же гусь был, и вода твоя это с гуся.
XLII. Лягушка-царевна
Утром на рассвете, когда надо было садиться в шалаши, грянул гром, сверкнула молния и пошел такой дождь, что пришлось ехать домой. Это был первый теплый дождь, после которого во всех березах, молодых и старых, начинается движение сока.
Грянул первый гром, завозились в нашей большой луже лягушки до того сильно, что заволновалась вода. После этой первой грозы лягушки приплыли к берегу, высунули пучеглазые головы и начали урчать. Среди множества этих лягушек была и лягушка-царевна, которую я узнал и пришел поздороваться. Но она не узнала меня, и как только я к ней подошел, она спряталась. Напрасно я ее ждал, – не показывалась. А когда я отошел несколько шагов и обернулся назад, она выглянула.
«Не врет ли, – подумал я, – наверно, плутовка, узнала».
И вернулся назад. А она спряталась.
Но в этот раз мне пришлось отступить меньше, а в следующий – и еще, и так дошло до того, что я к ней только глаза поверну, и она под воду, а отведу, она снова покажется.
Наш невинный роман кончился тем, что и царевна и я, оба на близком расстоянии, она выпучив, я вытаращив глаза, безмолвно глядели друг на друга.
XLIII. Ёж
Этот теплый дождь с грозой расшевелил и ежика, спавшего всю зиму в кусту под толстым слоем листвы. Еж стал развертываться, а листва над ним подниматься. Я раз это видел своими глазами, и мне даже немного страшно стало: сама ведь поднималась листва. Вот он развернулся и мохнатенькую мордочку с черным собачьим носиком высунул. Только высунул, вдруг ветер шевельнул старыми дубовыми листьями, и вышло из этого шума явственно:
– Е-ш-ш-ш! (Еж!)
Как тут не испугаться: в одно мгновенье еж свернулся клубочком и сколько-то времени полежал так, будто нет его серого в серой листве. Когда же времени прошло довольно, еж опять стал развертываться, но опять только поднялся было на ноги и маленькой спинкой, густо уснащенной колючками, тронулся, вдруг из тех же сухих дубовых листиков шепнуло:
– Еж! Куда ты идешь?
И так было несколько раз, пока еж привык и пошел. Все происходило в большой близости от нашего домика и немудрено, что еж попал под машину, где на старой Аришиной ватной кофте крепко спал Сват. Ежику эта кофта очень понравилась: совсем сухо, тепло, и вот тут даже есть дырочка, куда можно залезть. Но только он стал туда залезать, вдруг Сват почуял ежа.
– Еж! Куда ты идешь?
И началось, и началось! А еж, поддав колючками в нос Свату, залез в дырочку и скоро так глубоко продвинулся в рукаве, что дальше идти было некуда: Аришина рука была тонка, рукав в конце очень узок.
– Еж! Куда ты идешь? – ревел Сват.
А ежу ни вперед, ни назад: впереди узко, назад Сват.
Разобрав, в чем дело, мы Аришину кофту перенесли в наш дом, рассчитывая, что следующей ночью еж уложит гладко свои колючки и как-нибудь выпятится и что, может быть, кофта ему понравится и станет ежовым гнездом.
Устроив своего нового жильца, мы тут же и спели ему плясовую народную песенку:
Еж, еж, куда ты идешь?А он отвечает:
К вам, девушки, гулять. Себе жену выбирать.XLIV. Остров Спасения
В эту ночь после такого теплого дождя воды прибавилось сразу на полтора аршина и отчего-то невидимый раньше город с белыми зданиями показался так, будто вышел из-под воды. Тоже и горный берег Волги, раньше терявшийся в снежной белизне, теперь возвышался над водой желтый от глины и песка. Несколько деревень виднелось, кругом облитых водой, я некому только было посмеяться над бедными людьми, попавшими в обыкновенное жалкое положение животных во время весеннего разлива Волги. На великом этом разливе там и тут виднелись копеечки незалитой земли, иногда голые, иногда с кустарниками. Почти ко всем этим копеечкам жались утки разных пород, и на одной длинной косе длинным рядом, как установленные один к одному, гляделись в воду гуси-гуменни-ки. Там, где земля была совсем затоплена и от бывшего леса торчала только частая шерсть, всюду эти шерстинки покрывались разными зверьками, и так иногда густо, что обыкновенная какая-нибудь веточка ивы становилась похожа на гроздь черного крупного винограда.
Водяная крыса плыла к нам, наверно, очень издалека и, усталая, прислонилась к ольховой веточке. Легкое волнение воды пыталось оторвать крысу от ее пристани, и ей пришлось подняться немного по стволу и сесть в развилочку. Тут она прочно устроилась так, что вода не доставала ее и только большая волна, «девятый вал», касалась ее хвоста и от этого соприкосновения уносила с собой кружочек. А на довольно-таки большом дереве, стоящем, наверно, под водой на высоком пригорке, сидела жадная, голодная ворона и выискивала себе добычу. Невозможно бы ей было углядеть в развилочке водяную крысу, но волна, каждый раз при соприкосновении с хвостом уносившая кружок, выдала вороне местопребывание крысы, и вот началась война не на живот, а на смерть. Несколько раз крыса падала и опять взбиралась на свою развилочку и очень страдала от ударов железного клюва вороны. И вот совсем было уже удалось вороне схватить крысу, как вдруг та изловчилась и так ущипнула ворону, что вороний пух полетел, будто ее дробью хватили. Ворона даже чуть не упала в воду и только с трудом справилась, ошалелая села на свое дерево и стала усердно оправлять свои перья, по-своему залечивать раны. Время от времени от боли своей, вспоминая о крысе, она оглядывалась на нее с таким видом, будто сама себя спрашивала:
– Что это за крыса какая-то, что это как будто так никогда и не бывало?
Между тем водяная крыса после счастливого своего удара вовсе даже совсем и забыла думать о вороне, она стала навастривать бисерок своих глазок на желанный наш берег. Быстро срезав себе веточку, она взяла ее передними лапками, как руками, и зубами стала грызть, а руками повертывать. Так она обглодала дочиста всю веточку и бросила в воду. Новую же срезанную веточку она не стала глодать, а прямо с ней спустилась вниз и поплыла и потащила ее на буксире. Все это видела, конечно, хищная ворона и провожала ее глазами до самого нашего берега.
Наш берег стал островом спасения и новой родиной для всяких зверей, больших и маленьких, и, как скоро оказалось, существ, вовсе незаметных. Поминутно выходили из воды землеройки, полевки, водяные крысы, и норки, и заюшки, и горностаюшки, и белки тоже сразу большой массой приплыли, и все до одной держали хвостики вверх.
Каждую зверушку мы, как хозяева острова, встречали и принимали с родственным вниманием и, поглядев, про пускали бежать в угодья, отвечающие каждой породе. Но долго мы не знали, что встречаем с пониманием только самую незначительную часть всех паломников новой родины. Наше знакомство с новым миром беженцев началось словами Ариши.
– Поглядите, – сказала она, – что же это делается с нашими утками!
Тогда мы сразу же, только глянув на уток, заметили, что они отчего-то стали много темней и, главное, много толще.
– Отчего это? – стали мы догадываться.
И пошли за ответом к загадке, к самим уткам. Тогда оказалось, что для бесчисленного множества плывущих паучков, букашек и всякого рода насекомых, сорванных буйным разливом с мест своего обычного пребывания наши утки Хромка и Клеопатра были островной сушей, и они взбирались на уток в полной уверенности, что наконец-то после долгого и опасного странствования по водам, наконец-то достигли надежного пристанища. И так их много было, что утки наши потолстели, даже и очень заметно на глаз.
XLV. Муки лосей
Вода была как море, но и льдин было еще довольно в воде, и только один смелый человек решился из города приехать сюда за женой. Этот-то человек и привез «директиву» Мазаю от союза охотников, чтобы ему немедленно явиться в город и выработать вместе с охотниками способы спасения лосей от воды.
– Пыль подколесная, когда хватились! – воскликнул с гневом Мазай.
И продиктовал посланнику свой ответ:
– Директивы получил, выполнить не могу: нет самолета.
Отказав чиновникам, Мазай тут же принялся спасать лосей своим способом. Он вспомнил о разобранном мосте, сплоченном и отведенном к деревне, перебрал плот, позакрепил хорошенько, взял с собой Рыжего, Павла Ивановича, Мелкодырчатого и поплыл по разливу.
Плот направился в сторону Шарикова пала, самой ближней гривы к Ожоге, куда неминуемо попадут лоси. когда Ожогу зальет. Как раз в то время, как плот показался из-за мыса и верхушка от затопленного леса Ожоги тоже показалась охотникам, двенадцать лосей один за другим длинной вереницей плыли из Ожоги на Шариков пал. Завидев людей, лоси надбавили ходу и скоро достигли Шарикова пала, вылезли на берег и стали так тесно друг к другу и так мало было земли, что со стороны казалось, будто лоси стоят на воде.
– Погодите, – сказал Мазай своим товарищам, – повременим в Ожоге, сейчас лосей не будем пугать.
Плот медленно направился в Ожогу, от которой оставались над водой только одни крестики елок и пальчики верхних сосновых мутовок. На большой воде было значительное волнение, но здесь волна дробилась, и можно было, придерживаясь за верхушки деревьев, спокойно стоять в ожидании, когда прибывающая вода стронет лосей.
А вода между тем прибывала очень быстро, и земля под ногами лосей исчезала. Когда же, наконец, воды набралось столько, что ноги их очутились в воде, вожак бросился вплавь и за ним бросилось в воду все стадо. Привычные глазу лосей очертания холмов с зубчиками хвойного леса, и между холмами в низинах фигуры голубых озер, и змейки рек средь полей и лугов теперь исчезли, и лоси не могли знать, куда им плыть, в какой стороне их спасение. Но как, выйдя из семени, корни знают, что им надо вниз, а стеблям вверх, так и лоси в огромном водном пространстве, не видя ничего впереди, сразу же верно взяли направление на Варварины Куженьки, место своей родины. Вдали на их пути на значительном расстоянии одна от другой с высоты человеческого роста легко можно было бы рассмотреть две копеечки, где они бы могли отдохнуть. Но с уровня воды лосям виднелось только безбрежное море воды, переплыть которое им надо было без отдыха. Смерив глазом расстояние, не имеющее впереди никакого предела, лось-вожак вдруг остановился и, когда все стадо остановилось, отплыл несколько в сторону. Он оглянулся кругом, заметил темное место в Ожоге и повернул было туда и стадо повернуло за ним, но вдруг он заметил, что темное пятно – это люди. И тогда, чуя неминучую гибель всего стада, лось-вожак вдруг заревел, и вслед за ним заревело все стадо. И тогда далеко по разливу Волги пронесся этот рев погибающих; зверей, и в нем был страшный вопрос самой бессловесной природы, остановленной в своем обыкновенном и привычном движении.
– Не могу слышать их рева, – сказал Мазай, – сейчас, пожалуй, и сам зареву.
А я, слушая трагический рев, вспомнил, как в «Казаках» Льва Толстого, тоже обреченные на неминучую гибель, черкесы перед смертью связались друг с другом и запели свою последнюю песню…
Тогда на легких ботничках с нашего плота быстро помчались на помощь погибающим двое и, заехав с разных сторон, привели лосей в замешательство. Когда же в общей суматохе наконец определилось единственное направление на Варварины Куженьки, два нетеля в этом кружении сбились с толку и поплыли не со стадом, а отдельно к темному пятну Ожоги. Усталые звери захлебывались, фыркали, но все-таки плыли, имея надежду скоро отдохнуть на земле. Не тут-то было! На той земле были люди, и в далеком водяном бездомье еле-еле виднелись какие-то уплывающие точки: в такую-то даль уже никак одним не доплыть. Тогда эти два нетеля опять заревели, опять запели свою предсмертную песнь, как те связанные между собой черкесы, и сделали такое страшное, что для диких зверей гораздо страшнее даже и самой смерти; они поплыли прямо к людям, к плоту, сдаваясь на милость и не веря – какая может быть милость от человека зверям.
Их захватили веревками, вытащили, и они лежали на плоту спокойно, как будто теперь им было везде все равно.
А те лоси скоро достигли первой из двух копеек на пути к своей старой родине и тесною кучкой стояли там, давая от себя в тихой воде суженные и удлиненные в большую глубину отражения. Когда люди на их медленном плоту к ним приблизились, лоси переплыли на вторую копейку и со второй на родную и так хорошо знакомую землю. А когда мы привезли своих нетелей и пустили их, они не пошли. Часа два они лежали, потом встали и сначала пошли тихонько, шагом, а потом рысцой побежали.
XLVI. Слепой
Прибылая вода этих суток встревожила многие стоянки лосей, и до вечера к нашему берегу прибывали все новые и новые партии. Весь день тоже, подвигаемая и ветром, и течением небольшой речки, подплывала к нам какая-то темная точка, пока, наконец, не определилось, что это был труп утонувшего старого волка. Разные люди в разных местах встречали этого одинца, видно, он долго боролся за жизнь в поисках выхода и не нашел. А между тем выход был, ему надо было стремиться к береговым лесам Вопши. Что делать! география края так изменилась во время наводнения, что даже волк, природный топограф, дал маху, и мы с грустью узнали его труп у берега родной земли. Встретив мертвого волка, наши охотники вспомнили еще одно бедное животное, перемигнулись, поняли хорошо друг друга, сели в лодки и поехали к озеру Нехаляве, около которого, как они думали, непременно и должен был в незатопляемом островке Чутьин Горб скрываться слепой лось. Расчет охотников был самый верный: кроме Варвариных Куженек да Чутьина Горба нигде больше не оставалось незалитых лесов.
Чутьин Горб был когда-то самым высоким яром на высоком берегу озера Нехалявы, и теперь весь этот берег был не залит. На другой стороне озера берег тоже был не залит, и тут-то вот и был единственный лесок, где мог затаиться и перестоять наводнение слепой. Охотники разделились натрое: Рыжий пошел загонщиком в лес. Мелкодырчатый с Павлом Ивановичем сели в ботник, с тем чтобы накинуть лосю петлю на голову, когда он вынужден будет переплывать озеро. Для этого дела Мелкодырчатый приготовил свои новые вожжи и топор, чтобы ударить лося по затылку, когда он из воды будет выбиваться на кручу. Дело, конечно, это бывалое, и думать особенно тут не нужно было: в этот раз перед праздником так вышло со зрячим, почему же изменять план для слепого. На всякий же случай, если бы почему-либо с петлей не удалось, в засаде за Горбом с винтовкой в руке засел Мазай: при неудаче с петлей и топором Мазай встретит животное пулей.
«Нельзя же так, – размышлял Мазай про себя, – все запрет и запрет, нельзя же тоже так, чтобы все в кон: пусть сто раз в кон, а один раз к празднику можно и за кон».
Рыжий очень недолго в лесу ломал сушины и хлопал суками о сухие звонкие валежины. Лось выкатил на берег, кинулся в воду, поплыл. Из-за мысочка наперерез ему выехал скоренький легкий ботничек, петля взвилась над головой зверя, и в один миг лось был заарканен. При ужасе появления людей лосю мало прибавилось беды от аркана, только, может быть, чуть он понатужился, и ботник, хорошо прикрепленный к новой вожже, стрелою полетел к тому самому месту, где затаился Мазай.
И вот уже близок берег, вот уже Мелкодырчатый приготовил топор и Мазай навел свою винтовку в голову и держал ее на мушке, как вдруг встречные солнечные лучи ударили в глаза лося и они стали огненными.
– Пыль подколесная! – воскликнул Мазай про себя, – да ведь, кажется, он не слепой.
И показался на Горбе во весь свой великаний рост.
В то самое мгновенье, как лось увидел Мазая, он так круто повернул, что ботник порядочно прихватил своим левым бортом воды. Но самая беда вышла, когда лось с приглубого места возле круч подплыл к отлывному и вдруг коснулся ногами дна и махнул ногами своими длинными не по воде, а по земле.
– Руби, руби скорее веревку! – крикнул Павел Иванович с кормы своему товарищу.
И еще оставалось одно мгновенье, чтобы рубить по вожже топором, и рубнул бы Мелкодырчатый, будь вожжа эта старая или не своя. И, конечно, в таком трудном случае не пожалел бы Мелкодырчатый срубить и новую свою вожжу, и вся разница в поведении при новой или про старой вожже была та, что при новой надо было какое-то мгновенье подумать, рубить вожжу или же как-нибудь и так обойдется. Вот это мгновенье и погубило все дело. Зрячий матерый лось, огромной силы, выхоженной на осиновой коре и на травке болотной, на отлывном-то месте с такой силой хватил ботником о камень, что лодка вмиг разлетелась на мелкие щепки. Мелкодырчатый же с Павлом Ивановичем, конечно, нырнули в холодную воду, но вскоре выплыли и стали: воды им было всего по пояс.
А лось, рассекая новой вожжой отлывное место, бросился потом в глубину, поплыл и потащил за собой всю вожжу.
– Пыль подколесная! – кричал сверху Мазай. – Какая скотина, а вы говорили, слепой.
– Вожжи-то, вожжи, – стонал в холодной воде Мелкодырчатый.
– С вожжами простись! – отвечал ему сверху Мазай.
Лось же, влача за собою вожжу, все плыл и плыл по разливу до первой копейки, чуть вздохнул тут и поплыл до второй и со второй скоро добрался до родной своей земли.
Ариша после рассказывала нам, как он стремительно ринулся вперед, когда понял под собой свою землю, и до того близко прошел возле нашего домика, что чуть-чуть не пропорол ногой надутую резиновую лодку.
XLVII. Лещ и судак
Когда реки под напором Волги повернули обратно и, выливаясь из берегов, затопляли места обычного пребывания зверей и некоторых птиц, рыбам это обратное движение рек очень помогало: их продвижение на места нереста вверх по реке очень облегчалось обратным движением рек. На ветвях затопленного елового леса любит в это время лещ откладывать свою икру, и Мазай даже нарочно рубит еловые лапы, закрепляет их для леща под водой, для судака же ставит колодины: тот любит метать икру на таких гнилушках.
День пришел теплый такой, что чуть-чуть зеленой дымкой отметилась лоза, березы стали как шоколадные, а в осинах так густо от их цветов-червячков, что тетерев, когда сядет на нее, то так и скроется. По тихой воде всюду появлялись кружки, и Мазай, радуясь великой красоте Неодетой весны, так загадал себе, что так и быть, если только попадется ему хороший жирный лещ или судак, эту первую свою рыбу он поднесет Арише и в этот раз уж непременно решится открыть ей свою душу.
– Конечно, – говорил он сам с собой, – я не молод и мало ей во мне интересу, но ведь и она тоже не молода: всего через каких-нибудь пять лет ей будет сорок, а сорок лет бабий век.
В то время как Мазай раздумывал о своем счастье, один очень большой лещ искал места, где бы ему можно было поудобней освободиться от икры. У леща такая повадка, чтобы метать свою икру непременно на чью-нибудь чужую. В поисках такой икры и плавал лещ в это утро, поглядывая на затопленные еловые ветви и на неглубоких местах на старые замшелые колодины. Оглядывая такие колодины, Мазай вспомнил, что прошлый год как раз на этом месте судачиха-икрянка метала икру. Туда сейчас он и поплыл и не ошибся. Новая икрянка как раз на то же место привела и нынче молочника и выметала икру и уплыла, а молочник остался возле колодины стеречь икру. Так вышло счастливо, что и лещ тоже как раз приплыл к этой колодине, рассмотрел чужую икру и совсем упустил из виду молочника-сторожа. Стерегущий этот судак, заметив приближение леща, с такой силой на него бросился, так ударил, что от леща чешуя полетела. И с таким азартом хлестал судак леща, что и не заметил, как на своем легком ботничке подкрался Мазай и одним ударом посадил на зубцы своей остроги и судака и леща.
XLVIII. Чурбан и лягушка-царевна
Приятно, конечно, в лучший день Неодетой весны плыть по тихой воде к своей возлюбленной не с пустыми руками. В такой день каждому живому существу, зверю, птице и даже рыбе, хочется показать себя чем-нибудь. Вот и наши дятлы Майор и Минор вздумали показать силу башки своей перед их какой-то возлюбленной. Майор с такой силой хлестал клювом и всей башкой своей по звонкому дереву, что эта его барабанная трель долетела через пойму на Ожогу, и оттуда другой дятел, Минор, тоже такую пустил свою барабанную трель, что она долетела до наших Варвариных Куженек и возбудила Майора к новым барабанным достижениям. Казалось, вся пойма внимала состязанию дятлов, и даже лягушка-царевна взлезла на чурбан и слушала, по-своему соображая, какой из этих барабанщиков бьет сильней. И Мазай тоже, после того как поздоровался с Аришей и поднес ей приятный подарок, прислушался к дятлам и сказал ей:
– Наш бьет много сильней.
Умная Ариша, конечно, очень обрадованная подарком, постаралась из уважения к Мазаю тоже вникнуть в состязание дятлов и ответила нежным своим голоском:
– Наш дятел близко, а тот далеко, и понять, кто сильней, нам нельзя.
С этим согласился Мазай и предложил Арише покататься с ним на лодочке, заехать на середину и там решить, какой из дятлов барабанит сильней. Ариша с удовольствием согласилась проехаться, но только попросила Мазая немного переждать, пока она рыбу перечистит.
Мазай решил этим воспользоваться, сел рядом с ней на приступочек, с тем чтобы прямо же ей тут все и сказать. Но Мазай. как и все влюбленные, ошибался: все сказать невозможно, и оттого язык его сразу не повернулся. Тогда он стал бродить глазами, с тем чтобы найти хоть что-нибудь и о чем-то сказать. Увидев лягушку-царевну на чурбане, он погрозил ей пальцем и крикнул:
– Бесстыдница!
Ариша засмеялась и сказала Мазаю:
– Этот чурбан пример каждому мужику: будешь дураком и на тебя непременно, как на чурбана, лягушка залезет.
Мазай эти шутливые Аришины слова перевел на себя: не он ли этот чурбан и не она ли лягушка?
– Ну, а ты-то, – спросил он, – как думаешь, что чурбану посоветуешь, как ему оборониться от лягушки, чтобы она на него не залезла?
Ариша задумалась и Мазаевы слова перевела на себя.
– Против этого есть у человека два орудия: всякий человек может спастись от искушения молитвой и постом.
– Милая Ариша, – ответил Мазай, – ты, конечно, и постница и умница, только же ведь этого нету.
– Чего нету, бога? Кто тебе сказал, что нету?
– Никто этого сказать не может, и если скажет, все равно не поверю: бога никто не видел, а кто и скажет, – соврет.
– Ты это правду говоришь, – сказала Ариша, – бог невидимый.
– Невидимый, – засмеялся Мазай, – вот то-то и есть, что невидимый.
– Эх, какой ты, Мазай, – ласково сказала Ариша, – жалко мне тебя, есть ведь много такого, ты не видишь, а оно есть.
– Как же так? – удивился Мазай.
– А вот хотя бы твой леший: не видел же ты его своими глазами, а знаешь, что есть.
– Ну, нет! – горячо воскликнул Мазай, – в бога не верю я, конечно: бога нет, а все-таки я чего-то боюсь. Ну, а уж про лешего знаю всю подноготную и не боюсь нисколько: лешего нет.
Как раз в это время стало вечереть. Лягушка-царевна дала свой сигнал, и сотни или, может быть, тысячи скрытых в воде лягушек высунули из воды свои носики и заурчали всем своим бесчисленным хором, примыкающим к непрерывному хору стекающих из нашего леса ручьев.
– Если бы лешему быть, – сказал раздумчиво Мазай, – то, конечно, была бы у него и лешиха, и развелись бы от этой пары лешенята, и выросли бы, и тоже и от них племя пошло, и размножились бы так, что, куда бы ни пошел в лесу, на каждом шагу был бы леший. Немало ли я походил в лесу, а ни разу еще никогда не встречал.
– И не встретишь, – сказала Ариша. – Нечистая сила, это ведь тоже невидимый мир.
– То-то вот что невидимый, – усмехнулся Мазай.
И, вспомнив, с чего начался разговор, вернулся к нему:
– Мы ведь с тобой, Ариша, о чурбане говорили, что У каждого чурбана есть против лягушки два средствия.
– Два орудия, – поправила Ариша.
– Ну, орудия, – согласился Мазай. Пусть орудия: молитва и пост. По-твоему, этими орудиями сделаешь себе такое, что и вовсе ничего не будешь чувствовать.
– Верно, верно! – обрадовалась Ариша. – Ты меня понимать начинаешь.
– Понимаю так, что и тело и душа моя от поста и от молитвы до того высохнут, что и я, человек, тогда сделаюсь, как чурбан.
– Как чурбан! – радостно подтвердила Ариша.
Они быстро сближались: Мазай больше и больше начинал ее понимать.
В это время вдруг на пойме раздались победные крики, резко выделяясь из всего хора бесчисленных поющих птиц, поющей воды, поющих лягушек.
Журавлиная пара пронеслась низко над головой Мазая и спустилась на ту самую копейку, на которой перед этим лоси спасались. Теперь от всей копейки оставалось такое маленькое пятнышко – только-только на нем посидеть журавлям.
Когда журавли сели, оправились, вслушались в хор перебивающих друг друга звуков и особенно в барабанные трели двух дятлов, то вдруг на всю пойму так резко и повелительно крикнули, что люди не могли понять этот звук иначе, как приказ: «Окоротись!»
– Это судьи, – сказал Мазай, – это они для порядка прилетели.
– Плохие судьи, – сказала Ариша, – никто их не слушается.
– Погоди, – сказал Мазай, – вот вечер придет – послушаются, порядок-то и людям не сразу дается, а ты хочешь, чтобы журавлям все сразу далось.
Между тем к хору ручьев и хору лягушек, постепенно и согласно вступая, присоединились родственные вечерние звуки токующих тетеревов.
– Хорошо, Ариша, – сказал Мазай, – ты это верно сказала, что можно до того себя иссушить, что станешь точно как деревянный чурбан.
– Как чурбан! – нежным голоском и прямо в душу Мазаю ответила Ариша.
– Бесчувственный чурбан.
– До того бесчувственный, что, если залезет лягушка, он ничего не почувствует.
– Ничего! Ну, а все-таки?
Мазай хитро-прехитро прищурился и маленькими глазами поглядел на Аришу.
– А все-таки, – сказал он. – по бесчувственному чурбану лягушка-то ведь – залезет, по бесчувственному-то ей как раз, может быть, и лазать удобней.
– Пусть лезет, – ласково сказала Ариша, – пусть ее тешится, лукавая, да ты-то соблазн своп победил и чувствовать больше ничего уже не можешь.
Тогда узеньким, самым узеньким глазком своим поглядел Мазай на Аришу и молвил:
– А что из этого толку, постница: лягушка-то ведь все равно же залезет. А если, как ты говоришь, живому человеку не обойтись без лягушки, так лучше я уж буду чувствовать.
Мазай так весело расхохотался, что и Аришу увлек, и она тоже не могла удержаться от смеха и стала румяная и молодая и такая хорошенькая, что никакого сомнения больше не оставалось: Ариша лицемерила, а в душе понимала, так же как и Мазай, – никакого расчета нет человеку превращаться в чурбан. К сожалению, как раз в это время птица лесных пожаров черная с огненной головой Желна протянула свою жалобную ноту, и Ариша что-то вспомнила свое, вся собралась и поникла.
Мазай же, когда увидел, как Ариша вдруг поникла, принял это близко к сердцу, сказал:
– Эх, чурбан я, чурбан!
Тогда оба влюбленные погрузились в долгое раздумчивое молчание, и мало-помалу на пойме стало темнеть. Вот тогда-то и начался с большой силой журавлиный суд, когда все птицы поют и кричат, стараясь друг друга перебить, перекричать. Каждой весной бывают эти живые ночи, когда спать никому не хочется, все кругом возится, поет и кричит. Дошло до того, что сами судьи забыли свои обязанности и стали не судить, а орать с единственной целью всех перекричать.
И они готовы были своего достигнуть, всех перекричать, и самый удивительный вечер Неодетой весны испортить и все лучшие песни смешать.
Но как раз в это время, когда солнце только что село и пойма от зари расцветилась голубыми и розовыми полянками, на одной из этих полянок золотой воды среди вершин затопленного леса показалась черная лодка и в ней был человек. Это был певец Данилыч, плывший в своем ботнике по широкому раздолью. Какую он песню запел, какие слова были, трудно было понять, да и не в словах было дело, а в шири, в том, как песня широкой душой охватывала всю природу и каждое малое существо, забывая себя, по своей личной песенке, как по малой тропе, входило в широкую песню Данилыча.
Мазай, опустив голову, только хотел было еще раз повторить свое: «Эх, чурбан я, чурбан!» – как вдруг услыхал Данилыча и тут же вместе с песней шепот Ариши:
– Нет, Мазай, нет…
Мазай лучше прислушался, а лукавая совсем тихонечко прошептала:
– Ах, Мазай, милый Мазай, не будь чурбаном!
Кавказские рассказы*
Желтая круча
В заповеднике на Северном Кавказе любимейшее мое место – это Желтая круча, где собирается очень много разных зверей, особенно кабанов. Эта круча, сложенная из желтого песку, глины и гальки, высится над долиной не менее как метров на пятьсот и неустанно осыпается. Далеко можно слышать шум рассыпающейся горы, а когда ближе подойдешь, то и глазами прямо видишь, как скачут камни с высоты вниз. Дорожка, по которой проходишь к Желтой круче, теперь у самого края пропасти, а пятнадцать лет тому назад была в трех метрах от края. Так вот, значит, за пятнадцать лет рассыпался пласт горы толщиной в три метра – это немало!
Я пришел сюда впервые с двумя охотниками: один был замечательный рассказчик и шутник Люль, другой, Гарун, очень молчаливый человек, зато основательный и до крайности честный и верный. Мы пришли к самому краю горы и сели под деревом, корни которого обнажились и, как длинные косы, висела над бездной. Все трое мы довольно долго молчали. Мертвая гора жила своей шумной жизнью, а мы, живые, притихнув, молчали, и звери тоже; множество разных зверей скрывалось в окружающем лесу, спали кабаны, мирно паслись олени и козы. Заметив несколько коз внизу, я спросил Люля:
– Как это козы вон там пасутся и не боятся шума?
– Коза хорошо понимает камень, – ответил Люль. – Для того камень падает, чтобы коза не дремала и всегда помнила: не тут ли где-нибудь Люль?
Этим и начались рассказы Люля возле Желтой кручи, но только на таком русском языке, что мне больше приходилось догадываться, связывая те или другие понятные слова, больше самому сочинять, чем прямо брать от рассказчика. В особенности трудно мне было понять значение слов какого-то магнита и какого-то дерманта, обозначавших какие-то силы. Да, я понимал, что это силы, но различия между магнитом и дермантом не мог себе уяснить, и для этого Люль вынужден был дать мне примеры и случаи из своей охотничьей жизни, по которым я бы мог догадаться, чем отличаются между собой силы магнит и дермант.
Саид
– Значит, – сказал я, – магнит – это сила, но что же такое дермант?
– И дермант – тоже сила, – ответил Люль.
И рассказал один случай из своих охот на медведей вместе с Саидом. Было это на узкой горной тропе. Санд стал в начале тропы, а Люль по ней перешел над пропастью, чтобы выгнать медведя на эту тропу к Сайду. Долго ждал Сайд и не вытерпел: стал осторожно перебираться по тропе на ту сторону, к Люлю. И только доходит до середины, медведь тоже сюда лезет – и двум уж тут, на узкой тропе, не разойтись. Не успел выправить винтовку, медведь обхватил Сайда лапами, впустил когти в спину, стал прижимать к скале. Сайд спрятал голову у медведя под лапой, как птица под крыло, и впустил в него кинжал по самую рукоятку. Медведь заревел и так сильно вздрогнул, что не удержался на тропе и покатился вниз а обнимку с Саидом. Пока вниз катились, медведь кончился, но когтей из спины человека не выпустил. Люль все видел, сел у пропасти, воет и стонет. А Сайд и слышит, как плачет Люль, хочет крикнуть и не может: очень ему плохо. После, когда Люль спустился и понял, что жив Сайд, пришлось каждый коготь медведя из спины Сайда вырезать ножиком, и Сайд ни разу не застонал. И целую неделю потом у костра Люль сидел и повертывал Сайда к огню. Так Сайд мучился, так метался в жару, но ни разу не простонал. Через неделю Сайд встал и пошел. И это, значит, в нем был дермант.
Басни Крылова
Бывает, рассказывал Люль, что человек самый умный, самый образованный, даже басни Крылова знает, а нет магнита, и нет ему на охоте удачи никогда. Раз было, приехал такой гость к Сайду из Москвы на охоту самую опасную, на кабана. Гость подумал: зачем ему лезть на клыки? Он ведь знал басню Крылова и по басне знал, что свинья не может глядеть вверх, а если бы могла, то знала бы, на дубу висят желуди, – и не стала бы подрывать дерево, откуда ей падает пища. Так сказано в басне, и, вспомнив Крылова, гость велел себе устроить помост на дереве и сел туда. Вокруг дерева Люль густо посыпал зернами кукурузы, до которой кабаны большие, охотники. Люль хорошо знал, где проходит самый большой гурт кабанов, и стал там нажимать и завертывать свиней к дереву, на котором сидел ученый человек. Люль нажимал только тем, что ломал тонкие сучки на кустах. Услыхав этот треск, первый гуртовой секач, Боа, остановился, сделал свое кабанье «ш-ш!» и повел весь гурт в сторону ученого. И как только Боа увидал кукурузу, он сейчас же подумал об опасности, поднял голову, встретился с глазами профессора, сделал «ш-ш-ш!» – и все огромное стадо понеслось обратно в чащу.
Оказалось, в басне свиньи не могут смотреть вверх, а в жизни глядят. Профессор знал только басни…
– Что же это, – спросил я Люля, у профессора не было, значит, магнита?
Люль ответил:
– У этого ученого ни магнита не было, ни дерманта.
«Рыцарь»
Однажды к Сайду приехало много отличных военных охотников, и среди них был художник. Все военные, само собой, были наездники, а художник верхом никогда не ездил. Но ему было стыдно сказать военным, что на коня он никогда не садился.
– Поезжайте, – сказал он им. – а я вас догоню.
Все уехали, и, когда скрылись из глаз, художник подходит к своему коню, как его учили, с левой стороны, и это было правильно, – с левой; а вот ногу он поставил в стремя неправильно: ему надо было левую ногу поставить, он же сунул правую в стремя и прыгнул. И, конечно, прыгнув с правой ноги, он повернулся в воздухе и очутился на лошади лицом к хвосту. Конь был не особенно горячий, но какой же конь выдержит, если всадник, чтобы удержать равновесие, схватится за хвост! Конь во весь карьер бросился догонять охотников, и скоро военные люди с изумлением увидели необыкновенного всадника, скачущего лицом к заду и управляющего конем посредством хвоста.
– Это рассеянность, – сказал я Л юлю, – подобный случай был с рыцарем Дон Кихотом, когда конь его представил обратно в конюшню. Автору Дон Кихота следовало бы посадить рыцаря с левой ноги. Это просто рассеянность, при чем же тут магнит и дермант?
– Нет, это не рассеянность, – сказал Люль, – у него не хватило дерманта сказать военным правду, что на лошадь он никогда не садился. Никакого магнита не нужно, чтобы сказать людям правду, но дермант нужен, и это единственный путь к правде – через дермант.
Мужество
При последнем рассказе Люля о малодушном художнике мне стала наконец проясняться разница между силой магнита и силой дерманта, а тут совсем неожиданно заговорил Гарун, и русское слово для обозначения силы дерманта наконец-то явилось. Выслушав последний рассказ Люля, Гарун сказал:
– Если человек здоровый и может бороться с медведем, то это просто магнит, а если человек нездоров и все-таки может бороться…
– Больной с медведем не может бороться, – перебил его Люль.
– Я не говорю, что с медведем, – сказал Гарун. – Человек может с самим собой бороться больше, чем с медведем.
И он рассказал нам подробно, как делали ему операцию в животе. Доктор велел ему вдыхать газ.
– Зачем газ? – спросил Гарун.
– Чтобы не больно, – сказал доктор.
– Не хочу газ, хочу понимать.
– Трудно терпеть.
– Могу все терпеть.
Стали резать. Было холодно. После стало жарко. После слезы, много слез. А легче…
– Кончили? – прошептал Гарун.
– Да, мы кончаем.
– Покажи!
Показали красный кусочек кишки. Гарун поднял голову и увидел весь свой вскрытый живот: там кишки были синие.
– Зачем там синий, а тут кишка красный?
– Красный кусок – больной кусок.
После того Гарун стал слабеть и спрашивать больше ничего не мог. Он лежал, как мертвый, и все говорили вслух, как будто он ничего больше не мог понимать. Он же все слышал и понимал. Дверь отворилась, чей-то голос спросил:
– Жив?
– Еще жив, – сказал доктор.
Когда укладывали на носилки, ничего не слыхал, но, когда понесли, слышал.
В коридоре кто-то сказал:
– Кончается?
– Плох, но еще жив.
В это время Гарун сказать не мог ничего, и пошевельнуться, и дать знать рукой не мог. Если бы мог он в ту минуту сказать! Если бы мог, он сказал бы тогда докторам:
– Гарун будет жив!
И остался Гарун жив и убивает много кабанов и медведей.
– Вот она, – воскликнул Люль, – вот она, сила дермант!
И все стало совершенно понятно: магнит – это просто сила, а дермант значит мужество. Стали понятны также и слова Люля о том, что дермант (мужество) – единственный путь к правде
Гость
На Кавказе гость считается лицом самым уважаемым.
«Вот, – подумал я, – жить бы так и жить: ты ничего не делаешь, а за тобой все ухаживают».
– Неужели, – спросил я Люля, – каждого гостя везде на Кавказе принимают с почетом?..
– Каждого гостя, – ответил Люль, – на всем Кавказе принимают с большим почетом.
– И сколько времени он так может гостить?
– Три сутки, – ответил Люль, – гость может гостить.
– Разве только трое суток? – удивился я. – А как же быть с гостем, если ему после трех суток захочется еще сколько-нибудь пожить?
– После три сутки гость должен объяснить, зачем он пришел.
– И когда объяснит?..
– Когда объяснит, то, конечно, еще может жить.
– Долго ли?
– Если у хозяина есть время ухаживать, гость может жить сколько захочется.
– А если времени нет?
– Тогда извини, пожалуйста!
– Так и говорят гостю прямо: «Извините»?..
– Прямо гостю этого нельзя говорить. У всякого хозяина для гостя есть свои слова. Если я не могу за гостем больше ухаживать, то рано утром иду в конюшню, и хорошо кормлю коня моего гостя, и хорошо его чищу. После того бужу гостя и хорошо его угощаю, ставлю все: шашлык, буза, чихирь, айран. Когда гость бывает сыт, он понимает: никакого нет праздника, а я так его угостил, – значит, надо уезжать. Гость встает, благодарит меня и отправляется в конюшню.
– Хорошо, – сказал я, – если гость поймет, а если он наестся и опять ляжет спать, что тогда делать?
– Пускай спит. А когда проснется, я возьму его за руку и поведу в свой сад. Птичка прилетает в мой сад и улетает. Когда птичка прилетает, я показываю на нее гостю и говорю: «Смотри, вот птичка прилетела!» А когда птичка улетает, я говорю: «Смотри, птичка улетела!» Сучок после птички качается, гость смотрит, а я говорю: «Птичка знает время, когда ей прилететь и когда улететь, а человек этого часто не знает. Почему человек не знает?» После этого всякий гость прощается и уходит за конем в конюшню.
Детские рассказы
Лисичкин хлеб*
«Изобретатель»
В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.
Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки. Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.
С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью.
И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу – Пиковую Даму.
Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали.
Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих – в огород за червями.
– Свись-свись! – утята в пруду.
– Кряк-кряк! – отвечает им утка.
– Свись-свись! – утята в огороде.
– Квох-квох! – отвечает им курица.
Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.
«Свись-свись» – это значит: «свои к своим».
А «кряк-кряк» – значит: «вы – утки, вы – кряквы скорей плывите!»
И они, конечно, глядят туда, к пруду.
– Свои к своим!
И бегут.
– Плывите, плывите!
И плывут.
– Квох-квох! – упирается важная птица-курица на берегу.
Они всё плывут и плывут. Сосвистались, сплылись. радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.
Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!
– Дрянь-дрянь! – отвечала ей кряква.
А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами; ни один даже на такую мать и не поглядел.
Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне возле плиты.
Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны. На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка.
– Слышите? – спросил я своих ребят.
Они прислушались.
– Слышим! – закричали.
И пошли в кухню.
Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?
Стали все мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью, или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.
Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы – в кухню.
На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.
Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался.
Я сказал:
– Он что-то придумал.
– Он изобретатель! – крикнул Лева.
Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.
И вот побелело окно. Стало светать.
– Кряк-кряк! – проговорила Дуся.
– Свись-свись! – ответил единственный утенок. И все замерло. Спали ребята, спали утята. Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.
– Кряк-кряк! – повторила Дуся.
Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда – сейчас, наверно, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.
Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края – и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.
Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валятся вниз.
А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.
Лисичкин хлеб
Однажды я проходил по лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял я с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол.
– Это что за птица? – спросила Зиночка.
– Терентий, – ответил я.
И рассказал ей про тетерева, как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягодка костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.
– Кто же их там лечит? – спросила Зиночка.
– Сами лечатся, – ответил я. – Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет.
Тоже нарочно для Зиночки принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, Петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что, когда не возьму хлеба в лес, – голодно, а возьму – забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела:
– Откуда же это в лесу взялся хлеб?
– Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста…
– Заячья…
– А хлеб лисичкин. Отведай.
Осторожно попробовала и начала есть.
– Хороший лисичкин хлеб.
И съела весь мой черный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, капуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из леса лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:
– Лисичкин хлеб куда лучше нашего!
Старухин рай
Старушка одна шла по дороге. Закружилась у нее голова: нездорова была.
– Видно, делать нечего, – сказала старушка, – пришел мой час помирать.
Огляделась вокруг себя, где бы ей получше было тут прилечь и помереть.
– Не два же века жить, – сказала она себе, – надо и молодым дать дорогу.
И увидела она чистую лужайку, всю покрытую густой травой-муравой. Белая, чистая тропинка с отпечатками босых человеческих ног проходила через полянку. А посередине была старая разваленная поленница, мохом от времени закрылась, поросла высокими былинками. Понравилась эта мягкая поленница старухе.
– Не два же века жить! – повторила она.
И легла туда, в прутики, сама, ноги же вытянула на тропинку: пойдут когда-нибудь люди, ноги заметят и похоронят старуху.
Под вечер идем мы с охоты по этой самой тропинке и видим: человеческие ноги лежат, а на поленнице воробьи между собой разговаривают. Чудесно это бывает на вечерней алой зорьке, воробушки так, бывает, соберутся кучкой и, как дружные люди, между собой наговориться не могут: «Жив!» – говорят: вроде того, как бы радуется каждый, что жив и каждый об этом всем говорит.
Но вдруг все эти воробьи пырх! – и улетели. А на месте их. среди былинок, показалась старушкина голова. Живой рукой мы тут чай развели, обогрели старуху, обласкали, она ожила, повеселела и стала нам рассказывать, как она тут, в этой поленнице, собралась помирать.
– Вот, милые охотнички, – рассказала она, – закружилась у меня голова, и я думаю: не два же века мне жить, надо дать дорогу и вам, молодым. Ну, легла я в эту мягкую поленницу, в эти самые былинки. И стало мне хорошо, как в раю. Так и подумала, что все кончилось мне на земле. И тут прилетели птички; думаю, наверно, райские, вот какие хорошенькие петушки и курочки, вот какие ласковые и уветливые. Я таких птушек на земле никогда не видала. А что они между собой говорили, то мне было все там понятно – один скажет: жив! и другой отвечает: и я жив! II все так повторяют друг другу: жив, жив, жив!
Простые птушки, подумала я, тут, в раю, понимают, как хорошо жить на свете, а у нас, на земле, люди все-то жалуются, всем-то им нехорошо.
Тут один петушок, задорный такой, сел на веточку против самого моего рта, чирикнул:
– На, вот тебе!
Долго ли петушку, и капнул мне в самый рот, и поняла я, что не на небе лежу, на земле.
– Что ж, – засмеялись мы, – или ты думала: в раю птицы не капают?
– Нет, батюшки мои милые, не к тому я говорю, что птицы на небе не капают, а к тому, что не след у нас на земле рот разевать.
Лимон
В одном совхозе было. Пришел к директору знакомый китаец и принес подарок. Директор, Трофим Михайлович, услыхав о подарке, замахал рукой. Огорченный китаец поклонился и хотел уходить. А Трофиму Михайловичу стало жалко китайца, и он остановил его вопросом:
– Какой же ты хотел поднести мне подарок?
– Я хотел бы, – ответил китаец, – поднести тебе в подарок свой маленький собак, самый маленький, какой только есть в свете.
Услыхав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных: жил кудрявый пес Нелли и гончая собака Трубач, жил Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный, жил грач ручной, ежик домашний и Борис, молодой красивый баран. Жена директора Елена Васильевна очень любила животных. При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услыхав о новой собачке.
– Молчи! – сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам.
Но было уже поздно: Елена Васильевна услыхала слова о самой маленькой во всем свете собачке.
– Можно посмотреть? – спросила она, появляясь в конторе.
– Собак здесь! – ответил китаец.
– Приведи.
– Он здесь! – повторил китаец. – Не надо совсем приведи.
И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаенную за пазухой собачку, каких я в жизни своей никогда не видел и, наверное, у нас в Москве мало кто видел. Моей мягкой шляпой ее можно было бы прикрыть, прихватить и так унести. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая и, как самая тоненькая пружинка, постоянно отчего-то дрожала. Такая маленькая, а глазища большие, черные, блестящие и навыкате, как у муравья.
– Что за прелесть! – воскликнула Елена Васильевна.
– Возьми его! – сказал счастливый похвалой китаец.
И передал свой подарок хозяйке.
Елена Васильевна села на стул, взяла к себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от страха пружинку, и сейчас же маленькая верная собачка начала ей служить, да еще как служить! Трофим Михайлович протянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот хватил его за указательный палец. Но, главное, при этом поднял в доме такой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросенка за хвостик и держал. Визжал долго, взлаивал, захлебывался, дрожал, голенький, от холода и злости, как будто не он директора, а его самого укусили.
Вытирая платком кровь на пальце, недовольный Трофим Михайлович сказал, внимательно вглядываясь в нового сторожа своей жены:
– Визгу много, шерсти мало!
Услыхав визг и лай, прибежали Нелли, Трубач, Борис и кот. Мишка прыгнул на подоконник. На открытой форточке пробудился задремавший грач. Новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой. Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил его за ногу. Борис метнулся под диван. Нелли и Трубач от маленького чудовища унеслись из конторы в столовую. Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на Мишку, но тот не побежал, а, изогнув спину дугой, завел свою общеизвестную ядовитую военную песню.
– Нашла коса на камень! – сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненого указательного пальца. – Визгу много, шерсти мало! – повторил он своему обидчику и сказал коту Мишке, подтолкнув его ногой: – Ну-ка, Мишка, пыхни в него!
Мишка запел еще громче и хотел было пыхнуть, но, быстро заметив, что враг от песни его даже не моргнул, он метнулся сначала на подоконник, а потом и в форточку. А за котом и грач полетел. После этого большого дела победитель как ни в чем не бывало прыгнул обратно на колени своей хозяйки.
– А как его звать? – спросила очень довольная всем виденным Елена Васильевна.
Китаец ответил просто:
– Лимон.
Никто не стал добиваться, что значит по-китайски слово «лимон», все подумали: собачка очень маленькая, желтая, и Лимон – кличка ей самая подходящая.
Так начал этот забияка властвовать и тиранить дружных между собой и добродушных зверей.
В это время я гостил у директора и четыре раза в день приходил есть и пить чай в столовую.
Лимон возненавидел меня, и довольно мне было показаться в столовой, чтобы он летел с коленей хозяйки навстречу моему сапогу, а когда сапог легонечко его задевал, летел обратно на колени и ужасным визгом возбуждал хозяйку против меня. Во время самой еды он несколько примолкал, но опять начинал, когда я в забывчивости после обеда пытался приблизиться к хозяйке и поблагодарить.
Моя комната от хозяйских комнат отделялась тоненькой перегородкой, и от вечных завываний маленького тирана мне совсем почти невозможно было ни читать, ни писать. А однажды глубокой ночью меня разбудил такой визг у хозяев, что я подумал, не забрались ли уж к нам воры или разбойники. С оружием в руке бросился я на хозяйскую половину. Оказалось, другие жильцы тоже прибежали на выручку и стояли кто с ружьем, кто с револьвером, кто с топором, кто с вилами, а в середине их круга Лимон дрался с домашним ежом. И много такого случалось почти ежедневно. Жизнь становилась тяжелой, и мы с Трофимом Михайловичем стали крепко задумываться, как бы нам избавиться от неприятностей.
Однажды Елена Васильевна ушла куда-то и в первый раз за все время оставила почему-то Лимона дома. Тогда мгновенно мелькнул у меня в голове план спасения, и, взяв в руки шляпу, я прямо пошел в столовую. План же мой был в том, чтобы хорошенько припугнуть забияку.
– Ну, брат, – сказал я Лимону, – хозяйка ушла, теперь твоя песенка спета. Сдавайся уж лучше.
И, дав ему грызть свой тяжелый сапог, я сверху вдруг накрыл его своей мягкой шляпой, обнял полями и, перевернув, посмотрел: в глубине шляпы лежал молчаливый комок, и глаза оттуда смотрели большие и, как мне показалось, печальные.
Мне даже стало чуть-чуть жалко, и в некотором смущении я подумал: «А что, если от страха и унижения у забияки сделается разрыв сердца? Как я отвечу тогда Елене Васильевне?»
– Лимон, – стал я его ласково успокаивать, – не сердись. Лимон, на меня, будем друзьями.
И погладил его по голове. Погладил еще и еще. Он не противился, но и не веселел. Я совсем забеспокоился и осторожно пустил его на пол. Почти шатаясь, он тихо пошел в спальню. Даже обе большие собаки и баран насторожились и проводили его удивленными глазами.
За обедом, за чаем, за ужином в этот день Лимон молчал, и Елена Васильевна стала думать, не заболел ли уж он. На другой день после обеда я даже подошел к хозяйке и в первый раз имел удовольствие поблагодарить ее за руку. Лимон как будто набрал в рот воды.
– Что-то вы с ним сделали в мое отсутствие? – спросила Елена Васильевна.
– Ничего, – ответил я спокойно. – Наверно, он начал привыкать – и ведь пора!
Я не решился ей сказать, что Лимон побывал у меня в шляпе. Но с Трофимом Михайловичем мы радостно перешепнулись, и, казалось, он ничуть не удивился, что Лимон потерял свою силу от шляпы.
– Все забияки такие, – сказал он, – и наговорит-то тебе, и навизжит, и пыль пустит в глаза, но стоит посадить его в шляпу – и весь дух вон. Визгу много, шерсти мало!
Как я научил своих собак горох есть
Лада, старый пойнтер десяти лет, – белая с желтыми пятнами. Травка – рыжая, лохматая, ирландский сеттер, и ей всего только десять месяцев. Лада – спокойная и умная. Травка – бешеная и не сразу меня понимает. Если я, выйдя из дому, крикну: «Травка!» – она на одно мгновенье обалдеет. И в это время Лада успевает повернуть к ней голову и только не скажет словами: «Глупенькая, разве ты не слышишь, хозяин зовет».
Сегодня я вышел из дому и крикнул:
– Лада, Травка, горох поспел, идемте скорей горох есть!
Лада уже лет восемь знает это и теперь даже любит горох: горох ли, малина, клубника, черника, даже редиска, даже репа и огурец, только не лук. Я, бывало, ем, а она, умница, вдумывается, глядишь, и себе начинает рвать стручок за стручком. Полный рот, бывало, наберет гороху и жует, а горох с обеих сторон изо рта сыплется, как из веялки. Потом выплюнет шелуху, а самый горох с земли языком соберет весь до зернышка.
Вот и теперь я беру толстый зеленый стручок и предлагаю его Травке. Ладе, старухе, уж конечно, это не очень нравится, что я предпочитаю ей молодую Травку. Лохмушка берет в рот стручок и выплевывает. Второй даю – и второй выплевывает. Третий стручок даю Ладе. Берет. После Лады опять Травке даю. Берет. И так пошло скоро: один стручок Ладе, другой – Травке. Дал по десять стручков.
– Жуйте, работайте!
И пошли жернова молоть горох, как на мельнице Так и хлещет горох в разные стороны у той и другой. Наконец Лада выплюнула шелуху, и вслед за ней Травка тоже выплюнула. Лада стала языком зерна собирать. Травка попробовала и вдруг поняла: и стала есть горох с таким же удовольствием, как и Лада. Она стала есть потом и малину, и клубнику, и огурцы. И всему этому я научил Травку из-за большой любви ко мне Лады: Лада ревнует ко мне Травку и ест, Травка Ладу ревнует и ест. Мне кажется, если я устрою между ними соревнование, то они. пожалуй, скоро у меня и лук будут есть.
Синий лапоть
Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса, и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост – грачевник – собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.
Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:
– Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.
Родионыч – в отличие от всех охотников – зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.
Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.
Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.
– Давай, – сказали мы Родионычу.
– Вылезай, синий лапоть! – крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.
Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу, и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.
– Тут он, – сказал Родионыч уверенно. – Становитесь на места, ребятишки, он тут. Готовы?
– Давай! – крикнули мы.
– Вылезай, синий лапоть! – крикнул Родионыч и трижды пырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.
И вот – нет, заяц не выскочил.
Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало; он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить по снегу, и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.
И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе.
Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает наверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.
– Гляди, – шепчет он, – синий-то лапоть какую с нами штуку играет.
Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки – глаза беляка – и еще две маленькие точки – черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова…
Стоило мне поднять ружье – и кончилась бы в одно мгновение жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами!..
Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.
Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два. да объявится на фоне неба, – что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!
А что стало с охотниками! Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновение все схватились за ружья – убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватил, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.
– Вот синий лапоть! – восхищенно сказал ему вслед Родионыч.
Охотники еще раз успели хватить по кустам.
– Убит! – закричал один, молодой, горячий.
Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних кустах мелькнул хвостик: этот хвостик охотники почему-то всегда называют «цветком».
Синий лапоть охотникам из далеких кустов только своим «цветком» помахал.
Копыто
Ровно двенадцать лет тому назад, в 1926 году, я приехал в Сергиев (ныне Загорск) и несколько дней потерял там в напрасных поисках квартиры: никто не хотел пускать меня с пятью охотничьими собаками. Мне пришлось купить кое-какой домик с пустырем и тут устраиваться на долгое житье. Тарасовна, соседка моя справа, держала коз. Сосед слева был драч. К нему приводили старых и увечных лошадей, он их колол, сам пользовался мясом, шкуры отдавал хозяевам, а кости растаскивали чужие собаки. (Теперь это давно покончено, сосед служит сторожем на бойне.) Заборов между нашими участками никаких не было. Множество обглоданных собаками и обветренных костей белелось на моем участке. Козы Тарасовны паслись и у меня и у соседа-драча, где часто их обижали шальные собаки. Из-за этих коз и собак отношения соседей были невозможные. Немедленно я обставил весь свой участок хорошим забором на дубовых столбах, кости выбросил, пустырь распахал и отделил коз от собак. В то время у меня были такие охотничьи собаки: Ярик – ирландский сеттер; Кента – немецкая легавая, континенталь; дети Кенты – годовые щенки Нерль, Дубец и гончий Соловей. Все эти собаки, свободно разгуливая на обгороженном участке, время от времени выкапывали лошадиные кости, возились с ними, ворчали друг на друга. Заметив кость у собак, я немедленно отнимал ее и швырял через забор обратно к соседу. Мало-помалу таким образом были уничтожены все следы прошлого беспорядка, после чего мы купили петуха, и все пошло хорошо: петух закричал, и дом наш начал жить.
В летнее время, между весенней и осенней охотой я писал свои рассказы под единственной липой на огороде, возле забора, на простом столике с врытыми в землю ножками. Над столиком у меня висела трапеция; пописав, я кувыркался, подтягивался, поливал огурцы, тут же пил чай, опять писал, и так жизнь проходила, как мне желалось. Одно было неважно, что собаки мне очень мешали писать. Это понятно, что я был для них притягательным центром: они возле меня то играли, то ссорились и пыль поднимали ужасную. Надо бы их разогнать, но как-то все не мог собраться круто расправиться с друзьями, тем более что глядеть на игры их мне иногда бывало интересней, чем даже писать. Пылища при играх душила меня, при ссорах обиженные жались к моим коленкам. Я должен судить, наказывать виновных. Так по слабости запускал отношения с собаками, а потом злился, и это больше всего мешало моим занятиям.
Случилось однажды: Кента недалеко от липы выкопала из-под земли лошадиное копыто, давно обглоданное, без всяких признаков какой-нибудь съедобности, голое копыто из рогового вещества, с железной заржавевшей подковой, с «конскими», пробитыми через «венец» и снаружи загнутыми гвоздями. Увидев такую дрянь, я хотел было швырнуть ее соседу через забор, но меня остановило страшное выражение глаз умной Кенты. Она глядела на старое, выветренное копыто с тем суеверным страхом, с каким глядят дети и необразованные люди на непонятные вещи. Поведение Кенты обратило внимание всех собак, и все они медленно и с опаской стали к ней подходить. Увидев близко от себя собак, Кента оскалила зубы, порычала, собаки замерли на месте. Немного поколебалась Кента и, разинув пасть так сильно, что даже мне стало страшно, захватила копыто и с ним залезла ко мне под столик, легла в львиной позе, а копыто положила между передними лапами. Собаки медленно, как загипнотизированные, двинулись к столику, дошли до какой-то невидимой черты, распределились по ней полукругом и, созерцая копыто, легли в тех же позах, как и обладательница отрытого сокровища. При малейшем движении кого-нибудь вперед за установленную черту Кента злобно рычала, и нарушитель границы, поджав хвост, возвращался назад.
Вскоре я убедился, что организация спокойствия вокруг моего письменного стола – не случайное и не временное дело. Будь копыто хоть сколько-нибудь съедобным, напряженность собак была бы слишком велика и при первой оплошности Кенты началась бы грызня, да, наконец, сама Кента стала бы грызть копыто, и в конце концов оно было бы, как обыкновенная обглоданная и обветренная кость. Возможно, что для собачьего носа от вещества копыта, недоступного даже для собачьих зубов, исходил какой-то животный соблазнительный дух, и только благодаря такой «духовности» власть Кенты над другими собаками осуществлялась в полной тишине, спокойствии и неограниченной длительности.
У моих собак нет ни малейшего сомнения в существовании бога: бог – это я. И все сущее на земле, в том числе и копыто, произошло от меня. Бог дал, и бог взял. Так вот, окончив работу, я беру копыто и уношу с собой. На другой день вместе с бумагами и книгами я захватываю с собой из дому хранимое в особом плетеном ящичке копыто. Никого я из собак не обижаю и передаю власть им всем по очереди. Выбрав очередного верховного властителя, я укладываю его под столом возле моих ног, и все другие собаки, хорошо усвоив порядок, укладываются возле столика, полукругом, принимая те самые львиные позы, благодаря которым можно мгновенно вскочить и выхватить копыто у зазевавшейся Кенты. Так, уложив собак, я открываю сейф, вынимаю сокровище, очередной счастливец начинает властвовать, а я в тишине занимаюсь своими рассказами о повадках животных.
Прошло двенадцать лет. Все собаки мои описаны: Ярик, Кента, Нерль, Дубец, Соловей. Множество книжек о них для взрослых, для детей разошлось по нашей стране, и некоторые начинают перебираться за границу. Мало того: встречаются охотники, называющие этими моими именами своих собственных собак. И сколько дружеских писем, сколько друзей! Все это, конечно, очень хорошо, и одно только плохо: всех описанных собак нет уже на свете; они создали мне дружбу с людьми и ушли навсегда. Кента умерла от сердечной болезни, и вскоре за ней внезапно от той же наследственной болезни погибли Нерль и Дубец. Соловей умер, как умирают только самые лучшие гонцы-мастера: на всем ходу за лисицей старика хватил паралич. Рассказывать о конце Ярика мне пока тяжело. Так вот кончились мои собаки, и от знаменитого сейфа осталась только плетеная коробочка вятской работы. Копыто же не только пропало, но я о нем даже забыл. По всей вероятности, кто-нибудь из моих домашних, перебирая мой хлам, выбросил эту дрянь на помойку.
На днях сижу я под своей липой, за тем же самым столиком. Четырехмесячный щенок, пойнтер, блестящей черной масти, Осман, возится со своей матерью Ладой и сибирской лайкой Бией, принимает участие в этой непрерывной возне иногда даже молодой гончий, чрезвычайно поратый англо-русский Трубач. Пыль висит в воздухе, нечем дышать. Вдруг игра обрывается, и Лада начинает копать, быстро работая передними лапами. Сын ее Осман ей смешно подражает. Остальные собаки стоят в недоумении. И вот с тем же странным выражением, как было у Кенты, Лада глядит вниз и грозным оскалом зубов и рычанием отгоняет собак. Осман одни только не слушается, но за это здорово ему попадает; обиженный бросается к моим ногам и визжит.
Так вновь было откопано и появилось на свет знаменитое копыто с железной подковой. И опять, конечно, я заключаю его в сейф и каждый день назначаю очередных собак верховными властителями. В тишине организованного мирка я пишу о своих новых собаках, но, признаюсь, чего-то мне не хватает. Да, никогда не вернуть теперь мне любимую Кенту, и только теперь мне стала вполне понятна примета старых охотников, что настоящая собака у охотника бывает только одна. Вот кто-то постучал в калитку. Разве в свое время Кента, услыхав стук, могла броситься к воротам и оставить на произвол судьбы таинственное сокровище?! Она бы только рычала в ответ на стук у ворот. А Лада опрометью летит к воротам и увлекает всех собак за собой. Мне удалось задержать только маленького Османа, показать ему рукой на копыто, вообще дать понять, что пока нет никого, он легко может захватить власть. Мне было очень забавно представить себе, как этот маленький Осман с помощью копыта будет управлять большими собаками. Осман понял меня и начал тихонечко подходить. Однако, вспомнив недавнюю трепку за это копыто, он остановился и пытался, не переступая ногами, как-нибудь безопасно дотянуться хоть носом: понюхать и, если не страшно, остаться, а если окажется плохо, бежать.
– Вперед! – приказываю.
Посунулся.
– Смелее!
Задрожал. Вытянулся, насколько возможно, и, по-видимому, достиг носом недоступной нам атмосферы копыта.
Однако, втянув в себя воздух собственности, он вдруг весь опал, поджал под себя свой прутик, бросился назад и спрятался в высоком картофельнике.
Собаки вернулись. Лада хватилась. Но я кончил работу и спрятал сокровище в сейф. Вот когда только опомнился от страха Осман, высунул голову из зелени и забрехал.
Стремительный русак
(
Мы пошли было на беляков, но в одной деревне нам сказали, что этой ночью у них волки разорвали собаку. Мы побоялись своих гончих пускать на лесных зайцев и занялись русаками. Скоро мы увидели, как один русак, желая забраться под кручу, переходил ручей и провалился. Но Соловей не побоялся, сам пошел по следу, сам провалился, выбрался, разобрался в следах и вытурил зайца. Мы его ранили, но скорости этим на первых порах зайцу не убавили: он помчался, скрылся на горизонте за холмами. Соловей и Пальма перевалили туда и скоро вышли из слуха.
Известно, как полевой заяц-русак бежит, – всю-то округу ославит, все-то в деревнях его перевидят, всякий, у кого есть ружье, снимает его с гвоздика.
– Заяц, заяц! – орут мальчишки без памяти.
И бегут за ним по деревне – кто с поленом, кто с камнем, кто с топором.
Редко заяц достается тому, кто его поднял.
Наш раненый русак несся из последних сил полями, оврагами, перелесками, деревнями: в иной деревне прямо по улице мчится – и за ним собаки. Опытные наши собаки не скалывались и на дорогах, зайцу наступал конец, и он с отчаянья ударился в Дубовицах в Пахомов овин. Как раз в это время Пахом сидел возле огня и подкладывал дрова. Вдруг какая-то сила врывается, какой-то забеглый черт с длинными ушами влетел и – бах! – прямо в огонь, и так, что самого Пахома засыпало искрами и головешками.
Не помня себя, выбежал из овина Пахом и видит и слышит, как навстречу ему рубом рубят собаки. Тут только он понял, какой это черт влетел к нему, и, конечно, стал крыть нас, охотников, из души в душу. Но пороша была очень глубокая, он понял, что мы далеко и не скоро придем. Зайца нашего он отбил у собак, отнес в избу и велел старухе спешить. Пока мы добрались, пока разобрались в следах возле овина и наконец все поняли, заяц у старухи в чугунке, поставленном на горячие угли, поспел. Поблагодарили мы хозяев за угощение, они нас. Тем и кончилась наша охота.
Сметливый беляк
Приехали мы в деревню на охоту по белым зайцам. С вечера ветер начался. Агафон Тимофеич-успокоил: «Снега не будет». После того начался снег. «Маленький, – сказал Агафон, – перестанет». Снег пошел большой, загудела метель. «Вам не помешает, – успокоил хозяин, – в полночь перестанет, выйдут зайцы; вам же легче будет найти их по коротким следам. Все, что ни делается, все к лучшему». Утром просыпаемся – снег валом валит. Мы хозяина к ответу, а он нам рассказывает про одного попа в далекое, старое время.
Рассказывает Агафон, что будто бы тогда у одного барина пала любимая лошадь. Пришел поп и говорит: «Не горюй, все к лучшему». А на другой день у барина еще одна лошадь пала. Опять тот же поп говорит: «Не горюй, что ни делается на свете, все к лучшему». Так терпел, терпел барин и, когда наконец десятая лошадь пала, велит позвать попа: хочет отколотить, а может быть, и вовсе решить. А было это в самое половодье, по пути к барину попади поп в яму с водой. Пришлось вернуться назад, отогреться на печке. Утром же, когда поп явился, гнев у барина прошел, и поп рассказывает, как он вчера шел к нему и в яму попал. «Ну, счастлив же твой бог, – сказал барин, – что ты вчера в яму попал». – «Счастлив, – ответил поп, – ведь я же вам и говорил постоянно, что на делается на свете, все к лучшему».
– К чему ты нам рассказываешь все это? – спросили мы Агафона.
– Да что вы на метель жалуетесь: идите на охоту и увидите, что все к лучшему.
Метель вскоре перестала. Но ветер продолжался. Мы все-таки вышли промяться. И, переходя поле, говорили между собой, что вот если случится нам поднять беляка и был бы он вправду умный, то стоило бы ему только одно поле перебежать, и след за ним в один миг заметет и собака сразу же потеряет. Но где ему догадаться: будет вертеться в лесу, пока не убьем. Вскоре мы вошли в лес. Трубач случайно наткнулся на беляка и погнал. Весело нам стало: нигде ни одного следа, и по свежему, нетронутому снегу бежит наш беляк, как по книге. «Что ни делается, все к лучшему!» – весело сказали мы друг другу и разбежались по кругу. И только стали на места, гон прекратился. Пошли посмотреть, что такое. И оказалось, беляк-то был действительно умный и как будто услыхал наш разговор: из лесу он выбежал в поле, и следы его перемело, да так, что и мы сами кругом поле обошли и нигде следа не нашли. Пришли домой с пустыми руками и говорим Агафону:
– Ну, как это ты понимаешь?
– Так и понимаю, что тоже все к лучшему, – сказал Агафон, – зайчик спасся, а вот увидите, сколько от него разведется к будущему году. Что ни делается на свете, все к лучшему.
Злая лисица
Барсучьи норы у нас расположены в еловом лесу, на высоком яру: тут все норы барсучьи, как город, а внизу речка бежит. На этом месте покойный егерь Алексей Михайлович, помню, рассказывал один свой случай с лисицей.
– Ночевать эта лисица, – рассказывал он, – постоянно ходила в одно место, тут недалеко. Редко лыжняком лисица ходит: оттого я пересек все следы лыжей, еще подправил керосинчиком, а один след не тронул и на ходу поставил капкан. Случилось, лисица и попала в этот капкан и затащила его в барсучью нору над речкой. Вырубил я крюк аршина в три, зацепил капкан, стал тянуть, да как-то оступился и аршина всего на два отъехал вниз. Сгоряча, когда меня вниз кинуло, не успел я крюк выпустить, выволок лисицу, и она с капканом на меня поехала, и, гляжу, мы с ней рыло в рыло. Лисица в капкане очень зла, глаза гуляют. Как она меня тут не изуродовала, не знаю. Бросил я тогда вниз и ружье, и крюк, перекинулся назад и покатился по яру вниз головой. Она же с капканом поехала вслед за мной. Летели мы, летели – и бух в воду, и опять в воде мы с ней рыло в рыло. Удивляюсь, прямо удивляюсь, как это она меня не изуродовала: видно, умная какая-то лисица была.
Лада
Три года тому назад был я в Завидове, хозяйстве Военно-охотничьего общества. Егерь Николай Камолов предложил мне посмотреть у своего племянника в лесной сторожке его годовую сучку, пойнтера Ладу.
Как раз в то время собачку себе я приискивал. Пошли мы наутро к племяннику. Осмотрел я Ладу: чуть-чуть она была мелковата, чуть-чуть нос для сучки был короток, а прут толстоват. Рубашка у нее вышла в мать, желто-пегого пойнтера, а чутье и глаза – в отца, черного пойнтера. И так это было занятно смотреть: вся собака в общем светлая, даже просто белая с бледно-желтыми пятнами, а три точки на голове, глаза и чутье, как угольки. Головка, в общем, была очаровательная, веселая. Я взял хорошенькую собачку себе на колени, дунул ей в нос – она сморщилась, вроде как бы улыбнулась, я еще раз дунул, она сделала попытку меня за нос схватить.
– Осторожней! – предупредил меня старый егерь Камолов.
И рассказал мне, что у его свата случай был: тоже вот так дунул на собаку, а она его за нос, и так человек на всю жизнь остался без носа. И какой уж это есть человек, если ходит без носа!
Хозяин Лады очень обрадовался, что собака нам понравилась: он не понимал охоты и рад был продать ненужную собаку.
– Какие умные глаза! – обратил мое внимание Камолов.
– Умница! – подтвердил племянник. – Ты, дядя Николай, главное, хлещи ее хвощи, как ни можно сильней, она все поймет.
Мы посмеялись с егерем этому совету, взяли Ладу и отправились в лес пробовать ее поиск, чутье. Конечно, мы действовали исключительно лаской, давали по кусочку сала за хорошую работу, за плохую, самое большее, пальцем грозили. В один день умная собачка поняла всю нашу премудрость, а чутье, наверно, ей досталось от деда Камбииза: чутье небывалое!
Весело было возвращаться на хутор: не так-то легко ведь найти собаку такую прекрасную.
– Не Ладой бы ее звать, а Находкой, настоящая находка! – повторял Камолов.
Итак, мы оба очень радостные приходим в сторожку.
– А где же Лада? – спросил нас удивленно хозяин.
Глянули мы – и видим: действительно, с нами нет Лады. Все время шла с нами, а как вот к дому подошла, как провалилась сквозь землю. Звали, манили, ласково и грозно: нет и нет. Так вот и ушли с одним горем. А хозяину тоже несладко. Так нехорошо, нехорошо вышло. Хотели хоть что-нибудь хозяину дать, – нет, не берет.
– Только собрались Находкой назвать, – сказал Камолов.
– Не иначе как леший увел! – посмеялся на прощанье племянник.
И только мы без хозяина прошли шагов двести по лесу, вдруг из кустика выходит Лада. Какая радость! Мы, конечно, назад, к хозяину. И только повернули, вдруг опять Лады нет, опять – как сквозь землю. Но в этот раз мы больше ее не искали, мы, конечно, поняли: хозяин колотил ее, а мы ласкали и охотились, вот она и пряталась, вот и все… И как только мы повернули домой, Лада, конечно, из куста явилась. По пути домой мы много смеялись, вспоминая слова хозяина: «Хлещи, дядя Николай, хвощи, как ни можно сильней, она все поймет!»
И поняла!
Лада теперь у меня уже четвертое поле работает отлично и по лесу и по болоту. Но самая любимая у нее дичь – это жирные длинноносые дупеля. В этой охоте все дело в чутье и в широте поиска. Охотников на дупелей великое множество, и надо успеть в короткое время обыскать места как можно больше. У меня есть жест такой: махну рукой по всему горизонту, и Лада летит, расширяя круги все дальше и дальше. И когда сделает стойку очень далеко и разглядит, что я не тороплюсь, возьмет и ляжет. Люблю я это гостю показать. Увидит он, что Лада легла по дупелю, затрясется весь от радости и бежать, а я его за рукав удерживаю, посмеиваюсь:
– Успокойся, успокойся, с этой собакой можешь не торопиться.
И даю закурить. И по дороге что-нибудь нарочно рассказываю забавное.
Вот убьет гость дупеля, положит в сетку жирного, доволен-предоволен, весь так и сияет.
– Ну и собака! – скажет. – А на какое самое большое расстояние от охотника она так может лечь и ждать?
– А хоть на полверсты, – говорю, – хоть на версту ляжет и ждет. Бывает, жарко, иду, не тороплюсь, а она заждется, скучно станет, возьмет и свернется калачиком. Прихожу, а из болота от ее тяжести вода выступит, и она в воде хоть бы что! Подивлюсь я, посмеюсь и говорю ей: «А вот ведь пословица говорится: „Под лежачий камень и вода не побежит…“»
Гость расхохочется.
– Собака замечательная, – говорит, – вижу своими глазами и всему поверю: и что за полверсты ляжет, и даже что за версту. А вот что калачиком перед птицей свернется, этому, хоть убей меня, не поверю!
Ну, конечно, мне тоже не хочется сознаваться, что на радости немного увлекся, и в оправдание себе привожу гостю всем известный охотничий рассказ: все его знают, и все охотно еще раз выслушивают. Наверно, и вы это слышали, как один охотник пришел на болото, и собака его сделала стойку по дупелю. В тот самый момент, когда охотник направился к собаке, ему подают телеграмму, и он, не помня себя, бежит к лошади. Долго спустя вспомнил, что оставил на болоте собаку на стойке по дупелю. И махнул рукой на собаку. Через год является на то же место с другой собакой, и вот видит: на том же месте, где прошлый год собака стояла, теперь в той же позе скелет ее стоит, и дупель тоже умер на месте и тоже превратился в скелет.
– Вот как, – говорю я гостю, – по-настоящему врут, а что Лада от скуки свернулась калачиком…
– Лучше я скелету поверю, – говорит гость, – чем чтобы в ожидании охотника перед самой птицей в воде собака свернулась калачиком.
Гуси с лиловыми шеями
Однажды колхозный мальчик Миша прочитал книгу о разных животных; особенно понравился ему рассказ об утятах, и ему самому захотелось написать рассказ о гусях. Недалеко был один колхоз, где на речке всегда бывает много гусей.
– Попробую! – сказал он.
И отправился по лесной зеленой дорожке к гусям.
Скоро нагнал его колхозник Осип.
– Хочу рассказ написать о гусях, – сказал ему Миша, – подвези меня к речке.
– Садись, – ответил Осип, – только не зевай, не забывай рук на грядке: в лесу едем, о дерево можно руку повредить.
И, подумав немного, сказал:
– О гусях написать можно много. Вот я тебе расскажу, случай был на реке. Пропало у Якова четыре гуся, а были у него гуси меченые, с лиловыми шеями. Яков был нечист на руку: он отбил четырех гусей на реке и загнал к себе на двор. Дома он разломал лиловый чернильный карандаш, сделал краску и намазал шеи гусям. Тогда четыре чужих гуся стали тоже с лиловыми шеями. Три дня Яков за ними ухаживал, кормил, поил и купал в корыте. Гуси делали вид, что привыкли, а когда Яков их выпустил, они пошли к тетке Анне. Раз и два – все так, гуси идут к тетке Анне. В третий раз люди заметили и не дали Якову загонять гусей к себе обратно.
– Если гуси идут на двор к тетке Анне, – сказали колхозники, – значит, это гуси ее.
– Добрые люди, – сказал им Яков, – у тетки Анны все гуси белые, немеченые, а мои гуси с лиловыми шеями.
– Разве вот что с лиловыми шеями, – задумались добрые люди. И отпустили Якова.
– Всё? – спросил Миша.
– Чего тебе еще? – ответил Осип. – Так это было – рассказ об умном воре и о недогадливых людях: на то щука в море, чтобы карась не дремал.
– Никуда не годный рассказ! – сказал Миша.
И так возмутился, так взволновался неправдой, что забыл наказ Осина не класть руку на грядку телеги. Мишин безымянный палец на левой руке попал между грядкой и деревом.
– Скажи, еще хорошо, что не всю руку размяло, – сказал Осип.
Он вымыл раздавленный палец в ручье, перевязал тряпочкой и велел Мише бежать скорей обратно в колхоз.
Бедная Мишина мать! Как она испугалась, когда увидала Мишу в крови! Но хорошо, что в аптечке колхозной нашлась свинцовая примочка. Она сделала Мише компресс, перевязала палец чистым бинтом и велела ложиться в постель.
– Нет, – ответил Миша, – я буду сейчас писать рассказ о гусях.
И передал матери все, что слышал от Осипа.
– Так это было, – сказал Миша, – но разве можно писать о такой гадости? Я хочу написать, как надо.
– Правда, – ответила мать, – глупого и так у нас довольно, не надо об этом писать. Напиши, если можешь, как надо, я же прилягу сейчас, и ты потом меня разбуди: я сделаю на ночь тебе перевязку.
Миша писал рассказ, не обращая никакого внимания на боль. И когда кончил, то мать не стал будить. Довольный, улыбаясь, он сам перевязал себе очень хорошо палец и крепко уснул.
– Написал? – спросила его утром мать.
– Написал, – ответил Миша, – я написал как надо, а не как рассказывал Осип. Помнишь то место, когда добрые люди хотели остановить вора? «Раз гуси идут к Анне, – значит, это ее гуси», – сказали добрые люди. «Добрые люди, – ответил им Яков, – у тетки Анны все гуси белые, немеченые, а мои гуси с лиловыми шеями». – «Разве вот что с лиловыми шеями». – сказали добрые люди. И только хотели было отпустить Якова, вдруг вдали, на реке, показываются какие-то четыре гуся с темными шеями, ближе, ближе плывут, и наконец все видят: гуси эти неведомые тоже с лиловыми шеями. И они так важно по-гусиному выходят на берег, стряхивают с себя воду, оправляются и, вытянув вперед лиловые шеи, направляются ко двору Якова.
Яков остолбенел и опустил хворостину, и гуси Анны, тоже важно, по-гусиному вытянув вперед лиловые шеи, пошли на двор к своей любимой хозяйке. И все стало ясно. «Вор! Вор! Вор!» – закричали колхозники. И выгнали вора из колхоза, и с тех пор нет в колхозе воров.
– Вот как надо! – с гордостью сказал Миша. – А Осип хочет, чтобы у нас в колхозе было, как в море: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал».
Но мать не слышала конца рассказа Миши и не могла радоваться. Испуганно, изумленно глядела она на его руку. Совершенно черный, страшный ноготь с сочащейся из-под него кровью был на его безымянном пальце, а указательный хорошо, туго был перевязан бинтом.
С таким волнением Миша писал свой рассказ, что боль свою забыл и сгоряча даже палец перевязал не тот. Ничего не помня от радости, он вместо больного, безымянного пальца перевязал указательный.
Так написал Миша свой первый рассказ.
Звери-кормилицы
Соболь – небольшой, меньше кошки, зверек. Водится он только у нас, в СССР, в сибирской тайге. В старину шкурки соболя были деньгами, и на них, как на золото, можно было покупать всякие товары. Да и теперь соболий мех – один из самых драгоценных в мире, и оттого охотники преследовали и уничтожали зверька, не заботясь о будущем. Даже на далекой Камчатке соболь начал исчезать и скоро, наверно, исчез бы навсегда с лица земли, как исчезло немало зверей, которых теперь мы знаем только по скелетам и чучелам в музеях.
К счастью, наука в советское время успела взять в свои руки соболиное дело. Соболей стали разводить в неволе. Теперь уже и под Москвой, на Пушкинской зооферме, соболи растут и размножаются сотнями.
И в Соловках, и в Пушкине, и на Урале я наблюдал с интересом жизнь соболей, и самое первое, на что я обратил свое внимание, была их внутренняя, страстно-хищная кровожадность и внешняя пушистость, гибкость и грация. Этот зверек вполне отвечает пословице: «Мягко стелет – жестко спать».
Однажды, наблюдая кормление соболей в Соловецком питомнике, я сказал заведующему питомником, ученому-звероводу:
– Если бы соболи хотя бы наполовину были так велики и сильны, как тигры, то благодаря своей ловкости, гибкости и хищности они бы всех тигров поели, как кроликов.
На эти слова зверовод ответил:
– Да, соболь – хищник примерный, но у нас был необыкновенный случай в питомнике, он доказывает, что даже у таких хищников бывает в жизни так, что они могут быть очень добрыми и нежными к зверям другой породы.
И он рассказал действительно необыкновенный случай.
Было это у них в Соловецком питомнике, кажется, в 1929 году. Там жила в то время старая, но очень красивая соболюшка Муся. У нее должны были родиться соболята, и все служащие в питомнике волновались.
И как было не волноваться!
У соболей часто бывает, что старая самка родит и тут же сама кончается, истратив на эти последние роды все силы.
Опасность гибели дорогой старушки или ее потомства увеличивалась еще тем, что наблюдать и помогать, когда надо, при рождении соболей невозможно: соболи посторонних не выносят.
И вот придумали установить в клетке микрофон и отвести все звуки из клетки в кабинет ученого-зверовода точно так же, как отводят звуки со сцены в квартиры.
Перед письменным столом был установлен громкоговоритель, и когда наступил день родов, зверовод сел за стол и стал дежурить.
В одиннадцать ночи из клетки Муси послышался первый стон, и в ту же минуту из другой комнаты, взволнованные, настороженные, с навостренными ушами, явились кормилицы: собаки и кошки. У таких собак и кошек в зверопитомнике отнимают детей, отчего у них собирается много молока, и животному очень хочется освободиться от него: хоть бы кого-нибудь покормить. В питомнике собаки-кормилицы кормят лисят, кошки – соболей. Собаки и кошки – кормилицы – бесшумно прокрались в комнату зверовода и, навострив уши, сели против громкоговорителя. Всю ночь, до восьми утра, все кормилицы, не стронувшись с места, слушали, как Муся долго облизывала новорожденных и как они пищали.
Зверовод все время записывал в журнал, отмечая каждый звук по часам.
Все кончилось благополучно для матери, но молодые, четыре соболенка, все погибли. Первое время после родов Муся была очень слаба, за жизнь ее сильно боялись и кормили только живыми новорожденными кроликами.
Когда прошло значительное время, Муся поправилась, стала есть даже рубленую конину с рисом и день ото дня становилась все веселей. Вот тут наблюдатели заметили, что молоко у соболюшки почему-то не исчезает. Об этом странном явлении сказали звероводу, и тот без всякого колебания решил, что раз молоко столько времени у матери не пропадает, значит, она кормит кого-то, значит, четырех мертвых соболят выбросили в свое время, а пятого проглядели, и он затаился где-нибудь в подстилке. Подняли крышку клетки и с изумлением увидели, что Муся не соболенка кормила, а кролика, и он теперь был уже довольно большой. Как, почему из множества съеденных Мусей живых кроликов она избрала себе одного, – было непонятно. Скорее всего маленькому счастливцу, пока хищница ела другого, удалось попить соболиного молока. Таким образом, хищница-соболюшка выкормила и воспитала кролика-грызуна.
Многих ученых-натуралистов я потом спрашивал: как могло это случиться, как это возможно? Все они пожимали плечами и отвечали: – Да, соболь – хищник самый ужасный, и случай в Соловецком питомнике необыкновенный: он показывает, что даже и у таких страшных хищников бывает, что они могут быть очень добрыми и нежными к зверушкам, им вовсе чужим.
Пиковая Дама
Курица непобедима, когда она, пренебрегая опасностью, бросается защищать своего птенца. Моему Трубачу стоило только слегка нажать челюстями, чтобы уничтожить ее, но громадный гонец, умеющий постоять за себя в борьбе и с волками, поджав хвост, бежит в свою конуру от обыкновенной курицы.
Мы зовем нашу черную наседку за необычайную ее родительскую злобу при защите детей, за ее клюв – пику на голове – Пиковой Дамой. Каждую весну мы сажаем ее на яйца диких уток (охотничьих), и она высиживает и выхаживает нам утят вместо цыплят. В нынешнем году, случилось, мы недосмотрели: выведенные утята преждевременно попали на холодную росу, подмочили пупки и погибли, кроме единственного. Все наши заметили, что в нынешнем году Пиковая Дама была во сто раз злей, чем всегда.
Как это понять?
Не думаю, что курица способна обидеться на то, что получились утята вместо цыплят. И раз уж села курица на яйца, недоглядев, то ей приходится сидеть, и надо высидеть, и надо потом выхаживать птенцов, надо защищать от врагов, и надо все довести до конца. Так она и водит их, и не позволяет себе их даже разглядывать с сомнением: «Да цыплята ли это?»
Нет, я думаю, этой весной Пиковая Дама была раздражена не обманом, а гибелью утят, и особенное беспокойство ее за жизнь единственного утенка понятно: везде родители беспокоятся о ребенке больше, когда он единственный…
Но бедный, бедный мой Грашка!
Это – грач; с отломанным крылом он пришел ко мне на огород и стал привыкать к этой ужасной для птицы бескрылой жизни на земле и уже стал подбегать на мой зов «Грашка», как вдруг однажды в мое отсутствие Пиковая Дама заподозрила его в покушении на своего утенка и прогнала за пределы моего огорода, и он больше ко мне после того не пришел.
Что грач! Добродушная, уже пожилая теперь, моя легавая Лада часами выглядывает из дверей, выбирает местечко, где ей можно было бы безопасно от курицы до ветру сходить. А Трубач, умеющий бороться с волками! Никогда он не выйдет из конуры, не проверив острым глазом своим, свободен ли путь, нет ли вблизи где-нибудь страшной черной курицы.
Но что тут говорить о собаках – хорош и я сам! На днях вывел из дому погулять своего шестимесячного щенка Травку и, только завернул за овин, гляжу: передо мною утенок стоит. Курицы возле не было, но я себе ее вообразил и в ужасе, что она выклюнет прекраснейший глаз у Травки, бросился бежать, и как потом радовался – подумать только! – я радовался, что спасся от курицы!
Было вот тоже в прошлом году замечательное происшествие с этой сердитой курицей. В то время, когда у нас прохладными, светлосумеречными ночами стали сено косить на лугах, я вздумал немного промять своего Трубача и дать погонять ему лисичку или зайца в лесу. В густом ельнике, на перекрестке двух зеленых дорожек, я дал волю Трубачу, и он сразу же ткнулся в куст, вытурил молодого русака и с ужасным ревом погнал его по зеленой дорожке. В это время зайцев нельзя убивать, я был без ружья и готовился на несколько часов отдаться наслажденью любезнейшей для охотника музыкой. Но вдруг где-то около деревни собака скололась, гон прекратился, и очень скоро возвратился Трубач, очень смущенный, с опущенным хвостом, и на светлых пятнах его была кровь (масти он желто-пегой в румянах).
Всякий знает, что волк не будет трогать собаки, когда можно всюду в поле подхватить овцу. А если не волк, то почему же Трубач в крови и в таком необычайном смущении?
Смешная мысль мне пришла в голову. Мне представилось, что из всех зайцев, столь робких всюду, нашелся единственный в мире, настоящий и действительно храбрый, которому стыдно стало бежать от собаки. «Лучше умру!» – подумал мой заяц. И, завернув себе прямо в пяту, бросился на Трубача. И когда огромный пес увидал, что заяц бежит на него, то в ужасе бросился назад и бежал, не помня себя, чащей и обдирал до крови спину. Так заяц и пригнал ко мне Трубача.
Возможно ли это?
Нет!
Я знал одного робкого человека: его смертельно оскорбили, он поднялся и вмиг уничтожил своего врага. Но… то был человек. У зайцев так не бывает.
По той самой зеленой дорожке, где бежал русак от Трубача, я спустился из лесу на луг и тут увидел, что косцы, смеясь, оживленно беседовали и, завидев меня, стали звать скорее к себе, как все люди зовут, когда душа переполнена и хочется облегчить ее.
– Ну и дела!
– Да какие же такие дела?
– Ой-ой, ой!
И пошло, и пошло в двадцать голосов, одна и та же история, ничего не поймешь, и только вылетает из гомона колхозного:
– Ну и дела! Ну и дела!
И вот какие это вышли дела. Молодой русак, вылетев из лесу, покатил по дороге к овинам, и вслед за ним вылетел и помчался врастяжку Трубач. Случалось, на чистом месте Трубач у нас догонял и старого зайца (поратая англорусская порода), а молодого-то догнать ему было очень легко. Русаки любят от гончих укрываться возле деревень, в ометах соломы, в овинах. И Трубач настиг русака возле овина. Косцы видели, как на повороте к овину Трубач раскрыл уже и пасть свою, чтобы схватить зайчика…
Так бывает часто в борьбе, что все карты биты и остается какая-то одна, и уже тянет сонливая слабость стать жертвой и отдаться врагу: становится так, будто игра не стоит свеч и надо сдаваться и делаться жертвой. Бывает, враг все рассчитал, он знает даже три карты победы: вот тройка.
Тройка!
И тройка взяла.
Семерка!
Семерка взяла.
Туз!
И нет: вместо туза дама пик.
Это было на глазах у всех косцов.
Трубачу бы только хватить, но вдруг на него из овина вылетает большая черная курица – и прямо в глаза ему. И он повертывается назад и бежит. А Пиковая Дама ему на спину – и клюет и клюет его своей пикой.
Ну и дела!
И вот отчего у желто-пегого в румянах на светлых пятнах была кровь: гонца расклевала обыкновенная курица.
Дедушкин валенок*
О чем шепчутся раки
Удивляюсь на раков – до чего много, кажется, напутано у них лишнего: сколько ног, какие усы, какие клешни, и ходит хвостом наперед, и хвост называется шейкой. Но всего более дивило меня в детстве, что когда раков соберут в ведро, то они между собой начинают шептаться. Вот шепчутся, вот шепчутся, а о чем – не поймешь.
И когда скажут: «Раки перешептались», – это значит – они умерли и вся их рачья жизнь в шепот ушла.
В нашей речке Вертушинке раньше, в мое время, раков было больше, чем рыбы. И вот однажды бабушка Домна Ивановна с внучкой своей Зиночкой собрались к нам на Вертушинку за раками. Бабушка с внучкой пришли к нам вечером, отдохнули немного – и на реку. Там они расставили свои рачьи сеточки. Эти рачьи сачки у нас все делают сами: загибается ивовый прутик кружком, кружок обтягивается сеткой от старого невода, на сетку кладется кусочек мяса или чего-нибудь, а лучше всего кусочек жареной и духовитой для раков лягушки. Сеточки опускают на дно. Учуяв запах жареной лягушки, раки вылезают из береговых печур, ползут на сетки. Время от времени сачки за веревки вытаскивают кверху, снимают раков и опять опускают.
Простая эта штука. Всю ночь бабушка с внучкой вытаскивали раков, наловили целую большую корзину и утром собрались назад, за десять верст к себе в деревню. Солнышко взошло, бабушка с внучкой идут, распарились, разморились. Им уж теперь не до раков, только бы добраться домой.
– Не перешептались бы раки, – сказала бабушка.
Зиночка прислушалась.
Раки в корзинке шептались за спиной бабушки.
– О чем они шепчутся? – спросила Зиночка.
– Перед смертью, внученька, друг с другом прощаются.
А раки в это время совсем не шептались. Они только терлись друг о друга шершавыми костяными бочками, клешнями, усиками, шейками, и от этого людям казалось, будто от них шепот идет. Не умирать раки собирались, а жить хотели. Каждый рак все свои ножки пускал в дело, чтобы хоть где-нибудь найти дырочку, и дырочка нашлась в корзинке, как раз чтобы самому крупному раку пролезть. Один рак вылез крупный, за ним более мелкие шутя выбрались, и пошло, и пошло: из корзинки – на бабушкину кацавейку, с кацавейки – на юбку, с юбки – на дорожку, с дорожки – в траву, а из травы – рукой подать речка.
Солнце палит и палит. Бабушка с внучкой идут и идут, а раки ползут и ползут. Вот подходят Домна Ивановна с Зиночкой к деревне. Вдруг бабушка остановилась, слушает, что в корзинке у раков делается, и ничего не слышит. А что корзинка-то легкая стала, ей и невдомек: не спавши ночь, до того уходилась старуха, что и плеч не чует.
– Раки-то, внученька, – сказала бабушка, – должно быть, перешептались.
– Померли? – спросила девочка.
– Уснули, – ответила бабушка, – не шепчутся больше.
Пришли к избе, сняла бабушка корзинку, подняла тряпку:
– Батюшки родимые, да где же раки-то?
Зиночка заглянула – корзина пустая.
Поглядела бабушка на внучку – и только руками развела.
– Вот они, раки-то, – сказала она, – шептались! Я думала – они это друг с другом перед смертью, а они это с нами, дураками, прощались.
Хромка
Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет Хромка – моя подсадная охотничья уточка. Эта уточка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий шалаш диких селезней.
Куда я ни поплыву, всюду за мной плывет Хромка Займется чем-нибудь в заводи, скроюсь я за поворотом от нее. крикну: «Хромка!» – и она бросит все и подлетает опять к моей лодочке. И опять, куда я, туда и она.
Горе нам было с этой Хромкой! Когда вывелись утята, мы первое время держали их в кухне. Это пронюхала крыса, прогрызла дырку в углу и ворвалась. На утиный крик мы прибежали как раз в то время, когда крыса тащила утенка за лапку в свою дырку. Утенок застрял, крыса убежала, дырку забили, но только лапка у нашего утенка осталась сломанная.
Много трудов положили мы, чтобы вылечить лапку: связывали, бинтовали, примачивали, присыпали – ничего не помогло: утенок остался хромым навсегда.
Горе хромому в мире всяких зверушек и птиц: у них что-то вроде закона – больных не лечить, слабого не жалеть а убивать. Свои же утки, куры, индюшки, гуси – все норовят тюкнуть Хромку. Особенно страшны были гуси. И что ему, кажется, великану, такая безделушка – утенок. – нет, и гусь с высоты своей норовит обрушиться на каплюшку и сплюснуть, как паровой молот.
Какой умишко может быть у маленького хромого утенка? Но все-таки и он своей головенкой величиной с лесной орех сообразил, что единственное спасение его – в человеке. И нам по-человечески было жалко его: эти беспощадные птицы всех пород хотят лишить его жизни, а чем он виноват, если крыса вывернула ему лапку?
И мы по-человечески полюбили маленькую Хромку.
Мы взяли ее под защиту, и она стала ходить за нами и только за нами. II когда выросла она большая, нам не нужно было ей, как другим уткам, подстригать крылья. Другие утки – дикари – считали дикую природу своей родиной и всегда стремились туда улететь. Хромке некуда было улетать от нас. Дом человека стал ее домом. Так Хромка в люди вышла.
Вот почему теперь, когда я плыву на лодочке своей на утиную охоту, моя уточка сама плывет за мной. Отстанет, снимается с воды и подлетает. Займется рыбкой в заводи, заверну я за кусты, скроюсь и только крикну: «Хромка!» – вижу – летит моя птица ко мне.
Филин
Ночью злой хищник филин охотится, днем прячется. Говорят, будто днем он плохо видит и оттого прячется. А по-моему, если бы он и хорошо видел, все равно ему бы днем нельзя было никуда показаться – до того своими ночными разбоями нажил он себе много врагов.
Однажды я шел опушкой леса. Моя небольшая охотничья собачка, породою своей спаниель, а по прозвищу Сват, что-то причуяла в большой куче хвороста. Долго с лаем бегал он вокруг кучи, не решаясь подлезть под нее.
– Брось! – приказал я. – Это еж.
Так у меня собачка приучена: скажу «еж», и Сват бросает.
Но в этот раз Сват не послушался и с ожесточением бросился на кучу и ухитрился подлезть под нее.
«Наверно, еж», – подумал я.
И вдруг с другой стороны кучи, под которую подлез Сват, из-под нее выбегает на свет филин, ушастый и огромных размеров и с огромными кошачьими глазами.
Филин на свету – это огромное событие в птичьем мире. Бывало, в детстве приходилось попадать в темную комнату – чего-чего там не покажется в темных углах, и больше всего я боялся черта. Конечно, это глупости, и никакого черта нет для человека. Но у птиц, по-моему, черт есть – это их ночной разбойник филин. И когда филин выскочил из-под кучи, то это было для птиц все равно, как если бы у нас на свету черт показался.
Единственная ворона была, пролетала, когда филин, согнувшись, в ужасе перебегал из-под кучи под ближайшую елку. Ворона увидела разбойника, села на вершину этой елки и крикнула совсем особенным голосом:
– Кра!
До чего это удивительно у ворон! Сколько слов нужно человеку, а у них одно только «кра» – на все случаи, и в каждом случае это словечко всего только в три буквы благодаря разным оттенкам звука означает разное. В этом случае воронье «кра» означало, как если бы мы в ужасе крикнули:
– Чер-р-р-р-рт!
Страшное слово прежде всего услыхали ближайшие вороны и, услыхав, повторили, и более отдаленные, услыхав, тоже повторили, и так в один миг несметная стая, целая туча ворон с криком «черт!» прилетела и облепила высокую елку с верхнего сучка и до нижнего. Услыхав переполох в вороньем мире, тоже со всех сторон прилетели галки черные с белыми глазами, сойки бурые с голубыми крыльями, ярко-желтые, почти золотые иволги. Места всем не хватило на елке, много соседних деревьев покрылось птицами, и все новые и новые прибывали: синички-гаечки и московки, трясогузки, пеночки, зорянки и разные подкрапивнички.
В это время Сват, не понимая, что филин давно уже выскочил из-под кучи и прошмыгнул под елку, все там орал и копался под кучей. Вороны и все другие птицы глядели на кучу, все они ждали Свата, чтобы он выскочил и выгнал филина из-под елки.
Но Сват все возился, и нетерпеливые вороны кричали ему слово:
– Кра!
В этом случае это означало просто:
– Дурак!
И наконец, когда Сват причуял свежий след, и вылетел из-под кучи, и, быстро разобравшись в следах, направился к елке, все вороны в один общий голос опять крикнули по-нашему:
– Кра!
А по-ихнему это значило:
– Правильно!
И, когда филин выбежал из-под елки и стал на крыло, опять вороны крикнули:
– Кра!
И это теперь значило:
– Брать!
Все вороны поднялись с дерева, вслед за воронами все галки, сойки, иволги, дрозды, вертишейки, трясогузки, щеглы, синички-гаечки, московочки, и все эти птицы помчались темной тучей за филином, и все орали одно только:
– Брать, брать, брать!
Я забыл сказать, что, когда филин становился на крыло, Сват успел-таки вцепиться зубами в хвост, но филин рванулся, и Сват остался с филиновыми перьями и пухом в зубах.
Озлобленный неудачей, он помчался полем за филином и первое время бежал, не отставая от птиц.
– Правильно, правильно! – кричали ему некоторые вороны.
И так вся туча птиц скоро скрылась на горизонте, и Сват тоже исчез за перелеском. Чем все кончилось, не знаю. Сват вернулся ко мне только через час с филиновым пухом во рту.
И ничего не могу сказать, тот ли это пух у него остался, который взял он, когда филин на крыло становился, или же птицы доконали филина и Сват помогал им в расправе со злодеем.
Что не видал, то не видал, а врать не хочу.
Верхоплавки
На воде дрожит золотая сеть солнечных зайчиков. Темно-синие стрекозы в тростниках и елочках хвоща. И у каждой стрекозы есть своя хвощовая елочка или тростинка: слетит и на нее непременно возвращается.
Очумелые вороны вывели птенцов и теперь сидят, отдыхают.
Листик, самый маленький, на паутинке спустился к реке и вот крутится, вот-то крутится…
Так я еду тихо вниз по реке на своей лодочке, а лодочка у меня чуть потяжелее этою листика, сложена из пятидесяти двух палочек и обтянута парусиной. Весло в ней одно: длинная палка и на концах по лопаточке. Каждую лопаточку окунаешь попеременно с той и другой стороны. Такая легкая лодочка, что не нужно никакого усилия: тронул воду лопаточкой – и она плывет, и до того неслышно плывет, что рыбки ничуть не боятся.
Чего-чего только не увидишь, когда тихо едешь на такой лодочке по реке!
Вот грач, перелетая над рекой, капнул в воду, и эта известково-белая капля, тукнув по воде, сразу же привлекла внимание мелких рыбок – верхоплавок. В один миг вокруг грачиной капли собрался из верхоплавок настоящий базар.
Заметив это сборище, крупный хищник – рыба шелеспер – подплыл и хвать своим хвостом по воде с такой силой, что оглушенные верхоплавки перевернулись вверх животами. Они бы через минуту ожили, но шелеспер не дурак какой-нибудь: он знает, что не так-то часто случается, чтоб грач капнул и столько дурочек собралось вокруг одной капли; хвать одну, хвать другую – много поел. А какие успели убраться, впредь будут жить, как ученые, и, если сверху им капнет что-нибудь хорошее, будут в оба глядеть, не пришло бы им снизу чего-нибудь скверного.
Этажи леса
У птиц и зверьков в лесу есть свои этажи: мышки живут в корнях – в самом низу; разные птички, вроде соловья, вьют свои гнездышки прямо на земле; дрозды еще повыше, на кустарниках; дупляные птицы – дятел, синички, совы – еще повыше: на разной высоте по стволу дерева и на самом верху селятся хищники: ястреба и орлы.
Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них, зверушек и птиц, с этажами не как у нас в небоскребах: у нас всегда можно с кем-нибудь перемениться, у них каждая порода живет непременно в своем этаже.
Однажды на охоте мы пришли к полянке с погибшими березами. Это часто бывает, что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут. Другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро гниет и все дерево падает; у березы же кора не падает; эта смолистая, белая снаружи кора – береста – бывает непроницаемым футляром для дерева, и умершее дерево долго стоит, как живое.
Даже когда и сгниет дерево, и древесина превратится в труху, отяжеленную влагой, с виду белая береза стоит, как живая. Но стоит, однако, хорошенько толкнуть такое дерево, как вдруг оно разломится все на тяжелые куски и падает.
Валить такие деревья – занятие очень веселое, но и опасное: куском дерева, если не увернешься, может здорово хватить тебя по голове. Но все-таки мы, охотники, не очень боимся, и когда попадаем к таким березам, то друг перед другом начинаем их рушить.
Так пришли мы к полянке с такими березами и обрушили довольно высокую березу. Падая, в воздухе она разломилась на несколько кусков, и в одном из них было дупло с гнездом гаечки. Маленькие птенчики при падении дерева не пострадали, только вместе со своим гнездышком вывалились из дупла. Голые птенцы, покрытые пенышками, раскрывали широкие красные рты и, принимая нас за родителей, пищали и просили у нас червячка. Мы раскопали землю, нашли червячков, дали им перекусить; они ели, глотали и опять пищали.
Очень скоро прилетели родители, гаечки-синички, с белыми пухлыми щечками и с червяками во ртах, сели на рядом стоящих деревьях.
– Здравствуйте, дорогие, – сказали мы им. – Вышло несчастье: мы этого не хотели.
Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое главное, не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети.
Нас они нисколько не боялись, порхали с ветки на ветку в большой тревоге.
– Да вот же они! – показывали мы им гнездо на земле. – Вот они, прислушайтесь, как они пищат, как зовут вас!
Гаечки ничего не слушали, суетились, беспокоились и не хотели спуститься вниз и выйти за пределы своего этажа.
– А может быть, – сказали мы друг другу, – они нас боятся. Давай спрячемся! – И спрятались.
Нет! Птенцы пищали, родители пищали, порхали, но вниз не спускались.
Мы догадались тогда, что у птичек не как у нас в небоскребах, они не могут перемениться этажами: им теперь просто кажется, что весь этаж с их птенцами исчез.
– Ой-ой-ой, – сказал мой спутник, – ну какие же вы дурачки!..
Жалко стало и смешно: такие славные и с крылышками, а понять ничего не хотят.
Тогда мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломили верх соседней березы и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на какой находился разрушенный этаж. Нам недолго пришлось ждать в засаде: через несколько минут счастливые родители встретили своих птенчиков.
Медведь
Многие думают, будто пойти только в лес, где много медведей, и так они вот и набросятся, и съедят тебя, и останутся от козлика ножки да рожки. Такая это неправда!
Медведи, как и всякий зверь, ходят по лесу с великой осторожностью и, зачуяв человека, так удирают от него, что не только всего зверя, а не увидишь даже и мелькнувшего хвостика.
Однажды на Севере мне указали место, где много медведей. Это место было в верховьях реки Коды, впадающей в Пинегу. Убивать медведя мне вовсе не хотелось, и охотиться за ним было не время: охотятся зимой, я же пришел на Коду ранней весной, когда медведи уже вышли из берлог.
Мне очень хотелось застать медведя за едой, где-нибудь на полянке, или на рыбной ловле на берегу реки, или на отдыхе. Имея на всякий случай оружие, я старался ходить по лесу так же осторожно, как звери, затаивался возле теплых следов; не раз мне казалось, будто мне даже и пахло медведем… Но самого медведя, сколько я ни ходил, встретить мне в тот раз так и не удалось.
Случилось, наконец, терпение мое кончилось, и время пришло мне уезжать. Я направился к тому месту, где была у меня спрятана лодка и продовольствие. Вдруг вижу: большая еловая лапка передо мной дрогнула и закачалась сама.
«Зверушка какая-нибудь», – подумал я.
Забрав свои мешки, сел я в лодку и поплыл.
А как раз против места, где я сел в лодку, на том берегу, очень крутом и высоком, в маленькой избушке жил один промысловый охотник. Через какой-нибудь час или два этот охотник поехал на своей лодке вниз по Коде, нагнал меня и застал в той избушке на полпути, где все останавливаются.
Он-то вот и рассказал мне, что со своего берега видел медведя, как он вымахнул из тайги как раз против того места, откуда я вышел к своей лодке. Тут-то вот я и вспомнил, как при полном безветрии закачались впереди меня еловые лапки.
Досадно мне стало на себя, что я подшумел медведя. Но охотник мне еще рассказал, что медведь не только ускользнул от моего глаза, но еще и надо мной посмеялся… Он, оказывается, очень недалеко от меня отбежал, спрятался за выворотень и оттуда, стоя на задних лапах, наблюдал меня: и как я вышел из леса, и как садился в лодку и поплыл. А после, когда я для него закрылся, взлез на дерево и долго следил за мной, как я спускаюсь по Коде.
– Так долго, – сказал охотник, – что мне надоело смотреть и я ушел чай пить в избушку.
Досадно мне было, что медведь надо мной посмеялся. Но еще досадней бывает, когда болтуны разные пугают детей лесными зверями и так представляют их, что покажись будто бы только в лес без оружия – и они оставят от тебя только рожки да ножки.
Лученье рыбы
В конце сентября вода в Кубре стала прозрачная, и теперь все видно на всей глубине. Видно, как лилия взялась расти и тонким стеблем своим потянулась вверх. Стебель – как зеленая веревка: ни одного листика, и как дошла доверху, на воде раскинула листы, как блюда. Теперь эти листы пожелтели.
– Видела ли, Зиночка, – спросил я, – как рыба спит?
– Не видела, – ответила Зиночка.
– Не видела. Ну, вот вечером сегодня я тебе покажу. И, может быть, еще сегодня мы с тобой свежей рыбки попробуем. Тебе хочется?
– Судачка бы…
– Посчастливится, попробуем с тобой и судачка.
Мы с Зиночкой идем в сарай. Там из-под всякого хлама я достаю железное приспособление для лученья рыбы и рассказываю, для чего нужна эта коза: положат дрова на козу и поставят на носу лодки, зажгут дрова, и коза тогда – как подсвечник. Широко, от берега до берега, осветится наша Кубря, и глубоко будет видно, до самого дна.
– Это, – сказал я, – называется у рыбаков ездить с лучом, или просто лучить. На что только луч ни ляжет, все ночью станет красиво.
– Что же красивого?
– Все красиво: тростники стоят, как золотые.
– А еще что?
– Внизу, в глубине, под этими тростниками луга водяных трав…
– А еще?
– Еще в воде у песчаного берега видишь все дно, и камешки разные на дне, и ракушки, и даже следы на песке, извилистые тропинки, по которым ракушки ходят.
– Как же ходят ракушки?
– Не как мы, конечно. Мы выходим из дома, а ракушка идет – и весь дом с ней.
– А еще что красиво?
– Еще сам человек у воды с острогой.
– Что это за острога?
– Длинная палка, на ней грабли, и каждый зубчик в граблях с зазубринкой. Человек от огня весь красный. Это красиво.
– А еще что?
– Смотрит человек в воду, держит острогу наготове. Вот он увидел: в воде рыба стоит. Человек быстро двинул острогой, ударил в рыбу, вынимает – и на зубцах бьется сверкающая в лучах большая рыба…
Вечером мы с Зиночкой вытащили двух судаков, и дома я ее угостил свежей рыбкой.
Курица на столбах
Весной соседи подарили нам четыре гусиных яйца, и мы подложили их в гнездо нашей черной курицы, прозванной Пиковой Дамой. Прошли положенные дни для высиживания, и Пиковая Дама вывела четырех желтеньких гуськов. Они пищали, посвистывали совсем по-иному, чем цыплята, но Пиковая Дама, важная, нахохленная, не хотела ничего замечать и относилась к гусятам с той же материнской заботливостью, как к цыплятам.
Прошла весна, настало лето, везде показались одуванчики. Молодые гуськи, если шеи вытянут, становятся чуть ли не выше матери, но все еще ходят за ней. Бывает, однако, мать раскапывает лапками землю и зовет гуськов, а они занимаются одуванчиками, тукают их носами и пускают пушинки по ветру. Тогда Пиковая Дама начинает поглядывать в их сторону, как нам кажется, с некоторой долей подозрения. Бывает, часами, распушенная, с квохтаньем, копает она, а им хоть бы что: только посвистывают и поклевывают зеленую травку. Бывает, собака захочет пройти куда-нибудь мимо нее, – куда тут! Кинется на собаку и прогонит. А после и поглядит на гуськов, бывает, задумчиво поглядит…
Мы стали следить за курицей и ждать такого события, после которого наконец она догадается, что дети ее вовсе даже на кур не похожи и не стоит из-за них, рискуя жизнью, бросаться на собак.
И вот однажды у нас на дворе событие это случилось. Пришел насыщенный ароматом цветов солнечный июньский день. Вдруг солнце померкло, и петух закричал.
– Квох, квох! – ответила петуху курица, зазывая своих гусят под навес.
– Батюшки, туча-то какая находит! – закричали хозяйки и бросились спасать развешенное белье.
Грянул гром, сверкнула молния.
– Квох, квох! – настаивала курица Пиковая Дама.
И молодые гуси, подняв высоко шеи свои, как четыре столба, пошли за курицей под навес. Удивительно нам было смотреть, как по приказанию курицы четыре порядочных, высоких, как сама курица, гусенка сложились в маленькие штучки, подлезли под наседку и она, распушив перья, распластав крылья над ними, укрыла их и угрела своим материнским теплом.
Но гроза была недолгая.
Туча пролилась, ушла, и солнце снова засияло над нашим маленьким садом.
Когда с крыш перестало литься и запели разные птички, это услыхали гусята под курицей, и им, молодым, конечно, захотелось на волю.
– На волю, на волю! – засвистали они.
– Квох, квох! – ответила курица.
И это значило:
– Посидите немного, еще очень свежо.
– Вот еще! – свистели гусята, – На волю, на волю!
И вдруг поднялись на ногах и подняли шеи, и курица поднялась, как на четырех столбах, и закачалась в воздухе высоко от земли.
Вот с этого разу все и кончилось у Пиковой Дамы с гусями: она стала ходить отдельно и гуси отдельно; видно. тут только она все поняла, и во второй раз ей уже не захотелось попасть на столбы.
Дедушкин валенок
Хорошо помню – дед Михей в своих валенках проходил лет десять. А сколько лет в них он до меня ходил, сказать не могу. Поглядит, бывало, себе на ноги и скажет:
– Валенки опять проходились, надо подшить.
И принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, подошьет, и опять валенки идут, как новенькие.
Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает и только одни дедушкины валенки вечные.
Случилось, у деда началась сильная ломота в ногах Никогда дед у нас не хворал, а тут стал жаловаться, позвал даже фельдшера.
– Это у тебя от холодной воды, – сказал фельдшер, – тебе надо бросить рыбу ловить.
– Я только и живу рыбой, – ответил дед, – ногу в воде мне нельзя не мочить.
– Нельзя не мочить, – посоветовал фельдшер, – надевай, когда в воду лезешь, валенки.
Этот совет вышел деду на пользу: ломота в ногах прошла. Но только после дед избаловался, в реку стал лазить только в валенках и, конечно, тер их беспощадно о придонные камешки. Сильно подались от этого валенки, и не только в подошвах, а и выше, на месте изгиба подошвы, показались трещинки.
«Верно, это правда, – подумал я, – что всему на свете конец бывает, не могут и валенки деду служить без конца: валенкам приходит конец».
Люди стали деду указывать на валенки:
– Пора, дед, валенкам твоим дать покой, пора их отдать воронам на гнезда.
Не тут-то было! Дед Михей, чтобы снег в трещинки не забивался, окунул валенки в воду – и на мороз. Конечно, на морозе вода в трещинках валенка замерзла, и лед заделал трещинки. А дед после того валенки еще раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся льдом. Вот какие валенки после этого стали теплые и прочные: мне самому в дедушкиных валенках приходилось незамерзающее болото зимой переходить – и хоть бы что…
И я опять вернулся к той мысли, что, пожалуй, дедушкиным валенкам никогда и не будет конца.
Но случилось однажды – дед наш захворал. Когда пришлось ему по нужде выйти, надел в сенях валенки, а когда вернулся, забыл их снять в сенях и оставить на холоду. Так в этих обледенелых валенках и залез на горячую печку.
Не то, конечно, беда, что вода от растаявших валенок с печки натекла в ведро с молоком, – это что! А вот беда, что валенки бессмертные в этот раз кончились. Да иначе и быть не могло. Если налить в бутылку воды и поставить на мороз, вода обратится в лед, льду будет тесно, и бутылку он разорвет. Так и этот лед в трещинках валенка, конечно, шерсть везде разрыхлил и порвал, и когда все растаяло, все стало трухой…
Наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить и походил даже немного, но вскоре весна пришла, валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись.
– Верно, правда, – сказал дед в сердцах, – пришла пора отдыхать в вороньих гнездах.
И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейники, где я в то время ловил щеглов и разных птичек.
– Почему же валенки только воронам? – сказал я. – Всякая птичка весною тащит в гнездо шерстинку, пушинку, соломинку.
Я спросил об этом деда как раз в то время, как он замахнулся было вторым валенком.
– Всяким птичкам, – согласился дед, – нужна шерсть на гнездо – и зверькам всяким, мышкам, белочкам, всем это нужно, для всех полезная вещь.
И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках: пора, мол, их отдать ему на пыжи. И второй валенок не стал швырять и велел мне отнести его охотнику.
Тут вскоре началась птичья пора. Вниз, к реке, на репейники, полетели всякие весенние птички и, поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его заметила, и когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи стали разбирать на клочки дедушкин валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по клочку растащили птички на гнезда, устроились, сели на яйца и высиживали, а самцы пели. На тепле валенка вывелись и выросли птички и, когда стало холодно, тучами улетели в теплые края. Весною они опять вернутся, и многие в дуплах своих, в старых гнездах найдут опять остатки дедушкина валенка. Те же гнездышки, что на земле были сделаны и на кустах, тоже не пропадут: с кустов все лягут на землю, а на земле их мышки найдут и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда.
Много в моей жизни походил я по лесам и, когда приходилось найти птичье гнездышко с подстилом из войлока, думал, как маленький:
«Все на свете имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные».
Золотой луг*
Хлопунки
Растут, растут зеленые дудочки; идут, идут с болот сюда тяжелые кряквы, переваливаясь, а за ними, посвистывая, – черные утята с желтыми лапками между кочками за маткой, как между горами.
Мы плывем на лодке по озеру в тростники проверить, много ли будет в этом году уток и как они, молодые, растут: какие они теперь – летают, или пока еще только ныряют, или удирают бегом по воде, хлопая короткими крыльями. Эти хлопунки очень занятная публика. Направо от нас, в тростниках, зеленая стена и налево зеленая, мы же едем по свободной от водяных растений узкой полосе. Впереди нас на воду из тростников выплывают два самых маленьких чирёнка-свистунка в черном пуху и, завидев нас, начинают во всю мочь удирать. Но, сильно упираясь в дно веслом, мы дали нашей лодке очень быстрый ход и стали их настигать. Я уже протянул было руку, чтобы схватить одного, но вдруг оба чирёнка скрылись под водой. Мы долго ждали, пока они вынырнут, как вдруг заметили их в тростниках. Они затаились там, высунув носики между тростниками. Мать их – чирок-свистунок – все время летала вокруг нас, и очень тихо – вроде как бывает, когда утка, решаясь спуститься на воду, в самый последний момент перед соприкосновением с водой как бы стоит в воздухе на лапках.
После этого случая с маленькими чирятами впереди, на ближайшем плесе, показался кряковый утенок, совсем большой, почти с матку. Мы были уверены, что такой большой может отлично летать, стукнули веслом, чтобы он полетел. Но, верно, он еще летать не пробовал и пустился от нас хлопунком. Мы тоже пустились за ним и стали быстро настигать. Его положение было много хуже, чем тех маленьких, потому что место было тут до того мелкое, что нырнуть ему некуда. Несколько раз в последнем отчаянии он пробовал клюнуть носом воду, но там ему показывалась земля, и он только время терял. В одну из таких попыток наша лодочка поравнялась с ним, я протянул руку…
В эту минуту последней опасности утенок собрался с силами и вдруг полетел. Но это был его первый полет, он еще не умел управлять. Он летел совершенно так же, как мы, научившись садиться на велосипед, пускаем его движением ног, а рулем повернуть еще боимся, и потому первая поездка бывает все прямо, прямо, пока не наткнемся на что-нибудь, – и бух набок. Так и утенок летел все прямо, а впереди него была стена тростников. Он не умел еще взмыть над тростниками, зацепился лапками и чебурахнулся вниз.
Точно так было со мной, когда я прыгал, прыгал на велосипед, падал, падал и вдруг сел и с большой быстротой помчался прямо на корову…
Золотой луг
У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел – он впереди, я в пяту.
«Сережа!» – позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие.
Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг золотой». Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони и от этого луг становится опять золотым.
С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.
Журка
Раз было у нас – поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он ее проглотил. Дали другую – проглотил. Третью, четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было.
– Умница! – сказала моя жена и спросила меня: – А сколько он может съесть их? Десяток может?
– Десять, – говорю, – может.
– А ежели двадцать?
– Двадцать, – говорю, – едва ли…
Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить – и Журка с ней, она в огород – и Журке там надо, и тоже на полевые колхозные работы ходит с ней и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, и без него ей уж скучно, без него никуда. Но только ежели случится – нет его, крикнет только: «Фру-фру!» – и он к ней бежит. Такой умница.
Так живет у нас журавль, а подрезанные крылья его все растут и растут.
Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула – и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам: «Ах-ах, горе какое! Ах, ах!» Мы все прибежали к колодцу. Видим, Журка далеко, на середине нашего болота сидит.
– Фру-фру! – кричу я.
И все ребята за мной тоже кричат:
– Фру-фру!
И такой умница! Как только услыхал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множество, ребята скоро набрали два картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять – проглотил, дали десять – проглотил, двадцать и тридцать, – да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки.
Ежовые рукавицы
Собака, все равно как и лисица и кошка, подбирается к добыче. И вдруг замрет. Это у охотников называется стойкой.
Собака только стоит и указывает, а человек при взлете стреляет. Если же собака при взлете бежит, это не охота. За одной побежит – другую спугнет, третью, да еще и с лаем пустится по болоту турить – охотнику так ничего и не достанется.
Учил я Ромку, чтобы не гонять, и не мог научить.
– Некультурен! – сказал мне однажды егерь Кирсан.
– Как же быть с некультурностью? – спросил я.
Кирсан очень странно ответил:
– Некультурность у собак надо ежом изгонять.
Нашли мы ежа. Я пустил Ромку в тетеревиные места, и скоро он стал по тетерке.
Я позади Ромки стал, а Кирсан с ежом сбоку.
Приказываю:
– Вперед!
Ромка с лапки на лапку: раз, два, три…
«Ту-ту-ту!» – вылетела.
– Назад! – кричу Ромке.
Ничего не помнит, ничего ее слышит. Бросился. И тут-то Кирсан на прыжке сбоку прямо на нос ему ежа. Ромка опомнился, взвизгнул – и на ежа. А еж ему своими колючками еще здорово поддал. И мы на Ромку и приговариваем:
– Помни ежа, помни ежа!
С тех пор, когда птица взлетает, я говорю негромко:
– Ромка, помни ежа!
Он и опомнится.
Однажды я спросил Кирсана:
– Как это вы, Кирсан Николаевич, пришли к такой догадке, чтобы некультурность ежом изгонять?
– С себя самого перевел, Михаиле Михайлович, – ответил Кирсан. – В детстве соседям окна бил из рогатки. Раз поймали меня и говорят: «Этого мальчишку надо взять в ежовые рукавицы!» И взяли. А потом это с себя я на собак перевел с большой пользой.
Лесной доктор
Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного завода. Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша осина лежала, и вокруг ее пня было множество пустых еловых шишек. Это все дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками своей мастерской и долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что пилили лес.
– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осину. – Вам ведено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?
– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно, спилили. Все равно пропадет.
Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошел червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал ее своим клювом, понял пустоту, оставляемую червем, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвертый… Нетолстый ствол осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину.
Мы вырезали этот кусок, как замечательный экспонат для музея.
– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и жила, а вы ее срезали.
Пареньки подивились.
Клюква
Егерь Кирсан умел так рассказывать, что поначалу кажется, будто это у него все правда, и только под самый конец поймешь, правду он говорит или дурачит нас. Так вот он стал рассказывать нам однажды, какая это кислая ягода клюква.
– Кто же этого не знает, Кирсан Николаевич? – сказал ему кто-то из нас.
– Я не про это, – ответил Кирсан. – Кто же, правда, не знает, что ягода клюква кислая? На то ведь она и есть клюква! А вот однажды мне пришла в голову мысль, и летом я жену попросил, чтобы она и на мою долю клюквы побольше собрала в болоте. Прошло лето, и осень прошла; лег снег. Негде стало кормиться тетеревам. Завалило ягоду в болоте снегом, занесло в поле зерно. Делать нечего, поднялись тетерева на березы и стали кормиться древесными почками. А после ягоды, после зерна какая же это пища – березовая почка? Вот я подумал об этом и поставил под березами шалашик. Когда тетерева пригляделись к шалашику и перестали на него обращать внимание, забрался я рано поутру в него и на снегу раскидал клюкву. Вот прилетели тетерева, расселись по березам, клюют горькие почки, а внизу, видят, клюква красная на белом снегу. Один петух слетел, осторожно подходит. Что делать? Ружье мое длинное – чуть шевельнешься, догадается и сам улетит, и все улетят. Скажите, что бы вы на моем месте сделали?
– Что сделали? – сказал один охотник. – Я бы дал первому поклевать…
Другой охотник еще что-то сказал, третий еще, заспорили. А Кирсан все сидел и молча улыбался.
– Ну, скажи, Кирсан Николаевич, – обратились мы наконец к самому хозяину, – расскажи, как же ты поступил?
– Я поступил просто, – ответил Кирсан. – Когда петух взял клюквину в рот, стало ему после березовых почек очень кисло; он от кислого зажмурился, и тут я в него из ружья.
Смеялись мы, но другой егерь, Камолов, сказал:
– На этот раз у тебя сорвалось, Кирсан Николаевич, не сумел ты соврать. Это сказка есть о трех зайцах, что охотник им клюквы дал, они зажмурились, и он их связал, без ружья обошелся. А ты с ружьем – эка невидаль!
Выскочка
Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки так и назвали мы ее Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Бьюшку, Быошку все стали звать Вьюшкой. Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем при машине. Уйдешь на охоту – и будь уверен: Вьюшка не пустит в машину врага.
Раз было, пришли мы с охоты, стали разводить машину, а Вьюшку пустили погулять. Веселая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки – как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом. Это у нее означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты, – известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным хвостом Вьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой.
Тогда откуда ни возьмись сороки – скок-скок – и к самому носу собаки. Когда же Вьюшка повернула голову к одной, – хвать! – другая сорока с другой стороны – хвать! – и унесла косточку.
Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем выводком, в семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и, не долго думая, собрались отнять у собаки вторую.
Говорят, что в семье не без урода, то же оказалось и в сорочьей семье. Из семи сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас то же было: все шесть сорок повели правильное наступление, большим полукругом, поглядывая друг на друга, и только одна Выскочка поскакала дуром.
– Тра-та-та-та-та! – застрекотали все сороки. Это у них значило:
– Скачи назад, скачи, как надо, как всему сорочьему обществу надо.
– Тра-ля-ля-ля-ля! – ответила Выскочка.
Это у нее значило:
– Скачите, как надо, а я – как мне самой хочется. Так за свой страх и риск Выскочка подскакала к самой Вьюшке в том расчете, что Вьюшка, глупая, бросится на нее, выбросит кость, она же изловчится и кость унесет.
Вьюшка, однако, замысел Выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на нее, но, заметив Выскочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя – скок! и подумают, – наступали шесть умных сорок.
Вот это мгновение, когда Вьюшка отвернула голову, Выскочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы-муравы. И только бы еще одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньишко! Вот только-только бы подняться сороке, как Вьюшка схватила ее за хвост – и кость выпала…
Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у Вьюшки в зубах и торчал из пасти ее длинным острым кинжалом.
Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая, пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост. Бывает, деревенские озорные мальчишки поймают слепня, воткнут ему в зад длинную соломинку и пустят эту крупную сильную муху лететь с таким длинным хвостом, – гадость ужасная! Ну, так вот, это – муха с хвостом, а тут – сорока без хвоста: кто удивился мухе с хвостом, еще больше удивится сороке без хвоста. Ничего сорочьего не остается тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу: это просто шарик пестрый с головкой.
Бесхвостая Выскочка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно по всему сорочьему стрекотанью, по всей суете, что нет в сорочьем быту большего сраму, как лишиться сороке хвоста.
Ястреб и жаворонок
Пришли к нам два огромных охотника с добрыми лицами, похожие на двух медведей: один побольше, другой поменьше, один повыше, другой покороче.
– Не жалко вам охотиться? – спросила моя жена.
– Когда как, – ответил охотник повыше.
– Бывает и жалко, – сказал кто потолще.
– Бывает! – подтвердил высокий. – Бывает, даже весь сморщишься, чтобы только слезы не закапали.
Мы оба с женой улыбнулись, представляя себе, как сморщились от жалости эти медведи.
– Расскажите, – попросила жена, – случай, когда вы поморщились.
– Расскажу, – ответил толстый медведь.
– Ты, наверно, о жаворонке? – спросил высокий.
– И о ястребе, – ответил толстый.
– Хорошо, начинай, а если соврешь, я стану тебя поправлять.
– Нечего поправлять. Я расскажу все по правде, как это было.
Это было в конце лета, в начале августа. Мы подходили полем к лесу, где водятся рябчики. Впереди, в травке, показываясь на лысых местах, бежал от нас жаворонок.
«Миша, – говорю я. – Короткий показал на высокого. – Миша, – говорю я, – ты понимаешь, почему жаворонок столько времени бежит от нас и не улетает?»
«Понимаю, – отвечает, – где-нибудь ястреб на него метится».
«А но думаешь, что у него где-нибудь запоздалое гнездышко и он нас отводит?»
И только я это сказал, вдруг, откуда ни возьмись, ястреб. Жаворонок вмиг стал на крыло, и тут бы ему и гроб, но, к счастью для него, рядом был лес, и он в лес, и ястреб за ним в лес… Но где тут ястребу вертеться между тесными деревьями! Они исчезли в лесу, и мы занялись рябчиками.
Сделали мы в лесу кружок, ни один рябчик нам не отозвался. Итак, мы пришли опять на то место, где вошли в лес.
«Миша, – говорю я, – мне что-то есть захотелось, давай закусим и пойдем на другое место – в Антонову Сечу».
«Хорошо, – отвечает он. – Стели газету».
Вынул я из сумки газету, расстелил на чистом местечке, на просеке, скатертью, нарезал хлеба, колбаски, и еще тут было кое-что… Пока я этим занимался, Миша от нечего делать свистел в манок рябчикам.
«Слышишь? – вдруг прошептал он. – Слышишь?»
Я слышу так явственно, – рябчик нам в лесу отзывается. Бросил я скатерть-самобранку, схватился за ружье, жду.
«Летит!» – шепнул Миша.
А это бывает далеко слышно, когда рябчик на манок порхает с дерева на дерево, и все ближе, ближе.
И вдруг наш рябчик отозвался внизу.
«Бежит!» – шепнул Миша.
Я только ружье перевел вниз на траву, чтобы встретить его, как вдруг он где-то пырх! Дальше, дальше – и улетел. А из травы выбегает к нам жаворонок.
Мы оторопели, глазам не верим: как это может быть, чтобы полевая птица жаворонок стал бы бегать по лесу?
«Да ведь это же наш! – сказал Миша. – Тот самый, что жался к нам в поле от ястреба».
И только он это прошептал, вдруг вслед за жаворонком из травы, тоже пешком, выходит ястреб.
Тут сразу стало понятно: и чего рябчик испугался, и как в лес попал жаворонок.
Но мы и глазом мигнуть не успели, а не то что ружье вскинуть и убить, ястреб взмыл и исчез. А жаворонок – тоже вмиг на крыло и со всего маху – бац! – к нам на газету. Сидит и головкой набочок: глянет вверх, нет ли ястреба, и сейчас же вслед за этил на другой бочок скривит голову и глазком своим маленьким – то на меня, то на Мишу.
Мы сидим ни живы ни мертвы, боимся шевельнуться, боимся спугнуть. И как подумал я тогда, что это он к нам, людям, под защиту прибежал, так, чувствую, что-то кислое подкатывается к глазам. Ну и жалко, конечно, жалко. А вы еще спрашиваете, не жалко ли нам охотиться? Конечно, жалко бывает.
– Чем же все кончилось? – спросили мы.
– Еще далеко не кончилось, – ответил охотник. – Жаворонок мало-помалу успокоился, перестал на небо поглядывать и уставился на нас обоих. И, конечно, понял, что разные мы с ним, и не о чем нам между собой говорить, и что лучше все-таки от нас подальше… Хвостиком по газете помахал, поклонился и побежал.
Нет, куда тут! Этим не кончилось! Упрямые охотники, эти ястреба! Мы-то о нем забыли, а он где-нибудь недалеко сидел на сухом дереве и за всем нашим делом следил. Так вот и помните, что, когда видите на лесной поляне, на высоком сухостое, ястреб неподвижно часами сидит, он это не просто сидит – он ждет.
И вот только мы проводили жаворонка, только-только принялись за еду, вдруг опять к нам жаворонок летит и – бац! – на газету. Но тут Миша успел, хватил навскидку, без прицела в ястреба, и он комком полетел и стукнулся, – слышно было, как стукнулся обо что-то.
– Не жалко вам ястреба? – спросил Миша мою жену.
– Нисколько! – ответила она. – Вы молодец, Михаил…
– Иванович! – подсказал охотник. – А вы спрашиваете, жалко или не жалко охотиться: бывает по-разному. А жаворонка мы отпустили, и он вернулся в поле. Как знать? Может быть, там еще и семейство у него было из книги.
Из книги «Золотой Рог»*
Соболь
I. Мятый пар
Дело не малое – вырастить книгу и написать. Тут, как всякому делу, непременно предшествует самоустройство, и без такой чистки возле себя ни за что невозможно приняться: акушеру по меньшей мере надо хоть руки вымыть, столяру – инструменты разложить, писателю – присесть и свою машинку поставить на стол (в поезде мы свои пишущие машинки ставили на те низенькие лесенки, по которым поднимаются на верхние спальные места). Но это внешнее благоустройство, – конечно, совершенный пустяк в сравнении с внутренним, похожим не установку рычага, поднимающего застойное прошлое для переоценки его в свете будущего. Без этого твердого места писатель просто болтун «без царя в голове». Свой собственный рычаг я раньше ставил на землю, в простоте своей считая ее, как деревенские плотники, совершенной неподвижностью, – стоит земля сыспокон веков и стоит, а на ней вечные отстой человеческой жизни: любовь к родителям – «чти отца», – вечные законы природы – «в болезнях рождай!» – и вечно почти одно и то же количество живого вещества в биосфере. Рычаг писателя, опираясь на все это вечное, – так я понимал, – при таланте доставал из недр родного народа слова, похожие на подвижные эмбрионы иной новорожденной жизни. Зачем же, казалось, особенно раздумывать о причинах и проверять колодцы, если выходит хорошо, зачем терять время на теорию? Так было раньше, но попробуй-ка, скажи теперь без оговорки «чти отца!» и особенно «в болезнях рождай!». Кажется, даже самый рутинный человек и тот на «чти отца» спросит: «Какого же отца?» – и на «в болезнях рождай» тоже наведет критику: «Не всякой, – скажет, – женщине надо рождать». Нет, теперь нельзя стало брать землю в неподвижности, как плотники, – революция с сопровождающей ее «переоценкой ценностей» и до земли добирается и гоже, быть может, ищет опоры, чтобы своим рычагом повернуть самую землю. Да, конечно, мы теперь вплотную подходим к уяснению сложнейшего понятия природы, в которую вошли и мудрость Библии, и старая революционность Руссо, и эстетизм Рёскина, и этика Толстого, и пантеизм Гёте, и многое множество всего и всех, – тут: язычники, славянофилы, механисты, народники, биологисты, дачники, спортсмены, огнепоклонники. Нельзя теперь безоговорочно ставить рычаг свой писателю на такую землю еще и потому, что публика наша, имея за своей спиной отцовскую церковную книгу, с одной стороны, с другой – книгу надуманного символизма и устарелого модернизма, читая, привыкла непременно догадываться о таинственных замыслах автора: вот, мол, он что выводит. В большинстве случаев ото происходит от внутренних потемок, слабости, страха и жажды авторитета. Напротив, люди, определившие себя на свержение авторитетов, гордея в победах, деревенеют и, получив звание присяжных критиков, всем ферейном расшифровывают все непосредственное на свой заумный язык и такое навязывают автору, чего тому и не снилось.
Так вот по всем этим сложным причинам стало так, что о природе писать просто нельзя, никто твоей простоте не поверит, напротив, чем проще напишешь, тем подозрительней сделается критик и так тебя разъяснит, что в другой раз о природе писать никак не захочется. Вот почему в природе я рычаг свой решил в этот раз поставить на советское хозяйство и говорить в этой книге, посвященной южноуссурийским зверям, исключительно с точки зрения его интересов. Выходя, таким образом, из рамок привычно бессознательной работы «на счастье», я хочу искренно и производительно приспособиться, как рассада у огородников при пикировке: огородники подрывают корешки, а капуста через это раздражается, собирается со всеми силами и лучше растет. Так тоже многие реликты в Уссурийском крае, вроде амурского винограда, до того приспособились и так сжились, что туземцы и не подозревают странности, когда говорят о винограде, как мы о клюкве: «Самый вкусный виноград, мол, начинается, когда его хватит морозом». С другой стороны, «мороз» является не только с новой средой, но всякий мастер, зрея, доходит до своего собственного мороза, расстается со своей звонкой юностью и не может, как даровитый юнец, счастливо дуть в одну только собственную дудочку. Ко всему этому мне уже давно хочется отделаться от своих случайных попутчиков, чтобы мою природу не смешивали ни с дачной, ни с мистической, ни с той мечтательной природой поэтов, грустных от бессилия сохранить ее желанную девственность. Современный биолог, пожалуй, и очень задумается о таком понимании девственной природы: где она теперь, эта девственность, и была ли когда-нибудь природа сама по себе без влияния на нее человека? Во всяком случае, если и росло что-нибудь на земле без свидетеля-человека, то наше современное представление о девственной природе есть легенда, сотворенная, по всей вероятности, тоской недавнего земледельца, поставленного в условия городской тесноты. Но есть бессильная тоска с мечтой о небывалой девственной природе – золотой век – и тоска, создающая новое качество. Конечно, я всегда особенно много любовался птицами и был потрясен в существе своем, когда человек полетел. Скоро, однако, мой восторг перешел в ровное состояние духа при виде самолета; я привык, ничего более не вижу особенного в том, что человек летает, но никогда раньше, как теперь, не понимал я так остро прелесть птичьего пера, ее бесшумного полета и, главное, – воли птичьей: хочет – летит, а то присядет на крышу, оправится и как ни в чем не бывало дальше летит, даже еще и оглянется на тебя… Я хочу сказать, что все живое при механике живей выступает: чувство жизни страшно усиливается, и если утрата милых привычек одних повергает в отчаяние, то других в чувстве жизни собирает, сгущает до понимания всего живого как бы в родстве. Что это, – философия? Нет! эти личные догадки похожи на мятый пар, посредством него нельзя дела делать, но мятый пар в деле был.
II. Мерзлота
Да, конечно, нельзя называть философией все эти домашние догадки о жизни почти каждого разумного существа на земле; ближе всего этот мятый пар к тому, что называется «устной словесностью». Если, например, мне в этом «открыться», то во мне живут два мои личные домашние миропонимания; одно вышло, вероятно, от Дарвина, – я понимаю мир в развитии и совершенствовании, в борьбе за существование до полной победы и достижения единства в идее и единства в чувстве восстановления всеобщего родства между всеми живыми существами на земле. Так я думаю, когда мне хорошо, все удается, и я что-то создаю: это – моя личная рабочая гипотеза. Но если я в упадке, то, бывает, приходит на ум, глядя хотя бы на электрическую лампочку, что ведь, в сущности, это же есть маленькое солнце и что большое-то солнце есть одна из небольших лампочек Вселенной, сделанной когда-то человеком. Так случилось, вероятно, что тот большой человек в своем развитии вдруг почему-то остановился и погиб, а дела его остались. Солнце, звезды, планеты продолжали ходить, как при нем. И когда земля отдохнула и начался опять рост человека, его постепенное понимание, то это прежнее дело очень развитого человека предстало нам как законы природы. Вот, видите, в своих сокровенных догадках, даже при несварении желудка, я – не пессимист. Нет! я честно признаю электрический свет, отдавая солнцу лишь умеренное предпочтение: пусть эта большая прежняя лампа господствует днем, но зато ночью вся сила света поручена электричеству, и пусть солнце первое, и от него в конце-то концов в нашем мире является свет, зато электричество при помощи счетчика отлично можно учитывать и управлять, пуская ток, когда только вздумается. И вот, глубоко передумав все «за» и «против», я ставлю свою пишущую машинку на лесенку нашего вагонного купе и пишу о природе исключительно с точки зрения советского хозяйства. Но, конечно, само собой, это не обязывает меня подавлять свою личную волю и понимать советское хозяйство с точки зрения бухгалтера. Для художника советское хозяйство есть просто точка опоры экскаватора слов, образов, понятий, всякого рода находок в самородках, россыпях, случайных соединениях, при всевозможном освещении. Не надо понимать тоже, что дело идет о чистой эстетике. Возьмем, к примеру, известные слова: вечная мерзлота, по всему своему смыслу – и эстетическому, и чисто хозяйственному – как бы осуждающие на вечное бесплодие сибирские области размером в несколько европейских государств. Теперь при новых исследованиях оказывается, что граница вечной мерзлоты в вертикальном положении – величина переменная и зависит от степени культурности обработки верхнего слоя земли: чем лучше почва обработана, тем глубже уходит мерзлота в подпочву, а тем самым и вся поверхность эта выводится из сферы как бы предвечного осуждения ее на вечную мерзлоту. В соответствии с хозяйством, и с чисто художественно-словесной стороной, и с моральной мерзлота вызывает в нашем представлении мерзость, и когда мы узнаем, что мерзлота эта не вечная, что от нас самих зависит освободить мир от мерзавцев, то вместе с тем выходим мы из состояния безнадежности, почесываем руки и тренируем мускулы на борьбу с мерзавцами. Вот именно в этом смысле я примыкаю к общему движению и точку опоры своего рычага переношу с просто земли на советское хозяйство именно с целью изменения старой и даже создания новой, какой-то лучшей земли с ограниченным количеством мерзавцев.
III. Даурия
К счастью, земля дебрей Уссурийского края, которую предстоит мне описывать в этой книге, столь удивительная, что не нужно никаких усилий воображения при создании новой земли. Нам, свидетелям недавнего прошлого, особенно интересно и полезно в смысле гигиены революционного глаза попасть на землю, где нет ничего пушкинского: нет нашей росы, нашего инея, птицы поют по-другому, сорока голубая, вороны черные, как грачи, туман, гроза не такие, ветер – тайфун – дует по-другому, разрушение скал чрезвычайно быстрое, так все и сыплется с хребтов Сихотэ-Алиня, все совершенно не как у нас, и если какой-нибудь воробей покажется нашим и пусть он действительно в точности будет наш, все равно, как станешь подозрительно к нему приглядываться, то благодаря этому особенному вниманию откроешь и в старом воробье такое, чего дома у себя никогда бы и не заметил. Самое главное на этой новой земле, что нет здесь рутинной связи, нет пушкинского перехода от сезона к человеку, сколько ни ищи, ни воображай, ни угадывай – отцов своих на этой земле не найдешь, и среди этих падающих скал, наводнений, тайфунов ты должен поневоле вызывать в себе самом вечно новые силы. Одно время японцы говорили, что будто бы сам бог создал эту землю для японского риса, но все партизаны в один голос рассказывают, что японцам в этих непривычных климатических условиях во время интервенции очень плохо пришлось. Китайцы давно признаны ненадежными колонизаторами этого края, они тут в отхожих промыслах и посылают отсюда лишь скудную лепту своей «маме» в Шанхай. Движение русских известно: они шли сюда исстари за длинным рублем, извне – великаны, изнутри – грустно неслаженные, обреченные, подобно газу, на вечное расширение или на обратное сжатие под давлением <…> Того человека, пушкинского, гармоничного, чтобы можно было от грозы перекинуться к Илье-пророку, от пророка к богу Перуну, от росы к ландышу и тургеневскому «Дворянскому гнезду», от бекаса к Аксакову, – тут нет совершенно: все лето пройдет, и грозы не услышишь, или один раз глубокой осенью она ударит перед самой зимой, роса такая, что искупаешься в ней, сидя верхом на лошади, и бекасы какие-то даурские. Раз где-то в этой южно-приморской тайге нашли совершенно культурный виноград, и некоторые догадываются, будто это – остатки почти мифического Бохайского царства, исчезнувшего, подобно Даурии – цветущей стране мирного труда. И тут, и на Амуре, и по всему Забайкалью мы постоянно встречаемся с остатками этой исчезнувшей страны – Даурии. Мы встречаем здесь повсюду даурские цветы, даурские деревья, даурских зверей, птиц, рыб, но человека-даура больше нигде не увидишь, как будто он был здесь только для того, чтобы оставить в природе идею даурского единства. Как это похоже на то, что, вероятно, и не мне одному сказочно приходит в голову: будто человек построил Вселенную и не докончил дела, исчез, а мы теперь разбираем его следы и по следам, как по законам природы, хотим опять создавать нечто новое… И как не вспомнить эту сказку-догадку, когда ходишь по земле, где от человека остались одни прилагательные: даурские растения, даурские животные. Так вот я видел какую-то богатую, но оставленную человеком землю, как без отца, без матери беспризорное дитя. А то, бывало, покажется тут все вроде как бы до сотворения мира. Не скрою, не раз я возвращался сердцем к родной природе и удивлялся сам своей наивности, как это я раньше не замечал, что в нашей родной природе я любил человека родного, а сама по себе природа без человека – это совсем другое и что-то кошмарно непереносимое, если только не забываться в каком-нибудь постоянном делании, хотя бы чисто внешнем. Случалось ведь ехать верхом по долине, заросшей зачем-то мокрой полынью и – какая нелепость! – высотой больше человека, сидящего на лошади! Случалось в горном распадке на дереве разбирать вырезанные когда-то корейскими или китайскими охотниками слова: «Никто не ходи, чики-чики будет!» (Значит: место занято, а пойдешь – попадешься под пулю.) Случалось, до того подавит тебя эта природа, так уморишься душой без близкого тебе человека, что вот где-нибудь, лежа на скале у моря, почувствуешь ясно, как эта скала под тобой ходуном ходит и тужит, и тужит. И когда очнешься и сообразишь, что не скала это, а сам ты, человече, дышишь и тужишь, то как вот тогда, бывало, хорошо поймешь первобытного человека, населявшего мир богами, созданными им самим по образу своему и подобию. И когда к этому вспоминалось, что была когда-то страна мирного труда Даурия, то невольно, бывало, от нечего делать начинаешь заселять ее своими родными даурами, своими растениями и родными животными. Вот мы воспользуемся теперь этими переживаниями и те обрывки знаний, разные впечатления в путешествии по такой необыкновенной земле, записки, сунутые комочками в карман, соберем в единство как будто бы для восстановления исчезнувшей с лица земли этой Даурии.
IV. Дерсу Узала
Мое путешествие в Южноуссурийский край началось с книги В. К. Арсеньева и особенно, когда при счастливой случайности сам автор этой известной и многими любимой книги встретился со мной лично и увлекательно рассказал о своем замечательном герое Дерсу Узала как о живом человеке. И вот случилось, в наше-то время беспощадной борьбы со всяким суеверием и самой твердой рационализации первобытный человек, суевернейший анимист Дерсу Узала, понимающий каждую ворону, как «люди», вышел на советскую арену жизни и сделался одним из любимейших героев юношей. Конечно, это стало возможным при оговорках рационалиста-автора, понимающего анимизм Дерсу просто как особенно сильную любовь к человеку и всему живому, из чего сложился человек. Я хочу сказать, что Дерсу явился на советскую арену не сам по себе, а через Арсеньева, что к следопытству инстинктивного человека Дерсу присоединяется следопытство разумного этнографа, вернее и точнее – инстинкт дикаря сохраняется и продолжается в разуме ученого. Но это выходит, если много раздумывать, а прямо нигде не сказано у Арсеньева. Мне же хочется, чтобы в нашу Новую Даурию Дерсу вошел именно как ученый строитель жизни, каким, несомненно, в известной степени был сам Арсеньев, но никак не его дикий гольд, безвестно умирающий в тайге, как всякое животное. Да, пора же наконец рассеять чары американских романов, прославляющих дикарей-следопытов, и возвеличить не последних из могикан, а первых из первейших следопытов, ученых-аналитиков и собирателей красивых планов жизни – художников. Итак, уже читая книгу Арсеньева, я догадывался о новом герое Даурии, новом Дерсу, а когда ко мне в комнату вошел В. К. Арсеньев и стал рассказывать о том, как удалось ему написать свою книгу, то догадка моя, что в Арсеньеве было больше Дерсу, чем в диком гольде, стала для меня существующим фактом, и путешествие мое в Уссурийский край с целью собирания материалов для Новой Даурии и ее нового героя, нового Дерсу, бессознательно началось именно в ту пору. Одна черта особенно меня поразила в рассказе Арсеньева о том, как он написал свою книгу. Оказалось, он никогда не думал о книге и особенно о такой поэтической, как «В дебрях Уссурийского края». Военный топограф и этнограф, охотник, много лет работал в тайге и постоянно вел одновременно четыре дневника – общий и три специальных. Работа над этими дневниками, само собой, происходила в конце трудового дня, после какого-нибудь трудного перехода, на отдыхе, часто возле костра. И случалось, все стрелки уже спят вокруг костра вповалку, и спутник экспедиции Дерсу Узала тоже где-нибудь прикорнул, а начальник их, Арсеньев, записывает при свете костра, – да, и так случалось не раз, что половинка фразы напишется, а другая прикладывается спустя несколько минут невольного сна. Но даже и под таким давлением сила поэзии не замерла, и друзья, перечитав дневники, рекомендовали Арсеньеву написать книгу. Сам В. К. Арсеньев рассказывал мне, что он был совсем неумел в литературном деле, его затрудняло, например, событие одного года переносить в другой, и даже на мгновенье он становился в тупик, когда приходилось перенести что-нибудь в дневнике со среды в пятницу. При этом рассказе Арсеньева мне приходило в голову, что вот иногда настоящая поэзия и дается именно тем, кто не сознает себя поэтом и хочет только правду сказать, все выходит сюрпризом, как в «Фаусте», – Мефистофель стремится к злу, а выходит добро; так и поэт: хочет правды, а выходит поэзия. Как занятно! Только не надо выводить, что с одной правдой можно достигнуть поэзии, что не надо учиться поэзии и хотеть ее. Но, несомненно, преобладание или стимул этики был у всех крупнейших русских поэтов, и вот именно это преобладание моральных начал выдвинуло Толстого на первое место среди мировых писателей только что прошедшей эпохи. И потому я думаю, что героя Новой Даурии лучше сделать ученым и общественным деятелем, чем поэтом; новый Дерсу будет у нас искателем истины и правды, а Даурия через это станет красавицей. Мне помогают представить героем Даурии ученого, конечно, новая наступающая эпоха единства всех народов в строительном плане жизни и вместе с тем каждого, даже самого маленького работника, высоко поднимающая морально атмосфера общего дела. Если же оставить мир ученых, как он теперь существует, то – невеселый это мир борьбы самолюбий: ведь не всем же много дано, а часто именно тот, кому мало дано, хочет добрать чем-нибудь лежащим вне труда и таланта. Часто истинный талант прячется, отступает в тень перед бездарным претендентом, смелым и требовательным в своем аппетите. Самым характерным для Новой Даурии, мне представляется, будет то, что каждое личное достижение в области науки или искусства будет встречать среду сорадования, через которое изобретатель или торговец будет удесятерять свои силы и заражать своим примером других, творчество сделается всюдным делом. На больших заводах-втузах, как Уралмашстрой, мы находим эмбрионы Новой Даурии в рабочих предложениях: соревнование там до такой степени побуждает рабочих, работая, думать, что директорам едва времени хватает расценивать и применять рабочие изобретения. К сожалению, в мир науки и искусства это веяние радости общего дела еще не дошло, и даровитый человек остается индивидуалистом, окруженным миром шипучих, бездарных завистников. Вот отчего никакой пророк не признается в своем отечестве, и вот отчего, например, прославленная и у нас и в Европе книга «В дебрях Уссурийского края» на месте своего происхождения не пользуется равным почетом. Там Арсеньев – свой человек, и за свойством, как за деревом, не видно леса его достижений. Назови Арсеньев какую-нибудь маньчжурскую лиану научно неверным именем или вот хотя бы (это и случилось) леопарда пантерой, как завистники скажут: «Все хорошо, только немного привирал», – и напомнят лиану и леопарда. Охотник-ревнивец плечами пожимает, читая у Арсеньева описание медвежьей охоты: да ведь в Уссурийском крае столько медведей, а здешние стрелки друг другу стаканы пулей на голове разбивают, – плевое дело медведя убить, а он расписывает. Бывает, личная профессиональная ревность на нашей старой земле и широкому человеку закрывает глаза на мир творчества другого, гораздо более широкого, чем он, человека. Так вот есть на Дальнем Востоке один из самых лучших стрелков и охотников, немолодой человек, ровесник Арсеньева. Я хочу говорить о нем только хорошее и не буду скрывать его имени, это – старший егерь огромного парка пятнистых оленей на полуострове Гамов Иван Иванович Долгаль. Вот как только зашла у пас с ним речь об Арсеньеве, он прямо сказал:
– У него об охоте ни одного слова верного, все ложь!
И начал доказывать, что не китайцы с их лудевой являлись истребителями уссурийских зверей, а корейцы с их собачками. Корейцы – самые хищные погубители изюбра и пятнистого оленя, а не китайцы, как сказано у Арсеньева. Все ложь, даже и то неверно, что Дерсу Узала был гольд, на самом деле он был таз.
– Ах, Иван Иванович! Вы – такой знаменитый охотник, такой замечательный стрелок, неужели вы не поймете, что книга Арсеньева мало пострадает, если Дерсу в ней будет тазом или гольдом, как вздумается автору.
– Как же не пострадает, – изумленно ответил охотник, – вон идет пятнистый олень, а я назову его вам изюбром, так и если гольда я назову тазом: гольд есть гольд, а таз все равно, что китаец.
– Китаец!
И вдруг мне все стало ясно, и не только то, почему именно Арсеньев таза-китайца гольдом назвал, но и гораздо большее: самое широкое понимание арсеньевского Дерсу в его происхождении. Иван Иванович прав: Дерсу – действительно по существу своему китаец, каких множество живет во Владивостоке: они там точно так яге мило говорят по-русски, как говорит гольд у Арсеньева, и каждый старожил Владивостока имеет среди китайцев друзей, о которых про их верность и способность все переносить, и разговаривать по-дружески с воробьем и вороной, и выручать из беды расскажет совершенно то же, что рассказал нам Арсеньев про своего гольда Дерсу. И долго ли я был на Дальнем Востоке, но у меня в отношениях с китайцами уже наметился свой Дерсу, и я сам, если бы мне привелось сочинять книгу «В дебрях Уссурийского края», назвал бы своего Дерсу гольдом, потому что слово «китаец» навязывает привычно неверное представление.
Так бывает, внезапно в каком-то пустом, почти шутливом разговоре вдруг очень много откроется. Только потому, что Иван Иванович в своем охотничьем рвении к правде намекнул на китайское происхождение арсеньевского Дерсу, я вдруг увидел, что все любимейшие простонародно-русские герои Толстого, Достоевского, Тургенева, Лескова и, пожалуй, всех крупных русских писателей точно так же, как и Дерсу, восточного происхождения; что Арсеньев, описав китайца Дерсу, закончил галерею восточников русской литературы, и я в своем смутном искании героя Новой Даурии, поддаваясь, вероятно, воздействию сил мирового синтеза нового человека по материалам Востока и Запада, стремлюсь нового Дерсу сделать одновременно строителем внешнего мира и победителем воинствующего мещанства Европы.
Так мы шли, беседуя с егерем, в горном распадке; тут, под грудой камней, глухо журчал ручеек, текущий в океан, я проследил его течение от самой первой болотники наверху, на скале, откуда он вытекал, создавая распадок, покрытый роскошными цветами. Сколько камней наворочено! И каждый камень препятствовал ручью, каждому камню хотелось бы этот ручеек прекратить. И когда мы с охотником пришли к берегу и увидели, что наконец-то этот ручеек достиг океана, как тут было не подумать о трудностях нашего пути в Новую Даурию.
– Эх, Иван Иванович! – сказал я охотнику. – Если бы мы с вами могли так хорошо врать, как Арсеньев!
– Не нужно мне, – сумрачно ответил он. – Жизнь пережил и без такого вранья.
Мы были на берегу океана, и тут в голубом свете от неба и воды насквозь стало ясно, о чем ратует знаменитый стрелок. Ведь Иван Иванович был в той же самой экспедиции с Арсеньевым, что и Дерсу. Иван Иванович – такой стрелок, что никогда не расстается с своим маузером, и у него даже от этого одно плечо немного ниже другого, и если случится когда-нибудь (я это раз видел), что на этом более низком плече не висит маузера, то все равно время от времени плечо это поддергивается, чтобы перебросить повыше ремень отсутствующей винтовки. И вот представьте себе, что о таком-то стрелке, об Иване Ивановиче, во всей книге Арсеньева нет ни одного слова, а как отличный стрелок представлен Дерсу Узала, на самом деле, по словам Ивана Ивановича, никуда не годный стрелок.
– И никакой он не гольд, а просто таз! – отрезал Иван Иванович, как бы в окончательный расчет и с Дерсу и с Арсеньевым.
– Иван Иванович, будьте справедливы, мы, читатели, не тем восхищаемся, что Дерсу был китайцем, или гольдом, или тазом и отличным стрелком, а что человек-то он был уж очень хороший.
– Человек Дерсу был хороший, – согласился Долгаль, – это правда, и сам Арсеньев как человек замечательный, он, как сокол, всю Уссурийскую тайгу облетел – нелегкое дело! Но только я хочу одно сказать, что сокол полетает в небесах и сядет отдохнуть, а Владимир Клавдиевич, бывало, залетит в небеса и не спустится.
V. Советское вино
Теперь, когда я уже давно вернулся с Дальнего Востока и как бы второй раз путешествую, пересматривая и перерабатывая все виденное в первом путешествии с точки зрения Новой Даурии, мне иногда досадно бывает думать: сколько времени пропало у меня и что бы я наделал, если бы только знал вперед этот возникший у меня только в пути план Новой Даурии! Правда, сколько бы я насобирал всякой всячины, если бы только, глядя на новые вещи, отчетливо сознавал, что вот эта моя, а этой не надо! Так именно представляется деловому человеку, когда он ясно видит план работы и хочет скорее закончить ее в правильном расчете, что время есть деньги. И когда у нас так чисто по-деловому захотели поставить литературу, то при отчаянном рвении молодежи к писательству вышла хорошая, деловая агитационная и осведомительная литература очеркистов, рабочих и колхозных корреспондентов, без всякого отношения, однако, к существу, стоящему за написанным словом и за него отвечающему в своей совести: «Еже писах, – писах». Просто сказать, деловое строительство увлекло за собой молодого писателя, и это вполне понятно, и что об этом долго говорить, если чувствуешь, как и тебя, старого воробья, увлекает создать по-инженерному, с точным расчетом, план Новой Даурии. Между тем, если глубоко разобраться в мотивах поездки, то окажется, что за спиной простейшего первого побуждения стоит работа всей жизни, всю жизнь растущая во мне самом Новая Даурия, неведомый в существе своем социальный заказ, яснеющий только в опыте, но не в заказе редакции. И тем не менее с внешней стороны причина моей поездки носит именно редакционный характер. Лето было такое, что все ехали на строительство. Газеты всем, даже мало-мальски грамотным очеркистам, давали возможность путешествовать, и я тоже, смущенный в своих житейских основах, пустился, как юноша, странствовать. В этом я был совершенно как все, но дальше в выборе темы уже сказывается мое личное, влияние той самой Даурии, подсознательно определяющей все мое движение вперед как писателя. Выбор тем у меня был необъятный, и в особенности меня соблазнило советское вино: предлагали ехать на Кавказ, жить в каком-то роскошном дворце, ездить из конца в конец по Грузии и Армении, везде пробовать вино в погребах и эту винную сладость, вязкость и легкость, золотистый и рубиновый цвет описывать в плане достижения. Вот тема! Какой в мире нескучный писатель, поэт, сохранивший еще в себе радость жизни, отказался бы, а я – как это мне больно сказать! – я… отказался и предпочел уехать па край света и поставить редакции свою собственную тему: пушнина и звероводство на Дальнем Востоке. В наше время, когда только-только миновала пора уравниловки и обезлички, еще найдутся люди, способные объяснить мою самовольность индивидуализмом, чуждым мне по природе и самовоспитанию. Нет, я хочу сказать, что во всяком, даже и самоотверженном, поступке для общего дела непременно должен быть какой-то еще второй Сам, способный отвергаться от себя самого. И мне думается, – сужу по себе, – что этот второй, самоотвергающий Сам, во-первых, есть существо социальной природы, во-вторых, он состоит из ничем не удовлетворимой подвижности или, просто скажу по-старинному, мечты, как это ни кажется теперь слово смешным. Согласитесь со мной, однако, что всякая мечта смешна только потому, что слаба, и тоже мечта бывает безумная, если забирает в себя весь разум человека, но если мечта не слаба и разум, осторожно присматриваясь к ней, забирает ее в свои руки, то, по-моему, мечтать можно и даже очень полезно. У меня была мечта с детства уехать в такую Америку, где, как у Майн-Рида и других американских поэтов, замечательно хорошо среди необыкновенных зверей и девственной природы. Попробовал убежать, – не удалось. А когда пришла юность, я перенес эту Америку из природы в человеческий мир и затеял с товарищами всемирную катастрофу, и за этим опять неудачным этапом – новая попытка, еще и еще. Так мало-помалу я посредством личных катастроф все более и более приближался к чему-то реальному и почти ощутимому, пока, наконец, не оказалось, что «Америка» находится тут, в наших повседневных поступках, и «довлеет дневя злоба его». Теперь, когда жизнь улеглась прочно в берега сознательной воли и в то же время пришлось наравне с юношами странствовать, то мне вспомнилась моя детская мечта убежать в страну зверей, в Америку, и теперь захотелось переделать ее в нашу Америку и присоединить к ней вторую, уже мою человеческую Америку юности, которая осуществляется теперь в деловом плане советского хозяйства. Вот на этом этапе сознания я и остановился, когда, отвергнув, признаюсь, до крайности соблазнявшую меня, но не свою собственную тему вино, я взял тему звероводство и отправился в Пушной синдикат изучать материалы, необходимые для специального корреспондента по вопросам пушного хозяйства и звероводства. Я еще повторю: что писать для меня – это значит второй раз путешествовать и все вновь передумывать, в отношении Новой Даурии. Но все-таки я должен сказать, что, когда я еще и не ездил, а только шел в Пушной синдикат, в скрытом состоянии со мной была вся Даурия, и чувствую, едва ли хватит мне жизни выявить ее всю на свет и совершенно раскрыть.
VI. Наша «Канада»
Теперь приступаю к самому делу. Пушной синдикат – это новое учреждение, недавно перелинявшее из Госторга, нечто такое огромное и бесконечно трудное, что мне совсем ничего и невозможно о нем сказать, кроме того, что учреждение это из всех виденных мной в жизни оставляет впечатление самого путаного. Наверху я ничего не добился, кто-то всепонимающий уехал неизвестно куда, кто-то еще не пришел, и неизвестно, когда придет, а сам председатель вот только-только сел на пушной стул и начинает разбираться в делах. Внизу, где-то в подвалах, специалисты долго учили меня разбираться в мехах. Одно время я как будто уже начинал было подниматься из-под навалившейся на меня тяжести, как вдруг вовсе забился в подробностях классификации беличьего меха и, слушая речь, как журчащий ручей, отдался на волю провидения. Наконец кто-то в синей блузе узнал меня, взял за руку и увел в средний этаж, к ученому-звероводу, и тот перед огромной картой, показывая длинной палочкой, стал рассказывать очень хорошо. Жалею, что не могу так дельно описывать, как он рассказывал: на бумаге получится просто география. Но я чувствую, что как-то необходимо надо дать об этом понятие, что этого у нас не знают и даже ясного понятия об этом нет: вот если я захочу про это же сказать в Америке, то я назову «Канада», и меня сразу каждый поймет, что я говорю о зверях, и если я назову Майн-Рида или Джека Лондона, то назову поэтов этого жанра, но у нас то же самое, материально безмерное, как-то не собрано еще в единый фокус «Канада», и тоже из писателей этого жанра, в уровень американским, можно назвать только В. К. Арсеньева и его единственную книгу, не всеми еще и прочитанную, – «В дебрях Уссурийского края».
Мой зверовод часа два истратил, чтобы только с самой краткой характеристикой перечислить районы пушных богатств страны, заповедники, биостанции, зоосовхозы, зоофермы, и все-таки сейчас я не могу сказать, где же именно находится наша «Канада» природная, и в то же время, где именно сосредоточены все наши усилия и достижения на этом пути. До сих пор у нас нет еще простого справочника с перечислением и характеристикой этих пушнорайонов, зоосовхозов, заповедников, биостанций и зооферм, хотя мы в мировой торговле пушниной стоим на втором месте после Канады и наши государственные притоки валюты располагаются от пушнины прямо после леса.
Так вот пусть же за отсутствием материального фокуса и у нас это дело будет называться «Канадой». Теперь надо себе представить карту всей страны, выделить из нее центральные населенные и перенаселенные места, промышленные, новое строительство, из всего остального огромного зеленого выбросим лес, как первый источник валюты, и за вычетом из всего зеленого леса останется собственно наша «Канада», второй после леса источник дохода: охота. В этой нашей «Канаде» есть все: климаты и ландшафты, но тайга преобладает, и в тайге самое характерное, чего нет в настоящей Канаде и нигде на земле, – это соболь. Конечно, в смысле пользы в наше время соболя даже и сравнивать нельзя с белкой (белка числом берет), но стоит лишь вспомнить прошлое, и начинает казаться, будто не только был соболь пушным золотом, но как будто и главным стимулом расширения, продвижения русских в Сибирь. Так было, что казаки, продвигаясь по Сибири, облагали население соболиными шкурками, и этот соболиный ясак был и заманкой движения, и реализацией завоевания. Так шли казаки за соболем и дошли до конца: Тихий океан с островами. Идти дальше некуда, предел расширения достигнут, и начинается с тех пор сначала медленная, а потом катастрофическая деградация соболя. Итак, если долго думать о соболе, то кажется, будто он именно и был причиной завоевания Сибири и гибели цветущей Даурии <…>. Нельзя тоже отвязаться от мысли, что по достижении предела расширения кончилась империя и все силы народов были брошены на строительство, и вот именно тут, во время этой великой горячки, а не тогда, в эпоху расширения, был открыт закон размножения соболей в неволе. Так на соболе все и сказалось, зверек сделался зеркалом жизни империи и знаменем перехода от расширения к строительству. И как не вспомнить при этом Дерсу Узала, первобытного ловца соболей, и не сопоставить этого дикого следопыта эпохи расширения с- тем ученым-следопытом, сумевшим понять в диком таежном хищнике нечто очень простое, о чем многие сотни лет не могли догадаться таежные следопыты. Но не только один соболь, каждый зверь начнет убывать, если на него без ограничения будем охотиться и перемещать шкурки его из тайги в страны всего мира. Вот тут-то и начинается вторая сторона «Канады», и самая трудная. Простым выходом при неизбежности деградации кажется искусственное размножение зверей и пополнение убыли, но искусственное размножение зверя бесконечно дороже естественного, и звероводство только один, и не главный, момент пушного хозяйства. Могучим средством охраны зверей в Канаде являются заповедники, но опять, если мы посмотрим на карту Канады, то тоже при той высокой культуре увидим, что заповедники занимают лишь ничтожную часть всего зеленого пространства. Их влияние велико, сроки промысла сокращены до крайности, но скорострельное оружие все совершенствуется и охотничий индивидуализм тоже растет: в короткий срок канадские охотники сметают все достижения заповедников. В других областях кулацкий инстинкт маскируется до того, что его часто бывает трудно открыть, здесь кулаку со скорострельным оружием в руке и в голову не приходит какая-нибудь маскировка. Вот тут-то и начинается своеобразие нашей «Канады», где поставлена цель трансформировать индивидуальную волю в свободу общественной личности. Внешним образом это и теперь достигается: раз некуда, кроме как государству, продать соболя, то стоит запретить, и убивать его будут лишь те немногие, кто пользуется контрабандными тропами.
При полном ограничении частношкурнического интереса в деле добывания зверя должен непременно в нашей «Канаде» развиться некоторый «идеализм», чрезвычайно желанный в деле охраны природы, и, несомненно, такой производственный «идеализм» замечается хотя бы в зоопарках, которые перестраиваются из простых зрелищ в школы биологического воспитания молодежи.
Специалист-зверовод, рассказывая мне все это, усиленно рекомендовал мне начать ознакомление с нашей «Канадой» в Московском зоопарке, где каждый зверь изучается непременно в целях акклиматизации и воспитания юных биологов. После этого следует осмотреть зооферму в Пушкине, после того… Специалист взял в руки палку саженной длины и начал водить ею по громадной географической карте. Вот тундры Севера, у прибрежья Ледовитого океана, где живут белые и голубые песцы, горностаи. Сибирская тайга – единственная в мире родина соболя, золота пушнины: соболиные шубы, соболиные брови, женщина в соболях или женщина в золоте, замечательно, – все собольи эпитеты можно заменить золотыми, и только соболиные зубы нельзя заменить золотыми коронками.
После сибирской тайги жезл моего учителя вдруг ринулся в самый низ карты: там в Арало-Каспийской области, в ее пустынях и полупустынях, водятся тигр, гепард, гиена…
Но все это меркнет перед своеобразием реликтового края приморья Тихого океана. Там – пятнистый олень, самый изящный реликт с драгоценнейшими целебными пантами; подобно тайге для соболя, приморье – это единственное место жизни прекрасного зверя. Пятнистый олень теперь как бы соединяет две культуры: мы для разведения оленя пользуемся методами европейской науки, а продукт – панты поступают в лекарства науки восточной, тибетской медицины. По-китайски этот зверь называется олень-цветок, и если соболь нам открывает картину народного расширения, то пятнистый олень сосредоточивает внимание па границе западной и восточной культуры: мы стараемся выхаживать этого оленя, пользуясь европейской зоотехникой, а потребителями ее продукта – драгоценных пантов являются только восточники с их тибетской медициной.
Так побывали мы во всех климатах, во всех зверопи-томниках, зоофермах, заповедниках. И тогда оказалось, что всюду: и там, на островах Японского моря, и в прибайкальской соболиной тайге, и на Каспии, и за Якутском, у берегов Ледовитого океана, – всюду в стране по вопросам пушного хозяйства и звероводства работают молодые люди, бывшие юные натуралисты Московского зоопарка. Мало того, под влиянием Московского зоопарка все зоопарки страны перестраиваются на работу биостанций, органически связанную. В то же самое время Пушной синдикат концентрирует все мало-мальски значительные звероводческие хозяйства в системе Пушногосторга: Байкальский питомник, Соловецкое звероводческое хозяйство, Дальневосточное оленное хозяйство, ряд маральников Сибири и Казахстана. Наряду с поглощением существующих хозяйств Пушной синдикат создал ряд зооферм. На тобольском Севере выстроена новая зооферма, а под Москвой, в Пушкине, за несколько лет выросла одна из крупнейших не только у нас, но и в Европе. Помимо того, Пушной синдикат приобрел ряд островов для устройства на них песцового хозяйстве: остров Кильдин в Ледовитом океане, остров Фуругельм в Тихом. Прошло всего три года, когда союзное звероводство стало развертываться, а между тем, кроме названных зооферм, организовался- целый ряд научно-исследовательских институтов и создан специальный вуз пушного звероводства и промысловой охоты. Такой быстрый рост пушного дела является, конечно, следствием осознания огромной важности для всей страны этой отрасли народного хозяйства. Между тем широкая публика и не подозревает, что таится под словом охота.
VII. Московские звери
В Московском зоопарке мне дали краткое понятие о перевороте в исследовательском методе естествознания, до того близком моему пониманию, что долго мне казалось, будто я сам давно это открыл и знал, но только не сумел высказать. Тысячу раз мне приходило в голову – почему же это, сталкиваясь с живой природой, мы на каждом шагу встречаем такое неизвестное, к чему еще не прикасалось никакое исследование, почему на все множество вопросов, которое мы ставим, ученые отвечают: «Это еще не исследовано». Вот уже несколько столетий ученые всего мира организованным порядком исследуют, и возьмите на себя труд, час пронаблюдайте воробья или даже муху, и после того вы непременно увидите такое, до чего ученые еще не дошли. Почему же дело узнавания и понимания природы так медленно движется? В противоположность ученым, неграмотные, но даровитые люди, следопыты всего мира и во всех областях знаний проникают во все частности, не умея обобщить свои наблюдения. Причина этому раздвоению натуралистов па ученых и следопытов, оказывается, в том, что до сих пор господствовало во всем мире естествознание, которое можно назвать лабораторным, с предпочтительным вниманием к тому, что только может поместиться на стеклышко под объектив микроскопа. Вот именно почему и раскололся исследователь на природного следопыта вроде арсеньевского Дерсу, скажем, вообще на индейцев, рожденных в недрах природы, как принято думать, имеющих в себе нечто недоступное методическому знанию; с другой стороны, исследование ведется лабораторными учеными. Вот теперь, в восполнение к лабораторным методам, явилась целая наука – экология, изучающая растение или животное не под микроскопом, а в их собственной среде. Так мы видим – в естественной среде журавль кормит своего маленького мухами. Мы беремся сами кормить мухами, и маленький журавль скоро умирает. И лабораторные ученые и следопыты могли бы еще сто лет рядом существовать и работать, и даже именно над журавлем, и те и другие не могли бы догадаться, почему журавлиха кормит и выхаживает журавленка, а если теми же мухами мы кормим – умирает. Но стоило только создать обстановку для точного эксперимента, как открылось, что журавлиха, передавая муху своему журавленку, дает в т о же время ему солянокислого пепсина. Для звероводства такой переворот имел неисчислимо благодетельные последствия, пожалуй, можно сказать, что он возвратил нас к делу, начатому доисторическими народами, к приручению диких животных. И, разумеется, мы развиваем в этом деле теперь не слыханную прежними людьми скорость, соответствующую внедрению интеллекта в это дело далекого прошлого человечества. А разве в других дисциплинах не было того же раздвоения и обоюдного ослабления типа человека: ученый озирается на недоступный ему опыт следопыта, а тот хорош только при добывании себе средств существования, где-нибудь в тайге, но чуть только вышел из своего маленького круга, как является нам существом крайне жалким. Мы можем восхищаться всеми этими дикарями, имея лишь в виду недостатки нашего собственного воспитания. Но стоит нам только оба этих типа прошлого соединить в одно, как ученый делается хозяином дела, полным человеком, и простой следопыт, прирожденный добытчик и хозяин, открывает себе двери к научному исследованию.
Переворот этот осуществляется незаметно, как бы у нас за спиной, и потому очень удивляешься скорости дела, когда встречаешь что-нибудь осуществленное на этих основах. Такой и весь зоопарк, преобразованный на совершенно других основах в какие-нибудь пять-шесть лет. Давно ли это было, что все звери содержались в клетках, люди гуляли под музыку между заключенными животными и выпивали крепкие напитки в буфете. Теперь ни музыки нет, ни крепких напитков в буфетах, и большинство зверей – на свободе. Зоопарк – теперь замечательная биостанция, лучшая школа для юных натуралистов и просветительное учреждение для широких масс. Но мало того: зоопарк никогда теперь не упускает из виду хозяйственные интересы страны. Кроме решенного чрезвычайно трудного вопроса об искусственном разведении соболей, делаются опыты с уссурийским енотом, который, по всей вероятности, в очень скором времени будет давать нам теплый и дешевый мех. А лось, этот быстрый бегун, почему бы и его не сделать полезным домашним животным, приспособленным для жизни в тайге; шкура не поражается, подобно оленьей, оводом. Нечего говорить о песцах, лисицах, красных, серебристо-черных, сиводушках, – тут уже много достигнуто, и почти на наших глазах создается такой зверь, что скоро на дикого предка, обыкновенную лисицу-кумушку, будут с таким же любопытством смотреть, как мы смотрим теперь на прародителей наших домашних кур. Вот то же с утками: кряква живет в зоопарке, как дома, и гулять летает на Москву-реку. Мы можем фотографировать эту утку в парке на расстоянии метра, а на реке она не подпускает охотника даже на выстрел. На всяких брошенных местах, зарастающих прудах, болотцах мы могли бы разводить эту полудомашнюю птицу очень даже рентабельно. Собственно говоря, каждое животное в зоопарке изучается и с хозяйственной стороны. Страус, например, в условиях зоопарка давал туберкулезное потомство, но еще в опытах Гагенбека оказалось, что если страуса держать не в тепле, а на морозе, то благодаря своему оперению он выносит отлично мороз и дает вполне здоровое потомство. Так, по-видимому, совсем нет препятствий для промышленного разведения в нашем климате страусов так же, как кур: по четыре пуда веса в одной курочке.
Все ли сказано? С большим трудом отделяю эти идеи от множества живых впечатлении. Волки прыгали вокруг нас выше и выше, стараясь подхватить брошенный вверх кусочек, из-под страуса доставали теплое яйцо, рассматривали, взвешивали и клали обратно, львица допускала близко рассматривать маленьких львят, зайцы просто лежали на виду, русаки, беляки. Раз мы услышали резкий стук. Пошли туда и увидели в бою двух горных козлов с их громадными рогами. Они становились друг против друга на задние ноги, валились вперед каждый на рога противника. Стукнув очень громко, так, что у нас от одного такого удара по голове все бы треснуло и помешалось, козлы повертывались, и недобросовестный в этот момент очень легко мог бы всадить рога в бок противника. Козлы это делали множество раз, и смотреть как будто было нечего, но мы долго почему-то не могли оторваться и каждый раз, когда козел мог всадить рога в товарища и не делал этого, повторяли:
– Как честно!
VIII. Борец и плакса
Остров зверей так устроен, что публика, отделенная от них посредством глубоких рвов, наполняемых водой, может наблюдать все подробности жизни животных. Кто из следопытов-охотников видел, например, как рожает медведица? Из рассказов о зверях, циркулирующих в зоопарке, можно бы составить очень интересную книгу. Вот один из этих рассказов о родах медведицы Плаксы. Почему-то вышло так, что беременности Плаксы никто в парке не заметил, и на зиму никаких мер в связи с рождением нового медведя не было предпринято. Огромный бурый медведь Борец устроился в нише стены, а самка его Плакса легла открыто напротив, у другой стены, отделяющей медведей, кажется, от тигров или каких-то других, несродных им зверей. Выбрав себе место повыше, хотя и под открытым небом, Плакса выгадала: при первой же оттепели в нишу полилась вода, и Борец там подплыл. Посреди медвежьей площадки росло большое дерево, обитое железом, чтобы медведи, когда им захочется почесаться, не портили его кору. Борец теперь при крайней своей беде отодрал все железо, слупил кору и принялся ее таскать к себе в мокрую берлогу. Драл он с дерева, сколько только мог драть, забрался на самую верхушку, свалился оттуда на бетонный пол, ушибся, долго тер ушибленное место лапой, сердился, ворчал и наконец отнес последний материал в берлогу и лег на корье. Самцы в природе ложатся от самок в отдельные берлоги, там им, по всей вероятности, нет никакого дела до родов медведицы. Вот наступили роды. Служащие парка, никак не ожидавшие такого события, поспешили сверху свалить Плаксе целую охапку соломы. Она очень обрадовалась подстилке и быстро на ней устроилась. Л Борец тоже не остался почему-то равнодушным к событию, поднялся и стал медленно приближаться к гнезду. Наблюдатели очень встревожились, опасаясь, что Борец покушается на жизнь своих медвежат. Плакса, конечно, сразу обратила внимание на поведение Борца и допустила его подойти лишь до середины площадки, после чего встала, подошла к нему и лапой дала ему такую затрещину по морде, что медведь свалился и закрыл голову лапами. После этого она вернулась к медвежатам и легла на место, не сводя глаз с побитого мужа. Отдохнув немного, Борец не встал, а пополз на брюхе, подвинется на полшага, взглянет на нее, прочтет в глазах запрещение и опять ляжет, а потом опять жуликом подается на полшага вперед, дальше, дальше, да так и подобрался к самой берлоге. Конечно, он обманул бдительность Плаксы покорностью, готовностью от одного только ее косого взгляда ткнуться рылом и закрыть себе морду лапами. Она до того успокоилась, что наконец решилась обернуться к малышам и, не глядя на разбойника, принялась их облизывать. Вот тут-то, выждав во всех отношениях благоприятный момент, Борец молниеносно вскочил, сгреб передними лапами солому и, высоко держа над собой копну, на одних задних лапах быстро промчал ее в берлогу, постелил поверх сырого, неприятно колючего корья и успокоенно лег. Поди-ка, медведица, подойди к нему теперь! Куда тут!
Ободранное дерево и теперь стоит. Плакса на том же месте, где родила, теперь играет с молодым медведем. Часто кто-нибудь из публики спрашивает:
– Зачем это медведям понадобилось ободрать дерево?
Тогда непременно кто-нибудь станет рассказывать о семейных повадках медведей и после рассказа непременно кто-нибудь выведет:
– Нечего сказать, отцы, вот так отцы!
* * *
Чем же это не рассказ? От сторожей, юных натуралистов можно собрать в короткое время сколько угодно подобных рассказов, и очень возможно, что ими хорошо бы можно воспользоваться для направления внимания посещающей парк публики. Это известно, что некультурный человек, видя зверя в природе, стремится, чтобы догнать его и схватить. На этом и основана вся охота любителей: спортивная культура первичного чувства. Но если в зоопарке нельзя зверя схватить, то можно подразнить, и так одни, склонные по природе первичного инстинкта к охоте, стремятся зверя подразнить, другие, склонные к приручению диких животных, добрые люди, кормят, и практика этого до того доходит, что кусочек хлеба, показанный мальчиком, заставляет подняться на задние лапы всех медведей на острове: там стоит на горе, там под горой возле рва, на дне его, если нет воды. – всюду стоят медведи, похожие на актеров, выступающих в какой-то звериной комедии. И неизвестно, от кого больше вреда, – кто дразнит зверей или кто стремится их покормить. Вот, например, лося, требующего очень осторожного кормления, публика своими подачками почти что совсем погубила. Тут и надо бы вмешаться в момент получения некультурным человеком от зверя первого впечатления и дать интересный рассказ, и не вообще (как начинает говорить руководитель экскурсии: «Вы видите перед собой лося, представителя млекопитающих»), а именно о всяком звере на основе опыта зоопарка. Если даже китайцы для европейского глаза при первой встрече кажутся все на одно лицо, то звери уж и подавно. Через несколько недель жизни в Китае, особенно если почаще ходить в театр и смотреть на актеров, у европейца как пелена с глаз спадает, и он видит в них людей таких же разных, как и мы. Вот это умение различать и зверей по лицу, как основное условие следопытства, и лучше всего приобретать в зоопарке. Хорошо, если бы юные натуралисты собирали рассказы о зверях, записывали их, сокращали, обрабатывали, чтобы потом возле зверя на черной доске крупно написать рассказ мелом. Из слышанных мною рассказов вот какой бы рассказ я написал о волках.
IX. Соляная кислота
Обратите внимание на эту волчицу. Она очень строгая и держит свой род в ежовых рукавицах. Известно ли вам, что в кормлении волчат участвует и самец: у нее в молоке не хватает соляной кислоты, и, чтобы восполнить это, волк-самец должен непременно в добавку к молоку матери отрыгнуть маленькому своей пищи, содержащей соляную кислоту. Вот случилось однажды, когда волчата сильно подросли и отрыжки для них надо было выбросить в сильный ущерб для собственного своего питания, старый волк понюхал щенков, а давать не стал, пожалел сам себя. Тогда эта старая и очень строгая волчица принялась тут же на глазах всех молодых и маленьких волков трепать их отца. Клочья шерсти старика от этой трепки летели в разные стороны, – вот как досталось! После трепки старый волк подошел к волчатам и выбросил весь свой запас. По его примеру другие волки, сильно напуганные, тут же подходили и выбрасывали щенятам свою пищу. Такой вышел памятный день, всем волкам – по серьгам: старому – взбучка, молодым – пример, маленьким – соляная кислота.
* * *
Провисит такой рассказик несколько дней и сменяется новым, биологический волчий матриархат уступает место рассказу о волке-враге, сером помещике, с умелой обработкой колонки цифр губительства скота.
X. Чайки
Старое естествознание породило множество учителей, перемудривших природу в такой же степени, как в былое время учителя классических гимназий перемудрили Элладу так, что древние языки проходились почти как наказание за грехи. Вот откуда, по всей вероятности, и явился в противовес мертвечине культ дикаря-следопыта в отдаленной стране. Новому натуралисту нет никакой надобности завидовать природному. Проживи в лесу хоть три жизни, не узнаешь о зайце того, что в короткое время можно узнать о нем в зоопарке. Зайцы тут – русаки, беляки, тумаки – днем у всех на глазах лежат, в сумерках встают, ночью гуляют по дорожкам, случается, выходят за пределы зоопарка, пройдутся по московским улицам, к утру же вернутся к себе в парк и лягут, а трамваи начнут бегать по улицам, где ночью зайцы ходили. Вот болото, никогда не подумаешь, что его привезли, все целиком, на грузовых автомобилях, поставили на дно большого бассейна, пустили из водопровода воды, и оно зажило, как и всякое болото. Вот кряква вывела здесь своих птенцов в тростниках на кочке и теперь выплывает с ними на плес. Цапля пытается схватить маленького, но кряква вмиг стала на крыло и надавала ей в затылок таких тумаков, что осталось ей только как можно скорее бежать. Вот на большом пруду сидит на гнезде над водой утка-лысуха. Самец откуда-то приплывает с длинной соломинкой в клюве, быстро передает ей и уплывает далеко к другому такому же искусственному, но пустому гнезду над водой. Он вытаскивает оттуда еще хорошую соломинку и мчит ее назад, чтобы передать в свое гнездо. И так у него работа весь день без отдыха. И все потому, что близится время выхода молодых лысух из яиц, а люди устроили гнездо слишком высоко над водой, вот и надо поправить ошибку: устроить из соломинок сходни для молодых. В синеве воздуха появляются белые чайки и летают над прудом, высматривают добычу. Откуда они взялись? Как они узнали, как попали сюда, на Кудринскую площадь, в центр Москвы, не побоялись ни копоти труб, ни грохота, сопровождающего столичную жизнь человека? И, конечно, побоялись бы, но появлению их предшествует живая, интересная работа молодых натуралистов. Живут эти чайки на озере, в двадцати семи километрах от Москвы. Раньше на это озеро охотники ездили пробовать резкость боя своих ружей. С хорошим боем ружья били насовал, с плохим давали подранков. Уезжая, охотники оставляли озеро, покрытое трупами чаек и подранками. Очень возможно, что охотники, как это часто бывает, в оправдание своего злодейства рассказывали, будто чайки для рыбного хозяйства являются очень вредными птицами. Но чайки, по исследованиям зоопарка, живую рыбу даже и вовсе не берут, изредка довольствуясь мертвой, а больше, как грачи, питаются червями, мошками и тем чрезвычайно полезны. Кроме того, молодых чаек удобно кольцевать в большом количестве и таким образом узнавать воздушные пути перелетных птиц. Зоопарк выхлопотал себе в Моссовете это озеро для научных работ, молодые натуралисты выгнали охотников и так занялись чайками, что теперь, через несколько лет разумного хозяйства, при взлете всех чаек с озера неба не видно и не слышно человеческого голоса. Всем им стало тут тесновато. Послали разведчиков, вероятно, во все стороны. В зоопарке встретили посланных с радостью, очень хорошо угостили, и так мало-помалу у чаек над Москвой установился правильный перелет с подшефного озера в зоопарк, к своему шефу, возле Кудринской площади.
XI. Соболь
В зоопарке живет несколько соболиных семейств, сыгравших историческую роль в звероводстве именно потому, что на этих соболях и была доказана возможность их размножения в домашних условиях. Следовало бы в самом зоопарке расширить опыты и потом уже дело промышленного разведения соболя передать на зоофермы. Но при современных условиях приходятся спешить, и на зооферме в Пушкине смешались две задачи: промышленное разведение и научные опыты. Тут целый соболиный парк, и огромные вольеры под сенью деревьев с мелькающими среди солнечных пятен гибкими зверьками доставляют большую радость наблюдателю. Но не скажу, что именно красота или какая-нибудь особенность поразила меня в соболе, скорее, даже напротив: именно ничтожество зверька по контрасту наводило мысль па огромную роль его в истории нашей страны. Вот именно роль! Сколько легенд, сколько усилий, сколько жизней! Волосы дыбом становятся от этих таежных рассказов про охоту на самих ловцов соболей, «фазанов» (китайцев, одетых в синее), или на «белых лебедей» (корейцев, одетых в белое). Как мало удачи, но зато как светит счастливый случай и поглощает или закрывает собой все напрасные надежды! Вот на снегу след ничтожного зверька – горностая, цена ему в сравнении с соболем совершенно ничтожная. Промышленник шел осматривать соболиные ловушки и не пошел бы по следу горностая, он завернул потому, что откуда-то взялся след соболя и зазмеился рядом с горностаевым следом: соболь пустился за маленьким чисто белым зверьком с черным хвостиком. След горностая пришел к засыпанному снегом кедровому стланцу. Но тут надо знать: стланец – это щетка из низенького кедра, такая частая, что по ней можно ходить человеку. Теперь снег занес совершенно кедровый стланец. Горностай быстро прокопал себе туда вниз в снегу дырочку, – или, может быть, она заранее тут была заготовлена? – нырнул и пошел там под снегом неведомыми тесными ходами. Соболю там не поймать горностая. Соболь ждет. Вот горностай выскочил из другой дырочки. Соболь – наперерез. Только бы схватить, но горностай – опять в другую дырочку. И опять ждать. Вот удалось! Горностай выскочил, соболь перехватил и выгнал его с площади стланца на суходол. Теперь загорелся промышленник: горностай прошел по его тропе, на его ловушку, и соболь за ним. Вот только бы гарь миновали. Прошло! Направо бурелом и завал, только бы горностаи не пошел по завал>. Нет! Теперь остается россыпь: следы горностая и соболя ушли в каменную россыпь. Ну, вот теперь из этой россыпи в другую, через небольшую полянку величиной в комнату, идет определенный соболиный лаз в другую россыпь, на этом лазу, на соболиной тропе, и стоит врезанный в снег очень искусно капкан. Обратного следа нет, значит, соболь был на лазу, и пусть он в россыпи догнал горностая и там съел его, ведь обратного-то нет следа, значит, сытый соболь непременно лазом пошел в ту, другую россыпь. Если он не ел и потащил тушку, то опять-таки непременно с тушкой должен пройти над капканом. Тут верное дело, и даже если горностай обманул соболя и ушел куда-нибудь россыпью. Соболю нет другого хода, так или иначе, но он должен пойти по тропе. Пройдет много лет, вся жизнь пройдет, а всегда будет помниться это нарастание уверенности, этот прилив радости. Вот и место капкана, вот издали видно – снег взрыт! Конечно! Счастливый охотник наклоняется к соболю, а в капкане горностай, и след соболя дальше дуром летит на прыжках от страшного места. Дальше можно принять охотника за безумного. Он вынимает горностая и, тихонько ругаясь, начинает бить головкой его о капкан. Потом он идет и бьет горностаем по дереву, по каждому дереву треплет и ругается все громче и громче. Совсем близко отсюда стоит у него кулемка и там приманка необыкновенная: змея, жаренная на меду и со всякими наговорами. Надо бы зайти, но он не может, он совершенно расстроен, треплет, треплет горностая и, швырнув его, завертывает к зимовью. Он не знает, что этот же соболь уже попробовал его жаренной на меду змеи и теперь из-под кулемки только его хвостик виднеется. Но не знает он самого главного, что завтра, когда он вынет этого соболя, его самого стукнет в затылок небольшая свинцовая пулька охотника за «фазанами» и «белыми лебедями».
Вот такой это роковой зверек! <…> А теперь вот какой-то ничтожный зверек, много тоньше кошки, если даже и не покороче, бегает себе по вольере. Вот именно не сам он, а роль его как золота, эта способность быть конденсатором человеческой жизни и распределяться между счастливыми людьми, как описано в арабских сказках, калифами и эмирами… Как не думать при виде ничтожного зверка, что вот казаки шли, шли веками, дошли до берега Тихого океана, как будто и некуда идти дальше, но вот, оказывается, земля как бы внутрь себя продолжается: двести соболей в тайге распределяются на огромном пространстве, но тут, в Пушкине, живут они все двести на каких-нибудь нескольких сотнях метров. И начинается новая история соболя и всей страны.
XII. Урал
Сколько раз обернулось вагонное колесо, пока наш поезд прибыл на Дальний Восток? А сколько мы, сидя прямо друг перед другом, постоянно беседуя, слов навернули, если всех их собрать и потом крепко обдумать? И мысли, конечно, были, потому что если две недели сидеть сложа руки и в окно смотреть, то самому глупому что-то в голову, как говорится, приходит.
Было одно озеро на Урале, вокруг по берегам будто маком посыпано: тысяч десять домиков, а то и больше, конечно, несколько церквей и трубы завода. Это ни город, ни село, ни посад, это по-уральски называется завод. Вот интересно вслушаться в смысл, когда произносят у нас это слово завод и на Урале: здесь, на Урале, завод понимается как-то вместе с жителями или даже, вернее, самый завод именно и есть люди, живущие здесь для вот этого огромного здания с трубами. Да, так именно и было, этот завод у озера обслуживался трудом крепостных, а церковь во вкусе Растрелли выстроили каторжники. Так весь Средний Урал усеян такими заводами, разделенными иногда настоящими дебрями лесов и болот. И, конечно, не все озера в этом Рудоносном Урале обсыпаны домиками, есть озера очень прозрачные, горно-спокойные и совершенно уединенные. Местные люди рассказывают нам в вагоне, как не раз случалось им видеть: медведь тут, наевшись в лесу каких-то корней, возбуждающих жажду, подойдет напиться к тихому горному озеру и долго лакает, пуская по глади большие круги. А раз – вот потеха! Видели, как Мишка вышел из леса на песчаную кручу, очень высокую, и вдруг она от его тяжести подалась и он, беспомощный, поехал вместе с песком и бултыхнулся в воду. Умный зверь не полез обратно па песок, а поплыл на другую сторону озера и взобрался по крутому берегу, оставляя на долгие годы на вязкой глине отпечатки своих лап, известно, очень похожих на отпечатки следа гигантского человека.
Есть одна сопочка, с которой видно сто одиннадцать пустынных озер. Отсюда Урал быстро падает к востоку и без всяких предгорий переходит в необъятную сибирскую степь, где ныне пашут колонны в сотни тракторов. Как вот тут не задуматься о покойниках, – поднять бы вот теперь каторжников и крепостных, работавших столько лет на уральских заводах, показать бы им Магнитогорск или, еще лучше, Уралмашстрой, где так рассчитано время, что каждый рабочий, тратя в день всего два часа на учение, через восемь лет должен сделаться инженером, притом не наемником-инженером, а настоящим хозяином дела. Время беспощадно, не поднимешь этих людей, но что говорить о мертвых, если время и с живыми так устраивает, что многие из них живут иногда целиком в далеком прошлом страны. Вот на Печоре, берущей свое начало в Пустынном Урале, до сих пор поют былины, петые еще при дворе великого князя Владимира. И на всем Урале, Пустынном, Рудоносном и Южном, найдется и сейчас сколько угодно людей, называемых кержаками, – они молятся не тремя перстами, как православные, а двумя и верят, что, начиная с Петра, все русские цари со всеми чиновниками, вплоть до самых маленьких землемеров и весовщиков, представляли собой антихриста, Зверя многорожного: царь – Зверь, а слуги его – рога Зверя…
Да, надо так понимать, что глаза Времени по сторонам не видят. Все, что в стороне, так и остается надолго в своем виде, а все, что впереди мешает ходу, то исчезает почти что молниеносно. Вот подумать только, что всего год назад на месте, где теперь наполовину построился гигантский завод-втуз, целый город с многотысячным населением, всего только год назад был лес как лес! Инженер и бухгалтер, работающие ныне на постройке завода вместе с сотнями иностранных и русских инженеров, всего ведь только прошлый год заблудились, собирая на этом месте грибы, и так основательно заблудились, что три дня жили, питаясь ягодами и обжаренными на палочке грибами. Теперь от леса на месте постройки остались только маленькие клочки, там и тут забытые, отдельно стоящие деревья. Рабочий поселок, состоящий из двух длинных рядов многоэтажных домов, оголился от леса совершенно, и, конечно, зря, потому что деревья же все равно придется на радость детям и для отдыха взрослых непременно сажать. Но это и в голову не приходит на постройке, – вон сколько леса синеет впереди, хватит лесов! Подите туда, поближе к этому лесу, и после Электричества, новейших английских машин и всевозможных курсов для рабочих удивлению вашему не будет конца: вы увидите тут менаду деревьев землянки, нарытые одна возле другой во множестве по опушке леса, окружающего всю расчищенную площадь гигантской стройки. Подземные жители явились сюда из деревень. Приехали они сюда издалека, за сотню и больше километров, на своих лошадях и работают на заводе коновозчиками. У них там под землей неплохо: между двойными тесовыми стенами набиты сухие стружки, пол деревянный и потолок, небольшая русская печь, и тут, как в деревне, возле печи постоянно баба хлопочет, ребятишки. Среди этих подземных жителей много кержаков, староверов, так понимающих, что новая индустрия есть продолжение царской, значит, дело антихриста. Есть, однако, огромная разница между этими староверами и прежними: в то старое время они сжигались в срубах за веру или навсегда уходили в леса, теперь же они работают на советской службе и только в свободное время потихоньку между собой очень осторожно приравнивают Уралмашстрой к Вавилонской башне. Но стоит ли придавать этому шепоту хоть какое-нибудь значение, если сами-то люди помогают постройке и шепотом своим себе только душу отводят…
Один из наших попутчиков недавно спускался туда, в подземелье, беседовал с людьми прошлого, погружался вместе с ними в мир древний, наполненный зловещими ссылками на какие-то зловещие тексты. Предложите им жизнь без текстов, решительную и ясную. Нет! Оказывается, что истинная жизнь возможна лишь в строжайшем согласии с буквой.
Наш попутчик рассказывал нам, что во время беседы он через маленькое окошко наверху глянул и увидел между редкими стволами деревьев на фоне небесного свода тройные трубы мартеновской печи и гигантские краны.
И, глядя на эту «Вавилонскую башню», он рассеянно спросил кержаков:
– А может быть, и выстроят?
На эти слова потомки раскольничьих рыцарей, принимавших когда-то огненное крещение, с большой готовностью отвечали:
– А может быть… очень просто, что и выстроят!
Да, эти люди в своем смутном сознании были похожи на колеблющиеся тени. Но среди подземных жителей один, пожилой Ульян Беспалый, был человек истинно замечательный. Он приехал сюда из тех великих болотных дебрей, которые все это гигантское строительство будут скоро питать добываемой из торфа электроэнергией. В этом году ранней весной его мальчик пошел искать уральские самоцветы и не вернулся…
Мальчик Беспалый пропал…
Это действительно было, и еще вот что было: отец Беспалый вел просеку в торфяное болото, будущую базу теплоэнергии Уралмашстроя. На берегу одного ручья он увидел следы мальчика, и дальше от этих следов на песке выше в гору шла настоящая тропа, пробитая теми же ногами. По этой тропинке Беспалый поднялся к пещере и в ней нашел в обморочном состоянии своего сына. С весны и до осени мальчуган питался корнями и ягодами, а за водой ходил к ручью. Так это было, а продолжения были нет. Но можно легко построить то, чего не было, а очень возможно. Пусть жизнь этого мальчика-Робинзона продолжается в условиях социалистического завода и встречается с жизнью отца его, старовера Беспалого, представляющего себе завод как Вавилонскую башню. В таких романах, как «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского, должна чрезвычайно ярко выступить краеведческая их основа: уральская тайга в контрасте с заводами – это раз, и второе – два полюса всей русской истории: раскол и Октябрь; интересно также сопоставить жизнь мальчика-Робинзона с жизнью на современном заводе, имеющем педагогическое предназначение.
Урал очень стар, эти низкие горы содержат неисчерпаемые минеральные сокровища. Почти незаметно горы понижаются.
XIII. Колеса
Так сколько же раз обернется колесо от Москвы до Владивостока? Диаметр колеса приблизительно известен, и до сорок второй параллели от Москвы – девять тысяч километров, – вот задача на сон грядущий, чтобы, считая до утомления, отделываться от наплывающих мыслей и, не докончив трудного счета, уснуть. Сколько раз трудный счет обрывался в самом конце, на мгновенье охватывал сон, и опять все шло сначала. Так вертится, вертится в голове трудный счет колесом, лежишь, прислушиваешься и со своего колеса в голове переносишь сочувствие на вагонное, что вот как трудно ему доехать, и сколько раз надо ему обернуться, и сколько раз вздрогнуть на неровностях при сочетании шпал. А то вот раз было: все стихло, вероятно, поезд остановился на какой-то неведомой станции. Слышится очень знакомый и мне всегда почему-то приятный звук. Это дорожный мастер проходит и постукивает по колесам, спрашивая их о здоровье: «Живы ли, голубчики, здоровы ли?» – «0-ох!» – жалобно стонут колеса. И вот их опять пускают, и опять вопрос в голове: сколько раз обернуться колесам? И потом к своей голове: сколько в ней всего пробежит! <…>
XIV. Любовь к природе
С нами едут на стройку из Германии два механика, едет сибирский землемер, бухгалтер едет на Алданские золотые промысла, бельгийский геолог, несколько партизан-краснознаменцев, разные завы, и помзавы, и председатели, буряты, монголы, моряки, – кого, кого только нет! С одним из немецких механиков мы затеяли политический разговор о фашистах и социал-демократах, о кризисе. Мы интересовались и тем, как это ему не страшно ехать к большевикам и на что он надеется. Из ответов немца на множество вопросов интересно было узнать, что в Германии используется любовь рабочих к природе как самое решительное средство против коммунизма: рабочим там будто бы планомерно в рассрочку дают кусочками землю, на этих кусочках будто бы рабочие устраиваются так прочно, что и не отдерешь их; конец недели на своем собственном клочке земли для социал-демократа – верх блаженства, социал-демократ на клочке – это все равно, что достаточный столыпинский мужик нашего исторического прошлого. Вот в этом-то устройстве, в этом рае конца недели будто бы у немца и является непобедимая сила мещанства, из всех сил на земле самая опасная для коммунизма: нечего говорить, это, конечно, не вся, это малая правда, но без этой малой правды, при одной большой, жить нельзя… Мы заспорили, уверяя механика, что статическое разумное немецкое мещанство ничто в сравнении с динамическим американским и даже не выдержит сравнения по силе морального влияния с мещанством восточного непротивленческого огорода…
Другой путешественник из Германии четверо суток стоял с утра до ночи в проходе у окна и молча глядел в окно. Так вот теперь вспоминаю, что именно с его загадочной головы начались у меня вопросы к вагонному колесу, сколько раз ему обернуться, и потом к ходу мыслей в своей голове и разным чужим головам и вообще вся эта вагонная чепуха, неизбежная при качке и тряске в течение столь долгого времени. И только на пятые сутки, где-то около Новосибирска, немец, стоявший возле окна, сел и заговорил.
– Удивительно, – сказал он, – в Германии какой-нибудь час проедешь, и того меньше, довольно десять минут постоять у окна, и непременно увидишь зверушку. Бывает, испугается, отбежит немного, крикнешь ему громко: «Halt!» – он сядет. Махнешь ему шляпой или в ладоши ударишь: «Hallo!» – он опять побежит и опять сядет – «Bitte sehr!» Бывает, заяц, лисица, дикие козы. А тут, в Сибири, в стране пушных зверей, на весь мир известных, я за четверо суток ничего не видел. «Was ist das?»
Краснознаменцы-партизаны поняли, что мы говорим о зверях, и стали просить у меня перевода. Все они были раньше промысловыми охотниками, некоторые и сейчас служат в охоткооперации, в приписных хозяйствах, другие, как инвалиды, занимаются легкой охотой и рыбной ловлей, прибавляя к своей пенсии отличный паек. Как только мы перевели им слова механиков – и о любви к природе, и о том, что у нас не видно никаких зверей, то начался общий вагонный спор. Одни говорили, что и очень хорошо, если не видно зверей, значит, слава богу, места пустого довольно: есть у нас куда спрятаться зверю, в этом просторе и есть именно наша слава, и нигде в мире нет ничего подобного, есть где по вольной волюшке разгуляться и человеку, и зверю. Да и можно ли наших настоящих диких зверей сравнивать с немецкими и желать, чтобы наши лисы, как немецкие, выходили на станции встречать поезда. Навстречу этому чувству обычного бессознательного патриотизма молодой человек, зверовод с Алтая, заговорил почти с негодованием о легкомысленном отношении к зверовому хозяйству и вследствие этого – о колоссальной деградации наших естественных запасов. До чего дошло: на Камчатке пришлось ограничить охоту на соболей и допустить ее только для местных, но никак не для навозных людей.
Навозными сибиряк называл привезенных, переселенцев, в отличие от коренных местных челдонов. Такому навозному человеку на Камчатке теперь приходится прожить несколько лет, прежде чем ему дадут право охотиться на соболей. Но и по всей Сибири деградация соболя – и не одного соболя – столь велика, что в ближайшее время придется прибегнуть к видовым запускам. Значит, запрещать в разных местах охоту на того или другого зверя. Только в советском плановом хозяйстве можно регулировать отстрел и планомерно хозяйствовать, имея в виду не только нужные барыши ближайших лет, но создавать в природе колоссальные, неистощимые резервы для самой же человеческой жизни. При плановом охотхозяйстве мы можем населять страну любыми зверями, соответствующими нашему климату: мы уже теперь на севере выпускаем американскую крысу – ондатру – и на юге тоже там невиданного зверя – американского бобра, нутрию…
– Черт знает что! – сказал в заключение зверовод. – В индустрии что ни день, то выдумка, самолеты, радио, а взять хотя бы коров, кажется, от сотворения мира коровы были все те же голландские.
Какой-то прикрытый синими очками, вероятно, учитель или избач, привыкший во всей точности читать газеты и слушать радио («день не почитаю центральную „Правду“, и голова начинает болеть»), скоро разобрался в нашем споре и назвал партизанскую охотничью точку зрения наследием культа империалистически-анархической индивидуальной вольности, а факт деградации зверя игнорировать могут только оппортунисты.
– Это недопустимо! – сказал он партизанам. И просил меня перевести немцам следующее:
– Мещанско-немецкая любовь к природе нам совсем нестрашна: у нас и раньше-то ее не было, а теперь, после ликвидации кулачества, природа нас интересует исключительно как объект советского хозяйства.
XV. Сибирские разговоры
Пройдет еще сколько-то времени, тракторов и автомобилей в Сибири явится столько, что как в Америке будет: говорят, будто там все население можно посадить в автомобили. Тогда едва ли поэты и писатели будут много о них говорить, как теперь, но автомобили и тракторы повлияют на ритм жизни, и оттого поэты о тех же прежних звездах и лунных ночах будут говорить совсем по-иному. Да, конечно, раз солнце миллионы столетий было главной причиной жизни на земле, то и в ближайшие десятилетия оно не померкнет и о нем стихи будут продолжаться у новых поэтов, но ритм сибирских разговоров, конечно, переменится под влиянием тракторов и автомобилей.
Вспомните хотя бы урожай прежнего времени. Как он нам тогда представлялся: с гумном и счетом копен на бирках, током и загадками: летят гуськи, дубовые носки. Ритм жизни совершенно определенный, и пойдите, найдите его теперь, новый ритм, определенный движением комбайнов и тракторов: тот же самый солнечный луч попадает через трансформатор нового времени – музыкальное ухо; уловить его движение и сделать жизнь, как делает зеленое вещество растений с тем же самым лучом, не так-то легко!
Вот кончились степи и насела тайга. Кто воспел ее до конца, как Пушкин великорусский календарь в своем «Онегине»? Где этот поэт, сказавший нам о тайге, как Лермонтов про звезды Кавказа или как Гоголь о Сорочинской ярмарке? А если не сказано о тайге в ее исконном, родном, чисто таежном ритме, то неужели она вся будет истреблена неузнанная, непонятая в своем поэтическом размере… Возможно ли это? Но так именно было же с Даурией: исчезла совершенно, одни прилагательные остались – даурские сосны, даурские зайцы.
Стали показываться кедры. Глухарь пролетел. Немец сказал партизанам:
– Кедры очень хороши, но сосны много красивее.
Партизаны, жители этой тайги, все понимающие в ее древней, никем не высказанной, не названной сокровенности, стали заступаться за кедр. Сколько животных и каких только не кормится в кедровниках: белки, соболь, куница. От этого маленького ореха зависит жизнь бесчисленных существ. Если бывает неурожай ореха, белка спешит вон из тайги и птицы-кедровки улетают далеко за Урал, в европейскую часть Союза, и мы здесь по кедровке за восемь месяцев до беличьего промысла можем предсказать, что нет ореха в тайге и не будет, значит, белки.
А люди! Сбор орехов в тайге – это народно-сибирское дело, и недаром эти орешки называются сибирскими разговорами. Тут свой урожай, не имевший в прошлом певцов. На местах шелушения шишек женщинами, детьми остаются большие кучи из копытцев, или крышек, заключающих в кедровых шишках орехи. Конечно, в этих кучах остается много мелкого, ненужного людям зерна, и вот когда нападет снег, можно, бывает, видеть, как глухари, эти громадные птицы сибирской тайги, подбираются к кучам с копытцами, добывают оставшиеся зерна и так продолжают начатое людьми шелушение, как в каком-нибудь кольцовском урожае продолжают на гумне голуби. Но глухарь не голубь, даже не куропатка, не рябчик, не тетерев: он совсем не выносит сближения с человеком. Это участие его в сибирских разговорах есть редчайший и, может быть, единственный пример сотрудничества с человеком.
Когда немцы услышали рассказ о копытцах, то очень его одобрили, а партизаны просили меня перевести по-немецки их ответ на слова о том, что кедры хороши, но сосны красивее.
– Сосны, – сказали партизаны, – красивы, но кедры – с орехами.
XVI. Евражки
Реки Западной Сибири надо представлять себе как громадные осушительные каналы, влекущие болотную воду в океан; чем севернее, тем почва болотистее, так что рекам этим течь, течь и не вынести болотную воду до «второго пришествия». Потому и нет никакого сомнения, что человек примется за искусственное осушение громадных пространств много раньше, чем само собою осушится. Но когда это будет? Пока же, слушая рассказы об этих местах, совершенно забываешь о каком-либо истощении естественных запасов на неопределенно долгое время. Чего стоит, например, рассказ одного партизана, что для подбивки тунгусских лыж идет кожа с коленки молодого лося и что, таким образом, на одну пару лыж требуется восемь или девять лосей. Река Конда, приток Тобола, в особенности славится девственностью своих болотных берегов. Дорожный техник, едущий с нами, говорил, что в этом году в центре впервые явилась мысль о проселочной дороге по этим кондовым местам и для этих целей снаряжается теперь разведочная экспедиция. Этот же бывалый техник участвовал в проведении пути на знаменитые Алданские золотые россыпи и, между прочим, рассказал нам о евражках, или, по-нашему, сусликах, занятную историю. В иных местах Якутии будто бы скопцы очень усердно и с большим успехом занимаются земледелием, и у них сносно родится пшеница. Когда этот хлеб у скопцов поспевает, выходят из-под земли евражки и собирают к себе в подземные убежища зерно в колосках. Работа эта огромная, нужно выбрать самые тяжелые колоски, нужно их уложить один к одному, как у нас выкладывают товары в самых лучших магазинах. И вот, когда скопцы уберут с поля хлеб, а суслики закончат уборку колосков в своем подземном магазине, являются якуты-охотники и грабят магазины евражков. Выгодное дело. Гсворят, будто бы за один пуд такого зерна дают три пуда обыкновенного. Дорожный техник, сам несколько похожий на небольшого грызуна, сумел так преподнести нам рассказ о животных своего собственного вида, что сочувствие наше целиком оставалось на стороне сусликов, вообще-то говоря, признанных вредителей сельского хозяйства. И эти суслики-евражки, с таким трудом собирающие в магазины своп колоски, опять вернули мысль мою к трудолюбивым даурам <…>. Что такое Даурия? Какая-то случайность истории. Неужели же только случай? Вот в окне что-то показалось, а колесо уже обернулось; как бы так устроить, чтобы следующее мгновение поймать в себя?
Меня тревожит всякое пропадание, оно производит во мне опустошение. Вот возьми и сочиняй, прославляй какое-нибудь событие, если каждый живой случай при этом должен пропасть. Нет, не хочу ничего сочинять, хочу рассказывать только о том, что видел собственными глазами и как оно до меня доходило, а если чего не видел своими глазами, а слышал от людей, то так и буду говорить, что пишу по чужим словам и за полную правду не отвечаю.
Я хотел бы стать поэтом случайного и не давать ему проходить, как прошла никому не ведомая Даурия. В одно мгновение повертывается колесо вагона, и люди спят, а я ловлю жизнь. Вот моя дорога прошла, я пишу теперь дома и второй раз еду по тому же пути и вижу ясно, как случаи мои складывались постепенно давлением самих себя на меня в событие <…>.
XVII. Ведьмедь и Ярик
Только после Енисея начинается Сибирь, совсем не похожая на европейскую часть Союза, объединенная простейшим народным сказанием про озеро-море Байкал и реку Ангару. Байкал, по этим сказаниям, представляется нам как старый грозный колдун. И правда, немного нужно воображения, чтобы представить себе, как этот колдун варит какое-то зелье на своих черных скалах. Ангара, молодая жена Байкала, – река самая прозрачная, самая холодная, быстрая и совершенно прекрасная. Однажды во время тумана Ангара вздумала убежать к Енисею. Байкал поздно заметил убегающую в тумане жену, швырнул ей вдогонку скалу, но не попал. Ангара ушла к Енисею, а скала и до сих пор торчит из воды при выходе Ангары из Байкала. Вот когда мы проехали Енисей и заметно началась какая-то совсем другая Сибирь, один из наших спутников, партизан Григорий Спиридонович Еврагин, простецкий малый гигантского сложения, посмотрев в окно, вдруг на весь вагон крикнул:
– Товарищи! Глядите, ведьмедь!
Все бросились к окну смотреть дикого медведя, но, как в таких случаях бывает, пока бились у окна головами за место, медведь убежал и скрылся в тайге. Тогда другой партизан, Степа, маленький и веселый, сказал, указывая публике на своего громадного товарища:
– Куда вы лезете в окно, глядите ближе, ведьмедь сидит рядом с вами.
Все посмотрели на гиганта с маленькими глазами и улыбнулись, потому что это был действительно вполне ведьмедь.
– Миша, Миша, – погладил по голове маленький.
– Не трожь меня, Ярик! – добродушно огрызнулся Ведьмедь.
Вот после этого маленького происшествия Ярик и рассказал нам про Енисей, как убежала к нему Ангара и как Байкал пустил в нее огромной скалой и не попал.
– Врешь, Ярик! – сказал Ведьмедь. – Как же он мог не попасть, если скала и до сих пор торчит в Ангаре?
– Гриша, – ответил Ярик, – ведь это же – сказка, надо так понимать, что в сказке нельзя с точностью: если все в сказке передавать, как есть, она не будет манить.
Ведьмедь задумался и вдруг выпалил:
– Но почему же сказка не будет манить, ежели я скажу, что Байкал попал в Ангару, да не мог ее пришибить?
Все довольно смеялись, и Ведьмедь улыбался, понимая этот смех как торжество свое над маленьким Яриком.
Хорошие ребята. Славно мы ехали по Восточной Сибири.
XVIII. Ангара
На остановке все бросились с кружками и чайниками, чтобы взять себе в Ангаре немного воды и попробовать, верно ли, как все говорят, что вода в Ангаре самая прозрачная и самая холодная. Все пробовали, восхищались, говорили, что правда, а некоторые бросали в реку монету и долго следили за ней в воде, почти такой же прозрачной, как воздух.
А какие берега! Вон лежит каменная плита, на ней стоит, – глазам не веришь! – на голом камне стоит и как-то держится белая на черном березка, над этой плитой лежит другая плита, и на ней елка или сосна, и так все выше и выше, голову заломишь, все плита на плите, все береза и ель, а когда шапка упадет с головы, то на самом верху увидишь – стоит замечательный ветродуйный кедрач. Раз увидел его, и навсегда останется в памяти его капризное сложение.
XIX. Волки
Когда мы насладились близостью прекрасной реки, сели в вагон и поезд тронулся, Ярик рассказал нам замечательные вещи о волках, слышанные им от охотников во время промыслов здесь, на Ангаре.
Однажды стая волков бросилась догонять казака, и он от них латата. Но по зимнему снегу конь скоро стал приставать, и волки все близились и близились. Вдруг недалеко от дороги показалось полузанесенное снегом нежилое зимовье. Казак – туда и коня тоже в избу ввел: дворик был открытый, не оставлять же коня голодным волкам на съедение. Затворился казак с конем, привалил что-то к двери, стал прислушиваться. Ничего не было слышно. Ночь наступила. Развел огонек и тут слышит, что-то глухо так тукнулось, еще и еще. «Тук» было несколько раз, потом все совершенно стихло, и только всю ночь мышка скребла. Утром, когда рассвело, казак выходить боится, и, правда, страшно, а вдруг волки тут где-нибудь неподалеку залегли и выжидают. В маленькое окошко видна только дорога, и то небольшой кусок. Вот видит казак, на его счастье, по этой дороге едет крестьянин. Казак открыл окошко и просит крестьянина обойти избушку, посмотреть по следам, куда делись волки. Крестьянин слез с лошади, недолго ходил и зовет казака. Вылез казак. Крестьянин стоит с кнутиком и глядит вниз сверху во дворик. Взобрался туда казак и все сразу понял: это, что вчера вечером глухо тукало, то волки скакали вниз во дворик и теперь все с поджатыми хвостами, уткнув морды в землю, искоса изредка поглядывая, сидели там один к одному. Как раз возле дворика стояло высокое дерево. Казак сделал из веревки петлю, через сук перекинул, стал ловить и вешать волков, приговаривая: «Вот, голубчики, то вы меня ловили, а теперь переменилось навыворот, я вас ловлю».
Верно ли это было? Нам понравилось тем, что волчьи повадки представлены верно, да и каждый зверь, попадая в плен, делается как бы сам на себя непохож. Этим всем нам Ярик угодил, но Ведьмедь промолвил:
– Арап!
– Что ты сказал? – переспросил Ярик.
– Заливаешь, Степа.
Все заступились:
– Рассказ на ять!
– На большой палец!
– На два больших пальца! Давай еще что-нибудь!
– Сам ты арап! – победоносно ответил Ярик и снова принялся рассказывать.
XX. Таинственный ящик
Однажды на известной волчьей охоте с поросенком вывалился охотник из саней так, что ящик с поросенком, падая, одновременно прикрыл поросенка и охотника. Волки, конечно, сразу расчуяли добычу под ящиком и окружили его со всех сторон, чтобы живое не могло никуда от них убежать. Охотник тоже башковитый был человек, сообразил: поросенка он потихоньку отдаст им из-под ящика, волки подумают, все тут, займутся, а он за это время что-нибудь еще придумает. Вот выпихнул он поросенка, а сам пополз в сторону, прикрываясь ящиком, как черепаха. Волки вмиг разорвали поросенка и сразу же обратили внимание на уползающий ящик. Бросились, окружили, а башковитый охотник, поняв над собою волков, выдумал уходить от них не в сторону, а вниз. Сугробы снега были в ту зиму огромные, вот он и стал зарываться в сугроб, а ящик, конечно, понемногу вслед за ним опускаться. Есть у зверей много того, что мы зовем у людей суеверием. Беги ящик в сторону, все понятно бы было, а ящик стал вниз уходить… Как это понять? Волки окружили ящик, свесили языки, так и этак скосят морды, ящик все глубже и глубже. Ну, делать нечего, подобрали волки языки, стали в очередь, старший помочил ящик, за ним другой, третий. А тут и помощь подоспела.
Было ли так именно или не так, – все равно, привычки зверя в этом рассказе схвачены очень верно. И подобный случай был записан в Калужской губернии, в селе Брынь: там волки обошлись с одной старухой точно так же, как с ящиком.
XXI. Байкал
Посмотреть бы с высоты байкальских береговых гор на поезд. Какой он, наверно, оттуда игрушечный. Впрочем, зачем с высоты, везде и всюду, чуть одаля, сцепленные вагончики смешны своей миниатюрностью. Вот, кажется, паровоз неминуемо должен разбиться о скалу, но, смешная вещь, детский поезд, оказывается, как ни в чем не бывало ныряет в мягкую скалу, вот выбрался из одной, и другая скала тоже мягкая: сорок с чем-то тоннелей. Но самое замечательное в таком игрушечном поезде, это – что у каждого окна сидят люди, настоящие, живые, но без всякого дела сидят и целыми днями, неделями думают. И так трогательно видеть бывает, что вот малейший какой-нибудь, просто живчик, вечно в жизни мелькающий на мышиных ходах, тут тоже сидит у окна и тоже думает. Невозможно не думать: человек сначала завлекается видами, а они очень скоро примелькаются – вода и горы, тогда утомленные глаза глядят, а не видят. Вот тогда поневоле у каждого рождается мысль, большей частью, конечно, о себе, о своих родных, знакомых. Являются разные догадки, вопросы, и у многих громадный интерес к другому человеку, чтобы разузнать, как у него решаются все эти загадки, вопросы. Каждый пассажир непременно проделывает этот путь от природы к себе и от себя к другому человеку.
Следишь за собой, и тоже, конечно, как все. Даже вот и книжку читаешь, и то не просто: книжка совершенно случайно пришлась такая именно, какую нужно читать у Байкала. Эта книга была у меня «Новая Даурская земля», рассказ о том, как устюжский предприимчивый гражданин Хабаров Ерофей Павлович в половине XVII века явился с казаками в Даурию за соболями <…>. От книги переводишь глаза туда, где шли когда-то эти казаки.
Туман расходится, открывается на вершине скалы ветродуйный кедрач, принявший образ лица старого колдуна. Вон там свился туман, и как будто стройная женщина скользит по воде. Не Ангара ли это бежит к Енисею? Туман расходится, открывается громадная щель в скалах, байкальская падь.
XXII. Нерпа
Сообразить, конечно, легко, что такое падь, но когда сам увидишь своими глазами упавшую стену скал, отчего получается в черной общебайкальской горной стене как бы трещина, то слово «падь» получает и цену совсем другую. Из таких падей на Байкале ветер дует с такой силой, что вступает в спор даже с самим господином сибирским морозом, и лед трескается. Тогда через трещину во льду вылезает нерпа. Человек делает парус, похожий на льдину, надевает на колени коньки, на каблуки – тормоза и так подъезжает на винтовочный выстрел.
XXIII. Голомянка
Услыхав этот рассказ о нерпе, задумчивый человек у окна вдруг что-то вспомнил и очень обрадовался поводу отделаться от своих, наверно, невеселых дум. Он рассказал нам о какой-то удивительной байкальской рыбе – голомянке, что будто бы эта глубоководная рыба на солнце превращается в жир, растает, и нет ничего, только жирное пятнышко.
Неужели это правда и есть такая рыба на свете?
XXIV. Шаман
Еще рассказал один гражданин, что будто бы есть на Байкале ключ в плюс пятьдесят градусов и что возле этого ключа и зимой растет зеленая трава, и на теплом этом месте всегда раньше шаман сидел. Теперь его раскулачили, шаман ловит рыбу, как все.
XXV. Соболь
На одной остановке к нам подошел какой-то ученый человек в очках на монголовидном лице с очень приятным выражением осмысленной энергии. Нам, вероятно, очень примелькалось лицо европейского ученого, окруженного целым штатом ученого причта, необходимого в помощь делу похищения прометеева огня. На монгольском лице эта прометеева серьезность как-то прямо, без всякой посредствующей гримировки, прикладывалась на древнюю желтую сырую глину лица. И когда мы узнали, что ученый занимался зоологией и носил распространенную в Восточной Сибири фамилию Дауров, то не оставалось никакого сомнения в том, что человек этот был именно тот, о котором я догадывался: этот ученый с монголовидным лицом в разуме своем продолжал культуру следопытства Дерсу Узала и всех следопытов американских романов, это – новый Дерсу, не погибающий, подобно последнему из могикан, а спасающий нас от ни с чем не сравнимых по ужасу врагов – оспы, чумы, тифа, открывающий законы размножения животных, драгоценных для человека, восстанавливающий единство плана совместного творчества природы и человека…
Я любовался Дауровым, открывая в его неправильном монгольском лице черты желанного мной человека, а он рассказывал нам об одном ужасном случае при охоте на соболей в Саянских горах.
Партия охотников за соболями должна была перевалить занесенный снегом хребет. Но снежные заносы так изменили картину горного рельефа, что охотники за соболями потеряли направление к единственному безопасному месту перевала. Так часто бывает зимой, что ветер, постоянно дующий в одну сторону, к какой-нибудь настоящей каменной горе придувает целую такую же гору, только ложную, гору снега пухлого, не оказывающего ноге никакого сопротивления; если с твердого кто-нибудь станет на эту ложную гору, то человек этот летит в бездну, скрытую снегом, и охотники говорят на своем языке в таких случаях: пал под надым (вернее сказать бы надо было: под надув). Так вот целая партия охотников на соболей шла гуськом на- лыжах, как полагается, чередуясь в смене первого лыжника, пробивающего с большим трудом путь для других. В лицо им била снежная буря, как это почти постоянно бывает на перевалах, и каждый сзади идущий лыжник не видел переднего. Возможно, и так было, что идущий впереди лыжник, достигнув перевала, исчезал, и следующий за ним думал, что исчезал он просто оттого, что перевалил на ту сторону горы. На самом деле каждый летел под надув, в снежную бездну. И так вся партия соболятников ушла под «надым». Вслед за ними на другой день к тому же самому месту подошла экспедиция ученых, и когда на их глазах бегущий впереди изюбр пал под «Надым», явилось подозрение, стали внимательно разглядывать снег и по темному намеку открыли под снегом у самой пропасти лыжу одного из павших под «надым» соболятников. Это спасло экспедицию.
Вот как достаются соболя! И так они доставались, конечно, и в те времена, когда за ними охотились дауры. Нельзя было не обратить внимания, что в дальнейших рассказах Даурова о ловле соболей не было ни малейшего обычного преклонения образованного человека перед вековым навыком в следопытстве человека примитивного.
XXVI. Меряки
У инородцев распространена будто бы особая нервная болезнь. Если сделаешь какое-нибудь резкое движение, то в ответ тебе инородец сделает то же самое. Один землемер напился и давай плясать, старуха увидела – и себе плясать вслед за ним. Землемер подумал, что это только для смеху, а она была мерячка и плясала поневоле, и до тех пор плясала, пока вдруг не кончилась в плясе. Иногда такой пляс будто бы приобретает эпидемический характер, все толкутся в пыли, а из облака пыли только белые зубы блестят.
Какой-то страшный, чисто гоголевский пляс… <…>
XXVII. Тунгусы
Говорят, что тунгусы – это родственное племя даурам, если даже не сами дауры. О тунгусах много рассказывают. Тунгус – это самый легкий, самый выносливый охотник: стал на лыжи, пошел в одной куртке и целыми неделями пропадает в тайге, и ему там везде дом. Как он охотится? Вот убил изюбра. Мясо подвесил на дерево, и тут ему дом, а сам пошел за пушниной. Настрелял много белок. Вернулся к дереву по чужому следу. Оказалось, был какой-то человек и поел его мясо. Тунгус увидел это и заметил себе: «Был хороший человек». Охотник подвесил белок рядом с мясом, поел, отдохнул и пошел на куниц и соболей. Когда вернулся, видит, был другой человек, поел мяса и взял несколько беличьих шкурок. Тунгус заметил себе: «Был человек бедный, ничего…» И в третий раз какой-то новый гость взял всех белок, а мясо не тронул. Тогда наконец-то хозяин сказал: «Был худой человек». Не потому, конечно, худой, что белок взял, а потому, что, будучи сытым, их взял.
Сколько подобного было, наверно, у казаков с даурами!
XXVIII. Сон тунгуса
Встреча с ученым была мне огромной находкой, и, забывая о всех присутствующих, мало-помалу мы перешли в разговоре черту, за которой всем другим слушать было скучно. Необыкновенно живой и талантливый Ярик, выждав, когда мы закончили этнографический разговор о тунгусах, начал рассказывать свои собственные наблюдения из жизни этих охотников.
Ночью будто бы тунгусы почти все поют во сне, и так, что один запоет, а другой подтягивает, а если разговаривают, то с полным смыслом и тоже во сне. Раз шли муж с женой и не дошли до того места, куда им надо было. Пришлось развязать мешки, он залез в свой, она – в свой и заснули. Он запел во сне, и она запела согласно. Спят и поют. Это услышал медведь.
– Заливаешь! – ввязался Ведьмедь. – Зимой ведьмедь в берлоге лежит.
– Нисколько не заливаю, – ответил Ярик, – в этот год в тайге всю ягоду на цвету мороз побил, и медведям нечем было кормиться, медведи остервенели и набросились на скотину и даже на человека. Ничего не заливаю, доведись и до тебя самого, ежели есть совсем будет нечего, тоже будешь есть человека.
Это было еще неглубокой зимой, выпал снег, а медведи еще лечь не успели: так бывает. Вот медведь услыхал, что человек поет, пришел к мешку, развязал веревочку и выволок тунгуса из мешка… Медведь ел мужа, а жена пела.
– Ну, вот я говорил, что заливаешь, – сказал Ведьмедь, – ты не можешь без этого.
– А ты можешь?
– Конечно, могу, – и стал рассказывать.
XXIX. Сочинение
– Вот истинная правда. Жил-был не очень давно в прибайкальской тайге один старик, охотник. Сам был очень стар и промыслом добывал мало, жил больше тем, что давал приют у себя другим охотникам, разным любителям, и они его поддерживали. Вот однажды, перед самой зимой, только бы медведям ложиться в берлоги, волки целой стаей погнались за медведем, и тот, спасаясь, внесся в избушку к старику, в сенцы, и дверь за собой прикрыл лапой. Дед услыхал шум, слез с печи и видит: медведь стоит в сенях и дверь лапой держит. Глянул в окно, а там волки, сила несметная. Вот он пятится, пятится к стене, где винтовка висит, а сам глаз не спускает с медведя и ласково говорит ему: «Миша, Миша, погоди!» Кое-как добрался старик до ружья, наладил его, конечно, не в медведя, а на волков; ударит в волка, а сам медведю: «Миша, Миша, погоди!» Медведь же сразу понял, что дед бьет по волкам. Девять волков было убито, а другие все разбежались. Тогда медведь лапу отпустил и дал себя покормить. Раз от разу, и привык, стал жить в избушке с дедом. А на всякий случай, если бы медведю захотелось уйти, дед надел на него белый ошейник и просил всех охотников не стрелять его никогда.
– Вот это – уж правда, вот истинная правда, – сказал в заключение Ведьмедь, – говорят, это даже в какой-то газете или книге напечатано было.
– В книжке было! – воскликнул Ярик. – Значит, это просто сочинение…
– Ну да, сочинение, значит, был настоящий сочинитель и, как было, все по истинной правде зафиксировал, а не то что из твоего дурьего носа курам на смех сопля выползла.
XXX. Воробьи в бороде
В это время из коридора отозвались старые политкаторжане, биолог Иван Иванович и простой человек, обученный им по дружбе, Меркелыч. Оба старика с одинаково рыжими по седому бородами, похожие друг на друга, как супруги бывают похожи к золотой свадьбе, обратили внимание всех в поезде каким-то особенно любовным, предупредительным отношением друг к другу.
Меркелыч сказал:
– Было это в газете или нет, все равно: такое с медведем вполне может быть и, наверно, в газету попало из жизни. Вот у нас на каторге один медведь с запиской во рту на склад ходил, ему отпускали железо, и он его пер. Но только одно было: если услышит звонок к обеду, бросает железо и бежит, и тогда уж заставить его принести это железо нельзя.
– Медведя-то совсем немудрено приучить, – сказал Иван Иванович, – а вот этот самый Меркелыч крыс обучил у нас на каторге так, что они давали себя в тележку запрягать и возили легкую поклажу.
– Ну, что это, – вмешался Ярик, – медведь, крысы, – все это Дуров и без каторги в сто раз лучше делает, а я знал одного старика, вот какой древний, вас обоих политкаторжан вместе сложить, так выйдет как раз только так, и у этого древнего старца под бородой постоянно жили два воробья.
XXXI. Ходовой зверь
Когда Ярик сказал, что у старика под бородой жили два воробья, Ведьмедь очень обрадовался и с большим увлечением спросил:
– Неужели и яйца несли?
– Ну вот, – ответил Ярик, – а ты говоришь, что рассказы мои курам на смех. По-твоему так выходит, что ежели сочинитель и образованный человек в книгу напечатал, то это – правда, а если я на словах правду скажу, то это – ложь. Знают ли твои медвежьи мозги, что ежели я возьмусь сочинять, то не спеша буду ехать на санях три дня по твоим медвежьим мозгам, соломой набитым, три дня сочинять, и ты все будешь за истинную правду считать? Ты можешь только об известном рассказывать: медведь, сохатый, изюбр, коза. А я тебе в тайге такого зверя сыщу, что сам черт не скажет, какой это зверь. Раз было, я тогда служил в пограничном отряде ОГПУ. Ну, вот едем раз по тайге шагом с товарищем возле самой границы контрабандной тропой. Тайно едем, говорить нельзя, курить нельзя. Полная тьма в тайге, нас кони сами по тропе ведут. Слышу, лезет, трещит, ближе и вдруг как обдаст меня всего горячим дыханием. Есть верное средство против такого наваждения в лесу – крепко выругаться, но тут сказать товарищу опасно, а не только ругаться матерным словом. Он же подобрался, привалился к лошади и рядом идет. Тяжко, лошадь дрожит и храпит…
– Какой же это зверь привалился, неужели медведь?
– Ну, да, поди-ка, станет тебе медведь приваливаться, и как это возможно?
– Сохатый?
– Да, сказал…
– Чего же ты не стрелял?
– Как же тут стрелять, ежели даже и говорить и курить нельзя?
– Знаю, – сказал Ведьмедь, – это барс!
– Ты лучше скажи – заяц. Барс! Да ведь барс не больше средней собаки, а он к моей коленке привалился, а я верхом сижу на высокой кобыле.
– Ах, на кобыле, ну так знаю, – сказал землемер.
– Знаешь ты! – продолжал Ярик. – Я вот сам не знаю, а ты знаешь. Так вот еду я назади, товарищ едет впереди, и он ничего не знает, и я дать знать ему не смею. Слышу, он отпустил мне ногу немного и рядом идет. Вот я эту ногу свою отвел кобыле к хвосту, сам пригнулся, левой рукой у лошади крепко шею обнял и правой ногой кожаным носком со всего размаху как дам ему в брюхо! Ух, как он кохнет: «Хох, хох, хох!» – и затрещал, потом остановился в чаще и кашлять стал. Вот уж он харкал, вот уж он харкал, а потом опять затрещал, и все было слышно уж километра с три за монгольской границей. Так я тут сообразил, что был это какой-нибудь монгольский ходовой зверь.
– Как ходовой?
– Это известно. К нам из Монголии все ходовые звери идут: и коза ходовая, и сохатый, и барс.
– Вот я сразу догадался, – сказал землемер, – как ты сказал, что зверь был ходовой из Монголии и что ты на кобыле ехал, это дикий жеребец был, кулан: он не к тебе, он к кобыле.
– Мало ли всякого зверя в тайге, – спокойно сказал Ярик, – я не знаю, кулан так кулан…
До того напряженно все слушали интересный рассказ пограничника, что немцы обратили внимание и очень просили перевести это на немецкий язык. И вот, лишь когда, переведя этот вздор на язык умственного народа, я дошел до неизвестного зверя вроде кулана и встретился с трудностью передать на немецкое слово «кулан», вдруг чары сочинителя прекратили на меня свое действие, и я понял, что Ярик, конечно, все выдумал.
– Неужели же все выдумал? – спросил я его с большой завистью.
– Ну, так я же с этого начал, – ответил Ярик, – я сказал, – что три дня буду на санях ехать по медвежьим мозгам, рассказывать, сочинять и все он будет за правду считать.
– Сволочь ты, – ответил Ведьмедь, – и больше ничего. Михаил Михайлыч, дай ему в морду!
XXXII. Первый сибирский рассказ о человеке
– Дорогие товарищи! – сказал избач, – заявляю вам свой решительный протест: мы уже счет дням потеряли, сколько едем; видели мы город Свердловск на Урале, и там не сотни, а тысячи труб и небоскребов поднимались, – сколько бы полезного можно было сказать о человеке, о старом и новом времени, а вы говорили о звере. Мы спустились с Урала в плодороднейшие равнины, па которых выросли гигантские совхозы с сотнями тракторов в каждом хозяйстве, – какая это сказка или сон наяву, если только представить себе недавнюю соху или в лучшем случае одноконный плужок, а вы до самого Новосибирска говорили о звере. Красноярск на Енисее, Иркутск на Ангаре, триста километров ехали берегом Байкала, и все зверь и зверь без конца. Вот скоро Яблоновый хребет, въезжаем в область вечной мерзлоты, необъятная тайга вокруг нас. Предлагаю в разговорах дальнейших установку на человека, выяснить нам, что есть человек сам по себе и в отношении к этой необъятной тайге.
Этому повороту я очень обрадовался и, вдохновляясь книгой Арсеньева «В дебрях Уссурийского края», попробовал начать.
– Вот один человек в тайге заметил другого и спрятался за дерево, другой тоже заметил и тоже спрятался, оба держат винтовки наготове, и не хочется убивать, а надо – другой может убить. К счастью, густо в тайге, от дерева к дереву, дальше, дальше, и разошлись без выстрела и без поклона. И ушли навсегда, больше нигде, никогда не встречались. А у нас в Москве такая мука с жилплощадью. Так ли я понимаю тайгу?
– Так, – ответил Ярик, – только бывает, что нельзя разойтись, тебе надо уложить или же тебя уложат. В том и другом случае я считаю, что у вас в Москве и повсюду преувеличивают значение подобных событий. Позвольте, вот я расскажу, как мы, партизаны, воевали в тайге. Был у нас отряд в двести человек, шесть пулеметов при нем, две трехдюймовки и ручной медведь.
– И у нас был ручной медведь! – отозвался другой партизан.
– Ну, вот, так и знал, – огорчился избач, – опять пошло про медведя.
– Нет, успокойся, – сказал Ярик, – я все выведу на человека. Медведь этот был у нас приучен к трехдюймовкам снаряды подавать.
– И у нас подавал.
– Ухо рваное?
– И у нашего рваное, левое?
– Левое. Он!
Партизаны страшно обрадовались, и вдруг оказалось, что работали в одном и том же отряде, только разминулись во времени: одного взяли в плен белые, а другой, Ярик, вскоре после того в этот отряд пришел с Невера и тоже затем в плен попал.
– Ну, вот, – продолжал Ярик свой будто бы человеческий рассказ, – повели меня, и я, конечно, знал, зачем повели, и пока шел, то во всем мне как будто ужасная спешка была, все внутри ходуном так и ходило, дергался я, матершинничал, и так это, ну, не мог и не мог переварить, что так-таки – стук! – и кончено. Потом слабость явилась, пот выступил, стало спокойно и все равно. Подняли они винтовки, гляжу равнодушно и вижу, выходит наш собственный Мишка на задних лапах и в руках словно подсвечник, держит пустой стакан из-под снаряда. Ну, я, конечно, засмеялся, и так бы мне с этим смехом из мира сего удалиться. Но вдруг, когда я засмеялся, особенно через этот смех, по-моему, и произошло помрачение ума, – когда я засмеялся, один из них ружье опустил и другому велел не бить. Конечно, может быть, и пьяные были… «Стой! – говорит. – Не бей, ведь это, кажется, наш Иван Петрович». А я все стою и смеюсь на медведя. «Иван Петров! – говорит. – Это ты?» – «Я», – говорю. «Где же, – спрашивает, – Кузьма?» – «Какой такой, – думаю, – Кузьма?» – а сам без задержки отвечаю: «Кузьма пошел до ветру и не вернулся». Осмотрели меня и говорят: «Вроде как бы Иван Петров, а вроде как и не он». Отвели меня в сарай дорасследовать, а я в ту ночь убежал. К тому рассказываю, что много врут и преувеличивают: в последнюю минуту не страшно…
XXXIII. Второй сибирский рассказ
– Ну да, рассказывай, не страшно. Так случай вышел, подвернулся знакомый ведьмедь со стаканом. А вот как нас вывели босых на мороз, стоим час в ожидании, зубы: дыр-дыр-дыр, стоим другой, зубы: дыр-дыр-дыр. Тебя бы перед смертью так выдержать хорошенько, так не засмеялся бы. Эх, ну, зато и отплатили мы!
– Каким же способом отплатили? – кто-то спросил. Ведьмедь промолчал. Но через некоторое время сказал:
– Всячески было.
– И своею собственной рукой?
– Было. Наша батарея была за сопкой, под сопкой село, и в селе был батька. Раз вечером мы с товарищем нарядились в белогвардейские мундиры и пошли к батьке в гости. Увидел нас поп, и обрадовался, и зашептал испуганно: «Красные рядом!» – «Красные, где?» – спрашиваем. И он прямо в точку. Сердце у меня скверное, хотел было на месте уложить его, но товарищ удержал. Попадья несет курицу, вино, студень. Сердце у меня неважное, не могу ни есть, ни пить, до того мне противно смотреть на попа. Переночевали и на заре просим попа провести нас к батарее, показать. Он это живо собрался и, конечно, местный житель, так искусно провел нас к самым батареям. Идем распадком, подкрадываемся, поп впереди. Ах, и скверное у меня сердце! До чего же мне противно стало: поп – и на такое дело идет. Не поверите, а раз десять за наган хватался, и все меня товарищ удерживал. Ну, нестерпимо, что только может вынести человек, выносил я ненависть страшную. Ну, подошли мы вплотную, и вдруг этот поп перевел глаза на нас, понял, побелел. Теперь идем уж мы впереди, он плетется назади. Поставил я его перед самым орудием и дал…
– Из пушки!
– Ну, ничего не осталось, воздух, и все.
– Не воздух, а земля, – поправил Ярик, усердно копаясь в своих волосах. Потом этими же пальцами взял пыль с подоконника, вгляделся в нее, вдумался и спросил: – Как это называется, где трупы сжигают?
– Крематорий.
– Ну да, вот крематорий, сожгут тебя, останется вот это. – Ярик дунул на пыль между пальцами и сказал: – Вот вам и человек!
XXXIV. Третий сибирский рассказ
– Неверно! – ответил избач Ярику. – Человек не зола, это – перегиб.
– Конечно, перегиб, – согласился Ведьмедь.
И как это бывает в дороге с русскими людьми, когда искренно рассказал один, то другому хочется тут же свое все рассказать, и даже про самое главное, а что это самое главное – неясно вперед, и выходит уже потом, когда открылся. Начал Григорий Спиридонович по чувству против Ярика, а вывело его к себе на родину, где соловьи поют, вишни спелые и цветочки есть особенные. Вместо этого пришлось попасть в Сибирь, в тайгу. Приехали в место, где никто никогда не жил и человек вовсе не был. Пришел человек впервые, ударил топором по гнилому пню, чтобы себе добыть курево от комаров. И вот как только ударил в пень и пень рассыпался, то из этого пня разбежалось во все стороны великое множество рыжих тараканов. Казалось раньше, что рыжим тараканам непременно при человеке и даже просто от человека, от его нечистоты разводиться, а тут на! – девственная амурская тайга оказывается родиной рыжих тараканов… После нескоро отвели душу: съездили через два года на родину с матерью, и тогда оказалось, что и там ничего нет <…>, вишни и соловьи – сущие пустяки и обман. В тайге, по крайней мере, безобманно, жили рыжие тараканы, пришел человек, стал понемногу привыкать. Когда белка, когда соболь, изюбр. Охотничали понемногу, в ручьях даже золото мыли. И тут пришлось убедиться, что и отец <…> тоже воображение и напрасная мечта. Конечно, не в том обман, что отца оторвали, определили на сахалинскую каторгу на двадцать пять лет. Каторга – это пустяки. Конечно, матерью жили, и с малолетства было понятно, что в матери все, но вот как родина, так и тут мечта об отце. Об этом нечего рассказывать, как отец поступил с матерью беспощадно и что она выносила от него, тут тоже мечта великая и… страшная. Вполне собралась было идти с ним на Сахалин. Но тут неудача, куда-то неверно подали заявление, ограбили, остались без гроша, не на что было ехать, и остались. Прошло двадцать лет. Провели дорогу. Ни за чем поехал особенным, белкой жили; белка перешла, и поехали. В вагоне двое напротив сидят и разглядывают и про себя шепчут. Так же нельзя по таежным законам. «Чего вам надо от меня, говорите, а то…» – «Нет, – отвечают они, – сила твоя нам известка, и с тобою спорить мы не хотим. Не Григорием ли тебя зовут?» – «Откуда вы знаете?» – «А по батюшке не Спиридонович ли?» – «Ну, Спиридонович, откуда вы знаете?» – «Как не узнать, вылитый батюшка». Так нашелся отец. Он живет в тайге, белок, соболей промышляет, понемногу золото моет. Хищник порядочный и не раз говорил, что у него где-то в тайге и сынишка Григорий растет. К отцу, скорей. К отцу! Все загорелось в душе. Ну, конечно, повели ночью. Огонек. Через окошко видно: он жарок подкладывает, а жена его новая чешет голову девочке: дочь его. Постучались, вошли. Жена, как увидела Григория, так побелела вся и потом весь вечер глаз не сводила, а он хоть бы что: разговаривает бойко с охотниками про все, много всего у них. Охотники ушли. Григорий говорит ему: «Отец!» И Спиридон ему отвечает спокойно: «Что тебе?» Он думает, что Григорий просто говорит, как старшему, «отец», а жена еще сильнее побелела. «Отец!» – говорит Григорий второй раз и третий раз: «Отец!» Тут он узнал и заплакал. Три дня жил у отца и ушел, как от чужого <…>. Только это, конечно, не соловьи, не вишни, отец – это серьезная мечта, ото насквозь пронизывает и отличает в горе от всех, как обиженного: у всех есть отец, а вот у тебя нет, и ты вроде как бы и не человек. Между тем вот осуществилось все затаенное, – вот отец сам, и нет его, и не моего даже отца, пусть мой бы плох, это что! – а что вообще это – человеческий обман, как говорят тоже: тайга, тайга! природа и чистый зверь, а на деле, оказывается, это – родина рыжих тараканов.
Григорий, окончив рассказ, спешно выпил баночку, его поддержал Ярик, вроде как бы даже смущенный рассказом; то он сам выводил все ни к чему, а тут как бы его самого вывели, и кто? Ведьмедь с соломенными мозгами.
– Как же это ты, Гриша, так? – спросил Ярик. – Как это выходит у тебя: родины нет, отцов нет и как бы одни только рыжие тараканы? Начал ты против меня, что я сказал «зола», а у тебя выходит таракан, и никаких.
– А мать? – сказал Григорий. – У меня же мать есть, и у всех есть, у каждого человека есть мать <…>. Вы что думаете, мы с отцом поссорились? Нисколько, хорошо расстались и даже переписываемся до сих пор. В последнем письме пишет, что схоронил жену и спрашивает, как быть, – все еще баба нужна.
– Вот бы теперь им сойтись!
– С матерью? Да вы знаете, кто моя мать? Моя мать теперь в Ленинграде, старуха, а первая ударница на фабрике. Мать моя – большой человек, мать моя – великий человек, а жила с хищником, с разбойником и была мать моя, как слепая в цепях, а теперь цепи у нее свалились, глаза прозрели. Что ей отец мой? Как самый ничтожный зверь, прах животный. Вот я, сын ее, вся радость ее, и то третий год не могу дождаться, чтобы приехала. «Куда же я, – пишет она, – своих деточек дену, как они на целый месяц без меня останутся?» Деточки – это все работницы, она их ведет. Мать моя – как солнце, а отец пишет, что ему баба нужна.
XXXV. Случай
Колеса вагона вертятся вполне равномерно, без всяких проскоков и заминок, но в голове все наматывается случайными обрывками, и кажется, будто все эти случаи где-то живут самостоятельной жизнью, приходят к нам независимо от нашей воли: случай к случаю приматывается в голове на катушку без всяких скреп. И так сколько же всего намоталось, пока колесо вагона закончило последний миллион оборотов и остановилось во Владивостоке на отдых?
Теперь я разматываю катушку, подбираю случай к случаю, как кинорежиссер, сцепляю их между собой, как поезд, склеиваю в цельную ленту и таким образом второй раз путешествую, открывая единство жизни в случайном, создавая из бесчисленных случаев событие единое и закономерное, соответствующее фактическому продвижению колеса от Москвы до Владивостока.
Вот был случай. Все теперь поймут в нем веяние событий на Дальнем Востоке, хотя в то время Япония еще не начинала с Китаем войну за Маньчжурию. Тогда этот случай намотался на мою катушку, по всей вероятности, потому, что я читал в дороге взятую с собой случайно книжку о походе Хабарова в Даурию: из-за этого я понял в нашем спутнике-китайце даура, стал на его сторону и намотал себе случай на ус. Было это, когда мы находились в сердце Даурии, на переезде к станции «Ерофей Павлович». Случилось, с верхней полки упал большой чемодан от рывка паровоза, чемодан заграничный, превосходный, с личной этикеткой под слюдой инженера-геолога, высшего специалиста по золоту. Тяжелый чемодан, падая, конечно, привлек наше общее внимание, и тут все мы заметили, что там, где упал чемодан, в уголке сидел не замеченный нами совсем особенный маленький пассажир. Сколько он времени тут сидел, на какой сел станции, никто бы из нас не мог сказать. Возможно, и это вернее всего, он сел на какой-нибудь станции ночью. Но если бы кто-нибудь стал утверждать, что пассажир этот едет с нами давно, едва ли тоже стал бы кто-нибудь отрицать, до того этот пассажир был маленький, как бы очень уемистый, обладающий особенным даром не привлекать на себя внимания. Первое мгновение каждый принял бы его за японца, потому именно, что он был миниатюрен и опрятно одет, японцы вообще ведь как-то по-европеистее китайцев. Но это был китаец, и чемодан инженера, падая, задел его и даже повредил ему палец. Наш Ведьмедь, имевший понятие в фельдшерском деле, взял его крохотную ручку и, разглядывая поврежденный палец, стал на него дуть.
– Как тебя зовут-то? – спросил он китайца.
– Иван Андреевич, – ответил тот.
– А по фамилии?
– По фамилии Кузнецов.
– Как же это может быть?
– Так, ладно.
– Да ты не обижайся, Ванюша, поплюй на руку, и перестанет болеть. Скажи лучше, откуда ты взялся?
– Лючче я помолчу, – ответил китаец.
Ведьмедь подумал, что он плохо понимает по-русски, и спросил:
– Откуда твоя ходи?
– Китай, – спокойно ответил Ваня.
Удовлетворенный Ведьмедь вдруг забыл, что ему надо было от китайца и зачем он вообще завел этот разговор. И так, не зная, что еще сказать, он молчал и улыбался ласково и добродушно, как бывает с самоваром: угли кончились, а пар еще идет, и он еще совсем горячий стоит и молчит. Мало-помалу все насмотрелись, и этот юноша с желтым, матовым, как бы точенным из пальмы и хорошо полированным лаком лицом, с живыми, как у птицы, глазами и милой улыбкой стал было опять исчезать в свойственной ему прикровенности. Но тут приходит инженер, ему показывают чемодан и китайца, говорят, что вот пришибло, поранило руку. Инженер осматривает внимательно чемодан и сдувает с него пыль прямо в лицо китайцу, ему только бы чемодан, он весь в чемодане, и такой он резко заметный, а китаец такой прикровенный. Разного рода бывают неловкости. Вот в Европе есть человек, живущий честно для своего внешнего вида, и так у него все выходит, что твои же идеалы, как будто уже решено – недостижимые, тут во внешнем виде осуществлены, и тебе очень неловко в этом обществе именно потому, что твое-то внутреннее, гораздо лучшее, но не осуществлено, и ты не можешь показать его и противопоставить очевидно хорошему, но мертвому. Хочется сказать: у меня там тоже чисто внутри и там самое главное. А сказать невозможно, и вот лучше просидеть незаметно, и немного осталось проехать, а тут вот на! – чемодан на голову и пыль в лицо…
Мы это больше за себя самих под предлогом китайца постояли, но и китайца в обиду не дали владельцу чемодана. Самое главное, чем именно и записался в моей голове этот случай, что ночью под стук колес вспоминалось далекое детство, и в нем, как сон, такое смутное представление: монгол с широким окровавленным мечом, – ужасно страшно! – а европеец, напротив, что-то очень хорошее: рыцари, герои, гладиаторы. Так вот учили, и складывалось в определенное сознание, а вот теперь разбирайся: вместо монгола с широким мечом – маленький симпатичный человечек, близкое существо, а против него важный человек с чемоданом. Перемена огромная <…>.
XXXVI. Травы
Подумать только! Ведь целыми же днями едем, и все непомятые травы с цветами, и мы знаем, что все эти травы останутся нетронутыми, кроме незначительной доли изюбров, сохатых и коз. Целыми днями все травы, как в арабской сказке: «Ехали много дней, и все была трава и воля Аллаха».
XXXVII. Голубь жизни
Какое прекрасное утро, чувствую, будто голубь жизни радостно встрепенулся в груди, и оттого захотелось собрать к большому столу много приятных людей, рассказывать им про все, слушать и особенно взять бы да всем вместе запеть. Но невозможно собраться, и оттого вместо хора я стою один у окна и сочиняю…
Вдыхаю в себя несущийся откуда-то из девственной тайги воздух с ароматом скипидара. Потом, когда я перешел в вагон-ресторан, то увидел, что проводник протирает подоконники скипидаром, и, значит, так он у нас тоже протер, а я нюхал этот обыкновенный скипидар и наслаждался, воображая, что вдыхаю ароматный воздух девственной тайги. И есть такого рода поэзия, иллюзорная и как бы трагическая, на самом же деле пустая поэзия, основанная на невежестве и традиционном противопоставлении поэзии знанию, – было, мол, поэтично, а вот узнали, и поэзия кончилась. Была тайга девственная, пахнущая скипидаром, а оказалось, не тайга пахнет, а подоконник, натертый скипидаром. Но почему бы, зная про скипидар подоконника и начав с того, что проводник им натирает окно, я не могу перейти к скипидару деревьев в распаленной горячим солнцем хвойной тайге? И почему тоже, зная по науке о луне, что она большая и холодная, отдав должное этому знанию, не могу я оставаться в интимной жизни с луной, как с обыкновенным привычным мне сияющим медным тазиком? Скорее всего это происходит от младенчества или варварства: узнал причину, и качество скрылось, причина съедает качество: листья только что одетой зеленой березы так музыкально шумели зеленым шумом, но оказалось, что все дело в хлорофиле, и, значит, нет никакой музыки, и это только так казалось, пока не прочел курс ботаники.
Население устроилось жить возле больших рек; какой ему, правда, расчет устраиваться в сибирских-то условиях возле этой, пока единственной, линии железной дороги! Сегодня еще меньше признаков человеческой жизни, чем раньше, а в неприкосновенной траве всюду громадные цветы, особенно интересны мне были очень темные, черно-лиловые сильные ирисы. Но надо правду сказать, что на всем громадном пространстве, в тысячи километров, все-таки господствует один всем известный у нас цветок – Иван-чай. На телеграфной проволоке сидели птички, до крайности маленькие и мне совсем неизвестные. Наши вороны давно исчезли и начались черные, как грачи, настоящие наши же вороны, но в грачиных перьях. Больше же всего мне понравилась одна речка, через нее была веревочка, стань на плот, потянись за веревочку, и сам переедешь на другую сторону. Конечно, стоишь у окна и про себя потянешь, и будто переехал, пошел в тайгу и начал там открывать новое, сравнивать их траву и нашу, их цветы и деревья, запахи, землю мысленно берешь, растираешь между пальцами, понюхаешь. Земля ведь тоже по-разному пахнет.
XXXVIII. Даурия
Читаю в пути жизнь протопопа Аввакума в Даурии и с удовольствием в этом фанатическом проповеднике вижу самого живого человека, когда он рассказывает о природе Даурии.
«Горы высокие, дебри непроходимые, утесы каменные, яко стена стоит, и поглядеть, заломя голову. В горах тех обретаются змеи великие, в них же витают гуси и утицы, перья красные, тамо же вороны черные, а галки серые, измененное против русских птиц имеют перие. Тамо же орлы и соколы, и кречеты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие, многое множество птицы разные. На тех же горах гуляют звери дикие: козы и олень, изюбры и кабаны, волки и бараны дикие, воочию наши, а взять нельзя».
Это из жития. Он ехал сюда из Москвы в ссылку пять лет, а три года ехал назад.
XXXIX. Золото
Видели знаменитую Шилку, составляющую вместе с Аргунью великую реку Амур. Проезжаем мимо и переезжаем поперек множество малых речек. Берега всех этих горных рек и ручьев представляют собой цепи сопок, покрытых лесом.
Было раз, мы стояли у окна, горный инженер говорил с нашими старателями о золоте, и вдруг около самой линии между лесистыми сопками на ярком солнце сверкнул ручей.
– Смотрите, – сказал инженер, – вон там, между этими сопками, непременно должно быть золото.
.– Моет! – ответил один из старателей, и другие только не сказали, но как-то все в одно мгновение, только взглянув на сверкнувший ручей, поняли, что сейчас там где-то промывают золото. Что золото было в сопках, об этом можно было догадаться по множеству шурфов у подножья горы, но что именно вот в этот момент кто-то промывает золото, об этом узнать по взгляду, казалось, можно лишь какому-то чародею.
– Как вы узнали? – спросил я волшебников.
– Чего проще, – засмеялись они. – вода-то в ручье бежит мутная, а разве вы не заметили?
Они могли даже почти наверняка сказать, кто промывает вверху золото: конечно, вольный человек, или, по-здешнему, хищник.
И вот опять шурфы показались, ручей, опять инженер:
– Золото!
И теперь я сам разглядел, вода в ручье была явно мутная.
– Моют? – спросил я.
– Золотое дно, – сказали старатели.
XL. Ерофей Павлович
Вот уж как удивительно и как интересно, железнодорожная станция названа человеческим именем и даже по имени и отчеству – Ерофей Павлович. Взгляните на сибирскую карту, и вы сами увидите – и на карте будет со всей серьезностью географии, значит, еще чуднее, напечатано: Ерофей Павлович.
Но вот недалеко отсюда есть город Хабаровск, и Хабарова тоже звали Ерофеем Павловичем, – кто же не подумает, что станция Ерофей Павлович названа именно в честь казака Хабарова? И поэтому я на вопрос китайца о происхождении странного названия станции так и сказал, что названа, вероятно, в честь Хабарова. Между тем, кажется, это неверно. Иностранный инженер, несколько лет уже работавший в этом краю, резко поправил меня:
– Не казак, – сказал он, – а каторжник беглый, в честь его и названа станция Ерофей Павлович.
Он выпил изрядно рислингу, и тон его мне не понравился.
– Вот посмотрите, – сказал я, показывая книгу «Новая Даурская земля», – на каждой странице напечатано: «Ерофей Павлович».
Инженер сказал мне по-французски:
– С известной точки зрения, казаки и каторжники – одно и то же.
На это я ответил бельгийцу, что, с известной точки, пожалуй, и бельгийцев можно назвать каторжниками.
Так вышла эта маленькая война <…>.
XLI. Невер
Автобус на золотые промысла Алдана идет от станции Невер. Тут сошел не только мой враг инженер, но и друзья, добродушный Ведьмедь и талантливый Ярик. Сразу же стало без них пусто, и вдруг уже забытый в уголке китаец сказал:
– Мне у вас очень нравится.
После долгого молчания и моего немого вопроса он объяснил:
– У вас нет мандаринов и богатых купцов, все одеты у вас просто, и едят у вас почти одно и то же все, и можно подойти к каждому, и он будет говорить, о чем только захочется, и все это оттого, что нет классов, и этого нет нигде на земле.
Так вот китаец говорил, а мне-то и в голову не приходило, что у нас в поезде как-то особенно хорошо и что эта простота отношений явилась вследствие принципиального решения уничтожить классы. Фронт, конечно, велик, а участок, отведенный для каждого бойца, очень мал, – кажется, убираешь за кем-то без конца, а он-то на тебя и не оглянется и не даст посмотреть на себя с лица… А вот пришел человек со стороны, из Китая, и наслаждается, не видя вокруг себя мандаринов.
– Вам, – ответил я, – со стороны видно лучше.
И на это он с убеждением:
– Конечно, лючче.
XLII. Цыганская жизнь
Нет! Это совершенно неверно. Наша вагонная простота есть лишь кажущееся бесклассие, и это было всегда и в старой России; это не оттого, что люди вышли за пределы своего класса, а потому, что плохо осознали себя как класс и продолжают жить в добродушной старинке земледельческого варварства. Но чуть нарушилось благодушное равновесие, и медаль обертывается другой своей стороной. Так случилось и в нашем вагоне: после добродушных военных, партизан пришли мрачные охотники за длинным рублем, вернее всего – герои Алданских золотых приисков, вероятно, после долгого поста вдруг увидевшие в ресторане графины с делениями на рюмки. Пили, конечно, и мы с партизанами, придерживаясь шкалы. Но эти новые пришли и даже не поняли, для чего существуют на графинах отметки, пили прямо стаканами, а пиво брали с собой в купе батареями. От их табачного дыма, винного смрада, селедочной вони у нас топор повис в воздухе, и паше прекрасное купе, на их языке, стало называться купоном. Ночью они нас разбудили грохотом двери, потом с большим трудом, не раз обрываясь, залезли наверх и запели:
О жизнь цыганская, о, нет спасенья!Мы все-таки заснули, но одна бутылка наверху самораскупорилась и облила сверху китайца. Раскрыв глаза, я увидел его с полотенцем в руке.
– Вот вам и страна без мандаринов! – сказал я.
Он в жизни, наверно, так много вынес, так радость его от встречи со страной без мандаринов была идейна, что самого этого моего чисто обывательского сопоставления идеи с пивным душем он не мог понять. Он с улыбкой посмотрел на охотников за длинным рублем и сказал:
– Понять не могу, зачем им нужно так много пить? Вынул чистое полотенце, отерся одеколоном и так решил:
– Пивной дух, это все равно, что ничего, понемногу, понемногу будет все лючче и лючче.
Олень-цветок
I. Змеиная теща
Удар железнодорожного колокола разбудил нас в Уссурийской долине. По всей вероятности, мы были недалеко от того места возле озера Ханка, где, по рассказу Арсеньева[20], герой его Дерсу Узала спас ему жизнь во время внезапного тайфуна со стужей и снегом. Конечно, с тех пор прошла железная дорога, многое изменилось возле Ханка, но вскоре из разговоров с учеными и потом личным опытом я убедился, что изменение в Уссурийском крае ничтожно в сравнении с тем, что делает железная дорога в иных местах. Край настолько не обжит и не изучен до сих пор, что о каких-либо «гибельных последствиях цивилизации» и думать нечего. Теперь вдруг бесчисленные экспедиции, от геологии до кино, лавиной ринулись на край, даже в нашем вагоне их несколько, и я нахожусь в счастливых условиях скоро о всем справиться у самих же людей, а не рыться в их книгах. Знатоки края рассказывали нам о разных зверях, населяющих горы Сихотэ-Алиня, о многих неизученных видах рыб в озере Ханка. В особенности заинтересовала меня кусающаяся черепаха. В озере Ханка будто бы черепахи этой неисчислимое количество и попадается она на переметах для рыбы постоянно в большом числе. Близко знающие озеро люди говорят, что в одно лето переметами будто бы можно наловить до пяти тысяч таких черепах. Сейчас японцы с нами говорят о концессии. Они уже давно об этом подумывали и даже в ближайшем к нам порту Цуруге сделали бассейн для приема черепахи из озера Ханка. Кроме драгоценного у гастрономов мяса, кровь этой черепахи имеет целебное значение, а панцирь идет на изделия. По-видимому, ловля черепахи для экспорта скоро начнется в большом количестве, и теперь уже возят ее понемногу во Владивосток. Как раз несколько таких черепах вез в нашем поезде один молодой человек. Раз во время разговора с одним ботаником кто-то крикнул мне: «Ноги, ноги берегите!» Оказалось, это одна из черепах удирала из ящика и пробиралась между моими ногами куда-то в поисках родной воды озера Ханка. Мы взяли эту черепаху на столик и стали рассматривать: она была с тарелку величиной, овальной формы, в черном панцире с какими-то затеями. Чтобы рассмотреть ее голову, мы подставили к ее рту палочку. Мгновенно черепаха схватила эту палочку так крепко, что мы вытянули из-под панциря голову со всей длинной черепашьей шеей и, думается, если бы стали дальше тянуть, то прочь оторвали бы голову. Говорят, японцы именно так и делают: дадут палку, вытянут, чикнут по шее и прямо стаканами пьют целебную кровь. Глаза у нее желтые, злющие, и вся кусачая черепаха, когда смотришь на нее с вытянутой шеей, кажется в отдаленном родстве со змеей, вроде как бы змеиной тещей. Мне мелькнуло вдруг при виде такой черепахи воспоминание об одном рассказе на Амуре, таком, казалось мне, невероятном, что даже записывать его я не стал, как чисто «охотничий». Рассказывал один говорун, что в Амуре водится черепаха, кусающая людей с необычайной силой и всегда в секретное место (рассказчик назвал это место пасхальным), и что одного его знакомого казака во время купанья она укусила и повисла там. К счастью, на берегу Амура тут около места купанья была китайская кузница. С великим трудом, весь посинелый от страшной боли, поддерживая обеими руками черепаху, казак дотащился до кузницы, и тут китаец калеными щипцами заставил черепаху освободить пасхальное место.
– Возможно ли, – спросил я ученых людей, – чтобы эта черепаха из Ханки проникла в Амур?
Оказалось, вполне возможно, и очень интересно было отметить это в связи с вопросом миграции дальневосточных животных.
И у нас начался разговор о ходовом звере, кочующем из Сибири в Манчьжурию и дальше подобно перелетным птицам.
II. Реликт
Конечно, в вагоне были не одни только ученые. За каждым нашим словом следили местные люди, добровольно переселившиеся или переселенные из европейской части страны. По тому, как они следили за нашими словами и по их замечаниям, можно было понять, что от нас, людей со стороны, им очень хотелось бы знать об этом крае мнение, имеющее общеобязательное значение, как будто сами они растерялись, не знают, хорошо тут или плохо, и ждут от нас определения качества. Если бы мы стали бранить местную природу и нравы, по всей вероятности, они бы хором начали, со своей стороны, приводить доказательства невозможности хорошей жизни в этом краю тайфунов и неожиданных наводнений, уничтожающих сразу труды многих лет. Но я проверил потом: большинство из таких людей великие патриоты своего края, и если что-нибудь похвалить и даже от чего-нибудь прийти в восторг, то это как раз и будет то, чего они ждут от свидетеля со стороны. Впрочем, мы сами у себя в доме почти все такие, и потому заведено и обязательно в смысле «приличия», чтобы гости старались открыть в доме хозяев хорошее и объявить его единственным. Как ни старайся, однако, представить дальневосточную природу прекрасной, все-таки надо признаться, что с точки зрения общеизвестной экзотики, хотя бы индийской, эта экзотика жалкая. Ученые говорят, например, что на Дальнем Востоке есть древовидный папоротник, реликт, оставшийся здесь от третичной эпохи. Но не надо думать, что эти папоротники в самом деле деревья, как в настоящих экзотических странах. Пройдешь мимо такого папоротника, не обратишь никакого внимания, но ботаник разгребет землю, покажет подземный коротенький ствол и с таким видом, как будто нашел алмаз первой величины, станет доказывать, что это именно и есть знаменитое растение тропических стран – древовидный папоротник. Удивление и уважение к экзотическим существам на Дальнем Востоке является, лишь когда поймешь жизнь реликта: ведь это же реликтовый край.
Что такое реликт? Есть понимание реликта в смысле реликвии; были, например, в средней России липовые леса, их совершенно извели, и теперь липа, как остаток довольно редкий, встречается в естественных насаждениях. Это почтенная реликвия. Но, бывает, существо жило и благоденствовало когда-то, во времена очень отдаленные, а потом, когда среда переменилась и большинство прежних видов исчезло, это существо приспособилось к новой среде, но осталось самим собой. Вот почему в обыкновенной экзотике нет ничего удивительного в тигре: все в нем на месте, как мы с детства узнали по картинкам и в зоопарках. Но в реликтовой экзотике то замечательно, что тигр оставляет свои следы не только на песке, но и на снегу и что иногда он вступает в бой с бурым медведем, что виноград обвивает здесь хвойное дерево, что очковая змея зимует под снегом. Так мало-помалу, входя в понимание жизни реликта, начинаешь понимать и людей, приписывающих некоторым редчайшим из них (корень жизни Жень-шень. или панты оленя-цветка) почти чудодейственные свойства.
Я достаю сейчас с полочки добытый мной на Дальнем Востоке корень Жень-шень, вспоминаю, как просиял один китаец, увидев у меня корень жизни, имеющий вид человека, и поздравлял меня: с этим корнем жизни теперь я больше не должен бояться старости. Стоит мне только в течение сорока дней выпить сорок рюмочек настоя этого корня, и я сделаюсь, как Фауст, опять молодым. Не знаю, не верю, может быть, и не хочу, может быть, даже предпочту свое личное отчаяние власти над собой какого-то китайского корня. Но мне очень приятно смотреть на этот драгоценный реликт из семейства аралиевых, в течение многих тысяч лет имевший власть больше золота над умами многомиллионных восточных народов. А сколько рассказов, сколько легенд! Один из наших ученых в вагоне рассказывает случай с ним в тайге еще до войны. От какого-то учреждения он получил, между прочим, триста рублей золотом для покупки хорошего экземпляра корня жизни. Раз он поехал в тайгу совершенно один, по молодости своей не представляя себе опасности такой поездки. Заметив человека в тайге, другой следит за ним с винтовкой наготове из-за дерева, но наш молодой ученый, заметив двух китайцев, прямо подъехал к ним и рассказал, в чем его дело: ему надо достать хороший корень Жень-шень.
– Хороший? – спросили китайцы. – Шибко хороший?
– Самый лучший, какой только может быть, – ответил ученый.
– Два солнца ехать, – сказали китайцы.
И объяснили ему тропы и как найти фанзу, где он может получить верные указания.
Смельчак ехал в тайге два солнца (два дня), нашел фанзу, и там ему сказали, что именно в эту ночь он увидит лучший корень, какие только бывали на свете, и, по всей вероятности, он может его купить: корень этот уже несут теперь…
Да, это был, вероятно, один из самых драгоценных экземпляров, потому что этот маленький предмет вроде корня нашей петрушки, в кедровом лубке, засыпанный землей, легко можно бы было одному положить за пазуху, как обыкновенно делают китайцы, и, осторожно пробираясь, нести через тайгу. Но этот корень, на какой-нибудь десяток сантиметров превосходящий другие, имеющий какую-нибудь лишнюю косу на голове, особенно правильные морщины на туловище или с резким выражением тела мужчины или женщины, несли через тайгу с величайшими мерами предосторожности шесть вооруженных людей. Они принесли его в полночь и только после усиленной просьбы хозяина вошли в переговоры о продаже и раскрыли великую драгоценность. Китаец, разглядывая корень жизни, может часами сидеть, изучать его и находить непрерывно какие-нибудь особенности в его форме, расположении мочек. Но что мог понять европеец? Его спросили, какой суммой денег он располагает для покупки, и он ответил просто, что ему дали большую сумму золотом, триста рублей… Тогда поднялся всеобщий великий хохот в фанзе: за корень этот предполагалось взять не менее тридцати тысяч рублей золотом.
Этот рассказ был ответом на поставленный знатоку края вопрос, до какой суммы может достигать ценность корня жизни: ценность эта может расти почти беспредельно, и человек в поисках его может мечтать о чем угодно, оставаясь в пределах возможного. Из реликтовых животных почему-то было избрано, как драгоценное, самое нежнейшее, из животных самое грациозное, пятнистый олень, прекрасный олень-цветок (Хуа-лу), его панты будто бы имеют почти такое же целебное действие, как и Жень-шень, и, по малочисленности прекрасного зверя, ценность лекарственного вещества молодых рогов тоже огромная, в несколько раз превосходящая ценность таких же пантов благородного оленя, марала или изюбра. Так, углубляясь в знания края, хотя бы даже полученные из вторых рук, начинаешь открывать себе своеобразную, незатрепанную экзотику Дальнего Востока, сильную своими контрастами. И правда, в краю, на который зимой так дышит Сибирь, что все замерзает и при ужасных тайфунах подчас становится холодней, чем в Сибири, летом в речных долинах красуются такие нежные деревья, как белая акация, маньчжурский орех, мелколиственный клен, ясень, бархатное дерево, а подлеском у них бывает та самая сирень, которую мы видим у нас только в садах, и на полянках, как обыкновенные цветы, встречаются левкои, львиный зев. Есть лотос и эдельвейс. В этом краю не только природа, но и люди самых разнообразных стран привозили самые разнообразные семена: китайские капитаны – свои, американские – из Америки, русские переселенцы из самых разнообразных климатов тоже всеивали свои семена, и все большей частью приживалось и росло. Говорят, будто бог при обсеменении мира забыл этот край и, заметив грех свой, смешал все остатки семян и поскребышами этими обсеменил весь Южно-Уссурийский край.
III. Родственники
Перед тем как показаться морю, мы нырнули в тоннель, и в то мгновенье, как окно наше входило в темный коридор, на солнце ярко венком над самой дыркой тоннеля просветились разные необыкновенно большие уссурийские цветы, оранжевые и темно-синие, и когда мы вынырнули на ту сторону горы, то солнца уже не было там, а моросило нечто среднее между дождем и туманом, то самое, что на Камчатке называется бусом. Я и сейчас, как только закрою глаза, вижу в ярком свете этот венок и прямо, не думая, называю этот снимок своего собственного глаза венком победителя, и, право, не знаю, кого тут разуметь победителем: я ли это, преодолевший наконец то подмосковное сидение, или русский народ, продвинувшийся от Карпат до Тихого океана. Мы ехали по самому берегу залива, названного в честь великой реки Амурским, точно так же как назван по ту сторону рога залив Уссурийским, оба эти залива вместе составляют залив Петра Великого, а на роге по сопкам раскинулся Владивосток.
На вокзале нас встретили рогули, китайские носильщики с особыми рогульками, посредством которых они на спине своей переносили великие тяжести. Я обратил внимание на одно старое морщинистое лицо с глазами человека, воспитанного необходимостью. В этих глазах было снисходительное предупреждение нам, европейцам: «Смотрите, дети, без этого труда человеком из вас никто не вырастет!» Где-то в глубине русской культуры, как я выношу ее понимание из далеких детских своих переживаний в народе, кто-то предупреждал именно так и меня самого, и потому при взгляде на этого труженика в сердце у меня завязался небольшой узелок какого-то неясного отдаленного родства с этим китайцем. Старик ухитрился забрать на себя все наши семь с половиной пудов и за четыре рубля перенес их в гостиницу «Золотой Рог». Там узнали мы, что настоящая цена была не четыре, а только два рубля, и этот обман старого «родственника», конечно, был неприятен.
Когда мы устроились в номере и снова вышли, чтобы осматривать город и начинать дела, наш старик стоял со своей рогулей у двери.
– Плохой люди! – сказали мы, как русские говорят по-китайски, – надо было взять два рубль, а твоя возьми четыре!
– Нет! – ответил живо старик, – моя люди хороший, а ваша плохой: зачем давал четыре, ничего не понимай, плохой люди!
Что можно было ответить?
В это время два другие китайца, служащие в гостинице, вынесли чьи-то вещи и столько навалили рогуле на спину, что старик покачнулся.
– Вот народ! – с презрением сказал какой-то молодой человек в кепи, по-рабочему одетый, – никакой скот не даст себя так эксплуатировать: люди хуже животных!
Слова незнакомца пробежали, как электрический ток, и вернули нас к революционной действительности. И все мы, с китайцем и незнакомцем, вышли на улицу. К сожалению, скоро оказалось, что незнакомец был далеко не на высоте революционного сознания и молодым казался лишь с виду: он столько испытал, столько его «эксплуатировали» везде и всюду, и спасением его были только ноги, – ото всего убегал. Теперь он навсегда покончил с производствами, подговорил всю свою родню и переехал сюда вместе с ними строить колхоз: все свои…
С добродушной улыбкой сказал мой товарищ:
– Вот кулачье. Уверен, что вас раскулачили.
Тот улыбнулся и ответил:
– Ну, да, конечно, не пролетарии, люди все самостоятельные.
– Едва ли сладится у вас этот семейный колхоз, – сказали мы, – все равно и здесь он будет введен в общую систему строительства.
– А мы этого не знаем? Что вы нас за дураков принимаете? Конечно, мы и «партейца» своего привезли.
Так мы душевно беседовали, время от времени перепрыгивая провалы на деревянных мостовых. Тут тоже своя история: провалы образовались оттого, что граждане таскают дощечки тротуара на топливо, а таскают потому, что угольный кризис был, а кризис… Это сложная история: все китайцы организованы в артели, и во главе каждой артели стоит старшинка, вроде нашего кулака. Пришло время перестроить такую организацию, убрали старшинок, а растерянные рабочие, еще не понимающие своих интересов в свете советского государства, забастовали, через это доставка угля временно прекратилась, и граждане начали разбирать доски.
– А что, если, – спросили мы в раздумье, – вашего родного «партейца» снимут, назначат другого и колхоз ваш устроится не по-семейному?
– Есть Камчатка, – сказал он, – на Камчатке есть золото.
В это время мы проходили по высокому берегу моря, закрытого туманом. На обрыве, где сваливают отбросы, сидел в навозе китаец и палочками в разные ящики раскладывал свое золото: конский навоз – отдельно и коровий в другой ящик, овечий, свиной. Случалось, в этом навозе и мусоре попадалось что-нибудь ценное, он это прятал в закрытый ящик, случалось, съедобное, и он это брал пальцами и клал себе в рот. Несомненно, это был огородник, углубленный в самые недра земли, семейно связанный, быть может, с женой и детьми своего покойного брата, которым от своих великих трудов посылает все в Шанхай, часто, быть может, довольствуясь тем, что найдется в навозе. Какое сужение, какое углубление и какая ширь, когда берешь для сравнения русского, идущего на Дальний Восток за длинным рублем.
– Так вы, что же, – продолжали мы разговор, – если не удастся колхоз, в самом деле решитесь плыть на Камчатку за золотом?
– И дальше Камчатки, – ответил он, – есть Чукотка… Там заниматься хорошо пушниной, а деньги там американские.
– Прошу ваша! – услышали мы голос в тумане. – Постой, погоди!
Показался наш знакомый старик рогуля, он очень устал, пот струился у него между морщинами, но самое замечательное, что при всем этом он улыбался нам, как старый знакомый, и оказалось, потому только остановил нас, что ему надо было идти в другую сторону и хотелось проститься.
IV. Бедра
Быт, конечно, линяет и на Дальнем Востоке точно так же, как и в Москве, и описывать гостиницу «Золотой Рог», при современных быстрых переменах, я могу лишь с оговоркой, что так было в 1931 году, в июле. Было тогда в этой гостинице еще больше той мешанины европейского с азиатским, чем в гостиницах старой России. Вот хотя бы электрический звонок. Не потому он от Запада, что электрический, а западное в нем то, что при нажиме кнопки без всякой потерн времени на личную сделку появляется служитель и удовлетворяет бесстрастно, в пределах режима гостиницы, желания нанимателя комнаты. В условиях восточных на звонок никто не является, вы вынуждены начать со служителем личную связь, и тогда открывается ключ к исполнению желаний, даже и недопустимых.
На звонок мой в номер никто не являлся. Я прошелся по коридору в поисках какого-нибудь человека и в одном темном закоулке сделал великое открытие: там стоял величиной больше человеческого роста, нигде не виданных мной размеров, самовар и выпускал из себя облака пара. Вот все, что мне и надо было. Я принес чайник и, когда отвернул кран самовара, кипяток брызнул в три струи, одна в чайник, другая под прямым углом в стену, третья, разбиваясь в горячую пыль, била вперед и не давала никакой возможности продвинуться вперед и выхватить чайник. В один миг чайник переполнился, и клубы пара от соприкосновения кипящей воды с прохладным полом закрыли от меня и огромный самовар, и чайник. Я застучал в какую-то дверь, закричал: «Помогите!» На крик сразу явились и мужчина и женщина. Подобное, наверно, здесь часто случалось, в руке его уже была кочерга, а у нее тряпка. Кочергой он завернул кран, а тряпкой женщина с большими бедрами и на крошечных ножках подтерла с большим трудом горячую воду. Мы познакомились: китайца почему-то звали просто Кузнецов, а жену его Луин, – значит, «Голубая жена». После этого сразу же открылись для меня те самые личные отношения, без которых в китайском быту, как оказалось, невозможно было чаю напиться. Теперь без всякого риска быть преданным властям за контрабанду я мог бы тут же, шушукаясь в полумраке коридора с какой-то личностью, купить себе на резиновой подошве китайские белые туфли, шелковые чулки, зеленого чаю и даже опию; я мог уговориться о ночном путешествии в катакомбы лачужек, в подполья и подземелья к курильщикам опиума и женщинам. Но, говорил мне новый приятель мой, Кузнецов, настоящей китайской женщины с маленькой ножкой, как у его Луин, теперь во Владивостоке уже не найти.
– А зачем это нужно?
– Зачем нужно, – повторил он, – а вот зачем…
И показал на бедра: если не давать расти ноге, как раньше было в Китае, то растут бедра.
V. Кузнецов и Луин, Голубая жена
Каждый день я вижу, как эта женщина с застывшей на лице условной улыбкой выходит из гостиницы на базар и с большим трудом медленно движется на невозможно крошечных детских ножках. Она похожа на кустарную игрушку и ноги ее – на два пальца, если ими переставлять на столе, изображая для маленьких детей ход человека, а бедра действительно огромные, и оттого как-то жалко ее: сидеть бы по древнекитайскому обычаю и рожать, рожать без конца. Как же случилось, что теперь, когда новый китайский закон запрещает уродовать ноги девочкам, у нее, совсем молоденькой, такая нога и как она попала во Владивосток? Маленькая нога, несмотря на закон, сохранилась еще у многих женщин в Китае, потому что, пока живы старые китайские няньки, закон бессилен, а как попала она сюда… Какая это трогательная история о несовременности китайской женской ноги. Кузнецов, беднейший из китайцев, это вполне понятно, не знал другого пути, кроме самого дешевого, – контрабандной тропы, очень короткой в Посьете. И когда он сам хорошо устроился во Владивостоке, то пошел тем же путем за женой, Луин.
Он, однако, совсем забыл о ее маленькой ноге, неспособной ходить по горам, и вот, только супруги перешли границу, Голубая жена отказалась дальше идти и не в состоянии была вернуться назад. Она несла на себе сто пар шелковых чулок, и он тоже нес тридцать пар туфель. Надо было это бросить, но они не хотели бросить, потеряли много времени. На рассвете явилась большая овчарка, отняла у нее чулки, у него туфли и унесла. Надо было бежать, граница была совсем близко, каждая бы женщина могла десять раз убежать, но Голубая жена на маленьких ножках не могла, овчарка привела пограничный отряд. Молодые супруги попали в тюрьму и были возвращены обратно в Китай. Но там жить было трудно. Тогда они взяли в долг у старшинки еще сто пар шелковых чулок и сколько-то пар туфель. Кузнецов посадил Голубую жену в ручную тележку и вместе с чулками и туфлями благополучно перемчал в СССР.
VI. Ювенюн и Чисыза
Теперь сильно поубавилось китайцев-ремесленников во Владивостоке, но было время, когда эти ремесленники определяли собой быт окраинного города. Отношения этих людей красились особой китайской честностью: так, у них не было ни банков, ни бухгалтерии, и даже расписок они друг другу не давали при денежных сделках, все было на слово, и если кто-нибудь не сдерживал слово, то сам обрекал себя на смерть. Можно себе представить, сколько эта феодально-личная честность, разлагаясь, давала в свете плутов, пока для новой буржуазной честности не пришлось усложниться в коммерческих отношениях до банков: личную честность банк взял на себя. У нас в старой России я застал уже только период плутов и только рудиментарные остатки феодальной честности, помещики, в сущности, уже были купцы. Но военные, конечно, хотя бы на время своей военной службы, были еще достаточно феодальны в своих запросах. Так вот, как же эти военные на Дальнем Востоке обрадовались слугам из настоящего феодального мира! За военными и чиновники, доктора, интеллигенция, слышавшие только от дедов о верности русских слуг, все увидели в китайцах как бы свое забытое русское и стали ими восхищаться. И до сих пор всюду во Владивостоке можно слышать рассказы об исключительной верности и преданности китайцев. Вот было однажды, в городскую больницу нанялся поваром один богомольный китаец Ювенюн. У него в Шанхае была старая мамка и еще вдова его брата с тремя детьми. Ювен имел план на десять лет, чтобы за это время поставить на ноги малышей и тогда удалиться в горы. У него были в голове какие-то личные религиозно-сектантские идеи, близкие к нашему монашеству. Он был очень хороший, честный человек и не хотел заниматься торговлей. Вместе с другими русскими китайцами любил говорить: «Каждый купеза (купец) непременно есть машинка (мошенник)».
Через несколько дней после того, как Ювен вступил в обязанности больничного повара, три китайца: пекарь, водонос и прачка – привели к нему мальчика в сподручные, бойку, и поручились за него: наша люди. Мальчик был здоровый, веселый, с цветущим лицом, и прозвище его было Чисыза, – значит, «Вишня». Ювен принял бойку, администрация тоже обрадовалась и сразу же стала баловать смышленого, цветущего мальчика, а в особенности доктор, Софья Моисеевна, рассказавшая мне всю эту историю. Когда она велела искупать этого мальчика в ванне, то он ей сказал, что такого счастья не выпадает на долю ни одному китайскому мальчику, у нею теперь три мамы: мама в Китае, мама – няня в больнице и мама – доктор, Софья Моисеевна. Есть ли теперь на свете такие повара, каким был Ювенюн! Кто может теперь тратить столько времени на чистку посуды и помещения, так, чтобы в кухне все блестело и радовало. Но самое удивительное, что пища была всегда и вкусна, и верно посолена, между тем как повар сам никогда ее не пробовал. Когда удивленные русские спросили его об этом, он ответил: «Русская бабушка пробует ложка и опять ложка в суп, моя пробует нос». Так началась жизнь, определенная решением Ювена сроком на десять лет. Ювен в свободное время читал книги религиозного содержания, а мальчик ходил учиться русской грамоте и, конечно, через это начинал прикасаться к современной русской жизни. Однажды в кухне поднялся какой-то крик и было что-то вроде драки. Бросились туда и увидели, что разгневанный повар старался хлестнуть чем-то бойку, а тот увертывался и кричал непрерывно два слова: машинка (мошенник) и пенза (коса). В конце концов выяснилось, что мальчик Чисыза обрезал себе косу, и Ювен хотел за это его наказать. Чисыза кричал: «Пенза ю, машинка ю, пенза мию, машинка мию». Это значило по-русски, что с косами китайцы мошенничают, а без косы можно жить честно. После этого большого события, о котором в китайском мире, конечно, стало известно, явились все три поручителя: хлебник, водонос и прачка, с тем чтобы взять дурного мальчика и приладить его к торговле. Но мальчик оказал решительное сопротивление: «Не хочу быть купеза, всякий купеза машинка». Кончилось тем, что Чисыза просил у Ювена прощения и обещал всегда и во всем его слушаться. После того долго все проходило гладко, и только через несколько лет революция в кухне повторилась. Когда на крик внизу прибежали сверху, оба китайца стояли со скрученными салфетками и старались один другого покрепче стегнуть.
– Мал-мало бога не слушается, – объяснил Ювен.
Чисыза кричал и плакал:
– Кто хочет бога, моя хочет кушать.
Снова собрался весь совет с поваром, водоносом, пекарем и прачкой, снова судили Чисызу, и опять пошло все по-хорошему. Конечно, никто, кроме самого Ювена, не знал, когда же наступит тот последний день десятого года, когда он выполнит свой долг в отношении семьи своею брата. В этот день «мадама» Софья Моисеевна нашла у себя на столе необыкновенно роскошный букет и возле него фотографическую карточку Ювена: так он прощался. На кухне все блестело, все было точно на своих местах в ожидании нового повара. Чисыза стоял лицом в угол и такал.
VII. Ходя
Сначала узнаешь корейца по бородке, – если борода, значит, не китаец, потом начинаешь разбираться в лицах, и вдруг как-нибудь поймешь, что китайцы так же различны, как европейцы, и корейцы от них не бородками отличаются, а совсем иной народ по всему своему виду и особенно по характеру. Впрочем, конечно, если туман, то на улице смешать корейца с китайцем очень легко.
Был туман, и было в тумане, как в страданиях: то отпустит и посветлеет, то опять сгустится и мир исчезнет. Мы шли по улице и выслушивали от местного человека все хорошее о китайцах и все плохое о корейцах. Китайцы приходят сюда издалека и уходят. Корейцы живут поблизости и многие совершенно осели у нас <…>. В китайце – ремесленнике и торговце живет ласковая старинка, в корейце, самолюбивом и раздраженном, выступает колючая современность и личная претензия на новую жизнь с ее новыми правами. Не потому ли и симпатия нашего спутника, пожилого человека, больше относилась к спокойным китайцам. Выслушивая почтительно старожила, мы держали в голове этот вопрос, не допуская обвинения целого народа в корыстном использовании революционного покровительства маленьким и беззащитным национальностям.
– Чуть что, даже просто выругаешь его на работе за лентяйство, и он тебя обвинит в шовинизме, не переносит даже чисто производственной брани и назовет тебя «шовиниста».
– Какая же это такая производственная брань?
– Ну, просто сказать, матерное слово. Известно, что русский рабочий без него не может работать и не в обиду его посылает, а просто подгоняет в работе; слово чисто производственное, а кореец подает за шовинизм.
В это время в одном месте на сопках разорвался туман и показался китаец или кореец с коромыслом на плече, а от каждого конца коромысла свешивалась чаша с овощами, и все похоже было до точности на аптекарские весы. Туман перебегал и скоро закрыл торговца овощами, зато повыше открылась черная скала, на скале домик, а у домика седая старушка стояла и кричала вниз, в туман:
– Ходя!
Услыхав это, наш спутник сказал:
– Вот хотя бы ходя, это значит по-китайски друг, и мы всегда в этом смысле говорили китайцам: друг и больше ничего. И вот оказывается – это корейцы нам открыли, – что в Китае слово ходя употребляется сверху вниз, попробуй назови корейца ходей, он тебе покажет, а китаец только радуется: друг и друг.
В это время аптекарские весы показались пониже, а старушка скрылась и вдруг опять появилась пониже, она догоняла торговца и неустанно кричала: «Ходя, ходя, погоди!»
Мы здесь, внизу, слышали, а он там не оглядывался. Почему же так? Старухе, очевидно, очень нужен был картофель, она бежала и настигала торговца.
– Ходя, да погоди же ты, ходечка! – крикнула она.
Вдруг мнимый китаец обернулся к ней, и это оказался кореец.
– Шо-ви-нис-та, – крикнул старухе кореец.
Он овощи не продавал, он нес для себя.
Старуха-шовинистка поплелась обратно наверх.
VIII. Театр
В номере гостиницы «Золотой Рог» я почувствовал свою удаленность от Запада, как, бывало, в юности на Западе чувствовал удаленность Востока и даже не раз в повторных снах видел Восток каким-то желтым на синем и будто бы по желтому песку под синим небом я там иду неизвестно куда. Теперь, наоборот, отсюда, из громадных пространств, маленькая Европа, умная и сильная, представилась тоже сказочно заманчивой. Как удивительно хорошо мне казалось идти там по улице большого города в таком же виде, как все, в котелке или в цилиндре, как в шапке-невидимке, скрывать от общего взгляда свою личную жизнь и отсюда, из этой крепости обязательной формы, незаметно для всех видеть по-своему все. Но, конечно, я это своим говорю, тем, кто, как я, родился и вырос в Евразии под непрерывным влиянием Востока и Запада…
Два большие электрические фонаря загорелись при входе в «Золотой Рог», по обе стороны бетонной площадки под самыми фонарями сидели два китайских носильщика и, расстегнув штаны, вывертывая их под электрический свет, выбирали терпеливо и невинно, как обезьянки, насекомых. Я спросил их, где находится китайский театр, и, узнав, что очень недалеко, пошел туда и попал к самому началу. Занавес еще не поднимали, на нем красовалась громадными русскими буквами сделанная надпись о завоевании пролетарским искусством всего мира: что было написано по-китайски, понять я не мог. А еще был, как всюду, на занавеси ландшафт, в центре которого, как мне показалось, сидел мандарин под зонтиком и наслаждался природой. Театр был переполнен народом, в ложах очень тесно и уютно, с чайниками – везде, везде чайники! – сидели семьи с детьми и постоянно отирали пот с лиц полотенцами. Внизу, в партере, тоже везде были чайники, а кроме того, тут постоянно между рядами обносили тыквенными семечками и полотенцами, кто хотел брал и вытирался, и с одного лица одно и то же полотенце переходило на другое лицо. Везде попахивало китайским табачком, приправленным опием. Войти и сесть на скамью в таком театре все равно, что спуститься в чан с человеческим потом, но спустя некоторое время почему-то становится ничего и почти очень хорошо: уютно, семейственно, непринужденно. Китайский оркестр описан тысячи раз: скорый темп этой музыки, и еще не пойму что, я всегда потом узнавал и в хорах уссурийских лягушек, и у китайских каменщиков, кузнецов, и у полевых кузнечиков. Игра актеров сама по себе мне очень понравилась и была неожиданна, играли отлично, – без языка, по хорошей игре можно было почти о всем догадаться, а кроме того, сосед мой с величайшей готовностью переводил мне с китайского языка на русско-китайский «моя по твоя», и я узнал от него, что действие происходит за пятьсот лет от нашего времени. Богач, хороший, честный человек, со всей своей семьей по какой-то ошибке судьбы попал в руки злого бедняка, захватившего его богатство. Вот это издевательство бедного над богатым, как жена его бьет прежнюю свою госпожу по щекам, как изводят дочку, кусаются, вывертывают руки, и составляло пикантность пьесы, и видно было, что публика этим занималась, переживала, в сущности, наслаждалась жестокостью. Вся эта маленькая, на протяжении нескольких часов, пытка завершалась виселицей: измученная дочь богача села верхом на собаку свою и поплыла по морю и там встретила адмирала, который явился и повесил злого бедняка, а добрый богач со всем своим семейством получил прежнее свое богатство и прежний почет.
Идея пьесы настолько банальна, что, конечно, дело было не в идее, дело было в том блюде жестокости, которое подавалось отличными поварами-актерами, это был именно Восток на востоке, сам по себе, а не как он представляется на Западе. Странно было смотреть, когда занавес опустился, на русские слова о торжестве всемирном пролетарского искусства, и, как перевел мне сосед, по-китайски было тоже написано о пролетарском искусстве, а когда я надел очки, то рассмотрел, что среди ландшафта на занавеси не мандарин сидел под зонтиком, а гусеничный трактор, катерпеллер, двигался по рисовым полям, механизируя китайский бесконечно тяжелый земледельческий труд.
IX. Тигры
Как добываются тигры? Можно ли на них поохотиться здесь, как на медведя? Можно, только очень трудно. В мои руки попало описание тигровой охоты в прошлом году, вот его текст:
«В Правление зверокомбината
артели охотников
дер. Сибичи.
Заявление
Числа 15 ноября 1930 г. артель жителей дер. Сибичи – Калугин Трифон Васильевич, 35 лет, Поносов Павел Филатьевич, 32 лет, Выгодов Семен Григорьевич, 29 лет, Выгодов Егор Григорьевич, 25 лет, Выгодов Иван Григорьевич, 37 лет, вышли на охоту в район р. Тэтюхэ севернее Сибичи. Убив трех кабанов и штук семь поросят, артель продолжала охоту поодиночке. Верстах в четырех от Тэтюхэ, это уже недели через две, Калугин нашел след тигра большого и двух малых. Он позвал к себе Выгодова, и ими решено было созвать всю артель. Собралась артель, ночевали, и в эту ночь выпал снег и покрыл вчерашние следы. В течение полумесяца артель вновь нашла эти самые следы верстах в 11 от Тэтюхэ. По этим следам идти было особенно трудно, потому что тигрица с молодыми не паслась, а лежала долгое время. По встретившейся скоро ломке охотники определили приблизительно недельный подъем с гнезда и приложили все усилия, чтобы тигров нагнать. Через два с половиной дня, перейдя перевал при глубине снега в шесть четвертей, артель нагнала тигров в долине реки Тунабо, верстах уже в 35 от Тэтюхэ. Снег и густота зарослей мешали подойти к гнезду, и скоро пришлось убедиться, что забитые снегом ружья как со стороны ствола, так и с казенной части не могли стрелять, значит, шли безоружные. Калугин шел впереди, вдруг видит молниеносный прыжок тигрицы на собаку, а ружье дало осечку. Тигрица после неудачного прыжка ушла, а охотники обнаружили на склоне горы, на солнцепеке две лежки, одна пониже – тигрицы, а повыше другая – тигрят. После прыжка тигрицы молодые тигры бросились в разные стороны, один по следу матери, другой в противоположную сторону. Охотники разделились и пошли по этим следам, но так как в такой горячке не успевали за тигрицей, то пустили собак. Шагах в трехстах от места лежки был настигнут собаками первый тигренок, охотники только лишь стали добегать до него, вдруг он передней лапой хватил собак и наутек. Оробевшие было собаки, как увидели бегущих на помощь охотников, зализали наскоро раны и бросились догонять тигра. Скоро они его нагнали и держали до прихода артели: он забился под громадную колодину и оттуда рычал на собак. Вновь увидев охотников, таковой бросился на них, невзирая на собак, но Калугин отбил его в лоб, тогда он бросился на Выгодова, и тот дал ему в пасть приклад. Тигренок обхватил лапами с такой силой, что нестрелявшее ружье вдруг ахнуло, пуля пробила рукав, и руку сильно обожгло. Испуганное животное бросило Выгодова и бросилось на Поносова, и, очевидно, ему плохо пришлось бы, если бы Калугин при повороте не схватил тигра за хвост. На длинном прыжке у тигра получился через это толчок, он как бы споткнулся. Калугин тоже не устоял на ногах, пал прямо на тигра и успел схватить его за уши. Рассвирепевшее животное с двумя прикладами во рту сбило наседавших охотников и начало драть передними и задними ногами Калугина, и горе было бы ему, если бы он отпустил уши. Наскочившие со всех сторон стали завязывать рот, связывать лапы и выручать обнятого четырьмя тигровыми лапами Калугина. В конце концов, благодаря дружности, Калугин отделался только царапинами на груди и что остался без пиджака. Так был связан первый тигренок. После того решили прочистить ружья и пошли опять догонять беглецов. Не стоило большого труда Храброму и Босому – обе дворняги – нагнать верстах в двух второго тигренка. Он не убегал дальше, решил поцарапать собачат, первой оказался Босой, не сумевший быстро лавировать. Собаки старались не давать ходу тигру – одна спереди, другая сзади. Увидев подходивших людей, тигр бросился напролом через Босого, помял, изранил и пошел наутек. Но Храбрый, не отставая, преследовал его и загнал его под колодину, а тут оправился Босой и подоспел на помощь. Из охотников пришли только трое, два остались со связанным тигром. Так же как и с первым тигром, при первой его попытке броситься Калугин дал ему в рот приклад, а Поносов и Выгодов придавили его рогулиной, накинули ему на голову одеяло, завязали ноги, замотали шпагатом голову. За все время тигрица нигде не показывалась. На палке, на плечах, второго тигра отнесли к первому. Переночевали. Утром одного послали за лошадью, а сами потащили тигрят на волокуше, но не протащили и 20 саженей, выдохлись, так как тигрята были по четыре пуда весом. Продукты иссякли, и охотники решили не дожидаться посланного, а сделать для тигрят сруб и самим уйти. На четвертый день их встретил посланный без лошади, так как ее невозможно было провести. На восьмой день охотники вместе с тигрятами добрались до первого своего табора на р. Тэтюхэ. Ловлей тигров никто из них раньше не занимался. Все переселенцы из Ивановского района Владивостокского округа, деревни Виноградовка. В общей сложности охота на тигров у них заняла около двух месяцев».
Кто станет сомневаться в таком правдивом рассказе, но я знаю совершенно чудесный рассказ о тигре, которого сам своими глазами видел в зоопарке, вблизи Владивостока. Этот уссурийский тигр недавно был доставлен из тайги, – молодой, но вполне тигр, и до того свежий, яркий, какой-то напряженный. Известный кинорежиссер Литвинов с оператором Мершиным этим летом собирали материалы для кинопьесы «Китайцы» и, увидев прекрасного тигра, решили инсценировать: тигр из уссурийских зарослей бросается на молодую дикую козу и разрывает ее. Заказали достать молодую козу, и охотники в короткий срок доставили. Обнесли значительное место крепкой проволочной сеткой, задекорировали ее уссурийской растительностью, пустили козу, оператор устроился, и тогда, крадучись, робко выступил тигр… Свобода была ему, конечно, дороже козы, хотя перед тем его несколько дней не кормили. Не обращая никакого внимания на козу, тигр сделал гигантский прыжок в самую гущу субтропической флоры и в тот же момент был отброшен и опрокинут на спину пружинившей сеткой. Он повторил прыжок и еще раз был отброшен. Тогда он увидел товарища по неволе, козу, и направился к ней. «Ну, не зевай, оператор, верти». Товарищ Мершин уверял меня, что он не растерялся после того, что увидел, он вертел, и самые интересные кадрики обещался потом доставить мне для иллюстрации книги. А как было не растеряться: нужно было, чтобы тигр козу разорвал, и он подошел к ней и стал лизать ее (сзади), и она, не обращая никакого внимания на тигра, рассматривала и облизывала какие-то листики. Возможно, что тигр шероховатым своим языком доливался через шерсть до тела, и козе стало, может быть, щекотно, а может быть, больно, она подняла голову и вдруг пикнула. А тигр до того испугался козы, что со страху мгновенно отпрыгнул и забился в углу. Потом оператор дождался, как коза подошла к тигру и, в свою очередь, обнюхивала своего красивого и такого робкого товарища по несчастью.
X. Ходовые птицы
Бывает, все фазаны исчезнут, и вдруг придет весна – и закокотали везде. Охотник Юдин Сергей Федорович (совхоз Майхэ) рассказывал, как он своими глазами видел ходовых фазанов, по всей вероятности идущих к нам из Маньчжурии: они, сокращая путь, пересекали морскую бухту по льду, и в таком множестве, что бухточка от них казалась красною (так он сказал). Охотник Перебейнос Степан Яковлевич (Ханка, деревня Кузнецове) рассказывал свою добычливую охоту на ходовых фазанов: когда партия после первых выстрелов разобьется, то хорошо ездить верхом, и с лошади настрелять можно очень много. Охотник Долгаль Иван Иванович рассказывал, что в неделю он набил шестьсот штук ходового фазана. Образованный охотник Верещагин, автор книги «Пятнистый олень», говорил, что фазан уходит вовсе не в Маньчжурию, а куда-нибудь очень недалеко за пищей. Но охотник Бокарась (Владивосток, зверокомбинат) опровергает это и уверяет, что дело тут не в пище, что если бы в пище бы все, то можно бы прикармливать и фазаны бы всюду жили, как дешевые куры, что пробовали не раз их разводить, и выходит только трата: вдруг поднимутся и при наличии пищи почему-то все уйдут в неведомое место.
XI. Браконьеры
Расспросив хорошенько в зверокомбинате путь в олений совхоз «Майхэ», мы так поняли, что ехать надо по Сучанской железной дороге, билет брать до Шкотова, но сойти немного недоезжая до Шкотова, потом берегом реки Майхэ идти до совхоза и там крикнуть лодку: совхоз на той стороне. Мы узнали, что в этом маленьком совхозе всего только триста оленей, что при раскулачивании прежних владельцев этого хозяйства, Буренков, один Буренок застрелил советского егеря и сам был убит, а другой убежал за границу и что теперь совхозом заведует один из самых лучших работников – Сергей Федорович Юдин. Рассказы понимать всегда легко, но когда мы приехали ночью и спросили о Майхэ у какой-то девицы, она сказала: «Идите за мной», – и мы пошли за ней в деревню Майхэ, в противоположную сторону от того места, где находился олений совхоз того же имени. Поблуждав, мы вернулись, и путеводным огнем нам был огромный костер, почему-то разложенный очень старым корейцем перед своей фанзой. Было ни жарко, ни холодно, не было совсем комаров, и никакой пищи не готовилось, просто сидел у самого пламени глубокий седой старец, любитель огня. Проходя мимо него второй раз, мы попробовали спросить его о нашем пути, но он был, вероятно, глухой и ничего нам не ответил. Мы вернулись к железной дороге, перешли мост через Майхэ и другой мост, через соляную протоку, краем рисовых полей, постоянно перескакивая через арыки, часто попадая в грязь; с большим трудом, измученные, потные, добрались мы наконец до того места, откуда нам с другой стороны реки явственно послышался свист встревоженных нами оленей. Мы подождали, прислушались, свист повторился. Тогда мы крикнули лодку и. услышав скоро всплеск весел, от радости, измученные жаждой, решили напиться воды из Майхэ. Радость наша оказалась преждевременной, вода в самой близости Уссурийского залива была в Майхэ совершенно соленой, и, самое главное, китаец-лодочник, почти уже подъехав к нам, вдруг повернул и начал скоро от нас утекать.
– Вернись, вернись! – крикнули мы.
– Откуда ваша идет? – спросил он нас.
И, узнав, что из Москвы, быстро ударил веслами и скрылся во мраке.
– Бог знает что! – сказал мой спутник, глядя на звезды.
Вытирая с бороды соленую воду, другой сказал:
– Черт-те что!
И вдруг напротив за рекой в полгоры ярко вспыхнул огонь: значит, в полгоры там стоял дом, и мы решили, что, наверно, это китаец добрался до хозяина, полагая, что мы браконьеры, и тот вздул огонь, а потом китаец собакам сказал, и они все разом подняли гам, и за собаками особенно сильно со всех сторон засвистели олени. Обождав еще немного, мы услышали всплеск весел, это ехал выручать нас сам отважный хозяин Сергей Федорович Юдин. Дом, действительно, как мы и предположили, был врезан в скалу, и скоро мы в этом доме уютно сидели за столом и беседовали о браконьерах.
Как выгодно быть браконьером в этом краю! С. Ф. Юдин рассказывал нам, что однажды, вот точно как и нам теперь, пришлось ему заблудиться и попасть на какую-то заимку. Хозяин, разговорившись, прямо сказал, что всего только два раза съездил за пантами на остров Аскольд и на эти панты было куплено все: и лошадь, и корова, и вся хозяйственная утварь, орудия и самый этот вот дом построен все на панты. Во всех культурных странах есть браконьеры, в Европе, в Канаде, и как же им не быть здесь, если панты с одного только оленя ценой доходят до тысячи золотых иен! И какие стрелки! Маленькой пулькой из мелкокалиберной винтовки, чтобы меньше был слышен выстрел, браконьер попадает в шейный позвонок пантача. Какая отвага и ловкость в руках! Вот что было на Аскольде еще в то время, когда оленями владело охотничье общество. Председатель общества, капитан Бушуев, застав браконьера над убитым пантачом, навел на него револьвер и велел бросить винтовку. И браконьер сумел, бросая винтовку, сделать так, что она выстрелила, и председатель был убит наповал. А то были известные браконьеры – три брата, прозванные за хитрость «лисицами». Раз один из таких «лисиц» был захвачен на острове, и егеря даже не очень спешили брать его: лодка отобрана, куда же денешься с острова. Но «лисица» перехитрил егерей: он связал два бревна подштанниками, лег между ними и отгреб своими собственными ладонями, как веслами, восемь верст морем до берега. На острове Путятине егеря в перестрелке с браконьерами убили одного из них, некоего Страхова. Труп его они зарыли тут же, на берегу, сделав из шлюпки гроб. Оставшиеся браконьеры ночью выкопали гроб, вытащили гвозди, разобрали доски, починили шлюпку и уехали. Но всех отчаянней был знаменитый браконьер Кочергин. Бывало, он приходил на какие-нибудь празднества с братом и пулей разбивал у него стакан с водой на голове. За удовольствие считал себе высмотреть корейца-рыбака в запрещенной для рыбной ловли зоне залива и на громадном расстоянии, когда кореец, склонясь над водой, держит парус, так попасть в него пулей, чтобы он кувырнулся с суденышка и спрятал все концы в воду. За голову этого злодея была назначена крупная сумма, многие, конечно, охотились за ним, но в решительный момент робели и сами попадали под его пулю. Как-то раз было, один егерь уснул под кустом на Аскольде, и когда проснулся, видит через куст – сидит Кочергин и вырубает панты. Надо было протянуть руку к винтовке, но рука онемела. Так вот от одного только кочергинского вида у егеря онемела рука, и он в кусту дураком просидел. Впрочем, дело становится понятным, если знать, что егеря были местные люди и за убийство Кочергина получили бы не одну денежную награду, а непременно еще и пулю в голову от родных и товарищей убитого. Кончил все кореец, он убил Кочергина тремя пулями, получил от общества награду и бежал в Корею.
XII. Рождение кастрюльки
Каждый олень в домашнем питомнике, конечно, имеет свою кличку. Вот Серый Глаз, могучий самец, названный, очевидно, так за свои красивые, умные глаза; большинство оленей бывает с черными глазами, очень редко с карими. Черноспинник назван за черный ремень на его спине, это угрюмый и непокорный олень. Развалистый, или Хунхуз, имеет вид очень строгий, сердитые глаза, на самом же деле очень милый. Круторогий самый спокойный из всех. Мигун постоянно мигает. Монах прозван за общую темность окраски, – у каждого оленя есть свое имя. Пискунья и Манька со своими октябрятами совершенно ручные оленухи, но всех добрее, конечно, Кастрюлька. С этой Кастрюлькой такое может случиться, что придет под окошко и, если вы не обращаете на нее внимания, возьмет и положит голову на подоконник и будет дожидаться ласки. Очень любит, если ее почешут между ушами. А между тем она вышла из диких оленей.
Мне удалось узнать, что Кастрюлька потому такая ласковая, что взята от своей дикой матери в тайге в первый же день рождения, что если бы взята она была бы даже только на второй день, и то она далеко не была бы такая добрая или, как говорят, легкобычная. А взятый на третий день и дальше олененок, как за ним ни ухаживай, навсегда будто бы остается чуть-чуть буковатым.
Олени начинают телиться в мае и кончают в июне. Было это в первой половине июня. Сергей Федорович взял свою Тайгу, немецкую овчарку, приученную к оленям, и отправился в горы. Разглядывая в бинокль горы, долины и ручьи, он нашел в одной долине желтое пятно и понял в нем оленей. После того, пользуясь ветром в ущельях, долго подкрадывался к ним так, что они и не чуяли и не слышали его приближения. Подкрался он к ним из-под горы совсем близко и, наблюдая в бинокль, обратил внимание на одну оленуху: вскоре она отбилась от стада и стала мало-помалу прижиматься к распадку, где бежит горный ручей и камни густо заросли кустами, обвитыми лианами лимонника и винограда. Скоро оленуха совсем скрылась в этих кустах. Можно было быть почти уверенным, что оленуха эта удалилась от стада, чтобы растелиться в кустах. И так оно было. Оленуха, отступая к третьему Медвежьему распадку Семивершинной пади, вошла в густые дубовые заросли и родила скоро желтого теленочка с белыми, отчетливыми на рыжем пятнами, совершенно похожими на пятна от солнечных лучей, «зайчики». Теленок сначала не мог подняться, и она сама легла к нему, стараясь подвинуть к его губам вымя. Теленок тронул вымя, она встала, и он стоя попробовал сосать, но устал и опять лег, и она легла к нему и опять подвинула вымя. Попив молочка, он поднялся и стал твердо, но тут послышался шум в кустах и ветер донес запах собаки. Тайга приближалась…
Мать поняла, что надо бежать, и свистнула, но теленок или еще не понимал, или был слаб. Она попробовала подтолкнуть его в спину губами. Он покачнулся. Она решила обмануть собаку, чтобы она за ней погналась, а теленка уложить и спрятать в траве. А это уже ему дано было от рождения, чтобы лечь при опасности и совершенно окаменеть. И белые пятна затем и даны природой, чтобы враг в траве не мог их отличить от солнечных. Так он замер в траве, весь осыпанный своими собственными и настоящими солнечными зайчиками. Мать отошла в сторону, встала на камень, увидала Тайгу, громко свистнула, чтобы обратить на себя внимание, топнула ногой и бросилась бежать. Не чувствуя за собой погони, она опять остановилась на высоком месте и разглядела, что Тайга и не думает за ней бежать, напротив, все ближе и ближе подходит к тому кусту, где притаилась новорожденная ланка. Не помогали ни свист, ни топанье. А Тайга все ближе и ближе к кусту. Быть может, она бы решилась идти выручать свое дитя, но тут рядом с Тайгой показался Сергей Федорович, и она опрометью бросилась в далекие горы. Тайга к этому розыску приучена в домашнем питомнике. Она взяла на чутье и нашла, и за ней пришел Сергей Федорович. И вот только что черненькие глазки блестят и только что тельце тепленькое, а то бы и на руки взять и все равно сочтешь за неживое: так они каменеют и притворяются. Обыкновенно таких пойманных телят приучают пить коровье молоко из бутылки: всунут в рот горлышко и булькают, а там хочешь глотай, хочешь нет, – все равно: есть захочется, рано или поздно глотнешь. А эта ланочка, к великому удивлению всех, начала пить молоко прямо из кастрюльки, вот за это она и была названа Кастрюлькой.
Ухаживать за этой ланкой Сергей Федорович назначил дочку свою Люсю, и она ее все поила, поила из той же самой кастрюльки, а потом начала давать веники из прутьев молодого кустарника. И так ее выходила.
XIII. Подкормка оленей
В каком-то оленьем совхозе парк был до того выбит оленями, что бывшие вместе с оленями дикие козы зимой без подкормки все до одной погибли. Конечно, можно бы и коз подкормить, и в конце концов голодные козы тоже бы решились подойти к кормушкам, но о козах не заботились, а олени к своим кормушкам их не пустили. В этом звери большие эгоисты. Был даже случай, что в голодную зиму к кормушкам решился подойти дикий олень, но все домашние олени бросились и прогнали его. С этой стороны жизнь животных чрезвычайно проста, и на этой простоте чувства голода и основано все дело приручения животных. В сущности, все эти оленьи парки на Дальнем Востоке явились как бы сами собой в тайге: дикие олени паслись на каком-нибудь месте, проживали тут с незапамятных времен, но стоило только человеку этот мыс или полуостров отделить проволочной сеткой от всей тайги, жизнь оленя от одного этого ничтожного действия совершенно изменяется, и этот олень уже не то что дикий, тут же иногда в тайге рядом с сеткой живущий олень. Олений парк в совхозе Майхэ до того был выбит оленями, что при первых звуках трубы егеря со всех сторон они рысью бежали на площадку, где в длинных корытах он для подкормки рассыпал соевые бобы и кукурузу. Дня три до моего приезда была окончена работа по устройству новой территории парка, длиною в три километра, и все триста оленей, кроме пантачей, предназначенных для спилки пантов, со всем своим приплодом ринулись на свежее любимое разнотравье. Можно было думать, что от такого приволья олени уже больше не побегут на трубу. Зная, однако, природу оленей, их общеживотную косность в привычках, егерь Иван Францевич решил попробовать созвать для меня и показать во всей прелести эти прекрасные пятнистые существа. При первых звуках трубы выбежала с олененком одна оленуха, бывшая, наверно, где-то поблизости, поглядела, что-то сообразила, юркнула в кусты и вновь показалась, но уже не одна, а с молоденьким олененком, которых в совхозе положено звать октябрятами. Пока эта мать разыскивала своего октябренка, успел откуда-то к нам добежать целый табунок оленух, с ними два старых шишкача[21] и саёк. Ни одного оленя не показывалось со стороны старого парка, в котором по болотистой долине вела оленья тропа, совершенно черная по зеленому, с определенным раздвоением: одна ветвь вела на берег Майхэ, другая в ту сторону, где Майхэ своим лиманом обнимала скалу, погруженную в Уссурийский залив. Старый парк теперь был пустыней, зеленели в нем только несъедобные травы, и на их все-таки зеленом фоне торчали черные прутья ощипанных дочиста молодых деревьев. II когда одна оленуха, проходя этим кустарником, потянулась к одному зеленому листику и в этот момент я ухитрился щелкнуть шторкой своего фотоаппарата и, конечно, тем испугать оленя, то заведующий с большим удивлением подошел к листку и стал его внимательно разглядывать. Он удивлялся листу, потому что олени всего только три дня тому назад оставили парк, и вот уже за это время явился лист. Пока все это происходило, Иван Францевич все трубил и трубил и все сыпал и сыпал из мешков сою в кормушки. Теперь олени собрались в большой табун у кормушек, а из кустов являлись все новые и новые. Я уже привык видеть издали в лесах и на горах отдельно кормящихся оленей и в табунках, привык смотреть на них непременно в бинокль и укрываться в кустах или скалах даже на значительном от них расстоянии. Теперь прелестные существа плотной массой нас окружали, и тем не менее при близости прелесть оленя-цветка ничуть не уменьшалась. Среди этих оленей было несколько выкормленных с рук, к ним свободно можно было подойти и даже оглаживать, как собак. Все олени привыкли к собаке Тайге до того, что почти совсем не обращали на нее внимания, и только изредка какая-нибудь особенно заботливая мать-оленуха, спасая маленького от мнимой опасности, молниеносно бросалась на нее, стараясь ударить передними копытами. Но Тайга от барса даже умела увертываться, Тайга вдвоем держала за уши средних лет секача. Однако и на старуху бывает проруха. Что-то укусило ее в самое нежное место и так больно, что, уткнув голову в область хвоста, наморщив нос, она частыми зубами систематически стала подъезжать к блохе, как едет парикмахер машинкой по волосатой щеке. Одна молодая оленушка обратила внимание на беспомощное положение немецкой овчарки, шаловливый огонек мелькнул в ее прекрасных оленьих глазах, она неслышно, осторожно, как пойнтер, подошла и вдруг одной ногой дала Тайге по спине. Мы долго смеялись над ужасным испугом огромной собаки.
Иван Францевич нарочно тонким слоем сыпал сою из мешков, чтобы олени не сбивались кучками, а распределялись равномерно во всю длину кормушек и так создавалась бы нужная мне фотографическая «бесконечность» в перспективе кормящихся оленей… Октябрята в это время справедливо побаивались попасть в общую давку и табунком собрались в стороне, на долине, некоторые из них нетерпеливо посвистывали, очень похоже на то, как иногда коршун свистит в высоте. Когда соя была вся съедена и олени стали не спеша расходиться, матери сошли к оленятам, некоторые тут же и кормили их, но по большей части медленно уводили их в Новый парк. В скором времени Старый парк будет вовсе закрыт для посещения оленями и оставлен в ремонт. Предполагается Новый парк не допускать до такого опустошения и вовремя перегнать оленей в третий парк и создать таким образом переменное хозяйство.
Интересный случай мне рассказали во время этой подкормки оленей. Однажды во время такой массовой подкормки оленуха наступила на крыло дикого голубя, подбиравшего сою из-под кормушки. Когда голубь трепыхнулся, оленуха, безумно испуганная, прыгнула, испуг мгновенно передался всем, триста оленей вмиг, как паутину, изорвали толстую проволочную сетку и умчались в дикую тайгу. Через некоторое время на них была выпущена собака, и олени, спасаясь от этого страшного зверя, прибежали все обратно, под охрану человека.
XIV. Пантовое хозяйство
Как говорят специалисты, идеальной формой пантового хозяйства на Дальнем Востоке является не парк, как теперь это сделано в огромном хозяйстве на полуострове Гамове, на островах Путятине и Аскольде. Парк, где олени на огромных пространствах живут, как дикие, и пантачей отстреливают, как и в дикой тайге, невыгоден тем, что рано или поздно олени подбирают естественный корм на каком угодно пространстве; невыгоден еще и тем, что при отстреле рогачей стадо растет за счет бесполезных оленух, что место заражается клещами и олени постепенно теряют свой вес и дают плохие панты. Идеальной формой, говорят, был бы полупарк, как Майхэ, чтобы трубой из него можно вызвать оленей, отбирать пантачей и держать их до срезки в домашнем питомнике. Такой полупарк должен быть разделен, как сделано теперь в Майхэ, на три части и все хозяйство окружено тайгой – заповедником с резервом диких оленей. Такие возможности есть во многих местах, но в Майхэ уже стало довольно населенно и дикие олени довольно-таки далеко. Вообще Майхэ хотя в руках Юдина и стал теперь едва ли не лучшим оленьим совхозом, но все-таки он представляет собой переходную форму от прежнего крестьянского типа маленького хозяйства к большому государственному. Мне же как раз такой маленький совхоз был на руку, тут я мог наблюдать пантачей не в бинокль с высоты горы, как на Гамове, но прямо в упор рассматривать тех, которые были в заключении для постепенной срезки пантов по мере их созревания. Чем сильнее олень, тем скорее созревают у него панты. Такому сильному всякие силы со стороны во всем помогают. Прежде всего у сильного раньше других поспевают панты, значит, их раньше ему срезают и раньше выпускают в парк, и, значит, он на свою силу против слабых еще может прибавить силу от большого нагула в парке. Такой олень будет, конечно, и победителем в осенних боях, и тоже легче ему будет бороться с зимними невзгодами, во всех сезонах, во всех положениях он живет против слабых с прибылью на прибыль и всегда во всем в барышах. По всей вероятности, и в человеческом быту тем же самым объясняется известная примета о счастье, что если кому-нибудь счастье повалит, то оно так и продолжает тому же счастливцу валить, против несчастного, у которого все тонко, и где тонко, там все и рвется.
Операция срезки пантов имеет то же самое значение в пантовом хозяйстве, как сбор урожая: и тоже, как урожай может погибнуть от дождя и огня, так при неосторожности, неумелом обращении с полудиким животным могут быть смяты и разломаны драгоценные панты. В среду девятнадцатого было назначено для срезки пантов восемь оленей. Егерь Иван Францевич поопасался позволить мне присутствовать при распределении по денникам предназначенных для операции пантачей, ведь малейшая неосторожность, даже простой щелчок шторки моей крошечной «лейки», может быть причиной того, что пантач взовьется в сарае под потолок и сплющит панты в две кровавые лепешки. И даже заведующий не принимал участия в этой подготовительной операции. Отбор пантачей надо себе представлять таким образом: среди оставшихся в домашнем питомнике тридцати пантачей, у которых в течение некоторого времени должны быть по мере созревания спилены панты, теперь есть восемь зрелых, вот как же их отобрать и с общего двора перегнать в денник? Иван Францевич, чрезвычайно осторожно нажимая на оленей, старается со двора всех их загнать в крытый сарай с длинным коридором, по обеим сторонам которого расположены денники. Все олени, войдя в коридор, непременно войдут в открытые денники уже по одному тому, что в каждом из них есть оконце и вообще лучше и просторнее, чем в полутемном, узком коридоре. Каждый денник имеет выход не только в коридор, но и в оба соседние денника. И вот, положим, в каком-нибудь деннике сошлись два пантача, из которых один годится для спилки, а другой должен быть удален. В таком случае егерь открывает дверцу в соседний денник и, особенно ласково уговаривая: «Мишка, Мишка, оленя, оленя!» – старается разлучить друзей, чтобы один вышел, и в тот же момент закрыть за ним дверцу. Тогда нужный олень остается в деннике для срезки, а оленя с неспелыми пантами выгоняют на прежний двор.
Так в течение какого-нибудь часа Иван Францевич своей опытной рукой сумел перегнать в денники и запереть в них восемь пантачей. Мы думали начать операцию часа в четыре вечера, когда солнце бывает против панторезного станка и, значит, можно будет фотографировать с большой скоростью, например, такие моменты, когда олень, освобожденный после срезки, делает колоссальный прыжок из станка вверх и, получив полную свободу, уносится в парк. Но недаром у меня сегодня утром горело лицо и я чувствовал в себе тревогу. Начался тайфун и сильнейший дождь, фотографировать было невозможно, и я упросил заведующего отложить операцию до утра. Трудно это было, потому что олени должны были оставаться ночь без воды, но просьбу мою все-таки уважили и вместо воды в денник положили мокрые веники.
XV. Срезка пантов
Здесь бывают тайфуны на несколько дней, и тогда летом становится мрачно, как у нас в ноябре. Но если тайфунчик сразу налетит и пройдет, то на другой день бывает чистый воздух, свежий, легкий для дыхания и радостный. Правда, рано утром против станка не было солнца, но меня интересовала главным образом психика оленя при спилке, значит, его глаза, а это можно было снимать светосильным объективом с открытой диафрагмой при всяком освещении. Мы взяли большое эмалированное блюдо для спиленных пантов, продезинфицировали пилку и вставили ее в обыкновенный лобзик. Захватили еще карболку и пошли собирать дорогой урожай.
Кроме заведующего, взявшего на себя роль пантореза, егеря Ивана Францевича, с нами были еще три практиканта, но панторез и егерь вдвоем могут сделать всю операцию, и я буду рассказывать, как будто их только двое.
Началось с того, что егерь открыл в коридор дверцу того денника, где находился предназначенный для спилки олень, сам же быстро вошел в соседний денник и оттуда стал ласково уговаривать: «Миша, Миша, выходи!» Я смотрю на это в дырочку из-за деревянного щита, который висит на блоках поперек коридора и препятствует оленю выйти в эту сторону по коридору на двор. Щит при нажиме легко движется вперед и при упрямстве оленя может подгонять его идти в панторезный станок. В этом щите есть дверца, чтобы через нее можно было из-за щита войти в коридор к оленю.
Вот Иван Францевич наконец-то уговорил, и Мишка, осторожно озираясь, выходит в коридор. Полная тишина, тревожное напряжение. Малейшая неосторожность, и олень в безумном своем испуге все разобьет или всего себя изуродует. Все восемь виденных мной через щелку оленей вели себя в эту тревожную минуту по-разному. С одним было так, что покажет из денника свою голову с коронкой и спрячет. Егерь выбегает в коридор, переходит в другой денник, уговаривает оттуда, олень и тут не соглашается, и так очень долго, а насильно никак нельзя. Был олень, который, выйдя из денника, со всего маху ударил задними ногами в наш щит, потом еще и еще. И был один старый и самый сильный, с прекрасными серыми глазами, тот совершенно спокойно пошел в сторону панторезного станка. Когда олень идет, мы нажимаем на щит, и он в полной тишине с особенным характерным звуком катится на своих роликах вслед за оленем. Раз олень пошел, то обыкновенно не миновать ему ловушки, потому что станок есть продолжение коридора, ничем от него не отличается. Бывают, однако, особенно чуткие олени, они перед самым станком ложатся на пол, и возня с таким оленем, настоящая борьба, бывает подчас очень трудной. Но, вероятно, это очень редко случается. Нормально, как было у меня со всеми восемью, олень, ничего не подозревая, вступает на подвижной пол. Впереди вместо потолка деревянный колпак, закрывающий ему вход вперед. Иван Францевич, двигавший до сих пор вместе со мной щит за оленем, тихонько пролез в дверцу щита и закрыл сзади станка дверь за оленем: теперь ему нет выхода ни вперед, ни назад. В этот самый момент оператор, следивший за всем ходом событий тоже, как и мы, в дырочку, нажимает первый рычаг, и две обшитые кожей доски сходятся, чтобы подхватить оленя за бока, а при нажиме на другой рычаг пол проваливается под оленем, ноги его болтаются в воздухе, бока подперты мягкими подушками, а кроме того, для верности Иван Францевич теперь уже без всякой церемонии врывается и садится на висящего в воздухе оленя верхом. Теперь оператор открывает колпак, и вся картина плененного оленя на белом свету…
Тут опять приходит мне в голову вечно повторяющийся чуть ли не с колыбели вопрос: надо ли ко всему привыкать так, чтобы делать успешно свое дело и ничего при этом не чувствовать. И как быть, если без чувства и воображения обратишься в машину, а при наличии их деловая машина плохо работает. В этом вопросе есть бесконечное углубление, так что в конце концов какая же подлинная действительность, то ли, что вижу я, путешествуя, своим первым свежим глазом, или верно то, что узнали они, повторяя много лет одну и ту же операцию? Мне было так, что я каким-то образом при операции с первым оленем до того судьбу его близко принял к себе, что, когда открыли колпак и я увидел этот ужас в глазах и потом, как врезалась пилка и высоко вверх брызнула кровь и олень вывалил серый язык, и захрипел, и закричал, и застонал, я не только не мог сфотографировать, но сам едва на ногах устоял и на минутку должен был отвернуться, чтобы скрыть свое волнение от товарищей. Судьбу второго оленя я уже не перевел на себя и снял хорошо, а потом даже управлял спиливанием, просил делать так или так, отмечая точно в памяти поведение каждого оленя при спилке пантов. Один олень стонет, другой просто тяжело дышит, третий задыхается, как отравленный стрихнином, у иного оленя все горе в глазах и даже самую спилку он переносит без малейшего стона. Тот олень, Серый Глаз, который совершенно спокойно вышел из денника и без колебания вправился в панторезный станок, поняв положение, отдался без всякой борьбы, и когда его персикового цвета, налитые кровью панты тронула пилка, и кровь брызнула фонтаном, и я в этот момент спустил шторку «лейки», то он покосился на мой крошечный аппарат, и до того это было странно, что даже привычный ко всему оператор обратил на это внимание, и мы потом вместе с удивлением вспоминали, как покосился могучий Серый Глаз на такую безделицу.
Для спилки пантов нужно сделать всего три-четыре движения пилкой, потом панты кладутся на блюдо, а на коронки оленя – марля с карболкой. Теперь егерь расстегивает ремень, стягивающий голову комолого пантача, оператор нажимает на рычаг, опускающий подпорные доски, и олень проваливается, достает дно ямы панторезного станка и потом вылетает оттуда, как будто им стрельнули.
После того как мы стрельнули восьмым, последним оленем, первые олени, комолые, с окровавленными шишками, как ни в чем не бывало вместе с другими пантачами уплетали себе кукурузу. После закуски им предстояло величайшее наслаждение: ведь они с прошлого года только из-за пантов были в заключении, и теперь, вот пожалуйте, вот открывается калитка в парк. Они прыгали один за другим из дворика совершенно такими же огромными скачками, как из панторезного станка. К сожалению, они же не могли знать, что открыто новое угодье для их пользования, и потому все бежали в Старый выбитый парк…
К вечеру мы обходили парк, типичное угодье пятнистых оленей, отроги хребтов, покрытые горными и низкими болотными лугами, на которых весной раньше всего зеленеет трава, сопки с сиверами и солнцепеками. Пищу оленей в таких угодьях составляют травы лесных полян, преимущественно широколиственные, горькие и ароматичные растения, также бобовые (вика) листики, почки и ветки деревьев, кустарники липы, клена, дуба, сочные верхушки чертова дерева, побеги бархата, леспедеца, и особенно любит олень объедать листья винограда. После обильного разнотравья Нового парка мы пришли на границу Старого, и трудно себе представить после богатого разнотравья печальнее пустыню, чем был выбитый дочерна Старый парк, – до того он был выбит, что. услыхав довольно далеко от себя писк бурундука, мы скоро разглядели полосатого зверька вроде белки, но, мало того, этим писком, заслышав наши шаги, бурундучиха сзывала своих детенышей, и вот до чего же парк был выбит, что мы видим на земле бегущих малюсеньких и тоже полосатых бурундучат.
Выйдя на опушку леса, мы рассмотрели в бинокль, что из Старого парка в Новый медленно перебирались две оленухи с оленятами, за ними же шел один из тех пантачей, которых сегодня оперировали, и за пантачом еще одна оленуха с олененком. Все это шествие можно было так объяснить, что оленухи пошли в Старый парк на солончаковые травы и встретили там окровавленных пантачей. Когда они достаточно нализались соли и собрались уходить на богатое разнотравье Нового парка, то пантачи, голодные, пошли тоже за ними. Конечно, и оленухи не просто шли, их переход по открытому месту целое представление: идут тихо, как на пружинках, оленята пугаются малейшего шороха, и все их причуды матерям приходится проверять. Но еще более робко, чем маленькие, более неуверенно шли открытым местом в Новый парк комолые пантачи; быть может, их пугало новое неизвестное место, а быть может, они просто боялись, как бы им опять не попасть в такое же ужасное положение, как было с утра. Переход в полкилометра потребовал с полчаса времени, а там показался еще новый отряд оленух, ведущих другого пантача. Этот пантач, или, вернее, шишкач, перед кустом уперся, как будто ожидая оттуда зверя. Но вышел не хищник, а оленуха, она шла навстречу процессии по какому-то своему делу. Получше разглядев ее в бинокль, мы поняли: она очень хорошо наелась и, сытая, с полным выменем возвращалась к своему новорожденному, оставленному на время в кустах.
XVI. Скверная котлетка
Однажды во время моего пребывания на полуострове Гамове замечательный стрелок, старик, егерь Гамовского оленьего парка Иван Иванович Долгаль убил леопарда, почему-то называемого на Дальнем Востоке барсом. Я выпросил себе на память коготь этого зверя и не заметил, с какой ноги был взят этот коготь. Во Владивостоке мне случилось быть у одного знаменитого охотника на львов в Центральной Африке, превосходного рассказчика. Увидав мой коготь, он, ни мгновения не раздумывая, сказал: «С левой задней ноги». С этого раза коготь леопарда получил у меня сакраментальное назначение в деле испытания человеческого характера. Я показываю коготь, спрашиваю и безошибочно узнаю об охотнике. Раз я показал коготь заведующему парком пятнистых оленей в совхозе Песчаное А. А. В – у, который много убивал барсов и одного даже задушил своими руками. Случай этот подробно описан в «Охотнике» (1925) под заглавием «Дальневосточный Мцыри». Сам я этот рассказ не записал и по памяти могу передать лишь в общих чертах. В. охотился на барсов с двумя своими собаками, немецкими овчарками Петро и Неро, которые, загнав барса на дерево, совершенно как лайки, крутились около и лаяли до тех пор, пока не приходил охотник. Однажды В. расстрелял все свои патроны по козам, после чего Неро (Петро накануне был ранен барсом и остался дома) облаял барса. Конечно, бросаться с дерева на громадную собаку барсу нет расчета, и он бы не бросился. Это звено рассказа я не удержал в памяти. Только вышло так, что уже в сумерках барс скакнул на Неро, и тот сразу попал в отчаянное положение. Хорошо помню замешательство очень скромного, застенчивого В. в этом месте рассказа. Мы пристали к нему объяснить нам подробней мотивы, по которым он с пустым ружьем решил вступиться за Неро. «Я думал, – ответил В., – что он не посмеет и убежит, – это раз, а второе, потом, если он задерет Неро и вернешься домой, неловко будет перед собакой». – «Какой собакой?» – спросили мы. «А Петро, ведь он дома остался, он будет смотреть на меня…» Мы были все охотники, и последний аргумент нас всех убедил и высоко поднял в нас авторитет Александра Александровича. Он взмахнул пустой винтовкой с ругательством над головой барса, а тот бросил Неро и сразу подгреб под себя Александра Александровича. Ножом нельзя было ничего сделать, нож без размаха не входил в барса, пришлось душить руками из-под низу, а сверху сидел и тоже душил барса Неро. Мало-помалу барс как будто начал ослабевать, и можно было решиться освободить одну руку и ткнуть в горло ножом. Так вот и одолели, но, конечно, долго пришлось лечиться от ран. Вот какой охотник и сколько барсов он побил со своими друзьями Петро и Неро, а когда я показал ему коготь и спросил, с какой ноги, он прямо сказал, что коготь барса ему хорошо знаком, но с какой ноги – определить он не может. И, узнав, что коготь с гамовского барса, рассказал нам об одном ручном барсе Самсоне, который был тоже добыт на Гамове, и в честь этого барса одна известная падь Туманной горы названа Барсовой. Тогда оленьим парком владели на паях четыре лица, среди которых был Иван Янковский. Однажды повадился барс резать оленей, и чего только ни предпринимали егеря, не могли проследить и убить этого барса. Конечно, барс не волк, который заберется в парк и положит десяток оленей, барс убивает лишь себе на еду, лишнего не берет, и в конце концов, имея лишь одну семью барсов на Туманной горе, владельцы парка стали смотреть на проделки барса легко. Случилось, об этом узнал швейцарец Конрад, тоже оленевод и хороший охотник. Он сказал, что это нельзя допустить: жить леопарду вместе с пятилетними оленями в одном парке. Он поселился на Гамове, изучил, в сущности, очень ленивую и однообразную жизнь барса. Поставил четыре грелевских капкана в одной точке хребта, где барс непременно проходит, высматривая себе сверху добычу, к одному капкану была прилажена фазанья голова, и вот из-за одной этой фазаньей головки погиб прекраснейший зверь: захваченный одним капканом, он бился до тех пор, пока его не охватили все четыре капкана. Почти в этот самый день Иван Янковский в нынешней Барсовой пади заметил какое-то желтое пятнышко и наудачу стрельнул в него: убитым оказался маленький барсенок, а другой был взят живьем Иван Янковский вырастил этого барсенка и потом никогда не расставался со своим Самсоном. Бывало, в горы пойдут, и начинается игра: леопард прыгнет в камни и заляжет там, по своей барсьей манере, так, что видны бывают одни только глаза, и потом прыгает оттуда. А то Янковский ляжет, а Самсон начинает лизать его волосы и причесывать, и до того долижется, что уж и больно станет: язык-то ведь жесткий…
И много всего было рассказано о дружбе страшного зверя с человеком. Много таких я слышал рассказов и знал, что кончается для зверя такая дружба всегда печально. И я уже чувствую этот конец, и чем тоньше рассказ, чем нежнее дружба, тем, значит, печальнее конец.
Не люблю я этих печальных концов у зверей: самые страшные звери просто игрушки в человеческом обществе. Я перебил речь Александра Александровича и спросил:
– Чем же все это кончилось?
– Кончилось? – повторил он. – Кончилось таким образом: во Владивостоке был ресторан на Светланке, и там Иван Янковский съел какую-то скверную котлетку, с этого разу у него началась язва в желудке, хирел, хирел и помер. Вот и все.
– Янковский? – спросили мы.
– Ну да, конечно, – ответил Александр Александрович, – Иван Янковский, а Юрий, брат его, известно, во время революции удрал за границу. Между всеми Янковскими Иван был самый добрый и тихий человек и вот, подите же, погиб от скверной котлетки.
– А как же барс?
– Ну барс, – само собой понятно, раз умер хозяин, то кто же мог бы управлять таким страшным хищником? Умер Иван, и в тот же час барса убили.
XVII. Древесные берлоги
Приморское дерево это совсем не то, что наше стойкое и плотное: древесина у них такая рыхлая, что сделанная из нее посуда для рыбного дела пропускает рассол. Рыхлость древесины получается от тех же самых сил, которые в приморье особенно быстро разрушают скалы: совокупность этих сил можно назвать непостоянством погоды. Ранней весной корни деревьев погружены еще в мерзлую землю, а солнце днем с такой силой разогревает надземные части растений, что в них начинается движение сока. К вечеру, когда опять хватит мороз, эти соки замерзают и, расширяясь, рвут и рыхлят древесину. Получаются такие дуплистые деревья, что хоть живи в них. Медведи очень часто пользуются зимой этими дуплами как берлогами. Приходилось слышать от охотников, что медведь иногда в такое дуплистое дерево забирается сверху, и узнать о его пребывании там можно бывает по намерзи от дыхания, а если очень морозно, то и по пару, исходящему от дерева.
XVIII. Бархатное дерево
Пробковое дерево южного приморья (бархатное) с виду очень просто, но когда поймешь, то окажется, что в этой простоте скрывается изящество и грация вроде нашей рябины. Пробковый слой бархатного дерева используется только столярами-художниками для отделки самых изящных вещей.
Впервые встретил я бархатное дерево возле оленьего совхоза «Майхэ», на берегу озера, сложенного слиянием рек Майхэ и Батальяндзы в непосредственной близости Уссурийского залива. Я шел берегом возле самой сетки оленьего парка и, когда увидел на берегу три дерева, слившиеся в одну крону, сразу догадался, что это именно и есть бархат. В аппарате был у меня телеобъектив, приготовленный на случай встречи с оленем, и потому мне пришлось, чтобы снять бархат, отойти от него на довольно большое расстояние. И пока я шел, откуда-то на воде явился кореец в белом и черной шляпе. Он вышел на берег возле самого бархата, устроился, сел ко мне спиной и согнулся над чем-то: по-видимому, стал закусывать. Глядя на него, я тоже закусил и прикорнул, казалось, на минутку, а проспал ровно час. И вот, что за диво! Через час кореец сидел на том же месте и точно в такой же позе, как будто он за едой внезапно скончался. Заинтересованный, подошел я к нему и увидел на его коленях небольшую белую собачку, у которой хозяин выискивал блох и давил. Как тут не подивиться: так было уже целый час, и работа, по-видимому, была только в самом начале. Вдали на сопке желтело спелым ячменем небольшое, вроде нашего усадебного огорода, пятнышко его крошечного хозяйства. На всей громадной сопке была только одна его фанза, начиненная детьми. Старую, русскую, крестьянскую беспечную жизнь напоминал мне этот кореец с собачкой, как будто и у нас тогда все-таки не хватало времени, чтобы целыми часами вылавливать блох у собак.
XIX. Приморский виноград
Азиатская пашня была мне как чуждая молитва на непонятном языке, вроде еврейского Страшного суда с предварительным воздержанием от пищи в течение суток. Все это хозяйство рассчитано на вегетарианца-восточника, или на подвижника, или на больного, или на баловника, каких много было в толстовское время. Такая скудость и такие возможности в богатой природе: вон виноград задушил какое-то дерево, и невозможно узнать, каким оно было. Это не просто дикий виноград, это очень ценный: говорят, французы бочками отправляли к себе этот сок, и вино с этим соком получало какой-то особенный, экзотический, превосходный букет. Я простился с корейцами и по сетке, ставя ноги из одной ячейки в другую выше и выше, перелез в олений парк. Мне хотелось посмотреть, что получается внутри такого дерева-здания, обвитого виноградом. С трудом я проник в одну из таких беседок, потому что там, внутри, было много лиан. Но дерево, молодой маньчжурский орех, не погибло, а даже зеленело. Тут было прохладно, хорошо, я вынул записную книжку и занялся подсчетом расходов аванса и, когда начал составлять телеграмму о присылке денег, заметил, будто что-то мелькнуло по солнечному зайчику: один зайчик закроется, потом другой, а этот откроется. Осторожно я нашел дырочку и увидел, что это оленуха очень тихо, останавливаясь на целые минуты, подходит сюда и закрывает собой зайчики. Хорошо, что легкий ветерок был от нее ко мне, и она почуять меня не могла. Мне было слышно потом, как она оторвала губами вкуснейшее для них лакомство – лист винограда. Потом она стала на задние ноги, а передние положила на виноградную ветку и стала откусывать верхние листики. Видно было, что вымя у нее было полно и молоко даже сочилось: наверно, вблизи где-то был олененок. Не могу себе представить ее безумия, если бы шевельнуться! В какое положение может попасть дикий зверь! Но я выдержал, пока она не наелась, и думал о корейце, что вот олень и тот пользуется дарами природы, а он, согласный с преданием, сидит на чумизе.
XX. Олень-цветок
Глаза этой оленухи, виденные мною из виноградного шатра, оставили во мне такое неизгладимое впечатление, что я никогда не забывал о них, тем более что пятнистых оленей встречал я всюду на островах и в их глазах постоянно узнавал то впечатление от них в виноградном шатре. Бывает в таких впечатлениях, как в запахе цветов: почти всегда с запахом цветов связывается какое-то отдаленное воспоминание, и оно до того упорно не проясняется, что начинаешь думать, будто и нет его, а самый зуд к воспоминанию не реален и есть нечто вроде желания желаний. Но нет, я несколько раз имел возможность убедиться, что вспомнить можно, только очень трудно докопаться. То же было и с глазами оленя: не то их видел, не то нет, и не можешь вспомнить где, и не можешь чего-то досказать. Так бывает, и, как я заметил в себе, это никогда не пропадает и будет встречаться тебе до тех пор, пока не найдет ответ. Разгадка моего неопределенного волнения явилась осенью, когда разошлись уже туманы, поблекла трава, засохли цветы, но зато в лучах солнца сорок второй параллели все разноцветные осенние листья деревьев и кустарников вспыхнули и засветились, как брильянты. Вот в том-то и дело в этом реликтовом краю, что по холоду осенью все как у нас, но по свету осенью тут голубей, чем у нас весной: по холоду – Сибирь, по свету – Италия. И вот в такой-то день я стоял во Владивостоке в ожидании трамвая и смотрел сквозь пунцовый мелколиственный клен на голубое море, и так мне показалось, будто из самого моря вышла женщина в зеленом. Для этого итальянского солнца нет различия, от какого предмета исходит цвет, все равно, будь то лилия или юбка, цвет вспыхивает и горит. Грудь этой молодой женщины от спешного хода волновалась, и оттого зеленая материя переливала на синюю. Я заметил это интересное пятно в общем букете, но лица молодой женщины не видел; появился трамвай, и я, последний в очереди, собрался с духом, чтобы в последний момент не потеряться и хотя бы привеситься, но ехать. Когда я достиг своего и кое-как прицепился, то почувствовал, будто кто-то сзади меня хочет совершить невозможное: тоже привеситься. Я обернулся и вдруг прямо глаза в глаза встретился: те самые мучившие меня все лето оленьи глаза теперь перешли на лицо женщины в зеленом платье, и это было сразу ответом на все. Глаза эти у оленя были именно так хороши, что требовали себе продолжения: художнику надо было их взять и перенести на лицо человека. И когда это само перенеслось, и я увидел оленя, превращенного в женщину, и дальше человеческое продолжение прекрасного зверя в мечте и реальности: что можно дружить, душевно беседовать… Какое же это прекрасное существо человек, какие возможности счастья. Но нет, не передать мне всего моего восторга от этих оленьих глаз в цветах от света осенью итальянского солнца на Дальнем Востоке. Все вопросы в одно мгновение решились, в одно мгновение все я понял и успел соскочить, помочь, устроить на свое место уже на ходу трамвая, поклониться с восторгом, как будто передо мною действительно чудо из чудес совершилось, олень-цветок, раскрывшийся в женщину.
После того долго стою в очереди в ожидании трамвая и сочиняю роман-сказку о превращении Хуа-лу, оленя-цветка, в прекрасную царевну. Когда-то очень давно я попробовал таким образом бороться со скукой вынужденной длительности времени, и с тех пор навсегда моя счастливая профессия освободила меня от всяких очередей. Вероятно, мы так очень долго стояли, потому что очередь ушла далеко в «Трудящийся сквер», когда пришел некто, взглянул на провода и сказал уверенно: «Расходитесь, граждане, трамвая не будет». И все разошлись, проклиная Хабаровск, будто бы обирающий Владивосток.
XXI. Каботажник
Не знаю и не хочу узнавать, на чем основано исключительное значение Маруси на судне, мне-то какое дело! Она не одна тут девица, мало ли их, но почему-то к ней относятся особенно предупредительно, и ее декрет в кают-компании: «просят головные уборы снимать» – выполняют даже начальники, никогда не снимающие фуражку по той же самой причине, что и Самсон не стриг свои волосы. Не интересовался я узнавать, с кем у Маруси определенный роман, – зачем это нужно? Но маленькие романы в смысле симпатии, душевной беседы у нее беспрерывные, и в этом смысле я тоже и после обеда, и после ужина, и за чаем много с ней беседую. Сегодня она мне призналась, что недовольна своим положением работницы на судне каботажного плавания и собирается поступить в матросы на корабль дальнего плавания «Теперь женщине это можно, – сказала она. – Что мы тут, каботажники, тремся, как щуки, у берега, хочу видеть свет, хочу в дальнее плавание».
Весь день этот мы плыли в густом тумане, и только звук сирены да жуткий звон морских колоколов время от времени напоминали нам, что проходим между опасными скалами, рифами, всевозможными Сциллами и Харибдами, этой злой судьбой всех каботажников. К вечеру же вдруг, как это постоянно бывает на Дальнем Востоке, все туманы унесло и открылось совершенно безоблачное небо, направо самые фантастичные нагромождения скал, налево сиял в вечерних лучах весь океан. Зная, что капитан после напряженной работы в тумане всегда отдыхает у себя на верхней палубе и охотно беседует, я отправился к нему, и когда разговор о ветре, о тумане, о лаге, на который навертывается морская капуста и обманывает в счете, исчерпался, я, желая перейти на какую-нибудь общую тему, сказал ему о Марусе, что она собирается плыть матросом вокруг света. Капитан вдруг почему-то умолк.
Мы плыли вблизи берега, но вот уж не желал бы, как Робинзон, приплыть на бревне и даже на лодке к такому берегу, представляющему из себя бесконечный лабиринт скал в протоках, высоких островов, сопок, уходящих перспективно в глубину берега, а там как будто опять блестит… вода, – ничего не поймешь в этой путанице!
Капитан, чем-то взволнованный, начал мне о себе говорить издалека, что вот он был в царские времена простым матросом, чтобы ценою всей жизни достигнуть капитана каботажного плавания. И разве он не мог сделаться капитаном дальнего плавания! Он показал мне на берег: легко ли в тумане плыть возле такого-то берега!
Солнце садилось за более близкую и оттого для нас более высокую сопку, садилось при всей красоте сопутствующих уходу солнца цветов, – золота на кончиках волн, голубого за черными скалами, далеких спокойных розовых бухт и лагун и крови на скалах. Но ведь пароход двигался, и солнце опять начинало восходить из-за удаляющейся сопки, и тогда мы переживали как бы восход и потом снова закат. Ничего подобного в жизни своей я никогда не видал. В восторге схватил я руку капитана и крепко пожал. Тогда он, до крайности изумленный, посмотрел на меня как на помешанного…
Да, разве он не мог сделаться капитаном дальнего плавания, ведь это же гораздо легче, и сравнить нельзя с этим жизнь каботажника, – там пустота совершенная, там нет ничего, вода и чайки. Тут вот камень, злая, но все-таки земля, и человек все-таки сам на себя похож, а не на чайку.
«Чайка – это не Маруся ли?» – подумал я.
Я не мог не любоваться переменой восходов, закатов, переходом сопок, лагун, протоков с места на место и даже чайками, когда они где-то вдали между крайними сопками маленькими крылатыми точками пересекали огромное солнце. Но я слушал и капитана, мне даже нравилось, что он журчит, я даже начинал понимать его и захотел подзадорить.
– Вы пустоту дальнего плавания, – сказал я, – назвали чайками, а Маруся сказала о каботажниках, что они, как щуки, трутся у берега.
– Да, да, именно щуки, – сказал капитан, – вернее, даже одна щука, я единственный остался теперь из каботажников, остальные суда, вы сами знаете, в течение этого одного лета все выведены из строя, все в ремонте. Я единственная щука, и все на меня теперь и взвалили. Да, есть капитаны дальнего плавания, и есть капитаны каботажного плавания, я каботажник, мое суденышко маленькое, но я держу его чисто. А вот кому-то хочется, чтобы у меня была грязь, кто-то старается… кто это? Вот если грузят сено и железо и если я нормальный человек, то буду грузить вперед железо и на него сено, а они говорят: грузи железо! Их было пятьсот человек на собрании, один пришел с большой простыней, вычитал из нее что-то и один всех обманул и сам улетел чайкой в дальнее плавание. Я один пошел против обманщика, и грех всех пятисот обманутых лег на меня: «Ты – оппортунист!» Не знаю, как я уцелел, но видите: кораблик мой, и какой еще чистенький, а у тех, кто соглашался с обманщиком, корабли все в ремонте и сами в тюрьме. Конечно, благодарность получил, костюм и брюки с разрезами. Не смейтесь, все-таки дело, все-таки победа, потому что я каботажник, а он обманул всех и ловит чаек в дальних морях. Все море – это обман, а настоящая жизнь на земле в краю: край нужен человеку, чтобы нога твердо стояла, тогда хорошо и на море смотреть.
В это время солнце наконец-то по-настоящему село, и тогда на оранжевом небе там и тут стали вырастать силуэты лиц с волосами: лица – скалы, волосы – лес. В этих скалах между разными фигурами стоял и капитан-каботажник, а в другую сторону сияло море, и туда, в бесконечную даль, уплывала на парусах прекрасная китайская шхуна, шампунька.
XXII. Лотос
Поэзия океанских островов предполагает кораблекрушение, и надо, чтобы человек спасся, вышел на берег без человеческих тропинок и начал жить по-новому среди невиданных зверей и растений. Без кораблекрушения жизнь на ограниченном пространстве, где все стало известным до мельчайших подробностей, где нет даже просто людей прохожих, безмерно скучней, чем на материке, но только творцами Робинзонов был дан в свое время такой толчок, что от чар океанских островов мы до сих пор не можем освободиться и болеем островным романтизмом. Я говорю о тех нас, кто в свое время зачитывался американскими романами и сокращенным для детей «Робинзоном». И должен сказать, что на острове Фуругельм в Японском море среди цветов и птичьих базаров, наблюдая жизнь голубых песцов, я не только не потерял, но даже и подогрел в себе эту островную детскую сказку. Но потом на более близких к материку островах архипелага залива Петра Великого романтика моя начала пропадать, и вот, наконец, я попал на один островок, где, случилось, жена замзава, у которого я остановился, привезла себе с Камчатки тюленьего жира для смазки непромокаемой яловицы. Этот жир в тепле комнаты распустился, женщина перелила его в бутылку и поставила на окно. Пришла бухгалтерша совхоза, посмотрела на бутылку с прозрачной желтоватой жидкостью и поинтересовалась узнать, какое это масло налито в бутылке. Никакого масла в хозяйстве на острове давно уже не было, но, угадывая злой умысел бухгалтерши, ответила замзавша: «Масло это подсолнечное». Разумеется, она хотела тут же объяснить и вообще в том смысле сказала, как иногда навоз называют золотом. Но что-то помешало объясниться женщинам, и бухгалтерша разнесла по всему совхозу и всех убедила в том, что завы из особенных запасов берут себе потихоньку подсолнечное масло: «Сама своими глазами видела бутылку на окне у замзавши, хотите, проверьте». Все, конечно, шли к дому, и все видели на окне бутылку Мало-помалу за спиной хозяев тюленьего жира разыгралась большая история, и косвенно из-за этого пострадал китаец, подозреваемый в контрабанде (мне говорили, будто бы его лишили голоса, но я этому не верю). И вот как раз в тот момент, когда я собрался идти на озеро и хозяева только-только объяснили мне путь туда, явилась жена старшего егеря и перешептала изумленным женщинам всю историю борьбы за масло. Тут я узнал, что дело вовсе даже и не в масле, а в неосторожных словах зава о младшем сынишке старшего конторщика: будто бы этот сынишка происходит не от самого старшего конторщика, а от лебедя, или, вернее, Юпитера в образе лебедя. Разозленный конторщик сразу же отомстил заву тем, что раскрыл княжеское происхождение его жены. Лишенная голоса женщина скоро доказала непорочное свое происхождение от служившего в акцизе потомственного почетного гражданина, но конторщик, обозленный до бесчувствия, стал мстить всем завам, и замзавам, и всем их близким. Конечно, он схватился за постное масло, и на первых порах пострадал китаец, будто бы доставлявший контрабандным путем из Шанхая белые туфли на резиновой неизносимой подошве.
– Какой же выход из положения? – спросила бухгалтершу жена замзава.
Вот в это время я потихоньку и ускользнул от женщин, невольно раздумывая о выходе в хорошую сторону из такого запутанного положения дел на острове. Я спустился к морю, перешел небольшую речку и стал взбираться на гору, чтобы избавиться от болотной сырости, в которой утопала нога. К моему великому изумлению, поднимаясь наверх, я не только не освобождался от болотной сырости, но даже чем выше, тем становилось все сырей и сырей. Вместе с тем и в мыслях своих я не только не расширялся, как это обыкновенно бывает при подъеме в горных местах, но напротив, я запутывался в мыслях о жизни маленьких людей на острове и ставил вопросы вроде таких: «Остров ли виноват в такой тусменной жизни, или же в глухие места подбираются люди такие?» Даже и озеро, на которое мне хотелось посмотреть, отвлекло от маленьких людей меня на очень короткое время: озеро это тоже было окружено болотом. По всей вероятности, в древности оно было проливом между двумя нынешними бухтами, заключенная в берега соленая вода мало-помалу пересохла, и с гор из родников набежала пресная вода. Я не находил сухого места на горе от этой воды, даже на самой горовой покати сочилась вода, и нога на крутосклоне тонула в грязи: троп не было, каждая тропинка, даже зверовая, оленья, превращалась в поток, и сейчас же в этом потоке набирались камешки и громоздились друг на друга, как в настоящей горной реке. Так в поисках сухого места я все выше и выше забирался по горе, и мне так и не захотелось спускаться к озеру, чтобы, как я это всегда делаю, внимательно рассмотреть береговую растительность. Я думал с неудовольствием вообще об этих озерах и лагунах на островах приморья: величие моря делает эти озера и лагуны в сравнении с ним нечистоплотными лужами. С удивлением одно время смотрел я на высокую женщину, идущую там внизу, у озера, зачем-то по колено в грязи, и вот в какой онегинской форме с досады пробегали при этом во мне чувства и мысли. «Влюбляться, – думал я, – и проходить, а не задерживаться на островах, где нет даже прохожих людей; влюбляться во все и ничего не любить – вот счастье путешественника: чуть ведь только полюбил, и это надо уже беречь от другого, ревновать, защищать и в конце концов служить и в этом трудном служении забывать тот самый цветок, из-за которого когда-то влюбился и потом полюбил…»
И так почти до самого перевала я не мог найти себе сухого места, и только уж спускаясь по той стороне, я вышел на сухую тропу, и вместе с тем мысли мои приняли благоприятное направление: я решил просить замзавшу подарить своей врагине нерпичий жир. Между тем, пока я ходил, замзавша сама догадалась об этом и подарила, но, конечно, не без лукавого загада: она подарила, не предупредив, что тюлений жир не едят. Наверно, думала, что раз люди не едят, то уж что-нибудь же есть вредного в этом жире, и это вредное она и поднесла с приветливой улыбкой ничего не подозревавшей врагине. Замзавша верно рассчитывала, но только одно упустила, что при остром недостатке жиров отношение организма к ним изменяется. Поев картошку с жиром, бухгалтерша нашла его необыкновенно вкусным и даже принесла замзавше попробовать. Когда я вернулся, то застал обеих врагинь за картошкой, ведущих очень натянутый разговор на тему о необходимости для человека питаться жирами.
Мало хорошего видел я, но, уезжая на пароходе, разговорился в кают-компании с одной дамой, бывшей со мной одновременно на этом острове. Я рассказал ей о полном крушении сохраненной мной с детства робинзонады и современную островную жизнь иллюстрировал потешным рассказом о ссоре из-за нерпичьего жира.
– А лотос видели? – спросила меня эта женщина.
Вот тут и оказалось, что когда я поднимался в гору и, поднимаясь, все больше и больше лез в грязь и сам на высоте, будучи по колено в грязи, удивился той женщине внизу у озера, то это была она: эта женщина шла по грязи, желая взглянуть на цветущий в озере большой розовый лотос. Она занималась когда-то ботаникой и очень мечтала когда-нибудь попасть на Дальний Восток и посмотреть на реликтовую флору. Но из-за детей она не только не могла поехать, но даже пришлось и вовсе забросить науку. Теперь муж ее ехал в командировку на Дальний Восток, она кое-как устроила на время своих детей у родных. За два месяца работы нашла несколько новых видов каучуковых растений, драгоценных для нашего времени, и на прощанье вот заехала сюда, на этот остров, только затем, чтобы посмотреть на лотос. И она была в восторге от необыкновенно прекрасного громадного цветка: «Это на всю жизнь останется».
Великодушная женщина в дальнейшем разговоре делала вид, будто вовсе и не слыхала, а скорее всего, как в иных случаях это и со мной часто бывает, тут же забыла рассказ мой о нерпичьем жире, из-за которого я, путешественник, забыл на лотос взглянуть. Мало того, она сумела меня самого заставить забыть эту историю. И я вспомнил о моей минуте слабости вот только теперь, когда нужно было объяснить, почему, рассказывая о животных и растениях дальневосточного края, ничего не могу рассказать я о лотосе. Вспомнив это, я нашел в своих записках: «Влюбляться, проходить, – вот счастье путешественника: чуть ведь только полюбил, и это уж надо беречь, ревновать, защищать и, конечно, служить и в трудном служении забывать тот самый цветок, из-за которого когда-то влюбился и полюбил». Прочитав эту мысль онегинских времен, я приписал: «Можно и путешествовать, и влюбляться, и проходить, и любить, и можно служить, не забывая о лотосе».
XXIII. Прорыв
Прорыв – это момент производства, когда ошибка руководителей предприятия в далеком прошлом, порождая ошибки у последующих, включая новые личные ошибки, наконец приводит к невозможности дальше работать, требуется пересмотр всего, и, конечно, козел отпущения, да жертва прежде всего!
Прорыв в питомнике канадских лисиц на острове Путятине был полный и очевидный: значительная часть лисиц, бывшая в общем выгуле, подкопалась в каменной ограде и разбежалась в тайге по огромному острову. Приехала из Москвы страшная бригада, и началось расследование.
Первая далекая ошибка, вроде первородного греха, на мой взгляд, была в самом выборе места под лисятник. Трудно сказать, почему же выбор места пал именно на сад, который выращивается в здешнем климате с величайшим трудом. Остров необъятно велик, площадка под лисятник, в сравнении с площадью острова, совершенно ничтожна, и на вот: лисятник устраивается именно в этом саду. Эта первородная ошибка повлекла другую, которая представляется роковой, потому что вытекает неминуемо из первой: немецкая наука требует для лисьих питомников солнечных открытых площадок, – сад вырубили. Тогда прямые лучи солнца сорок второй параллели стали губить зверей: начались солнечные удары, не предусмотренные немцами в их северном климате. И как бы теперь были благодетельны садовые деревья! Так ошибки, вытекающие из первой, громоздились одна на другую, как вагоны при столкновении. Спасая зверей, решили запустить траву. Густой бурьян в субтропическом климате не замедлил подняться на большую высоту и закрыть совершенно лисиц от прямых солнечных лучей. После того жизнь канадской лисицы исчезла из глаз наблюдателя. Потемки развратили обслуживающую лисиц молодежь так же, как везде это бывает во всяких темных местах: однажды только по трупному запаху нашли в трубе лисьего домика задохшуюся лисицу; в бурьяне потом десятками находили тарелочки, в которых давали пищу лисицам. И много было всего, пока наконец в общем выгуле в стене, прикрытой бурьяном, лисицы не сделали подкопа… Всегда бывает так, что до прорыва граждане идут, не вникая в производство, не обращая на него внимания, но когда совершится прорыв, то вдруг все делаются активнейшими гражданами. И как бы ни была противна стадность людей в иных случаях, здесь она на своем правом, законном месте: каждому живо жалко в конце-то концов своего же труда.
А тут почти каждому теперь, как назло, чуть только вышел в лес – из куста покажется черная голова серебристой канадской лисицы, потом хвост мелькнет… А одна лисица – это сотни рублей золотом.
– Тю-тю, валютка, – скажет ей вслед гражданин. И ему живо жалко, и совесть ищет суда и наказания виновнику.
Появление московской бригады стало такой же неминучестью, как неминучи были солнечные лучи, когда вырубили сдуру благодетельные деревья. Сгустилась атмосфера. Каждый даже самый маленький служащий боялся стать козлом отпущения или тем стрелочником, на которого обыкновенно и обрушивается вся тяжесть возмездия. Вот на море показался дымок. В конторе крикнули: «Едут!» Два какие-то конторщика закрыли книги, сказали друг другу: «Пойдем, покурим!» Вышли, сели на бревна, закурили. Показывая на дым парохода, один конторщик сказал:
– Знаешь, Саша, если на меня ляжет, я ничего, я даже не стану и выгораживаться.
– Ты, Ваня, – ответил Саша, – похож на этого бывшего проповедника, как его… вот вышибло-то из памяти, ну вот что сказал: «Если тебя ударят по левой щеке…»
– Христос? – удивился Ваня. – До чего тебя лисицы доехали: Христа забыл!
Бригада вышла на берег и направилась к службам. Путь был лесом. Впереди шел сам бригадир. Вдруг корова огромная, голландская выдвинулась из кустов, загородила путь бригаде, стояла, смотрела черными глазами с белыми большими пучками-бровями. Такие это были глаза, будто из самой земли глядела та самая глина, из которой сложился человек. И казалось, глаза говорили: «Пусть я при помощи человека стала голландская, но все равно я корова, родная твоя, бригадир, и вот тебе жалоба на человека: погано хозяйствует». Старший бригадир заметил эти глаза, задержался, погрузился куда-то в бездну, но скоро вырвался оттуда, сказал: «И при таких-то коровах вы сидите голодные и жалуетесь!» А между тем эта корова давала всего пол-литра…
Но никто из виновников, отлично зная корову, не смел больше перечить старшему бригадиру, каждый думал: «Пусть побольше коров и всего, а когда дойдет до лисиц, ему поесть и выпить захочется…» Но вдруг вдали на просеке появилась черная голова и остановилась: черная голова серебристо-черной канадской лисицы, убежавшей на волю.
Неминучее должно было совершиться.
– Тю-тю, валютка! – сказал следующий за старшим второй бригадир.
И старший всмотрелся…
XXIV. Старцева гора
Океан, вечно бунтуя, для отдыха, для замыслов нового бунта оставляет себе твердые массы скал, косы, уютные бухты, острова. А человек, постоянно блуждая в постоянных туманах Тихого океана, вполне понятно, тоже хочет на этих твердынях более прочных имен, чем в местах безопасных. На море названия менять – не то что на улицах. Тем и объясняется, что и после революции тут везде остались имена все тех же прежних именитых людей: залив Петра Великого, полуостров генерал-губернатора Муравьева-Амурского, залив Посьета, остров Фуругельма и множество других имен адмиралов и генералов, столь счастливо связавших себя с опасной туманной землей. Среди всех этих военных имен одна гора на море носит имя купца Старцева. Со стороны бухты Разбойник эта гора похожа на утес Степана Разина, только не на Волге, а тот утес, который создался в воображении тех, кто утеса этого никогда не видал. Вся махина Старцевой горы широко опускается в море и продолжается над водой сравнительно невысокими сопками острова Путятина. Остров похож на фигуру с головой и ногами, в ногах известные всем морякам рифы Пять Пальцев, голову делает гора Старцева. Остров до революции был во владении Старцева. Тут была фарфоровая фабрика, оленье и разные другие хозяйства. Несмотря на крупное дело, тут не было дворянских хором, которые в революцию обыкновенно вначале шли под театр, клуб, потом постепенно без ремонта разваливались, кирпичи зарастали травой, и место, прежнее дворянское гнездо, вскоре можно было узнавать только по остаткам акации. В хозяйстве Старцева личный дом владельца ничем не отличается от простой конторы и других домиков, устроенных для служащих и для приезда китайских гостей. Это и понятно, если вспомнить короткую и нерасцветшую жизнь русской буржуазии, – деловое напряжение у русских купцов так тяжело ложилось на личность предпринимателя, так мало помогали традиции, что о красивом устройстве личной жизни нечего было и думать. Зато в предсмертном бреду будто бы Старцев просил своих детей похоронить его на своей горе. Как это было понять? Все русские кладбища, как известно, отличаются исключительной скромностью, и вознесение себя после смерти на гору, кажется, совсем не вяжется с бытом прежних православных людей. Революция так решительно и быстро разорвала нашу связь с предками, что теперь нет никакой возможности путем расспросов установить, чем же именно руководствовался патриарх Старцев, распоряжаясь поднять свои останки на огромную высоту. Я лично так себе представляю, что у Старцева была масса дел, в том смысле, как наш старый купец представлял себе вообще дело торговое: ряд сделок с совестью, не обманешь – не продашь. И вот этому, в собственном смысле слова, делу противопоставляется все остальное, неделовое, наука, поэзия и отчасти даже семейная жизнь. Так жизнь у Старцева была, вероятно, сплошным делом в этом смысле, и вот наконец-то в эту серую жизнь врывается нечто и неделовое: по высочайшему повелению гора имени Старцева обозначается на всех картах Тихого океана, омывающего русские берега. Для делового купца эта гора с его именем, быть может, больше значила, чем для Пушкина создание «Онегина», – куда больше! И вот, умирая, в предсмертном холоде и тоске Старцев преодолел всю суету своего сплошного дела. Гора, одна высокая гора осталась в его воображении на смертном одре, и на горе имя Старцева. Некоторые говорят, будто родные, принимая во внимание огромные трудности доставки трупа на высоту горы, объяснили желание покойного лечь на горе предсмертной ненормальностью и похоронили его сравнительно на небольшой высоте, откуда, впрочем, тоже видно и хозяйство, и бухта Назимова с промыслами, катерами и лодками. Недурное место, вид превосходный, и родным всегда обеспечена возможность в четверть часа быть у могилы. Другая версия передает так, что родные тут ни при чем и ненормальности никакой не было, что будто бы процессия с телом уже и тронулась было на Старцеву гору, но корейцы, несшие гроб, очень устали, возмутились нелепостью своего дела, забастовали, не донесли и похоронили много ниже того, что хотелось покойнику. За первую версию говорит то, что могила в конце-то концов расположена вовсе не на покати Старцевой горы, как передает версия «несли – не донесли», а вовсе на другой горе, и не случайно, а очень даже обдуманно. Да, вернее всего, я думаю, родные отвергли желание покойника и отнеслись к нему как к безумному бреду. Но мне нравится версия «несли – не донесли», потому что она умнее и больше дает простора для раздумья путешественнику: так думалось, когда я был на вершине Старцевой горы, что и вся-то русская буржуазия ни до чего не дошла, несли ее и не донесли…
XXV. Тайфунчики
К первому сентября лучшие старые рогачи свое яркое солнечно-защитное одеяние переменили на скромное зимнее. Фазаны из бурьяна стали перебираться на азиатские пашни. Кулики летают табунками. Вот конец виноградной лианы, огромной, завившей довольно большое ореховое дерево, пожелтел, и конечный листок все же треплется. Вечером пошел дождь, а ветер все креп и креп, превращаясь в длительный тайфун. Сижу в Сидеми, закупоренный в даче Бриннера, и думаю о прошлом владельце дачи, недавно убежавшем в Китай. Все построено очень дельно, только с немецким вкусом, убивающим всякую красоту: бюргерская дача. Теперь внизу тут устроилась испытательная станция. Есть уже микроскоп и еще кое-что, на стенах показательно развешаны панты и сухие рога пятнистых оленей. Но электричество еще было без тока, водопровод без воды, термометр висел без ртутного шарика, валялась на балконе детская клетка без птички…
Сижу день, другой, третий, тайфун не прекращается. Большие птицы показываются и прячутся совсем черные, а кричат, как серые вороны. Серебристый тополь, битый и перебитый тайфуном, вывернул свое белое серебро, как зверь в последних мучениях вывертывает белок своих глаз. Истошным голосом возле тополя вот уже третий день пищит какая-то маленькая птичка. Старуха на это обратила внимание, пожалела, предполагая, что тайфун убил ее детей. Заведующий испытательной станцией сказал:
– На тайфунчики не обращайте внимания, еще день, два, и вернется чудесная погода, и так на весь сентябрь, октябрь, а может быть, и в половине ноября все будет стоять наше осеннее дальневосточное лето.
XXVV. Гон пятнистых оленей
В приморье нет того ровного времени, которое у нас определяется одним словом: зима или осень, весна или лето. У нас снег и мороз разделяют год на два времени года: холодное и теплое. Кроме того, много значит и свет. Точно так же, как о холодном и теплом времени, можно сказать о темном и светлом. В приморье снег имеет мало значения, старожилы замечают, что, сколько дней идет снег, столько же дней бывает и ветер, сдувающий этот снег. А то в январе вдруг так станет тепло, что не то что снег, а хоть в одной рубахе ходи. Точно так же и свет определяет время против нашего скорее даже в обратную сторону: в летнее время, когда наступает желанное царство света, здесь туман, а осенью, когда у нас тьма, тут над желтой высохшей землей является солнце, и такой свет, такие он создает чудеса из моря, неба и уцелевших остатков летнего растительного покрова земли. Особенно хороши такие осенние дни на Гамове, на Туманной горе, где скалы покрыты редкими для приморья капризно-фигурными погребальными соснами. И на Туманной горе лучше всего в падях Голубой, Барсовой и Запретной. В этих падях, обращенных к морю, я охотился со своей фотокамерой не только на пятнистых оленей, я охотился от первого луча восходящего солнца и до последнего, прямо на самые эти лучи, падающие рано утром на горный камыш, украшенный кружевами первых морозов или, когда мороз обдается росой, большими светлыми каплями на черном фоне скал или лазурной бесконечности Тихого океана.
Гамовский парк пятнистых оленей состоит из двух парков: Старого и Нового. Старый парк, по существу, это одна гора Туманная, которая со всеми своими падями и распадками представляет почти что остров: бухта «Витязь» с одной стороны и бухта Астафьевская с другой омывают шейку, соединяющую горный узел Туманной горы, этот почти остров, с Новым парком. На этой стороне шейки, где бухта «Витязь», с одной стороны, и расположены все постройки оленьего совхоза «Мыс Гамов»; на противоположной, у самого берега Астафьевской бухты, живет главный егерь совхоза и первый отбойщик, старинный таежный охотник, сотрудник В. К. Арсеньева в его экспедициях Иван Иванович Долгаль. Вот тут, между двумя этими бухтами, раньше и была сетка, заключившая в безвыходность всех пятнистых оленей Туманной горы.
Мало-помалу олени, заключенные в определенном пространстве, хотя и на всей таежной воле, без подкормки, без всякого вмешательства человека в свою жизнь, кроме этой сетки и отстрела рогачей, повыбили корм, сильно размножились и от недостатка питания стали снижать вес. Тогда сетку перенесли далеко, к Андреевской бухте, и парк от старой сетки до Андреевской бухты стал называться Новым. Научный работник Гамовского парка, известный исследователь соболей на Шантарских островах Г. Д. Дулькейт говорил мне, что ланки, или оленухи, вообще неохотно выходят за пределы Старого парка и Туманная гора продолжает быть главным местом гнездования, напротив, рогачи держатся более в Новом парке и под конец гона всей массой уходят на противоположную сторону, к сетке, за восемнадцать километров от оленух Старого парка. Они как будто стремятся после гона куда-то уйти и возле сетки выбивают тропу. Дулькейт сделал предположение, что из-за этого ухода рогачей и привязанности оленух к месту гнездования некоторые из них могут остаться неоплодотворенными.
14/X – среда.
Катер высадил меня в Андреевской бухте, и все восемнадцать километров Нового парка до Старого, где живет Дулькейт, я должен был пройти пешком. Задержался в Рисовой сторожке, где живет воспитанник старого хозяина парка Янковского егерь кореец Том Цой. Выспрашиваю его о жизни пятнистых оленей, как и всех, по внешности беспорядочно, а внутри держу строгий план, разбив жизнь оленя от рождения до смерти на определенное число вопросов. Вот один из вопросов: когда слышал первый рев? Том слышал девятого сентября. Место гона, по его словам, большей частью верх пади, в ямке перед гривой.
В девятнадцатом году из Сидеми и других Олейников прислали оленей по пяти пудов весом, и на хорошем гамовском корме они скоро достигли веса в семь с половиной пудов. Теперь и опять появились пятипудовые. Причина – в оскудении парка, и клещи размножились: очень изнуряют. Вследствие истощения гон растягивается и бывает даже в декабре. Если же гон, то и отел тоже растягивается. В таком роде занимаюсь с Томом часа два и уношу от него целую тетрадь об олене.
Прошел восемнадцать километров и ни одного оленя не видал и не слыхал рева. Какой-то зверь вытурил из норы енота, и он перебежал мне дорогу. Бухта «Витязь» большая, просторная, красивая. Уютный домик, где живет научный сотрудник Г. Д. Дулькейт. В пять вечера ясно, ветер свежий с юга, и он, вероятно, мешает: оленей не было, только видели двух оленух, стояли в тени, быть может, они ждали рева, выслушивали? В сумерках послышался рев рогача, одного, другого. По пути в Астафьево спугнули еще одного рогача, вероятно, он почуял нас по ветру и скрылся. Возвращались в полной темноте. Ветер продолжается. Небо звездное. Гуси летят, вероятно, гуменник (валовой пролет в конце октября). Раньше гуменника, во второй половине сентября, летит лебединый гусь (китайский). Казарки летят только весной, а осенью возвращаются каким-то другим путем. Что-то случилось в горах, вдруг раздался свист множества оленух. Волк или барс? Собака Дулькейта Ол (гордон) залаяла, фыркнул барсук. При свете спички мы заметили его силуэт и ранили. Ол доконал. Так, оказывается, на енотов и барсуков здесь существует правильная охота с фонариком и собакой. Барсуки злые, обыкновенно дерутся, но еноты замирают, из-под собаки легко можно брать живьем. Мех енотов очень хорош для летчиков. По предложению из Москвы стали разводить енотов во множестве – и вдруг эпидемия. Болезнь пока не определена, но разгадка опустошительной эпидемии крайне проста: енот очень дешевый, значит, тратить на него нельзя много, как, например, на канадских лисиц, нельзя на малые деньги достигнуть чистоты, ухода, питания.
Дулькейт, наблюдавший очень много пятнистых оленей, просит меня выбросить из головы представления, созданные о их гаремах по немецким описаниям гона благородного оленя. Случается у пятнистых оленей, что сайки стоят с матерью и рогач не отгоняет их. Бывает, напротив, за оленухой бежит саёк, а сзади его рогач, и саёк покрывает оленуху, а рогач смотрит куда-нибудь в сторону. А то рогач погонится за другим, да и вовсе не вернется к своему гарему. Случается, из кустов покажется какой-нибудь ничем не замечательный рогач, а хозяин-великан без всякого сопротивления оставляет свой гарем.
Лунною ночью олень бывает виден и к нему можно близко подойти, ночью олень чувствует себя хозяином. Днем олень, кажется, самое пугливое существо в мире.
Еще рассказывал Дулькейт из жизни оленей, что однажды в снежную зиму каким-то образом в парк проник дикий олень, он был, конечно, голоден, быть может, умирал с голоду, а парковым оленям была дана подкормка, и они ели у кормушек кукурузу. Завидев дикого, все они бросились к нему и прогнали.
Еще Дулькейт рассказал, что раз зимой к стогу пришла старая оленуха и умерла. На ней были следы от ударов других оленух. Что они, увидев умирающую, забили ее по принципу «падающего толкни», или, может быть, это она не пускала их к сену и они все за это на нее напали? У этой умершей оленухи был плод. Как общее правило надо принять, что оленухи рождают до смерти и что плод бывает причиной последнего, погибельного истощения. Вечером после ужина мы вышли на крыльцо. Большая Медведица с левой стороны нашего дома вытаскивала из-за хребта последнюю свою звезду. И в том самом месте, где кастрюлька Медведицы опиралась углом своим на гору, слышался рев оленя, он очень редко повторялся, и еще слышался рев другого.
15/X – четверг.
Олень ревел утром при звездах на том же месте, где вечером, и еще один ревел напротив нашего домика, и направо на горе, из-за которой должно было выйти солнце. По лесенке я забрался на крышу и стал наблюдать. На рассвете недалеко от сенного сарая показался черный и важный рогач, навстречу ему шла оленуха, и он пошел к ней навстречу и даже разминулся с ней, как будто шел по своим делам дальше; но только она миновала его, – вдруг он перевернулся и за ней, она в рысь, и он в рысь, она во весь дух, и он во весь дух, и так оба исчезли в кустах.
Направо у подножья горы, закрывающей солнце, было несколько оленух, не менее десятка. Из этого стада вышли два рогача и стали подниматься по горе, медленно расходясь под углом, потом оглянулись и стали медленно сходиться под углом: пройдут по два шага, потом станут и долго косятся, как петухи. Между тем внизу, возле гарема, замаскированный от наблюдения высокой травой, вдруг обнаружился громадный рогач. Так вот и являлся гон на рассвете: стадо оленух внизу, под горой, и возле них ходит рогач, повыше, на горе, стоят два рогача-ассистента, неустанно следя друг за другом. Потом солнце вышло из-за горы, ослепительно засверкала кристаллами мороза трава, и наблюдать оленей на этой горе стало невозможно. На другой же горе рогач медленно уводил оленух за перевал. В распадке, заросшем широколиственным кустарником, слышался рев на все лады, и просто «и-и-и» (свист), и «о-о-о» (рев), и еще вроде «ав-ав»: как будто олень ругался. Можно было понять, что издали множество побочных звуков пропадало.
Д. пришел ко мне и таинственным знаком попросил следовать за собой. В сенях он остановился и попросил меня слушать: что-то гудело, вроде того, как от ветра гудит телеграфный столб.
– Что это? – спросил он.
Я не мог объяснить.
– Вот уже три дня гудит, – сказал Д. Пришел китаец. Д. спросил его так же, как и меня. Китаец вслушался и вдруг переменился в лице.
– Война будет! – сказал он.
– Уже есть, – ответил Д. – Вчера в городе мне передавали, будто японцы высадились в Корее: война с Китаем началась.
– Я тоже это слыхал, – сказал китаец, – а давно ли это гудит?
– Дня три.
– Да, дня три началось.
Китаец взял свои ведра и дальше пошел. А мы принесли лестницу, вынули потолочную тесину и между этой потолочиной и другой, повыше, темное пространство осветили карманным электрическим фонариком. Электрический луч в один миг уничтожил китайское суеверие: между потолочинами гудел бражник, большая бабочка. Вот и все! Исчезла вся таинственность! Но мне показалось тоже таинственным из рассказа Д. о бабочках. Однажды в Сучане ночью на свет слетелось столько бабочек, что ухо явственно различало шелест их крыльев. Сколько же их было? И какие они большие в этом крае! Вот бы послушать ночью шелест крыльев уссурийских бабочек!
И что особенно показалось мне замечательным, это что тот же самый электрический луч, уничтоживший суеверную тайну, самый этот луч сегодня вечером может привлечь насекомых, и мы будем слушать естественную тайну шелеста крыльев уссурийских бабочек в ночной тишине.
После того мы вернулись к японо-китайской войне; за чаем, не имея никаких фактов, долго строили свои предположения, гудели, как бражник в потолочинах, беспомощные в объяснении причин и неспособные удовлетвориться, как китаец, сказкой.
После чая я пошел левой стороной бухты возле Туманной горы и против солнца снимал горный камыш. Не доходя мыса Шульца, сбился с тропы, но потом нашел ее и, перевалив сопку, увидел Голубую падь и в ней в полгоры ныне оставленную сторожку. Потом на лавочке возле этой пустынной избушки я отдохнул и начал лазить по скалам, чтобы при помощи снимков зеленых пиний, черных скал на фоне голубого моря хоть как-нибудь на панхроматической пленке изобразить себе на память прелесть Голубой пади. После того я спустился к ручью и в каменной россыни потерял тропу. Перейдя ручей, задумал подняться на самый верх, идти дальше по хребту, как барсы ходят и тигры, по тому самому хребту я шел, где некогда был изловлен сразу четырьмя грелевскими капканами барс, о котором я записал интересный рассказ. По пути наверх не раз слышался свист и последующий за тем топот спугнутых мной оленух. Но рогачей совсем не было слышно. Я не добрался до самого верха, потому что вслед за Голубой падью открылся вид на Запретную и рядом с ней на Барсову. Поснимав погребальные сосны в Запретной пади, я перебрался в Барсову падь, спустился почти к самому морю и без тропы с трудом одолел подъем по Барсовой пади, по Запретной перешел обратно в Голубую. Солнце было уже над самым морем, когда я снова отдыхал на лавочке возле сторожки. Мыслей в голове у меня, кажется, не было никаких, но, может быть, было что-то лучше и важней всяких мыслей: мысли об этом после начинаются, спеют, как яблоки, и падают.
16/X – пятница.
Оленьи повадки в это время года такие, что около пяти вечера все они выходят из кустов в открытые пастбища и так проводят всю ночь, а после восхода солнца медленно стягиваются и к десяти утра все убираются в кусты.
В четыре вечера за мной приходит самый опытный охотник Долгаль, чтобы показать мне гон оленей на пути их перехода из бухты Теляковского в Астафьевскую. Разговор наш начался о предположении Дулькейта, что будто быв Старом парке некоторые оленухи могут остаться неоплодотворенными.
– Так это вам Георгий Джемсович сказал?
– Да, он сказал.
– А не спросили вы его, отчего истощается олень во время гона?
– Нет, я не спрашивал, я сам знаю: рогач худеет оттого, что не ест почти ничего и ревет.
– А главное, что много ходит по следам оленух, по воздуху чует и ходит с одного конца парка за восемнадцать верст, он может за ночь это пройти, если только есть охочая оленуха. Возьмите любую точку времени, вот хоть сейчас, много ли в эту точку есть охочих оленух? Очень даже мало, а рогачи все в охоте и все рыщут, и для них следы на земле и ветер, и она ведь тоже не иголка, и раз ей охота, тоже и ей незачем прятаться, как же им ее не найти. Ах, Георгий Джемсович! Рогач не ест, рогач ревет, рогач рыщет в парке из конца в конец. Рогач не человек, он не на службе, у нею довольно времени. У рогача служба одна, как бы верхом сесть, а Георгий Джемсович нашел каких-то неоплодотворенных оленух.
Трудно было представить себе более расстроенного человека, чем этот старый охотник. Я даже начал колебаться в себе: а что, если я как-нибудь ослышался, не так понял.
– Иван Иванович! – сказал я, – извините пожалуйста, я, кажется, спутал и вспоминаю теперь: это мне сказал не Дулькейт, а заведующий снабжением товарищ Богданов.
– Богданов! – обрадовался Долгаль, – ну, это совсем другое дело, Богданов это может сказать.
Так мы перешли Малиновый ключ и мало-помалу поднялись на песчаный хребет. Тут на песке было множество следов, и вид открывался нам с высоты тигрова или барсова глаза, когда эти звери залягут в камнях и смотрят то в ту, то в другую сторону. За перевалом в направлении к мысу Орлиное Гнездо были темные синие тучи, земля же была вся желтая, как песок, и на ней, на желтом, кое-где, как густо пролитая кровь, стелющиеся кустики азалии с покрасневшими от осени листьями. Вдали белые волны разбивались о черные скалы. Какое-то «Томящееся Сердце» – такое название камня: будто бы камень этот от напора both шевелится и потому назван сердцем. Задорный мыс Орлиное Гнездо убран весь ажурно фигурными погребальными соснами. А желтое – это не песок, это пожелтевший горный камыш, если же наклониться и рассмотреть, то у самой земли есть низкая зеленая травка, и вот из-за этой травки на вечер олени выходят на открытое пастбище. Их переход из кустов бухты Теляковского к открытым пастбищам Астафьевской бухты ко времени нашего прихода был в полной силе. На пастбище против Орлиного Гнезда стоял неподвижно, как монумент, рогач.
– Чего он стоит?
– Где-нибудь есть оленуха.
– А вот те восемь рогачей, почему они вместе и нет возле них оленух?
– Какие-нибудь неудачники, а вот глядите на средний увал, видите?
– Кажется, камни.
– Кажется, камни, да, а это оленухи, штук сто Ну, так вот и те восемь рогачей с ними как-то связаны. Глядите, вон тот отдельный, видите?
– К нему подходит оленуха из распадка, вон другая, третья…
– Их там много, в распадке, это все одно стадо, они все в связи.
На увале даже простым глазом были видны прямые и косые тропы, с косых троп на центральную сходились олени, и было через это понятно, что все олени были в связи и все огромное стадо в сотни голов, разбросанное в падях и распадках, в общем движется медленно куда-то дальше в направлении Астафьевской бухты. Отдельные группы в этой массе формировались и распадались.
– А где же гаремы? – спросил я. – Вы слышали о них?
– Слыхал, только это один разговор, а настоящих гаремов нет никаких, просто кучка оленух и одна из них охочая, и вот из-за нее и весь гарем, потому что не сразу она дается, а как далась, вот и кончился гарем.
– Но почему же, если не только охочая, но любая оленуха задумает удалиться из стада, рогач ее возвращает?
– Олени держатся стадом, зачем неохочей оленухе отбиваться от стада? А может быть, хочет убежать та самая, за которой ухаживает рогач, и только выдумали, что он всех держит. Да и как сказать, разве к ним в душу-то залезешь? Мало ли по какой причине он держит оленух в кучке. Но только это верно, гаремов постоянных нет, а когда рогач достигнет своей оленухи, то зачем ему гарем? Достигнет своей, понюхает воздух, уверится, что в этой оленухе для него больше нет ничего, и сразу снимается с якоря.
Верно ли?
Вон из кучки, очень похожей на гарем, вырвалась оленуха, и рогач за нею летит. Они прибежали к распадку, где высокая трава и деревья. Он ее настигает, но в последний момент она ложится на землю в траву, а он поднимает нос вверх, рога закладывает на спину и ревет.
Мне вспомнилось, еще о рогачах говорили, будто они собираются большими стадами возле сетки на другом конце парка и, стремясь выйти в тайгу, выбивают возле нее тропу. Таежный следопыт легко отвечает на этот трудный вопрос:
– Потому так, что в тайге рогачи после гона непременно уходят в более глухие, отдаленные кедровники. Олень-рогач – все равно, что цыган. Оленуха – другое дело, она местная и за ним не идет. Рогач это постоянно, как гон кончился, идет в кедровник. И если сетка на пути, то вот они все и собираются возле сетки.
Быстро темнело. Дул холодный, пронзительный ветер. На фоне красной зари виднелись черные силуэты камней россыпи, разные были фигуры, и среди них, казалось, тоже были олени: рогач, оленуха, другая оленуха, саёк…
17/X – суббота.
Ночью был шторм, норд-вест. Утро ясное. Егерь доложил, что на той стороне парка с воли пришли два дикие рогача и стоят у сетки. Так вот сама жизнь указывает способы обновления крови. И так ясно, что парк нужно сделать в самом обильном оленями месте, например, в Сузухэ, и устроить так, чтобы дикие олени могли проникать к парковым оленухам.
Ходил фотографировать Малиновый ключ, чрезвычайно типичный для южноприморской тайги. Я его несколько раз уже пробовал снять, и все мне это не удается. Горный ключ бежит, не обращая никакого внимания на ветер. И вот почему мне все не удается верно снять его: цветовое впечатление так сильно, что не хватает спокойствия прочитать картину только по свету и тени. Ветер обрывает хваченные морозом красные листья винограда, обнажает черные, теперь сладкие после мороза ягоды винограда. Особенно красивые розовые тона дает мелколиственный клен. И вообще, я замечаю, красного в здешнем осеннем лесу гораздо больше, чем у нас в средней России, где желтое сильно преобладает над красным.
В полдень на коне Поцелуе с заведующим совхозом я отправился на другой конец Нового парка, за восемнадцать верст. Заву, между прочим, было дело там, уволить егеря П.
– По какой причине увольняется егерь? – спросил я.
Администратор замялся, подумал и сказал:
– Чушка – собака.
Я понял: чехословак. После того я довольно долго и терпеливо ждал продолжения. Седло съехало. Поволился с седлом. Пустил в галоп, догнал. Поравнялся, и тут наконец-то зав продолжал разговор о чехословаке:
– Со времени интервенции их тут двое осталось: конечно, примазались. Одного утащил осьминог.
– Спрут?
– Очень просто. Вышли они купаться в камнях. Вот спрут обхватил одного и утащил в море. А другой остался.
Больше мы ничего не говорили о чехословаке. Эта поездка дала мне представление о Новом парке, так что я мог себе представить схему распределения оленей в обоих парках в настоящее время. Оленухи теперь держались в Старом парке, а в Новом – от 2-й Сенокосной пади и до Рисовой. Кроме того, они занимали 3-й Юго-восточный склон от бухты Астафьево до Высокого мыса. Рогачи держатся более в Новом парке по западному склону и в пади Белинского по реке Улунчу и до Высокого мыса.
В Рисовой мы узнали, что Долгаль только что вышел ставить нового егеря-красноармейца на место П. Они пошли туда по сетке, мы же доехали до реки Улунчу и Сенокосной долиной, часто спугивая фазанов, доехали до сторожки: тут уже был Долгэль с красноармейцем.
На обратном пути зав уступил свою лошадь старику Долгалю, и мы отправились с ним, а зав остался увольнять отлично устроенных чехословаков. По словам Долгаля, Гамовский парк весь продувается северными ветрами, и оленям хорошо можно укрыться только в Старом парке, в падях Голубой, Запретной и Барсовой. Действительно, парк в районе реки Улунчу был покрыт низким дубняком, широкие листья которого были завернуты в желто-серые трубочки. Эта зимняя картина пастбища совсем изменилась, когда мы приехали обратно к астафьевскому ручью, – тут многие дубки были еще совсем зеленые, другие с листьями, краснеющими лишь по краям. Выбрав один из листьев молодого дуба, из самых крупных, я измерил его и теперь изумляюсь размерам листа молодого маньчжурского дуба гораздо больше, чем там, – лист был 50 на 26 сантиметров. В то время как мы выезжали из сторожки, шторм был такой сильный, что мы колебались, ехать ли нам через хребет или кругом. Мы поехали прямо, и когда поднялись, на хребте было совершенно тихо. Долгаль сказал, как принято, на китайский лад:
– Ветер кончал.
Чтобы так вдруг, у нас никогда не бывает.
18/X – воскресенье.
– Вот ведь как ухаживает! Как он ищет, как рыщет! Вот бежит, вот догнал, и взять бы… нет! стал: как будто по-человечески сробел, пожалел. Но нет, не верьте оленю: под предлогом дружбы каждый рогач желает исключительно одного, чтобы удовлетворить свой неуемный аппетит.
Так говорит Долгаль, показывая мне из-за камня на оленей. Там проходят они по горному пастбищу возле Орлиного Гнезда. Движутся они медленно, на местах хорошего корма задерживаются, где нет ничего – идут ходко своими собственными тропами гуськом. У них вся жизнь на ходу, и еда. и любовь, и также игра. Глядя на идущих оленей, невольно вспоминаешь кочевку киргизов с зимнего стойбища на летнее пастбище: тоже с игрой. Вот один из рогачей направился к оленухе, она его заметила и отошла, он упорно за ней, она в рысь и нырнула в кучку оленух, спряталась между ними. Напрасно! Он знает, какая она, и врезается в маленькое стадо. Теперь выбегает она и надеется на свои ноги, мчится и он, рогатый и тяжелый, черный, бежит как будто тяжело, а между тем расстояние между ними все больше и больше сокращается. Они прибежали к тому месту, где овраг-распадок начинается ямкой, заросшей горным камышом, у этого основания распадка стоит единственное дерево, раскидистая погребальная сосна. Пусть ледяной ветер свистит, тайфун и мороз стеклит заводи, все равно: свет сорок второй параллели и тут, у по-рога суровой зимы, остается таким же высоким и светлым, как в Ницце, в Крыму, и погребальная сосна от этого света на желтую траву бросает на весь день резкую тень. Сюда, в эту ямку распадка, в горный камыш под тень погребальной сосны, бросилась оленуха, и он перед лежащей остановился как вкопанный. Тогда сила энергии бега и гона со всем своим содержанием неуемного желания, распаленного близкой возможностью, вдруг обрывается. Рогач закидывает свои рога на спину, поднимает вверх голову, и оборванная энергия пола трансформируется в звук: олень ревет. В этом реве мой слух ясно улавливает лирическую нотку, она находится на перевале оленьего высокого свиста в низкий рев, тут где-то есть нотка, в общем дающая реву пятнистого оленя окраску не то обиды, не то жалобы, отличающей очень резко рев пятнистого оленя от грозного, почти тигрового рева изюбра. Есть что-то сибирское, кедрово-свежее и сильно-грубое во всем существе красивого изюбра. Но пятнистый олень – редчайший остаток далекого субтропического прошлого края – собирает в свой тип изящество, грацию. Часто видишь тут пограничников русских и китайца рядом: есть очень красивые русские ребята, могучие, и рядом смотришь на маленького китайца с его внутренним изяществом, особенной улыбкой, бесконечной сдержанностью. Так вот пограничник – в сравнении – это изюбр, а пятнистый олень – это китаец.
Олень ревет, оленуха лежит в камыше. Олень наклонился к земле, от нечего делать пробует пощипать траву, но есть не хочется. Он просто стоит и дожидается, то повернется к морю, то к тайге, то глядит вслед проходящим стадам… И вот ему-то не видно за двумя сопками, а нам с большой высоты хорошо видно, что там, далеко, против линии общего движения оленей на пастбище идет не спеша один громадный рогач, мы видим, как он почему-то осторожно спускается с горы вниз, и догадываемся, что поднимается теперь по не видимому нами склону. Вот и правда: показались рога из-за сопки, голова рогатая, грудь и весь он черный, большой, широкий и важный. Мы опять не можем, рассматривая в бинокль, понять, что такое задерживает его ход, что он рассматривает. Второй раз мы видим, как он спускается, и потом скоро вырастают рога из-за ближайшей к нам сопки; теперь становится все совершенно понятным, – рогач потому так медленно шествует, что постоянно наклоняется к земле и проверяет след: он идет по следу охочей оленухи, и, может быть, давно уже идет. Но вот как раз по этой гриве только что прошло целое стадо, и рогач потерял след. Кто знает, быть может, желанный след оставила та самая оленуха, которая лежит, не смея встать, осажденная неуемным рогачом? Рогач, пришедший сюда, потерял нижний след, высоко поднял голову, втянул в себя ветер и, сообразив направление, двинулся вперед. Он спустился в неглубокую лощинку и поднялся. Взбирается вверх как раз в направлении той единственной сосны, бросающей резкую тень на горное желтое пастбище. Первый рогач из-за сопки ничего не мог учуять, он просто глазел, и случайно пришлось, что глазел именно в сторону дерева, и вдруг оттуда вырастают рога, да еще какие! Появляется голова…
Иван Иванович шепчет мне из-за камня:
– Сейчас увидите, первый рогач снимется с якоря.
И он угадал: первый рогач, как только увидел голову, повернулся и стал в сторонку, большой рогач стал на его место. Но ему показалось, что тот слишком близко стоял. Желая подальше отодвинуть соперника, сильный рогач только повернул голову в его сторону, выкинул язык набок, прохрапел, и тот сразу отошел немного подальше. Егерю это понятно. Он служил одно время при домашнем питомнике и выходил пойманного им олененка. Вырос добрый олень Мишка, такой ручной, что принимал от людей даже папироску и вроде как бы покуривал. Постоянно играл он с людьми и в шутку боролся с ними, все больше и больше понимая, что люди сами по себе существа очень слабые. Забрав это себе в голову, Мишка однажды решил попробовать свою силу и своими шишками так поддал, что егерь отлетел к сетке и растянулся на земле бесчувственным Мишке же очень понравилось пускать по воздуху егеря.
– Смотрю, – рассказывает егерь, – этот самый Мишка стоит возле меня, голову нагнул, глаза кровью налились, и собирается дать мне. Ну тут из всех сил схватил я его одной рукой за шишку, другой за ногу, налег со всей мочи и грохнул его. С тех пор он знает меня хорошо, всех бьет, а как я вошел, подумать об этом не смеет.
Так точно и вот этот рогач, просто увидев рога и выражение силы, без боя отходит, а пришлый большой становится на дежурство возле лежащей оленухи, которая, наверно, по всем признакам вот-вот решится отдаться оленьей короткой страсти. Какая важность, какое величие, а между тем самый большой рыскун спешит прямо по воздуху, не обращая никакого внимания на следы, и вот снова из-за сопки под деревом новые вырастают рога. Что бы тут было? Нам не удалось наблюдать. С другой стороны из кустов вышло новое звено оленьего стада Старого парка, штук семьдесят оленух и среди них штук пятнадцать рогачей разного возраста и сайков. Они как раз в тот момент появились, когда оба рогача-соперника смерили друг друга глазами. Все смешалось в этом новом стаде, кутерьма началась, беготня и возня! Вернее же всего, горный переменчивый ветер-сквозняк дунул нашим человеческим запахом на оленей, и они бросились бежать. На пустом месте под деревом, на оленьей тропе, откуда ни возьмись, полная оленья семья: впереди саёк, прошлогодний олень, за ним мать-оленуха и за ней олененок. Они как будто проснулись или выскочили из-под земли, не понимая, в чем дело. Долго стояли. Но ветер-сквозняк, вероятно, еще раз перелетел от нас к ним, старая оленуха повернула голову в нашу сторону, поняла и толкнула сайка сначала ногами: «Продолжай, иди не спеша по тропе». А саёк со всей важностью старого оленя смотрел совсем в другую сторону. Она еще раз его толкнула: «Да ну же, дурак, иди, не загораживай!» Он изумленно повернул голову в другую сторону, но тут она так его укусила в спину, что шерсть полетела по ветру. Саёк побежал, за ним потрусила в гору мать и олененок-позднышек величиною с собаку.
* * *
В дальнейшем я перестал записывать правильно события гона оленей и больше занимался охотой с фотокамерой. На меня сильнейшее впечатление оставил случай, когда одна охочая оленуха убежала за пределы парка и привела с собой из дикой тайги двух рогачей. И еще мне рассказывали, что один рогач из домашнего питомника во время срезки пантов убежал и, когда начался гон и у него окостенели рога, явился в питомник хозяином положения. Но говорили мне, что могучий олень забьет и одними шишками более слабого рогача. А то один бился по очереди с восемью и последнего даже в море загнал.
Голубые песцы
Три ночи в Посьеге
Чтобы попасть на остров Фуругельм, лежащий уже в Японском море, надо на пароходе приехать в Посьет и оттуда всего только несколько часов на катере: Фуругельм виден из Посьета. Катер, однако, и то в счастливых случаях, ходит только два раза в неделю. Я ухитрился так приехать в Посьет, что пришлось сидеть тут трое суток в ожидании катера. Посьетская бухта – самая близкая к корейской границе, в Посьете живут наши русские корейцы, их даже в свое время крестили, и теперь они. очевидно, не очень довольные прошлым, быстро делаются людьми советскими. Но какое мне дело до корейцев, если я был занят звероводством и спешил к голубым песцам на Фуругельме! В путешествиях с определенной целью исследования развивается огромная инерция. Малейшее промедление – и начинает мучить «совесть». К этому еще прибавилось, что пароход сейчас же ушел, так что ночью надо было в незнакомом месте искать ночлега. Все в один голос направляли меня в «Дальрыбу», и я, поблуждав некоторое время, нашел человека, который указал мне рукой вниз на огонь и сказал: «Здесь „Дальрыба“!» По лесенке я спустился вниз, и оказалось, что это вовсе не «Дальрыба», а частная квартира. Тут меня приветливо встретила еще нестарая жена бухгалтера, и, будь сам хозяин дома, я, может быть, решился бы даже просить у них ночлега. Но бухгалтер уехал во Владивосток, и по указанию его жены я направился кругом этого дома в «Дальрыбу». Такое совпадение бывает очень редко, но бывает: личность какой-нибудь профессии принимает форму самого предмета, так вот случилось, что человек «Дальрыбы» был невероятно, до ощущения сырости водяной, похож на окуня. И даже то, что один из его окуневых, с красными оторочками, глаз чисто по-человечески прищуривался, намекая на возможность какой-то сделки с совестью, чего никогда не бывает у физических рыб, вот именно этот-то глаз и делал «Даль-рыбу» до невероятности похожим на окуня. Просмотрев мой документ, «Дальрыба» указал на один из канцелярских столов и, прибавив огня в своей копчушке, продолжал что-то писать.
Канцелярия была довольно обширная, в ней было много столов, занятых спящими, но и свободные были, я мог даже из них себе выбрать подальше от огня, поближе к окну, и воздуху, и зайчикам лунного света, проходящего в окно «Дальрыбы» через какое-то большое дерево с гигантскими сложными листьями.
Хочется спать, но все вокруг этому мешает, отчего самая грубая действительность воспринимается в сказочном тоне. Вот в таком особенном тонком сне появилось много людей в зеленых фуражках, и лампа уже у них была не копчушка, а огромная «молния». В большом свете этой «молнии» «Дальрыба» нырял во все стороны, но Зеленые возвращали его к бумаге и тыкали в нее пальцами. Быть может, все продолжалось несколько минут, быть может, несколько часов, – это осталось для меня неизвестным. Вдруг старший из Зеленых прогремел: «Филькина грамота!» И после того младшие Зеленые взяли со стола кто портфель, кто папки, кто лампу-«молнию» и повели куда-то «Дальрыбу». Вот тут небольшой Зеленый с портфелем в руках, указав на нас, спящих на канцелярских столах, сказал: «Чуть не забыли: что с этими делать?» – «Выгнать, конечно!» – ответил быстро держащий в руках «молнию». Вслед за этим другие подошли к ближайшему столу и очень долго возились со спящим, повторяя: «Гражданин, гражданин!» – пока наконец тот не проревел на всю канцелярию: «Подите вы, к ейной матери!» Тогда старший сказал: «Брось, Ванька, что нам с ними, всю ночь, что ли, канителиться. Завтра опечатаем, а теперь пусть спят». После того Зеленые вышли, и канцелярия со спящими людьми осталась в тишине и в одном лунном свете.
Необыкновенные звуки, очень похожие на фанфары китайских театров, вдруг ворвались к нам в канцелярию, и, постепенно приходя в себя, я убедился наконец, что это не во сне, что это из открытого окна, и даже, что у окна кто-то сидит и слушает это.
– Что это такое? – спросил я, не вставая со своего ложа.
– Это ихние лягушки, – ответил мне голос в неодобрительном тоне в отношении лягушек и очень сочувственном мне в том смысле, что настоящие лягушки наши, а эти – так какие-то.
Подойдя к окну и послушав концерт очень быстрого темпа, считая для себя неловким сидеть возле незнакомого человека и молчать, я сказал:
– Много же их и здорово действуют!
– Много-то много, – ответил он, – и здорово, но наши все-таки крепче!
После того, как бывает у собак, что только чуть понюхать надо друг друга и разойтись, после наших слов нам стало так, что можно хоть всю ночь рядом сидеть, смотреть и молчать. Да, вот и хорошо же было помолчать. Концерты лягушек были только самые громкие звуки, и было еще много всего от кузнечиков, цикад, и все не по-нашему. И какие огромные листья, и в тени их сколько летающих огоньков, и сколько влаги на листьях! Капли собирались и, падая на что-то металлическое внизу, издавали звуки, как будто это ударяло в колокол. Дерево заслоняло собой море, но прибой доносился снизу отчетливо, и оттого казалось, мы находимся на большой высоте. Так, набрав в себя и ухом, и глазом, и дыханием много чего-то особенного, я лег на свой стол и в тонком сне начал продолжать из этого материала звучного и летающих огней создавать какие-то большие зеленые светлые волны.
Как и нужно было ожидать, утром оказалось не то: дерево, маньчжурский орех, само по себе было таким же необыкновенно большим и с такими же громадными листьями, но вокруг все было загажено, и среди всей этой человеческой дряни с газетными бумагами у дерева висел чайник для умывания, капли влаги с листьев падали в этот чайник, и он, переполненный, капал на такую старую ванну, что даже цинк, тускло-мертвый нержавеющий металл, все-таки изменился и пожелтел. Ни малейшего разочарования у меня при виде этой картины не было. Ведь стоило отойти несколько сот шагов за границу хозяйства «Дальрыбы», чтобы снова стало все интересным. Я умылся, закинул свою спинсумку, привязал к поясу чайник и отправился в горы варить себе чай. Целый день я занимался по-своему, как я умею это и как привык, спускался к морю купаться, ел в корейской столовой акулу, снова поднимался, подремал немного, беседовал о пограничником в зеленой фуражке, вспоминая при этом своих Зеленых, виденных в тонком сне, ловил рыбу с корейцами. Много всего было за целый день, а когда солнце стало склоняться к вечеру, спустился в «Дальрыбу», чтобы загодя выбрать себе в канцелярии стол поудобнее. Намаявшись за день, я мечтал о канцелярском столе так же, как избалованные мечтают о пуховиках. И вдруг дверь «Дальрыбы» не поддается мне, нажимаю сильнее, – заперто! И такой голос суровый слышится сверху из форточки: «Чего ты ломишься, обуй глаза, разуй нос». На этот грубый голос я не мог даже и огрызнуться, – действительно, стоило только поднять глаза чуть выше дверной ручки, и делалось все понятным: там висел замок и печать, значит, «Дальрыба» была запечатана.
Видя мою растерянность, человек, говоривший со мной в форточку, смягчился и посоветовал искать ночлег на промыслах, на той стороне бухты.
– Только идите, – сказал он, – вон по той тропе верхом, а то, кажется, на нижнюю тропу скала обвалилась и не пройти.
Я это уже заметил, побродив целый день: туманы, тайфуны и особенные климатические условия создают здесь быструю смену в природе, все кипит и бурлит, рождается и падает в горах часто прямо на глазах человека.
– Нельзя ли, – спросил я, – хоть где-нибудь, хоть как-нибудь на ночь приткнуться?
– Да где же приткнетесь-то? Вот разве попробуйте у бухгалтерши, хорошая женщина.
– Знаю, – ответил я, – разве бухгалтер вернулся?
– Да, верно, – согласился верхний человек, – бухгалтер в городе.
– Без него неудобно проситься?
– Ну, конечно, неудобно, у них одна комната, идите, пока светло, на промыслы.
Знаю я эти рыбные промыслы, эти вонючие горы иваси, огромные бочки, желтые селедочные фартуки, давленая рыба под ногами; лучше, кажется, даже на бойне, там хоть страшно, а тут противно, соленую рыбу я вообще терпеть не могу. И вот какая сила привычки, – в эту-то теплую, светлую, прекрасную ночь мне не приходило в голову переночевать где-нибудь на земле!
Так я двинулся все-таки в сторону рыбных промыслов, но нижней тропой, чтобы своими глазами посмотреть на упавшую скалу. Но оказывается – по-прежнему эта большая скала, подмытая, висит над морем, и только один огромный камень упал сверху и давлением своим на придонную гальку так изменил положение грунтов, что вода подалась немного к скале и тропу залила. Можно было, прыгая с камня на камень, сухой ногой перейти это место и по сухой нижней троне спокойно пройти на рыбные промыслы. Но отчего это бывает? Вдруг догадаешься: никуда не нужно ходить и лучше всего на свете тут же, возле тебя. Такие открытия, кажется мне иногда, бывают источником самого настоящего счастья, и тут, вероятно, около творческого момента, присущего природе человека, по-моему, и таится нарастание соблазна иллюзий, которым отдались наши учители, призывая всех людей вернуться в простую и суровую школу природы.
С каким же наслаждением набирал я себе для ночлега мягкие заросли на суровой скале и таскал это на упавший камень до тех пор, пока не стало на камне так же мягко, как на хорошем матраце. Прибой мерно, как часы планеты, плескался о мой камень, и мне казалось, будто он чуть-чуть покачивается. И в полусне, таком приятном, что вот нарочно держишься, как бы совсем не уснуть, удары прибоя о камень и покачивание самого камня стали так до меня доходить, что скала моя – как бы живое сердце какой-то большой родной жизни. И как будто я этому своему другу, скале, поверяю теперь тайну одного своего упущенного мгновения, которое поставило мне вопрос о «быть или не быть?». Под мерный счет планетного времени ясность в себе самом сложилась такая, что можно было себе любой вопрос задавать и получался ответ. Если бы только можно было все записать! Так вот о «быть или не быть?» мне стало до крайности ясно, что дело тут не только в происхождении всей мировой культуры, но даже и просто самого человеческого сознания. И у меня это сознание родилось в упущенном мгновении…
А как же у других?
Я нарочно не закрывал глаза, чтобы совсем не уснуть, и мне видна была черная узенькая коса, на которой сидели бакланы и сушили себе крылья совершенно так же, как на монетах раскрывают крылья орлы. Еще я видел, как небольшой катерок пыхтел и натуживался, чтобы снять с камня груженое судно, и канат оторвался. Видел большие хлопоты, чтобы вновь наладить канат, и наладили, и опять он лопнул, и потом в третий раз лопнул, и, вероятно, когда стали судно разгружать, я уснул…
Бывает, муха на сонного сядет, смахнешь бессознательно, она сейчас же опять садится, да и заладит, и вот уж как удивительно это, что между сгоном мухи и следующим ее прилетом успеет нечто привидеться. Так было со мной на камне по раннему утру, из-за мухи сны мои прыгали, и было их множество. Не совсем еще сознавая, где я нахожусь, я стал считать возвращение мухи, насчитал шестьдесят четыре, и тогда, поняв, что не простая это муха, а тоже какая-то реликтовая, быть может, даже третичной эпохи, я открыл наконец-то глаза. Воды против вчерашнего настолько прибавилось, что камень мой сделался островом, и стало понятно, почему после его падения люди стали ходить не под скалой, а верхним кружным путем. По-прежнему бакланы сидели на узкой косе и напрасно сушили свои крылья: прибой время от времени, хлестнув по камням белой пеной, окатывал брызгами этих больших черных птиц с распущенными крыльями. Они могли бы пролететь немного повыше и успешно сушить там, почему же так? Я не сразу догадался и не буду об этом рассказывать. Если вот так во всем задаться целью спрашивать и самому догадываться, то в новом краю можно с утра до ночи бродить с таким же захватывающим интересом, как, бывает, попадешь на такую книгу, где по жизни другого человека станешь себя самого понимать и многое непонятное себе самому объяснять. Поняв теперь прелесть удобства ночевки на воздухе, я не торопился и под вечер дождался дождя. Вот и проповедуй теперь возвращение в школу природы! Снова я вспомнил об уютном столе в канцелярии: должны же ее наконец распечатать! Но нет, вот по-прежнему замок висит и печать. Быть может, приехал бухгалтер? Я вошел в дом, постучался.
– Ах, это вы! – узнала меня бухгалтерша. – Видно, вас к нам только дождь загнал, ну, вот кстати: прямо к чаю.
И мы сели вдвоем за живой самовар. Приятно было, и как еще! Но когда бывает уж очень приятно, с тревогой встает вопрос о будущем: не есть ли эта удача – коварная уловка судьбы, чтобы обмануть спокойствием, а потом подхлестнуть. Дождь лил как из ведра, на дворе темь кромешная, а бухгалтера-то нет и комната одна. Что, если он не приехал? Я от природы болезненно щепетильный человек, я не только не могу проситься ночевать у женщины, ожидающей приезда мужа, но даже вот не смею просто спросить, приехал ли ее муж: в этом вопросе я боялся нескромного намека. Но, конечно, я не стал бы говорить о своей щепетильности, если бухгалтерша сама бы мне предложила. Другого выхода не было, и я, конечно, бессознательно, просто подчиняясь инстинкту самосохранения, начинаю взволнованно рассказывать ей о своей поэтической ночевке на камнях.
– Да на каком же это было камне? – с большим интересом спросила она. – Ведь я же так недавно, кажется, ходила по нижней тропе, никакого камня в море не было, и путь был свободен.
– Как же свободен? – сказал я. – Вы помните, там на пути есть подмытая скала.
– Очень хорошо помню: под ней почти что море, и надо прыгать по камням. Над этой скалой висел грозный камень, многие боялись его и не ходили нижней тропой.
– Ну, вот этот камень и упал, – сказал я.
И опять дальше, как я засыпал под уговоры прибоя, как реликтовая муха будила меня.
Мой бессознательный замысел был увлечь соломенную вдову рассказами в глубину ночи и потом вдруг огорошить ее заключением: все так прекрасно было вчера, но вот сегодня добрый хозяин собаку не выгонит на улицу. Мне больше ничего теперь не оставалось, как только увлекать соломенную вдову за собой дальше и дальше: я чувствовал, что бухгалтера не было дома, а женщина еще не старая и ничуть не такая эмансипированная, чтобы в одной комнате с собой укладывать незнакомого человека.
И вдруг она вся подалась мне навстречу. Она полузакрыла глаза, откинулась в кресле и, вспомнив что-то далекое, что-то прекрасное, начала говорить:
– Первый раз в жизни я вижу такого человека, как вы, я никак не предполагала, что можно всегда жить таким чувством, у меня подобное было только один-единственный раз в жизни.
– Расскажите же…
– Не смею.
И зарделась.
Сердце мое запрыгало: после таких признаний не выгоняют человека на улицу.
– Я помогу вам, – начал я, – скажите, где это было?
– Ах, на Кавказе.
– Гора была?
– Как же вы знаете: была гора.
– Со снежной вершиной?
– Нет, вершина была лиловая, и под вечер облачко подошло к ней белое-белое, и одно облачко осталось у вершины, а другое ушло, и ушло, и ушло…
Она замолчала и, вся закрасневшись, потупила глаза. Не было никакого сомнения, что это и было в ее жизни единственное мгновение, которое у себя я вчера вспоминал как упущенное, но я не знал только, было ли оно и у бухгалтерши тоже упущено, или, напротив, мгновение с мгновением сошлось, и ей досталось счастье с бухгалтером. Я решил осторожно спросить как-нибудь и узнать, относится ли это событие на лиловой горе ко времени ее первого знакомства с бухгалтером, или тут было что-то совсем другое. Если другое, то я мог вполне рассчитывать на уютный ночлег, если же… Я очень тонко начал:
– Простите, я не знаю до сих пор, как зовут вашего мужа?
Она сейчас же ответила:
– Его зовут Семеном Афанасьевичем, вот на Кавказе именно тогда только мы и начали с ним знакомство…
В этот самый момент дверь вдруг без всякого предупреждения отворилась, и вошел бухгалтер в совершенно мокром плаще. Оказалось, он еще утром приехал и целый день сидел в ГПУ, разбирая путаное дело «Дальрыбы». Так все счастливо кончилось, и третью ночь свою в Посьете я ночевал, чувствуя всем своим существом, что «природа» и тут от меня не ушла.
Остров Фуругельм
До появления песцов остров Фуругельм был девственной пустыней, населенной несметными стаями морских чаек, бакланов, чистиков, каменушек и других морских птиц. Остров небольшой, мне думается, что по тихому морю на лодке его можно объехать кругом с утра и до обеда (300 га, длина береговой линии три километра). От места нынешнего питомника голубых песцов, лежащего в полгоры у центрального ручья над северной бухтой, в полчаса можно подняться на высшую точку гор, откуда в хорошую погоду можно высмотреть Корею, и, само собой, очень близок Китай. До появления голубых песцов на- острове было так много птиц, что если бы поднять на воздух во время злейшего тайфуна один только какой-нибудь птичий базар, хотя бы, например, с мыса Кесаря, то крики птиц совершенно заглушили бы удары Японского моря о скалы. Сам я видел целую скалу, обвитую красными и белыми розами (Rosa rugosa и rosa multitilora), слышал от людей, что весной даже с моря скалы кажутся розовыми от цветущих азалий. Осенью пауки до того заткут кусты паутиной, что приходится с палкой ходить и расчищать себе путь, иначе паутина залепит глаза. Как же много, судя по этим паукам, тут насекомых, сколько летающей жизни, но гнуса нет, очень редко пропищит комар. В летнее время ночью весь остров в огне от летающих светлячков. Что же еще? Есть на острове безобидный японский уж, огромный полоз Шренка и очень редко попадается щитомордник, змея довольно ядовитая, но, во всяком случае, не в той степени, как родственница ее – змея гремучая. Да, нужно долго искать случая, чтобы встретить змею, а цветы видишь постоянно, и, говорят, до вторжения песцов, птиц было столько, что именно их-то и надо было вместе с цветами считать хозяевами острова.
Пришел август рокового для птиц 1929 года, когда люди решили всей этой жизни дать свое направление. Вскоре после этого, именно первою сентября, с острова Сахалина прибыла первая партия песцов в двадцать три головы. Следующая партия с Командорских островов была привезена двадцать восьмого ноября в составе десяти самцов и десяти самок, и, наконец, седьмого февраля 1930 года привезли еще одного самца и шесть самок. Всего, таким образом, было завезено двадцать три самца и двадцать семь самок.
Красивые слова «голубые песцы» относятся, собственно, к выделанному прекрасному меху, но сам зверь песец сумеречное существо, подозрительное, недоверчивое. Он имеет обличье маленького медведя, но совершенно без тех прекрасных черточек в медвежьем характере, отвечающих величине и силе Михаила Иваныча. Вероятно, скудная северная родина научила песца делать огромные пищевые запасы, грабить и воровать все, что только попадется под лапу, даже и вовсе ненужное. Днем и ночью он видит все своими маленькими неприятными желтыми глазками и, увидев, сейчас же стремится превратить в свою собственность. Мы употребляем это понятие «собственность» в полном его смысле, потому что у песцов не только свои отдельные склады пищи обращены в собственность, а целые значительного размера площади земли строжайшим образом охраняются на границах от вторжения других песцов. Конечно, надо иметь за собой целую большую историю человечества и в процессе этой истории осудить воровство, чтобы высказать мысль: «Собственность есть воровство». Если мы соберем все характерные поступки песца и постигнем основные пружины его существа, то, мне кажется, это будет вполне верно, если сказать, что песец всем своим видом без слов красноречиво говорит о себе на каждом шагу: благословенная способность к воровству является ключом к благополучию собственности.
В конторе питомника на острове Фуругельма в журналах наблюдений найдется немало случаев, характеризующих песцов как исключительных собственников, но как-то гораздо приятней рассказывать о том, что видел своими глазами.
Квакушины дети
К первому августа, когда мы прибыли на Фуругельм, одна семья песцов, чрезвычайно нахальная, держалась дома заведующего питомником, где и мы с приезду остановились. Щенки уже были по два с половиной килограмма весом и ростом в полматки. Для подкормки этих щенков егерь брал рыбу, и вся семья песцов, теснясь, ссорясь друг с другом, спешила за егерем вниз через ручей на ту сторону, где вообще кормились песцы и была устроена особая ловушка-кормушка. Там рядом с кормушкой в отдельном загоне, между прочим, жили и Квакушины дети. История Квакушиных детей вкратце такая: настоящий отец их погиб, кажется мне, при обвале скалы, после чего бездомный Квакуша, как это бывает у песцов, вошел в семью вдовы и взял на себя обязанности по доставлению пищи молодым песцам, равно как и по охране той самой территории у ручья, через которую теперь мы проводим песцов придомовой семьи для подкормки их на том берегу возле ловушки-кормушки. Случилось так, что и самка принятых себе Квакушей на воспитание детей тоже погибла. Не помню причины гибели самки, кажется, она при охране своих владений получила рану в области живота, отчего произошло заражение крови. Администрация питомника не решилась оставить щенков исключительно только на попечение Квакуши и, выловив их, поместила в особый загон возле кормушки. Итак, территория у ручья внизу, где когда-то жила полная большая семья, совершенно опустела, самец и самка погибли. Квакушины дети были перенесены на ту сторону, и сам Квакуша большую часть времени проводил возле своих приемных детей, стараясь подкопаться под сетку и передать щенкам сворованную где-нибудь рыбу или другую какую-нибудь снедь. И вот все-таки в то время, когда мы для подкормки проводили щенков придомовой пары через старую, брошенную территорию приемной семьи Квакуши, он появлялся тут непременно, рычал, и только наша охрана спасала щенков от его нападений. Мало того! Мы сделали какому-то раненому песцу перевязку ноги и посадили его в изолятор, находившийся на той же опустошенной территории. Не успели мы посадить песца в изолятор, как явился Квакуша, быстро подкопался под пол и оттуда стал донимать больного своим страшным подземным рычанием. Да, конечно, вникая в жизнь песцов, мы быстро отходим от нашего времени к тем допрудоновским временам, когда воровство считалось священнейшей обязанностью родителей при создании собственности.
Борьба орлов
В северной бухте острова на загороженном участке устроились рыбаки-корейцы огромным японским ставным неводом ловить дорогую рыбу тунца. Плохо шло у них дело с тунцами, но всякая другая рыбешка попадалась, и рыбаки не только сами кормились, а даже и отсылали рыбу в кооператив. Недалеко от рыбаков под старым капом устроилась необыкновенно продувная и вообще жизнеспособная, сильная семья песцов. Каном в корейских избах называется пол, согреваемый, так же как и печь, дымоходами. Сама фанза была совершенно разрушена, остался лишь кан, заросший бурьяном в рост человека. Между прочим, возле кана под бурьяном возвышалась горка старого мусора и служила песцам верандой и наблюдательным пунктом. Однажды белоголовый орел осмелился спуститься к рыбакам и выхватить с их промысла сардинку (иваси). Орел поднял небольшую рыбку на скалу. А семья песцов во главе с родителями, Ванькой и Машкой, наблюдала за действиями белоголового со своей веранды. Только было принялся белоголовый орел за свою добычу, откуда ни возьмись другой, белохвостый орел, и бросился на белоголового, с тем чтобы отнять у него сардинку. В это время песцы своими сумеречными желтыми глазками взвесили все обстоятельства драки орлов и учли их в свою пользу. Ванька остался с детьми, а Машка в короткое время с камушка на камушек добралась до вершины скалы, схватила сардинку, причину борьбы орлов, и была такова. Дома, на своей веранде, отдав добычу детям, песцы как ни в чем не бывало продолжали с интересом следить за борьбой орлов. Эта борьба теперь имела тем больший интерес, что была уже совсем бескорыстной, – так орлы, наверно, и забыли о причине войны, и, во всяком случае, причина эта больше уже не существовала. Темная скала внизу опускалась в кипящее белой пеной море, наверху пух летел от орлов. Кореец, тоже вместе с нами наблюдавший все это, сказал об орлах:
– Шибко большой капитан.
И со смехом показал пальцем в сторону не капитанов, а пассажиров жизни, которые, покончив с добычей, всей семьей сидели на веранде и тоже следили, а может быть, и любовались по-своему борьбой в воздухе больших капитанов.
Морская школа
Корейцы-рыбаки, понятно, обижены тем, что русские звероводы, хозяева острова, не позволяют им выходить за сетку, чтобы в знойный день прохладиться где-нибудь у ручья под сенью широколиственных реликтовых растений. Дело доходит до обвинения в шовинизме. С другой стороны, понятно, что и звероводам эти рыбаки-корейцы – нож вострый; во-первых, ведь рыбаков много, а в семье не без урода, песца пришибить и украсть плевое дело, во-вторых, стоит только песцу у рыбаков поесть соленой рыбы, и от соленого зверю сразу капут. Однажды под вечер мы пошли к этой рыбалке наловить себе на ужин чилимцев. Эти небольшие рачки живут в морской траве и зачем-то при наступлении сумерек непременно и в большой массе приползают к самому берегу по песку. Тут их просто огребают сачками. В ожидании чилимцев мы сели на опрокинутую шампуньку и мало-помалу затихли. Вот видим, выходит на кан все песцовое семейство в полном составе. Сумерки у них – это начало охоты. Ванька не спеша отправляется в горы, вероятно, за птицами, а Машка начинает играть со своими ребятишками. Мало-помалу мы замечаем, что она не просто играет, а заманивает молодых зачем-то все ближе и ближе к морю. Вот вдруг к молодым подбежала волна. – что это такое? Волна прибежала и убежала, – скорее же за ней, но вдруг волна вернулась и обдала молодежь. Нам стало понятно, что мать заманивала детей к морю, чтобы приучить их не бояться воды и начать добывать себе пищу у моря. Вот она бросилась в воду, отплыла немного, вылезла на камни и стала манить молодых, соблазняя их тоже броситься в воду и выйти на камни. Но молодые увлеклись игрою с волнами и к ней плыть не хотят. Все это происходило у забора, сделанного для того, чтобы песцы не могли попадать на рыбалку. Сетка забора уходила довольно далеко от берега в море, чтобы создавалось таким образом водное препятствие. Вот билась, билась Машка, чтобы заманить щенят к себе на камни, и вдруг сама бросилась в воду и плывет не к берегу, а в море. В полумраке кажется, будто это длинное полено плывет, потому что длинный к воет на воде является непрерывным продолжением спины. Потом Машка морем огибает сетку, плывет к берегу, выходит, бежит, едва видимая, к палаткам рыбаков, возможно, забирается в палатки, даже, может быть, в кадки, потому что в самое короткое время возвращается к морю с порядочной рыбой во рту. Снова тем же порядком, огибая сетку, приплывает она к тем самым камням, к которым не могла вызвать молодых. Теперь с камней она показывает им рыбу, и один отважный щенок сразу бросается, плывет, а хвостик, чтобы не замочить, держит вверх пистолетом, второй тоже плывет, и тоже кончик сухой, и так все. Л Машка снова за рыбой на берег, принесет, отдаст, и опять. Но вот кончено, молодые познакомились с морем, наелись и уплывают все разом с сухими хвостиками. Тут-то и начинается у Машки самая настоящая работа. Теперь из цепи ее действий выпадает возвращение на камни. Да, туда, чтобы рыбу украсть, она непременно должна плыть морем, потому что сеточный забор имеет наклон сюда и пробраться по нему к рыбакам невозможно. Однако оттуда ей уже незачем оплывать морем сетку, но наклонному забору, с рыбой в зубах, она может в один миг перемахнуть, и исчезнуть куда-то во тьме, и снова показаться плывущим по морю поленом, а через несколько секунд на заборе явиться на фоне светлого неба с рыбой во рту. Одно время я пробовал считать появления Машки па заборе, но вскоре счет потерян. По всей вероятности, она так будет работать всю ночь. Но куда же денется такой огромный запас, если принять во внимание, что и Ванька тоже что-нибудь всю ночь добывает и зарывает? Раскопав одну кладовую, мы добыли из нее более ста больших морских птиц, чаек и чистиков, загрызенных, начатых и сильно разложившихся. Однажды через форточку придомовый песец утащил мои чулки, найденные потом в овраге и только случайно еще не зарытые. Еще мы нашли в песцовой кладовой совершенно им ненужный кусок резины. Они могут утащить и зарыть бинокль, ружье. Маленького годового ребенка, девочку заведующего, песцы тоже пробовали унести и протащили уже ее через дорожку в траву… Их способность все тащить, вероятно, возникла в тяжелых условиях жизни скудного Севера, и они продолжают заниматься этим, как художеством или спортом, и тут, где все есть в большом обилии.
Они напоминают мне одну старуху, до того напуганную голодом в 1919 году, что потом в очень благополучной семье она продолжала во время обеда потихоньку собирать куски черного хлеба и складывать их ежедневно у себя в большой корзине. Раз в неделю во время уборки квартиры под предлогом мытья пола из комнаты удаляли старуху, очищали ее корзину от кусков, и потом она, ничего не замечая, как автомат, опять наполняла..
Невольно приходит в голову, что если бы возможность была от этой старухи отвести породу людей, то это и были бы наши песцы.
Можно себе представить, как встретились с птицами пущенные на остров песцы и что наделали они тут с весны 1930 года и до нашего посещения острова в июле – августе 1931 года. Прежде всего это не кролики, и размножились они не очень сильно. С другой стороны, их размножение было ослаблено тем, что песцы, переведенные из Сахалинского питомника, были в очень плохом состоянии. Словом, к началу гона в 1930 году всего оставалось девятнадцать самцов и восемнадцать самок, а к пятнадцатому июля 1931 года было выявлено на острове пятнадцать нор и в них шестьдесят пять щенят. И при таком сравнительно малом количестве зверей на острове и несметной силе птиц перед администрацией питомника теперь стал круто вопрос о материале для подкормки песцов. Казалось бы с первого взгляда ясным, что несколько десятков хищников без большого ущерба для всего населения долго могут жить на острове. Но каких хищников. На острове птиц и цветов, конечно, цветов не убыло, но вглядитесь хорошенько, и вы всюду между цветами увидите легенькие тропки, пробитые песцовыми лапками. Идите по этой тропке, и вы скоро встретите целую пирамиду разноцветных яиц, из которых и голубым цветом, и рисунком на голубом, и величиной прежде всего удивят вас яйца сравнительно небольшой птицы ары (раза в полтора больше куриного). Все эти яйца в горке пустые, потому что это не кладовая песца, а столовая. Он приносит яйцо всегда на то же самое место и, выломав небольшое отверстие зубом, содержимое вылизывает языком. Так и складывается эта горка. Пройдите по другой тропе, и вы найдете вторую столовую. Но это, наверно, ничто перед тем, что зарыто очень искусно на острове. Случалось сотрудникам питомника в сентябре находить кладовые песцов и доставать из них яйца совершенно свежими. Выбирают ли песцы для яичных кладовых особенный грунт? А сколько птиц, в особенности чаек, погибло от песцовых острых зубов! К нашему приезду на остров птичьи базары были совершенно расстроены, и целыми оставались только гнезда бакланов, устроенные на отвесных и совершенно неприступных скалах. Что могли теперь добыть себе песцы сами? Возможно, они ловили на берегу моря в камнях осторожных мокриц, ухитрялись выедать из-под низу морских ежей или чилимцев. Но ведь этим не прокормишься. Для них стали стрелять нерпу, и очень скоро от этого нерпа покинула свои лежбища. Ловили рыбу для песцов и, развозя по норам на лодке, стреляли бакланов, последних птиц, недоступных песцам. И когда мы ехали на лодке с ружьями, песцы знали, что это люди едут для них, а когда раздавался выстрел, некоторые из них, особенно смелые, бежали на выстрел и спешили схватить упавшую птицу раньше охотника.
Мы целый вечер потом обсуждали вопрос, какими животными населить остров взамен уничтоженных птиц: мышами нельзя, – мыши являются промежуточными носителями глистов, лягушками – нет болот… Разве устроить параллельно питомникам маленьких плодовитых кроликов. Еще мы много говорили о предельном районе песца, достаточном для жизни его семьи. И большой, интересный вопрос вставал о влиянии климата на мех. Что остров покрыт пышной растительностью, дающей прекрасное убежище для песцов в жаркие дни, что число ясных дней летом исчисляется единицами и даже особенная влажность, свойственная приморью, – все это, конечно, благоприятно песцам. Но вот в приморье, как бы в возмещение туманного лета, бывает ярко-солнечная зима, – не повлияет ли эта избыточная солнечность на острове, против малой зимней освещенности на коренной родине песцов, на качество их меха? Нам дали намек на ответ в положительную сторону, исходя из того, что у двух старых песцов в первую зимовку мех ухудшился, но во вторую стал снова хорошим. При таком коротком существовании питомника в таких исключительных условиях, при общем нашем незнакомстве с островным хозяйством было бы нечестно делать какие-нибудь практические выводы. Нам кажется, существование питомника достаточно оправдывается интересностью опыта.
Есть мелочи, которые оставляют большое впечатление и мало-помалу решительным образом влияют на всю сумму впечатлений. Так, например, питомник распугал стрельбой нерп и уничтожил нерпичье лежбище. Была ли в этом крайняя необходимость? На наших глазах служащие питомника присадили рыболовную сетку и поймали в одну ночь десять акул. А еще мы видели, как егеря стреляли в неприступные гнезда бакланов, и некоторые молодые бакланы, шевелясь, придвигались к краю скалы и падали, а другие так и оставались там, и только десятки красных полосок на скале, соответствующие числу попавших дробин, свидетельствовали о напрасных жертвах. Бакланов, умеющих себя охранить от песцов, вообще бы следовало запретить стрелять и охранять как запас пищи на крайний случай. Очень возможно, что и много такого есть еще, в чем мы действуем, выправляя линию природы в пользу себя, на первых порах не лучше безумных песцов, в один год расстроивших все огромное птичье хозяйство.
Полярный роман[22]
Море сушу разделяет и в то же время роднит берега и создает общение между народами, – это школьная география, но поневоле к ней возвращаемся, если у моря ежедневно слушаешь рассказы людей с Камчатки, Чу котки, Шантарских островов, Командорских и даже таких, где все еще СССР, а деньги за пушнину платят американские; да, да, – это деньги разделяют, но море роднит, а то как же понять это странное явление, что голубые песцы, жители Командорских островов, с этого Севера попали на остров сорок второй параллели, остров Фуругельм, весь заросший виноградом, розами и азалией. А воздух! – вот еще новая объединяющая стихия: с Командорских островов на аэроплане голубые песцы прилетели в Соловки, на Кильдин, и живут себе там как ни в чем не бывало! С острова Кильдина встретился мне зверовод Иван Антонович, и я слушал трогательный рассказ его о песцах белых, коренных жителях острова, и голубых, доставленных с Командорских островов. Сам Иван Антонович уже немолодой человек, несколько раз был ранен в общей и гражданской войне. Доктор установил, что работоспособность его совсем подорвана, но без работы жизнь его будет невыносимой. Пришлось искать занятие, в котором понимание дела совершалось бы не так за счет разума, как за счет сердца. В поисках такого занятия наткнулись на практическое звероводство; Иван Антонович прошел какие-то коротенькие курсы, получил инструкции от ученых людей и поехал на Кильдин заниматься песцами.
Каждый биолог, если только он хочет найти причину какого-нибудь явления в жизни растений или животных, должен прежде всего отстранять от себя все, что наросло в суждениях человека об этих растениях или животных через мнение о себе самом. Все мифы, сказки, тот незаметно вкрадывающийся антропоморфизм и вместе с тем всю поэзию надо отбросить или поставить на такое место, чтобы она и все подобное не мешало научной работе. Биолог суровый человек, в личности живого существа не нуждается и занят только причиной явления. Мне, однако, повезло, Антоныч как раз именно не мог работать тем местом разума, где явления мира расставляются в причинную связь: Иван Антонович был сильно контужен в голову, и его понимание зверей необходимо должно было исходить из сердца, значит, просто он должен был их понимать по себе. В то же время человек он такой добросовестный, что не может и привирать, как делают это многие биологи, не удовлетворенные одним объяснением причин, а может быть, и просто к этому неспособные Иван Антонович записывал на Кильдине точно и просто все, что он сам видел своими глазами.
Когда-то на острове как белых, так и голубых песцов было великое множество, но охотники до того их истребили, что Антоныч, записывая свои ежедневные встречи со зверями, скоро почти всех их сосчитал. Местных голубых осталось на острове всего только пятнадцать нар, а местных белых лишь пять. Из привезенных с Командорских островов и пущенных сюда голубых песцов теперь живут тридцать восемь пар, все они дали приплод в сто двадцать штук, значит, всего-навсего теперь песцов на острове, голубых и белых, местных и командорских, старых и молодых, – двести двадцать. Антоныч до того теперь знает песцов на острове, что, издали увидев, разберет не только, что местный он или командорский, а даже сразу определит, с какого Командорского острова песец, с Берингова или с Медного. Впрочем, это и каждый скоро поймет: беринговцы как-то светлей, чем с Медного, на лице у них как бы маска с пробелью, беринговцы лещеватей и более робки, а с Медного все какие-то тяжелоступы. Местные голубые песцы грациозны, проворны, легки, а белые местные особенно легки, недоверчивы и чутки. Кроме случайных встреч, Иван Антонович постоянно их видит возле устроенных на острове кормушек, некоторые песцы живут возле самого становища и до того привыкли, что Антоныч кормит их прямо из рук, даже и поглаживает, но только не голой рукой, а валенком или локтем, чуть же тронул голой рукой, так сразу и след простыл. Многих песцов теперь зверовод и стражники даже знают в лицо и называют по имени.
Прошлый год шестого декабря при подкормке зверей показался один до сих пор неизвестный, у него, как у всех беринговцев, была маска на лице с пробелью, был он хром, сед, подбираясь к корму, пытливо вглядывался в глаза человека, а в тот момент, когда наконец решался взять кусок, его непременно слабило; из всего этого, – что сед он и хром, слаб на живот и особенно, что держался всегда в стороне от стаи, можно было увидеть в нем зверя очень старого. Приходил он всегда почему-то со стороны Могильного озера, всегда в одиночку. Звать его стали просто Хромко.
Тут же возле становища жила под берегом и даже пыталась подрыться под амбар одна самка, тоже, вероятно, очень старая, потому что была глуха, и звали ее просто Глухая. Большинство же зверей приходили со стороны Масленникова ручья, где был домик с кормушкой. Тут из всех зверей самая интересная и самая любимая у Антоныча была, конечно, Игрунья, необыкновенно легкая, грациозная и шаловливая самочка-беринговка. Если погода на Кильдине шла к вёдру, Игрунья всегда танцевала впереди стаи и даже выговаривала: «Хме! Хме!» Если Игрунья была вялая и шла позади, то знай, что непременно внезапно переменится погода и такой ветер задует, что устоишь на ногах только под сильным каменным укрытием.
Раз Игрунья прихворнула. По этому случаю Антоныч принес ей каши гречневой с маслом в алюминиевой чашке, поставил перед ней и стал уговаривать поесть этой хорошей пищи. Игрунья, прислушиваясь к разговору, неохотно, а только из уважения к Антонычу, ела. Но как только зверовод хочет уйти и перестает ей бормотать, бросает есть и вроде как бы печально глядит в его сторону и только не говорит: «Не уходи, погоди!» Но ведь надо же было уходить, и вот что придумал Антоныч: он стал уходить задом и разговаривать; конечно, чем дальше он отходил, тем громче нужно было и разговаривать, вроде того: «Ах, песики, вы мои песики, горе мне с вами, то очень уж жадные и деретесь между собой из-за куска, а то вот хвораете, возись с вами, а я ведь один».
Голос Антоныча в горах всем песцам отлично известен, каждый, до кого может только дойти этот звук, непременно зашевелится, но все ведут себя по-разному. Большинство спящих, свернутых в клубочки, сначала поднимают только голову, затем, что-то сообразив, ползут между камнями и выглянут так, чтобы самого-то никак нельзя было со стороны заметить. Но один слух может и обмануть, вдруг окажется, что это не добрый Антоныч разговаривает, а какой-нибудь злой человек, вызовет, а потом и хлоп из ружья. И потому не только надо услышать, а и оглядеть своими собственными глазами. И когда даже оглядел, и то все-таки мало, глаза гораздо больше слуха обманывают: надо зверю почуять, а для этого надо зайти так, чтобы ветер был в нос. Начинается осторожный обход, наконец Антоныч замечает голову между камнями, и тут ему непременно нужно сказать свое: «Песик! Песик!» Вот когда можно, только очень осторожно, с лапки на лапку, подходить. Но, конечно, характеры у песцов так же различны, как и у людей. Вот есть одна темная беринговка. Когда Антоныч разговаривал с хворой Игруньей, она притаилась за камнем, и как же ей, голодной, наверное, было отвратительно видеть, что Игрунья ломается. Улучив мгновение, когда Игрунья, бросив пищу, сделала шаг в сторону уходящего Антоныча, она вдруг выскочила из-за камня, схватила миску – и в горы! Такая уж повадка у всех песцов, стащить, что плохо лежит, и зарыть в свою кладовую. И миски Антонычу не видать бы больше, если бы Налетка не уронила ее. Металл звякнул о камень, Налетка струсила, расправила трубу и унеслась как стрела.
Кроме этой Налетки, была самочка, очень милая, но и очень робкая, как бы застенчивая. Ее звали Ласковая, и жила она в паре с Дураком, единственным песцом, который позволял себя голой рукой гладить. Но он был чудовищно жаден и через это несколько глуп: если ему бросить отличный кусок, и он им завладеет, и тут же бросить другой плохенький, то, хватаясь от жадности за новый кусок, он оставляет старый дорогой и потом с дрянным куском во рту глупо и долго смотрит, любуется, как Налетка, прыгая с камня на камень, мчит в горы его драгоценный кусок. Так все песцы чем-нибудь отличаются и все имеют свои клички. Вот есть придомовая пара, или Хозяин с Хозяйкой, – эти умные песцы поняли, что гораздо выгоднее жить возле дома охраны, они тут осели, взяв в свое распоряжение крыльцо и сени. Но мы забегаем вперед и рассказываем о том времени, когда звери спариваются. Рассказ же Антоныча начинается с прихода нового, неизвестного зверя Хромко. Это было шестого декабря, когда Кильдин освещается только часа на полтора бледным отблеском невидимого солнца. В это время звери живут стайками.
Луч света, чистый луч во всем своем великом значении может быть понятен по контрасту с полной тьмой лишь на Крайнем Севере. Но звери плохие поэты, почуяв по свету весну, может быть, тоже смутно поэтически, они не откладывают своего счастья до теплого мая: их разум, и любовь, и пол разом пробуждаются при первых лучах прекрасного северного света. Все начинается игрою, вскоре игра переходит в гон, и после спаривания звери селятся для выращивания детей на отдельных участках. При первых лучах солнца вдруг исчез совершенно Хромко, – как ушел к себе в сторону Могильного, так больше и не появлялся.
Зверовод понял это так, что старый зверь в предчувствии гона и неизбежного состязания зверей при разбивке на пары удалился, чтобы не вступать в невыгодное для себя состязание с молодыми. Возможно было предположить даже и то, что Хромко, как очень старый зверь, совсем даже и не мог спариваться и ушел в пустыню Могильного. Это реликтовое озеро на Кильдине очень странное и мрачное. В нем три разных воды: нижний слой пропитан убийственным сернистым газом, в средней, морской, воде этот газ обезвреживается, а наверху лежит вода пресная, живая. Есть предание, что некогда тут стоял монастырь, и правда, вот уж подходящее место для монастыря, – ничего нет, одна только живая и мертвая вода Могильного озера. Хромко, старый, бессильный, но, может быть, все-таки искушаемый чувством весенней звериной любви, пожалуй, и не глупо сделал, что на время гона удалился один к могилкам монахов. Но вскоре заметили, что и Глухая больше не показывается, тоже куда-то ушла. Ей-то зачем уходить? Оставалось предположить одно, что Хромко увел ее с собой справлять у Могильного свою позднюю свадьбу. Потом из общества песцов возле дома охраны исчезла Игрунья, и ее видели на севере с белыми. Так мало-помалу все звери разбрелись и поспарились. Теперь наблюдать за песцами стало гораздо труднее. Всем наблюдателям были вручены книжки, в которые они должны были записывать все о встречах своих с песцами. Неважно записывали малограмотные люди, но важно было лишь этим способом твердо дать направление их внимания, самое нужное они передавали в устных рассказах, и ими питал Антоныч свой личный дневник зверовода. В этом мире, где, собственно, жили как следует только звери, а люди были при зверях и удалились от жизни, события в жизни зверей для людей часто были потрясающей силы. Так вот однажды стражник Василий принес с северного берега необыкновенное известие. С большим волнением рассказывал он, и с таким же волнением выслушивал Антоныч и сильно задумался. Вот что видел Василий. Там, на северном берегу, совершенно так же и до точности похоже на иллюстрации к жизни Робинзона, стоял уже несколько лет громадный разбитый английский корабль; во время отлива можно было подойти к нему посуху, и некоторое время было зачем подойти. Обходя остров, Василий по этой старой привычке задумал побывать на пароходе, и как только стал туда забираться, вдруг оттуда выскочил и опрометью пустился к берегу песец, невозможно было не узнать его, – на лице маска с пробелью, полуседой и сильно хромал на правую заднюю ногу. Хромко до того был чем-то раздражен или напуган, что, несмотря на свою хромоту и старость, помчался как стрела краем воды под пахтой на запад.
Это известие поразило зверовода. Если Хромко удалился с Глухой, то как он мог попасть и устроиться в области, захваченной и населенной исключительно только белыми? Нет, конечно, не мог он устроить парную жизнь в области враждебных участков белых. Даже если он и один жил бродячей жизнью, то как на свои охотничьи участки могли пропустить его белые? И что ему нужно было на старом пароходе, где были одни только ржавые машины? И куда делась Глухая? А еще неприятное известие принесли наблюдатели: видели Игрунью повязанной с белым. Инструкция была, чтобы уничтожить белых и вести чистую линию дорогих голубых. Но белые Антонычу сами по себе очень нравились, и он ослушался высших звероводов, полагая, что голубые останутся с голубыми, а белые с белыми.
Так день изо дня прибавляется свету на острове. вот солнце вовсе перестало окунаться в океан, и на севере, и на западе, везде песцы начали щениться. Целые дни и очень часто солнечные ночи Антоныч проводит за биосъемкой, как он называет свой собственный способ обследования границ участка, захваченного в единоличное владение каждой парой песцов. Как известно, песцы имеют свою собственную территорию, на которой только и могут охотиться. Правда, есть у них общие тропы к пресной воде или еще куда-нибудь, но есть и частные тропы к ручью или к ягоднику, ходить по которым может только владелец. Как же узнать невидимые границы этих владений и нанести их на карту? Начиная биосъемку, Антоныч запасается каким-нибудь самым лакомым песцовым кормом, – свежих птиц настреляет, чаек, – потом приходит на предполагаемый участок и вызывает хозяина обыкновенным порядком: «Песик, песик!» Зверь идет, и когда настолько приблизится, что может чуять аромат лакомого блюда, Антоныч повертывается и, маня зверя, отходит и так заманивает песика до тех пор, пока тому дальше идти нельзя, иначе выскочит хозяин другого участка и даст ему тумака. У границы песик обыкновенно садится, а Иван Антонович бросает заметку, переходит границу и вызывает другого хозяина. Границы хозяйства придомовой пары установить было нетрудно, рядом же с Хозяином и Хозяйкой были установлены границы владений самки Крикливой. На третьем участке поселился Дурак со своей Ласковой. После этого через очень большой промежуток устроилась Налетка и рядом с Налеткой Сурьозная. Начиная с Сурьозной, все дальнейшие участки расположились на полупахте. Однажды ночью Антонычу пришло в голову: «Почему все участки были приблизительно в двести метров длиной, а между участком Дурака и Налетки выходило много больше? Не пропустил ли он чей-нибудь участок?» Эта мысль пришла ему в голову, заставила бросить сон и немедленно приступить к биосъемке. Несомненно, ошибка, если только она была произошла при обмере участка Дурака, и потому первого начал манить Антоныч его или Ласковую. В этот раз действительно Дурак перешел прежде намеченную границу и долго шел, но вдруг сел, сгорбился и ощетинился. Зверовод сразу сообразил, что если один зверь ощетинился, то другой где-нибудь тут рядом сидит. Перейдя эту новую границу, Антоныч на некоторое время затих, а потом начал разговаривать с невидимым хозяином и наконец определенно позвал, по своему обыкновению: «Песик! Песик!» И вот тогда вышел хозяин самый неожиданный, Антоныч, увидев его, онемел и не хотел верить своим глазам: на зов его вышел старый Хромко!
Но это было только началом чудес. Когда Хромко взял кусок и понес его, из-за куста можжевельника вышла Игрунья! Как же это было понять: молодая, резвая Игрунья, которую видели спаренной с белым, теперь живет со старым, беззубым Хромко? На счастье, как бы что-то предвидя подобное, Антоныч только что застрелил чайку, очень любимую песцами, и, конечно, сейчас же дал ее своей любимице Игрунье. Пока она занималась чайкой, зверовод, конечно, заглянул по ту сторону кустика можжевельника, откуда вышла Игрунья. Он не ошибся, гнездо было тут: возле кустика у норы, под защитой большого камня, прямо на земле лежали щенята. Обыкновенно самка приносит детей возле норы и потом уносит в нору. Но, бывает, изредка оставляет и возле норы, если есть надежная защита от бури. Осторожно, тростью раздвигая маленьких, Антоныч сосчитал их раз и два и записал себе в книжку, что щенков родилось у Игруньи семь.
На пустынном каменном полярном острове в полночь при красном свете мертвого солнца черные скалы принимают черты человеческих лиц. Вот из скал огромная женщина с грудью, полной молока, склоняется к ребенку, протянувшему к ней ручки из тихой воды океана. Как тут не задуматься: ведь океан – родина всего живого и земля – кормилица… И как же вздрогнешь, когда этот ребеночек вдруг шевельнется и сложится в нем из неясного настоящая усатая человеческая голова! И потом, когда круглая усатая i олова морского зайца скроется под водой, сколько смотришь потом на разноцветные перекаты струек воды, возбужденных исчезнувшим зверем. Скала же все еще кажется матерью и долго остается, пока вдруг не шевельнется чайка в птичьем базаре и от этого почему-то исчезнет фигура, и так, что и рад бы ее опять увидеть, а нет…
Непрерывный лай дикой голубой собачки в черных горах при свете полуночного солнца долетал до самого Могильного и очень тревожил Антоныча, он не мог уснуть только от этого, а казалось, будто старые раны открылись и ныли. Слушая часами этот лай, он наконец окончательно убедился, что в стороне охранного домика, у Масленникова ручья, у песцов случилась большая беда. Он уже решился идти туда на помощь, но вдруг с нижней террасы на среднюю вышел голубой песец и, выбрав себе удобный камень, свернулся на нем плотным комком.
По привычке непременно все себе предположительно объяснить, Антоныч подумал: «Наверное, что-то здоровое себе раздобыл, наелся очень сильно и лег».
Через некоторое время на верхней террасе показался другой песец, спящий это учуял, поднял голову.
«Вероятно, это хозяин лежит, – подумал Антоныч, – а тот браконьер, хозяин сейчас задаст ему трепку».
Но хозяин, осмотрев браконьера, снова уложил свою голову тар;, чтобы нос был в особенном тепле.
Осторожно спустившись на среднюю террасу, верхний песец стал на тот след, которым прошел перед этим спящий, внимательно понюхал его. Ничего не было сказано в этом следе. И песец спустился к тому самому месту, где из скал женщина опускала грудь, полную молока, в океан.
Лай со стороны охранного домика продолжался непрерывно.
Антоныч вынул журнал и при красном свете незаходящего солнца в самую полночь записал себе в журнал объяснение виденной сцены: «Не остается сомнения в том, что у песцов есть неразделенная общая площадь, где они без помехи друг другу могут ходить и охотиться, иначе почему же проснувшийся песец не стал защищать свое владение и тот пришелец тоже, если он был настоящим хозяином, не прогнал спящего. Очевидно, эта площадь у Могильного неделеная, может быть, и потому, что тут, в этой местности, невозможно построить нору».
Записав это, Антоныч, очень встревоженный непрерывным лаем, медленно двинулся к местам коренных гнездований песцов.
Солнце, как это бывает за Полярным кругом, вроде как бы дрогнуло и стало мало-помалу, играя, все больше и больше белеть. Так летом рассветает на Крайнем Севере. В это время Антоныч настолько приблизился к охранному домику, что почти мог определить место, где лаял зверь: по всей вероятности, это было на четвертом участке, где жила Игрунья с Хромко.
Череа короткое время Антоныч действительно увидел против солнца черносилуэтную фигуру Хромко на скале и подошел к нему близко. Игруньи же возле не было, и стало понятным, что Хромко звал, конечно, Игрунью.
– Песик! Песик! – стал звать Игрунью сам Антоныч.
Хромко замолчал.
Игрунья не приходила, и опять жалобно залаял Хромко.
«Но как же теперь щенята живут?» – вспомнил Антоныч и взглянул под известный куст можжевельника.
Щенята лежали все мертвые, холодные. Тогда все стало понятно: отец не мог дать им молока и, возможно, надеялся вызвать мать и оживить маленьких. Зверовод сосчитал маленьких, их теперь было Fie семь, а только шесть. Куда же делся седьмой?
Если положить, что мать погибла под пахтой от обвала или оттого, что молоко бросилось в голову, то как же мог пропасть седьмой щенок? Быть может, она бросила гнездо потому, что у нее не хватало молока, и одного живого унесла с собой? Или, быть может, щенок умер еще при ней и тут же где-нибудь она его и зарыла?
Антоныч тросточкой отстранил мертвых и вдруг под ними увидел много кусочков оленины, той самой, которую кладет он в кормушки для подкормки зверей. Теперь звероводу было уже нетрудно обо всем догадаться. Хромко не лаял в то время, когда Игрунья куда-то пропала, он слушал, когда маленькие без молока начали скулить, и таскал им из кормушки кусок за куском оленину. Вероятно, эти кусочки побуждали щенят тянуться к сосцам, а когда они шевелились, кусочки непременно должны были проваливаться под них, и там внизу накопилось их немало, под щенками куски в несколько рядов лежали. И лишь когда щенки замолчали, перестали шевелиться и совершенно застыли, Хромко бросил таскать оленину и заревел.
Выслушав этот роман из жизни голубых песцов, мы стали к звероводу Ивану Антонычу совершенно в такое же положение, как подразумеваемые читатели к автору, который написал роман: мы забросали его вопросами о дальнейшей судьбе действующих лиц, и он тоже, как автор настоящего человеческого романа, должен был дать нам эпилог.
Прежде всего мы спросили, не получилось ли каких-нибудь сведений о гибели Игруньи.
– Кто вам сказал, что она погибла, – ответил Антоныч, – ее нашли вскоре на третьем участке, там она жила с Дураком.
Изумленные такой развязкой, мы спросили зверовода, как он понимает, почему Игрунья бросила старика Хромко и какая цель у нее была идти к Дураку, если время гона прошло, и куда делась Ласковая, которая жила с Дураком.
– Как могу я знать? – ответил Антоныч. – Я могу только догадываться, что у Игруньи не хватало молока, щенята передохли, и она могла это поставить в вину самцу: плохо достает пищу.
– А куда делся седьмой?
– Вероятно, он первым погиб и она его закопала.
– Но зачем же ей надо было идти к Дураку?
– Она могла пойти к Дураку, потому что период парной жизни еще не кончился, самцу надо для кого-то таскать пищу, самке нужно норовое укрытие и много такого…
– А Ласковая?
– В брачный период ее не нашли, но зимой она явилась в стайке у самого становища. Для нас остается совсем неизвестным, почему именно расстроилась ее жизнь с Дураком.
Под конец мы вспомнили про Глухую, и тут Антоныч оживился. Глухую нашли у белых, и удалось дознаться, что она дала потомство. И это уже окончательно проливает свет на все поведение Хромко. Во время гона, по всей вероятности, Хромко и Глухая вместе вышли в сторону Могильного. Там на общем участке, где нельзя нор копать, на общих тропах они благополучно охотились и доставали себе какое-то пропитание. Быть может, время от времени они пробовали неудачно спариться и, так увлекаясь, шли все дальше и дальше кругом острова, пока не достигли участков белых. Какой-то сильный самец отбил Глухую и загнал Хромко в пароход, где он и был обнаружен стражником. Бесприютный старик, мало-помалу совершив круг берегом моря, подошел к кормушке у Масленникова ручья и тут встретил вдовую Игрунью.
Меня поразил рассказ Антоныча своей человечностью. Я прослушал его несколько раз, записал названия зверей, порядок событий. Мое внимание было такой большой наградой Антонычу, что он доставил мне скоро свой журнал с записями других наблюдений, по которым я мог проверить точность рассказа. После этого я так укрепился в правдивости песцовых событий на Кильдине. что уже но только не боялся биологов, а напротив, искал встречи с настоящим ученым, который мог бы дать научное объяснение этому полярному роману песцов, столь похожему на любовь человека. Я встретил такого ученого только в Москве, подробно все рассказал ему и показал журнальные записи. Выслушав все молча, очень внимательно, биолог сказал:
– Для меня тут нет ничего нового и непонятного: это гравидан.
И объяснил мне всю эту «любовь на полярном острове» из своих опытов над лисицами, которые, в сущности, те же самые песцы.
Так бывает у лисиц, самец, имевший короткую лисью любовь, скоро становится равнодушным к самке, но недели за три до родов вдруг снова ухаживает, как перед спариванием, и потом вскоре делается чрезвычайно заботливым отцом. Биолог не может удовлетвориться тем чувством отцовства, которое в человеческой жизни является присущим как бы самой природе человека и не разложимым дальше на составные части. Биолог пытливо ищет причину возрождения любви у самца перед родами и находит, что у беременной самки в моче перед родами выделяется особое вещество гравидан, которое так действует на самца, что он становится отцом и принимает на себя все обязанности по уходу за самкой-матерью и ее детьми.
Так вот, перенеся этот известный опыт с лисицами на очень схожих с ними песцов, вспомнив, что наблюдатели видели Игрунью повязанной с белым, биолог сделал себе такое предположительное объяснение. Белый самец, муж Игруньи, во время охоты под пахтой был раздавлен обвалом террасы и засыпан камнями. Это случилось не ранее трех недель до родов, когда у самки выделяется гравидан, возбуждающий чувство отцовства не только у своего, но и у всякого свободного отца. А Хромко в это время был встречен на пароходе и пустился на запад, загибая берегом к Масленникову ручью. Возможно, на охоте за мышами, куликами или просто у Пресного ручья за питьем он встретился с Игруньей-вдовой, и брак был заключен на основе чисто хозяйственной необходимости, возникшей под действием прерванного тока энергии пола.
Грустно было мне, искателю и, как я мню себя в хорошие минуты, строителю личного начала в природе, все эти живые лица зверей рассказа сердечного Антоныча растворить и потерять в механической силе какого то гравидана. То же самое ведь и люди подчинены силе того же гравидана, но почему людей мы стремимся различить, а у зверей отнимаем лицо и всю жизнь их стремимся свести к действию слепой силы Мне вскоре посчастливилось встретиться с другим известным биологом, рассказать о песцах и заключить рассказ гравиданом. Этот биолог жестоко напал на первого и назвал его понимание устаревшим, механистическим. И когда я снова встретил первого и передал ему разговор со вторым, он стал издеваться над ним и назвал виталистом.
В следующих поисках верного понимания не раз я позвидовал Антонычу, которому контузило голову и сердце у него осталось почти единственным средством понимания жизни зверей
Берендеева чаща*
Поручение наркомата
Сколько раз, бывало, на тяге стоишь под березкой, и над тобой капает сок из обломленного сучка, и чувствуешь всем своим существом, что живая, да, человечески, а не ботанически живая эта березка. В ранневесеннее время сучки еще голые, видна вся жизнь дерева, разглядываешь, как слагались сучки, догадываешься о чем-то, но больше досадно становится на себя, что мало знаешь о жизни дерева. А рядом с деревьями деревня, и тоже в ней истории нет никакой, и, кроме смутной памяти стариков, ничего нет в деревне этой достоверного о прошлом людей, проживших на месте лет сто, двести, триста и еще много больше. Почти нет следов истории человека в этой деревне. Напротив, если бы срезать березку, то по кругам можно бы сосчитать и сколько лет она росла, и узнать по тем же кругам, в каком году березке жилось хорошо, в каком плохо, в каком она голодала, и по голодному году березки догадаться о голодном годе людей этой деревни. Как мне хотелось тогда, стоя на тяге под березкой в лесу, научиться понимать жизнь какого-нибудь участка леса, чтобы он, долголетний, рассказал бы мне о судьбе людей с такой коротенькой жизнью и памятью. Может быть, это заветное мое желание чисто поэтического смысла, смутно волнующее, сохраняется с детства от чтения романа Мельникова «В лесах»? Пусть даже только через посредство этого поэта леса, а не в собственной природе моей, родилось это стремление к лесу, теперь уже все равно: в кровь мою вошло чувство жизни дерева, и если надо мной из пораненного сучка березки весной капает сок, то березка мне эта не ботанически живое существо, а человечески живая березка.
Но есть же деревья и по тысяче лет живут, и по две! И я думал об этих деревьях, стоя под березкой, что для понимания жизни леса прежде всего надо научиться чувствовать у деревьев столетия, как наши годы, и только тогда можно понять движение и борьбу у деревьев, как у людей. Если бы этим живо могли бы мы проникнуться, то не говорили бы мы так часто, что деревья стоят. Если бы мы могли научиться их долгое время переводить на наше короткое[23], то жизнь в лесу представилась бы нам, как жизнь людей в большом городе и даже прямо в сражении. Мало того, у деревьев же нет чувства своей личности, каждое дерево ничего себе не оставляет и все свое в семени передает другому дереву, а то другое – третьему, и так березки, сосны, ели передвигаются по земле, создавая вместе с памятниками человеческой культуры то, что мы называем ландшафтом. Множество лет, каждую весну мне хотелось проникнуться этим движением дерева по земле, но весна проходит за весной, и, кроме слабых попыток, сделать мне ничего не удавалось.
Перед наступлением этой последней весны, тридцать пятого, мне предложили взять для себя тему «Лес» с тем, что, описывая лесное дело, я буду способствовать привлечению интереса общества к лесной промышленности. Очень возможно, что смутное волнение при одном слове «лес» имело мало общего с делом заготовки леса «круглого», но ведь спелые леса надо рубить, не отдавать же их червям и пожарам. И если уж браться за лес, то надо весь лес понять…
Когда я пришел в наркомат для разговора об этом, там наверху было предвесеннее заседание лоцманов, ведущих плоты по главным рекам страны. Лесопромышленная газета, узнав о моем решении заняться лесом, вызвала с этого заседания самого знаменитого лоцмана, чтобы снять его вместе со мной.
Бородатый лоцман, пожилой человек, скоро пришел и к вопросу фотографироваться с писателем отнесся, как к делу чисто государственному. В сущности, я тоже не понимал цели этого чудного снимания с лоцманом, но не упираться же в пустоту и ссориться из-за пустяков. Пока фотограф устраивался, я узнал от лоцмана, что вот уже более тридцати лет он водит лес по Ветлуге и не было у него ни разу с плотами беды. Я напомнил ему про староверов на Ветлуге, которых я давно описывал, про паломников Светлого озера у невидимого града Китежа. Все это, и мое собственное пережитое в лесах, и описанное у Мельникова вернулось мне на минуту, как бы в дыхании прошлого, всеми теперь забываемого и большинству совсем непонятного. Мне еще вспомнились замечательные страницы историка Ключевского о лесс, с которым северный крестьянин боролся, как с бесом. И лоцман, сплавляющий лес столько уж лет, стал цельно понятным во всем историческом прошлом нашего крестьянина.
«И надо, надо сплавлять! – думал я. – Не отдавать же дорогой урожай червям и пожарам».
После сплавного заседания мне удалось побеседовать е одним из работников наркомата, который старался внушить мне мысль, что спасение лесной промышленности, действительно невозможно отставшей, заключается в механизации или внедрении в лесную промышленность индустриальных методов. Благодаря старому опыту своих художественных «исследований», я нисколько не смущался своим невежеством в лесной промышленности, напротив, я был уверен, что неведомый мир в моем опыте легче постигнется, чем привычный, я знал, что моя страстная любовь к лесу и при незнании промышленности поможет мне быстро во всем разобраться, и, – кто знает? – может быть, я увижу такое, чего другие, стоящие к этому делу вплотную, не видят. Работник наркомата в своем прошлом был сам лоцманом и тоже, как лоцман, с которым я снимался, мое желание ознакомиться с лесным делом принял как дело государственное и выдал мне такую бумагу:
«По поручению Наркомата лесной промышленности писатель Михаил Михайлович Пришвин посвящает 1935 год работе над лесной тематикой. Наркомат придает крупное культурное значение этой работе, считая, что она будет способствовать популяризации в широких массах рабочих и колхозных читателей и советской интеллигенции задач социалистической лесной промышленности и в первую очередь внедрения индустриальных методов работы (механизации всех процессов)».
Машка
Всякие мои исследования начинаются от себя самого, я тему свою, как пустую бадью, опускаю в свой колодец, и, если бадья пустая, бросаю эту тему как мертвую. А если из колодца приходит вода, то я спящий материал спрыскиваю этой живой водой и тогда отчего-то забываю себя. Это мое «творчество» очень простое, и, раз уж Наркомат лесной промышленности обращается с просьбой, наверное, полезное, хотя я сам не думаю о пользе, мне надо только бы поближе подойти к материалу и получше его отработать. До того просто это творчество, что я при всяком случае его раскрываю: все дело, по-моему, в том, чтобы наполнить бадью и удержаться от соблазна работать над пустыми сосудами.
Искусство слова, конечно, дальше всего от механизации, но, к величайшему своему удивлению, опустив бадью в свой колодец, я убедился, что бадья пришла не пустая: механизация в личном моем деле началась с приобретения пишущей машинки «Корона».
Как сейчас это помню: мне все думалось, что машинка непременно наложит свою машинную печать на мои сочинения, и я буду писать как бы не совсем сам. Пока я писал одним пальцем, это суеверие во мне держалось и крепло, но мало-помалу машинкой я овладел. Теперь, через пять-шесть лет, «Корона» в футляре стоит у меня под столом рядом с корзиной для ненужных бумаг. Когда мне надо писать, я поднимаю ее, вынимаю из футляра, ставлю на стол, работаю, а когда кончаю, она опять у меня отправляется под стол, на свое место, и опять я на столе, а машинка моя под столом. Мне теперь даже смешно и вспомнить, что я, писатель, когда-то боялся пишущей машинки! То же самое произошло и с автомобилем. В трудное время, не желая заниматься литературной халтурой, держал я корову Машку, и на огороде для нее мы с женой сажали кормовую свеклу. Когда жизнь улучшилась, время перешло на быстрое и дорогое, возиться с коровой стало невыгодно, мы продали Машку и в сарай, где она была, поставили автомобиль. В память нашей доброй кормилицы, машину свою мы назвали тоже Машкой и обращались с ней по привычке иногда тоже, как с живым существом.
– Ну же, посторонись, Маша! – часто вырывалось у жены, когда она, обмывая машину, не могла достать тряпкой какую-нибудь часть.
– Да ну же! – скажешь сам и приналяжешь.
И вдруг опомнимся: эту Машку не сдвинешь, в ней сто пудов, разве только без малого.
Мало-помалу мы с сыном Петей сами научились ухаживать за механизмом Машки и ездить на ней по делам и на охоту. Оказалось, по хорошей дороге ездить на машках очень просто, но трудновато ухаживать за ними и грязновато; пожалуй, ухаживая за этой Машкой, грязи больше хлебнешь, чем за коровой. Но самое трудное и опасное дело – это ездить в лесах, где бывает охота. Никакой городской шофер не проедет там, где мы с Петей проходили тяжелую школу езды.
Не раз, бывало, мы проваливались на живых мостиках, сползая в канавы, и даже раз чуть не утонули вместе со своей Машкой в торфяном болоте. Во всех этих случаях спасителем нашим был маленький, величиной в какие-нибудь тридцать сантиметров, чугунный столбик. В столбике этом сбоку есть дырочка, в нее вставляется ручка, и если за эту ручку крутить, из столбика выдвигается винт. Десятилетний мальчик свободно может крутить ручкой домкрата, а сила винта получается такая, что он, если только есть о что опереться, свободно поднимает стопудовую Машку.
Случалось, провалимся на мостике и сейчас же спешим набрать побольше камней, если же нет камней, живо рубим дерево и готовим плашки. Поднимем колесо домкратом, подведем под него плашку или камень подложим, поставим на этот же камень домкрат и еще поднимем, плашка на плашку, камень на камень, выше, выше… И когда Машка будет стоять на столбах, мы собираем, закрепляем под ней мостик, – и сами проедем, да еще и люди долго будут ездить и нас благодарить. «Спасибо, – скажут, – Михал Михалычу, опять мостик нам починил, золотые руки».
А при чем тут Михал Михалыч? Три пуда и то с трудом поднимает старый Михал Михалыч. Все сделал домкрат, этот сказочный богатырь, способный лежать в тесном ящике у нас под сиденьем, ничего не ест, не просит и поднимает зараз сотни пудов.
Года через три этот роман мой с Машкой окончился супружеской жизнью с ней, теперь я не думаю о ней отдельно от себя, как то же было и с «Короной», к уходу за ней я привык и к ее работе тоже привык: без этой машины жить бы мне стало плоховато. И не важно, что, съездив утром за пятьдесят километров, я к обеду могу вернуться с дупелями и сохранить остальной день для умственной работы. Важно, что с машиной я делаюсь, несмотря ни на какие годы свои, современным человеком и о тех же доисторических дупелях, о первобытных лесах могу интересно писать для читателя в наше время.
Так вот я теперь возвращаюсь к этой теме лесного Наркомата о лесной механизации: опустив бадью в свой колодец, я радостно уверился, что бадья пришла не пустая: в моем личном опыте механизация сыграла очень хорошую роль.
Весенняя тоска, свойственная некоторым людям, имеющим дар интимной связи с природой, бывает оттого, что в природе весной все приходит в движение, и если ты почему-либо не можешь вместе со всеми лететь, то вот и начинается это мучительное, доводящее до тошноты «желание желаний». Но если ты в нужный момент сумел включить свою шестерню в общее движение, то будешь переживать необычайную радость жизни.
Замечено у меня одно глухариное лесное местечко в районе Переславля-Залесского. Там, среди сфагновых болот, есть сухие гривы, боровые места, куда весной на ток слетаются птицы, а после разбредаются на необозримых ягодниках, покрытых невысокими редкими болотными соснами. С помощью домкрата, лопаты, топора, цепей или веревок на колесах мы ухитряемся пробираться на нашей Машке даже и на такие гривы: «форд», при умении владеть топором и домкратом, проходит почти везде. Мне захотелось перед своим путешествием на места северного сплава сначала сосредоточиться на лесе вблизи нас, прочитать в самом лесу несколько замечательных книг, сочетая это книжное изучение леса с охотой в лесу, помогающей мне проникать в такие места, куда без охоты ни за что не пойдешь и никакая любознательность не загонит.
Дорога до Переславля от Загорска – одна из самых красивых в сердце страны, и все лесами: на высокий холм взлетаем мы на третьей скорости, с холма выжимаем сцепление и катимся, экономя бензин, и так почти всю дорогу с холма на холм.
Когда привыкнешь, то вертеть баранкой так просто, что при нормальной скорости в сорок километров можно думать, о чем только тебе угодно. Кажется, нигде и никогда нельзя понять так хорошо защитное значение леса в охране воды, как ранней весной в водополье на этой дороге. Пока едешь лесом, то не только но сторонам в лесу видишь снег, но даже и шоссе от него еще совсем мокрое. Но вот редеют деревья, вот показались поля, быть может, еще в древнейшие времена колонизации средней России отбитые человеком у леса, и всюду «сорочье царство», черные полоски земли, пробеленные с севера, и так все – с севера белое, с юга черное. В мелком лесу шоссе такое сухое, – хоть в бабки играй, весело мчится ручей, превращенный в реку, и по ледяному заберегу у самой воды, мелькая ножками, черным галстуком, раскачивая хвостом, бежит трясогузка, самая веселая, бойкая весенняя птица.
Но только проехали поля, – и опять мокрое шоссе, и в лесу глубокий, хотя, наверно, и рыхлый снег. Мы заметили там на снегу след человека, старый, сильно расплывшийся большой след, и подумали: «А может быть, человек этот зимой умер, и от него до весны остался только этот след?»
Нет человека, но след его в лесу сохраняется. Придет время, и этот след совсем расплывется и мало-помалу вовсе исчезнет…
Подрумянили сосны
Мы устроились в Усольском леспромхозе, среди высоких сосен в конце села. Перед домом вышка для наблюдений над лесными пожарами, высотой в тридцать два метра. В комарное время жена лесовода, Екатерина Павловна, забирается туда книжку читать: там, высоко над лесами, вовсе нет комаров. Мы туда прежде всего и забрались. Солнце было, но и туман не совсем разошелся. Смутно виднелся Переславль, Плещееве озеро с одной стороны, и с другой – Семино и река Векса, соединяющая оба озера. И все это, озера, и речки, и леспромхоз, и строительство на торфе, покоилось в море лесов, уходившем грядами голубыми и все бледней и бледней к горизонту. Такие наши подмосковные леса, и лучше их, как я убедился, много изъездив в свое время, нет ничего. Мне нравится в них бесконечное разнообразие: почва неспокойная, волнистая, и леса до точности отвечают всем этим волнениям земли. Холмики для подъема не очень трудные, болота, кроме торфяников, тяжелые, но не страшные. И сколько полян и всяких некосей с чудесными березками, цветы разные и обильные. По мне, так лучше нет ничего!
Десять лет тому назад, – наших десять советских лет! – вообразив себя сказочным царем Берендеем, я исходил с ружьем и записной книжкой весь этот край, весь, – куда только глаз хватит с этой вышки, – я обошел и описал изо дня в день эту жизнь свою в соответствии с движением нашей планеты в известной теперь книжке «Родники Берендея». Мне было так хорошо тогда за этим делом, что только суровая сила наших общественных переживаний могла разлучить меня с Берендеевым царством. У Плещеева озера были моменты радости столь сильной, что она переходила в острое горе о людях, не умеющих обществом создавать себе праздников веселых, подобных остаткам культа Ярилы, бога природы, какие застал я тогда еще в этом краю. Но вот прошло с тех пор десять лет, много тысяч людей прочитали мою книжку «Родники Берендея», и сотни из них стали моими заочными друзьями, переживая теперь из года в год со мною праздник весны. Так вот, создав этих друзей-читателей, я могу считать, что действительно сумел населить эти леса, эти озера своими людьми. И я радовался по-своему этому, как, бывает, радуешься, вернувшись из большого общества в тесный кружок людей, действительно не по славе твоей, а по любви, по родственному чувству тебе преданных. Не все же болеть душой, можно и порадоваться, и можно даже похвалиться своим добром и гостей созвать, конечно, если есть что подать. Так я радовался сильно, оглядывая со всех сторон край Берендея, вспоминая, как мы с покойным теперь, знаменитым археологом Спицыным тут на Вексе раскапывали «Польцо», стоянку первобытного человека.
– Позвольте, Дмитрий Дмитриевич, – спросил я Завалишина, спеца по лесозаготовкам, – как же так, вон там по Вексе были знаменитые кручи и сосны на них, любимое место отдыха переславских тружеников. Я что-то не вижу теперь ни сосен этих, ни круч…
– Срубили.
– Как?!
Я чуть не вскрикнул от боли и от того гадливого чувства, с которым приходится хватать руку вора, залезшего тебе в карман.
Мы быстро спускаемся с вышки. Сталкиваем с берега лодку, плывем – и вот правда: вот в реку всей бородой спускается корень огромной, великолепной сосны, мне хорошо знакомой: теперь от нее только этот корень да пень, и дальше – все кручи голые, весь правый берег покрыт штабелями того самого леса, который и речку эту замечательную защищал, и служил источником здоровья множества людей в летнее время. Вот он теперь весь лежит: швырок, долготье, рудсырье, стройпиловочник, телеграфный шкуреный лес. И вот там уже, возле нашего Польца, стоянки первобытного человека, где должен бы теперь непременно стоять какой-нибудь скромный памятник Спицыну, живые, настоящие первобытные люди просто кольями и по кольям скатывают круглый лес в воду и так начинают молевой сплав этой весны. Завидев нас, первобытные люди подходят к нам, помогают вытащить лодку и просят газету. Не верится. Вид-то у них уж очень первобытен.
– Неужели читать!
– Покурить!
Странно звучит это: «курить газету»… Но закурили, и, отложив на время расследование преступления, на досуге я им рассказываю о стоянке первобытного человека и о наших раскопках на этом Польце.
– Вот кроты еще не заработали, – говорил я, оглядывая Польцо, только вышедшее из-под снега, – а то ведь это первые археологи: они выбрасывают из-под земли наверх черепки первобытных сосудов, кремневые наконечники стрел.
Один рабочий с орлиным носом и маленькими глазками был похож на атамана разбойников, другой, с серой сплетенной бородой, был старик. Третий, молодой красивый парень, забросал нас вопросами о первобытном человеке, о климате и о движении земли с собственными личными догадками. Подчас было жутковато от таких вопросов, приходило в голову, что этот человек или все знает сам гораздо лучше и, обнаруживая наше невежество, издевается, или же верит в науку чисто, как в бога народного, в этого дедушку с бородой, и так, что если уж этот дедушка дает какой-нибудь закон природе, то от него не может быть никакого отклонения. Я постарался растолковать ему, что вовсе нет и не может быть такого закона, что природа тоже, как и люди, вся живая насквозь и живет так же неровно, как и мы.
– Понимаю! – воскликнул он радостно, как бы насыщенный благодарностью за чудесные слова.
– Что ты понимаешь, чему ты обрадовался?
– Что нет законов! – воскликнул он, торжествуя.
Старик угрюмо сказал:
– Вот дурак, чему радуется!
– Именно о законах хотел я сказать, – настойчиво стал я доказывать, – именно исключения должны сопровождать каждый закон, вот что я хотел сказать: законы есть, но живые…
– Ты-то свое хотел, понимаю, – ответил простецкий анархист, – да я слышу, что земля не подчиняется, и на себя перевел: если сама земля, то и я могу…
– Из раскулаченных элементов, – шепотом сообщил мне Дмитрий Дмитрия, – с торфопредприятия: болото – проходной двор.
И так оно оказалось: парень был из каких-то беглых.
– А вы-то откуда и зачем тут ходите? – спросил он меня.
Я ответил, что мне поручено наблюдать лесозаготовку с целью механизации ее приемов.
– Это против человека, – сказал анархист, – все механизируете, и живого человека на земле скоро совсем не останется.
– Человека нельзя механизировать, – ответил атаман разбойников, – даже кота нельзя.
И в тысячный раз мне пришлось услыхать этот настоящий народный крестьянский рассказ о том, как кота приучили тарелки на стол подавать, и раз он мышь увидал… И вывод из этого тот, что природа науку одолевает. Обычный вывод. А теперь это к тому, что, значит, нельзя механизировать человека.
– Да кто ж этого хочет! – воскликнул я. – Напротив, мы хотим овладеть машиной, значит, сделаться сильнее, свободнее…
Я не успел им досказать: вдруг в молнии ясного сознания увидел я этого простецкого «анархиста» сквозь весь народ в его прошлом, понял, почему он боится закона и бегает от него, и когда приходит закон – он, по-рабски его представляющий, непременно и должен сделаться его рабом. При свете той же самой молнии сознания, вовсе не зная фактов, ясно понял я, что вот именно такой «анархист», схваченный силой не сознаваемого им «закона», превратился в слепого исполнителя и погубил переславские кручи.
И так просто, после того как ключ был подобран, открылось мне и содержание этого ящика: правая сторона Вексы должна была отойти торфяному предприятию Александровского бумажного треста, а лесозаготовщики, чтобы не дать тресту попользоваться лесом, передавая землю, быстрехонько смахнули его в свою пользу. Где им, когда им, этим бывшим простонародным русским анархистам, слепым слугам «закона», возвыситься до живого закона с необходимыми исключениями, с нервным трепетом жизни, как сама наша планета живет, меняясь ежедневно в лице, да и так еще, что никогда день на день не приходится, и нет на свете «пары дней», как нет тоже пары Иванов.
– И ведь только через двести лет эта ошибка поправится! – в горе сказал я, – и снова вырастут сосны на кручах.
– Если посеют, – отозвался мне Завалишин, – да нет… не посеют.
Подумав, я сказал еще:
– А хорошенько разобраться во всем, наверно, все сводится тоже и к личным счетам.
– Личные счеты, – вздохнул Завалишин, – и вылились в такую некрасивую форму.
И обратил мое внимание на сосны этого, левого, берега Вексы, где мы теперь вели разговор. На каждом стволе был довольно широкий круг от расчистки коры: красный круг, это значит подрумянили сосны с целью подсочки, через некоторое время на этом румяном месте сделают усы, под усами подвесят стаканчики, и сок будет стекать, и это на смерть, так и называется: подсочка на смерть, после чего деревья будут срублены.
– Но как же это возможно, если рядом тракт, и когда срубят сосны, тракт будет засыпаться песком; есть специальный закон, охраняющий деревья возле дорог…
Они не думали о большом законе, охраняющем всесторонне жизнь человека, законом считали они распоряжения своего начальника, ему подчинялись, как механизированный кот автоматически подчиняется, пока не увидит свою мышку.
В этой «механизации» оказалась засасывающая сила. В бору, где столько я пережил, теперь пели зяблики, и голоса их, как это всегда бывает в борах, раздавались сильно преувеличенно и непонятно. Под звуки этих зябликов я уже начал было кому-то прощать, вспоминать пословицы вроде того, что плетью обуха не перешибешь. Тогда желна, черная птица с огненной головой, закричала по-своему на два голоса: один – как тревожный сигнал, другой – как стон в смертельной тоске. Я схватился, выбрал себе местечко посуше и под песни зябликов, обрываемых тревожным стоном желны, стал писать в газету обвинительный акт, основанный на том, что, хотя дерево и не чувствует боли, но человек иногда страдает за дерево так, что удары по дереву ложатся на самого человека.
Я спас сосны левого берега Вексы, но об этом после будет особый рассказ.
Скатка бревен
Ветер холодный, в лесах уйма снегу, в болотах вода. Все бросились куда-то с вершами. Старик на реке за десять рублей, собранных тут же у публики, разделся, влез в ледяную воду, там расчесал себе волосы, вылез весь красный, с загоревшимся телом и выпил пол-литра вина. Второй раз ему собрали десять рублей удивленные граждане, и он снова разделся, точно так же расчесал волосы, выпил пол-литра. В третий раз ему собрали только восемь рублей, но он за восемь из самолюбия лезть отказался. За эти деньги согласился человек с огромной бородой обриться. С хохотом его обрили и отправили к жене на постой. Говорят, она не узнала и разговаривала с ним как с чужим.
На реке скатка бревен, и моль густо плывет. Бревно с высокого штабеля с шумом падает в воду, часто при этом стукая о другое бревно. Этот звук я потом слушал из бора, о котором написал и отправил в «Известия» статью. Бор шумел, как у Короленки, вечным шумом, и то, что вдали падали бревна, стукая друг о друга, вместе с вечным шумом вершин напоминало прибой: он тоже шумит и стучит придонными камнями.
Смотрел у плотины кошель. У озера лес собирается в запонь. Осталось на озере всего только около двухсот метров льда, который будут разбивать, и потом, выждав поветерь, лес из запони выпустят в озеро, и доберется до Нерли и по ней поплывет в Волгу.
Приехал из области один крупный начальник. Услыхав от меня о гибели переславских круч и подсочке на смерть придорожного леса, он возмутился не менее моего, но лесные организации не обвинял: им до смерти хочется рубить и рубить. И в государстве так нужна древесина. Люди малокультурны. С них и спрашивать нечего. Истинными же виновниками он считает местные организации: город тонет в грязи, все древности гибнут, в собор XII века хотят картошку ссыпать. Я пытался объяснить это тем, что охрана древностей и старины в таких исторических городах, как Переславль, раньше была в руках людей, работавших между старыми вехами, а сменившие их советские люди удовлетворились внешней победой и почили на лаврах. К тому же, сохранять и обновлять старые города, может быть, даже труднее, чем создавать новые.
Вечер был солнечный. До ночи на берегу Вексы смотрели на молевой сплав. Дома при лампе читали с Петей вслух «Учение о лесе» Морозова. Мелькало два плана; один пешеходный: пересмотреть с точки зрения леса весь Берендеев край, включив в него новый строящийся канал; другой план: ехать лесами до Крайнего Севера, до тундр, и понять северный ландшафт в широком движении.
Десятники
В леспромхозе – два специалиста по лесу; один лесохозяйственник, по-старому лесовод, предназначенный для дел лесовозобновления, другой лесозаготовитель; один насаждает, другой рубит, мы будем их называть сокращенно: лесовод и лесоруб.
В нашем морально-поэтическом сознании мы невольно предпочитаем лесовода лесорубу, нам кажется, что трудно лес разводить, а рубить ничего не стоит. Специалисты мне рассказали, что это совсем неверное представление. Северные леса быстро старятся, двести – триста лет – и кончено: после того лес начинает гибнуть сам собой и вовсе пропадает от червя и пожара. Вот хозяину и надо вовремя взять спелый лес без потерь, а это – по словам специалистов – дело едва ли даже не потрудней, чем лесовозобновление. Очень возможно, что специалисты правы и действительно мы не верно себе представляем лесозаготовку, но в районе моего наблюдения перегнули в другую сторону: на лесоразведение не отпускается ни гроша, а все средства идут к лесорубу. Мне показали крупные участки сведенного леса, где уже шестой год напрасно ждут естественного возобновления от сосны. А если бы истратить всего по тридцать рублей на гектар, то здесь бы рос теперь лес. Но в этой зоне эксплуатации леса средств на лесоразведение вовсе не отпускается. В нашем леспромхозе лесовод на положении английского короля: нет в нем никакой хозяйственной силы, и если даже придется лошадь попросить, чтобы в лес поехать, пока хоть мало-мальски не установится дорога для машины, надо обращаться непременно к лесорубу. Так мы и делаем, и лесоруб не только дает охотно лошадь, но сам едет с нами на своем молодом гнедом жеребце. И еще в нашей телеге – колхозник Силыч, а сзади нас сопровождает на своей серой кобыле верхом «английский король».
Утренник хорошо еще крепит рудную дорогу в еловом тяжелом долгомошнике. Проезжаем высокий холм, весь покрытый штабелями невывезенного леса среди неубранных гниющих верхушек, это у лесорубов называется лесным кладбищем. Здесь погибло и гниет, – только на одном кладбище! – около десяти тысяч кубометров. И это у шоссе и почти под Москвой! Встает тяжелый лесной вопрос, и я признаюсь, что вполне ясного ответа о причинах образования этих кладбищ ни от кого еще не мог получить. Ближайшая причина, конечно, ясна: колхозники не вывезли леса, и заготовленные бревна, часто даже не ошкуренные, остались гнить на месте и заражать короедом ближайший здоровый лес. Но почему же колхозники не выполнили своих договоров? Есть кладбища очень старые, покойники лежат тут с тех пор, когда колхозное дело еще только-только началось. Но есть кладбища и позднейшие, есть высокого качества невывезенный лес даже и нынешней зимы. Этот-то лес почему не вывозится?
Стоит только посмотреть в лицевой счет колхозника Силыча – и причина встает как будто совсем ясно; из лицевого счета Силыча видно, что на лесозаготовке он зимой ничего не заработал, и ему не было никакого личного интереса это важное дело выполнять хорошо. Он сам расскажет, что работал спустя рукава, три дня поработает и едет в колхоз – день, оттуда пошлют назад – и еще день прошел. А что если бы взяться по-настоящему, то не десять бы деревень, как теперь, а только три, – и лесу бы ни одного бревна не осталось.
Непосвященный человек подумает, что дело в зарплате, стоит заплатить – и колхозники жадно бросятся в лес. Но нет, денег тоже нельзя бросать зря: экономисты устанавливали зарплату согласно с производительностью. Но почему же колхозник все-таки не вырабатывает нормы и лицевой счет его имеет обыкновенно такой жалкий вид? Ответов у экономистов много: они говорят и о покупательной силе рубля, и о работе кооперативов, и много всего такого, и если от всего только понемногу собрать недостатков, то и получается так, что колхозник в зимней работе своей не заинтересован. Все эти ответы производят на меня такое впечатление, что или экономисты запутались, или меня лесоруб водит за нос, или я совсем не способен что-нибудь понимать в экономике. И вот наконец лесоруб отвечает мне совсем ясно и до крайности просто.
Все дело в десятниках.
Что такое работа десятника? Колхозник приезжает в лес и начинает кроить сортименты. Из такого-то хлыста выходит, положим, высококачественный сортимент «пиловочник», из такого-то – шпальные тюльки и другие. За все эти сортименты колхозник при расчете получит втрое больше, чем за дрова. Но чтобы кроить сортименты, надо уметь, надо думать, рассчитывать и даже рисковать: иной хлыст таит в себе тайную порчу, которую определишь только после того, как истратишь время на его обработку. Гораздо проще пилить дрова, дело это привычное, бездумное. Дали норму в сто дней колхознику – он кончает в срок, а что дровами дешево выходит, так за этим он не стоит, лишь бы поскорее, но вековечной зимней привычке, вернуться домой. Вот тут-то и приходит на помощь десятник, рассказывает, уговаривает, учит, и с помощью его заработок в три раза повышается против обычного, и древесина тоже в значительной мере больше переходит в золото, чем просто в дрова. Давайте же десятников! Но десятники работают только на двадцать пять процентов на производстве, остальные семьдесят пять процентов своего труда десятник отдает на вербовку и вывод рабсилы. И таков обычный и будто бы всюдный в лесопромышленности порочный круг: от десятника зависят производительность труда и нарастание зарплаты, но десятник главным образом занят вербовкой и выводом рабсилы.
Остается последний вопрос: если десятник имеет такое решающее значение для производительности и образования зарплаты, то почему бы десятников, этих редких людей, которых ищут всюду днем с огнем, не оставить на производстве, а для вербовки и вывода рабсилы назначить других людей соответствующей несложному делу квалификации?
Что делать любознательному человеку, если на вопрос его спрошенный специалист пожмет плечами и ничего не ответит или обращается к своей лошади и начинает уговаривать ее поскорей вывозить на свет из темного леса? Остается только предаться размышлению о том, что вот лес – какой же он странный: блуждаешь в нем, пока он растет, а когда срубят, превратят в древесину, то все равно блуждаешь и среди кубометров…
Догадка Силыча
Горячее весеннее солнце растопило утренний мороз, дорога растаяла, телега вмазалась в грязь, жеребец плохо идет, чуя сзади серую кобылу специалиста по разведению леса. Хозяин гнедого жеребчика, не догадываясь о причине его особенного упрямства, дал ему немного отдохнуть, потом стал понукать, уговаривать, опять понукать. И когда жеребец окончательно отказался везти нас, хозяин слез с телеги, выломил палочку и стал очищать ее от сучков.
– Нудь мы сознательные, – сказал Силыч, – так всего три наши ближние деревни вывезли бы лес без всякой трудности!
– Что сознательность, – с горечью воскликнул лесоруб, – мало ли мы вам рассказываем, пишем в газетах, а Васька слушает, да ест. Лес надо вывезти за зиму, а я буду рассчитывать на сознательность.
– Правильно! – согласился Силыч, – сосна, какой-нибудь пустяковый хлыст и то растет двести – триста лет, а сознательность такая, чтобы человек не имел своего интереса в деле, этому надо расти много веков!
– Это не сознательность! – ответил я пожилому Силычу, плохо усваивающему основы колхозного строительства. – Никто не просит у вас, колхозников, сознательности без личного интереса, напротив, всякий колхозник должен стремиться быть зажиточным человеком, значит, найти личный интерес в своем колхозе и во всем советском государстве. Понимаешь ли ты меня?
– Как же не понимаю, да ты хоть только половину интереса устрой, так тебе тут стар и мал бросятся в лес, и бревно в лесу не залежится. Да вот, гляди… Он обратился к лесорубу:
– Чего ты своего молодого жеребца палкой молотишь, дай я то тебе сделаю, что ты и на вожжах его не удержишь: ну-ка взнуздай!
– Знаю, – сказал с досадой лесоруб, – я не дам тебе жеребца под коленки хлестать.
– Зачем под коленки! – засмеялся Силыч.
И попросил лесовода на серой кобыле поехать вперед. Может быть, лесовод понял затею быстрей лесоруба и захотел сыграть с врагом своим злую шутку? Он так быстро хлестнул свою кобылу и проехал вперед, что лесоруб не успел взнуздать жеребца. Как только серая кобыла помчалась вперед, вслед за ней со всей весенней силой страсти, на которую способны только природные самцы, бросился вперед жеребец.
Торжествующий Силыч говорил:
– Вот, видите, уговаривали – не шел, понукали на разные голоса – не шел. И не скажу – дали, а только показали свой интерес, он и полетел сам. Вот так и нам, колхозникам, не надо долго рассказывать про сознательность, а покажи только свой интерес.
Свой интерес
Вначале всем нам было очень весело от слов Силыча, от внезапного быстрого движения, – мы мчались и хохотали. Скоро мы, однако, вспомнили, что невзнузданный жеребец нес нас почем зря на тесной дороге между деревьями, по корням, по лежинам, и мы, если немедленно не остановим коня, неминуемо должны разбиться. Нас так подбрасывало в телеге, что мы еле-еле держались друг за друга и за что попало. И давно уже нам не было смешно, и все-таки эти толчки так делали, что мы неистово хохотали: к сердцу как-то подкатывало и заставляло смеяться. В то же время каждый из нас, когда где-нибудь впереди просвечивал зад серой кобылы, старался крикнуть: остановись, остановись! Но голоса наши не были вовсе слышны за топотом, за грохотом телеги, лесовод не оглядывался и еще сильнее подхлестывал свою верховую кобылу.
Из тяжелого, грязного елового долгомошника нас вынесло в светлый бор, но тут, при переходе одного насаждения в другое, был глубокий песок, насквозь мокрый от растаявшего весеннего снега. Наша безумная телега врезалась в этот глубокий песок, взмыленный жеребец рванулся, еще рванулся, взвился на дыбы и пал на колени, окрашивая кровью белую пену.
Настало время и мне ответить Силычу:
– Вот, дорогой, к чему приводит «свой интерес», если дать ему полную волю.
И тут у нас начался длинный разговор о том, что все бесчисленные лесные и всякие вопросы, на которые разбивается вопрос о надлежащей работе, как реки в море, вливаются в один великий: как эгоистически-смертоносный «свой интерес» капиталистического мира заменить силой творческого сорадования личных жизненных интересов членов нового общества.
Поправились
После солнечного утра пошел теплый окладной дождь, лил весь день и остался туманом. Этот дождь сразу же дал весне ту душу, без которой и нам все было как будто не по себе, и тетерева очень вяло токовали. Трудно стало переносить за тонкой стеной в конторе леспромхоза вечное щелканье счетов, и начали вскрываться неизбежные интриги служащих, приехала хорошенькая практикантка с зелеными глазками… Нет, – лес так лес, и мы решили перебраться каким-нибудь образом в недра лесные.
Как раз тут кстати пришел с Высокого пала лесник, молодой парень Серов Николай. Мы его посадили с собой для помощи в трудных случаях и двинулись на Машке в самые места глухариных охот по невозможной дороге. Мы продвигались не быстрее телеги, но зато мы были в машине, как дома, и везли все с собой, целый дом всяких маленьких удобств, и к тому времени, как подсохнет, готовили себе полную свободу передвижения: вздумал и улетел. Под чудесные звуки токующих косачей мы строили гати, чинили мостики, работали топором, лопатой, домкратом. Трудно было ехать полями, которые еще так недавно вышли из-под снега и очень мазались. В лесу же земля была еще мерзлая, под черепком и на холмах мы бы катили, как по асфальту, если бы не поваленные деревья, преграждавшие путь, не сучья, грозившие снести кузов. И вот до чего прославился каракумский пробег, что Серов, лесник, когда мы с холма, спускались в сырую низину, предупреждал: «Тут вот будет еще небольшой каракумчик».
Холм Высокий пал был последним доступным холмом, дальше в ту сторону моренные холмы были как оазисы среди сфагновых болот.
Дом лесника Серова стоит на брусничнике, на холме, вокруг небольшого разделанного участка – смешанный лес, в нем сейчас поют дрозды, стонет желна, вдали бормочет тетерев. Было время, давно оно прошло, когда я не понимал и дивился всем этим чарующим звукам в весенних лесах. И как я счастлив теперь сознавать, что понимаю теперь песенку любой птицы, следы всех зверушек, много-много знаю вокруг, и от этого знания не только ничего не разрушилось в лесных чарах, но так окрепло, уплотнилось, что слилось со всем лучшим моего природного существа, и как будто я все это навсегда, как дар, получил в свое вечное владение. Пошарив биноклем по елям вдали, я скоро нашел там на одной вершине косача с трепещущими крыльями, от которого и долетали сюда баюкающие звуки.
– Все поет! – воскликнул я в восхищении, – вот и скворец!
– Поют скворцы, – ответила мне хозяйка, измученная женщина, – петь поют, но жить у нас они не живут.
Муж этой женщины, пьяница и деспот, нашел в себе мужество прошлый год покончить с собой и освободить от себя вконец измученную семью. Осторожно я сказал женщине, что, может быть, после этого несчастья им стало не хуже, нелегко, наверно, было жить с пьяницей, ведь все-таки пятеро.
– Поправились! – живо сказала она. – За один только год поправились. Совсем даже неплохо становится жить, но скворцы почему-то все-таки у нас не живут.
Тяга
К вечеру ветер вовсе стих. Приехали из Усолья и лесоруб и лесовод поохотиться на вальдшнепов. Петя отправился с ними, мы же с Николаем пошли па Задние бугры рубить шалаш на тетеревином току. На тропе нашей был то снег, то вода, я старался все замечать, чтобы ночью в предрассветный час самому разыскать свой шалаш. Местом тока была вершина моренного холма, на котором когда-то рос сосновый бор, и теперь после пала от него остался только брусничник и вереск с отдельными березками, молодыми соснами-пионерами и под их покровом растущими елками, так нужными мне для постройки своего шалаша. Конечно, каждый старый охотник все делает по-своему, – так вот и у меня шалаш делается сверху открытым, чтобы можно было, осторожно высунув голову, наблюдать, фотографировать, а иногда и стрелять птиц, пролетающих над шалашом.
Устроив шалаш, я спустился к подножью холма в березовый лес подождать вальдшнепов, но скоро почувствовал, что тяги не будет: певчие дрозды и другие птички вовсе не пели. Недалеко, вероятно, в болотах реки Внучки, неустанно гомонили гнездовые журавли и отдыхающие на перелете гуси. Хорошо было их слушать, но пришлось уйти засветло и, замечая свой путь сюда, набросать у тропы на белом веточек. Не доходя до хутора, я спугнул глухаря.
У наших с вальдшнепами вышло тоже неладно, всего один только и протянул. Холодно или еще рано? Скорее всего, что просто холодно, а то уже в березе началось движение сока, значит, все должно прилететь.
Ужинали все вместе: и оба лесничих, и кучер, и лесник, и женщины. А какие раньше, в мои старинные времена, эти лесничие, особенно из польской шляхты, были важные люди. И в то время, правда, допускалась эта временная, для охоты, спайка господ и слуг, но переплавку всех сделала только революция: нет господства предустановленного, но тем не менее дело жизни само его назначает, и лесничий, выпивая со своим кучеренком и лесником, только глазом моргнет, и они будут ему повиноваться. В далеком детстве своем, которое чудесным образом теперь могу я приблизить к себе и рассматривать, как в микроскоп, нахожу я теперь странные, привитые нам тогда чувства: мне казалось тогда, что если у людей простых отнять закон и бога, то они непременно перестанут слушаться, жить будут так, как им захочется, и убивать – кого вздумается. А вот теперь люди оставили бога, старый закон, но на место этого явилось дело и подчинило себе людей гораздо больше, чем могли подчинить бог и закон.
Выпив небольшую чарочку за начало охотничьего сезона, я попытался лесничим передать мысль мою о законе и деле. Выслушав меня, не помню кто, лесоруб или лесовод, ответил, вздохнув:
– Да, конечно, дело… это очень хорошо, в особенности, если человека взять хорошенько за жабры.
Крестины
Говорят, будто бы на семьдесят верст раскинулось это моховое болото, заключающее Нерль, Кубрю и другие реки, текущие в Волгу и впадающие в нее возле Калязина. Кто заблудится в этих болотах, обыкновенно ждет петухов, и когда закричит петух, то заблудившийся уже знает по голосу, чей это петух. Но случилось, у лесника, старого Силыча, и у Серовых голоса у петухов подобрались до того похожие, что прошлый год один жених, направляясь к Серовым, чтобы посватать Наташу, попал к Антипычу. И так опять сошлось, что у Антипыча внучка Таня была двоюродная сестра Наташи, тоже невеста. Таня, славная девушка, постарше Наташи, приглянулась заблудившемуся жениху. Подумали-подумали родители, рассудили, что Наташа еще молода, а Тане пора пришла, Сережа-жених поблагодарил петуха и женился на Тане.
Укладываясь спать, мы прослушали с большим интересом этот болотный роман, и обойденная в нем героиня Наташа на моих глазах укладывалась спать. Такая стыдливая, застенчивая при разговоре девушка, а, укладываясь спать, при всех раздевается, и никому в голову не приходит, что этого можно стыдиться. Такая была моя последняя мысль перед сном, и вдобавку к ней приклеилось, что стыдливые девушки, даже при всех своих предрассудках, приятней, чем наглые. Ночью нас разбудил стук, пришли остальные герои болотного романа, старый Антипыч со своей старухой и Сережа. Мы лежали, но, конечно, не спали, гости закусывали, хозяева тихонечко беседовали с ними. Не совсем ясно было мое сознание, сон мой вроде как бы продолжался, но открытыми глазами, лежа, смотрел я и видел, как обе женщины, столько всего пережившие, тихо, прекрасно и значительно, полушепотом что-то передавали друг другу. Тогда моя мысль о стыдливых девушках перешла на затаенные мысли, на стыдливые слова, которые близкие люди, и то краснея, иногда высказывают, тихо склоняясь друг к другу. Мне так хотелось узнать, о чем это важном таинственно шепчутся между собой пожилые женщины. Мало-помалу из слышного шепота, из реплик сидящих за столом мне стало понятно, что Таня, Сережина жена, только что родила.
– Нет уж, – сказал Сережа, – назвать девочку, конечно, как-нибудь назову, а крестить… дудки!
– Выпить и назвать – вот и все ваше дело мужское, – ответила ему наша хозяйка.
Тогда моя жена не выдержала, накинула на себя пальто, поднялась и присоединилась к таинственному шепоту пожилых женщин.
После того как все улеглись и жена моя вернулась на свое место, я тихонечко спросил, о чем шептались женщины.
– Крестить собираются, – ответила она.
– А как же, – спросил я, – муж-то ведь против крестин?
– Да муж и знать ничего не будет, ты слышал, они говорили: ваше дело мужское – выпить и назвать. Наташей тоже, кажется, хотят и назвать.
Тетерева
В природе звери, птицы, даже насекомые разделяются на дневных и ночных. Неужели же люди, в которых собрана вся природа, за сравнительно короткое время своего существования на земле сгладили в себе это коренное различие? Нет, конечно, все охотники люди утренние, все танцоры – ночные, вечерние существа, одним лес и болото, другим театр и балет. Я вышел раньше всех и долго только при помощи спички мог держаться тропы, но понемногу привык чувствовать, как лошадь, дорогу ногой. А когда в темноте ветки деревьев касались меня, я чувствовал их прикосновение, будто они нарочно по своей воле касались меня. Так я шел в незнакомом лесу, по ускользающей дороге, доверяясь только ноге.
В тот момент, когда я садился в шалаш, загомонили журавли на Внучке, и начался рассвет. Тетерева долго молчали, потом с кудахтаньем пробежала мимо самого шалаша тетерка, зачуфыкали косачи, и один токовик начал было токовать по-настоящему, приглашая всех присоединиться к празднику. Но вдруг он замолчал, подумал, опять как-то неуверенно начал, оборвал, захлопал крыльями и улетел. После того все перестали чуфыкать, и еще в полумраке мы ушли с тока пешком. Тетеревам для тока нужно красное утро. Только они разлетелись, все небо затянулось, и дождик закапал.
Ель и береза
Возвращаясь лесом, я обратил внимание на борьбу двух молодых деревьев, далеко заметную благодаря тому, что, лес еще был не одет. Росла прекрасная березка, и под защитой ее, укрываясь от морозов, тянулась ель. Ель – теневыносливое дерево – могла расти и в тени под березкой, но когда окрепла она достаточно и перестала бояться морозов, то, конечно, ей захотелось из-под березки тоже выйти на волю. Светолюбивая, щедрая березка росла, не подозревая коварства ели, и только увидев ее вершину рядом со своей, поняла весь ужас своего положения: светолюбивой березе в скором времени предстоя то погибнуть под елью в тени. Она бросилась вверх, и ель тоже за ней. Ветер пришел па помощь березе, и своим голым веником она начала из года в год хлестать ель по макушке. Но исхлестанная, уродливая елка половинкой дотянулась и обогнала, усилилась и задушила березку.
«А разве у людей так не бывает? – думал я. – И как это я раньше мог ходить по лесу, не обращая внимания на такую сложную жизнь. И еще я думал, что рано или поздно люди научатся разглядывать жизнь, свободно переключая время камней, растений, животных. Захочешь, и будешь смотреть на борьбу деревьев в человеческом времени».
Мысль эту я захотел записать, борьбу деревьев сфотографировать. И когда я сел на бревно и стал записывать, то над самой моей головой, тихо планируя, медленно пролетел глухарь. Не будь у меня записной книжки в руке, я, конечно, убил бы его, и был бы у меня глухарь, но пришла в голову мысль, и, вместо глухаря, я эту мысль записал. Возможно, что это была плодотворная мысль, на ней ведь можно построить всю мою работу о лесе. Однако это меня не утешило нисколько: мысль, раз она пришла в голову, далеко не уйдет и, когда надо, непременно вернется, а глухарь улетел, и лицо этого дня, который таким никогда не вернется, определилось: я прозевал глухаря.
Зайцы
К вечеру небо совсем открылось, стало рано морозить, и так сильно, что мы даже выпустили воду из Машки. Вальдшнепы тянули очень высоко и мало, птицы почти не пели, и после того как где-то очень далеко сыграл тетерев, наступила необыкновенная тишина, бывающая только ранней весной при морозе и полном отсутствии ветра. Непереносимая была тишина, и я уже начал слышать себя, свой моторчик. Это в нашем городке в тишине всегда слышится четырехтактный моторчик, выговаривающий почему-то на третьем такте вроде как бы «брось!». Выйдешь, бывало, ночью постоять в тишине, помечтать, а там «брось!», и бросаешь.
Мало того: бывает, моторчик отдыхает, и звуков нет никаких, но тогда еще хуже, свой собственный какой-то внутренний моторчик при первом желании сосредоточиться явственно выговаривает: «Брось!» Только на охоте в деревне я вовсе забываю этот моторчик, но смертельная небывалая тишина готовилась поднести мне и здесь это удовольствие, как вдруг…
Там, где я стоял, береза, ель, сосна и ольха сплелись, как в нашей московской квартире сошлись писатель, портной, кинохозяйственник и танцор. Сосна бросилась бежать от березы и выгнулась к свету, но вскоре попала под елку, рано или поздно елка задушит тоже и березу, ольха же примазалась совсем ни к чему и всем понемногу мешает. И только я подумал, чем же это все кончится в нашей квартире и как бы мне оттуда удрать, как вдруг…
Самое главное было в том, что я уже как-то приспособился к растительной жизни и незаметно для себя стал переключать их жизненную длительность на нашу человеческую, и никакое живое движущееся существо мне в этом не мешало, как вдруг из-под квартиры, где боролись ель, ольха, сосна и береза, выскочил заяц и объявил себя всего на поляне, вмиг все борющиеся древесные живые существа стали безликой серой обстановкой.
Заяц-беляк, еще пестрый, с клочками зимней белой шерсти на сером, сел в десяти шагах, не обращая на меня никакого внимания, считая меня, человека неподвижного, за одно вместе с деревьями. Вслед за этим зайцем выскочил другой, покороче, и я сразу догадался, что это самец, а возле меня сидит самка. Когда самец подскочил к самке, то, прежде чем спариться, закричал. Кто слышал крик зайца ранней весной, этот особенный и непередаваемо странный и так много всем нам, охотникам, говорящий звук? Слышал я этот крик каждую весну, а увидеть, как зайцы кричат, привелось в первый раз.
Зайцы спаривались, роняя на темную еще землю белую зимнюю шерсть, и от этого они серели и от темноты тоже темнели. Мало-помалу они скрылись совсем, но белую зимнюю шерсть их на земле еще долго я мог различить.
Светолюбивое дерево
Встал в шесть утра. Светило яркое солнце, лежал мороз, все птицы гремели, и особенно журавли и тетерева. В это звонкое, бесконечно чистое утро я был счастлив и долго бродил. Манил рябчика, и, не знаю, случай это или на манок, из куста, в двух шагах от меня, вышел ястреб и, увидав меня вместо рябчика, до того смутился, что кинулся вперед через меня и крыльями чуть не задел мою шляпу. Жаль, что тесно было повернуться с ружьем.
Близко от нашего дома, на песке, среди вереска, поднимались частые, еще совсем маленькие сосны-пионеры, и нельзя возле них было пройти, чтобы не полюбоваться их силой, свежестью и красотой. В этот раз они мне особенно понравились еще и тем, что вереск, до сих пор шоколадного цвета, нынче начал зеленеть, и это всему участку с соснами давало выражение особенной и несокрушимой силы и радости жизни. А между тем земля была под соснами самая тощая, и как бывает всегда: на скудной почве светолюбивое дерево-пионер сосна такую силу берет, что стоит выше всех. И я стал о себе думать, что ведь тоже и мне в жизни моей пришлось работать над материалом, никого не соблазняющим, и корни пускать, как сосна, глубоко. Светолюбивая сосна, дерево-пионер мне пришлось по душе.
Дома Наташа чистила картошку и хорошо разговаривала со мной.
– Какое прекрасное утро, – начал я, – вот бы людям сюда лечиться ездить.
– Никто не поедет, – сказала Наташа, – вокруг болота, непролазная грязь, потом пойдут комары, слегши, потыкушки. Им скучно будет у нас…
Правду говорила Наташа. И я опять вспомнил о себе и своем постоянном и сильном счастье в лесу: никому оно не завидно, а стоит мне о всем, что вокруг меня, написать верно и просто, все восхищаются, расспрашивают, где это, просят об этом писать еще и еще. И я, думая о своем счастье, о людях, не умеющих самостоятельно жить, о сосне, я сказал Наташе:
– Сосна светолюбивое, самое свободное и прекрасное дерево.
– Не, – ответила Наташа, – сосна вихрастая, вот елочка, та растет правильно.
– Елка, – ответил я, – вырастает под тенью березы или сосны, и когда обгоняет их, то душит.
– Так это не люди, – сказала Наташа, – им можно.
– Все-таки по-человечески надо быть справедливым к дереву. Елка растет на богатой почве и под охраной от морозов светолюбивого дерева.
Мне пришлось Наташе немного рассказать из Морозова о светолюбивых деревьях-пионерах, о борьбе классов между деревьями, и все это я перевел на людей.
– Светолюбивое дерево, Наташа, – сказал я, – выводит в свет теневую породу, а разве ты не замечала, как у людей за одного свободного человека сколько держится тенелюбцев. За то вот я и люблю сосну, ни в каком покровительстве она не нуждается, растет там, где никто не может расти. Как же ты этого не понимаешь, Наташа!
– Понимаю, понимаю, – ответила Наташа, – да мы же ведь говорили, какая красивее, – по-моему, сосна раскинется и стоит ни на что не похожа, а елочка правильно убирается, веточка к веточке и как городская барышня.
– Кассирша какая-нибудь, – подсказал я, – вот бы тебе, Наташа, на курсы бухгалтерии.
– Где нам! – вздохнула она, открывая всем видом своим, что нет большего блаженства на земле, как счетоводные курсы.
Ветер
Подул ветер, сначала тихий, и казалось, это не ветер, а где-то вдали поезд идет. Но очень скоро определилось, что это ветер, очень сильный и холодный. Тогда все обиженные существа в лесу застонали, зашептали, заплакали, птицы замолкли, звери забились в свои норы и логова.
В бурю в лесу, как на море: такие волны шумят! И чего-чего только не услышишь в этом ветре, проходящем кроны деревьев! Чего только не почудится: то будто воркуют тетерева, – а какие уж теперь тетерева, – то будто рожок охотника раздался, то шепотом кто-то позвал тебя, и загадочное слово бросила тебе кокетливая женщина, пролетая с кем-то другим, то кажется, где-то зверем провыло, то жалобно плачет дитя, как в «Метели» у Пушкина. Я остановился на том, что плачет брошенный ребенок, поверил, что по-настоящему плачет. Иду на помощь в том направлении, плач не пролетает с ветром, и уверенность моя все усиливается, все крепнет с каждым шагом: действительно, отбилось дитя от матери, зовет и плачет в лесу.
Стояли четыре высоких сосны, и ель росла вместе с ними, эта ель, окрепшая, воспитанная под тенью материнских сосен, стремилась их перегнать и выбиться к свету, но сил в этой земле, пригодной только для сосен, для прихотливой ели было мало, надо елке, как соснам, поглубже В землю спустить корни, но ель глубокие корни пробить не могла, засохла и при первом сильном ветре рухнула. Падая, елка согнула сосну, и так все осталось: три сосны прекрасные высоко поднимали свои кроны, а четвертая согнулась дугой под тяжестью ели. Так, верно, прошло уже немало лет, сосна уже потеряла и надежду выправиться, и новые ветки ее, новые мутовки, стали откладываться по сучьям вверх, подниматься мутовка за мутовкой с горба согнутого дерева. Только сильный ветер мог бы освободить прекрасное дерево от мертвой громадины, и вот, когда буря, это дерево при сильном трении о старое стонет и плачет, и ветер, проходя через кроны деревьев, несет этот стон, как плач ребенка, потерявшего мать.
Много убыло белых пятен в лесу, и на дороге черепок почти вовсе истлел. Сухой ветер приносит тепло, от которого все начинает жить. Несколько дней подряд нам ставят самовар из березового сока: каждый день из подруба одной и той же березки натекает полное ведро для самовара. Правда, чай несколько пахнет березой, но это неплохо и, во всяком случае, – лучше болотной воды с невозможным для чая запахом баговника.
И опять сильный, холодный ветер. Если бы не взяли мы власть над этой весной, переменчивой, капризной до крайности, то непременно бы жаловались, говорили: «Весна никуда», – как все говорят. Но мы успели забежать вперед, овладеть весной, и теперь у нас как-то все удается, все выходит: непогода – мы сидим и читаем с большим интересом книги о лесе, учимся, а удастся час, мы берем его на охоте, и он отвечает нам за много обыкновенных хороших дней. Вот этим и объясняется, почему и на Крайнем Севере люди довольны своей природой часто больше, чем на богатом юге: в природе надо действовать, и тогда при плохой погоде на нее не обращаешь внимания, – надо же быть и плохой погоде; если же час хороший приходит, то это как бы сверх ожидания, и он тогда действует чрезвычайно живительно.
Глухариная охота
Пришел на охоту молодой человек. На вопрос мой, чем он занимается, ответ был неопределенный. Я уточнил вопрос: «Чем в последнее время?» Он ответил, что сейчас работал на метро от комсомольцев сквозным бригадиром. Эту же ночь он был на Нерли, ночевал там на берегу реки. «Без всего?» – «Я могу без всего», – улыбнулся он. Убил он двух селезней и ранил тетерева. Никаких других впечатлений от охоты он передавать не захотел. Очень вежливые ответы, улыбка и как будто ничего внутреннего.
Мы пошли с Петей на Задние бугры, в свои тетеревиные шалаши. Перед рассветом садился полный громадный месяц. Мы насладились утренним концертом всех болотных птиц, не было одного только кроншнепа.
Выставляют пчел, и они уже летят за взятком на раннюю иву, и которая пчела посильней, возвращается со взятком. В это утро бригадир убил глухаря. Мне начинает нравиться его вежливость, замкнутость и своеобразная охота, без всяких приготовлений, прямо на счастье. Он вычистил глухаря, набил хвоей, все сам делает. Вспоминаю себя в молодости, когда тоже без всего, с одним ружьем, обошел весь Север, воображая, что иду за волшебным колобком. И это правильно для молодости: успеть набрать из широкого круга как можно больше в себя, а потом это огромное «все» видеть у себя под рукой, вот хотя бы в этом зеленеющем вереске. Какое упоение вот сейчас, в полдень, идти по этому вереску между младенцами-соснами и собирать в себя солнечные лучи! Прямо тут же и видишь, как под действием солнечных лучей шоколадный вереск становится зеленым. Меня теперь мало интересует, почему именно вереск из шоколадного, скучного делается зеленым. Но было время, когда, смутно чувствуя красоту жизни, я набросился на цветы, а цветы привели меня к ботанику, к одному профессору Семену Ивановичу, который мне. все жаловался, что работа его все больше «ручная».
– Но почему же в ботанике так много ручной работы? – интересовался я.
– Да вот это самое, как вы говорите, «почему»: надо же узнать почему, вот и готовишь все препараты для микроскопа.
– А если бы без «почему»?
– Тогда не надо ботаники, ходи по лугам и лесам, смотри кругом и радуйся.
Несчастный Семен Иванович так и не дожил до блаженства, как я, чтобы знание помогало, а не мешало любоваться цветами.
Так, бродя по вырубке, фотографируя иные пни, веточки, приблизился я к нашей дойной березе, попил немного березовику и тут заметил, что рядом почти с березкой, без всякой подстилки на вереске, в одной своей куртке спит наш сквозной бригадир, железный человек. Я опять на него порадовался, тонкое зеленеющее кружево вереска соединило молодость мою с этим молодым человеком, сумевшим после самых тяжелых подземных работ отдаться своему личному счастью, лежать без всяких подстилок на вереске под весенними лучами и во сне переживать в бесконечных вариантах свою удачу в глухариной охоте.
Каждую ночь мы проверяем погоду, чтобы установить, можно ли выходить на глухариный ток: охота на глухарей требует совсем тихой погоды. Сегодня мы вышли, и всем нам погода понравилась, Петя с Николаем заспорили даже: что там слышно вдали; Петя говорил – лисичка лает, Николай – сова. Я ничего не слыхал и не знаю отчего, из-за слуха, более слабого, или из-за моего болезненного сомнения в своем слухе. Однажды охотники привели меня на глухариный ток, и я видел глухарей, а песню их расслышать не мог. Охотникам в этом не признался, но сам заболел сомнением в своем слухе: наверно же и у людей с нормальным слухом бывают пропуски для каких-нибудь особенных тонов. С тех пор я стал избегать глухариной охоты, а когда в обществе заговорят о ней, я или молчу, или поддакиваю. Между тем охота на глухарей для нас – все равно, что для поэтов любовь. Так вот, неудача моя в глухариной охоте болезнью вошла внутрь меня и сделалась «тайной». Бывают у всех эти личные тайны. Есть женщины семейные с прекрасно воспитанными детьми и тайной: дети эти зачинались без всякой любви. Есть мужчины с седеющими волосами, большие работники, знаменитости, а с девушками никогда ничего не имели и довольствовались только вдовами. Это очень тяжело сказать кому-нибудь и еще тяжелей охранять эту тайну: остался без удела, и, может быть, глупого, совсем ненужного, а подумать почему-то очень тяжело; всем дано, а меня обошли. Так вот и у меня, охотника, всем известного, есть одна тайна, которую я никому не раскрыл: бил я медведей, волков, всяких бил птиц и глухарей тоже много стрелял из-под собаки, но глухаря на току ни разу не убил и «песни песней» его никогда не слыхал.
Сегодня в обед, случилось, я фотографировал: куст можжевельника очень пышный долго таил внутри себя елочку, укрывал ее в своем тепле от морозов, в своей тени от солнечных ожогов, но вот пришло время, елочка была готова для самостоятельной жизни, можжевельник раскрылся, как почка, и выпустил елочку. Я этот момент фотографировал, а когда Николай подошел – стал рассказывать молодому леснику о борьбе деревьев за свет, за почву, о деревьях господствующих и угнетенных, о их классовой борьбе. Никто этого ему никогда не говорил. Паренек был очень способным, мигом усвоил лесную грамоту и тут же почувствовал новую силу в себе и сказал мне об этом: теперь при обходах он будет на лес смотреть по-другому. Великое дело – вовремя дать верный совет. Обыкновенно все на книжку сваливают и тем отделываются. А можно гораздо короче сказать то, что делает книжка: указать, куда надо смотреть…
– Вы, наверно, все на свете знаете? – спросил меня Николай.
– Нет, дорогой, – ответил я, – все знать невозможно: вот даже в охоте всего не знаю, ты видел, какой я охотник, и вот никогда еще не бывал на глухариных токах.
Николай даже вскрикнул от удивления, и мы тут же с ним заключили договор: он научит меня потихоньку от всех, в одно утро глухариной охоте.
Вся эта местность между хутором Серова и сторожкой Антипыча называется Косые гривы: каждая грива сидит в торфяном болоте, и так отчетливо, что можно даже считать их, переходя с одного моренного холма на другой. Первая грива от нашего хутора веселая и прекрасная для вывода тетеревов: довольно редкие и свободно растущие березы в тридцатилетнем возрасте, кое-где кустики, куртинкп осинника, покосы. Вторая грива несколько сырая, и корни деревьев к известному возрасту на ней подопревали. Тут был чистый березовый лес, и потом, конечно, каждую березку подбила елка. Березы раньше были, вероятно, в большой борьбе с елками, стараясь их перегнать, и наверно бы перегнали и долго бы еще жили, боролись, но чего-то в почве им не хватило для борьбы, корни загнили, и березы погибли. Мы застали эту битву в момент, когда побежденные березы падали прямо на наших глазах. Бледные, худосочные были и сами ели-победительницы, покрова на почве под ними вовсе не было, черная грязь была вся заваленная белыми стволами гниющих берез. Третья грива была выше, сухая, здесь мы шли по чистому еловому раменью. На четвертой большой гриве стоял отличный сосновый бор-черничник, и в нем изредка встречались березы, очевидно, принятые сосной как желанные гости. Светолюбивой березе только неважно пришлось в гостях у светолюбивой сосны: ей пришлось тянуться за сосной, и она сумела это сделать, и тоже, как и сосна, стоит вовсе голая, а там на сосновой огромной высоте, крона с кроной за одним столом, береза у сосны вроде как гость на ухе у Демьяна.
На этой гриве мы будем охотиться на глухарей. Тут недалеко сторожка Антипыча, где мы будем ночевать, вот он и столб с дощечкой, на которой лесник Сережа красиво написал:
«Строгое курение и разведение костров во всех лесах РСФСР. Берегите леса, товарищи!»
Весь день собирался дождь, и наконец к вечеру тучи рассеялись, и наступила долгожданная полная тишина, необходимая для глухариной охоты. Антипыч, маленький человек с острым лицом и глухариным клювом, сидел на завалинке и любовался молодой кошкой, как она, по всем тигровым правилам, залегая, прыгая, охотилась за двумя трясогузками. Веселые, бойкие птички с длинными хвостиками и черными галстуками, видимо, смеялись над молодой кошкой: когда она замирала, залегая, чтобы сделать прыжок, одна из них вдруг повертывалась и шла прямо на кошку.
– Какая смелая! – восхищался Антипыч.
Кошка, сбитая с толку смелостью трясогузки, лежала дурой, пока та к ней подходила, и растерянно поднималась, когда птичка, пикнув, летела к другой, и там обе, покачиваясь, по-своему смеялись над кошкой.
Часа полтора мы так до самой ночи сидели на завалинке, смеялись вместе с трясогузками над кошкой и слушали рассказы Антипыча, самые невероятные, вроде того, что однажды он залез на крышу починить дранку и увидел возле своего стога лося. «Давай скорей ружье!» – крикнул Антипыч жене в трубу. Она подала ему через печку ружье, и лось был убит.
Подражая трясогузке, Петя пикнул очень похоже на птичку, и этого было довольно, чтобы Антипыч сочинил рассказ.
Пришел однажды в сторожку молодой человек, отлично он умел подзывать птиц и зверем. Зайцы, как овцы, сходились к нему из леса. Глухари прилетали. А то раз было, пошли с ним на уток. Вот летит селезень. Отпустил его на версту, да вдруг как крикнет по-утиному, тот и вернулся. Искал, искал селезень утку, не нашел и хотел улетать, и нет: опять утка где-то кричит. И до того довел этого селезня, что уж и лететь не хочет, и вот вьется над нами, вот умоляет: «Убейте, убейте меня!»
Один за одним сыпал старый, восьмидесятилетний Антипыч рассказы из своего короба, но то, что он о снеге рассказывал, было лучше всего.
Кто-то из нас сказал, что этой зимой мало было снега, а лет десять тому назад снег заметал избы по самые окна.
– Что это за снег: по самые окна! Вот дивья! – воскликнул Антипыч. – Я вот помню одну снежную зиму: поехали мы в лес дрова пилить, привязали лошадь к сухому дереву, сена ей дали. Когда отработались, приходим к сухому дереву, – нет нашей лошади! Пригляделся я, будто парок легонький выходит из снега под сухим деревом. Лопата у нас была припасена, разгребли… Вот какой снег был в то время: пока мы пилили, засыпало лошадь. Разгребли, а она стоит себе и сено жует.
И так мы в избу вошли с рассказами, и поужинали, спать улеглись и вдруг проснулись от чего-то страшного…
– Страсть какая, страсть какая! – повторял Антипыч, сидя на своей койке с лампой в руке. – Ох! Ох! Вот так страсть!
– Что случилось, Антипыч, в чем дело?
– В чем дело, в чем дело, – повторял Антипыч, – страсть какая, вот в чем дело!
– Да ты скажи толком, может, приснилось что.
– Приснилось, приснилось.
– Что же тебе приснилось?
– Тюлень.
– Не может быть! – воскликнул Сережа.
– Перед истинным говорю: тюлень.
– А что же тут особенного? – спросил Петя. – Почему не может присниться тюлень?
– Да их же у нас в лесу не бывает, – ответил Антипыч, а тюлень, как есть тюлень, во всей своей форме.
Время было вставать, мы все зашевелились, стали завертывать ноги в портянки, натягивать сапоги. Тюленя-то, может быть, Антипыч нарочно и выдумал, чтобы нас всех разом поднять, а не прикладываться к каждому.
При выходе из дому зашел интересный разговор для меня, на каком расстоянии можно слышать в лесу песню глухаря. Я все еще очень боялся, что в этот раз, как в те далекие времена, не услышу песни. Кто говорил, что на двести шагов легко можно слышать, кто на полтораста, кто ручался только за сто. Обратились к Антипычу.
– Другой раз, – ответил Антипыч, – он у тебя и над самой головой поет, а ты не можешь понять, тут не так слух, по-моему, как понимание надо иметь. Вот пришел я однажды в лес без ружья послушать глухариный ток. По теплому времени глухарь рано запел, вовсе было темно, и никак я не мог его рассмотреть на сосне, бегаю, бегаю вокруг дерева под песню и понять не могу. До того набегался, что сапоги истрепал, подошва оторвалась. Сел я на пенек подвязать подошву, приставил ствол к сосне и к уху…
– Какой ствол, да ты же сказал, что пошел без ружья?
– Как без ружья, – нисколько не смутившись, ответил Антипыч, – как это может лесник идти в лес без ружья?
– Да ты же ведь сам сказал, что пошел без ружья, только чтоб послушать.
– Як тому сказал, что ружье было не заряжено и стрелять мне в глухаря нельзя: какое это ружье, ежели не заряжено, вот я к чему сказал, что пошел без ружья. А это самое лучшее, – когда не можешь понять, где токует глухарь, приставь ложу к дереву, ствол к уху – и сразу поймешь. И только я приставил ствол к уху – вдруг он слетает вниз, на белый мох, и – откуда ни возьмись – другой черный глухарь выходит на белый мох, и начинают друг по другу бить, вот как хлопают, будто бабы вальками на пруду колотят. А я сижу на пеньке, гляжу и приговариваю: «Ну, валяйте, валяйте!»
Этим рассказом о глухарях на белом мху окончились все наши беседы; в лесу Антипыч нас вел гуськом по незнакомой тропе, изредка только слышно было, как прутик стегнет кому-нибудь звучно по кожаному сапогу. Николай не раз здесь бывал на охоте, и скоро, покинув товарищей, мы свернули с ним на просеку и остановились в урочище Клады.
– Как темно! – шепнул я.
– Значит, скоро будет светать! – ответил он.
И так я замечал не раз, охотники в один голос все говорят, что перед светом всегда бывает особенно темно, что не в полночь в лесу бывает самое темное время. Не раз в трудные минуты жизни я повторял себе это и уговаривал себя: темно перед светом. И правда, каждый раз у меня рассветало…
Сели мы возле просеки. Николай на свою собственную ногу, я на обледенелый пень, положив на него кожаную сумку. Минут пятнадцать мы просидели, и как будто начало немного светлеть. Но глухарей не было слышно, и мы отошли по просеке тихонько, не спеша, еще шагов сто.
– Щелкнул! – шепнул Николай.
Я не слышал. Приложил ладони к ушным раковинам, много разных шумов послышалось, – все больше капли, но того не было. Мы прошли несколько, избегая ногой становиться на белые пятна снега. И опять я приставил ладони и опять услыхал множество падающих с сучка на сучок капель вчерашнего дождя.
– Поет! – уверенно шепнул Николай, – неужели не слышите?
Тогда мне показалось очень странным, зачем Николай ногтем своего пальца стучит по ложу ружья. До того это было резко, странно, что я даже глянул туда, а там ничего: рука неподвижно висит, а вместо пропавшего звука стало казаться, будто кто-то вовсе близко в кусту начал ножик точить: чики-чики!
– Слышите? – спросил Николай.
Тут только я понял все и навсегда: не ногтем по ложу и не ножик точили, – все это делал глухарь, и все это и есть его «песня». И как же прав был врун Антипыч, что это не слышать надо, а понять. Я вдруг все понял и Николаю ответил уверенно:
– Слышу!
В этот момент прошла моя болезнь, я поверил в себя и навсегда освободился от «тайны». Хотя я очень даже отчетливо слышал песню, но на всякий случай все-таки мы взялись с ним за руки и принялись «под песню», – значит, когда глухарь начинал точить ножик, – скакать: два-три скачка, чтобы остановиться вовремя, когда еще точение ножика «чики-чики» не переходило в капанье «кап-кап», когда глухарь все слышит.
Мало-помалу это глухариное «кап-кап» стало мне так представляться, что в далекие первобытные времена, в первобытном лесу, первобытный человек рубил кремневым топором дерево, и этот звук долетал сюда к нам, в наши времена через века. И когда я это понял и сосредоточился на этом, то совсем соединился с теми временами, и мне уже явственно было, что тут, вот совсем, совсем близко кто-то рубил дрова. Больше рука Николая мне была совсем не нужна, я все понял и вдруг открыл самого глухаря на небольшой сосне на самом верху. В кулачках сосновой черноты он казался почему-то маленькой птичкой вроде дрозда, но чудеса эти мне уже хорошо были знакомы в охотничьем опыте, я стал разбираться, определять, что надо считать за хвост, что за грудь, где шея. Я поднял ружье, прислонил его к дереву, возле которого стоял, начал искать мушку хотя бы на небе и не мог ее найти даже на светлом фоне. Можно было на светлом только выровнять планку и так подвести ружье под глухаря. Сделав это, я опустил ружье, с тем чтобы насладиться таинственной песней, пока цель не будет хорошо освещена. Но вдруг глухарь петь перестал. Что, если он вдруг задумает другое и улетит? На всякий случай я привожу ружье в прежнее положение, чтобы, чуть он шевельнется, – не упустить. По всей вероятности, глухарь бы очень скоро запел, но силы ждать у меня больше не было, и это не я, а сам палец нажал…
Вот говорят часто «радость», а что это значит: радости бывают разные. Моя радость в это утро проходила так, будто коромысло весов качалось бесконечно, и каждое качание отзывалось больно в душе, а тут качание кончилось, и стрелка замерла в совершенном покое.
И тут было еще: мне вспомнилось о кладах. Удайся мне глухарь тридцать лет тому назад, когда с таким же удовольствием стрелял я и ворон, и потом бы из года в год стрелял глухарей… ничего бы не было! А тут в моей «тайне» – что я слышать не могу глухаря– скоплялось из года в год столько желания. Так в этих болотах прячутся солнечные лучи, тысячелетиями слеживается торф, сохнет, сохнет и вдруг загорается…
– Ну, спасибо тебе, Николай, – сказал я, – иди ищи своего глухаря, а дальше я тоже сам…
Мне удалось убить первого своего глухаря на току почти совсем в темноте, когда только начинало отбеливать и только-только чувыкнул тетерев и раскатилась своим диким хохотом белая куропатка. Крутой взлобок, куда я пришел просекой, покрытый сосновым бором, был как остров среди торфяных болот, и все, что там кричало и пело в болотах, здесь наверху, в сосновом бору, звучало, как в огромном резонаторе. Сколько поднялось сюда разных звуков с болот, и как все было подобрано в этом концерте, чтобы напомнить неверующему о чертях и ведьмах, с давних пор живущих в болоте. Но мало-помалу вместе с тьмой этот певчий угар проходит, и остается только умиряюще-спокойное уркование тетеревов, весь взлобок окружается этими звуками, и сосны, как свечи, чернея кронами на светлеющем небе, принимают какое-то молчаливое, но чрезвычайно выразительное участие в этом заутреннем действе.
Странно, непонятно это сошлось, что всякая птица на болоте, даже маленький бекас, рассыпаясь барашком, дает такой сильный звук, а гигантская птица глухарь поет тише самой маленькой птицы. И вот все искусство глухариного охотника – это слышать великий концерт и находить в нем такое, что надо не только слышать, а еще понимать и догадываться.
Заря сгорает на небе, и ты сам сгораешь в заре, и тысячи голосов соединяются, и кажется, все валит вместе по широкой дороге, и тебе тоже надо идти туда, но почему-то тебе не по той общей дороге надо с песней идти, а в совершенной тишине и отдельной тропочкой.
Я остановился, приложил ладони к ушам. Мне послышалось или, может быть, показалось, и я еще не могу даже верно сказать, в какой стороне. Тихонечко прохожу десяток шагов и понимаю намекающий звук: там он, в той чернеющей массе, и далеко, я еще могу просто идти в ту сторону. Вдруг возле меня на весь бор закудахтала глухарка, и я иду вперед, а она невидимо, вероятно, перелетая с одной темной кроны на другую, как будто преследует меня. Сбоку присоединилась еще одна и еще… С шумом и после того шикнув по сосне крыльями, сел где-то недалеко глухарь, наверно, услыхал меня, проскрипел один раз и затих. Мне до него дела нет, и, вероятно, тем эта охота и отличается от тетеревиной: там все равно, какой косач, лишь бы убить, здесь интересует только тот, кого ты заслышал и стремишься: он единственный. И чем дальше, тем я все больше и больше приживаюсь к этому глухарю: недаром же я, когда он остановился петь, замер с одной ногой по колено в воде, обняв сосну рукой для равновесия: другая нога висела в воздухе над водой.
Широкие, как бы мирские, звуки тетеревов давно исчезли в моем сознании, хотя, конечно, косачи теперь все кругом бормочут, я даже не обращаю никакого внимания на глухарок, – мало того! – послышался явственно другой токующий глухарь, и мне и до него нет никакого дела. Мне нужен только тот единственный, и он даже для меня теперь не глухарь, а отдельность вроде Антипыча. Что он там делает сейчас в темноте? Слышатся глухие удары: занимается с глухаркой? Едва ли… Дерется с противником? Вот еще ударил и запел. Показалось, будто далеко, там впереди, между двумя белыми березками, нанизу медленно прошло что-то большое и черное. Не он ли это, глухарь-Антипыч, ходит, раздувшись, между березками? Вдруг над головой какой-то глухарь показался на небе, огромнейшая птица, по всей кроне как будто он прошелся крыльями, все обшумел, успокоился: сел. Он мне виден ясно, и мне так легко убить его, но никакой глухарь не может заменить Антипыча. Мне приходится дожидаться песни, под песни Антипыча можно стрелять хоть из артиллерийского орудия. Выждав начала «чики-чики», я вместо скачка стрельнул в чужака и видел, как он оттуда, сверху, по косой линии спустился в мох на закраек гривы, захлопал крыльями. От грома выстрела сорвалось несколько глухарок и отозвалось не менее десятка молчунов: все они тревожно проскрипели и остались на своих местах. Но Антипыч выстрела совсем не слыхал и теперь поет, и вон ходит между теми березками: как он раздулся, как задорно он держит веер хвоста! Вдруг он взлетел и сел в полдерева и, разгуливая по суку, все поет и поет. Закрываясь деревьями, скачу я, и вот он, слышу, тут, совсем тут. Я тихонечко высунул голову под песню, и как раз Антипыч из-за своей сосны высунулся, голова мне показалась огненно-красной, и каждое перышко на шее отдельно дрожит и шевелится, будто это не перья, а пальцы. Увидев недалеко от себя голову с красным цветком и перья на шее, я подумал, что хвоя скрывает от меня всего глухаря, и в эту хвою стрельнул навскидку. Но Антипыч не из-за ветки высунул голову, а из-за ствола огромной сосны, и я весь свой кучный снаряд на близком расстоянии единой пулей влепил в дерево, совсем не тронув Антипыча.
Правда
Когда я, связав своих двух глухарей, перекинув их через плечо, вышел на просеку, то, как часто это бывает в лесах, на просеке увидал человека и скоро узнал в нем Антипыча. Гордый, с двумя глухарями, я подошел к нему, и он, конечно, поздравил меня, но не так горячо, как мне бы хотелось. Оказалось, ему надо было мне кое-что рассказать. Идет он сейчас будто бы просекой, хочет завернуть к знакомому большому муравейнику, посмотреть, проверить, как работают этой весной муравьи и началась ли уже их работа. Глядит, а у муравейника зачем-то теленок, и головой теленок в муравейник зарылся. Подошел поближе, а это молодой медведь. Подобравшись к медведю, Антипыч будто бы хлоп его ладонью по ляжке…
– Говорят, – сказал Ангипыч, – есть медвежья болезнь, хотел проверить. Хлопнул я ладонью по ляжке, – и что же вы скажете? Окатил весь муравейник сверху и донизу, как провалился под землю, только я и видел его.
Рассказ мне этот что-то не так понравился, очень уж грубо в нем брехня вылезала наружу. Не улыбнувшись, я сказал:
– Эх, Антипыч, старый, скоро ли я от тебя правды дождусь?
Вдруг Антипыч от моих слов переменился в лице, вытянул шею, наклонил ко мне голову, и с удивлением я заметил тут в первый раз, что у него от долгой жизни в лесу нажилось какое-то сходство с глухарем.
– Правды захотел? – говорил мне Антипыч, все ближе и ближе дотягиваясь губами до уха. – Нет! – отшатнулся он вдруг от меня, – нет! Мне восемьдесят первый год пошел, скоро помирать, тебе немного придется ждать, я тогда дам тебе знать: «Помираю», – а ты ко мне приходи, наклонись надо мной, ушко мне свое подай, я тогда тебе всю правду шепну, а ты мне за это закрой глаза.
Дачники
Замолчали глухари, прилетели кукушки, и началась та общая весна для людей, которые идут в природу, как в приготовленную для них здравницу. Множество этих дачников при наступлении теплых дней ринулись в леса, мы же с Петей налили в Машку воды, протавотили сережки, подзакрепили пальчики, прочистили свечи, бензиновые фильтры и двинулись по сухой дорожке назад, через ту самую погибающую Берендееву чащу, где на правой стороне вовсе очистили и погубили переславские кручи, а на другой подрумянили сосны для подсочки на смерть.
Тут нам встретился старый друг, около двадцати лет просидевший в самой глухой деревне учителем, Антон Иванович, большой местный патриот, и поздравляет, и радуется, и хочет на шею броситься, а возле какие-то люди проходят, вроде дачников, обыкновенных моих врагов, и все они оглядываются, узнавая меня, и некоторые весело кивают мне, и все как будто что-то знают, только я, лишенный всяких вестей в глухариных местах, ничего не знаю. Антон Иванович даже показывает на соснах вырезанные им в честь меня инициалы и под ними помельче очень искусно: «Переславские кручи» – название моей статьи, посланной в «Известия» и позабытой мной во время глухариной охоты. В этой статье-то и было все дело. Стоном моим, как пулей, стрельнуло статьей и попало в самое сердце Ивановской области. Понаехали комиссии московские, областные, районные в поисках виновников, разбились на два фронта, одни стали искать тех, кто срубил переславские кручи, другие тех, кто распорядился подсочивать защитный лес по дороге. Все, кто бывал в таких переделках, знают, какое это труднейшее дело – розыск виновников. Однако умные люди какие-то, вперед зная, что виновников, может быть, и не найдут, провели постановление ввести всю Берендееву чащу от самого Плещеева озера и до Усолья в неприкосновенный фонд и не рубить ее и как защитную, и как место отдыха трудящихся людей в Переславле.
А люди эти, которые и гуляли, и сидели под соснами, одни собрались по случаю выходного дня, другие же и прямо на дачу устроились кое в каких избушках лесной стражи. Были они самые настоящие дачники, одна молодая женщина была даже в одних трусиках, и ребенок открыто сосал у ней грудь. Дачники! Но я первый раз в жизни обрадовался обыкновенным дачникам, как близким людям. И оно так было просто, понятно: ведь это я же спас для них Берендееву чащу, все это – и лес, и люди – входило в круг моей личной деятельности. Первый раз в жизни своей понял я дачников, и, мало того, мне самому захотелось как-нибудь бросить все свои замыслы и просто, как все дачники, пожить с ними когда-нибудь в Берендеевой чаще.
Радостно пожал я руку патриоту своего края, Антону Ивановичу, с улыбкой поклонился женщине в трусиках, поставил рукоятку на скорость, дал газ и только двинулся, вдруг сзади крик: «Погодите, забыл, забыл!»
Оказалось, это Антон Иванович забыл мне рассказать еще одно мое достижение: в известный старинный XII века собор в Переславле, драгоценнейший исторический памятник зодчества, задумали было грузить прокисшую за зиму в погребах картошку, но, прочитав «Переславские кручи», древний храм постановили от картошки очистить.
Инспектор по качеству
Ветер, холод и снег летит, а уже девятое мая. Вечером в Москве мы взяли такси на Пушкинской площади. Ожидавшие за нами в очереди машину две дамы упросили нас довезти их до вокзала. Вещей у нас было очень немного, и мы согласились. По пути дамы жаловались на весну.
– Весна зависит от часа, – сказал я, – есть такой час, когда самая дурная весна покажется самой прекрасной.
– Как это верно! – воскликнула одна дама, – вы, наверно, художник или поэт? Правда, кто вы?
– Инспектор по качеству, – ответил я.
– Что это?
– Мы разбираем вещи. – сказал я, – бывают хорошие и плохие. Их люди делали; разбирая вещи, мы судим людей. Все сводится к кадрам.
– Правда, – согласилась дама, – об этом и у нас говорят в Наркомтяжпроме: все сводится к кадрам.
Глядя на наши вещи, ружья, бинокли, фотоаппараты, дама из Наркомтяжпрома спросила:
– Значит, это у вас вроде экспедиции, вы на самолете будете летать?
– Мы едем, – ответил я, – далеко на север по сплавным рекам – большую часть пути нам, по всей вероятности, придется плыть с круглым лесом на плотах.
– Как это прекрасно! – воскликнули обе дамы.
После в вагоне мне пришлось задуматься над этим восторгом дам, служащих в Наркомтяжпроме: служат в учреждении, занятом волшебным творчеством современности, и в то же время их восхищает ужасно скучное, утомительное и весной, в стужу до крайности неприятное путешествие на плоту – в час по два-три километра. Думаю так, что участие в современности требует усилия, при одной мысли о самолете являются трудности относительно добывания себе места, дорогой платы, некоторого риска, а плот, им кажется, движется по течению без малейшего усилия. В этом утомлении действительностью у большинства их, вероятно, и таится вся так называемая «любовь к природе» и прошлому.
Рассказ для детей
По реке Вологде мы вплываем в Сухону и, как охотники, любуемся чудесными местами. Наверно, тут когда-то был хороший лес, но его срубили в былые времена, почва, открытая для лучей солнца, задернулась мохом (сфагнум), после чего выросла черная ольха и, в свою очередь, покончила с мохом. Черная ольха в этом климате живет до ста лет, достигает размера строевых деревьев, из нее делают фанеру для упаковочных ящиков. Среди ольхи растет много черемухи, пригодной для изготовления венской мебели. По бесчисленным озеркам в этих непроходимых трясинах гнездится множество уток разных пород, по закрайкам на сенокосных мокрых лугах весной громадные дупелиные тока, а осенью высыпки. Охотники на уток ездят из Вологды на очень легких лодках типа байдарки. Шалаши для ночлега делают до крайности просто и хорошо: ставят жерди в козлы и покрывают их луговым сеном.
Реки Вологда и Лежа впадают так близко одна от другой в Сухону, что видны вместе все три реки: Вологда, Лежа и Сухона. Мы встретили тут на утиной охоте двух самых замечательных в Вологде охотников на глухарей. Один из них служит поваром на вокзале в Вологде, еще молодой человек, но почти вовсе глухой. Другой охотник, кажется, пострадавший на каком-то производстве, пенсионер, вовсе лишился глаз и ничего не видит, но слух имеет исключительный. Напротив, глухой повар обладает замечательным зрением. И вот оба они соединились для глухариной охоты, требующей особенно тонкого слуха и часто хорошего зрения; приходится иногда стрелять почти в темноте. Оба друга вместе представляют охотничью единицу, небывалую в Вологде: говорят, за прошлую весну они убили шестьдесят глухарей на току. С большим удовольствием записал я это к себе в книжку как рассказ детям в газете «Колхозные ребята»: едва ли придумаешь лучший пример пользы от коллектива.
Мировая нога
Холодны ночи на Сухоне ранней весной. С устьев бесчисленных молевых речек буксиры навстречу нам вверх на местные фабрики тащат щуки (сплотка щукой делается, когда лес приходится сплавлять против течения). Щука за щукой приходят в сторону Кубинского озера, и вот наконец однажды ночью, очень холодной, мы заметили с парохода впереди огонек. Мы скоро догнали плот, идущий не вверх, а по течению в Двину, и дальше все так пошло: этот круглый лес направлялся в Архангельск, и щуки уж больше нам не встречались.
К лодкам, ведущим плоты, я внимательно приглядываюсь, с тревогой думая, что на далеких северных речках не раз тоже придется спускаться холодными ночами на плотах, иначе без личного опыта как же поймешь этот неведомый какой-то круглый лес. А как холодно у них там, возле маленьких костров! Как они там жмутся. Хорошо только по утрам, когда наконец-то восходит солнце, и человек, бросая земной огонек, хватается за огромный руль и, работая на солнце, отлично разогревается.
Бывало, как зелено и хоть какие-нибудь деревья стоят, значит, считаешь за лес, а теперь, когда я перечитал много книг о чистых насаждениях и возмечтал о каком-то девственном северном, никогда не знавшем топора лесе, эти леса по Сухоне мне кажутся жалкими остатками бывшего здесь когда-то леса. И так бесконечно долго, однообразно проходят высокие берега с растрепанными лесами, с лесными биржами или обшарканными местами сплавленных бирж. Невеселое зрелище! Водяной хозяин с галунами на обшлагах затеял от скуки картежную игру и со всей своей картежной компанией занял надолго все стулья. Ужин принесли, горячее стынет, а сесть нам некуда, стоим по стенам. Я стал громко, настойчиво требовать стул, при этом упорно, как насекомое в микроскоп, разглядываю водяного хозяина и чувствую, не плохой человек, а вот между делом валяет из себя дурака.
– Ты что глядишь на меня? – выпалил водяной хозяин.
– Любуюсь тобой! – ответил я, указывая на женщин, ожидающих возможности сесть у стола.
– А кто ты такой?
– Вот в том-то и дело, – улыбаясь, спокойно ответил я водяному хозяину, – не то важно, что людям есть хочется, а именно, кто я такой, ну хорошо.
Сделав для важности маленькую паузу, сказал строго:
– Инспектор по качеству!
Какое волшебное действие! Водяной хозяин сразу опомнился.
– Садись, папаша! – сказал он, подавая свой стул.
За водяным хозяином встали все картежники, и мы все уселись.
После ужина мы поднялись наверх и как раз попали на торжественный выход огромного красного месяца из-за леса: пожар, настоящий пожар!
Все смотрели на месяц. Один молодой человек, весь день сидевший неподвижно и каким-то своим внутренним напряжением привлекавший наш взгляд на себя, наконец-то открыл свою тайну: на лесозаготовках бревном ему отмяло обе ноги и теперь ему вот только что сделали совсем особенные, чудесные протезы.
– Красота! – сказал он.
– А ну-ка, покажи, – стали просить его.
Калека завернул штанину с большой радостью, как будто вот этого только и ждал. Новенькая нога, отлично отполированная, сверкнула блестящими никелированными пряжками.
– Мировая нога! – заговорили в толпе.
Другая нога оказалась точно такая же чистая, ясная, в новеньком башмаке с галошей.
– А ну-ка, пройдись!
Калека, спустив брюки, встал, пошел так быстро, так верно, что всем казалось, будто он заводной. Достигнув борта, он кругло, как автомобиль, развернулся, выправился, скоро достиг своего места и сел.
И даже когда совсем выбрался из-за леса огромный месяц, то и на всей воле небесной не уменьшился. При этом удивительном свете на северной реке Сухоне показалось нам что-то прекрасное, и я успел о нем догадаться, что показалась сама прекрасная жизнь, мимо которой мы так часто, ничего не замечая, в скуке проходим. Да, бывает, иному нужно, чтобы ноги отрезало, и только тогда он поймет, какие это были раньше у него прекрасные ноги, и, поняв, обрадуется даже деревянным ногам.
В толпе говорили:
– А в деревню приедет, станет, наверно, сразу же девкам показывать!
Законы Сузема
Водяной хозяин, заметив меня на лавочке при сильном лунном освещении, подошел ко мне, сел рядом и сказал:
– Папаша, вот бы нам с тобой месяц сфотографировать!
И тут я совсем понял его.
– Партизан, охотник, – спросил я, – откуда родом?
– Боровую знаешь?
– Это что?
– За Пинегой есть речка Боровая, и там, где пали три реки – Боровая, Горевая и Жаровая, стояла моя изба…
И начался длинный рассказ об одной охотничьей избушке, и о белках, и о женщине Лизе, и о клети с особой закидкой: набьет эту клеть беличьими шкурками и женится. А белок в ту осень очень было довольно, на соснах богато родилось шишек, сосна не елка, на сосне белку «видко».
Так была становая изба его на речке Боровой, а другая – на Горевой, а третья далеко была: там, где последняя излучина реки Коды из-под лета уходит на север и все речки бегут не в Пинегу, а в Мезень, есть Чаща.
«Чаща!» – вспомнил я свою сочиненную Берендееву чащу, и так захотелось мне узнать, какой же вид имеет эта действительная чаща, не тронутая вовсе топором человека.
– Скажи, – спросил я, – какая же она, эта Чаща, какой лес, как выглядит?
– Лес там – сосна за триста лет, дерево к дереву, там стяга не вырубишь! И такие ровные деревья, и такие частые! Одно дерево срубить нельзя, прислонится к другому, а не упадет. Вот какая чаща! И к ней прислонилась избушка.
Так от становой избы в суземе расходятся путики. Охотник своим путиком идет, вынимает из силышков дичь, постреливает белок и ночует в едомной[24] избушке.
Раз приходит молодой Павел и говорит: «Александр, моя избушка сгорела, дай я у тебя поживу». Александр скрепя сердце ответил: «Живи!» – хотя Лиза признавалась, что он к ней сватался и приставал. Но что же делать, в беде человек. «Живи, а зверя в едоме хватит». Кстати, было две клети: в одной охотник складывает шкурки и связывает по-своему, своими нитками, в другой клети – другой. Один охотник загадывает полную клеть набить белок и жениться на Лизе, и другой тоже белок набить и, может быть, думает о той же Лизе.
Отчего это бывает: у родителей два сына-близнеца, растут, спят, едят, играют, учатся вместе, а такие выходят разные люди: один лениво возле дома работает, другой достигает славы на стороне? Никому это не известно, отчего так и два охотника тоже расходятся с утра по едоме, вечером сходятся в одну избу, вместе варят, вместе едят, и собаки хорошие, и ружья бьют правильно, а дело идет по-разному. У Александра дело близится к концу, а Павел еле начал.
И каждый день сходятся, и все так: Александр веселеет, Павел хмурится, у Павла взгляд стал другой и разговор вовсе переменился. Однажды Александр посмотрел на свою закидку и обмер: его закидка была шевеленая, кто-то лазил в его клеть, и кто же, как не Павел, а разве так можно? Александр повесил замок, и это уж вовсе нехорошо: всего двое живут и один от другого навесил замок.
Так было на общей тропе в едоме, стояла беседка для отдыха, беседка эта: одно бревно – сесть и другое повыше – прислонить спину. Люди разные идут, один отстанет, другой впереди, а у беседки дожидаются друг друга, беседуют. И тут, где человек, – всегда березка, а под березкой чистый-чистый родник наполняет обложенную зеленым мохом колдобинку, и в той прозрачной колдобинке жили вьюны и карась. Возле самой воды лежала берестяная плица с ручкой. Кому пить захочется, берет плицу, пьет из нее, а глазами смотрит на тех и, радуясь чему-то, говорит потом на беседе: «А вьюн и карась все живут». Но раз пришли люди и видят, нет вьюна, живет один карась.
Так жили два охотника в одной избе. И пришел такой день: нельзя жить двум, надо одному. Утром, расходясь в едоме, охотники сговорились вечером сойтись в чаще. Расставаясь, Александр замечает у Павла что-то в лице и помнит это. А после весь день со стороны Павла не слышит ни одного выстрела. Как это понять? Вот он и вечер, вот она и чаща, вот она едомная избушка. Слышится, вдали в едоме кто-то рубит дрова, устраивается ночевать на сендухе (не в избе, на воле): строит нодью. Охотник явно заблудился, но сюда не заходят чужие охотники.
Александр крикнул. Отозвался Павел: «Иду!» У Александра сжалось сердце: уходить, скорей уходить! И он скорей, чтобы не захватил его Павел, уходит в становую избу. Всю ночь идет он, и утром по ветру с той стороны чует по запаху гарь, и собака, тоже по-своему чуя несчастье, поджимает хвост.
На месте становой избы черное место: все сгорело, годовой промысел, продовольствие, снасть… Редко бывает так, но случается, кто-нибудь чужой, переночевав в чужой избе, неосторожно оставит огонь. Но не бывает, чтобы кто-нибудь украл добычу, продовольствие или сжег нарочно. Всякий знает лесной закон по крови своей: учили закону, может быть, еще прадеды, а теперь только слушаются и сами не знают, отчего это везде на стороне говорят, будто люди грабят друг друга, а здесь, в лесу, этого никогда не бывает.
Но если случайно сгорела изба, как же могла сгореть клеть, нарочно от пожару устроенная в двадцати саженях? Охотник роется в пепле, находит замок, и видно по замку, что сбит он обухом топора. А вот еще собака порылась в кусту, что-то выкопала и приносит связку беличьих шкурок и нитки: свои белки, и кто же мог их зарыть, как не свой. Собака еще порылась, еще принесла… А вот кусок уцелевшего бревна, и видно, кто-то стесывал его топором с зазубриной, значит, у кого топор с такой большой зазубриной на вершок от нижнего угла лезвия, тот и хозяйствовал: тот и белок выбрал и все. Зачем же было постороннему человеку жечь избу?
Возле самого путика дыбом стоит кокорина (выворотень), как медведь на задних ногах, и мохом поросла эта кокорина каким-то бурым впрозелень, медведь и медведь. Александр становится с этой стороны, заслоняется: кокорина лапами своими подняла пласт земли, его и пуля не пробьет. А Павлу неминуемо из едомной избы идти по этому путику. Вот он и показался. Стой, Павел! Александр выставил ружье из-за кокорины и все, что больше двух месяцев таил, теперь сразу сказал, и про замок сказал. Но Павел стоит, как будто ничего не понимает, и он удивляется, что сгорела становая изба. Почему это он сжег? Ведь его же собственную избу тоже неосторожные люди сожгли.
– А белок зачем закопал? Павел тогда побелел.
– А ну-ка, подходи, а ну-ка, покажи свой топор!
Павел левой рукой подает свой топор. «Почему левой?» – подумалось только, и заряд весь пулей пролетел мимо уха, и не заряд решил все, а зазубрина; как увидел, так и порешил. И если б следствие, то можно бы тоже легко сказать по зазубрине, каким топором был убит Павел. Но какое тут в лесу следствие! Оказалось, что эта большая кокорина еле-еле держала равновесие. Немножко пришлось подрубить, подкопать – и она рухнула туда же, откуда была вывернута, и стала над Павлом, вся покрытая мохом каким-то бурым и впрозелень.
– Так, но слухам, наши прадеды в суземе законы устанавливали: кто пошалит, того и под кокорину, а в партизанской войне на Пинеге мы больше под лед их…
По всему было видно, что водяной хозяин этот свой случай в лесу первый раз рассказал: сегодня встретились, завтра навсегда простимся – почему бы и не рассказать? Но и то все-таки нам стало неловко. Вспомнили про колдобинку, где жили вьюн и карась, и что остался один карась.
– Почему так, – спросил я, – вырос ты в лесу, и лесом жил, и боролся с врагами в лесу, а служишь по водяному транспорту?
– Потому не служу по лесному делу, что сердце слабое: как увижу нынешнее хозяйство в лесу, так и зареву. Вот поедешь, поглядишь и сам заревешь. Ну, да бросим это, папаша, смотри ты, месяц-то как светит хорошо, видко, скажи, неужели правда нельзя взять месяц на фотосъемку?
Сон-человек
В нашей каюте, как раз против меня, едет отлично одетый, ловкий на все руки средних лет гражданин и называет себя старшим инструктором канадского пиления. Его рассказы о лесной промышленности мне были, как сны, сверхреальны в деталях, из них слова не выкинешь, притом цитаты на память, справки из книг на всех языках, так бы вот, кажется, и взял его в наркомы лесной промышленности. Но когда рассказ утренний за чаем сличишь с тем, что расскажется вечером за ужином – вдруг и оказывается, что это сон-человек из материала нашей видимой жизни творит сновидение. На кафедрах новых, американского типа, узких – птичьих, пушных, лососевых – втузов иногда у нас показываются такие профессора, побудут немного и, опутав всех вокруг себя птичьими снами, вдруг разоблаченные в газете кем-нибудь, как сон от толчка, исчезают…
Утренний рассказ ученого инструктора пиления был о пластмассе, которая должна вскоре вытеснить все другие материалы: химическим путем вся древесина превращается в жидкое состояние и прессуется. Продукт получается любой формы, доски, бревна, столбы, притом крепости необычайной. Вот, мне кажется, я сейчас понимаю, чем обманывает сон-человек: увлекая пластмассой, он тем самым исключает все другие пиленые и рубленые продукты. Бывало так: в девятнадцатом году деревенские ораторы, воображая себе в будущем трактор, увлекали мужиков бросить сохи, и те, очнувшись, отвечали: погодим еще бросать, подождем тракторов. То же самое было, когда появились тракторы, с лошадьми: сон-человек увлек до того, что лошади всюду без призора бродили. Так вот и тут, в лесном деле, не нужны больше доски, не нужны столяры, плотники, лесопильные рамы, заводы. А вечером окажется, что без пиленой доски не обойтись, и тогда пиленые доски вытесняют и пластмассу, и все другое. Или вот утром мы беседуем о победоносном шествии пилы на Севере: две необученные женщины с пилой вытесняют мастера-лесоруба, способного топором срезать деревья так же ровно, как пилой, и тем же топором делать тончайшие украшения для своей избы. Мы приветствуем утром наступление женщины с пилой против топора и предвидим близкий конец топора. Вдруг вечером является новая точка зрения художественной промышленности, и с этой точки зрения пила никуда не годится, она разрушает клетки древесины и тем не дает возможности тонкой отделки. Для такой работы нужен материал из-под топора, и только топор, только единственно топор может спасти нашу художественную деревянную промышленность. Какая же дрянь, с этой точки зрения, пиленый материал, пластмасса, как обедняет жизнь массовое наступление женщин с пилой против топора. Так необычайно реально и уничтожающе, как сны, проходят рассказы канадского инструктора, и одно лишь у него всегда неизменно: как бы ни было плохо, он выход найдет, он всегда оптимист. Правда, ведь если знать, что через несколько лет будет непременно все хорошо, то при всяких недостатках, кроме предметов личного потребления, может быть весело. Вот мы говорим о механизации, которая мне так не понравилась на молевых речках под Вологдой. Если к станку подкатка материала нешкуреного и откатка продукта готового совершаются руками, оба ручные процесса не только «слизывают» прибавку производительности станка, но часто весь комбинированный процесс производит меньше, чем только ручной. И это понятно: вместе с принципом механизации расстраивается культура ручного труда, его делают плохие специалисты, необученные рабочие и кое-как. Что тут скажешь? И что скажешь, если на лесной бирже рабочие бревна погружают в вагоны руками, а рядом стоят превосходные краны годами под дождем, без двигателей. Что тут скажешь? А инструктор канадского лесопиления смеется:
– Вот пустяки какие замечаете! Поедете на Бобровскую запонь под Архангельском и увидите образцовую механизацию, оттуда эта механизация, как свет из центрального источника, всюду проникнет, и потерпите немного, везде будет светло. А что лес рубят – вот какое дело! Вот какую себе заботу нашли! Сообразите земную массу лесов страны, подсчитайте, каков процент ее нарастает и как ничтожна сравнительно с этим процентом ежегодная убыль.
При этих разговорах с верхней полки иногда жутко смотрят на оптимиста чьи-то глаза. Человека самого я не замечаю, но глаза эти жутки, точь-в-точь такие мне вспомнились ночью. В девятнадцатом году, страшном по тифу, по голоду, по гражданской войне, я спасаю для библиотек книги из усадеб, пробую читать даже лекции об этом. И однажды захожу случайно на какое-то собрание. Странный вид я имею в этом собрании, на меня все смотрят: зачем такой в шляпе сюда мог прийти? А человек за столом, первое лицо в местной гражданской войне, берет меня «на глазок», – один глаз смотрит, другой для ясности поджат, как при стрельбе, – и я вижу этот страшный глазок, наведенный на меня, вижу, как палец возле этого глазка поманивает меня и поманивает. Никаких слов, а я между тем подчиняюсь неведомой силе, иду, продвигаюсь вперед, и все как будто злорадствуют, что вон он, шляпа, попался, идет…
– Кто такой?
– Библиотекарь, книги спасаю.
И никаких документов, все на глазок. И пожалуйста! Если уж коснется, то у меня тоже есть своя защита, и не глазок, а глаза. Я во все глаза смотрю…
– Библиотекарь… это хорошо, лектор еще, может быть?
– И лектор, конечно!
– Ну, садись, пожалуйста, посиди с нами, помоги…
Сейчас в каюте, мне кажется, сверху эти же самые глаза смотрят, я их чувствую, и мне бывает почему-то при этих глазах совестно оставлять без возражения канадского инструктора. Так мы и едем: одна сторона, верх и низ – наши, напротив внизу канадец, а сверху только глаза.
Мы понемногу плывем по Сухоне, – Тотьма, Великий Устюг, необыкновенно высокие, слоистые берега «Опоки», – скоро Сухона соединится с Югом широким, будет Малая Двина, а там вольется огромная Вычегда, и мы въедем в Северную Двину.
Читатель
С берега до берега так далеко, что светлою призрачной ночью невозможно разобрать ничего на другом берегу. На тихой, застекленевшей воде виднеются какие-то паутинки, и если не знать, то и не догадаешься, зачем они. Наверно, и есть какие-нибудь путешественники, и проедут и не полюбопытствуют, зачем это на широкой тихой воде лежат паутинки. Но это не паутинки, это бревна, скрепленные и проведенные дорожкой по реке, это направляющие боны, чтобы сплавляемые бревна, эта моль, тукаясь о них, получала направление и не заходила куда не следует. Было нам удивительно, что по этой паутинке шел человек, мало того, на паутинке у человека было жилье, небольшая конурка, и когда мы ближе подъехали, оказалось даже, что во всю стену избушки был нарисован хулиган, показывающий хуже, чем кукиш, и с отвратительной короткой надписью мелом.
Мы догнали буксир, ведущий плот к Архангельску; уступая нам дорогу, этот буксир концом влекомого плота зацепил за направляющий бон и вместе с избушкой повлек за собой. А человек, подходивший к избушке и успевший уже забраться в нее, устроиться, как только буксир тронул бон, конечно, выскочил. Живой человек, выскочив, прыгнул в челнок, а нарисованный человек закружился во все стороны, во всю даль Северной Двины, показывая свою красоту.
– Безобразие! – сказал кто-то возле меня.
Я обернулся и увидел перед собой те самые глаза, постоянно устремленные на меня в каюте. Небольшого роста человек, с тем особенным выражением лица, хватающим за душу, какое бывает у самых энергичных стариков, если их вдруг внутри что-то «кольнет», или у молодых людей, не способных сидеть сложа руки. Возмущенность похабной надписью я сразу понял; глубоко ошибаются те интеллигентные люди, кто пробуют иногда в ругани артистически состязаться с народом: сам народ презирает эту свою собственную ругань, презирает интеллигента, презирает, оскорбляясь, писателя, с шиком и треском вставляющего в свою поэзию и прозу эти слова.
– Не горюй! – ответил я незнакомцу, – это скоро пройдет.
И мгновенно, вспомнив одно свое наблюдение, рассказал:
– Зимой дома я часто прогуливаюсь по той самой тропинке через снежное поле, по которой ходят и школьники и часто пишут палочками на снегу для забавы. Постоянно я замечал при этом, что дети, начинающие русскую грамоту, пишут на снегу грубые, оскорбляющие слова, но как только начинают заниматься языками, то латинским шрифтом никогда не напишут русские поганые слова. Будут больше учиться люди у нас, и станет совестно. Это пройдет. В этом я оптимист.
– А я так и знал, – дружески ответил мне этот незнакомец, – я вас на глазок взял и понял, когда тот оптимист говорил вам о нарастании зеленой массы, я думал про себя: говори, мели, больше мели, когда-нибудь возьмут и тебя на крючок. Вы, наверно, журналист, писатель, может быть?
Он точно так же сказал «писатель», как тот в девятнадцатом году: «Лектор, может быть?»
И вслед за моими словами читатель мой, местный патриот, большой деятель, принялся посвящать меня в больные вопросы северного леса.
Оказывается, зеленая-то масса, ежегодно прирастающая, это ведь только с высоты самолета представляется лесом, если же приземлиться, то окажется не лес, а чахлые зеленые деревца, прикрывающие трупы деревьев. С высоты самолета видно, как по зеленой массе синими жилами проходят речки и уносят только экспортные бревна, первое дерево, второе дерево, вершина все так и остается. Эти остатки гниют, заражают закорышем здоровые деревья, и так все это зелено сверху, а внизу это не лес и даже хуже гораздо, чем пустошь и вырубки, – там на чистой вырубке через двести лет будет лес, а здесь этот погубленный должен вовсе сгнить, и тогда, лет через сто, начнет расти новый.
Странно было слушать эти слова, когда огромные бревна плыли вокруг нас в Архангельск на лесопильный завод, то и дело стукали в пароход, и так занятно было ждать, глядя на плывущую к нам навстречу партию бревен, загадывать: увильнет от нее пароход или опять вздрогнет от удара. Откуда же вся эта масса, если леса уже кончены?
Нет, они еще не кончены, но каждый год все трудней и трудней становится выполнять план, приходится районную площадь разбивать на все большее и большее число лесоучастков, из которых можно кое-что выбирать.
Какое же спасение?
Сплошные механизированные рубки, при которых леса сами собой возобновятся.
Механизация, бесчисленные целлюлозные и другие заводы.
– У меня есть своя идея, – сказал мне читатель.
И принялся было мне рассказывать об устройстве заводов сульфатных и сульфитных, но как раз, заметив нас, радостно подошел и сел на лавочку рядом с нами канадский инструктор.
Я кое-что рассказал ему из нашей беседы, и он ответил:
– Все это и правда отчасти, но вы неправильно время чувствуете, бы провинциалы, вам бы надо в Канаду съездить.
И вот опять мы во сне.
– Можно ли вообще лес принимать так близко к сердцу? – говорит наш канадец. – Что такое лес в сравнении с каменным углем, а между тем и каменного угля во всем мировом запасе остается на немного лет. Мы накануне пользования безграничными запасами энергии внутриатомной, а вы тоскуете о лесе, этом аккумуляторе человеческих чувств, связанных с косностью. Лес консервативен, как старая баба, и чем скорей мы с этой дрянью покончим, тем свободней, лучше нам будет жить.
– Пусть так, но что же делать с этим огромным, испорченным лесом?
– Бросать, когда будет нечего взять, – решительно ответил канадец, – не обращать никакого внимания и переходить к сибирским лесам.
– Да как же их возьмешь?
– Морем, по новому пути.
– Вроде челюскинцев?
Мой читатель глухо молчал. Я тоже перестал спрашивать. И канадец наконец-то догадался оставить нас с нашими думами.
Тогда я принялся рассказывать читателю о своей Берендеевой чаще, которую хотел бы увидеть на Севере, совсем не тронутою топором человека.
– Есть один лес такой, – ответил он, – но спешите, я слышал, к нему уже подводят ледянку. Есть одна Чаща, но путь туда, и особенно весной, тяжелый. Надо выйти из парохода в Верхней Тойме, проехать сто километров верхом – лошадь будет сейчас по брюхо в снегу – в леса, дальше по реке Пинеге надо на лодке спуститься до Илеши, и от Усть-Йлеши подняться до реки Коды, и на стружке по Коде против быстрого течения подняться до самого верху, пока только будет плыть стружок. И там пешком берегом Коды дня два, и когда последняя излучина Коды уйдет под лето, реки потекут в Мезень, тут возле речки Порбыша будет и Чаща.
– Какая же она?
– Чаща эта спелая, но не старая, деревья прямые, как свечи, одно к одному, ровные, там стяга не вырубишь и дерева не повалишь: дерево подрубленное склонится к другому, не упадет.
Непонятный восторг охватил меня, я бросился расспрашивать в подробностях путешествие в Чащу, и мой читатель наконец-то как бы понял меня:
– Понимаю, – сказал он, – вы хотите показать нам, читателям, какой лес у нас был когда-то и каким мы его сделали? Вам для сравнения и для показа надо Чащу увидеть?
Читатель очень обрадовался сам своей догадке, а я тоже обрадовался, что нашлось такое чисто гражданское оправдание моему бессознательному стремлению в какую-то Берендееву чащу.
Я обрадовался этой находке Чащи, о которой здесь все говорят. По опыту всех своих путешествий я знал, что поездка моя теперь не пропадет даром, и, как найденное сокровище, какой-нибудь драгоценнейший алмаз, спрятал я к себе эту Чащу и стал стеречь ее у себя…
Запонь
Высокий берег северной реки иногда называется слудой. На такой слуде стоят высокие деревья, и всех выше лиственница. Настоящие гиганты-«листяги» вырастают на таких слудах. Сквозь кручу, однако, пробился ручеек, оделся веселой травой, невинно прыгает, как дитя, с камня на камень и бросается в реку. Мы выходим на берег полюбопытствовать о происхождении ручейка и, быть может, насладиться девственным лесом, каким он кажется нам с воды. Мы обманулись, и как! Только на осохшей узенькой бровке берега стоят высокие деревья, прямо же за этой ширмой в несколько десятков метров лежит темная рада, или болото, покрытое мелкой, замшелой и какой-то гнусной елкой, всем своим видом убеждающей нас отбросить всякую лесную поэзию и на все смотреть чисто «практически». Бровка берега одна только и сдерживает напор темной рады, но вот один ручеек, нами замеченный, прорвался и начал свое дело. И рано или поздно вся слуда будет сверху донизу прорвана, и темная рада высохнет.
А бывает, за таким береговым болотом лежит еще одна темная рада, дальше еще, и до глубины сузема лежат соединенные темные рады – сурадье; по берегам такого сурадья на гривах стоят иногда чистые боры-зеленомошники и оленья радость – боры-беломошники. Вот размоет ручей береговое заграждение, и понесется весной бурная сбежистая река, и по ней тогда уже непременно из глубины сузема молью, круглым лесом, поплывут вниз боры-зеленомошники и боры-беломошники. Сбежистые молевые реки в темном лесном сурадье, если сверху смотреть, голубеют, как вены, и только в последних километрах своего пробега становятся желтыми: это желтое – задержанный запонью круглый лес.
Вот у такой-то реки, предавшей человеку девственный лес, пароход наш остановился. Эта река, пробившая высокую стену берега северной реки Двины, была Верхняя Тойма.
Глубинный залом
С самого первого дня своего прилета, по моим приметам, трясогузка всегда бегает у воды, по краешку тающего льда, и потом, когда лед растает, бегает по берегу, почему-то возле самой воды. Если берег крутой, песчаный, то на песке остается отчетливый, как строчка в книге, следок, вода спадает за ночь, и строчка остается вверху, а трясогузка пишет новую строчку, и по этой странице можно читать, начиная с самого первого дня спада воды, в какой день она спадала больше, в какой меньше.
Трясогузка хорошо записала ход нынешней ранней весны. Проходила эта весна на низком горизонте воды, вспыхнуло несколько дней горячих, и опять на перекатах осталось восемь – десять сантиметров. Небывало рано началась затайка, потом заморозки изо дня в день, без конца, и так получилось, что большие реки прошли, а малые остались, и пришлось их взрывать. Строили плотины, собирали воду, и так медленно продвигали круглый лес к запоням.
Так хорошо было этой весной трясогузке писать непрерывно свою большую страницу. Но прошло время, снег, медленно таявший до сих пор в лесу, дал воду. Внезапно вся работа трясогузки ушла под воду. Сплав, проходивший до сих пор так низко, пошел по высокой воде. И затрещали запони, выдерживая давление своих глубинных заломов.
На Сухоне, на Юге в то время вода еще продолжала падать, но Вычегда поддержала, и на Двине вода поднялась. А из далеких лесов, из этих страшных сурадий ринулась вода со всей силой. Горизонт Верхней Тоймы поднялся много выше Двины, там на двадцать сантиметров, а тут на шестьдесят, а эта стена воды с огромной силой давила на запонь.
Век леспромхозная администрация бросилась на участок Нижней Тоймы, на Верхней же Тойме все учреждения, включая прокурора, по телефону заговорили о сплаве, и стало как на пожаре: вот-вот прорвет, а весело, и всем интересно.
С утра до ночи, все круглые сутки, бревна, приплывая к запони, ныряли под «пыж» и так набивались до самого дна, давили снизу, и от этого давления верхние бревна то там, то тут вдруг выскакивали, как мертвецы у Гоголя, и оставались так, иногда даже кивая кому-то в пространство. После бурной ночи сорвало почти все канаты, вывернуло многие мертвяки, весь «пыж» стоял, как ежик, шевеля своими иглами, готовый ринуться всей массой в Двину.
По всей запони, с берега на берег, по бревнам мы ходили в штиблетах, а инженер – даже в белых туфлях, и говорил нам, что давление на один квадратный метр такого залома – тридцать – тридцать пять тонн и что это у них называется глубинный залом.
Дворовой мох
Ночь такая светлая! Чуть откроешь глаза, и видно, как мучители в доме колхозника, выползая из моха между бревнами, направляются к твоему телу за кровью. Дворовой мох, на котором ставят жилища на Севере, является для насекомых лучшим убежищем, и по-настоящему бы без штукатурки, хотя бы даже и просто из глины с песком, надо запретить пользоваться такими жилищами. Спать невозможно, и мы, почесываясь, выходим из ужасного жилища на волю. И вот перед нами Северная Двина, во всей своей летненочной красоте, открыла на высоком своем берегу широко ворота, принимая в себя Верхнюю Тойму. С того берега Тоймы прямо по запони, но бревнам, тесно набитым, по этой желтой реке сплавного леса какие-то люди идут, переходят, поднимаются белой тропой на высокую кручу нашего берега. Старуха с мешком на плече, уморенная, села, затерялась глазами по разливным озеркам Тоймы и по великой Двине. Обходя мешок ее, поставленный в забывчивости на самой тропе, проходят люди. Старая, древняя старуха! Призрачной белой северной ночью, принимая близко к сердцу видимое горе этой хорошей старухи, кажется, что это не люди за спиной ее проходят, а призраки: был у нее старик Иван Кузьмич, вот теперь и проходит, два сына были убиты на войне, один за царя, другой за Совет, и теперь проходят себе тоже куда-то, а она все сидит и сидит…
Мы устроились на камне, тут недалеко от старухи, с интересом наблюдая, как плывущие бревна ныряют под пыж, как новые и новые бревна, принимая на себя давление из-под низу, вдруг выскакивают, кивают нам всем прямым туловищем, без ног, без головы.
Один из призраков, проходящих за спиной северной старухи, увидев нас, захотел возле нашего камня отдохнуть и побеседовать. Он оказался охотником с Выи, притока Пинеги. Там, рассказывал он, живут одни только охотники. И там тоже леса сплавляют и по Вые, и по Пинеге, но если по реке Коде подняться к истоку ее и перейти тропами суземок до Порбыша, текущего в Мезень, там есть еще лес, который никогда не видал топора человека. Этот бор-зеленомошник называется Чаща: там трехсотлетний, мачтовый лес стоит такой ровный, что стяга не вырубишь, такой частый, что спиленное дерево не может упасть. А вокруг этих Чащ стоят тоже не знающие топора боры-беломошники, в чих большими стадами пасутся дикие олени… Так много диких оленей, что, если бы взяться, можно в неделю на год обеспечить мясом рабочих на сплаве. Тоже очень много медведей, сейчас, ранней весной, они ходят по зеленым наволокам, копаются, достают какие-то корешки, полезные для очищения желудка.
Когда охотник взвалил себе на плечи ношу, простился с нами и ушел, я вдруг вернулся мыслью к юношеским своим путешествиям по Северу и понял ту силу, которая нынче ночью спасла меня от клопов. И тогда, помню, точно так же клопы не давали мне спать и выгоняли из жилищ, заставляли двигаться все вперед и вперед. Конечно, не одни клопы подгоняли, есть множество неприятностей, подобных клопам, раздражающих, вызывающих силы неведомые для движения дальше и дальше от своего дворового моха. Однако надо же и на месте жить. Конечно, жить и бороться с клопами. В моем опыте против кровожадных насекомых помогает смесь скипидара с концентрированной карболовой кислотой. Необходимо надо травить клопов, чтобы облегчить людям жизнь. Травить надо, непременно травить и замазывать глиной с песком. Но только надо, по-моему, разделить всех клопов на общих и личных и против общих клопов держать скипидар и карболку, а о личном клопе, жалящем тебя в душу или в солнечное сплетение, надо знать, что он преодолевается не одною карболкой… Сказочно прекрасна светлая ночь на Двине в летнее время!
Экспедиция в чащу
Круглый лес! Всю природу свою мне приходится перестраивать, чтобы научиться просто выговаривать, как все окружающие меня люди на сплаве: круглый лес. Мой лес, как он с колыбели во мне складывался, не имеет определенной геометрической формы, и главное его свойство, что он выше меня, что я могу в нем притаиваться, как зверушки, что он живет много дольше меня и что он распространяется по земле своими породами, как люди народами: ель, сосна, осина, береза, – все движется по-своему. Но, конечно, если поспеет лес, – не сгорать же ему! – лес надо сводить, и вот получается лес круглый.
Правда, не отдавать же спелый лес червям и пожарам, всему есть конец, и леса надо сводить. И я служу этому делу добросовестно: в каждом леспромхозе беспокою служащих своим любопытством. Но Чаща, та далекая Чаща, где стяга не вырубишь, где срубишь дерево и оно, не падая, прислонится к другому, – эта Чаща неприкосновенна. Круглый лес – это конец. Чаща – это начало. С этой мыслью иду я к секретарю райкома просить его помощи для моей летучей экспедиции в Чащу.
При моем приходе в райком там у секретаря сидел уполномоченный крайкома, и первая фраза, услышанная мной из их беседы, была:
– Чтобы выполнить такой план заготовки на будущий год, нам придется добраться до Чащи.
– Как Чащи, какой Чащи? – прервал я беседу о круглом лесе. – Не той ли Чащи в водной системе Мезени, где лес совсем спелый так част, что…
И все люди, столь серьезно говорившие о круглом лесе, вдруг поняли мое желание увидеть Чащу, как будто и они тоже в глубине души главным свойством леса считали, что там можно спрятаться, притаиться вместе, что леса живут дольше нас и распространяются, переходя болота и горы.
Кто-то оказался партизаном и рассказывал о лесных избушках, в которых красные укрывались во время борьбы с белыми.
– Увидите, поночуете, поймете, какая была это борьба.
Нашлись охотники, долго существовавшие промыслом пушнины.
– Там, – говорили они, – пилы не знают, вы поймете, какое совершенное орудие топор.
– Там колеса не видали и ездят весь год по мхам, по грязи, по лесам, по болотам на санях.
Нашлись, кто и пожалел: сто километров до Пинеги надо ехать верхом, снега в лесу теперь лошади по брюхо.
– Приходилось ли ездить по ста километров?
– Очень давно.
– А вверх по реке Коде, на стружке в подпирку под дождем, это можете вынести?
– Это случалось.
– А потом суходолом и по болоту на своих на двоих?
– Хаживали!
– А потом семьсот километров спускаться по Пинеге до Архангельска на плоту или на лодке?
– Спустимся как-нибудь.
После того секретарь райкома, очевидно, желая поскорее покончить с увлекающей всех Чащей и перейти к лесу круглому, сказал куда-то по телефону о верховых лошадях и долго добивался соединения с Пинегой. И только что соединили, только что успели передать в какую-то Согру на Пинеге о скором моем приезде, как вдруг все оборвалось, связь с далекой Пинегой, и с Нижней Тоймы сказали:
– Запонь прорвало!
Секретарь ответил:
– Веселое дело!
Все сразу разошлись, почти бежали на помощь, кроме секретаря и редактора местной газеты «За новый Север».
Секретарь выписал нам на дорогу хлеб, масло, чай, сахар. Чего еще надо? Мы, охотники, мясо в лесу сумеем достать. Все! Но редактор, подумав, приписал два килограмма печения.
Последняя деревня
Вспомнив из своего далекого прошлого, что на верховую лошадь надо садиться с левой руки, я взобрался на коня, и мы тронулись в путь, далекий и трудный, сначала полями селения Верхняя Тойма. В овраге лежало еще много снега, но озими освободились, и хотя не омытые, в пленке, но все-таки зеленели. Стайками разгуливали по зеленям ржанки, по-здешнему серули, птица в научном отношении чрезвычайно интересная.
– Токуют ли еще глухари? – спросил я.
– Падают ли тетери? – передал мой вопрос спрошенный проходившему мимо колхознику.
– Снегу еще довольно в лесу, – ответил прохожий, – наверно, падают.
– Глухари токуют, – ответил мне спрошенный.
И так мы узнали, что глухари здесь называются тетерями, а полевые тетерева – польниками, что глухарка у них – пеструха, а тетерка – теруха, и что падают – это значит слетают с дерева на землю и дерутся (на току).
В четырех километрах от села на пути нашем опять встретилась та самая река Верхняя Тойма, в устье которой, в селе Верхняя Тойма, в запони мы ходили по бревнам, как по земле. Летом здесь переезжают реку, едва замочив колесо, а теперь, весной, эта большая река обрывает нашу дорогу и стремительно несет свои мутно-желтые болотные воды в Двину. Мы отправили лошадей обратно в Верхнюю Тойму, а сами с вещами своими переправились на другую сторону на лодке, с большим трудом справляясь с бурным течением.
На правой высокой стороне реки деревня Сухой Нос Тут нас дожидаются другие верховые лошади, присланные из Вершинной Горы, где находится леспромхозный обоз.
– Ледяночки! – сочувственно назвал их кто-то из жителей Сухого Носа.
Это значило, что лошади наши зиму работали, возили лес по искусственной ледяной дороге – «ледянке»: поливают снег, и дорога становится твердой. Нам дали самых лучших лошадей из обоза, моя маленькая каряя, говорят, по четыре комплекта таскала, серый высокий конь совсем не работает на ледянке, на нем провожают в лесные труд-колонии провинившихся граждан. Это было хорошо известно жителям Сухого Носа, и серый конь, конечно, был всем знаком. Петя в кожаной куртке, со значком ворошиловского стрелка, с ружьем за спиной был вполне похож на военного, сопровождающего бандитов и других подобных граждан на места поселения. Я же, старик с бородой, был, вероятно, тоже похож на кого-нибудь из раскулаченных. Какая-то сердобольная старушка кивнула головой на известного серого коня и шепнула мне:
– В какой сузем[25], дедушка, тебя гонят и за какую вину?
– Бандит, – ответил я, – бандит, бабушка, оторвал чужому петуху две головы.
Старуха слишком серьезно жалела меня, чтобы разбираться в моих веселых словах. Окинув всего меня с лошадью старушечьим взглядом, она сказала:
– Какой вред от тебя… Ну, путь тебе добрый, поезжай с Христом, не хворай!
Мы въехали в тот испорченный лес, каким он всегда бывает в лесной стороне вблизи жилья человека. Вскоре дорога наша определилась, мы едем по правому высокому берегу реки; сквозь неодетые лиственные и разные хвойные деревья виднеется внизу широкая долина Тоймы, и внизу там одна за одной довольно частые деревни. Снег еще был в лесу, но не так много, как говорили. И очень удивил нас замеченный возле дороги сморчок: когда еще этой весной мы проводили сморчки под Москвой, казалось, это уже на целый год, а вот опять сморчки, и вон опять лягушки мечут икру, весна во второй раз для нас начиналась. Но самое удивительное было нам, хорошо знающим подмосковную весну, что почки на березах здесь раскрывались в то время, когда под березами лежал еще снег. Сколько времени у нас проходит между последним клочком снега в лесу и тем днем замечательным, когда из шоколадного цвета напряженных березовых почек выглянут зеленые подкрыльники, и кажется тогда – почки эти, как жучки: поднимутся и вдруг все улетят. Это явление объясняется просто тем, что в северных лесах, несравненно более густых, чем наши, снег залеживается до тех пор, пока солнечные лучи не станут очень горячими и тепло их не обнимет вершину дерева. По пути мы встречали лесные озера, пересекали много ручьев, стремящихся в Тойму. Невольно создавалось такое представление, что где-то в диких частых ельниках, В сограх[26], лежат еще большие запасы снега, и оттуда бегут эти временные ручьи и долго еще будут бежать, но когда-то сбегут, и Тойма, тоже сбежистая, станет очень мелкой рекой. И сама Двина, такая необъятно великая летом, из года в год, по мере того как рубят леса, к середине лета все больше и больше начинает сбегать, и все трудней и трудней становится бороться с перекатами.
Взбадривая лошадей, мы едем спорым шагом, и вначале кажется, что сидеть без усталости можно сколько угодно. Больше утомляется голова однообразным зрелищем, потому что даже и при такой езде нет времени сосредоточиться на лесных деталях и увлечься этой лесной книгой, как на прогулках пешком. Вдруг среди однообразия хвойных деревьев впереди мелькнуло что-то ярко цветное, скрылось, опять показалось непонятно, и за поворотом явилась к нам молодая женщина в ярко-желтом наряде с синей шалью и в красном берете на голове. Она спешила по грязи и снегу, босая, в руках же несла новые башмаки в новых блестящих галошах.
– Куда вы спешите, гражданочка? – спросил ее Петя.
– К празднику, – ответила женщина, – к Николе Вешнему, в Милу.
– Мила – деревня такая?
– Мила – последняя деревня, дальше будет сузем.
И гражданочка на босых ногах своих, как гусь на красных лапках, тронулась вслед за нами в последнюю деревню, не жалея нисколько своих ног и ревностно оберегая полуботинки с резиновыми галошами.
Становится одновременно как-то и проще, и все труднее писать свои путевые заметки, в простоте окружающего кажется так трудно найти что-нибудь выдающееся, между тем, если вникнешь, то и тут везде и во всем перемены. Так мы проехали Вершинную Гору, покормили там в леспромхозе лошадей, снова встретили Тойму, переехали мост, и видим, возле моста на той стороне стоит обыкновенный теперь везде трактор «сталинец». Однако явление трактора на лесной дороге не так-то просто, проход трактора – огромное событие для всего района, равного по территории целому европейскому государству. На Пинеге только ранней весной могут пройти два-три парохода и завезти туда продовольствие на весь год. Трактор же пущен, чтобы испытать, нельзя ли сухим путем на Пинегу с Двины доставлять продовольствие. Так вот встречается трактор, и просто кажется, а оказывается, это первый трактор в краю привез на Пинегу первые пятьдесят пудов муки. Сокрушив много мостов, истратив много горючего, конечно, не так дешево доставил трактор муку, но ведь и всякий опыт чего-нибудь стоит.
Путь наш продолжается опять в лесу высоким берегом, но только не по правой, а по левой стороне реки, и лес, удаляясь от жилья человека, становился все гуще, и снегу в нем все больше и больше. Теперь на снегу, лежащем по обеим сторонам грязной дороги, мы с большим интересом разглядываем следы: обмочит все еще белую зимнюю лапку заяц или горностай в грязи и потом размазывает свой грязный след по белому снегу. Мы ожидали, конечно, что и Михаил Иванович промажет своим валенком, и раз даже подумали на него, но вскоре догадались, что это катила босая нарядная женщина и, пока мы отдыхали в Вершинной Горе, успела нас обогнать. Вот она и сама стоит на дороге и делает нам какие-то знаки рукой. Вдруг прыгает заяц через дорогу, и, оказывается, женщина видела этого зайца и предупреждала: заяц должен перебежать нам дорогу и тем вызвать беду. К счастью, вслед зайцу белка перебежала дорогу, и мы женщине объявили, что белка – к благополучию и несчастье от зайца после белки бессильно.
– Как же вы это знаете? – удивилась женщина и спросила Петю, указав на меня: – В Талицу гонишь старика или в Охтому?
Талица и Охтома – трудовые колонии за последней деревней Милой в глухом лесном суземе. Принятый второй раз за бандита без всякого повода с моей стороны, я представил себя в несчастье, сопровождающем человеческое общество во все времена: вышло недоразумение, и меня, невинного, осудили и назначили работать в этом диком – лесу. Вообразив себя в таком положении, стал я мучительно раздумывать, как мне поступить, бежать вон из леса и жить потом казацкой удалой жизнью под чужим именем или же, оставаясь в лесу, убежать внутрь себя, выполнять все, что мне прикажут, и внутренней силой своей завоевать к себе уважение и в сознании личного своего достоинства открыть себе путь к свободе. И немудрено, что вопрос такой явился по поводу смешного недоразумения, этот вопрос органически жил со мной и теперь вдруг проявился: моя родина – окраинный город Московского государства, разделяющий лесную жизнь от степной. В одну сторону, степную, от всяких бед своих люди бежали, удалые казаки и всякого рода предприимчивые воры, в другой оставались и трудились люди в лесах, преодолевая трудом и силой воли свое личное горе.
Так всегда наивно, часто по какому-нибудь даже глупому поводу, зарождаются мои рассказы, и я сначала и не подозреваю, что из этого выйдет потом литературная вещь. Я мучаюсь, вспоминая свою собственную жизнь: и так и так приходилось, и множество раз бежал я, охраняя свою радостную целину, и бывало тоже, не раз оставался на месте и отражал врагов внутренней силой, обретая истраченное на борьбу обратно с большой прибавкой. И как только вообразишь себя в этом суземе далеко за последней деревней, среди выворотней и неподвижных стволов, жутко-жутко так начинает ныть в душе, а потом это же чувствуешь и в костях: даже от воображаемой сырости начнут ныть простуженные и залеченные электричеством кости… Бежать, конечно, бежать! Но, убежав из леса в далекие вольные степи с чужим именем среди чужих мое людей, я как будто теряю все свое лучшее, брожу, как самозванец, и чужие люди мне ужасней неподвижных деревьев в лесу.
Но вот мало-помалу лес наполняется белыми березками, – это признак близости человека: тронуты коренные деревья, и наместо их вырастает березка. Лес расступается. Наша дорога поднимается высоко в гору. Избы последней деревни как будто стоят в небесах. С высоты этого большого, веселого, убранного зеленями озимых хлебов холма виднеется наш путь, пройденный в этих мрачных лесах. И тогда, приняв все видимое на себя и снова опять выглянув из себя, понял я лесного человека: жил ведь он тут и никуда не бежал, работал, работал, повторяя про себя: лес – бес! И вот победил. А как же весело играют на вешнем празднике гармоньи, девушки в разноцветных платьях танцуют ту самую старинную кадриль, какую и мы танцевали детьми. Старый краснорожий бородатый дед, здорово выпивши, застрял в сенях и не унимается, тут же на месте топчется, отплясывая под звуки гармони. Весело мне становится, как после большой победы, когда все истраченные силы разом вернутся к тебе. Нет, конечно, как бы ни было мне тяжело, я лучше буду бороться среди неподвижных стволов, чем, утратив самое Имя свое, в бегах, самозванцем слоняться среди чужих мне людей.
И так мы весело простились с последней деревней.
Обезьянка
Наш отдых был светлою ночью в суземе на половине волока, в избе фуражиста из белорусских трудпереселенцев. За чаем я поставил хозяевам свой вопрос, и, конечно, люди, рожденные в лесах, стали на сторону тех, кто, не уходя с места, переживал все временные невзгоды водворения на новых местах. Они рассказывали для примера о судьбе одного кубанского казака: не подчинился казак и убежал. Ночью, проходя мимо родной деревни, он вдруг вздумал на прощанье взглянуть на свой дом. И когда увидел на своем доме надпись «Ясли», не выдержал, бросился в дом, выгнал людей и выбросил все, что относится к яслям. Его, конечно, опять куда-то отправили, и ничего хорошего из этого потом не вышло, а вот они, белорусы, жили в шалашах, жили в землянках и так до аптеки дожили, до электричества и трактора. Теперь в трудколониях уже не так плохо живется.
После чаю мы думали спать без конца, пока не выспимся, но через несколько часов мертвого сна вдруг петух, живущий в избе вместе с людьми, ужасным криком своим и хлопаньем крыльев выгоняет нас из дому, и мы опять в лесу под дождем. И снова древний вопрос нашей истории, разделивший весь народ на оседлых обитателей и на убежавших в степи казаков, начинает мучить меня с другой стороны: ведь тогда было рабство, и кто оставался, тот оставался рабом.
А дождь все сильней. Мы рассчитывали запастись спецодеждой в леспромхозах, но у них и для себя не хватало. Вся надежда была, что ватная куртка очень долго может разбухать, не допуская воды до тела. Лошадь ступает в крупчатый снег, сижу на одной половине седла и опираюсь на одну ногу. В таком положении под дождем я неожиданно ставлю мучительный вопрос на литературные рельсы: по человеку, думаю, надо решать задачу, пусть их было два брата, один по характеру своему остался при доме, другой пошел на сторону достигать. Мало-помалу жизнь двух этих братьев увлекает меня, и я все забываю вокруг. Это свойство моей волшебной профессии – при всяких условиях оставлять меня независимым от внешних условий, преодолевать скуку тюрьмы и дорог – одинаково с самого начала, и теперь все по-прежнему изумляет меня, и часто до сих пор я благословляю тот час, когда взялся я за перо.
Вдруг на пути нашем явилась довольно большая желтая река. Мы узнали ее: это – Охтома, впадающая в Пинегу, а вокруг в лесу стало до того безобразно, что трудно и передать: как передашь безобразие. Кажется, это бывает от лесных пожаров: одно дерево повалится, другое, обгорелое, черное, стоит чудовищем, третье, падая, прислонилось к чудовищу, и все снизу густо зарастает. Местами лес обгорелый лежит в несколько ярусов, тут человеку невозможно пройти, и зверь сюда очень не любит ходить. И небо низкое моросит, и река желтая…
Нас до костей еще не пробрало: показалась избушка фуражиста на Охтоме. Хозяина дома не было, железку нам растопила хозяйка, еще не старая женщина, но какая-то серая лицом, под стать всему в этом лесу. Я, однако, сразу успел заметить ее глаза, и она этими своими маленькими умными глазками вмиг поняла по-своему, какие наши лошади, кто я и кто Петя.
Тепло от железки клонит ко сну. Я у стола на лавочке растянулся, сплю и не сплю. Вдруг, открыв глаза, вижу – за столом сидит и смотрит на меня обезьянка; до того некрасива эта женщина, так у ней кости в лице сошлись, так сложились челюсти и губы такие – настоящая обезьянка. Людям стыдно видеть себя в обезьяньем виде только при первом взгляде, при близком же знакомстве с обезьяной за сердце хватает смертельная тоска в ее маленьких, живых и умных глазах, чувствуешь, что вот из этого, а не из шерсти и костей, произошел человек и что ото не плохо.
Так вот обезьянка облокотила свое лицо о кулачок и глядит, и глядит внутрь меня неотрывно. Жутко становится, но, чтобы не показать ей этого, я, как ни в чем не бывало, достал гребешок и начинаю расчесывать волосы.
– Делаешь? – спросила она. – Или такие от роду?
Я ответил:
– Не родись богатым, а родись кудрявым.
– Хорошие волосы были!
– Были! Они и теперь, видишь, как вьются.
– Сивый! – сказала она и по-прежнему все смотрит и смотрит в меня. – В какой сузем тебя загоняют?
– Что ты! – засмеялся я. – Петя – мой сын, мы по воле едем, добрый молодец по неволе не ходит.
Но видно было, что ей это и не важно, по воле мы едем или по неволе, своей смертельной обезьяньей тоской она проникла теперь уже гораздо дальше этой моей мысли о воле-неволе, ее как будто занимали только седеющие остатки моих кудрявых волос. И оттого, как только сказал я «молодец»…
– Сивый! – повторила она.
И продолжала смотреть внутрь меня.
Говорят, на Севере, что дождь – как гость: если утром пришел, то и уйдет, а если после обеда придет, ночевать останется. Гость ушел, мы поехали сухой боровой дорогой, и вдруг северная природа нам улыбнулась…
На Севере люди живут иначе, они живут не в объятиях природы, как на юге, а так вот – работают, работают изо дня в день, долго не обращают внимания на природу, и вдруг эта природа улыбнется, и тогда, радуясь вместе с природой, все бросают работу. Много работая, лишь изредка встречая улыбку, от улыбки к улыбке живет северный человек, и в этих улыбках находит для себя больше радости, чем южанин в объятиях.
Мы ехали десятки верст, а, говорят, их больше семидесяти, и на всем пространстве сгорел роскошный бор: бывает же так, триста лет жил, копил древесину – и вдруг весь бесполезно сгорел! Мы ехали по такой сухой дороге в сгоревшем лесу, что земля под копытами лошадей, как пустая, бунчала. Везде вокруг нас лежали обгорелые стволы. Но тоже везде ровно, без всяких пропусков вставал молодой сосняк и старался поскорее закрыть собой черные стволы. После дождя маленькие, чудесного вида, деревца сверкали на все цвета, всеми капельками, каждая мутовочка радовалась жизни. И я тоже забыл все мои мрачные мысли во время северной природы, и мы ехали дальше, вспоминая милых умерших, втайне радуясь сердцем, что сами остались в живых.
Пинжаки
Вот и Пинега, и первая сверху по Пинеге деревня Керга. Здесь большая книзу река и весной не шире Москвы, летом ее вброд переходят. Сверху она досюда бежит сто верст и туда, наверх, приходит двумя реками: Белая река и Черная река. С Белой леса уже сплавлены, на Черной еще держат. Черная река рождается в темной раде (темная рада – это болотный ельник; светлой радой называется сосна по болоту). Там, в темной раде, есть один родник, с которого и начинается Черная река. Отсюда же недалеко берет начало река Лаха, и почти рядом с Черной. Черная бежит в Двину через Пинегу, Лаха же – прямо в Двину. Верховья рек на этом Севере, по всей вероятности, чаще всего таятся в темных радах: ельник сильно задерживает таянье снега. Интересны везде верховья рек, и, вероятно, их-то особенно и надо охранять. Чудеса рассказывают про истоки некоторых рек. Вот есть река Лахома, берущая начало в соседстве с Пинегой в Чуровской раде. Небольшой начальный ручеек подрывает лес. Большой лес ложится на речку, и сквозь лом новый лес пробивается и вырастает большой, и под этим лесом все прежнее мохом закрыто, и глубоко под мохом бежит река…
Обитатели берегов Пинеги сыспокон веков называются пинжаками. Как нам показалось, эти пинжаки в жизни своей отразили последнюю простоту леса и топора. Еще очень недавно топор был единственным универсальным орудием лесного производства: топором рубили деревья, топором делали доски, избы целиком рубили одним топором и даже без железных гвоздей, и художественные изделия – и какие! – делались тоже топором. Техническую революцию на Пикете сделала женщина с поперечной пилой против мужского топора: две необученные женщины с пилой могли легко состязаться с одним мастером топорного дела, получившим навык свой в вековом опыте предков. Тоже очень недавно появилось на Пинеге колесо, до сих пор считали, что по грязи, по песку и моху лучше ездить на санях даже и летом. Только в самое последнее время, когда начались новые колхозы, пинжаки стали забрасывать охоту и принялись за сельское хозяйство. До того они мало занимались сельским хозяйством, что кур у них вовсе не было (не было зерна для них) и тоже не было свиней. Есть предположение, что рубка лесов в Норвегии повлияла на течение Гольфштрема, и у нас на Севере во многих местах прекратились зеленые годы, когда хлеб не вызревал; вот уже лет десять на Пинеге и не знают, что такое зеленые годы. Раньше пинжаки охотились, работали по сплаву и на вырученные деньги покупали себе все необходимое.
Когда пришло время устроить колхоз, то в Керге назвались «Бедняком», упустив из виду, что уже дан сигнал зажиточной жизни. Теперь все смеются над «Бедняком», тем более что и председатель его, Василий Павлович Черендов, человек вовсе даже неграмотный.
Керга раньше имела охоту за сто верст от деревни по реке Белой, и в сентябре вся деревня на стружках поднималась вверх на промысел. Теперь колхоз выделил всего пять охотников, которые работают на Союзпушнину. Какой расчет удалять от себя и выделять для другого учреждения хорошего работника? Итак, это только редкие счастливцы теперь занимаются своим привычным любимым делом, охотой, а птица гремит в лесу, и если ее не будут отстреливать, другие причины, биологические, будут регулировать норму птицы и зверя в лесу.
– Как вам живется? – спросил я председателя.
– Не очень-то жирно: мешает сознательность, – ответил неграмотный человек.
Мы очень удивились, встретив на Пинеге своего рода «горе от ума», но председатель тут же вскоре и дал нам объяснение этой сознательности:
– На Пинеге у нас люди сознательные: надо же ведь в трудное время поддерживать государство.
К нашему приезду весенняя вода залила озими, и бани стояли как свайные постройки, их так много, почти у каждого хозяина – своя баня. И что за прелесть была измученному непривычной верховой ездой телу получать в такой бане тепло от нагретого камня, и что это за наслаждение было нам, распарив тело, вылезть из коичужки и на бревне сесть над разливом. Молодой Петя не выдержал и, весь красный, как рак, ринулся в голубые воды разлива.
Мы ходили по деревне, фотографировали игрушки, птицеконей, оленей, вырубленных одним топором и посаженных на кровлях. Для чего это человек, столь занятой, брал топор и создавал из дерева фантастические существа? Нам ответили на это, что охлупь делается, «чтобы князь не гнил и ветер крыши не снес».
Конечно, такое объяснение было не полно: то же практическое назначение можно было выполнить совсем простыми средствами. Искусство, очевидно, и в этом случае пряталось за практичностью, и, думается, настоящее искусство всюду стыдливо, как и стыдлива подлинность самого человека.
Все охотно в деревне фотографировались. Кроме «лейки», бинокля и термоса, со мной был еще замечательный тройник Гейма, стреляющий одинаково хорошо и пулей и дробью. Собравшиеся вокруг меня молодые и старые люди относились ко всем этим вещам с благоговением, вовсе утраченным в центре страны. Нелегко было удовлетворить всех желающих посмотреть в бинокль: каждого надо было при этом учить обращению с призматическим биноклем, чтобы ставить его себе по глазам. К счастью, со стороны женщин к этому не было никаких попыток: кто-то из остроумных парней наговорил им, что в этот бинокль можно видеть насквозь: молодые женщины с визгом бежали.
Согра
Заболоченный лес из одних корявых елок называется согрой, и Согра – название села на Пинеге, где устроился горьковский сельсовет. В эту самую Согру звонил по телефону секретарь райкома из Верхней Тоймы к председателю сельсовета, чтобы он непременно достал нам для путешествия в Чащу карбас, примус, а также свинины и масла. Благодаря этому распоряжению, мы еще не приехали и в Кергу, а карбас за нами сюда уже пригнали. От Керги до Согры по быстрому весеннему течению мы доехали в какой-нибудь час, и разлив реки позволил пристать нам к самому дому сельсовета. За день или за два до нас сюда из Архангельска пришел первый весенний пароход. Давно уже встреча парохода была одним из главных весенних праздников в Согре, население в этот день рядилось в свои самые лучшие старинные костюмы. Теперь женщины на Пинеге, соблазненные еще модными здесь короткими юбками, стыдятся своих старинных нарядов, и замечательные, шитые серебром, украшенные жемчугом повязки, разноцветные домотканые сарафаны лежат в сундуках. С пароходом приехал редкий гость – председатель Верхнетоймского РИКа Савин. Мы удостоились встречи начальника края, равного по величине европейскому государству, с начальником был и председатель сельсовета – молодой человек, и такой прямой, что казалось, в нем был проложен, как в чучелах, металлический прут.
– Доставалов! – рекомендовался он нам.
Такие удивительные бывают совпадения с именами, не знаешь даже, чем это объясняется и как люди веками живут иногда с именем, которое вслух нельзя сказать в обществе и невозможно напечатать.
– Счастливая ваша фамилия, – сказал я, – вот уж вам-то не надо менять.
– Менять незачем, – ответил Доставалов. – Вот у нас Собачкин вздумал переменить фамилию на Малинина, и что вышло: в бумагах Малинин, а люди все по-прежнему зовут Собачкиным, и от Собачкина ему никуда не уйти.
– Ну, как не уйти, – сказал предрика, – уедет куда-нибудь…
– Куда же ему с такой семьей подняться, никуда от Собачкиных ему не уйти.
И так наконец-то из слов Доставалова понял я впервые, почему в старину люди веками из столетия в столетие передавали друг другу похабную фамилию: значит, крепко сидели тогда на местах.
Зайдя в сельсовет, мы рассказали предрику о своем намерении найти где-нибудь лес, вовсе никогда не видавший топора человека, и что нам давно уже в пути разные люди говорят о Чаще.
– Нам, живущим в центре, – сказали мы, – и не имеющим соприкосновений с лесопромышленностью, кажется до крайности странным, что, заехав в места, где только что пила начала завоевывать себе права гражданства наравне с топором, где колесо впервые пробивает себе путь, мы все еще должны куда-то очень далеко ехать, плыть, идти, чтобы найти нетронутым лес. Неужели нельзя найти где-нибудь поближе? Мы бы взглянули и продолжали спокойно плыть вниз по Пинеге на карбасе до Архангельска.
– Как можно найти близко нетронутый лес, – сказал председатель, – если прошлый год шестьсот кубометров заготовлено было в семидесяти восьми лесобазах, а нынче ту же самую заготовку придется делать уже в девяноста лесобазах? Местами придется пользоваться уже третьей выборочной рубкой. За лесом же специального назначения специалисты, бонитеры, охотятся, как за редким зверем. Хоть реви!
– А Чаща? – спросили мы.
– Да вот Чаща! – воскликнул он. – Добраться бы до Чащи, провести бы узкоколейку от Пинеги, чтобы хватило лет на десять: вот это мечта!
И мы начали мечтать, каждый по-своему: он – о круглом лесе, я – о Берендеевой чаще. Вдруг предрика понял меня и стал рассказывать, какие он чудеса видел на Пинеге, по пути в Согру. Глухари сидели на лиственницах. Охотник с парохода стрелял, и они падали на палубу. А то белка собиралась реку переплыть, но, увидав пароход, дальше бежала по берегу, пытаясь переплыть, и опять пароход, и опять ей приходилось бежать…
Нам отвели помещение в ОРСе рядом со столовой – и довольно сносную комнату. К счастью нашему, были потеряны вьюшки от печки, нигде тут близко достать их было нельзя, комната прозимовала без людей, и все в ней повымерзло. Теперь же, весной, комнату и без вьюшек легко было поднагреть. Рядом с нашей комнатой была столовая, но как раз к нашему приезду вышли какие-то неполадки в администрации, столовая временно закрылась по недостатку продовольствия, и заведующей столовой временно была назначена пятнадцатилетняя девочка Нюра.
– А вашу свинину, – встретила нас Нюра, – увезли.
– Как – увезли? – сказали мы. – Разве не предупреждали ОРС о нашем приезде?
– Все ждали, – ответила Нюра, – Антипьевна даже из Писания сказала: в последние времена приедет человек неведомый Писатель и будет все списывать, и не останется на земле ничего несчитанным, неизмеренным и несписанным.
– А писатель этот, – сказал я, – не от антихриста?
– Вот-вот, – воскликнула Нюра. – Писатель приедет от какого-то антихриста. Как же, мы все ждали с нетерпением, а вот все-таки свинину кто-то увез, и теперь у нас нет ничего.
И вот будь бы в лесу: крупа у нас есть, убил бы рябчика, и сварили кулешок, рыбки поймали бы – уха. А здесь выхватил кто-то из-под рук свинину, поди, разбирайся! Посылаем за Доставаловым, он приводит предрика. Стоим на крыльце и думаем. Доставалов говорит, что в ОРСе есть поросята, можно зарезать, но нет председателя, а если предрик даст письменное разрешение… Предрика задумался: надо принять гостей из центра, но это вопрос, может ли он разрешить резать поросенка без разрешения председателя ОРСа. Деревенские дети подошли к нам.
– Крепыши какие! – в задумчивости, решая трудный вопрос о свинье, сказал, глядя на детей, предрика.
А какие уж тут крепыши могут успеть вырасти, когда люди только бросают охоту и собираются сесть на свой хлеб. Детишки, однако, были веселенькие, пришли из кино и рассказали нам совершенно в том же тоне, как говорят о первобытном человеке или о каком-нибудь мастодонте, что они видели на экране буржуя.
– Это вы в кино видели, – сказали мы, – а разве не помните вы буржуев в вашем селе?
– Это было до нас, – сказали ребята.
Так жизнь показывала нам свои перемены. Но Доставалов вполголоса сухо сказал:
– Остатки классово чуждых элементов до конца еще не ликвидированы…
От этих последних слов предрика вдруг вышел из состояния задумчивости, выдрал листик из записной книжки, написав, передал Доставалову, кратко промолвив:
– Режьте свинью!
Нас решили принять по-настоящему. Комната наша наполнилась женщинами: пришла к нам Нюра, пришла уборщица Лиза со своей девочкой, еще пришла для курьерских дел Маша: она попытается нам достать яиц, но самое главное было, что из ОРСа пришла комсомолка, продавщица Катя, она как будто даже может нам сделать котлеты из поросятины.
– Сделаю, сделаю! – щебетала она, как канарейка. – Чего другого, а лаврового листа у нас в ОРСе найдется.
– Кажется, – нерешительно сказали мы, – лавровый лист идет для ухи?
– И для котлет, – щебетала канарейка, – лавровый лист везде хорошо.
Вскоре все дружно принялись за работу, все симпатичные, и в этих добрых руках нам стало как дома, надо ж и отдохнуть! Лиза топила нам печку, женщина умная, сдержанная, дочка ей помогала.
– Хорошо вам с дочкой-то, – сказали мы.
– Ясно! – ответила Лиза.
– Вот и поленце подаст, и повеселит.
– Определенно!
Лиза нам рассказала, что раньше женщины у них занимались только домашним хозяйством, работали только мужчины, а теперь женщины работают больше мужчин.
– Зато, – сказал я сочувственно, – женщина теперь не раба, она независима, захочет – и уйдет во всякое время из дома от мужа.
– Ясно, – ответила она, – захочет – и уйдет, да только ведь и он тоже захочет и уйдет. Определенно!
Лиза до крайности удивилась нашим словам, когда мы рассказали ей про Антипьевну и пророчество ее о писателе, слуге антихриста.
– У нас теперь это все разъяснено, – сказала Лиза, – и сама Антипьевна ни во что это не верит и говорит разве только, как сказку. Ведь церковь же у нас решили. И вера кончилась.
– Деревянную церковь закрыли и вера кончилась?
– Ясно! Церковь закрыли, молиться перестали, и вера кончилась. Определенно!
Как раз в это время ворвалась разгневанная Маша и, показав нам яйца немного более голубиных, с возмущением говорила, что Антипьевна хочет взять по рублю за яйцо.
Мы успели за длинный день устроиться, согреться, пообедать, отдохнуть, и оставалось еще довольно времени сходить с начальством на поля, посмотреть на работу отличного колхоза «Краснознаменец». Конечно, эту работу на полях и самые поля надо было здесь понимать иначе, чем в наших земледельческих условиях. Здесь женщины, освобожденные от домашней работы, охотничьего быта, бросились на работу и, откажись лошади, зубами бы выгрызли свой трудодень. И самая земля, только недавно вышедшая из-под леса, была необыкновенная, весенняя вода там и тут наполнила ложбинки, земля была покрыта везде маленькими озерками, и на каждом озерке плавали дикие уточки, и на берегах их дрались разноцветные турухтаны со своими необыкновенными воротниками. Утки, даже кряквы, не очень боялись нас и, взлетев, пересаживались на ближайшую лужу. Наша любительская охота теряла тут всякий смысл. И стало только чуть-чуть неловко, что при такой легкости добыть себе мясо ружьем мы допустили начальство загубить для нас поросенка.
Усть-Илеша
Пусто и ненужно было бы мое путешествие, если бы я, пользуясь внешним раздражением, стал бы сочинять, вроде как в старину сочинял свои путешествия в свое время очень известный писатель, прозванный Вранченком. Я позволяю себе не больше, чем любители цветов позволяют себе в лесу или на лугу: выбрать цветок, сорвать и унести. Известно, что дома цветок, выбранный из своей среды, дает понимание, какого нет там, на месте. Но опять-таки, это не я сделал, а уж так сделано, что цветок, принесенный домой, говорит по-другому. Как ни трудно выбрать цветок и догадаться, но все-таки это не я, а сам цветок говорит и один за себя, и с другими в букете. Даже о каждом имени описываемого мною человека я думаю прежде всего, нельзя ли это имя оставить, как оно есть. В большинстве случаев имена я сохраняю, хотя бы вот Доставалов: такой он и есть председатель сельсовета в Согре. И вот тоже хочется мне сохранить имя проводника моего в Чащу, Осипа Александровича Романова. Привел его ко мне Доставалов, считая своим долгом выбрать для меня человека, а не предоставить выбор мне самому: мало ли кого я выберу, а ведь в случае несчастья станут упрекать его, Доставалова. Впрочем, выбор сам собой определялся: у Романова путики были возле самой Чащи, и он здесь единственный мог быть проводником по Чаще. Первое наше впечатление от Осипа было, что это нам Дерсу привели: не то скажу, чтобы лицо у него было монгольское и не вовне это было, а изнутри: что-то чисто лесное и охотничье и до последней крайности сторожкое к другому человеку, деликатное. Он совсем не может оспаривать, но если надо сказать по-своему, он говорит: «Конечно, вы лучше меня знаете, но вот я бы…»
И вдруг все переменилось на некоторое время. Спрошенный о вознаграждении, Дерсу вдруг заломил… Он ссылался явно неверно на колхозный трудодень, хотя сам еще не был в колхозе, на свой заработок по изготовлению стружков для колхоза, хотя такого заработка быть не могло. До того было неприятно слышать, удивляться, как только мог у такого человека язык повертываться…
Мы спорить не стали. Но и вообще разговор прекратили и решение о поездке с Романовым отложили до следующего дня, сказали просто и коротко: «Хорошо, подумаем». Но он перемену в нас, конечно, сразу же понял и вышел заметно смущенным. Ночью, проснувшись, я стал обдумывать встречу с Романовым, стараясь понять, почему он вдруг так неожиданно распался на двух противоположных людей – на Дерсу и рвача. Неожиданно мне вспомнилась охота моя в Каркаралах на архаров с замечательным охотником Хали, по прозвищу Мергень, значит – с казахского – «меткий стрелок». Заплатив ему после трудной, но очень удачной охоты на архаров, как мне казалось, очень даже неплохо, я уехал. Но после узнал, что Мергень моим вознаграждением был оскорблен до последней степени и чуть ли не плакал от обиды. В своей бедной жизни Мергень явление мое считал величайшим событием, он думал, что я всесильный человек, возьму его с собой, возвеличу, как первого стрелка во всем мире. А какой он, правда, был чудесный стрелок, какой тонко чувствующий человек, как много раз потом мне было больно думать о его великом разочаровании! И так же ночью явилась мне разгадка распада Романова: это не Дерсу, а Мергень.
Рано утром Мергень был у нас и почти со слезами просил прощения за вчерашнее и выдавал с головой своих баб: это они, жадные бабы, наговорили ему всего, и он не от себя, он от них говорил. Ему же лично ничего не надо, только бы ему оставили путик, избушку и больше ничего не надо, а без охоты в колхозе жить он не может. И он никак не против колхоза, и готов сам для колхоза работать, сколько надо, только бы ко времени охоты оставили его на своем путике…
Мы постарались успокоить старика, обещались дать ему хорошее вознаграждение и так устроить, чтоб его оставили на своем путике добывать дичь для колхоза.
– Тогда бы я сейчас же в колхоз поступил! – воскликнул радостно Мергень, – и никаких бы денег с вас не взял, не нужно мне ничего, оставьте только на своем путике: ведь так я и людям больше сделаю.
Мы совсем помирились с Романовым и стали обсуждать подробно план путешествия в Чащу.
По всей Пинеге, в устьях ее бесчисленных молевых речек лес держали в запонях до тех пор, пока не придут и не уйдут несколько пароходов, доставляющих по весенней воде пинжакам продовольствие. Могли бы, конечно, и не ожидать и пускать моль, как делают это на Двине, не жалея пароходов, но там ведь много пароходов, и дело их не так понятно, как тут. Здесь, на Пииеге, пароход «Быстрое» назван в честь предводителя партизан в борьбе с белыми, и партизан Быстров ведь известный человек, и пароходик почти что единственный, и приходит один-два раза в год, – как же не хранить его!
И вот как раз, когда мы ехали на своем карбасе из Согры в Усть-Илешу, «Быстров» и еще какой-то грузовой пароход с баржами попадаются нам навстречу. Река Пинега даже весной в верховьях не так велика, чтобы наверняка можно было рассчитывать в извилине увернуть от упрямой огромной баржи. Завидев издали пароходы, мы вышли на берег и прямо попали там на кладбище какой-то береговой деревеньки. Невеселого вида было это кладбище! В нашей стране до революции покойники везде и всюду были обижены, начиная от исторических людей, кончая безвестными тружениками, схороненными на сельских кладбищах. И много на своем веку видел я кладбищ, от вида которых сердце сжималось, но такого кладбища не видел и не думал даже, что до этого может дойти живой человек в отношении к своему умершему родственнику. Среди покосившихся или вовсе завалившихся беспризорных христианских крестов стояли новые памятники, разного рода коряги, лесные шишиги, колья, отесанные и неотесанные, и просто палочки. Валяется на земле какая-то палка, берет ее человек в руку отмахнуться от злых собак, а тут берет, чтобы поставить на могилу и можно было некоторое время отличать свою могилку от чужой… Однако таких случайных палочек было сравнительно немного, почти на всех кольях были какие-то рубыши топором, означавшие, как мы узнали от Осипа, «знамя» умершего: такие рубыши охотники ставят в лесу на деревьях у своих путиков, и у каждого охотника есть свое родовое «знамя». Вот когда он, Осип, умрет, дети на его колу рубанут во весь топор, а по сторонам рубанут в полтопора, и получится точно, как отпечаток птичьей лапы на песке: «Воронья пята» – вековечное знамя охотников Романовых.
Как, бывает, туман сносится даже самым легким дуновением ветра, так и тут в человеках в один миг рассеялся туман христианской культуры; невеселый вид, однако, имели и эти показавшиеся из тумана «языческие» лесные коряги с охотничьими знаменами. Только одна могилка стояла без лесного памятника, на ней лежала просто дощечка, заструганная для надписи карандашом. Мы подняли дощечку и прочитали:
Здесь лежит комсомолка Наташа, убитая в поле громовой стрелой. Товарищи! Наташа оставляет вам на память свою книжку ударницыЗапонь
В ожидании пароходов лес с верховьев рек все прибывал и прибывал к запоням, подпыживался, щетинился, и так на несколько километров от устьев вверх реки так набивались лесом, что не только люди ходили по нем, но иногда, случалось, и медведи, только что вышедшие из берлог, перебирались по бревнам с одной стороны на другую.
Вот как раз в ночь перед нашим приездом в Усть-Илешу, по словам очевидцев, медведь будто бы перешел с той стороны Илеши на эту.
Сойдя на берег в устье Илеши, мы направились в конторку, чтобы повидаться с заведующим запонью, поговорить с ним о сплаве, а если можно, и о глухариных токах, и о том самом медведе, который перешел в эту ночь запонь и очень напугал ночного сторожа. Еще нужно было нам просить с лесосплава человека очень сольного, чтобы он помог нам подняться на стружках вверх по самой быстрой из всех здешних рек – Коде. Нам в конторке сказали, что Ягушкин, заведующий запонью, парится в бане и ему о нас скажут. Вместо скучного ожидания Ягушкина в душной, раскаленной железной конторке, набитой вплотную людьми, мы пошли берегом Илеши, дивясь могучему напору круглого леса на запонь. В темных лесных берегах с белеющими клочками снега, с высокими лиственницами в растрепанном лесу заключалась широкая желтая река бревен и такая далекая впереди, что в призматический бинокль не было видно конца, только было видно, что там, вдали на берегах, работали люди, больше женщины, и сбрасывали баграми с берега осохшие бревна.
– Вам, конечно, лучше видно в бинокль, – сказал Осип, – поглядите, не медведь ли это лезет там между бревнами.
Мы направили бинокль, куда указывал охотник, и оказалось, что это не медведь: это человек бежал по бревнам, сокращая извилину речки. Мало-помалу определилось, что человек был без шапки, красен, как рак, и даже заметно пар валил от него.
– Ягушкин! – узнал Осип заведующего запонью, – ему, видно, сказали, что начальство, он и вылетел прямо из бани: вот дешевый мужик, глядите, как пар-то валит?
Вскоре определилось сияющее добродушием, круглое, веселое лицо бегущего средних лет человека, и я вспомнил самого себя в первые годы литературных удач: тоже так бежал с рукописями к издателям царского времени, не подозревая, как я этим наивно счастливым видом продешевляю себя.
– Дешевый мужик! – повторял Осип.
И голос у Ягушкина оказался тонким, тенористым. Он спешил поделиться с нами потрясающей новостью о том самом медведе, который этой ночью зачем-то перебрался на эту сторону Илеши. Как раз в то время, когда медведь переходил запонь, здешний запонскии пекарь шел на глухариный ток и, заметив вдали стадо оленей, стал их скрадывать. Медведь тоже заметил этих оленей и тоже стал скрадывать. И так они, друг друга не замечая, сошлись тесно, вплотную на тропке. Медведь поднялся на задние ноги, пекарь от страху окаменел и не смеет ружье поднять, а ружье вдруг как ахнет само.
– Как же само-то? – спросили мы.
– От страха, – ответил Ягушкин, – а медведь испугался и убежал.
– Доброе ружье, – заметил Осип, – не выстрели, остались бы вы тут без пекаря.
– Очень просто! – ответил Ягушкин.
Невозможно было измерить всю глубину приязни этого добродушного и все умеющего человека и все знающего в местной природе, от медведя до маленького, желтенького съедобного гриба, растущего на белом оленьем мху.
– Губки (грибы) желтенькие, тоненькие, хорошенькие! – восхищенно говорил он об этих грибах.
Обрадованные хорошим человеком, мы, в свою очередь, старались ему свое показать, дали стрельнуть пулей, и он отлично из винтовки в точку попал. Но призматический бинокль ему долго не давался. Простым глазом нельзя было видеть работы по откатке леса, и он удивился, что мы рассказывали: ему до крайности надо было узнать, все ли работают и так ли делают, как им ведено. Он держал бинокль у глаз, Петя наводил, спрашивая постоянно:
– Яснеет?
И когда изображение стало яснеть и Ягушкин – закипать от радости, удивления, Петя окончательно понял, как ему надо по глазам ставить, и, когда поставил и картина работ на сплаве отчетливо явилась пред глазами заведующего запонью, вдруг…
Бросив бинокль, заведующий запонью успел крикнуть только одно первое слово своей производственной ругани: «мать». Он бросил бинокль, чтобы самому ринуться вперед и показать, ругаясь, как надо работать, но изображение исчезло, и он в недоумении оглядывался на нас, как человек, которого вдруг разбудили или вышибли очки из глаз, и он уже улыбается нам, узнавая действительность, но в то же время и не в силах еще расстаться со сновидением.
Мы повторили опыт, и второй раз точно так же вылетело производственное слово, как только показалось изображение сплава. В третий раз Ягушкин окончательно поверил в действительность изображения и, сокращая расстояние, прямо по бревнам скачками пустился к работающим.
– Дешевый мужик, – сказал, улыбаясь, вслед ему Осип, – сохранит запонь, награждать не надо: он и так будет рад; прорвет запонь, опять не жалко и наказать.
Мы поселились у того самого пекаря, которого спасло от медведя ружье самовольным своим выстрелом в небо. Его избушка стояла на высоком берегу Ппнеги среди лиственниц, на которые время от времени прилетали глухарки. Мы полагали, что они уже занеслись и прилетали с гнезд на короткое время: поклюют и улетают. К пекарю с Илеши непрерывно приходила лодка с рабочими, которые брали хлеб и уезжали в карбасе обратно к запонским баракам. Мне было видно, как одно дерево, нырнув, вдруг вырвалось из-под запони на Илеше, вплыло в Пинегу…
«Вот это бревно, – думал я, – оно проплывет ведь всю Пинегу и по Двине пойдет. Вероятней всего оно попадет в боны Бобровской запони, в ту механизированную на славу запонь, где рабочие работают, следя за машинами, с сухими ногами, едят один и тот же обед из нескольких блюд вместе с инженерами. Расскажет бревно там в электрическом свете, как живут люди в нашей дикой запони».
– Восхищаетесь видом! – сказал сзади меня голос иронический с западным акцентом.
Возле меня стоял пожилой человек с большим хлебом, очевидно, какой-то белорусский трудпереселенец со сплава. Я очень понял его иронический тон, но, не подав виду, спокойно и ласково указал ему на бревно, плывущее по реке против нас. Незнакомец, отбросив свой иронический тон, дельно мне рассказал об этом бревне, что это, наверно, сосна, очень сбежистая и суковатая к вершине, значит, влагоемкая: опущенной вершиной она нырнула под запонь. Что же касается рассказа бревна, то ведь это только все поэзия, мечты, бревно не расскажет, если человек промолчит…
Мне стало неловко, я сейчас же вместе с этим рабочим спустился к лодке, возвратился к запони и, к счастью своему, встретил там заведующего лесопунктом, старого, с седыми усами партизана. Узнав о моем желании посмотреть, как живут на сплаве рабочие, он охотно ведет меня в ад…
Двести пятьдесят человек было втиснуто в пространство семь на девять метров, но и то бы ничего; самое безобразное было, что ребята и женщины лежали парочками на нарах, а девочки-подростки, посылаемые колхозами вместо рабочих, лежали под нарами.
А тут же вокруг дощатого домика, нагреваемого железкой и теплотой человеческих тел, рос лес, и тут же была целая река запертого готового леса и множество рабочих, способных из этого леса в один день сделать теплый просторный барак, и начальником был партизан, боровшийся за лучшую жизнь для человека.
– А при чем тут партизан? Есть постановление «Севлеса», чтобы не делать весенних сплавных бараков из круглого леса. Нельзя делать из леса, а досок достать невозможно.
– Какой же суд, – сказали мы, – обвинил бы старого седого партизана, если бы он для спасения рабочих, вопреки запрещению «Севлеса», выстроил просторный барак из материала, растущего и даже забракованного тут же и брошенного?
Партизан ответил:
– На днях тут был предрика, смотрел и тоже ничего не сказал…
– Но ведь я же о вас напишу, – сказал я.
– Напишите непременно, это ваш долг, напишите, – стал искренно просить партизан.
– Так вас же за это разнесут.
– Очень хорошо, – весело сказал партизан, – большое дело сделаете, мы же не одни такие, и другим неповадно будет.
После осмотра бараков мы с Исаковым отправились к пекарю, и долго еще старый партизан рассказывал нам о борьбе с белыми на Пинеге, и особенно заняла нас в его рассказах исключительная роль охотничьих знаний в этой борьбе и тоже исключительная роль лесной охотничьей избушки.
Кода
У пекаря перед нашим отъездом собрались на совет начальники, – надо было решить, кого из работающих па сплаве отправить с нами по Коде. Требовался очень сильный человек: Кода из всех здешних речек самая быстрая и порожистая. Выгрести против течения невозможно и впритычку до крайности тяжело. Названо было несколько кандидатов, очень сильных сплавщиков. Но когда я сказал, что, кроме силы, проводник должен быть хорошим охотником, то из названных остались только двое – Александр Губин и Павел Лушин. И когда я прибавил, что человек этот должен быть речистым, то Лушин вовсе отпал, а про Губина мнения разделились: завлесопунктом говорил, что за пять лет работы с ним на сплаве ни одного слова он от него не слыхал, а Ягушкин слышал не раз и, главное, знал, что если хорошенько его попросить, то он может все сделать и говорить тоже, наверно, может.
– Попросим, – сказал Ягушкин, – и он будет вам всю дорогу говорить, и еще так сделаем: попросите, будет говорить, а без спроса будет молчать.
– Вот это прекрасно, – обрадовался я и высказал последнее свое условие: хотелось бы, чтобы человек был все-таки и хороший.
– Что могутный человек должен быть, – сказал Осип, – это верно, и что речистый – тоже полезно, а что хороший, то об этом нечего думать: на короткое время мы все хороши.
С этим все согласились, и мы отправились все по тропке берегом Илеши, разделив между собой наш дорожный багаж. Осип ушел за Губиным и обещался привести его каким-то коротким путем через лес прямо на Коду.
До слияния Илеши с Кодой мы прошли версты две, и все была в широкой реке туго набитая желтая древесина, и как в винном подвале вином, так и здесь, на воздухе, пахло сосной. Только уже перед самым устьем Коды наконец-то очистилась вода от сплошных бревен, и плывущий по Коде лес напоминал ледоход. Вода быстро спадала, на берегах кипела работа по откатке. Осип и Губин тут уже нас дожидались на двух стружках: старый человек поедет один с легкими вещами; Губин повезет нас и все остальное.
Конечно, молодое Петино дело помогать продвижению лодки, но втроем на стружке невозможно работать, и что же мне тогда делать двое суток, если Губин будет молчать: двое суток сидеть на дощечке, быть может, даже и под дождем, и стараться только, чтобы резким движением не вывести душегубку из равновесия. Теперь все зависит от Губина: тут ведь большие поэты не ездили, как в Крыму или на Кавказе, и нельзя, как в долине Арагвы, вспоминать Демона: тут скромный местный человек, неведомый поэт со своим фольклором, со своей устной словесностью является единственным ключом к тайнам природы. Заговорит Губин или останется только двигателем? По виду его можно думать, что он будет молчать: лицо круглое, курносое, в глазах выражение скромного достоинства, как бывает всегда у очень сильных людей, и сверх этого, кажется, требовать ничего и нельзя.
Чтобы упираться в землю веслом, мы должны держаться берега, и я, рассматривая берег, вижу знакомое мне по всем весенним рекам явление: трясогузка бегает у края воды, и остается от нее на песке грамотка. Вот разве на этом испытать Губина…
– Александр, как это ты понимаешь?
Губин смотрит на большую страницу, исписанную лапками трясогузки, и отвечает деловито:
– Сию минуту, эту книгу я прочитаю.
После того он ловким движением вводит лодку в маленькую бухточку, припирает веслом и, вдумываясь в иероглифы на песке и как бы вслушиваясь в себя, готовится к ответу. Я теперь очень хорошо понимаю, что он выполняет, как ему ведено: молчать, если не спросят, а уж если спросят, говорить только как можно больше. Быть может, выполняя горячую просьбу Осипа, он впервые только за всю жизнь и начинает рассказывать, и, конечно, говорит он своими северными короткими фразами, с полувопросом на самом последнем слоге:
– Илеша и Кода – две сестры. На Илеше вода сильно сбежала. Оттого Кода очень спешит, а птичка бежит у воды. И у птички маленькие лапки, и на песке от лапок дорожка. Утром птичка написала, вечером птичка написала пониже. На другой день еще ниже. И у птички стала целая книга оттого, что Кода спешит, Кода догоняет сестру свою Илешу.Ответив на мой вопрос, Губин быстро выводит лодочку из бухты и, как ни в чем не бывало, начинает дальше подпихиваться, избегая встречи с бревном. Петя, еле удерживаясь от смеха во время всей церемонии ответа Губина, усиленно мне моргает, чтобы я больше не спрашивал, а то ведь так мы никогда не доедем. Я же стараюсь найти способ, чтобы Губин, пока мы на воде, отвечал бы не отрываясь, отдельными словами или фразами.
Вот на песке, по-моему, след выдры. Я спрашиваю:
– Это выдра?
– Выдра, – говорит Александр.
Вскоре опять такой же след.
– Другая выдра?
– Та же самая.
И так долго едем, и все те же следы.
– Все та же выдра?
– Все та же. Выдра живет широко.
– А это, кажется, лось?
– Лось живет узко.
– А белка?
– Белка живет широко.
– Глухарь, тетеря?
– Узко. Разные птицы и звери. Одни ходят за пищей далеко, другие ходят близко. И люди, как птицы и звери. Одни люди живут широко, другие люди живут узко.
– Вот верно! – сказал я. – А как вы, пинжаки, живете, широко или же узко?
– Раньше пинжаки жили широко. Пинжаки ходили по всему свету, ходили с продольной пилой. А теперь пинжаки живут узко, пинжаки на охоту не ходят. Работают в колхозах, на сплаве, женщины вышли с поперечной пилой. Бабы теперь живут шире.
И чудесно было слушать Губина, и часто тоже досадно: что, если бы вправду все люди на свете сделались поэтами и отвечали друг другу на самые обыкновенные житейские вопросы стихами! Первое время я думал даже, что очень просто говорить, как Губин, но мы потом с Петей стали пробовать так между собой говорить, и выходило у нас очень неважно: очевидно, первые удачи были под влиянием Губина.
Мы ночевали у Малой, так называется наволок с избушкой для сплавщиков леса. Недалеко от избы с большими окнами стояла и охотничья избушка с самыми маленькими окошками. Вокруг в лесу лежало множество деревьев, срубленных и не взятых: сплавлялось только первое дерево, для экспорта, второе же – верхушка, сучья не имели цены на внутреннем рынке, лежали и гнили неошкуренные, заражая короедом деревья на корню. Среди этого лома и лесного хаоса я схватился за большое окно новой постройки в его отношении к маленькому окну старой избушки. Мне представилось, что вся эта борьба в исковерканном лесу имеет смысл: борьба идет за большое окно. «Не количеством мыла, – думал я, – надо измерять степень культуры: мыло подешевле пустить, и все будут мытые. А надо мерить культуру количеством света в жилище, и тот человек выше, кто поступился едой ради света в жилище». Все это я попробовал рассказать Губину, и его же словами:
– Человек с большими глазами Красивей, чем с маленькими. И дом с большими окнами красивей: Все видно!
Вечер был прохладный и, к счастью нашему, светлый: в северных лесах, на северных речках все зависит от света. Наволок чуть-чуть начинал зеленеть, в обильной всюду дикой черной смородине надулись почки и пахли очень приятно. Мы огонь развели на воле возле реки. Хозяйствовал с дровами и кулешом Осип, Губин отдыхал, и мы теперь, не стесняясь временем, как в пути, спрашивали, о чем только вздумается.
Высокий берег по-здешнему называется слуда, низкий берег – наволок, и все время только и слышишь названия: Ратная слуда, Медвежий наволок. Петя спросил Губина, что это значит наволок и отчего берутся эти наволоки и слуды. Александр отвечал:
– Вода бежит, размывает слуду, падает берег, деревья, песок, вода несет песок дальше, примывает песок к берегу, на песке вырастает травка, вот отчего слуда и наволок.
Мы узнали, что Губин долго работал на Пинеге и всю ее хорошо знает от верху и до низу, все высокие слуды и зеленые наволоки, но краше одного места и выше той слуды, где стоял какой-то монастырь, он не знавал.
– На слуде стоит монастырь, пятнадцать верст не доедешь – и видко! И пятнадцать верст переедешь – все видко! Под высокий берег уходит вода, и под землей едут карбасы, а наверху зеленые пожни, на пожнях люди косят, до чего высокий берег! Обрывы и скалы, красные и белые горы: из белого жгут известь, из красного детям свистульки. А в воде много рыбы, и есть рыба лох, икра у лоха крупная. . . . . . . . . . .Так читал нам о волшебной Пинеге Губин до кулеша и читал после кулеша. Смерклось, и не стало темнее, но только на реке вдали упавшее с выворотнем в воду дерево все яснее и яснее принимало форму не то паука, не то жука с бесчисленными длинными усами. Свет становился ровным на всю короткую ночь. Впервые здесь услышал я кукушку, но это было не как у нас: голос кукушки непонятно усиливался и расширялся в бору. И даже Осип, столь привычный к лесу человек, указав мне на странный выворотень в Коде и справедливо, по-моему, понимая насекомое от усиков, сказал:
– Вроде как бы усикомое.
Высушив у костра свою одежду, мы нарубили лапнику очень много и постелили себе в бараке на нарах. На эти суровые матрацы набросали свое тряпье, укрылись теплыми куртками и, ни о чем не беспокоясь, уснули.
Путик
Река в лесу, предоставленная своей собственной воле, начинает с того, что на себя же и валит береговые деревья. Мы едем по Коде до тех пор, пока человек здесь не оставлял реки своим вниманием, расчищал для пропуска бревен своих и стружков. Без такой человеческой работы верховье лесной реки не только на лодке, но и пешком, берегом часто вовсе непроходимо. Деревья тут валятся, и вода, как испуганная, бросается в сторону; там она опять подмывает деревья, все заваливается на широкое пространство ломом, заболачивается, и это малопроходимое место здесь называется лама, или занаволока. В такой занаволоке подчас не только на стружке ехать нельзя, но даже и не поймешь, где же все-таки есть какое-нибудь движение воды, где основное русло.
Общая тропа охотников, избегая капризов нечищеной реки, идет несколько одаля от Коды по левой стороне. Но деревья валит не только река, ветер тоже хороший мальчик, и часто поперек тропы лежат великаны. Большинство этих деревьев разрублены пешеходами для нас, новые упавшие мы разрубаем, хотя, конечно, перелезть гораздо легче, чем разрубить: мы, как и наши предшественники, не для себя разрубаем.
– А для себя – как начинает свой путик в лесу человек? – спросил я Осипа.
– Как первый человек начинает, – сказал Осип, – это я могу вам показать на себя: мой путик на Коде достался мне от отца и моему отцу – от деда, а дальше рассказать может только вот кто…
И он показал на одно из невинных существ, дитя пожаров и времени, называемых в народе лесными шишигами: в черном призраке этом были и руки, и ноги, и даже светящиеся щелки-глаза, через которые несказанной прелестью сияла лесная глубина. Это был последний остаток давным-давно сгоревшего леса, вокруг же был все новый лес.
– Так вот, – продолжал Осип, – дед наш сказывал: отец его, наш прадедушка, был при пожаре. Я после отца сел на Коду, но старик, мой дядя, прогнал меня с Коды. «Довольно, – сказал он, – ты тут посидел, ты молод, я стар, иди в Чащу, там богато». И я пошел в Чащу. Вот приедем, я все покажу. Избу свою, клеть. Немало уж и я сижу в Чаще, на месте поваленных мной деревьев березки выросли уже, и порядочные.
Губин, пока Осип говорил, наверное, все думал и думал о моем вопросе: с чего начинает в лесу человек, если идет не по общей тропе? Надумав что-то, он сказал после Осипа:
– Под какую-то речку, под какой-то ветер выбрал себе человек в лесу место, затесывает человек на дереве свое знамя, делает топором свои рубыши – и говорит: «Путик наш!»
– Вот оно, мое знамя, – останавливает Осип, – вот мои рубыши, когда я еще на Коде сидел: эта Воронья пята – мое знамя, эти свежие рубыши – стариковы, рубанул, когда меня с Коды прогнал.
Воронья пята – знамя Осипа – была вырублена точно по оттиску на песке лапы ворона: один рубыш во весь топор, и по сторонам два коротеньких полурубыша. У старика на том же дереве были свои заметки, похожие на клинопись, и, кроме того, отдельно были заметки стрелками для малых охотников, которые, конечно, учатся, ходят за старыми.
Выждав Осипа, Губин спокойно продолжал:
– Так первый человек в лесу ставит знамя, и говорит первый человек: «Путик наш!» Если же другой человек переходит путик, первый человек затесывает дерево, первый человек ставит на дереве большой крест, и другой человек понимает: «На мой топор не ходи!»Так мы идем по общей тропе с болота на холм, с холма спускаемся опять в болото, и у нас в руках для болотных переходов по кладям особые палочки – с вилкой на конце: палочка называется рашмак, вилочка – россошина; такой рашмак с россошиной никогда не подведет, россошина не даст палочке при опоре на нее сразу погрузиться в болото.
С болота на холм, с холма на болото переходим, и самый воздух постоянно меняется. Тоже и солнце все меняет, – скроется – и холодно (под колодьями снег), покажется – и станет жарко, и чем-нибудь запахнет хорошим лесным. Поднимаясь на гриву Большой Клык, когда солнце богато светило, вместе с теплой сыростью испарений пахнуло какой-то особой атмосферой, окружающей, вероятно, весь холм Большой Клык, скорее всего это было похоже на легкий запах стойлового навоза и тончайший запах грибов.
Невиданный лес обступил нас, необычайное зрелище открылось, когда мы из болота вышли в бор-беломошник: земля была покрыта белыми, разве чуть-чуть зеленоватыми, похожими па апатитовый матовый свет, волнами, и на этих легких волнах были не слишком частые – далеко видно! – румяные сосны. Тут мы только и поняли происхождение запаха, окружающего холм Большой Клык: этот белый олений мох только что вышел из-под снега, влажный был, разогрет и наполнил своим тонким ароматом весь бор. Там и тут на белом мху были темные пятна, следы пребывания здесь диких оленей. Их было тут так много, что, по словам охотников, можно было в недели две наготовить мяса для работающих в лесу на всю зиму. Но стрелять оленей запрещено. Почему запрещено? Мы так объясняем охотникам: рядом находится область Коми, где занимаются все оленеводством, для освежения крови домашних оленей хорошо иметь запас диких.
– Дикие олени, наверно, легко сходятся с домашними?
Губин ответил:
– Если мало идет диких оленей и много идет домашних, дикие уходят к людям из леса. Если мало идет домашних оленей и много идет диких, домашние олени бросают людей, им не люди нужны: олень любит оленя.Мы так напряженно ждем увидеть в этом волшебном лесу диких оленей, но, кажется, в болотах уже начала показываться любимая оленями трава волосатик, и они, наверно, теперь паслись где-нибудь в больших сурадьях. Лучше оленей, однако, и дороже всего была для нас встреча в беломошнике одного до крайности простого и трогательного выражения приязни людей друг к другу в диких лесах. На общей тропе, где шли старые и малые, сильные и слабые, срублены были деревья: из них одно большое дерево было укреплено на пнях, другое – повыше: на первом, чтобы сидеть, а ко второму – прислониться спиной усталому человеку. И это маленькое сооружение носило название беседки, не в подражание беседкам дворянских садов, а и вправду для беседы: разные же люди идут по общей тропе, старые и малые, бывает, кто и отстанет, а тут на месте отдыха все сходятся, все отдыхают и непременно беседуют, рассказывают друг другу, кто что заметил в лесу. И мало ли что бывает: о всем беседуют. Вот и нам раза два на пути встретилась белка, мелькнула раз одному, другому, – мы тогда промолчали. А теперь, отдыхая в беседке, вспомнили про белку, и охотники наши согласно признали, что эта белка была ходовая: белка эта куда-то проходит и скорее всего здесь не остановится, и здесь эту белку больше никто не увидит. Здешняя белка, по словам их, идет «под суслон»: вот если во время жатвы белки много придет, она вся здесь задержится, и промысел будет богатый. А что кукушка сейчас в бору без отдыха кукует, это она в севалку дует, чтобы люди поскорее бы сеяли. И то же сейчас, когда в верховьях рек начала куковать она, должна показаться рыба хариус – очень вкусная. Мы так о всем беседуем, о чем вздумается; и даже об этих двух березках, выросших на месте срубленных деревьев, Губин сказал:
– Хороша елочка, если одна растет, а две елочки сошлись – у них ссора. Много елок – темно и страшно. Приходит человек, рубит большие деревья, человек строит избушку и клеть. Проходит малое время, и наместо елей вырастают березки, и вся избушка в березах. И весело! Да и одну березку где-нибудь увидеть весело, и скажешь: скорей всего тут был человек.И еще бы не весело! Сосны такие прекрасные сами по себе, но как холодны, как равнодушны они в красоте своей к человеку. Елки же прямо враждебны, особенно эти, северные: тонкие, злые, худые, длинные – то сухими сучьями колят глаза, то нога утопает в их тяжелом долгомошнике. Среди них даже и весну не узнаешь, а встретишь березку в хвойном лесу, и будто это букет цветов на окно.
Много ли деревьев нужно для охотничьей избушки? Десять хлыстов на стены, пять на потолок, шесть на все другое, всего двадцать одно дерево и пять – семь дней работы одному топором, без пилы, без гвоздей. И после того избушка обрастает березками, стоит десятки лет, быть может, и сто лет стоит, и на далекие сотни верст люди знают эту избушку и так же говорят о ней, как мы в населенных местах о каком-нибудь городке.
С общей тропы мы свернули на ледянку, проложенную здесь не очень давно, потом вышли на старый путик Осипа. Тогда Петя, шедший впереди для стрельбы рябчиков, сказал:
– Путик опять на ледянку выходит.
– Не путик на ледянку, – поправил его Осип, а ледянка вышла на мой путик: я ходил здесь еще в царское время.
Было довольно смешно слышать этот спор о первенстве ледянки с путиком: по ледянкам нынче и автомобили пускают, а путик – это едва заметный след одного человека на траве, на грязи, на песке, и постоянно, если идешь путиком, проверяешь себя по засечкам на дереве.
Мало-помалу глаз привыкает, и мы сразу же замечаем всюду расчищенные и посыпанные песком пятачки, называемые гуменцами, возле этих пятачков видны ямки, из которых доставался песок для гуменцев: колодцы. Птица сверху замечает такое гуменце, и ей тут вероятней всего надо выклевать камешки, быть может, крупный песок, необходимые ей для перетирания пищи: птица тут бегает, кувыркается, чистится. Если гуменце рассчитано на рябчика, то силышко подвешено на высоту кулака над гуменцем: на такой высоте рябчик держит голову, когда бежит, а чтобы головой он непременно в сило попадал, пустота внизу под силышком заполняется еловой лапкой. На глухаря сверх высоты кулака ставится еще большой палец, а чтобы птица не улетела с силышком, к нему привязана веревочка, плутиво, и на этой веревочке чащина (ветка для груза).
Обо всем этом Осип нам подробно рассказывает и тут же на примере объясняет, как именно и где надо ставить сило, в каком месте на рябчика, в каком – на глухаря и на поль-ника. Но Губин этими рассказами не доволен и терпеливо ждет случая: чуть только Осип замолкает, он начинает выпевать свою былину:
– Весною на путике счищаю гуменце, посыпаю гуменце желтым песочком, оглаживаю маленькой лопаточкой. Солнышко сверху смотрит на мое гуменце, садится птица на вершину дерева. Видко! Панет птица на землю, все видко! Бежит птица по тропе, все видко! Птица привыкает и любит гуменце.– Погоди читать! – остановил Осип, – мы это и так все понимаем, ты вот лучше прочитай им, как повадился медведь ходить по твоему путику.
Губин с большим оживлением стал выпевать:
– Хожу я весной по своему путику, нога моя давит на мох, выжимает нога воду из моха, бровки путика обсыхают, по краям вырастает сладкая травка, на травку выходит олень, за оленем приходит медведь, ходит медведь, не торопится.Осип засмеялся:
– Не торопится! Куда же медведю торопиться, у медведя изба-то с собой!
Губин продолжал:
– Осенью расставляю свои силышки, тысячу силышек на своем путике. Каждый день собираю рябцов и тетерю, и медведь собирает, сколько ему надо. Медведь мною не обижен.– Шкура дешевая, – разъяснил Осип, – и зверь опасный, не стоит он того, чтобы им заниматься.
Вспомнив свои давнишние скитания в карельских лесах, я сказал:
– Наверно же у вас на медведя есть отпуски?
– Были, – ответил Осип, – да теперь хорошие забыли, – читаем «Живые помощи».
– Неужели от медведя псалом царя Давида читаете? – спросил я.
– И от зверя, и от птиц все «Живые помощи».
– И помогает?
– Об этом не справляемся.
– А вот как читают от медведя в Карелии, – сказал я полушутя, не подозревая, что становлюсь проводником суеверия:
– Выйду я, не молясь, стану хребтом на запад, лицом на восток. Праведное солнце! Поставь на моем путике тын золотой от земли и до неба. И чтобы не перелезть через тот тын волку, и рысю, и широколапому медведю. Ключ в море. Замок в гору. Аминь!Однажды в самое голодное время, тоже случайно, шутя, прочитав этот отпуск, я себе заработал яичницу. И вот когда теперь везде все это разъяснилось, все кончилось, и сам Осип в кино ходит, а не в церковь, очень даже любит там на водицу смотреть, как она переливается при месяце («лучше этого во всем кино нет ничего!»), а между тем как же он умоляет меня записать ему этот отпуск!
Я отделался на время тем, что обещался, когда придем на место, дать ему отпуск из своей книжки на ворона.
– А ворон, – сказал Осип, – пакостит еще больше медведя! Спасибо, если дадите от ворона. Ну, читай! – приказал он Губину.
И Александр продолжал о медведе:
– Хожу я по своему путику, медведь без меня в клеть. Разобрал потолок, вынул мешок, положил на землю, второй мешок муки спустил, третий, пять мешков муки спустил и во мху закопал. А на моем путике были две елки. Остановились две елки по сторонам путика. Одна елка говорит: – Тебе идти! Другая елка говорит: – Ты иди! Обе елки тесно стоят, возле путика.– Ну погоди читать, – сказал Осип. – Сейчас я все покажу на примере.
И вскоре, действительно, возле путика мы увидели, тесно стояли два большие дерева, как бы уговаривая друг друга идти вперед по дорожке. Оба дерева были просверлены насквозь: через эти дырочки когда-то была продета веревка и к концам веревки привязана петля из довольно толстой цинковой проволоки. Медведь, собирая свою дань на путике, проходит между елками и попадает в петлю, а веревки, крепко привязанные за другие деревья, затягивают петлю на шее медведя.
– Жив ли был медведь-то, когда ты пришел? – спросил Осип.
– Медведь был жив, и я ему сказал: «Я тебя не трогал и не хотел трогать. Шкура твоя дешевая, и ты опасен. Зачем ты хотел взять у меня муку? Без муки в лесу я жить не могу».– Ну, это ты маленько приврал, – сказал Осип, – живали мы и без муки, на одних ягодах.
Так за разговорами незаметно добрались мы до Каргавы (приток реки Коды), и все, что нес с собой Губин, мы оставили в клети охотника себе на запас, даже не замкнув клети. С этого места Губин должен был вернуться, но я думал – он еще отдохнет, пообедаем вместе, чаю попьем: человек-то уж очень хорош, жалко расстаться. Но когда Губин, уложив вещи, вылез из клети и я сказал ему «спасибо!», он понял, что я за все «спасибо» сказал, что слова мои были последние. Он повернулся и пошел, и мы не скоро только поняли, что он совсем ушел.
– Какой хороший человек! – сказали мы.
И Осип на это:
– На короткое время мы все хороши.
Сендуха
Изредка на пути нашем взлетают глухари, а на току их бывает столько, что пятнадцать штук, пойманных в одно утро, заметно тока не убавят. Где же они, если за сутки хода в лесу спугнешь одного? Взлетевший глухарь обыкновенно садится на вершину дерева в расстоянии винтовочного выстрела. Мы их мясо испробовали в кулеше, не понравилось нам, зато рябчиков не пропускаем: их белое мясо, если хорошенько поварить, и в кулеше очень вкусно. Был один рябчик у нас на пути, невидимо пырхнул и где-то близко в частом ельнике сел. Я сошел с путика, чтобы выпугнуть его из чащуры и потом поймать выстрелом при перелете с одного дерева на другое. Рябчик мне скоро не дался, я увлекся преследованием до тех пор, пока не очутился в темной раде[27], среди частых болотных елок. Мы скоро перекликнулись, но в одно мгновенье замешательства иногда сильнее почувствуешь среду, чем при долгом блуждании: не успеешь отупеть… Было похоже в болотном неведомом лесу, как если бы в море сойти с парохода в лодку и остаться одному в морской бескрайности.
– Осип, – спросил я, вернувшись на путик, – можешь ли ты, если собьешься с пути, быть уверенным, что из сурадья куда-нибудь выбьешься?
– А хлеб? – спросил он.
– Положим, что хлеба довольно.
– Если хлеба довольно, то я везде выйду. Ах, елки-березки! Вот виноват, надо было сказать: может быть, как-нибудь выйду.
– Значит, не уверен?
– Нет, я уверен, только говорить уверенно не могу: в лесу так нельзя.
И вполголоса:
– Ничего не замечаете?
– Нет…
– Ручей переходили, осинка срубленная лежала, не заметили?
– Помню.
– Этой осинки раньше не было. А вот глядите… Что это?
– Ничего особенного: след человека.
– Это верно: особенный человек шел, не охотник.
– А может быть, просто разведчик по лесному делу?
– Когда по лесному делу идет человек, мы все знаем: наша местность чуткая.
Кто же это?
Вопрос остается надолго в нашем молчании. Осип старается догадаться о таинственном человеке в первобытном северном лесу, я же думаю о человеке, живущем в городе, где иному почти так же редок знакомый человек, как здесь незнакомый.
Бывают большие промежутки в наших беседах, и при большой усталости мысль свою так же трудно поймать и передать, как редко случается вспомнить сновидение: я прохожу, деревья мимо проходят, какие-то мысли сами собой проходят…
– Ну-ка, разгадайте, ребята, что это? – спрашивает Осип, указывая нам елочку, резко отмеченную выгрызом на высоте человеческого роста.
Так лось осинки закусывает, и по этим закусам и заглотам можно бывает узнать, какого роста был лось.
– Медведь мерялся, – объясняет нам уверенно Осип, – вышел из берлоги, смерялся, а на другой год опять будет.
Сказка эта среди охотников известная, но что медведь для чего-то загрызает, в этом, кажется, нет никакого сомнения.
Еще мы вскоре разгадывали, почему это серый ствол сосны был так изодран, что зарумянился. Это, оказалось, белка попала в глухариное силышко всем туловищем, долго билась, царапала дерево, но в конце концов догадалась и силышко перекусила.
А еще мы видели и поняли, что горностай съел рябчика; в силышке осталось только шейное колечко с перьями: хитрый зверь не тронул только возле петли.
Ястреб тоже часто промышляет на путиках. В одно ьсубранное сило, вероятно, перед самым нашим приходом, ястреб попался за ногу такой живой, красивый, глаза желтые, сам пощелкивает. Мы его долго и старательно фотографировали.
Было еще: встретилась нам какая-то яма, очевидно, вырытая давным-давно руками человека: по преданиям, это – звероловные ямы, по-видимому, подобные сибирским и дальневосточным. И еще одна изба нам встретилась, до того озелененная мхами, что, не зная, рядом пройдешь и не заметишь. Это задолго до революции хотели тут лес сводить, устроили контору, а потом разобрались, что лес этот порочен. Так изба эта осталась, и лес уцелел в девственном своем состоянии только потому, что был порочный.
В этот день мы так и не могли выбраться из этого девственно-порочного леса и шли до ночи среди гигантских деревьев в тяжелом долгомошнике. Недалеко оставалось до полночи, но солнце еще золотило вершинные сучья, кукушка не уставала, а где-то вдали единственный тетерев токовал, и его ручьистая песня, преображенная эхом в лесных уймах, заполняла всю тишину. Где-то на сухом бугорке в этом лесу наш проводник заметил остатки нодьи[28] и сказал нам, что это человек ночевал на сендухе.
Так здесь всюду называется ночевка на воздухе: не в избе, а на сендухе.
– А человек этот – тот самый?
Осип не сразу ответил. Осмотрелся, спустился к воде и оттуда радостным голосом позвал нас к себе.
– Тот самый, – отвечал он, – хороший человек.
И он показал нам дощечку, закрывавшую воду в колодезе: человек здесь проходил, переночевал в сендухе и воду закрыл: а если закрыл, значит, подумал о тех, кто пройдет после него, – хороший человек.
Мы ночевали тут же на сендухе. Лесному человеку вырубить нодью с костром на всю ночь, с шалашом для ночлега, с постелью, с варилом, даже со столиком для еды, едва ли больше стоит времени, чем нашей хозяйке заправить примус. Вот мы и кулеша из рябчика славно похлебали, попиваем чаек, и так радостно возвращается нам наше детское «почему». Это наше детско-охотничье «почему» совсем не то, когда взрослые люди, опасаясь отдаться чарам красоты, говорят: «А почему?» У детей и охотников «почему» выходит из удивления, вопрос рождается в радостном соприкосновении своей целины с целостью мира. И правда, устроив все с ночлегом, едой, чаем, как не дивиться нам на досуге этому мрачному лесу с гигантскими перестарелыми деревьями, уцелевшими только потому, что чем-то не пришлись к рукам человека.
Мало кто знает и почти никто не чувствует жизни дерева и не догадывается, как о животных, по себе о страдании и радости дерева. Вот охотник, желая взбудить белку, стучит топором по стволу и, достав зверка, уходит. А могучая ель губится от этих ударов, и вдоль сердца начинается гниль. Котомку надо было путнику подвесить на сучок, а у ели все сучья наклоняются книзу. Путник, затесав маленький колышек, вгоняет его в ствол, и во г мы сейчас через множество лет с трудом догадываемся, почему это прекрасное дерево выросло полугрудником.
Ночь такая светлая, что, сидя за чаем, мы далеко можем видеть и разговаривать о судьбе того или другого нашего соседа по ночлегу: вон дерево с табачным суком, вон кособолонное, вон треснутое, поврежденное морозом. А вот счастливое дерево, годы которого мы приблизительно сочли по мутовкам и поняли, что почти до половины жизни дерево это очень страдало, но вдруг по какой-то причине взялось, и перегнало соседей, и выбралось к свету, и там теперь на большой высоте величаво живет за одним столом с такими же, себе равными великими существами… Бывает, отыскивая причину временной угнетенности, почувствуешь под ногой слишком тонкий подстил и догадаешься, что причиной угнетенности был беглый пожар. Но мы, разыскивая причину, утопали в толстом долгомошнике: не было тут пожара сотни лет. И вдруг нога натыкается на что-то большое и еще довольно твердое. Мы разрываем мох, находим там под мохом остатки большого дерева, и тогда все становится ясно: это дерево угнетало своим пологом нашего друга, но ветер свалил то большое дерево, и с того года наше взялось – и пошло, и пошло.
А разве у нас к человеческом обществе не бывает так постоянно: вдруг что-то большое как будто отвалится, и освобожденный талант высоко взмывает наверх, оставляя собой пример другим на столетия.
Пошарив вокруг себя, чтобы найти сушинку для раскурки, Осип нашел палочку и вдруг просиял: это было ушкало[29] для беличьих шкурок, и можно было понять, что это ушкало не наше, а охотника соседней области Коми. Это иногда бывает, что их охотники заходят сюда. Те охотники, по словам Осина, гораздо лучше наших и как охотники и как люди, они и лучше живут, и лучше принимают у себя, и честнее наших, и милее…
Эту приязнь к людям другой национальности, эту почтительность к чему-то лучшему у них, чем у нас, я часто встречал в нашем народе, и корни эти нахожу глубоко в себе: мне тоже с малолетства все кажется, что у не-наших людей все как-то лучше, и я до сих пор не могу решить, хорошее ли это народное качество или же основной национальный порок.
Живые помощи
Когда последняя излучина Коды метнулась под лето, мы круто свернули на север и, перевалив водораздел, увидели речку Порбыш, текущую в сторону Мезени. Все реки отсюда текли в приток Мезени – Вашку. Мы шли теперь по самой границе области Коми; налево, на нашей стороне просеки, лес был разделен кварталами; на правой стороне, в области Коми, лес был немеряный, и цепь землемера там еще не была.
Только на короткое время порадовал нас хороший сосновый бор – редкость большая! Дальше пошли бесконечные, неисходимые еловые долгомошники, злые, корявые, бесконечно трудные для передвижения. И когда весь день с небольшими перерывами на «еловый холм», на зеленомошники, мы шли почти одним сурадьем, одним долгомошником, то сомнение закрадывалось в правильности распределения северных лесов на удобные и неудобные: так ведь мало мы, проходя, видели удобных лесов и столько прошли этих бесконечных сурадий, питающих величественные северные реки.
Плохо, когда соблазняет каждая сушина, чтобы сесть на нее и отдохнуть, а сесть боишься: будет очень трудно вставать. Плохо тоже, когда солнцу не радуешься: солнце покажется – сразу же станет жарко, но и раздеться нельзя: под колодьями снег, и верхнее солнечное тепло очень обманчиво. А из облака вдруг начинала стегать крупа или холодный дождь.
Сокращая путь, мы к вечеру обходим какое-то непереходимое болото и начинаем подумывать о ночевке.
Неужели еще ночь на сендухе?
Мало-помалу выворотни, обомшелые, до того похожие на медведей, что иной раз покосишься, а иной – схватишься за тройник и даже на пулю успеешь поставить щиток, – эти зелено-бурые существа на карачках постепенно исчезают в тумане. Ничего больше не видно, и мы по слуху идем: в тумане в большой тишине слышатся переплески реки, обмывающей тот самый холм, на котором раскинулась знаменитая Чаща…
Нет, конечно, мы достигнем сегодня избяного тепла и будем в Чаще, но только, с какой же стороны мы подошли, где именно находится охотничья избушка? Перейдя речку, мы вступаем в Чащу и ничего не видим в тумане. Мы устраиваемся на отдых, Осип отправляется искать свою избушку. Долго ли он проищет? Мы не разводим огня, а пронизанное сыростью и холодом тело вдруг как бы взрывается и точно так же, как в сильной лихорадке, начинает жить без управления, дрожать. Это не болезнь, а крайняя потребность избяного тепла.
Избушка оказалась совсем недалеко. Мы даже услышали, как спешит Осип рубить дрова, и когда мы подошли, чайник уже висел на крючке, котелок – на другом, а из самой избушки, из двери ее валил дым: внутри ее, в дымовой копчености, скоро будем с наслаждением коптиться и мы.
Дорого же стоит людям мечта! Вот она, Чаща, где стяга не вырубишь, где срубленное дерево клонится к другому и не может упасть. Вот он, лес, не знавший топора человека, а мы, наклонясь к порогу, вползаем под черным небом дыма в избушку. Черное небо из дыма, слегка освещенное огнем каменки, чуть рыжеватое, волнуется даже от сильного дыхания, если только подняться чуть выше над изголовьем. Но, подложив свои сумки под головы, мы лежим покойно и наслаждаемся теплом, проникающим в тело прямо от горячего камешка. Виден огонек в черноте, и вот из души эта мечта о Чаще переходит в самое тело; получая первобытное тепло, тело до того чудесно чувствует себя, что, кажется, больше ничего и не надо, и вечность у горячего камешка в черной дыре представляется истинным раем.
Мало-помалу черное небо становится все выше и выше, показывается квадратное отверстие, через которое уходят последние остатки дыма. Осин это отверстие затыкает особой деревянной втулкой, сначала наполовину, потом оставляет щелочку и, наконец, совсем затыкает. Еще мы немного хлопочем по устройству постелей и ложимся, отдаваясь каждый себе самому.
Пока мы устраивались, я на окошке при тусклом свете северной белой ночи разглядел маленькую книжечку, школьный молитвенник царского времени; книжечка эта сама развертывалась на псалме царя Давида «Живые помощи»; видно, что множество лет единственно только этот псалом и читался из всей книжечки, и страница эта была черная, остальные – все белые.
Устроившись чудесно возле теплого камешка, я спросил Осипа:
– Осип Александрович, от какого зверя ты читаешь «Живые помощи»?
– От зверя, – отвечает Осип, – у меня нет ничего, а «Живые помощи» я читаю от ворона.
– И помогает?
– Ничего, помогает. Вот еще очень росомаха обижает, против нее пробовал: не помогло.
Проходит немного времени в молчании, и Осип задает мне вопрос:
– Михаил Михайлович! По всему видно, ты человек понимающий, посоветуй мне: поступил я в колхоз с грехом пополам, только скушно мне, не могу я жить без охоты, не могу я на старости лет от себя самого отвыкать. Как посоветуешь ты: поступить твердо в колхоз или уйти на свой путик.
– Конечно, Осип Александрович, – ответил я, – в колхоз поступай, но и оставайся при своем путике, от колхоза должна быть тебе польза большая, а колхозу ты будешь полезен своим путиком.
– Вот и я так думаю, а они хотят меня заставить им лодки делать и землю пахать. Я же без своего путика жить не могу. И дичь гремит в лесу, а я должен пахать.
– Молодого человека временно полезно подержать на чужом деле, – сказал я, – но старый человек должен оставаться на своем путике. Поступай крепко в колхоз, я ручаюсь: ты будешь работать для колхоза на своем путике.
– Благодарю! Очень благодарю!
Мне казалось, что все кончилось, я сделал и граждански доброе дело: прибавил нового колхозника и соединил личную разделенную совесть в работе для колхоза на своем собственном путике. Но скоро Осип задает новый вопрос:
– Вот ты меня уговорил твердо в колхоз поступать, а не попадем мы с тобой к сатане?
– К антихристу, ты хочешь сказать? – спросил я.
– Антихрист и сатана, я полагаю, это все одно, а как по-вашему? Не попадем мы с вами к антихристу?
– Ты как к коммунистам относишься, к правительству? – спросил я. – Понимаешь их обещания?
– Понимаю, только не верю: одни обещания.
– Но хлеб-то вот дали…
– Хлеб, правда, дали.
– И если все дадут, как обещали?
– А вы как думаете, дадут?
– Непременно дадут.
– А если дадут, то за такое правительство надо будет по гроб жизни каждый день бога благодарить.
Смотрю я на бедного Осипа и думаю о предках его, староверах: как исстрадался тот простак раскольничьих времен в борьбе за какую-то истинную веру, за старинную букву, за правильное сложение пальцев в крестном знамении. Сжигал сам себя, свое собственное тело на кострах, сложенных своими собственными руками, – и выгорел до конца, оставляя потомство без понимания, за какую истину горели отцы. Теперь повалился на кладбище староверский восьмиконечный крест, – нет ни Христа, ни антихриста! – и обманутый простак вместо креста ставит кол, начертав на нем рубышами топора свое дохристианское охотничье знамя.
– Вот что, – сказал я Осипу, – выбрось ты вон из головы своего антихриста, твердо, без колебаний в совести, поступай в колхоз и добивайся там работы на своем путике.
Жар-Птица
Чтобы не дуло из маленького окошка у лавки возле самой головы, я заткнул его тряпкой, и в нашей лесной, черным-начерно прокопченной избушке стало темно, затишно и тепло, как у белки в дупле. Как ни будь, однако, тепло в лесу с вечера, есть такой час перед утром, когда речка, говором своим наполняющая всю лесную тишину, передает свой голос бору. В темноте сквозь тонкий лесной сон все было слышно, и связь с жизнью Чащи ни на мгновенье не обрывалась: я услыхал, что речка передала голос бору, открыл окошко, и в дупло мое черное влетела Жар-птица.
Это бывает у детей в праздники, ребенок обрадуется игрушкам, а старый человек, вспоминая свое такое же детство, такой же свет радости, наполнявший когда-то и его детскую комнату, говорит сказку о чудесной Жар-птице, и так из поколения в поколение, передаваясь в сказках, птица радости живет, заполняет собой все виды искусства. Помню, когда впервые мне захотелось писать и я стал задумываться, на чем бы мне остановиться, о чем же писать мне постоянно для людей, то однажды припомнил лучшее из своей жизни и остановился на Жар-птице – лучше этого я не знал ничего.
Столько времени, столько трудов положили мы в трудное для путешествия ранневесеннее время, чтобы достигнуть Чащи; наконец пришли в Чащу, и вот прилетела Жар-птица и наполнила всю душу радостью: стоит вылезти из дупла, и Чаща тут. Детская радость шевельнулась в душе, и мы вылезли…
Все оказалось точно так, как и говорили о Чаще: деревья стояли одно к одному, как громадные свечи, и уж, конечно, тут стяга не вырубишь, и тоже правда, что дереву здесь невозможно упасть, если не подрезать и те, к каким оно клонится. Под румяными соснами росла черника, и на ней лежали два срезанные и раскряжеванные дерева. Так свежи были эти срезы-разрезы, что вспоминалось из сказки про живую и мертвую воду: хотелось спрыснуть живой водой, чтобы кусок сложился с куском и оба прекрасные дерева Берендеевой чащи поднялись. На одном из разрезов мы рассматривали работу бонитеров: карандашом по линейке была проведена черта, по ней отсчитывались круги, сумма лет, считанная, выписывалась на сторонке, и в конце были сложены все суммы и подписано общее число лет жизни дерева: триста семь лет. На других кусках изучалось качество дерева, и некоторые из них даже для этого были еще распилены и рассечены вдоль и поперек. Когда же мы подняли глаза наверх, то увидели на каждом гигантском дереве зачистки топором, и на этом белом зачищенном кусочке было обозначено буквой, какой это сортимент: А значило авиация, К – корабельные мачты, О – особого назначения, и много еще разных букв, значение которых раскрывал нам Осип, каждый раз приговаривая:
– Вот так лесок, этот лесок все оправдает!
– А как же, – спросили мы, очень смущенные, – говорили нам, что Чаща эта не знала еще топора человека?
– Она и не знала, – отвечал Осип.
И показал нам лес без всяких отметок.
– Вот эта, – сказал он, – еще вовсе не видала топора. Не видала, так скоро увидит, – да, этот лесок все оправдает.
…Дети плачут, расставаясь с Жар-птицей. Да и взрослому нелегко: даже ведь и в сказке не так-то просто выхватить из нее для жизни перо, а поди, вырасти дерево, жизни которому больше трехсот лет.
После того как стало возможным во всяких чащах на свете все высматривать с самолета, спускаться в недра тайги, вывозить оттуда пушнину, стало видно – не о той Чаще надо мечтать, какой она была без человека, а какую мы должны создать себе в будущем. Саженый лес только тому нехорош, кто его никогда не сажал и брал все готовое, но если утрата Чащи побудит посадить хоть десяток деревьев, то в скором времени в таком своем лесу среди даже еще маленьких деревьев человек увидит больше радости, чем в девственной Чаще. И тогда кажется, будто эта новая радость досталась, как в сказке: выхватил перо у Жар-птицы и начал желанное создавать сам от себя. И так бывает, что если перышко выхватил и присоединил сам себя к созданию Чащи, то и Жар-птица далеко не улетает и тут же рядом где-нибудь невидимо помогает из материалов заболоченного леса создавать Берендееву чащу.
План, конечно, надо иметь в голове при создании Берендеевой чащи, но только надо уметь и расставаться с планом, если сама Жар-птица появится, и лучше одно только ее перышко, чем миллионы карточек с выписками, распределенными в картотеках по буквам и номерам. Так был у нас план при отъезде на Север – задержать нашу раннюю чудесную весну, чтобы, подвигаясь все выше и выше на север, наслаждаться началом весны целые месяцы. Расчет наш был верный, но, остановив так весну, мы множество дней видели на березах все те же самые скучные зеленые хвостики треснувших березовых почек. Весна была остановлена, но вместе с тем и самая жизнь остановилась, весна без движения была как бумажная роза. Случилось, однако, как только мы решили тронуться из Чащи в обратный путь, вдруг с неудержимой силой весна ринулась к нам на помощь для создания Берендеевой чащи. В один только день березки, окружавшие наше охотничье избушку-дупло, преобразились, и удивленные зеленые листики как будто прилетели, сели и держались все на одном только твердом для них воздухе. На боровых местах белый мох до того успел высохнуть, что опасно было спичку зажечь. В болотах появилась везде трава, такая ядовито-зеленая.
Ворон
В Усть-Илеше при нас пробили запонь, и почти одновременно с уходом последнего парохода открыли запони и по всем молевым рекам Пинеги, и лес густой массой, как ледоход в свои первые дни, поплыл в Двину, к Архангельску, на лесопильные заводы.
Мы простились с Осипом, – невозможно взять с собой проводника на семьсот верст: как ему вернуться вверх по реке на такое огромное расстояние? Впрочем, на реке – не в лесу, не собьешься с пути, и немного надо усилий, чтобы двигаться скорее плывущего леса. Приходится легонько подгребать по очереди кормовым веслом: один шесть часов работает, другой в это время спит. С нами примус, чайник, котелок, обед и чай можем сварить тут же, на лодке.
Простившись с Осипом в Усть-Илеше, мы радостно тронулись в путь, стараясь придерживаться воды, быстро бегущей на стрежне: эту воду можно узнавать по пузырям, а также и по густоте плывущего леса: каждое бревно стремится к быстрой воде, как будто каждому хочется поскорее попасть на лесопильный завод.
Мы, вероятно, не отъехали двух-трех верст от Усть-Илеши, как вдруг показался быстро бегущий вслед за нами человек: он бежал и махал нам шапкой. Мы направили лодку туда и скоро узнали – это Осип бежал и звал нас: мы, очевидно, что-то важное забыли.
Какое виноватое лицо у старика! Как искренно огорчен он, что беспокоит нас!
– От ворона, – бормочет он, – вы обещались мне дать отпуск от ворона и забыли.
Тут я вспомнил, что похвалился Осипу одним отпуском от ворона, записанным у карельских охотников, и сослался ему на свою книгу, оставленную с другими вещами в Усть-Илеше.
– Эх, Осип Александрович, – сказал я, – давно ли мы с тобой согласились забросить антихриста?
– Антихриста, – ответил он, – я согласен забыть: не думаешь о нем, и нет их – ни антихриста, ни сатаны. А ворон, Михаил Михайлович, есть, с этим-то ведь надо же как-нибудь бороться на путике.
Сбежистое дерево
Лиственница, пока не позеленеет, кажется мертвой: какое же это, правда, хвойное дерево, если не зелено, и тоже видишь, что листьев на лиственнице никогда и не будет. Но зато, когда лиственница начнет зеленеть, то это уж весна: это – весна, воскрешающая эти с виду совершенно мертвые деревья. По ночам, однако, еще очень холодно. В карбасе у нас навалено много елового лапнику, на лапнике – дерюга. Кому очередь спать, ложится на дерюгу, сверху наваливает все на себя и спит без горя. Тот же, кому надо грести и править, согревается работой и особенным счастьем оставаться наедине с миром. Озноб телесный иногда соединяется с восторгом внутри, как ранней весной с морозом горячий солнечный луч, и тогда я плыву и живу хорошо и создаю свою Берендееву чащу.
Желтые бревна, когда в них всматриваешься светлой ночью, все до одного оказываются как лица людей; каждое, и даже как-то по-своему, повертывается, что-то шепчет, чешется о лодку, жмется к тебе…
Среди бревен, окружающих карбас, мне кажется, я узнал одно, хорошо мне знакомое дерево: оно было сбежистое, с суковатой вершиной, глубоко опущенной в воду. Благодаря такой влагоемкой вершине дерево это нырнуло под запонь и под напором других вырвалось и уплыло. Очень возможно, что оно задержалось где-нибудь в заводи и теперь пока только соединилось в судьбе своей с другими, но даже теперь оно заметно ведет себя по-иному, мешает мне, все стремится поддеть карбас. Я продумываю теперь на досуге возможные особенности среды, в которой выросло это непокорное дерево: бывает, в лесу довольно, чтобы человек один только раз пришел, прижал мох ногой, выдавил воду, и от этого маленького давления бровка сдавленного моха стала обсыхать, флора меняться… Нет, лучше пусть просто прилетит глухарь, сядет на это дерево, срежет своим сильным клювом веточку, и от этого все в жизни этого дерева будет иначе. И когда срубят лес, будет на сплаве бревно пырять под запони, вырвется в море. И кончиться должно не так, как у всех.
Вот подавно на Крайнем Севере, где-то много дальше Новой Земли, открыт был новый остров. На этой пустынной земле никогда не была нога человека, и о нем свидетельствовало только одно ошкуренное, желтое бревно с клеймом «Северолеса». Вот это и было то самое дерево Берендеевой чащи, на которое триста лет тому назад сел глухарь, испортил клювом верхнюю мутовку и тем предопределил ему быть единственным и полномочным представителем (полпредом) на неоткрытой земле.
Много такого приходит в голову, когда Петя спит, и вокруг одни только бревна, и, кроме них, некому слова сказать. До того иногда уйдешь в настроение Берендеевой чащи, что и вовсе забудешься, и с положенного весла даже и капать перестанет. Тогда является что-то вроде стыда перед бревнами, схватишься и легким усилием выводишь карбас из дрейфа. Я это уже подсчитал: они плывут два с половиной километра, а я, чуть касаясь воды, могу плыть до пяти километров в час.
Так только очень недолго я могу создавать Берендееву чащу, сложив руки среди дрейфующего леса. Является что-то вроде стыда перед бревнами, и тогда, упираясь веслом в одно бревно, в другое, выбираешься из дрейфа.
Соловьев нет на Севере, и птичьего весеннего щебета вовсе не слышно, зато уж кукушка – это совсем не то, что у нас: она ведь одна в тишине лесной пустыни, и голос ее такой большой и могучий. При движении лодки незаметно одна птица передает свой голос другой, и постепенно привыкаешь к этому звуку, как к часам, и только если еще что-нибудь слышишь, вспомнишь кукушку, да вот когда большая перемена в природе – солнце садится или встает, – отдаваясь событию, вспоминаешь; так жизнь весною на Севере идет по часам при непрерывном «куку».
Бревна, сталкиваясь одно с другим, обыкновенно дают какой-то глухой, сдержанный звук, и только редко, бывает, столкнутся два бревна из какого-то звонкого леса.
Лавела
С нами хорошая карта. Мы все знаем: где едем, какие речки, какие села. Есть странные названия, чисто русские, а неприятные: Противна, Еркино, Поганец, и чужие, финские, иногда чудесны: Лавела, Явзора. Нам особенно понравилась Явзора; это имя так удивительно сочетается с этой явью светозарных ночей: кажется тогда, везде вокруг, на земле и на небе, живет тут прекрасная Явзора. А почему бы и нам не отдаваться свободно очарованию слова? И так мы плывем в какую-то прекрасную Явзору под звуки кукушки и все не можем доплыть: Явзора от нас как будто все дальше и дальше.
Петя разбудил меня вечером на смену.
– Явзора?
– Лавела!
Большое село, дом к дому у самой воды, на домах деревянные коньки, птицы, олени. Пахнет немного жильем, но звуков нет никаких, северные села молчаливы так же, как лес, и даже собаки не лают: эти охотничьи лайки в деревнях ко всем людям относятся одинаково приветливо и злы только в лесу: там уж к хозяину чужого человека они не допустят.
В Лавеле возле бани нас приветствует могучий человек с большой рыжей бородой, совсем голый.
– С легким паром! – приветствуем мы великана с розовым телом.
– Милости просим, – отвечает хозяин.
Париться в бане на Севере так приятно, что и надо бы свой правдивый рассказ вести от бани до бани. Но греть тело и остывать на воде холодной ночью нам показалось опасно. Мы здесь только чай пьем с лесорубом и слушаем рассказы его о старом времени и переменах.
Оказывается, до двадцать седьмого года здесь поперечной пилы вовсе не знали, и одним топором наш хозяин брал в день двадцать хлыстов или двадцать кубометров. Но пришло новое время, потребовалась большая рубка, мастеров топорного времени не хватило. Тогда явились необученные рабочие, и две обыкновенных женщины, домашние хозяйки, с поперечной пилой стали делать чуть ли не больше, чем большой мастер топором.
– Им не надо учиться, – сказал хозяин о женщинах, – им пила все делает; второе же – наш брат лесоруб, если его станут хвалить, делается хуже, а женщину хвалят, она еще больше работает.
– Почему же, – спросили мы, – мастер портится от похвалы?
– Почему? – задумался великан. – Я так полагаю, по-своему, конечно, дальше похвалы для мастера нет ничего; ежели поешь, то на другой день опять хочется, а похвалу не едят. Дальше-то что после похвалы? Ну, дальше мастер начинает вином зашибать, а женщина от похвалы еще пуще работает, от похвалы она сама не своя и все хлещет и хлещет.
Явзора
Довольно мы уже пригляделись к лесам и многое научились понимать из этой книги природы. Сосчитав по мутовкам годы роста одной прибережной сосны, мы догадались, что лет сорок тому назад на обеих сторонах Пинеги рос еловый лес и однажды был схвачен пожаром. Река остановила движение пожара, и оттого на левом берегу ель осталась, как была, а на правом после пожара должно было вырасти дерево-пионер – сосна. Вот почему лес на одном берегу – сосна, на другом – ель. Собираясь ночевать на воде, мы подъезжаем к еловому берегу и, выбрав елочку понежнее, готовим много лапнику. Навалив этой постели в лодку целую гору и на себя еще все наше тряпье, Петя оставляет себе для дыхания только дырочку. Ему спать шесть часов, мне же сидеть все это время ha корме и подгребать. Мало-помалу от толчков лодки о бревна Петина дырочка для дыхания расширяется, открывается весь лоб, и я вижу, там сидит довольно большой паук. Положив весло, я осторожно подвожу кончик шомпола к пауку и, когда он цепляется, швыряю его в воду, далеко от лодки. Тогда в один миг паук схватывается и по воде, как посуху, с большой быстротой мчится к лодке, взбирается и опять сидит и едет у нас бесплатным пассажиром, очевидно, сознательным в достижении цели и даже как будто полным достоинства. Забавляясь пауком, я невольно всматриваюсь зорче в малиновую от заката воду и замечаю – наш паук далеко не один: пользуясь течением, пауки просто стоят на воде, как люди в метро на движущейся лестнице, и едут, не затрачивая ни малейшего усилия. Нет никакого сомнения, что «исход» пауков предполагает впереди возможность какой-то их Палестины. Однако, по всей вероятности, стоять на воде не так-то удобно, или, может быть, вода и для них недостаточно тверда, и есть риск иногда и провалиться: чуть только какое-нибудь приплывающее бревно приблизится, паук бежит к нему по воде и потом едет точно так же, как и я еду по течению, когда бросаю весло: вполне сознательное переселение, вызванное какой-то переменой в среде.
В малиновом свете зари кукушка неустанно отбивает часы: солнце садится. Я, человек заутренний, всегда потухаю, когда солнце садится, и тогда склонен бываю свое собственное передвижение понимать переменой в среде. Ничтожный паучок, точно так же. как и я. имеющий свою цель путешествия по Пинеге, приводит меня к подозрению, что и я тоже еду не сам по себе, что светозарная великая Явзора глядит на меня сверху точно так же, как я гляжу на паука: не на меня самого, единственного и неповторяемого в своей личности существа, а как на представителя паутинных работников.
Солнце садится, я вовсе теряю власть над собой, рука с веслом работает, как автомат, и все постепенно от меня, замирающего в себе, как бы отстраняется и становится чуждым, будто я ступаю в пределы чужой планеты, где все враждебно мне, пришельцу.
Какими огнями раскинулась по небу северная холодно-блестящая Явзора! Мало-помалу, однако, от всех этих небесных огней остается на светлом небе одно только большое малиновое пятно, и вода под ним между черным берегом сосны и другим черным берегом ели тоже малиновая. На этом все и замирает, останавливается и больше не выцветает. Тогда солнце окончательно село, и замолчала кукушка.
Темная ночь, дорогой мой друг, истинное благодеяние для беспокойного в сознании своем человека. Ведь с древнейших времен сон сравнивали со смертью, а я думаю, и сравнивать нечего: нет сознания – и нет человека. Большинство людей привыкает ежедневно умирать, доверчиво поручая свое сознание естественным силам. Не всякий, однако, и встает наутро, зато не всякий и просто заснет: вы со страхом открываете глаза, но темной ночью не хочется лежать с открытыми глазами, вы закрываете глаза на все и, утешая себя, как добрая колдунья в сказках, – «утро вечера мудреней», – засыпаете. Темная ночь, как пол в крематории: опустят покойника, пол задвинется, и все кончается.
Но тут – светлой северной ночью ты как будто получаешь особый билет с разрешением спуститься под пол и следить за судьбой покойника до тех пор, пока от него останется только пепел для урны. Вот я вижу глазами, как все от меня отдаляется, чувствую, как все вокруг холоднее и холоднее: я плыву среди пауков с мельчайшими головками, на огромных коленчатых ногах, плыву среди холодных долговечных деревьев, пугающих своими нелепыми сучьями. Была одна только родная кукушка, и та вот молчит: все прошло. Где ты, моя Берендеева чаща, населенная родственной тварью? Бесконечно холодная Явзора глядит сверху равнодушно на меня, и так же на пауков, и на елки, и на малиновое пятно на небе и на воде: она бесчеловечна, ей все равно…
Вот я понимаю теперь, почему люди темных ночей не спешат просыпаться и пропускают все великие утренние радости: не изведав ужасного страха, они цепко не могут хвататься за жизнь.
Спасать меня от холодной Явзоры прилетела моя любимая, самая живая, самая бодрая птичка – трясогузка, села на плывущее бревно и запела: плывет на бревне и поет, и поет! Эта милая птичка пела о том, что солнце – горячее, могучее, прекрасное – не ушло совсем от нас, а только спряталось недалеко за лесом: ему нужно там переодеться в утренние одежды, и вот уже белеет вокруг, вон уже блекнет малиновое пятно на воде. Другая птичка прилетела прямо к лодке, и села на борт, и бежит по борту на меня, неподвижного, и, добежав, повертывается назад и бежит с другой стороны до меня. А еще было, утка какая-то, вроде гоголя, живущая по дуплам у рек, вылетела из своего дупла с маленьким утенком, окунула его в воде, оставила одного, а сама летит за другим, того окунула, за третьим летит… Когда последнего окунула, то несколько раз окунулась сама и повела за собой всю семью в тихую заводь. Я совсем не заметил даже, когда начала кукушка. Окруженный лесом, я взялся почему-то за весло, и вот это движение отозвалось в мысли моей, как будто именно вот я-то начинаю все великое движение в мире, что весь мир во мне и я сам всему миру раскрыт со всей моей любимой родной Берендеевой чащей.
Утренний мороз был так силен, что от дыхания Пети побелели ближайшие к его рту лапки ельника, но я, окруженный великой родней своей, сильно двигался вперед, и холодная Явзора спустилась на землю стройным рядом человеческих домиков у самой воды.
– Ну, Петя! – сказал я, – приехали. Эта деревня, кажется, Явзора.
Работа с сухими ногами
Десятки молевых речек Пинеги вынесли из своих чащ круглый лес, и большая река всю массу донесла до великой Двины, а там как раз в это же время много больших рек и сотни маленьких набили реку лесом, как льдом. Не только мы на своем карбасе, но и один пароход с обломанным винтом был затерт бревнами, как «Челюскин». Я отложил всякие попытки пробиться и, плотно сдавленный круглым лесом, плыл, как Шмидт в дрейфующем льду.
Знаменитая Бобровская запонь сложена островами Двины: там в запони лес сортируется, сплачивается машинами, и отсюда буксиры ведут огромные плоты в Архангельск, на лесопильные заводы. Мы долго не могли разобраться во всем, блуждали, не понимая, куда именно должны мы пристать, и наконец где-то пристали и высадились на берегу со своим чайником и котелком. Петя уходит в разведку, я по привычке принимаюсь готовить кулеш. Сколько раз, приезжая в какой-нибудь лесопункт, мечтая о готовой еде, чистой постели, мы получали великие разочарования: то начальство все было на сплаве, то куда-то уходил, заперев на замок лавку, продавец съестных припасов, то просто самим не хотелось заводить кутерьму и часами сидеть голодными, без дела, где-нибудь на общих глазах, в ожидании, когда начальство придет. Мы все это бросили, приспособились все делать сами, приправляя кулеш то рябчиком, то глухарем. И тут, в Бобровской запони, я вылил в примус остатки керосина, долго прочищал иголкой отверстие, сделал защитную загородку от довольно сильного ветра, навесил котелок с водой, и все пошло своим чередом. Возвращаясь с запони, услышал по ветру шум примуса Петя и прокричал ошеломившие меня слова: «Туши примус!» Это значило, что мы приехали в культурный край, что наше путешествие в Чащу окончено. На радостях мы пулями расстреляли пустую бутылку. Через несколько десятков минут мы сидели в столовой за «итееровскими» столиками, выделенными от рабочих столиков цветом клеенки. Кроме цвета клеенок, эти столики не давали никаких преимуществ, и некоторые инженеры сидели за рабочими столиками, а рабочие – за итееровскими. Мы ели обед из пяти блюд – с мясом, яйцами, с двумя кашами – манной и рисовой. Трудно судить после нашего долгого поста, какой это был обед, безотносительно к нашему образу жизни, но мы слышали, как один рабочий, хорошо поев, сказал: «Еда подходящая». После обеда впервые наконец-то мы увидели, как работают на сплаве с сухими ногами, а машины в воде вместо людей связывают бревна проволоками. И как вкусен был готовый обед после самодельного кулеша, так точно и веселей было смотреть на людей при работе с машинами, и такую механизацию, конечно, без всякого колебания мы сделали звеном при создании Берендеевой чащи. Еще мы видели потом уже, возле Архангельска, как бревна, – быть может, и те самые, с которыми мы долго плыли, – одно за одним из Двины по лоточкам входили в самый большой в мире лесопильный завод (имени тов. Молотова), как транспортерами они поднимались в огромную залу и там, у станков (рам), распадались на доски разной толщины и качества. На лесном складе (бирже) у самой Двины мы ездили между штабелями экспортных материалов, как по улицам между домами на автомобиле, и видели, как эти материалы грузились на иностранные корабли, предоставляя нам думать о превращении Чащи в необходимую государству золотую валюту. Но истинную отраду мы получили от рассказов инженеров на целлюлозных заводах (сульфатных и сульфитных). Тут нам доказывали, что эти заводы, перерабатывающие весь лес целиком, с одной стороны, дадут нам бумагу, необходимую для Берендеевой чащи, с другой – губительные для лесов выборочные рубки заменят сплошными и тем сделают возможным скорое восстановление леса.
Так мы разговаривали с инженерами о творчестве Берендеевой чащи, стоя на мощных пластах почвы, созданной из опилков и сгружен лесопильных заводов. И об этих опилках тоже вспомнили, что и это ведь тоже могло бы пойти на пользу…
– Надо, – и пора, пора нам совесть очистить, – сказал нам тут один простои, но мудрый старичок, – наша совесть болит за лесное хозяйство. А если все будет хозяйственно, то ведь и не жалко рубить: не отдавать же лес червям и пожарам. Не только лесу, а и человеку не плохо умереть, если только правильно жить.
Комментарии
Список условных сокращений
ЛИ – «Литературное наследство».
Собр. соч. 1935–1939 – М. Пришвин. Собр. соч. в 4-х томах. М., Гослитиздат, 1935–1939.
Собр. соч. 1956–1957 – М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6-ти томах. М., Гослитиздат, 1956–1957.
ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.
В настоящий том вошли произведения М. М. Пришвина 30-х годов, различные по жанру, характеру и даже материалу, но органически близкие и дополняющие друг друга, создающие цельную картину «единого потока живого». Недаром Пришвин считал все написанное им не рядом отдельных книг, а как бы одной непрерывно продолжающейся книгой – единственной для него книгой, в которой жизнь и творчество неразделимы. Этот его принцип убедительно сказался уже в самом выборе жанра, когда очерк естественно и незаметно переходит в художественную прозу, а в прозе Пришвина непреодолимо тянет к сказке. «Внутри моего очерка и рассказа таится цель написать правдивую сказку: 40 лет на прокрустовом ложе очерка. Каждый человек живет сказкой – это сила внутри атомной энергии», – писал Пришвин в незаконченной статье о сказке (Собр. соч. 1956–1957, т. 5, с. 718.). Пришвинское представление о сказке неоднозначно. Углубляясь в мир души человека, художник открывает в ней совершенно иной пласт жизни, невидимый поверхностному взгляду. Поэтическое, сказочное представление о мире становится внутренней сущностью человека, помогающей ему преображать окружающий мир. Вот почему начиная с самых ранних произведений Пришвина сказка – это детское и азартно-охотничье восприятие мира: ведь и старый охотник, «до гроба сохраняющий в себе своего младенца», и маленький мальчик ждут от жизни чуда. И это ожидание «небывалого» и дар удивления помогают им открывать чудесное вокруг себя на каждом шагу.
Так в «Берендеевой чаще» поэтизация жизненного материала заключается именно в сказке. Прекрасна и удивительна сказочная Берендеева чаща, в которую человек вложил свой труд, которую создал, вырастил и одухотворил творческой волей: «…Не о той Чаще надо мечтать, какой она была без человека, а какую мы должны создать себе в будущем. Саженый лес только тому нехорош, кто его никогда не сажал и брал все готовое, но если утрата Чащи побудит посадить хоть десяток деревьев, то в скором времени в таком своем лесу среди даже еще маленьких деревьев человек увидит больше радости, чем в девственной Чаще. И тогда кажется, будто это новая радость досталась, как в сказке:[30] выхватил перо у Жар-птицы и начал желанное создавать сам от себя. И так бывает, что если перышко выхватил и присоединил сам себя к созданию Чащи, то и Жар-птица далеко не улетает и тут же рядом где-нибудь невидимо помогает из материалов заболоченного леса создавать Берендееву чащу» (Собр. соч. 1956–1957, т. 2, с. 773). Так «Берендеева чаща» позднее становится прямым источником для повести-сказки «Корабельная чаща». Не случайно за какую бы большую вещь Пришвин ни брался в последний период своей жизни, в основе всегда лежала сказка – сказка-быль «Кладовая солнца», роман-сказка «Осударева дорога».
Одной из главных проблем, волновавших Пришвина в 30-е годы и на протяжении всей жизни, основой его открытий в искусстве была мысль о родственной связи человека со всеми живыми существами, населяющими мир природы: «Чтобы понимать природу, надо быть очень близким к человеку, и тогда природа будет зеркалом, потому что человек содержит в себе всю природу» (Собр. соч. 1956–1957, т. 5, с. 692).
Пришвин не наблюдает природу извне, а переживает и разделяет состояние каждого живого существа, угадывая в нем близкое и родственное. Так, очерки из книги «Золотой Рог», помимо очень конкретного показа работы зоофермы, разведения песцов и соболей, приручения оленей, отличаются характерным для Пришвина психологическим раскрытием индивидуальности каждого зверя.
В «Зооферме» Пришвин подробно показывает взаимоотношения соболя и соболюшки, сталкивается с психологическими загадками «странностей любви». В «Полярном романе» повествует о сложных историях нескольких пар песцов, которые сходятся, расходятся, меняются местами, пропадают. Ученые теряются в догадках, исследуя эти песцовые романы. Но все симпатии Пришвина на стороне старого зверовода Антоныча – человечного и простого, сердцем понимающего животных лучше всех ученых с их обезличивающими теориями. К личному началу, к сердцу призывает в своих очерках Пришвин, потому что он видит в природном мире зарождение нравственности как первичной духовности.
Это понимание и дало возможность Пришвину претворить материал своих очерков о заповеднике оленей в лирическую поэму в прозе «Женьшень». Здесь впервые Пришвин соединяет собственную биографию с вымышленной историей героя, попавшего на Дальний Восток во время, русско-японской войны 1904 года, оставшегося в Уссурийской тайге и вместе с мудрым старым китайцем Лувеном создавшим первый в стране заповедник прирученных оленей.
Если роман «Кащеева цепь» автобиографичен в полном смысле этого слова, каждый эпизод соответствует реальному факту жизни писателя, то история рассказчика в «Жень-шене» вымышленная, а «я» рассказчика – подлинно авторское «я» Пришвина, высказывающее его сокровенные мысли. В «Жень-шене» происходит то чудо преображения очерка в поэму, когда конкретный материал осмысливается философски и лирически, когда каждый образ обретает особую поэтическую емкость. Здесь мир природы неотделим от внутреннего мира автора. Позднее, осмысливая процесс работы над «Жень-шенем», Пришвин записал в дневнике 20 февраля 1948 года:
«Свою душу, себя в незнакомой природе отразил или, наоборот, незнакомую природу отразил в зеркале своей души, и это отражение природы в себе и себя в природе описал. Это было очень нелегко, и редко можно человеку найти и перенесть в искусство соответствие души своей с природой» (Собр. сон. 1956–1957, т. 3, с. 757).
В основу «Жень-шеня» легло изучение оленеводческих заповедников во время трехмесячного путешествия Пришвина в 1931 году по Дальнему Востоку.
Но еще задолго до этой поездки Пришвин неоднократно говорил о том огромном впечатлении, которое произвела на него книга ученого и путешественника В. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края». Об Арсеньеве Пришвин пишет и в очерках из книги «Золотой Рог», и в сборнике «Моя страна», и в «Журавлиной родине»: «…Только теперь, когда судьба привела в мою комнату В. К. Арсеньева, автора замечательной книги „В дебрях Уссурийского края“, и я узнал от него, что он не думал о литературе, а писал книгу строго по своим дневникам, я понял… недостижимое мне теперь значение наивности своей первой книги. И я не сомневаюсь теперь, что если бы не среда, заманившая меня в искусство слова самого по себе, я мало-помалу создал бы книгу, подобную арсеньев-ской, где поэт до последней творческой капли крови растворился в изображаемом мире» (Собр. соч. 1956–1957, т. 4, с. 343).
Ближе всего Пришвину в книге Арсеньева образ Дерсу У зала – первобытного охотника, для которого тайга была родным домом. Дерсу – чуткий следопыт, по мельчайшим приметам умеющий найти затаившегося зверя, всем существом своим связанный с природой, непосредственный, чистый, цельный, со свежим и доверчивым взглядом на мир. Дружба Арсеньева с Дерсу Узала подобна дружбе лирического героя Пришвина в «Жень-шене» с искателем корня жизни старым китайцем Лувеном.
Даже язык, на котором изъясняются Дерсу Узала и Лувен с ужасающей грамматической путаницей и косноязычным обрубленным построение ем фраз, совпадает. Пришвин остроумно называет эту китайско-славянскую смесь языком «моя по твоя». Ломаный этот язык закрепляет лишь внешнее сходство образов Дерсу и Лувена.
Гораздо сложнее и глубже другое. В самом восприятии природы Дерсу Узала Пришвин черпает для себя что-то очень существенное. На своем наивном языке Дерсу называет всякое живое существо и всякую стихию природы словом «люди». Арсеньев в нескольких местах своей книги приводит любопытные примеры этого словоупотребления, отражающего первобытное анималистическое миропонимание Дерсу, живущего с природой единой жизнью и как бы вступающего с ней в равноправное общение. «Его старый люди», – говорил Дерсу о кабане. «Меня поразило, что Дерсу кабанов называет „людьми“. Я спросил его об этом. „Его все равно люди, – подтвердил он. – Только рубашка другой. Обмани понимай, сердись понимай, кругом понимай! Все равно люди“. В другом месте про воду, закипевшую в чайнике, Дерсу говорит: „Худой люди“. А солнце Дерсу называет „самый главный люди“» (В. К. Арсеньев. По Уссурийскому краю. М., Издательство географической литературы. 1955, с. 23, 232).
Именно в сопоставлении с этими высказываниями Дерсу совершенно по-новому звучит для нас одно из центральных лирических мест «Женьшеня», где образ камня-сердца становится символом кровной связи человека со всем окружающим его миром. «У самого моря был камень, как черное сердце… Этот камень-сердце по-своему бился, и мало-помалу все вокруг через это сердце вступило со мной в связь, и все было мне как мое, как живое. Мало-помалу выученное в книгах о жизни природы, что все отдельно, люди – это люди, животные – только животные, и растения, и мертвые камни, – все это, взятое из книг, не свое, как бы расплавилось, и все мне стало как свое, и все на свете стало как люди: камни, водоросли, прибои и бакланы, просушивающие свои крылья на камнях совершенно так же, как после лова рыбаки сети просушивают» (Собр. соч. 1956–1957, т. 3, с. 233–234).
В реалистическом сюжетном пласте повествования о жизни оленьего питомника множество конкретных деталей: выписана каждая шерстинка на теле оленя, дырочка, простреленная в ухе ланки Хуа-лу. Но как только Пришвин переходит к раскрытию своего лирического «я» и постоянной для него теме утраченной любви, превращенной в творческую любовь ко всему земному миру, – зримость описания пропадает. У каждого оленя есть имя – Черноспинник, Серый Глаз, Мигун, Щеголь, Хуа-лу – и только женщина, любимая героем, скрыта под туманным словом «она». И только про ее облик мы не знаем ничего, кроме того, что глаза ее удивительно напоминают глаза ланки оленя-цветка Хуа-лу, точно они ожили на лице женщины. Так конкретное растворяется лирически, становится музыкальным, текучим.
Не только основные события жизни героя, но и каждый реальный образ в повести обретают философски-символическое осмысление, и прежде всего центральный образ-символ – Жень-шень – корень жизни. Вначале это реликтовое растение с целебной силой, драгоценное лекарство, источник жизни, молодости, здоровья. Старый Лувен – тонкий знаток и опытный добытчик этого редкостного растения – в знак особого доверия и дружбы зовет героя посмотреть, как растет его корень жизни, который должен созреть через десятки лет. И корень жизни осмысляется уже как духовный источник бытия, питающий и направляющий человека, помогающий ему найти себя. Герой, страдающий от одиночества и утраты возлюбленной, обращает любящее внимание свое на жизнь природы и в ней творит нужное всем дело. Творчество природы углублено и обновлено преображающей ее доброй мыслью и волей человека. И это тоже рост его «корня жизни»: «Какая глубина целины, какая неистощимая сила творчества заложена в человеке, и сколько миллионов несчастных людей приходят и уходят, не поняв свой Жень-шень, не сумев раскрыть в своей глубине источник силы, смелости, радости, счастья!» (Собр. соч. 1956–1957, т. 3, с. 287).
Но и олени – не просто животные, которых так заботливо, талантливо и вдохновенно растит в своем питомнике герой повести. Через них передана основная повторяющаяся во всех книгах Пришвина тема любви как источника творчества жизни. Образ прекрасной ланочки Хуа-лу соотнесен с образом утраченной возлюбленной, которую герой не сумел удержать, и лейтмотив «охотник, охотник, почему ты не схватил ее за копытца» еще в большей мере относится к покинувшей его возлюбленной, чем к убежавшей ланочке Хуа-лу. И Хуа-лу, и поразившая его женщина с глазами оленя-цветка для героя – «прекрасное мгновенье», которое он боится вспугнуть грубым прикосновением и которое стремится сохранить в сердце и в памяти «на веки веков». Он побеждает в себе нетерпеливую страсть охотника и подходит к своей любви «человеком робко восторженным и бесконечно сильным в своем замирании» (Собр. соч. 1956–1957, т. 3, с. 231).
В «Жень-шене», как позднее в «Фацелии», с редкой пронзительностью Пришвин выразил свою глубочайшую мысль о преодолении уныния и скорби, о радости, рожденной в трудной борьбе с самим собой, о боли, закаляющей здоровую, сильную, открытую жизни душу: «Теперь, когда много лет прошло и я все испытал, я думаю, что не горе дает нам понимание жизни всей во всем родстве, а все-таки радость; что горе, как плуг, только пласт поднимает и открывает возможности для новых жизненных сил. Но есть много наивных людей, кто понимание наше жизни других людей в родстве с нами прямо приписывают страданию. И мне тоже было тогда, как будто болью своей я вдруг стал все понимать. Нет, это не боль, а радость жизни открывалась во мне из более глубокого места» (Собр. соч. 1956–1957, т. 3, с. 237).
В дневниках последних лет Пришвин раскрывает основной лейтмотив «Жень-шеня» как «страстный вызов друга». Не только память и тоска об утраченной возлюбленной, но и непрестанное ожидание любви, радостно-тревожное и затаенное предчувствие возможного счастья, сознание, что корень жизни его где-то растет, наполняет всю книгу. И совершенно органичен конец ее, рассказывающий о том, как долгожданная возлюбленная пришла, как слушали они вместе с героем на могиле Лувена «живую тишину, напоенную стрекотанием кузнечиков, сверчков, цикад и лепетом ручья»: «Говорите, говорите, говорите!»
Повесть Пришвина «Жень-шень» наиболее полно воплотила главные мысли его о гармоническом единстве человека с природой в творчестве, любви, радости жизни.
Если встреча с Арсеньевым во многом углубила замысел «Женьшеня», то знакомство с жизнью и творениями индейского писателя Вэша Куоннезина (в переводе Серая Сова), охотника и героического защитника истребляемых на севере Америки бобров, обогатило Пришвина общением с «неведомым другом». О повести Серой Совы «Странники лесной глуши» Пришвин говорил: «Чудесная книжка, свежая, искренняя. Вот так и вошел индеец в мой дом, в мое сердце».
Главным смыслом и целью жизни Серой Совы стала защита безжалостно истребляемых в диких лесах Онтарио и обреченных на вымирание животных. Это-то и побудило Серую Сову взяться за перо.
Пришвин, горячо заинтересовавшийся книгой Серой Совы, увидел в ней кровно близкое себе и решил не просто перевести ее, а проблемы, поднятые Серой Совой, остро стоящие и перед нами, выразить в вольном пересказе этой книги для русского читателя. Пришвин преломляет все через себя. По-своему осмысляя написанное Серой Совой, он как бы словесно «природняет» его к собственному творчеству.
Серая Сова пишет о своих лесных героях, не задаваясь никакими заранее обдуманными творческими намерениями. Все у него основано на сопереживании, на стремлении вызвать в читателях сочувствие и уважение к преследуемым животным. Он каждым своим словом хочет внушить людям, что звери как бы «наши младшие братья», что при настоящем доверии и доброжелательности они становятся верными, полезными и надежными друзьями и помощниками человека. И Пришвин в своем переложении автобиографии Серой Совы сохраняет эту горячую деятельную любовь автора к своим героям. Но он включает жизненный материал Серой Совы в свой собственный куда более сложный замысел. О чем бы ни писал Пришвин – о лесе, о приручении зверей, о временах года, он всегда вводит в любой свой замысел главную для него проблему «творческого поведения» – как проявления себя самого, своих жизненных исканий через любой объект изображения. Творчество для Пришвина – «вторая реальность», обогащающая первую – действительность. Писатель идет от жизни, которую рассматривает как непрерывный творческий процесс. Он включается в этот процесс, вносит в него свой активный жизненный опыт. Этот опыт, воплощенный в слове, возвращается в жизнь. Процесс мысли, догадки о жизни и воплощение своих открытий в слове непременно входит в ткань любого произведения Пришвина. Он часто вводит в них воспоминания о центральных и значительных для него биографических фактах. Так, в повесть о жизни Серой Совы он включает прошедший через все его творчество мотив побега в неведомую страну.
В предисловии к «Серой Сове» Пришвин сближает тягу индейского писателя к открытию не познанной им природы с собственным путем отроческих еще поисков каких-то таинственных стран. «И я не раз пытался рассказать о своих странствиях туда, куда-то в страну непуганых птиц; а теперь вот оттуда, из той самой страны, куда я еще мальчиком хотел убежать, сам индеец, потомок прославленного воинственного племени, пишет, что он там, в той стране, пережил» (Собр. соч. 1956–1957, т. 3, с. 576–577). И уже не в предисловии, а в самом тексте Пришвин вкладывает в уста Серой Совы свои собственные мысли о той новой стране, которую мы не просто открываем, а как бы впервые создаем своим творчеством.
И еще одна очень существенная особенность, которой Пришвин наделяет повествование Серой Совы. Это присущий ему во всем любящий, ласковый, добродушный юмор, окрашивающий отношение автора и к себе, и к своим героям. Серая Сова сам великолепно чувствует смешное в характерах и забавных повадках своих маленьких питомцев. Пришвин же, сохраняя эти сценки и эпизоды, остроумно истолковывает их, как бы разгадывая скрытые от нас мысли и соображения бобров. Он образно, не без озорства додумывает за молодую бобриху Джелли ее представления о людях: «На человека она смотрела, как на бобра, и, возможно, надеялась, что сама тоже, когда дорастет до этого большого бобра, будет сидеть рядом с ним за столом, или, наоборот, что у человека когда-нибудь вырастет хвост и он станет точно таким, как и она».
Сохраняя все своеобразие нового для него материала, Пришвин насыщает повесть «Серая Сова» главными своими мыслями о связи человека с окружающим его миром, о «едином потоке живого» и о неповторимости каждого существа, населяющего этот мир.
В творчестве Пришвина стоят особняком «Кавказские рассказы» и резко отличаются от его путевого дневника 1936 года, который он вел во время своего пребывания в Кабардино-Балкарии. Отрывки из этого дневника приводит В. Д. Пришвина в статье «М. М. Пришвин в Кабардино-Балкарии (По дневникам писателя)» («Охотничьи просторы», 1967, № 25, с. 73–81). В этом путевом дневнике по-пришвински зоркие и четкие зарисовки горной природы и психологический анализ переживаний охотника, убившего зверя, – «среднее между страхом, жалостью и раскаянием». Такие эпизоды и законченные сцены встречаются у Пришвина на другом материале в очерках из книги «Золотой Рог» и в отдельных главах «Берендеевой чащи».
Но в «Кавказских рассказах» Пришвин отказывается от личной формы переживания нового для него материала и передоверяет рассказы о различных охотничьих историях горцу Люлю – постоянному своему спутнику по Кабардино-Балкарии. Рассказы эти лишены конкретных подробностей. Это – подчеркнуто экзотичные, интонационно окрашенные короткие притчи. Все истории Люля иллюстрируют разницу между значением сначала непонятных по-русски слов «магнит» и «дермант». К концу цикла от случая к случаю проясняется смысл «магнита» как физической силы и «дерманта» как мужества. Из каждого эпизода вытекает прозрачный нравственный урок. И, как всегда у Пришвина, даже эти скупые, предельно сжатые истории насыщены юмором. В истории «Басни Крылова» – насмешка над ученым горе-охотником, черпающим свои представления о кабанах не из жизни, а из басни Крылова и потому попадающим впросак. В «Рыцаре» – малодушный художник, постеснявшийся сознаться, что никогда не ездил верхом, садится на лошадь лицом к хвосту и становится посмешищем горцев-охотников. Ему не хватило «дерманта» – мужества сказать правду, а «единственный путь к правде через дермант». В «Госте» – полная лукавства, напоминающая веселые побасенки Ходжи Насреддина история о том, как злоупотребившего кавказским гостеприимством человека с помощью иносказательного рассказа о птичке, которая «знает время, когда ей прилететь и когда улететь», вежливо выпроваживают.
Кавказские притчи Люля облечены в форму забавного анекдота или героического эпизода. Виртуозное использование сказовой интонации и местного колорита характерно для этих маленьких назидательных новелл.
В середине 20-х годов Пришвин, который часто отправлялся в дальние путешествия и открывал для себя и своих читателей неизведанные земли, понял, что это не единственно возможный вид открытий в природе, что не обязательно покидать близкие края, чтобы открыть «небывалое», ведь удивительное – рядом. Наблюдая в знакомой ему с детства средней России смену времен года и прибывающие с каждым днем приметы весны, он убеждался, что привычное, увиденное свежим взглядом, становится необычайным. И, обладая обостренным слухом, надо, как говорил Пришвин, «писать под диктовку весны» и «самому соучаствовать в деле природы».
Вот эта жажда самому увидеть раннее пробуждение природы и отразилась в его «Неодетой весне». Как всегда у Пришвина, его путевые очерки о наступлении весны автобиографичны. Действительно, все было точно так, как описано в книге, – сооружен дом на колесах, собран необходимый багаж, в путешествие отправляются Пришвин, его сын Петя, верная и близкая семье хозяйственная Ариша, любимые охотничьи собаки. Вся эта «экспедиция» двинулась на Волгу в пору весеннего разлива рек наблюдать, как ведут себя во время наводнения разные звери: зайцы, белки, водяные крысы.
Во всех живых существах, устремившихся на остров спасения, Пришвин настойчиво подчеркивает личное начало каждого, проявляющего себя в природе. Его интересует не видовое сходство, а неповторимые особенности всякой земной твари.
В самой ткани повествования «Неодетой весны» появляются законченные миниатюры – лирические стихотворения в прозе, в которых, как в классической поэзии, центральный образ переносится из мира природы в мир души и, прямо или ассоциативно, сравнивается с внутренним состоянием человека.
В «Неодетой весне» множество ключевых для Пришвина мыслей о том, что подлинно живой русский язык близок к фольклору и должен занять почетное место в художественной литературе, что точность, образность и меткость языка находим мы прежде всего у писателей-охотников: Аксакова, Л. Толстого, Тургенева, Некрасова. Отсюда стремление свой рассказ о весеннем разливе рек связать с поэмой Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы», сознательно сохранив название деревни Вежи, о которой говорит Некрасов, и своим героем продолжить линию рода Мазаев.
Все в «Неодетой весне» окрашено жизнелюбивым юмором, органически связанным с живым чувством языка, с проникновением во внутреннюю корневую образную форму слова. Все вокруг: крестьяне, рыбаки, охотники, звери красочны и неповторимы каждый в своем языковом колорите. «Павел Иванович оживился», – говорится о местном рыбаке, – это значит, что ему повезло и в его мережу попала рыба, которой он может гордиться. Или, описывая кота, с аппетитом поглощающего какую-то шкурку, Пришвин замечает: «…Он… стал выгрызать из шкурки что-то ему очень вкусное». Не вообще вкусное, а ему. Пришвин тут сознательно прибегает к необычной, даже не совсем грамотной, с точки зрения канонического синтаксиса, расстановке слов в фразе. Неожиданное, по-детски вторгающееся в правильную литературную речь слово придает ей неповторимую свежесть звучания.
Неистощимую веселость вносит Пришвин и в озорную игру с собачьими именами. А глава «Стук-стук» шутливо пародирует одноименный таинственный рассказ Тургенева. У Пришвина загадочный ночной стук объясняется подсмотренной им забавной сценкой: Сват стоит на задних лапах, лижет живот Лады, а она от удовольствия постукивает своим «прутом» о железо машины. Пришвин всюду добродушно подтрунивает и над своими охотничьими собаками, и над сыном Петей, и над богатырем Маза-ем, и над скромницей Аришей.
А в целом – это ликующий, жизнерадостный гимн весне и всему «потоку живого» в ней. Все лирически связано. Радость жизни ширится и растет в каждом листке, в каждой травинке, в каждом по-своему спасающемся существе и в гостеприимной, необъятной и открытой всему миру душе автора. Торжество жизни осуществляется как торжество любви и преодоление одиночества. Роман Мазая и Ариши – не случайная мажорная концовка, он органически вытекает из общего замысла и включен в движение наступающей весны бытия, открывающей в человеке его лучшее. Мазай – не только богатырь и «добрый молодец», но природный мудрец, пробуждающий в людях радость жизни, весело раздувающий огонь земного полноценного чувства в душе Ариши, до встречи с ним боязливой, застенчивой, аскетически строгой.
Неотъемлемая особенность каждого настоящего писателя – удивленное и радостное открытие мира. Вот почему в творчестве Пришвина так много места занимают детские рассказы, ставшие классическими в нашей литературе.
Пришвин придавал детским рассказам огромное значение, считал их необходимой и строгой школой для каждого писателя, видел в них путь к совершенствованию мастерства, к предельному очищению стиля и мысли.
В одной из бесед о своей работе над детским рассказом Пришвин говорил: «Знаю также, что писать для детей нелегко. Надо быть очень простым, ни в чем, однако, не изменяя своему мастерству. Мне думается, что каждый писатель, пишущий для детей, должен прежде всего представить себя ребенком, то есть возвратиться мысленно в собственное детство. Для меня мои частые встречи с природой – это именно возвращение в свое детство, и в рассказах для детей я пробую смотреть на мир глазами взрослого ребенка». Это как будто парадоксальное сочетание – «глазами взрослого ребенка» не случайно. Пришвин говорит о том, что в душе писателя как бы одновременно живут все возрасты: при мудрой зрелости жизненного опыта он должен сохранять детскую свежесть отклика на мир: «Не о том я говорю, чтобы мы, взрослые, сложные люди, возвращались бы к детству, а к тому, чтобы в себе самих хранили бы каждый своего младенца, не забывали бы о нем никогда и строили жизнь свою, как дерево: эта младенческая первая мутовка у дерева всегда наверху, на свету, а ствол – это его сила, это мы, взрослые» (Собр. соч. 1956–1957, т. 3, с. 401).
В детских рассказах Пришвина познавательное и поэтическое всегда сосуществуют. Его открытия в мире природы становятся реальным достоянием читателя.
Художественное произведение имеет ценность только тогда, считал Пришвин, когда писатель реально может «прибавить в мир» какое-то свое открытие, обогатить этим читателя, подарить ему свой жизненный опыт не как сухой рецепт, а как что-то пережитое, прочувствованное и при этом обладающее выразительной силой. После рассказа о дрессировке Нерли[31] Пришвин утверждал, что он «прибавил в мир» еще одну охотничью собаку. Именно прибавил, а не просто описал. Ценность детских рассказов Пришвина – в безошибочном чувстве главного и умении это главное дать и как дело, и как «творческую игру».
Знаменательно, что Пришвин, уделяющий так много внимания первозданному и свежему детскому восприятию, не только сам совершает открытия в окружающей его природе, но заставляет и своих маленьких звериных героев делать открытия, познавать мир, учиться жить. Таков, например, рассказ «Первая стойка». Наивный щенок Ромка делает свою первую стойку не по живой дичи, а по мертвому, пугающему его своей неподвижностью кирпичу. «Перестою!» – твердит про себя Ромка. И чудится ему, будто кирпич шепчет: «Перележу!» (Собр. соч. 1956–1957, т. 3, с. 101). В рассказе «Нерль» самая догадливая из всех щенков собачонка первая додумалась до того, чтобы не драться с остальными за соски, а потихоньку сосать мать, когда все заснут, первая нашла дорогу от подстилки к миске с кашей. А в рассказе «Изобретатель» таким же догадливым в большом выводке оказался утенок, первым перебравшийся со спины матери на пол.
Эта поразительная способность Пришвина-художника чувствовать и передавать первоначальные впечатления бытия своих маленьких героев открыла путь целой плеяде талантливых детских писателей, посвятивших свое творчество природе и охоте. Виталий Бианки пишет ряд рассказов о птенцах и зверенышах – «Первая охота», «Оранжевое горлышко» и т. д. Полны жизнелюбивого юмора многочисленные рассказы Николая Сладкова о медвежатах.
Ведь без юмора, как уже говорилось, не обходится ни одна книга Пришвина, ни один его рассказ. Чаще всего он проявляется в изобретательном использовании языка, близкого к фольклору, – в пословицах и поговорках, взятых из кладовой народной речи или созданных им самим. Пристрастие Пришвина к пословицам чрезвычайно органично. Ведь пословица – это своего рода народный афоризм. В таком «сокращении весь секрет мастерства. Нужно упростить фразу, сжать слова, чтобы они стали сухими, но взрывались, как порох» (Собр. соч. 1956–1957, т. 4, с. 323). В рассказе «Ежовые рукавицы» Пришвин реализует известную метафору «держать в ежовых рукавицах». Он рассказывает, как собаку, не выдержавшую стойку, «воспитывали ежом» в буквальном смысле слова. Когда собака не вовремя бросается на тетерева, егерь Кирсан тычет ей прямо в пасть ежа.
Но наиболее интересны у Пришвина собственные пословицы и поговорки, возникающие по аналогии с народными, облеченные в забавную афористическую форму. Возьмем хотя бы такой рассказ, как «Соляная кислота». В питание волчат обязательно должна входить соляная кислота. Ее нет в молоке волчицы, и волк-отец прикармливает волчат разжеванной им пищей. Когда старый волк ленится кормить детей, волчица задает ему трепку. Рассказ завершается веселой моралью, хорошо упакованной в форму четкой, запоминающейся поговорки: «Всем волкам по серьгам: старому – взбучка, молодым – пример, маленьким – соляная кислота» (Собр. соч. 1956–1957, т. 4, с. 514).
В детских рассказах Пришвина юмор проявляется либо через оживление фольклорной речи, либо он закреплен в интимной форме теплого родственного внимания ко всей «бегающей, плавающей, летающей твари».
Говоря о животных, Пришвин любит употреблять подчеркнуто «книжные» слова и понятия, обозначающие человеческие взаимоотношения и социальные категории: «Я не мог догадаться, какое лесное существо пробило такую глубокую брешь в муравьиной республике». Или: «Во время нашего обеда собачья публика пробудилась». Или же ироническое, преувеличенно вежливое обращение к провинившемуся Ярику, перед тем как запереть его в подвал: «Пожалуйте, молодой человек!» (Собр. соч. 1956–1957, т. 3, с. 133, 551).
Примечательно очень живое, гибкое и выразительное употребление среднего рода, когда Пришвин говорит о милых его сердцу животных. «Оно» – это какой-то особый род нежности. Вот как в «Предательской колбасе» говорит он о Ярике, виновато спрятавшемся под диван: «Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и, я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем это большое подползало под диван» (Собр. соч. 1956–1957, т. 3, с. 524). Тот же прием в описании маленькой ланочки Кастрюльки: «И вот только, что черненькие глазки блестят, и только, что тельце тепленькое, а то бы и на руки взять и все равно сочтешь за неживое» (Собр. соч. 1956–1957, т. 2, с. 607).
В богатейшей словесной палитре Пришвина, особенно в его детских и охотничьих рассказах, не только зрительная образность, но и слуховая, не только живопись, но и звукопись. Пришвин передает услышанное, точнее – подслушанное им в лесах и болотах, на реках и полях – разноголосый гомон птиц и многозвучный мир природы. Пришвин создал необычайно разнообразный, виртуозно разработанный звукоподражательный язык. Для него нет вообще птицы, а есть бесчисленные породы с присущим каждой из них характерным языком. Недаром один из его героев в рассказе «Щегол-турлукан» говорит: «Я о каждой птице отдельно думаю».
С великолепным азартом, можно сказать, аппетитом описывает он пение щегла на специфически красочном языке птицелова. Он вводит, например, несуществующее в общелитературной речи слово «заркость», означающее особую яркость и звучность птичьего голоса. «Он (щегол. – Т. X.) – и турлуканит, и трещит, и циперекает, а как из-под циперекания турлукана пустит…; сыграл все двенадцать колен, еще пик-пикнул синицу и смолк…. Помолчал, помолчал, да как хватит на заркость: „цибить-бить!“» (Собр. соч. 1956–1957, т. 3, с. 533).
Иногда Пришвин в своих по сути дела очень реальных «сказках о природе» создает звукоподражательный язык вороны, сороки, тетерева, дергача, перепелки и затем с легким юмором переводит этот птичий язык на язык человечий. Так в детском рассказе «Филин» многообразно обыграно и переведено короткое воронье «кра»: «До чего это удивительно у ворон! Сколько слов нужно человеку, а у них одно только „кра“ – на все случаи, и в каждом случае это словечко всего только в три буквы благодаря разным оттенкам звука означает разное. В этом случае воронье „кра“ означает как если бы в ужасе крикнули: „Чер-р-р-р-рт!“» (Собр. соч. 1956–1957, т. 4, с. 496). В дальнейшем повествовании «кра» значит и «правильно», и «брать». Пришвин может построить целый сюжет на перекличке птичьих голосов, на шутливом обыгрывании их, – например, в рассказах «Дергач и перепелка», «Изобретатель» и «Курица на столбах».
В детских рассказах Пришвина язык тяготеет к фольклору и сказке. В том же характерном для него понимании внутренней формы слова сказка – это то, что не пишется, а сказывается, и в каждом детском рассказе Пришвина при всей реальности его повествования – ритмичность построения, звукопись в разговоре птиц и зверей подобны сказке. Живая, озвученная речь каждого природного существа предстает перед читателем в голосе говорящего автора. Слово Пришвина вырастает из глубочайших корней подлинно народной речи.
Т. Хмельницкая
Жень-шень*
Впервые – в журнале «Красная новь», 1933, № 3, под заглавием «Корень жизни».
В 1934 году под названием «Жень-шень» (подзаголовок: «Корень жизни») вышла отдельным изданием и в том же году под названием «Корень жизни» (подзаголовок: «Жень-шень») – вошла в книгу «Золотой Рог» как первая часть.
Об истории создания повести «Жень-шень» Пришвин пишет в предисловии к книге «Золотой Рог»: «…Материалы добывались на улицах, на море, в горах, в тайге совершенно так же, как добывается дичь на охоте… Я направлял на какой-нибудь предмет свое холодное исследовательское внимание или привлекался к нему горячим родственным вниманием, – все равно; складывалась ли картинка на пленке фотокамеры или же на сетчатой оболочке моего глаза, – все равно: в том или другом случае снимок с предмета оставался в моем мозгу, как записки любителя зверей… По этим снимкам, действительным или мнимым, я писал потом дома картинки, как пишут для большой картины художники свои этюды. Но я не знал, что у меня получится большая картина, я писал картинки одну за другой просто по снимкам до тех пор, пока наконец не явился сюжет или повод с сильнейшим желанием соединить все написанные картинки в одном глубоком понимании всего материала. Тогда я бросил и даже как будто забыл все написанное и одним духом написал свою повесть „Женьшень“…» («Молодая гвардия», 1933, № 7, с. 50).
В материалах к повести «Жень-шень» хранится следующий рукописный набросок: «Есть бесчувственные люди, и я не о них говорю, а вот те, кто люди в том смысле, как Лувен даже воробьев понимает, вам, люди мои родные, все мое понятно, и мне теперь не стыдно вам все сказать о себе: легче слепцом с белым светом было расставаться, чем мне было кому-то уступить свое место без боя за свою подругу; часто слепой после утраты белого света начинает слышать глубокий внутренний мир и становится слепым музыкантом, но я ничем не мог заменить себе то мгновение, когда олень Хуа-лу расцвела в человека и скрылась…
Есть близкий человек у меня, он жил до революции в роскошном саду, и когда ему пришлось с ним расстаться, то было ему долго-долго так, будто настоящая жизнь была у него там в саду, а потом началась временно-призрачная. Так он сознавал себя и жил в большой нужде, часто голодный и оскорбленный, жил и работал. И однажды через много лет, осмотрев все сделанное, он вспомнил свою жизнь в саду, и эта настоящая, как казалось ему, основная жизнь, вдруг представилась призрачной и ничтожной, а вот эта борьба год за годом в тяжких условиях, оказалось, и была настоящая жизнь, и то дело, которое пришлось выполнять не как любителю в соловьином саду, а подневольному волу в тяжком ярме, – это дело дало и победу, и цвет, и смысл. Так тоже случилось со мной однажды, я как бы обернулся назад и увидел того себя (всего себя) до того мгновения, когда олень Хуа-лу расцвела в человека: мне так стыдно стало за того себя и даже не стояло вопроса о том, какая жизнь настоящая: та до встречи или эта в постоянной борьбе за правду твоего ежедневного трудного хлеба, за счастье в этом быть независимым и каждый новый день встречать, непременно проверяя вчерашний» (ЦГАЛИ).
Печатается по изданию: М. Пришв и н. Жень-шень. Корень жизни. Московское товарищество писателей, 1934.
…на щеке… – Щека – высокий отвесный склон ущелья.
…на обдуве… – «Обдув – это логовище оленей на хребте, где обдувает ветром и не бывает насекомых» (авторское примеч.).
Чумиза – злак, широко распространенный в странах Востока. Здесь – крупа или мука, изготовленная из этого растения.
После слов: «детски доверчивым» – в первой редакции следует: «Все лицо было похоже на бутон цветка с серыми лепестками, как бы он открывался – цветок от солнца и закрывался – от непогоды. И он сразу тоже заметил и прочитал по-своему мое лицо, понял меня и ему не стало никакого дела не только до моей солдатской одежды, винтовки, но, вероятно, даже и до того, что я был русский» (ЦГАЛИ).
Гольцы – «вершины гор выше леса, голые» (авторское примеч. – ЦГАЛИ).
Крепь – непроходимые заросли, труднодоступные места.
…научился понимать… – После этого следуют слова «трогательную наивность живого детского существа цветка; изображающего из себя солнце» (ЦГАЛИ).
После слов: «черные могильщики» – в машинописном автографе следует: «трехцветные скакуны – и не разберешь, прыгали они или летали. И вот я среди них с человеческим рассказом, но, конечно, тоже о солнце. Но все счастливы тем, что могут на солнце смотреть и быть на земле иногда совершенно, как маленькое солнце. Я же, человек – верно это сказано, я изгнан из этого рая и могу рассказывать о солнце, избегая встречаться с ним глазами, – я слепну от солнца, я человек и могу рассказывать о солнце, окидывая родственным вниманием все разнообразие освещенных им предметов, все лучи их собирая в единство. Было много великих поэтов и было мудрецов так много, что почти невозможно кому-нибудь вместить всю эту мудрость, и вот в этом-то прелесть жизни человеческой, но роман свой можно рассказать, и это будет новое на земле, как будто и не было на свете тех великих поэтов и мудрых людей. Это оттого происходит, что все мы встречаемся по-разному с женщиной» (ЦГАЛИ).
После слов: «среди цветов Зусухэ» – в авторской машинописи следует: «В это мгновение понял я, почему китайцы этого оленя называют цветком Хуа-лу и что не будь даже действительно целебных веществ в их пантах, все равно бы я понял, что если бы всем огромным народом тысячи лет думать о целебности такой красоты, то и будут действительно являться случаи исцеления» (ЦГАЛИ).
…связать поясным ремешком. – После этих слов в первой редакции: «Во мне боролись два человека, страстный охотник и, вероятно, поэт в том смысле, как я понимаю этих людей: это, по-моему, человек, который по себе, как человек особенный, видит во всех живых существах особенности, не только в людях, но и в животных, и в цветах, и в камнях, и в блестках инея, – увидел это, и больше ничего не надо от живого существа» (ЦГАЛИ).
После слов: «правды и красоты» – в первой редакции следует: «Но не в там было дело, что женщина эта была просто красива и походила па олень-цветок Хуа-лу, а что красота эта продолжалась бесконечно во мне, как голубая долина Зусухэ, покрытая цветами, и я в первый раз на веку своем понимал, как далеко из природы продолжился человек».
После слов: «рек и ручьев» – в первой редакции следует: «С утра до ночи мы с ней не расставались, и мы успели сказать друг другу все, и все, что встречалось нам, то становилось нашим, и так создавалась во мне эта новая земля и стала мне, как родина» (ЦГАЛИ).
В отдельном издании книги «Жень-шень», хранящейся в библиотеке писателя, окончание третьей главы после слов: «потом я» – зачеркнуто и вписан следующий абзац: «…опять стал бороться с собой и достиг опять своей высоты. Но тут раздался второй гудок парохода, она встала, оправила прическу и, не глядя на меня, вышла.
В душе у меня осталось такое же смущение, как в шатре виноградном после оленя: зачем, из-за чего я ее упустил».
После слов: «как оленя» – в первой редакции повести следует: «чтобы она не могла убежать и корень жизни моей был бы найден. А еще мне представлялось ошибочно, будто бы у „всех“ что-то есть, вроде корня, а я обделен, и раз не могу быть „как все“, то, значит, и как бы не имею настоящего законного права на существование. На самом деле, как я теперь понимаю суть дела, вся эта роковая разминка происходит именно потому, что тебе самой же природой, и тоже, значит, вполне „естественно“, предназначено идти своим путем и потом вести других за собой, а не быть овечкой в послушном стаде баранов. Я так понимаю, что моя разминка не была просто случайна, что она могла быть, а могла бы и не быть, и, если бы только удалась мне охота, и я бы наслаждался безмятежной любовью в необыкновенно прекрасной и нетронутой стране. На самом деле это была охота за мной, была приготовлена для меня клетка, замаскированная очень искусно, – хлоп! и вдруг я, как зверь, хожу в клетке от стенки к стенке. Так бы и вышло – поймал бы я или нет – все равно клетка». На полях рукой М. Пришвина: «В любви, как ка охоте за тигром, ты думаешь, что преследуешь тигра, а на самом деле он твоим следом сзади идет и цап-царап. Так…» «А еще я… сказать должен вам из моих наблюдений в природе, что и у них, у зверей, там любовь приходит не совсем „естественно“ и тоже перед каждым зверем стоит мучительная необходимость достигнуть целиком то по-своему и так создать новое качество в жизни. А еще я хотел бы сказать, что понимать эту болезнь жизни трудно, что тут мало ума и учености и необходима вот такая особенная доброта и простота, как у моего Лувена. Он-то, конечно, хорошо понимал самую суть того, что со мной происходит, но, по-видимому, он бессилен был мне скоро помочь уже по тому самому, что ведь самая суть этой любви, конечно же, состоит в самоопределении» (ЦГАЛИ).
…любовь без… черемухи. – Герой широко обсуждавшегося в печати в 20-х годах рассказа Пантелеймона Романова (1884–1938) «Без черемухи» (1926) говорит девушке: «Ведь все кончается одним и тем же и с черемухой и без черемухи… что же канитель эту разводить?»
Манзы. – Манзамн называли китайцев, осевших в пределах Уссурийского края или временно там пребывающих.
Хунхузы. – Под этим именем известны были китайские бродяги, добывавшие средства существования грабежами и разбоем.
Тазы – местное название части удэгейцев, усвоивших элементы культуры китайцев и маньчжур.
Гольды – употреблявшееся в прошлом название народа нанайцев.
Орочи (самоназвание – нани) – народность, живущая главным образом в Хабаровском крае.
Гиляки – устаревшее название народности, населяющей северную часть острова Сахалина и низовья реки Амура. Современное название – нивхи.
Горал – животное из рода антилоп. По внешнему виду напоминает козу. Обитает в горах прибрежной полосы Приморья.
…струя кабарги… – Кабарга – животное из отряда копытных, общим сложением напоминает оленя. Обитает в гористых лесах юга Сибири от Алтая до Сахалина. Мускусная железа самцов (кабарожья струя) с древних времен употреблялась в восточной медицине.
После слов: «неузнаваемо переменилось» – в первой редакции следует: «И когда я узнавал это из книг, то же было, как в первый раз, как только увидел я его в фанзе Лувена: то же мне стало, будто я свою маленькую личную боль человека вынес на суд морского прибоя и он меня стал уговаривать стараться как можно чаще приходить к морю и приучать себя думать о себе самом в сроках планеты, а может быть, и еще смелее».
На полях рукой М. Пришвина: «в этом смысле я и стал с тех пор понимать корень жизни… И я от себя продолжил это понимание» (ЦГАЛИ).
На оборотной стороне страницы, где начинается шестая глава окончательной редакции, карандашная запись рукой М. Пришвина: «Они идут. Умышленно затягивается их движение к корню жизни посредством описания пейзажей тайги, чтобы подготовить к встрече с корнем жизни, вокруг которого непрерывно играют таежные музыканты!» (ЦГАЛИ).
Даба – китайская бумажная ткань, чаще всего синего цвета.
…от бочага к бочагу… – Бочаг – яма на дне реки, ручья.
После слов: «представляя себе» – в первой редакции следует: «смутно догадываюсь, что мы пришли к источнику творческих сил, равновесие которых составляет то, что мы называем творческой личностью.
Да, сколько мудрых людей хранят как сокровища на память о чем-нибудь важном для них совершенную безделицу, и все народы отмечают свой путь памятниками замечательным личностям, но почему же я не могу в личной своей жизни понять этот таинственный корень как источник творчества и отчего бы не связать с жизнью его свою личную жизнь?
Мне стало как на берегу моря вдруг хорошо, как будто волны эти удары маятника планетного времени встретились с волной моей жизни и мой частный ритм жизни согласовался с большим» (ЦГАЛИ).
…в сиверах… – Сиверы – здесь – северные склоны горы.
Скрадывать (охотнич.) – незаметно подкрадываться к зверю или птице; спрятавшись, подкарауливать на расстоянии выстрела.
Переузок – наиболее узкое место.
Денник – хлев, в котором содержится скот.
…в оленьих отстоях… – Отстой – здесь – защищенное место.
Серая Сова*
Впервые – в журнале «Молодая гвардия», 1938, № 9-12, под названием «Серая Сова» (Вэша Куоннезин), с подзаголовком: «Пересказ с английского Михаила Пришвина».
В книгах М. Пришвина «Зеленый шум» (М., «Молодая гвардия», 1949) и «Весна света» (М., «Молодая гвардия», 1953) подзаголовок был снят.
В основу повести М. Пришвина «Серая Сова» была положена книга «Странники лесной глуши» («Pilgrims of the Wild»), принадлежавшая перу англо-канадского автора, писавшего под псевдонимом Серая Сова.
В книгах «Зеленый шум», «Весна света» и в Собр. соч. 1956–1957, т. 3 был сделан ряд сокращений и переработано предисловие.
В главе «Кто это Серая Сова?» журнального варианта повести М. Пришвин пишет: «В Северной Канаде, где живет Серая Сова, пишется книга о бобрах, в нашем отечестве – книга о жизни пятнистого оленя. (Михаил Пришвин, „Корень жизни“). Обе книги имеют счастливую судьбу и переводятся на разные языки. Мало того: критики, эти своего рода литературные сваты, находят в той и другой книге родственную связь (на родство М. Пришвина и Серой Совы указал в предисловии к английскому изданию „Жень-шеня“ (1936) профессор Дж. Гексли. – Р. В.). Так вот и произошло знакомство по книгам писателей двух миров, индейца и русского» («Молодая гвардия», 1938, № 9, с. 100). Читая книгу Серой Совы «Странники лесной глуши», М. Пришвин записывает в своем дневнике: «…действительно, это – мой маленький брат. Жизнь совсем сходится…» (Цит. по изд.: «Серая Сова (Вэша Куоннезин)». М.–Л., Издательство детской литературы, 1939, с. 3.)
В своем очерке, посвященном Серой Сове, «Добрый воин бобрового народа» («Пионер», 1939, № 9, с. 86–87), в предисловиях к книге Серой Совы «Саджо и ее бобры» (М., Издательство детской литературы, 1940, с. 4) и неопубликованной рукописи «Заповедник Серой Совы» (ЦГАЛИ) Пришвин подчеркивает, что для него особенно привлекательны в облике канадского писателя «единство самого нежного сердца с мужественной волей, с деятельным вмешательством в „естественный порядок вещей“, его „мысль о личном участии в деле строительства страны непуганых птиц и зверей“ и то, что он „свое жизненное дело воссоздания девственной природы не разделяет со своим писательством: одно питает другое…“ „Замечательно, что этот счастливец сам создал несуществующую страну непуганых птиц и зверей“».
Печатается по изданию: «Серая Сова (Вэша Куоннезин)». М.-Л., Издательство детской литературы, 1939, с внесением позднейшей авторской правки; предисловие печатается по Собр. соч. 1956–1957, т. 3.
Охота… у Пржевальского была методом познания природы. – В неопубликованном очерке «Наша охота» (ЦГАЛИ) Пришвин пишет о знаменитом русском путешественнике М. Пржевальском: «Он является примером для всех нас, в какое полезное для науки дело может превратиться свойственная многим мальчикам охотничья страсть. И путешествия и открытия у Пржевальского выросли из его детской страсти к охоте».
…писателя Серой Совы… – Серая Сова (Вэша Куоннезин) – под этим псевдонимом выступал в печати Джордж Стенсфелд Беланн (1888–1938). Серой Совой он был прозван индейцами племени отшнбва за ночной образ жизни. В 1920 г. они объявили его своим кровным братом.
«Компания Гудзонова залива» – акционерное общество, учрежденное в 1670 г. для вывоза в Великобританию мехов. Монополизировало скупку пушнины и рыбы у индейцев на огромной территории бассейна рек Гудзонова залива, равной почти половине континента.
Форт. – Так назывались торговые посты «Компании Гудзонова залива». Первоначально имели военное значение. В дальнейшем превращались в обособленные поселения купцов и их агентов. Ставились преимущественно по берегам рек и озер, на пути индейских кочевок. С помощью системы кредитования они превращали индейских звероловов в неоплатных должников компании.
…ирокезского племени. – Ирокезы – группа индейских племен, обитавших в Северной Америке. Были объединены в союз, сыгравший большую роль в колониальных войнах европейских держав за господство в Северной Америке.
Макинаканская рубашка – теплая двубортная куртка из одеяла или пледа. Название связано с населенным пунктом Макинак в Мичигане, где находились торговые склады.
…влияния предков-индейцев… Унаследованные от них правила. – В животных, растениях или предметах неживой природы индейцы усматривали сверхъестественных покровителей или родственников. Ряд индейских племен считали своим покровителем бобра. Так, согласно легенде, одно из индейских племен произошло от союза дочери бобра и улитки, превратившейся в индейца. Считалось, что индеец наиболее удачлив в охоте на животное, почитаемое им.
…в строительстве Канадской Тихоокеанской железной дороги… – Строительство велось с середины 70-х годов по 1885 г.
…Эдуард, принц Уэльский… начинал свое историческое путешествие… – Принц Уэльский – титул наследника британского престола. Посещение наследным принцем британских колоний Северной Америки было традицией. Вероятно, здесь имеется в виду визит будущего короля Эдуарда VII в Канаду в 1860 г., сыгравший важную роль в объединении ряда британских владений в Северной Америке в доминион Канада.
…аристократического Квебека, с тремя столетиями за спиной. – Квебек – город на востоке Канады. Был основан в 1608 г. французами. В прошлом был столицей французских колоний в Америке, теперь столица одноименной провинции. Квебек – крупный культурный центр: здесь находится старейшин университет американского континента; сохранилось много средневековых сооружений, архитектурных и исторических памятников.
…безувергочные «я». – В журнальной публикации после этих слов шло примечание Пришвина:
«Признания автора о своих первых робких шагах в деле писательства чрезвычайно интересны для бесчисленных начинающих писателей нашей страны, точно так же, как Серая Сова, переполненных содержанием и не владеющих формой. Честный путь Серой Совы состоит в том. чтобы начинающему автору не очень увлекаться формальными изысканиями, а предоставить самому материалу выдавить из себя какую-то, пусть даже самую нелепую, форму. Автор замечательной книги „В дебрях Уссурийского края“ В. К. Арсеньев, во многом и как человек и как писатель напоминающий Серую Сову, лично рассказывал мне, с какими трудностями он встретился, когда писал свою замечательную книгу „В дебрях Уссурийского края“. Материалом служили его одновременно написанные четыре дневника, помню, географический, топографический и еще какие-то два. И вот случилось, что одно и то же событие в географическом дневнике было записано в среду, а в топографическом в пятницу. Создавая на основе этих четырех фактических дневников литературную вещь, автор, как и Серая Сова, честно не желая расставаться с фактической правдой, стал в совершенный тупик и спросил своего друга:
„Как же мне следует в литературном произведении написать о событии, в среду оно совершилось или в пятницу?“ – „Напиши, что в четверг!“ – ответил ему друг. И тут Арсеньев что-то понял и стал писать свободней, – и написал… Так что, думается, „литературная учеба“ не так-то уж страшна, если есть что написать. Благодаря станку Гутенберга писателем можно сделаться и в канадских лесах, и в Печорских, и в дебрях Уссурийского края, везде, где можно подозревать край непуганых птиц и зверей».
…из «Песни С урду» Сервиса… – Р. Сервис (1876–1958) – англо-канадский поэт. «Песня Сурду» написана в 1907 г.
…о Границе… – Автор говорит о границе между девственной природой и цивилизованным миром.
…свою книгу «Исчезающая Граница». – Первая книга Серой Совы вышла в 1931 г. под названием «Люди с последней границы» («The men of the last frontier»). Название было изменено издателем.
…и Шекспир имел… те же неприятности с человеком по имени Бэкон… – Существовала теория, согласно которой английскому философу Ф. Бэкону (1561–1626) приписывалось авторство шекспировских пьес.
Эмерсон Р. (1803–1883) – американский писатель и философ.
Неодетая весна*
Впервые – почти одновременно в журналах «Пионер» (1940, № 2, 3, 4–5, 6, 7) и «Октябрь» (1940, № 4–5), с подзаголовком «Путешествие». В журнале «Октябрь» повесть включала сорок восемь глав, в журнале «Пионер» была исключена глава «Скорая любовь», главы же «Серые слезы» и «Вода» – объединены в одну. В издании: «Неодетая весна. Главы из путешествия» (Библиотека «Огонька», «Правда», 1941) повесть была сокращена до двадцати двух глав.
В ответе на анкету журнала «Октябрь» «Наши планы на 1940 год» Пришвин писал о замысле «Неодетой весны»: «В книге, которую я предполагаю закончить и выпустить в свет в первой половине 1940 года, я хочу изобразить нашу природу с животными, растениями, в живой связи между собой, как великий Дом человека. Человек в этой книге будет представлен в лице Мазая, того самого, который изображен в поэме Некрасова „Мазай и зайцы“. Правдивость бытия Мазая в современности осуществляется тем, что семья Мазаев фактически и до сих пор жива, и деревня Вежи, где жил некрасовский Мазай, и сейчас те же самые Вежи. Этот край Мазая и будет изображен как Дом человека. Форма произведения – очерковая. Описана будет экспедиция в „Доме на колесах“. Мне бы хотелось, чтобы книга, подобно недавно пересказанной мной книге. Серой Совы, была доступна и для юношества» («Октябрь», 1940, № 1).
Печатается по журналу «Октябрь», 1940, № 4–5. с исправлениями по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ.
…книги Жюля Верна «Дом на колесах»… – Речь идет, видимо, о романе Жюля Верна «Паровой дом» («La maison a vapeur»; 1880): герои его путешествовали по Индии в двух пагодах на колесах, которые вез стальной слон со скрытым внутри паровым двигателем.
…жена моя… – Речь идет о первой жене Пришвина Ефросинье Павловне (1883–1953). Младший сын Пришвина, Петр Михайлович, вспоминает: «Мать сопровождала отца при всех его путешествиях… была для отца живым толковым словарем народных пословиц, поговорок, примет, обрядов, сказок, песен, названии птиц, зверей, деревьев и насекомых» (ЛН, т. 70, с. 329.)
…С. А. Бутурлина – охотника из охотников… – Бутурлин С. А. (1872–1938) – зоолог и охотовед, был одним из основателей советской школы охотоведения.
…в Москве был «Торгсин»…– Название существовавших в СССР в 30-е годы магазинов, ведших торговлю на золотую валюту и золото, преимущественно с иностранцами.
Этажи леса. – В письме к М. Д. Менделеевой-Кузьминой от 8 июля 1937 г. М. Пришвин пишет: «Сын метил в аспиранты по кафедре экологии и делает работу, изучая фауну леса по ярусам, в этом году у него землеройка. Я параллельно с ним тоже изучаю лес со своей художественной стороны и населяю своими существами, тоже по ярусам. Начал с верхнего, там на вершинах живут у меня птицы Сирин и Алконост. Описать лес, чтобы он был понятен и близок людям от семи до семидесяти, – мечта, которую я лелею еще с 1905 года и никак не могу реализовать. Но, кажется, час мой наступил, и к осени эту свою вещь я напишу» (ЦГАЛИ).
…профессору экологии А. Н. Формозову… – Советский биолог, биогеограф, художник-анималист, автор научных и беллетристических книг А. Н. Формозов (1899–1973) преподавал в 1930–1934 гг. на организованной по его инициативе кафедре экологии Института пушно-мехового и охотничьего хозяйства, с 1935 г. – профессор МГУ. В библиотеке Пришвина хранится книга Формозова «Шесть дней в лесах» с многочисленными пометами писателя. «Есть в ней то, что дает книге долголетие», – говорил Пришвин автору (А. Н. Формозов. Среди природы. Изд-во МГУ, 1978, с. 255).
…Лев Толстой начинал создавать… свою зоологию, свою ботанику для детей… – Речь идет о рассказах Л. К Толстого, включенных в его «Азбуку» (1872).
…Мазай… в этих Вежах охотился с Некрасовым… – В поэме Н А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» (1880) мы читаем: «В августе около Малых Вежей с старым Мазаем я бил дупелей». В черновом автографе (ЦГАЛИ) Пришвин пишет: «Вежи были настоящим открытием для охотников, и мне захотелось своей усердной работой над описанием местности почтить память поэта, научившего меня, быть может, больше всех других понимать и любить свой народ. Должен признаться, что, кроме желания почтить память поэта, у меня была еще своя личная цель: для одной моей работы („Осударева дорога“. – Р. В.) мне нужно было подойти по-своему к стихии воды, понять ее коварное приближение при затоплении лесов, увидеть зверей, охваченных паникой… Я целый месяц работал и охотился в Вежах».
Курник – здесь – курятник.
Вага – толстая жердь, употребляемая в качестве рычага при поднимании тяжестей.
…слова… как на стене Навуходоносора. – Видимо, речь идет о словах, которые таинственная рука начертала на стене во время пира вавилонского царя Валтасара. Слова эти предвещали гибель самого царя и падение Вавилона (Библия, Книга Пророка Даниила, 5, 10–30).
У Некрасова поэтически преувеличено, будто все Вежи на сваях… – В поэме «Дедушка Мазай и зайцы» Н. А. Некрасов пишет о деревне Вежи:
Домики в ней на высоких столбах (Всю эту местность вода поднимает, Так что деревня весною всплывает, Словно Венеция).
…у самого князька… – Князек (князь) – гребень двускатной крыши.
Вентерь (или вентель) – рыболовная снасть, представляющая собой мешкообразную сеть, натянутую на ряд суживающихся книзу обручей.
Пешня. – См. коммент. Пришвина (наст, изд., т. 1, с. 103), Стр. 304. «Труба» – хвост лисицы.
Таксатор – специалист по определению качества древесных насаждений; оценщик.
…раньше времени выкунели… – Выкунеть – о молодом звере: дойти шерстью, прибраться шерстью, вырасти, возмужать.
…острогой махнул… – Острога. – См. наст. том, с. 411.
…путем Фалеса… – Ошибка памяти; древнегреческий философ Фалес из Милета (ок. 625–547 гг. до н. э.) первоосновой всего сущего считал воду, а не огонь.
…по забережью… – Забережье – низкий берег, заливаемый водой.
…идти в пяту… – значит идти по следу зверя в направлении, обратном его ходу.
…как сильвасы (или сельвасы) – от порт, «сельва» (selva) или лат. «сильва» (silva); букв.: область сплошных густых лесов в Южной Америке.
Теплинка – яма, в которой разожжен костер.
…на приглубое… – Приглубое – имеющее значительную глубину.
Кавказские рассказы*
Впервые – в журнале «Пионер». 1938, № 1 (за исключением рассказа «Гость»), под общим названием «Мужество». В этой публикации рассказ, позднее печатавшийся под названием «Рыцарь», озаглавлен «Дон Кихот», а рассказ «Гарун» – «Мужество». Рассказ «Гость» впервые опубликован в журнале «Мурзнлка», 1937, № 1.
Нынешнее название цикл получил не сразу. В ЦГАЛИ сохранилась машинопись рассказов, входящих в этот цикл: «Желтая круча», «Сайд», «Дон Кихот», «Гарун», а также рассказа «Начальник», впоследствии в цикл не включавшегося, – под общим названием «Рассказы Люля». В журнале «Пионер» цикл назван «Мужество», а в публикации журнала «Новый мир», где цикл был в первый раз опубликован полностью, – «Желтая круча». Заглавие «Кавказские рассказы» цикл впервые получил в книге «Зеленый шум» (М., «Молодая гвардия», 1949).
В авторской машинописи «Рассказов Люля» рукой Пришвина проставлена дата – 24 ноября 1937 года.
«Кавказские рассказы» написаны после двухмесячного путешествия весной 1936 года по Кабардино-Балкарской автономной области, куда Пришвин поехал по командировке газеты «Известия». Отвечая на вопросы корреспондента газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария», писатель сказал: «Цель моей поездки естественно вытекает из цикла работ в области художественного краеведения». В дневнике поездки по Кабардино-Балкарии Пришвин записывает: «Все знают теперь силу падающих рек и умеют этой силой пользоваться для создания света. Но силу первого взгляда человека на вещь, возбуждающего удивление и неудержимое желание поделиться своим впечатлением с другим человеком, со всеми людьми, мало оценивают и не умеют ею пользоваться. Мне захотелось этой весной поехать в такую страну, где было бы мне все ново и я мог бы увидеть все в первый раз, чтобы воспользоваться изобразительной силой первого взгляда» («Охотничьи просторы», 1967, № 25, с. 74).
В первом очерке о Кабардино-Балкарии Пришвин пишет: «В каждом другом народе мы чувствуем как бы какое-то превосходство в чем-то перед своим, и при первой же встрече хочется неудержимо отдаться их обычаям, говорить на их языке» («Известия», 6 октября 1936 г.).
Печатается по изданию: Собр. соч. 1956–1957, т. 4.
ЖЕЛТАЯ КРУЧА
…замечательный рассказчик… Люль… – В своем дневнике Пришвин пишет: «Думая о Люле, я с благодарностью вспоминаю Толстого, сумевшего во время войны возбудить дружбу к горцам, поющим в кустах воинственную песнь. Люль тоже из таких: он бы на войне сражался, как Хаджи-Мурат, но вот тот же Люль мирно сидит со мною и дружит» (ЦГАЛИ).
БАСНИ КРЫЛОВА
…гуртовой секач – взрослый самец с клыками; вожак стада.
Лисичкин хлеб*
Впервые – в журнале «Новый мир», 1939, № 5, с подзаголовком: «Книга рассказов». Книгу предваряло следующее авторское вступление:
«Все эти рассказы явились на свет в поисках идеального рассказа для детей. А идеальным рассказом я считаю одинаково интересный рассказ для всех поколений. В своих поисках я исходил не от русской сказки и не от Льва Толстого в его рассказах о природе. Близости к детям я достигал, стараясь рассказывать им не о чем-нибудь поучительном, а о собственных своих играх взрослого человека. Давным-давно, будучи еще сам ребенком, я заметил, что взрослые играют еще гораздо более детей и тратят денег на свои игрушки гораздо больше, чем для детей. Так почему же нам надо рассказывать детям непременно о полезном и поучительном? Надо рассказывать, по-моему, прежде всего искренно детям, как взрослым, считая их в деле оценки художественного произведения, сказки, полноправными гражданами. Вторым целебным источником в моих поисках были разговоры людей между собой, когда они бывают лицом к лицу. В этих разговорах, в ритме их речи мне постоянно слышится сказка и, даже больше, чудится мне какая-то сила неоткрытая, подобная свету, если бы мы были слепые; чувствуешь какое-то светлое пятно и ощупью идешь к нему с пером, как слепой идет по свету с костылем».
Печатаются по изданию: Собр. соч. 1956–1957, т. 4.
«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»
Впервые – в журнале «Детская литература», 1938, № 4 (под названием: «Рассказ о диком утенке»).
Рассказ предваряло «Письмо к читателю»: «Я написал рассказ для старших дошкольников, который должен быть напечатан чуть ли не в двухсоттысячном тираже. Волнение, сопутствующее созданию рассказа, во мне еще не улеглось, и сам я с трудом могу сейчас судить, достоин ли мой рассказ такого большого тиража. Вот почему я решил предоставить его на Ваш суд и пользуюсь случаем при этом сказать от себя несколько слов о моих разных загадах.
Я загадываю написать такой рассказ, таким русским простым языком, чтобы он был понятен всему народу, независимо от образования того или другого читателя. Второй мой загад дать рассказ, который, подобно сказке, интересен для всех возрастов и соединял бы своей легендой приходящее и уходящее поколения, старого и малого. Таким образом, я хочу создать сказку без Ивана-царевича и Бабы-яги и сделаться современным сказителем».
ЛИСИЧКИН ХЛЕБ
Одновременно – в журнале «Новый мир», 1939, № 5, и в журнале «Дружные ребята», 1939, № 5.
СТАРУХИН РАЙ
Впервые – в журнале «Новый мир», 1939, № 5. Первоначальное название рассказа «Воробьи» (ЦГАЛИ).
Уветливые – кроткие, обходительные, приветливые.
ЛИМОН
Впервые – в журнале «Мурзилка», 1937, № 6.
КАК Я НАУЧИЛ СВОИХ СОБАК ГОРОХ ЕСТЬ
Впервые – в журнале «Новый мир», 1939, № 5 (под названием: «Соревнование, или Как я научил своих собак горох есть»).
В ЦГАЛИ хранятся машинописные варианты рассказа. Один из них, названный «Горох поспел (Детям)», начинается словами: «Липа цветет – пчелам мед, горох поспел – ворам на радость. И улеглись ветерки – синему морю на тишину, а вам, ребятишкам, на послушание». В варианте, названном «Любовь», после слов: «Нет, она любит меня больше Травки» – идет: «Такая любовь с надбавкой: что не просто люблю, а люблю больше других, называется ревностью. И во всякое время по призыву: „Кто больше любит меня?“ – у них начинается соревнование». В этом варианте рассказ завершается следующими словами: «Я думаю даже, что когда они вдвоем и я попрошу Ладу луку поесть, она поглядит на Травку и не откажется и от лука. Из любви ко мне и ревности, мне кажется, они что угодно съедят. Да она и везде такая любовь, и у людей то же самое: любовь заставляет делать и такое с удовольствием, за что без любви никак не возьмешься. И от этой любви синее море стоит и вы, деточки, нас, стариков, слушаетесь…»
СИНИЙ ЛАПОТЬ
Впервые – в журнале «Дружные ребята», 1938, № 4. Дата написания рассказа – 1936 год (ЦГАЛИ).
Грачевник – мелкий хворост, из которого грачи вьют гнезда^
КОПЫТО
Впервые – в журнале «Пионер», 1936, № 11. В ЦГАЛИ хранится машинопись этого рассказа с авторской правкой, где после слов: «власть Кенты над другими собаками осуществлялась в полной тишине, спокойствии» – идет следующий текст: «и даже прямо в величии. При наблюдении животных я всегда очень остерегаюсь дешевых легких сравнений с нашим человеческим миром. Между прочим, это может служить основным правилом при художестве как изучении животных. Животные должны быть интересны нам, как животные, люди, как люди. Но в этом случае я не мог себе отказать в удовольствии сделать экскурсию в человеческий мир. Я думал о той грубой собственности „первоначального накопления“, из-за которой дерутся люди нисколько не меньше, чем животные. И также я думал о той эволюции в капиталистическом мире, когда эта собственность теряет всякую вещественность, превращается даже не в золото, а в какие-то ценные бумаги, и сам собственник, подобно Кенте над копытом, сидит в тишине своего кабинета и властвует незримо над миллионом существ».
Континенталь. – Так называются все породы легавых собак, выведенные на континенте Европы.
«Венец» – здесь – верхний край копыта.
…чрезвычайно поратый – прыткий, сильный в беге.
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РУСАК
Впервые – в журнале «Новый мир», 1939, № 5.
…вышли из слуха – то есть, гоня зверя, ушли так далеко, что звуки гона не доносятся до слуха охотников.
…собаки не скалывались… – Скалываться – сбиваться со следа.
…рубом рубят… – азартно, дружно и голосисто гонят зверя.
СМЕТЛИВЫЙ БЕЛЯК
Впервые – в журнале «Новый мир», 1939, № 5.
ЗЛАЯ ЛИСИЦА
Впервые – в журнале «Новый мир», 1939, № 5.
ЛАДА
Впервые – одновременно в журналах «Колхозные ребята», 1936, № 9, и «Боец-охотник», 1936, № 9.
Хвощи – от «хвостать»: хлестать, сечь.
Чутье. – Здесь – кончик носа охотничьей собаки.
…четвертое поле работает… – Поле – охотничий сезон.
ГУСИ С ЛИЛОВЫМИ ШЕЯМИ
Впервые – в журнале «Дружные ребята» 1938, № 5 (под названием: «Как Миша написал рассказ»).
ЗВЕРИ-КОРМИЛИЦЫ
Впервые – в журнале «Дружные ребята», 1938, № 8. Первоначальные варианты: «Мусины роды» и «Старая соболюшка». В авторизованной машинописи (ЦГАЛИ) автором был зачеркнут следующий вариант окончания рассказа: «Наблюдая животных, я часто вспоминаю людей. И в этом необыкновенном случае люди тоже приходят на ум: как это бывает у самых лютых хищников – зверей столько человечности, что они могут жить в дружбе с кроликами, а люди своих жалеют только».
ПИКОВАЯ ДАМА
Впервые – в газете «Комсомольская правда», 1938, 4 июля.
В газетной публикации после слов: «утята вместо цыплят» – следовало: «У кур, наверное, чувство долга, их куриное „надо“ не встречается с личным „хочется“, как у людей». А после слов: «цыплята ли это?» – «Для таких вопросов и личных вывертов с „хочу – не хочу“, „нравится – не нравится“ существует на земле человек, а она просто курица, и ей приходится делать, что велит природа, что „надо“». После слов: «от обыкновенной курицы» – было: «Бывает ли так у людей? Так спрашиваю себя, положив на колени газету и глядя на курицу. В газете пишут о маленькой, но хорошо защищенной стране, находящейся в грозной опасности.
Сумеет ли она постоять за себя?
Мне хочется думать, что если это маленькое государство, презирая опасность, в стальном единстве бросится на врага, то и большое государство уйдет, как мой Трубач в свою конуру».
Гонец (или гончая) – название породы охотничьих собак.
…в румянах. – Румяна – подпалины у гончих
…в ометах… – Омет – большая куча, в которую складывается солома после обмолота; скирда.
Дедушкин валенок*
Впервые – в журнале «Октябрь», 1941, № 2, со следующим авторским предисловием:
«За то, что я много пишу о природе, один критик когда-то давно называл меня бесчеловечным писателем. После разъяснении Горького пора бы с этим покончить, но нет, время от времени там или тут заходит речь о моей бесчеловечности, и я пользуюсь всяким случаем, чтобы снять с себя это обвинение, основанное на недоразумении. Вот и сейчас, предлагая читателю несколько новых детских рассказов, я хочу предпослать им свои соображения о природе без человека, о человеке без природы и о человеке в природе…
Рассказы о природе для детей у нас бывают часто натуралистические или, как их принято теперь называть, „познавательные“. Вот эти-то рассказы, на мой взгляд, и являются в чистом виде „бесчеловечными“. Но я не могу назвать ни одного рассказа, написанного о природе без отношения к человеку, чтобы его можно было признать за художественное произведение.
Другие рассказы, например Андерсена, наоборот, говорят только о человеке, а природа в них играет роль чисто случайную, роль пейзажа или символа, – в этой природе зайцы ходят в штанах и еловые шишки беседуют с человеком. На этом пути изображения природы для человека, или, если по существу говорить, изображения человека без природы, создается много высокохудожественных произведений.
Зачинателем рассказов третьего рода, в которых природа дается в единстве с человеком, я считаю Льва Толстого и своими рассказами стремлюсь продолжить его дело. Но я это стал понимать только после того, как меня назвали „бесчеловечным“, то есть понимать как продолжателя дела Толстого. До тех пор я шел не от Толстого, а от себя самого, потому что я просто не могу понимать природу без человека и человека понимать без природы. В этом и состоит особенность моего дарования, и я был счастлив, когда открыл для себя, что зачинателем изображения природы в единстве с человеком был Лев Толстой».
Печатается по изданию: Собр. соч. 1956–1957, т. 4; рассказ «Лученье рыбы» – по журналу «Октябрь», 1941, № 2.
О ЧЕМ ШЕПЧУТСЯ РАКИ
В. Д. Пришвина, жена писателя, вспоминает о том, как создавался этот рассказ: «Это было в доме творчества писателей „Малеевка“ под Москвой в начале 1941 года. Мы сидели в нашем номере уже одетые, в шубах, и ждали машину из города. Пришвин был настроен легко, весело. Он велел мне открыть портативную машинку, сесть за нее и одним духом продиктовал рассказ. Помню, мы даже и работали одетыми.
Не случайно рассказ этот несет особый тон сказителя, а не писателя» (В. Пришвина. Наш дом. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 75).
…на пыжи. – Пыж – здесь – соответствующая диаметру гильзы войлочная или иная затычка, которой закрепляют заряд пороха.
Золотой луг*
Рассказы впервые были объединены в цикл в Собр. соч. 1956–1957.
ХЛОПУНКИ И ЗОЛОТОЙ ЛУГ
Впервые – в журнале «Красная нива», 1926, № 46.
ЖУРКА
Впервые – в журнале «Мурзилка», 1933, № 12.
ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ
Впервые – в книге: М. Пришвин. Зверь бурундук. М., Детгиз, 1935.
ЛЕСНОЙ ДОКТОР
Впервые в журнале «Дружные ребята», 1944, № 7.
КЛЮКВА
Впервые в газете «Колхозные ребята», 1935, 18 февраля.
ВЫСКОЧКА
Впервые в журнале «Мурзилка», 1940, № 11.
ЯСТРЕБ И ЖАВОРОНОК
Впервые в журнале «Мурзилка», 1948, № 6.
Из книги «Золотой Рог»*
Впервые книга «Золотой Рог» была издана в 1934 году Издательством писателей в Ленинграде. Этой книге предшествовали публикации составивших ее очерков в журналах «Новый мир», 1932, № 11, под названием «Новая Даурия. Путешествие», и «Молодая гвардия», 1933, № 7–8, под названием «„Золотой Рог“. Записки любителя зверей».
В издании 1934 года книга «Золотой Рог» делилась на четыре части. В качестве первой части в нее вошла повесть «Корень жизни» (подзаголовок: «Жень-шень»), впоследствии издававшаяся как самостоятельное произведение; вторая часть – «Соболь», третья – «Олень-цветок» и четвертая – «Голубые песцы». Впоследствии части II–IV, под названием «Дорогие звери», были включены в Собр. соч. 1935–1939, т. 2, и в Собр. соч. 1956–1957, т. 2, где печатались с большими сокращениями.
В предисловии к журнальному варианту очерков Пришвин говорит о построении готовившегося тогда отдельного издания книги «Золотой Рог»: «В первой части ее будет повесть „Жень-шень“, то есть сотворенная мною легенда, а вторая – „Золотой Рог“, та фотографическая действительность, на основе которой я создал свою легенду. Я загадываю еще, что эта моя книга будет сложена, как научная: первая часть ее, повесть, будет результат исследования или открытия чего-то нового, а во второй части будут даны материалы, на основе которых велось исследование. Читатель моей будущей книги, наверное, с интересом обратит внимание на то, что социальный элемент ее находится именно в легенде, то есть в повести, а фактический материал, на основе которого повесть написана, получается непосредственно из интереса автора к природе нового края… Я думаю, что для тех, кто прочел мою повесть, эти простые картинки ответят на обычный вопрос читателей: „Но как же все было на самом-то деле?“» («Молодая гвардия», 1933, № 7). «На первом месте в ней (книге. – Р. В.) читатель имеет повесть „Корень жизни“, или созданную им „Даурню“, на втором „Соболь“, или „Гибель Даурии“, а все остальные рассказы и очерки являются этюдами, по которым написана повесть „Корень жизни“» (предисловие «От автора» к книге «Золотой Рог», 1934). Пришвин сожалел, что недостаток бумаги не дал возможности «прибавить к этой книге еще и свою записную книжку, а то бы перед читателем, заинтересованным вопросами творчества, „Корень жизни“ предстал бы во всех срезах своего создания и книга походила бы на те научные книги, в которых значительная часть места отводится на цитаты из „источников“» (там же). В рукописном наброске предисловия писатель таким образом обосновывает это построение книги: «Зачем это было сделано автором? Очевидно, он большое значение придает той волевой стороне художника, которая позволяет ему самому грубому жизненному факту сознательно создавать художественную атмосферу, которая как бы поднимает этот обыкновенный факт на воздух, и он, крылатый, управляемый, летит» (ЦГАЛИ).
Печатается по изданию: М. Пришвин. Золотой Рог. Издательство писателей в Ленинграде, 1934, со сверкой по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ) и опущением кинолибретто «Гибель Даурии».
Золотой Рог – бухта в заливе Петра Великого (Японское море). Имеет рогообразную форму. На берегах Золотого Рога расположен город Владивосток.
Мятый пар – отработанный, выполнивший свою полезную работу в машине пар.
…«чти отца»… – Одна из заповедей Моисея гласит: «Чти отца своего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли» (Библия, Исход, 20, 12).
…«в болезнях рождай!» – По Библии, изгоняя Еву из рая, бог произнес: «В болезни будешь рождать детей…» (Бытие, 3, 16).
Пантеизм – философское учение, объединяющее бога и мир, а иногда их отождествляющее.
…вот он что выводит. – После этих слов в авторской машинописи (ЦГАЛИ) идет следующий абзац: «Есть заумные люди, которым все простое и непосредственное не только недоступно, но и является предметом расшифровки на свой заумный язык с рикошетным ударом по автору: вот он кто!»
…всем ферейном… – Ферейн (нем.) – союз, общество, объединение, корпорация.
…тому и не снилось. – Далее в авторизованной машинописи (ЦГАЛИ) такие слова: «…ни на подушке, ни под подушкой, а и так получилось в один прекрасный день, что автор проснулся под подушкой, а на подушке критик сидит…»
…критик… так тебя разъяснит… – Ср. отрывок из выступления Пришвина И ноября 1932 г. на расширенном Пленуме оргкомитета Союза писателей СССР: «Я каждый год читаю для молодежи на вечерах чтения. И вот теперь прекратил. Прихожу туда и вдруг слышу: „Это Пришвин, он разъяснен“. Я начинаю читать, а мне кричат: „Вы, товарищ Пришвин, пишете как мистик“» («Литературная газета», 1932, 11 ноября).
…пишу о природе исключительно с точки зрения советского хозяйства. – Ср. в письме к М. Горькому от 15 мая 1931 г. Пришвин пишет: «…я сам, наконец, стал подумывать о ничтожестве зайцев и птиц в плане грандиозного строительства. Но нет! Ведь пушнина не малая статья дохода. Вот я и придумал свою звериную поэзию заключить в рамки звероводства… Мне думается, что журналы от моих зверей повеселеют, ведь через моих зверей люди видны, а через очерки наших рационализаторов искусства вовсе не видно людей» (ЛЯ, т. 70, с. 360).
Даурия – русское название Приамурья и Забайкалья в XVII в. Произошло от дауров (дахуров) – омонголившихся эвенков, обитавших в Приамурье к востоку от Яблоневого хребта. Позднее название Даурия сохранилось в физической географии применительно к Восточному Забайкалью.
Бохайское царство – раннефеодальное государство в Северо-Восточной Азии. Существовало с начала VIII в. по 926 г. Охватывало юго-восток современного юго-восточного Китая, юг Приморья и северо-восток Кореи. Основное население – тунгусские племена. Уровень бохай-ской культуры был очень высок.
«Еже писах, – писах». – См. коммент. к с. 602 (наст изд., т. 2).
В. К. Арсеньев. – См. коммент. к с. 65 (наст, изд., т. 3).
Ясак – подать, дань, которой облагались в Московской Руси ii царской России народы Поволжья и Сибири.
Маральник – здесь – олений питомник.
В Московском зоопаркел. – В цитированном выше письме к М. Горькому Пришвин пишет: «Считаю в биологии величайшим достижением наш Зоопарк, трудами Мантейфеля и его молодежи превращенный в биостанцию, работающую как бы не в Москве, а в недрах природы. У меня явилась мысль изучить парк и написать книгу, подобную арсеньевской „В дебрях Уссурийского края“» (ЛН, т. 70, с 360).
…в опытах Гагенбека… – Гагенбек К. (1844–1913) – основатель одной из крупнейших фирм по торговле дикими животными, создал в Гамбурге зоопарк, где звери содержались в вольерах. В книге «О зверях и людях» (1907) Гагенбек приводит страуса как пример привыкания животных южных стран к холоду.
«Борец и Плакса». – Глава «Борец и Плакса» под названием «Медведи-отцы», глава «Соляная кислота» в несколько отличающейся реакции под названием «Памятный день» и, кроме того, глава «Чайки» были впервые опубликованы в составе очерка «Звери» в журнале «Красная нива», 1931, № 22; затем в другой редакции включены в цикл «Золотой луг» в Собр. соч. 1956–1957, т. 4.
…зайцы… тумаки… – Тумак – помесь зайца беляка с русаком.
…зеленое вещество растений… – В черновике (ЦГАЛИ) заметка Пришвина: «Из биологических тем меня больше всего волнует та мастерская природы, где зеленое вещество растений перерабатывает для нашей жизни солнечный луч, так что мы действительно являемся детьми солнца. И художественный синтез, который я понимаю как превращение индивидуального в личное и общественное достояние, разве он не ближе всего стоит к синтезу жизни в зеленом растении» (ЦГАЛИ).
…ветродуйный кедрач – редкий кедровый лес.
…на известной волчьей охоте с поросенком… – Такая охота заключается в стрельбе по волкам из саней, где находятся охотники с поросенком; голодные волки, привлеченные визгом поросенка, набегают иногда на ружейный выстрел.
…волки обошлись с одной старухой точно так же, как с ящиком. – Этот эпизод изображен Пришвиным также в «Календаре природы» (глава «Волки-отцы»). – См. наст, изд., т. 3, с. 350.
…о походе Хабарова… – Хабаров Ерофей Павлович (ок. 1610– после 1667 г.) – русский мореход и землепроходец. Именем Хабарова названы город Хабаровск и железнодорожная станция на Транссибирской магистрали «Ерофей Павлович».
…книга была у меня «Новая Даурская земля»… – Речь идет о книге профессора С. Бахрушина «Казаки на Амуре», первая глава которой называется «Новая Даурская земля» (Л., Брокгауз-Ефрон, 1925).
…Япония еще не начинала с Китаем войну за Маньчжурию. – Японские империалисты начали захват северо-восточного Китая 18 сентября 1931 г.
…жизнь протопопа Аввакума… – См. коммент. к с. 405, наст, изд., т. 1.
Бабы (простореч.) – название пеликана.
…курята индейские… – Имеются в виду горные индейки, или улары – крупные птицы рода куриных семейства фазановых.
…кинорежиссер Литвинов… – В числе работ А. А. Литвинова (1899–1977) был фильм, снятый по книге В. К. Арсеньева «Дерсу Узала» («Лесные люди», 1928) и фильм «Хижина старого Лувена» (1933) по мотивам повести Пришвина «Жень-шень» и его сценарию.
Леспедеца (леспедец) – низкорослый ветвистый кустарник, растение из семейства бобовых.
…чертова дерева… – Чертово дерево – аралия маньчжурская или шип-дерево; растет в Приамурье, Восточном Китае и Корее в лиственных и смешанных лесах, образуя местами труднопроходимые колючие заросли (отсюда название).
…всевозможными Сциллами и Харибдами… – Сцилла и Харибда – в мифологии древних греков два чудовища, обитавших на прибрежных скалах по обе стороны Мессинского пролива и поглощавшие мореплавателей. Выражение: «оказаться между Сцнллой и Харибдой» – означает: оказаться между двумя враждебными силами, когда опасность угрожает с той и с другой стороны.
Яловица – шкура коровы старше полутора лет или изделие из такой шкуры.
…происходит… от лебедя или… Юпитера… – В римской мифологии плененный красотой дочери царя Фестия Леды, Юпитер сошел к ней в образе лебедя. От связи с ним родились Елена и Полидевк.
Лишенная голоса женщина… – Здесь в значении: лишенная избирательных прав.
…почетного гражданина… – Почетный гражданин – в России XIX – начала XX в. привилегированное звание для лиц. относившихся к мещанству или духовенству.
…полуостров генерал-губернатора Муравьева-Амурского… – полуостров в заливе Петра Великого Японского моря; на южном берегу его расположен г. Владивосток. Назван по имени русского государственного деятеля, генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского (1809–1884), проводившего активную деятельность по освоению и изучению края, руководившего экспедициями по Амуру.
Залив Посьета – находится в западной части залива Петра Великого в Японском море у берега Приморского края. Назван именем русского мореплавателя, адмирала К. Н. Посьета (1819–1889).
Остров Фуругельма – находится в заливе Экспедиции Японского моря. Назван в честь И. В. Фуругельма (1821–1909) – вице-адмирала русского флота, генерал-губернатора Приморской области.
…острова Путятина… – Остров Путятина находится в заливе Петра Великого в Японском море. Назван именем Е. В. Путятина (1804–1883), русского государственного деятеля, мореплавателя, дипломата.
…падающего толкни… – Афоризм из книги Фр. Ницше «Так говорил Заратустра» (М., 1903, ч. 3, с. 281).
Чистик – морская птица, обитающая на скалах по берегам северных морей.
Каменушка – порода диких нырковых уток.
…«Собственность есть воровство». – Афоризм французского публициста, экономиста, теоретика анархизма П.-Ж. Прудона (1809–1865), автора книги «Что такое собственность?» (1840).
. Антропоморфизм – приписывание человеческих свойств различным существам и предметам.
Лещеватый – сухощавый, с узкой и плоской, как бы сдавленной по бокам грудью; узкотелый.
…под пахтой… – Пахта (обл.) – отвесная скала над водой.
Виталист (от. лат. vitalis – жизненный, животворный, живой) – последователь идеалистического течения в биологии, допускающего наличие в организмах особой нематериальной жизненной силы.
Берендеева чаща*
Впервые – полностью в журнале «Наши достижения», 1935, № 12; 1936, № 1–3, под общим названием «Берендеева чаща».
Отдельные очерки публиковались в газете «Правда», 1935, 18 октября (под общим названием «Лесные новеллы»), и «Лесная промышленность», 1935, № 112; 1936, № 307, 309, 312, 313. Очерки «Законы сузема» и «Явзора» – в журнале «Молодой колхозник», 1936, № 1 и № 20; очерк «Антипыч» – в журнале «Пионер», 1936, № 1.
Текст, опубликованный в Собр. соч. 1935–1939, т. 4, совпадает с текстом журнального варианта, но главы, не имевшие названий в журнальной публикации, здесь озаглавлены.
Во втором томе «Избранных произведений в двух томах» (М., Гослитиздат, 1951–1952) и в Собр. соч. 1956–1957, т. 2, опубликован сокращенный текст очерков, получивший в этих изданиях заглавие «Северный лес».
Текст печатается по изданию: Собр. соч. 1935–1939, т. 4.
После слов: «интереса общества к лесной промышленности» – в авторской машинописи (ЦГАЛИ) следуют слова: «страдающей больше всего от утраты нашей молодежью „любви к лесу“».
…леса «круглого»… – Круглый лес – лесозаготовительный термин, обозначающий спиленные деревья после очистки от ветвей, коры и разделки ствола на части.
…спелые леса… – вполне зрелые, наиболее пригодные для использования.
…про староверов на Ветлуге… про паломников Светлого озера у невидимого града Китежа. – См. коммент. на с. 803–806 (наст, изд., т. 1).
…страницы историка Ключевского о лесе. – В. О. Ключевский (1841–1911), выдающийся русский историк, в «Курсе русской истории» пишет: «Лес всегда был тяжел для русского человека. В старое время, когда его было слишком много, он своей чащей прерывал пути-дороги, назойливыми зарослями оспаривал с трудом расчищенные лес и поле, медведем и волком грозил самому и домашнему скоту. По лесам свивались и гнезда разбоя. Тяжелая работа топором и огнивом, какой заводилось лесное хлебопашество на пали, расчищенной из-под срубленного и спиленного леса, утомляла, досаждала. Этим можно объяснить недружелюбное или небрежное отношение русского человека к лесу: он никогда не любил своего леса. Безотчетная робость овладевала им, когда он вступал под его сумрачную сень. Сонная „дремучая“ тишина леса пугала его; в глухом, беззвучном шуме его вековых вершин чудилось что-то зловещее; ежеминутное ожидание неожиданной, непредвидимой опасности напрягало нервы, будоражило воображение. И древнерусский человек населил лес всевозможными страхами. Лес – это темное царство лешего одноглазого, злого духа – озорника, который любит дурачиться над путником, забредшим в его владения» (В. О. Ключевский. Сочинения в 8-ми томах. М., Госполитиздат, т. 1, 1956, с. 67).
…раскапывали «Польцо»… – См. наст. изд., т. 3, с. 232–233.
…швырок, долготъе, рудсырье, стройпиловочник, телеграфный, шкуреный лес – Лесозаготовительные термины, виды лесоматериалов.
…молевой сплав – лес, сплавляемый не связанными между собой бревнами, россыпью.
…стал писать в газету обвинительный акт… – Имеется в виду статья Пришвина «Переславские кручи». Была опубликована в газете «Известия», 1935, 10 мая.
Бор шумел, как у Короленки… – Речь идет о рассказе В. Г. Короленко «Лес шумит» (1886).
Кошель – наплавное ограждение из бревен или жердей, применяемое при сплаве леса.
Запонь – плавучая преграда поперек реки, служащая для задержания леса при сплаве.
…«Учение о лесе» Морозова. – Книга выдающегося русского лесоведа, ботаника и географа Г. Ф. Морозова (1867–1920) «Учение о лесе» («Основания учения о лесе», 1920) заложила основы современного лесоводства. Ученый показал сложную взаимосвязь разнообразных компонентов леса, образующих единый природный комплекс. «Лес не есть только общежитие древесных растений, – писал Морозов, – он представляет собою общежитие более широкого порядка: в нем не только растения приспособлены друг к другу, но и животные к растениям, растения к животным, все взаимно приспособлено друг к другу, все находится под влиянием внешней среды» (Г. Ф. Морозов. Учение о лесе. М.-Л., Гослесбумиздат, 1949, с. 314). Морозов разработал учение о типах насаждений, развил представление о типах лесных пород и образуемых ими сообществ, обосновал теорию рубок и лесовозобновления.
…рудную дорогу. – Рудная дорога – дорога, проходящая по узкой возвышенности среди болот.
Сортименты– лесозаготовительная продукция, лесоматериалы, характеризующаяся определенными признаками качества: размерами, форматом и т. д.
Хлыст – очищенный от сучьев ствол поваленного дерева с неотрубленной вершиной.
Тюльки – толстые обрубки бревен.
…под черепком… – Черепок – лед, покрывающий землю под снегом.
…каракумский пробег… – восьмидесятишестидневный испытательный автопробег по маршруту длиной 9375 км, проведенный в 1933 г. советской автоколонной в тяжелых условиях пустыни Кара-Кум.
В авторской правленой машинописи «Берендеевой чащи» после слов: «баюкающие звуки» – следуют слова: «колыбельная песня для детей, охраняемых в душе своей взрослыми» (ЦГАЛИ).
Потыкушки. – См. наст, изд., т. 3. с. 458.
…На скудной почве… сосна такую силу берет, что стоит выше всех. – После этих слов в авторской правленой машинописи Пришвиным в первом варианте зачеркнуты следующие строки: «Мне ли судить, как высоко я поднялся среди своих современников, но только знаю, что почва у меня, как у сосны: на таком скудном материале мало кто на свете работает, и корни, как сосне, мне приходится пускать глубоко» (ЦГАЛИ).
Сквозной бригадир – руководитель сквозной бригады, то есть бригады, которая объединяет рабочих разных профессий, последовательно выполняющих операции всего технологического процесса. Такие бригады возникли в СССР в начале 1936 г. как одна из форм социалистического соревнования.
…по раменью, – Раменье – густой дремучий лес (обычно еловый).
В правленной автором машинописи глава «Инспектор по качеству» начинается словами: «Есть птица в дальневосточной тайге вроде рябчика видом, разве только потемней пером и чуть-чуть побольше. Такая это смирная птица, такая непуганая, доверчивая, что человек подходит к дереву с петлей на шесте, надевает петлю этому смирному рябчику на шею и тащит себе на жареное.
Мне снилась эта самая тайга, как Берендеева чаща, и эта птица необыкновенная, как птица Берендеевой чащи, а я будто бы иду хозяином среди непуганых птиц, и вот тянет меня, вот тянет неудержимо протянуть свой шест к смирному рябчику и петлею стащить его для своего костра.
Не ясно мне происхождение и странное сочетание с поэзией этого страстного желания охотника поймать, ощипать и зажарить такую живую чудесную тварь. Не раз пробовал переделаться и ходить в лесу с одной записной книжкой, – ничего не выходит: как только исчезает возможность поймать – родники Берендея пересыхают и живая поэзия леса превращается в бумажное дело.
Так у меня с птицами» (ЦГАЛИ).
…кто вы? – Инспектор по качеству, – ответил я. – Ср.: «Я… и посейчас продолжаю вести эту линию исследования жизни по качеству (как?), подобно тому как наука исследует причины жизненных явлений (почему?)» («Родственное внимание» (письмо в редакцию журнала «Колхозник»); ЦГАЛИ).
Высыпки – внезапный прилет в большом количестве пернатой дичи.
…сплотка щукой… – «Название щука удивительно подходит к этой сплотке, применяемой к лесу, который буксируют против течения: бревно лежит на бревне все выше и выше, как перья у щуки в верховом плавнике» (запись М. Пришвина; ЦГАЛИ).
…своим путиком… – Путики – участки для охоты, на которые промысловые охотники делили между собой леса.
Плица (сев.) – деревянный черпак или ковш.
Кокорина (выворотень) – нижняя часть древесного ствола с перпендикулярным к нему отрезком крупного корня.
Закорыш – жук-короед.
Боны – здесь – плавучее заграждение, устанавливаемое в русле реки при сплаве леса.
Рада. – «Лес на болоте: темная рада, значит, ель по болоту, светлая рада – сосны по болоту» (примеч. М. Пришвина; ЦГАЛИ).
Глубинный залом – многорядное беспорядочное скопление на реке бревен, вызванное препятствием в русле.
Пыж – здесь – то же, что залом.
…по зеленым наволокам… – Наволок – «значит намывной берег» (примеч. М. Пришвина; ЦГАЛИ).
Князь (или князек). – См. коммент. к с. 275 наст. тома.
Охлупь. – «На князьках северных изб хозяева ставят фигуры фантастических животных (а иногда и очень натуральных), частью для пользы, („чтобы князь не гнил“). Фигуры эти носят общее название охлупи» (примеч. М. Пришвина; ЦГАЛИ).
Бонитер (разговори.) – специалист, оценивающий продуктивность леса.
…разноцветные турухтаны со своими необыкновенными воротниками. – Турухтан – разновидность кулика; весной у самца-турухтана «шея, плечи и грудь бывают прикрыты густым капюшоном из длинных перьев, темно-рыжего, иногда черного цвета с металлическим зеленым или синим отливом. Капюшон этот может подниматься и опускаться по желанию самой птицы и играет большую роль во время поединков между самцами на току» (С. В. Покровский. Календарь природы. М., 1924, с. 206).
…как… сочинял свои путешествия… писатель, прозванный Вранченком. – Речь идет о Василии Ивановиче Немировиче-Данченко (1844–1936), авторе многочисленных путевых очерков.
…охота моя в Каракалах на архаров… – См. наст, изд., т. 3, с. 431–439.
Знамя – здесь – метка своего путика, двора.
…сосна очень сбежистая… – Сбежистое дерево – здесь – дерево, диаметр которого резко сокращается к вершине; с очень сильно утонченной вершиной.
«Не количеством мыла… надо измерять степень культуры». – Имеется в виду ставшая пословицей фраза знаменитого немецкого химика Юстуса Либиха (1803–1873): «Культура народа определяется количеством потребляемого мыла».
…под суслон… – Суслон – несколько снопов, поставленных в поле для просушки стоймя, колосьями вверх, и покрытых сверху снопом.
…в севалку дует… – Севалка (обл.) – лукошко с зерном для ручного сева.
Польник – местное название тетерева-косача.
Отпуск. – Так в северных говорах называют заговор от диких зверей или лихих людей. Тексты этих заговоров сохраняются как рукописный талисман.
«Живые помощи» – искаженное начало славянского текста псалма царя Давида; «Живый в помощи Вышняго» (Псалтырь, псалом 90,1). В народе была широко распространена вера, что тот, кто произносит этот псалом в опасную минуту или носит текст этого псалма как талисман, избавляется от опасности.
…дерево выросло полугрудником. – Полугрудником или пологрудником на Севере называют дерево с обнаженным от коры участком ствола пли дуплистое дерево.
Табачный сук – бурый сгнивший сучок.
Кособолонное дерево – дерево с винтообразно расположенными волокнами древесины.
Раскряжеванное дерево – распиленное поперек.
…«исход» предполагает впереди возможность какой-то их Палестины. – Библейские ассоциации: в Библии, в книге Исход рассказывается об исходе израильтян из Египта и о приходе после сорокалетнего странствования в обетованную землю – Палестину. Здесь «Палестина» в значении – «обетованная земля».
Затерт… как «Челюскин»… плыл, как Шмидт в дрейфующем льду. – Советский пароход «Челюскин» в 1933 г. был затерт льдами в Беринговом проливе, затем был вынесен в Чукотское море, где в феврале 1934 г. затонул, раздавленный льдами. Начальником экспедиции был О. Ю. Шмидт (1891–1956) – математик, астроном и геофизик.
Р. Вальбе
Примечания
1
Аналогично перелету птиц у животных существует своя миграция, особенно заметная на Дальнем Востоке. (Здесь и далее примеч. М. М. Пришвина.)
(обратно)2
Саёк – годовалый олень.
(обратно)3
Леопард на Дальнем Востоке почему то называется именем совсем другого животного – барса.
(обратно)4
Контрами – рубить голову.
(обратно)5
Оттава – столица Канады.
(обратно)6
Мокасины – обувь из оленьей шкуры.
(обратно)7
Траппер – охотник на пушного зверя в Северной Америке, пользующийся чаще всего западнями.
(обратно)8
Спрингпуль – вид капкана.
(обратно)9
Семьдесят пять! (фр.)
(обратно)10
Ну, конечно, сударь… Что еще? (фр.)
(обратно)11
Сизиф – легендарный древнегреческий царь, осужденный богами вечно вкатывать на гору камень, который, достигнув вершины, скатывался снова вниз. Сизифовтруд – изнурительная и бесполезная работа.
(обратно)12
«Кодак» – маленький ручной фотоаппарат.
(обратно)13
Название книги было изменено издателем на «Люди Последней Границы». Это единственное изменение в ней. (Примеч. Серой Совы.)
(обратно)14
Шотландский танец. (Примеч. Серой Совы.)
(обратно)15
Имеется в виду человек, убивший Мак-Джининса и Мак-Джинти.
(обратно)16
Передние зубы у взрослого бобра темно-оранжевого цвета.
(обратно)17
Доун – значит «Заря». Имя дочери Серой Совы.
(обратно)18
Рыбаки в Поволжье говорят «оживился» в смысле: поймал что-то живое.
(обратно)19
Вандышем на Волге называется маленькая рыбка.
(обратно)20
Известная книга Арсеньева «В дебрях Уссурийского края».
(обратно)21
Шишкачом называется олень, у которого спилили панты и оставили одни шишки. Саёк – годовалый олень с тонкими «шпильками» вместо рогов.
(обратно)22
Рассказ этот записан со слов кильдинского зверовода Ивана Антоновича Зависского, труд мой состоит исключительно в переложении устного в литературное.
(обратно)23
Теперь начинают это делать в кино, снимая жизнь растений целое лето и показывая в несколько минут.
(обратно)24
Едома – почти совпадает со словом тайга; едомная – значит таежная.
(обратно)25
Сузем – дремучий лес
(обратно)26
Согра – еловое болото
(обратно)27
Болотистый хвойник.
(обратно)28
Нодья – костер в лесу, на ночлеге.
(обратно)29
Ушкало – палочка, на которой просушиваются свежеснятые беличьи шкурки.
(обратно)30
Здесь и далее курсив мой. – Т. X.
(обратно)31
Характеризуя детские рассказы Пришвина, мы не придерживались только тех, которые вошли в данный том, а пытались установить общие, независимые от того или иного цикла их особенности и черты.
(обратно)


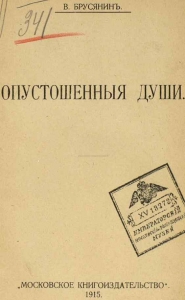
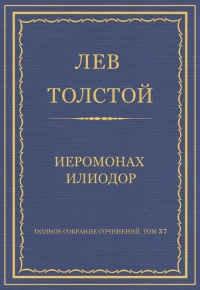
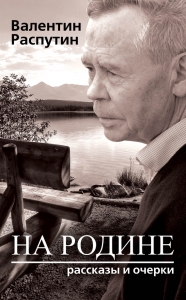
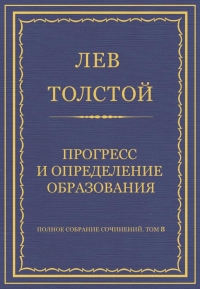
Комментарии к книге «Том 4. Жень-шень. Серая Сова. Неодетая весна», Михаил Михайлович Пришвин
Всего 0 комментариев