Артем Веселый Россия, кровью умытая (сборник)
Россия, кровью умытая
Смертию смерть поправ
В России революция —
дрогнула мати
сыра земля, замутился
белый свет…
Сотрясаемый ураганом войны, шатался мир, от крови пьян.
По морям-океанам мыкались крейсера и дредноуты, изрыгая гром и огонь. За кораблями крались подводные лодки и минные заградители, густо засеивая водные пустыни зернами смерти.
Аэропланы и цеппелины летели на запад и восток, летели на юг и север. С заоблачных высот рука летчика метала горячие головни в ульи людских скопищ, в костры городов.
По пескам Сирии и Месопотамии, по изрытым траншеями полям Шампани и Вогез ползли танки, сокрушая на своем пути все живое.
От Балтики до Черного моря и от Трапезунда до Багдада не умолкая бухали молоты войны.
Воды Рейна и Марны, Дуная и Немана были мутны от крови воюющих народов.
Бельгия, Сербия и Румыния, Галиция, Буковина и Турецкая Армения были объяты пламенем горящих деревень и городов. Дороги… По размокшим от крови и слез дорогам шли и ехали войска, артиллерия, обозы, лазареты, беженцы.
Грозен – в багровых бликах – закатывался тысяча девятьсот шестнадцатый год.
Серп войны пожинал жизни колосья.
Церкви и мечети, кирки и костелы были переполнены плачущими, скорбящими, стенающими, распростертыми ниц.
Катили эшелоны с хлебом, мясом, тухлыми консервами, гнилыми сапогами, пушками, снарядами… И все это фронт пожирал, изнашивал, рвал, расстреливал.
В клещах голода и холода корчились города, к самому небу неслись стоны деревень, но не умолкаючи грохотали военные барабаны и гневно рыкали орудия, заглушая писк гибнущих детей, вопли жен и матерей.
Горе гостило, и беды свивали гнезда в аулах Чечни и под крышей украинской хаты, в казачьей станице и в хибарках рабочих слободок. Плакала крестьянка, шагая за плугом по пашне. Плакала горожанка, уронив голову на скорбный лист, на котором – против дорогого имени – горело страшное слово: «Убит». Рыдала фламандская рыбачка, с тоскою глядючи в море, поглотившее моряка. В таборе беженцев – под телегою – рыдала галичанка над остывающим трупом дитяти. Не утихаючи вихрились вопли у призывных пунктов, казарм и на вокзалах Тулона, Курска, Лейпцига, Будапешта, Неаполя.
Над всем миром развевались знамена горя и, как зарево огромного пожара, стоял стон, полыхали надсадные, рвущие душу крики отчаянья…
И лишь в дворцах раззолоченных – Москвы, Парижа и Вены – сверкала музыка, пламенело пьяное веселье и ликовал разврат.
– Война до победы!
Военная знать и денежные киты дружно сдвигали бокалы с кипящим вином:
– Война до победы!
А там – на полях – огненные метлы, точно мусор, сметали в братские могилы гамбургских грузчиков и шахтеров Донбасса, кочевников Аравии и садоводов с берегов Ганга, докеров из Ливерпуля и венгерских пастухов, пролетариев разных рас, племен и наречий и пахарей, добывающих в поте лица хлеб насущный на земле отцов и дедов своих.
Кресты и могилы, могилы и кресты.
Балканы, Курдистан, Карпатские долины, чрево земли польской, форты Вердена и холмы Мааса были туго набиты солдатским мясом.
В шахтах Рура и Криворожья, в рудниках Сибири и на химических заводах Германии – на самых каторжных работах – работали военнопленные. Военнопленные томились в лагерях за колючей проволокой, кончали расчеты с жизнью под кнутом шуцмана и капрала, мерли в бараках от тоски, голода, тифа.
Лазареты… Приюты скорби, убежища страданий… Искалеченные, обмороженные, контуженые, отравленные газом – с раздробленными костями и смердящими ранами – метались в бреду на лазаретных койках и операционных столах, где кровь была перемешана с гноем, рыданья с проклятиями, стоны с молитвами за сирот и отчаянье с разбитыми в дым надеждами!
Безногие, безрукие, безглазые, глухие и немые, обезумевшие и полумертвые обивали пороги казенных канцелярий и благотворительных учреждений или, выпрашивая милостыню, ползли, ковыляли, катились в колясках по улицам Берлина и Петрограда, Марселя и Константинополя.
Страна была пьяна горем.
Тень смерти кружила над голодными городами и нищими деревнями. У девок стыли нецелованные груди, мутен и неспокоен был бабий сон. Осипшие от плача дети засыпали у пустых материнских грудей.
Война пожирала людей, хлеб, скот.
В степях поредели табуны коней и отары овец.
Сорные травы затягивали брошенные поля, бураны засыпа́ли поваленные осенними ветрами неубранные хлеба.
По дорогам поползли и поехали куда глаза глядят первые беспризорники.
Отказывала промышленность – не хватало топлива, сырья, рабочих рук, – закрывались фабрики и заводы.
Отказывал транспорт – лабазы Сибири и Туркестана были засыпаны зерном, зерно горело, но его не на чем было вывозить; в калмыцких и казахстанских степях под открытым небом были навалены горы заготовленного на армию мяса, на мясо наклевывался червь, собаки устраивали в мясе гнезда и выводили щенят.
Письма с фронта…...
«Бесценная моя супруженица!
Низко тебе кланяюсь и всем сродникам кланяюсь. Я пока, слава богу, жив-здрав. Василий Рязанцев убит под турецкой крепостью Бейбурт. Иван Прохорович тяжело ранен, разнесло всю челюсть, вряд ли живым останется. Шмарога убит. Илюшка Костычев убит, сходи на хутор, скажи его матери Феоне. Со свояком Григорием Савельичем вместе ходили в бой, вырвало ему из ляжки фунта два мяса, мы ему завидуем, направили его на леченье в глубокий тыл, а к севу, глядишь, и в станицу заявится.
Один Поликашка у нас пляшет, получил новый крест и нашивки фельдфебеля, говорит: «Еще сто лет воевать буду». Ну, до первого боя, а то мы его, суку, укоротим.
Гляди, Марфинька, не вольничай там без меня, блюди честь мужнину и содержи себя в аккурате. Письмо твое я читаю каждый час и каждую минуту. Уберу лошадь, приду в землянку, лягу – читаю. Ночью растоскуется сердце, выну письмо из кармана – читаю.
Не слышно ли у вас на Кубани чего-нибудь о мире? Солдаты с горькой тоскою спрашивают друг друга: «За что мы теряем свою кровь, портим здоровье и складываем головы молодецкие в какой-то проклятой Туречине? Все это напрасно…»
К сему подписуюсь Максим Кужель ».
Слезы женщин размывали каракули присылаемых с фронта писем, и не одна трясущаяся рука ставила перед образом свечку, вымаливая спасение родным и гибнущим.
А там – на далеких полях – снегами да вьюгами крылась молодость!
В зной и стужу, по пояс в снегу и по горло в грязи солдаты наступали, солдаты отступали, жили солдаты в земляных логовах, мерзли в окопах под открытым небом. Осколки снаряда и пуля настигали фронтовика в бою, на отдыхе, во время сна, в отхожем месте. Где-то, в стенах штаба, рука генерала строчила: «Командиру Сумского стрелкового полка. Сего 5-го января в двенадцать часов пополуночи приказываю силами всего полка атаковать противника на вверенном вам участке. О результатах операции донести незамедлительно». И вот в глухую полночь по окопам и землянкам перелетывала передаваемая трепетным шепотом команда: «Приготовьсь к атаке». Люди разбирали винтовки, подтягивали отягченные патронташами пояса. Кто торопливо крестился, кто шептал молитву, кто сквозь сцепленные зубы лил яростную матерщину. По узким ходам сообщений полк подтягивался в первую линию окопов, и по команде: «С богом, выходи!» – люди лезли на бруствер, ползли по изрытому воронками снежному полю. Встречный ливень свинца и вихрь рвущейся стали, подобно градовой туче, обрушивался на идущий в атаку полк. Под ногами гудела и стонала земля. В призрачном свете осыпающихся голубыми каскадами ракет, с искаженными ужасом лицами, ползли, бежали, падали, валились… Горячая пуля чмокнула в переносицу рыбака Остапа Калайду – и осиротела его белая хатка на берегу моря, под Таганрогом. Упал и захрипел, задергался сормовский слесарь Игнат Лысаченко – хлебнет лиха его жинка с троими малыми ребятами на руках. Юный доброволец Петя Какурин, подброшенный взрывом фугаса вместе с комьями мерзлой земли, упал в ров, как обгорелая спичка, – то-то будет радости старикам в далеком Барнауле, когда весточка о сыне долетит до них. Ткнулся головою в кочку, да так и остался лежать волжский богатырь Юхан – не махать ему больше топором и не распевать песен в лесу. Рядом с Юханом лег командир роты поручик Андриевский, – и он был кому-то дорог, и он в ласке материнской рос. Под ноги сибирского охотника Алексея Седых подкатилась шипящая граната, и весь сноп взрыва угодил ему в живот – взревел, опрокинулся навзничь Алексей Седых, раскинув бессильные руки, что когда-то раздирали медвежью пасть. Простроченные огнем пулемета, повисли в паутине колючей проволоки односельчане Карп Большой да Карп Меньшой – придет весна, синим куром задымится степь, но крепок будет сон пахарей в братской могиле… Спал штабной генерал и не слышал ни стука надломленных страхом сердец, ни стонов, оглашавших поле битвы.
Потоки огня и стали размывали материки армий.
Приказы о мобилизациях расклеивались по заборам; в деревнях – оглашались по церквам и на базарных площадях.
Шли люди тяжелого труда и мелкая чиновная братия, земские врачи и учителя народных школ; шли прапора ускоренных выпусков и недоучившиеся студенты, дети полей и городских окраин; шли ремесленники и мастера, приказчики модных магазинов и головорезы с большой дороги; шли бородачи – отцы семейств; шли юноши – прямо со школьных скамей; шли здоровые, сильные, горластые; калеки возвращались на фронт, жениха война вырывала из объятий невесты, брата разлучала с братом, у матери отнимала сына, у жены – мужа, у детей – отца и кормильца.
Война, война…
Под рев и визг гармоней
кипели сердца
кипели голоса:Береза ты, береза,
Зеленые прутики,
Пожалейте нас, девчонки,
Нынче мы некрутики…
Шальные, растерзанные, орущие – ватагами – шлялись по улицам, ломали плетни и заборы, били стекла, плясали, плакали, горланили пропащие песни…
Медна мера загремела
Над моею головой,
Моя милка заревела
Пуще матери родной…
– Гуляй, ребята… Последние наши денечки… Гуляй, защитники царя, веры и отечества!
– Царя?.. Отечества?.. Ты мне больше этих слов не говори… Я там был, мед и брагу пил… Слова твои мне – все равно что собаке палка.
– Брательник, тяпнем горюшка?
– Тяпнем, брат.Посмотрели брат на брата,
Покачали головой,
Запропали, запропали
Наши головы с тобой…
Петруха стряхнул висевшую на руке жену, разорвал гармонь надвое и, хлестнув половинкой об избяной угол, пустился вприсядку.
– Всю Ерманию разроем!
– Уймись, – унимала его не видящая света жена. – Уймись, пузырек скипидарный.
Петруха из оглобель рвался:
– Ты меня не тревожь, я теперь человек казенный.
Старуха – лицо подобно гнилому ядру ореха – простирала землистые руки:
– Гришенька, дай обнять в останный разочек.
– Не горюй, бабаня, и на войне не всех убивают.
– Сердцу тошно… Гришенька, внучек ты мой жаланный… Помолись на церковь-то, касатик.
– Сват, прощай!
– Час добрый.
– Война…
– Ох, не чаем и отмаяться.
– Не вино меня качает, меня горюшко берет.
– А ты, Гришутка, на службе пьяным-то не напивайся, начальников слушайся…
– Будя, будя, бабаня.
Последние объятия, последние поцелуи.
И далеко за околицей – в кругу немых полей – понемногу затихали дикие песни, крики, причитания.
И долго еще за деревней, упав на сугроб, вопила старая мать:
– Последнего… Последнего… Ух… Лучше бы я камень родила, он бы дома лежал. Ух, батюшки! Алешенька, цветочек ты мой виноградный! Али без тебя у царя и народу-то бы не хватило?
Ветер хлестал черным подолом юбки, развевал выбившиеся из-под платка седые космы:
– Последнего забрали… Да он и вырасти-то не успел… Последнего! Ух, ух… Сыночки вы мои, головушки победные…
Но не слышали матери ро́дные сыны, и лишь из дальней округи – на вой ее – воем отзывались волки.По кубанским и донским шляхам, по большакам и проселкам рязанских и владимирских земель, по речушкам Карелии, по горным тропам Кавказа и Алтая, по глухим таежным дорогам Сибири – кругом, на тысячи верст, в жару и мороз, по грязи и в тучах пыли – шли, ехали, плыли, скакали, пробирались на линии железных дорог, в города, на призывные пункты.
В приемных – страсть и трепет, горы горя и разухабистая удаль да угарный мат.
Раздетых догола призывников о чем-то спрашивали гарнизонные писаря, наскоро щупали и слушали доктора.
– Годен. Следующий.
Призывники тащили жеребья.
– Лоб!
И сверхсрочный кадровый унтер-офицер отхватывал призывнику со лба ножницами клок волос.
– Лоб!
На затоптанном полу валялись всех цветов волосы, которые еще вчера чья-то любящая рука гладила и причесывала.
Из приемной вылетали, будто из бани, – красные, распарившиеся, с криво нацепленными на шапки номерами жеребьев. Полными горстями хватали из-под ног и жрали грязный снег.
– Забрили… Тятяша, вынули из меня душу.
– Петрован, слышь, своего Леньку отхлопотал…
– У них, батя, карман толстый, они отхлопочут.
– Что ты будешь делать… На все воля божья… Послужи – не ты первый, не ты и последний.
– Васька, – лезет тетка через народ, – не видал ли моего Васеньку? Поглядеть на него…
– Пьянай, с ног долой… За трактиром в канаве валяется, ха-ха-ха, весь в нефти.
– Ох, горе мое… Сколько раз наказывала – не пей, Васенька… Нет, опять накушался.
– Прощай, Волга! Прощай, лес!
Казарма
скорое обучение
молебен
вокзал.…У облупленной стенки вокзала стоял потерявший в толпе мать пятилетний хлопец в ладном полушубчике и в отцовой сползавшей на глаза шапке. Он плакал навзрыд, не переводя дыхания, плакал безутешным плачем и охрипшим, надсевшим голосом тянул:
– Тятенька, миленький… Тятенька, миленький…
Рявкнул паровоз, и у всех разом оборвались сердца.
Толпа забурлила.
Перезвякнули буфера, и эшелон медленно двинулся.
С новой силой пыхнули бабьи визги.
Крики отчаяния слились в один сплошной вопль, от которого, казалось, земля готова была расколоться.
Хлопец в полушубчике плакал все горше и горше. Левой рукой он взбивал падавшую на глаза отцову шапку, а правую – с зажатым в кулаке растаявшим сахарным пряником – протягивал к замелькавшим мимо вагонам и, как под ножом, все кричал да кричал:
– Тятенька, миленький… Тятенька, миленький…Колеса отстукивали версту за верстой, перегон за перегоном.
На Ригу, Полоцк
Киев и Тирасполь
Тифлис, Эривань
катили эшелоны.Тоску по дому, по воле солдаты заливали одеколоном, политурой и лаком. Плясали на коротких остановках, снимались у привокзальных фотографов, в больших городах – на извозчиках – скакали в бардаки.
В Самаре и Калуге, Вологде и Смоленске, в казачьей станице и в убогой вятской деревеньке не умолкало сонное бормотанье полупьяного дьячка:
– Помяни, господи, душу усопших рабов твоих, христолюбивых воинов – Ивана, Семена, Евстафия, Петра, Матвея, Николая, Максима, Евсея, Тараса, Андрея, Дениса, Тимофея, Ивана, Пантелея, Луку, Иосифа, Павла, Корнея, Григория, Алексея, Фому, Василия, Константина, Ермолая, Никиту, Михаила, Наума, Федора, Даниила, Савватея – помяни, господи, живот свой на поле брани положивших и венец мученический восприявших… Прими, господи, убиенных в селение праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная… Вечная память!
С православным дьячком согласно перекликался лютеранский пастор и католический ксендз, тунгусский шаман и магометанский мулла.
Над миром стлалась погребальная песнь.
Но в напоенной кровью земле зрели зерна гнева и мести.
Глухо волновался Питер, и первые камни уже летели в окна полицейских участков…Слово рядовому солдату Максиму Кужелю
В России революция,
вся Россия – митинг.
Полк наш стоял на турецких фронтах, когда грянула революция и был свергнут царь Николай II.
Фронтовики диву дались.
Сперва было из старых солдат по-настоящему и не поверил никто, а разговор сквозь потянул бу-бу-бу, бу-бу-бу… Ждем-пождем, верно, приказ начальника дивизии – переворот, отречение императора от престола, тут тебе Дума, тут Временное правительство, катай, братцы, благодарственные молебны.
Рады стараться!
Горнист проиграл сбор, полк был выстроен треугольником.
– Право равняйсь!.. Смирно! Шапки до-лой!
Раскурил халдей кадило, рукавами тряхнул:
– Благословен бог наш…
Солдатский волос дыбом подымается, мороз дерет по коже… Стоим, не дышим: уж больно жалостно и вроде слезу у тебя высекает.
– Миром господу помолимся…
Обкидываем себя крестным знамением, валимся на колени, лбами в землю бьем… «Бог ты наш, бог солдатский, нечесаный, немытый… И куда ты, бог, твою непорочную, некачанную, неворочанную, куда ты подевался и бросил нас, как плохой пастух овец своих? Зачем ты спокинул нас на растерзанье злой судьбине и зачем ты, вшивый солдатский бог, не жалеешь нашей горькой солдатской жизни?»
Потряхивал батюшка кадилом, только космы развевались по ветру…
Повеселевшие солдаты ярко так друг на друга поглядывали и груди выправляли.
Помолились, оправились, ждем, что будет.
Выезжает перед строем дивизионный генерал – борода седая, грудь в крестах и голос навыкате. Привстал он на стременах и телеграммой помахал:
– Братцы, его императорского величества, государя императора Николая Александровича у нас больше нет…
Помахал генерал телеграммкой, заплакал.
А солдаты испугались и молчали.
Один фейерверкер Пимоненко не уробел и смело развернул заранее приготовленный красный флаг:
ДОЛОЙ ЦАРЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОД!
Дух занялся!
Музыка заиграла!
Кто характером послабее, действительно заплакал. Стоим, – не знай на флаг глядеть, не знай генерала слушать…
– Братцы, старый режим окончился… Восхваление чинов отменяется… Превосходительств теперь не будет, благородий не будет… Господин генерал, господин полковник и господин взводный… Дожили до свободы, все равны… Но что бы там ни было, присягу в голове держи… Помни, братцы, Расея наша мать, мы ее дети…
Прорвалось:
– Ура!
– Ура-а!
– Ура-а-а!
Музыка все наши крики заглушила.
Платком вытер шею генерал, прокашлялся и ну до солдат:
– Помни устав, люби службу, не забывай веру, отечество… Вы есть серые орлы, честь и слава русского оружия… На ваше беззаветное геройство глядит весь мир…
Опять загремело и пошло перекатом по всему полку:
– Ура!
– Ура-а!
– Ура-ааа… Ааа… Ааааа…
– Пострадали.
– Полили крову…
– Триста лет.
– Хватит!
– Браво!
– Царя к шаху-монаху на постны щи!
Уважил нас старик словом ласковым. Сыстари веков с нижним чином толстой палкой разговаривали, а тут эка выворотил его превосходительство – хоть стой, хоть падай – все равны, слава, серые орлы… Разбередил он сердце, разволновал солдатскую кровь, принялись мы еще шибче «ура» кричать, а которые из молодых офицеров бережненько стащили генерала с коня и давай его качать.
Хватил полковой оркестр.
Отдышался старик, бороду разгладил и с молодцеватой выправкой, легко так, на носках, подошел к строю:
– Поцелуемся, братец!
И на глазах у всех дивизионный генерал расцеловал правофлангового первой роты, рядового нашего солдата Алексея Митрохина.
Полк ахнул.
Мы стояли как каменные и только тут поверили по-настоящему, что старый режим кончился и народилась молодая свобода в полной форме.
Шеренги дрогнули, перемешались все в одну кучу… Кто плачет, кто целуется. Казалось, все готовы идти заодно – и солдаты, и офицеры, и писаря, – лишь один сверхсрочный кадровый фельдфебель Фоменко слушал нас, слушал, пыхтел-пыхтел, но все-таки, негодяй, курносая собака, не подчинился, вытаращил глаза и давай орать во всю рожу:
– Неправда!.. Царь у нас есть и Бог есть!.. Его императорское величество был и будет всегда, ныне и присно и во веки веков!.. С нами Бог и крестная сила! – Он перекрестился, густо сплюнул и, размахивая руками вперед до пряжки и назад до отказу, учебным шагом пошел прочь, барабанная шкура.
Не до него нам было.
До самой ночи говорили ораторы, говорили начальники, говорили и солдаты, путаясь языком в зубах.
Все были как пьяные.
Принял полк присягу с росписью, целовал крест, дал революционную клятву Временному правительству.
Дело, помню, Великим постом делалось.
Распустили мы над окопами красный флаг: войне – киты!
Живем месяц, живем другой, проводили Святую неделю, Троицын день, войны и не было, а доброго не виделось. Ровно медведи, валялись по землянкам, укатывали боками глиняные нары, положенные часы выстаивали на караулах, ходили в дозоры, на всякой расхожей работе хрип гнули и неуемной тоской заливались по дому своему. Как и при старом режиме, вошь точила шкуру, тоска хрулила кости, а рядовые ничего не знали и по-прежнему, помня полевой устав, терпели голод, холод и несли фронтовую службу.
Цейхгауз дивизионный по случаю революции растащили мы дочиста. Мне шпагату четыре мотка досталось, подсумки холщовые: нестоящее барахлишко, а домой, думаю, вернусь – пригодится. Двое полтавских из девятой роты полковой денежный ящик утащили; и как им, дьяволам, нечистая сила помогла, вовек не додуматься: весу тот ящик пудов десять, а то и все пятьдесят.
Комитеты кругом, в комитетах споры-разговоры…
В каждом полку комитет, в каждой роте комитет, в корпусе будто комитет был, да что там – каждый нижний чин и тот сам себе комитет, только бы глотка гремела. У меня, не в похвальбу будь сказано, смекалка не на палке – фронт научил, и два Георгия в грудь не задарма влеплены. Вторая рота в голос порешила:
– Будь ты, Максим Кужель, товарищ неизменный, будь нашим депутатом и мозолистыми руками поддерживай наш солдатский интерес.
То ли от страху, то ли от радости руки у меня дрожат – папироску сворачиваю, – однако виду не подаю и, закурив, отвечаю:
– Служил царю, послужу и псарю… Малоученый я, но не робею и за солдата душу отдам.
– Крой, Кужель.
– В обиду не дадим.
– Верой и правдой чтоб.
Закрутил я ус кренделем – и в комитет.
На привольном воздухе комитет, в офицерской палатке. Бывало, до этой палатки четырех шагов не дойдешь – стоп! Вытянешься – того гляди, шкура лопнет: «Гав, гав, гав, разрешите войти!» Теперь, шалишь, кому захотелось – и лезь в комитет, как в дом родной. Заходит серый и с офицером за ручку: «Как спать изволили?», а то еще того чище: развалится серый, будто султан-паша, закурит табачок турецкий и под самый офицеров нос дым этак хладнокровно пускает, а он, его благородие, вроде и не чует.
И смешно, и дивно…
Вернусь в роту, расскажу-размажу, гогочут ребята, ровно жеребцы стоялые, и вздыхают свободно.
Дальше – больше, о доме разговоры пошли.
– Скоро ли?
– Да как?
– Пора бы…
– Сиди тут, как проклятый.
– Покинуты, заброшены…
– Защитники, скотинка бессловесная.
Солдатская секция и в комитете нет-нет да и подсунет словцо:
– Как там?
– Ждите, братцы. Газеты пишут, скоро-де немцам алла верды, тогда замиренье выйдет, и мы, как всесветные герои, мирно разъедемся по домам родины своей.
– Три года, ваше благородие, газеты рай сулят, а толку черт ма.
– Помни долг службы.
– Больно долог долг-то, конца ему не видать.
– Много ждали, немного надо подождать.
Тут у нас разговор глубже зарывался.
– Не довольно ли, ваше благородие, буржуазов потешать? Наше горе им в смех да в радость.
– За богом молитва, за родиной служба не пропадет.
– Надоели нам эти песни. Воевать солдат больше не хочет. Довольно. Домой.
Начальники свое:
– Расея наша мать.
Мы:
– Домой.
Они знай долдонят:
– Геройство, лавры, долг…
А мы:
– Домой.
Они:
– Честь русского оружия.
Мы в упор:
– Хрен с ней, и с честью-то, – говорим, – домой, домой и домой!
– Присягу давали?
– Эх, крыть нам нечем, верно, давали… – И какая стерва выдумала эту самую присягу на нашу погибель?
Оно хотя крыть и нечем, а к офицерству стали мы маленько остывать.
С горя, с досады удумали с соседними частями связаться. Набралось нас сколько-то товарищей, приходим в 132-й Стрелковый. Жарко, тошно. Солдаты и тут в нижних рубашках, распояской гуляют, а которые босиком и без фуражек.
– Где у вас комитет, землячок?
– Купаться ушли, а председатель в штабе дежурит.
Вваливаемся в штаб.
Председатель комитета, Ян Серомах, с засученными по локоть рукавами, брился стеклом перед облупленным зеркальцем, стекло о кирпич точил.
– Рассказывай, председатель, какие у вас дела?
– Дела, – говорит, – маковые…
И так и далее катили мы веселый солдатский разговор, пока Серомах не выбрился. Оставшийся жеребиек стекла он завернул в тряпицу, сунул в щель в стене и, обмыв чисто выскобленные скулы, поздоровался с нами за руки:
– Ну, служивые, вижу, вы народы свои, народы тертые, не дадите спуску ни малым бесенятам, ни самому черту… Гайда в землянку, чаем угощу.
Чаек, заваренный ржаными корками, пили мы вприкуску, с сушеной дикой ягодой, а ягоду Серомах насобирал, в разведку ходючи, и председатель рассказывал нам, как они своего полкового командира за его паскудное изуверство перевели на кухню кашеваром; как послали в корпусной комитет депутацию с требованием отвести полк в тыл на отдых; как на полковом митинге постановили чин-званье солдатское носить и фронт держать, пока терпенья хватает, а то срываться всем миром-собором и гайда по домам.
– По домам так вместе, – говорим, – и мы тут зимовать не думаем.
– Что верно, то верно: ордой и в аду веселей.
Провожал нас Серомах, опять шутил:
– Жизня, братцы, пришла бекова: есть у нас свобода, есть Херенский, а греть нам некого…
Всю дорогу ржали, Серомаха вспоминаючи.Живем и пятый, и десятый месяц, а конца своему мученью не видим.
Выползешь вечером из землянки – лес, горы, колючка – убогий край… То ли у нас на Кубани! Там тихие реки текут, шелковы травы растут, там – степь! Да такая степь – ни глазом ты ее, ни умом не обнимешь…
Сидишь так-то, пригорюнишься…
С турецкой стороны ветер доносит молитву муэдзина:
– Аллах вар… Аллах сахих… Аллах рахмаи, рахим… Ля илаха ил-ла-л-лаху… Ве Мухаммед ресулу-л-ляхи…
От скуки в гости к туркам лазили и к себе их таскали, борщом кормили, батыжничали. Черные, копченые, ровно в бане век не мылись, глядеть на них с непривычки тошно. Табаку притащут, сыру козьего. Сидим, бывало, летним бытом на траве, курим и руками этак разговариваем:
– Кардаш, домой хочется? – спросит русский.
– Чох, истер чох! – Зубы оскалят, башками качают, значит, больно хочется.
– Чего же сидим тут, друг дружку караулим?.. Будя, поиграли, расходиться пора… Наш спрыгнул с трона, и вы своего толкайте.
Опять залопочут, зубы оскалят, башками бритыми мотают и глаза защурят, а русский понимает – и им, чумазым, война не в масть, и ихнего брата офицер водит, как рыбу на удочке.
– Яман офицер? Секим башка?
– Уу, чакыр яман.
– Собака юзбаши?
– Кцпек юзбаши… Яман… Бизым карным хер вакыт адждыр.
Разговариваем однажды так, а верхом на пушке сидит портняжка Макарка Сычев. Таскает он из-за пазухи вшей, иголкой их на шпулишную нитку цепочкой насаживает и покрикивает:
– Беговая… Рысистая… С поросенка!
Русские ржали, ржали и турки. В тот вечер у них праздник уруч-байрам был, прикатили они кислого виноградного вина бочонок, барашка приволокли. Барашка на горячие угли, бочонок в круг, плясунов, песенников на кон, и пошло у нас веселье: ни горело, ни болело, ровно и не лютовали никогда.
Подманил лихой портняжка одного Османа, лапу ему в ширинку запустил и за хвост, на ощупь, вытаскивает действительно вошь. Пустил ее в пару со своей в разгулку на ладонь и спрашивает Османа:
– Видишь?
– Вижу.
– Твоя насекомая и моя насекомая, моя крещеная, твоя басурманка… Угадай, какой они породы?
– Обе солдатской породы, – отвечает Осман на турецком языке. – Хэп сибир аскерлы…
– Верно! – орет Макарка Сычев. – За что же нам друг на друга злобу калить и зачем неповинную крову лить?.. Не одна ли нас вошь ест и не одну ли мы гложем корку хлеба?
– Кардаш, чох яхши, чох! – закричали турки, а посмеявшись той шутке, все принялись господ офицеров поносить. И как они смеют прятать от солдата свободу в кошельке?
Слушали мы и песни турецкие, и на один, и на два голоса, и хоровые. Ничего, задушевные песни, а в пляске, я так думаю, за русским солдатом ни одна держава не угонится. Вышел наш Остап Дуда, штаны подтянул, сбил папаху на ухо, развернул плечо – ходу дай! Балалайки как хватят, Остап как топнет-топнет: земля стонет-рыдает, и сердце кличет родную дальню сторонушку…
Собрались как-то и мы целым взводом к туркам в гости.
Приходим.
– Салям алейкум.
– Сатраствуй, сатраствуй.
Оборванные, голодные, греются на солнышке, микробов ловят.
– Приятель, чего поймал? – спрашивает русский.
– Блох.
– Как блоху? Воша.
– Блох.
– Почему белый?
– Маладой.
– Почему не прыгает?
– Глюпый.
Смеемся, курим, о том и о сем разговариваем. По харям видно – и им до смерти домой хочется, а домой не пускают.
– Яман дела?
– Яман, яман…
Землянки турецкие еще хуже наших. Бревна не взакрой накатаны, как у русских принято, а торчат козлами, а иные логова из камня-плитняка сложены, пазы глиной и верблюжьими говяхами заделаны, по стенам плесень и грибы растут – в берлоге такой ни встать, ни лежа вытянуться. В офицерских землянках и чисто, и сухо – полы мелким морским песком усыпаны, тут тебе цветы, тут ковры и подушки горами навалены, – этим терпеть можно, эти еще сто лет провоюют и не охнут.
Наменяли мы на кукурузный хлеб сыру козьего, табаку, мыла духового; один из наших уховертов умудрился – офицеровы сафьяновые сапожки спер, и поползли мы назад.
Доходим до своей позиции и видим пробуждение: полчане бегут, на ходу шинелишки напяливая; полковой пес Балкан тявкает и скачет как угорелый; музыканты барабаны и трубы тащат.
– Куда вы?
– В штаб дивизии.
– Чего там?
– Бежи все до одного… Комиссия приехала.
– Не насчет ли мира?
– Все может быть.
– А окопы, наша передовая линия?
– Нехай Балкан караулит.
До штаба дивизии восемь верст.
Бежим, пятки горят.
– Мир.
– Домой…
– Дай ты господи.
Довалились, языки повысунувши.
Народу набежало, народу…
Полковые знамена и красные флаги вьются, оркестры играют «Марсельезу».
– Кто приехал?
– Штатская комиссия по выборам в учредилку.
– Слава богу.
– Потише, потише…
Проскакал дивизионный, и полки замерли.
Вот чего-то прогугнил батя, но нам слушать его неинтересно.
Вылезает один, в суконной поддевке, снял шапку бобровую и давай на все стороны кланяться:
– Граждане солдаты и дорогие братья… Низкий поклон вам от свободной родины, от великой матери-Расеи!
Закричала от радости вся дивизия, задрожали земля и небо.
Оратор тот знай повертывается да волосами потряхивает… Слушали его передние сотни, а задние – тысячи – по маханию рук старались догадаться, о чем он говорит.
До нашей роты хоть и не каждое слово, а долетало:
– …Граждане солдаты… Геройское племя… Государственная дума… Защита прав человека… Углубление революции… Революция… Фронт… Революция… Тыл… Наши доблестные союзники… Старая дисциплина… Слуги старого строя… Сознательный солдат… Партия социалистов-революционеров… Свобода, равенство, братство… Своею собственной рукой… Еще один удар… Революция… Контрреволюция… Война до полной победы… Ура!Дивизию как бурей качнуло:
– Ура!
– А-а-а-а…
– Аа-а-а-а-а-а…
Иной, не поняв ни аза, кричал так, что жилы на лбу вздувались; иной потому кричал, что другие кричали: была приучена дивизия к единому удару; а иной просто тому радовался, что видел живых расейских людей, – и об нас, мол, не забывают.
В политике в те поры рядовые мало разбирались. Нам всякая партия была хороша, которая докинула бы до солдата ласковым словом да которая пригрела бы его, несчастного, на своей груди.
Мы с членом комитета Остапом Дудой кричали «ура» вместе со всеми, а потом поглядели друг на друга и задумались…
– «Война до победы», – говорю, – таковые слова для нас хуже отравы.
Остап Дуда скрипнул зубами:
– Как бы они нас красиво ни призывали, воевать больше не будем.
– Где тут солдату просветление, ежели нас на своих же офицеров натравливают? – Это говорит позади меня отделенный Павлюченко. – Сами мы их ругаем, а ты, тыловая вошь, не кусай. Они хоть и не больно хороши, а с нами вместе всю войну прошли, одним сухарем давились, под одну проволоку ползали, одна нас била пуля. Немало их, как и нас, серых, закопано в землю, немало калеченых по лазаретам валяется…
Кругом заговорили:
– Правильно.
– Неправильно.
– Долой белогорликов.
Оборачивается к Павлюченке Остап Дуда и головой невесело качает:
– Эх ты, Петрушка балаганный, верещишь незнамо что… Нашел кого жалеть! Нам офицеров жалеть не приходится, большинство из них воюет по доброй воле да нас же в три кнута гонят в наступление… Интенданты, что заглатывают солдатские деньги, есть наши первые враги. Называют тебя свободным гражданином и заставляют служить без курева за семьдесят пять копеек в месяц, а корпусной генерал, по словам писарей, получает три тысячи рублей в месяц. Эти генералы есть тоже наши первые враги… Туркам наша свобода не вредит, не в нос она тем, кто сидит на мягких диванах… Поехал я летом в отпуск в Тифлис. Жара-духота свыше сорока градусов. Хожу по улицам в зимней папахе и в зимних шароварах. А буржуи катаются на извощиках, одеты в шелка и бархат, обвешаны бриллиантами и золотом… Офицеры в духанах сидят, кителя расстегнули – курят сигары, тянут винцо и ля-ля-а, ля-ля, ля-ля-ля-ля, лля-ля, ля-ля-ля, ля-а-ля-ля-ля… Это не сказка, можете поехать в город Тифлис и сами все рассмотреть. Время положить ихнему блаженству конец!
Говорили штатские депутаты и наши офицеры, говорил начальник дивизии и какой-то комиссар фронта. Какие они правильные слова ни выражали, нам казались все до одного неправильными; сколько они солдату масла на голову ни капали, мы кричали – деготь; сколько они нас ни умягчали, мы несли свое:
– Монахов на фронт!
– Фабрикантов на фронт!
– Помещиков на фронт!
– Полицейских на фронт!
Кто-то кричит:
– Куда девали царя Николашку?
В суконной поддевке отвечает:
– Мы его судить думаем.
– Долго думаете. Ему суд короток. Царя и всю его свору надо судить в двадцать четыре часа, как они нас судили.
– Пускай пришлют сюда жандармов и помещиков, – смеется фейерверкер Пимоненко, – мы их сами разорвем и до турок не допустим.
– Сказани-ка, Остап, про Тифлис, про кошек серых…
– Сказани… Мы их слушали, нехай нас послушают…
Остап Дуда встал ногами к нам на плечи и давай поливать. А глотка у него здорова, далеко было слышно…
– Господа депутаты, – звонко кричит Остап Дуда, – вы страдали по тюрьмам и каторгам, за что и благодарим. Вы, борцы, побороли кровавого царя Николку – кланяемся вам земно и благодарим, и вечно будем благодарить, и детям, и внукам, и правнукам прикажем, чтобы благодарили… Вы за нас старались, ни жизнью, ни здоровьем своим не щадили, гибли в тюрьмах и шахтах сырых, как в песне поется. Просим – еще постарайтесь, развяжите нам руки от кандалов войны и выведите нас с грязной дороги на большую дорогу… На каторге вам не сладко было? А нам тут хуже всякой каторги… Нас три брата, все трое пошли на службу. Один поехал домой без ноги, другого наповал убило. Мне двадцать пять лет, а я не стою столетнего старика: ноги сводит, спину гнет, вся кровь во мне сгнила… Поглядите, господа депутаты, – показал он кругом, – поглядите и запомните: эти горы и долы напоены нашей кровью… Просим мы вас первым долгом поломать войну; вторым долгом – прибавить жалованья; третьим долгом – улучшить пищу. Низко кланяемся и просим вас, господа депутаты, утереть слезы нашим женам и детям. Вы даете приказ: «Наступать!» – а из дому пишут: «Приезжайте, родимые, поскорее, сидим голодные». Кого же нам слушать и о чем думать – о наступлении или о семьях, которые четвертый год не видят досыта хлеба? Разве вас затем прислали, чтоб уговаривать нас снова и снова проливать кровь? Снарядов нехваток, пулеметов нехваток, победы нам не видать как своих ушей, а только растревожим неприятеля, и опять откроется война. Нас тут побьют, семьи в тылу с голоду передохнут… Генералы живы-здоровы, буржуи утопают в пышных цветах, царь Николашка живет-поживает, а нас гоните на убой?.. Выходим мы из терпенья, вот-вот подчинимся своей свободной воле, и тогда – держись, Расея… Бросим фронт и целыми дивизиями, корпусами двинемся громить тылы… Мы придем к вам в кабинеты и всех вас, партийных министров и беспартийных социалистов, возьмем на кончик штыка!.. Чего я не так сказал – не обижайтесь, товарищи, наболело… Кончайте войну скорее и скорее!..
Мы:
– Ура, ура, ура…
Депутаты пошептались, наскоро разъяснили нам, за кого голосовать, и – в автомобиль, и – дралала…
А мы вдогонку ревем:
– Ми-и-и-и-ир!
Полк наш три дня кряду голосовал прямым и равным, тайным и всеобщим голосованием. Листками избирательными набили урну внабой. Почетный караул к урне приставили и порешили, как было приказано высшим начальством, хранить наши голоса в полковом комитете впредь до особого распоряжения.
Живем, о мире ни гугу.
Офицеры из России газеты получали, но нам ничего не рассказывали: все равно, мол, рядовой, баранья башка, речь министрову не поймет.
Письма с родины доходили на фронт редко. Читались письма принародно, как манифесты. Семейные обстоятельства наши были одинаковы. Доводили до нас родные сведения о своей невеселой житухе. Мы на фронте страдаем, они в тылу страдают. Наслушаешься этих писем, злоба в тебе по всем жилам течет, а на кого лютовать – и не придумаешь толком. Еще пуще разбирает охота поскорее домой воротиться, хозяйство и семью посмотреть.
Так и жили, томились, ждали какого-то приказа о всеобщей демобилизации, на занятия не выходили, работой себя не донимали, в карты играть надоело, а курить было нечего.
Проведала братва, будто в городе Трапезунде на митингах насчет отпусков до точности разъясняют. Полковой комитет вызывает охотников. Выкликнулись мы трое – Остап Дуда, пулеметчик Сабаров да я – и пошли в Трапезунд на разведку.
Время мокрое, грязь по нижню губу, сто верст с гаком перли мы без отдыху – на митинг боялись опоздать. Напрасны были опасенья, митингов не переглядеть, не переслушать – и на базарах, и в духанах, и на каждом углу по митингу.
На митинге нам открылась секретная картина:
– Бей буржуев, долой войну.
Справедливые слова!
Меня аж затрясло от злости, а по набрякшему сердцу ровно ржавым ножом порснуло.
– Нечего, – говорю, – ребята, время зря терять: сколько ни слушай, лучшего не услышишь. Всем свобода, всем дано вольным дыхом дышать, а ты, серая шкурка, сиди в гнилых окопах да зубами щелкай. Снимемся всем полком – и прощай, Макар, ноги озябли.
Товарищи меня держат:
– Постой, Максим, погоди.
– Треба нам, как добрым людям, почайничать и перекусить малость.
– Будь по-вашему, – говорю.
Заходим в духан, солдат полно.
Кто кушает чай, кто – чебуреки, а кто и хлебец, по старой привычке, убивает. Есть деньги – платят, а нет – покушает, утрется и пойдет. Известно, служба солдатская не из легких, а жалованье кошачье. В конце семнадцатого года стали семь с полтиной получать, а бывало, огребет служивый за месяц три четвертака, не знай – ваксы купить, не знай – табачку, последняя рубашка с плеча ползет, вошь на тебе верхом сидит, шильце-мыльце нужно. Туда-сюда и пляшет защитник веры, царя и отечества, как карась на горячей сковороде. Карман не дозволяет солдату быть благородным.
Разговоры кругом, от разговоров ухо вянет.
– Какая в России власть?
– Нету в России власти.
– Дума? Наше Временное правительство?
– Всех наших правителей оптом и в розницу подкупила буржуазия.
– А Керенский?
– Так его ж никто не слушает.
Большевиков ругают, продали родину немцам за вагон золота. Кобеля Гришку Распутина кроют, как он, стервец, не заступился за солдата. Государя императора космыряют, только пух из него летит.
Один подвыпивший ефрейторишка шумит:
– Бить их всех подряд: и большевиков, и меньшевиков, и буржуазию золотобрюхую! Солдат страдал, солдат умирал, солдаты должны забрать всю власть до последней копейки и разделить промежду себя поровну!
Горячо говорил, курвин сын, а насосавшись чаю, шашку в серебре у терского казака слизнул и скрылся.
– Расея без власти сирота.
– Не горюй, землячок, были бы бока, а палка найдется…
– Дивно.
– Самое дивное еще впереди.
– Где же та голова, что главнее всех голов?
– Всякая голова сама себе главная.
– А Учредительное собранье?
– Крест на учредилку! – смеется из-под черной папахи сибирский стрелок. Выбирает он из обшлага бумагу и подает нам. – Теперь мы сами с усами, язви ее душу. Читай, землячки, читай вслух, я весь тут перед вами со всеми потрохами: Сибирского полка, Каторжного батальона, Обуховой команды…
Бумагу – мандат – выдал ему ротный комитет, каковой ротный комитет в боевом порядке направо и налево предписывал: во-первых, революционного солдата Ивана Савостьянова с Турецкого фронта до места родины, Иркутской губернии, перевезти за счет республики самым экстренным поездом; во-вторых, на всех промежуточных станциях этапным комендантам предсказывалось снабжать означенного Ивана всеми видами приварочного и чайного довольствия; в-третьих, как он есть злой охотник, разрешалось ему провезти на родину пять пудов боевых патронов и винтовку; в-четвертых, в-пятых и в-десятых – кругом ему льготы, кругом выгоды!
Мандат – во! – полдня читать надо.
– Где взял? – стали мы его допытывать.
– Где взял, там нет.
– Все-таки?
– Угадайте.
Нам завидно, навалились на сибиряка целой оравой – и давай его тормошить: скажи да скажи.
– За трешницу у ротного писаря купил.
– Ну-у?
– Святая икона, – сказал он и засмеялся… Да как, сукин сын, засмеялся… У нас ровно кошки вот тут заскребли.
Выпадет же человеку счастье…
Спрятал Иван Савостьянов мандат в рукав, мешок с патронами на плечи взвалил, гордо так посмотрел на нас и пошел на самый экстренный поезд.
В городе Трапезунде встретил я казака Якова Блинова – станишник и кум, два раза родня. В бывалошное время дружбы горячей мы не важивали, был он природный казак и на меня, мужика, косился, а тут обрадовались друг другу крепко.
– Здорово, Яков Федорович.
– Здорово, служба.
Обнялись, поцеловались.
– Далече?
– До дому.
– Какими судьбами?
– Клянусь богом, до дому, – говорит.
– Приказ…
– Я сам себе приказ.
– Ври толще?
– Верно говорю.
– Как так?
– Так.
– Да как же оно так?
– Этак, – смеется.
Оружие фронтовое на нем, ковровые чувалы и домашнее – под серебром – чернью травленное седло на горбу.
– Катанем, Максим, на родную Кубань, до скусных вареников, до зеленого степу, до удалых баб наших. Провались война, пропади пропадом, проклятая сатана, надоела.
– Так-то ли, Яша, надоела, сердце кровью заплыло, а как поедешь? Не с печи на полати скакнуть.
– Э-э, сядем да поедем… Все едут, все бегут… И наш четвертый пластунский батальон фронт бросил. Довалились мы сюда, водоход заарестовали, к вечеру погрузимся и – машинист, крути машину, станови на ход!
Вижу, правильно – ветер по морю чубы закручивает, и водоход у пристани Якова ждет.
Расступился в мыслях я – ехать или нет?.. Полчан маленько совестно – меня, как бытного, послали, а я убегу?.. И шпагат, признаться, жалко.
– Нет, Яша, не рука.
– Напрасно.
– Мало ли чего… У нас в роду никто дезертиром не был. Дедушка Никита двадцать пять лет служил, да не бегал.
– О том, кум, что было при царе Косаре, поминать нечего. А со мной не едешь зря, попомни мое слово, – зря.
– Поклонись сторонушке родимой… Марфу мою повидай, сродников. Отвали им поклонов беремя. Пускай не убиваются, скоро вернусь. Порадуй мою: боев на фронте больше нет; кто остался жив, тот будет жить. А еще накажи Марфе строго-настрого, чтоб дом блюла и последнего коня не продавала. Вернусь ко дворам, пригодится конь.
Яков меня и слушает и не слушает, ус крутит, усмехается:
– Ставь бутылку, научу с фронтом распрощаться, а то еще долгонько будешь петь: «Чубарики-чубчики…»
– Ты научишь в обруч прыгать…
– Говорю не шутя.
– Учи давай, за бутылкой я не постою, бутылку поставлю.
– Подписывайтесь всем полком в большевики и езжайте с богом кто куда хочет.
Слова станишника мне вроде в насмешку показались, спрашиваю:
– Слыхал, про большевиков-то чего гуторят?.. Продали, слышь?..
– Брехня.
– Ой ли?
– Собака и на владыку лает.
– Что ж они такие за большевики?
– Партия – долой войну, мир без никаких контрибуций. Подходящая для нас партия.
– Так ли, кум?
– Свято дело сватово.
– Ты и сам большевик?
– Эге.
– Значит, домой?
– Прямой путь, легкий ветер.
Заныло сердце во мне…
Укатит, думаю, казак на родину, а мне опять сто верст с гаком по грязи ноги вихать, опять постылые окопы… Но тут вспомнил я роту свою и товарищей своих, с которыми не раз отбивался от самой смерти… С твердостью говорю:
– Нет, Яша, не рука. К Рождеству ожидай и меня, режь кабана пожирнее, вари самогон попьянее, гостевать приду.
– Долга песня.
Ро́спили мы с ним в духане бутылку вина, пошли к морю. Казак рассказывал мне про свою службу:
– Две зимы наш батальон под Эрзерумом черные тропы топтал… Две зимы казаченьки голодовали, холодовали, призывали бога и кляли его, вослед нам ложились могилы и кресты… Вспомнишь о доме: земли у тебя глазом не окинешь; скотины полон двор; птица не считана; жена, как солнышком умыта, под окошечком скучает, тягостные слезы льет… А ты – горе, кручина, чужая сторона – торчи в проклятой во Туречине, томись смертной истомой да свищи в кулак… Улыбнулась из-за гор свобода, все петли и узлы полопались, потянуло нас домой… Так потянуло, терпенья нет. Был у нас в батальоне один такой политический казачок – книгоед, вот он и говорит: «Так и так, братцы, пора и нам опамятоваться». Подумали мы думушку казачью, погадали про свою долю собачью и решили всем батальоном к большевикам перекачнуться.
– Хваты-браты.
– И я то же говорю.
– Ну и ну да луку мешок.
Порт кишел солдатами, солдат в порту как мошкары.
На каждом винтовка, котелок и фляга бренчит. С шумом и гамом толпами валили все новые и новые из города и с пригороду, топтали друг друга, ревели как бугаи, лезли – пристанские мостки под ними провисали, – всяк свое орал, всяк рвался на водоход попасть, на водоходе местов не было: на самой трубе и то человек с десять торчало.
С крыши пристанской конторы говорил речь какой-то приехавший из Новороссийска юнкер Яковлев – шапка с позументом заломлена набекрень, солдатская шинель нараспашку. Он ругал буржуев и хвалил большевиков; самыми последними словами клял Временное правительство и восхвалял большевицкие совдепы; призывал записываться в Красную гвардию и уговаривал продавать лишнее оружие какому-то военному комитету.
Кто к его голосу прислушивался и останавливался, кто мимо шел.
Обмотал кум бинтом здоровую руку и кричит:
– Расступись, вшивая команда, пропускай раненого.
Расступались солдаты, казаку дорогу давали. Пробрался он на водоход и с борта папахой мне помахал:
– Прощай, Максим, ты все-таки подумай.
– Думала баба над корытом…
Рявкнул водоход, встряхнулся и поплыл – поплыл, как гусь белый.
Те, что остались на берегу, готовы были с досады землю жрать, матерились в креста, бога, печенку и селезенку.
А водоход
дальше
дальше
и чу-у-у-уть слышно:Из далеких стран полуденных,
Из турецкой стороны
Шлем поклон тебе, родимая,
Твои верные сыны…
Принялся я своих товарищей уговаривать не терять время попусту, скорее до полка возвращаться. Рассказал о встрече с Яковом Блиновым, о его казацкой хитрости и ухватке молодецкой.
Стояли мы так, мирно беседовали. Ночь поднималась над городом и над морем, по улицам мотались солдаты и, не боясь угодить в маршевую роту, во всю рожу запеснячивали песни расейские. А потом слышим, пошло: «Ура, караул, алла-алла!» На базаре артиллеристы кинулись азиятов бить, лавки и магазины ихние поразвалили, товаришко всякий в открытом виде валяется, любую вещь нарасхват бери.
Пулеметчик Сабаров отбился от нас и остался в городе, а мы с Остапом Дудой закурили и зашагали обратно на позицию.
Слушать нас сбежался весь полк.
Полчане стояли тесно – плечо в плечо и голова в голову.
Взлезаю на повозку, говорю на полный голос, чтоб до каждого достало:
– Фронтовики… Кровь родная… Скажу я вам, какая в Трапезунде открылась нам секретная картина.
Над целым полком стою.
Тыща глаз ковыряют меня, тыща плечей подпирают меня… Не чую я ни ног под собой, ни головы над собой… Ровно пьяный, легко раскидываю кулаки и по чистой совести раскрываю похождение наше в Трапезунд – кого видали, чего слыхали, за какие грехи роняем крову свою, в чем тут фокус и в чем секрет…
Семь потов, как семь овчин, спустило с меня, пока говорил.
Кто кричит – правильно, кто – верно, а кто со злости только мычит.
Меня так и подмывало еще говорить и говорить, пока самый захудалый солдат поймет, в чем тут загвоздка и в чем же суть дела.
Остап Дуда тоже остервенел: весь так и вызверился, подкатило человеку под само некуды… Оттолкнул меня и кричит Остап Дуда:
– Расея… Що це таке воно за Расея?.. Расея есть притон буржуазии… Кончай войну! Бросай оружью!
Солдатская глотка – жерло пушечье.
Тыща глоток – тыща пушек.
Из каждой глотки – вой и рев:
– Окопались…
– Хаба-ба…
– Говори, еще говори.
– Измучены, истерзаны…
– Воюй, кому жить надоело.
– Триста семь лет терпели.
– Долой войну!
– Бросай оружье!
– Домой!
Долго над полком сшибались крики, как бомбы рвались матюки, потом тише
тише
и замолчали.
Оглянулся я.
Оглянулся Остап Дуда.
Стоит позади нас на повозке, как смерть постылая, Половцев – полковой наш командир… Ус дергает, пыльно так на нас глядит, и вся его морда лаптами горит.
Полк боялся Половцева за крутой характер – боек его благородие был на руку – и любил своего командира за храбрость его офицерскую. Мало из них отчаюг выдавалось, чаще всего на солдатской шкуре выбивали марши победные, ну, а этот с полком всю службу вместе проходил. Под Эзерджаном сам впереди цепи два раза в штыковую атаку ходил и турок брушил саморучно; пуля просадила ему плечо, другая зацепила ногу, но он не пожелал в тыл отлучаться и лечился в походном лазарете при своей части. Любитель был Половцев и в разведку ходить, под Мамахутуном привел двух курдов в плен совсем с конями.
– Солдаты! – гаркнул командир, но никто не показал ему глаз своих, и никто, как в бывалошное время, не поднял головы на призыв его. – Солдаты, где ваша совесть, где ваша честь и где ваша храбрость?
А мы уж и сами не рады былой храбрости своей. Стоим, глаза в землю уперев.
Принялся командир говорить про недавнюю доблесть полка, про долг службы и завел такую волынку – слушать прискорбно – родина, пучина позора, всемирная борьба, харчи-марчи, чофа хата и так далее…
Тяжело обвисли головушки солдатские…
Он свое говорит, мы свое думаем… Кто в ширинке скребет, кто – за пазухой.
Как-то нечаянно, искоса, глянул я на волосатый начальников кулак, заткнутый пальцем за пояс, и сразу забыл и храбрость его хваленую, и молодечество, другое в башку полезло…
Был у нас в роте, когда еще в тылу болтались, вятский парень Ваня Худоумов. Солдаты по дурости еще дразнили его: «Ваньке, спугни воробья-тё, сел на мачту, баржа-тё потонет», – растяпистый да охалистый парень, беда. И под ружьем с полной выкладкой в семьдесят два фунта часами выстаивал; на хлеб, на воду его сажали; гусиным шагом гоняли; бою вынес бессчетно, а все не мог постигнуть немудрую солдатскую науку и часто забывал, какая нога у него правая, какая левая. «Ать, два, три!.. Ногу дай!.. Маши руками!» – такая игрушка, бывало, с утра до ночи. Кружились роты по казарменному двору, ровно ошалелые. Пурга засаривала глаза, мороз руки крючил, но разбираться с этим не приходилось. Хуже всего, когда ротный – тогда Половцев еще ротным был – бывал не в духе. На ком ему, его высокоблагородию, как не на солдате, злость сорвать? Бей ты его, терзай ты его, рук не отведет. Подлетит ротный к строю и давай кулаком в зубы бодрить: «Голову выше! Брюхо убери! Гляди веселей!» В такой недобрый час подбежал хищный зверь к Ваньке, а тот, как плохой солдат, всегда на левом фланге болтался. «В строю стоять не умеешь!» Хлесть его в ухо. Вылетела у того зеленая сопля и хлестнулась ротному на чищеный сапог. Бац в другое ухо: «Пшел с глаз долой, черт паршивый!» А вятский глядит сквозь офицера и тихонько так улыбается, будто во сне веревки вьет. Потом он упал, кровь из ушей поползла, уложили его на шинельку и унесли в больницу военную. Там он оглох на оба уха, поскомлел-поскомлел и опустился, бедняга, в черную могилу…
Ваньку мне стало жалко, себя жалко, жалко всю нашу сиротскую мужичью жизнь… Родился – виноват, живешь – всех боишься, умрешь – опять виноват… Стою, дрожу, от злости меня аж вывертывает всего, а он, малина-командир, ухватил нас с Остапом за воротники и над повозкой приподнял.
– Вот, – кричит, – ваши депутаты… Головы им поотвертывать за подрыв дисциплины… Дурак дурака чище, а может быть, и немецкие шпионы.
Качнулись
посунулись
задышали едуче…
– Шпио-о-оны?
– Во-о-о…
– Ты, господин полковник, наших болячек не ковыряй… Плохие, да свои.
– Хищный гад, ему бы старый режим.
– Шпиёны, слышь?
– Дай ему, Кужель, бам-барарам по-лягушиному, впереверт его по-мартышиному, три кишки, погано очко!.. Дай ему, в нем золотой дух Николая Второго!..
Задохнулось сердце во мне.
С мясом содрал я с груди кресты свои, показал их полчанам и начальнику своему, навесившему на меня кресты мои:
– Это что?
Все кругом задрожало и застонало:
– Дай ему!
– Вдарь раза!
Я:
– Это что?
Молчал Половцев.
– Гляди хорошенько, командир ты наш, отец ты наш родной. Гляди, не мигай, а то я тебе эти полтинники вобью в зенки! – И на этих словах, не стерпя сердца, хлестнул я командира крестами по зубам.
Половцев
падая
зацепился шпорой и опрокинул повозку, но упасть в тесноте ему не дали – подняли на кулаки и понесли…
Наболело, накипело…
– Дай хоть раз ударить! – всяк ревет.
Где ж там на всех хватить.
Раздергали мы командировы ребра, растоптали его кишки, а зверство наше только еще силу набирало, сердце в каждом ходило волной, и кулак просил удара…
Пошли ловить начальника хозяйственной части Зудиловича, прозванного солдатами за свой малый рост Два Аршина с Шапкой. Видит он, деваться некуда, и сам, уперев руки в боки, выходит из своей канцелярии на страшный суд-расправу. Уробел злец, ростом будто еще меньше стал, и глаза его, зеленые воры, так по сторонам и бегали…
С самой весны питался полк голой турецкой водой и прелой чечевицей. Раньше боялись кормить такой чечевицей лошадей, шерсть от нее вылазит, а теперь кормили людей. Навалимся на котелок артелью – не зевай, только ложки свищут да за ушами пищит. Мнешь-мнешь, мнешь-мнешь, ровно барабан раздуется брюхо, жрать все равно хочется, а жрать нечего. С тоски пойдет какой бедолага, на ходу распоясываясь, присядет в ямку под кустом и давай думать про политику: «Служил, мол, ты, дурак, серая порция, царям, служил королям, служишь маленьким королятам, а ни один черт не догадается досыта тебя накормить…» Кряхтит-кряхтит, так ничего и не выдумает. Воюй, верно, не горюй и жрать не спрашивай.
Стали мы пытать своего начальника, куда деваются несчастные крохи солдатские, кто хлебушком солдатским харчится, кто махорку солдатскую скуривает, кто попивает солдатский чаек внакладку.
– Я тут ни при чем, – как на шиле вертится Два Аршина с Шапкой, – доставка плохая, путь далекая.
– Сказывай, щучий сын, кто кровушку нашу хлебает, кто печенкой нашей закусывает?
– Опять же я не виноват, дивизионные воруют, а наряды посланы давно, не нынче завтра транспорт ждем.
– Отчего каша гнилая? Отчего в каше солома рубленая, горький камыш и всякая ерунда?
– Каша вполне хорошая.
– Гнилая.
– Хорошая.
– Гнилая! – кричим.
– Отличная каша, – твердит свое Зудилович.
Тогда принесли и поставили перед ним кукурузной каши бачок на шестерых. Дали большую ложку. Один шутник догадался, подмешал в кашу масла ружейного.
– Ешь.
Глядим, что будет.
– Ешь и пачкайся.
Припал наш начальник над котелком на корточки и принялся за кашу.
Все молчали над ним и каждую ложку в рот глазами провожали…
Ел он, ел, икнул и заплакал:
– Больше не могу, господа.
Мы его за усы.
– Кушай.
– Кушай, кормилец, досыта… Мы ее три года едим, не нахвалимся.
Распоясался он, давай опять есть. Фельдшер с писарем заспорили, лопнет Зудилович или нет.
– Согласно медицины должен лопнуть, – говорил фельдшер Бухтеяров: не только в нашем полку, но и далеко кругом славился он растравкой ран, по которым ухари получали краткосрочные и долгосрочные отпуска на родину.
– Нет, не лопнет, – успорял писарь Корольков и рассказал, как у них в штабе ординарец Севрюгин на спор зараз десять фунтов колбасы да каравай хлеба смял и не охнул, покатался по траве, и вся недолга.
– Ну, это ты, друг, врешь.
– Я?.. Вру?..
– Хотя бы и так, – говорит фельдшер, – то твой Севрюгин, а то образованный человек: в нем кишка тоньше, чуть ты ее понатужь, и готово.
Поспорили они на полтинник.
Давится Два Аршина с Шапкой, но жует, а у нас уже и сердце отошло, краснословим, ржем – зубов не покрываем:
– Скусно, поди, в охотку-то.
– С верхом черпай.
– Рой до дна.
– Отгребайся, дядя, ложкой-то, отгребайся, до берегу недалеко.
– Ложка у него титова…
Выел начальник кашу и ложку облизал.
– Хороша? – спрашиваем. – Еще не подложить ли?
– Не каша – разлука, – отвечает он, обливаясь слезами.
– Помни нашу науку.
– Каюсь, братцы.
Приняли его под руки и, обсыпая неприятными словами, на гауптвахту повели.
Заодно думали и каптера Дуню постращать, да не нашли, унюхал и скрылся.
Расходимся по землянкам.
– В частях кругом пошло блужденье, – говорит разведчик Василий Бровко, – пора войне поломаться.
– Пора, пора…
– Надысь, слышь, Самурский полк снялся с позиции и самовольно в тыл ушел.
– Астраханцы тоже поговаривали…
– К зиме, поди-ка, ни одной русской ноги тут не останется.
– Народ у нас недружный, у каждого глотка-то, как рукав пожарный, крику много, а делов на копейку… Держись мы дружнее, давно бы дома с бабами спали.
– Твоим бы, Кузя, задом из досок гвозди дергать…
– Разбежимся все, кто же будет фронт держать? – спросил кадровый солдат Зарубалов.
– Аллах с ним, с фронтом.
– А Расея?
– Это не нашего ума дело… У Расеи жалельщики найдутся, мало ли их по тылам прячется…
– Живут, твари, сполагоря.
– Жалко, Кавказ пропадет, сколько тут наших могилок пораскидано…
– Побитых не вернешь, а грузинцев с армянами жалеть нечего, пускай сами обороняются, коли им турки не милы.
– Чего тут сидеть, мертвых караулить…
– Выслать бы своих шпионов в Россию и узнать, кто там кричит: «Война без конца», – того бы за щетину да в окопы… Или половина остаемся и воюем один за двух, а половина с оружием идем по всему государству из края в край, колем и режем, стреляем и вешаем всех сверстников царизма и, разделив по совести землю и леса, фабрики и заводы, возвращаемся сюда на смену…
– Кабы ты, Миша, заместо Керенского в креслах сидел да приказы писал, вот бы мы наворочали делов…
Взводный Елисеев вспомнил Половцева и перекрестился:
– Хороший был командир, царство ему небесное, вечный покой…
– Все они, псы, хороши, – говорю, – не знать бы их никогда…
Мученый и маленький ефрейтор Точилкин боязливо оглянулся и сказал:
– Удохать мы его удохали, а не вышло бы тут, братцы, какого рикошета?
Когда убивали начальника, Точилкин в сторонку отбежал: крови видеть не мог после того, как однажды побывал в штыковой атаке.
– За ними гляди да гляди.
– Не поддадимся.
– Чего ждем, скажи на милость?.. Давно бы их всех на солдатский котел перевести…
– На котле далеко не уедешь, их благородиям надо на самый хвост наступить…В комитетскую палатку прибежал язычник, прапорщик Онуфриенко, и доложил про потайное собрание офицерское: крепко-де они за Половцева обижены, надумывают, как бы казаков на полк напустить, а сами-де уговариваются по тылам разъехаться и бросить полк на произвол судьбы.
Солдат, он хитрый: там секреты и тут секреты, у них потайные разговоры, а у нас каждые сутки рота наготове.
– Какая нынче дежурная? – спрашиваю члена комитета Семена Капырзина.
– Двенадцатая дежурная, – отвечает Капырзин и, передернув затвор, посылает до места боевой патрон.
Всполошились:
– Не зевай, ребята.
– Чего зевать, каждую минуту жизня смертью грозит.
– Выходи, шуму лишнего не подавай.
Бежим во вторую линию укреплений, и я громко подаю команду:
– Двенадцатая, в ружье!
Вылетают из своих нор солдаты двенадцатой роты: кто одет, кто бос и без шапки, но все с винтовками.
Мы, комитетчики, вкратце объясняем, из-за чего поднята тревога, и рота, рассыпавшись цепью, скорым шагом направляется к лесу.
Окружаем блиндированную землянку офицерского собрания. Заходим в землянку втроем.
– Здравствуйте, господа офицеры! – смело говорю я и кладу руку в карман на бомбу.
– Здорово, шкурники! – отвечает батальонный второго батальона штабс-капитан Игнатьев и, встав из-за стола, идет прямо на нас: – Мерзавцы! Как вы смели войти без разрешения дежурного офицера?
И со всех сторон густо посыпались на нас обидные слова.
Вижу, Остап Дуда сменился в лице и на батальонного грудью:
– Нельзя ли выражаться полегче?.. Мы есть депутация… Пришли узнать, какой вы за пазухой камень держите?
– Что-о тако-о-ое? – орет Игнатьев, глаза выпуча. – Ах вы, каторжные лбы!
Не помню, как шагнул вперед и я.
– Знай край да не падай, ваше не перелезу! Довольно измываться над нашим братом! Довольно из нас жилы тянуть!
– За нас двенадцатая рота! – с провизгом закричал из-за меня и Капырзин. – За нас полк, за нас вся масса солдатской волны, казаками нас не застращаете, это вам не старый режим…
– Ма-а-а-алчать… Предатели… Родина… Измена! – Батальонный выхватил наган. – Я не могу… Я застрелюсь! – и поднял наган к виску.
– Валяй… Один пропадешь, а нас – множество – останется, – говорит Капырзин.
Раздумал. Опустил руку с наганом и говорит тихим голосом:
– Сукины дети вы.
Офицеры окружили его, отжали в угол и принялись успокаивать.– Господа депутаты, – обратился тогда к нам молодой и чистый, как утюгом разглаженный, адъютант Ермолов, – господа, по-моему, тут недоразумение… Камня за пазухой мы не держим, и никаких особых секретов у нас нет… Просто, как родная семья, собрались чайку попить и побалагурить… Верьте слову, политикой мы никогда не интересовались… Мы не против и Временного правительства, не против и революции, но… – он оглянулся на своих, – ко…
– Мы не допустим, – выкрикнул Игнатьев, – чтоб какая-то сволочь грязнила честь полкового знамени, под которым когда-то сам Суворов водил наш полк в атаку на Измаил и Рымник. Наше знамя… – и пошел, и пошел про заслуги полка высказывать.
Насилу его уняли.
К нам опять подлез тот адъютантишка и зашептал:
– Вы на него не сердитесь, господа. Чудеснейшей души человек. Но… но… на язык не воздержан… Революция – это, знаете, такое…
– Мы и без вас, господин поручик, знаем, что такое революция, – говорит Капырзин. – Расскажите нам лучше, как вы солдата на фронте удерживаете, а сами сговариваетесь дезертировать?
– Ложь, чепуха, хреновина… Больше доверия своему непосредственному начальнику. Солдат ничего не должен слушать со стороны, от какого-нибудь проходимца-агитатора… Все новости должен узнавать через начальника… И со всеми обидами идти к начальнику… Не с первого ли дня войны мы находимся вместе с вами на позиции?
– Вы не сидите, – говорит Остап Дуда, – не сидите в окопах по жопу в воде. Вы – сухие и чистые – на стульях спите…
– Не вместе ли мы честно служили и не должны ли мы на этих позициях честно и вместе умереть? За родину, за свободу, за…
– Нам, – говорю, – умирать не хочется. Слава богу, до революции дожили и умирать не желаем.
– Будя, поумирали, – ввязался и Капырзин. – Три года со смертью лбами пырялись, надоело… Нам чтоб без обману, без аннексий и контрибуций.
– Ба, большевицкие речи?
– Нам все равно, чьи речи. Нам ко дворам как бы поскорее, а вы, господа офицеры, нас вяжете по рукам и ногам. Три года…
– Три года! – опять выскочил из своего угла батальонный Игнатьев. – А я служу пят-над-цать лет… Нет ни семьи, ни дома… Все мое богатство – сменка белья да казенная шинель… Теперь вам то, вам се, а нам, старым командирам, шиш костью?.. Вам свобода, а нам самосуды?.. Хамы, сукины дети! Не радуйтесь и не веселитесь – дисциплина нового правительства будет еще тверже, и вы, мерзавцы, еще придете и поклонитесь нам в ноги!..
– Пойдем, – сунул меня локтем под бок Остап Дуда, – тут разговоров на всю ночь хватит, а там рота под дождем мокнет…
Повертываемся и выходим.
Рота обступила нас.
– Ну, чем вас там угощали, чем потчевали?
– Мы их испугались, – смеется Капырзин, – а они нас. Потявкали друг на друга, да и в стороны.
– Жалко, драки не вышло. Не мешало бы для острастки одному-другому благородию шкуру подпороть.
– Кусаться с ними так и так не миновать.
– Пока вы там гуторили, мы по лесу всю телефонную снасть пообрывали.
– Ну, ребята, держи ухо востро. Пулеметчикам находиться неотлучно на своих местах. К батарее выставить караул. На дороги выслать заставы. Всем быть готовыми на случай тревоги.
Утром полк был собран на митинг.
Долго судили-рядили. В конце концов было решено батальонного Игнатьева арестовать, а к казакам и в 132-й стрелковый срочно слать своих делегатов. Арестовать себя батальонный не позволил – застрелился, делегаты были посланы.
Не успели мы разойтись, скачет из штаба дивизии ординарец с распоряжением немедленно везти урну с солдатскими голосами в Тифлис, где квартировал общеармейский комитет Турецкого фронта.
– Максима Кужеля слать!
– Пимоненко!
– Трофимова!
Каждому из нас хотелось в тыл – вольную жизнь посмотреть, да и к дому поближе.
Артиллерист Палозеров сказал за всех:
– Нечего нам, братцы, горло драть без толку. Человек тут требуется надежный. Может, через них, через листки-то, какое освобождение выйдет. Благословись, пошлем-ка кого-нибудь из наших комитетчиков. Верней того ничего не выдумать.
Слову его вняли.
Перед целым полком тащили мы жеребья.
Один тащит – мимо, другой – мимо, третий – мимо.
Пало счастье на меня – вытащил пятак с зазубриной, – и заиграло во мне!
Сгреб я барахлишко, посовал всякую хурду-мурду в один мешок, голоса солдатские – в другой и сажусь на арбу.
– Прощевай, земляки.
– Счастливо.
– Возвертайся поскорее.
– Чего он тут забыл?.. Сдай, Кужель, голоса, отпиши нам про тыловые порядки и валяй на Кубань, а следом и мы прикатим.
Кто целоваться лезет, кто на дорогу мне табачку отсыпает, кто сует письмо на родину.
Разобрал ездовой вожжи, гаркнул, и подпряженные парой кони взяли.
С перевала оглянулся я последний раз…
Далеко внизу чернели окопы, виднелись землянки, пулеметные гнезда, батарея в лесочке, и вся широкая долина была насыпана солдатами, как горсть махоркой.
– Прощай, лешая сторонка.
Три года не плакал – все молился да матерился, – а тут прорвало…
Пожар горит-разгорается
В России революция,
вся Россия на
ножах.
Горы, леса, битые дороги…
По хоженым дорогам, по козьим тропам несло солдат, будто мусор весенними ручьями.
Солдаты тучами облегали станции и полустанки. По ночам до неба взлетало зарево костров. Все рвались на посадку, посадки не было.
Поезда катили на север, гремя песнями, уханьем, свистом…
Дребезжащие теплушки были насыпаны людями под завязку, как мешки зерном.
– Земляки, посади!
– Некуда.
– Надо ехать али нет?.. Две недели ждем.
– Езжайте, мы вас не держим.
– Как-нибудь…
– Полно.
– Товарищи!
– Полно.
– Туркестанского полка…
– Куда прешь?.. Афоня, сунь ему горячую головешку в бороду.
– Депутат, голоса везу! – охрипло кричал Максим и, как икону, поднимал перед собой урну с солдатскими голосами.
Его никто не слушал.
Стоны, вопли, крики…
В клубах дыма и пыли летели поезда.
Обгоняя колеса, катились тысячи сердец и стукотук-тук-тукотали:
…до-мой…
…до-мой…
…до-мой…
Максим вывязал из мешка последнюю краюху черного и тяжелого, как земля, хлеба и принялся махать краюхой перед бегущими мимо вагонами:
– Е! Ей!
Рябой казачина на лету подхватил краюху, Максимовы мешки и самого Максима через окно в вагон втащил.
– Поехали с орехами!
– Тесновато, но ехать можно.
– Закрой дверь, холодно, – рычит один из-под лавки, а дверь с петель сорвана и сожжена давно, окна в вагонах побиты.
– Терпи, едешь не куда-нибудь, а домой.
Лобастый, свеся с верхней полки стриженную ступеньками голову и поблескивая озорными глазами, с захлебом рассказывал сказку про Распутина:
– …Заходит Гришка к царице в блудуар, снимает плисовы штаны и давай дрова рубить!
Смеялись дружно, смеялись много, заливались смехом. Накопилось за три-то годика, а на позиции не до веселья – кто был, тот знает.
– Это что! – лезет из-под лавки тот, который рычал: «Закрой дверь, холодно». – Вот я вам расскажу сказку, так это сказка…
Его сказка развернулась на большой час, была полна она диковинными похождениями отпускного солдата: сколько им было простаков обмануто, сколько добра доброго поуворовано, сколько зелена вина выпито и сколько девок покалечено…
В том же вагоне ехал избитый в один синяк и ограбленный солдатами старый полковник. Босые, опутанные бечевками ноги его болтались в заляпанных грязью валяных обрезках; плечи прикрывал драный, казенного образца, полушубок. В измятый медный котелок он подбирал с полу объедки и сосал их. Из-под фуражки в красном околыше выбивались пряди седых свалявшихся волос. Спал он, как и все, стоя или сидя на полу – лечь было негде. Захочет старик до ветру, а его и в дверь не пускают…
– Лезь, – кричат, – в окошко, как мы лазим.
Максиму жалко стало старика, подвинулся немного и пригласил его присесть на лавку.
– На добром слове спасибо, братец. Недостоин я, это самое, с солдатиками в ряд сидеть… За выслугу лет, это самое, вчистую вышел… – И не сел, а у самого дробные слезы так и катятся по щетинистой щеке.
Со всех сторон руганью, ровно поленьями, швыряли в старика:
– Глот. Давно подыхать пора, чужой век живешь.
– Вишь, морду-то растворожили…
– Может быть, из озорства ему накидали?
– Зря бить не будут, бьют за дело.
– Выбросить вон на ходу из окошка, и концы в воду… Мы походили пешком, пускай они походят.
– Брось, ребята, – вступился Максим, – чего старика терзать? Едет и едет, чужого места не занимает… Всем ехать охота.
– Правильно, – поддержал лобастый сказочник с верхней полки, – перед кем он провинился, тот ему и наклал, а наше дело сторона… Из них тоже которые до нашего брата понятие имели…
Ехал тот полковник к дочери в станицу Цимлянскую, на тихий Дон. До самого Тифлиса Максим подкармливал его и на прощанье чулки шерстяные подарил:
– На, носи.
На каждой остановке солдаты будто из-под земли росли.
С ревом, лаем лезли в окна, висли на подножках, штурмом брали буфера, на крышах сидеть места не хватало – ехали на стойка́х, верхом на паровозе. Под составами визжали немазаные колеса, прогибались рельсы.
– Садись на буфер, держись за блин!
Под Тифлисом затор.
Разъезд забит эшелонами.
Голодные солдаты уже по двое, по трое суток сидели по вагонам и матюшили буржуазию, революцию, контрреволюцию и весь белый свет; иные – с вещевыми мешками, узлами, сундучками – отхватывали по шпалам, держа направление к городу; однако большинство из этих торопыг, напуганные чудовищными слухами, с дороги возвращались, сбивались у головного эшелона в кучки, митинговали.
В каждой кучке свой говорух, и каждый говорух, закусив удила, нес и нес, чего на ум взбредет. Один уговаривал слать к грузинскому правительству мирную делегацию; другой советовал сперва обстрелять город ураганным артиллерийским огнем и уже тогда посылать делегацию; а изрядно подвыпивший казачий вахмистр, навивая на кулак пышный, будто лисий хвост, ус свой, утробным басом гукал:
– Солдатики-братики, послухайте меня, старого да бывалого… Ни яких делегаций не треба… Нечего нам с тими азиятцами устраивать сучью свадьбу… Хай на них трясца нападет!.. Хай оны вси передохнут!.. Пропустите меня с казаками вперед! Як огненной метлой прочищу дорогу и к чертовому батьке повырублю всих новых правителей, начиная с Тифлиса и кончая станицей Кагальницкой, откуда я сам родом… Так-то, солдатики-братики… – Приметив на лицах некоторых слушателей лукавые улыбки, кои показались ему оскорбительными, вахмистр насупился, откинул на плечо ус и, хватив себя кулаком в грудь так, что кресты и медали перезвякнули, заговорил с еще большим жаром: – Вы, скалозубы, що тамо щеритесь, як тот попов пес на горячую похлебку? Цыц, бисовы души! Я вам ни який-нибудь брехунец-вертихвост… Я в шестом году, находясь на действительной службе, сам партийным был. Командир наш, хорунжий Тарануха, добрый был казак, царство небесное, за один присест целого барана съедал, – выстроил нашу сотню на плацу и говорит: «Станишники, лихое настало время на Руси, скрозь жиды и студенты бунтуют… Скоро и наш полк погонят в ту проклятую Одессу на усмирение… Помня присягу и нашу православную веру, должны мы всей сотней записаться в партию, чи союз Михаила-архангела». – «Рады стараться, отвечаем, нам все едино…» – И, похоже, долго бы еще ораторствовал речистый вахмистр, но вот через толпу протискались два казака и, сказав с укором: «Будет вам, Семен Никитович, всю дурь-то сразу выказывать, приберегите что-нибудь и на завтра», подцепили его под руки и увели в свой эшелон.
На обсохшем пригорке играли в орлянку, высоко запуская насветленные медные пятаки. Двое затеяли русско-французскую борьбу, собрав вокруг себя множество зрителей, из которых чуть ли не каждый подавал свой совет тому или иному из борющихся. Несколько человек сидели и полулежали в вольных позах вокруг раскинутой шинели и резались в очко. Уже побывавший и в Тифлисе, и в Баку старшой какой-то конвойной команды – лихого вида фельдфебелек – метал банк и бойко рассказывал:
– Грузия, дело известное, от России откололась. Надоело грузинцам сидеть за широкой русской спиной, хотят пожить по своей воле… Деньги теперь у них свои, законы свои, правители свои, ну – разлюли малина!
– Какой они партии? За что борются? – отрывисто спросил рыжий, страшной худобы солдат.
– Кто? Грузинцы?.. Партий всяких у них, брат, развелось больше, чем блох в собаке. И все друг друга опровергают, и все друг друга не признают, и кто у них за что борется, кто прав, кто виноват – сам архирей не разберет… Видал я одного ихнего министра в городском саду на митинге – ну, ничего, одет чисто, при часах и с тросточкой. Речь его я понять не мог, говорил он не по-русски, а по-своему. Газеты тифлисские читал, тоже доподлинно не вызнал, что к чему, а так, на базаре, от одного прапорщика слыхал: «Грузия-де к меньшевикам приклоняется, всю власть им перепоручила, а меньшевики-де раньше были у большевиков в подчинении, как апостолы у Христа; а ныне будто бы те апостолы рассвирепели, не признают ни царских, ни барских, да и самого Христа уже за горло берут… Тюрьмы тифлисские набиты внабой».
– Азият, он азият и есть, – вздохнул один из игроков, – ему кровь заместо лимонаду.
– Шустры они, бойки, – продолжал фельдфебель повествовать о меньшевиках, – но, как зайцы, всех боятся: рабочих боятся, солдат боятся, генералов русских боятся, турок боятся, а пуще всего большевиков боятся…
– Этим правителям хрен цена. Эти правители временны, до первого морозу, – опять сказал рыжий солдат своим глухим, замогильным голосом, выбирая рублевку из зажатой в кулак пучаги мятых денег. – Дай карту. Дай еще, – с трепетом, ме-е-дленно он поднял последнюю карту и, точно обжегшись, отдернул руку. – Перебор. Служил у нас в Кимрах, годов сорок кряду служил становой пристав Мамаев. Вот это был правитель! Трезвый по деревне скачет, и то ни один пес – на что тварь беспонятная – на него гавкнуть не смел. Ну а как напьется, никто на глаза не попадайся, разорвет! Мужики заслышат бубенцы – Мамай скачет, – врассыпную: кто под избу забьется, кто на гумнах в солому зароется, кто куда. У него уж, бывало, пока обедня не отойдет или вечерня не кончится, пьяным на улицу не покажешься и в гармошку не сыграешь… Форменный был разбойник, трава перед ним от страху вяла, да и то, еще месяца за три до революции, попал мужикам на вилы. А сколько их, таких Мамаев, было у царя? Где они? Всех варом, как тараканов, поварило. Ныне народ отчаялся и облютел, никакого правителя к себе на шею не допустит.
Некоторое время все молчали, с интересом следя за ходом игры, потом разговор возобновился.
– И хорошо в гостях, а надоело, – задумчиво сказал наблюдавший за игрою со стороны Максим. – Добры люди, поди-ка, плуг и борону ладят, а мы как неприкаянные бродим и бродим по чужой стороне. Не горько ль?
– Не понимаю, какого дьявола тут сидим! – воскликнул уже неоднократно пытавшийся ввязаться в разговор мальчишка с нашивками вольноопределяющегося и с новеньким Георгием на груди; на свой знак отличия юный герой то и дело озабоченно посматривал, точно желая убедиться: не потерял ли? – Немцев били, турок били, а этих каналий в два счета расщепать можно. По-моему, если развернуть как следует боевой полк, обеспечить фланги достаточным количеством пулеметов, придать каждой роте…
Грянувший хохот старых солдат так смутил мальца, что он поперхнулся собственным словом, закашлялся до слез и умолк.
– Прыткий! – подмигнул фельдфебель. – Сунься, они тебе покажут, почем сотня гребешков.
– А что?
– А то. Ты еще мал, круп не драл. – Банкомет с значительным видом поиграл косматой бровью и, снова раскинув до́нельзя затрепанные карты, продолжал повествовать: – Под национальные знамена грузинцы собирают свою армию, армяне – свою, татары – свою. В оружии у них, дело известное, недохваток. И вот меньшевицкие правители выкатили в Гянжинский район свой бронепоезд на разоружение эшелонов. Разоружить они мало кого разоружили, но на станции Шамхор – врасплох – посекли из пулеметов много нашего брата. Мать честная, что там делалось! Раненых, как саранчи, побитых два дня на кладбище возили. На грех, какой-то лазарет с тяжелыми эвакуировался, так эти бедолаги сгорели все до единого в своих вагонах. Ну, дело известное, солдаты остервенели. Поймают где грузинца, татара или армяна, тут ему и шаксей-ваксей: тесаком по арбузу, проволокой за шею и на телеграфный столб вздернут, на ноги еще камней понавешают – мне плохо, но и из тебя, карапет, душа вон! Одного ихнего офицера, я тому сам свидетель, к забору штыками пришили, другого в нефтяном баке утопили…
Наслушался Максим тех речей – голова кругом пошла. С тяжелым сердцем он вернулся в свой наполовину опустевший вагон и завалился спать.
Разбудил его топот многих ног, дурные крики, в залепленные сном глаза ударил резкий свет замелькавших за окном вагона колючих электрических фонарей – эшелон, мотаясь на стрелках и позвякивая буферами, подходил к Тифлису. Перемигнули сигнальные огни, проплыли какие-то постройки и тополя, уходящие темными вершинами своими под самое звездное небо. Эшелон, миновав вокзал, покатил куда-то в темень, на запасные пути. Солдаты прыгали из вагона на ходу. Прихватив свои мешки, спрыгнул и Максим.
В вокзале он разыскал этапного коменданта в погонах подполковника, который сидел в кабинете один и, точно в бреду, наборматывал что-то сам себе.
– Тебе чего? Какого полка? Почему без пояса? – вперил он в Максима блуждающие безумные глаза кокаиниста.
Максим подал дорожный аттестат и мандат. Тот мельком просмотрел бумаги и швырнул их делегату:
– Нет у меня хлеба, нет махорки, нет сахару, убирайся к черту!.. – На короткую минутку он умолк и потом снова залопотал, забормотал, с ужасом глядя куда-то мимо Максима в угол: – Законность, порядок, идеалы, все проваливается в пропасть, все летит в тартарары… Ах, Ниночка, Ниночка, как ты меня огорчила, как огорчила!.. Тебе чего, солдат? Какого полка? Что за дурак у вас командир? Почему не по форме одет? Ах да… Так вот, голубчик, общеармейский комитет Турецкого фронта переведен в Екатеринодар. Туда и езжай со своими голосами, хотя это и бесполезно… Эти мерзавцы уже разогнали Учредительное собрание, разгромили колыбель России – Московский Кремль. Все пропало, страна гибнет, гибнет культура… Ты, скот, того понять не можешь… Кубанец? Рад небось, каналья? Сейчас отправляю с пятого пути эшелон. Получай пачку папирос и езжай к чертовой матери. Все рушится… Господи… Вековые устои… Горе, горе россиянам… Гайда да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, – пропел он и, закрыв лицо руками, зарыдал.
«Нализался», – подумал Максим и вышел.
На станции не было ни питательного пункта, ни хлебных лавок. Голодные, рыча и стеная, бродили солдаты. Весь привокзальный район был оцеплен полком грузинской народной армии: в город фронтовиков не пускали – погромов боялись – и пачками толкали дальше, на Баку. Составы то и дело – один за одним, один за одним – уходили на восток.
– Эх, – тяжко выдохнул какой-то ефрейтор, стоя в распахнутых дверях теплушки и грозя винтовкой уплывающему из глаз городу, откуда, несмотря на раннее утро, все еще доносились всхлипывания оркестров, – на фронт провожали с цветами, а встречаете лопухами? Куска хлеба жалко?.. Ну, погоди, кацо, не попадешься ли где в тесном месте?
– Не серчай, земляк, печенка лопнет, – хлопнул его Максим по плечу. – Меньшевиков узнали, хороша партия, дай ей бог здоровья. Дальше поедем, может статься, еще чище узнаем.
– Да уж больно обидно… В газетах пишут: «Равенство, братство», а сами норовят хватить тебя под самый дых и хлеба не дают ни крошки.
– Ладно, – опять сказал Максим, – и нам какой кудрявый под лапу попадется, пускай пощады не просит.
– Спуску не дадим.
– Главное, ребята, с винтовкой не расставайся, – отозвался еще один из-под нар. – До самой смерти держи ее, матушку, наизготовку, и никакая собака к тебе не подступится, потому хотя она кусаться и любит, а голова у ней всего-навсего одна.
За Тифлисом началась война.
Горцы большими и малыми отрядами нападали на эшелоны, – под счастье – грабили их и спускали под откосы.
На путях голодали люди, дохли лошади.
Поезда тянулись сплошной лентой, в затылок друг за дружкой. По ночам на поездах ни огня, ни голосу. Выставив дозоры и заставы, отстаивались в полной боевой готовности. Ехали одиночками, командами, полками, с артиллерией, обозами, со штабами. Походным порядком, сметая с пути банды, двигались отдельные части 4-го и 5-го стрелковых корпусов.
Акстафа, Гянджа, Евлах – на каждой станции перестрелка, суматоха, тарарам. Горела станция Елисаветполь, горела Кюракчайская керосинопроводная станция. По всей линии горели мелкие станции. Железнодорожные служащие, путевая стража и ремонтные рабочие с семьями, скарбом бежали в сторону Баку. Горели покинутые дома, будки и рабочие казармы. Горели татарские аулы и села русских сектантов. На подступах к горной Армении гремели пушки. На рубежах Грузии, Дагестана и Азербайджана гремели пушки. Воплями, стоном и дымом пожаров было перекрыто все Закавказье.
Булга.
Все подъездные пути по самые выходные стрелки были уже забиты поездами, а со стороны Тифлиса накатывались все новые и новые, и уже некуда им было становиться; они останавливались за семафором, в чистом поле, откуда к станции гуськом тянулись делегаты, крупно разговаривая:
– Кто нас держит?
– Из паровозов, слышь, весь дух вышел – не берут.
– Всех белогорликов убивать надо.
Вокруг станции и на путях, прямо по земле и по дикому камню были разметаны ноги в разбитых сапогах, лаптях, отопках, истрескавшиеся от грязи руки, лохмотья, крашеные ободранные сундучки, мешки, на мешках и сундучках всклокоченные головы, лица, истомленные, мученые, и рожи, запухшие то ли от длительной бессонницы, то ли с большого пересыпу.
Совсем недалеко, в горах, регулярный казачий полк дрался с татарами, кои то отступали на линию своих аулов, то сами – с гиком, визгом – кидались в атаку, стремясь прорваться за перевал, на соединение с другим отрядом. Эхо ружейных залпов перекатывалось в горах. Тишину нежного утра громили пушки. По хорошо слышным разрывам фронтовики определяли калибр:
– Трехдюймовка…
– Тоже…
– Чу, горняшка… Должно, ихняя.
– У них орудиев нет.
– А ты алхитектор? Проверял, чего у них есть, чего нет?
– Ого, жаба квакнула. (Бомбомет.)
– Да, эта по затылку щелкнет, пожалуй, на ногах не устоишь.
За семафором шальной снаряд
ззз бум!
разбрызгал грязь и панику.
Кто закрестился, кто за винтовку, кто шапку в охапку и – наутек.
– Бьют, курвы!
– Обошли!
– Ссыпайся!
– Ганька, канай! Ганька, где мой мешок?
– Стой, братцы! Стой, не бегай! Дерутся они с казаками, нас не тронут.
– Как же, по головке погладят.
– Ух, батюшки, задохнулся… Этак, не доживя сроку, умрешь.
– Делегацию бы послать на братанье, как на фронте. Так и так, мол, товарищи…
– Сымай штаны, ложись спать… Они те набратают, вольного света невзвидишь. Вон лежат бедняги, награжденные за верную и усердную службу.
В дверях разграбленного складочного сарая, на новеньких рогожках, рядком лежали прикрытые шинелями два зарезанных пехотинца Гунибского полка. Из-под коротких шинелей торчали грязные мертвые ноги – пятки вместе, носки врозь. Вчера оба были высланы от своего эшелона на переговоры с татарами, нынче их нашли в канаве под насыпью. Вот подошли несколько гунибчан, – один с высветленной лопатой на плече, – перекинулись коротким словом и прямо на рогожках потащили резаных в недалекую ложбинку, где земля была мягче. Там они наскоро закопают обоих в одну яму, потом разбредутся по вагонам и укатят. Будут лить дожди, шуметь травы, гореть тихие зори, но уже никогда ни одна близкая душа не придет поплакать, постонать на затерянную в степи солдатскую могилу…
Под ветром плескались костры.
Жарко пылали смоляные плахи шпал, расколки каких-то досок, хорошо горела и вагонная обшивка, закипая по ребрам краской. К огню со всех сторон лепились котелки, в котелках пучилась мамалыга и кукуруза.
Чернобородый большой солдат вытащил из мешка пеструю курицу, которая ни разу и кудахнуть не успела, как он – хрупнув – откусил ей голову и, прислушиваясь к редким орудийным выстрелам, вздохнул:
– Палят и палят… Господи, твоя воля… И чего проклятым дома не сидится? И чего псам гололобым надо?
– Это нам, землячок, война надоела, а им в охотку.
Пыл лизал наколотую на сизый штык курицу. Обглоданный болезнью паренек зябко кутался в шинель, глубоко засовывая рукав в рукав, мигал воспаленными загноившимися глазами и, жадно раздувая ноздри на гарь куриных перьев, угодливо соглашался с черным:
– Подлющий народ, Сила Нуфрич, хуже собак, ей-бо… А курочка-то пригорает.
– Не бойся, не пригорит… Бежать…
– Бежать, бежать, Сила Нуфрич, тут хорошего не жди… А курочка-то того, ты поглядывай.
– Будь татары одни, – сказал закутанный в смрадное рубище ополченец, – мы бы их живо раскуделили, а то ведь за них наш позиционный офицер воюет, вот жаркота!
– Да што ты?
– Верно слово.
– Как же оно так?
– А вот как… Вчера за Курой поймали наши разведчики двух азиятов и с ними офицеришку русского. Ладно. Привели на станцию. Тут и давай им хвосты крутить, давай допытывать, какому они богу молятся. Ладно. С татарина много не спросишь, – бэльмэ, бэльмэ – рукавами себя по ляжкам хлыщут, языками чмокают: «Была барашка мыного, была лошадка мыного, была маладой жена мыного. Война пришел – барашка ушел. Свобода пришел – лошадка ушел. Бальшавой пришел, кричит: «Буржу, буржу!» – последки отбирал, с жена чадра снимал. Барашка ёк, лошадка ёк, ёканда маладой жена. Ай-яй-яй, урус, сапсем палхой порядка пошел!» Над азиятами смеючись, кишки мы себе порвали, ну а к офицеру подступили покруче. Ладно. «Какой партии?» – спрашиваем его. Отвечает: «Беспартийный». – «Врешь, так твою и этак, – говорит один из комитетских, – беспартийные, как тараканы, должны на печке сидеть, а не между татарами шиться». Ладно. Спросили его, какой он части, давно ли с позиции. Молчит. Еще чего-то спросили. Молчит. Тогда комитетский развертывается и бяк его благородие по рылу, бяк еще, он и заговорил: Расея, союзники, то да се, хотим, мол, приостановить ваше позорное бегство и завернуть армию обратно на фронт.
– Чисто.
– Черепки у них варят… Там били нас и тут бьют, там путали и тут путают.
Курица была готова. Чернобородый отломил горелое крылышко, лизнул было его сам, но обжегся и бросил парню:
– На-ка, Федюнька, займись от скуки.
Тут же рядом, за каменной оградой, на камышовом снопе толстая армянка отпускала и пешему, и конному.
В вокзальном садике три толпы. В одной – играли в орлянку, в другой – убивали начальника станции и в третьей, самой большой, толпе китайчонок показывал фокусы:
– Шинд’ла, минд’ла… О, мотлия, шалика лука ложия… Ас! Дуа! П’хо! Пой’егла!.. Куа шалика пой’егла? Ни сная, спласи ната. – Перекосив чумазую, как сапожное голенище, рожицу, он лукаво пошептался со своим деревянным божком и обрадованно закричал: – Аа, сная, куа шалика пой’егла! Маа бох доблы!
Говор восхищенных зрителей:
– Ах, бес… Ну и бес.
– Заноза мальчонок.
– Да-а… Наш русский давно бы в куски пошел, а этот – уйди вырвусь!
Чернобородый большой солдат, расталкивая народ и на ходу обсасывая последнюю куриную ногу, коршуном летел добивать станции начальника: говорили, будто еще дышит.
По перрону похаживала веселая компания подвыпивших терцев: балагурили, ржали, от души потешаясь над своими же проказами. Один, самый молодой и дурной, отвернув голову на сторону до отказу и полузакрыв от удовольствия глаза, развлекался тем, что наяривал ложкой по пустому медному котелку и в лад скороговоркою сыпал несусветную похабщину; другой не раз пробовал затянуть терскую песню, да все голос срывался; еще двое состязались, кто выше плюнет, – они уже захаркали весь фасад вокзала, но спор все еще не был решен. Проходил по перрону и денщик командира сотни, Фока, на вид будто и придурковатый малый, однако плут великий и пройда, каких свет не видывал. Он шел, и все его внимание было сосредоточено на том, чтобы не разлить сметаны, полнехонькое блюдо которой он нес в вытянутых руках. Гуляки окружили его и засыпали вопросами: «Куда ходил? Где молока надоил? Э, да это сметана! – воскликнул один из них, макнув в блюдо палец и обсосав его. – Ах, скусно… Почем брал? Расскажи, Фока, как ты в Эривани татарку в бане мылил?» И еще один макнул в сметану уже не палец, а всю пятерню, а тот, у которого в песне глотку перехватывало, бросил в сметану окурок, что вызвало у всей компании бешеный хохот. Фока поставил блюдо себе под ноги и, прикрыв его полою шинели, взмолился:
– Станишники…
Но станичники наседали. Один уже нахлобучил ему шапку на нос, другой тянул из-под него блюдо со сметаною, а тот, что играл на пустом котелке ложкою, тормошил:
– Фока, Фока, а ну-ка соври что-нибудь не думаючи…
– Некогда мне с тобой, дураком, и язык чесать. Провались! – зарычал рассвирепевший Фока. – Вам все смешки да хахоньки, а там харч, там… эх, чего с вами и говорить.
– Где харч? Какой харч? – спросили в голос оба спорщика, бороды коих были заплеваны.
Фока воровато метнул глазом туда-сюда и зашептал:
– Крой, ребята, бога нет… В телеграфе, вон крайняя дверь с гирькой, сейчас начнут трофейную обмундировку раздавать… Полторы тысячи комплектов, сам видал… В случае… ежели… и мою очередь займите…
Станичники переглянулись, перемигнулись и, оставив в покое Фоку с его сметаною, хлынули к двери, за которой действительно было заметно какое-то оживление.
В телеграфе фронтовики штурмовали телеграфиста, требуя от него паровоза, а сзади в дверь напирали терцы, кубанцы и так, праздношатающиеся, тоже уже прослышавшие каким-то макаром про трофейную обмундировку.
– Братцы… Тут раздают?
– Становись в затылок.
– Мундировка?
– Ну? Семка, нашенских покличь!
– Легче напирай.
– Где мундировку дают?
– В очередь, в очередь! Все равны!
– Куды, черт, лезешь?
– Не больно черти́, а то я те так чиркну, пойдешь отсюда вперед пятками… Я, брат, такой… Не погляжу и на лычки твои.
– Что тебе мои лычки, поперек горла встали?
– Положил я на них.
– Тише, тише…
– Мундировка?
– Не-е-е, – разочарованно тянет тот, у которого в песне голос осекался, – тут насчет паровозов…
Очередь, вставшая за обмундировкой, дает гулкий залп матюков и рассыпается.
– Ну и пес наш Фока, – отирая шапкой пот с лица, восхищенно сказал один из терцев. – Теперь уж, поди-ка, и Якова Лукича варениками удовольствовал, и сам около него сметанки полизал. Вот тебе и «соври-ка что-нибудь не думаючи».
Прижатый к стене телеграфист бормотал точно спьяну или спросонья какие-то жалкие слова… Перед его расплавленными от ужаса глазами прыгали солдатские подбородки, грязные усы, вспотевшие обезумевшие лица и широко распяленные орущие рты… Лапа вожака уже тянулась к горлу телеграфиста:– Сказывай, сказывай останный раз, будут паровозы ай нет?
– С мясом выдерем!
– Нам так и так ехать.
– Хомут на белу душу!
Из крахмального воротничка тянулась гусиная шея, дрожали побелевшие губы.
– Товарищи… Милые… Господи… Я сам за новый режим… Даже боролся, имею соответствующие документы… Паровозы не от меня зависят.
Ударили голоса:
– Каля-каля, пополам да на́двое!
– Глаза нам не отводи!
– Вынь да выложь паровозы!
– Смерти али живота?
– Должон ты расстараться. Хлеб мужичий ешь, а уважить мужику не хочешь?
– Празднички, гуляночки?
– Все буржуям продались!
– Пятый день вторую версту едем… Шутки плохие.
– Чаво с ним собачиться? Потрясти надо, тады и паровозы предоставит…
– Братцы… Даю честное благородное…
Злобой коптил солдатский глаз. Тянулись руки за телеграфистовой душой, сыпались светлые пуговицы с его форменной тужурки.
– Говори, не дашь паровозов?
– Братцы…
– Бей, сучья жила, телеграмму в Баку!.. Вызывай по аппарату Мурзе паровозы из Баки.
Будь на месте телеграфиста терец Фока, с величайшей готовностью кинулся бы он к аппарату Мурзе, и, несмотря на то что по линии все провода были давно уже порваны, изо всех сил принялся бы он трясти тот аппарат и повертывать его во все стороны; потом, сообразив, бросился бы он к давно не действующему телефону и – надувая щеки, свирепо тараща глаза – принялся бы он ругать бакинских начальников самыми последними словами и требовать, чтоб немедленно были высланы в его распоряжение сорок тысяч паровозов. Обнадеженные фронтовики угостили бы его махоркой, пожаловались бы на свою горькую судьбину и разошлись бы тихо, мирно. А там авось как-нибудь и разогнало бы тучу… Но простодушный телеграфист не горазд был на выдумки и на требование «бить телеграмму в Баку» только руками развел, что в воспаленном сознании солдат преломилось как нежелание расстараться и уважить.
– Лукин! – надорванный и полный отчаянья голос. – Лукин, чепыхни его!
– Эх! – плюнул Лукин в кулак. – Патриёт, война до победы! – И чепыхнул: телеграфист затылком о стену, уклеенную плакатами «Заем свободы».
В этот миг
грохнул
взрыв
брызнуло стекло
стены вокзала дрогнули.
Отхлынув от телеграфиста, бросились вон. Сперва никто ничего не мог понять. Перрон был окутан дымом, в дыму – стоны, тревожные выкрики и четкая команда:
– Тре-тья со-тня, в цепь!
– Санитара сюда…
– Эскадро-о-он, по ко-о-ням!
– Кирюха, где наши?
Мало-помалу дым развеялся.
По перрону там и сям лежали ничком и навзничь, ползали и стонали раненые, контуженые. Бегали санитары с носилками. На подъездном пути несколько теплушек было сорвано с рельсов.
Низенький, коренастый артиллерист Карской крепостной артиллерии стоял, прислонясь к осмоленному взрывом фонарному столбу, размазывал кровь по круглым щекам и, с удивлением разглядывая изодранную в клочья шапку-вязёнку, бормотал:
– Да как же оно так?.. Да боже ж ты мой… Да это ж его, бедолаги, сивая шапка… – Затем, придя немного в себя, артиллерист уже более связно рассказал окружившим его солдатам: – Наш батареец Паньчо взорвался, истинный Христос… За салом мы с ним в поселок ходили, сала ни шматка не нашли… Ну, ро́спили вина баклажку… Идем назад, тихо так и смирно о домашности разговариваем, а у Паньча на горбу, надо вам знать, полный мешок бомб и динамиту – на родину, бедолага, вез, буржуев глушить… Сала мы не сыскали, колбасы до смерти захотелось, колбасы тоже не сыскали… Пока шли, роспили еще одну баклажку, но захмелели не дюже, а так – вполпьяна. Доходим до станции, степенный разговор ведем, ни нам никто, ни мы никому. Глядим – что за диво! – вагона нашего нет. Искали, искали, нету вагона. «Это насмешка над нами, – говорит Паньчо, – тут стоял вагон, и нету вагона». – «Это, – говорю и я, – дюже обидно. Пойдем-ка до дежурного по станции, поговорим с ним тихо, благородно». Только мы с Паньчом, господи благослови, до этого места дошли, только начали расспрашивать, как бы нам к дежурному пройти, откуда ни возьмись чумаха-парень. «Кой, кричит, черт на дороге встали?» – и ударь, стервец, моего друга чайником по горбу: Паньчо, известно, зашипел и взорвался… Вот одна шапка от него и осталась, а уж парень-то какой добро был, боже ж ты мой… Как, бывало, выйдем с ним на улицу, в своем то есть селе, как в две гармони рванем-рванем… Ууу…
Ахали, матюшились, из рук в руки переходила окровавленная, с прилипшими клочьями рыжих волос, казенного образца шапка-вязёнка.
Пальба в горах стихла.
Под песню и бренчанье походного бубна вернулись из боя казаки. Собачьи малахаи и курдские папахи, заветренные суровые лица, крепкие зубы и еще горящие тревогой и боевым задором глаза.
Со набега удалого
Едут казаки домой,
Гей, гей да люли,
Едут казаки домой…
Они привели с собой легких, как зори, татарских коней, – пленных дорогой порубили, – громовым «ура» солдаты встретили казаков.
Эшелоны, под которыми были паровозы, сорвались и, гремя железными скрепами, покатили на восток. Эшелоны, под которыми не было паровозов, остались голодать на разгромленной станции.
В Баладжарах затор.
Кобылки скопилось сто тысяч – сбор Богородицы, разных губерний и частей, – ехать не на чем, ехать боялись, но ехать все-таки надо.
По вагонам, закутавшись в бурки и овчины, спали и так валялись казаки и туркмены, осмоленные жирным солнцем Месопотамии. Домой они везли одни уздечки да крылья седельные, а кони их потонули в песках, погибли в походах. У костров обсушивались и дремали солдаты экспедиционного корпуса генерала Баратова. За три долгих горьких года они выходили все дороги и волчьи тропы от Кавказа до мосулдиальских позиций и обратно. Иные за все время походов хлеба настоящего и на нюх не нюхали и давно уже забыли вкус хорошей воды. Цинготные десны их сочились гноем, литую мужичью кость ломала тропическая малярия, язвы и струпья разъедали шкуру томленую… Непролазна ты, грязь урмийская, остры камни Курдистана, глубоки пески Шарифхане!.. Стлался тяжелый говор. Огни костров выхватывали из темноты то высветленную оковку приклада, то бамбуковые костыли раненого, то одичавшие, точно врезанные в голодное лицо, глаза.
В эшелонах смеялись и плакали гармони, пылали песни. Между путями отхватывали русского и гопака, в почернелых, обожженных зноем и стужей лицах веселой тревогой блестели глаза; топотом, гиком и хлопаньем жестких ладоней заглушали в себе тоску, голод, страх и отчаяние…
На горизонте переливались сочные бакинские огни, а в Баладжарах было холодно, голодно и неприютно. Толпами валили в город, но и там хлеба не было.
С моря перекатом шел воевой ветер и черным стоном штурмовал горы.
Из города – днем и ночью, на извозчиках, в автомобилях – приезжали агитаторы разных партий.
Солдаты все слушали с интересом, но в потоках ораторского красноречия и ругани они с бо́льшей жадностью вылавливали весточки о родине: в России спугнута учредилка, в России мужики громят помещиков, в России вовсю идет борьба из-за власти двух течений – большевики и буржуазия, по Кавказу горцы кричат: «Долой гяуров», в Чечне у каждого богача и у каждого разбойника своя партия – все друг друга режут, ингуши подняли белый флаг на покорность, а Дагестан предается исламу и Турции…
Паровозы рявкнули, солдаты, не дослушав длинной резолюции о поддержке большевиков, с криками: «Правильно! Правильно! Долой войну!» – стали разбегаться.
Поезда выматывались на простор.
Через каждый состав на паровоз была протянута веревка со звонком. Спали вполглаза. Чуть тревога – начинали звонки звонить, ружья палить, гудки гудеть. Отбивали нападение и катили дальше.
Стучали колеса
сыпались
станции
лица
дни
ночи…
Войска имели разгульный вид, везде народ, как пьяный, шумел.
– Якого полка?
– Пятнадцатого Стрелкового. А вы?
– Второго Запорожского.
– Ко дворам?
– Эге.
– Какой станицы?
– Платнировской.
– А мы, дядечку, расейские, Курской губернии, Грайворонского уезда… Буржуев едем крушить.
– Давай бог.
Слева торчали горы дагестанские, а справа – отвалом – голубыми вихрями пылал Каспий-батюшка…
На Хасав-Юрте фронтовиков встретили хуторяне. Путаясь в кожухах, они бегали перед вагонами и на разные голоса причитали:
– Служивые, оборони… Родимые, защити.
– Что такое?
– Чечены нас забижают… Грабежи, убойство…
Собрали митинг и постановили – подать помощь от нападов чеченов. Дело было ночью. По направлению к горам постреляли из пушек, не сгружая их с платформ. Набрался отряд охотников, набросились на ближайший аул. Аул горит, трещит, искры сыплются, бабы и ребятишки воют, чечен стреляет до последнего.
Наменяли у мужиков хлеба на оружие и поехали дальше.
Чугунное тулово печки было раскалено докрасна. По закопченным стенкам теплушки полыхало жаром-заревом. Люди спали сидя, стоя – кто как сумел примениться к своему месту. Разморенный жарой Максим, обняв мешки, дремал на верхних нарах. Под дробный говор колес видел он себя на молотьбе: пожирая снопы, ровным стуком стучит молотилка; зерно, шипя, течет в уемистые мешки; в горьковатой хлебной пыли, обняв сноп, плывет Марфа; пышет солнышко, жилы в Максиме стонут, нутро дрожит…
Под утро Кавказ выпустил эшелон из своих каменных объятий, горы начали отставать, впереди снежной пеной закипела степь моздокская…
Ду-ду
уу
у
ууу…
– Вырвались с проклятья – Расея!
Стремительны и яростны мчались дни.
Пыль… Дым… Гром…
Чем дальше от фронта, тем солдат шел все озорнее. На разгромленных станциях сами грели кипяток, сами били звонки, давая самое скорое отправление всем поездам и на все стороны – катай!
На перегоне Хасав-Юрт – Моздок – Грозный путь во многих местах был разобран. На обе стороны от насыпи – торчмя, на боку, вверх колесами и всяко – валялись искалеченные, как детские игрушки, паровозы, цистерны, вагоны. По следам ремонтных летучек и саперных команд, восстанавливающих дорогу, крались, подобны шакалам, банды мародеров и снова сдирали рельсы, раскидывали шпалы. Поезда то вдруг срывались и летели, не тормозя ни на поворотах, ни под уклоны, – вагоны шатало, мотало, солдат било о стенки, сбрасывало с крыш и буферов; то, хрипя и натужась, паровозы вяло тащили длиннющие составы, часто останавливались и подолгу простаивали по брюхо в снегу. Некоторые казачьи части двигались в конном строю; другие шли походным порядком, соблюдая все меры предосторожности; были и такие, что шагали по шпалам, ведя за собою порожние вагоны в надежде раздобыть где-нибудь паровоз: большей частью это были сибиряки или уроженцы центральных и северных губерний, здраво рассуждавшие, что ехать им не миновать и расставаться с вагонами не рука.
По ночам суровое – в клубах смолистого дыма – зарево охватывало полнеба: то с самого лета горели грозненские нефтяные промысла.
По всему Кавказу с треском разгоралась классовая, национальная и сословная война. Всплыли поросшие травой забвения старые обиды. Рука голодаря тянулась к горлу сытача. По горным тропам и дорогам переливались конные массы. Терек, Осетия, Ингушетия, Чечня, Карачай, Большая и Малая Кабарда были окутаны пороховым дымом, – в дыму сверкал огонь, сверкал клинок, – пожаром лютости были объяты народы тех земель. Уже крутенько ярилась станица, косясь на город и грозя шашкою своему давнишнему недругу, жителю гор.
Бурно митинговали аулы.
На вокзалах, базарах, площадях возвращающиеся с фронта всадники Дикой дивизии, держась за кинжалы, вопили:
– Цар бляд! Цара не нада, земля нада!.. Казах бляд! Казах не нада, война нада!.. Земля наша, вода наша, Кавказ наша!
Казаки, как в старину, выгоняли скот на пастбища под сильной охраной, на курганы и на речные броды выставляли сторожевые посты, пойманных же на своей земле горцев резали, а иногда с веревкой на шее гнали до земельной границы, тут запарывали до полусмерти и отпускали с наказом:
– Вот твоя граница, костогрыз. Помни, ядрена мать, и детям и внукам своим прикажи помнить. На мою землю ногу не ставь – отъем!
Караулов – наказной атаман терского казачьего войска, член Государственной думы – бросил клич:
– Казаки и горцы – братья. Казаки и горцы – хозяева Кавказа. Мужиков и всякую городскую рвань будем гнать с Кавказа плетями.
Фронтовики встретили Караулова на станции Прохладной – один вагон к паровозу прицеплен – и заговорили, заматерились:
– Как вы, господин атаман, казаков застаиваете, буржуи за царя глотки дерут, а кто же об нашем брате, мужике, подумает?
– Геть, чертяки! – зыкнул чубатый атаманов гайдук. – Не шуметь у вагона, их высокоблагородие изволят отдыхать.
Солдаты и усом не повели, еще крику прибавили:
– Как вы, господин атаман, азията с русским стравливаете, казака с рабочим и крестьянина с казаком стравливаете? Когда будет конец такому зверству?
В это время, с пучагой разноцветных депеш в руке, прибежал другой гайдук и, на ходу бросив машинисту: «Поехали», тоже исчез в вагоне.
Паровоз гукнул и зашипел, готовый вот-вот тронуться, но солдаты стояли на путях сплошной стеной и не думали уступать дорогу:
– Как так, господин атаман, вы один на паровозе туда-сюда раскатываетесь, а нам по-нужному ехать не на чем? Как вы по тылам мяса да жиры нагуливаете, а у нас с тоски и голоду отстает от костей последняя шкура?
Вперед протискался, припадая на перебитую ногу, инвалид и с ожесточением принялся колотить костылем по лакированной стенке вагона:
– Вылазь, гад! – Изможденное лицо его было измято злобой. – Вылазь, курва!
– Вылазь! – подхватили и другие. – Вылазь, нам самим ехать охота.
В окне показался заспанный, хмурый атаман. Некоторое время он молча глядел на беснующихся солдат, потом, полуобернувшись, что-то сказал своим гайдукам и…
– Пулемет! – дико завопил инвалид и, подхватив свои костыли, заковылял прочь.
И точно, многие увидали в окне вагона хобот пулемета… Тогда, сколько ни было на станции фронтовиков, все посрывали из-за плеч винтовки и давай залпами садить в крытый синим лаком вагон. Так был казнен атаман Караулов. И вот уже он вместе с гайдуками выброшен на перрон, а издудырканный вагон до отказу набит солдатами, солдаты располагаются на крыше.
С паровозной будки говорит речь молодой казачок:
– Господа солдаты… Вам воевать надоело, и нам воевать надоело… Вы с фронта тикаете, и наш первый Волгский полк из Пятигорска чисто весь разбежался. Ваши генералы сволочь, наши атаманы сволочь, и городские комиссары тоже сволочь. Не хотят они нашего горя слушать, не хотят слез наших утереть! Отныне и до века не видать им нашего покора, не дождаться нашего поклона! Они дорываются стравить нас, дорываются заквасить землю кровью народной. Не бывать тому! Их мало, нас много! Пообрываем с них погоны и ордена, перебьем их всех до одного и побежим до родных куреней – землю пахать, вино пить да жинок своих любить…
Речь та всем понравилась, пошло братанье солдат с казаками.
…Рядом же, вокруг загруженных пушками платформ, воровато шныряли кабардинцы в высоких папахах, с нагайками в руках. Они не без робости заглядывали в начищенные стволы орудий, неуверенно трогали орудийные затворы, лафеты, щитовые прикрытия.
– Русский, продавай.
– Купи.
– Сколько берешь?
– Сколько убежишь.
– Зачем твоя шутишь?
Кабардинцы, присев на корточки в круг, совещались, бормоча все разом и щелкая языками. Потом снова осматривали орудия и снова спрашивали:
– Солдат, бушка стреляет? Пороха есть?
– Готова, заряжена. Подставляй башку, попробую пальну разок…
– У меня башка один, башка жалко… Стреляй, пожалуйста, туда на гору.
– Эка, пес, смыслишь?
– Продавай бушка?
– Зачем она тебе?
– Надо, бульно нада бушка. Ингуш – собака, чечен – собака, адыге – собака, натухай – собака… Иё-ёй, много туда-сюда собака, воевать буду, продавай!
– Покупай.
– Пачем?
– Руб фунт.
– Га, зачем твоя смеялся…
Рядились до ночи… А ночью артиллеристы растаскивали по вагонам связанных барашков и огромные лепехи овечьего сыру; потом считали и, ругаясь, делили серебро царской чеканки. С платформы на руках, чтоб грому лишнего не было, кабардинцы скатывали орудия и подпрягали в них уносливых коней. Погромыхивая орудийными щитами, запряжки трогали, мчались в горы, зарывались в ночь и в ветер.
Потолкался Максим в народе, послушал, чего люди говорят, и вернулся к себе в теплушку: мешка с одежей не было, остался один ящик с солдатскими голосами.
– Вот так клюква, – огорченно крякнул он, усаживаясь на солдатские голоса, – совесть в людях пропала, прямо из-под рук рвут.
– Какая ныне совесть, – отозвался, прожевывая сало, ополченец, – позавчера под Дербентом своих раненых не подобрали.
– Срамота, – опять сказал Максим, – эдак будем друг у друга шапку с головы воровать, так и свобода нам ни в честь, ни впрок, все в цыганску партию угодим.
– Во, во, – согласился ополченец и покосился на урну: – Чего везешь?
– Голоса.
– Чево-о?
– Голоса солдатские.
– Ааа… Чудно дядино гумно: семь лет хлеба нет, а свиньи роются.
– Чудно, да не больно.
– А я думал, торгуешь чем… Какая тебе от них корысть?
– Депутат. В учредилку представить должен.
– Э, милок, хватился. Али не слыхал, в Грозном носатый парнишка-то высказывал: тю-тю учредилка, палкой по боку ее. Ныне на всей Расее верхом большевики сидят, а это, брат ты мой, такие люди, такие люди… из одного кулака пряник кажут, а другим по харе мажут… И тебя, братец, за твои шанцы не похвалят, не побоятся твоих рыжих усов.
– Цыц! – вскочил голодный Максим, свирепо глядя на засаленные до ушей щеки ополченца. – Драть я их хотел: и большевиков, и меньшевиков, и тебя, дурака, вместе с ними! Никаких шанцев у меня нет. Полк послал меня, полк доверил мне голоса свои, и я сдам их честь по чести куда следует.
– Эка, осатанел! – попятился ополченец. – Я што, я ничего, мое дело ахово…
На полке
рр…
Под полкой
ррр…
Из темного угла веселый голос:
– Батарея, огонь!
И пошла потеха.
– Дьявола́, дверь открой, дышать нечем.
Ополченец, творя молитву на сон грядущий, угнезживался спать. Скоро с подсвистом и перехватами захрапел и весь вагон. На одной из остановок Максим посадил молодого гармониста, который обещался даром играть до самого Армавира.
– Ну-ка, ну, тряхни, – попросил Максим, усаживаясь на нарах поудобнее. – Я ведь тоже игрывал, когда холостым ходил. У меня трехрядка саратовская была, с колокольчиками… Как, бывало, пустишь – отдай все – и мало!
Гармонист вывязал из скатерти ливенку, закинул ремень на плечо и, рванув мехи, пустил звонкую трель.
Печка остыла, людей тревожил холод, будила гармонь. Крякая, харкая и зевая спросонок, они подымались, свертывали закурки и молча, с явным удовольствием, слушали. Трепаная, протертая на углах ливенка рассказала про Разина-атамана, про горюшко бурлацкое. Гармонист переиграл все переборы и вальсы, какие умел, перепел все песни, какие помнил, и, отложив гармонь, принялся разживлять печку. В сыром сизом дыму проблеснул огонь, заревел огонь в жестяной трубе и растопил молчание. Вострый на зуб, конопатый фельдфебелишка окликнул гармониста:
– Эй ты, кепка, семь листов, одна заклепка, чей будешь?
– Я?.. Я – армавирский.
– Играешь, значит, веселишь народ?
– А что нам, малярам, день марам, неделю сушим.
– Ездил далека ли? – И он добавил горячее словцо.
Кто-то засмеялся, а парень отшутился:
– Аяй, дядя, какой ты дошлый, а ну, умудрись, – пымай в ширинке блоху, вошь ли, насади ее фитой и держи за уши, пока ворона не каркнет…
Они перебросились еще парой-другой злых шуток, и фельдфебелишка, истощив свое красноречие, отстал.
Гармонист поставил гармонь на коленку и, тихонько перебирая лады, начал было рассказывать про гулянку на сестриной свадьбе, со свадьбы он и возвращался. Его перебили голоса, полные зависти и скрытой обиды:
– И воюй там…
– Тыл он и тыл. Мы воюем, а они жируют…
Обуреваемый веселыми воспоминаниями, гармонист откинул полу поддевки и лихо топнул ободранным лакированным сапогом, как бы показывая, что хоть сейчас готов и в пляс пуститься.
– Эх, земляки, время идет, время катится, кто не пьет, не любит девок, тот спохватится! Всех тамошних плясунов переплясал, и сейчас еще пятки гудят… Дело мое молодое, дело мое холостое, завод закрылся – самое теперь время погулять да по горам, по долам с винтовочкой порыскать…
– Ехал бы под турка, там есть где порыскать.
– Мне турки не интересны. Мне интересно контрика соследить и хлопнуть. Третий месяц с ними полыщемся.
– С кем, с кем, сынок, полыщетесь?
– Да с казаками, с офицерней… То во славу контрреволюции восстание поднимут, то забастуют по станицам и хлеба в город ни пылинки не везут, а нам без толку помирать не хочется.
– Так ты красногвардеец?
– Так точно.
– Расскажи нам, что вы есть за люди и какая у вас цель? Всю дорогу звон слышим, а разобраться не могем…
– Хитрости тут никакой нет. Мы – за Советы и за большевиков… Наша программа, товарищи, самая правильная, коренная…
– Вон што…
– Так, так…
– А по скольку вы хлеба получаете?
– Кисель, сметана и все на свете наше… Товарищ Ленин прямо сказал: грабь награбленное, загоняй в могилу акул буржуазного класса. Да… Хлеба по два фунта на рыло получаем, сахару по двадцать четыре золотника, консервов по банке, а жалованье всем одинаково – и командиру и рядовому одно жалованье и одна честь.
Пожилой солдат, с широкой и рябой, как решето, рожей, подошел к красногвардейцу и, тыча ему в глаза растопыренными пальцами, вразумительно сказал:
– Сынок, не программой надо жить-то, а правдой…
Мало-помалу в разговор ввязались все и заспорили, какая партия лучше. Кому нужна была такая партия, чтоб дала простому человеку вверх глядеть; кому хотелось сперва по земле научиться ходить; а кому никакая партия не была нужна и ничего не хотелось, окромя как до дому довалиться, малых деток к груди прижать да на родную жену пасть… Одни одно кричали, другие другое кричали, а гармонист свое гнул.
– Партии, – говорит, – все к революции клонятся, да у каждой своя ухватка и выпляс свой… Эсеры, лярвы, хорошая партия; меньшевики, гады, не плохи; ну, а большевики, стервы, всех лучше… Эсеры с меньшевиками одно заладили и знай долбят: «Потише, товарищи, потише», а мы как гаркнем: «Наддай пару, развей ход!» Таковой наш клич по всей России огнем хлестнул – рабочий пошел буржуя бить, мужик пошел помещика громить, а вы… вы фронт поломали и катите домой… Наша большевицкая партия, товарищи, дорого стоит. У нас в партии ни одного толсторожего нет; партия без фокусов; партия рабочих, солдат и беднейших крестьян. Я вас призываю, товарищи…
– В тылу вы все герои! – визгливо закричал, прочихавшись после понюшки, шухорный фельдфебелишка. – В заводы да фабрики понабились, как воробьи в малину, и чирикаете: «Война до победы». Три года тут бабки огребали, на оборону работали, а теперь пришлось узлом к гузну, вы и повернули: «Мы-ста, товарищи, да вы-ста, товарищи». Как мы замерзали на перевалах и в горах Курдистана, вы не видали?.. Как мы умирали от цинги и тифу, вы не видали?.. Слез наших и стонов вы не слыхали?
– Нечего нам друг на друга ядом дышать, – сказал Максим, – время-то какое…
– Время такое, что – ну! – подхватил гармонист. – Дух в народе поднялся. Каждый в себе силу свою услыхал. У вас вчера фронт был, у нас нынче фронт. Вы там кровь роняли, нам придется тут еще больше крови уронить: что ни город – фронт, что ни деревня – фронт, изо всех щелей контра лезет… Вас палками гнали на фронт, а у нас с завода больше половины мастеровых добровольцами записались и прямо с митинга – с песнями, граем – пошли на позицию. К отряду нашему и с воли желающие начали приставать, но многим из слободских не идея была интересна, а нажива… Занимаем, господи благослови, первую станицу: поднялась стрельба, все бегут, от испугу одна корова сдохла, жители плачут и думают, что пришел свету конец… Давай право отбирать оружие и делать обыски. Тут-то и был получен декрет Крыленки малодеров расстреливать. Подставили мы одного уховерта к забору, он говорит: «Дай последнее предсмертное слово». Дали ему слово. Но от испуга он больше ничего не мог выговорить, и его застрелили. После этого обыски были честные, и никто нигде не запнулся. Переночевали мы в станице, утром получаем приказ: «Поднимай батарею, отходи на заранее приготовленные позиции». Подхватили мы свои бебехи и с радостью давай отступать. В тот же день двое из наших ребят умерли от хлеба со стрихнином, как было признано медициной. А хлебом нас угостили казаченьки, во гады…
– Опять война, – вздохнул кто-то, – что-то уж больно мы развоевались, удержу нет… Ну, а как, сынок, русскому русского бить-то не страшно?
– Сперва оно действительно вроде неловко, – ответил красногвардеец, – а потом, ежели распалится сердце, нет ништо… Драться с казаками трудно, они с малых когтей к оружию приучены, а наш брат чумазый больше на кулаки надеется. Под станицей Отважной бросилась на нас в атаку казачья сотня в пешем строю. Мы лежим в окопах, стреляем, а они идут во весь рост. Мы знай свое, стреляем, а они – невредимы. С нас пот льет градом, стреляем, а они – вот они! – совсем рядом, саблями машут и «ура» кричат. Видим, дело хило. Вылезаем мы из окопов, берем винтовки за раскаленные дула, да к ним навстречу, да как начали их по чубам прикладами глушить… Шестерых у нас тогда ранили да слесаря Кольку Мухина зарубили, ну и мы им задали чесу, будут помнить.
Рассказчика тесно обступили и вперебой принялись выспрашивать про Россию: можно ли проехать в ту или другую губернию, где и с кого получать недочеты полкового жалованья и кто и почему фронтовиков разоружает.
– Мы разоружаем.
Загалдели, заматерились…
– Здорово живешь… А вы нас вооружали?
– Как ты смеешь у меня отбирать винтовку, когда я, может быть, сам хочу с буржуями воевать? Да я…
– Не горячитесь, земляки. Я вам сейчас все это объясню… Оружие мы раздаем дорогим нашим революционным войскам и с приветом отправляем их на Ростовский фронт. На Дону против революции восстали генералы, офицеры, юнкаря. На Дону война идет на полный ход. Нам не сдадите оружие, поедете дальше в Кубанскую область, там вас все равно полковник Филимонов разоружит.
– Какой такой полковник? Душа из него вон. Мало мы их покувыркали?..
– Тут дело простое – у нас власть советская, а у казаков власть кадетская… Дон, Кубань и Терек большевиков не признают… У нас – совдепы, у них – казачий круг и самостийная рада. Они дрожат над кучкой своего дерьма, а мы кричим: «Вся Россия наша…» Филимонов есть войсковой атаман кубанского казачества. Он спаривает войсковой круг с радой, рада Кубанская сговаривается о чем-то таком с Украинской радой, но мы раз и навсегда против всей этой лавочки… Нам с ними так и так царапаться придется. Сейчас, ничего не́ видя, и то бои кругом идут: на Тамани бои, на Кубани бои, на Дону бои… Как у вас титулованье? – спросил красногвардеец.
– «Господа», – ответили солдаты хором.
– Долой господ… По декрету полагается называть друг друга товарищем.
– Нам все равно, товарищ так товарищ, только бы вот недочеты полкового жалованья выдали да хлеба на дорогу…
Максим побарабанил согнутым пальцем по ящику с голосами и спросил красногвардейца:
– Выходит, зря голосовали мы?
– Зря, землячок.
– Как так?.. Не мог же целый полк маху дать?
– Вся Россия, брат, маху дала… Давно бы нам…
Паровоз заржал, разговор оборвался, и двери теплушек распахнулись навстречу городу.
Над крышами домов рвалась шрапнель, где-то совсем близко застучали пулеметы: с высокого закубанского берега восставшие казаки станицы Прочноокопской обстреливали город.
На перроне толкались красногвардейцы, одетые в вольную одежду и обвешанные оружием.
Эшелон медленно подходил к вокзалу.
Забитые пылью, задымленные теплушки – в скрипе рассохшихся ребер, в кляцанье цепей, в железном стоне своем – напоминали смертельно уставшую от большого перехода партию каторжников. Из теплушек на ходу выпрыгнули несколько солдат и, размахивая котелками, кинулись за кипятком.
– Бомбы! Бомбы! – завопил один из красногвардейцев, приняв котелки за бомбы, и – бежать… За ним, срывая с себя ремни и оружие, последовали и товарищи. Вослед им, подобен каменному обвалу, грянул хохот… Смущенные гвардейцы возвращались, разбирали и опять навешивали на себя брошенное оружие, подсумки с патронами, разыскивали потерянные калоши.
Встречать прибывший эшелон вылетел комендант станции в шинели нараспашку, с наганом в руке.
– Приветствую вас! – багровея от натуги, заорал он. – Приветствую от имени… от имени Армавирского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов… Герои эрзерумских высот… Защитники дорогого отечества… Долой погоны! Сдавай оружие!
Кругом
серым-серо́. Ходи, Расея!
заорали, засвистали:
– Рви погоны!
– Ложи оружье!
– Галуны и погоны до-ло-о-ой под вагоны!
Столбы, заборы, стены были сплошь уклеены плакатами, декретами и воззваниями к трудящимся народам всего мира.Всем , всем , всем !
Читай и слушай .
Все наружные отличия отменяются.
Чины и звания упраздняются.
Ордена отменяются.
Офицерские организации уничтожаются.
Вестовые и денщики отменяются.
В Красной гвардии вводится выборное начало.
Мир хижинам! Война дворцам!
Товарищи ! —
через горы братских трупов,
через реки крови и слез,
через развалины городов и деревень, —
руку, товарищи!
Штыки в землю!
Под удар – царей!
Под удар – королей!
Срывай с них короны и головы!
Пролетарии всех стран, соединяйся!
Фронтовики принялись срезать у себя погоны и нашивки, хотя многим и жалко было: тот младший унтер-офицер, тот фельдфебель, у кого кресты и медали – домой всякому хотелось показаться в полной форме.
На путях по вагонам сидели казаки и не хотели сдавать оружие. Красногвардейцы, в среде которых были и солдаты из понимающих, выкатили на мост пулеметы и поставили казакам ультиматум: «Сдавай оружие».
Гудки дают тревогу
народ бежит
казаки дрогнули
и сдались.
Со стороны города слышалось: «Ура! Ур-ра!» Откуда-то на шинелях несли раненых.
– Ну, что? Как там?
– Отбили.
– Велик ли урон?
– Бой был боем Турецкого фронта с пулеметным и орудийным огнем, трое суток без передышки. Будь они прокляты!Максим отправился на поиски хлеба.
Воинские продовольственные лавки были разгромлены. Около заколоченного досками питательного пункта с аттестатами в руках бродили фронтовики. Горестно ругаясь, понося новые порядки и размахивая принесенными на менку рубахами и подштанниками, солдаты табунами шли на базар.
Хлеба не было ни на базаре, ни в городе. Обкрадываемые торговки на базар глаз не казали, а городские лавочники отсиживались за дубовыми дверями и, гоняя чаи, выискивали в священных книгах роковые сроки и числа.
На базаре было весело, как в балагане.
Спозаранок на пустых хлебных ларях, на солнечном угреве сидели солдаты, вшей били и, давясь слюной, про водку разговаривали: все уже знали, что на станции Кавказской счастливцы громят винные склады.
Через толпу пробирался бородатый красногвардеец – винтовка принята на ремень, на штык насажен кусок сала и связка кренделей. Молодые казаки остановили и окружили бородача.– Купи, дядя, офицера?
– Какого офицера?
– Хороший офицер, нашей второй сотни офицер, но для беднейшего сословия вредный. Мы его пока заарестовали и содержим в своем эшелоне, под охраной.
– Зачем он мне?
– Расстреляешь.
– А вы – сами?
– Он перед нами ни в чем не виноват.
Пока разговаривали, один из казаков срезал у бородача со штыка и крендели, и сало, другой – вынул затвор из винтовки.
– Так не купишь офицера?
– Нет… Мы их и некупленных подушим, наших рук не минуют.
– Ну, прощай… А затвор-то у тебя где? Пропил?
Тот схватился – нету затвора.
– Отдайте, ребята…
Посмеявшись над бородачом, променяли ему его же затвор за осьмушку махорки.
На расправу базарного суда приволокли мальчишку, укравшего подсумок с песенником и рваной гимнастеркой. За утро на базаре убили уже двоих: картежника, игравшего на наколку, и какого-то прапорщика. На оглушенного страхом мальчишку рука не поднималась. Покричали-покричали и решили:
– Петь и плясать ему среди базара до темной ночи.
А один весельчак добавил:
– Ночью иди опять воруй, только не попадайся.
Блеснули теплые глаза мальчишечьи, закипели зубы в крике:
В арсенальном большом замке
Два солдатика сидят…
Оба молоды, красивы,
Про свободу говорят…
Откуда-то опять пронесли и провели под руки раненых. Голодный и разбитый в мыслях Максим сорвал с урны сургучную печать и на все солдатские голоса выменял у бабы коврижку ржаного хлеба. Присев в сторонке, он разломил хлеб – одну краюху сунул в карман, другую принялся есть над горсточкой, не теряя ни крошки.
Погром на базаре начался с пустяков.
– Почем селедка?
– Четвертак.
– Заверни парочку для аппетиту.
– Изволь.
Завернутые в листок солдатского голоса селедки нырнули в шинельный рукав.
– Служивый, а деньги?
– Деньги?.. Да ты, тетка, ошалела?.. Уплочены деньги, али другие хочешь согнуть?
Торговка солдата за жабры:
– Подавай денежки, разбойник!
– Это я-то разбойник? – обиделся солдат.
Развернулся
цоп бабу по уху.
Покатилась баба в грязь и завизжала на всю губернию, а из-за пазухи у нее на грех и вывались два каравая хлеба.
Скрипнул зуб, рявкнула глотка солдатская:
– Ах ты, нация-спекуляция… Эдак народ мучится, а у нее за пазухой целый кооператив.
Хлеб разорвали и поглотали в мгновение ока.
Под ударами прикладов загремела первая разбиваемая лавка, а потом – пошло.
Штык к любому замку подходил.
Все базарные лавки в два счета были развалены и товары раскуплены – колбаса, конфеты, табачок, фрукты, – помалу досталось, а кровушки за три года пролили эва сколько, горького хлебнули досыта: конфеткой тут не заешь… Помитинговали-помитинговали и шайками потекли в город.
– Должон быть хлеб.
– Должон… Деться-то ему некуда, не вихрем подняло в самом деле?
– Это они умно придумали, поморить солдат голодом…
– Хлеба много, тут на вокзале один старичок сказывал… Весь хлеб, слышь, большевики немцам запродали… Хлебом все подвалы забиты.
– Врут, не спрячут, солдат найдет.
– Ох, ребята, бей да оглядывайся…
В городе голодные разгромили несколько пекарен, тем все и окончилось.
В вокзале митинг.
С речами выступали и сторонники разных партий, и так просто, любители. Кто хотел слушать, тот слушал. А кто пришел под крышу погреться или выспаться – они сидели и лежали на мешках и мирно беседовали. Меж ними шнырял мальчишка и, как фокусник мячами, играл словами:
– Эх, вот махорка, корешки, прочищает кишки, вострит зрение, дает душе ободрение, разгоняет в костях ломоту, потягивает на люботу, кровь разбивает, на любовь позывает, давай налетай – двугривенный чашка…
По буфетной стойке бегал, потряхивая длинными волосами и размахивая руками, оратор:
– Товарищи и граждане! Десять тысяч солдат Турецкого фронта избрали меня на почетный пост члена армейского комитета… Товарищи и граждане! Преступный и позорный Брестский мир толкает свободную родину в пучину гибели. Россия – это пароход, потерпевший в море крушение. Мы должны спасти гибнущую страну и самих себя. Довольно розни и вражды. Большевики хотят стравить вас с такими же русскими, как и вы сами. Позор и еще раз позор! Народу нужна не война, а образование и разумные социальные реформы. Товарищи и граждане…
Солдаты торопливо, ровно на подряд, грызли семечки, угрюмыми волчьими глазами щупали жигилястую фигуру оратора, посматривали на его затянутые в чистенькие обмотки дрыгающие ноги и по множеству лишь им и ведомых мелких признаков решали: стерва, приспешник буржуазии.
Потеряв терпение, на буфет вспрыгнул небольшой, но крепкий, как копыл, солдат. Он решительно отодвинул жигилястого в сторону и взмахнул рукавами.
– Братаны… – Распахнулась надетая на голое тело шинель, на расчесанной груди чернел медный крест. – Братаны, расчухали, куда он гнет и чего воображает?.. Не глядите, что член какого-то комитета: мягко стелет, да жестко будет спать. Он есть гнилой фрукт в овечьей шкуре… Расписывал – заслужили, мол, вы славу, доблесть…
Скрестились крики, подобны молниям:
– Заслужила собака удавку… Вшей полон гашник.
– Он, поди, из офицеров?.. Харя-то больно чиста да строга.
– То же и Керенский бо́тал…
– Гражданин, – вскинулся жигилястый, – вы не имеете права… Керенский – сын русской революции.
– Сукин сын! – озлобленно и гулко, как из бочки, выкрикнул новый оратор.
Грянул
хохот…
Рукоплесканиями, криками одобрения слушатели приветствовали острослова: в широких вокзальных окнах с дрогу звенели и дребезжали еще не выбитые стекла.
Солдат поддергивал спадающие стеганые штаны – за горбом звякал котелок с кружкой – и говорил… Говорил он громко, раздельно, чтоб всем и слышно и понятно было:
– Братаны… Я фронтовик тридцать девятой пехотной дивизии Дербентского полка. Дивизия наша по всему Ставрополью и кое-где по Кубани ставит на ноги молодую советскую власть… Полк наш расквартирован тут недалече, на хуторе Романовском… Я приехал сюда для связи… Под Ростовом действительно фронт стоит, под Екатеринодаром фронт стоит, домой нам проходу нет… Братаны, чего вам тута сидеть и кого ждать?.. Кто немощен духом, слаб телом – сдавай винтовку… Остальные, как один, организуйся в роты, батальоны, полки… Затягни за собой всех своих товарищей, зятьев и братьев… Выбирай командира, получай денежное, приварочное и чайное довольствие и – налево кругом марш… Выпускай из буржуя жирную кишку, поддерживай молодую свободу согласно декрета народных комиссаров… Али вы хуже других?.. Али чужими руками хочете жар загребать?.. Али вам свобода не мила?
– Мила, мила.
– Едем, товарищи… Кому и быть дружным, как не нам, фронтовикам?
– Известно… Артелью не пропадем.
– А домой-то когда же?
– Домо-о-ой?.. Али давно бабу не доил?
– Буржуев и в России много. Проканителимся тут, а там без нас всю землю поделят и всю воду отсвятят.
Желающие стали записываться в отряд… Кого речь прошибла, кому хотелось быть поближе к дому, а кто и спал и видел, как бы на станцию Кавказскую до водки добраться.
Записался в отряд и Максим.
Долго выбирали командиров, потом разместились по вагонам и подняли хай:
– Давай отправление!
– Мы записались не гарнизонную службу нести!
Продукты розданы, речи сказаны, эшелоны отваливали с музыкой, с криком – ура! ура! – и со стрельбой вверх.
И снова замелькали, закружились телеграфные столбы, верстовые будки, курганы, кусты, овражки…
Солдаты в вагонах, солдаты на вагонах, солдаты на буферах и так по шпалам шайками текли. По дорогам в телегах и на линейках скакали казаки, хуторяне, бабы, шли старые и малые – с бутылками, четвертями, с ведрами, кувшинами, будто на Иордань за крещенской водой.
На Кавказской – скопище людей, лошадей, эшелонов. Дальше ходу не было: под Ростовом фронт стоял, и в сторону Екатеринодара партизаны рыли окопы, отгораживаясь от Кубанской рады.
За станицей, перед винными складами, день и ночь ревмя ревела, буйствовала пьяная многотысячная толпа. Солдаты, казаки и вольные недуром ломились в ворота, лезли через кирпичные стены. Во дворе упившиеся не падали – падать было некуда, – стояли, подпирая друг друга, качались, как гурт скота. Некоторые умудрялись и все-таки падали; их затаптывали насмерть.
В самом помещении пьяные гудели и кишели, будто раки в корзине. Колебался свет стеариновых свечей, на стенах под сетками поблескивали термометры и фильтры. В бродильных чанах спирт-сырец отливал синеватым огнем. Черпали котелками, пригоршнями, картузами, сапогами, а иные, припав, пили прямо как лошади на водопое. В спирту плавали упущенные шапки, варежки, окурки. На дне самого большого чана был отчетливо виден затонувший драгун лейб-гвардии Преображенского полка в шинели, в сапогах со шпорами и с вещевым мешком, перекинутым через голову.
У одного бака выломили медный кран, живительная влага хлынула на цементный пол.
Кругом блаженный смех, объятья, ругань, слезы…
Во дворе жаждущие ревели, подобно львам, с боем ломились в двери, в окна:
– Выходи, кто сыт… Сам нажрался, другому дай!
– Сидят, ровно в гостях.
– Допусти свинью до дерьма, обожрется…
В распахнутом окне третьего этажа стоял, раскачиваясь, старик в рваном полушубке и без шапки. В каждой руке он держал по бутылке – целовал их, прижимал к груди и вопил:
– Вот когда я тебя достал, жаланная… Вот оно коко с соком…
Старик упал на головы стоящих во дворе, сломал спинной хребеток, но бутылок из рук не выпустил до последнего издыхания.
Из подвального люка вылез хохочущий и мокрый как мышь, весь в спирте, солдат. Грязны у него были только уши да шея, а объеденная спиртом морда была сияюща и красна, будто кусок сырой говядины. Из карманов он вытаскивал бутылки, отшибал у них горлышки, раздавал бутылки направо-налево и визгливо, ровно его резали, верещал:
– Пей… Пей… За всех пленных и нас, военных… Хватай на все хвосты, ломай на все корки… Ээ, солдат, солдат, солдатина…
Водку у него расхватали и, жалеючи, стали выталкивать со двора вон:
– Землячок, отойди куда в сторонку, просохни, затопчут…
– Я… Я не пьян.
– А ну, переплюнь через губу!
– Я… я, хе-хе-хе, не умею.
Вытолкали его из давки, и он пошел, выписывая ногами мыслете и подпевая с дребезгом:Всю глубину материнской печали
Трудно пером описать.
Тут драка, там драка: куда летит оторванная штанина, куда – рукав, куда – красная сопля… Сгоряча – под дождем и снегом – шли в реку купаться, тонули. Многих на рельсах подавило. Пьяные, разогнав администрацию и служащих, захватили вокзал и держали его в своих руках трое суток.
Ночью над винными складами взлетел сверкающий сребристый столб пламени… В здании – взрывы, вопли пьяных, яростный и мятежный пляс раскованного огня.
Огромная толпа окружила лютое пожарище и ждала, все сгорит или нет. Один казак не вытерпел и ринулся вперед.
– Куда лезешь? – ухватили его за полы черкески. – Сгоришь…
– Богу я не нужен, а черту не поддамся… Пусти, не сгорю, не березовый! – Оставив в руках держателей черкеску, он кинулся в огонь. Только его и видали.
Тревожное ржанье коней разбудило Максима, – спал он в теплушке, у коней под ногами, – на вокзальных окнах и на стенках крашеных вагонов играли блики пожарища. С похмелья Максима ломало, зуб на зуб не попадал… Казаки из теплушек коней тянули, сумы тянули и – домой. Солдаты-кубанцы запасались водкой на дорогу, собирались в партии и тоже уходили в степь.
К одной партии пристал и Максим.Из Турции и Персии, с засеянных костями и железом полей Галиции, из гнилых окопов Полесья и сожженных деревень Прикарпатской Руси, с Иллукских укреплений и с залитых кровью рижских позиций – отовсюду, как с гор потоки, устремлялись в глубь мятущейся страны остатки многомиллионной русской армии. Ехали эшелонами, шли пеши, гнали верхами на обозных лошадях, побросав пушки, пулеметы, полковое имущество. По пустыням Персии и Урмии, по горным дорогам Курдистана и Аджаристана, по большакам и проселкам Румынии, Бессарабии и Белоруссии – двигались целыми дивизиями, корпусами, брели малыми ватагами и в одиночку, скоплялись на местах кормежек и узловых станциях, тучами облегали прифронтовые города.
На Киев и Смоленск
Калугу и Москву
на Псков, Вологду, Сызрань
на Царицын и Челябинск
Ташкент и Красноярск
летели солдатские эшелоны, как льдины в славну вёсну!Над Кубанью-рекой
В России революция – по
всей-то по
Расеюшке грозы гремят,
ливни шумят.
Меж двух морей, подобен барсу, залег Кавказ.
Когда-то орды кочевников топтали дороги Кавказа; выделанная из дикого камня дубина варвара дробила иранскую и византийскую культуру, и монгольский конь грудью сшибал тысячелетних богов Востока. От моря до моря развевались победные знамена персидских владык и деспотов. Полчища Тимура, словно поток камней, увлекая за собой малые народы, перекатывались через горные кряжи. До сверкающих роскошью пышных городов Закавказья арабы докидывали мечи свои. Ученья фанатиков и языческих пророков, как яростная чума, захлестывали страну и опрокидывали веками возводимые твердыни ислама и христианства. В веках – земля ломилась, камень кипел под конским копытом, рев бесчисленных орд, свист каменных ядер, грохот падающих крепостных стен, – сметая целые народы, вытаптывая пирующие царства, походом шла слепая кровь.
Под бок к Кавказу привалилась толстомясая Кубань.
Когда-то прикумские и черноморские степи были безлюдны. По зеленому приволью, выискивая гнезда любимых трав, с визгом и ржаньем бродили табуны гордых диких коней. По заоблачью одиноко мыкались сизые орлы; из-за облака хищник падал на добычу стремительнее, чем клинок падает на обреченную голову. По рекам и озерам дымились редкие становища медноликих кочевников, перегоняющих с места на место неоглядные отары овец. Порою, вперегонышки с ветром, проносилась налетная разбойничья ватага. Да от дыма к дыму, сонно позвякивая бубенцами, пробирался невольничий караван восточного купца, щеки которого были нарумянены, зубы и ногти раскрашены, а борода завита в мелкие кольца.
Года бежали, будто стада диких кабанов.
Когда-то на Дону и в днепровских запорогах казаковали казаки, обнеси-головы. Жили они жизнью вольною: сеять не сеяли, а сыты были, прясть не пряли, а оголя пуза не хаживали; по лиманам и затонам казаки рыбу ловили, зверя по степи гоняли, винцо пили и войны воевали. Не давали казаки покою ни хану крымскому, ни царькам ногайским, ни князькам черкесским, ни султану турецкому, ни самому царю московскому. Челны удальцов – под счастливыми парусами – летывали и в Анатолию, и к берегам далекой Персии, а коней своих добытчики паивали и в Аму-Дарье, и в быстром Дунае. На Волге понизовые голюшки купцов и воевод царевых перехватывали, корабли орленые топили, города расейские и басурманские рушили, всякой смуте и мятежу были казаки первые задирщики.
А в кременной Москве сидел грозен царь.
Царство Московское крепло и расширяло владенья свои. Под ноги царю русскому катились вражьи города и головы. Сломив могущество Пскова и Новгорода, Казани и Астрахани, царь замирил и привел в покорность ногаев и чухонцев, крымчаков и сибирцев и многие народы иных земель. Не корилась Москве одна казацкая вольница. Жили казаки по вере и заветам отцов своих, дани ни князю, ни боярину не давывали, дела решали на кругу. Гордая Москва невзлюбила того духа и, собравшись с силами, огневым боем ударила по гнездам соколиным… Закачался Дон, закачалось Запорожье, задрожала степь от конского топу да пушечного грому, запылала степь пожарами горькими… Своеволье одних атаманов срубил топор палача, другие – пали на колени, выпрашивая монаршей милости; а иные, подняв свои коши на коней, гикнули и, умываясь слезами, ушли в Туречину. Опальные казаки, спасаясь от кнута и батога, бежали на Тамань, Кубань, Терек, на Волгу и за Волгу на Яик. И долго еще, мстя за бунт Разина, Булавина и Пугача, цари выкуривали казаков с насиженных мест и засылали их в далекие степи Запольные, повелев укрепления строить и крестить Неверов – кого крестом, кого шашкою, – земли у них отнимать и богачество их разорять.
Гремел и сверкал поток времени.
Страну давила неметчина, объедал помещик, утеснял патриарх. Из Руси, по многим сиротским дорогам, на привольное житье украин бежали крепостные смерды и «упорствующие в злосмрадных ересях воители за веру Христову». Над степью, грозя сияющим крестом далеким горам, вставали куренные поселки и раскольничьи скиты. Далеко ушли казаки, раздвигая рубежи русские, но всесильная рука царя всюду доставала повольников. Мало-помалу казаки были переписаны, в мундиры обряжены, медалями обвешаны, к присяге склонены и полевой службой обязаны. Милостивыми грамотами, земельными и рыбными угодьями царь задарил старшин, выборных атаманов заменил назначенными и сословья утвердил – так вольное казачество было перестроено в войско верных казаков. Ордынцы защищали каждый камень и каждый клок своих пастбищ. Дикое ржанье коней, всплески клинков и крови сияющее зарево. Под напором русского штыка ломились аулы. Сапог русского солдата топтал зеленые знамена полумесяца, и казак – добывая себе славу, а царю богатства – шашкой врубался в сердце Азии.
Мутнёхонька, быстрёхонька бежит-гремит Кубань-река, а впристяжку с ней ухлёстывают люты речки горные, стелются протоки малые. Шумные станицы да сытые хутора – всеми тополями своими, ветряками, садами, столетними дубами и сонными волами – смотрелись в быстрые воды Кубани.
С году на год станицы отстраивались церквами, каменными домами, паровыми мельницами, маслобойными и шерстобитными заводами. Из края в край шумели богатые ярмарки, лавки ломились от купецкого добра, ссыпные лабазы и элеваторы под горло были набиты хлебом, целые реки кубанской пшеницы текли на рынки Европы и Азии. С осенних заморозков до Великого поста от Тамани до Каспия по широким шляхам тянулись чумацкие обозы: гам, песня, хлопанье кнутов, в ярмах качались круторогие воловьи головы, стонали тяжелые возы, груженные зерном, рыбой, солью, строевым лесом, сапожным и щепным товаром.
Полыхали зимы морозами.
Вьюга несла со степи снежные знамена. Заметенные буранами станицы отгуливали свадьбы, крестины, именины и престольные праздники. В жарко натопленных светлицах прогуливали ночи напролет, ели невпродых, пили вина своей давки, распевали старинные и войсковые песни, до седьмого пота плясали прадедовские – времен Запорожья – лихие пляски.
А там прилетала и весна, ласковая да горячая.
Курганы первыми освобождались от зимнего плена. Одряхлевшие снега, покрываясь мертвенной синевой, прятались под кусты, сползали в овражки, где и гибли, сраженные гремучими ручьями. Зима, напрягая силы, еще оборонялась. По ночам зима облетала повитую тревожными снами землю и строила козни: где морозный узор наведет на окно, где подсушит лужицу, где закует во льды зажорину, где частым инеем усыплет поле, тут заметет мокрым снегом крепко уснувшую собаку, там студеным дыханием остановит бег ручья… Но лишь проблеснет заря и брызнут искры рассвета, зимушка без оглядки пускается в бегство – вдогонку ей несутся птичьи щебеты, горланят петухи, и солнце мечет блещущие копья. На обсохшие головы курганов все чаще и чаще опускались отдыхать стайки жаворонков, этих отважных разведчиков грядущего тепла. На межах в трепете распрямлялись голые былинки. Мелкие степные зверюшки, вырвавшись из черной неволи, грелись около своих нор. Зима в страхе пятилась, отступала в горы, на коренное становище, и отсюда – взметывая стужу со дна ущелий, срывая сверкающие снега с заоблачных высот, окруженная преданными полчищами мутных мартовских метелей – с воем кидалась зима в битву на равнины, и тут бесславно гибла разорванная в клочья и пену хладная сила. Корежило, ломало льды, трещали льды, всплывали льды, поднятые талою водою. Озера и лиманы, дрогнув первой свинцовой рябью, распахивали объятия свои навстречу весне. Разливалась Кубань. Взыграв, рвала Кубань берега, выметывала зелены острова, легко несла пышные воды свои. Выпущенные из птичников, гуси и утки срывались, летели на большую воду – из-за птичьего гогота и кряка не слышно было человечьего голоса. Застоявшаяся за зиму скотина, задрав хвосты, выносилась за околицу, на желанное приволье – ржанье, рев, блеянье, – всяк язык славил весну-красну.
Хороши, горячи кони, мчащие весну.
Над степью, охраняя ее покой, стлались ветра-зимогоны. Синё дымилась, подсыхала степь. Станичник, помолясь, выезжал на пашню.
Неделя, другая – и вот уже залило степь от края до края зеленью всходов да сивыми ковылями.
Радостным цветом зацветали сады, обрастали сады зелеными шкурами.
Реки и озера кипели рыбой, сети не держали рыбы.
Ребятишки, на ходу сбрасывая штаны и рубахи, с криком: «Купа вода жара взяла!» – кидались с крутояра в разливы…
С давних пор с первым теплом из глубин России взмывали, как стаи голодных грачей, и тянулись на Дон да Кубань ватаги жнецов и косцов. В изодранных зипунах, в широких пестрядинных штанах, пыля разбитыми лаптями и сдвинув шапки с загорелых лбов, они шли и шли, мерли на дорогах, тысячами гибли в холерных бараках, но живые были упорны в своем стремлении и, дорвавшись до хлебных мест, пускали корень и оставались тут жить: нанимались в табунщики и пастухи, в Приазовье пополняли рыбачьи артели, из пришлой голытьбы создавались кадры батраков и ремесленников, торговцев и земледельцев.
Станичники выезжали на покос целыми семьями – с бабами, ребятишками, принанятыми работниками. Кругом, насколько глазу хватало, расстилались зреющие нивы да травы в человеческий рост. Стальным клекотом стрекотали косилки, подпряженные парою, а то и тройкой взмыленных лошадей. В траве блистали освистанные косы, взмокшие линючие рубахи обтягивали спины косарей. Вечерами горьковатый дым костров плыл над степью, под самые звезды взлетала молодая песнь.
К Петрову дню степь брунела. Стеной вставали хлеба – каленый колос, наливное зерно. Солнце обдавало степь потоками огня. Марево, мгла, жарко дышала онемевшая от зноя степь.
В долинах, в горячем затишье вызревал табак.
Арбузы и дыни были накатаны на бахчах, будто бритые головы на древнем поле битвы.
Садовые деревья ломились под тяжестью плодов.
На привольных пастбищах нагуливались косяки коней и неоглядные отары тонкорунных овец.
Девки рано наливались, созревали для любви.
Степь родила хлеб.
Бабы рожали крепкомясых детей.
Пчелы лили медовый дождь, виноград наливало светлой слезой, и охотник в горах ломал зверя.
Богатый край, привольная сторонушка…Станица уселась верхом на реку: по один бок жили казаки, по другой – мужики.
На казачьей стороне – и базар, и кино, и гимназия, и большая благолепная церковь, и сухой высокий берег, на котором по праздникам играл духовой оркестр, а вечерами собиралась гуляющая и горланящая молодость. Белые хаты и богатые дома под черепицей, тесом и железом стояли строгим порядком, прячась в зелени вишневых садочков и акаций. Большая вешняя вода приходила к казакам в гости, под самые окна.
Мужичья сторона полой водой затоплялась, отчего всю весну жители нижней улицы по уши тонули в грязи. Кое-как, будто нехотя, огороженные камышовыми плетнями подслеповатые саманные мазанки пятились на пригорок, уползали в степь. Летом, шумя как море, к самым дворам подступали хлеба. Садов мужики не разводили, считая это дело баловством. Перед хатами лишь кое-где торчали чахлые деревца с оборванными на веники ветвями. И скотина мужичья была мельче, и сало на кабанах постнее, и шерсть на овцах грубее, и бабьи наряды скромнее, и хлеб мужики ели простого размола, да и то – многие – не досыта.
Из хороших книг и грошовых книжонок давно известно, что казаки почитали себя коренными жителями, на пришлых с Руси иногородних людей посматривали косо, редко роднились с ними браками, чинили им всевозможные земельные утеснения и не допускали к управлению краем.
Так оно и было.
Вражда велась издавна.
В описываемой нами станице кладбищ и то было два: казачье – с чугунными решетками и высокими, кованными из витого железа крестами, под которыми тлели кости атаманов, старшин, героев; по неогороженному мужичьему кладбищу бродила скотина, и были на нем лишь две примечательные могилы – купца Митрясова, дикого обжоры, подавившегося на своей же свадьбе говяжьей костью, да неуловимого разбойника и чертозная Фомки Кривопуза.
На крутом берегу Кубани, глазами на реку, стоял крытый железом каменный дом старожилого казака Михайлы Черноярова.
Славились Чернояровы крепким родом, конями, доблестью и богатством.
Михайле перевалило за шестой десяток, но еще горячи были его глаза, и еще несокрушимой он обладал силой. Темной дубки крупное лицо его было похоже на лоскут заскорузлой кошмы. Русая с прочернью борода расстилалась по могучей, будто колокол, груди. Из-под обкуренных дожелта усов сверкали в усмешке белые как кипень и целые все до единого зубы. Высоко поднятую голову – с подрубленным в скобку волосом – крыла форменная с захватанным козырьком фуражка. В старом, дозелена выгоревшем чекмене, туго перетянутый наборным поясом, спозаранок он расхаживал по двору, присматривал за работниками, снохами, внуками, всем находя дело и всех разнося за нерасторопность. В неположенное время никто из домашних не смел при нем засмеяться или сесть без разрешения. В свободный час Михайла запирался в угловой полутемной комнатушке, куда доступ бабам был запрещен, и нараспев – в четь голоса – читал Библию, водя по строке перешибленным когда-то черкесской пулей и криво сросшимся пальцем. Порою тень глубокой думы набегала на его чело, и на пожелтевшую рябую страницу святой книги огненная падала слеза. Из глубокого кармана шаровар старик доставал окованную серебром трубку и заряжал ее целой горстью выдержанного по вкусу домашнего табаку. Курил, читал, вздыхал, вспоминая службу, походы и молодость свою, раздумывая о судьбах казачества и земли русской…
Вырос, да и всю лучшую пору жизни своей Михайла не слезал с коня. Он помнил Хивинский поход и последнюю, 1877–1878 годов, турецкую войну. Афганский, глухих тонов, ковер – память о Хивинском походе – и посейчас украшал стену его комнатушки. А в турецкий год с ним приключилась история, которая стоит того, чтобы о ней хотя и коротенько, но рассказать. Под Златарицами из самого пекла рукопашного боя Михайла выхватил арабского скакуна – да такого! – какой и во сне не всякому приснится. На бивуаке станичники гурьбою пришли любоваться добычей. Самый старый в полку казак, Терентий Колонтарь, провел араба в поводу, осмотрел его зубы и носовые продухи, ощупал бабки, коленные чашки и подвздошные маслаки да сказал:
– Добрый конь.
И другие старики дули жеребцу в уши, вымеряли ребра и длину заднего окорока и тоже в голос сказали:
– Добрый, добрый коняга.
А когда Михайла, вскочив на араба, чертом пронесся перед станичниками раз да другой, – вскинулся Терентий Колонтарь, и гроза восторга пересверкнула в его очах.
– Эге-ге-ге! – воскликнул он. – Такого коня хоть и наказному атаману под верх, так впору.
И другие старики закивали сивыми чупрынами, приговаривая:
– Эге-ге-ге, братику, ще не було такого коняки в нашем кубанском вийске.
Похвала старых взвеселила сердце молодого казака, ибо чего-чего, а коней-то на своем веку те деды видывали. За стать, за удаль, за легкость кровей Михайла назвал жеребца Беркутом. Вскоре война окончилась, и русская армия с песнями двинулась к своим рубежам. В бессарабской деревнюшке, где казаки расположились на отдых, остановился на дневку и драгунский полк, что перекочевывал откуда-то из Галиции в Таврию. Командовал тем полком один из сиятельных князей, состоящий в родстве чуть ли не с самим государем. Однажды казаки и драгуны купали в Днестре лошадей. Тут-то князь и увидел Беркута.
– Эй, станица, – окликнул он казака, – где украл такого чудесного жеребца?
Михайла подлетел к князю, как был – верхом на Беркуте, голый, со щеткой на руке.
– Никак нет, выше высоко…
– Дурак. Титулуй сиятельство: я князь.
– Не воровал, ваше сиятельство, с бою добыл.
– Продай жеребца.
– Никак невозможно, ваше сиятельство, самому надобен. – И Михайла повернул было коня обратно в реку, чтоб прекратить этот пустой разговор. Князь остановил его:
– Сколько хочешь возьми, но продай.
– Не могу, ваше сиятельство, мне без жеребца – зарез.
Князь с ловкостью, поразившей кубанца, вскинул в глаз монокль и пошел вокруг горящего под солнцем атласистой мокрой шерстью жеребца. И опять тронул было Михайла, и араб заплясал, кося огненными очами на князя. И опять князь остановил казака и стал говорить о богатстве своем, о своих конюшнях, о курских, рязанских и саратовских землях, владельцем которых он являлся:
– Я тебя, казак, награжу щедро.
А Михайла, насупив брови, все бормотал «никак нет» да «невозможно». Вокруг них уже начали собираться казаки и драгуны.
– Хочешь, – тихо, чтоб никто не слышал, говорит князь, и Михайла видит, как у него дрожат побелевшие губы, – хочешь, скотина, я тебе за этого жеребца перед целым полком в ноги поклонюсь?
– Я не бог, ваше сиятельство, чтобы мне кланяться в ноги, – громко ответил ему Михайла и тронул. Князь, точно привязанный, пошел рядом с ним. Самый бывалый в полку казак, Терентий Колонтарь, уже смекнул, что дело не кончится добром, и, подойдя с другого боку, незаметно сунул Михайле в руку плеть. И снова спросил князь:
– Так не продашь?
И снова ответил ему Михайла:
– Никак нет.
– Тогда… тогда я у тебя его отберу! – И князь схватился за повод.
– И тому не статься! – уже с сердцем сказал Михайла, пытаясь высвободить повод из затянутой в перчатку руки князя. Да и конь уже беспокойно затряс головой, однако князь был цепок и повода не выпускал. Ободренный улыбками станичников, Михайла зло крикнул: – У турок много было коней еще краше моего, там надо было добывать, а вы по тылам вареники кушали да галичанок щупали. Отчепись!
– Слезай, казак, – хрипло сказал князь и повис на поводу рванувшегося было Беркута.
Тогда потянул Михайла того сиятельного князя плетью через лоб. Взвился Беркут на дыбы, оторвались руки князя, он упал было, но мигом вскочил и вскричал:
– Под суд! Под суд! Драгуны, хватай его!
Но не уронил Михайла честь кубанского войска, голой плетью отбился от десятка кинувшихся на него драгун да прямо с яру махнул в Днестр, переплыл реку, держась за гриву коня, да так, в чем мать родила, и – гайда в степь! На пятые сутки он был уже на Кубани, в своем родном курене. В дальнейшем благодаря заступничеству наказного атамана и обильным взяткам, розданным военным чиновникам, дело было замято: из екатеринодарской войсковой канцелярии в санкт-петербургскую канцелярию полетела бумажка с вестью о том, что такой-то казак такого-то числа убит за Кубанью в схватке с черкесами. Тем все и кончилось. А Михайла с командою охотников мыкался на своем скакуне по Черноморью и Закубанью, замиряя непокорных горцев, – тут за самое короткое время он нахватал полную грудь крестов и медалей. Потом участвовал в подавлении ферганского восстания и в усмирении холерных бунтов, служил в конвое варшавского губернатора, служил в Петербурге, и когда, после японской кампании, вернулся домой, – его встретили бородатые сыны, подросшие внуки. Михайла пустил Мурата – сына Беркута – в войсковой табун и заделался домоседным казаком.За окнами, под обрывом, сверкая, бежала река. Бежали годы, играя, как гребнем волны, днями печали и радостей. Умерла старуха, дочери повыходили замуж, кто куда разлетелись и сыны.
Старший, Евсей, был подсечен в Монголии пулей хунхуза.
Подстарший, Петро, без вести пропал в Закавказье на усмирении.
Третий сын, Кузьма, промотав выделенную ему долю и покинув на руки отца двух внуков, ушел на Украину наниматься в стражники и тоже – как с камнем в воду.
У среднего, Игната, пехотный полковник сманил и увез невесту. Тихий и набожный от младости своей Игнат ушел с великого горя куда-то за Волгу, в раскольничьи скиты, и давным-давно не подавал о себе ни знака, ни голоса.
Сын Василий пристрастился к торговле и тоже отбился от казачьего роду. Долгое время он барышничал лошадьми, наваривая на грош пятак, и все возил да возил в банк просаленные по́том и дегтем мужицкие рублевики. Перед войной скупил на Азовском побережье несколько мелких рыбных заводов, сгрохал в городе каменный трехэтажный дом, открыл торговлю и зажил на широкую ногу. Однажды он прикатил в станицу на собственном автомобиле. Михайла запер ворота на железные болты и спустил с цепи кобелей. Разбогатевший сын покрутился под окнами отчего дома и уехал в смертельной обиде.
Отломленный кусок и надмладший сын Дмитрий. Рос он вялым и хилым, отца боялся пуще огня, пускаясь в слезы и впадая в дрожь от одного его голоса. С детства любил церковное пение, прислуживал в алтаре. Станичную школу окончил с похвальным листом, стал проситься в город. Отец призыкнул на него и целый год продержал взаперти, приспосабливая к работе по дому. Покорный сын за все брался безоблыжно, но дело как-то не спорилось в его неживых руках.
– Не выйдет из тебя ни доброго казака, ни крепкого хозяина, – сказал отец, выпроваживая его со двора. – Езжай, задохлец, учись.
Пролетело время немалое, семья стала уже забывать оторвыша, но вот из столицы вернулся, отслужив срок, вахмистр Сердягин, и от него станичники узнали, что Митька Чернояров адвокатствует в Петербурге и обзавелся женой-барыней.
Младший сын, Иван, и нравом, и статью весь вышел в отца. Тот же крутой характер, природное удальство, любовь к движению. С юных лет он отбился от двора и вырос неграмотным. Дома жил только зимами. Каждую весну убегал в степь к чабанам или в приазовские плавни к рыбакам и лишь с первыми заморозками возвращался в станицу, обветренный и оборванный, с руками, истрескавшимися от цыпок, с рублями, звенящими в карманах холщовых штанов. В наше время ни на Кубани, ни на Тамани не осталось диких мест. Через горы и болота легли дороги, реки опоясаны мостами, распахан и затоптан каждый клок земли, само море пятится перед человеком, и там, где еще на памяти стариков все тонуло в непролазных заломах камыша, ныне разрослись хутора, рыбачьи курени, станицы. В поисках забав Ванька забирался в такие чащобы, куда редко захаживал и заправский охотник. Путаные и неясные, как намек, тропы выводили его на подернутые дрязгом ржавые болота, на раздолье светлых лиманов. Над лиманами вились тучи чаек и бакланов, дремал камыш, шурша сухим листом. Ночевал Ванька на обсохших кочках, кормился чем придется. Годам к пятнадцати он умел вязать и насаживать сети, по звездам находил дорогу, по ветру предугадывал погоду, выслеживал кабанье гайно и, поколов поросят самодельной пикой, приносил их на рыбачий стан. По весне, после спада воды, знал, в какое озеро и какая зашла рыба, куда сазан пошел метать икру, изучил повадки рыбы в водах проточных и стоячих, пресных и морских. С большой точностью по близким и далеким звериным крикам определял возраст зверя, понимал язык птицы, знал, когда и какая птица живет в степи, какая в лесу. Плавал так неслышно и проворно, что ухитрялся подобраться в камышах к выводку и побивал утят палкой. Будучи уже парнем, повадился хаживать за Кубань, где, соследив волчиные и лисьи ходы, расставлял капканы на черкесской земле, что считалось у казаков особенным удальством. Там сдружился и с Шалимом, с которым после судьба крепко и надолго связала его. Стрелял он отменно, попадая пулькой в лезвие кинжала на сто шагов. Отлично работал и шашкой, на лету рассекая серебряный полтинник. Полевой и домашней работы с малолетства не признавал, зато в плясках, драках и джигитовках всегда был первым. В будни и в праздники шлялся по улицам, горланя песни и сводя с ума девок. Одна ночка темная знала, откуда казак добывал денег на гулеванье. Болтали, будто удалец водится с отпетыми конокрадами, но пойман он не был ни разу.
Война раздергала семью Чернояровых.
Мобилизовали внука Илью, мобилизовали внука Алексея. За ними, не дожидаясь срока призыва своего года, увязался и Ванька. Михайла наложил на сыновнее решение запрет – он еще надеялся, что парень остепенится и примет на себя хоть часть забот по хозяйству.
– Батяня, благослови, – повалился Ванька отцу в ноги.
– И думать не моги.
– Отпусти.
– Принеси-ка плеть, – загремел взбешенный его упрямством старик, – отпущу тебе с полсотни горячих!
Этот последний памятный разговор происходил на базу. Сын усмехнулся и, храня видимую покорность, принес плеть.
– Ложись, сукин сын, спускай штаны.
Ванька заупрямился. Первый же удар прожег ему чекмень, рубаху, да и шкуры прихватил. Ослепленный болью, он сшиб отца с ног и пинками покатил по базу. Старик выгнал его из дому и – самая большая обида – не дал строевого коня. Ванька наперекор отцовской воле добыл коня за Кубанью, сманил из аула своего однолетка, дружка Шалима, и с казачьим эшелоном махнул на фронт.
Война качнула станицу, станица крякнула, расставаясь с молодежью. Не одно девичье сердце стонало голубем, надсадное рыданье жен и матерей мешалось с пьяными песнями и ревом гармошек.
А там пошли и бородачи призывных годов.
Кони понесли казаков в Персию, Галицию, под Эрзерум и с экспедиционным корпусом – через моря и океаны – в далекую Францию. Много чубатых голов раскатил ветер по одичавшим, залитым кровью полям.
Нежданно-негаданно налетела революция и закружила, завертела станицу.
Проглянуло солнышко и на дом Чернояровых.
Одним днем, ровно сговорившись, приехали сын Иван и сын Дмитрий с женой.
– Здорово, казаки, – встретил их отец на дворе.
– Здравия желаю, атаман, – устало улыбнулся Иван, сбрасывая с плеча вещевой мешок.
Старик расцеловался с сыновьями.
– Где Илюшку потерял? – спросил он Ивана. – Где Алешка? Наши писали, будто его… того, да я не верю.
– Верь, Алексей под Перемышлем убит, батареец Степка Подлужный самолично мне сказывал.
– Угу, пиши, – пропал казак.
– Илька в плену.
– Илюшка? В плен дался? Так, так… Два брата, два мосла… – Старик перекрестился, закусил бороду и, постояв короткую минутку в печали, обратился к сыну Дмитрию: – Ну, а ты на войне был?
– Нет, папаша, меня освободили как слабогрудого.
– Э-э, тухляй… И в кого ты, бог тебя знает, такой уродился?.. Позоришь наш род, племя. Я в твои годы лошадь в гору обгонял.
Дмитрий растерянно пробормотал:
– Я хотел… Но так вышло… Я не виноват… Теперь приехал в родные палестины отдохнуть и переждать, пока вся эта канитель кончится… Вот моя жена Полина Сергеевна.
Михайло искоса глянул на остроносую молодую женщину, перебиравшую в руках серебряный ридикюль, и равнодушно сказал:
– Живите, куска не жалко. Около меня чужого народа сколько кормится, а ты как-никак нашего, чернояровского заводу.
Повел сыновей по двору.
Двор был чисто выметен. Крепкая стройка, пудовые замки, псы как львы. Пахло прелым навозом и нагретой за день сдобной землей. Под навесом, между двумя стояками, на деревянных крючьях была развешана жирно напоенная пахучим дегтем и остро сиявшая серебряным и медным набором сбруя. Всего противу прошлого поубавилось, но было еще достаточно и птицы, и скота, и хлеба. На погребе – кадки масла, тушки осетров своего засола, бочки вина своей давки, под крышей связки листового табаку и приготовленные на продажу тюки шерстишленки.
Старик нацедил из уемистого бочонка ковш виноградного, отдающего запахом росного ладана вина и, отхлебнув, подал Ивану:
– Со свиданием, сыны.
– Как оно, батяня, живете и чем дышите?
– Слава царице небесной, есть чем горло сполоснуть, есть чего и за щеку положить. Один казакую, а все тянусь, наживаю. Суета сует и томление духа, как сказал пророк. Гол человек приходит на землю, гол и уходит. Вы, сукины коты, на мою могилу и плюнуть ни разу не придете. Из меня – душа, из вас – добры дни. Все до последнего подковного гвоздя без меня спустите, без штанов пойдете с отцова двора. Попомните мое слово.
– Напрасно вы, папаша, так, – встрепенулся Дмитрий. – Я в Петербурге большие деньги зарабатывал. Имел свой выезд, свою дачу, дом собирался купить… Какое, однако, холодное вино – зубы ломит.
– Дача, выезд, миллионщик… А с поезда чемодан на горбу приволок.
– Что делать? Все отобрали. В пути остатки дограбили. Вы, тут сидя, и представить не можете, какой ералаш творится в столице, в городах и по дорогам. Сам не чаял живым выбраться.
– Тюря. Да я бы…
– Хитро жизнь повернулась, – весело сказал Иван. – Кто был чин, тот стал ничем.
Старик нацедил еще ковш и выпил не отрываясь.
– Дисциплину распустили, оттого и бунт взыграл на Руси. Духу глупого развелось много. У нас, бывало, вахмистры представляли атаману ежемесячные реестры об образе мыслей каждого казака, и все было, слава богу, тихо… Дали бы мне казачий полк старого состава, живо бы усмирили мятеж на всей Кубани. Я бы им раздоказал.
Дмитрий замахал руками:
– Ай-яй-яй, да вы, папаша, – старорежимник… Так нельзя. Революция, если она не выливается из берегов благоразумия, крайне необходима для нашей темной Расеюшки. В Европе еще в прошлом веке происходило нечто подобное. Французы своему королю даже голову отрубили.
– Бунты у нехристей нас не касаются, – убежденно сказал старик. – Всяк по-своему с ума сходит: китайцы вон мышей, лягушек и всякую нечисть жрут, калмыки и падалью не брезгуют. Да. Кубанское войско недаром когда-то песню певало: «Наша мать – Расея – всему миру голова». Все у нас должны жить под страхом. – Старик разгладил усы и заскорузлым пальцем погрозил невидимому врагу. – Дали бы мне регулярный казачий полк, м-м-м, зубом бы натянул, а свел бы с Кубани крамолу, только бы из них пух полетел. Потом выставил бы казакам богатое угощение, те перепились бы на славу, тем бы все и кончилось. Ну, рассказывай, Ванька, об усердии по службе и об успехах по фронту.
За храбрость и сметку Ивана не раз представляли к награде, но кресты и медали не держались на его груди. Парень был огневой и дикий: то шутку какую выкинет, то начальству согрубит, – награду у него отбирали, из чина урядника и подхорунжего снова разжаловывали в рядовые. Однажды за неуплату карточного проигрыша Иван в кровь избил своего сотника. «За оскорбление офицера действием» он попал под военно-полевой суд. Ему грозил расстрел. Революция распахнула перед ним ворота тарнопольской тюрьмы.
– Как же это вы немцам поддались? – допрашивал отец. – Опозорили седую славу дедов.
– Мы – немцам, вы – японцам, что о пустом говорить? Немцы нам глаза протерли, на разум дураков наставили. Царский корень, батяня, сгнил. Пришло время перепахивать Россию наново, пришло время ломать старую жизнь.
– Палку на вас хорошую.
– На драку много ума не надо.
– Чем же тебе, сынок, старые порядки не по нраву пришлись? Или ты наг, бос ходил, или тебя кто куском обделял? Засучивай рукава, приступай к хозяйству. Умру, ничего с собой не возьму, все вам оставлю. Дом – полная чаша. Вам только придувать, заживете как мыши в коробе.
– Богатства нам не наживать, мы враги богатства, – глухо сказал Иван. – Нас фронт изломал. Три года не три дня. Малодушные устали, да и крепким надоело. И во сне снится – вот летит аэроплан или снаряд, вскакиваешь и кричишь.
– На фронт тебя ни государь, ни я не посылали, сам пошел.
– Генералы-буржуазы, большевики-меньшевики – всех их на один крючок! Через ихние погоны и золото слезы льются. Новую войну надо ждать, батяня.
– Чего мелешь? Какая война и с кем?
– Направо-налево война. Тут тебе генералы, тут ученые, тут мужики… Нагляделся я на рязанские деревни; плохо живут – теснота, духота. Он хоть и мужик, – кругом брюхо, – а есть, пить все равно хочет. И иногородний не нынче завтра скажет: «Твое – мое, дай сюда».
– Дело не наше, сынок. Земля казачья, и права казачьи, а мужиков будем гнать отсюда в три шеи. Пускай идут с помещиками воюют, там угодий много. У них в России лес, мы за ним не тянемся. В Сибири золото, и золота нам не надо. Чиновники и мастеровщина жалованье получают, нам до того тоже дела нет. Мы тут с искони веков на корню сидим. Отцы и деды наши кровью и воинским подвигом завоевали эти земли, и мы никому их не отдадим.
– А с горцами как распорядишься, батяня?
– Азиатцев загнать к черту, еще дальше в горы и трущобы. Не давать им, супостатам, из Кубани и воды напиться.
– Тому, батяня, вовек не бывать. Все люди, все человеки…
– Думай всяк про себя, всех не нажалеешься. Да что с тобой много растабаривать? Мы, коренные казаки, не спим, и дело уже делается, – многозначительно сказал старик.
– Какое дело?
– Тебе о том рано знать… Выпей с дорожки, сынок, разгони тоску. – И он подал налитый всрезь ковш вина.
Иван надпил и передал ковш брату, а отцу сказал:
– Нам надо жить так, как живет весь простой народ.
– Ванька, не забывай бога и совесть! – зыкнул Михайла. – Когда говоришь с батьком – держи руки по швам и не моги рассуждать, что тебе мило, что не мило!..
– Брательник, ты… – вступил в разговор расхрабревший от вина Дмитрий, – ты… еще молод, зелен и о многом в жизни не смыслишь… Папаша прав: Кубань – кубанцам, Дон – донцам, Терек – терцам. Ты, Ваня, не понимаешь всего величия и размаха казачьей души… Старые сказания, песни, славная история наших предков-запорожцев… Как это поется: «Садись, братцы, в легки лодочки… На носу ставь, братцы, по пушечке». Ваня, не подумай, что я барин… Я, брат, в глубине души – сечевик. Смешно вспомнить: однажды я надел черкеску, папаху и так прошел по всему Невскому проспекту…
– Гайда, сыны, в хату, – пригласил отец, – ужинать пора.И потекли размеренные дни.
Михайла не доверял чужому глазу и порядок в доме вел сам. Подымался он ни свет ни заря и шел по двору в первый обход: заглядывал на баз, сажал на цепь кобелей Султана и Обругая, будил работников, отдавал распоряжения по хозяйству.
Бабы, будто за делом, забегали к Чернояровым, во все глаза рассматривали петербургскую барыню и поголовно оставались недовольны ею: и тоща-то она, ровно ее кто и спереди и сзади лопатой хватил, и шляпка смешная, и ноги тонки, ровно у козы.
Дмитрия осаждали мужики:
– Скажите вы мне, Дмитрий Михайлович, вы человек ученый, все законы наперекрест знаете, как оно будет? Подняли мы с зятем Денисом под озимь тридцать десятин…
– Знаю, знаю… Ты уже вчера рассказывал… Необходимо, дядя, сперва устроить всю Россию, потом можно говорить о твоих тридцати десятинах. Учредительное собрание, которое…
– Да как же оно так? На што она мне сдалась, Расея? Дочке чёботы новые я купил? Купил. Воз хлеба под Крещенье к ним в амбар ссыпал? Ссыпал. А теперь тот зять Денис мне и говорит: «Я тебе, такой-сякой, глаза повыбиваю». Это справедливо?
– Ты пойми, дядя Федор, я говорю тебе как адвокат. Земельные споры не могут быть решены ни нами с тобой, ни нашим станичным обществом. Учредительное собрание или наша Кубанская рада прикажут делить землю всем поровну – делать нечего, мы, казаки, подчинимся…
– А ежели не прикажут?
– Тогда видно будет.
– Да чего ж тогда видеть? Все делается с мошенской целью…
– С тобой, я вижу, не сговоришься. У меня даже голова разболелась. Приходи завтра, напишу жалобу атаману на зятя Дениса.
Дмитрий с женой уходили в степь.
Через всю станицу их провожали мальчишки. Как бесноватые, они свистали и вопили:
– Барин, барин, дай копейку…
– Барыня, барыня, строганы голяшки…
Мертва лежала степь, исхлестанная дорогами, в лощинах и на межах еще держались снега, но солнце уже набирало силу, пригорки затягивало первым, остро пахнущим полынком. Дмитрий тростью обивал почерневшие прошлогодние дудки подсолнухов и шумно радовался:
– Простор! Красота! Степь, степь… Она помнит звон половецких мечей и походы казацких рыцарей. Вон Пьяный курган: лет пятьдесят назад казаки сторожевого поста в Троицын день перепились и были поголовно вырезаны черкесами… Сколько забытых легенд и славных былей… Да, не раз казачество спасало Русь от кочевника и ляха, ныне спасает ее от хама и большевика. Дух предков жив в нас, и, если будет нужно, мы все от мала до стара возьмемся за оружие…
– Ну, нет, – целовала его Полина Сергеевна в щеку, – под пули я тебя не отпущу. Ты должен беречь себя.
Иван нигде не находил себе места. Ничто не веселило его, и в своем дому он чувствовал себя как чужой. По вечерам встречался в садах с писаревой дочкой Маринкой и жаловался:
– Скушно мне, Маринушка.
– Тю, дурной. С чего ж тебе скушно?
– А не знаю.
– Пойди до лекаря, он тебе порошков даст от скуки. – Она смеялась, ровно цветы сыпала. Прыгала круглая – кольцом – бровь, во всю щеку играл смуглый румянец, икряная была девка. – Эх ты, мерзлая картошка! Ни веселого взгляда от тебя, ни шутки. Поплясал бы пошел с молодежью, побесился.
Было время, когда Иван бежал к ней на свиданку и от радости уши у себя видел, но теперь все было не мило ему.
– Воевать я привык, а у вас тут такая тишина…
– Ах, Ваня, какой ты беспокойник. С одной войны возвернулся, о другой думаешь. Ни письмеца мне с фронта не прислал. Коли не люба, скажи прямо, я сама не погонюсь.
– Люба, – тянулся к ней Иван и со злостью щипал ее крепкую грудь.
Она взвизгивала, била его по рукам платком с семечками и шипела:
– Не лапай, не купишь. Я дочь хорошего отца-матери и до поры ограбить себя не дам. Коли любишь, выбрось затеи из головы, засылай сватов. – В темноте поблескивали ее соколиные очи, и, точно в ознобе поводя крутым плечом, она еле слышно договаривала: – Все твое будет.
– Ведьма!
Маринка выскальзывала из его объятий и, смеясь, убегала.
Иван брел ко двору.
Дома его встречал отец:
– Где шатался, непутевая головушка?
– Собак гонял.
– Не наводи на грех. Пьешь?
– Али у меня рта нет? Пью. Али мне у тебя еще увольнительную записку просить? На службе надоело…
Старик оглаживал бороду и вздыхал:
– Женить тебя, Ванька, надо.
– Не хочу, батяня. От бабы порча нашему молодечеству. Казачество есть мой дом и моя семья.
– Золотое твое слово, сынок… А чего ты, я приметил, беса тешишь – лба не крестишь? В церковь ни разу не сходил?
Иван молчал.
– У-у, супостат… И как тебя земля носит? В Библии, в Книге Царств, о таком олухе, как ты, сказано…
– Что мне Библия? Нельзя по одной книге тысячу лет жить, полевой устав и то меняется.
– Язык тебе вырвать с корнем за такие слова… Погоди, Ванька, господь-батюшка тебя когда-нибудь клюнет за непочитание родителя.
– Ну, батяня, будет он в наши с тобой дела путаться?.. Как первый раз сходил я в атаку, так и отпал от веры. Первая атака… И сейчас кровь в глазах стоит! Ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай больше не верю. Ничего и никого не боюсь. Душа во мне окаменела.
– Как же вы, молодые, хотите, чтобы вам верили, когда сами ни во что не верите? И мы в походах бывали, да страху божьего не теряли… Всему верить нехорошо, а не верить ничему еще хуже: вера, сынок, неоценимое сокровище.
На гулянках холостежи Иван целыми вечерами молча сидел где-нибудь в темном углу и посасывал трубку. Все, над чем смеялись парубки и девчата, казалось ему несмешным, а бесконечные разговоры мужиков о хозяйстве, о земле нагоняли на него смертную скуку.
Однажды Шалим привез на базар убитого в кубанских плавнях дикого кабана. Отбазарив, он завернул к Чернояровым и через работника, калмыка Чульчу, вызвал Ивана.
Они отправились в шинок.
– Рассказывай, кунак, как живешь?
– Хах, Ванушка, сапсем палхой дела. Коровка сдох, матера сдох. Сакля старий, дождь мимо криши тикот. Отец старий, ни один зуб нет. Лошадь старий, тюх-тюх. Барашка нет, хлеп нет, сир нет, ничего нет. Отец глупий ругаит: «Шалим, ишак, тащи дрова. Шалим, ишак, тащи вода».
Ивана корежило от смеха.
Шалим долго сетовал на свою судьбу и все уговаривал дружка бежать в горы. Худое, чугунной черноты лицо его дышало молодой отвагой, движенья были остры, взгляд быстр и тверд. В длиннополой фронтовой шинели и в тяжелых солдатских сапогах он путался, как горячий конь в коротких оглоблях. Перегнувшись через стол и сверкая белыми, как намытыми, зубами, лил горячий шепот, мешая русскую речь с родными словами:
– В ауле Габукай живет мой кровник Сайда Мусаев, – будем кишки резить! Янасына воллаги… На речка Шебша живет кабардинский князь богатий-богатий – будем жилы дергать! Биллаги, такой твой мат! Хах, Ванушка, наша будет разбойника, нас не будет поймал, нас будет все боялся!
Иван тянул рисовую водку, усмешка плескалась в его затуманенных глазах… Слушал и не слушал Шалима, был доверху налит своими думками, а думки эти в зареве пожаров, в трескотне выстрелов мчали его на Дон, Украину, от села к селу и от хутора к хутору… Как сквозь сон дорогой виделись ему степные просторы, взблески выстрелов, сверканье кинжалов, слышались яростные крики, и рожки горнистов, и грохот скачущих телег, и топот коней, и тугой свист шашки над головой… Он схватил руку Шалима:
– Ахирят!
– Ходым?
– Ах, друг, мне тут тоже не житье. Такая скука – скулы ломит. Надо уходить.
Они поменялись кинжалами. В шинке просидели допоздна и на улицу вышли в обнимку, с песней.Новые песни принесли с собой фронтовики. Измученные и обовшивевшие, они расползались по станицам и хуторам, и чуть ли не каждый из них, как пушка, был заряжен непримиримой злобой к старому-бывалому.
Вернулся домой – без руки – Игнат Горленко. Вернулся убежавший из австрийского плена казак Васянин. Вернулся рыжий Бобырь. Вернулся – на костылях – Савка Курок. Вернулись братья Звенигородцевы. Приехал из Финляндии гвардеец Серега Остроухов. Приполз с отбитым задом старый пластун Прохор Сухобрус. Вернулся с прядями седых волос в чубе тот самый Григорий Шмарога, о котором жена уже другой год служила панихиды. Вернулся до пупа увешанный знаками отличия ветеран Лазурко. Вернулся дослужившийся до чина штабс-капитана агроном Куксевич. Вернулся с Турецкого фронта Яков Блинов. И другие казаки и солдаты возвращались.
Вернулся домой и Максим Кужель.
Марфа – босая, с подоткнутым подолом, полы мыла – выбежала во двор и бросилась ему на шею. Сама плачет, сама смеется.
Максим целовал ее и не мог нацеловаться.
– Рада?
– Так-то ли, Максимушка, рада, ровно небо растворилось надо мной и на меня оттуда будто упало чего.
Вытопила баню, обрала с него грязь и, расчесывая свалянные волосы, все ахала:
– Батюшки, вши-то у тебя в голове, как волки… А худющий-то какой стал, мослы торчат, хоть хомуты на тебя вешай.
– Злое зло меня иссосало.
В хате стоял крепкий дух горячего хлеба. Выскобленный и затертый, точно восковой, стол был заставлен домашней снедью, сиял начищенный до жару самовар.
– Садись, Максимушка, поди, настоялся на службе-то царской.
Дверь скрипела на петлях – заходили сродники и так просто знакомые, расспрашивали про службу, про революцию. Иные, поздоровавшись, извлекали из карманов кожухов бутылки с мутной самогонкой и ставили на стол. Забегали и солдатки:
– С радостью тебя, Марфинька.
И не одна украдкой смахивала слезу.
– Моего-то там не видал? – спрашивали служивого.
– Затевай пироги, скоро вернется. Война, будь она проклята, поломалась. Фронт рухнул.
В чистой, с расстегнутым воротом, рубахе, досиза выбритый, Максим сидел в переднем углу и пил чай. Про войну он говорил с неохотой, про революцию с азартом. Тыча короткими пальцами в вытертый по складкам номер большевистской газеты, разъяснял – кто за что, с кем и как.
Марфа с него глаз не спускала.
– В станице власть ревкома или власть казачьего правления? – спросил Максим.
– А не знаю, – улыбнулась Марфа, – говорили чего-то на собрании, да я, пока до дому шла, все забыла.
– Эх ты, голова с гущей, – засмеялся Максим и близко заглянул в ее сияющие глаза.
– У нас по-старому атаман атаманит, – сказал кум Микола. – В правлении у них до сей поры портрет государя висит.
– Чего же народ глядит?
– Боятся. Известно, народ мученый, запуганный. Кто и рад свободе, да помалкивает, кто обратно ждет императора, а многие томятся ожиданием чего-то такого…
– Воскресу им не будет…
– Бог не без милости, – согласился кум Микола и оглянулся на станичников. – Я так смекаю, мужики, ежели оно разобраться пристально, власть – она нам ни к чему. Бог с ней, с властью, нам бы землицы. Скоро пахать время, а земли нет. Похоже, опять придется шапку ломать перед казаками?
– Не робей, кум, не придется, – строго сказал Максим. – Али они сыны земли, а мы пасынки? Работаем на ней, а она не наша? Ходим по ней, а она не наша?
– Ты, Максим Ларионыч, с такими словами полегче, а то они, звери, и сожрать тебя могут.
– У них еще в носу не свистело, чтоб меня сожрать. Это раньше мы были, как Иисус Христос, не наспиртованы, а теперь, испытав на позиции то, чего и грешники в аду не испытывают, ничего не боимся. И в огонь пойдем, и в воду пойдем, а от своего не отступимся.
Наконец гости провалились.
Марфа кинула крепкие руки на плечи мужу и с пристоном выдохнула:
– Заждалась я тебя…
– Ы-ы, у меня у самого сердце как золой переело. – Он лепил в ее сухие, истрескавшиеся губы поцелуй за поцелуем.
Она задула лампу и, ровно пьяная, натыкаясь на стулья, пошла разбирать постель.
…Максим пересыпал в руке ее разметанные густые волосы и выспрашивал о житье-бытье.
– Жила, слезами сыта была… В степь сама, по воду сама, за камышом сама, тут домашность, тут корова ревет – ногу на борону сбрушила, дитё помирает. Кругом одна. Подавилась горем. От заботы молоко в грудях прогорькло, может, оттого и кончился Петенька.
– Не тужи, наживем другого.
– Легко сказать: другого. – Она заплакала. – Такой поползень был шустрый да смышленый. Везде он лез, все хватал, цапал…
На Максима забыть нашла, а над ухом все гудел и гудел ровный женин голос:
– Такие страхи пошли после извержения царя… Голову от дум разломило. Сперва все судачили – вот Керенский продал немцам за сорок пудов золота всю Кубань вместе с жителями; потом слышим – вот придут турки и начнут всех в свою веру переворачивать. На Крещенье вернулся из города лавочник Мироха и на собрании объясняет всему обществу: «Вот наступает из Ростова на нашу станицу красное войско, прозвищем большевики. Все хвостатые, все рогатые, все с копытами. Пиками колют старых и малых, а из баб мыло делают». Такой поднялся вой, такое смятенье… С плачем, с криком кинулись мы, бабы, в церковь, подхватили иконы, подняли хоругвь. Батюшка с крестом три раза обошел вокруг станицы, все дороги и тропы святой водой окропил, и, слава царице небесной, пронесло большевиков стороной.
Сытый Максим пробурчал сквозь сон:
– Дуреха ты нечесаная.
– Чего я знаю? Темная я, как бутылка. Куда люди, туда и я.
– Такие брехи на страх простому народу разводят фабриканты, банкиры, генералы и все приспешники престола Николая, которые затаили в себе дух старого режима.
– Хай они все передохнут. Лошадь у нас есть, корова меж молок ходит, как-нибудь перебьемся, а там, глядишь, землицы нарежут, посеем посеву и заживем спола́горя…
В переднем углу теплилась лампадка зеленого хрусталя. Смутные тени лежали на темных ликах угодников. В покосившиеся окна заглядывало седое зимнее утро. За стеной промычала корова: Максиму показалось, что заиграл горнист, он вскочил, огляделся и снова подвалился под жаркий бок Марфы… Счастливый, уснул.Станица раскачивалась, через станицу волной катились вести:
Большевики берут верх по всей России.
На Дону война. На Украине война.
В Новороссийске – советская власть.
По Ставрополью народом поставлена советская власть.
Казаки за народ. Казаки против народа.
Под станицей Энем офицеры перебили отряд новороссийских красногвардейцев.
В Екатеринодаре войсковое правительство разгромило исполком и арестовало большевистских вожаков.
Ростов взят красными.
В станице Крымской на съезде представителей революционных станиц выбран кубанский областной ревком.
Весна выдалась недружная. Блеснет ясный денек, другой, и снова запорошит, завьюжит. Чуть ли не до благовещеньего дня прихватывали заморозки, перепадал снежок, но уже близилась пора пашни и весеннего сева: по-особенному, свежо и зазвонисто горланили петухи; под плетнями на пригреве босые ребятишки уже играли в бабки; в садах и на огородах копались бабы; хозяин сортовал, протравливал посевное зерно, вез в починку плуг и сеялку.
Два раза в неделю приглушенно шумел базар, в кузнице день и ночь кипмя кипела работа, над станицей плыл и таял в сырых просторах степи медлительный великопостный звон.
У кузниц, и на базаре, и на мельнице, и в церковной ограде – всюду, где сходились люди, – неизбежно заваривались крутые споры, вскипали сердитые голоса, вражда рвалась направо и налево.
Фронтовики из вечера в вечер собирались в доме учителя Григорова, судили, рядили – какую власть ставить? Приходили послушать дерзких речей и старики, но сами в разговор ввязывались редко, молча посасывали трубки, по перенятой от горцев привычке строгали ножами палочки да, посматривая друг на друга, качали головами. Завернули было как-то на огонек солдатки. Школьный сторож Абросимыч, престарелый герой турецких походов, облаял их последними словами и вытолкал в шею – не вашего, мол, тут ума дело.
– Я так думаю, надо самый зуб выдернуть – арестовать атамана! – говорил Максим, смело оглядывая собравшихся.
– Не с той ноги, Максим, пляшешь. Арестуем атамана – казаки завтра же всех нас порубят, постреляют. Они такие…
– Дурак, – осаживал говорившего кто-нибудь из молодых казаков. – Мне атаман тоже дорог, как собаке пятая нога. Сшибить его не хитро, а кого поставим хозяином станицы?
– Вот Емельку, – смеялся подъесаул Сотниченко, выталкивая вперед батрака Емельяна Пересвета. – За такой головой жить – не тужить.
Смущенный Пересвет, как бугай, мотал косматой башкой, что-то мычал и пятился в угол, а кругом гремели голоса:
– Брысь под лавку.
– Он и свинье замесить не умеет.
– Мы того не допустим, чтоб, как в других прочих местах, всякий прошатай над нами стоял… Послушаешь – уши вянут: там фельдфебелишка, там рыбак, там матрос станицей крутит.
– И Христос плотником был, – вставил благообразный мужик Потапов, вожак секты евангелистов.
– Быть того не могёт, – отмахнулся Сотниченко. – Какой там плотник? Может статься, был он подрядчиком или кем… Но чтоб плотником – руби голову, не поверю.Хохот пошел такой, будто поленница дров развалилась.
Сбитый с позиции Сотниченко не унимался:
– Я – природный казак. Два Георгия и медаль заслужил. Мне ли его, Емелькин, приказ исполнять? Того вовек не будет.
Взяло Максима за сердце, опрокинулся на подъесаула:
– Во, во, братику, генеральская палка еще не дюже вам прискучила… Поставь перед тобой чучелу в рассыпных эполетах – и перед той будешь тянуться да честь отдавать. Генералы да атаманы большое жалованье получали, много они сосали народной крови. Нам нужны управители подешевле. Всем миром-собором будем за делами смотреть. Выборный комиссар, будь хоть черт, он весь на виду. Чуть начнет неправильные приказы давать – по шапке его, выбирай другого…
– Господина Григорова просить будем, говорок.
– Он и говорок, да смирный, а дело… – Максим, как бы извиняясь, коротко улыбался учителю и испытующе глядел ему в глаза, – дело к войне, нам смирных не надо.
Григоров порывисто вскакивал и говорил-говорил о светлом будущем России и революции, о народоправстве и грядущем примирении всех наций и сословий. По природе человек мечтательный и тихий, в дни далекой юности он увлекался революционными идеями, но когда началась расправа над лучшими, слабые увяли. Увял и убрался из города и Григоров. Десять лет с лишним, как он уже учительствовал в станице, вдалбливая в головы подростков нехитрые правила правописания и незыблемые истины начальной математики… Говорил он обычно горячо и помногу и при этом, по болезненной привычке, вертел в руках какой-нибудь предмет или быстрым движением навивал на палец и вновь распускал длинный черный шнурок пенсне. Иные, слушая его, скучали, а иных как раз и прельщали непонятные и кудреватые слова, которыми учитель обильно уснащал свою речь, сам того не замечая.
Когда наконец, усталый и счастливый, он плюхался на стул, ему, по завезенной из города моде, рукоплескали, а до ушей долетал, обжигая, одобрительный шепот:
– Башка…
– Это действительно… Говорит – как по книжке читает.
– Господи, твоя воля, что-то с нами будет? – Мясник Данило Семибратов донельзя засаленным батистовым платком отирал вспотевшее лицо, поросшую золотистой шерстью грудь, подмышки и, редко расставляя слова, хрипел: – По мне, коли что, выбрать хорошего человека, и пускай ходит пополам: один день атаманом, другой день комиссаром.
Максим на него:
– Нет, Данило Семенович, нечего нам с атаманами якшаться! Раздергивать их на все концы, и никакая гайка.
– Дивитесь, люди добрые, Кужель сам в комиссары метит, да – не балуй! – хвост короток.
– Куда мне, я малограмотный… Вперед не суюсь, но и сзади не останусь: интересует меня, что у нас получится… Ночей не сплю, думаю.
Евангелист Потапов нахлобучивал на глаза заячий малахай и, пробираясь к выходу, ни на кого не глядя, как бы про себя бормотал:
– Всенародная молитва, покаяние и прощение грехов друг другу… А тут – адов смрад, хула, вертеп разбойников… Кровь будет, горе будет, пожрем и похитим друг друга, а червь пожрет всех нас… Зарастут пороги наших жилищ сорной травой, едины хищны звери будут рыскать по лицу земли…
Кто бы мог подумать, что не пройдет и месяца, как новоизраильцы, староизраильцы, субботники, штундисты, прыгуны и другие сожительствующие в станице секты выставят в партизанские отряды роты и сотни своих братьев?
Максим долбил свое:
– Нам хоть туда, хоть сюда, но как бы скорее землю…
– Да, время не ждет, пора бы и делить.
– А чего ее делить? – удивился рыжий Бобырь. – Она делена. Ударит теплышко-ведрышко, запрягу, свистну и поеду.
– Грех между нами будет.
– Старость придет, замолим.
– Умно сказал: «Свистну да поеду». У вас, Алексей Миронович, казачьего наделу пятнадцать десятин на душу, а душ немало – три сына, племяш, дед, зять да сам большой… Дурной головой сразу и не сообразишь, какую вы под пашню карту поднимете.
– А ты чужое не считай, мозги свихнешь… – сказал Бобырь. – Гони аренду по триста цел кашей за десятину и вваривай, паши, насколько сила взгребет.
– Где возьму такие капиталы? Целкаши не кую и не ворую.
– Мне до того заботы мало, со своим добром не навяливаюсь. Кому надо, придут, да еще и в ножки поклонятся.
– Ой, Алексей Миронович, не просчитайся.
– И чего ты, Игнат, к нему присватываешься? – вступил в разговор инвалид Савка Курок. – Люди выедут, и мы выедем. Люди начнут сеять, и мы начнем сеять. Которое поле приглянулось, то и твое.
– Сейте, сейте, а убирать да молотить вас не заставим, как-нибудь и сами справимся.
– Разувайся… Мы, фронтовики, не выпустим оружия из рук, пока свой порядок не установим. Свобода, равенство и никакого с вами, кабанами, братства. Вся сила в нас: что захотим, то и сделаем.
– Погавкай, собака хромая.
– Это я – собака?
– Нет, не ты, а твоя милость.
Савка поднимал костыли и лез в драку. Его оттаскивали и отговаривали. Он рвался и не своим голосом орал:
– Я ему голову отвинчу…
– Отцепись, калека. Послушай лучше, что вон люди про войну говорят…
– Провались она в преисподню, эта самая война… Тебе, Игнат, еще гладко: сын в городе хорошие деньги зарабатывает, он тебя докормит до смерти. А мое положение – жена больна, нездоровье не позволяет ей работать, полна хата малышей, жрать нечего, и сам я не имею над чем трудиться.
– Да, почудили на свой пай, – сказал гвардеец Серега Остроухов. – Не знаю – как кого, а меня ныне на войну и арканом не затянешь. Погеройствовали, хватит. Самое теперь время ночью над своей бабой геройство оказывать.
– Ты, односум, до баб лют. Кабы за такое геройство награды выдавали, зараз бы полный бант заслужил.
– Ох, леденеет кровь в усталых жилах, как только подумаешь о войне, а воевать не миновать.
– Горюшко-головушка.
– До стены дошли, – говорит Максим, – стену ломать надо. С кого начинать, с чего начинать, у всех ли есть оружие?
Мысль рождалась туго.
Спорили целыми ночами, бесконечно плутали в кривотолках, и все же передовые хотя и медленно, но выбивались на верную тропу.
В праздничный красный день после обедни конные мыкались по станице и шумели под окнами:
– На майдан! Ходи, старики! Ходи, молодые!
Из окна высовывалась голова хозяина:
– Што такое?
– Приехал…
– Кого там принесло?
– Его высокоблагородие полковник Бантыш, член Кубанской рады, изволили прибыть. На майдан сыпь наметом.
Хозяин, не допив чая и отодвинув недоеденный кусок пирога, выскакивал из-за стола и командовал:
– Баба, подавай полковую форму.
И скоро, приодевшись по-праздничному и нацепив все боевые отличия, казаки уже поспешали к станичному правлению. Улицей и переулками торопливо шагали старики и солдаты-фронтовики. Сломя голову мчались ребятишки. Бежали не пропускавшие ни одного собрания солдатки. Ковылял, волоча перебитую ногу, инвалид Савка Курок и во всю рожу орал:
– Какое там собрание? Все равно будет по-нашему. Вся сила в солдате! Казаки против народа не вытерпят.
Площадь от краю до краю затоплена станичниками. Там и сям заядлые спорщики уже вступали в единоборство. И даже робким, что всегда на народе молчали, и тем не молчалось.
Заика-пекарь Гололобов, подергивая контуженым плечом, шнырял по толпе и скороговоркой сыпал:
– Шапку к-к-казачью носить не м-м-моги. С возом едешь, с-с-сворачивай. Аренду, з-за план гони, за па-пашню гони, за попас к-к-козы гони. Пожарную к-к-команду содержи, дороги, мосты б-б-б-б-блюди. В церкви стой у п-п-п-порога. Суд к-к-казачий, правление к-к-казачье, училище к-к-казачье. Тьфу, провались в т-т-т-т-т…
– Тартарары, – подсказал учитель Григоров, и все рассмеялись.
– С-с-сижу вчера у ворот, по-по-подходят Нестеренко и Мишка К-к-козел. «Купи, говорят, бутылку самогонки, а то з-з-з-зарежем». И ко мне с кинжалами. Ну, к-к-купил. П-п-провались в тар-тарары такая жизнь.
– Всякая кокарда с двуглавым орлом будет над тобой измываться… Взял бы грязное метло…
– О-б-б-обидно.
– Не дают нам вверх глядеть.
– Страдаешь за то, что живешь.
В кругу тесно сгрудившихся слушателей Максим громко читал истрепанный номер большевистской газеты, с которым не расставался уже с месяц. Почти все статьи он знал наизусть. Бегло читал по листу и, где было нужно, добавлял перцу от себя, так что получалось здорово.
Сдержанные голоса и шепот:
– Вот тож большевики, сукины дети, каждым словом по буржуям и генералам бьют.
– Раз-раз – и в дамки.
– Шпиёны…
– То, дядька, брехня.
– Знаменитая газетка, она раздерет глаза темному народу… Слушаю, и злоба во мне по всем жилам течет… Эх ты, власть богачей золотого мира, и до чего ж ты нашу государству довела?
– Тише, Егор, не мешай слушать.
На плечо Максима упала тяжелая рука старого казака Леонтия Шакунова:
– Стой, солдат.
Максим обернулся и стряхнул с плеча руку:
– Стою, хоть дой.
– Как ты, суконное рыло, смеешь народ возмущать?
– А какая твоя, старик, забота? Ты что, начальник надо мной или старый полицейский?
– Га-га-га, – загремели многие глотки.
– Не пяль хайло и грубить мне не моги. Я есть полный кавалер, в трех походах бывал.
– Проснись, кавалер, открой свои глаза: свобода слова. Кругом имею право говорить, кругом – требовать.
Шакунов вытянул кадыкастую шею, взглядом выискивая в толпе казаков:
– Чего вы, едрёна-зелёна, уши развесили, всякую хреновину слушаете да еще зубы скалите? Газетину эту надо арестовать, а солдата выпороть и выгнать из станицы к чертовому батьке…
– Не круто ли, дед, солишь?
Шакунов откашлялся и, грозя седою бровью, заговорил:
– Послушайте, господа станишники, меня, старого. Мне жить осталось недолго, врать грех, врать не буду. Кто такие большевики и красногвардейцы? То не бывалошная гвардия, в которую шли служить лучшие, отборные люди, как наши лейб-казаки. То – голодранцы, жулье, босая команда, золотая рота, отродье вечного похмелья. Ни дома, ни хозяйства у них нет и никогда не было. Дела никакого не знают. Говорят с ругней, едят и пьют с ругней. С Дону казаки их пугнули, и наша рада своих из Екатеринодара пугнула. Вот они и бродят по Кубани шайками, как волки, вынюхивают, где бараниной пахнет. Чего добудут, то и пропьют, проиграют али на папироски растратят. Хай-май, ничего им не жалко. Нынче тут, завтра бес знат где. У нас и хаты, и кони, и коровы, и кабаны, и плуги, а может, у кого и косилки с жнейкой. Так что ж, господа станишники, пустим большевиков на дворы, в хаты да и скажем: «Берите наше нажитое, спите с нашими женками?..»
– Слушаю я тебя, Леонтий Федорович, и диву даюсь, – перебил его седоусый вахмистр Луговый. – «Кони да коровы, кабаны да тягалки, кисель и сметана…» Как у тебя бесстыжие глаза не полопаются? Как ты ухитряешься всех на свой салтык мерить? Я – казак, ты – казак. У тебя один сын в Армавире писарем служит, другой при генерале холуем, а мои соколы с первого шагу войны за Расею бьются и груди свои молодецкие крестами да медалями изувешали. – Грязной тряпицей он отер слезящиеся глаза и всхлипнул. – У тебя посеву четыреста десятин, трех годовых работников содержишь, а мне шестьдесят пять годиков стукнуло, просятся старые кости на покой, ан нет: сам над своим наделом горб гну… Из-под ногтей у меня пшеница растет. – Он поднял задубевшие от работы руки и показал их всем, потом чиркнул спичку о корявую ладонь: спичка вспыхнула. – Это ты можешь понять?
– Тут и понимать нечего… Ты, Луговый, хоть и вахмистр, а на все стороны дурак. Не одному ли мы государю служили и не одинаковыми ли мы пользовались правами? Кто тебе наживать не велел? Пьянствовать надо было полегче да слушать тех, кто старше тебя чином.
– Служба царская до богачества меня не допускала. Сам двенадцать годов на сверхсрочной оттрубил, а сыны тут до самой свадьбы из ярма не вылазили, на таких, как ты, батрачили. Сам отслужился, деток стал на действительную собирать. Выставил трех строевых коней, справил три полных комплекта амуниции – и закашлял, и до сего дня кашляю. Нынче сыт, а завтра, может быть, придется с сумкой на паперть идти. Каково это на старости лет?
– Ну, мой двор стороной обходи. Лучше кобелю кусок брошу, он хоть тварь бессловесная, спасиба не скажет, а хвостом повиляет. Через вас, таких дуроломов, и на нас такая туга пришла…
Луговый еще что-то хотел сказать, но побелевшие губы его задрожали, он плюнул и, повернувшись, ушел.
Кто-то из стариков вздохнул.
– Батюшка нонче в проповеди справедливо разъяснил: «Трусы, и мятежи, и кровопролитные брани… На крови Кубань зачалась, на крови и скончается».
– Надо спасать революцию, а не Кубань. Останется жива революция, цела будет и Кубань.
– Ох, эта ваша революция… Переобует она казаков из сапог в лапти.
– Да, пойдет теперь кто туда, кто сюда… Сто лет будем враждовать и не разберемся.
– Неправда, – сказал Максим и снова развернул газету, – разберемся. Мы стали не такими темными, какими были в четырнадцатом году. Можем разобраться, где квас, где сусло, кто говорит красно, да мыслит черно…
Шакунов покосился на газету:
– Ты, солдат, ее спрячь и сегодня же представь атаману на рассмотрение. Нас, казаков, не переконовалишь на мужичий лад. На каждое твое слово у меня десять найдется. Мой сказ короток: шашка – казачья программа. Кулак мой – вам хозяин. Вот он, немоченый, десять фунтов. – Он воздел волосатый кулак и покрутил им над толпой.
Гвардеец Серега Остроухов сверкнул глазами:
– Ты, Леонтий Федорович, сперва отмой руки после девятьсот пятого года… Твои руки в крови!..
– Цыц, сукин сын! Всех вас, разбойников, лишим казачьего звания и наделов. Не допустим порушить порядок, который наши отцы и деды ставили. Не видать вам нашего покору, как свинье неба.
Остроухов схватил его за горло:
– Зараз глотку перерву…
Зашумели было, зарычали, но в эту минуту из правления на крыльцо в сопровождении станичного атамана и стариков вышел одетый в синюю черкеску гвардейского сукна член Кубанской рады Бантыш.
Площадь притихла.
Бантыш снял косматую папаху, поклонился и осипшим от многих речей голосом крикнул:
– Здорово, господа станичники!
Толпа качнулась и недружно, вразнобой ответила:
– Здравия желаем, ва-ва-ва…
– Гляди, какой бравый!
– Орел.
– Он человек приезжий, стравит нас, да и дальше, а нам расхлебывать, – робко заметил Сухобрус.
– Этот наговорит… – засмеялся казак Васянин. – Одному такому же усачу мы на Киевском вокзале добре мускула́ правили.
– Тише, вы, горлохваты, слушайте оратора. Никакого соображения в людях нет. Ведь это вам не тюха-митюха и не кляп собачий, а его высокоблагородие господин полковник.
Бантыш по-атамански отставил ногу и заговорил:
– Достохвальные казаки! Настало время сказать: то ли мы будем служить панихиду по казачеству, то ли все, как один, гаркнем: «Есть еще порох в пороховницах! Еще крепка казацкая сила!» Был один Распутин, и то сколько горя причинил, а ныне вся Россия распутничает, и ее же сыны продают ее направо-налево: грабежи, убийства, партийная борьба, святых церквей разорение. Россия поскользнулась в крови и упала, пусть сама подымается, мы ее не толкали. Нам, кубанцам, потомкам славных запорожцев, надо подумать, как бы утвердить добрый порядок у себя дома. В Екатеринодаре заседает наша войсковая рада. Есть у нас, слава богу, и свое казачье войско. Будет и казна своя, и законы. Кубань сама себе барыня…
– Так, так, справедливо… – трясли бородами старики, а в углах площади уже снова разгорались споры.
Фронтовик Зырянов – глаза блестят, руками машет – кричал громко, ровно его окружали глухие:
– Тут тебе земля дворянская, тут – монастырская, тут – войсковая, а где ж наша, мужичья?
– Ваша в Рязанской губернии, там вам пуп резан, туда и валите новые порядки наводить.
– Я четыре раза ранен…
– Дураков и в церкви бьют.
– По-моему, надо порешить нам, фронтовикам, общим голосом – разделить паи по всем живым душам, и греха больше не будет.
– Меня, друг, с мужиком, с бабой да с малым дитем не равняй… Мы за Кубань кровью своей разливались, костями своими ее сеяли. У нас на кладбище одни женки да матери лежат, а казаки – кто на Кавказе сгинул, кто в чужих землях утратился. Мы службой обязаны.
– И мы службой обязаны.
– Погоди, кривой, дотявкаешься.
– Не грози…
– И другой глаз надо тебе выхлестнуть.
– Ты мне глаза не выковыривай, хочу дожить и посмотреть на погибель таких барбосов, как ты.
– Не доживешь.
– Доживу.
– Не доживешь.
– Доживу.
Казак кулаком опрокинул кривого и начал топтать его. Более спокойные растащили и развели драчунов.
Около правления, по предложению Бантыша, довыбирали члена рады. Дмитрий Чернояров, как того требовал обычай, отбрыкивался:
– Увольте, господа старики. Вы меня не знаете, не знаете, куда я вас поведу. Выбирайте коренного станичника.
– Мы тебя знаем, и батька, и деда твоего знаем, послужи.
– Не могу.
– Послужи, Дмитрий Михайлович.
А невдалеке молодой казак стоял ногами на седле и, картинно скрестив на груди руки, говорил речь:
– …Мы не против рады, но с большевиками драться не хотим. Пускай рада сама себя защищает. Господа казаки, которые фронтовики! Пора нам опамятоваться, куда мы идем и за кем? Кресты и медали, награды и золотые грамоты, что нам, дуракам, навешивали на шею, тяжелее камней… Валили они нас царю под ноги…
– Не к делу, не к делу…
– Безотцовщина.
– Геть, чертяка!
– Остро говорит. Чей таков?
– Ванька Чернояров.
– Эге… Так и печет им в глаза, так и печет. Ну и бедовый, пес.
– …Старики, до кой поры вы нас будете уговаривать и осаживать? Вы, верные слуги его императорского величества царя Палкина, привыкли протягивать руки за полтинниками, вам и жалко расставаться со старым режимом. Мы, ваши сыны и внуки, воевали, а вы на печках снохам фокусы показывали и блаженствовали… Через золотые погоны у меня сердце наядрило, как чирий! Не забудем, как они, эти полковники да генералы, над нами издевались! Сгорите вы вместе с ними! Долой! Долой! Долой!
– Геть!
– Плетюганов ему!
– Арестовать!
– Ура! Вра-а-а…
– Приступи! Хватай его!
Над головами стариков заколыхался целый лес палок.
Иван пал на седло
гикнул
и, сшибая конем неувертливых,
прорвался в улицу, поскакал в аул к Шалиму, только пыль за ним завилась.Плескалась-звенела весна прибоем горячих дней.
Степь отряхнулась от снегов и, выкатив тугие черные груди курганов, покорно ждала пахаря.
Взыграла, разлилась Кубань-река. Налетели хлопотливые скворцы и жаворонки. Густой ветер наносил со степи волнующие запахи распаренной земли и первого полынка. Ночи – песня, визги да девичий смех – были темным-темнешеньки.
Станица поднялась.
По размокшим дорогам заскрипели тяжелые мажары, одноконные роспуски и заложенные парами повозки. Солнце играло в синем просторе. Клубились, летели светлые облака, по взгоркам скользили жидкие тени. По обсохшим обочинам дорог, загнув хвост, скакали собаки. Далеко разносилось заливистое ржание коней… Нет-нет да и переблеснет высветленный зуб бороны, носок лемеха, сбруйная бляха. Оживленный говор, ликующие в румяных улыбках рожицы ребятишек, насунутые на нос от загара бабьи платки, хлопанье кнутов.
– Цоб… Цоб, цобе.
Максим нагнал пару чубарых волов.
– Со степью, кум.
– И вас также.
– Хороший денек, кто вчера умер – пожалеет… Где, Николай Трофимович, пахать думаешь?
– Э-э, провались оно совсем… – Кум Микола пробормотал что-то невнятное и принялся с ожесточением нахлестывать волов.
– А все-таки?
Кум долго сопел, что-то обмозговывая, потом внимательно оглядел Максима, коня, оковку наново перетянутых шин и, покрякивая, туго, через силу заговорил:
– Не придумаю, как оно и повернется… Выглядел я тут себе добрую делянку пана полковника Олтаржевского. Да-а-а. Така панская земля жирная, что ее хоть на хлеб мажь да ешь… С осени посулили мы с Мирошкой пану задаток и подняли под зябь добрый клин… Сунуть ему в задаток грошей горсть совестно, а больших денег не случилось. – Он снова надолго замолчал и, еще раз недоверчиво покосившись на Максима, досказал: – А вот тебе – ни пана, ни Мирошки. Пан, слышно, в городе казачьим полком командует, а Мирошку дядька переманил в Ейск и всадил его, дуропляса, на свой свечной завод прикащиком…
– Ну?
– Вот и ну… Кто знает, как оно повернется? Тут тебе свобода, а тут вдруг восстанет против народа царь?
– Полудурок… Нашел над чем голову ломать? Езжай и паши.
– А полковник пан Олтаржевский? Ну-ка нагрянет? Ведь он меня немасленого, невареного съест. Такой усатый да крикливый. Сколько разов во сне, проклятый, снился, аж тебя затрясет всего и в холод кинет. Такой он, господь с ним…
– С него уж, поди-ка, с самого где-нибудь наши товарищи шкуру спустили…
– Дай бы господи.
– И велика делянка?
– Земли там уйма… Панской восемьсот десятин, войсковой сколько-то тысяч. Работай, не ленись.
– Та-а-ак, дядя лапоть, – протянул Максим. – А я за греблю думаю удариться… В Горькой балке, говорят, паев много гулящих лежит.
– И хочется тебе за десять верст лошадь гонять? – Кум Микола сдвинул шапку с запотевшего лба и, повременив, с важностью сказал: – Я тебе уважу, я такой человек, а для свояка хоть пополам, хоть надвое разорвусь… Лошаденка у тебя одна и прилад никудышный, а у меня все-таки пара волов, они, прокляты, тягущи… Гоняй со мной?.. Подымем супрягой десятины по четыре и с лепешками будем. А?..
Максим пораздумал немного и чуть усмехнулся:
– Что ж, кум, за мной дело не станет.
– Ооо, и поедем… После рассчитаемся: ну, поставишь магарыч, ну и мне когда-нибудь добро сделаешь. Я такой человек, я… Ээх, шагай, чубарые.
Свернули на проселок.
Нагая степь.
По распаханным полосам катились черные земляные волны. Горячей силой весенних соков был напоен каждый ком земли. Важно расхаживал грач, кося умным глазом и выклевывая из борозды жирных червей. Свист суслика, крики погонычей, неспешный шаг вола.
…Максим с кумом дали три больших круга и остановились покурить. Со стороны маячившего на возвышенном месте хутора подъехал верхом рыжеусый, в собачьем сбитом на затылок малахае.
– Вы чего? – спросил он.
– А ничего…
– Чью землю ковыряете?
– Богову.
– В нашем юрте боговой нет. То земля казачьего полковника Олтаржевского, а как он сам на службе померши, то земля стала нашей, казачьей. Запрягайте и ссыпайтесь отсюда, да не оглядывайтесь, коли живы быть хотите… – Сам говорит, а глазами, как шильями, колет.
– Господин любезный, мы за нее аренду платили.
– Я тебе покажу аренду, бесова душа… Я с тебя, бугай, собью рога… Всю степь заставлю рылом перепахать.
– А ну, заставь! – шагнул Максим навстречу.
Казак некоторое время молча постоял на меже и угнал к хутору. Однако скоро он вернулся уже в сопровождении еще пятерых и, наезжая на Максима конем, скомандовал:
– Поди прочь!
– Легче!
– Разнесу, косопузые! – И стегнул Максима плетью.
Максим схватил с повозки приготовленную оглоблю и, размахивая ею, пошел в атаку. Кум Микола бросился было бежать, голося:
– Ратуйте, православные!.. За наше добро да нас же по соплям бьют.
Но двое, догнав, начали поливать его плетями и скоро спустили с его плеч посеченную в клочья рубаху.
Отовсюду скакали верхами и бежали, на ходу сбрасывая кожухи и засучивая рукава.
– Бей!
– Злыдни!
– Заплюем, засморкаем!
Максим сдернул с коня за ногу рыжеусого и принялся топтать его коваными сапогами, а кум Микола сидел в промытой весенними дождями межевой канаве и, руками прикрывая глаза от плетей, хрипел:
– Не покорюсь!.. Не покорюсь!
Мужиков случилось больше. Казаки ускакали за подмогой.
В станице митинг, и митинг снова кончился побоищем, после которого в станичном правлении старики принялись пороть молодых казаков, а в доме Григорова далеко за полночь гудели голоса: в ту ночь в станице был создан ревком.
На пашню выехали вооруженные винтовками, бомбами, дробовиками – у кого что нашлось.Черный погон
В России революция,
вся-то Расеюшка
огнем взялась да кровью
подплыла.
Офицер Корниловского полка Николай Кулагин вторую неделю лежал пластом. Под головой – вещевой мешок с наганом и бельем, под боком – винтовка. Укрыт он был волглой еще после фронта кавалерийской шинелью. Греться приходилось кипятком и – привитая армией иллюзия – куревом. Грязная, плохо отапливаемая палата была переполнена ранеными и обмороженными в последних боях за Новочеркасском. Из щелей непромазанных рам тянуло гнилой февральской сыростью. Койка Кулагина стояла у окна. Приподнявшись на локтях, он подолгу смотрел на улицу, потом откидывался на сбитую в блин соломенную подушку и в полузабытьи закрывал глаза. Вялые, в черных облупинах уши его были вздуты, а обмороженные, мокнущие под бинтом ноги воняли тошнотной вонью. Ломота в костях не давала покоя ни днем ни ночью.
Ростов доплясывал последние пляски. В городской думе кадеты, демократы и казачьи генералы договаривали последние речи. Вечерние улицы были полны офицерами, беззаботными чистяками и породистыми, благородных кровей, щеголихами. В ресторанах гуляли денежные воротилы и столичная знать. Меж ними шныряли политические деляги. Вертелись тут, козыряя громкими именами, и члены разогнанной Государственной думы, и разжалованные министры, и заправилы Временного правительства, и прославленные террористы, и сиятельные владыки разгромленных революцией департаментов, и мелкопоместные дворяне, и сановное духовенство, и шулера закрытых игорных притонов. Все они набежали на Дон после Октябрьского переворота, намереваясь отсидеться до поры до времени за казачьими пиками. Знатоки смрадных тайн охранки и провидцы чудес господних, умудренные в науках профессора и социалисты, до тонкости изучившие теории всяческих движений и брожений, наперебой предсказывали близкую и неизбежную гибель большевиков. На залитых вином столах писались декларации будущих правительств, вырабатывались грандиозные планы восстановления России, распределялись министерские портфели, заслуженные генералы получали назначения губернаторов в области, которые только еще намечались к очищению от мятежников. Тем временем не оправдавшие надежд казачьи полки расходились по хуторам и станицам; с севера – в грохоте пушек, в митинговых криках, с плясками и свистом – накатывались отряды фронтовиков, матросов и рабочие дружины. На веселящийся город напускалась гроза грозная.
Лазарет охраняли гимназисты под начальством дряхлого полковника. Старик, сменяя караулы, обходил палаты и разносил утешительные вести. Ему хотя и не верили, но прихода его ждали с нетерпением.
Однажды рано поутру лазаретники были разбужены пушечной пальбой. Кто поздоровее, собрался было уже задавать лататы, когда в дверях появился полковник. Заложив руку за борт потертого мундира, он раздельно и торжественно произнес:
– Господа, это самое, поздравляю.
Тяжелораненые перестали стонать. Сосед Николая Кулагина, усатый фельдфебель Крылов, замер с недочищенным сапогом на одной руке и со щеткой в другой.
– Свежие новости, господа… На таганрогском и черкасском участках фронта красные разбиты, это самое, вдребезги. Да, вдребезги. Захвачены в плен два полка противника в полном составе…
Все поддались радостному настроению. Одни сели в постелях, другие спрыгнули с коек и окружили вестника:
– Точны ли сведенья, господин полковник?
– Почему молчат газеты?
– Но… стрельба под самым городом?
– Экое дело стрельба, – хитро улыбнулся полковник. – Восстали, батенька мой, станицы нижних округов и пробиваются на соединение с нашими частями… По городу дезертиров ловим, бандитов бьем, вот вам и стрельба, хе-хе… Верьте мне, старику, я, это самое, приукрашивать не стану. Да, не стану. – Шаркая стоптанными сапогами, он прошел в соседнюю палату.
– Ага! – заговорил, прыгая на костылях, подпоручик Лебедев. – А я что вчера говорил?
– Умерьте пыл, подпоручик, – угрюмо сказал нагонявший на всех уныние своей мрачностью жандармский ротмистр Топтыгин, – ликовать нам по меньшей мере преждевременно.
– Почему, позвольте узнать?
– Анархия, не забывайте, молодой человек, вовлекла в свой дьявольский круговорот миллионы потерявших человеческий образ людей, а идея национального освобождения, как бы она ни была прекрасна…
Лебедев, подхватив костыли, подсел к ротмистру и с жаром принялся развивать перед ним свои взгляды на спасение родины. Топтыгин слушал его, покручивая пушистый ус, и лишь изредка ввертывал краткие, полные житейской мудрости замечания, от которых палата покатывалась с хохоту.
За общим столом, отодвинув игральную доску, спорили заядлые шахматисты – пехотный прапорщик Сагайдаров и завитой, надушенный корнет Поплавский. Все уже знали, что прапорщик – убежденный эсер. Поплавский и играл-то с ним только потому, что не было другого партнера. Кроме того, ущемляя прапорщичье самолюбие, корнет развлекался. За неделю беспрерывных сражений Сагайдаров не взял ни одной партии, хотя победа, как ему казалось, не раз клонилась на его сторону.
Поплавский, редко расставляя слова, брезгливо говорил:
– Наша революция глубоко национальна хотя бы по одному тому, что ко всему мы приходим задним умом, да-с, задним умом… Большевизм необходимо было задушить в зародыше, и теперь русские корпуса маршировали бы через Германию, но – момент был упущен.
– Кем упущен? – спросил Сагайдаров, подаваясь вперед.
– Вами, разумеется… Пока ваш социалистический Бонапарт декламировал, большевизм распространился как зараза, фронт рухнул, мы дожили до позора, когда всякий негодяй, прикрываясь демагогическими лозунгами, считает законным свое шкурничество, когда…
– Поверьте, господа, оздоровление близко, – обращался прапорщик ко всей палате. – Даю честное слово. Я знаю, я верю в мудрую душу русского народа и в его светлый ум. Лучший отбор солдат будет с нами. Рабочий класс и трудовое крестьянство рано или поздно, но непременно, я подчеркиваю – непременно, откачнутся от большевиков… И наконец, не следует забывать носительницу лучших идеалов человечества – самоотверженную русскую интеллигенцию.
– Ох уж эти мне ваши интеллигенты, прапорщик, – ввязался в разговор ротмистр, – мало я их вешал.
– То есть, позвольте, как это вешал?
– Очень просто, сударь, за шею веревкой. – Ротмистр скрестил на увешанной медалями груди пухлые белые руки. – Где ваши земские деятели, защитники порядка и отечества? Куда подевались вольнодумствующие юристы и чиновники разных рангов? Стервецы! Вчера еще они пресмыкались перед престолом и в два горла жрали куски правительственного пирога, вчера еще… – Махнул рукой и досказал: – Плохой у нас был император или хороший – история рассудит, но ни один сукин сын не поднял руки в его защиту, ровно все они родились революционерами.
– Извините, – сказал прапорщик, – это вопрос глубоко принципиальный. Всенародное Учредительное собрание…
– Очень хорошо, – перебил его ротмистр, – миллионы своих голосов вы подали за Учредительное собрание? Оно разогнано, черт побери! Почему же ваша самоотверженная интеллигенция и светлоумный народ безмолвствуют? Разве родина не в пасти сатаны? Разве не грозит нам большевицкое иго, еще более мрачное, чем татарщина? Грош цена и вам, и принципам вашим. Вы – пыль!
– Странные, однако, у вас понятия, честное слово…
– Все надоело, – зевнул Поплавский, – продолжать войну немыслимо. Россию может спасти чудо или хороший кнут. Вашей, прапорщик, народной мудрости пока хватает лишь на поджоги, разбой и разорение культурных очагов… Взять, к примеру, моего отца, – оживляясь, заговорил корнет. – Полный генерал, после японской войны вышел в отставку, спокойно доживал век в своем имении, и ничто, решительно ничто, кроме цветов, не интересовало старика… Но, голубчик, какие он разводил розы, скажу я вам, уму непостижимо. Шотландские махровые, мускусные светло-голубые, белые, как пена кипящего молока, черные, как черт знает что. О нашей оранжерее даже в заграничных журналах писали…
Усатый гимназист Патрикеев, обрадовавшись случаю блеснуть познаниями, крикнул из угла:
– Древний греческий поэт Анакреон сказал: «Розы – это радость и наслаждение богов и людей».
– Совершенно верно, – повернулся к гимназисту Поплавский и, не обращая внимания на то, что многие засмеялись, продолжал рассказывать о том, как мужики вырубили парк, разорили оранжерею и выгнали из родных палестин отца. – Скажите, кому мешали цветы? Я согласен с вами, ротмистр, лишь кнут и петля, как во времена Пугачева и Разина, способны унять разыгравшиеся страсти черни. Пусть с этим кнутом придут немцы, зуавы, кто угодно… Да-с, кто угодно.
– О нет, – подскочил Сагайдаров, заливаясь румянцем, – русский народ выстрадал свою свободу и никому ее не отдаст. На позоре военных неудач России не возродить. Немцы питают к нам не только культурное, но и расовое отвращение. К тому же, в случае бесславной сдачи, мы лишимся поддержки европейской и американской демократии. Кайзер заставит нас чистить ему сапоги, честное слово… Нет и нет! Во имя всего святого мы должны поднять меч, может быть, в последний раз!
– Чушь, – ответил корнет, – России нужна в крайнем случае конституционная монархия, а всю вашу азиатскую свободу смести к черту огнем и мечом.
– Ах так? Вы – русский офицер… Стыдитесь!
– Хватит. Надоело. – Корнет повернулся и, насвистывая, отошел к окну.
Поплавский среди разношерстной лазаретной публики чувствовал себя одиноким. Войну он прослужил в Персии при штабе экспедиционного корпуса. Революция забросила его в чужой город, где не было ни связей, ни пристанища. Не торопясь попасть на фронт гражданской войны, жалуясь на головные боли и на старые, где-то и когда-то полученные контузии, он кочевал из лазарета в лазарет.
С кем был Николай Кулагин?
Ротмистр в счет не шел. Некоторые мысли, высказанные Сагайдаровым, казались Николаю здравыми, но он не мог перебороть в себе неприязнь к прапорщику, дубоватое лицо которого было полно скрытого лукавства, а мигающие, в белых ресницах, глаза не смотрели на человека прямо. Возмущали наглый тон и беспринципность Поплавского. Николай вообще недолюбливал штабных ловчил. Разве можно было забыть Могилев… Пятнадцатый год, стоверстные позиции под Варшавой, окопы, доверху заваленные трупами… Лучшие кадровые корпуса гибнут в августовских лесах, под напором врага фронт трещит… С остатком полка он пробирается в тыл на переформирование и в Могилеве впервые видит офицеров большого штаба, затянутых в корсеты, накрашенных и завитых. И сейчас, глядя на холеное лицо корнета, он улавливал в нем какое-то сходство с теми могилевскими фазанами. Николай Кулагин, как и большинство кадровых офицеров, плохо разбирался в политике. Мысль о необходимости страшной войны, выводившей Россию на блистательный путь могущества, казалась бесспорной. Революция опрокинула если не все, то многие понятия об отечестве и долге. Из подброшенной ему в землянку газетки он вычитал, что солдатам война не нужна, а начальники являются врагами народа и защитниками интересов буржуазии и отрекшегося царя. Первая весна революции пролетела в угаре митинговщины и возрастающего озлобления. Вколоченная палками в спину безответного русского солдата дисциплина рухнула сразу. Командир не узнавал своего полка. После неудачи июньского наступления армия начала распыляться. Николай бежит в тыл и по дороге пристает к корпусу генерала Крымова, который продвигался на Петроград свергать Временное правительство. Но скоро, по ходу дела, корпусной застрелился, а офицеры, прибыв в Петроград, встали… на защиту Временного правительства от большевиков. Дни, прожитые в семье, промелькнули, как хороший сон: слезы, поцелуи, бесконечные расспросы. Буря – с грозой и ливнем! – разворачивалась вовсю. Кулагин участвует в обороне Владимирского юнкерского училища, потом мчится в Москву на защиту Кремля и после поражения с пушечным гулом в ушах скатывается на Дон…
– Черт побери, – сияя глазами, говорит шестнадцатилетний кадет Юрий Чернявский, – как я хотел бы сегодня же выздороветь, быть в походе со своим отрядом, а то проваляешься тут, ничего не увидишь, тем временем и война может окончиться… Господин капитан, – обращается он к Кулагину, – как, по-вашему, Пасху встречать будем дома?
– Да, да, Юрик, разговляться будем дома… Куличи пойдем святить, яиц крашеных нам с тобою надарят.
– Каникулы… – мечтательно промолвил кадет, перебирая в памяти былые радости, – на каникулы я уезжал к тете в Смоленскую губернию… Там такие чудесные леса… Старший брат два раза водил меня с собой на охоту.
– У тебя и брат есть?
– Был брат… В Киеве убили.
Санитары внесли в палату и уложили на свободную койку молодого добровольца с университетским значком на гимнастерке.
Его мгновенно обступили.
– Откуда? Какой части? Не знаете ли случайно, где стоит второй батальон?
– Я – чернецовец, – через силу ответил прибывший, – наш отряд разгромлен, командир зарублен, все гибнет.
– А казаки?
– Слухи… Вздорные слухи.
– Слухи распространяют бабы и мерзавцы, – вполголоса, чтобы не слышал раненый, сказал Поплавскому Топтыгин. – Стрелять их всех поголовно, вешать, не жалея веревок.
– Нет, не слухи, – с трудом проговорил чернецовец, – красные наступают… Кутеповым оставлен Матвеев курган… Забастовщики захватили Таганрог… Части генерала Черепова и Корниловский полк отходят от Синявской и не нынче завтра будут в городе… Потери огромны… Лучшие гибнут, сволочь дезертирует… – Он закашлялся, схватился за грудь и выхаркнул шматок загустевшей черной крови.
– Если это правда, – волнуясь, сказал Поплавский, – то единственный выход: забаррикадировать двери, окна и защищаться до последней возможности.
Ему никто не ответил.
«Гибель? Отступление? – стремительно летела мысль Кулагина. – Куда отступать? Успеют вывезти или в спешке забудут? Гибель? Конец? Плен? Нет, лучше своя пуля из своего нагана!»
Ночью опять слышалась орудийная пальба. По темным улицам, тревожно завывая, мыкались храпящие автомобили, и, точно пересмеиваясь, цокали о камни мостовой подковы. Убежал из лазарета гимназист Патрикеев. Убежал Поплавский. К утру, выкрикивая в бреду имя сестры, любовницы или невесты, умер чернецовец. Заспанные санитары уволокли его закоченевшее тело. Над пустой койкой на гвозде осталась забытая папаха.
За мутным стеклом светлело небо.
Николай подтянулся на локтях к окну. Восходящее солнце розовым холодным светом касалось церковных куполов и мотавшихся на ветру голых, точно судорогой сведенных, ветвей одинокой березы. Неожиданно из-за угла вывернулся отряд. Кулагин сразу узнал своих корниловцев. Они шли быстрым шагом, почти бежали. Их было так мало, что у него сжалось сердце. «Господи, неужели это все, что осталось от полка?» Он выбил кулаком стекло и высунулся наружу:
– Казик! Володя!
Головы вскинулись, его узнали и замахали рукавичками, шапками.
Через минуту в палату вбежали двое – румяный Володя и закадычный друг Николая Казимир Костенецкий, с которым судьба свела его еще на Германском фронте. Оба расцеловались с Николаем, и, повернувшись ко всем, Казимир крикнул:
– Господа, прошу не волноваться. Сложившаяся обстановка… – Он смешался. – Словом – драпаем. Город сдаем… Вы… вас… Кто может ходить – заберем с собой, остальные будут размещены в городе по надежным квартирам.
Молчание, растерянные лица…
– Но куда, куда отступать?
– Здоровые всем были нужны, а теперь…
– Даете ли слово, поручик?
Казимир, четко рубя слова, сказал:
– Да. Если о вас забудет начальство, то мы сами сделаем все, что нужно. Даю слово русского офицера! – Он торжественно принял под козырек.
Оба откланялись и поспешно вышли.
Тяжелобольные заметались и застонали. Ротмистр, сопя, затягивал ремни огромного чемодана. Иные рылись в мешках и переодевались по-дорожному; иные, сбившись у окон, обсуждали ход военных действий. Сагайдаров критиковал тактику командования, порицал политику донского правительства и все надежды возлагал на близкое отрезвление крестьянства.
– Будь вы, прапорщик, на месте командующего, мы не сомневаемся, что все сложилось бы иначе, – съязвил Топтыгин и, ухватившись за бока, злобно захохотал.
Кулагина била нервная дрожь… «Уши, черт с ними, но вот ноги, ноги, подведут или нет? Неужели нельзя будет притвориться выздоравливающим? Уж если и умереть, так в походе, в кругу друзей».
Кадет, с головой закрывшись одеялом, плакал. Около него суетились.
– Юрка, как тебе не стыдно? Ну, голубчик, успокойся… Разве ж мы тебя бросим? Скоро пригонят подводы…
Кто-то поднес кадету разбавленного спирту. После недолгого колебания он залпом опорожнил кружку, задохнулся, закашлялся и, отерев шинельным рукавом мокрое от слез лицо, понемногу успокоился.
Стрельба в городе усиливалась.
Николай поднялся… Суставы ног разнимало ломотою, в самых костях мозг и тот мозжил. Превозмогая боль, как на рассохах, он прошел по палате, потом пристроился на койку и занялся перевязкой. Сагайдаров посоветовал присыпать мокнущее мясо сахарным песком, что способствовало, по его уверениям, быстрейшему наращению новой шкуры. Корниловец, сцепив зубы, сорвал с лоскутками кожи заскорузлые бинты, развязал вещевой мешок, выбрал из белья что поветше и, надрав длинных лент, накрепко обмотал ноги.
Многие уже оделись и сидели на мешках с винтовками в руках.
В дверях, с узелком в руке, появился запыхавшийся полковник.
– Господа, это самое, пора… Пора.
Все засуетились.
У подъезда мобилизованные извозчики ругались с конвойными. Робеющие гимназистки жались поближе к дверям, держа перед собой, как свечки, букетики первых ландышей и фиалок. На ступенях сидела, приложив к глазам платок, и ждала кого-то старушка – кружевная косынка ее съехала на сторону, седая голова сотрясалась от рыданий.
Зарывшись на возу в солому, убаюканный скрипом колес, Кулагин проспал весь ночной переезд и не слышал ни стрельбы, ни взрывов бомб, сбрасываемых с большевистского аэроплана. Разбудил его собачий брех. Обоз втягивался в станицу Ольгикскую. В глаза прянуло солнце. Унавоженные дороги еще крепко лежали в снегах, хотя колдобины уже были налиты, точно жидким пламенем, ростепельной водой. С крыш разорванной серебряной ниткой сверкала частая капель. Сосульки блестели под солнцем, как штыки. Отовсюду сочилась и дышала благодатью доблестная весна.
Воз свернул во двор.
В воротах, встречая гостей, стоял навытяжку одетый в парадную форму пожилой казак.
– Здравия желаем, ваш бродь! – увидев офицерские погоны, гаркнул он.
Позади хозяина, на дистанцию в три шага, стояли в ряд и кланялись бабы.
В чистой, по-городскому обставленной хате грудастая, принаряженная казачка угощала офицеров варениками. Хозяин из почтенья к гостям стоял у порога. Для порядка он покрикивал на бабу и, перехватывая из руки в руку шапку, выспрашивал, кто такие кадеты, за кого они воюют и куда изволят отступать. Ротмистр Топтыгин, упирая больше на попущение господне, терпеливо разъяснял казаку политические премудрости. Растолковав вкратце программу какой-нибудь партии, он добавлял, как припев к песне: «Вешать супостатов, вешать, не жалея веревок!»
Кулагин побрился, умылся снеговой водой и, держась за стены, вышел на крыльцо.
Широкая улица и площадь были заставлены войсками. Щегольской сапог месил слякоть рядом с опорком. Чубатые донские партизаны топтались вперемежку с оборванными офицерами. Возмужавшие в походах гимназисты выпячивали грудь и с полным сознанием превосходства косили глаза в сторону очкастых, сутулящихся студентов. Не достающие носами до штыков кадеты досрочных выпусков подтягивались и соперничали выправкой со старшими. Щебечущие ласточки гроздьями обвешивали телеграфную проволоку. Перегоняемые с места на место люди в лад отбивали ногу и размахивали руками.
Через дорогу, подобрав полы, перебежал Казимир.
– Здравствуй, Коля. Увидел тебя и на минутку, с разрешенья взводного, отлучился из строя. Ну, что у тебя? Мы с Володькой утром искали-искали тебя… Сыт?
– Напоен, накормлен и обласкан… Греюсь вот на солнышке и… почти улыбаюсь… Казик, раздобудь-ка мне костыли… Ноги маячить начинают. Через неделю думаю вернуться в строй.
– Браво.
– Когда выступаем?
– Как будто завтра. В штабе уже решено пустить авангардом марковцев и арьергардом нас. Закупаем продукты и строевых лошадей. Канальи казаки дерут за своих кляч втридорога, и, ничего не поделаешь, приходится платить. Командование, чтобы не ссориться со станичниками, строжайше запретило реквизиции. Тяжелая, но совершенно необходимая мера. Будем надеяться, что через этот камень большевики споткнутся и восстановят против себя и казаков, и крестьян.
– Велика ли у нас армия? – спросил Кулагин.
– Свыше четырех тысяч штыков и сабель. Пехота сведена в полки – Корниловский, Марковский и Партизанский. В особые единицы выделены инженерный батальон, морская рота и мелкие отряды, ультимативно заявившие о своей… автономности.
– Вот как?
– К несчастью, – продолжал Казимир, – игра мелких самолюбий в полном разгаре. Зараза самостийности проникла и в наши ряды. Откуда что берется. Подумай только: юнкера и студенты противились объединению и едва не перепороли друг друга штыками… Юнкера ругают студентов социалистами, а студенты юнкеров – монархистами. Те и другие домогались иметь своего начальника, свой отдел снабжения, свой обоз, и, наконец, каждый из юнцов не прочь прикомандировать к себе по милосердной сестричке, которых и так мало. Нам самим ухаживать не за кем.
– Скажи, есть интересные?
– О-о. Я познакомился с одной толстушкой, так это, доложу я тебе, штучка. Правда, она не красавица, но…
– Погонять с недельку на корде – станет красавицей?
– Кроме шуток, замечательная девушка… Ручки, ножки, щечки и через каждые два-три слова носом шмыгает.
– Ха-ха-ха… Познакомишь?
– С удовольствием. Сегодня же приглашу сделать тебе перевязку. Да, так вот я и говорю, каковы негодяи… Социалисты, монархисты… Нашли время политикой заниматься… Нам нужно бить по врагу кулаком, а не растопыренными пальцами.
– Пустяки, какие они политики, в походе сживутся.
– Возмутителен самый факт. Извольте видеть, митинг открыли.
– Гражданская война, – задумчиво сказал Кулагин, – вообще полна нелепостей и чудес. У красных сапожники командуют армиями, а у нас на взводах стоят полковники и генералы.
– Лавр Георгиевич перед строем произнес блестящую речь. «Нас разбили на Дону, – сказал он, – но игра еще не проиграна. Большевики съедят сами себя. Нам необходимо продержаться до наступления отрезвления, и Россия еще услышит о наших делах». Ну, я, кажется, заболтался с тобой, побегу. – Он подвернул полы шинели и по сверкающим лужам зашагал к своей роте.
Кулагин написал в Петроград письмо:«Здравствуй, Ириночка!
Сижу на резном крылечке, жмурюсь на солнце, мечтаю о тебе и о маме. Тоска косматой лапой сжимает сердце… Какая злая сила исковеркала жизнь и разметала нас?
На фронте я обморозился, больше двух недель провалялся в лазарете, теперь раздышался и вернулся в полк. Пишу из станицы из-под Ростова, пользуясь случаем, – в Москву и Питер едет специальный курьер.
Ириночка, буду с тобой откровенен… Наши дела неважны. Седой Дон, тихий Дон, чтобы его черт побрал! На Дону мы, русские офицеры, всю зиму отбивались от солдатни и матросов, защищали самостоятельность края и пытались не допустить его разорения, а само казачество, за малым исключением, проявило ко всей кутерьме величайшее равнодушие.
Уходим за Дон, в степи… Щади маму, она ничего не должна знать. Милая мамочка… На ее глазах, должно быть, не высыхают слезы… В своей полутемной комнатке перед старыми иконами она вымаливает мне жизнь… Поймете ли и простите ли вы меня за все причиняемые вам страдания? Вся Россия несет возложенный на нее судьбою крест. Пятый год воюем. Под каждой крышей – горе, и почти в каждой русской семье – покойник. Со мною в лазарете лежал раненый кадет, еще совсем мальчик. Большевики убили у него брата и отца. Мужество, с которым этот юноша переносит свое страшное горе, растрогало меня до глубины души. Сколько их, еще совсем детей, погибло с нами в донских степях, сколько затоптано безвестных могил… Ты подумай, Ириночка, как прекрасно сказал генерал Алексеев в Новочеркасске на похоронах кадетов: «Я поставил бы им памятник – разоренное орлиное гнездо, и в нем трупы птенцов, – на памятнике написал бы: «Орлята умерли, защищая родное гнездо, где же были орлы?»
Уходим в неведомое… Мы одиноки… Каково наше политическое credo? Никто и ни черта не понимает, и все обозлены. Много наших офицеров служит в украинских национальных частях, уже тем самым поддерживая нелепую и дикую самостийность. Или чего стоит Кубань, куда мы, вероятнее всего, пойдем? В Екатеринодаре главные силы штабс-капитана Покровского составляет русское офицерство. Сам же Покровский потворствует низменным проискам рады.
Все, чем жив человек, растоптано и заплевано… Россия представляется мне горящим ярмарочным балаганом, или, вернее, объятым пламенем сумасшедшим домом, в котором вопли гибнущих смешиваются с диким свистом и безумным хохотом бесноватых. Повторяю, никто ничего не понимает. Мы не политики, а всего-навсего лишь сыны своего отечества и солдаты черного лихолетья… Жизнь, видимо, заставит разобраться кое в чем, но учиться придется уже под огнем. Мы одиноки… Призрак России, светлый, как утренняя заря, витает над нами и укрепляет твердость сердец наших.
Верим в помощь старого доброго боженьки и в светлый ум вождей.
Целую и обнимаю, Николай.
10 февраля 1918».Первые сто верст армия покрыла в неделю. Быстрейшему продвижению мешала распутица и большой обоз с беженцами и ранеными. Вымотанные лошади утопали в грязи по брюхо. Телеги и брички плыли по жиже, как лодки. Люди, расстроив всякий порядок, брели молча. Слышались только устрашающие крики ездовых и свист кнутов. Кадеты и гимназисты гнулись под тяжестью винтовок, но старались не выказывать друг перед другом утомления. Престарелые полковники шагали в строю, бодро разгребая ногами грязь. Молодая женщина, потеряв в чавкающей грязи туфли и высоко подобрав юбки, шла в одних чулках. Раскрасневшееся лицо ее было заплакано, растрепанные светлые волосы падали на глаза. В высоком фаэтоне ехал с сыном седой генерал Алексеев, еще недавно управлявший судьбами пятнадцатимиллионной русской армии. Форменная фуражка его была нахлобучена по самые уши, из-под захватанного козырька строго поблескивали очки, от резких толчков на иссохшей старческой шее моталась голова. Обочиной дороги, подбадривая войска, проносился на кабардинском скакуне Корнилов. Калмыковатое лицо его было сурово. Повелительный с хрипотцой голос и приветствия выкрикивал как приказания. Вскинутую голову крыла текинская черная папаха. Одет он был в заношенный нагольный полушубок. На командующего устремлялись восторженные глаза, и вослед ему гремело надсадное «ура».
Красные уклонялись от решительного боя, пятились.
В Ставрополье, под селом Лежанкой, произошло первое крупное столкновение. Белые, потеряв в бою троих убитых и семнадцать раненых, ворвались в село, где и расказнили до шестисот человек. Расправу чинили все желающие. Казаки сводили с мужиками свои счеты. Офицеры мстили за поруганное звание, честь мундира и за анархию, бессильными свидетелями которой они являлись уже целый год. Разгоряченные боем юноши были уверены, что, расстреливая и вешая людей в кожухах и солдатских шинелях, они спасают родину. Одним хотелось испробовать действие новеньких, еще не пристрелянных винтовок; другие на поставленных на колени жертвах практиковались в рубке; побывавшие в донских степях были рады легкости победы – будет что порассказать.
Кулагин в сражении не участвовал. Костыли он бросил, но ходил еще плохо. На квартире за ужином Казимир с восторгом рассказывал о подробностях боя – кто где наступал, какие части отличились, кто и к каким представлен наградам. Внимательно слушая его, Кулагин невольно выпалил:
– Какая гадость…
Офицер замолк на полуслове и с удивлением посмотрел на друга.
– Казнить, – продолжал Кулагин, – такую массу пленных, к тому же еще они и русские. Неужели невозможно было ограничиться расстрелом главарей, агитаторов или, наконец, каждого десятого?
– Черта с два. Попробуй разберись, кто у них начальник и кто подчиненный. Босая команда какая-то. Сегодня он кашевар, а завтра командир. Для верности мы их и стреляли подряд, как вальдшнепов.
– Знаете, господа, – боясь, что его не будут слушать, торопливо заговорил Сагайдаров, – у них фронтом командует бывший казачий фельдшер Сорокин, честное слово. Каково? Или вчера под Егорлыкской захвачен комиссар, оказавшийся самым настоящим каторжником, честное слово.
– Не в каторжниках дело, прапорщик, – оборвал его Кулагин, – вы городите вздор.
Поднялся захмелевший румяный Володя и, улыбаясь, потянулся чокаться:
– Перестань, Коля, сентиментальничать и не горячись попусту… К бабе на рога всю философию… Будем уничтожать хамов. Они мешают нам жить, любить и веселиться… Меня, например, в Саратове невеста дожидается… Ну, и должен же кто-нибудь спасать Россию? Время слов минуло, настала пора великих дел. Выпьем за поэзию и за мою невесту. Это такая, доложу вам, девочка…
– Я понимаю, – волнуясь, проговорил Кулагин, – но нужно ни капельки не любить страну, чтобы клеймить весь народ клеймом каторжника.
– Понимаешь, а канючишь, – сердито отозвался Казимир. – Что ж, прикажешь их с собой возить или, выпоров, отпустить, чтоб завтра опять с ними встретиться? Ты забыл о самосудах, чинимых над офицерами? Забыл об издевательствах, которые каждому из нас приходилось переносить на фронте? А наши близкие, оставшиеся в России? Разве комиссары будут с ними церемониться? Попадись мы с тобой к ним в лапы, думаешь, они пощадят нас? Ты забыл станицу Каменскую, где матросы предали наших разведчиков лютой и ужасной казни? Пощады нет, мы идем ва-банк.
– Ну, а что же командование? – спросил Кулагин.
– Командование сделало вид, что ничего не замечает.
– Да, – энергично сказал Казимир, наполняя рюмки коньяком, – Россия гибнет. Мы – единственный оплот рухнувшей государственности, мы – совесть нации. Народ воспринял революцию как захват чужого добра. Буржуазия дрожит за свою шкуру – не дико ли? В Ростове именитые мужи купечества и промышленности пожертвовали на нашу армию гроши, а на смену нам пришли большевики и наверняка загребли их миллионы. Социалисты, вроде нашего прапорщика, травят нас, как врагов народа. Казаки косятся… Мы в полном одиночестве. Нас горсточка. Нам ли проповедовать гуманность и щадить поставленного на колени врага? Нет и нет… Верхушка дворянства и буржуазии своей преступной бездеятельностью предала Корнилова во время августовского выступления. Верным России осталось лишь кадровое офицерство. На нас история ставит главную ставку. И потом, – он повернулся в угол, где сидели, навострив уши, кадеты, – эта молодежь. Ее нужно воспитать в нашем духе. Они закалятся в боях и пойдут с нами до конечной цели. Выпьемте, господа офицеры, за торжество нашего правого дела, за молодежь и, пожалуй, за твою, Володя, невесту!Ужин продолжался.
Кулагин вышел. Весенняя ночь была полна сияющих звезд. Сладко пахло прелым навозом. В саду на голых деревьях табором располагались на ночлег грачи. Над селом стлалась тревожная тишина, нарушаемая сонным мычанием коровы, раскатом одинокого выстрела или глухим, словно из-под земли рвущимся, рыданием солдатки, оплакивающей мужа.
У ворот на бревне, опираясь подбородком на палку и точно окаменев, сидел дядек. Кулагин в молчании выкурил папироску, другую и наконец спросил:
– Ты казак или иногородний?
– Я-то?.. Я в работниках тут околачиваюсь. – Он поскреб поясницу, помялся и вздохнул: – Та-ак… Значит, за царя воюете?
Застигнутый врасплох, офицер не знал, что ответить. С образом государя неразрывно было связано понятие о величии отечества, но монархистом он, как и большинство неаристократического офицерства, никогда не был. Слабый царь, загнавший страну в тупик поражений, голода и анархии, с некоторых пор начал в глазах офицерства еще более терять свое обаяние.
– Нет, не за царя, – твердо ответил Кулагин.
– А чего у вас порядки старые? Все, извиняюсь, при погонах и под флагом царским ходите?
– Старое знамя дорого нам как символ единой мощной России, – заученно ответил офицер и, подумав, добавил: – Старое знамя дорого нам как материнское благословение, как имя, данное при крещении… Тебе понятно?
– Очень даже понятно, – буркнул мужик и, вздохнув, нерешительно спросил: – Наши хуторские именьишко тут неподалеку растащили и землишку бросовую запахали. Судом теперь судить их будете или прямо пороть и вешать?
– А большевики вас не пороли и не вешали?
– Пока бог миловал. Они больше насчет митингов любители. Правда, расстреляли тут одного баринка, так то ж была собака, всю волость долгами оплел.
– Придут вот немцы и заберут нас совсем: с землею, со вшами, с лаптями. Тогда узнаем, где раки зимуют.
– Всю Расею не заберут… Расея, она обротать себя не даст… Я, ваше благородие, смолоду тыщу городов прошел, деревень – несчетно, народов сколько перевидал, и кругом тебе, не обессудь на моем глупом слове, один пашет, а семеро ему шею гложут. Нынче, ваше благородие, не только немец, сам велезевул со всем его воинством из-под нас землю не выдерет, мы в нее по бороду вросли. Придут немцы – возврату им не будет, по одному передушим.
– У тебя у самого-то ведь никакой земли нет?
– Дадут, – убежденно сказал мужик, – на митинге общество постановило вырезать всем неимущим полный надел… Я тут на хуторе и вдову себе высмотрел… Пожили по старинке – почудили, нынче хочется пожить по новинке. Может, еще чуднее будет, а все-таки хочется, и никаким немцам хомут надеть на себя не дадим. – Он помолчал и вздохнул. – Ваш генерал перед сходом высказывал: «Воюем, мол, за веру, за отечество, за счастье». Какое там счастье, простой народ бьете, вон висят…
На площади в неверном лунном свете, подобны бледным теням, серели повешенные.
Проговорили за полночь. Кулагин чувствовал себя перед мужиком в чем-то виноватым, но не хотел даже сам себе в этом сознаться и ушел, томимый тоской.
В хате было душно. На печи возилась и стонала старуха. В лунном луче, падающем в маленькое слуховое оконце, ее плачущие глаза вспыхивали зеленым огнем. При ней во дворе были расстреляны два ее сына-солдата. Снох не было дома, они разыскивали за селом на навозных кучах тела мужей. Офицера пугал шепот старухи. «Что она, молится или проклинает?»
Забрезжил рассвет.
На улице горнист заиграл зорю.
Армия втянулась в поход.
О России и об идеях говорили только штабные да обозники. Строевики были целиком заняты мелочами боевой страды – кто пойдет в голове, кто в хвосте; когда и где удастся отдохнуть и выстирать белье; будет ли на привале горячая пища; по скольку выдадут патронов? Самые дошлые умудрялись заводить на коротких стоянках романы с беженками и молодицами.
Николай Кулагин уже командовал взводом.
Корниловский полк был молод и хотя историю свою вел с империалистической войны, но по-настоящему сформировался только на Дону под большевистским огнем: выведенный с Западного фронта кадровый состав полка почти целиком погиб и рассеялся при переходе через Украину и в боях за Ростов и Новочеркасск. Ставленник и любимец Корнилова, молодой полковник Неженцев за короткое время сумел подобрать образцовых командиров, при содействии которых полк и был сколочен в железный кулак. Всем от мала до велика было внушено, что Корниловский полк – лучший полк. В этом духе воспитывались и пополнения. Новичок за какую-нибудь неделю службы настолько сживался со «стариками», что его невозможно было сманить в другую часть даже обещанием повышения в чине. В армии был привит и всеми мерами раздувался дух соперничества. 1-й Офицерский полк с завистью следил за молодецкими действиями юнкеров, студенты соревновались в ратных доблестях с гимназистами, марковцы упорно оспаривали первенство у корниловцев. За выполнением каждой боевой задачи следили не только прямые начальники, но и все добровольные соискатели славы: сохрани бог, если дружный хор этих строгих критиков уличал кого в том, что они «петрушку показывают». Корниловскому полку на выучку было придано несколько юнцов. Во взвод Кулагина попал расторопный гимназист Щеглов и оправившийся после ранения кадет Юрий Чернявский, который особенно привязался к своему командиру и не отходил от него ни на шаг. Он перенял от офицера манеру носить фуражку, щурить глаз на дым папиросы, старался подражать ему в походке и разговоре; на досуге, с налетцем удальства, он посвящал взводного в свои сердечные дела; без конца мог слушать рассказы о подвигах и геройстве.
– Николай Александрович, – спрашивал кадет, – возможно ли так отличиться, чтоб сразу получить Георгии всех степеней?
– А тебе очень хочется отличиться?
– О да.
– Какой же подвиг совершить ты намерен?
– Не знаю… Ну, я могу первым броситься на штурм большевицкой крепости или, если представится случай – клянусь! – взорву целый поезд с комиссарами.
Кулагин смеялся и рассказывал об уставе наград. Он любил болтать с кадетом, потому что видел в нем себя в более счастливую пору жизни.
Чернявский хмурился:
– Мало в нашем походе героического… Грязная работа, вши, у меня ноги посбились до мослов… Я не такою представлял войну.
Он говорил правду.
В походе было мало разнообразия… Серая степь, курганы, по горизонту маячили охранительные разъезды. Потом – стрельба, в частях движение, в обозе паника. Навстречу колоннам, пришпоривая коней, мчалась разведка, к свите командующего подлетел конник:
– Ваше превосходительство… Станица… Два полка противника… Легкая батарея…
Сумрачный Корнилов, не поднимая глаз, резко перебивал:
– Выбить.
Скакали ординарцы. Командиры, откозыряв, бежали строить полки для атаки.
Станица встречала победителей хлебом-солью и колокольным звоном. Бабы разводили по хатам и отпаивали молоком людей. На площади Корнилов или Алексеев говорили станичникам краткую речь, после чего тут же, перед общим сбором, бородатые казаки пороли провинившихся сыновей и внуков, потом наскоро, под музыку, хоронили своих убитых и, переночевав, выступали.
Опять степь, курганы.
– Ваше превосходительство, впереди станица, справа хутор, замечено скопление большевиков…
– Выбить.
Прямая цель была близка. До Екатеринодара оставалось не больше четырех переходов. К начальствующему над войсками Кубанской рады штабс-капитану Покровскому были посланы разведчики с приказом командующего: «Держать город!»
Под станицей Кореновской движение неожиданно затормозилось. Красное командование выставило на защиту подступов к городу отборные отряды фронтовиков и горящую отвагой молодежь.
Бой загрохотал с утра.
Фронт развернулся от станицы на обе стороны. Пальба сливалась в сплошной гул, не слышно было даже криков команды. Тысячи людей летели в круг смерти, как щепки в пламя. В строю никто не сознавал беспрерывности огневой линии – человек ловил на мушку человека, рота выглядывала перед собой роту противника и, сосредоточив на ней все внимание, стремилась с предельной скоростью уничтожить ее. Корниловцы двигались цепями вдоль полотна железной дороги, имея справа от себя юнкеров и слева – офицерский Марковский полк. Марковцы, пользуясь неровностями поля, дружно наступали, заламывая фланг красных. Казалось, еще момент – и решительный удар во фланг, выход в тыл красным… Бронепоезда вовремя заметили опасность и перекинули на офицеров ураганный огонь. Марковский и Корниловский полки дрогнули, начали пятиться… Тогда на бугре показался, четко вырисовываясь на фоне синего неба, командующий, окруженный штабными генералами и конвоем текинцев. Офицеры быстро оправились и в рост, не сгибаясь, пошли вперед.
Стреляя беспрерывно, цепи сблизились шагов на сто и залегли. Бронепоезда вынуждены были прекратить огонь. Кулагин со взводом лежал в передовой цепи. Вдавив грудь в землю и спрятав голову за кочку, он вдыхал горячий приторный запах полыни. Встречный пулемет широким веером сыпал на сухую землю крепкий град: глаза запорашивало пылью, за отторбученный ворот гимнастерки брызгал песок, точно кто стоял впереди и поплевывал колючими плевками. Бок о бок со взводным лежал кадет и немного подальше – Казимир. Низко, как тень, промелькнул – или Кулагину показалось, что промелькнул, – снаряд: вихрем взметнуло волосы на голове; он догадался, что фуражка потеряна. По цепи передавали – такой-то ранен, такой-то убит. Охнул Казимир. Кулагин, не поднимая головы, скосил глаза в его сторону и увидел, как тонкие слабеющие пальцы распрямились на прикладе.
– Убит?
– Нет… В плечо, – еле слышно ответил, пошевелив побелевшими губами, Казимир и выругался.
От перебежек и волнения люди задыхались, а потому, когда была подана команда: «Приготовьсь к атаке…» – и с другой стороны: «Цепь, вперед…» – цепи поднялись молча, в один и тот же миг.
Стрельба захлебнулась.
С винтовками наперевес, на ходу подравниваясь для удара, цепи сближались в холодном блеске штыков. Кулагин видел перед собою солдат в распахнутых шинелях, парней в городских пальто и пиджаках; с папиросой в зубах шагал матрос первой статьи Васька Галаган, храбро выставив открытую – в густой татуировке – грудь свою навстречу смерти. Глаза у всех были круглы, зубы оскалены, немые рты сведены судорогой.
Минута равновесия…
В штыковой атаке – секрет победы – кто лучше сумеет показать штык. Офицеры показали штык тверже. Красные откачнулись… побежали. Лишь матросы и немногие старые солдаты приняли удар. Все перемешались, как стая грызущихся собак. У кого не было штыка, тот глушил прикладом. Блистали вспышки револьверных выстрелов. Короткие вскрики мешались с рычанием и отрывистыми словами ругательств. Галаган, поддевая на штык, кидал офицеров через себя, точно снопы. Кулагин участвовал в рукопашной первый раз, но с задачей справлялся отлично: колол в два приема, как когда-то на ученье соломенные чучела. Выбившись из сил, он бросил осопливевшую от крови винтовку и принялся стрелять из нагана в согнутые спины, в волосатые затылки.
Издалека покатились, нарастая, крики:
– Кавалерия… Давай, дава-а-ай!..
С пригорка, развернувшись и оставляя за собой завесу пыли, карьером спускалась красная сотня. Храпящие кони, приложив уши и распластавшись, летели, точно не касаясь земли. Всадники лежали на шеях коней, полы черкесок бились над ними, как черные крылья, а выкинутые над головами шашки сверкали, подобны гневу.
– Огонь!.. По кавалерии!
Но было уже поздно.
Командир, повернувшись к своей сотне, пронзительным голосом завизжал:
– Рубай!
И первым ворвался в гущу офицеров, работая шашкой с молниеносной быстротой.
Пыхнуло:
– Ура…
Подхватили:
– Ааа…
Хлест и хряск, стон и взвизг стали, скользнувшей по кости.
Роты офицерские, построившись ежиком, поспешно отбегали, расстреливая последние патроны, теряя людей. Один отбившийся в сторону взвод марковцев был затоптан конями и вырублен начисто.
Сражение перекинулось на другой участок.
Из-за станицы в разрывах ветра доносился слитный бой барабанов и резкие рожки горнистов, играющих атаку.
Бой длился часов десять беспрерывно. Неоднократно белые занимали станицу, и всякий раз красные вышибали их. Лишь после полудня станица была окончательно взята. По улице проскакал со своими текинцами хмурый Корнилов. Несколько домов были переполнены ранеными. В разбитые окна неслись крики и стоны наспех – без наркоза – оперируемых.
Кулагин разыскал друга. Казимир был уже переодет, перевязан и уложен в постель. У изголовья плакала, надвинув на глаза белую косынку, Варюша.
– В кость? В мякоть? – спросил Кулагин.
– Пустяки, не беспокойся, – прошептал раненый.
– Пуля попала ниже ключицы, – со скорбной улыбкой сказала сестра, – задела верхушку легкого и вышла под лопатку…
Два казака внесли и положили на пол хрипящего в беспамятстве есаула. Одно ухо его вместе с лоскутом щеки было ссечено, из обрывка рукава торчала сочащаяся алой кровью, отхваченная выше локтя рука: от линии обруба кожа вздернулась на полвершка, белая кость была обнажена. Варюша принялась перевязывать искалеченного есаула.
– Еще несколько таких боев, и от армии останутся рожки да ножки, – сказал Кулагин. – Связанные обозом, мы лишены возможности маневрировать. У нас нет тыла. Во что бы то ни стало мы должны все время побеждать: даже один-единственный проигранный бой явится для всех нас гибелью, поголовным уничтожением.
– Дурная игра.
– Да, шансы на выигрыш призрачны… Но что же делать? Необходимость толкает нас продолжать игру до последнего патрона. Судьбе, видимо, угодно за горе и позор России расплатиться нашими головами… – Желая развлечь друга, Кулагин рассказал о заключительных сценах атаки: – Летит, понимаешь, и прямо на меня. Пасть – во! Борода – во! Глаза, как фонари, горят. Я ему прямо в морду щелк, щелк… Что за черт, думаю, осечка? Щелк, щелк, ну – пропал, конец… И только уже после боя сообразил, что в нагане-то у меня ни одного патрона не оставалось. Спасибо этому моему Санчо Панса, Чернявскому, осадил разбойника, а то бы…
Казимир задремал, сжав поблекшие губы.
Еще накануне штаб имел тревожные сведения о Екатеринодаре. В Кореновской было получено достоверное сообщение о том, что Кубанская рада и ее ставленник Покровский покинули город и ушли за Кубань. Ошеломляющая весть взбесила одних, угнетающе подействовала на других. Рухнула надежда на отдых. Продвижение вперед теряло смысл: если бы город и удалось захватить, то с имеющимися силами его невозможно было бы удержать. Гонимая страхом армия повернула на юг, прорвала кольцо красных под Усть-Лабинской и проскочила через реку Кубань, взорвав за собой мост.
По Закубанью – стон стеной.
Революция подняла на дыбы и стравила казака с мужиком, мужика с черкесом, черкеса и с мужиком, и с казаком. Отрыгнула давнишняя вражда. Казаки точили зубы на горцев еще со времен кавказских войн, а с мужиками – старая песня – лютовали из-за земли. Мужики организовывались в красногвардейские отряды, захватывали панские пашни и на митингах кричали, что горцев надо перебить, а с казаками устроить передел земли на равных началах. Черкесские князьки мыкались по аулам и собирали на защиту краевого правительства национальные отряды. Наиболее горячие головы из туземных дворян и духовенства во сне и наяву видели, как бы отложиться от России и восстановить, под покровительством Турции, Великую Черкесию, границы коей когда-то простирались от Эльбруса до Азовского моря. Краевая рада противилась земельному переустройству и призывала население дожидаться Учредительного собрания. Рада заседала в Екатеринодаре в атаманском дворце – ни один штык не мог достать до нее: вся ненависть хуторян упиралась в аулы и станицы, кои поддерживали краевое правительство. Черкесы, объединившись с казаками, нападали на хутора – жгли, грабили, убивали, насиловали, угоняли скот. Хуторяне, при поддержке тех же казаков, устраивали набеги на аулы – жгли, грабили, убивали, насиловали, угоняли скот. Так были разгромлены аулы Габукай, Джиджихабль, Ассоколай, Кошехабль, Шенджий, Вочепший, Лакшукай и много сел и хуторов, разбросанных по рекам Пшишу, Лабе и Белой.
Корнилов ввалился в Закубанье, как в осиное гнездо. Черкесы выставили под его знамена конный полк, собранный из всадников бывшей Дикой дивизии. Хуторяне, опасаясь мести, поголовно поднялись на защиту своих животов. Казаки отошли в сторону и стали выжидать событий.
…Кадету Юрию Чернявскому война окончательно разонравилась. Он отупел от усталости. Безразличное отношение ко всему окружающему нарушалось лишь взрывами ожесточения. Случалось, после боя он оставался со сверстниками на поле сражения достреливать раненых и пленных врагов: в плен не брала ни та, ни другая сторона. Страдания не трогали, и кровь больше не волновала его. Не радовал и Георгиевский крест, полученный за кореновский бой. А давно ли он робел от грозных окриков классного наставника, боялся выходить ночью в полутемный коридор, трепетал при встречах на ученических балах с кудрявой гимназисткой Стасей… И только о собственной смерти он не мог размышлять спокойно. Каждым ударом своего маленького задубевшего сердца он торопил армию выйти из-под ударов противника, забраться в дикие, недоступные горы… Перво-наперво вымоется он, Юрик, в бане, потом влюбится в черкешенку, потом займется охотой, потом…
– Огонь… Цепь, огонь!.. Пулеметы, огонь!.. Чернявский, какого черта не слушаете команду? Ложитесь!
Юрий очнулся и увидел невдалеке в канаве своего взводного, присевшего на корточки. Не успел еще кадет ничего сообразить, как рядом что-то бякнулось, обдав брызгами, и под ноги медленно подкатился стакан снаряда… «Конец… вот», – мелькнуло в сознании, но снаряд не разорвался: кадет перешагнул через него и, поймав взгляд взводного, покраснел от удовольствия. Затем он припал на колено и, почти не целясь, начал стрелять по мелькавшим на бугре шапкам красногвардейцев.
Сыпал дождь…
Взвод, рота, полк, вся армия лежала в болотистой низине и беспорядочной стрельбой отгоняла наседающих со всех сторон мужиков. Из обоза, по распоряжению командующего, были выгнаны на линию огня все способные защищаться. Профессора, адвокаты, социалистические вожди, волоча за собой винтовки, ползли резервными цепями и тоже стреляли. На немытых, обросших лицах – ужас, обида, недоумение… Красные и на сей раз были рассеяны.
Корниловский полк головным входил в хутор.
– Ну, как, Юра, струхнул? – подмигнул Кулагин и рассмеялся: – Екнула селезенка?
– Никак нет, Николай Александрович, – бодро ответил кадет.
– Господа, – обратился Кулагин к своему взводу и, для пущей важности кое-что прикрасив, рассказал о снаряде. – Герою честь, герою слава…
Смущенного Юрия схватили и принялись качать. Взлетая над головами соратников, он крепко держал над собой в вытянутой руке винтовку и чуть ли не впервые за весь закубанский поход почувствовал себя по-настоящему счастливым.
– Песенники, вперед!
Несколько человек выбежали из строя. Запевала – румяный, улыбающийся Володя – повернулся к полку лицом и, легко отбегая на носках, высоким звонким голосом начал рубить:Отруби
Лихую голову…
Полк ухнул, с невеселым весельем подхватил и понес по тихой вечерней улице казарменную песню.
Внезапно из ближайшего двора выбежали два солдата и полураздетая растрепанная баба – все с винтовками. Они встали перед хатой в ряд, локоть в локоть, вскинули винтовки и открыли частую стрельбу.
Упал запевала… Упал князь Шаховский, упал еще кто-то…
Все растерялись от дикой неожиданности. За время длительного боя каждый растратил весь запас хладнокровия.
– Пулемет сюда! – истерически взвизгнул гимназист Щеглов.
– Корниловцы, стыдитесь! – крикнул командир полка полковник Неженцев и, выдернув из кобуры револьвер, быстро и прямо подошел к троим… Почти в упор он застрелил одного солдата, другой бросился бежать, но, пробитый сразу несколькими пулями, повис на заборе. Подскакавший черкес конем сшиб женщину, и не успела еще она упасть, как легким и мастерским ударом шашки всадник ссек ей голову начисто, по самые плечи. Голова покатилась офицерам под ноги, завертываясь в разлетевшиеся пышные волосы.
– Зажечь хату, – приказал командир.
– Разрешите, Митрофан Осипович, оставить до утра, людям под открытым небом ночевать холодно. Перед выступлением запалим весь хутор.
Неженцев согласился.
Двигались марш-маршем. Непокорные хутора оставались позади в пепле, прахе и крови. Начали попадаться аулы. Гор, о которых мечтал не один Чернявский, и в помине не было. Царское правительство расселило черкесов на равнине, окружив кольцом линейных станиц. Аулы почти ничем не отличались от русских сел и хуторов: знакомые, крытые камышом и соломой хаты; те же упирающиеся хвостами в речку огороды; и кое-где… церкви. Вместо воспетых поэтом «праздных гордых черкесов» пришельцев встречали воющие, обезумевшие от ужасов террора люди. Благообразные старики, ползая на коленях, седыми бородами вытирали грязь с сапог победителей.
Однажды, в глухую ночь, разъезд юнкеров наткнулся на заночевавшую в голой степи армию кубанского правительства. Бродячие армии возликовали.
…В сарай, где на сене отдыхали корниловцы, забежал штатский. Он огляделся и, заметив в темном углу людей, строго спросил:
– Какой части?
– Корниловцы. Что угодно?
– Не может быть… Разрешите представиться – член законодательной рады Дмитрий Михайлович Чернояров.
Все, точно по уговору, промолчали и остались лежать в вольных позах.
– Вы, господа, не подумайте обо мне дурно. Мы, члены правительства, находимся в таких же условиях, что и рядовые чины отряда. Наравне со всеми голодаем, спим по-казацки на кулаке, сами ухаживаем за своими лошадьми.
– Позвольте узнать, какие стратегические или тактические соображения побудили вас вчера заночевать в степи под проливным дождем? – спросил кадет Чернявский и, довольный своей выходкой, оглянулся на соратников.
– Лиха беда заставила, – ответил Чернояров. – В ту проклятую ночь даже курить было запрещено, чтобы не обнаружить своего местопребывания.
– Ха-ха-ха… Вы – законная власть на Кубани и боитесь себя обнаружить?
– Ничего не попишешь… У нас только было начала развертываться законодательная работа, а тут, извольте, война. Так никогда и никакого порядка в крае не наладишь.
– Сами виноваты, – отозвался кто-то из темного угла. – Партийные и социалистические интересы вы ставите выше интересов государственных и национальных.
– Как бы там ни было, а большевикам скоро крышка. По секрету могу сообщить: час тому назад состоялось заседание рады по вопросу о соединении с вами, и, понимаете, господа, никаких разногласий. Полное единодушие. Мы, кубанцы, весьма довольны тем, что вы присоединяетесь к нам.
– А почему не наоборот?
– Кажется, ясно… Вы мало знакомы с местной обстановкой, вы пришли на нашу территорию, вы…
– Чепуху городите, не знаю, как вас титуловать, – сердито сказал Кулагин. – Кубань не африканская республика, а всего-навсего область государства Российского.
– Я вас не понимаю…
– И напрасно.
– Мы, радяне, не разделяя политических убеждений монархистов, разумеется, склоняем головы перед светлыми личностями Корнилова и Алексеева, но тем не менее будем со всей решительностью отстаивать самостоятельность края, ибо имеем на таковую историческое право. У нас, могу сообщить по секрету, уже выработаны и принципиальные условия, при строгом соблюдении которых только и может произойти соединение нашей армии с вашей.
– Во-первых, у вас не армия, а отряд, – сказал Кулагин, – во-вторых, интересно знать, что вы предпримете, если Корнилов потребует полного и безоговорочного подчинения?
– Ну, знаете, если вопрос будет так заострен…
– То?
– Мы, разумеется… подчинимся.
Кулагин захохотал, потом спросил уже другим тоном:
– Итак, говорите, поход полон неудобств?
– Ничего не поделаешь, приходится мириться. Сегодня, например, нам отведено помещение школы, где и спим на грязном полу все сорок человек, все правительство. Бывает и хуже. Под Тахтумукаем большевики окружили наше войско, и, не хвалясь, скажу, только присутствие членов рады на линии огня спасло положение. Когда казаки и простые отрядники видели нас, своих избранников, рядом с собой, то воодушевлялись и смело бросались в контратаки, шли на верную смерть: кололи, рубили, резали – красота… В ауле, где мы последний раз дневали, – простодушно продолжал повествовать Чернояров, – большевики разграбили все до последней нитки, и, смешно сказать, мне, члену правительства, пришлось пить чай прямо из конного ведра через край.
– А где же ваша рада растеряла чайные сервизы?
– Увы… Отступление было столь поспешным, что войсковой атаман впопыхах забыл в городе булаву, без которой, по старым казацким традициям, он и власти-то над войском не имеет.
– Значит, большевики как следует наломали вам хвост?
– Счастье, господа, изменчиво… За нами – Кубань, казачество и, наконец, правда. – Он взвалил на горб вязанку сена и вышел.
– Фрукт, – сказал поручик Дабижа. – И за каким чертом нам с ними связываться?
– Вы не политик, князь, – отозвался Кулагин, укрываясь с головой шинелью. – Оставим эти неприятные вопросы на усмотрение начальства.
– И горжусь тем, что не политик. В свое время всех нас учили воевать, а не рассуждать.
Скоро все захрапели.– Иван Павлович, объясните ради бога, что это за ге-нерал Покровский? – обратился Алексеев к начальнику штаба. – Я что-то не помню такого имени.
– Проходимец, ваше превосходительство, каких свет не видал, – ответил Романовский. – В старой армии сей гусь служил в авиации в чине штабс-капитана. В революцию прибыл на Кубань и за несколько месяцев сделал карьеру. Рада пожаловала его сперва полковничьими, а через недельку и генеральскими погонами. К тому же, по сведениям разведки, преотчаяннейший интриган и политикан.
– Странная публика эти провинциальные властители. С ними каши не сваришь. Еще перед Рождеством из Новочеркасска послал я в Екатеринодар представителя нашей армии генерала Эрдели. Почему они не воспользовались услугами этого энергичного и умного человека, если уж не имеют своего полководца?
Романовский пожал плечами.
Дверь распахнулась, и дежурный офицер доложил:
– Его превосходительство Лавр Георгиевич Корнилов.
Корнилов быстро вошел и поздоровался.
– Иван Павлович, по какому это случаю на площади весь вечер играет оркестр? Прилег было вздремнуть – не могу. Всю голову разломило. Пошлите выяснить, и нельзя ли… прекратить.
Романовский вышел распорядиться.
Корнилов с Алексеевым остались вдвоем.
Некоторое время они молчали, потом Корнилов крепко, до хруста в суставах, потер маленькие сухие руки и заговорил:
– Бродить по степям и болотам дольше немыслимо. Люди измучены, потери весьма значительны, армии грозит гибель, если… если в ближайшие дни мы не возьмем города. Ваше мнение, генерал?
– Полноте, Лавр Георгиевич, зачем вам знать мое мнение? Чтоб не согласиться с ним? Вы – командующий, вам и вожжи в руки.
Судорога бешенства промелькнула в лице командующего, но он сдержался и спокойно продолжал:
– Нас раздавят. Немыслимо вести войну с ордой сброда. Нам нужна база. Город может спасти положение. Поднимем сполох, кликнем клич, верхи казачества и всякий честный человек, в ком сохранилась хоть искорка патриотизма, будут с нами.
– На Дону мы допустили ошибку, понадеявшись на казачество. Мне кажется, что на Кубани вы, Лавр Георгиевич, эту ошибку повторяете.
– Неправда. Вы не понимаете или не хотите понять теперешней обстановки… Три хороших перехода, и мы будем в городе. Смелым бог владеет. Риск…
– Риск уместен в картежной игре, – перебил Алексеев и поднял лобастую лысеющую голову. Расстроенное лицо его болезненно морщилось, а проницательные глаза в золотых очках были строги, как поплавки на тихой воде. – Я сторонник расчета и плана. Простите меня за вольность, но на войне приходится больше рассчитывать на штык, а не на святителей. Хорошего командира полка я не променял бы на угодника. Понадеялись на бога, – японскую кампанию проиграли, да и германскую тоже… Силы неравны, и с этим нельзя не считаться.
– Что ж, я должен избегать встречи с большевиками? Должен беречь своих людей от пуль неприятеля?
– Нет, нет. Борьбу необходимо продолжать со всей решительностью. Всякая армия, как известно, загнивает от бездействия, но, повторяю, силы неравны… Оттяните войска в Сальские степи, дайте людям и лошадям отдых, сократите обоз, и там, поверьте, недолго придется ждать настоящего дела. Под боком – Дон, на Украине – чехословацкий корпус.
– Сальские степи, – зло усмехнулся Корнилов, – не я ли месяц назад настаивал на том, чтобы идти именно туда? Весь генералитет – Деникин, Марков, Богаевский, Лукомский, Боровский, Иван Павлович и, наконец, вы уговорили меня повернуть на Кубань. Теперь о Сальских степях думать поздно, это у черта на куличках, а у нас снаряды и патроны на исходе, продовольственные запасы иссякли, конский состав разбит, в обозе шестьсот сорок раненых, люди вымучены до последней степени… Я возьму город во что бы то ни стало. Так честь, так долг, так совесть велят!
– Авантюра, – гневно и без малейшего колебания выговорил Алексеев. – Город вряд ли удастся взять, а рискуете вы всем. Ваш долг перед родиной…
– Я прекрасно сознаю свои обязанности перед Россией, – с надменной улыбкой сказал Корнилов и поднялся; раздувающиеся ноздри его трепетали, губы дрожали. – Простите, генерал, но вы не понимаете простой истины: пусть поражение, но только не срам.
Вошел Романовский и доложил:
– На площади по приказанию Покровского под музыку вешают местных жителей, заподозренных в сочувствии большевикам. Я распорядился прогнать музыкантов.
– Отлично, – сказал Корнилов. – С рассветом мы выступаем на Ново-Дмитровскую. Авангардом пустить Марковский полк, а то его офицеры жаловались, что я им не даю возможности отличиться. Арьергардом – юнкеров.
Начальник штаба молча поклонился.
…Всю ночь сыпал спорый весенний дождь.
Было еще темно, когда по размокшим дорогам выступили передовые полки. Потянулся обоз, штабы, повозки с больными и ранеными. Станица Ново-Дмитровская, раскинутая по широкому бугру, встретила наступающих огнем пулеметов и батарей.
Армия замялась.
Путь к станице преграждала буйствующая речка, на которой все мосты и переправы были уничтожены. Всадники, высланные на поиски бродов, вернулись ни с чем.
К полудню подул холодный ветер, мокрыми хлопьями повалил снег.
Люди покорно мокли и дрогли.
Ветер густел
застонала вьюга
тьма окутала снежное поле.
Расстроенные полки стояли по колено в ледяной каше и ждали распоряжений начальства, которое и само не знало, на что решиться… Возвращаться в Калужскую и Пензенскую было невыгодно и позорно: за все время похода армия еще ни разу не пятилась, к тому же не миновать было брать Ново-Дмитровскую. Вести полки в лобовую атаку вплавь через речку представлялось немыслимым. Оставаться на ночь в чистом поле было невозможно: давно уже ни на ком не осталось ни одной сухой нитки, из обоза летели зловещие вести – такой-то замерз, такой-то застрелился.В обозе ползали обильно питаемые паникой разжиревшие слухи. Частой ружейной трескотне внимали трепетные беженцы, из которых каждый был знаменитостью. Социалисты разных толков восседали на чемоданах и вели нескончаемые споры о судьбах революции. Председатель Государственной думы Родзянко суковатой палкой колотил по костлявому заду взмыленную лошаденку и делился с любезными слушателями воспоминаниями. Закутанные в меха барыньки стрекотали, как сороки. Профессора коротали досуг в тихих беседах, полных горестных размышлений. Над раскрытыми ларцами со снедью сидели, не смыкая чавкающих ртов, отощавшие помещики: всей своей требухой чуя еще большие невзгоды, они торопились насытиться про запас, чтоб в крутую минуту было чем прожитую жизнь вспомнить. Доверенный царя небесного, затканный седым пухом преподобный о. Серафим взирал на все творящееся, как сыч на солнце. Весьма известный журналист Борис Суворин не терял времени попусту и заносил в дневник дорожные впечатления, подслушанные разговоры, заметки о казачьем быте и все это обильно уснащал рассуждениями, полными бурных огорчений. Сердца знаменитых стыли в страхе за свою и за Россиину судьбу.
– Николай Александрович, терпенья не хватает, в атаку бы, что ли… Так и так пропадать.
– Бегай, Юрик, грейся. Всем плохо, и все терпят.
Корниловцы, составив ружья в козлы и не обращая внимания на высокие разрывы шрапнели, боролись, тузили друг друга по бокам. Кадет, не теряя из виду своего взвода, начал бегать от межи до какого-то столбика и обратно. Обмерзшая шинель гремела на нем, как лубяная, закоченевшие пальцы еле держали винтовку, на прикладе которой настыла ледяная корка.
Офицерский Марковский полк, пользуясь темнотой, подобрался к самому берегу.
– Господа, господа, – вполголоса агитировал Марков, бегая по цепи и хлопая себя по голенищу плетью, – за ночь мы перемерзнем здесь, как суслики. Помощи ждать неоткуда. Надо решиться.
– Мы за вами в огонь и в воду.
– Благодарю, господа! Благодарю за доверие! – Генерал сорвал залепленную мокрым снегом папаху, перекрестился. – Ну, с богом! За мной! – И, подняв над головой винтовку, первым полез в речку.
Станица была взята…
Армия, передохнув, переправилась под Елизаветинской через реку Кубань и с трех сторон обложила город.
Бой гремел второй день, но победы не было.
Корнилов вызвал в штаб Неженцева.
– Здравствуйте, дорогой.
Неженцев начал было рапортовать о состоянии полка, но командующий раздраженно перебил:
– Отставить. Не до церемоний. Садитесь и рассказывайте. Когда будем в городе?
– К сожалению, Лавр Георгиевич, ничем не могу порадовать. Полк тает. Сегодня два раза ходили в атаку и не продвинулись вперед ни на шаг.
– Знаю, знаю. Я уже распорядился выслать на пополнение полка две сотни мобилизованных казаков. Хватает ли патронов? Каково настроение? Когда будем в городе?
– Патроны на подборе. Люди измотаны, засыпают в окопах. Настроение падает. Час назад, когда я приказал возобновить атаку, цепи… не поднялись.
– Что? – Командующий вскочил и отбежал в угол комнаты. – Корниловцы отказались идти в атаку? Позор! Позор!
Командир полка опустил голову.
– Значит, действительно дела неважны, – сказал Корнилов и задумался.
– Старого состава в полку осталось меньше половины, пополнения… сами знаете…
– Все это я прекрасно понимаю и лично вас, Митрофан Осипович, ни в чем не виню. Нужно поднять дух людей и внушить им, что город должен быть взят во что бы то ни стало.
– Слушаюсь.
– Почти два месяца, как мы выступили из Ростова, и до вчерашнего дня армия с честью выполняла все приказания своего командующего. Неужели теперь, когда осталось сделать одно усилие, ряды дрогнут? Нет! Я скорее застрелюсь, чем отступлю от города, – так и передайте полку.
– Лавр Георгиевич…
– На один наш выстрел большевики отвечают залпом. Против одного нашего бойца выставляют десяток… Медлить нельзя, иначе войска потеряют сердце. Сегодня же… Я вас больше не задерживаю. Желаю удачи. С богом!
Неженцев ушел и в тот же день был убит на позиции.
Начальнику штаба полковнику Барцевичу – Романовский был уже ранен – командующий продиктовал:...
ПРИКАЗ
Войскам Добровольческой армии
ФЕРМА КУБАНСКОГО Марта 29, 1918 г.
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 12 ч. 45 м. утра.
№ 185
1) Противник занимает северную окраину города Екатеринодара, конно-артиллерийские казармы у западной окраины города, вокзал Черноморской железной дороги и рощу к северу от города. На Черноморском пути имеется бронированный поезд, мешающий нашему продвижению к вокзалу.
2) Ввиду прибытия ген. Маркова с частями 1-го Офицерского полка возобновить наступление на Екатеринодар, нанося главный удар на северо-западную часть города.
а) Ген. – лейтенант Марков – 1-я бригада, 1-го Офицерского полка четыре роты, 1-го Кубанского стрелкового полка один батальон, 2-я отдельная батарея, 1-я инженерная рота – овладеть конно-артиллерийскими казармами и затем наступать вдоль северной окраины, выходя во фланг противнику, занимающему Черноморский вокзал, и выслать часть сил вдоль берега реки Кубани для обеспечения правого фланга.
б) Генерал-майор Богаевский – 2-я бригада. Без 2-й батареи. 3-я батарея и второе орудие 1-й отдельной батареи. Один батальон 1-го Кубанского стрелкового полка и первая сводная офицерская рота Корниловского ударного полка – наступать левее ген. Маркова, имея главной задачей захват Черноморского вокзала.
в) Генерал Эрдели – Отдельная конная бригада, без Черкесского конного полка, – наступать левее генерала Богаевского, содействуя исполнению задачи последнего и обеспечению его левого фланга и портя железные дороги на Тихорецкую и Кавказскую.
3) Атаку начать в 17 часов сегодня.
4) Я буду на ферме Кубанского экономического общества.
Ген. Корнилов.
Город сотрясался от орудийной пальбы.
В ночном небе пласталось зарево пожаров – горели артиллерийские казармы, кожевенные заводы, дома и лавки на сенном базаре.
К городу – на огонь и гул – со всей Кубани устремлялись партизанские отряды. По степным дорогам пылили подводы с пехотой, летела кавалерия, и к вокзалу то и дело подкатывали эшелоны с Тихорецкой, Кавказской, Тамани, из Новороссийска.
У подъезда штаба обороны дежурили автомобили с потушенными огнями, вестовые держали наготове подседланных коней. На парадном, присев за пулеметом на корточки, покуривал печатник Астафьев. На лестницах и по коридорам спали вповалку.
Штаб обороны заседал беспрерывно.
Покровский перед бегством из города разгромил левые революционные организации. Много рядовых большевиков погибло в застенках, выловленные главари большевистского временного исполкома были уведены как заложники. Городская общественность руками и языками эсеров и меньшевиков помогала раде и сбором средств, и организацией благотворительных вечеров, и сколачиванием ученических дружин. Рада бежала, и политические ваньки-встаньки вызвались служить совдепам. У большевиков своих сил не хватало. Случалось, на должности директоров и управителей посылались люди, еле умеющие подписывать свою фамилию. Торжествующие говоруны были введены и в общественные организации, и в штаб обороны. С фронта хорошие вести, и работа штаба кипела – скрипели перья, пищали полевые телефоны, получив назначение, убегали агитаторы, сновали ординарцы и фуражиры, командиры прибывающих частей получали боевые задания. Но достаточно было разорваться где-нибудь поблизости шальному снаряду или пронестись тревожному слуху, и в штабе – паника: кто хватался за портфель, кто за чемодан, секретарь, комкая, рассовывал по карманам протоколы, в задохнувшейся тишине хлопали двери, ящики столов.
В углу зала на диване с мокрым полотенцем на голове лежал юный главком Кубано-Черноморской республики Автономов.
– Вставай, вставай, обормот, – расталкивал главкома его помощник Сорокин, вызванный в штаб на совещание. – На мягких диванах твое дело дрыхнуть да парады принимать, а воевать тебя нет.
– Доктора… – стонал пьяный главком. – Умираю.
– Плетей тебе хороших, поганец. Штатские вон уговариваются город сдавать, а ты и не чешешься.
– Иван Лукич, голубчик, – подступал к Сорокину один из самых влиятельных членов штаба, – вы не так меня поняли. Никто и не помышляет об отступлении. Я лишь предлагаю перенести штаб на вокзал, на колеса. Ведь ежели ворвутся кадеты, то нас, идейных, перевешают в первую голову, и революция, лишившись вождей, надолго заглохнет во всем крае.
– Перебьют, перевешают, бежать надо, бежать, – басил из угла другой член штаба. – Впустим белых в город, как в западню, а потом окружим и прихлопнем.
Сорокин возгорелся гневом:
– Штатская сволочь! Предатели! Забирайте свои зонты, калоши и валитесь к чертовой матери!.. Останусь без вождей, но с верными революции войсками. Город не сдам.
Большевики Петя Рыжов, Фрол и длинноволосый анархист Африканов наперебой кричали Сорокину, что они и сами не согласны со своими товарищами, но тот уже ничего не хотел слушать и, выхватив шашку, кинулся к дверям.
– На фронт, друзья, на фронт! Долг зовет!
Следом за ним, ровно собаки за хозяином, побежали телохранители – казаки Гайченец и Черный.
– Подлец! – кричал Сорокин уже на улице, остановив начальника гарнизона Золотарева. – На фронте кипит святая борьба, а у тебя в тылу убийства и грабежи не прекращаются. Пьяные шайки бродят по улицам, раздевают своих раненых и нагоняют панику на мирных жителей. Часовые на посту курят, разговаривают и никак не соблюдают правил устава. Я сам люблю выпить, но пью, когда боев нет.
Золотарев тянулся и бормотал извинения. Командующий ухватил его за плечи и принялся колотить головой о забор:
– Мерзавец… Всеми мерами рассудка и совести ты должен отрезвлять пропойц и громил, а ты сам пьянствуешь, грабишь и ночи напролет прогуливаешь со шлюхами.
– Прости…
– Ну, иди. На глаза пьяный не попадайся, застрелю. Приказываю немедленно восстановить и поддерживать в городе порядочек. Всякие безобразия подавлять силой оружия.
Начальник гарнизона принял под козырек: из-под широкого рукава черкески блеснул браслет. Сорокин погрозил ему плетью и, вскочив на жеребца, ускакал. Впоследствии по распоряжению ревкома Золотарев был расстрелян. Автономов, вскоре после описываемых событий возомнивший себя Бонапартом, навел дула пушек на Кубанский совнарком, за что и был низложен и ошельмован. Главкомом, после смещения Автономова и Калнина, был избран Сорокин.
Фрол вышел на улицу.
По железным крышам домов барабанили осколки лопающихся на большой высоте снарядов. Косо висели сбитые вывески. Из окон сыпалось, всплескиваясь на тротуарах, стекло. На дороге среди разметанных камней торчал скрученный штопором трамвайный рельс.
От вокзала по всем улицам вольным шагом двигались войска.
С Дубинки и Покровки – рабочие слободки – народ валил густо, будто на митинг. Стар и мал встали на ноги, под винтовку. Никому и ничего не было страшно: шли наотмах, грудь на грудь.
Катились, погромыхивая, орудийные запряжки, рессорные линейки Красного Креста и военные повозки с номерными флажками. Партизаны – кто в картузе, кто в треухе, кто в соломенной шляпе. Рваные кожухи, шинели разных сроков, лоскуты и заплаты. На зарядном ящике ехал артиллерист в собольей шубе нараспашку. Матрос с нацепленными на босые ноги шпорами трясся на неоседланной лошади и держал над головой кружевной зонтик.
По тротуарам, обгоняя обозы, на рысях сыпала кавалерия.Сидит генерал,
Перед ним каша.
Бедняки кричат:
Вся Расея наша…
Улица гремела из конца в конец.
Офицер молодой,
Куда топаешь?
Под лапу попадешь,
Пулю слопаешь…
«Вот оно», – радостно вздрогнув, подумал Фрол. От восторга у него запершило в горле, в глазу блеснула дорогая слеза. Он вмешался в ряды и пошел в ногу со всеми.
Офицерик, офицер,
Погон беленький,
Удирай-ка с Кубани,
Пока целенький…
В дверях прачечной охала и причитала старуха:
– Бедненькие, али у них отцов-матерей-то нет? На погибель идут.
Здоровенная трегубая девка тащила ее прочь.
– Айда, тетка Анна, черт их разберет, не суйся.
– Я, доченька, сама сирота, знаю, какая жизнь без отца-то, без матери… Тридцать годиков, как один денек, у полковника Шаблыкина в услужении прожила, белья-то горы перестирала. – Она подняла посбитые до мослов кулаки. – Выгорбила меня работушка, высушила заботушка, а полюбовница его Аглаюшка и выгони меня под старость на вей-свет…
– Будет тебе, тетка, – не унималась девка, – слушать тошно, рвать тянет, айда!
– Выгнала и выгнала. А куда я седую голову приклоню, где кусок добуду? Проучите их, ребятушки, бесов гладких, залейте им за шкуру сала дубового, пускай узнают, какое на свете горе живет… – Изъеденной щелоком красной рукой старуха крестила проходящие роты.
Подкрепления прибывали и прибывали.
Людьми и обозами были запружены все улицы и дворы, прилегающие к берегу Кубани, к сенному базару и садам.
Четвертые сутки бушевал бой.
С позиции вели под руки и несли раненых. Иные брели сами, волоча подбитые ноги, зажимая горячие раны. Иные отдыхали под прикрытием домов и заборов. По мостовой полз подстреленный мальчишка. «Кровь во мне застывает», – чуть слышно проговорил он подбежавшему санитару и умер, обняв тумбу. Натыкаясь на людей, протрусила заседланная лошадь, – за ней по мостовой волочились вывалившиеся из вырванного бока кишки.
За кирпичной стеной – перевязочный пункт. Похожий на скотного резаку, до усов забрызганный кровью, фельдшер бритвой подпарывал штанины и рукава, спускал с простреленных ног сапоги. Заплаканные и падающие от усталости женщины суетились около раненых.
– Ух, ух! – закричала вдруг одна, узнав мужа: рваная рана на груди, ключом била кровь. Женщина, не помня себя, сорвала с головы платок и принялась затыкать им рану. Санитары еле оторвали ее от носилок.
Раненых окружали, расспрашивали о боях, угощали табаком и хлебом.
Васька Галаган бегло рассказывал:
– На рассвете подлетает к нашим окопам какой-то фраерок в рваной шинелишке и гудит: «Братишки, измена». – «Где, спрашиваем, измена?» – «Все наши командиры дурак на дураке, бить их надо. Сорокин неправильные подает сигналы. И все наши снаряды летят в реку Кубань». – «А ты кто такой?» – «Я, отвечает, подрывник саперного батальона. Бей командиров, они нас продали. Спасайся, моряки, измена». Мы к нему: «Ваши документы?» Он брык и наутек. Мы за ним, он от нас. Догнали, повалили, давай обыскивать. Сдернули сапог – под портянкой флаг белый, сдернули другой – погоны выпали. «Ты что же, дракон, туману нам в штаны напускаешь?» – «Простите, плачет, братишечки, я хотя и не сапер, а поручик, но истинный республиканец, люблю революцию и весь простой народ». – «Ты, кричим, нас любишь, а вот нам за что вашего брата любить?» Только мы его кувыркнули под откос, слышим, гу-гу, гу-гу, тра-та-та, тра-та-та. По всему фронту поднялись ихние цепи и на нас в атаку. Ну, мать честная, накатали мы их гору!
Бум!
бьет из переулка пушка и в изнеможении откатывается.
– Перелет! – кричит с крыши наблюдатель.
Бум!
– Есть!
Бум!
– Есть!.. Крой беглым.
Слободской сапожник Ваня Грибов сидел на лафете подбитой пушки и гнул через коленку трепаную гармонь. При каждом выстреле он дергался и хохотал:
– Крой, Микишка, бога нет!
Под забором, раскинув руки, лицом вниз валялся парень в прожженной на спине бекеше. Санитары потянули было его за ноги, намереваясь взвалить на телегу с мертвецами.
– Чо? – зарычал он и приоткрыл серый глаз.
– Живой?
– Катитесь отседова. – Парень повернулся на бок и сразу захрапел.
– Ну и дьявол, – дивились кругом. – Смерть над ним вьется, над ухом пушка гукает, а он дрыхнет, и горюшка мало.
Фрол, пригнувшись, перебежал открытое место и спрыгнул в окоп, полный людей. Кто постреливал, кто спал, обняв ружье. Двое старых солдат, пофыркивая, пили неведомо какими путями раздобытый чай.
– Кого же ты, Петька, испужался?
– Ой, дяденька, страшно было ночью, – закатил под лоб глаза набиравший пулеметную ленту Петька. – Кругом гудит, огонь блись-блись, земля под ногами трясется, из раскаленных пулеметов льет растопленный свинец, раненые стонут, а тут еще в темноте-то китайцы гогочут. Ой, страшно, я убежал. Дома выспался, а чуть зорька – опять сюда. Мать не пускала, да я через окошко выпрыгнул.
Где-то взвыли рожки горнистов…
Нарастающий с флангов приглушенный крик – ура-а-а-а! – хватил по всей линии.
В окопах все пришло в движение.
– Опять лезут, – сказал солдат, отодвигая жестяную кружку с недопитым чаем, и, схватив винтовку, встал.
Невдалеке по черной пашне огорода ползли офицеры.
– Дяденька, дай стрельнуть, – попросил Петька.
– Я тебе стрельну, паршивец! – цыкнул на него старый солдат. – Сиди смирно и носу не высовывай.
Фрол не успел выпустить и одной ленты, как пулемет отказал. Не умея справиться с задержкой, он бросил его и перебежал к соседнему молчавшему пулемету, за которым дергался и пускал сквозь пушистые усы розовую пену мадьяр Франц.
Артиллерия, точно обезумев, открыла ураганный огонь. Воющий ливень стали остановил наступающих.
Мгновение
цепи покатились обратно.
Пулеметы еще выбивали уверенные трели, когда у Черноморского вокзала загремел серебряный оркестр и на виду у неприятеля, окруженный свитой, по фронту пошел Сорокин, танцуя лезгинку и стреляя из двух маузеров вверх. Партизаны за развевающиеся полы малиновой черкески стащили командующего в окопы.
Перед окопами у проволочных заграждений стонали раненые. Петька с бутылками воды на шее полз к ним.
Счастливой рукою посланный снаряд сразил Корнилова. Деникин, принявший командование, снял осаду, и армия пустилась в бегство, бросая по дороге пушки, обозы и сотни раненых соратников. Блистало солнечное весеннее утро.
Поле битвы являло печальную картину… Всюду валялись расстрелянные гильзы, пустые консервные банки, патронташи, осколки стали, грязные портянки, окровавленные тряпки и трупы, трупы… По реке густо шла дохлая рыба. Покачиваясь и крутясь, плыли вздувшиеся лошадиные туши. Далеко несло тухлятиной.
Но живые думали о живом.
– Пехота, на подводы!.. Конница, вперед!..Паровоз шумит,
Четыре вагона.
Ахвицеры за Кубанью
Рвут погоны…
Музыка рвала сердца.
Сорока наступает,
Усмехается.
Кадеты тикают,
Спотыкаются…
Партизаны, наступая врагам на пятки, снова погнались за ними по степям. В гривы конские были вплетены первые цветы, а на хвосты навязаны почерневшие от запекшейся крови золотые и серебряные погоны.
Пирующие победители
В России революция —
пыл, ор, ярь,
половодье, урывистая
вода.
Всю дорогу разговоры в вагоне.
О чем крики? О чем споры?
– Все дела в одно кольцо своди – бей буржуев!
– Бей, душа из них вон!
– Братва…
– Земля наша, и все, что на земле, наше.
– А беломордые?
– Не страшны нам беломордые… Винтовка в руке, и глаз наш зорок.
– Правильно…
– Наша сила, наша власть… Всех потопчем, всех порвем.
Навстречу – два эшелона.
– Ура… Ааа…
Машут винтовками, шапками.
– Даешь буржуев на балык!
– Долой погоны… Рви кадетню!
– Поездили, попили… Теперь мы на них поездим.
– Крой, товарищи, капиталу нет пощады!
– Доло-о-ой…
И долго еще за эшелонами гремели матюки, хохот, стрельба вверх.
Горы расступились, впереди стеной встало море, по сторонам замелькали домишки рабочей слободки, и поезд – в клубах пара – подлетел к станции.
– Где комендант? – выпрыгнув из вагона, обратился Максим к пробегавшему мимо с пучком зеленого луку молодому солдату.
– Ах, землячок, – остановился тот и отер шинельной полой вспотевшее лицо, – сурьезные дела. Фронтовики не подгадят. Фронтовики в один момент обделают дела в лучшем виде.
– Я тебя о чем спрашиваю?
– Ну, теперь держись, ваша благородия, держись, не вались! – Солдат махнул луком и побежал дальше.
«С митингу, – догадался Максим, глядя ему вслед, – здорово разобрало, всякого соображения лишился человек».
Народ снует, народ шумит – давка, толкотня… Максим берет направление в вокзал.
– Где комендант, под девято его ребро?
– Я комендант.
– Тебя и надо.
– Кто таков и откуда? – очнулся комендант и поднял от стола, за которым спал, запухшее лицо. – Ваш мандат?
Максим отвернулся, расстегнул штаны и достал из потайного кармана бумагу.
– «То-то… (зевок) варищ ко-ма… (зевок) командируется за ору-жи-ем (зевок). Под-держка ре-во-лю-ци-он-ной вла… (зевок) власти на местах», – вслух читал комендант, потом потер на мандате помуслявленным пальцем печать и, развалившись в мягком кресле, сдвинул на нос шапку. – Не от меня зависит.
– Как так?
– Та-ак… – А сам и глаз не показывает.
– Да как же так?
– Эдак, – мычит сквозь сон.
– Да какой же ты комендант, коли оружия в запасе не имеешь?.. А ежели экстренное нападение контры?
– Мэ-мэ, – тихо мекает он и, уронив на стол голову, давай храпеть во все завертки.
– Га, чертов сынок! – плюнул Максим через коменданта на стенку и, выбрав у него из пальцев мандат, ударился в город.
...
НОВОРОССИЙСКИЙ СОВЕТ
РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ
На лестницах и в залах народу – руки не пробьешь. Черноморские молдаване хлопотали о прирезке земельных наделов; немцы-колонисты искали управы на самовольство казаков; фронтовики, матросы и рабочие шныряли по своим делам, и тут же неизвестный солдат продавал серебряные ложки.
Толкнулся Максим в одну комнату – заседанье, не продохнешь; толкнулся в другую – совещание с рукопашным боем; в третьей комнатушке местный комиссар финансов, на глазах у обступивших его восхищенных зрителей, из простой белой бумаги делал деньги.
Встал Максим в дверях и давай самых главных за руки хватать:
– Оружие…
Иному некогда, иному недосуг, все кричат и мимо бегут, и никто с делегатом говорить не желает. «Что тут делать? – думает Максим. – Хоть садись и плачь или обратно в станицу с таком поезжай…» С горя пронял его аппетит, пристроился на подоконнике, хлеба отломил и только было взялся за сало – глядь, Васька Галаган.
– Здорово, голубок.
– Да неужто ж ты, дорогой товарищ, живой остался?
– Э-э, меня не берет ни дробь, ни пуля…
– Ах, друг ситный, рад я ужасно!
Подманил Васька товарищей и ну рассказывать, как они на автомобиле мимо дороги пороли, как у попа гостевали, как он, Васька, в трубе ночевал… Ржали матросы – штукатурка с потолка сыпалась, советские обои вяли, стружкой по стенам завивались.
– Зачем, годок, в город притопал?
Максим показал мандат.
– Оружия тебе, солдат, не достать, – смеется Галаган. – В Совет здешний всякая сволота понабилась: и большевики, и меньшевики, и кадеты, и эстервы.
– Какой такой Совет, коли силы-державы не имеет?.. А ежели экстренное нападение контры, они и усом не поведут?
– Не по назначению попал.
Уцепил Максим дружка за рукав бушлата и давай молить-просить:
– Васек, товарищ подсердечный, не могу я без оружия в станицу и глаз показать… За что мы скомлели, терзались на фронтах?.. И зачем нам допускать в Советы кислу меньшевицкую власть?.. Долой золотую шкурку… В контрах вся Кубань, тридцать тысяч казаков.
– Успокой свое сердце, оружия тебе добудем.
– Верно?
– Слово – олово.
– А Совет?
– Совет – чхи, будь здоров, погремушка с горохом… Вся власть в наших руках: хоромы, дворцы и так далее.
От радости Максим стал сам не свой. Сала кусок и хлеба горбушку на подоконнике забыл.
Матросы, подцепив друг друга под руки и распевая песни, шли во всю ширину дороги.
Максим с мешком на горбу следовал за ними.
Миновали улицу, другую и всей ватагой ввалились в гостиницу «Россия». Барахла кругом понавалено горы. Сюда повернешься – чемодан, туда – узел, двоим не поднять. Картины, диваны и занавески – чистый шелк. На полу валялись пустые бутылки, на столах ковриги ржаного хлеба, целые кишки колбас, вазы были наполнены фруктами, а раззолоченные блюда – солеными огурцами и кислой капустой.
Проголодавшийся Максим набросился на жратву. Васька расстегнул бутылку шампанского. Вспомнили, как на автомобиле мимо дороги чесали, выпили; про трубу вспомнили, еще выпили; за поповский сапог наново выпили. Вывел моряк гостя через стеклянную дверь на балкон и показывает:
– Вон немцы в Крыму… Вон Украина, страна хлебородная, всю ее покорили гады, а флот наш сюда отсунули.
– Немцы?
– Немцы, хлесть их… Шлём-блём, даешь флот по Брест-Литовскому договору… Шалишь… Распустили мы дымок, сюда уплыли. Выпьем вино до последнего ведра, дальше двинемся, разгромим все берега и с честью умрем, но не поддадимся.
– Вася, зачем умирать?
– Я?.. Мы?.. Никогда сроду… Будем жить бессчетно лет… Все прошли с боем, с огнем… Полный оборот саботажа, весь путь под саботажем… Зато и задали же мы им дёрку… Гайдамаков били, раду били, под Белградом Корнила шарахнули, на Дону с Калединым цапались, в Крыму с татарами дрались, на севастопольском рейде офицеров топили в пучине морской: камень на шею – и амба, вспомнили мы им, драконам, «Потемкина» и «Очаков».
– С корню долой!
– Справедливо, дядя… Раз офицер – фактически контрик… Бей с тычка, бей с навесу, бей наотмашь, хрули гадов, не давай лярвам пощады ни на рыбий волос… Про Мокроусовский отряд слыхал? Наш отряд, Черный флот… Офицеров своих аля-аля – пополам да надвое, теперь сами себе хозяевы… В судовых комитетах поголовно наша бражка, ни одного в очках нет. Дни и ночи у нас собрания и митинги, митинги и собрания… На дню выталкиваем по тыще резолюций: клянемся, клянемся и клянемся – бей контру, баста!..
Кованое море было полно ленивой, играющей силы.
На рейде, выстроенные в кильватерную колонну, разукрашенные праздничными флагами, дымили корабли. По утрам с дредноута «Воля» по всей эскадре малым током передавалось радио: политические новости, приказы, поздравления или извещения вроде следующего:
В
сем
всемв
семсего
днявечеро
мвгорсадуот
крытаясценана
вольномвоздухек
онцертмитингшампа
нскоебалдоутравходс
вободныйвоенморыпригл
ашаютсябезисключениядаз
дравствуетдаздравствуетдол
ойдолойдолойдаздравствуетсво
бодныйЧерноморскийфлотТройкаМаксим в бинокль разглядывал могучие туши кораблей, грозные башни, прикрытые чехлами орудия и дивился:
– Силушка…
– Весь Черноморский флот, – приосанясь, сказал Васька, – а команды на берегу… Двенадцать тысяч моряков на берегу, подумай, сколько это шуму?.. Хоромы, дворцы трещат, гостиницы и дома буржуйские от моряков ломятся… О Совете здешнем лучше не говорить и слов не тратить. «Качай шампанского», – и кислый Совет из подвалов Абрау-Дюрсо перекачивает на корабли шампанское. В неделю по два ведра на рыло. И цена подходящая, твердая цена. Ночью загоняем всех рысаков, перетопим лихачей в вине и керенках, до смерти захочется на автомобилях покататься, а автомобилей в городе нет. Ватагой подступим к Совету и давай его штурмовать. «Гони авто! Тыл, штатска провинция, душу вынем! Го-го-го, отдай, а то потеряешь!» Высунется в окошечко дежурный член, в шинель одетый, а у самого золотые зубы от страха стучат: «Товарищи…» – «Долой…» – «Товарищи, я сам три года кровь проливал, но автомобилей в Совете нет. Вы, как сознательные, должны…» – «Ботай! Куда подевали? Пропили? Немцам бережете?.. Душу выдерем и рукавичек нашьем…» – «Товарищи, – плачет член, – не терзайте меня, у меня мать-старуха…» А мы авралим, а мы для забавы кверху стреляем… Член думает, что в него промахиваемся, то за стенку спрячется, то опять в окошко выглянет и крутится, вредный, и вертится, как змей в огне: «Я, кричит, не против, я, кричит, сам фронтовик… Вместо машины в награду за вашу храбрость Совет выставит шампанского по бутылке на брата…» – «Мало. Тоже фронтовик, нажевал рыло-то…» Рядимся-рядимся, получим по две бутылки на брата да по две на свата и с честью отступим.
Моряк без умолку рассказывал о порядках в городе, о фронте, вспоминал чудачества и геройские подвиги друзей.
Внизу по улице с лютым воплем, гармонью и бубенцами промчался свадебный поезд…
Васька перевесился через перила балкона, облизнул потрескавшиеся красные губы и заговорил еще с бо́льшим азартом:
– Девочки-мармулёночки все до одной за нами… Свадьбы вихрем, сплошная гульба… Свадьбы каждый час, каждую минуту… Невесты – за пучок пятачок… Шафера, подруженьки, все честь честью. И колец хватает, колец мы нарубили с пальцами у корниловских офицеров… Во всех церквах круглые сутки венчанье, лохмачи осипли, музыка крышу рвет… Власти много, и денег много, все пляшут, все поют, пыль в небо… Пьянка, гулянка, дым, ураган, – ну, жизня на полный ход!..
– Вася, – прервал его Максим, подвертывая бинокль, – никак не разберу, что такое болтается?
– Где?.. – Матрос припал к биноклю и расхохотался. – Так это ж лапоть…
– Чего?
– Покарай меня бог, лапоть… Он доказывает наш свободный дух… Расступись, ботиночки, сапожки, лапоть топает…
Откинувшись на спинку плетеного кресла и устало прикрыв воспаленные глаза, Васька умолк. Он проспал несколько минут, потом встряхнулся, вытащил из кармана лакированную коробочку с кокаином, крупной понюшкой зарядил раздувающиеся ноздри, закрутил от удовольствия головой и, шлепнув Максима по костлявому заду, досказал:
– На кораблях согласно приказу подняты красные флаги, но нашим чудакам этого мало… Каждый хочет свою моду давить… Украинцы рядом с красным вывешивают желто-голубой, молдаване свой национальный флаг выставляют, а мы, русские, али хуже других?.. Красный у нас есть, еще старое андреевское знамя поднять будто неловко… Вот мы на страх врагам и вздернули над кораблем наш расейский лапоть – пускай вся Европа ужасается…
Максим, веря во всемогущество друга, не терял надежды добыть оружие. Он не отставал от моряков ни на шаг. Васька ни о чем и слушать не хотел, так как в тот самый день женился.
…Васька с Маргариточкой за свадебным столом сидят и друг дружке улыбаются. На нем вся матросская справа и оружие всевозможное понавешано. На ней новая форменка – женихов подарок… Куражится Васька, уцепил невесту за хребеток, в губки целует, вино пьет, стаканы бьет, похваляется:
– …в натуральном виде, с подливкой.
Ржет братва, на слово не верит.– Го-го!
– Го-го-го!
Васька сердится.
– Что я вам, – говорит, – чувырло какое?
Из двух кольтов попадает Васька – на спор – в пустые бутылки, понаставленные на рояль.
Бабы визжат, братва потешается…
– Отчаянный вы народ, флотский, – кричит Максим через стол, – а я, а меня, оружие… Ждут станишники.
– Какое тебе оружие, ежели я женюсь? Отгуляем, отпляшем и…
Чечетку, ползунка, лягушечку как тряхнет-тряхнет Васька, локти на отлет:
– Рви ночки, равняй деньки!
Отяжелевшая голова Максима падала на стол, но взрывы веселья заставляли его таращить глаза…
В углу моряки играли в карты. На кону – золото, часы, кольца; керенки не считали, а отмеривали на глаз.
Тесть с картонной грудью и в измятом, сдвинутом на затылок котелке плясал камаринского на демократических началах. Гости над ним потешались, покрикивали:
– Уморушка, Татьянушка.
– Тряхни брылами, повесели морячков…
– Нет, спой-ка ты нам «Яблочко»…– Сыпь, буржуй, на весь двугривенный.
Теща дышала над молодыми:
– Девушка она у меня чуткая, деликатная и умница-разумница… Гимназию с золотой медалью окончила… Вы, Василий Петрович, уж, ради бога, будьте с ней понежней… Она совсем, совсем ребенок…
Ваську от умиления слеза прошибает. Васька перед тещей пылью стелется:
– Мамаша, да разве ж мы не понимаем?.. Мамаша, да я в лепешку расшибусь!
Маргариточка за роялем трень-брень… Ее восковой голосок тонет в мутном, утробном реве…
Я на бочке сижу,
Ножки свесила,
Моряк в гости придет,
Будет весело…
На улице под окном песню подхватили с присвистом, брызнуло стекло, и – в раме – рожа дико веселая.
– Э-э, да тут гулянка?
Под окнами летучий митинг:
– Свадьба…
– Фарт.
– Залетим на часок?
– Вались, лево на борт…
Жених высунулся из окна и, смутно различая белевшие в темноте рубахи моряков, зазывал:
– Заходи, ребятишки, места хватит, вина хватит, заходи…
Э-э, яблочко
На тарелочке,
Надоела жена,
Пойду к девочке…
Дом гудел и стонал…
Выпили все шампанское, весь спирт и всю самогонку… Под утро тесть привез корзинку прокисшего виноградного вина – не разбирая, и его выпили… Спали вповалку на битой посуде, на растоптанных объедках. Похмелялись огуречным рассолом.
Кто-то хватился Васьки.
Васьки не было…
– Ах, ах, где молодой?
– Нету молодого, пропал молодой!
Теща плачет, в батистовый платочек сморкается… Маргариточка белугой ревет, охорашивает ягодки помятые… Шафера выжимают из бутылок похмельку, к подругам Маргариточкиным присватываются…
Кинулся Максим Ваську искать, нету Васьки.
Оказывается, на фронт махнул, а может быть, и не на фронт. Вечером будто видали Ваську – в городском театре зеркала бил… А потом слух прошел, будто влюбилась в Ваську артистка французская… Зафаловал Васька артистку – раз-раз, по рукам и в баню… Лафа морячку, куражится, подлец: «Артистка, прынцесса, баба свыше всяких прав». Пришли товарищи поздравлять дружка и видят: артистка не артистка, а самая заправская – страшнее божьего наказанья – чеканка Клавка Бантик… Кто не знает Клавки Бантик?.. Перва б… на всей планете. Васька, на что доброго сердца человек, и то взревел:
– Ах ты, кудлячка…
Плеснул ей леща-другого – и в расчете, – бесхитростный Васька человек.
Стонут, качаются дома
пляшут улицы…
Прислонился к забору китаец – плачет, разливается:
– Вольгуля, мольгуля…
Выкатились из гостиницы моряки и навалились на ходю:
– Что означают твои слезы?
– Вольгуля, мольгуля… Моя лаботала-лаботала, все деньги плолаботала, папилоса нету, халепа нету! – Слезы эти из него так и прут. – С каким палахода?
– Хо, хо, бедолага, сковырни слезы, едем с нами…
– Моя лаботала…
– Аяй, шибко куёза, кругом свобода, а ты плачешь?.. Эх, развезло, размазало, стой, не падай!..
Могучие руки втолкнули пьяного Максима в реквизированную архиерейскую карету с проломленным боком… Ввалились в карету Васька Галаган, шкипер Суворов, еще кто-то… Сорвалась и понесла тройка, разукрашенная пестрыми лентами – и у лошадей праздник, и лошадям было весело…
С-в-и-ст!!!
– Пошел на полный!
– Качай-валяй, знай покачивай, кача-а-ай!..
– Рви малину, руби самородину!
Помнил Максим и станицу, и фронт, на сердце кошки скребли, а слова его расползались, ровно раки пьяные:
– Вася, родной… Господи, братишки, в контрах вся Кубань, сорок тысяч казаков…
– Погоди, и до казаков твоих доберемся, и их на луну шпилить будем…
– За что мы страдали, Вася?.. Оружие…
– Не расстраивай, солдат, своих нервов… Всех беломордых перебьем, и баста… Останутся на земле одни пролетарии, а паразитов загоним в землю, чтоб и духу ихнего не было… Оружия достанем, дай погулять, дай сердцу натешиться вволю – первый праздник в жизни!
Городской театр трещал под напором плеч. На стульях сидели по двое, людями были забиты проходы, коридоры. Сидели на барьере, свеся ноги в оркестр.
Ставили «Гейшу».
Музыканты проиграли заигрыш, взвился занавес.
Очарованный китаец, вытянув тонкую шею и перестав дышать, смотрел на залитую светом сцену… Потом он начал смеяться и в лад музыке притопывать босой пяткой:
– Уф, моя халасо, товалиса!.. – По грязному лицу его были размазаны непросохшие слезы.
Васька с Суворовым, расставив по борту ложи бутылки, прихлебывали прямо из горлышка шампанское. «Гейшей» интересовались и языками чмокали:
– Вот это буфера!
– Вот это да-а-а…
– Брава-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а…
На заднем плане трое в карты перекидывались. Максим под стульями спал. Васька разбудил его.
– Поехали?
– Куда?
– За денежками на дредноут.
Через жарко дышащую толпу они вытолкались из театра и в своей карете покатили в порт.
На кораблях горели сочные огни.
Под твердыми ударами весел шлюпка летела, оставляя за собой искристую пылающую дорожку. Дредноут «Свободная Россия» выдвинулся навстречу, как огромная серая льдина.
С борта окрик:
– Кто идет?
– Свои.
– Пароль?
Моряк, пришвартовывая шлюпку к трапу, крепко выругался: по ругани вахтенный и признал своего.
Гремя сапогами, пробежали по железной палубе и спустились в кубрик.
Открыл Васька сундучок кованый: керенки, николаевки, гривны, карбованцы – все на свете… Подарил дружку цейссовский бинокль.
– Вот и портсигар бери, не сомневайся, портсигар – семь каратов…
Сунул Максим бинокль за пазуху, вертел в руках портсигар: и радовал подарок, и смущал своим дорогим блеском…
– Может, зря это, Вася?
– Чего гудишь?
– За два оглядка куплено? – подмигнул Максим и неловко улыбнулся.
– Ни боже мой… Никогда и нигде грабиловки на грош не сочинили… Все у мертвых отнято. Скажи, браток, зачем мертвому портсигар в семь каратов?
Максиму крыть нечем.
– Показал бы ты мне корабль, экая махина, – сказал он, оглядывая железные, наглухо клепанные стены.
– Можно. Сыпь за мной.
Спускались в кочегарку, моряк рассказывал:
– У нас на миноносце «Пронзительный» триста мест золота на палубе без охраны валяются, никто пальцем не трогает, а ты говоришь – грабиловка… Тут, браток, особый винт упора, понимать надо.
– Неужто золота?
– Триста мест золота из киевских, харьковских сейфов… Мы, годок, за шалости своих шлепаем… У нас это просто – коц, брык, и ваших нет…
В кочегарке было черно и угарно.
Забитые угольной пылью, задымленные кочегары работали без рубашек. Из угольных ям на руках подтаскивали чугунные кадки, шыряли гребками в отверстые пасти печей, подламывали скипевшийся шлак. Скрежетали о железный пол, мелькали высветленные лопаты. Стенки котлов пышали палящим жаром. В топке, сверкая через решетку поддувала полными неукротимой ярости желтыми глазами, сопел и, рыча, ворочался огнище. Гудели, завывали ветрогонки.
– Ад, – сказал Максим, утираясь шапкой. Пот садил с него в тридцать три ручья, от духоты спирало дыханье.
Наклонясь к нему, Васька кричал:
– Это что!.. Два котла пущены!.. Это что!.. Вот когда все десять заведем, уууу! Жара по семьдесят! Ветрогонки старой системы, тяга слабая, жара под семьдесят… Да ведь надо не сидеть, платочком обмахиваться, надо работать – без отверту, без разгибу работать: не пот, кровь гонит с тебя… – В глазах моряка полыхали отблески огней: в эту минуту он показался Максиму похожим на черта с базарной картинки. – Эх, в бога-господа, пять годиков я тут отбухал!.. Жизня, горьки слезы!.. Али и теперь не погулять?.. Первый праздник в нашей жизни…
Вылезли наверх и в той же шлюпке поплыли в сияющий огнями, гремящий музыкой город.
Наперерез, рассекая высоким носом встречную волну, пронесся миноносец «Керчь». За кормой, распластавшись, летело черное знамя, на знамени трепетали слова:
...
АНАРХИЯ – МАТЬ ПОРЯДКА
– Чего у них флаг не красный? – спросил Максим.
– Такой больше нравится.
– За кого они?
– То же самое, за революцию… Состоят в распоряжении местного ревкома, но подчиняются только своей свободной революционной совести… Как-то зимой приплыли в Новороссийск из Турции Варнавинский полк и мортирный дивизион. Немало тут с солдатами митинговали, долго их уламывали и в конце концов уговорили наступать на Екатеринодар, свергать Кубанскую раду. Ладно, согласились, получили на руки провиант, но перед самым выступлением офицеры-варнавинцы заартачились и объявили нейтралитет. Ревком арестовал сорок три офицера и приказал миноносцу отвезти их в Феодосию, в распоряжение квартировавшей там дивизии. Проходит день, проходят два дня, об офицерах ни слуху ни духу. Шлет ревком радиодепешу: «Где арестованные?» Из моря команда миноносца тоже по радио отвечает: «Свое мы дело совершили» – и больше ни звука… Чисто сработано?.. Ха-ха-ха… Рыбаки нас костят на все корки – в бухте то и дело утопленники всплывают, а на базаре рыбу и даром никто не берет, брезгают.
Над воротами городского сада плакат:
...
ШТАТСКИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Всё за матросами, черно от матросов.
На подмостках распевали и кривлялись куплетисты. В звоне струн и в вихрях разноцветного тряпья бесновались цыгане.
– Веселая дешевка, – сказал Васька Максиму, пробираясь меж столиками. – За тыщу всю ночь гуляй с девочками, с музыкой, с вином. Не люблю я денег пересчитывать, а денег этих самых у меня с пуд: пропивай – не пропьешь, гуляй – не прогуляешь…
– Наследство буржуйское досталось?
– Никогда сроду… Ты, голова, не помысли на меня лихо… Полной обмундировки по пяти комплектов на брата мы получили? Получили… Жалованье за год вперед получили? Получили… Опять же и в карты мне везет, как про́клятому… Вот и подумай, на сколько мой мешок потянет?..
Пировали за столиками, на открытых верандах, а то и так просто на траве, на разостланных шинелях.
– Эх, братишки, в бога боженят!
– Иисус Христос проигрался в штос!
– Пей, все равно флот пропал!
– Бей буржуев – деньги надо!
Из множества глоток, подобная рыданью, рвалась любимая моряцкая песнь:
Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступа-а-ает…
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не жела-а-ает…
– Надоела вся борьба… Домой!
– Не хочешь ли на мой?
– Братишки, в угодничков божьих, в апостолов…
К песне налетали новые и новые голоса, ночь гудела и стонала от надрывного рева.
Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
Наверх якоря подыма-а-ают…
Клавка Бантик с цыганистой подругой исполняли танец «Две киски».
– Дамочки-мамочки, бирюзовы васильки…
– Цыганка Аза…
– Рви-рр-рр-рр ночки, равняй деньки!..
– Хорек, руби малину, не хочешь ли чаю с черной самородиной?
Жесткие мозолистые ладони хлопали, как ружейные залпы.
– Га, резвы ноженьки, верти, верти, верти!..
Плясали смоляные факелы, плясали моряки Рогачевского отряда. Обвешаны они были бомбами, пулеметными лентами, револьверами. Пахло от них пылью, порохом. Вчера только с фронта убежали, погуляют вечерок-другой и на извозчиках покатят обратно на позицию. Позиция под боком – Анапа, Азов, Батайск, – кругом огонь, кругом вода.
– Ходи, отдирай пятки!
– Арра, барра, засобачивай!
Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флота…
Наливался-наливался китаеза на голодное-то брюхо, и вдруг хлынуло из него все обратно – мадера, шампанское, всевозможные закуски и нежеваными кусками копченая колбаса. Его отпоили сельтерской. Китаеза выкурил несколько папирос и снова с полным бесстрашием набросился на яства и пития.
За столом сидели Максим, Васька, Ильин, шкипер Суворов, китай и деповский слесарь Егоров.
Максим к морякам:
– Вася, Илюшка, оборотите внимание: товарищ Егоров, черствая рука… В неделю два бронепоезда сгрохали; добре нам те бронепоезда на Тамани помогли… Законный пролетариат из рабочего строю… Глаза стращают – руки делают, руки не достанут – ребрами берут… Братишки, оборотите внимание.
Вытирая продранными локтями залитый стол, Егоров хрипло смеялся:
– …начальник мастерских против – мы его в тюрьму! Листового дюймового железа нет – добыли! Шестеро суток не спамши, не жрамши задували и действительно поставили на колеса два бронепоезда… И наша копейка не щербата… И мы, значит, могём соответствовать… Тридцать годов работаю, а такого азарту в работе не видывал.
Васька тряс старому слесарю корявую руку и угощал всех вкруговую:
– Пей, гуляй, товарищи!..
– Пьем!
– Нынче наш праздник… Хозяин! – заорал Васька, поднимаясь. – Подавай ужин из пятнадцати блюд!.. За все плачу!.. Есть ответ!.. А беломордых передушим всех до одного, душа из них вон!.. Мы…
Хор цыганский:
На горе стоит ольха,
Под горою вишня…
Буржуй цыганку полюбил,
Она за матроса вышла…
Ээх, давай,
А ну, давай,
Пошевеливай
Давай…
И эх, даю,
На, даю,
Бери, даю,
Ра-а-асшевели-ва-а-аю…
Кажда башка весела́
кажда башка бубен.
Где болит? Чего болит?
Голова с похмелья…
Нынче пьем, завтра пьем,
Целая неделья…
И эх, раз,
Еще раз,
Еще много,
Много раз…
Егоров пить не пьет, а ус в бокал макает и то к одному, то к другому моряку подсядет.
– Хорошие вы ребята, а пьяночка вас зашибает… В море не тонете и в огне не горите, а тут есть риск и утонуть и погореть, – не мимо говорит пословица: «Нет молодца, кой поборет винца»…
– Ты, отец, нам обедню не порть… Первый праздник в жизни…
– Не рано ли нам праздновать?.. Помни, ребятишки, враг не спит, враг наступает… Выпить? Почему не так, выпить можно, только… этого… не пора ли и за дельце браться?
Распалилось сердце Васькино, легко вспрыгнул на стол:
– Братва, слушай сюда…
И начался тут митинг со слезами, с музыкой.
Гра
Бра
Вра
Дра
Зра
С кровью
С мясом
С шерстью…
Васька Галаган ровно из огня слова хватал: о фронте он говорил грозно, о революции – торжественно, о буржуях – с неукротимой злобой… В углах губ его набивалась пена…
Максим с пятого на десятое рассказал про свою станицу, про бои с Корниловым.
Говорили все желающие.
Вот краткое и простое слово Егорова:
– Перед нами стоит вопрос таков: где нам собрать силу на уничтожение врага? Сила у нас есть, только эта сила везде и всюду разбросана – кто гуляет, кто буянит, кто дома с бабой спит… Время зовет нас оставить вагоны, номера гостиниц, квартиры с мягкой мебелью, электрическое освещение и всякие гарнитуры… Наше место – в окопах!.. Бросьте вы, ребята, заглядывать в бутылки, шмар под ручки водить, раскатываться по городу на лихачах, посещать шикарные рестораны… Бросьте вы, товарищи, игру в проклятые карты и ругань в бога, Христа-спасителя, кровь, в гроб, сердце, в законы и в революцию… На фронт! На фронт!.. Пятьдесят годиков стукнуло, а коли надо будет, и в огонь и в воду пойду хоть завтра, хоть сейчас… Клянусь… Мой сын…
Старика с криком «ура-ура» принялись качать.
Огрызком карандаша Васька заносил в блокнот имена желающих ехать на фронт.
И под утро прямо из городского сада на вокзал двинулся партизанский отряд Васьки Галагана… Мерно качались широкие плечи и головы в бескозырках…
На вокзале моряки подняли на ноги все начальство, разбудили коменданта.
– Оружие!
– Не от меня зависит.
Галаган ему под нос маузер.
– Да я ж из тебя, гад, все поганые жилы по одной вытяну.
Покрутился комендант немного, но видит – податься некуда, и выкатил морякам вагон винтовок, вагон патронов и несколько ящиков подрывных материалов.
Две сотни винтовок Максиму досталось.
Грузили мешки с рисом, хлебом, сахаром. На крышах пульмановских вагонов устанавливали пулеметы, на открытых платформах – орудия полевые и морские, снятые с миноносца.
Прослыша про выступающий на фронт отряд, на вокзал прибежали проститься рабочие, матросские девки и так просто жители.
Оркестр, речи, последние поцелуи.
Почерневший от усталости Василий Галаган подает команду «садись» и сам следит, чтобы кто-нибудь не остался.
Длянь, длянь, длянь…
Эшелон сорвался и, гремя буферами и сцепками, раскачиваясь на стрелках, сразу пошел на рысях.
Поезд мчится
огоньки
дальняя дорога…
Тяжелые немцы ввалились в хлебную Украину и, разметая дорогу огнем и штыками, двинулись на восток. Многочисленные партизанские отряды не могли устоять против железной силы пришельцев и орущим потопом хлынули на Дон, через Дон на Волгу и Кубань… Немцы заняли Ростов, из Крыма переправились на Тамань и с этих подступов грозили задавить весь благодатный юго-восточный край.
Немцы наседали по всему фронту. На Тамани они высадились со своими сельскохозяйственными машинами, и пошла работа – косили недозревший хлеб, прессовали и увозили все: муку, зерно, солому, полову; на Дону гребли пшеницу, мясо, шерсть, масло, уголь, нефть, бензин, железный лом и все, что попадалось под руку.
От Азова до Батайска, в колеблющейся щетине штыков, образовался фронт. На защиту родных рубежей и молодой революции встали ростовские и таганрогские красногвардейцы, кубанские партизаны, черноморские моряки под командой анархиста Мокроусова, шайка головорезов Маруси Никифоровой и всякие мелкие отряды с текучим составом людей.
Большинство отступающих с Украины повольников, не задерживаясь на кубанских землях, пробегали дальше.
Через узловую станцию Тихорецкую с музыкой, песнями и пьяными клятвами пролетали сотни буйных эшелонов… В салон-вагонах, перемешанных с теплушками, проследовали на Кавказ банды Чередняка, Самохвалова, Гуляй-Гуляйко, Каски, Тираспольский батальон. С боем прорвался и угнал за собой на Царицын поезд золота анархист Петренко – под Царицыном большевиками Петренко был расстрелян.
В июне Германия, в исполнение Брест-Литовского договора, предъявила Совнаркому ультиматум о сдаче Черноморского флота. Из Москвы – советскому правительству Кубано-Черноморской республики – радио: «Флот отвести в Севастополь, сдать немцам». И одновременно шифровка: «Немедленно затопить флот в Новороссийской бухте».
На местах замитинговали.
В Екатеринодаре и Новороссийске на многотысячных митингах выносились воинственные постановления: «Флот не топить, защищаться до последнего снаряда».
Голоса моряков разделились почти поровну. Среди черноморцев, как известно, в отличие от Балтики были чрезвычайно сильны анархические, украинофильские и особенно эсеровские влияния.
За день до истечения срока ультиматума из Москвы приехали представители большевистского ЦК и настояли на исполнении приказа. На Новороссийском рейде были потоплены линейный корабль «Свободная Россия», миноносцы – «Калиакрия», «Гаджи-бей», «Фидониси», «Стремительный», «Шестаков» и другие. Несколько кораблей, во главе с дредноутом «Воля», все же ушли в Севастополь и сдались немцам.
Через два дня после потопления флота в Новороссийск прибыла германская эскадра…
…Не успевший отступить с Украины вместе со всеми отряд Ивана Черноярова долго плутал по Дону, по тылам немцев, пробившись в Сальских степях через фронт, повернул на Кубань отдыхать и пополняться.
В весенний праздничный день, когда улицы были полны гуляющим народом, отряд вступал в станицу.
В тучах жирной пыли широким твердым шагом шли одичавшие за долгую войну солдаты Западного фронта.
Матросы – первые удальцы и в боях, и в грабежах – держались обособленными кучками, не мешаясь с другими. Обветренные лица их были черны от пыли, глаза горели решимостью и яростью.
Простоватых кареглазых парней и усатых мужиков Приднепровщины ото всех можно было отличить по серым мерлушковым шапкам и заскорузлым кожухам. Немцы выжгли их хутора и села, отобрали хлеб и скотину. Обалдевшие от горя, они бежали, сами не зная куда, неся на себе лохмотья, полные вшей, а в сердцах неукротимую злобу.
В запряженном конями испорченном автомобиле тесно сидели очкастые юноши, до хрипоты распевая гимны анархии.
В ободранных экипажах ехали отпетые бандиты и шпанка больших южных городов. Из ведерного серебряного самовара они пили пенистое цимлянское вино и тоже горланили песни.
Разно одетая рота шахтеров замыкала шествие.
Тачанки были завалены подушками и перинами, а поверх застланы серыми от пыли коврами. Перемерившие ногами всю Украину и Дон загнанные лошади всхрапывали, прядали ушами и, чуя близкий отдых, ржали. Заседланные строевые кони бежали на привязи за тачанками: в гривах развевались ленты, на хвосты были навязаны пучки засохших полевых цветов. Цокали высветленные подковы, погромыхивали пулеметные щиты, и орудия, тяжело приседая на зады, ныряли по ухабам. Накрашенные девки сидели в тачанках. В каждых девичьих коленях валялась пьяная голова партизана. Прикованный на цепь медведь бежал за возом и неистовым, тоскующим ревом оглашал улицу. В разливе пыли, в гаме многих голосов обоз походил на кочующий цыганский табор.
В голове отряда на караковой, легких арабских кровей кобыле струнко сидел в седле молодой атаман Иван Чернояров. Шапка мелкого каракуля, примятая особым залихватским способом, еле держалась на затылке. Высокий загорелый лоб был открыт. Начесаный смоляной чуб свисал чуть ли не до плеча. Над губой резался первый ус. Скулы облеплял свалявшийся волос. В черкеске малинового цвета, туго перетянутый наборным узеньким поясом. Расшитый веселым узором мягкий азиатский сапог еле касался носком стремени.
Стремя в стремя с атаманом ехал, облаченный в саван, адъютант Шалим. Скуластое лицо его отливало чугунной чернотою. На поясе болтались обрез и вышитый кисет с махоркой, на пику была насажена добытая в последнем бою под Батайском седоусая голова немца в каске. Над мертвой, издающей зловоние головой вились мухи.
Богато пошатались кунаки с тех пор, как покинули станицу: гуляли по Дону и Волге, залетывали в Крым и, после многих злоключений на Украине, попали в банду атамана Дурносвиста. В огне и крови прошли всю Уманьщину. Однако Дурносвист вскоре был уличен в черной корысти и повешен своими же отрядниками. Выбранный ему на смену Сысой Букретов в первом бою испустил дух на пике сечевика. Чернояров принял командование над бандой и повел ее по древним шляхам Украины. Под Знаменкой дрались с гайдамаками, под Фастовом – с Петлюрой, под Киевом – с немцами и большевиками. Молодой атаман всей душой был предан дисциплине и порядку, но на первых порах, чтобы расположить к себе людей, поважал укоренившимся в банде привычкам к грабежу, пьянству и всяческим бесчинствам. Потом, когда положение его укрепилось, круто повернул по-своему – сам стрелял трусов, рвал плети на барахольщиках, но проку от всего этого было мало. При самых пустяковых неудачах банда разлеталась, как дым на ветру, и Иван с Шалимом скакали по степи, окруженные двумя-тремя десятками самых преданных. Поворот счастья, и шайка быстро возрастала до нескольких сотен. Боевая, волчья жизнь вырабатывала свои права, которые не укладывались ни в какой писаный устав: смертью карался лишь трус и барахольщик, не желающий делиться добытым с товарищем, все остальное было ненаказуемо…
С Дону банда шла в восьми сотнях.
Лелеял Иван горделивые помыслы, как явится он в свою станицу ватажком, как старики во главе с отцом выйдут встречать его с хлебом-солью, как они будут упрашивать его принять в подарок чистокровного степного коня, как… Помахивал от нетерпенья плетью, остро вглядывался в лица высыпавших ко дворам станичников и досадовал, что никто будто и не узнает его.
В обозе хранилось немало отвоеванных знамен всевозможных цветов и отцветков. В станицу отряд входил под черным знаменем, на котором светлыми шелками были вытканы скрещенные кости, череп, восходящее – похожее на петушиный гребешок – солнце и большими глазастыми буквами грозные слова:...
СПАСЕНЬЯ НЕТ
КАПИТАЛ ДОЛЖЕН ПОГИБНУТЬ
Весь отряд втянулся в улицу.
Атаман привстал на стременах, обернулся и хрипким баском скомандовал:
– Весело!
Трубачи, откашливаясь, разбирали с возов нагретые солнцем трубы. Кларнетисты, багровея от натуги, начали пробовать инструменты: на их щеках заиграли ямочки, казалось – музыканты заулыбались.
Оркестр хватил «Яблочко».
Две тачанки были сцеплены бортами и поверх, для звона, застланы досками. На движущийся помост легко вспрыгнула походная жена атамана и лучшая в отряде плясунья Машка Белуга. Повертываясь во все стороны, она охорашивалась. Ее крыла шляпа с большое решето, писаный гайдамацкий кушак туго перехватывал талию, обтянутые драгунскими штанами стройные ноги дрыгали от нетерпенья, а высокая грудь была увешана содранными с чьих-то грудей орденами за верную службу, медалями за усердие и выслугу лет, Георгиевскими крестами всех степеней. Станичники, завидя атаманшу, по привычке к чинопочитанию подтягивались, а старый Редедя стал во фронт…
– Весело!
Машка кинула глазом туда-сюда, в ладоши хлопнула и пошла рвать:
Иисус Христос
Проигрался в штос
И пошел до Махна
Занимать барахла…
Взвыли, закашляли, засморкались…
А божая мать
Пошла торговать…
Машка как топнет-топнет и понесла:
Буржавой ты, буржавой,
Хабур чабур лимоны [1] ,
Кругом наше право
И наши законы…
Отряд застонал, закачался в гулком реве:
Кыки, брыки всяко право,
Гребем мы все законы…
Кто засвистал, кто принялся стрелять во взбунтовавшихся собак, и медведь, не переносящий лая, заревел во всю пасть.
Площадь не вмещала народа.
Не потешили старики Ванькину гордыню, не вынесли хлеба-соли и своей покорности.
Атаман поднял плеть.
– Стой!
Движение затормозилось.
Брякнув прикладами о черствую землю, стала пехота. Всадники опустили поводья, поспрыгивали с коней и начали разминать занемевшие ноги. Оборвался строй ликующих звуков оркестра. Умолк скрип колес.
Шалим, чуть коверкая слова, прокричал нараспев:
– Квартирьеры, разводи людей по квартирам!.. Бабы, разбирай постели, готовься к бою!.. Фуражиры, ко мне!
Над возами качали хохочущую Машку Белугу, вскидывая ее выше лошадиных голов.
Матрос будил матроса:
– Тимошкин, вставай… Тимошкин, в деревне мужики горят!
Тимошкин не в силах был вырваться из объятий сна и только мычал. Ведро холодной воды ему на голову! Тимошкин, фыркая, поднял стриженую голову, воспаленные глаза его испуганно мигали:
– Где мы?.. В Таганроге?.. Горим или тонем?
– Хлюст малый, – заржали кругом, – с самого Дону не просыпался, всю неделю пьян был… Слезай, на Кубань приехали, сейчас с казаками драться будем.
Перед зданием станичного правления атаман остановился в раздумье… Потом, переборов себя, ступил на скрипучее крыльцо и, окруженный свитой, ввалился в помещение.
Члены ревкома – по углам.
– Кто у вас тут старший клоун? – спросил Ванька, окидывая зорким глазом вставших комитетчиков.
Григоров вышел из-за стола и протянул руку:
– Здравствуйте… Я – председатель ревкома.
– Откуда ты такой красивый взялся? – не подав руки и раздражаясь, вспыхнул атаман. То, что верховодит станицей не казак, а чужак, которого он и видел-то раньше лишь мельком, взбесило…
Шалима разбирало нетерпенье, перемигнулся с фуражирами и ротными раздатчиками, выкрикнул ругательство и рассек плетью зеленое сукно на столе.
Григоров откачнулся, поправил пенсне и насмешливо проговорил:
– Молодцы вы, ребята, погляжу я на вас…
– Помолчи, председатель, – угрюмо сказал атаман. – Не рад прибытию нашему?
– Что вы, что вы! – опять усмехнулся Григоров. – Все мы рады до смерти.
– Помолчи, председатель, да подумай лучше, как бы нас покормить, да и коней наших не заставляй дрожать от голода.
– Кому подчинен отряд? – спросил Григоров.
– Ну, мне.
– А ты кому?
– Черту.
– За кого же вы воюете?
– А ты что, начальник надо мной, меня допрашиваешь?
– У-у, анна сыгы! – как укушенный завопил Шалим и взмахнул плетью.
Атаман удержал его руку.
У дверей загалдели:
– Дай ему, Шалим, по бубнам.
– Али на базар рядиться пришли?
– Правильно, будя волынку тянуть, люди голодны, лошади не кормлены.
– Карабчить его, и концы в воду.
– Уйми своего молодца, – сказал Григоров, – прикажи убраться отсюда лишним, тогда будем говорить о деле.
– Гонишь? – прищурился атаман, и ноздри его затрепетали.
– Гнать не гоню, но разговаривать сразу со всеми не желаю.
– Храбрый?
Григоров промолчал.
Не спуская с него глаз, атаман с нарочитой медлительностью вытянул из коробки маузер, спустил предохранитель и выстрелил через голову председателя в стенку.
– Гад…
Вбежал Максим.
Григоров стоял прямо. Сразу осунувшееся лицо его было серо, глаза немы.
– Вот стерва! – в восторге закричал Иван. – Не боится ни дождя, ни грому… Пойдешь ко мне в штаб писарем?
Максим сразу сообразил, в чем дело, загородил собою Григорова и, стараясь придать голосу твердость, заговорил:
– Стой, Иван Михайлович… Напрасно ты нашему председателю обиду чинишь… Он расейский и порядков наших не знает.
– Чего же он порядков не знает?
– В председателях недавно ходит, потому и не знает… Станица у нас на беспокойном месте… Ты вот пришел – по зубам бьешь, а завтра кто залетит – в зубы даст: никак невозможно больше недели в председателях высидеть, морда не терпит.
– Морда не терпит?.. – Иван засмеялся.
Прорвался гогот всей свиты: хохотали, захлебываясь чихом, хахом, кашлем.
Высмеявшись, атаман спрятал маузер, торопливо – не попадая огнем в трубку – закурил и изложил свои требования.
– Выставим в срок, – пообещал Максим, – и угощенье, и хлеба печеного, и овса, и всего, что полагается, предоставим в точности… Будьте покойны, Иван Михайлович.
– Ты меня помнишь?
– Дак вы ж Михайлы Черноярова сынок? Как не помнить…
Ванька хотел было что-то спросить про отца, но сдержался. Оглядел внимательно Максима:
– Чей таков?
– Максим Кужель… Я тутошний.
– Комиссар?
– Я простой, – ответил Максим.
– Ну, гляди, не исполнишь приказа, голову сниму.
– Будьте покойны, предоставлю.
– Добре. Хлопцы, гайда!
Гости ушли.
– Чего будем делать? – спросил Васянин.
– Послать на фронт вызывную телеграмму, – предложил Меденюк, – вызвать Михаила Прокофьевича с полком, он их угостит…
– А не попытаться ли разоружить банду своими силами? – сказал Григоров. – Добром с ними, как видно, не поладишь…
– Народу надежного не хватит…
– Винтовок и патронов я привез, – сказал Максим, – а народу, пожалуй, и не наберем.
– Где винтовки?
– На станции… И Галаган на станции, паровоз починяют…
Он коротко рассказал о своих мытарствах в городе, о встрече с моряками.
– Не взять ли твоего Ваську за бока? – спросил Григоров.
– Вряд ли их, чертей, уломаешь… На фронт торопятся и злые до бесконечности: дорогой бить было некого, так они все в телеграфные столбы стреляли.
– Все-таки надо попробовать связаться с ними… И немедленно…
– Попытать можно…
Комитетчики, распределив между собой районы, отправились по станице собирать дань для нашельцев, а Максим с Григоровым побежали на станцию.
Приготовления к пиршеству начались еще засветло.
Тесно показалось в хатах. Столы были вытащены на улицы и площадь. Под окнами кухонь, ровно пьяницы у кабаков, увивались собаки. Засучив рукава и подоткнув исподницы, бегали раскрасневшиеся бабы. Столы ломились под обилием угощений: караваи пшеничного хлеба, пироги с мясом, жареная птица, соленые арбузы, чугуны дымящейся баранины, ведра кислой капусты и моченых яблок.
На площади за богатым столом, развалившись на вытертом плюшевом диване, сидел окруженный приспешниками Иван Чернояров. Со своего высокого сиденья – под ножки дивана были подложены кирпичи – он видел всех, и его все видели.
Вестовая серебряная труба проиграла сбор.Люди расселись за столы
атаман поднял руку:
– Хлопцы…
Площадь притихла…
Атаман не любил многословия, краткая речь его была подобна команде:
– Хлопцы, нынче гуляй, завтра фронт!.. Как мы бесповоротно зараженные революцией, не поддадимся ни богу, ни черту!.. Дальше пойдем с открытыми глазами, грудью напролом! По всему белу свету пойдем, пока ноги бегают, пока кони носят нас!.. Кровь по колено, гром, огонь!..
Он опрокинул ковш на лоб. Услужливые руки протягивали ему огурец, корку хлеба, хрящ из осетровой головы.
Площадь гремела:
– Ура батькови!..
– Будем панов бить, солить!
– Отдай якорь!
– Вира… Ход вперед.
– Гу-гу-уу…
– Спаса нет, капитал должен погибнуть!
– Хай живе отоман и вильное товариство!..
Крики схлынули, понемногу заглохли.
Все набросились на жратву. Некоторое время слышалось лишь чавканье, хлопанье пробок, звон посуды, треск разрубаемых тесаками мозговых костей, потом голоса загудели с новой силой, развернулась песня, полились бабьи визги да жаркий смех.
В церковной ограде за многими столами, застланными холстом под одно лицо, гуляли шахтеры.
Февральская революция блеснула над Донбассом, как далекая заря. Шахтеры, на свою беду, плохо разбирались в политических тонкостях. На митингах – проклятия и зубовный скрежет, обольстительные призывы и горы обещаний. Первые выборы дали меньшевикам и эсерам победу – они возглавили городские думы и рудничные советы, засели в профсоюзах. Чумазая сила опять была загнана под землю. Социалисты приступили к мирному сотрудничеству с промышленниками. Пока им удавалось выторговать у хозяина копейку прибавки, хлеб дорожал на пятак. Владельцы отсиживались в своих особняках. Конторщики по-прежнему обжуливали горняка при расчетах. Управители мозолили глаза, раскатываясь на заводских рысаках. Подтертое и разболтанное за войну оборудование предприятий не сменялось, а нормы выработки беспрерывно повышались. Наконец терпенье горняков лопнуло.
Зашумели забастовки.
Промышленники в ответ закрыли до трехсот рудников. Десятки тысяч безработных с лютой злобой в сердцах и с пустыми котомками за плечами побрели из Донбасса на все стороны. Но вот по всей стране хватила Октябрьская гроза. Шахтеры воспрянули духом. Генерал Каледин, по настоянию шахтовладельцев, прислал на рудники казаков. Шахтеры взялись за кирки и обушки. Началась гражданская война. Рабочие казармы и землянки наполовину опустели – дома оставались бабы да кошки. Работа на рудниках замерла. Сезонные шахтеры разошлись по деревням ковырять землю; другие утекли к Махно; иные пристали к красным отрядам Сиверса, Жлобы, Антонова-Овсеенко; немало чумазых увели за собой под Царицын Артем и Ворошилов… Вольная боевая артель под командой забойщика Мартьянова целую зиму воевала с казаками в верхнедонских округах и потом, спасаясь от немецких пуль, увязалась за бандой Черноярова…
Самогон цедили из бочат, черпали из ведер.
– Во! – сверкая из-под окровавленного бинта загноившимся глазом, размахивал кожаной шляпой пожилой шахтер. – Это жизня!.. Бывало, идешь мимо господской кухни и нюхаешь, как мясными щами пахнет, а нынче вот оно… Радуйся, душа, ликуй, брюхо!
К нему тянулись чокаться.
– Распускай пояса, наедайся про запас.
Винтовки были составлены в козла.
Пахло перегорелой вонью, исторгаемой переполненными желудками.
Два парня палили над костром насаженную на пику свинью.
Черные, проросшие грязью руки рвали куски мяса. Потные лица блестели довольством, по щетинистым подбородкам стекал жир.
В хатах огней не зажигали. В окнах смутно мелькали испуганные лица. Шайки барахольщиков бродили из двора во двор. Гостей встречал лай взволнованных собак, плач детишек, бабья ругань и причитанья.
Грохот в дверь:
– Хозяевы…
– Дома нету, – отзывается из-за двери дрожащий голос, – одна я с ребятишками.
– Оружие есть?
– Боже ж мой, да какое у меня оружие?..
– Отпирай… Обыск.
– Ратуйте, православные!
Дверь трещит и рассыпается под ударами прикладов.
– Говори, куда пулеметы спрятала?.. Где сундуки?.. – Придушенный шепот: – Гроши е?
– Откуда у меня грошам взяться?.. Я вдова, солдатка…
– Нам тебе под подол некогда заглядывать. Ребята, приступи…
– Карау-у-у-ул!..
– Тю!
Под железными пальцами хрустит бабье горло.
– Товарищи… Черти, у меня и мужа-то убили на германской войне… Почитайте документы.
– Мы неграмотны.
Из сундука летели праздничные юбки, сувои полотна, цветные платки и припасенное дочерям приданое.
– Ломи шубу!
– Не дам… Не дам шубу!
– Брось, баба, зачем тебе шуба?.. Тебя твоя толстая шкура греть будет.
Дом после обыска как после пожара…
Из дворов выходили с узлами. Озираясь и пересвистываясь, убегали в свой табор.
Атаман, пошатываясь и шагая через пьяных, проходил по площади. Время от времени полной горстью он разбрасывал серебряные деньги и кричал:
– Хлопцы, все ли пьяны, все ли сыты?
Кто подносил ему чарку, кто лез целоваться.
Плачущие бабы ловили его за полы черкески:
– Шаль ковровую… Золото.
– Кто ж тебе виноват?.. Прятала бы дальше.
– Растрясли… Обобрали…
– Не наживай много, не отберут.
Старый казак Редедя повалился атаману в ноги:
– Сынок… Ваня… Овес выгребли, двух коней с бричкой угнали…
– Ограбили? – спросил он, тронутый горем старика, и, выдернув из-за пояса наган, сунул ему в руки: – Иди, Сафрон Петрович, и ты кого-нибудь ограбь.
Кругом заржали.
Атаман искал Машку и нигде не находил ее. Неожиданно в стороне, за церковной оградой, послышался знакомый смех.
Атаман остановился, повел ухом…
Потом влез на ограду и, придерживая шашку, прыгнул в темноту. Из-под куста, ахнув, выпорхнула, как куропатка, растрепанная Машка Белуга. За ней поднялся, отряхиваясь, черноусый шахтер, в котором атаман узнал пулеметчика Лященко.
Иван, нахлобучив шапку, точно готовясь к драке, шагнул к своей подруге:
– Ты что ж, трепки захотела?.. Да я из тебя, змея гробовая, требуху вырву.
Машка попятилась:
– Я тебе не наймичка… Я сама себе вольная.
– Цыма, сука семитаборная! – бешено закричал атаман, хватаясь за кинжал. – Гайда за мной!
– Дудки…
Сверкнул кинжал, пулеметчик на лету поймал кинжал за лезвие и сломал его, в руке атамана осталась одна рукоятка.
Шахтер загородил Машку и поднял кулак:
– Отнюдь!
– Ты, г… в тряпке, в чужое дело не тасуйся.
Они сцепились и оба рухнули на землю.
Девка завизжала.
Набежали партизаны.
Дерущихся разняли, пообрывали с них оружие. Шахтеры приняли сторону своего товарища, солдаты и матросы горой встали за атамана. Готова была вспыхнуть всеобщая потасовка, когда подошел командир шахтерской роты Мартьянов. Повелительным окриком он приказал своим людям разойтись. Шахтеры не выдали Машку и, усадив ее за свой стол, наперебой принялись угощать, подсовывая лучшие куски.
Атаман, оставшись с адъютантом с глазу на глаз, сказал:
– Шалим, приготовь за станицей две тачанки… Вымани лярву от этих коблов… Когда все будет готово – доложи… Я разорву ее лошадями.
Потянуло Черноярова домой. Захотелось хоть одним глазком глянуть на свой двор, пробежать по саду, завернуть в конюшню, слазить на чердак к голубям. Весь вечер поджидал, что явится кто-нибудь из домашних и позовет его. Чем ближе подходил к дому, тем больше волновался.
Окна были прикрыты ставнями, ворота на запоре.
Постучался… Сердце колотилось в ребра…
С хриплым лаем кинулись собаки… Калитку приоткрыл работник Чульча и, не узнав спросонья молодого хозяина, преградил ему путь. Не в состоянии выговорить ни слова, Иван оттолкнул калмыка и, отбиваясь от собак плетью, перебежал двор.
В сенных дверях его встретил сам Михайла.
– Батяня…
– А-та-та…
Иван сунулся было целоваться.
Старик оттолкнул его в грудь и хотел закрыть дверь, но сын уже протиснулся в сени.
– Ты так-то, батяня? – глухо спросил он и пьяно икнул.
– Серый волк тебе батяня, огрыза собачья… Осрамил на всю Кубань… Отец с наградами да грамотами службу нес, а сын – разбойник…
Иван промолчал и прошел в горницу.
По лавкам, вдоль стен, сидели старики – Карпуха Подобедов, Трофим Саввич Маслаков, Селенкин, братья Чаликовы.
– Здорово, казаки, – неласково сказал вошедший.
– Поди-ка, добро пожаловать… Здоров будь, атаман молодой…
В голосах угадывалась насмешка.
У Ивана зашумело в ушах, злоба колом встала в горле. Огляделся… Коптила привернутая лампа. Старые, в дубовом окладе, стенные часы, выпустив всю цепочку, стояли. Стол был завален немытой посудой. Домашних нигде не было видно.
– Где же… все? – спросил он отца.
– А тебе кого надо?
– Ну, брательник?.. Бабы?
– На улицу побежали, твоими молодцами любоваться… Меня, как старого кобеля, домовничать оставили, а я тоже не прочь бы подивиться на твой балаган…
– Живы?
– Кашляем… Бог смерти не дает.
– Не ждали?
– Все глаза проглядели, – качнулся доводившийся Чернояровым дальним родственником рыжебородый Селенкин и всхлипнул: – Ваня, не срами ты наш род-племя, не иди за этими городовиками: они босяки, самая голота, а ты ж казак, наш родный казак…
– Он, может статься, и казаком уже себя не считает… Нынче ведь всех на граждан повертывают? – подкольнул старший Чаликов.
Иван вскочил и опять сел.
– За обиду и за большую грубу слушать мне речи ваши, старики.
Загалдели все разом:
– Творец небесный…
– Какой ты, братец, стал чванливый…
– Помнишь, парень, как я тебя с горохом на огороде поймал да, спустив портки, высек?.. Давно ли было?.. А?.. Что время делает?.. Господи, твоя воля.
– Зачем пожаловал? – спросил отец, подойдя к сыну вплотную и не сводя с него свирепых глаз. – Мимо своей станицы тебе мало дорог?
Иван сидел на лавке прямо, как в седле, и чувствовал на лице горячее дыхание старика.
Михайла, с силой распуская пальцы и вновь свертывая их в кулак, говорил сквозь зубы:
– Бесовский вихрь крутит тебя?.. Лба не крестишь?.. В кабак пришел?.. Шапку долой!
Иван пересунул шапку с уха на ухо и, задыхаясь от обиды, туго выговорил:
– Уймись, батяня…
Отец сорвал с него шапку вместе с клоком волос и заорал:
– Руки по швам, сукин сын!
Иван бросился к двери, но первый же удар навесистого отцова кулака заставил его волчком завертеться по горнице… Он упал под ноги старикам, стукнулся затылком о чугунную ножку швейной машины и потерял сознание. Михайла сыромятным ремнем прикрутил сыну руки за спину и бросил его в подпол.
– Вася, друг, выручай.
– Чего там у вас?
Максим бегло рассказал, Григоров добавил.
– Какой он партии? – спросил Галаган.
– Партия дери-бери… Кадушки-рядушки, ни с чем не расстаются.
– Далеко ль до станицы?
– Версты две.
Галаган оглядел набившихся в штабной вагон моряков.
– Ну, как, ребята?
Моряки, ссылаясь на незнакомство с обстановкой, заговорили разно. Одни советовали не ввязываться не в свое дело, другие невразумительно мычали, многие склонялись к мысли, что нужно дождаться утра, выяснить положение и уже тогда приступить к разгрому банды.
– Товарищи, – сказал Григоров, – время не терпит… Меня удивляет, товарищи, ваша нерешительность… Дело ясное, банду необходимо разоружить, и чем скорее, тем лучше.
– Не горячись, председатель, тут игра кровью пахнет, – осадил его Галаган и обратился к своим: – Кто пойдет со мной на разведку?
Вызвались почти все.
Он выбрал двоих – шкипера Суворова и рябого атлета Тюпу, отдал распоряжение выставить усиленную охрану и приказал никому не отлучаться из эшелона до его возвращения.
Григоров мигнул Максиму:
– Валяй с ними.
Максим схватился:
– Вася, и меня прихвати. Я тут каждый шаг степи и все лазы наперелет знаю, мигом доведу.
Вчетвером они вышли из вагона и, как бледные тени, пропали в лунной степи.
Над станицей – зарево.
В черных садах костры.
На высоком крыльце нарядного домика кучка пьяных штурмовала попа Геннадия. Один шашкой среза́л его седые космы, другой тянул с него штаны и припевал:Яблочко,
Революция…
Скидавай, поп, штаны,
Контрибуция…
– Детки, помилуйте…
– Едем с нами, у нас пулеметчика в роте не хватает.
– Сыночки, пожалейте.
– В кашевары его…
– В кобыльи командиры!
Постращав, попа отпустили. Подобрав полы подрясника, он побежал прочь от своего дома, из окон которого на улицу летели пустые бутылки, консервные банки, громовой хохот и девичий визг да вопли.
Между столами, вздымая пыль, мчались танцующие пары. Через костры, сверкая голяшками, прыгали девки. Кто спорил о политике, кто просто так развлекался. Упившиеся валялись вповалку.
Бритомордый эстрадный куплетист и чахоточный, с торчащими бескровными ушами, солдат стояли друг против друга, как драчуны, и ругались на спор – кто кого переругает. Под ноги им прямо на землю был набросан ворох мятых денег, пачки папирос, сломанный бинокль, серебряная спичечница – все это предназначалось победителю… Ругателей окружали гогочущие знатоки и тонкие ценители матерщины.
Матрос Тимошкин, держа в зубах кинжал, а в руках по букету сирени, выбивал на столе чечетку.
Со всех сторон его ругали и подбадривали:
– Ножку, ножку дай!
– Класс!..
– А ну, пусти тройную дрель.
– Чаще! Чего ты глистов вытрясаешь, чаще!.. Дай три тыщи оборотов в минуту.
Со стола валились бутылки, сползали тарелки.
Галаган выпил с солдатами, повертелся среди матросов, на воровском языке перебросился шуткой с блатными, поболтал с державшимися отдельной компанией анархистами, подтянул шахтерам – песнь рвалась из их крепких глоток, подобно волчьему вою. Потом Васька разыскал своих спутников, отвел в сторону и дал краткие распоряжения.
Максиму:
– Две парных брички за станицу, к мельнице… Скоро!
Шкиперу Суворову:
– Шахтерского командира – вон, вон пошел! – вымани за станицу, придержи до моего прихода. Понятно? Живой ногой!
Моряку Тюпе:
– Ты, годок, выбери солдата с бородой погуще и волоки за станицу.
– Ладно, – промычал Тюпа и переспросил: – Сбор у мельницы?
– Да. Через полчаса. Кругом арш.
Разошлись.
По окраине площади толпились станичники и вполголоса переговаривались:
– Вот она, камуния…
– И вовсе, бабочки, это не камуния… Анархисты, слышь, да какие-то экспроприятели.
– Приятели… Мне бы хорошую казачью сотню с плетями, я бы им раздоказал…
– У дедки Сафрона двух коняк свели.
– Захотят, и жену со двора сведут…
– Я бы обеими руками перекрестился, коли на мою бы Дуняху кто позарился, – сказал молодой и красивый Лукашка. – Такая она у меня… ууу!
– …и жену сведут, и крест с шеи снимут… Отвернулся от нас господь-батюшка.
– Беда!
– Наши комитетчики тоже, видать, хвосты поджали?
– Куда там!
– До хорошего дожили… Свобода.
– Не раз и не два вспомним слова покойника Вакулы Кузьмича: «Это стыдно – жить без царя!»
– Понес, статуй губатый.
– Погоди, Сережка, пороли мы вас, молодых, и еще пороть будем, дадим память…
Остап Дудка горячо дышал Лукашке в ухо:
– Кони… Вино… Деньги… Чернояров будет рад нам, как-никак свои станишники… Двинем?
Лукашка мялся:
– Не, Остап… Дай подумать… Банда не бывалошная лейб-гвардия, в банду завсегда легко попасть.
Моряк Тимошкин бесом вертелся в толпе и рассказывал:
– Немцы обдирают Украину, как козу на живодерне. Гайдамаки торгуют на два базара – и германцы им камрады, и Скоропадский отец родной… Мы не захотели гайдамацкому богу молиться и драпанули сюда. Чистыми шашками прорубились через все фронта, пулеметы у белых добыли, а пушки под Каялом у красных забарабали…
– Надолго к нам, матросик?
– Не-е-е… Тут у вас водится мелкая рыбешка, а крупной буржуазной осетрины не видно… Нам тут быть неинтересно… Отдохнем недельку и всей хмарой назад посунем… Грудь стальная, рука тверда – вперед, вперед и вперед!
– А в Крыму, служивый, тоже бударага?
– Гу-гу… Война в Крыму, весь Крым в дыму – ни хрена не поймешь… Большевики продали в Бресте Украину, сейчас в Ростове с немцами мирные переговоры ведут, а завтра столкуются с буржуями и запродадут всех нас чохом.
Через толпу проталкивается, оправляя растрепанные волосы, Анна Павловна:
– Товарищи, я не понимаю… Я не согласна… Идейный анархизм… Ваши… Швейную машину, я ею кормлюсь…
– Кто такая?
– Я – учительница.
– Учительница? Машину? Да разве ж это мыслимо! – возмутился Тимошкин и жирно сплюнул. – Да я ж их, кудляков, своим судом раскоцаю… Кто у вас, извиняюсь, не знаю имя-отечества, машину стартал?
– Где мне найти… Все вы одинаковы, ровно вас одна мать родила.
– Расписку дали?
– Вы смеетесь? Какая там расписка, думала, сама ног не унесу… – С надеждой она вглядывалась в веснушчатое оживленное лицо моряка.
Тимошкин ухмыльнулся:
– Шиханцы портачи, я их знаю. Ни живым, ни мертвым расписок не дают… Перестаньте, мадам, кровь портить, машину вашу разыщу.
Он убежал и действительно скоро вернулся с машиной.
– Вот спасибо, вот спасибо… – Она взялась было за машину, но тут же опустила ее.
– Тяжело? Донести? – подлетел Тимошкин.
– Если вы так любезны…
Всю дорогу Тимошкин врал о том, как он где-то на себе таскал якоря и паровые котлы.
Остановились перед школой.
Анна Павловна позвонила… Из-за двери трепещущий детский голос окликнул:
– Кто там?
– Это я, Оленька, не бойся.
– Мамочка, мамочка… – Дверь приоткрылась. Увидев незнакомого человека, дочь замолкла.
– Машину отыскала, слава богу, – сказала мать, – нашелся вот добросовестный товарищ, донести помог.
– Я так за тебя боялась, мамочка, так боялась.
– Заходите, товарищ. Как вас зовут? Не хотите ли чаю?
Моряк поставил машину у порога и выпрямился, выпячивая грудь колесом:
– Позвольте представиться, моряк Балтийского флота, Илларион Петрович Тимошкин… – Он с чувством потряс обеим руки и обратился к дочери: – А вас Шурой звать?
Ольга удивленно повела бровью:
– Нет, не Шурой.
– Ха-ха… А я думал – Шурой… Люблю имя Шура… Но все равно… А чаю, между прочим, выпью с удовольствием: давно чай не пил, последний раз еще в Миллерове на вокзале чай пил…
На столе мурлыкал самовар. Анна Павловна заваривала чай. Востроглазая Ольгунька, с голубым бантом на макушке, сидела ровно заяц, насторожив уши. С любопытством, смешанным со страхом, исподлобья она разглядывала моряка.
По первому стакану выпили молча.
Быстро освоившись, Тимошкин вынул карманное зеркальце, оправил прическу и спросил:
– Чего же вы, барышня, боялись?
– И сама не знаю… Страшно одной в пустом доме.
– Это справедливо, одному везде страшно. Был со мною под городом Луганском случай… Пошли мы как-то ночью в разведку…
Рассказал случай из своей боевой жизни, потом, забавляясь, погонял в стакане клюквинку и скосил глаза на Анну Павловну:
– И хорошее жалованье получаете?
– Какое там… – махнула она рукой. – Чуть ли не каждый месяц власть меняется, в школу никто носу не показывает.
– Возмутительно, – подскочила принимавшая близко к сердцу огорчения матери Ольга и выпалила запомнившуюся газетную фразу: – Вы понимаете, без народного просвещения все завоевания революции пойдут насмарку.
– Обязательно насмарку, – подтвердил моряк. – Им, сволочам, только пьянствовать. – Он небрежно полистал подвернувшийся под руку учебник геометрии и спросил: – Учитесь?
– В школе почти всю зиму занятий не было, дома с мамой немного занимаюсь…
Моряк горестно вздохнул:
– А я вот шесть годов проучился в гимназии, арифметики не понимаю, надоело. «Отпустите, говорю, мамаша, на военную службу». – «Не смей, дурак», – отвечает мне мать. Я не послушался и убежал во флот, скоро чин мичмана получу, я отчаянный…
Заложив руки в карманы широченного клеша, Тимошкин прошелся по комнате и остановился перед поразившим его внимание портретом старика в холщовой рубахе:
– Папаша?
– Нет, это писатель Толстой, – ответила Ольгунька, и в глазах ее вспыхнули веселые огоньки.
Со скучающим видом моряк подошел к глобусу и крутанул его: замелькали моря и материки.
– Где же тут мы находимся?
– Олечка, покажи.
Ольга остановила крутящийся, загаженный мухами шар и повела пальцем:
– Вот вам Европейская Россия, вот Украина, Кавказ…
– Вы там были?
– Где?
– Ну, в этой, как ее?.. Европейской Украине или хотя бы на вершине горы Казбек?
– Нет, не была.
– Не были? – удивился моряк и с сожалением посмотрел на нее. – Ваша молодая жизнь кошмар-комедия… Нынче живем, резвимся, а завтра, представьте, подохнем и ничего не увидим… Хотите, дам я вашей судьбе чудесное решенье?
Ольга вопросительно посмотрела на мать.
– Едемте со мной, – продолжал Тимошкин, приглаживая торчащие непокорными вихрами рыжие волосы. – У нас интересно: пища привольная, в мануфактуре или в чем другом недостатка не будет…
– Товарищ, чай простыл, – сказала Анна Павловна. – Иди, Оленька, тебе спать пора.
Дочь встала, поклонилась гостю и ушла за перегородку в отцов кабинет, где спала на диване.
Тимошкин поговорил еще немного о политике, о зверствах немцев и умолк – стало скучно болтать со старухой.
На огонек забрели новые гости.
Дверь заходила под нетерпеливыми ударами.
Анна Павловна, оправив трясущимися руками платок, вышла.
Моряк заглянул в комнатушку.
Ольга сидела на письменном столе, при появлении матроса вскочила.
– Вы… Вы?.. Что вам?
– Пойдем, барышня, гулять – на улице весело.
– Я?.. Нет, поздно… Слышите, там кто-то ломится? – Побуждаемая желанием защитить мать, она метнулась к двери.
Тимошкин схватил ее за руку, рывком привлек к себе и поцеловал в пылающую щеку.
Она закричала не своим голосом, когтями ободрала ему морду и выскользнула из объятий.
– Барышня…
– Нахал… Убирайся сию же минуту! – Она терла щеку, точно обожженную.
Тимошкин, выкатив помутневшие глаза и бормоча что-то невнятное, пошел вокруг стола.
Она загородилась креслом.
В дверях показались рожи.
Резко вскрикнула ударенная кем-то мать.
Ольга, не помня себя, бросила в матроса чернильницей, грудью ударилась в жиденькую оконную раму и в звоне стекла выпала в сад.
Моряк выпрыгнул за ней, перемахнул забор и, споткнувшись, растянулся на дороге.
Проходивший по улице Галаган поднял его и поставил перед собой:
– Откуда сорвался?
– Годок, не видал?.. Не пробегала такая курносая, губы бантиком?
– Не догонишь, далеко ушла.
Галаган разглядел Тимошкину залитую чернилами рожу, но в темноте принял это за кровь.
– Ранен?.. Чем это она тебя шарахнула?
– Ну, ее счастье, что убежала… Все равно покалечу задрыгу, не уйдет от моей мозолистой руки.
– Брось, братишка, и хочется тебе с бабой возиться? – стал его Галаган успокаивать. – Пойдем со мной.
– Куда?
– Дело есть.
– Ящерица поганая, да я ж ее… Дело, говоришь, есть?.. А ты из какой роты?.. Чего я тебя не признаю?
– Сыпь за мной, потом разберемся.
Скоро они выбрались за станицу. У мельницы покуривали и негромко переговаривались четверо; пятый спал, свернувшись в бричке. Все расселись на две брички и погнали к станции.
В штабном вагоне сеялась полутьма, моталось пламя одинокой свечи, на столе шелушились хлебные крошки. Стены были увешаны картами, похабными карикатурами, оружием и одеждой уже полегших спать членов штаба. Спали они на ящиках со снарядами и взрывчатыми веществами, которыми было занято полвагона.
– Вставай, поднимайся, братва! – гаркнул Галаган, вбегая. – Встречай делегацию…
Тимошкин еще раньше смекнул, что попал не в свою… Пожимая руки членам штаба, он с тревогой спрашивал:
– Отряд?.. Черноморцы?.. Давайте соединяться.
– С какого корабля?
– С «Гангута». Балтик.
– К порядочку, – постучал Галаган по столу. – Товарищи, вы привезены сюда на боевое совещание… Дело такого рода… Отряду вашему отведены в станице квартиры, выставлено угощение, уважены все ваши партизанские требования…
– Давайте соединяться! – шумнул опять Тимошкин.
Галаган помялся, подыскивая подходящие слова, и снова заговорил:
– Пришли вот ревкомовцы, жалуются… Я им и поверил, и нет… Дай-ка, думаю, сам разведаю… Мало ли у нас впопыхах творится дурости, но… Сам пошел и разведал… Откуда вы столько громщиков и шпанки понабрали?
– Мы, товарищ…
– Такую шатию надо разоружить, – продолжал он, – силы у меня хватит. Силой своей, безо всяких заседаний, мог бы всех вас по станице выстелить, но… – он возвысил голос, – зачем ненужную и лишнюю кровь лить?..
– Мы ж, товарищ дорогой, невинные…
– Революция с этим не считается. Будь сознательным-рассознательным, но раз ты – сукин сын, значит, виноват.
– Брось балабонить, ближе к делу, чего ты хочешь? – спросил Тимошкин. – Вина? Гамзы?
– Буду краток. Надеюсь, товарищи шахтеры, товарищи моряки, товарищи солдаты помогут мне потрепать шпанку… Что вы молчите? – обратился Галаган ко всем. – Кто желает высказаться?
– Мы, фронтовики, – сказал пьяный, пьянее грязи, солдат, – мы на родину пробираемся… мы в Самарскую губернию, в Бузулукский уезд, стало быть, пробираемся и никому винтовок не сдадим… Как мне можно без винтовки, раз у вас тут кругом банды гуляют?
– Корешок, – взывал одновременно с солдатом и Тимошкин. – На своих руку подымаешь?.. Где твои ребята?.. Давай веди отряд в станицу, брататься будем…
Максим и Григоров ругались с командиром шахтерской роты Мартьяновым.
– Чернояров, он такой!.. – кричал Мартьянов. – Вместе через фронт прорвались, с германом воевали… К тому же и от своих мест мы далеко ушли, нам на Дон возврату нет, и от атамана отстать нам невозможно… Бей, кроши, вырывайся, пропадай душа!
– Пойми, друг, – подступал к нему Григоров, – вреда от вашего атамана больше, чем пользы… Погуляете, засвищете, только вас и видели, а против Советской власти вся округа подымется.
– Подымется?.. А зачем вы тут посажены?.. Бей с козла, топчи гадюк, чтоб и не хрипели!
– Верно, – сказал Максим, – гадюки шипят и из-под каждой подворотни кусаются, а тут вы еще безобразничаете…
– У нас в отряде ни одного контрика нет, – твердил свое шахтер. – Далеко мы от своих мест зашли, нас страх держит, куда без атамана денемся?.. Он парень – ухо с глазом.
Максим с Григоровым отжали шахтера в угол, продолжая убеждать.
– Какая ваша забота за буржуйское добро? – орал солдат. – Али им, удавам, пощаду давать?
Егоров лез на солдата с кулаками:
– Вы же самая беднота, ваш долг революцию защищать, а не лазить тут по тылам баб щупать да сметанные горшки вылизывать… Со своими буржуями ревкомовцы и сами справятся, а наше с тобой место, суконное твое рыло, на позиции. У меня сын единственный на фронте погибает, сам не хочу даром жевать хлеб советский. Иду! Все идем на огонь, на штык, а вы тут молочко хлебаете?
Галаган поднялся и властно крикнул:
– Разговору нет, все решено… Именем революции приказываю…
– Хочешь загнать в бутылку и заткнуть? – перебил его Тимошкин. – Врешь, стерва, и сам далеко не упрыгнешь!.. – Он выхватил из-за пояса рубчатую, большой взрывчатой силы, английскую гранату и попятился к стенке, чтобы всех видеть. – Хана́?.. – Перекошенное, в чернильных подтеках лицо его было полно решимости, рука с гранатой занесена над головой.
Галаган опешил.
Все замолчали.
В вагоне вдруг стало глухо, как в гробу. Тикающий часовой маятник точно пунктиром подчеркивал тишину.
– Стой, падло, – туго выговорил Галаган. – В вагоне две сотни снарядов и шесть пудов динамита. Ты можешь из всего эшелона смолу сделать.
Тимошкин, оскалив зубы, молчал… В глазах его испугу было мало.
– Застрели меня одного, ежели считаешь вредным, – продолжал Галаган. Затем, будто боясь кого испугать резкостью движения, осторожно отстегнул маузер и, держа его за дуло, положил на край стола ручкой вперед.
Еще большую минуту длилось молчание.
Тимошкин медленно опустил руку, подшагнул к столу и положил гранату рядом с маузером:
– Сдаюсь.
Егоров, стоявший ближе всех, хлестнул Тимошкина по уху:
– Печенег!.. Ты – пятое колесо в нашей коммунистической телеге…
– И я сдаюсь, – поднял солдат трясущиеся руки. – Я, братишки, сам служил в Дебальцеве в большевицком полку, только забыл его правильное названье… Я, братишечки, сам целый год направо и налево вел бесплатную агитацию.
– Ну, а ты? – в голос спросили несколько человек, обращаясь к Мартьянову.
– Я что ж… я ничего…
– Этот с нами, – ответил за него Григоров.
Шахтер начал распоясываться.
– Оставь оружие при себе, – сказал ему Галаган. – Беги в станицу. Поручаю тебе и твоим ребятам захватить батарею и атамана… Скажи своим людям, пусть сбросят шинели и рубашки, чтоб в бою я мог вас отличить от прочих.
– Будет исполнено в точности… Уж я сказал, так умерло… – Он пожал наспех руку Максиму с Григоровым и вышел.
В суматохе солдат успел улизнуть.
– Этого, – ткнул Галаган пальцем в Тимошкина, – списать…
– Счастье морское, – заплакал тот, подталкиваемый к выходу. – Братишки, за что? Я никому зла на копейку не сделал!
За вокзалом, у кирпичной, исклеванной пулями стены, Тимошкин отдал якорь.
– Как в эшелоне? – спросил Галаган.
– Спят.
– Поднять.
– Есть поднять, – ответил Суворов и передал дежурившему в дверях вахтенному: – Поднять людей.
Дневальный побежал по составу:
– Полундра!.. В ружье! В ружье!..
Из вагонов сыпались одетые и вооруженные моряки. Строились перед зданием станции.
– Скатить с платформы два орудия, – приказал Васька.
– Есть, – ответил Суворов и через плечо бросил вахтенному: – Приготовить два орудия.
– Командоры, к орудиям! – протянул нараспев вахтенный.
Из темноты моментально откликнулись:
– Есть два орудия!
Отряд выстроен… Бубнили низкие голоса. В зубах вспыхивали раздуваемые ветром огоньки папирос. Лица были неразличимы.
Галаган с подножки штабного вагона выкричал, пересыпая матюками, краткую гневную речь.
Его выслушали в строгом молчании и, соблюдая полный порядок, вышли за станцию, развернулись в две цепи и быстро двинулись по темной степи.
Моряки вошли в станицу сразу с трех сторон.
Встревоженные улицы загудели…
Из дворов выкатывали тачанки, на лошадей на ходу набрасывали хомуты. Скакали всадники, бежали, отстреливаясь, солдаты, и часть обоза уже гремела по мосту…
В спину бегущим жители палили из дробовиков. Бесстрашные казачки рубчатыми вальками и ухватами молотили валявшихся пьяных.
Шахтеры на руках выкатили пушки на середину улицы и били по мосту прямой наводкой. Снаряды ложились удачно – мост запылал, по реке поплыли подушки, гогочущие гуси, чемоданы и картонки с барахлом…Горькое похмелье
В России революция —
деревни в жару,
города в бреду.
На армию навалилась вошь
армия гибла.
Хлестала осень дождями, свинцом и кровью.
Кошмою полегли перебитые с сорняками неубранные хлеба. Осиротевшую ниву вытаптывала конница, опустошали мышиные орды, расклевывала пролетная птица. Над Кубанью, Тереком и Ставропольем реяли багровые знамена пожаров. Красные жгли хутора и станицы восставших казаков, белые громили мужичьи села и рабочие слободки. Наседала зима.
С севера все чаще и чаще набегали холодные ветра, наголо раскрывая сады, шурша в степях мертвыми травами. Прихватывали утренники, лужи затягивало первым ломким ледком.
Бойцы были раздеты и разуты.
По одним путям, по одним дорогам с армией ползла и тифозная вошь. Здоровые еще кое-как отбивались от вошвы, больные – не могли.
Минеральные воды
Пятигорск
Владикавказ
Грозный
Святой Крест
Моздок
Кизляр
Черный Рынок…
Живые долго будут хранить в памяти эти кровавые вехи.
По всем городам и селам, хуторам и станицам бегущая армия покидала на произвол судьбы тысячи и тысячи своих раненых, больных, слабосильных. Этапные коменданты ставили к дверям лазаретов караульных с приказом никого из помещения не выпускать.
Те, кого сила несла дальше, забегали в лазареты прощаться:
– Братцы! Не волнуйся… Мы отступаем дня на три и опять вернемся.
– Врешь, серый!.. Завели нас и продали… Кадеты всех порубят.
– Не тронут… Увечного не посмеют тронуть.
– Да, лежал бы ты на моем месте с пулею в груди, не то бы вячел.
– Говорю, скоро вернемся, ожидайте.
– Кого и чего ждать? Палача с веревкой?
Срывались с коек:
– Братва, собирайся.
– Куда вы? Куда поднялись? Лошадей нет. Одежи теплой нет. Мосты в тылах порваны. Кормить вас нечем и самим жрать нечего. В дороге всем вам, калекам, верная гибель…
– Все равно пропадать. Бей телеграмму Ленину…
– Братцы, не покидайте!
Рыданья и скрежет зубовный.
– Не покидайте… Вместе воевали, вместе и умирать будем!
– Прощай, станишники… Прощай, друзья…
Стоны, вопли, последние объятья.
Отец заживо расставался с сыном, брат с братом и товарищ с товарищем.
Двери лазаретов наглухо заколачивались досками, из окон выпрыгивали – кто выпрыгивать мог. На костылях, в бреду, срывая с себя окровавленные повязки, они рвались вслед за отступающей армией: поддерживая друг друга, шли, ползли, валились и умирали… Много их, призасыпанных первым снегом и скрюченных, смирнехонько лежало по обочинам дорог.
Пепелища хуторов и станиц, скелеты городов.
Реввоенсовет армии еще заседал, слепо веря в силу своих решений, и, как ракеты, выбрасывал приказ за приказом:
Оттянуть армию за Терек… Переформировать части… Ввести жесточайшую дисциплину. Дать людям отдых… Связаться с 12-й армией… К весне готовить удар по Деникину…
А за зеркальными окнами штабных вагонов, по разбитым шляхам день и ночь грохотали скачущие обозы и батареи, подбористым шагом текла кавалерия, двигались остатки 7, 9 и 10-й боевых колонн, отбившиеся от главных сил части таманцев, поредевшие составы еще недавно стяжавших громкую славу полков: Михайловского, Пролетарского, Выселковского, Интернационального, Лабинского, 292-го Стрелкового, Крестьянского имени Щербины, Тимашевского, Кубанского внеочередного, Унароковского, Черноморского, Народного, 306-го Стрелкового и других. Украинские батраки и ростовские рабочие, станичная голытьба и таганрогские красногвардейцы, темрюкские рыбаки и буйствующие матросы, сутулые хуторские дядьки с бородами в целую овчину и безусые хлопцы. Полтавец шел плечо в плечо с тавричанином, китаец шагал нога в ногу с мадьяром. Отступали закубанские пластуны, отступали отважные латыши. Казаки молодых годов соперничали в джигитовке с ингушами и чеченцами; впрочем, горцы к тому времени уже начали разъезжаться по своим аулам, чтобы вскоре в тылах противника поднять знамя восстания. Линейки, повозки, телеги, арбы и тачанки грохотали, стремясь обогнать друг друга. Колеса проваливались в колдобины, изнуренные большими переходами лошади то останавливались, то под ударами кнутов и палок дергались из последних сил.
Вой и плач, проклятья и ругань.
Не успевали покормить лошадей и сами хоть немного отдохнуть, как свистали сотники и командиры громко подавали команду:
– Амму-ни-чи-вай!..
– Брюховчане, по коням!..
– Запрягай, обозные… Рота, становись!..
– Каша на ложки, молодцы на ножки!..
Расхватывали хрустящую на зубах недоваренную кашу и выступали, на ходу подтягивая пояса, дожевывая куски. Никому не хотелось отставать от своей части, а те, которым хотелось, давно отстали, или, перебив своих командиров и комиссаров, перебежали, или по горькой неволе попали в плен, и многие из них уже воевали под трехцветными знаменами контрреволюции. Немало перелетов, порубленных и пострелянных оружием белых, валялось в балках и придорожных канавах.
Оставляя за собой кровавый след, армия неудержимой лавиной откатывалась на Моздок, Кизляр, Черный Рынок. Железнодорожный путь на десятки верст был забит согнанными со всего края поездами: обмундирование, боеприпасы, дезертиры, лазареты, штабы несуществующих частей. Приказ – взрывать и жечь все, что не под силу увезти. Взрывали, жгли, тащили кто что мог. Иной, загребая грязь ногами, и пустой еле волочился; иной же, напялив на себя две, а то и три шинели, пыхтел с узлом барахла на горбу. Кабардинцы, карачаевцы и казаки восставших станиц под командой ватажков терской контрреволюции – Бичерахова, Агоева, Серебрякова – как шакалы рыскали по тылам, грабя застрявшие на проселках обозы, обдирая и добивая не имеющих силы защищаться.
Под Червленной отступающая армия встретила присланные из Астрахани на подмогу полки 12-й армии – Ленинский и Железный. У бойцов был молодцеватый вид, все в новых шинелях и в крепких – со скрипом – сапогах. Под расшитыми серебряным позументом знаменами астраханцы шли в полном боевом порядке и, кося глазом на оборванных партизан, кричали:
– Станишники, что усы повесили?
– Наковыряли вам казачишки?
– Эх вы, Аники…
Кубанцы отбрехивались:
– Где вы раньше были, такие красивые?
– Дорогу назад не забудьте. Скипидару-то призапасли?
– Черти вислогубые… Вот погоди, кадеты вам уши-то оболтают…
Злые шутки, хохот, матерщина.
– Дядя, ось-то в колесе! Хо-хо…
– Помолчи, вшивая амуниция!
– Драть я тебя хотел.
– Кабы не ты да не Микита…
– Накрутят они вам хвосты, чихать смешаетесь!
– Песенники, вперед!
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе…
Подхватили и понесли навстречу врагу гремящую песнь.
Оба полка, незнакомые с повадкою противника, в первом же бою под станицей Мекенской были окружены конницей генерала Покровского и почти полностью уничтожены.
Не густо оставалось в армии командиров и комиссаров: одни полегли в степях и горах; другие, бредя сражениями, метались в тифозной горячке; иные, побросав свои части, бежали в Закавказье или через Дербент морем в Астрахань.
По степной дороге бойко бежал автомобиль. На сиденье, откинувшись в угол кузова, дремал и поминутно просыпался человек в военной форме. Усталое лицо его было серо, на носу подскакивали золотые очки.
Бригада и полковые обозы тащились по дороге.
Хрипло взвывал сигнальный рожок.
– Пропускай, гужееды! – сердито кричал шофер. – Передай передним, чтоб остановились.
Обозные огрызались:
– Вались к корове на…
Шофер:
– Сворачивай!
Обозные:
– Сам сворачивай. Ты один, а нас много.
Шарахнулись и понесли пугливые степные лошади… Опрокинулась походная кухня с горячим борщом, опрокинулась санитарная повозка – завопили выброшенные в грязь раненые.
Машина крутнула и покатилась мимо дороги. Вдогонку – брань, проклятия и крики: «Стой! Стой!» Машина шла, прибавляя ход, кидая задними колесами ошметки грязи. Иван Чернояров обскакал машину и поставил коня поперек:
– Дави.
Шофер затормозил.
Всадники окружили автомобиль.
– Кто такой? – спросил Чернояров человека в золотых очках. – Почему, в бога мать, давишь моих людей?
– Я – Арсланов, уполномоченный реввоенсовета армии. Что вам, товарищи, угодно? Мандат? Вот он… Я…
– А партизана Ивана Черноярова знаешь? – перебил его комбриг.
– Слыхать слыхал, а знать не имею чести.
– Куда гонишь?
– Это не ваше дело.
– Он в Астрахань с докладом поспешает, – засмеялись бойцы. – Пусти его, ему некогда.
– Не считаю нужным давать отчет всякому встречному. Какая часть? Кто у вас командир? Я буду жаловаться… Трогай! – приказал он шоферу.
Машина зарычала. Никто не тронулся с места.
– Прочь с дороги, стрелять буду, – в руке его блеснул никелированный браунинг.
– Ну, знай Черноярова! – И, потянувшись с седла, Иван шашкой снес уполномоченному голову. – Братва, грузи на машину сто пудов фуража!
Всадники взвыли от восторга.Армия отступала в беспорядке. Части перемешались, оторвались от своих обозов, потеряли связь со штабами, отделами снабжения. Тщетны были попытки отдельных нерастерявшихся руководителей упорядочить движение – никто и никаких приказов больше не слушал. Лишь два кавалерийских полка и бригада Ивана Черноярова кое-как прикрывали отступление.
Конница генерала Покровского гналась по пятам.
Бригада Черноярова ввалилась в Кизляр ночью.
В городе горели дома, хлебные амбары, лабазы. На вокзальных путях горели эшелоны с военным добром, гулко рвались ящики с бомбами, из огня с воем летели осколки снарядов. В горящих вагонах трещали – будто кто полотно драл – цинки с патронами. По улицам ни пройти, ни проехать – обозы, орудийные запряжки, брички со скарбом, застрявшие в грязи броневые автомобили. Квартиры забиты ранеными, больными, отдыхающими.
Не хватало фуража, хлеба, воды.
Соломенные и камышовые крыши были раскрыты и стравлены. Перепавшие лошади грызли задки повозок, столбы и заборы, к которым были привязаны. Те, что пришли раньше, ро́спили колодцы. Кто следовал за ними, вычерпывал грязь из колодцев. Отступающим в хвосте армии не оставалось ничего.
В Кизлярском районе – реки вина, вина – разливанное море. Из погребов и подвалов выкатывали бочки: пили, лили, из колод вином поили лошадей. Голодные лошади быстро пьянели, бесились, натыкались на заборы, лезли в огонь. Горланящие люди и пляшущие лошади брели в лужах вина. Пенистое вино плескалось в отблесках пьяного зарева.
За всадниками шли, хватаясь за стремена, мирные жители:
– Господа товарищи… Тридцать бочек…
– Мало взяли. Тебя и самого давно бы собакам скормить надо было… Я видел, как искалеченный боец выпрашивал милостыню, вы жалели кусок хлеба и гнали его от своих домов.
– Одежонку позабирали…
– Брысь!
– Меня твой казак ударил.
– Казак? Ну, так получай еще от сотника! – И плетью через лоб.
– Бочонок меду…
Эскадронный Юхим Закора придержал коня и залился злобным хохотом:
– Хлопцы, а ну!
Всадники гикнули и напустились на жителей – гнали их по тротуарам, топтали конями, секли по глазам нагайками, лупцевали тупиями шашек. А в затылок, запрудив узкую улочку, валом валила – напирала лавина пехоты, кавалерии, обозов.
– Давай ходи, не задерживай!
– Лабинцы, подтянись!
– Вира! Полный ход!
Пьяно, вразнобой гремели оркестры.
По грязи, высоко задирая юбки, плясала сошедшая с ума сестра. Волосы ее были растрепаны, зубы оскалены, сбоку болталась походная сумка. С возу – из-под брезента – выглядывали раненые моряки и потешались:
– Гоп, кума, не журися… Гоп, гоп, гоп!
– Садись, прокатим!
– Как я сестру прижму к кресту и скажу: «Сестра, приголубь ради Христа».
– Ого-го-го-го… Черти непромокаемые!
И долго еще оглядывались на горящий город, махали шапками, стреляли вверх:
– Прощай, Кавказ!
– Прощайте, горы и леса!
– Вся Расея наша, ха-ха-ха!..
– Могила, гроб смоленый!
– Эх, расставайся душа с телом! Прощай, белый свет и писаны лапти!
В суровые просторы зимней степи уходили – партия за партией, отряд за отрядом, полк за полком…Бригада Черноярова спешилась на базарной площади. Бойцы сдали коноводам коней и замитинговали.
– Нас продали! – орал уже успевший хлебнуть косоплечий пулеметчик Чаганов. – Куда идем? На живодерню? Нас продали и пропили…
– Брось, Чаган, – унимал его дружок Буцой. – Кто нас с тобой продал и кому? За нас с тобой пятака никто не даст.
– Измена! – кричал кто-то в другой кучке. – На фронте дрались наги и босы, а тут погорают целые вагоны с обмундировкой… На фронте не хватало снарядов и патронов, а тут их горы.
Голоса ропота:
– Амба.
– Все наши комиссары и командиры с чемоданами бегут и покидают нас.
– Один лозунг – спасай шкуру!
Чернояров протискался в самую гущу толпы и вспрыгнул на воз.
– Братва…
Голоса понемногу стихали, но еще долго там и сям недовольные урчали и, как поленьями, кидали матюками.
Говорил Чернояров:
– Братва, кругом измена! В нашем распоряжении только мы и дух наш! Но настанет час расплаты, и моя железная рука жестоко покарает всех трусов и предателей! Долой панику! Долой уныние! Будем биться до конца! А кто не хочет оставаться в бригаде – сдавай в обоз свою партизанскую совесть, коня, винтовку и уходи с глаз моих долой!.. Братва, отступаем на Астрахань. Путь наш будет тяжел. Четыреста верст дикой калмыцкой степи. Ни воды, ни фуража. Здесь устраиваем дневку. Запасайся, кто чем сумеет. Выбрасывай все барахло. В походе будет дорог каждый лишний клок сена и каждая горсть овса. Сам буду осматривать кобуры и сумы. У кого найду хоть одну лишнюю тряпку – пощады не проси. Приказываю перековать коней на шипы. Приказываю проверить седловку, дышла, упряжь, сварку шин и клепку на повозках, чтобы ни один гвоздь не болтался. Обозу поднять пятьсот ведер вина. Здоровый будет получать по чарке вина на сутки, больной – по три. Береги коня. Завтра на рассвете выступаем. Митинг окончен. Без шуму расходись по квартирам.
Всю ночь на полный ход работали кузницы.
На заре бригада снялась и, пропустив вперед обоз, двинулась в свой последний поход. Все три полка отступали в относительном порядке. Эскадроны шли, как того требует полевой устав, переменным аллюром. Самые бывалые время от времени спрыгивали с седла и шагали рядом с конем, держась за луку. Иные ехали на запряженных парами и тройками тачанках. За тачанками на привязи бежали подседланные кони. Фуражиры и разведчики в поисках сена отрыскивали в стороны от дороги и часто вместо сена привозили на крупе коня подобранного в степи больного партизана.
На рубеже калмыцких земель, на одном из последних хуторов, бригада остановилась на привал.
Чернояров сидел в хате перед открытым окном и посасывал трубку. Бойцы – кто спал, кто резался в карты: на кону вороха керенок, патроны, золото и серебро.
В стороне от хутора нижней дорогой проходила какая-то смешанная часть. На привязи за фаэтоном шла, танцуя, гнедая да статная, как с картинки, лошадь. Чернояров поднес к глазам бинокль и подозвал Шалима, что сидел невдалеке на разостланной шинели и подпилком зачищал на клинке зазубрины.
– Смотри, кунак… Вон, во-он играет гнедая! – Подмигнул. – Сыпь.
Привыкший к необузданному нраву своего друга и повелителя, адъютант молча отвязал от воротнего столба кабардинца, вскочил в седло и собачьим наметом поскакал на нижнюю дорогу. Однако он скоро вернулся и доложил:
– Дербентский полк… Гнедая кобыла ходыт под командыром полка Белецким.
Разбалованный войною и уже не имеющий силы сдерживать свой лютый нрав, партизанский вождь выдернул из коробки и положил перед собой на подоконник маузер:
– Сыпь, ахирят, и без кобылы не возвращайся… Застрелю. Ты знаешь, я в своем слове тверд.
Бойцы прекратили игру в карты и, пересмеиваясь, гадали, чем кончится командирская причуда.
Шалим крутнул головой, крякнул и, урезав плетью кабардинца, припустился догонять Дербентский полк, который уже миновал хутор и спускался в лощину.
Все смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду.
Не успел Чернояров докурить трубку, как по дороге заклубилась пыль… Шалим мчался во весь опор, держа в поводу вторую лошадь. За ним, крутя шашками и гикая, гнались конные.
– В ружье! – подал бригадный команду.
Бойцы похватали с воза карабины.
– По шапкам… залпом… пли!
Шалим влетел в хутор.
Те, что гнались за ним, остановились на пригорке, послушали свист низко летящих над головами пуль и, погрозив шашками, повернули обратно.
Чернояров выпрыгнул из окна.
– Люблю, кунак, за ухватку, – засмеялся он, перехватывая повод золотисто-гнедой, с темными подпалинами в пахах, кобылы. – Так и надо: коли силой не силен, будь напуском смел… А покупка, видать, добрая, – оглаживал он испуганную храпящую лошадь.
– Зарубыл, – угрюмо буркнул Шалим.
– Кого зарубил?
– Белецкого.
– Брешешь? – Бригадный внимательно посмотрел на кавказца. – Ну?
Шалим молча извлек из-под полы бурки порыжевшую от свежей крови шашку.
– Черт, – нахмурился Иван и шагнул к адъютанту. – Дурак. Тебя пошли богу молиться, а ты готов и церковь обокрасть.
– Она не даваль, она кричаль, – оправдывался кунак, – я его рубыл: так и так!..
– Дурак с замочкой, – повторил бригадный, но, глянув на кобылу, сейчас же добавил: – Хотя… кобыла мне нужнее, а кобыла, видать, добрая.
Высоконогая, собранная, среднего веса, гибкая, как щука, она косила на своего нового хозяина нежным глазом, прядала лисьими ушками и, точно прося ходу, потряхивала сухой головкой.
– Как ее… звать?
– Торопылся, забыл спросить, – ухмыльнулся Шалим, оттирая клинок песком и суконкой.
– Назову ее Стрелой… Стрела… Стрелка… – Чернояров подтянул подпруги и, не ставя ноги в стремя, махнул в седло и поскакал в степь объезжать кобылу.Затихал и Черный Рынок, пропуская остатки армии через свои разгромленные улицы, на которых были сожжены заборы, плетни, крылечки и дощаные настилы тротуаров.
На краю города в раскрытом хлеву сидели однополчане – Максим Кужель, Григоров и Яков Блинов. Перед ними – на разостланной шинели – ведро вина, коврига хлеба и несколько печенных в золе картошек. Отслужившие свою службу винтовки были отставлены в угол.
Пили молча.
Казачья шашка и офицерская пуля выстелили полк по ставропольским степям. При переправе через реку Калаус белые отбили обоз, в котором ехали жена и больная дочь Григорова, – он не знал, что стало с ними. Под станицей Наурской ночью напоролись на засаду и потеряли последние пулеметы и последнюю батарею. Остатки полка рассеялись по дорогам. Максим на ногах переболел испанкой и брюшным тифом. Блинова дважды контузило – перекошенное лицо его беспрерывно дергалось, левая нога загребала, руки не слушались и не могли сразу схватить со стола ложку или кусок хлеба.
– Конец, друзья, всему конец, – как бы про себя тихо вымолвил Григоров. Он неторопливо просматривал записную книжку и уничтожал лист за листом.
Все трое опять долго молчали.
Где-то, со стороны Кизляра, погромыхивали пушки.
– Ехать надо, – вздохнул Максим и задумался. – Как и на чем ехать будем?
– Куда поедешь?
– Куда все, туда и мы.
– Брось…
– А тут чего высидим?.. Чу, кадетские пушки бухают?.. Того и гляди, нагрянут, гады… Думай не думай, а умней того не выдумаешь – утекать надо.
Григоров измятым котелком зачерпнул вина, медленно отпил и, обсосав ус, храпнул, как усталая лошадь:
– Никуда не пойду… Свое сыграли… Баста.
– Баста… – тряхнул головой и Яков Блинов. – Всякую жизнь поглядели, умирать пора… Были у нас в руках хоромы и дворцы, да не довелось пожить в них… Не дают нам контрики в две ноздри дышать, загнали обратно в свиной хлев. Тут, верно, и помереть придется. – Он с тоской оглядел заляпанные говяхами дырявые стены и невесело засмеялся: – Эх ты, сивка моя бурка, не довезла солдата до райских садов. Выпьем…
Максим встал и сердито заговорил:
– От вас ли такое слышу, станишники?.. На войну с кадетами нас никто не гнал… Мы пошли по своей воле… Грудью, как это пишется в газетках, грудью вы встали за святое дело, не щадя ни жизни своей, ни хозяйства своего, ни семьи своей… Триста лет нас гнули и отцов, и дедов наших гнули…
– Брось, Максим Ларионыч… Я…
– Путь наш еще далек, – продолжал Максим, – а мы на полдороге начинаем спотыкаться и оглядываться назад… Кубань, Кубань… Да пропади она пропадом! По-старому-бывалому нам на ней не жить! За нами Советская держава, сто или сколько там губерний… Только бы до Астрахани добраться, а там раздышимся и еще потягаемся с кадетами за райские сады, еще поедим золотых яблочков, еще вернемся на Кубань с музыкой, еще поплачут они от нас… А вы, головы, с большого ума чего надумали? Кадеты, с часу на час…
– Уж не мыслишь ли ты, Максим, что мы хотим к белым перебежать? – улыбнулся Григоров. – Нет, дружок… С кадетами нам одному богу не маливаться и одной соли не ёдывать.
– Ехать, ехать надо, – долбил свое Максим. – Лошаденка у нас хоть и плохонькая, а есть. В пути авось и другой разживемся.
– Никуда не поеду. Свое сыграл. Баста! – упрямо повторил Блинов и отвернулся.
Максим, волоча отекшие ноги, вышел.
Под навесом сарая дремала, уронив голову и распустив слюнявые губы, запряженная в двухколесную арбу буланая кобыленка.
– Но! – шлепнул ее Максим по крупу. – О грехах задумалась?.. – Сунул ей под морду горелую ржаную корку. – Набирайся паров, на тебя вся надежа.
В хлеву грохнул выстрел.
Максим кинулся туда.
На залитой вином шинели, грянувшись вниз лицом, лежал Яков Блинов. Правая разутая нога его еще дергалась, из затылка в стену тугой струей била кровь. Григоров сидел перед ним на корточках и, закусив бороду, глухо рыдал.
– Сам? – спросил Максим.
– Сам… Уговорились оба… Духу не хватает… И зачем пуля пощадила меня на фронте?
Максим потоптался немного и тронул Григорова за плечо.
– Едем.
– Куда ехать?
– Заладил свое, куда да куда… Вставай.
Под руки он поднял больного товарища и вывел из хлева.
Потом вернулся, вышарил в карманах у мертвого жестяную коробочку с махоркой, спички, поцеловал его в губы и, захватив пустое ведро и две винтовки, вышел сам.
– Ну, буланка, вывози.
Тронули улицей.
И сразу со всех сторон налетели попутчики. Оборванные, усталые и обозленные, они просили, стонали, ругались.
– Я не в силах идти, я погибаю…
– Братцы, посадите…
– Станица!.. Годок!.. Какими судьбами?.. – Перед арбой стоял Васька Галаган. Голова его была обмотана грязной тряпкой, сквозь которую проступила и черной лепешкой запеклась кровь. – Здорово, сват, – небрежно кивнул он и Григорову. – Подвезете версту-другую?.. Мне только своих догнать.
– Вася! – обрадованно воскликнул Максим. – Какой разговор? Садись, друг.
Галаган вспрыгнул на арбу.
Остальные не отставали и на разные голоса тянули:
– И я… И меня… Не покиньте на погибель…
– Ходи мимо! – вызверился моряк. – Лошадь, она не железная!
И еще Максим принял на арбу путавшегося в долгополом больничном халате мальчишку.
Уселись тесно, спина к спине.
– Откуда, сынок?
– Из лазарета, дяденька, убежал. Я здоровый, никого не заражу, ты меня не прогоняй… Я только измучился с дороги и от голоду… Во рту запеклось, покурить бы.
Моряк протянул ему расшитый цветными шелками, засаленный кисет с махоркой:
– Завертывай, салага. Табачок да вино, кипяченное со стручковым перцем, от тифа первое средство. – Он повернулся к Максиму и начал скороговоркой рассказывать: – Я сам больше месяца вылежал в пятигорском госпитале. Суют мне каких-то соленых порошков, а я их – за борт. «Врете, думаю, дорываетесь отравить морячка, но этот номер не пройдет». Под боком у меня две четверти вина грелось. Я его и сосал помаленьку. Винцо меня и на ноги поставило. Топаю в комиссию. Комиссия признает меня негодным к дальнейшей службе. Главврач, такой на козла похожий, спрашивает: «Ваш чин, звание, должность?» – «Моряк первой статьи с дредноута «Свободная Россия» в недалеком прошлом, – отвечаю я, – и командир на все руки в настоящем и будущем». Улыбается главврач и говорит: «Вам, товарищ, необходимо отдохнуть». А я ему: «Катись ты к крокодильей матери. Все воюют, а я отдыхать буду? Ты меня увольняешь, но я остаюсь при своем славном отряде». Он мне ни слова. Лежу еще сколько-то дней, маракую, как бы дорожный аттестат забарабать… И снова топаю на комиссию. Доктора признают во мне возвратный тиф. «Мы вас, товарищ, переведем в заразный барак». – «Шалишь! – кричу. – Я здоров! – кричу. – Вы не врачи, а контры», – кричу. «Успокойтесь, товарищ, вам вредно волноваться. Вам нужен отдых». – «Не мне нужен отдых, – кричу, – хотите, чтоб я заразился и околел, и сами без меня мечтаете отдохнуть? Ну, нет, гады. Я еще проживу бессчетно лет и долго не буду давать вам покою!» Они мне ни слова. С презрением поглядел я на них, закурил, сидора (мешок) на горб и – ходу.
– Отстал? – спросил Максим. – Где твой отряд?
Галаган рассказал о гибели отряда. Сам он последние месяцы не сидел сложа руки: был комендантом пороховых складов, возглавлял одну из уездных ЧК, гонял по Ставрополью бандитов, был начальником конной разведки Азовского полка.
Город давно пропал из виду.
Степь да степь кругом
ни кустика, ни деревца
серые тяжелые пески.
Злой ветер гнал по степи сухую колючку и легкие шары перекати-поля: подпрыгивая и перегоняя друг друга, они неслись по дикому простору, массами скоплялись в низинах, подожженные, ярко пылали и указывали по ночам дорогу.
Наехали на схваченное льдом большое озеро.
– Море? – спросил мальчишка.
– Нет, хлопчик, это еще только шматки от моря. Само море будет в сторону верст на тридцать.
Напились соленой с горчинкой воды, сдобрив ее сахаром.
Моряк отплевывался и ругался:
– От голоду-холоду отшутиться можно, а вот пить нечего – ложись и помирай. И как только тут люди живут? Это же не вода, а какая-то моча дамская. Тьфу, тьфу!..
– Так и живем, – подошел рыбак, – у нас в засушливые годы лягушки дохнут.
По берегу нагребли сухого камыша, метелками камыша покормили лошадь.
Рыбак рассказывал:
– На днях проходили тут ваши, многое множество. На Лагань пробирались. Озеро, оно вон какое, обходить далеко. Сунулись напрямик по льду. С версту отползли от берега, лед треснул и разошелся. Трещину забили повозками, лошадьми, пошли дальше… Лед подломился и осел. Все, сколько там ни было, с обозами, с пушками, потопли. Я шапок наловил полну лодку. Война, война… И кто ее выдумал на наше горе? Тьма-тьмущая народу гибнет.
– Погоди, дядя, буржуев перебьем, и войне конец.
– Жди, пока черт сдохнет, а он еще и хворать не думал.
По выбитой корытом дороге в одиночку и кучками шли, падали. Иные, шатаясь, подымались; иные оставались лежать; иные в горячке уходили в сторону от дороги.
За бугром в затишке присел отдохнуть молодой партизан, да так и замерз. Во рту у него торчал окурок. Ветер играл рыжим, выпущенным из-под кубанки чубом. Ноги замело песком.
Волы в упор тащили броневой автомобиль.
Валялась лошадь с выеденной волками требухой. Кто-то, спасаясь от холодного ветра, заполз в лошадиное брюхо: наружу торчали два костыля и одна нога в худом чоботе.
Брела молодая женщина с ребенком на руках. Слезы размывали грязь на ее раскрасневшихся щеках. Из кармана бекеши торчала бутылка с молоком. Впереди, разбрыливая песок тяжелыми сапогами, шагал муж в малиновых штанах. Лицо его было накалено тифозным жаром, гноящиеся глаза не глядели. Нет-нет да и обернется и заорет: «Рассупонилась, тварь поганая!» И женщина зальется еще пуще. Ребенок уже не плакал, а только сипел.
Максим бодрил лошаденку хворостиной, но та ровно не слышала и, помахивая жиденьким хвостом, еле тащилась, заплетая ногу за ногу.
Тянулись руки, исхудавшие до того, что кожа казалась присохшей к мослам, и руки, отекшие до остекленения, в тифозной шелухе и язвах, многие руки тянулись и цеплялись за наклески арбы.
– Подвези.
– Куда же я тебя, бедолага, посажу?
– Как-нибудь… Ноги меня не держат… Посочувствуй…
– Жаль, друг, тебя, да жаль и себя.
– Ну, ладно, мы не сядем… Пойдем рядом… Будем только держаться…
Под курганом в головах у издыхающего коня сидел, кутаясь в бурку, кавказец. Из-под сшитой из целого барана папахи его голодные глаза горели, как угли.
– Чего сидишь? – окликнул кто-то тихим голосом.
– Смэрть ждем, – так же тихо ответил он.
– Айда с нами.
– Гуляй адын.
– Продай, – потянул с него боец бурку, – тебе все равно умирать.
– Китыгис, кабан!.. Я тебе сделаю зубы наружу! – И кавказец взмахнул наганом.
Прошли.
Песок расползался под ногою, лошади вязли в песке по щетку.
В лощине застряла батарея. Артиллеристы выпрягли шатавшихся от изнурения, взмыленных битюгов, сыпнули в дуло каждого орудия по пригоршне песку и дали последний залп. Пушки дернулись и, изуродованные, свалились с лафетов. Батарейцы шапками отерли вспотевшие лица, закурили и, ведя в поводу битюгов, пошли вместе со всеми.
Два пулеметчика попеременно волочили за собой пулемет. Выбившись из сил, с раскрытыми ртами и глазами, налитыми кровью, они остановились, перекинулись коротким словом и принялись зарывать пулемет. На мерзлом песке сделали неприметные для чужого глаза хитрые отметины: они еще не теряли надежды вернуться!
В малиновых штанах отошел с дороги немного в сторону, перекрестился и пулей зачеркнул свою жизнь. Жена упала на него, забилась, закричала на крик:
– Феденька!.. Федя… Федя…
Ее темный вой доставал до каждого сердца, но всяк, кто ни проходил, отвертывался, чтоб не видеть такого… Никто и ничем не мог ей помочь… Но вот, шатаясь от усталости, подошел молодой боец и молча взял ребенка на руки. Женщина сняла с себя крест, накинула его на шею мужу и, плача с привизгом, поплелась за человеком, который понес ее ребенка. Долго она оглядывалась, останавливалась, как бы намереваясь повернуть назад.
Висел дождь, пахло мокрым песком.
Максим объехал распряженную повозку с больными. Они стонали и наказывали всем идущим и едущим мимо:
– Обозник обрубил постромки и ускакал верхом… Жеребец серый в яблоках, хвост коротко стрижен, левое ухо резано, тавро глаголем. Обозник в плисовой бабьей жакетке, кривой на левый глаз. Где увидите – пристрелите.
– Не догонишь… Он, поди-ка, уже в Астрахани чаек с кренделями попивает.
Ковылял, припадая на ногу, китаец. По груди крест-накрест пулеметные ленты, на ремне через плечо ящик с полевым телефоном, в руках по винтовке, под мышками зажато по пучку соломы. За ним, не спуская с соломы налитых тоскою глаз, как тени, качались и брели, заплетая нога за ногу, брошенные хозяевами две худющие клячи. Как ни горько было бойцам, многие рассмеялись:
– Ходя, покурим.
– Моя посола Астлакань, – оскалил он в улыбке гнилые зубы и прошел, не останавливаясь.
– Этот и до Сибири дойдет. Они, про́кляты, живущие… Вчера на стану один такой же долгозубый совсем кончался, а капнул я ему на язык три капли вина, у него глаза заблестели, встряхнулся: «Полоссай, товалиса», – только его и видали.
Пала ночь, забушевала темень, да такая, что и хвоста лошадиного невозможно было разглядеть. Ледяными струями потянул ветер, заковывая все в ледяную корку. А там хватила и, подобно снежному потопу, хлынула, закрутила метель.Завыла, заметалась степь.
– Беда, – сказал Максим, – пропадем.
– Волчья ночка, – гнулся моряк, с головой укрываясь шинелью. Зубы его стучали, как пулемет. – Сам себя не видишь.
Наткнулись на целый лазарет. Лошади подохли в хомутах. На тачанках стонали, ругались, призывали бога и кляли его.
Мальчишка начал бредить. Он хватал Максима за руки и бормотал:
– Дяденька, у меня головной тиф… Дяденька, я умираю… жарко… Будто я – самовар, и в меня ровно кто горячих углей насыпал… Гони! Гони! Там за горой наша станица… Бабушка меня ждет, Федосья Кудрина. Капельку водички… жарко… Дяденька, кадеты! Вон, вон кадеты бегут… Белые флаги вьются… Стреляй! Дай винтовку! Гони скорее! – Он метался и захлебывался слезами.
Арбу мотало на ямах, арба дергалась, как в судороге.
– Гони!
– Тише, Максимушка, – просил Григоров. – Ох, ох, больно. Все нутро из меня выворачивает… Укрой меня, я замерзаю.
Максим набросил на Григорова свою шинель, а сам спрыгнул и зашагал рядом. Ноги его после тифа опухли и не лезли в ботинки. В пути он раздобыл валенки, но и в валенках было не лучше – то они мокрые, то обмерзнут, как колотушки.
– Волчья ночка… А ветер, ветер, того гляди, штаны сорвет… Это не игра. Не отстояться ли нам? – спросил Галаган.
– Остановимся – пропадем, – отозвался Максим. – Хоть и потихоньку, а ехать надо.
По мерзлой дороге скреблись лошади, скрипели колеса. В темноте хриплые голоса нокали.
– Кто идет?
– Темрючане.
– Братцы, – взмолился Максим, – давайте держаться вместе. Все как-то веселее.
– Погоняй, земляк, не отставай… Нас чумак ведет, сорок годов с промыслов рыбу возил, все дороги наизусть знает… На Эркентеневский улус трафим.
– И далече до него?
– К утру, гляди, довалимся… Только бы коняшки сдюжили.
Мальчишка спустил с плеча халат и, раздирая на себе гимнастерку, кидался:
– Жарко… Кожа на мне лопается… Дяденька, у меня ноги отваливаются… Одна уже, кажется, оторвалась?.. Слышишь, под землей конница скачет? Темно! Страшно! Аа! А! А! Горим! Горим! Пить хочу. Дай глоток воды, один глоток. Позовите взводного, я ему все расскажу…
– Фу-ты, гнида, какой беспокойный, все бока протолкал, – ворчал моряк, прижимаясь к нему, чтобы согреться.
Максим не чуял под собой окоченевших ног, голову разламывало, каждая жила в нем стонала, но – с мужеством бывалого солдата – он крепился и все время что-нибудь делал: то оберет с лошадиной морды сосульки, то седелку оправит, сунет мальцу в горячий рот кусочек льду, приглядывал за Григоровым.
К утру парнишка затих. Отгоревшее лицо его посерело. Закушенный и покрытый белым налетом язык торчал на сторону. На синие веки опускались снежинки и не таяли.
– Испекся, – сказал моряк. – Столкнуть, а то только мешает.
Он ссунул мертвого и с облегчением вытянул на освободившееся место занемевшие ноги.
Мутный рассвет
нагая степь
ехали по еле набитому проселку.
– Где же улус?
– Леший его знает… Похоже, в сторону упороли.
– А чумак?
– Ночью сбежал… И мешок с хлебом прихватил, чтобы ему, кобелю старому, подавиться нашими крохами.
Вьюга-подируха из-под снегу драла песок. Снег поверху зачернел. Перебитый со снегом, скипевшийся мерзлый песок забивал уши, нос, рот. Песок скрипел на зубах, резал глаза и, казалось, пересыпался в пустых кишках.
Нежданно наехали на одинокую кибитку. Укрытая ото всех ветров, она стояла в седле меж двух курганов. Лошади, раздувая ноздри на кизячий дым, жадно заржали и прибавили шагу.
Не дошли сотню шагов,
из кибитки выскочил распоясанный
и без шапки, спрыгнул в водомоину, высунул дуло винтовки и – давай смолить.
– Е! Ей! – закричали. – Одурел! Свои!
Повалилась на бок шедшая в голове соловая кобыла. Пуля клюнула в плечо одного из темрючан.
Моряк турманом слетел с арбы.
– Что за дело, сучье вымя, и тут война…
За ноги Максим сдернул с арбы спящего Григорова.
Залегли и другие.
Тах-тах-тах…
– Палит, сукин сын.
– Может, кадеты?
– Взяться им неоткуда… Похоже – один.
– Один-то один, да завалился в яму, и пулей его не возьмешь.
– Окружим, – предложил молодой темрючанин, – подползем во всех сторон и на «ура».
– Эка, будем кота за хвост тянуть. Я его, лярву, в два счета пришью, я ему… – Галаган вскочил и, пригнувшись, вприпрыжку ринулся вперед.
Когда подбежали и другие, моряк уже сидел на стрелке верхом, левой рукой душил его, а правой хлестал по рылу и приговаривал:
– Гад… Курва… Вредный… На своих руку поднял?.. Дракон… Мурло… Ехидна… Обломок Иуды… Чертов пуп! – и какими, какими только словами не поносил его морячок…
Бросились в кибитку. В кибитке на овчинах бредила в тифу старая калмычка. Больше никого кругом не было. Тогда подступили к стрелку. Галаган поднял его с земли за шиворот и поставил пред свои грозные очи:
– Рассказывай, что ты есть за человек?
– Не мучь, братишка, – заплакал тот, отирая рукавом кровь с подбородка. – Стреляй скорее, стреляй Христа ради и не мучь…
– Садись и рассказывай. – Галаган выдернул из-за пояса кольт и взвел курок. – Рассказывай чистую правду. За первое фальшивое слово съешь пулю.
Все уселись у входа в кибитку.
Запухшими от кровоподтеков глазами он глядел на своих вчерашних соратников, как хорек, схваченный капканом, и, еле шевеля разбитыми губами, тихо повествовал:
– Я Царегородцев, Пашковской станицы, Первого Кубанского полка… Наш эскадрон вышел к морю, на Лагань. Оттуда лежит тракт до самого Астраханя. Стали переплавляться через лиман. И подуй, на нашу беду, с берега отдёрный ветер. Льдину оторвало и закачало, понесло всех нас в море. Кто плачет, кто со злости смеется, кто, понадеявшись на коня, бросается вплавь. Многие потонули, но мы с товарищем Бондаренком – Гончаровского хутора казачок – выплыли на берег. Вот покинули обмерзших коней и сами, чтобы хоть немного согреться, бегом ударились в степь. Дело ночное, следу не видно. «Ветер, говорю, должен дуть нам в левую скулу». А товарищ успоряет: «В правую». Сколько-то дней плутали, голодные, без курева, спички размокли, и ни одна не загорелась. Набрели на поселок, где не нашли ни куска хлеба и ни одного живого. В хатах лежали мертвые, по улице валялись мертвые, и меж ними шныряли собаки. Обморозил я ноги, кожа на ногах начала лупиться, загнили пальцы. Товарищ нес мой вещевой мешок и мою винтовку. Подстрелили барсука и сожрали его сырым. Поднялась у меня в брюхе паника, валюсь на песок и говорю: «Я умираю». Товарищ перевернул меня на спину и давай мять мне брюхо кулаками и коленками. Меня в испарину кинуло, силы немного прибавилось. Не так здоров, но встал и могу на ногах шататься. Пошли. Идем полегоньку. Потом наткнулись на эту кибитку. У них было три барана и немного муки. «Мы слабые, – говорю я, – они нас ночью заколют, да и харчей на всех надолго не хватит, давай их убьем». Бондаренко отвечает: «У меня рука не поднимется, они перед нами ни в чем не виноваты. Отец мой, такой же старичок, остался на Кубани, может быть, и его уже кто-нибудь решает жизни». – «Раз, говорю, у тебя сердце мягкое, отойди на минутку…» Он, хотя и с неохотой, отошел и отвернулся. Обнажаю наган и стреляю старого калмыка, стреляю дите, еще дите и еще одного черномазого – шустрый такой: двумя пулями его пробил, а он знай визжит, за наган хватается и ноги мне целует. Свалил и этого, а старуху оставил: хоть перед смертью, думаю, справлю удовольствие. Она была еще здоровая и горячая, пар от нее отскакивал… Живем день, живем неделю, живем хорошо, как цыгане. Наедимся лапши с бараниной, спать завалимся, выспимся, калымку я понасильничаю, снова лапшу завариваем и опять на бок. Товарищ мой совсем поправился и все долбит: «Пойдем да пойдем». У меня ноги разнесло, босиком далеко не уйдешь, а сапоги не лезут. Старуха по ночам донимала: сядет на могилку, где мы их закопали, и воет, да как, стерва, воет – волос на тебе медведем подымается. Гонял я ее, бил, а она, как ночь, опять за свое…
Он помолчал и досказал:
– Вот вижу, мука кончается, баранины одна тушка остается, и пала мне на сердце злая думка… Покинет меня товарищ и баранину упрет. Стал я следить за ним. Выйдет он на курган и все дороги рассматривает. Ну, мы с ним поругались… Он лег спать, ничего не думал… Ну, я его ночью… того. Остался я один и стал жить с калымкой как с женой…
– Вопрос ясен, – прервал его Галаган. – Чего же ты, друг ситный, в нас палил?
– Испугался… Я, братишечка…
– Ага, испугался, что твою баранину съедим?.. Ну, миляга, пойдем, получай награду, какую заслужил, – пинком Галаган поднял его с земли, отвел немного в сторону и свалил.
Переждали, пока стихла вьюга, и снова двинулись в путь-дорогу.
Выбрались на большак.
У темрючан лошади были поживее, и они угнали вперед. Максим, Галаган и Григоров опять остались втроем. Лошаденка останавливалась все чаще и чаще.
– Но, удалая, вывози.
Удалая помоталась еще немного и – на бок. Ее подняли. Буланка шагнула раз, шагнула два и опять упала: предсмертная дрожь пробежала по ее истертой шкуре, как рябь по тихой воде.
– Скотина дохнет, человек жив. Чудеса твои, Христе-боже наш!.. – горько засмеялся Галаган и потянул с арбы карабин и вещевой мешок.
Максим тесаком расщепал оглобли, раздергал арбу по доске и разложил костер. Кое-как они переспали на теплой золе, утром пососали снегу и пошли дальше.
По дороге и на обе стороны от дороги валялись полузасыпанные песком грязные портянки, поломанные колеса, разбитые кухни и повозки, брошенные седла, скорченные фигуры людей.
Григоров еле переставлял ноги:
– Вот и мы скоро так же…
– Мужайся, друг, – подбадривал его Максим. Он и сам чуть шел, но унылого вида не показывал.
Не падал духом и Галаган. Чтобы отвлечь спутников от смертных мыслей, он всю дорогу рассказывал что-нибудь потешное.
Подобрали брошенную кем-то косматую кабардинскую бурку, – поставленная на подол торчмя, такая бурка стоит как лубяная, – но в нее столько набило мерзлого песку, что тащить было не под силу, и они ее оставили.
Татарская деревня Алабуга догорала на кострах. Дома и мазанки, сараи и летние дощаные бараки были растащены. На кострах пылали вершковые половицы, полотнища ворот, крашеная резьба оконных наличников, камышовые снопы. Вокруг костров сидели томные, полумертвые… Выжаривали вшей из рубах, пекли в золе лепешки, в вине варили маханину. В хомутах и под седлами дремали голодные лошади. Лежа, вытянув по земле шеи, дремали верблюды – нежные пятки их были ободраны до мослов, горбы обвисли, на скорбных глазах намерзали слезы по голубиному яйцу.
Подошли трое, поздоровались. У огня раздвинулись и дали им место.
– Земляки, нет ли испить? – хрипло спросил Григоров.
– Сами двое суток не пили.
Один выхватил из кипящего ведра большой кусок мяса и ковырнул его черным пальцем:
– Похоже, готово.
– Давай дели, – загалдели кругом. – Горячо сыро не живет. Бывало, трескали свинину, а ныне довоевались – не хватает и конины.
– Оно по первому разу вроде душа не принимает, – сказал стоявший в свете огня огромного роста человек, на плечи которого, как поповская риза, был накинут и стянут на груди сыромятным ремнем персидский ковер. – Намедни попробовал жеребенка и все боялся, как бы он у меня в брюхе не заржал да лягаться бы не начал, а сейчас хоть кобылу давай – съем.
– После тифу, братцы, так-то ли на еду манит!.. Не то кобылу, хомут с гужами слопать готов.
– Да, разбираться не приходится, ешь, что зуб возьмет…
Все набросились на маханину.
Из темноты на огонек выходили все новые и новые, один страшнее другого.
При дороге стояла старуха-татарка с торбой на плече. Она кланялась и оделяла проходящих кусочками черствого хлеба.
– Прощевай, дядьки, – поднялся Галаган. – Потопаю. Увидите своих, кланяйтесь нашим, – пошутил он напоследок.
– Куда ты, Вася, на ночь глядя пойдешь?
– Спешу, спешу к цветку любви! – пропел он разбитым тенорком, прилаживая на загорбок мешок. – В Астрахани меня девочка дожидается: юбочка гармонью, кружевной лифчик, и-их! Душа окаянная… А глядишь, подфартит, и своих азовцев догоню… А ночь для меня – тьфу! Мне лиха беда полы за пояс заткнуть, а там как затопаю, только пыль за мной завьется! – Он пожал станичникам лапы и, воротя нос от ветру, бодро зашагал в ночную темень.
Ночевали Максим с Григоровым в яме, в которую ссыпают рыбу на засол. Шинель постлали, шинелью укрылись. Всю ночь воевала вьюга, лепил мокрый снег. Ночью Григоров умер и окоченел. Максим проснулся, охваченный мертвыми руками, как обручем. С трудом он освободился из объятий мертвеца, вылез из ямы, немного всплакнул о товарище – и довольно.
Спустя еще два дня Максим довалился до села Оленичева и решил тут отдохнуть – ноги не несли его дальше. На улицах чаны с водою. Около них грудились обозы, вповалку лежали люди и лошади. У помещения этапного коменданта гудела огромная толпа. Раздатчики из распахнутых окон выдавали по неполному котелку пшеницы на едока и по осьмушке махорки на четверых. Калмыки – мобилизованные санитарным врачом – шайками разъезжали по улицам, собирали мертвых на скрипучие арбы и свозили за село в ямы, в ямы валили великое урево мертвяков, заливая их известкой и присыпая песком. На одном дворе китайцы варили в банном котле верблюжью голову. Вокруг них похаживал хозяин того двора и ругался:
– И откуда вас про́рвало, хари неумытые?.. День и ночь, день и ночь идут и идут… Всю душу вытрясли, в разор разорили.
– Мы не на прогулке, – с укором сказал ему Максим, – не по своей воле идем, горе нас гонит. Погоди, может, и вам, астраханцам, придется хлебнуть горячего до слез.
– Друг ты мой, стога сена пять лет стояли непочатые, аж землей их взяло, все думал – вот-вот, вот-вот. А тут вас, как из трубы, понесло – стравили, сожгли все до последней сенины. И спрашивать не с кого. Каково это крестьянскому сердцу?.. Вешай хоть такой замок, хоть такой… Как хмылом все берет. И когда вы провалитесь?
– Хлеба или чего такого не продашь? – перебил Максим Черноречье хозяина.
– Где возьму? – Показал из-за пазухи краюшку: – Вот кусок, сплю на нем, все мое богатство.
– Продай.
– А сам чего кусать стану?
– Сам-то ты дома. – Он отдал хозяину свои наградные серебряные часы и, забрав краюшку, пошел в хату.
Хата была набита людьми.
Лежали по полу, под лавками, на лавках, на столе. Стонали, бредили. Гнили обмороженные руки и ноги – духота, зараза. Максим пожевал хлебца и прилег, задремал: голова на пороге, а все остальное на дворе; голове жарко, а ноги начали замерзать.
– Товарищи, пропусти.
– Иди по мне, – простонал один, – только дай спокой.
Ступая по людям, Максим прошел вперед. Некуда было не то что лечь, но и присесть.
Он забрался в русскую печь, где и переспал.
Утром вылез весь в саже и золе. Дух спирало от вони гниющего мяса. Стены покачнулись перед глазами Максима, и он упал. Потом очнулся и, собрав последние силы, пополз к выходу.
В хату заглянул, как вестник смерти, калмык. Он улыбнулся жалкой, заморенной улыбкой и спросил:
– Дохла нету?
Застонали, заругались:
– Уйди, стерва… Уйди, гад… Мы еще живы!
Принялись кидать в него чем попало. Калмык зацепил багром мертвого, что лежал около самого порога, и уволок его.
Не до отдыха было, зашагал Максим дальше.
В открытой степи он наткнулся на умирающего кума Миколу. Обняв объемистый мешок, тот сидел при дороге. Голова его поверх шапки была обмотана штанами. Сам он был закутан в лоскутное ватное одеяло, подпоясан свитой в жгут портянкой. Максим подошел и окликнул его. Кум Микола не поднял головы.
– Николай Петрович, ты меня узнаешь? – присел Максим перед ним на корточки.
Тот долго вглядывался в него набухшими от дурной крови, потухающими глазами и еле слышно выговорил:
– Нет… не узнаю…
– Я – Кужель…
– А-а-а, – равнодушно протянул умирающий, – помню.
– Нет ли у тебя хлебца?
– А-а… Есть, есть, вот бери.
Максим – в мешок. В мешке – сапожный товар, моток бикфордова шнура, три пары новых ботинок, пачка граммофонных пластинок, голова сахару, ременные гужи, какие-то веревочки, пара дверных петель, набор хирургических инструментов и на самом дне с пригоршню хлебных крошек и несколько окаменевших коржиков…
– Максим Ларионыч… Христа ради… Станица… Чубарые волы… Баба моя… И все семейство мое… – начал было кум Микола, но – последние удары кашля, хрип, всхлип и – готов.
Максим закрыл ему полные слез остановившиеся глаза.На полпути к Астрахани, в селе Яндыках, стояли части 12-й армии. Члены фронтового реввоенсовета беспрерывно заседали, сочиняли воззвания и приказы.
Начальник штаба, человек военной выправки и строгих, рассчитанных движений, постукивая в такт своим словам карандашом, заканчивал очередной доклад:
– Партизанщина изжила себя. Невежественные и какие-то сказочные атаманы, не имеющие элементарных познаний в военном деле, в сегодняшних условиях не только неприемлемы, но и вредны.
– Че-пу-ха!.. – выкрикнул Муртазалиев из угла комнаты, где он полулежал с компрессом на голове в раскидном плетеном кресле.
Начальник штаба дернул плечом и продолжал:
– Опыт Кубани и Северного Кавказа как нельзя лучше доказывает правильность этого положения. Полтораста – двести тысяч партизан не смогли справиться с Деникиным, и ныне освободившиеся офицерские дивизии из-за спины донцов широким фронтом выходят на Воронеж, Екатеринослав, Киев. Перед нами сильный враг, и мы должны выставить против него дисциплинированную армию под руководством кадровых, опытных офицеров, готовых честно служить советской власти… Этого категорически требует и Москва. – Он извлек из папки с бумагами мелко исписанный лиловыми чернилами проект приказа и принялся читать: – Предлагаю: реввоенсовет 11-й Северокавказской армии, как фактически уже не существующей, упразднить, войска 11-й армии, по мере вступления их в наш укрепленный район, вливать в состав 12-й армии; лицам командного состава, политработникам и заградительным отрядам вменить в обязанность немедленно прекратить бегство кубанцев – больных разоружать на месте, здоровых возвращать на фронт. Нам, по многим соображениям, совершенно необходимо отстоять район Кизляра; из остатков 11-й армии предлагаю сформировать две дивизии – стрелковую и кавалерийскую, каждую в девять полков; кавалерийской бригаде Черноярова – три полка, – как наиболее боеспособной, расквартироваться в селении Промысловском, перебрать низший командный состав, изъяв преступные элементы, и один полк вернуть на Лагань, другому занять Оленичево и третьему двинуться по реке Куме к Величавой в направлении Святого Креста для разведки. Самого Черноярова необходимо немедленно оторвать от бригады и предать военно-полевому суду. Довольно тютькаться с атаманами, пора показать им твердую руку. К тому же этого категорически требует и Москва… Я кончил.
Член реввоенсовета Муртазалиев поднялся, задрал ус и с азартом заговорил:
– Меньшевики сто лет кричали: «Рабочий, рабочий, ты чурбан с глазами. Сперва стань культурным, а потом делай революцию». Но русский рабочий класс не послушал меньшевистских ученых котов, смело шагнул к историческому рубежу и захватил власть. На ходу перестраиваясь и постигая мудреные науки, пролетариат ведет и выведет страну на широкий путь социализма и Мировой революции… Мы сами знаем, чего требует Москва, но…
– Плише к телу, – прервал его толстый Бредис, – нас не интересуйт лекций, нас интересуйт война.
И начальник штаба заерзал на стуле:
– Господа, спешу оговориться, в мои планы не входило давать оценку программы той или иной политической партии. Да, кстати сказать, в политике я плохо разбираюсь и, признаться, недолюбливаю ее. Я сделал доклад строго военного характера.
– Партизаны, – продолжал Муртазалиев, – и партизанские командиры порождены революцией. Кто видит в них только отрицательные качества, тот никуда не годный революционер… Нельзя забывать, дорогие товарищи, и своеобразие обстановки. Правда, в центральных губерниях Красная Армия уже переболела митинговщиной, но на Северном Кавказе партизаны являются самой надежной опорой советской власти. Кровью они доказали свою преданность революции. Целый год они приковывали к себе главные силы белогвардейщины, дав нам возможность расправиться с Доном, Уралом и Украиной. Лишь в двух городах противника – Екатеринодаре и Новороссийске – в лазаретах лежит тридцать тысяч раненых белых, а сколько их осталось на полях, того никто не считал. Я не собираюсь защищать Черноярова. За свершенные преступления он должен понести кару. Но Чернояров – вождь. Бойцы его любят. Один нетактичный шаг с нашей стороны – и прольется ненужная кровь. Трусливый, колеблющийся, негодный элемент отсеялся. Сюда докатилась волна отборного человеческого материала. Мы не можем такими кусками швыряться. Пустить партизана в город, соскрести с него вшей, вымыть в бане, накормить, одеть, дать короткий отдых, и он опять поскачет на коне хоть в Индию или под Париж. Разоружать же и останавливать больную и голодную армию в песках, обрекать ее на верную гибель я считаю преступлением перед революцией!
Несколько минут все молчали. Потом к Муртазалиеву подошел и заговорил член реввоенсовета Гаврилов:
– Ты, Шалико, во многом прав, и тем не менее я согласен с начальником штаба. Всех кубанцев в город пускать не следует. И без того тиф бушует и косит направо и налево. Астраханский гарнизон ненадежен, обыватель озлоблен, шумят матросы, волнуются пристанские рабочие. Эсеры и офицерня вовсю используют недовольство и готовят восстание.
– Тут-то и нужны будут кубанцы, – воскликнул Муртазалиев. – Они подавят всякое восстание против Советов! Как вы этого не понимаете?
– Обстановка слишком сложна. Еще неизвестно, на чью сторону встанут распаленные неудачами кубанцы… Город – наша база, и мы должны сохранить его за собой во что бы то ни стало. Отсюда будем готовить удар на Урал и Кавказ. Нам до зарезу нужна нефть, нужен бензин. В городе шесть аэропланов, и ни один не летает – нет горючего. Бездействует флотилия. Останавливаются фабрики. Замирает железная дорога. Без горючего республика задохнется…
Подошел и Бредис:
– Партисаны – это воевать понемношку и кричать помношку – никута не котится. Я много думаль и, учитывая все то самоко мелоча, коворю: тисциплина, тисциплина, тисциплина, и к весне мы покончим с Теникиным и с тругими сволочь…
– Совершенно верно, – поддержал его начальник штаба. – Армия может стать боеспособной исключительно при условии, если путем каких угодно жертв мы привьем железную дисциплину. Чернояровы не столько занимались борьбою с противником, сколько междоусобными потасовками и грабежом. Паче чаяния, Чернояров не подчинится приказу – предлагаю, в интересах укрепления престижа реввоенсовета, расправиться с ним силою оружия.
Муртазалиев сорвал с гвоздя шинель и папаху:
– Поеду к Черноярову и переговорю с ним. Необходимо принять все меры к тому, чтобы сохранить для революции если не его, то хотя бойцов, идущих за ним.
Предложенный начальником штаба приказ был принят единогласно при одном воздержавшемся.Весть о разоружении ослепила армию.
В хатах
по дорогам
у костров
замитинговали.
Партия, к которой пристал Максим, при выходе из села, наткнулась на заставу.
– Товарищи, сдавай оружие!
– Разевай пасть шире… Мы вырвались из зубов самой смерти, а вы тут так-то нас встречаете?
Комиссар заставы показал приказ:
– Читали?
Закачались, зашумели:
– Мы измучены и истерзаны…
– Ты нам не давал оружия, ты его и не получишь.
– Прочь с дороги!
Комиссар поднял руку:
– Товарищи, успокойтесь. Вы солдаты революции и должны сознавать, что приказам советской власти надо подчиняться. Здоровые, разойдись по квартирам. Больным тоже не советую идти, в дороге померзнете и пропадете. Из Астрахани высланы подводы, и за самый короткий срок все больные будут подобраны, переброшены в город и размещены по лазаретам.
– Ты нас не жалей!.. Мы сами себя пожалеем!.. Дай дорогу, не то отведаешь костыля!
– Не грози, приятель. Я такой же, как и ты.
Вперед выступил седой старик. Одет он был в рогожный куль, подпоясан ружейным погоном. Его рыжая шапка-кубанка по нижнему краю была сера от вшей, вши путались в косматых бровях, ползали по искусанному до рябин лицу, рукою он обирал вшей с лица и мигал воспаленными глазами.
– Боитесь, как бы мы не напустили вам в город заразу?.. А мы – не люди? Нас тифозная вошь не иссосала?.. Ты сыт, а я голоден и изломан, – взвизгнул он. – На тебе новая шинель, а на мне кулек, на котором дыр больше, чем мочалы…
Комиссар сбросил с себя шинель:
– Надевай!
– Зачем мне твоя шкура? – затрясся старик. – Ты мне полсотни овец отдай, восемь пар волов отдай, коней отдай, дочку отдай, которую замучили кадетские офицеры. Двух сынов отдай, руку отдай! – И он взмахнул из-под кулька пустым рукавом.
– Товарищи, довольно шуметь! – возвысил комиссар голос. – Приказ… Оружие…
– Оружие?.. Получай от меня от первого, – сурово сказал старик, и не успел никто и ахнуть, как он выдернул из-за пояса бомбу и бросил ее комиссару под ноги.
Взлетел сноп огня. Комиссар остался лежать на месте, застава разбежалась.Бригада Ивана Черноярова отдыхала в селе Промысловке.
Сам Чернояров умирал… Из почерневшего рта его с хрипом вырывалось горячее дыхание, ходуном ходила забрызганная синеватой тифозной сыпью и расчесанная до крови костлявая грудь. У постели третьи сутки бессменно дежурили доктор и верный Шалим. В сенцах и на крыльце, переговариваясь вполголоса, толклись старые соратники, и всякий раз, когда адъютант выбегал во двор, они окружали его:
– Браток, как оно?
– Дишит мало-мало… Говорит: «Ох, ох». Сапсем палахой дела…
– За доктором поглядывай…
– Яры, яры…
Дом был разрушен, окна заткнуты соломой и подушками. В комнате не было ни одного стула. Доктор присаживался на подоконник, и голова его, будто неживая, падала на грудь.
Шалим подбегал на носках и шипел:
– Спышь, ишак?.. Я тебе посплю.
– Чего вы от меня хотите? – раздраженно спрашивал доктор, раздирая слипающиеся, будто медом намазанные веки. – Камфару впрыснул, температуру измерял…
– Еще меряй! – совал наганом в ребра. – Все время меряй. Умрет он, вся бригада с горя умрет. Из него душа – и из тебя душа.
Доктор подходил к больному, менял лед на голове, щупал пульс, ставил термометр, и синяя жилка ртути быстро взлетала до сорока с десятыми… Этому благообразному старичку, вывезенному откуда-то с кавказского курорта, Шалим не доверял, зорко следил за всеми его движениями и заставлял самого пробовать лекарства, прежде чем давать их больному.
– Скажи, умрет? – шепотом спрашивал он в сотый раз.
– Я не бог. Долго ли вы будете меня мучить?.. От усталости я сам умру раньше вас…
– Пачему глаза закрываешь? Гавари и гляди.
– Пульс сто восемьдесят… Температура… Ннда… – И доктор моментально начинал храпеть с пристоном, пуская пузыри.
Шалим спичкой поджигал ему волосы на голове и шипел:
– Спышь?.. Он умрет, и я умру! Он умрет, и тебя убью! Адын раз тебя, ишака, мало убить, десять раз тебя убью!
Наконец болезнь сломилась и пошла на убыль.
Бригада возликовала: день и ночь в полках гремели гармошки, пляска и песня. Подвыпившие бойцы заходили к любимому командиру, и всем он говорил одно:
– Хлопцы, готовься к походу…
Из Яндык ординарец привез приказ реввоенсовета о разоружении бригады. Чернояров мрачно усмехнулся и отдал листок приказа Шалиму:
– Иди подотрись.
Когда приехал Муртазалиев, Чернояров был уже на ногах.
Они познакомились.
– За моей головой приехал? – спросил Чернояров.
– Ты почему не подчиняешься приказам?
– Я не подчинялся и не буду подчиняться царским шкурам, которые засели в ваших штабах. Повернуть армию назад? Статошное ли это дело?.. Пойдем и спросим последнего кашевара, и он, хотя и не учился в академиях, скажет тебе, что в этих проклятых песках, где нет ни воды, ни фуража, ни хлеба, можно воевать лишь малыми отрядами. Полкам тут могила, бригадам – могила, армиям – могила!
– Получай ультиматум…
– Давай!.. – Повертел в руках хрустящий листок и вернул его Муртазалиеву. – Я неграмотный… Читай сам, да погромче, а то я после тифа оглох… В голове ровно шмели гудят.
Муртазалиев начал громко читать:
– «Бывшему командиру кавалерийской бригады Ивану Черноярову. Именем Российской рабоче-крестьянской советской власти приказываем бойцам бригады сдать оружие, как холодное, так и огнестрельное, после чего вся бригада будет расформирована по частям…»
Чернояров вскочил, как укушенный, и отбежал в угол.
– Читай! – крикнул он, задыхаясь и не спуская с Муртазалиева горящих глаз. – Читай.
– «Бригада не подчинилась приказу советской власти, самовольно выступила с места стоянки и самовольно двигается по неизвестному пути, разрушая всякий порядок и военную дисциплину…»
– Врешь, лахудра! – От удара задребезжала рама. Муртазалиев поднял голову и увидел в окне горящие глаза. Безгубый парень яростно колотил в раму кулаком и орал: – Врешь, харя черномазая! Пойдем к нам в полки, и мы покажем тебе, какой у нас держится порядок! Найди хоть одну раскованную лошадь… Мы не покинули ни одного своего больного… Нам до самой Астрахани хватит фуража и вина… Проверь нашу кухню и обоз… Посчитай, сколько мы вывезли с Кавказа пушек и пулеметов!
За окнами гудели голоса, взрывались крики.
– Читай! – приказал Чернояров. – Это шумят мои бойцы, не бойся… А это… – повернулся он к порогу и указал на набившихся с воли людей в бурках и нагольных полушубках, – это боевые командиры разных частей, самые храбрые, которых дала Кубань… Читай! Пусть слушает вся бригада, вся армия.
– «В случае неисполнения сего ультиматума добровольно, – продолжал Муртазалиев, – каждый пятый боец будет расстрелян. Черноярову заявляем, что если он не трус, то явится перед справедливым судом советской власти, где и будет иметь слово в свое оправдание. Если он любит своих бойцов и народ, то пусть пожалеет их жизни и исполнит настоящее последнее приказание. На размышление дается тридцать минут».
Густая, придушенная тишина. У порога сопела чья-то раскуриваемая трубка. За окнами – раскрытые немые рты и глаза, круглые, как серебряные полтинники.
– Все? – спросил Чернояров.
– Все.
– Я не верю вашему реввоенсовету, где окопались царские полковники и генералы. Не первый день я с ними бьюсь, буду биться до последнего! Бойцы не покинут меня. Будем стоять по колена в крови, но не сдадимся! Проберусь до батьки Ленина, и он всем этим ползучим гадам прикажет поотвертывать головы.
Муртазалиев, ероша седеющую гриву, пробежал по комнате из угла в угол и остановился перед Чернояровым:
– Ты не прав, дорогой товарищ. В нашей армии забор хорош, да столбы гнилые, менять надо. Военных специалистов мы запрягли и заставляем везти наш воз. Белые сильны главным образом крепкой дисциплиной. Мы должны выставить против них свою дисциплинированную армию, которая без рассуждений слушалась бы своих начальников.– Меня и так слушаются.
– Анархия, дорогой товарищ, погубила партизанскую армию, подорвала ее мощь, и кадеты разгромили вас…
Чернояров задумался, уронив голову на руки. Он был оглушен и подавлен.
От порога один из командиров подал голос:
– Нас не кадеты разгромили, а тиф.
И разом прорвались, заговорили:
– Тиф, он тоже не с ветру…
– Кругом измена и предательство.
– Почему санитарная часть в армии никак не была налажена? Почему на фронте не хватало патронов? Почему нас душила вошь? Не видали ни мыла, ни белья, а в Кизляре целую неделю жгли склады с боеприпасами и обмундированием…
Саженный батька закубанских пластунов Аким Копыто, с лицом угрюмым и рябым, будто шилом исковырянным, кашлянул в кулак и густо вздохнул:
– Мы шли и думали, вот советская власть поймет нас, как мать ребенка, а выходит, и тут пулями кормить будут…
– Дорогие товарищи, – снова заговорил Муртазалиев. – Зачем шуметь? Мы не на базаре. Поговорим спокойно… Железнодорожный транспорт разрушен. Гужевой транспорт разрушен. Из Астрахани мы не успели вовремя перебросить вам на Кавказ все нужное… Скажи мне, товарищ, – обратился он к Черноярову, – правда ли, что ты зарубил Арсланова и Белецкого?
– Правда, – густо покраснев и давясь волнением, ответил комбриг. – Верю комиссарам, которые дерутся на фронте, а которые по тылам на автомобилях раскатывают, тем не верю. И до самой смерти не буду верить.
– Белецкий был боевым командиром, это знает вся армия… Арсланов был старым революционером, это говорю тебе я… Ты, дорогой товарищ, свершил тягчайшее преступление перед революцией.
Чернояров молчал.
– Жалуются вот на твою бригаду, – продолжал Муртазалиев, – барахлили вы много. Это тоже правда?
– Брехня. Зря нигде никого не грабили. Буржуев, было дело, рвали. Восстанцам и кулакам тоже спуску не давали. Не мимо говорит старая казацкая пословица: «Убьют – мясо, угреб – наше».
– Поедешь в реввоенсовет? – спросил Муртазалиев.
– Нет, не поеду. Там вы меня расстреляете… Виноват – пусть меня судит своя армия.
– Так, так… Плох тот красный командир, который боится революционного суда… С тобой в реввоенсовете хотят поговорить… Обещаю, что там никто и пальцем тебя не тронет… С тобой хотят поговорить, поверь мне.
– Тебе, может быть, и поверил бы, – пытливо глянул на него Чернояров, – но тем старорежимным шкурам, что заседают с тобой за одним столом, под одной крышей, с которыми ты ешь кашу из одной чашки, – тем не верю! Режь меня на куски, жги огнем – не верю!
– Двадцать лет я работаю в большевистской партии, ты мне должен верить… Я остаюсь здесь заложником и выкладываю на стол часы. Езжай один. До Яндык семь верст. Если через три часа не вернешься, пусть твои бойцы казнят меня.
– На что ты, старый, нам нужен? – заорал за окном безгубый. – Братва, не выдадим Чернояра!
– Не выдадим!.. Не выдадим!
– Все за него поляжем!
– Братишки, измена!..
На улице – под окнами – начался бурный митинг.
– Итак, не едешь? – в последний раз спросил Муртазалиев.
– Нет.
– Тогда – прощай, товарищ.
– Прощай.
Муртазалиев вышел на улицу.
Ночь. Село клокотало. Там и сям летучие митинги – бредовые, истеричные речи. Муртазалиев вмешался в самую многочисленную толпу и некоторое время слушал. Потом протискался вперед и взобрался на зарядный ящик:
– Товарищи… Я – член реввоенсовета…
Вой
свист
мат.
– Доло-о-ой!
– Стаскивай его за ноги!
– К стенке!.. К стенке!..
– Дорогие товарищи… Подумайте, о чем вы кричите?.. Кого к стенке? Меня к стенке?.. Сукины сыны! Когда многие из вас еще сосали мамкину титьку, я уже гремел кандалами в Акатуе. Царские тюремщики меня не добили, так вы – солдаты революции – хотите добить?.. Чепуха! Поговорим лучше о деле. – Он чувствовал горячее дыхание многотысячной толпы. Лица в темноте были неразличимы, лишь кое-где вспыхивали раздуваемые ветром цигарки. Вначале было несколько моментов, когда ему казалось, что действительно вот-вот стащат и разорвут. Но – мужественно сказанное слово убеждения – и ярость схлынула. Над притихшей толпой голос его гремел вдохновенно. – Где измена?.. Какая измена?.. Кто кричит подобное, того надо самого потрясти и проверить, кто он – дурак или трус?.. Дураки революции не нужны, а трус – среди нас – опаснее врага! Дорогие товарищи, в нашей семье нет места шкурникам, маловерам и людям растерянным! Кто не хочет или не умеет исполнять приказов, того будем гнать из армии в три шеи… Малейшая попытка сорвать дисциплину будет пресекаться в корне, со всей строгостью военного времени и революционных законов – это каждый честный боец должен зарубить себе на носу… Дорогие товарищи!..
Муртазалиев говорил о советской власти и Деникине, о большевиках и рабочем классе, о Москве и Мировой революции.
После него выступали бойцы разных частей. Вот краткое слово одного из партизан:
– Кубанцы… Трудно нам будет мириться с новыми порядками, а мириться надо… Дадут приказ идти сто верст босиком по битому стеклу, и ни один из нас не должен отказаться… Немало в наши ряды затесалось гадов, которым не революция дорога, а своя шкура и свой карман… Немало прохвостов и среди наших начальников и комиссаров, но и они не спрячутся за мандат, пуля найдет… Если в штабах и засели таковые, то кулаком их оттуда не выбьешь и горлом не возьмешь – тут треба ум, да умец, да третий разумец… Потом разберемся, кто в чем прав и кто в чем виноват, а сейчас у нас одна советская семья и один враг – тот, кто ходит в золотых погонах…
Ночью же, после митинга, Муртазалиев увел за собой на Яндыки два полка и несколько мелких отрядов. Много пристало к нему и отбившихся от своих частей одиночных бойцов.
А на рассвете, когда степь клубилась морозным туманом, из Промысловки выступила и бригада Черноярова. Шли весело – с песнями и гармошками. Перед эскадронами, гикая, плясуны плясали шамиля и наурскую. В тачанке, обложенный подушками, сидел хмурый Чернояров – сердце чуяло беду.
Перед Яндыками бригада наткнулась на цепь – полукольцом опоясав село, лежали дербентцы, Интернациональный батальон и Коммунистический отряд особого назначения.
Окрик:
– Кто идет?
Из густого тумана
выступали
конные массы…
– Свои.
– Стой. Стрелять будем!
Бригада остановилась и выслала на переговоры делегатов. С гранатами в руках они подошли вплотную к мелким, наспех вырытым окопам.
– Сдавай оружие, суки! – сорвавшимся голосом крикнул из окопа парнишка, и в наступившей вдруг волнующей тишине щелкнул взведенный курок его нагана.
– Ты, грач, сопли подбери! – метнул на него глазом эскадронный Юхим Закора и обратился ко всем: – Здорово, ребята… С кем это вы воевать собрались и чего тута стоите?
– Нас выставили на разоружение банды Черноярова… Он, стерва, продался кадетам и хочет проглотить молодую советскую власть.
– Какой негодяй натравливает вас на нашу бригаду?.. Какая мы банда?.. Целый год дрались с Корниловым и Деникиным…
– А за что зарубили нашего командира Белецкого? Мы вам за него глотки всем порвем… Почему не подчиняетесь приказам?.. За кого вы, за красных или за кадетов? – зашумел опять парнишка.
– Ты, шпанец, еще молод и зелен… Были бы мы за кадетов, давно бы ушли к кадетам, а то плутаем тут по пескам и кормим своим мясом вшей… Кто вами командует?
– Северов.
– Так это ж царский полковник. Для него народная кровь заместо лимонаду. Эх, вы, адиёты… Нет ли у кого закурить?
– Кури, – протянул астраханец пачку папирос.
– Папироски сосете, а мы забыли, как они и пахнут… Ну, ладно, вы, видать, ребята подходящие… Чернояровцы на своих руку не подымут… Пропускайте нас, пойдем до батьки Ленина, пусть узнает правду неумытую. На Кубани нас продали и пропили. Эх, братва, сколько там сложено голов, сколько пролито крови…
Позади окопов бегал политком и надсадно кричал:
– Прекратить переговоры!.. Открыть огонь! Огонь!
Но его никто не слушал.
По фронту началось братание, и кое-где бойцы уже менялись шапками и оружием.
Политком кинулся в Коммунистический отряд:
– Огонь!.. Стреляй!
Сам припал за пулемет и
та-та-та-та-та-та-та-та-та-та…
Бригада заколыхалась.
По флангу раскатилась зычная команда:
– Эскадро-о-о-он, от-де-ленья-ми, по-вод ле-во, строй лаву!..
К Черноярову подскакал Шалим:
– Прикажи развернуть знамя и – в атаку!
– Не сметь!
Начал стрелять Коммунистический отряд. За ним сначала робко, а потом все смелее и смелее увязались дербентцы, и скоро вся линия заблистала огнями выстрелов. Невидимая в тумане, загремела батарея, ухнул бомбомет.
Шалим рвал коню губы и, свешиваясь с седла, кричал:
– Ванушка… Атака… Пусти нас на адын удар! Мы расправимся с ними, как повар с картошком!
– Не сметь…
Чернояров приподнялся и оглядел бригаду, потом крикнул не спускавшим с него глаз горнистам:
– Играй отбой!
Бригада без единого выстрела, теряя убитых и раненых, отхлынула обратно на Промысловку.
На площади митинг.
– Прощай, братва!.. – рыдал Чернояров и, не в силах выговорить ни слова, вскинул руку с маузером к виску.
С него пообрывали оружие, отняли маузер.
– Там нам жизни нету! – начал было он опять говорить, но потерял сознание и упал на руки Шалиму.
Доктор совал ему под нос нашатырный спирт, кто-то тер снегом уши.
Открыл глаза, туго выговорил:
– Добре нас встретили и угостили, добре… Так всех партизан угощать будут.
Его окружили командиры разных частей и зашептались… Наклонился Аким Копыто и загудел ему в ухо:
– Утекать надо… Уходи, пока дело не дошло до большой беды… Армия волнуется и встает под ружье… Подумай, Ванька, сколько может пролиться безвинной крови?
– Утекать?.. Как вору с ярмарки?
– Что ты станешь делать? – развел Аким пудовыми кулаками. – Всяко бывает. – Он посопел и досказал: – Высшему начальству надо покоряться… Промеж себя мы уже выбрали делегацию, пойдем на поклон в реввоенсовет и, как один, крикнем: «Руби нам, командирам, головы, но не тревожь бойцов. Мы их подняли со станиц и повели за собой. Кругом их бьют, а они ничего не знают».
И командир бронепоезда Деревянко сказал Черноярову:
– Так, Ваня, действовать нельзя… Нам надо держаться друг за друга и всем заодно… А наше одно – это советская власть…
– Да, да, мне лучше уйти… Я среди вас – как волк в собачьей стае! – Обезумевшими глазами он оглядел окруживших его командиров и коротко выругался. Потом опять поднялся на тачанку и, сломав над головой черен нагайки, скомандовал: – Братва, по коням!.. Выступаем… Кто верит мне – за мной!
И сейчас же две сотни всадников – у кого лошади были потверже, – взвод вьючных пулеметов и небольшой обоз оторвались от армии и на рысях пошли в степь, на запад.
Однако на первом же привале бойцы окружили своего командира:
– Куда идем и зачем?
Чернояров развернул карту – исчерченный химическим карандашом лоскут столовой клеенки – и повел пальцем по таинственным значкам, которые одному ему и были ведомы:
– Идем на Эргедин худук (колодец). Хахачин худук, Цубу, Булмукта худук, Ыльцрин, Тюрьмята худук… Отсюда, старым чумацким шляхом, берем направление на Яшкуль, Улан Эргэ, Элисту и выходим под Царицын на соединение с дивизией Стожарова: этот не выдаст, этот постоит за партизанскую честь… А там и до Москвы недалече. Поеду до батьки Ленина. Не верю, чтоб на свете правды не было.
– Все это так, Иван Михайлович, – вздохнул Игнат Порохня, – а скажи нам, сколько наберется верст до того клятого Царицына?
Спичкой и суставами пальцев Иван долго вымерял свою карту и наконец ответил:
– Пятьсот верст, да еще, пожалуй, и с гаком наберется.
Стон изумления качнул бойцов:
– Ой, лишенько… Пятьсот, да еще и с гаком?
– Пятьсот верст дикой калмыцкой степи…
– Не дойдем. Подохнем.
Все долго молчали, собираясь с мыслями… И за всех сказал эскадронный Юхим Закора:
– До Царицына нам не дойти… Кони откажут… Второпях урвали самую малость фуража… Два-три дня, и коней нечем будет кормить. Мало у нас сухарей, мало и вина, а вода в колодцах, ну ее к черту, соленая… Что будем делать?
Чернояров внимательно оглядел приунывших людей, и его выгоревшая в цвет спелого хлебного колоса бровь дрогнула.
– Да, ребята, не дойдем до Царицына – кони откажут… Незачем всем нам гибнуть зазря. Кто хочет – возвращайся. Мне возврату нет… Клянусь, чтоб шашка моя не рубила, никому из вас не скажу ни слова упрека. Не щадя ни своей, ни чужой крови, мы честно прошли свой путь. Спасибо за службу… Останемся живы – опять слетимся под одно знамя, и враги не будут знать, куда бежать от наших шашек!.. Ну, а ежели встретиться не судьба, не поминайте лихом! – Голос его дрогнул и осекся.
Бойцы прощались с любимым командиром, и многие плакали, как малые дети, – навзрыд.
И вот, под командой Юхима Закоры, отряд подбористым шагом двинулся обратно на астраханский шлях, стороною обходя Яндыки. Чернояров – с кургана – долго смотрел им вослед, и в глазу его горькая дымилась слеза…С комбригом остался Шалим, осталось десятка два всадников, решившихся до конца разделить участь своего ватажка.
Дикий ветер
древние курганы
мертвые сыпучие пески…
Шли день и ночь, не встречая ни одной живой души. Голодали люди. Кони от голоду грызли друг другу хвосты и гривы.
Изредка присаживались подремать у костра, сложенного из колючки и шаров перекати-поля. В котелках топили снег, жевали вывалянные в горячей золе ломти конины, доедали последние сухари. Потом живые подымались и шли дальше, ведя в поводу обессилевших коней; мертвые и умирающие, точно задумавшись, оставались сидеть у потухших костров; с небритых подбородков стекала и намерзала до земли сосулькой тифозная слюна.
Чернояров – обложенный подушками, укрытый одеялами – ехал в тачанке. Временами он впадал в беспамятство и бредил:
– Где я? Где бригада?
– Все тут, все с тобой… Лежи, пожалуйста, смирно, – укутывал его Шалим одеялами.
– Пи-ить… Пи-ить…
Кто-нибудь из бойцов придерживал голову командира, а Шалим осторожно концом кинжала разнимал его сцепленные зубы и вливал в рот несколько глотков вина. Затем совал и проталкивал пальцем в горло кусочки сала.
– Ешь, Ванушка… Пожалуйста, ешь… Твоя, кунак, надо выздоравливал.
Больной порывался вскочить и дико орал:
– Лошади спутаны!.. Шалим, распутай постромки!.. По-о-о-олк, шашки к бою!
Первое время шли по колодцам, но вот наезженная дорога разменялась на четыре тропы – и отряд сбился с пути.
Отставали
падали люди
и последние кони.
На седьмые сутки вчетвером – обмороженные и полумертвые – они вышли на село Солдатское Ставропольской губернии, где и были схвачены сторожевой неприятельской заставой.
Чернояров очнулся в хате. Трое его товарищей валялись рядом с ним на земляном полу. Подпирая горбом дверной косяк, дремал богатырского вида казачина в погонах младшего урядника.
– Какой станицы? – спросил у него Иван.
– Кореновской.
– Эге. Добрую я у вас церковь спалил.
– А ты що за цаца?
– А ты как думаешь?
– Нечего мне и думать… Вот захочу да сапогом в морду и двину.
– Я – Чернояров.
– Чур меня, чур, бисова душа, – урядник отпрянул и чуть не выронил из рук винтовку.
– Уу, шкура, и за что вас Деникин кашей кормит? – Бледная улыбка осветила его исхудавшее лицо.
Под конвоем пленники были доставлены в заштатный городишко – Святой Крест. Шалима и бойцов посадили за решетку в комендантском управлении, а Черноярова – сам идти не мог – два казака под руки отвели на квартиру, где он был острижен, вымыт, переодет в свежее белье и уложен в постель.
По нескольку раз на день к нему заходил военный врач, забегал однорукий комендант города:
– Здравствуйте, дорогой. Как себя чувствуете? Чем вас сегодня кормили? Не прислать ли табачку?
– Где мои бойцы и адъютант Шалим? Мне приснилось…
– Не волнуйтесь, мой дорогой пленник… Ваши люди направлены в лазарет и по выздоровлении будут служить у меня в комендантском управлении.
– Не будут они у тебя служить, комендант, – улыбнулся Чернояров, – убегут.
Он не знал, что все трое были уже расстреляны. Однажды дверь с треском распахнулась, и в комнату влетел, звеня шпорами, офицер.
– Встать! – скомандовал он.
– Чего вам от меня надо? – простонал Чернояров. – Голову или ноги? Голова, вот она, а ноги не служат.
– Впрочем, лежите. – Офицер оправил под головой больного подушки, подоткнул одеяло. – Сюда идет его превосходительство начальник дивизии генерал Репрев. Уж вы, не знаю, как вас титуловать, ради бога, не подведите.
В сопровождении штабной челяди вошел грузный генерал.
– Ты и есть Чернояров? – простуженным и гулким голосом спросил он, с любопытством разглядывая партизанского ватажка. – Здорово, джигит… Наконец-то образумился и перебежал к нам, и отлично сделал. Я прямо с фронта и вдруг слышу – так и так. Зайду, думаю, погуторю со старым знакомцем. Помню твою геройскую атаку под станицей Михайловской. И Козинку помню. Да и на Тереке наши полки не раз сходились на удар. Молодец, молодец. – Генерал сел в кресло и вытянул ноги в порыжелых, забрызганных грязью сапогах. – Ты казак. Твои отцы и деды воевали за порядок и законность. И ныне доблестное кубанское войско не кладет охулки на руку. Отлично, сукины сыны, дерутся. Сегодня же пошлю в штаб корпуса телеграмму и испрошу для тебя помилование. Поправляйся – и, с богом, на коня. Дам тебе полк, и, верю, честной службой ты смоешь с себя позорное клеймо. Ты храбрый вояка. Нам такие нужны. Далеко гремит твоя слава. Твой пример отрезвит одураченных казаков, которых еще немало путается у красных. Все казаки образумятся и перебегут к нам. Тогда ты уже будешь командовать бригадой, а может быть, и дивизией… А там, бог даст, и война кончится…
Чернояров дрожащей рукой потер черную обмороженную щеку и с твердостью сказал:
– У меня, ваше превосходительство, душа прямая… Не умею хвостом вилять. Жизнь – копейка… Сколько раз я ее ставил на карту! Мне ничего не страшно. Чем в кривде мотаться, лучше за правду умереть! За погоны служить не хочу. Вы были, есть и будете моими заклятыми врагами.
Генерал откинулся на спинку кресла и гулко расхохотался:
– Ха-ха-ха-ха. Молодец! Хвалю за отвагу!.. Но, голубчик, какие же мы враги? У нас один бог и одна родина… Большевики хотят искоренить казачество, и, я знаю, ты сам оттуда еле ноги унес… Большевики разоряют святые церкви и грабят народ…
– На меня не большевики напустились, а изменщики, что засели в штабах.
Генерал долго говорил о большевиках и о их дьявольских планах, о роли Добровольческой армии.
Чернояров утомился и впал в полузабытье. На лбу его крупными каплями выступил пот. Острая боль перелетала по суставам ног и рук, ломала поясницу, колола сердце. Плыли, струились пунцовые цветы на одеяле… А над ухом монотонный голос гудел и гудел:
– Русская армия… Казачество… Слава… Долг перед родиной…
– Уйди! – вдруг бешено выкрикнул Чернояров и схватил со стола чугунную пепельницу. – Уйди, б…, с глаз долой! Поговорил бы я с тобой, да не тут! Ээх… – И яростный вопль вырвался из груди его.
Генерал поднялся, надушенным платком отер усталое лицо и, уходя, распорядился:
– Повесить!
Взяли его той же ночью, вывезли на базарную площадь и повесили. До самой последней смертной минуты он обносил палачей каленым матом и харкал им в глаза.
На грудь ему нацепили фанерную дощечку с жирно намалеванной надписью:...
ИВАН ЧЕРНОЯРОВ
БАНДИТ И ВРАГ РУССКОГО НАРОДА
Курганы
на кургане дремал сытый орел, вполглаза взирая на мятущихся по дорогам людей. Вороны с хриплой руганью делили добычу, раздирая куски мяса и волоча по пескам размотанные мотки серых кишок.
Балки
в балках прятались одичалые репьястые собаки с мордами, слипшимися от крови. Обожравшиеся вислобрюхие волки, жалобно скуля и стеная, катались по сухой траве.
Хутора
на хуторах мертво и глухо. Ветер мёл-завивал золу и песок, шуршал в заклеенных бумагой окнах. Уцелевшие хаты были полны мертвяками, и по мертвым, как раки, ползали умирающие.
Армия
армию топтала вошь. Остатки некогда грозных полков с кровью, как сквозь шиповый куст, продирались через все преграды и выходили на берег Волги к граду обетованному. Из гноящихся глаз катились слезы радости, и из глоток рвались хриплые крики восторга.
Нагнала весть о гибели Черноярова.
На обрыве, над Волгой, в ожидании парома сидели в кругу несколько бойцов. Допивали последний бочонок вина, вспоминали кубанские станицы, походы и битвы… Вспомнили добрым словом и сумасбродного ватажка Ивана Черноярова.
– Да, почудили! – искорню вывернулся у Максима вздох. – Удалая голова перестала баловать… Приподымем, братцы, наши чарки да помянем казака!..
Этюды
Гордость
И за сотней сотни уходили,
Уходили за курганы в синь.
Кони пылью по дороге заклубили,
Кони били, мяли горькую полынь.
Георгий Бороздин
Дым утренних костров стлался по лугу, будто овчина. Расседланные кони дремали, сбившись в табунки, ветер заворачивал на сторону свалянные гривы и подстриженные хвосты. Залитые сном бойцы храпели вокруг огней, бредили сраженьями, бормотали и тревожно выкрикивали полуслова команды. Иные, стуча зубами, вскакивали, проделывали гимнастику, потом грели котелки, жевали обвалявшееся в сумах сало и, по привычке все сделать торопливо, обжигаясь, хлебали из мятых кружек настоянный, ровно деготь, крепкий чай.
Невдалеке в черных развалинах лежал сожженный хутор. Над пожарищем торчали закопченные тулова печей и труб. Заплаканные бабы сидели на узлах, на окованных жестью сундуках и кутали в тряпье сморенных сном ребятишек. Хмурые мужики лазили по горелому и, тыча кольями, извлекали из-под дымящихся головешек осмоленные огнем глиняные горшки, плуги, лопаты и всякую мелочь.
Единственную уцелевшую хату занимал штаб кавалерийской бригады. По лавкам, по полу, на печке храпели на разные голоса ординарцы, писаря и квартирьеры. Облаком висел прогорклый табачный дым, воняло портянками, кислой овчиной и промозглой человеческой вонью. На широкой кровати под атласным одеялом лежал молодой командир Иван Чернояров. Он посасывал трубку и харкал через всю горницу к порогу.
С улицы в раму забарабанил увесистый кулак, задребезжали стекла.
– Ей, штабные!
Чернояров поднял чубатую голову:
– Чего там? Кто орет?
– Иван Михайлович, – подтянулся к высокому окну да так, вытараща глаза, и повис на руках подчасок Федулов, – чечен прискакал, вас самолично требует… Мы его пока заарестовали.
– Какой чечен? Где он?
– Готово, привели… Дожидает! – крикнул Федулов и оборвался.
Комбриг, босой и заспанный, вышел на крыльцо.
На зудкой маленькой лошаденке в кругу казаков вертелся чеченец. Сверкая зубами и коверкая слова, он что-то рассказывал.
Казаки смеялись.
Узнав командира по смоляному чубу, горец принял под козырек и отрапортовал:
– Товарищ Чернаар, мы ночим в атак не хадил, мы дынем в атак не хадил.
– Как? – потемнев, спросил Иван.
– Мы усталь, мы канчай война.
– Где стоит полк?
– Куторь Расшеват.
– Ладно. Передай своему начальнику Хубиеву приказание немедленно выстроить полк. Приеду сам.
– Уассалам! – Чеченец дернул повод влево и полетел в степь, как черная тень.
– Во сукины дети, – остановился проходивший мимо с конным ведром подхорунжий Шебутько, – грабить они первые, а воевать их нет.
– Не скажи, – возразил ему Назарка Чакан, – тоже есть страсть храбрые… Их только раззадорь, черта в дрожь кинет.
– Нагляделся я на азиятцев… В окоп не ложится и в лаву ходить не охотник. Догонят где втроем одного, зарубят. Не дай бог, ежели у них какого-нибудь Ахметку убьет. Вмиг слетится сотня братьев, дядьев, сродников, бросают позицию и на рысях везут хоронить Ахметку в свой аул, будь он хоть за сто верст.
– Наш русак, – вступился опять подхорунжий, – русак смекалкой берет. Где надо бежать, хоть ты его моли, проси, пристрашку давай, все равно убежит, а где видит – ударить можно, ударит.
– Ты, Шебутько, и хитрый, а не хитрее теленка, языком под хвост не достанешь, – сказал Назарка. – Смекали мы с тобой смекали, да пол-России немцам и провоевали.
– Дурак, – обернулся к нему подхорунжий, – там нас продали и пропили. Не духу, снаряду не хватило, а то мы бы еще потягались с германом… Я говорю, что храбрость без сметки гроша ломаного не стоит. Возьми, к слову сказать, китая. Дерется, стервец, важно, отступать не любит и плену не признает… Сядет, ножки калачиком подвернет, насыпит в колени патронов и стреляет до последнего, да и стреляет-то не с плеча, а с пуза. Какой от него прок?
– Мы надысь, – ухмыльнулся разведчик Осадчий, – отступали из немецкой колонки. Забавы ради приставили китайца сортир охранять, а сами смылись. Да-а, позавчера захватили тут в балочке двух юнкарей и давай их про нашего китайца выспрашивать. Што бы вы, головы, подумали? Шестерых кадетов ухлопал. На него бегут, кричат: «Бросай винтовку!» – он стреляет! В него гранаты мечут, он, стерва, стреляет! Его штыками порют, а он свое – стреляет.
Взорвался хохот такой гулкий да грозный, что спавшие по лугу бойцы повскакивали.
…По степи, полон дикой силы, скакал Чернояров. Шалим еле поспевал за ним. Из-под мелькавших копыт высоко взлетали комья мерзлой грязи, низко плыли растрепанные тучи, по жнивью, подпрыгивая, катились шары курая, и по ветру, как придушенные вздохи, доносились далекие пушечные выстрелы.
Из-за косогора выкатился белый – в тополях – хутор.
Скакали по улице… В оконцах мутными пятнами мелькали испуганные лица, под ноги коням с хриплым лаем бросались собаки.
За ветрянкой на открытом месте был выстроен смешанный ингушско-чеченский полк, который совсем недавно, после разгрома Шариатской колонны, присоединился к бригаде Черноярова. Холодный резкий ветер перебирал гривы, полы черкесок и концы наброшенных на плечи башлыков. Развевались, пересыпая золотую лапшу нашитых букв, и хлопали на ветру обхлестанные полотнища двух знамен – красного и зеленого.
Командир полка Хубиев, офицер старой выучки, на высокозадой горской кобыле выехал навстречу комбригу, поздоровался и, привстав, начал докладывать:
– Вторую неделю полк в беспрерывных переходах, лошади раскованы и вымучены, фуража невозможно достать, бойцы требуют отдыха, бойцы требуют…
– Ну! – нетерпеливо крикнул Чернояров, перебивая его. – Довольно! Где противник?
– В шести верстах на запад хутор занят Дроздовским полком и сотней Запорожского кавполка. Слева на кургане батарея, справа в роще два пулемета.
– Тебе, Хубиев, была вчера дана боевая задача?
– Да.
– Ты ее выполнил?
– Нет.
– Знаешь, чем я жалую трусов?
– Ха! – как укушенный крикнул Хубиев, хватаясь за кобуру, и серые твердые глаза его блеснули, точно штыки.
Они разъехались, не спуская глаз друг с друга.
Чернояров дал своему коню плетей и, сломав строй, врезался в самую гущу полка. Он вскочил на седло ногами, и его заветная шашка, свистнув, описала над головой круг.
– Отдыхать вздумали? Вся армия дерется, а вы устали? Кишка отдала? Вы не бойцы! Вы старые бабы! Нынче же я прикажу откомандировать вас в тыл, в богадельню, старухам сопли обсасывать! – С лету он бросил шашку в ножны и, выбравшись на простор, шагом поехал прочь.
Хубиев тоже вскочил на седло ногами и, задыхаясь от ярости, перекричал слова комбрига сперва на ингушском, потом на чеченском наречии.
Две сотни шашек, как одна, вылетели из ножен, две сотни глоток завизжали, заорали, залалакали. Кони пришли в движение, туча пыли прикрыла полк.
Через версту адъютант Шалим догнал Черноярова:
– Ух, рассерчали, костогрызы… Тебя, Ванушка, зарубыть кричаль, ну а потом порешиль идти в атаку.
…Вечером Шалим доложил комбригу, что азиатский полк вернулся из боя и строится перед штабом.
Чернояров вышел.
На улице полк уже выстроился. Взмыленные кони стояли, расставив дрожащие ноги, и качались от усталости. Всадники сидели в седлах прямо, отвагой и гордостью дышали их жесткие запыленные лица, и глаза горели, как драгоценные камни, врезанные в рукоятки старинных кинжалов.
Хубиев, завидев комбрига, спрыгнул с коня и побежал ему навстречу.
Рапорт его был краток: сотня Запорожского полка уничтожена, дроздовцы разбиты и отогнаны, захвачена батарея в полном составе, четыре пулемета, две кухни, обоз первого разряда в количестве десяти повозок… От всего полка в строю осталось сто двадцать сабель, подобрано пятьдесят семь своих раненых…
Чернояров отстегнул шашку и протянул ее Хубиеву. По древнему обычаю они поменялись оружием, поцеловались и с этой минуты стали братьями.
Потом комбриг резко повернулся к полку:
– Джигиты, благодарю вас от имени бригады! Даю вам неделю отдыха и отпускаю в Моздок пополняться! Кормите и куйте коней, гуляйте веселей и грейте баб!
Горцы без перевода поняли похвалу, привскочили в стременах и, собрав последние силы, прокричали «ура».
Ветер спускал с осени рыжую шкуру, мир плутал в кромешном разливе метелей и мятежей.
Суд скорый
Рожки горнистов проиграли атаку, и кавалерийский полк, рассыпавшись в лаву, ринулся на противника.
Сотник Воробьев видел, как младший сын его, Васька, полетел через голову Воронка. «Ранен, убит?» – блеснула у старика мысль, и он, осадив коня на полном скаку, спрыгнул к валявшемуся в пыли сыну.
– Вася!.. Сынок!..
Семнадцатилетний Васька был ранен в живот. Выпав из седла, он сломал шейные позвонки.
– Сынок…
Васька потянулся, хрустнув молодыми хрящами, и, не приходя в сознание, начал вытягиваться на руках отца… У Васьки из-под дрогнувшего века выкатилась последняя смертная слеза. Старик закрыл ему стекленеющие глаза и встал, размазывая по синим шароварам сыновнюю кровь. Взгляд старика был безумен, побелевшие губы дрожали, сердце стучало деревянным стуком.
Старший сын, Андрюшка, вытянувшись за спиной отца, держал в поводу своего и отцова коней с раздувающимися красными ноздрями и не мигая глядел в лицо брата. Руки Андрюшки были измазаны чужой кровью, будто патокой, правый рукав черкески, до локтя смоченный кровью, залубенел. Широкое в веснушках лицо его было жалостливо и бледно.
– Тятяша, – тронув отца за плечо, дрогнувшим голосом сказал Андрюшка, – сотня выстроилась и ожидает тебя.
Старик опустился на колено, легонько, точно боясь потревожить, прихватил Васькину голову и поцеловал три раза в сведенные судорогой губы. Потом перекрестил его, тяжело дрюпнулся в седло и поскакал к сотне.
Мертвый Васька показался Андрюшке меньше ростом. Он выпутал из скрюченных пальцев брата нагайку, поцеловал его и, вскочив на коня, последовал за отцом.
Похоронили Ваську в братской могиле.
Сотник Воробьев передал командование своему помощнику Самусю, попрощался с сотней и, пообещав вернуться на неделе, ускакал с сыном в тыл, верст за двести, в родной город.
…Старуха встретила старика с Андрюшкой в воротах и обмерла. Высохшей рукой она вытирала рот и ничего не могла выговорить.
– С бедой, мать! С бедой! – крикнул Воробьев, пуская под навес нерасседланного взмыленного жеребца. – Сынка провоевал.
Старик побежал в хату. За ним, не видя свету, захлебываясь рыданьями, брела мать.
Через низкую каменную ограду заглядывала востроносая чахоточная соседка Лукерья.
– Чего у вас такое сделалось? – крикнула она Андрюшке, привязывающему к столбу лошадей.
Он поглядел на нее зверем и, ничего не ответив, пошел в хату.
В щелях забора сверкали любопытством чьи-то глаза. Скоро по всему поселку разнеслась весть, что у старого Воробья убили сына Ваську.
– Дурак ты, дурак, пустая башка, понесла тебя нелегкая! – вопила старуха. – Выдумщик проклятый, недаром у меня сердце ныло…
– Цыц! – прикрикнул на нее отец. – Я сам себе тоже не лиходей.
Она замолчала и, тычась по хате, как слепая, собирала ужинать.
Воробьев – драгунский вахмистр – прослужил на царской службе без малого тридцать лет. Осенью семнадцатого года он вернулся домой, увешанный медалями и крестами. По области наспех сколачивались красногвардейские отряды. В силах ли был старый драгун усидеть дома, когда на каждой площади гудели тысячные толпы и под гремевшую музыку плясали походные кони? Он дневал и ночевал на митингах, толкался по базарам и трактирам, как человек бывалый с сознанием превосходства слушал неистовые речи, посмеивался над разеватыми, не по форме одетыми красногвардейцами, заглядывал в брошенные казармы и без конца дивился царящей кругом бестолковщине. «Вся безобразия, – решал вахмистр, – оттого, что фронтовики за войну расхрабрели и не слушаются ни старых, ни новых начальников… Да и какие нынче пошли начальники? Все больше мальчишки да жиденята, строгости мало показывают». Так не признавал он новой власти, пока на митинге в городском саду с ним не сцепился спорить какой-то солдат, который сумел доказать, что «власть хороша, да порядки плохи». Новые мысли получили маленький перевес. Старик забрал обоих сынов и, все еще колеблясь, отправился в Совет требовать назначения в действующую часть. Там его обласкали, предложили хорошее жалованье и назначили командиром сотни, пообещав за верную службу дать в скором времени полк. С первых же боев старик втянулся в борьбу, крутой ненавистью возненавидел врага, и скоро слава о подвигах его сотни загремела по фронту. Дома оставалась старуха с дочерью Наташей, которая работала на местном пороховом заводе и кормила мать.
Нетронутый борщ остыл, подернувшись желтой пенкой навара. Андрюшка по приказу отца сбегал в шинок и поставил на стол две бутылки огневой кишмишовки.
Обстановка в хате была немудрая: кровать, застланная лоскутным одеялом, застекленный шкаф с посудой, сундук, обитый цветной жестью, под облупленным зеркалом пучок засиженных мухами бумажных цветов, и во всю стену причудливым веером были раскинуты фотографии – Воробей с женой из-под венца; Воробей в кругу полковых товарищей; Воробей – бравый драгун с распущенным во всю щеку усом; отец Воробья, Степан Ферапонтыч, николаевских времен солдат, – карточка облезла, глаза стали похожими на белые волдыри; женины братья, тоже все в военном; превыше всех сверкала золотым обрезом цветная, большого формата карточка, на которой Воробей был снят с обоими сынами; они сидели на конях, выпятив груди, как того требует драгунская выправка; фоном служила декорация со скалами, львами и печатной надписью «Львы Венеции»; под Васькой, кося лиловым глазом, словно живой стоял Воронок; в одной поднятой руке Васька держал наган, в другой – шашку; молодые глаза, чуть вздернутый нос и все лицо его было полно блещущего напора.
Андрюшка сидел печален и нем. До хлёбова и дымящихся кусков говядины он не притронулся, а водку пить не решался, так как не был к ней приучен.
Отец бегал по хате, подолгу задерживал налитые мутной слезой глаза на Ваське и шептал нежные слова. Потом останавливался перед наклеенной на стену картинкой из старого журнала: на картинке был изображен какой-то посланник в цилиндре и его жена, красавица с удивленно поднятыми бровями; тыча им в глаза вилкой, вахмистр выкрикивал все газетные ругательства о буржуях, которые мог припомнить, и стонал: «Ах, горе, горе…»
Опорожнив бутылку, он принялся за другую.
Перед воротами собралась толпа. Одни ругали старика, другие кляли войну, иные вспоминали, где, когда и каким видели Ваську в последний раз, и все жалели его.
Из-за угла вывернулась Наташа. При ее приближении голоса замолкли. Посторонились, пропустили, ни слова ей не сказав. Еще ничего не зная, но уже полная тревоги, она пробежала, дробно стуча каблуками, каменистый двор и, распахнув дверь, бросилась к отцу.
– Папа! – поцеловала его в колючую щеку. – Господи, вернулись? Народ перед воротами, я так и подумала, что вы вернулись.
Андрюшка, не переносящий бабьих нежностей, поздоровался с сестрой за руку.
– А где Вася? – просто спросила Наташа, сбрасывая жакетку и фартук.
– Лошадь ковать заехал, – твердо ответил Андрюшка и, с шумом выдвинув ящик стола, достал кружку и налил себе кишмишовки.
– Надолго али совсем отвоевались?
– Не, повидаться приехали.
– Мама, – Наташа только сейчас заметила нахохлившуюся мать, – чего ты такая сумная? Неможется?
Старуха, готовая опять разрыдаться, надвинула на глаза платок и, что-то пробормотав, вышла в кухню.
– Андрюша, много вы с братцем кадетов порубили, а может быть, только зря вас казенной кашей кормили?
– Много… вона. – Он потянул из-под стола черный от засохшей крови клинок, который забыл вычистить.
Она ахнула.
– И не страшно?
– Обнакновенно, атака, – сказал Андрюшка, не глядя на сестру, – кадеты в нас стреляют, промахивают, а мы без промаха шашками секем…
Наташа умывалась над тазом и жаловалась отцу:
– Ты бы мне, папаша, какую другую работу подыскал. Начальник завода у нас ужасная гадина, к девчонкам пристает. Нюрку Богомолову обрюхатил и с работы выгнал, а в позапрошлую субботу позвал Варю Шустрову пол в кабинете мыть и ее понасильничал.
– Кто у вас начальник? – оторвавшись от своих мыслей, точно из воды вынырнув, спросил отец.
– Вяхирев, полковник… Он давно, с пятнадцатого года, начальствует, сколько из-за него слез пролито… Он такой жирный, пучеглазый, как жаба. – Наташа с полотенцем в руках села на лавку. – Гадина он, гадина белогвардейская, как мимо ни проходит, всегда ущипнет или рванет.
– Полковник?.. И к тебе пристает? – спросил отец, останавливаясь перед дочерью.
– Нам с Клавкой проходу не дает, синяки не сходят. – Она приспустила с плеча кофту, показывая отметины, и заплакала. – Ты бы нас, папаша, охлопотал куда-нибудь в лазарет, что ли, или, кажись, на поденщину и то с радостью пойдем.
Старик опрокинул в себя последний стакан огневой кишмишовки и, подтягивая пояс, крикнул:
– Сынок, на́ конь!
Андрюшка шеметом выскочил из-за стола и, сорвав с гвоздя папаху и нагайку, кинулся в дверь.
На кухне мать с дочерью ухватили старика за руки и заголосили.
Он стряхнул их с себя и твердым шагом вышел во двор. Сын подвел ему заседланного жеребца. Воробей легко, не по-стариковски, не ставя ноги в стремя, прыгнул в седло и, вылетев со двора, пустил коня рысью вниз по улице.
Андрюшка не отставал от него.
У заводских ворот, под газовым фонарем, около казенной полосатой будки опирался на винтовку бородатый часовой.
– Кто? Пропуск? – лениво окликнул он двоих верхоконных.
– Свои, не видишь? – ответил Воробей и строго добавил: – Зови полковника Вяхирева, должен я ему вручить лично срочное предписание штаба фронта! – И, выхватив из-за пазухи записную книжку, старик помахал ею перед носом часового.
Тот переступил с ноги на ногу – обут он был в опорки – и сказал:
– Согласно устава, не могу покинуть пост.
– Зови давай! – серчая, крикнул Воробей и наехал на него конем. – Какие ныне уставы, не старый режим.
Почесавшись и подумав, часовой приставил винтовку к будке и ушел.
«Вахлак! – с ненавистью подумал старик и, перегнувшись с седла, достал винтовку и, вынув затвор, поставил ее на место. – Тоже «согласно устава», суконное рыло, а того не знает, что стоять на часах без примкнутого штыка не полагается».
Через невысокий забор был виден заводский двор и утопающий в зелени, ярко освещенный дом, занятый под квартиры администрацией. На открытой террасе гудели голоса, бренчала гитара, вспыхивал женский смех и, покрывая всех, ревел пьяный бас: «Быстры, как волны…»
За воротами послышалось шарканье ног.
Воробей положил руку с наганом на гриву жеребца.
Вышел часовой, за ним в раме калитки показался низенький толстый человек; икая и ковыряя в зубах, он сердито спросил:
– Ну, что?.. Откуда?.. Ну, давай!
– Из штаба фронта, срочная! – Протягивая в левой руке записную книжку, Воробей взмахнул правой и выстрелил полковнику в белый лоб.
Отец и сын одновременно рванули поводья, и враз свистнули их нагайки. По темным улицам города они мчались во весь опор: искры из-под копыт коней взлетали выше голов.
Не заезжая домой, оба ускакали к своей сотне.
Через несколько дней на фронт в автомобиле припылила следственная комиссия городского Совета. Воробьеву с сыном было предъявлено обвинение в убийстве начальника порохового завода товарища Вяхирева.
– Не могу знать, – сказал старик. – Младшего сына вот у меня кадеты свалили, это действительно…
Сотня выстроилась, и все партизаны, как один, подтвердили, что Васька Воробьев убит, а сам Воробей с сыном Андреем из части не отлучались.
Сбитая с толку комиссия укатила ни с чем.
Наташа осталась работать на заводе.
Отваги зарево
Председатель хуторского ревкома Егор Ковалев, склонив большую, с тугим завитком на маковке голову, вырвал из ученической тетради бледный, разграфленный синими жилками листок и медленно, с тяжелым нажимом, нацарапал: «Приказываю срочно доставить неизвестную графиню из дома казака Болонина». Он пристукнул к бумаге закопченную над свечкой печать хуторского старосты, нарочно стертую так, что на ней ничего невозможно было разобрать, и подал предписание своему помощнику Артюшке Соколову:
– Живо.
Артюшка убежал и скоро вернулся с добычей. В оттопыренной руке, чтобы всем видно было, он держал наган и, строго хмурясь, кричал набившимся в коридор мужикам:
– Дай дорогу… Графиню словил.
Маленькая сухонькая старушонка была подведена к председательскому столу. Точеное, без морщин лицо ее было спокойно, тонкие бескровные губы сжаты, из-под криво надетого кружевного чепца выбивались седые волосы, и в желтых, точно восковых, руках она цепко держала, прижимая к груди, старомодный плюшевый ридикюль.
Ковалев некоторое время молча разглядывал ее, потом спросил:
– Как будет ваше, гражданка, имя, фамилье?
Арестованная промолчала, глядя через голову председателя на стену, по которой были развешаны жирно намалеванные плакаты: «Распутин в аду», «Водка – злейший враг человечества» и воззвание «К трудящимся народам всего мира».
Егор Ковалев был малограмотен. Грамотных он не любил и в каждом из них подозревал предателя. Правда, в затруднительных случаях Егор советовался со старым хуторским писарем Исайкой, но ни разу еще не доверил Исайке написать и двух слов. Выждав, он повторил свой вопрос.
Старуха опять промолчала.
Хуторяне засмеялись.
– Что же, ты и говорить с нами не хочешь? – сердясь, спросил председатель. – Али мы дешевле тебя?
– Вам незачем знать мое имя. Что вам от меня нужно?.. Денег?.. Вот все, что я имею. – Она выхватила из ридикюля пачку перевязанных ленточкой кредиток и швырнула на стол, потом из маленького портмоне вытряхнула на стол несколько золотых монет.
В помещение, поснимав шапки, налезли хуторяне. Не дыша, они слушали допрос и, вытягивая шеи, приподнимаясь на носки, старались получше разглядеть графиню.
Егор Ковалев два раза пересчитал деньги и придвинул пузырек с чернилами. В комнате была такая тишина, что скрип пера был слышен в углах.
«Лист допроса. 7 апреля 1918 года арестована по законному распоряжению ревкома неизвестной фамилии графиня в доме нашего хуторского казака. Отобрано керенками 32 тыщи, николаевскими 800 р., золотом 6 пятирублевок, 2 десятирублевика и серебряный пятачок с дырой».
Председатель снова спросил:
– Откуда вы, позвольте узнать, приехали к нам и зачем?
– Мало? – еле слышно прошептала старуха. – Мало?.. Ну, вот, вот, – распахнув накидку, она отстегнула брошку и бросила ее на стол; ее обручальное кольцо покатилось мужикам под ноги.
В допросный лист было дописано: «и кольцо литого золота, брошка с зеленым камешком».
Тогда вопросы принялись задавать несколько человек и со всех сторон.
Старуху прорвало, ее серые глаза сверкнули решимостью.
– Да, – задыхаясь и пытаясь хладнокровничать, заговорила она, – я графиня!.. Муж мой служит в Санкт-Петербурге в святейшем синоде, два мои сына, дай бог им счастья, – она перекрестилась, – сражаются против вас, грабителей и насильников…
Кругом молчали, вытаращив глаза и разиня рты, а она, уже не в силах остановиться, продолжала:
– В Ставропольской губернии у меня было имение и земля, имение мужики разграбили и сожгли, а землю запахали… Я остановилась в вашем хуторе отдохнуть от всех пережитых ужасов и переждать, пока кончится революция…
– Не дождешься! – закричал Егор Ковалев. – Не кончится революция!..
– Кого же вы будете грабить, когда разорите всех нас?.. Да вы, батенька мой, броситесь друг другу глотку грызть, и вашей звериной кровью захлебнется несчастная Россия.
Общее движение, загалдели, заурчали:
– Эка сорока-белобока…
– Башка!
– У ней, поди-ка, царь с ума не идет…
Старуха выкрикивала:
– Черна ваша совесть, черна… Бога забыли… Муки ада приуготованы вам на том свете.
– А-а, не терпишь! – вскочил, скаля зубы, Егор. – Вы нам сулите там, а мы вам тут, на земле, ад устроили… Товарищи, – обвел он всех угрюмыми глазами, – я так думаю, должны мы эту седую контрреволюцию засудить в могилу.
Голоса загудели сочувственно, кто-то крепко, по-солдатски выругался.
Арестованная была отжата в угол и поставлена лицом к собранию.
После немногословной речи председатель поставил вопрос на голосование. В ревкоме было много народу, и все до одного подняли негнущиеся, сведенные тяжелой работой руки.
Председатель поставил на допросном листе жирный крест и сказал:
– Выводи.
Весть о приговоре быстро облетела хутор.
Приговоренную на место казни сопровождала большая толпа. Мужики шагали широко и с занятым видом. Боясь опоздать, бежали бабы и унимали плачущих детей, затыкая их орущие рты жеваным хлебом или грудями: выкатившиеся из ситцевых кофт груди молодушек были белы и туги, как вилки капусты. Вприпрыжку скакали ребятишки, и впереди всех шли два мужика с лопатами на плечах.
Притихнув и не толкаясь, прошли через узенькую кладбищенскую калитку, потом старуха была отведена в дальний угол, где хоронились нищие и бездомники.
Яму копали споро, на переменку. Взлетали высветленные лопаты, к ногам людей с глухим стуком падали комья рассыпчатой земли.
– Завязать ей глаза, – приказал Егор Ковалев.
Толпа, ахнув, отступила.
Помощник председателя, Артюшка, вынув грязный носовой платок, вытряс из него махорочные крошки и подошел к старухе.
– Не смей! – твердо сказала она, и сконфуженный Артюшка, покраснев, отступил.
Добровольные конвоиры от нетерпенья щелкали затворами новеньких, еще не испробованных в деле берданок. Приговоренная стояла, прижимая к груди ридикюль и глядя прямо перед собой.
– Чего не видали, разойдись! – строго крикнул Егор, и толпа, присмирев и зашептавшись, отхлынула еще дальше, образовав полукруг.
– Заложи патроны, приготовься.
Щелкнув затворами, парни отступили шагов на десять и, вскинув ружья, стали целиться.
– Пли.
Залп…
С берез с шумом взлетели и закаркали вороны. Эхо выстрелов, перекатываясь, умерло где-то далеко в Кавказских горах.
Толпа качнулась вперед, завизжала чья-то девочка.
Старуха стояла, схватившись рукой за грудь и выронив ридикюль.
Егор, заматерившись, подбежал к ней вплотную, и, пока толстыми трясущимися пальцами расстегивал кобуру, у нее изо рта, как из рукава, хлынула ярчайшая кровь.
Упала вперед, ему под ноги, точно мужество ее было сломлено и она упала в поклоне.
Егор всадил в ее седую голову все пули из своего нагана и, вытерев рукавом бороду, сказал:
– Храбрая, стерва.
Артюшка поднял затоптанный в грязь ридикюль и, выворотив его наизнанку, нашел в одном из кармашков орех-тройчатку – старики хранят такие орехи, чтоб деньги водились, – и выцветшую, пожелтевшую фотографию, на которой были изображены два офицера.
Орех Артюшка разгрыз и съел, а карточку подал Егору. Тот повертел ее в руках и сунул в карман.
В хутор возвращались, возбужденно переговариваясь. Впереди всех на одной ноге скакал рыжий вихрастый мальчишка: он вертел над головой прутом, на который была надета маленькая шелковая туфля.
В Егоре Ковалеве в крепкий узел были завязаны все качества стойкого рядового бойца. Познанья его были не широки, но что знал, знал крепко. Далеко в будущее он не тянулся заглядывать, но зато ближайшие задачи понимал хорошо и решал их с одного почерка. Несмотря на малограмотность, революцией он был вынесен на пост отдельского (уездного) военного комиссара и, будучи неутомимым в работе, оправдывал свое назначение.
Трясясь в легковом разбитом автомобилишке, он беспрерывно разъезжал по округу. В станицах и селах сам проводил мобилизации; то уговорами, то пулеметами усмирял восстания, проверял личный состав Советов и ревкомов; жаловал правых и карал виноватых; у богатых и зажиточных из глотки и с кровью вырывал хлеб, без которого в голодных судорогах корчился город. Гарнизон никогда не оставался без приварка, проходящие партизанские части снабжались боеприпасами; далеко гремело имя Ковалева; одни кляли его, другие хвалили, и все боялись его строгости и требовательности.
В одну из своих поездок, имея на борту автомобиля неразлучного друга Артюшку Соколова и шофера-немца Георга, Ковалев из-за поломки какой-то части вынужден был остановиться в Марьяновском хуторе.
– Белых нет? – выпрыгнув из машины, спросил он выбежавшего встречать их председателя местного Совета Семена Ежова.
– Будьте спокойны, у нас тихо, – ответил тот и пригласил гостей чай пить.
Председатель Ежов не столько был хитер, сколько труслив: предугадывая гибель власти, он ждал случая, чтобы выслужиться перед кадетами, тем самым надеясь получить прощение за свое председательствование. Проводив гостей в горницу, он мигнул сыну, вышел с ним во двор и приказал во весь дух мчаться в соседний, занятый белой разведкой, хутор.
На сковородке сычела поданная хозяйкой яичница с салом, кипящий самовар пускал пар под самый потолок. Ковалев с Артюшкой протряслись в дороге и были рады радушию хозяина. Георг возился у машины под окнами.
Скоро шофер, вытирая руки о паклю, вошел в горницу и доложил, что машина заправлена.
– Садитесь, товарищ, – пригласил хозяин, – закусите, чайку выпейте и поедете; куда вам торопиться, до ночи далеко…
Георг подсел к столу, подцепил на вилку поджаренный лоскуток желтка да так и застыл с разинутым ртом: перед окном мелькнул погон, папаха – и через мгновение в дом забежал, держа перед собой револьвер, офицер и за ним ввалились казаки.
– Руки вверх!
Ковалев и его спутники и мигнуть не успели, как были разоружены, обысканы и прижаты в угол.
Красивый, как с картинки, офицер стоял посреди горницы и слушал доклад председателя Ежова:
– Комиссар и жулик… Самый он, ваше благородие, собака… Нам всем житья не давал.
Дом уже окружила гудящая толпа, слышались выкрики и ругань.
Хозяин, успевший уже надеть добытый у соседа старый жандармский картуз, доложил:
– Вас, ваше благородие, требует народ.
Засунув руки в карманы к револьверам, офицер вышел на крыльцо и крикнул:
– Чего хотите?
– Дай их нам, ваше благородие! – за всех ответил, выступая вперед, седобородый старик. – Дай нам, мы рассудим их своим судом.
Он вернулся в дом и приказал вывести Артюшку и Георга на улицу. С высокого крыльца они были столкнуты, как в омут, в толпу, и ревущая толпа поглотила их.
Комиссара офицер решил судить сам.
Звеня шпорами и бренча шашками, вышли в дымящийся вечерней прохладой сад, где уже на застланном чистой скатертью столе были расставлены закуски.
Два казака с шашками наголо стояли по бокам Егора…
– Дядя, что бы ты со мной сделал, если бы я попал в твои лапы? – не сводя глаз с пленника, спросил офицер и потянулся.
– Я тебе, племянничек, вырыл бы яму втрое глубже этой, – ответил Егор и, вздохнув полной грудью, в последний раз оглядел сад.
– Молодец! – весело крикнул офицер, вскочив и хватаясь за эфес шашки. – Выдать ему стакан спирту…
Ординарец из фляжки налил полный стакан и подал Егору, тот хватил обжигающую влагу залпом и поблагодарил.
Начался допрос: комиссар держался мужественно.
Казаки свалили Егора, спустили с него штаны, заворотили на голову холщовую рубашку и принялись сечь в две плети, в концы которых была вплетена медная проволока.
Офицер рылся в объемистом комиссарском портфеле. Быстро просматривал и бросал ординарцу старые приказы, арматурные списки, доклады, мандаты, – вдруг из пачки истертых бумажек выпала фотографическая карточка… Офицер схватил ее и остолбенел: на карточке был изображен он сам с младшим братом. На обороте еле можно было разобрать вытершуюся надпись: «Дорогой мамусе от Пети и Тимы».
Егор после казни старухи хотел переслать карточку в чека, но потом как-то забыл об этом, и она провалялась в его бумагах четыре месяца.
Ошеломленный офицер забыл о допросе и обо всем на свете… Как могла семейная карточка попасть в чужие руки? Хотя из дому он давно не получал писем, но был уверен, что отец и мать живут безвыездно в Петербурге.
– Перестаньте, вы его насмерть запорете! – остановил он взопревших казаков и, наклонившись к распростертому и уже переставшему стонать комиссару, принялся трясти его за плечо: – Послушай, откуда у тебя эта карточка?
Егор не поднял головы, его бока тяжело ходили.
– Скажи, приятель, как, как она к тебе попала? – холодея, крикнул офицер ему в самое ухо и почувствовал, как у него начинает дергаться щека.
Комиссар поднял залитое кровью и замазанное землей лицо. Он увидел в руках офицера карточку и сказал:
– Подумай.
– Скажи… Я отпущу тебя на свободу, награжу деньгами.
Егор стонал и не отзывался.
– Говори, сволочь, или я вытяну из тебя жилы… Где, где ты добыл эту карточку?
– Подумай, – опять глухо выговорил Егор.
– Плетей!
По широкой раствороженной спине и заду опять зашлепали, разбрызгивая кровь, плети. Шкура свисала клочьями.
– Стоп! – приказал офицер. – Он так сдохнет, а я должен узнать от него правду во что бы то ни стало… Мы заночуем тут, а утром возобновим допрос.
Егор был взвален на шинель и отнесен в арестантскую.
Ночью член хуторского Совета солдат Дударев топором зарубил караульного казака и на горбу утащил Егора за хутор в болото. Там они, перебираясь с кочки на кочку и питаясь ягодами, прожили неделю, пока Егор оправился. Потом решили пробираться потихоньку в город. Шли ночами, минуя дороги и обходя хутора.
…Егор немало потратил усилий, пока ему удалось поймать председателя марьяновского Совета Ежова, который и был привезен в город.
В солнечный воскресный день Егор Ковалев вывел за город с музыкой и песнями весь гарнизон, выстроил его и начал говорить речь, во время которой он несколько раз распоясывался, вздергивая рубаху и показывая солдатам свою почерневшую, как чугун, спину. Оборвав речь, так как не в силах был терпеть, он подбежал к ползающему на коленях Ежову, и его драгунская шашка заблистала: он оттяпал изменнику сперва руки, потом ноги, потом голову.Взятие Армавира
Летом и осенью – речь идет о восемнадцатом годе – Армавир несколько раз переходил из рук в руки.
Повествую о самом незабываемом.
Сводно-офицерская, или, как потом ее звали на фронте, «Золотая дивизия», вломилась в город и укрепилась в нем. Отсюда Деникин намеревался сокрушить рассеченную надвое Одиннадцатую армию.
Красному командованию Армавир был важен как железнодорожный узел, связывающий Баталпашинский фронт со Ставропольем. Вымученных беспрерывными походами, но еще полных задора партизан тоже манили огни города: там всякий думал приодеться, перековать коня, там – отдых, баня, жратва.
Городских больших и маленьких буржуев, натерпевшихся страхов при большевистском режиме, страшила одна мысль о возврате красных, и они из кожи лезли, помогая Добровольческой армии, и даже выставили на фронт роту своих сыновей.
Приказ:
– Взять город.
Штурм
отбит.
Приказ:
– Повторить атаку.
Штурм
отбит.
Партизаны ворвались было в окраинные улицы, но, опрокинутые лихой контратакой офицеров, замесив пыль мостовой своей кровью, бежали, теряя орудия, оркестры, знамена. Кавалерия далеко гналась и рубила отстающих.
Ночью по степи опять скакали ординарцы с приказом реввоенсовета армии взять город во что бы то ни стало.
В долине реки Урупа ночевал один из потрепанных полков.
Командир был убит накануне, его помощник, монах Варавва, на рассвете, с получением приказа, поднял партизан на митинг.
– Ну, како мыслите, братия?
Партизаны, озлобленные большими потерями последних боев, приказали кашеварам тушить кухни и заявили:
– Завтракать будем в городе.
Построились и выступили поротно.
Пересекли долину.
С пригорка завидели церковные, сияющие на утреннем солнце кресты, фабричные трубы, остовы сгоревших домов.
К городу с трех сторон в тучах пыли подходили полки.
В синем небе заклубились первые разрывы шрапнели.
Варавва шагал впереди, уперев в грудь седой щетинистый подбородок. В недавнем бою пуля перервала ему горло. Рана быстро заплыла и подсохла, но шея онемела, и головы поднять он уже не мог. Узенькое, рукава по локоть, базарной работы пальтишко обтягивало его могучую спину. По самые брови была нахлобучена вытертая плисовая скуфья, ноги в опорках, на поясе – бомбы, заржавленный наган, широкий, как бычий язык, нож и бутылка с водой.
Лица солдат были суровы. Через загар пробивалась сероватая бледность. Пахло вздымаемой сапогами холодной пылью.
Шли под огнем колоннами, не перестраиваясь. То и дело ротными командирами подавалась команда:
– Сомкнись!
Пустырь, кучи мусора и ржавой жести, серые заборы.
Сквозь треск и грохот прорывался безумный визг посеченного пулеметом поросенка.
Из пролета улицы густо, со свистом летела шрапнель, хлестала картечь и, мигая золотыми глазами, железным хохотом захлебывались пулеметы.
Головная рота дрогнула, замешкалась, и ряды перепутались.
Тогда Варавва повернулся к полку и, откинувшись всем корпусом, чтобы видеть солдат, хрипло крикнул:
– Голиафы, вперед!
И опять широко зашагал, слыша за собой, как стук большого сердца, тысячный гулкий шаг и хриплое дыхание полка.
Кто-то завел высоким рыдающим голосом:
Цыганка Галька,
Цыганка Галь,
Цыганочка черная,
Ты мне погадай…
Музыканты ударили в пустые ведра и котелки. Голоса вертелись в песне, как бумажки в вихре:
Цыганочка черная,
Дай, дай, дай…
Полк, задохнувшись, оборвал песню, быстро развернулся, бросился вперед и поднял на штыки передовую цепь противника.
Партизаны ворвались в город со всех сторон.
Улицы были забаррикадированы ученическими партами, плюшевыми диванами, ящиками с фруктами.
Партизаны крались, прячась за выступами домов, и через проломы в заборах проникали во дворы, подлезали к баррикадам и метали бомбы, – в снопах огня взлетали тряпки, щепки, камни мостовой.
Офицеры защищались до последнего. Самые храбрые из именитых горожан стреляли по наступающим из окон и с чердаков.
Бой кончен.
На баррикадах трещат разбиваемые ящики с фруктами, запекшиеся от крови и пыли рты победителей жуют айву и обсасывают кисти светлого винограда.
Санитарные линейки собирают раненых и убитых.
Прямо на улице казнят попа, захваченного с дробовиком в руках.
Варавва, уже одетый в офицерский китель, в кругу полчан отхватывает гопака.
Бойцы, гогоча и матерясь, читают наклеенный на фонарный столб вчерашний приказ начальника гарнизона:
«Во всех церквах г. Армавира после божественной литургии приказываю отслужить панихиду по бывшему императору Николаю II, павшему жертвой грязных рук большевиков».
Буржуи со всего города были согнаны на площадь – тысячи полторы голов. Под охраной штыков они стояли, как гурт скота. С минуты на минуту должен был приехать большой начальник и распорядиться – кого в тюрьму, кого к стенке, кого на работы по рытью могил и окопов.
Мимо проходила кавалерийская бригада. Неожиданно из строя вылетел ингуш Хабча Чотчаев и, ворвавшись в гущу врагов, с визгом принялся сечь их плетью по глазам: он мстил за убитого на приступе друга Халу Уцаева.
Письмо
Братец Фомушка!
Мы о тебе, когда бою нет, частенько вспоминаем. Сами, которые лежали в лазарете, и сознаем – не сладко. Ты не расстраивайся, а скорее выздоравливай, чего тебе все и желаем.
Описываю наше прохождение службы.
В батарею прислали комиссара Захарчука, ты его, хренка, знаешь: Титаровской станицы, рыжая кобыла Гараськи под ним ходит. На митинге Захарчук нам и говорит:
– Клянусь до гроба, я с вами рука об руку. Я предан советской власти костями, душой и телом. Я знаю все боевые задачи высшего командования. Долой угнетателей! Пролетарии, соединяйтесь!
Ладно.
Вот выступили на станицу Невинномысскую. Ожидаем, с какой стороны покажется противник. Не прошло время один час, как последовало донесение: неприятель наступает по всему фронту.
Тут тебе кадетские пластуны, тут разворачивается с флангов кадетская кавалерия, тут – вот он! – кадетский бронепоезд.
Бронепоезд меня заинтересовал.
Командир Никита Семенович подает команду:
– Батарея, готовься к бою… Прицел восемьдесят, трубка семьдесят восемь… Наводить точно… Огонь!
Га-гах.
Полетела моя консерва кадетам на завтрак. Влепил прямо в тендер. Из передовой цепи по телефону передают: попало. А я и так вижу: попало, аж пар зашипел.
Вот Митька Дягель грохнул, тоже попало.
Видим, сквозь пыль, рельсу крутит штопором, и, вот тебе, поехала железная дорога кверху. Никита Семенович глядит в прозорную трубу и смеется:
– Молодец, Половинкин! Молодец, Дягилев! Бейте еще!
Тут кадетская конница запылила, строит лаву. Тут пластуны из межевой канавы лезут в атаку. Захарчук наш заметался:
– Товарищи, надо отступать! Товарищи, побежим, пока не поздно!
Но на него некогда было оглядываться.
– Батарея, беглый огонь! Пулеметы, огонь!
Пошла тут вот такая, начали мешать небо с землей.
Кадеты побежали.
Наша пехота поднялась, вперед! Кавалерия, вперед! Батарея, известно, на передки и вперед! Ура, ура! Бронепоезд показал нам хвост и ушел. Пластуны сдаются, офицеры стреляют и колют себя, но не сдаются. Захватили обоз, патроны, муку, 120 пластунов – они борщ варили, борщ достался нам. Давно мы не видали горячей пищи, две недели питались консервами, и то только тогда, когда они были, вот покушали, теперь можно воевать дальше. Прибегает Захарчук с конным ведром:
– И мне, говорит, налейте.
– А ты где был? – спрашиваем.
– Я отстал, животом расстроился.
Напомнили мы ему, клялся идти с нами рука об руку, выплеснули остатки борща на землю, ему и одной ложки хлебнуть не дали. Кругом смеялись.
Пошли смотреть поле брани, прямо Бородинская битва. С убитого черкеса снял я маузер с золотой насечкой. Выздоравливай, Фомка, скорей – маузер будет твой.
Подарков жители натащили – арбузов, сметаны и так далее. Музыка играет народный гимн. Какой восторг и трепыханье кругом… Девки пришли, одна подходящая: хорошего роста, в желтых гетрах и глаза такие серые, но не удалось с ней поближе познакомиться.
Командир передал – трогайся.
Прибыли на отдых в хутор, забыл его правильное название.
Ночью вшестером, комиссар Захарчук седьмой, отправляемся в разведку. Чистое поле, все тихо, спокойно. Туман такой – ушей коня не видно. Захарчук ежится и говорит:
– Ох, ребята, смотри зорко. Кадет хитрый, может сквозь наших ног пролезть.
Ладно.
Дело к свету. Пробираемся балкой по-над кустами. Впереди заржали лошади, разговаривают. Что такое? Мы приготовились. Голова в голову съезжаемся с кадетским разъездом. Их шестеро, нас шестеро – Захарчука, в случае чего, и считать нечего.
– Какого полка?
– Уманского.
Эге. По голосу и по бороде признаю дядю Прохора Артемьевича.
– Это ты, дядя Прохор?
– Я.
Захарчук шумит:
– Стреляй, кадеты!
– Ты, Сенька?
– Так точно, – отвечаю я дяде.
– Стреляй!..
– Перестань гавкать, – говорю я Захарчуку. – Это есть наши станишники, интересно нам про домашность узнать.
Захарчук крутнул свою рыжую кобылу и осадил за наши спины, ждет, что будет дальше.
Съехались на три шага. У них карабины на изготовку, и у нас карабины на изготовку. Ну, поздоровались. Дядя Прохор Артемьевич, Сметанин, Васька Пьянков, Федя Стецюра, что в атаке под хутором Малеванным вгорячах отрубил хвост своему жеребцу, и двое незнакомых.
– Давно из станицы? – спрашиваю.
– Не так давно, но порядочно.
– Как там моя баба?
– Скоро родит, со степью управилась.
– Как служба?
– Ничего, – отвечает дядя. – Жалованья тридцать рублей, сахару и табаку не дают. Когда будет конец этому?
– Сдавайте оружие, вот вам и конец.
– Вы пленным яйца вырезываете?
– Брехня, дядя. Зачем нам нужны ваши, у нас своих по паре. Сдавайте оружие.
– Мы погодим сдавать оружие, вы сдавайте. – А у самого глаза, как у сыча, сверкают.
– И мы погодим, – отвечаю.
Поговорили еще немного, угостили их папиросками и разъехались. Ни нам никто, ни мы никому.
Еще был бой у станции Овечка. Туго нам пришлось. Боевые обстоятельства предсказали нам отступать. Фронт растерялся, везде оказались прорывы. Занялись бегством, кто кого перегонит. На каждом сапогу по пуду грязи, ноги потерли до мослов, силы нет бежать. На переправе через реку Кубань так загрузили паром, что он пошел ко дну и пушки ко дну, а люди поплыли. Смешно, но смеяться некогда. Жалко было смотреть на такую картину, когда товарищи плыли по Кубани и стонали:
– Спасите, помогите…
Я сам вылез и Дягиля за русые кудри вытащил, – он нахлебался, ему оставалась одна минута до смерти.
Ушли живыми, все хорошо.
Стоим на отдыхе в станице Суворовской, пляшем на вечорках, калечим девок, хлещем самогон.
Жить пока можно.
Какая в лазарете пища и порядки? Скорее поправляйся и приезжай, я по тебе соскучился, и все товарищи поминают.
Ожидаю в скорых числах вашего ответа.
С поклоном С. Половинкин.
О чем говорили пушки?
«Мы, бойцы 1-го батальона Интернационального полка, собрались на митинг и обсудили постановление высшей власти о размене с Германией и Австрией военнопленными старой армии.
Добровольцев, желающих покинуть наши красные ряды и возвратиться на свою германскую и австрийскую родину, в батальоне не оказалось.
Некоторые навстречу оратору говорили: «Сперва расправимся с русскими буржуями, потом все вместе пойдем свергать с золотого трона мировую буржуазию».
Пауль Михаэльс, как много раз он ранен и имеет преклонный возраст, командируется согласно нашего решения по месту жительства, в город Гамбург.
Даем ему наказ.
Товарищи и братья, рабочие и крестьяне всего мира! Сейчас и ребенку стало ясно, в единении наша сила на победу над общим врагом капиталом. Мы не щадим ни жизнями, ни семьями, ни родным кровом и идем напролом. Али вы не слышите наших слез, стонов и проклятий? Мы истекаем кровью в горах, лесах и степях необъятной России. Али вы не слышите, о чем гремят-говорят наши пушки? Близок, близок день полной победы над тиранами, генералами, помещиками и прочей мелкой сволочью, сосущей соки трудового народа. Своими кулаками мы стучимся в ваши груди. На помощь! Братья, на помощь! Разбирай оружие, и за дело. Если нужно будет нашей силы, то, покончив со своими, выйдем вам на подмогу и пойдем хоть на край света. Клянемся не свертывать красных знамен, пока на земном шаре не будет казнен последний паразит! Ни шагу назад! Да здравствует Красная Армия мозолистых рук всего света!»
Ветхий листок резолюции подшит к архивному делу. На листке, как ржавчина, мазки засохшей глины. Документ волнует крепче всякой поэтической выдумки.
Сад блаженства
В глухом, заросшем травою переулке, в неприглядном покосившемся домишке доживал свой век престарелый чиновник Казимир Станиславович. За сорокалетнюю службу в акцизном ведомстве он получал небольшую пенсию. Давным-давно старик отмахнулся от житейских сует и никуда со двора не выходил. Сношения с внешним миром, главным образом с базаром, поддерживала верная подруга его жизни – Олимпиада Васильевна.
Ютились они в полутемной кухне, а солнечное зальце и две комнаты, заставленные фикусами и сухими кустьями, были отведены пернатым. На подоконниках – желтый песок, корытца для корму и питья, тарелки с зеленью и приспособленные для купанья чайные блюдца. Клетки под окнами, по стенам и под потолком; клетки низенькие, четырехугольные, круглые и высокие с куполообразным верхом, без жердочек, и с жердочками в несколько ярусов; клетки, обтянутые редкой холстиной или промасленной бумагой; клетки в сенях и в саду, – к дому примыкал сад, черен и дик.
Птицы, если это не была пора линьки, поднимали веселый гомон спозаранок.
Первыми встречали рассвет голосистый дрозд Залетный или соловушка Чародей – громовый раскат сверкающих трелей; от его песен, казалось, дрожали стены дома. Встряхивался и, прочищая горло, пробовал голос старый кенар по прозвищу Петька, столь искусный в своем деле, что по заказу высвистывал «Хаз-Булат», «Тройку», «Коль славен». Сквозь гущу разросшихся под окнами акаций продирался первый солнечный луч. Щеглы, чечетки, лазоревки и иные немудрящие птахи на разные лады славили утро.
Птицы будили стариков.
Казимир Станиславович в туфлях на босу ногу и в заплатанной-перезаплатанной форменной шинели внакидку обходил свои владенья, ласково улыбаясь и ворча и жмурясь спросонья. Драчливые лазоревки и сорокопуты уже ссорились у корытца с кормом. Жаворонки купались в песке, насыпанном в ящик из-под гильз. Пара молодых клестов, резвясь, сталкивала друг друга с жердочки. Зяблики и славки, что жили в открытых клетках, гонялись по комнатам за мухами и лепились к бревенчатым стенам, выклевывая из щелей тараканов.
Казимир Станиславович наскоро умывался и, шаркая туфлями, бежал на кухню завтракать.
– Как, по-твоему, – спрашивал он свою подругу, – не поставить ли Баяну еще одну жердочку? Или ему так просторнее? А?
Олимпиада Васильевна разливала чай и обычно молчала, а Казимир Станиславович продолжал:
– Дичок что-то заскучал… А как он еще позапрошлую неделю пел! Боже мой… Талант, талант… Не обтянуть ли его клетку полотном? Может быть, он хочет побыть в одиночестве?
– У меня, батюшка, не своя фабрика. Где я наберусь полотна? И так все тряпки перевела, со стола смахнуть нечем.
– Экая ты заноза! И как это язык повертывается такое сказать? Оторви рукав от моей нижней рубашки и выстирай, вот тебе и полотно… Зачем мне рукава? И без рукавов проживу. – Он сиял и заливался заморенным смешком.
– Хорош, хорош, басурман, – горестно взирая на него, качала седеющей головою старуха.
На позывной свист хозяина живо налетали щеглы, снегири, синицы, чечетки; садились ему на плечи, на руки, на голову, сновали по столу, подбирая крошки.
Случалось, под окнами пропитой голос тянул:
– Чинить тазы, ведра, самоварные трубы!..
И – целая беда, если холодный кузнец принимался орудовать где-нибудь поблизости. Казимир Станиславович морщился: яростный грохот молотка и лязг железа оскорбляли нежный слух птиц.
– Степан Перфильев или слободской Горбыль… Не могу я видеть эти пьяные морды. Пойди, Олимпиадушка, дай ему гривенник на похмелье, он и провалится.
Олимпиада Васильевна спроваживала бродячего кузнеца, а заодно прогоняла с тротуара и мальчишек, играющих в бабки или в орлянку.
Последний глоток жиденького кофе, и завтрак окончен.
Дрозд Сударик тянулся с плеча, потом, осмелев, прыгал на подставленный палец и принимался быстро выбирать из усов хозяина хлебные крошки. Казимир Станиславович прихватывал лапку другим пальцем и так, на руке, уносил Сударика в комнаты.
В суете и хлопотах летели дни, годы…
Старик кормил и купал птиц, подстригал сломанные и искривленные коготки, чистил клетки, устраивал свадьбы, с перышка кормил птенцов желтком и тертой, выдержанной в молоке репой, к старым певцам для выучки подсаживал молодых, гонял по саду злейших своих врагов – кошек.
Однажды Олимпиада Васильевна вернулась с базара в большой тревоге:
– Батюшки-светы мои… Немцы нам войну объявили!
– Отстань, старая, всегда ты с пустяками, – отмахнулся раздраженный Казимир Станиславович. – Несчастье: у Светланы судороги ног и палец нарывает, должно быть, заноза. Оберни-ка у ней жердочку сукнецом… Черный дрозд заболел: второй день не ест, не пьет. Бузины надо… Или наловила бы ты мне пауков да мокриц – при запорах помогает.
– Где я тебе их наловлю? Я – не воробей.
– Ну купи миндального маслица. Настою в масле мучных червей и покормлю дрозда. Авось…
– Хорош, хорош, басурман.
Железной поступью прошла война, грянула революция, в городе не раз сменялись власти. Казимир Станиславович знать ничего не хотел. Блаженствуя, слушал своих певцов, радовался ихними радостями и печалился ихнею печалью. Прекратили выдачу пенсии. Казимир Станиславович встретил эту весть равнодушно. Частенько, кротко улыбаясь и заглядывая своей старушке в добрые глаза, он говорил:
– Олимпиадушка, зачем тебе подвенечное платье? Если я и протяну ноги, так замуж тебе не выходить. Лучше меня не найдешь. – И он седым усом шаловливо щекотал ее морщинистую шею. – Зачем нам перина, сундуки, какие-то вазы, сковородки? Последний раз ты пекла блины года три назад, когда Перун из-за ревности выклюнул глаз Заливистому… Заливистый… Как он пел… Как щелкал… Какие трели, и раскат, и дробь пускал… Господи! – Он стонал и смахивал со щеки мутную слезинку. – Нет, нет… Таких соловьев больше нет, нет и не будет… Зачем тебе ковровый платок? Не молоденькая. Зачем обручальное кольцо? Зачем нам стулья? Проживем и без стульев.
Старьевщикам за бесценок пошла всякая всячина. Сами жили кое-как и кормились кое-чем, спали на полу на каких-то лохмотьях, но птицы по-прежнему ни в чем не знали недостатка: кормушки их были полны, клетки вычищены, сквозь акации блистало солнце.
Многотысячная армия обложила город.
Всю эту ночь Казимиру Станиславовичу снились кошки.
– Гром, что ли? – спросил он, выглядывая в кухонное окно.
– Хорош, хорош, басурман, из ума выжил… Какой тебе гром? Из пушек палят.
– Кто палит? Из каких пушек?
– Да ну тебя… – махнула рукой Олимпиада Васильевна и побежала к соседке занять муки на подболтку.
Казимир Станиславович копался в саду – червей искал, – когда в дом ударил снаряд: в туче пыли проблеснул желтый огонь, и в один миг ветхое строение было охвачено пламенем. Отброшенный силою взрыва в лопухи и репейник, старик смотрел на горящий дом в оцепенении и не в силах был двинуть ни рукой, ни ногой…
Из Туречины
Казак Загинайло, дослужившийся за войну до чина подхорунжего, щелкал себя по щегольскому сапогу плетью и бойко рассказывал о своем побеге из турецкого плена:
– …Иду неделю, иду вторую, иду голодный… Горы, снега, все тропы и дороги позаметало, позамело. Иду. Орудия бухают. Ну, думаю, фронт недалече. Сердце радостью облилось. Иду. А ноги уж и не шагают. В ущелье речка гремит, над речкой аул. И до чего мне кушать захотелось, ну, крутит кишки, как клещами. Пропадать – так пропадать, что будет, а глядишь, чего и пожевать достану. Дождался ночи, спускаюсь… Ни огонька, ни визгу… Захожу в саклю – пусто, в другую – пусто. Весь аул облазил – и, вот тебе, ни живой души, ни крохточки хлеба. Разложил огонек, и так чего-то мне неудобно. Дай переобуюсь. Не тут-то было, вмерзли ноги в сапоги, хоть отруби да выкинь. Сидеть у огня, думаю, не годится. А пушки ну совсем близко грохочут. Мне умирать не любопытно. Мне любопытно на родину возвернуться. Помолился пресвятой богородице и кое-кому из самых главных угодников – и ходу. Иду. Стоит под луной гора крута да высока, – поглядеть, заломя голову, – и втемяшилось мне забраться на нее. Оттуда, смекаю, и позицию, и свой курень на Кубани увижу: така высоченна гора. Лез-лез, лез-лез, снега подо мной подломились, гу-гу, обвал… Закружило, завертело меня и обратно под аул в речку кинуло. Вылез, отряхнулся, как пудель, руки в крови, морда в крови, а на коленках и локтях мясо до мослов ободрано. Что тут будешь делать? Посушил на ветру лохмотья и опять на гору… Лез-лез, лез-лез, снова дрогнули снега, и снова меня в речку совлекло. Хоть плачь, хоть смейся. Больше суток я на ту проклятую гору царапался и все-таки влез, влез на самую вершину… Мать честная! Вот они, шагнуть раз, турецкие окопы. Под горой, чуть видно, наша позиция. На турок мне глядеть не любопытно, любопытно мне, как бы поскорее к своим. Поднимаюсь во весь рост и кричу: «Братцы!» А до братцев верст пяток с гаком, где ж там услышать? Турки загалдели и ко мне. Шалишь, кардаш, теперь я научился с гор кататься. Перекрестился, подвернул под себя потуже полы шинели и в свою сторону с обрыва – бух! Крики, стрельба, снежная пыль надо мной столбом. Как летел до своих окопов, не помню. Очнулся аж в тифлисском лазарете…
– Лихо.
– Бог не без милости, казак не без счастья.
– И язык турецкий вы, господин подхорунжий, изучили? – скроив почтительную мину, спросил Захар Догоняй.
– Не так чтобы очень, разве выпросить или купить чего, а украсть и так можно.
Слушатели дружно рассмеялись.
Побратимы
Они встретились в Кронштадте, на Якорной площади.
Арсений говорил скорую речь среди многотысячной волнующейся толпы моряков, солдат и портовых рабочих. Военный моряк французской службы Шарль Дюмон, что выделялся в толпе своей шапочкой с красным помпоном на макушке, слушал русского моряка с волнением: молодое, смуглого румянца лицо его было оживлено, осененные длинными ресницами глаза сияли.
Дружные крики «Правильно! Правильно!» и хлопки жестких ладоней перекрыли последние слова оратора. Шарль протискался к нему и принялся энергично трясти точно из чугуна литую лапу русского моряка:
– Bravo, bravo, camarade! (Браво, браво, товарищ!)
– Bonjour, mon vieux. Comment que зa va? (Добрый день, приятель! Как дела?) – приветливо спросил и Арсений. Он, моряк старой службы, знал с сотню иностранных слов, которых ему за глаза хватало для любого разговора.
Прогуливаясь по Набережной, они переговорили обо всем на свете – о русской революции и о суточном порционе, о грядущем мире и подводных лодках, о последних волнениях во французской армии и о портовых девчонках: где-то в Алжире и Марселе у них нашлись общие приятельницы, чему оба немало смеялись.
Арсений повел гостя на свой крейсер, где Шарля все привело в восхищенье: и то, что все вредные офицеры казнены или списаны на берег; и то, что на корабле самими моряками поддерживается образцовый порядок; и то, что рядовые моряки живут на равную ногу с оставшимися лицами командного состава, едят из одного котла и курят одинаковый табак. Шарль Дюмон не захотел возвращаться на свой корабль. Арсений принес ему из вещевой баталерки комплект обмундирования и подарил отличного боя маузер.
Они подружились.
Всюду их видели вместе – и на митингах, и на вечеринках, и в театре, и на лекциях, и на бурных заседаниях кронштадтского Совета. Шарль рьяно изучал язык революционной страны.
В июльские дни они вместе маршировали по Невскому, на митинге слушали Ленина, перед особняком Кшесинской присягали на верность революции. Вместе они участвовали в штурме Зимнего дворца, вместе в конце семнадцатого года с одним из первых красногвардейских отрядов отправились и на фронт; всю зиму они вместе мыкались на бронепоезде по Украине и Дону, сражаясь с разномастными бандами контрреволюции. Под Ростовом бронепоезд был спущен под откос, а Арсений тяжело контужен.
Потрепанный отряд балтийцев отозвали в Харьков на переформирование; Арсений, прихватив с собой друга, уехал на поправку к себе в деревню, под Пензу, где у него еще живы были старики.
Дело близилось к весне.
Арсений быстро поправлялся и уже стал похаживать в сельсовет, наводя там порядки, а Шарль с жаром доучивался русскому языку у деревенских девок и частенько возвращался домой под утро.
Весною восемнадцатого года на защиту контрреволюции выступил чехословацкий корпус. По городам и селам зашевелилось воронье, по всему Поволжью забушевали грозы восстаний. Оба моряка пристали к проходившему мимо партизанскому отряду.
С отрядом, принимая бои, они упятились к Волге, сдали Сызрань, отступили до Самары.
По реке Самарке стлался предрассветный туман.
Нарытые по окраине города окопы были полны спящих людей: спали вымотанные последними боями латыши и матросы; спали лишь накануне прибывшие татары уфимской дружины. По дворам и домам, примыкавшим к фронту, сморенные смертельной усталостью и только что смененные с позиций, спали бойцы самарской дружины коммунистов; успокоенные обманчивой тишиной, беспечно спали в своих норах секреты и заставы.
Вдруг у самых окопов – осторожное дыхание паровоза…
Зарывшись в солому и посапывая, спал Шарль. У него в ногах, засунув рукав в рукав и обняв карабин, сидя, спал Арсений. Сознание его было заткано паутиной каких-то летучих, тревожных снов… Вдруг сердце-вещун: тук-тук… Арсений кулаком протер глаза и, выглянув из окопа, ахнул.
– Чехи, – крикнул он, выдергивая из-за пояса бомбу, – братва, чехи!
Через мост осторожно переползал неприятельский поезд – паровоз и несколько открытых платформ с установленными на них пулеметами и двумя орудиями. Под прикрытием поезда мост перебегали густые цепи чехов в своих шапочках пирожками.
В окопах зашевелились.
В следующее мгновение тишина июньского утра была разодрана залпами.
Весть о неприятеле искрой просверкнула по всей линии фронта от завокзальных позиций до косы, образуемой слиянием Волги и Самарки.
Взыграла паника.
Из окопов выпрыгивали и бежали сломя голову оробевшие, увлекая за собой отважных.
Минута, другая – и с угла Заводской и Уральской улиц, по квадратам кварталов, чехи стали быстро распространяться по городу. На подмогу им из темных щелей вылезли лабазники, эсерствующие юнцы, черная сотня и офицеры подпольной организации.
Защищались дружинники, захваченные в клубе коммунистов; защищался штаб охраны; на улицах защищались отдельные герои, но участь города была уже решена. Забросанный гранатами, сдался клуб коммунистов, и уцелевших защитников его рыжебородый Масленников вывел на улицу под белым флагом.
Волна террора обрушилась на город.
Захваченных в плен бойцов пачками расстреливали на косе, у плашкоутного моста, у вокзала, в Запанской слободке; топили в Волге и Самарке, вылавливали по дворам и предавали самосуду.
Моряки – человек пятнадцать – отходили по улице, отстреливаясь. Как вода, напоровшись на камень, разбивается на обе стороны, так и моряки разбились, наткнувшись на дом, из окон и с крыши которого по ним загремели выстрелы. Двое остались на мостовой, посредине улицы; пулеметчик Аксютин был застрелен в подъезде каким-то мальчишкой-гимназистом; еще один растянулся, уронив голову на порог чужого дома; Шарль был схвачен дворниками, остальные бросились врассыпную.
Арсений забежал во двор – кучка падких до зрелищ полураздетых обывателей расступилась пред матросом, что в три прыжка перемахнул двор и нырнул в пролом в заборе. Перебежал еще двор, с маху на руках перекинулся еще через забор, под его коваными сапогами прогремела железная крыша, под ним оборвалась водосточная труба. Он упал куда-то в сад, прямо в сиреневый куст, в кровь испоров руки. Перелез еще через один, усаженный гвоздями, забор, оглядевшись, нырнул в дровяной сарай и – задыхающийся от волнения и быстрого бега – упал на дрова.
Все было кончено, бежать было некуда… Бомбы все до одной раскиданы; приклад карабина расколот пулей; не могли больше сослужить службы кольт и наган, патроны из которых были расстреляны, расстреляны все до последнего. Перебрав скороговоркой всех божьих угодников и святителей до семьдесят седьмого колена, моряк закурил… Но напрасно он думал, что оторвался от преследователей, – его искали, искали и в саду, и по дворам, и по всем норам. Вот он заслышал лающие голоса, звон шпор, топот многих ног… Затоптал окурок и, схватив березовое полешко, – с сердцем, бьющимся в самом горле, – встал за дверной косяк… Идут, прошли… Но один – судьбы подарок! – завернул в дровяник и у самой двери рухнул, сраженный поленом.
Через несколько минут, одетый в длинную, до пят, офицерскую шинель, Арсений вышел на улицу и замешался в толпу.Город ликовал.
Над городом полыхал праздничный перезвон церковных колоколов, улицы были полны разряженными лавочниками, с балконов на победителей сыпались цветы и крики приветствий, гремели военные оркестры. При большевиках памятник Александру II был задрапирован досками. Чьи-то руки уже сдирали эти доски, и чьи-то лбы уже стукались о гранитный пьедестал «царя-освободителя», а там, на окраинах, еще шла расправа с побежденными.
Арсений шел как пьяный. Жажда мести разъедала его сердце.
Привлеченный криками мальчишек: «Ведут, ведут!» – он остановился. По дороге, окруженная кольцом конвоя, двигалась партия пленных, среди которых он сразу узнал дружка: обрадовался, чуть не крикнул, но сдержался и, втянув голову в плечи, упятился на тротуар, за спины других. Шарль шагал, потупив залитое кровью лицо, Арсений без думы пошел следом.
Арестованных ввели в дом, у подъезда которого размашисто мелом было написано: «Управление коменданта города».
Решение созрело мгновенно.
Арсений – мимо часового – вошел вслед за арестованными в просторный зал. Комендант города, в перевитых двухцветной ленточкой погонах полковника, сидел за столом перед зеркальцем и брился, Арсений, четко отбивая шаг, подошел к столу и принял под козырек:
– Поручик триста девятого Овручского пехотного полка… Честь имею, господин полковник, явиться в ваше распоряжение…
Полковник, не прекращая своего занятия, скосил глаза и внимательно осмотрел стоящего перед ним человека в офицерской шинели, из-под воротника которой выбивался ворот матросской форменки.
– Ваши документы?
Арсений подал истертый на сгибах послужной список, из которого явствовало, что он действительно является поручиком 309-го Овручского пехотного полка Андреем Владимировичем Озеровым, награжденным двумя Георгиевскими крестами и уволенным со службы по демобилизации.
Полковник отер носовым платком чисто выскобленное лицо и подал руку.
– Очень рад. Садитесь.
Арсений сел в кресло.
– Вы, господин поручик, и в русском флоте служили? – неожиданно спросил полковник, не сводя с него светлых, холодных глаз.
– Нет, не служил.
– А это что за маскарад? – И он, перегнувшись через стол, вытянул у него из-под шинели ворот форменки.
Арсений заправил ворот обратно и спокойно ответил:
– При большевиках, господин полковник, всяко приходилось одеваться…
– Да, да, конечно, – согласился полковник и, сказав несколько фраз об изуверстве тевтонского племени, о кровожадности большевиков и о единстве задач, стоящих перед славянами, протянул руку: – Завтра, поручик, в нашем штабе вы получите назначение в действующую часть.
Арсений козырнул и пошел было к выходу, но, увидев прижатых в угол пленных, отшатнулся и повернул обратно к полковнику:
– Господин полковник… здесь… негодяй!..
– Что такое?
– Вашими солдатами задержан мерзавец, казнивший мою мать и сестру.
– Который?
Арсений подошел к кучке арестованных и грубо, за руку выдернул Шарля.
– Вот он!
– Не извольте, господин поручик, беспокоиться. Я прикажу немедленно расстрелять его, здесь же, во дворе.
– О нет… На могиле матери я поклялся… Позвольте мне самому с ним расправиться! – И Арсений выхватил из кармана пустой кольт.
Полковник любезно согласился.
Арсений залепил другу по скуле так, что тот пролетел через весь зал и тяжестью своего тела распахнул дверь во двор. Арсений быстро выскочил за ним и, награждая его тумаками, повел куда-то в глубину двора.Через полчаса они уже сидели на набережной в шумном трактире, пили чай и обсуждали план дальнейших действий. Убежать из города было не так-то просто: на все дороги и тропы были выставлены заставы, всюду шныряли военные патрули, проверяющие у всех подозрительных документы. В том же трактире они познакомились с кочегарами буксирного пароходишка «Сатурн». Арсений, решив сыграть ва-банк, открылся кочегарам во всем.
Ночевали дружки в трюме «Сатурна».
В трюме они сидели три недели, не высовывая носа на белый свет.
Но вот капитан «Сатурна» получил приказание чешского командования доставить на фронт две баржи с патронами и снарядами.
Отправились в поход.
В ночь с первого на второе июля под Хвалынском, пройдя полным ходом линию фронта, транспорт «Сатурн» – под красным флагом – выплыл к советским берегам, где и был встречен с почестями. Красная Армия нуждалась и в пароходах, и в патронах, и в снарядах, а еще более – в верных революции людях!Филькина карьера
Фильке Великанову под двадцать. За унылый рост и редкий голосок в слободке его прозвали Японцем.
Филька пылен, дробен, костляв как чехоня, рыло с узелок. С малых лет в работу втянут. Сезоны с отцом малярничал. Две зимы в приходской школе голыми пятками сверкал. Выгнали за озорство. С отцом дружба врозь. Убежал Филька из дому и нанялся в столярную мастерскую Рытова. Вскоре хозяин на своих же именинах опился политурой. Филька, имея беспокойство в сердце и трещину в кармане, укатил с эшелоном сибиряков под Перемышль, Крево, Молодечно. Команда разведчиков, тах-тарарах, и с копыт Филька долой. В лазарете выпилили ему ребро и отпустили с военной службы по чистой. Ду-ду-у, пригрохал домой:
– Здорово, тятя.
Отец гнил заживо за печкой, в гнезде вонючего тряпья. Слушал-слушал Филька охи отцовские, тоска проняла. Купил мышьяку для крыс, самогонки банку:
– Пей, тятя, поправляйся.
Много ли слабому человеку надо? Дня через три схоронил Филька отца, распушил сундуки, купил гармонь. В синей суконной поддевочке нараспашку, в лакировках вышел к воротам на скамейку. Развел гармонь, колокольчиками тряхнул.
Пришла послушать бойкая солдатка Дарья, да и осталась, поворотила к Фильке свои милости обильные. Притащила узел с добром, швейную машину.
Дьяк-расстрига Ларионыч встретил Фильку на улице и говорит:
– Как я заведую подотделом вероисповедания и как помню твоего батюшку…
На другой день приоделся Филька, нацепил крест Георгиевский и – в исполком. Ларионыч своей рукой прошенье вычурил, нашептал что-то Фильке на ухо, и вдвоем шасть в исполком к на́большему:
– Вот-с, товарищ Старчаков, глубокоуважаемый председатель, познакомьтесь… Сын трудового ремесленника, увечный воин, желает послужить народу, и подчерк подходящий.
Старчаков взглянул на почерк, на Георгия, на жидкую Филькину рожицу в паутине мелкого волоса.
– Инструктором можешь быть?
– Так точно, могу.
Резолюция стрельнула по прошению с угла на угол:
«Зачислить в штат разъездных инструкторов с 5/XI.1918, испытание срок две недели».
Пути-дороженьки расейские, ни конца вам нет, ни краю… Ходить не исходить, радоваться не нарадоваться. Заворожили вы сердце мое бродяжье, юное, как огонь. Приплясывая, бежит сердце в дали радошные, омывают его воды русских рек и морей, ветры сердцу песни поют. Любы мне и светлые кольца веселых озер, и развалы ленивых степей, и задумчивая прохлада темных лесов, и поля, пылающие ржаными пожарами. Любы зимы, перекрытые лютыми морозами, любы и весны, разматывающие яростные шелка. И когда-нибудь у придорожного костра, слушая цветную русскую песню, легко встречу свой последний смертный час.
Ямская пара крыла накатанный большак. В просторах стыл извечный расейский колокольчик. Филька кутался в реквизированный, выданный на поездку, тулуп, поминутно щупал под собой брезентовый портфель, туго набитый инструкциями, и бойко расспрашивал ямщика Петухова:
– И муки достать можно? А картошка почем? Молоко топленое тоже страх люблю… Чехи – они гады, всех их передушить придется, чтоб не приключилось с нами новой чепухи.
Ямщик спал и всю дорогу тянул:
– Ууууу… Ээээээ… Ууууу… Ыыыыыы…
На ухабах тыкался ямщик носом в щиток, встряхивался и разбирал вожжи:
– Ну, вы, треклятые…
Потом закуривал самодельную трубочку и, привстав, указывал кнутовищем:
– Вон, во-во-ооон пошли…
– Где? Чего?
От островка леса цепочкой трусили серые. Тоненько лил льдистый ветер. Белесые дали были безлики.
– Зверья развелось больше, чем скотины. На днях у тестя на калде корову сожрали, одну требуху оставили…
В исполкоме председатель с секретарем рылись в делах, чадила плошка-сальник, по полу валялись мужики – курили, батыжничали.
Филька вошел и окостенелым языком еле выворотил:
– Аяй, холодно у вас, насилу доехали.
Веселый голос из угла:
– У нас холодно, а у вас аль хрухта пушится?.. Н-да, он, этот мороз-от, сопли высушит.
Инструктор валенки у порога обивал. Мужичьи голоса в полутьме бубнили глухо, ровно ботала в ночном:
– С ковкой беда, жестель.
– Ковка ноне чего, и не говори…
– Ваш мандат, товарищ?
И еще кто-то вошел, крепко хлопнув дверью.
Огонек в плошке дернулся и сгиб. Разживляли-разживляли, не тут-то было, сало выгорело. Филька тревожно щупал одубевший нос, в темноте жал руку председателю:
– Собранье вот общее, согласно инструкции, да сала гусиного где бы раздобыть…
– Сала мы достанем, а насчет собранья надо подумать…
В дегтярной черноте загалдели:
– Чего тут думать на ночь глядя? Али останный час живем, дня не будет?
– Ништо… Выпча глаза… Не выгонка в самом деле.
– Товарищ, а товарищ, такое слово есть – глашатай – к чему оно?.. Весь вечер жуем не разжуем…
Ночевал Филька у попа.
Покладистый да разговорчивый поп о. Ксенофонт шелковую бороду на палец навивал, ложечкой в стакане играл, бережненько вопросами обкладывал:
– Что в городе нового да как Англия с Францией?
Филька усердно уминал блинчики, ватрушки, крендельки – протрясся с утра, а дорожный паек Дарье оставил: ведь любовь не хвост собачий. Булочки, варакушки хропал, пальцем рассеянно по столу водил:
– Европа, она что ж?.. Европа, она – сука, извините, с буржуазией заодно… Обязательно ее бить придется, иначе останемся мы при пиковом интересе.
Петухи давно отславили, морозные узоры светлели на окне, а Филька все вникал в инструкции, но туго. Азартно скреб под мышками, зло разбирало, и зачем эти европейские слова понатыканы? Черт об них клыки раскрошит… Когда в комнатушку вошла поповна звать гостя к чаю, Филька спал за столом, уронив голову на непонятные бумаги.
Утром сбили сход.
Всем селом целый день въедались в инструкции и плутали в кривотолках. Филькин обмороженный, вздутый нос вызывал у мужиков смех. Спасибо председателю Аверькину – от него инструктор узнал, как кандидатов выбирать, как давать высказываться, как голоса совать. Его неокрепший, мальчишеский голос тонул в гаме:
– Товарищи крестьяне, товарищи, прошу слова…
За четыре дня раскатил Филька у попа яиц сотню, расплатился по твердым ценам, поехал в Докукино, Мордвиново и так далее…
В город Филька воротился в нагрузе. Из саней в избу обрадованная Дарья таскала мешки и мешочки, свертки и сверточки. Сам отгонял глазевших баб и мальчишек:
– Проходи, граждане, проходи, не выворачивай буркалы, узоров тут мало.
Чайничали втроем.
Филька приветливо угощал подводчика:
– Кушай, товарищ, не бойся, сыр из немецких колонок… Советская власть, она… Теперь у нас дело пойдет…
Мужик поглядывал на привязанную под окнами лошадь и почтительно дул в блюдечко.
– Есть у нас на Мамычевых хуторах мельница немудряща… Да-а… Работала наша мельница нефтой, до старого режима работала. Оно, по нынешним временам, к примеру сказать, поглядеть на ту нефту, и то нету… Да-а… Вот, товарищ, о чем я тебя хотел просить…
– Загляни, любезный, через недельку, поговорим.
Умылся Филька, переоделся и вышел на улицу. У исполкомовского подвхода догнал его Ларионыч.
– Привез?
– Чего?
– Брось дурака валять, али не знаешь чего?
– Святой водички, что ли?.. Нет, Ларионыч, вот те крест, святая икона, нет. Сам капли в рот не брал.
Трудно было поверить Фильке насчет капли-то: рыло облуплено, глаза дурные и голос в багровых трещинах. Ядовитую слюну глотнул дьяк, отрыгнул и плюнул инструктору на новый валенок:
– Не совслужащий ты, а подлец. Порадел, как сыну родному, а ты саботажем платишь? Тьфу, собачья огрыза. Тьфу, сукин ты сын. Тьфу, анафема…
Уперев глаза в исполкомовскую дверь, уклеенную обязательными постановлениями, Филька отслушал молча и, понурый, полез в организационно-инструкторский отдел. Заву отрапортовал:
– Прибытие мое благополучно, поездка увенчана успехом, а что касается Ларионыча, словам его веры не давайте, вышло у нас семейное недоразумение, и беспременно возымеет он желание меня съесть.
Зав направил его к секретарю, а секретарь и припер:
– Представьте доклад в письменной форме на предмет отчетности.
Филька и так и сяк, но не отвертелся. В секретарской папке, жирно залитой чернилами, вчитался в чужие доклады «на предмет образца» и живой солдатской смекалкой сразу вник.
Дома похмелился Филька последней бутылкой и, выгнав Дарью, здраво рассуждая, что при серьезном деле баба – болона, навалился на доклад. С пятницы, с обеда, и до понедельника не вставал с табуретки, писал Филька доклад, хмурился и ругался. Жена ночевала по соседям и не раз с плачем стучалась в дверь:
– Отопри, ирод, от людей-то срамота.
– Уйди.
– Дьявол, изба-то кой день не топлена.
– Уйди, холера, не тревожь.
Глотая слезы, Дарья уходила, причитая на всю улицу:
– Господи-батюшка, и за что ты накачал на мою шею такого дурака?.. И как я с ним буду век свой вековать?
Два карандаша исписал Филька. Утрясся доклад в пятьдесят страниц с гаком, вот косточки доклада:...
ДОКЛАД В КРАДЦАХ
«Вот начинаю писать.
Первый параграф прибытия моего приезда в савецкое село Растяпино того же уезда и волости, где пришлось мне сделать внушение, все бурно кричали долой, где и перевыбран председателем Совета Семен Карнаухов, он хотя и зажиточный, но мужик добродушный, за власть стоит обеими ногами, что и затвердило общество.
Второй параграф посыпался на меня ряд вопросов по отделению церкви и пришлось мне создать вероисповедание, а еще был таков вопрос почему на престольный праздник исполком был пьян в полном составе: слух ни на чем не основан. А еще допросил о действиях исполкома за утекший срок стоит ли на платформе совецкой власти и трудового пролетариата да стоит. На подначку я выбросил лозунг ура возражений не было и все мирно разошлись по домам. Хорошо поужинав улекся я спать на чем и закончился второй параграф текущего дня.
Третий параграф на утро хорошо позавтракав и забрав портфель иду на митинг по крестьянски сказать на сходку где все бурно кричали долой. Я поинтересовался из-за чего такая ярманка. Один старик все крики согласно инструкции по перевыборам в комбед, куда имеет страсть прорваться сапожник Дукмасов этот каковой номер ему не проходит все против, а из за чего против? На каком то празднике настоящий Дукмасов всенародно и откровенно поносил божественную силу, а также избил мать родную за религиозные предубеждения, и простой народ от него всецело откачнулся, и вдруг один говорит чего я не мог хладнокровно слушать. «У нас в порядке дня вопрос серьезного разрешения о контрибуции и выборах комбеда в котором мативируется к руководству взыскать к 1 декабря с капитал-кулаков, капитал-спекулянтов и так далее, принимая во внимание, что капитал-буржуазии у нас нет, а о. Ксенофонт бедного состояния – отказать во всей сумме также всем обществом, согласно свободных голосов огромного большинства населения, наотрез отказываемся от комитета бедноты, нужды в каковом не испытываем». Испросив себе своего законного слова я говорю без контрибуции невозможно и без комбеда обратно невозможно раз по всем городам и деревням русским кроет контрибуция и комбеды, невозможно чтоб Растяпино было на отличку. Крупный завернулся спор, где и пришлось выбрать председателем честь и гордость славный красармееца Лаврухина, секлетарем к нему означенного сапожника фамилье не упомню. С пением похоронного марша разошлись мы миролюбиво по домам, а еще такая штука согласно постановления президиума проживал я у попа и за все съедено-выпито уплачено по твердым ценам о чем можете справиться по почте или телеграфу. Хорошо поужинав уснул я как удавленый.
Четвертый параграф потребовал лошадей получше и пришлось мне уехать в Докукино неизвестной волости, где меня приветливо и добродушно встретили честь и слава краса и гордость прекрасный товарищ Савоськин да знакомый крестьянин из простонародья Яков Карягин кулугурского вероисповедания. Повели меня вновь народный дом под заглавием Улыбка Свободы или театр деревенского развлечения с безплатным входом, где повстречался в пьяном виде продагент печальный товарищ Синичкин и начал проверять мандат, на каковом основании нанес мне политические побои горько и обидно арестовал меня. Я как солдат врешь думаю не поддамся и заарестовал его шкурника позорящего под корень нашу драгоценную власть. По заявлению населения, сей коварный товарищ жизнь ведет распутную, пьянствует день и ночь, и в порыве бешеного разгула ходит по селу с растегнутой ширинкой и громогласно требует прекрасный пол, чем крестьяне ужасно возмущены.
Пятый параграф прихватив с собой милиционера Козобоева пошел я с обыском к кулугуру товарищу Карягину где после тщетных усилий нашел я ведро кумышки, нашел в печке загримировано заслонкой. Сын Карягина, имя не упомню, – рассказал в старом кооперативе открылся вновь народный дом, а старики поголовно против и ночью взломав дверь залезли в вышеозначенный нардом, ободрали шпалеры, лавки переломали все до одной, громофон топором посекли и девок актерок тоесть актрис черезо всю деревню нехорошими словами величают. Все кулугуры и безразлично молокане не обращая внимания на советскую власть крепко за бога господа держутся, а вчера, чтобы умилостивить стариков сажали их в первый ряд на мяхкие стулья, артистам на сцене было запрещено целоваться, а что будет не знай.
Шестой параграф старик Карягин клялся божился будто пожертвовал в нардом на вывеску старую дойницу и кумышку накурил на торжественное употребление по случаю женитьбы меньшака. Не откладывая устроили мы с Козобоевым вдвоем собрание и вдвоем порешили передать кумышку в исполком под расписку, посуда не виновата, посуду воротить хозяину, наглядевшись на его мученические слезы на первый раз вину простить, а в нарсуд передать уголовное дознание о подломе замка в нардоме.
Седьмой параграф собираются по избам мужики и от скуки ругаются матом. Я к ним с инструкциями они и меня матом. Их нельзя наслаждать одними инструкциями, нужны гвозди, соль, керосин и так далее. Бабы ходят по деревне и ругаются матом. Мальчишки бегают по деревне и ругаются матом. Да здравствует нардом, в котором днем ребятишки учутся плохо дров нет, а село степное к примеру кнутника взять негде, воровать казенный лес крестьяне не подписываются и учитель хочет наниматься в больницу фельдшером, который голубятник упал с крыши и разбился вдребезги.
Восьмой параграф в школе ох какая картина, окна паутиной подернуло, двери выломаны и даже убитого гражданина мешочника подкинули в ту школу тоесть в учелеще. Продагента печального товарища Ласточкина не довелось мне еще раз увидать и внушить, а чека обязана взять его на заметку за обидное отношение к ответственным работникам.
Девятый параграф доношу в тот же день в деревне Кузькиной состоялся чемпион – китанический бой побоище. И старики и молодежь дрались полюбя, но горячка возвышалась до кольев и поленьев побитых и покалеченных множество. Спрашиваю из-за чего увечите друг дружку, с плачем отвечают обычай у нас милый человек такой не нами заведен не нами и кончится. А я так думаю от темноты это на них наслано, головы у них деревенские и выходит что деревенский дурак во сто раз дурее городского потому что хотя бои и в городе случаются, но когда наши слободские режут терзают и всячески убивают соплевских или дубровских ребят, это уже будет не бой, а драка каковая и при старом режиме каралась всеми статьями уголовного закона. Прошу и низко кланяюсь нашему честь и слава хвала и гордость товарищу Старчакову громыхнуть декретом в трезвом виде драки тяжелыми предметами запрещаются. Время я провел в деревне очень весело и множество народа как мужиков так и баб высыпало на улицу провожать меня и по моей просьбе хором спели похоронный марш в честь моего отъезда, а также провожая меня народ кричал ура ура…
Десятый параграф дорываясь заехать в коммуну графа Орла Давыдова до нитки разграбленную неизвестными личностями, к великой жалости мне проведать не удалось и дурак ямщик с пьяных глаз завез меня в деревню Пустосвятовку с мордовским народонаселением бедного состояния и пришлось мне собрать сход. Есть у вас совет? Нету. Есть комбед? Тоже самое нету. Чего же у вас есть? спрашиваю. Ничего товарищ нет, мякину пополам с дубовой корой едим, на пять дворов одна лошаденка осталась, голодная тоска задавила нас.
Одиннадцатый параграф и пришлось мне собрать всех грамотных человек шесть на всю деревню и выбрал я из них председателя и секретаря, остальных членами назначил и объявил о присоединении ихой деревни к советской России. Бабы давай плакать, мужики креститься, а председатель солдат Судбищин закрутил ус смеется не робей православные помирать так всем вместе и открытым голосованием на месте порешили переназвать в мою честь Пустосвятовку деревню в Великановку.
Двенадцатый параграф тогда пришлось мне тряхнуть портфелем и вытащить инструкцию о комбеде…»
Дальше больше, лопатой не провернешь!
Напрасно старался Филька, напрасно пот точил, не вставая с табуретки с пятницы до понедельника.
Горько и обидно вытряхнули Фильку из инструкторского тулупа, на краткосрочные курсы сунули; три месяца, даром что краткосрочные, а тут день дорог – распалится сердце, в день сколько можно дел наделать… Не понравились Фильке курсы: чепуха, а не курсы.
Умырнул Филька в милицию.
В степи
Партизанский отряд матроса Рогачева замирил восставших казаков Ейского отдела и возвращался ко дворам. Дотошные разведчики пронюхали, будто в недалекой станице в старой казенке хранятся запасы водки.
Весть мигом облетела ночевавший в степи отряд.
Самовольно собрался митинг.
Рогачев, гарцуя на коне в гуще партизан, кричал:
– Ребята, контрики подсовывают нам отраву! Долой белокопытых! Напьемся – быть нам перебитыми! Не напьемся – завтра будем дома! Кто за бутылку готов продать совесть и свою драгоценную жизнь? Долой прихлебателей царизма! Я, ваш выборный командир, приказываю не поддаваться на провокацию! Казенку надо сжечь, водку выпустить в речку!
– Правильно, – подпрыгнул корноухий вихрастый мальчишка и завертелся на одной ноге.
– Неправильно, – отозвался другой партизан, – чего же ее жечь, не керосин.
– Спалить таку-сяку мать! – взвизгнул пулеметчик Титька.
– Жалко, братцы.
– Яд, – убежденно сказал подслеповатый старичишка Евсей. – Сорок лет пью и чувствую – яд.
– Комиссары сами пьянствуют, а нас одерживают. Суки!
– Верно. Ты, Рогач, на себя оглянись.
Рогачев, происходивший из крестьян станицы Старо-Щербиновской, действительно прославился по Тамани не только незаурядной храбростью, но и разгулом.
– Братцы, – обрадовавшись догадке, заговорил рассудительный печник Нестеренко, – как мы с победой и как мы сознательные, то должны ее, эту треклятую зелью, разбавить водой, чтоб не так в голову ударяла, и с криком «ура» выпить всю до капли.
– Совесть ваша, дядечка, серая, – с сожалением глядя на Нестеренко, сказал вихрастый мальчишка.
Приподнятый над кучкой хуторян рябоватый матрос Васька Галаган махнул бескозыркой:
– Уважаемые, и чего такое вы раскудахтались? Дело яснее плеши. Забрать водку – раз, выдать по бутылке на рыло – два, остатки продать и разделить деньги поровну… Тут и всей нашей смуте крышка.
Командиру удалось настоять лишь на том, чтобы не ходить в станицу всем табуном. Были поданы подводы. Выбранные от рот делегаты, возглавляемые каптенармусом, двинулись в поход.
В томительном ожидании прошел и час и два – посылы не возвращались. На выручку была послана конная разведка. Разведчики, божась страшными божбами, ускакали и тоже пропали.
Солнце покатилось за полдень.
Партизаны загалдели:
– Делегаты называются… Выглохтят все сами.
– Известно, темный народ.
– Товарищи, а не пахнет ли тут изменой? Может, их там перебили давно, а мы тут ворожим?
К возу Рогачева подходили все новые и новые партии партизан, требуя отправки.
Трубач проиграл сбор.
Отряд построился и, выставив охранение, в полном боевом порядке двинулся на станицу.
В станице перед казенкой гудела тысячная толпа. В помещении перепившиеся делегаты горланили песни и плясали гопака. Из распахнутых на улицу окон производилась дешевая распродажа водки. Партизаны всю дорогу уговаривались бить своих выборных, но, дорвавшись до цели, забыли уговор и, сшибая друг друга, кинулись к ящикам.
Гульнули на славу.
Горе подружило Максима с Васькой Галаганом.
Проснулся Максим первым – его испугала тишина, – схватился за пояс: кобуры с наганом не было. Он огляделся… Просторная горница, в окнах зелень и солнце, на столе острыми огнями искрился пустой графин. Рядом, локоть в локоть, спал матрос.
– Э, слышь-ка, – принялся он его расталкивать, – слышь-ка, морячок!
– А! – открыл тот затекшие мутные глаза и сел. – Ты чего?
– Где мы?
– Где ж нам быть, как не у попа?
– У меня наган сперли.
– А? Наган? – Матрос цоп: кольта не было. – О, курвы, срезали!
Дверь скрипнула. В горницу заглянул поп.
– Самоварчик прикажете?
– Где наши? – грозно спросил моряк, спрыгнув с постели и став в боевую позу.
– Ушли.
– Почему не доложил, лярва?
– Будил, не добудился.
– Давно выступили?
– На заре.
– Куда затырил наши самопалы?
– Не ведаю.
– Врешь, лохмач! Вынь да выложь. – Васька уцепил его за бороду. – А также где мой карабин?
– Не ведаю, – еще смиреннее ответил поп, стараясь высвободить бороду. – Вы вчера пришли ко мне пеши и безоружны, из карманов одни бутылки торчали.
– Это хуторские хапнули, больше некому, – сказал Максим. – Они тут свой партизанский отряд собирают, а оружия нехваток… Беда, с голыми руками пропадем ни за понюх табаку.
Васька выдернул из-за голенища бомбу:
– Есть одна.
– Мало.
– Мало? – Матрос свистнул. – Да я тебе с этой самой штукой любой кубанский город завоюю. Лошади есть? – повернулся он к попу. – За лошадей мы заплатим.
– И рад бы услужить, да нету. Жена с работником на хутор за рассадой уехала.
Босая девка внесла кипящий самовар.
– Долой! – приказал матрос. – Некогда чайничать. Прощай, батя, молись угодникам за доброту нашу.
Безоружные партизаны прошли из конца в конец всю улицу в поисках подводы, но подводы им никто не дал. Изрыгая складную, как псалмы, ругань, они покурили за околицей, переобулись и бодро зашагали по пыльной дороге.
Под солнцем курилась степь, свистали суслики, дремали курганы, омываемые полынными ветрами.
– Переложил, – поморщился моряк, – брюхо крутит и крутит.
– С перепою, – знающе сказал Максим. – На кружку кипятку намешай горсть золы и выпей, первое средство.
– Надо попробовать, а то несет меня, как волка. Вскакиваю ночью, сортир не знаю где, забегаю в чулан, вижу, на гвозде поповы праздничные сапоги висят… Ну, в один я напорол с верхом, а в другой не хватило.
Оба заржали так, что пахавший за версту мужик остановил лошадь и перекрестился. Подошли, поздоровались.
– Будь добрым человеком, дай воды.
– Угорели? Пойдемте на стан, угощу.
На стану, спрятавшись от жары под телегу, пуская сладкую слюну, спала дряхлая репьястая собака.
– Што за люди будете и далече ль путь держите? – спросил мужик, оглядывая гостей.
– От полка отстали, – сказал Максим. – Не видал, не проезжали?
– Какой, дозвольте узнать, партии будете? По разговору, похоже, свои, кубанцы?
– Мы свои в доску, – ответил матрос. – У меня отец кубанец, дед кубанец, и сам я тут в окрестностях безвыездно сорок лет живу.
– Та-ак… Полка не видал, а банда у нас гуляет.
– Где?
– Вон хуторок. Вторую неделю стоят.
– Чья банда?
– Шут их разберет. Какие-то полтавские… И с белыми дерутся, и красным спуску не дают.
Васька, скроив престрашную рожу, пропел с пригнуской:
Ох ты, яблочко
Ананасное,
К ногтю белого,
К когтю красного…
– Так, что ли? – спросил он.
– Во, во! – обрадованно просветлел мужик. – В станице потребиловку расчудесили… Сахар, мыло, свечи, керосин – все народу даром роздали, себе только топоры и хомуты забрали. Хорошая банда, народ ублаготворяет.
Распрощались с мужиком и по распаханному полю напрямик поперли к маячившим вдали тополям. За разговорами и не заметили, как вышли к полотну железной дороги. Совсем рядом, около будки, увидали лакированный, с желто-голубым флажком автомобиль.
– Стоп! – зашипел матрос. – Ложись… Штаб ихний или разведка.
Залегли и после короткого совещания, прикрываясь насыпью, поползли вперед.
В Максиме кровь стыла, ноги путались, в груди билось большое – в пуд! – сердце.
– Вася.
– Чшш…
– Вася, погибель наша.
– Отдала родная? – обернул матрос перекошенное злобой лицо. – Замри.
Подлезли ближе.
Васька осмотрел бомбу, вскочил и, подбежав к будке, метнул бомбу в окошко.
Взрыв
треск
пламя
из окна клубами повалил густой дым.
Матрос кинулся к радиатору.
Застучал мотор.
– Вались! – крикнул он Максиму, сам вскочил за руль.
Машина рванула, понеслась в горячем вихре, в кипящей пыли.
Максим от страху и удивления долго не мог ничего выговорить, потом нахлобучил шапку, откинулся на мягком сиденье и захохотал.
– Почихают… Друг, угостил. Почихают!
Галаган, припав к рулю, зорко смотрел на летящую встречь бешеную дорогу. Автомобиль шел ходко, виляя со стороны на сторону.
– Разобьемся?
– Никогда сроду.
– Чего она вихляется? Приструнь ты ее.
– Машина с капризами… Гоночная, фиат.
– Жми.
– Торопимся, как черти на свадьбу. Почихают, говоришь?
– Шарахнул, до горячего, поди, достало.
Догнали старуху. Она сбежала с дороги и нырнула было в канаву. Матрос затормозил, лихо остановил своего трепещущего катуна.
– Бабка, сюда.
Старуха подошла, кланяясь.
– Куда, бабуня, божий цветочек, топаешь?
– Молочка зятю на пашню несу.
– Молоко? – спросил Максим. – Давай.
Он отпил, сколько хотел, матрос докончил и, прищурив лукавый глаз, с напускной строгостью спросил старуху:
– Сколько тебе?
– Да ничего, сынок, кушай на здоровье.
– Ну, на́ горшок.
Начали расспрашивать ее про дорогу. Она, заплетаясь с перепугу, принялась растолковывать:
– Дорожка ваша, родимые, прямым-прямешенька. Будет вам мост, а за мостом Левченков юрт, то бишь не юрт, а греческа плантация… Мост, сыночки, в позапрошлом году от грозы сгорел, нету там никакого моста… Стоит при дороге хата казака нашего Петра Кошкина, сам он еще в холерный год помер, а сыны, толсты лбы, казакуют… Будет вам колодец при дороге…
– Вижу, бабуха, ты врать здорова, – перебил Галаган. – Садись с нами, будешь дорогу показывать.
– Помилосердствуй, касатик. Мати пречистая, зять на пашне дожидается.
– Брось сопеть. – Он сгреб старуху в охапку и подал ее Максиму: – Держи!
Машина, прыгая по ухабам, помчалась. Моряк подкачивал, развивая скорость. Ветер плющил ноздрю, шумел в ушах. По сторонам, подобна играющей реке, стлалась степь. Пыль буйствовала за ними, как дым пожара.
Далеко впереди оба увидали чумацкий обоз и не успели еще ничего сообразить, как испуганные, взвившиеся на дыбы лошади промелькнули рядом и скрылись в крутящейся пыли.
За бугром блеснул церковный крест.
– Станица…
Хаты
улица
куры и утки – в стороны.
Максим крепко держался за борта. Старуха сползла с сиденья на дно кузова и беспрестанно крестилась. Так, на удивленье жителям, прокатили они через станицу.
Машина стлалась, как птица в стремительном лете.
– Стой, дура-голова, – взмолился сомлевший от страха Максим. – Лучше пешком пойдем!
– Ты не беспокойся.
Дорога вильнула…
Машина, мотнувшись, чиркнула лакированным крылом о столб и покатилась мимо дороги прямо по степи.
Моряк к рулю – руль отказал.
– Останови, пожалуйста.
– Черт ее остановит, не кобыла! – Выказывая полную невозмутимость духа, Галаган выпустил руль, закурил и повернулся лицом к Максиму: – Горючее выкачается, сама встанет.
Машину валяло с боку на бок, из-под колес выметывались комья черствой земли.
Пересекли распаханное поле. На меже, упустив лошадей, стоял босой старик. От удивления он не в силах был поднять руки, чтоб перекреститься.
С большого разгона, ухнув, в широком веере брызг перелетели мелкую речушку.
Донесся разорванный собачий лай. Впереди качнулся курган, за курганом шарахнулась потревоженная отара, и навстречу, вырастая в угрозу, начала быстро надвигаться новая станица.
Машина, сбочившись, промызнула по косогору.
Невдалеке, раскинув сухие руки, проплыли кладбищенские кресты.
Под напором силы прущей рушились жердяные изгороди. Плетень был повален с сухим треском.
В передних шинах спустили камеры.
Автомобиль, оставляя рубчатый след на глубоких грядах огорода, замедлил ход и уткнулся мордой в глиняную стену хаты. От резкого толчка из навесной рамы вылетело зеркальное стекло, с Васьки слетела фуражка.
Выпрыгнули оба враз.
Нахлыстанные ветром лица их были черны, а глаза полны дикого блеска.
– Номер! – скрипуче засмеялся матрос.
Из двора в огород заглянула девчонка и, взвизгнув, пропала. Потом появился нечесаный мужик с винтовкой в руках. Увидав автомобиль, он стал в оцепенении.
– Здравствуй, дядя, – миролюбиво сказал Васька.
– Вы, товарищи, или как вас… чего тута?
– Извиняюсь, – сказал Васька и пошел было к хозяину.
– Я тебе, туды-т твою, пальну вот в бритый лоб, сразу всю дурь выбью. – Он принял на изготовку и передернул затвор.
– Не смей! – крикнул Максим и вытянул перед собой руки, точно защищаясь. – Мы не с худом…
– Пошто хату тревожите?
– Извиняюсь, – повторил матрос тоном, полным сожаления. – Я сам своей голове не рад. Приключился с нами полный оборот хаоса. Ты и сам виноват: зачем хату близко к дороге поставил? За нас, между прочим, ты можешь жестоко ответить. Завтра придут полчане и поставят тебя к стенке, а шкурой твоей, ежели догадаются, обтянут барабан.
Максим, видя, что перебранка грозит им бедою, отодвинул речистого друга и, стараясь придать словам мягкость, обратился к хозяину:
– Почтенный, какое вашей станице название будет?
– А вы сами откуда? – попятился тот.
– Мы из города Кокуя, – сказал матрос и разразился похабной приговоркой, такой кудреватой да складной, что по угрюмой роже мужика скользнуло подобие усмешки. Только сейчас он заметил, что гости безоружны, и опустил винтовку.
– Какая у вас, позвольте, в станице власть будет, кадетская или большевицкая?
– Мы сами по себе.
– А все-таки?
– Я из-под Эрзерума недавно вернулся и порядков здешних знать не знаю.
– Какой части?
Фронтовик затверженно назвал номер корпуса, дивизии и своего полка.
– Сто тридцать второго стрелкового? – обрадовался Максим. – Дак, боже ж ты мой, я сам солдат турецких фронтов… Под Мамахутуном полк ваш, ежели помните, резервом к нашему стоял, потом к левому флангу примкнул… Да я ж и комитетского председателя вашего, ну его к черту, давай бог памяти… Серомаха знавал.
Мужик перехватил винтовку в левую руку, а правую – жесткую и корявую, как скребница, – протянул сперва Максиму, потом Ваське:
– Честь имею… Лука Варенюк.
Тем временем на огород со всего курмыша набежали люди. Первыми прискакали востроглазые мальчишки, за ними – лускающие подсолнушки бабы, приплелся поглазеть на диво и старый казак Дыркач. Прибежали и бесштанные казаки в рубашонках с замаранными подолами.
Васька отжал хозяина в сторону и, играя карим с веселой искрой глазом, сказал:
– Купи.
– Кого?
– Автомобиль.
– Шутишь?
– Никак нет.
– На што он мне?
– На базар ездить будешь, в гости к своякам, а когда вздумаешь, и бабу покатаешь.
– Ей, эдакой чертовиной править надо уметь! – усмехнулся Варенюк и почесал поясницу.
– А мы, ты думаешь, умеем? Да ведь доехали! Плохо ли, хорошо ли, а доехали!.. – Увлекшись своей мимолетной выдумкой, матрос подвел его к машине. – Хитрости тут мало. Гляди, вот эту штуковину подвернуть, этот рычажок поддернуть – и пошла-поехала.
На моряка во все глаза, не мигая, смотрели бабы и понимающе качали головами.
Дыркач подогом поколотил по шине и сказал:
– Колеса одни чего стоят, чистая резина… Эдаки колеса да под бричку, картина…
– Картина первый сорт, – подтвердил матрос.
– А чего ж вы, товарищи, или как вас там, не по дороге ехали?
– Мы-то? Мы, милый человек, сами с злого похмелья. Нас тетка везла, она и напутала. Э, мать, жива?
Из-под сиденья раком выползла и, озираясь, поднялась старуха.
Мальчишки запрыгали от удовольствия, бабы ахнули и теснее обступили машину.
– Господи Исусе, – закрестилась старуха. – Где я?
– Купи, – рассмеялся Васька, – со всем и со старухой. Задешево отдам!
– Ратуйте, православные! – завопила та и, задрав юбки, полезла через борт. – Продает, как кобылу!
– Кобыла не кобыла, а полкобылы стоишь.
– Штоб у тебя, у беса, язык отсох… Православные, далеко ль до станицы Деревянковской?
Толпа развеселилась:
– Слыхом не слыхали. Куда это тебя занесло, матушка?
– До Деревянковской, – усмехнулся в бороду Дыркач, – до Деревянковской, баба, верстов сто с гаком наберется.
– Батюшки, царица небесная, завезли, окаянные… Зять-то меня на пашне заждался.
– Не кричи, – строго сказал Васька, – куда тебе торопиться? Дойдешь потихоньку.
– Кобель полосатый, – наступала она, распустив когти. – Зенки твои бесстыжие выдеру.
Оробевший Васька пятился… Потом он протянул старухе пучагу мятых керенок:
– Получай за храбрость. Купи себе козу, садись на нее верхом и скачи домой.
Восхищенные матросским острословием, завизжали мальчишки; закатывая под лоб глаза, довольным смехом рассмеялись бабы; и старый Дыркач залился кудахтающим смешком, точно мучительной икотой…
Варенюк обошел машину, пощупал кожаные подушки сиденья, поковырял ногтем шину и пригласил гостей в хату.
– Сколько хотите взять? – спросил Варенюк, останавливаясь посредине двора.
– А сколько тебе, односум, не жалко? – в свою очередь, спросил Максим, принимавший весь торг за шутку.
– Нет, – шагнул хозяин через порог, – вы скажите свою цену.
Оставшись ненадолго наедине, Максим с Васькой схлестнулись спорить. Максим настаивал поскорее пробираться в город, заявить об автомобиле Совету, разыскать свой отряд. Васька настаивал на том, чтобы задержаться в станице на несколько дней, – ему хотелось отдохнуть, погулять и вволю выспаться.
Варенюк возвратился с самогонкой. За столом, уставленным закусками, он долго еще рядился с моряком и наконец срядился. За автомобиль хозяин брался поить обоих гостей допьяна и кормить до отвала десять дней, после чего обещался отвезти их на ближайшую станцию, до которой было верст сорок.
Ударили по рукам.
Хозяин заколол поросенка, засадил в баню за самогонный аппарат дочь Парасю, сыну Паньку приказал подтаскивать сестре ржаную муку, жена растопила печь и занялась стряпней.
В задушевной беседе они скоротали остаток дня, а когда наступил вечер, ярко запылала лампа-«молния», на столе появилось жареное и вареное; по настоянию Васьки, хозяин пригласил двух вдовушек, закрыл уличные ставни на железные болты, запер ворота, и веселье началось.
Васька краснословил без умолку. Шутки-прибаутки сыпались из него, как искры из пышущего горна. Максим с Варенюком пустились в воспоминания фронтовой жизни. Вдовушки на приволье разошлись вовсю. Подперев разгасившиеся щеки могучими руками, пронзительными голосами они распевали песни о радостях и горестях любви. Моряк, не переносящий бабьего визга, затыкал певуньям рты то кусками жареной поросятины, то поцелуями. В танцах он завертел, умаял вдовушек до упаду, потом вручил одной гребешок, другой – сковороду:
– Играй, бабы! Сыпь, молодки! Без музыки в меня пища не лезет.
Давно спала задавленная ночью станица; давно хозяйка, выметав из печи все до последнего коржа, забрала ребятишек и ушла в чулан спать; давно угоревшую от самогонного чада Параську сменила сестра Ганка; давно заморился таскать мешки Панько; и давно уже, сунув шапку под голову, спал на лавке Максим; а Васька все еще пожирал поросятину, бросая кости грызущимся у порога собакам, все еще плясал, выкамаривая замысловатые коленца, все еще глохтил, расплескивая по волосатой груди самогонку – аппарат не поспевал за ним: за ночь хозяин, проклиная белый свет, два раза разматывал гаманок и посылал Панька в шинок. Бабы осипли от смеху – матрос или лапал их за самые нежные места, или рассказывал что-нибудь потешное. И только под утро, высосав досуха последнюю бутылку, изжевав и расплевав последнюю ногу полупудового поросенка, Васька в последний раз на выплясе топнул с такой удалью, что из лопнувшего штиблета выщелкнулись сразу все пять обросших грязными ногтями пальцев…
– Баста! Спать, старухи.
Пьяненькие вдовушки набросили на головы ковровые полушалки…
– Куда? – спросил матрос, сыто рыгнув.
– Спасибо за компанию, пора и честь знать.
– Ах, оставьте. Ети песни соловьиные слыхал я однажды в тихую зимнюю ночь.
– Нет, уж мы, пожалуй, лучше пойдем, – сказала одна, оглядывая себя через плечо в зеркало.
– Пойдем, Груняшка, – как эхо отозвалась другая. – Все мужчины подлецы.
– Птички, – нежно глядя на них, сказал Васька. – Серый волк вас там сгребет, и достанутся мне одни косточки, хрящики…
Он привернул в лампе свет, втолкнул за перегородку в комнатушку сперва одну, потом другую, вошел за ними сам и, прихлопнув жиденькую дверку, защелкнул крючок.
…Солнце через окно так нагрело Максиму голову, что ему начал сниться какой-то путаный дурной сон. Бежал будто он по горячей земле, под ногами с жарким треском лопались раскаленные камни. Он поднялся на лавке и, стряхнув сонную одурь, стал прислушиваться… Далеко и близко на разные голоса пересмеивались петухи, заливисто лаяли собаки, над неприбранным столом жужжали мухи. Полон смутной тревоги, он накинул шинель и вышел во двор.
В вышине разорвалась шрапнель. Бродившие по двору куры, распластав крылья, кинулись под сени. На улице послышался многий топот. Невдалеке кто-то закричал благим матом. Железным боем заклекотал пулемет.
Максим выглянул за ворота.
По улице, точно бурей гонимые, бежали, скакали люди в одном нижнем белье. У иного в руках была винтовка, у иного – седло, за иным волочилась шинель, надетая в один рукав.
Страх сорвал Максима с места.
Он ударился вдоль плетней с такой резвостью, что вскоре начал обгонять других.
Два офицера выкатили из-за угла каменного дома пулемет и, припав за щиток, начали засыпать бегущих смертью.
Улицу вмиг будто выдуло.
На дороге остались лишь подстреленные.
Максим плечом высадил калитку… Пометавшись по пустынному двору, нырнул в конюшню и зарылся под сено, в колоду.
Скоро послышались резкие, ровно лающие голоса и звяканье шпор.
Максим чихнул от попавшей в ноздрю сенины; его выволокли из конюшни.
Сизым острым огнем переблеснули штыки.
– Я не здешний! – крикнул Максим, хватаясь за штыки.
Прапорщик Сагайдаров саданул его прикладом в грудь и сказал:
– Сволочь, я тебе покажу…
Максим упал. Это и спасло его – колоть лежачего было и неудобно, и неприятно.
Пленных набрали большую партию и повели расстреливать.
По улице в исключительно беспомощных, присущих только мертвым, позах валялись убитые. Раненые расползались под заборы.
В станицу вступал обоз.
На рессорной бричке, вольно распахнув светло-серую шинель, сидел, ссутулившись, седой полковник, пепельное лицо которого показалось Максиму знакомым… Еще не припомнив, где его мог видеть, он разорвал кольцо конвоя и кинулся к старику.
– Ваше… заступитесь!
Неожиданность испугала полковника. Он откинулся на сиденье и крякнул, как селезень:
– Ак?
– Ваше высоко…
Кучер остановил.
– Что такое? – Старик запрокинул голову и оглядел солдата. – Откуда ты меня, это самое, знаешь?
– Так точно, признаю, ваше высоко…
– Кто такой?
– К Тифлису в одном поезде и в одном вагоне ехали… Я еще вашему высокоблагородию чулки шерстяные подарил.
Старик опустил голову и задумался.
Максим стоял, вцепившись в передок брички. Штык справа и штык слева касались его ребер.
Полковник так долго думал, что Сагайдаров осмелился и нетерпеливо кашлянул:
– Прикажете вести?
– Ак?.. Вспомнил, вспомнил каналью… Старший по конвою! Оставьте солдата мне, я его, это самое, лично допрошу. Захвачен с оружием? Нет? Отлично.
Кучер хлестнул по лошадям. Максим, держась одной рукой за крыло брички, побежал рядом.
Остановились перед зданием школы.
Максим с большой расторопностью принялся распрягать лошадей, причем каждую из них награждал такими ласковыми именами, которые не часто доводилось слышать от него и жене Марфе. Потом он поставил лошадей под навес, навалил им сена, перетаскал с возов в дом чемоданы и, покончив все дела, явился к полковнику, который сидел в классной комнате за партой и разбирал бумаги.
– Большевик, сукин сын? С нами, это самое, воюешь?
– Никак нет, ваше высокоблагородие, я не здешний.
– Как же сюда попал? Большевик, каналья?
– Никак нет, ваше-ство, корову приехал покупать.
Полковник наклонил голову так низко, что нос его почти касался исписанных лиловыми чернилами ведомостей. Он вздохнул, пожевал серыми и тонкими, как бечева, губами:
– Помню твою услугу, помню… Солдатики, суконные рыла, насолили мне тогда крепко… Пожалуй, они меня и укокошили бы? А?
– Так точно, ваше высокоблагородие, разбалованный народ.
– Как пить дать, укокошили бы, мерзавцы. – Он смахнул слезинку и строго взглянул солдату в глаза: – Ты, братец, желаешь, это самое, послужить родине?
– Рад стараться, ваше-ство, службу люблю.
– Отлично. С сегодняшнего дня зачисляю тебя на довольствие и прикомандировываю ездовым в обоз второго разряда. Разыщи на дворе подхорунжего Трофимова и, с моего разрешения, попроси у него шинель с погонами и ефрейторские нашивки.
– Слушаю, ваше…
– Да, это самое, раздобудь-ка мне кислого молока… Здесь покушать, и с собой в дорогу возьмем.
– Рад стараться, ваше высокоблагородие, доставлю!
Старик дал ему на молоко керенку и отпустил, оставшись весьма довольным молодцеватой выправкой старого солдата.
Максим нашел во дворе подхорунжего, наскоро переоделся и со всех ног бросился по улице, держа направление к знакомой хате.
В воротах его встретила плачущая хозяйка и ахнула:
– Батюшки, в погонах?
– У нас это просто, – весело отозвался он и покосился на окна. – Я тут знакомого генерала встретил. А к вам заехал кто-нибудь?
– Бог миловал.
Максим смело вошел во двор.
Варенюк под сараем забрасывал автомобиль соломой. Увидав гостя, он бросил вилы и подошел:
– Беда… Не дай бог… Комиссар, скажут, спалят.
– Ты бы заступился, милостивец, – зашептала баба. – Куда ее девать, под подол не спрячешь…
– Будьте спокойны, – ответил Максим. – Скоро выступаем. Где мой товарищ?
– Забери ты его, матерщинника, Христа ради. – Баба вошла в хату и остановилась перед печью. – Найдут его кадеты и нас на дым пустят.
– Где он? – спросил Максим, в недоумении оглядывая пустую хату.
– В трубу, сердешный, забился.
– Куда?
– Вона куда, – показала хозяйка.
Максим, изогнувшись, заглянул под чело печки, но ничего не увидел.
– Вася, – зашипел он. – Где ты, друг?
– Братишка… (Матюк.) Отогнали белокопытных? (Матюк.) – глухо, как из могилы, отозвался Васька, и в густом потоке сажи на шесток опустились его босые ноги.
– Лезь назад, – сказал Максим. – Я в плен попался и бегаю вот, ищу кислого молока, но ты, Вася, во мне не сомневайся.
– Какого молока? (Матюк.)
– Лезь выше, Христом-богом прошу, лезь выше. Скоро выступаем. До свиданья… – Он потряс друга за пятку и выбежал из хаты.
Строевые части, передохнув и закусив, уходили за станицу, в просторы степей. В полдень выступил обоз. Максим сидел на возу на горячих хлебах, во всю глотку орал на лошадей и нещадно нахлестывал их кнутом.
Через два дня, улучив удобный момент, он перебежал к красным, угнав пару коней и повозку с патронами.
Дикое сердце
Радость гудит в Илько́.
Ноги веселы.
С Фенькой шаг в шаг. Тук-тук.
Внизу море – в реве, в фырке.
Молнья рвет ночь.
Ветер рвет грудь.
Кровь мчит в Илько, мчит кровь.
– Где ж? – спросила Фенька.
– Сюда. Живо.
Торопится тропа.
Галькой закипела тропа.
Собака гагавкнула.
Мигнул огонек.
Дымком пахнуло.
Пинком в калитку. Под ноги – из темноты – подкатился гремучий пес: грр-ррр-гау-гау-га.
С козла через порог:
– Здорово, дядя Степан. Хлеб да соль.
– Милости просим.
Блюдо, рыбьи кости, ложка в сторону отодвинуты. На столе – вытертая веслом лапа Степанова, с лапоть лапа.
– Садитесь, – пригласил он, – стоя только ругаются.
Оба:
– Плыть надо. Перебрось нас в плавни, на Тамань.
– Помни уговор, Степан.
Огонь качнулся
Степан качнулся
ветер раскачивает хату,
дует в пазы: по стенам сети переливаются. Скула у Степана сизая, литая, а глаз с рябью, зыбкие глаза, как сети.
– Чамра…
– Не поплывешь? – усмехнулся Илько, и губы его дернулись.
– Нет.
Тугая минута молчания.
– Дай ялик нам, – положила Фенька руку на плечо рыбака. – Ялик и паруса.
– Ялик? – нехотя переспросил Степан. – На моем ялике далеко не уплывете: корыто, по тихой воде на нем боязно.
Ветер толкает хату. Позвякивают стекла. Под самыми окнами гремит и хлещет разъяренное море, вспененная волна подкатывается к самому порогу хаты.
Дробен, смутен Степан, задавлен был думкой… Слова вязал в тугие узлы:
– Чамра, товарищи. Переждать ночь. Коли поутихнет к утру – переброшу вас в плавни.
– Ты, дядя, канитель не разводи, – уже сердясь и супя бровь, сказала Фенька. – Время не ждет, до рассвета нам надо быть на том берегу.
Широко вздохнул рыбак:
– Где ж ваш товар?
– Вот товар.
Степан посунул ногой ящики.
– Легковато, упору нет.
– Долго будем с тобой рядиться? – ударила Фенька жаркими глазами. – Дашь лодку или нет?
– Не бойся, лодку вернем, – подсказал Илько.
– Я не боюсь. Кого мне в своей хате бояться? – Рыбак крякнул и наотмашь сшиб со стола котенка, вылавливавшего из блюда недоеденную рыбу. Сорвал с гвоздя шапку. – Пойдемте.
Старший сын Степана с красными отступил. Меньшака Деникин мобилизовал. Не за что Степану любить ни тех, ни этих. Однако комитета подпольного побаивался. Комитетчики все крюшники да рыбаки своего курмыша, в случае чего житья не дадут.
В дверь
в ночь
круте́нь-верте́нь.
Буря топила море, как азартная девка в смоляных потоках кос своих топит любовника.
Рыбак отговаривал:
– Зря.
– Ставь мачту. – Фенька накатывала в лодку камней для упора. Лодка металась на якоре, гремела цепью. Лодка металась под ногами. Волна вышибала лодку из-под ног.
– К берегу не жмись, – напутствовал Степан. – Забирай на полдень круче, круче. У маяка, на перевале, в бортовую качку не ложись, боже сохрани… Царапай в лоб, в лоб… К берегу не жмись… Ну, с богом. Вира помалу…
– Вира.
Илько ударил веслом, и, подхваченный волною, ялик оторвался от берега.
Взвился парус.
В темноте утонул берег, хаты огонек утонул, утонул Крым, пропал и Степан, сгинул и его предостерегающий окрик…
В вольном разбеге раскачивался ялик, дрожал и стонал ялик под ударами волн, топтал ялик кольчатую волну.
Чамра со свистом метала арканы пенистых гребней.
Буй сердце вертел.
Парус был налит пылающим ветром.
Море билось, словно рыбина в сетке.
Железная рука Илько захрясла на руле. В темноте поблескивали его горячие, цыганские глаза. Фенька кожаной кепкой – черпак упустила – отплескивала воду.
Оба на корме, нос высок, весела мчаль.
– Плывем?
– Плывем.
– Камни за борт.
– Есть камни за борт… Перехвати фал, занемела рука.
На перевале брали килевую качку. Волна крыла подветренный борт. Далеко в стороне мигал огонь маяка.
Забрезжил рассвет. В тумане – берег таманский, чайки, хриплый надорванный крик заблудившегося сторожевого катера.
– Лево руля.
В жарком разбеге кувыркалось взбаламученное зеленое море.
Бу-ря-ру-била-удалых.
Кони – легкие, как снежная пурга, – уносили троих.
Звонки горные тропы.
Под ветром бежали кусты, прихрамывая.
Копыто искры высекало. Глаз легче птицы голодной. Глаз хватал и тряс каждый куст. Ухо на взводе.
Стороной миновали Уланову будку, последний пост стражи кордонной. Дальше – свои земли. Попридержали коней на шаг.
Илько – керченский рыбачок. Фенька – совсем еще девчонка, залетевшая в Крым с полком волжских партизан. Отступление, плен, бегство из плена, и вот она в горах, в отряде зеленых, где судьба и свела их с Илько. Отряд почти целиком погиб в каменоломнях. Лишь немногим зеленцам удалось уйти под Чатырдаг, Бахчисарай, Байдары. Илько с Фенькой, по поручению партийного комитета, пробирались на Черноморье для связи с черноморскими партизанами.
Провожал их зеленец Гришка Тяптя – парень оторви да брось. Английская шинель небрежно накинута на одно плечо и надета в один левый рукав, а правая – свободная рука – всегда готова потянуть из ножен клинок, вскинуть маузер или метнуть гранату. Крытая синим бархатом кубанка была небрежно сдвинута на облупившийся нос. Плетью сшибал Тяптя сухие сучки, соколиным глазом зорко зырил по сторонам, слова накалывал редко и нехотя – разговаривали за Гришку руки, ноги, чмок, фык, сап, марг, плевки:
– Бра зна?.. Ууу, цццц… Черно… Пуп-пух. Та-тата-та-та-та… Ммм… Карамара… Ку-гу? В станицу. Ку-гу? Пакеты везу… Як зарикотили, зарикотили… Ээээ, чертяки. Кыш. Фу. Шо тамочко було… ыыы, цццц, ху-ху-ху… Хиба ж ты не зна Хведьку Горобця?
Последнюю весть о Горобце Тяптя подал так: кулак с выкинутым пальцем (револьвер) сунул себе под нос, понимай – Горобца застопали; перед глазами пальцы крест-накрест – Горобец за решеткой; оскаленные зубы – Горобец в контрразведке; плачущего Горобца две руки хлещут со щеки на щеку и – пальцем вокруг шеи, багровая страшная рожа с высунутым языком – Горобец повешен.
Ехали дружки рядом, лука к луке, разговаривали.
Фенька раскачивалась в седле, на дружков веселая поглядывала. Портянка выбилась из ее сапога, трепалась портянка озорным собачьим ухом. В ветре играла ее рыжая вихрастая голова, смеялось широкое, захватанное солнечными пятнами лицо.
– Илько, – позвала она.
Поотстал Илько от Гришки, пересказал.
– Зелеными забиты все горы – от Тамани до Грузии, через Обшад и Красную поляну до Кабарды. Кругом бои, налеты на станицы и города, развеселое житье.
Тропа потекла в лощину.
– Стой! – окрик. Мшелый камень по-над дорогой скалился дулами.
В кустах мелькнула шапка, другая.
Гришка переливчато засвистал и проехал вперед.
Из-за камня вышли трое. Ободранные винтовки приняли на ремень. В обветренных лицах прыгали белки, скалились зубы.
– Грицко, тютюну немае?
– Е.
Косятся на Феньку.
– С городу?
– Ни.
– Чи с камышей?
– Ыыыыыы, бра, ха, ууу…
Кони не стояли.
– Чч.
Взяли последний перевал и на рысях стали спускаться в широкую балку.
Лагерь зеленых. В пролете гор – далеко море. Шалаши, землянка. Дымила походная кухня. Одеты по-зимнему, но легко. Оборваны. Трофим Кулик собирает пулемет:
– …замок – боевая личинка, замочный и подъемный рычаги, верхний спуск, ударник, лодыжка, нижний спуск и боевая пружина… Перекос патрона – лента продергивается влево, рукоятка осаживается до места. А главное для пулеметчика в боевой обстановке – вот тут закрутить гайку потуже. – И он шлепнул Петьку по заду.
Петька неуверенно трогал части пулемета…
– А как такое, дяденька, стрелять по невидимой цели?
– Сперва научись попадать в стенку, а там дело покажет. При стрельбе пальцем дула не затыкай и в дуло не заглядывай.
В землянке начальник отряда Александр с завхозом играли в шашки.
– Здорово, братва, – приветствовала Фенька партизан и спрыгнула с седла.
Пока Фенька угощала людей крымским табаком, пока Илько привязывал лошадей, Тяптя уже докладывал начальнику:
– Честь имею явиться.
– Кто приехал? – спросил Александр.
– Да Илько Валет… Ммм… С ним такая девочка подпольная, губы бантиком, нос конфоркой… Чччч… Ячеку хотит организовать, щоб було у нас, як в Москве, а сама в штанах… Уууу… Ффффф… – И, сплюнув, уселся Гришка на зарядный ящик.
Завхоз подсек сразу четырех. Александр не захотел больше играть, смахнул белые и черные хлебные корки, а шашельницу – надвое об острую завхозовскую голову.
– Жулик ты, захвост, прожженный жулик… Давно тебя повесить собираюсь, да все забываю.
– Кхе, шутить изволите.
Вошли Илько с Фенькой.
Рука у Александра горячая, плотная рука, как фунтовый карась. Рябоватое лицо подобрано, сухо, печаль и усталость на лице.
– Кыш!
Завхоз и Гришка убрались.
Стол забутыливал нач – хотя какой же там стол? – пенек, понятно; тяжелым взглядом раскубривал Феньку, в бумажку и не заглянул, что бумажка… Пахло в землянке шинельной прелью, земляной мякотью.
– Чего привезли? – спросил Александр.
– Походную типографию.
– Молодцы.
– Рады стараться! – шутливо отозвался Илько и рассказал о разгроме керченской группы зеленых.
Сразу давай дело мять, топтать:
В новороссийской тюрьме полтыщи товарищей.
Их ждет яма.
Они ждут спасения.
Нужен налет.
Подготовку налета вел городской подпольный комитет.
Сгорел подпольный комитет, четвертый по счету.
Александр вызвал в землянку ротных командиров, на преданность которых надеялся, как на верный бой своих наганов, и сказал:
– Каждый час и каждую минуту судьба грозит нам черной гибелью. Заройся ты в море, поднимись под облака, твоя судьба настигнет тебя. Все ли мы с охотой пойдем навстречу судьбе своей?
– Какой разговор…
– Загремим…
Ротный Чумаченко, недавно убежавший из-под расстрела, подклинил:
– Пускай, коли судьбе угодно, задавит нас чижелая тюремная стена, все до единого под ней поляжем, но и там, за решетками, нашим бедолагам легче будет умирать.
– С нами дух наш и судьба наша, – сказал Александр, любивший пышность выражений.
Фенька глядела на него, не спуская глаз, и вспоминала множество рассказов о подвигах его, о его налетах и удачах.
У кухни в розлив обеда заспанный писарек выкричал:
...
ПРИКАЗ
ПО КРАСНО-ЗЕЛЕНОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ
По случаю секретного отъезда моего в неизвестном направлении своим заместителем по части строевой на короткий двухдневный срок назначаю Григория Тяптю, а комиссаром – вновь прибывшую товарища женщину, строго приказываю не волноваться, хотя она и женщина. Пункт второй: за недостойное поведение, то есть грабеж и бандитизм, припаять по двадцати горячих товарищу Павлюку и Сусликову Дениске из первой роты. Долой!.. Да здравствует! Подлинное, хотя и без печати, но вернее верного. Ура!
Обеденная очередь рванула:
– Урра-а!..
И отобедавшая музыкантская команда облизала ложку, вытерла сальный рот и с небольшим опозданием тоже уракнула.
В полутемной землянке Савчук, старой службы солдат, рылся в куче погон:
– Одна полоска, четыре звездочки – штабс-капитан… Гладкий, две полоски – полковник… Это ты затверди накрепко.
Александр примерял погоны и рассказывал:
– На неделе случилось у нас происшествие. Жучок из второй роты разжился где-то сармачком… И в карточки, верно, подлец, играть не умел: в одну ночь всю роту раздел, разул. Утром хватились, нет Жучка. Слышим, в городе гуляет наш Жучок. И не духовой ли парнишка? Ну, торчал бы где в подпольном укрытии, так нет, форснуть надо: бабу на коленки, гармонь в зубы, лихача за уши – пошел… Проходит день, два, чу – попался наш мосол. Три дня его пороли, пороли да посаливали. Сдался, собачья отрава, на двести пятнадцатом шомполе сдался. Есть у нас в лягавке свой человек, известил. Пришлось тогда лагерь менять, связь тасовать – канительное дело.
Уписывала Фенька жареную баранину за обе щеки, слушала во все уши.
Александр продолжал:
– Ты насчет дисциплинки спрашиваешь… Дисциплина, она что ж, она на пользу, дороже правой руки… На голод, холод – терпеж, в бою – стой, не устоишь – знай свою прекрасную участь. А только, если ты хочешь знать по совести, в нашем деле эта самая дисциплина девятый гвоздь в подметке… Жми, жги, вари, и вся недолга́… Приглядись, во второй роте черноморцы есть. Одичали в горах, по году и больше живого человека не видят, говорить разучились. На днях решил за разбой проучить двоих. Не ложатся под плети. Виноваты, говорят, расстреляй. И фасонны были ребята, а пришлось свалить… Звери, ухо к уху. А за Гришкой поглядывай – хлюст малый, давно бы его в земельный совет отправить, да нужный он человек.
В погоны зашифровался Александр и ускакал с Савчуком в город.
Плыла ночь.
На гребне перевала мерзли посты.
Лил лют норд-ост.
Лагерь в кострах. К кострам сползались, лохматые, угрюмые, солому волокли, сушились, выжаривали исподнее, кашеваров вздушивали, ладили на сошки закопченные котелки, жаловались новой комиссарше:
– Эх, товарищ, да ах, товарищ…
– Запаршивели хуже собак.
– Я в бане с Миколы зимнего не был, шкура-то уж так зудит, так зудит…
– Горюшко-головушка.
– Слушок, будто красны недалече? А?
– Э-эх!
– Как теперь рассудить, должон нам Совет жалованье солдатское выдать? По году да по два тут кусты считаем, и ниоткуда ни в зуб толкни!
– Сырость, ремонтизм корежит.
– Так корежит, не приведи бог… Где-нибудь в Архангельске дождь, а тебя уж в крендель гнет.
– Кусты считаем, казаков шибко тревожим и дожидаемся товарищей, так продолжается наша нехитрая солдатская жизнь.
Вилась Фенька в мужиках, как огонь в стружках.
От костра к костру провожали Феньку глаза ленивые, как сытые вши:
– Заводная…
– Кусаная…
– Королек…
На широкой рогоже завхоз тяпал коровью тушу. Тут же из неостывшей шкуры зеленцы выкраивали постолы.
Илько с Гришкой корешки.
Валялся Гришка на каменной плите, перед самым огнем, из половинки сырой картошки печать вырезал: от скуки, понятно. На пальцах у него колечки камушками сверкали, которы и без камушков. Пыхтел, сопел Гришка, ровно воз вез. Любовался печатью, углем ее натер, на ладонь пришлепнул – фармазонная печать, явственная. Бросил ее Гришка в огонь и заунывно песенку блатную затянул:
Приходи ты на бан, я там буду
Любоваться твоей красотой.
И по ширме шарашить я буду.
Забараблю кудлячке покой.
На Тришкиной груди три банта: красный, зеленый, черный. Шикозные банты, а Илько смеется, в корешка глаз штопором:
– Что это за лименация?
Разгладил Гришка банты, разъяснил:
– Красный – свет новой жизни, заря революции… Зеленый – по службе… Черный – травур по капиталу… Уууу, ччч.
В солому зарылся Гришка и захрапел.
А Илько потянуло к большому костру: в его свете моталась рыжая косматая башка комиссарши.
В кругу слушателей, на подтаявших кочках, подложив под себя скатку, сидел первый в отряде пулеметчик Трофим Кулик, крутил обкуренный солдатский ус и негромко, с журчащей грустью, рассказывал:
– Шутка ли сказать, на действительной семь годочков отбарабанил да в плену три – богато рученьками, ноженьками помахал, богато поту утер. Ворочаюсь до дому – сидит в хате слепая матка, смерти дожидается. На дворе ни курчонка, ни собаки. Сарай упал, все криво, косо, не как у людей. Батька красные зарубали, брательник с таманцами отступил, дядья родные Денике служат, вот ты, бисова душа, и разберись, кто прав. Махнул я рукой: помогай, кажу, боже и нашим и вашим, только меня не троньте…
– Гарно…
– Гарно, да не дуже…
– Так и так – яма, стой прямо, упал – пропал.
– …не поддался я печали, за работу схватился. Потрудился с годик, опнулся малость, лошаденку огоревал; хозяйство мало-мало скопировал… А ну, посудите, люди добрые, какое без бабы хозяйство. Кругом один, кругом сирота… Удумал я жениться, как ни крутись, а жениться не миновать. Подвернулась на глаза девка подходящая. Марькой звали ту девку… Обкрутились мы с ней. Веселая моя Марька, белая, ноздристая да чернобровая – глядеть на нее, сердце не нарадуется, – а по дому лучше старухи…
Трофим задумался, тяжело вздохнул, ровно тяжелую воду разгреб руками.
– Эхе-хе, братушки, лихое нонче времечко, нету счастья человеку.
– Живем – как по вострому ножу ходим, – подсказал кто-то.
– Было времечко, ела коза семечко…
Зажмурился Трофим, голову свесил. Неторопливо отстегнул от пояса кисет, раскурил трубку и ну досказывать:
– Приказ-указ – мобилизация. Оборвалось наше с Марькой счастье… Воевать идти ни оно…
– Жива душа калачика чает.
– Кому божий свет не мил?
– Кругом плач, кругом терзанье…
– …набралось нас, годков, десятка с два, понадевали по-за плечи мешки с хлебом, в хмеречь посунулись… Смастерили себе шалашики, дубинки покрепче вырубили. Неделю-другую сидим в лесу, как сычи, свету белого боимся. Глядь, бегут наши старики с плачем, с воем: нагрянул в станицу каратель с отрядом, князь Трубецкой; дезертиров ловят, скотину режут, над девками, бабами издеваются…
– Бабам за войну досталось, от каждой власти бабам слезы – тот придет, гусей давит, тот овцу со двора тащит, а иной ухач прямо под юбку лезет.
– Солдату больше и взять негде.
– Не́ видя бог пошлет.
– …устроили мы военный совет. Видим, петель много, а конец один – порешить гадов. Сказать пустяк, а доткнись до дела, обожгешься. Народу у нас орда, да у каждого глотка-то в тридцать три диаметра. Обсуждали, обсуждали, так и бросили. Чего тут обсуждать?.. Пошла-поехала. Чуть зорька – стучимся в станицу, – как дела? Так и так, князь, его сиятельство, к молдаванам уехамши, в станице гарнизон оставил… Ладно… Врываемся в станичное правление с дубинками, с ружьишками, кричим всячину, у кого сколько голосу хватит… Раскатили мы гарнизону семьдесят душ, бежим по домам… Плач стеной: там сожгли, там ограбили, там истязали. Марьку свою чуть нашел… Забилась в подпечек, плачет, смеется, а не вылазит… Маню ее, зову: «Дурочка, Христос с тобой, очкнись». Насилу вытащил и… не узнал… Осунулась, пожухлела, голова трясется, в кулаке зажала человечье ухо откушенное… Помяли ее, гады, а она на сносях первым брюхом ходила. Горюй не горюй, так, видно, греху быть. Стонать-плакать не время, слышим, назад каратель идет, опять нам в лес подаваться. Посадились мы на коней… И увяжись за мной Марька. Никак не хочет дома оставаться. И упрашивал ее, и умаливал – не останусь да не останусь, – а у нас меж собой нерушимый уговор был, чтобы бабой в отряде и не пахло. Што тут делать? С версту от станицы умотали, а Марька все бежит около меня, за стремя чепляется. Осерчал я тут крепко, и товарищей стыдно, не стерпя сердца, хлестнул Марьку плетью:
– Вернись!
– Не вернусь, любезный ты мой Трофимушка!
– Вернись, осержусь!
– Нет, супруг ты мой драгоценный, не можно мне вернуться.
– Вернись, скаженная! – закричал я, как бешеный.
– Ой, смертынька моя, убей, не вернусь!
Заморозил я сердце, сорвал с плеча винтовку…
трах
и ускакал товарищей догонять.
Сдернул шапку Трофим, и еще ниже свесилась его седая, ровно мукой обсыпанная, голова.
– Суди тебя бог.
– Эхе-хе…
– Вот она, жизня наша!
По обветренным лицам тенью пробежал ветер.
Перезябшие часовые с черных ветровых гор сползли к кострам.
Скрюченные руки – рукав в рукав. На башлыках снег. На прикладах снег настыл коркой. Продрогшие, сиплые голоса:
– Собаки, што ль?
– Где же начальники?
– Шутки плохие.
– До кишок смерзлись.
– Винца бы.
– Полсуток без смены.
У костра молча пораздвинулись.
Стуча зубами, подсели к огню. Из непослушных рук рвалась обмотка. Поведенная коробом шинель смерзлась с гимнастеркой.
Потом помалу глотки оттаяли, огонь заострил глаза.
Фенька растолкала Гришку:
– Давай наряд караула!
Спросонья помычал, поурчал Гришка. Сунул лапу за голенищу, – за голенищей у него хранилась вся походная канцелярия.
– Скорей возись! – нетерпеливо крикнула она, слыша за собой разрывы ругани.
Протер Гришка глаза: Фенька…
– Хмы… – запахнулся в шинель и отвернулся. – Ни яких каравулов не треба.
– Дай ротные списки.
– Кыш.
– Ну?
– Отчепись, стерво!
Приподнялся Гришка, накинул в костер сучков, вытянул из пазухи кисет и плюнул с присвистом.
– Это видала? – и показал.
Кто-то заливисто заржал.
Гришка принялся ругаться:
– Я начальник, а ты гадина, говядина, смердячий пуп… Ууу, ччч, кх…
Кругом молчали.
Сырые сучки постреливали. Пахнул дым. Фенька закашлялась, отвернулась от огня и спокойно сказала:
– Овечья ж… ты, а не начальник. Понял? Караулы выставить необходимо. Давай наряд. Чья очередь?
Андрюшка Щерба лупил печеную картошку, поддюкнул Андрюшка:
– Какая тут очередь… Послать вон его почетную банду… Нехай промнутся… Вечно в землянке спят да спирт жрут.
Две-три вылуженные простудой глотки поддакнули.
Тут какое дело? Увивалось вокруг Гришки с десяток своих ребят: «почетный конвой». Сыты-пьяны, в работы ни ногой. Коняги под ними – поискать надо. Гришка за конвойцев горой. В караул – ни в какую.
Комиссарша выругалась.
Набрала комиссарша добровольцев и ушла с ними в мерзлую ночь. На дорогах, на ветру провалялись до свету. По заре сбросились в лагерь, в солому, в сон.
Не успел Илько согреться под шинелью:
Крик
гам
бам
пыльно…
Вскочил Илько.
Буза
шухор
тарарам…
Перед землянкой Гришка Тяптя и борзые конвойцы.
– Выходи, курва!
– Вишь, фасон взяла!
– Ни коня, ни возу.
– Гээ…
На шум сбегались.
– Хай…
– Май…
– За стрижену косу…
– Замерзать, што ль?
Из землянки в шинели внакидку вышла Фенька:
– Не дам.
А просили спирту. Погреться. Закачались, зашумели, заголготали, подняли такой хай – смрадно. Налитая дурной кровью рожа Гришки накатывалась на комиссаршу:
– Говори, не дашь?
– Нет.
– Не дашь?
– Нет.
Фенька повернулась и, крепким каблуком сбивая мерзлые кочки, не оглядываясь, ушла в землянку.
Помитинговали-помитинговали и решили: шлепнуть комиссаршу. Гришка, конвойцы, с полдюжины дудаков – не разобрались спросонья, в чем дело, – всем выпить хотелось.
Зеленцы просыпались, почесываясь. Крестились на занимавшийся восток, грели котелки.
Илько бегал от костра к костру, пинал спящих, хватал за ноги, за руки.
– Братаны, становитесь… Живенько… Дядьку Гнат… Тришка… Боже ж ты мой!.. Комиссаршу расстреливать повели.
Которые побежали…
Илько передом. И наган в рукаве дрочит. Под легкой ногой тропа камень отхаркивала. В кольце конвойцев Фенька размашисто бьет шаг. И ухо рассечено.
– Стой, куда?
– Чо?
– На бут.
– Брось бухтеть!
– Какая твоя нота?
– Дужка от помойного ведра.
– Больше других тебе надо?
– Сунь ему.
– Катись, Валет.
– Стой, лярва!.. – крикнул отчаянно Илько и махнул наганом: – Дядьку Гнат, Васька…
Заурчали, залаяли.
Подбежал Илькин родной дядька Игнат. Сивый подбежал, Яковенко, Щерба, Хандус, другие…
– А ну, хлопцы, що туточки творите?
– Та…
– Ууу…
– Сука, готов товарища на бабу променять?..
– Ну? – подставил Илько наган Гришке ко вшивому затылку. – Смерти иль живота?
Гришка завял:
– Валет, край… Никогда сроду…
А кругом такое:
– Га.
– Так?
– Ага-бага…
– В цепь!
Попрыгали конвойцы в промоину. Илько с товарищами за камни попрыгали. И затворами щелк-щелк. Быть бы перепалке. Не миновать бы перепалки. Старики помешали, стоят на тропе, растопырились:
– Ат, бисово отродье!
– Чур, дурни!
– Матке вашей черт!
Пособачились-пособачились и вышли из-за своих прикрытий, все еще сжимая в жестких руках ружья и револьверы. До самого лагеря шли и ругались. Старики разгоняли их палками. Фенька шла сзади и отхаркивала сукровицу.
Кувыркался снежный ветер. Качались вершины широкоплечих гор. Снежной метелью умывалось утро.
Прискакал Александр.
– Каковы дела? – спросил он комиссаршу.
Фенька, оттирая шинельным рукавом запекшуюся на скуле кровь, доложила обо всем.
Ахнул Александр, плюнул, направил ее вместе с Илько в город: с тюрьмой дело по ходу, и в городе люди нужны.
Попрощался Илько с дядьком, по тропе бросился Феньку догонять.
На скале, над морем, в ветре, по ночи.
Костер в дыме, похожий на сиреневый куст.
Кисти спелых звезд.
Илько с Фенькой.
На шинельке в узел схлест. Ласковая сила сердце рвет. Вспомнила Фенька Трофима: сердце заморозил… Как просто и здорово. Тихо смеется Фенька:
– А ты подломил бы меня, как наш пулеметчик свою Марьку?
– Да, – тряхнул он разудалой башкой. Веселым огнем были затоплены глаза его, и легкая кровь винтом била в недумающую башку его.
Черный ветер сорвал и унес костер. Сны их были бурны и грозовы. Крики ночных птиц булькали над ними. И под ними – далеко внизу – в жарком разбеге кувыркалось море.
Утро градом горячих стрел в них.
Переливались мелкие тропы. Гудела земля, зверем залита. Гудели пятки Илько. Фенька легко поспевала за ним, ноги ее были сухи и горячи, как ноги скакунов, от бега задыхающихся на ходу. И глаза ее были веселее солнечных лесных полян.Город в лихорадке.
День-ночь лавина чемоданов, сундуков, людей двигается в порт. С вокзала, из города в порт. Стонали мостовые под кованым шагом ломовиков.
– Пошел… Поше-е-ол!..
К пристани жались английские, французские корабли. Метали корабли на русский берег тюки обмундировки, шотландские консервы, ящики кокосового масла, сгущенное молоко и ящики снарядов с траурным трафаретом:...
БЕЙ – НЕ ЖАЛЕЙ, ЕЩЕ ДОСТАВИМ
Город с верхом был налит ужасом и паникой. На базаре по телеграфным столбам были развешаны оборванцы: проволокой за шею, унылые руки, толстый язык, – баста.
Вечером пылающие кафе пенились смехом. С собачьей угодливостью улыбались конфетные румыны. Рыдали скрипки. Сильва, Кармен, тройка, которая по Волге-матушке… Мишели и Дианы, Жоржи и Анжелики. Глаза лысые, как перламутровые пуговицы. И ноздри широкие, пляшущие, такие у загнанных, храпящих коней. Спасительный порошок на кончике ножа:
– Аах!
По ночам, закованный в золотые цепи огней, рыдающий и пляшущий, город вздрагивал под ударами ледяного норд-оста. По ночам на Тонком мысу ружейная канитель: контрразведка зарабатывала хлеб и славу.
По заре гудела далекая канонада, по Закубанью стучались красные.
Подполье жило особой жизнью и особыми законами, совсем не похожими на те законы, что прикованы к человеку, как ядро каторжника. Сверкающее колесо дней сыпало удачами, провалами и счетной радостью.
Комитет стоглаз, столап.
В городе мобилизация: подпольный комитет посылает на приемочный пункт своих ребят, чтоб сагитировать и увести надежных в горы, в свой отряд.
За вокзалом в тупик загнан вагон патронов: патроны разгрузить и перебросить в горы.
Волнения в местном артиллерийском дивизионе: связаться, организовать, ночью офицеров под лапу, рядовых в горы.
Нужны денежки: собрать пару копеек у грузчиков и цементников; немедленно устроить налет на полковника Саломатова – за границу собирается, – золото, верное дело, крой.
Убрать Черныша: Черныш – начальник охранки. Подвешиванье за ребра, селедка, шомпола, иголки под шкуру, резиновые палки, лоскутки сорванных ногтей – все это дело его рук. Из тюрьмы стон: «Уберите Черныша»; от районных ячеек вой: «Смотайте гада…» За короткое время он перебил и перевешал три состава подпольного комитета. Не раз в него стреляли, бросили бомбу, и все впустую. Новые агентурные сведения, присланные на лоскутке папиросной бумаги: «Черныш в штабу на заседании, а выйдет к трем часам».
Штаб в пазухе города. Все равно, кокнуть. В комнате случайно шестеро.
Жребий бросали чечевицей.
Пала отметина на Илько.
Расплескивая по груди, хватил Илько стакан неразбавленного спирта. Обветренное цыганское лицо его потемнело – кровь взволновалась.
– Фенька, товарищи, дай закурить!
Поймал в портсигаре папироску. Прикуривает у Феньки, а затылок горит.
В дверь кинулся и вспомнил: так же горел затылок, когда его, Ильку, в Балабановскую рощу расстреливать вели.
Автомобилей фырк
Крошево лиц
Звон шпор.
С корзиной на голове Илько через дорогу:
– Лепошки… Горячи лепошки…
Штаб.
Из штаба вышел Черныш: папаха, усы, светлая серая шинель, ордена во всю грудь.
Илько навстречу.
Он…
Вот…
Тра-ра-ра-ра-ра-тах!..
Обойму в упор.
Смеется Черныш и рук из кармана не вынул.
От испуга Илько бежать не может. Черкнула мысль острая: «В панцире, говорили мне…»
Налетели шпики, казаки из дворов. Остры сабельки посекли на парне стеганую солдатскую кацавейку.
За день в горы сунули целый обоз мяса; на базаре шпика в сортире утопили; в бухте сожгли пароход со снарядами. Последнее было так: ночью, разгребая грудью кипящую воду, из далекого Марселя прибежал нарядный кораблик. А утром на явочную квартиру рабочего Петра Олейникова зашел подпольщик, матрос Герасим, одетый под английского капитана. Спросил он бутылку спирта и бутылку бензина. Спирт вылил в себя, а бензин засунул в карман и, не говоря ни слова, ушел. У начальника порта Герасим, сверкнув капитанским погоном, потребовал военный катер и на катере отправился «принимать снаряды». Через полчаса на рейде пылал кораблик, оглушительно рвались снарядные погреба, и черный дым затягивал горизонт. Вот и все.
Из тюрьмы опять письмо: «Каждую ночь уводят товарищей. Спасите, помогите».
Сердце в груди ворочается, а руки не достают – не фокус ведь.
Фенька вела подготовку налета на тюрьму. Бегала-бегала язык высунувши: подкуп надзирателей, сигнализация, телефоны, ключи, охрана, сговор с Александром – дела выше головы, а тут, ба-бах, завалилась Фенька и сама.
Порубленного, избитого Илько за руки, за ноги тащили по тюремному коридору. Голова билась о ступеньки, мела пол. Ржаво тявкнул замок. Пахнуло кислой вонью, холодным камнем.
С размаху
щукой
в угол.
От ревущей боли в холода очнулся. С великим трудом поднялся на ноги.
Ни сесть, ни лечь. Посеченная в ленты спина скипелась кровью. Зализал в деснах осколки зубов. От слабости прислонился к стенке и – навзрыд.После первого допроса заправили Илько в камеру смертников. Там Илько встретил Петьку Колдуна и товарища Сергея.
– Здорово!
– Здорово.
– Хомут?
– Какое… Так и так, ось в колесе, кругом пять в пять, ожидаем с часу на час, уховертки – ключи – в свою кузницу заказали.
Отлегло, отвалила смертная тошнота от сердца, повеселел Илько и огляделся: камера сутула, стара.
Ленивее волов выматывались мутные дни. Гулкие ночи уползали торопливо, оставляя за собой крики, плач, шелуху шороха. В камере смертников не было ни нар, ни стола, одни стены. По щиколки вода. Здоровые стояли по многу дней. Слабые сидели и лежали в воде.
Каждую ночь выдергивали смертников.
– Макаренко?
– Есть.
– Сидоров Иван?
– Тута.
– Калюгин?
– Я.
– Касапенко?
Молчанье.
– Петро Касапенко?
Из угла торопливо:
– Туточки он… От тифа помер, вонять начинает…
– Собирайсь!
Какие там сборы? Табачок, спички оставят – зачем добру пропадать? Потухающим глазом цапались за голые стены и, распрощавшись с товарищами, уходили в ночь.
Бандит Петька Колдун дожидался смерти беспокойно. Нанюхавшись марафету и наводя на всех уныние, он метался по камере, царапая когтями грязную грудь – рубашку проиграл, – на груди у него татуировка: «Боже, храни моряка».
А товарищ Сергей до последнего часа огрызком карандаша царапал воззвания «к рабочим, солдатам и крестьянам» и каждое утро передавал их туда, на волю.
Белые и чуяли недоброе, да кончика не могли найти.
Черныш наружную охрану удвоил. В тюрьме сам деловых тряс: кончика искал. На допрос – на ногах, с допроса – на карачках: «Как, да что, да какие твои мнения? Здорово живешь, сукин сын… Цоп, бяк, брык, ах, ах…»После допроса прочухался Илько в чужой камере: высокое окно, дикий камень прет. На койке, из-под груды тряпья, рыжий затылок.
– Фенька… Фенька.
Стонать перестала.
Приподнялась.
Спрыгнула и упала на Илько, прикрыла его собой, как клушка цыпленка.
– Ты, Илько?
– Я.
– Ну вот, опять вместе.
– Давно сгорела?
– Ерунда… А ты откуда? Из заводиловки? Ну, как?
– Без звука, – прошептал он и улыбнулся.
– Молодец, – поймала и крепко встряхнула его руку. – Знаешь, нонче ночью налет?
– Знаю.
– Тсс…
Только сейчас он заметил, что за ухом потемнели рыжие волосы, спеклись в лепешку, и щека Фенькина была чем-то проткнута.
Стукнул засов.
Ленивая дверь ржаво зевнула.
Кровяной глаз фонаря уткнулся в двоих.
Фенька перешла на койку.
Стражники стучали прикладами, переступали с ноги на ногу, покашливая в кулак.
Офицер такой красивый:
– Встать!
Двое подняли Илько, встряхнули, приставили к стенке.
Вялый офицер носовым платком чистит рукав, говорит устало:
– Козни зеленцов, налет на тюрьму, состав комитета, все это чепуха, вздор, все известно, меры приняты, крамола будет вырвана с корнем… – И даже про них – Илько с Фенькой – он все знает. Конечно, молодость, любовь…
Но это он говорит уже не по службе, а от чистого сердца. Требует от Илько пустяков: кое-кого назвать и пару-другую адресов.
Молчанье.
Бьется луна в оконном переплете.
Офицер простуженно кашляет:
– Предупреждаю, молодой человек, за неисполнение законных требований я отдам вашу девицу взводу моих солдат.
Илько молчит.
– Ну?.. Я надеюсь, вы будете благоразумны?..
Илько отхаркивает кровь и молча перебирает разбитыми губами. В нижнем этаже фальшивомонетчики горланили:
Крути, верти, моя машина,
Наворачивай пистон…
Фенька сказала глухо, ровно издалека:
– Илько, не смей.
– Вот как! – прорвало офицерскую вежливость, и ругательства хлынули из него.
Стены повалились на Илько. Ведро ледяной воды ему на голову. Опять подняли, прислонили к стенке.
– Ну? – крикнул офицер.
Илько шагнул вперед.
Звонкий голос толкнул его в грудь:
– Не смей!
– Прекрасно! – Повернулся офицер к солдатам и скомандовал: – Сыромятников, начинай!
Сыромятников передал ружье товарищу и схватил Феньку за волосы, отгибая голову назад.
Илько зажмурился…
Защекотало в носу…
Сподымя била дрожь…
Тошнехонько…
Мутно…
Как в дыму, он видел белеющие Фенькины ноги. Партизанская кровь замитинговала в Илько. Зажмурился, завертелось все в глазах.
– Стой! Ваше благородие, скажу…
– Молчи! – отчаянно крикнула Фенька.
– Ваше благородие… Все скажу, я, я…
Разбегаются мысли, как пьяные вожжи. Не соберет Илько мыслей, шатается Илько и видит вдруг: обняла Фенька стражника за шею крепко-накрепко, а другой рукой за зеленый шнур, за кобуру, за наган и – первую пулю в него, в Илько:
Бах…
По гулкому коридору топот многих ног и голоса:
– Братва, выходи!
– Живо-два.
– Хвост в зубы, пятки за уши.
Толпа арестантов царапалась на гору. Цепь зеленцов прикрывала отход.
Радостный Александр спросил об Илько:
– Куда подевался, не видно парня?
Фенька вскинула сползавший с плеча карабин и ответила:
– Загнулся наш Илько… Сердце у него подтаяло.В огне броду нет.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Налет на новороссийскую тюрьму был произведен в ночь с 20 на 21 февраля 1920 года. Освобождено шестьсот с лишним человек.Клюквин-городок
В России революция —
вспыхнуло
пламя и повсюду
прошлося грозой.
Первый радостный снеж засыпа́л город, словно сетью крыл худоребрый лес, сеялся на соломенные головы деревень. В степных просторах потоки снежа гонял вольный ветер, на сугробах играл ветруга зачесами гребней.
Дороги направо
дороги налево
снежный разлив…
На окнах настывали первые узоры.
Клюквин ликовал.
Фасады домишек были убраны ветками зелени и кумачовыми флагами. Где-то за пожарным депо взмывал оркестр. С окраин к центру, кривыми узкими улочками, лавиной стремились жители. С гиком мчались ребятишки. Вприпрыжку скакали озабоченные собаки. Широко, деловито шагали мужики. Задыхаясь, оправляя платки, бежали бабы.
– Заступница… Владычица… Идут.
– И то, идут… Батюшки, Дарьюшка, ох… Слава те!
– Куманька, сон-от мне…
Со стороны вокзала в главную улицу втягивался партизанский отряд Капустина. Дымились, всхрапывали приморенные кони. В седлах раскачивались чубатые партизаны – лица их были обветрены, забитые снегом черные папахи сдвинуты на затылки.
Через базарную площадь навстречу отряду со знаменами и оркестром двинулись железнодорожники, крюшники, ткачи, пекаря, кожевники, работники иглы…
– Мамка, гляди, гляди…
– Ээ, брат, силища-то, народу-то!.. Я сэстолько и на Ярдани не видал.
– Война… Этих лошадей да на пашню бы.
С тротуара стремительно метнулась пестрая юбка:
– Митрошенька…
Молодая женщина грудью ударила в волну лошадей… Задымленный ветрами горбоносый партизан перегнулся из седла, с лету подхватил ее под локоть и, посадив перед собою, под дружный одобрительный хохот стал целовать заплаканное смеющееся лицо.
– Ура, ура-а-а…
Задранные головы, распахнутые рты…
– Сват, Ермолай… Сват, дьявол те задери…
– А-а, мил-дружок, садово яблочко… Жив?.. Грунька-то тут убивается, двойню тебе родила.
Старуха хваталась за поводья гнедого коня, глаза ее вспыхивали и притухали, ровно копеечные свечки под ветром…
– Михаил Иваныч!.. Не видал ли Петьку?.. Сынка?
Михаил Иваныч – угреватый Мишка Зоб – рвал коню губы и с надсадой кричал:
– Не жди своего Петьку, Мавра… Вместе были… Петька, друг до гроба, под Казанью убили… – Зоб в сердцах урезал плетью пляшущего гнедка и ударил в переулок, к дому.
Старуха так и покатилась:
– Петенька… Батюшки… У-ух, ух…
Торжествующе гремел оркестр. Над городом волной вздымался гимн революции – вдохновенно звенели голоса женщин, согласно гудели баса, взлетая, сверкали детские подголоски. Боевая песнь колыхала, рвала сонную тишину городка.
На площади закипал митинг.
С исполкомовского балкона Капустин кричал в буран, будто спорил с ним:
– Волга – наша! Завтра нашими будут Урал, Украина, Сибирь! Генералы, купцы, фабриканты и всякие мелкие твари, сосущие соки трудового народа, – где они?.. Тю-тю… Все вихрем поразметало, огнем пожгло! К Колчаку побежали за белыми булками, за маслеными пирогами…
Передние колыхнулись в хохоте:
– У них с нашего-то хлеба брюхо лупится…
– Ваша благородия, хо-хо…
По всей площади густой рябью потянул гогот.
Спешившиеся партизаны топтались на мерзлых кочках, вполголоса расспрашивали о том о сем, рассказывали о последних боях под Симбирском и Самарой, слушали Капустина.
– Востроголовый мужик…
– Ну-у?
– Пра. А в бою жеще нет. «Ура» – и вперед!
– Капустин худого не попустит…
Ребром ладони Капустин рубил встречный ветер, глазами вязал толпу и громко говорил:
– Революция, свобода, власть… Заварили кашу, надо доваривать! Замахнулись – надо бить! Врагов у нас – большие тыщи!
С севера, из рукавов лесных дорог, сыпались обозы со штабами, ранеными. С далеких Уральских гор задирала сиверка. Остро посвистывал жгучий, как крапива, ветер. Хмурь тушила день, садилось солнце на корень.
Ночью покой притихшего городка охраняли патрули – кованым шагом они гулко били в мерзлые доски тротуаров, от скуки постреливали в далекое звездное небо. На базарной площади, на стыке трех больших улиц, пылал костер. Сонные дряблые лица огонь наливал дурной кровью. Вяло вязались солдатские разговоры, по кругу из рук в руки переходила махорочная закурка.
Ржавыми гвоздями визжала обдираемая обшивка лабазная.
– Накинь, Петров, накинь, разгони тоску.
Петров крошил в костер трухлявые доски, переливчато с захлебом чихал, припав на корточки, вертел закурку из сорванного с забора приказа, затягивался и начинал:
– В некотором царстве, в некотором государстве жил-был поп. Было у него ни мало ни много – восемь дочек. Нагуляные девки, пшеничный кусок. Поп возьми да и найми себе работника Чеголду. Ладно, и вот, в однажное время…
Сказка тонула в чугунном гоготе простуженных глоток.
Темнота ночи редела. Старый солдат Онуфрий бодро отбивал часы на каланче. Обтянутый серыми заборами город закипал с краев. Чуть светок, слободка на ногах. У колодцев бабы гремели ведрами. Мычал гудок в депо, откликался жиденький и дребезжащий с лесопилки, дружно подхватывали мельничные и мощным ревом вспугивали дрему утра. Ежась от свежего ветерка, торопливо шагали рабочие с узелками и мешочками, перекидываясь шутками и незлой руганью.
Бок о бок с макаронной фабрикой, в тяжелом доме купца Савватея Гречихина под утро кончалось заседание ревкома. Гильда протоколировала: охрана революционного порядка… национализация и учет предприятий… пособия семьям погибших партизан.
В угловой комнате лохматый сынушка купца Гречихина, Ефим Савватеич, строчил воззвание к трудящимся Клюквинского уезда – искры из-под карандаша летели.
Ефим – художник и артист. Смолоду на чужой стороне скитался, громовое отцово проклятие на шее носил. Революция подсекла старика под корень: два магазина отобрали, маслобойку, рысака Голубчика среди бела дня со двора увели, родовые дедовы сундуки растрясли. С горя удавился старик. Погребали его по кулугурскому обычаю, на дому, с гнусавым многоголосым пением кулугурских попов. Вскоре откуда-то из теплых краев явился и Ефим с клетчатым чемоданом на горбу: по родным местам стосковался, по сытному ржаному хлебу, по говяжьим – с мозговой костью и мучной подболткой – щам, кои варить по-настоящему только на Волге и умеют. Мотал уцелевшие отцовы дохи и столовое серебро, мазал картины, ходил на охоту. Переворот, чехи, мобилизация. На войну Ефима не манило. Перешел на положение дезертира и перебрался на жительство на городскую окраину, к старому отцову приказчику Илье Ильичу Хальзову. Скучно жил. От скуки однажды и на собранье приказчичье пошел. Там познакомился с Гильдой. Потом они встретились еще раза два в городском саду, и любовь накрыла их своим блистающим крылом. Гильда работала в подполье. Он не знал этого и немало дивился ее занятости и постоянной беготне по домишкам рабочей слободки.
– Что у тебя, родни в городе много? – спрашивал он.
– Да, – смеялась она, – много родных.
– Чудеса… Ты сама-то ведь, кажется, из Риги?
– Молчи, дружок. Потом узнаешь.
Вся подобранная и свернутая, как аккуратная лошадь, она удивляла его своей замкнутостью. Энтузиазм молодости был запрятан в ней, как огонь в кремне. И стриженую русую головку, и строгий смуглый профиль, и точеную фигуру – всю ее любил Ефим. А в Гильде мерцала память о рижской гимназии, о большом немецком театре, о прочитанных романах… Ефим – художник, артист, поэт, и талант его, верилось ей, так же широк, как широки его плечи. Как не любить Ефима?..
Близились дни победы. Однажды, в звонкую осеннюю ночь, взявшись за руки, они до рассвету гуляли по саду, и Гильда, желая сказать ему что-нибудь очень хорошее, вдруг выпалила:
– Знаешь, я большевичка… работаю в подпольной организации…
Он встретил эту весть равнодушно и пробормотал:
– Поскорее бы война кончилась… Я увезу тебя в Крым, на Кавказ, там есть такие чудесные уголки…
…В комнату вошла Гильда и заглянула ему через плечо:
– Ого, расписался… Не думаешь ли ты строчить целую поэму?
– Не беда, мужик большой разговор любит.
– Подумай, Ефимчик, как чудесно. Город наш! Какие у всех сегодня были лица, глаза!.. – Уперев руки в боки и встряхивая бурей светлых кудрей, она протанцевала по комнате и упала в кресло, закрыла глаза. – С ног валюсь…
– Новости есть?
– По фронту – гоним… На днях исполком ждем… Пока мне поручено вербовать инструкторов и агитаторов… Ефимчик, родненький, думаю, ты не откажешься в деревню махнуть?
– В какую, к черту, деревню?
– Ну, объедешь волость, другую, агитнешь по выборам в сельсоветы… Так мало своих людей… Я на тебя рассчитываю.
– Я бы не прочь, но…
– Не беспокойся, инструкциями наградим.
– Я не о том, – оборвал строку, – я буду так скучать… Пламенный вихрь испепелит меня…
– Подай в партком заявление, не могу, мол, ехать – влюблен… Кстати, с завтрашнего дня объявляется партийная неделя, вербовка новых членов… Надеюсь, ты… – Она замялась.
– О да, да! – подхватил он. – В душе я всегда чувствовал себя коммунистом, хотя в партийных программах плохо разбираюсь… Ну, да это пустяки. За тобой, голубка, я готов пойти и в рай и в ад… Послушай вот.
Бойко прочитал воззвание.
Гильда расподдала вовсю: много эсеровской фразеологии – «сермяжное крестьянство», «свободный народ»; много непонятных для деревни слов; указала места, на которые нужно упереть; подсказала несколько лозунгов и, свернувшись в кожаном кресле калачиком, покатилась в сон, словно в яму, полную черного пуха.
Ефим начисто переписал воззвание, швырнул карандаш и на цыпочках – к креслу. Крупно выписанные, пухлые губы тихонько окунул в ее русые волосы…
– О, моя радостная песнь, жидким пламенем поцелуев я налью твою душу до краев, через края…
По коридору загремели мерзлые копыта, в дверь – по-деловому, кулаком:
– Эй… Барышня-латышка тут проживают?.. На собранье!
– Фу, черт… Ти-ше.
В дверь – папаха, усы:
– Барышня-латышка?.. В бахрушинский дом на профсоюзное собранье… Целый час ищу, наказанье господне.
Заборы ломились под тяжестью приказов: «На военном положении… впредь… строго… пьянство… грабежи… виновные… на основании… вплоть до расстрела». Дольше других задерживало воззвание: «Товарищи и граждане, наш уезд – одна трудовая семья. У нас общие интересы. Мечта сбылась! Все в коммуну!» Воззвание было отпечатано в ста тысячах экземпляров и разослано, как на то последовало из губернии разъяснение, «по печальному недоразумению».
У клюквинских жителей, никогда не отличавшихся особой отвагой, от приказов и подобных воззваний голова шла каруселью. Зять не узнавал шурина, свекровь – невестку, сват – брата. Подозрительно озираясь друг на друга, торопливо расползались обыватели по своим берлогам.
Единственный в городе автомобиль круглые сутки считал ухабы: комендант, ревком, чека, вокзал, телеграф, ревком, чека… На Сенной площади митинг подвод. За город гужом тянулись воза с лесом, железом, коровьими тушами, буханками мерзлого хлеба, – об эти солдатские булки топоры зубрились, – хлопали кнуты и ругань, пересобаченные лошаденки в нитку вытягивались. На речке Говнюшке поднимали уроненный белыми мост.
Торжественно, в потоке музыки прибыл исполком старого состава. Ревком передал исполкому «всю полноту власти».
Машина заработала на полный ход.
Со двора на двор пошли комиссии по реквизициям, конфискациям, обследованию, учету, регистрации, с переписью, обысками и розысками. Спешно переименовывались улицы: Бондарная – Коммунистическая, Торговая – Красноармейская, Обжорный ряд – Советский. Вшивую площадь и ту припочли, – сроду на ней галахи в орлянку резались, вшей на солнышке били, – площадь Парижской коммуны. Заведующий отделом управления, вчерашний телеграфист Пеньтюшкин, большой был искусник на такие штуки. Полуюноша, полупоэт, он всегда изнывал от желания творить: то подавал в чека феерический проект о поголовном уничтожении белогвардейцев во всероссийском масштабе в трехдневный срок; то на заседании исполкома предлагал устроить неделю повального обыска, дабы изъять у обывателей излишки продуктов, мануфактуры, обуви; то представлял в совнархоз проект постройки гигантского кирпичного завода; то посылал в губернский город донос на местного комиссара здравоохранения, который, по слухам, и т. д. Даже самые глухие и жителями забитые переулки – Заплатанный и Песочный – были переименованы в Дарьяльский и Демократический. В последнее время Пеньтюшкин, недосыпая ночей, лихорадочно разрабатывал проект о новых революционных фамилиях, которыми и думал в первую очередь наградить красноармейцев, рабочих и советских служащих. Он всегда боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил его идей, и чрезвычайно неохотно посвящал в свои планы даже друзей.
Облезлые фасады купеческих магазинов лихо перечеркнули красные вывески:...
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ № 1
СКЛАД СНАБАРМА
РАЙРЫБА
На главных перекрестках, ровно столбы, вросли в землю милицейские. Большаком и проселками, дымя морозной пылью, как на пожар, поскакали инструктора, сотрудники, чекисты, нарядчики, курьеры, продовольственники и бравая уездная милиция. Начальник милиции Зыков рапортовал отделу управления: «Всецело соблюдая нравственную сторону вверенных мне милиционеров и дабы привить им воспитательные качества, специальным приказом я отменил пагубную привычку к матерщине». Пеньтюшкин похвалил его.
Ночами бежали из города с возами скарба люди, обиженные революцией, почему-либо не успевшие отступить с чехами. В деревне они надеялись укрыться от гроз и бурь. Двинулся в глубь уезда, с документами народного учителя, и колчаковской армии поручик эсер Борис Павлович Казанцев, оставленный своей организацией для подрывной работы в советском тылу.
Прифронтовая полоса, в городе две власти – гражданская и военная. Исполком как исполком. Начальник гарнизона офицер Глубоковский усат, багров, рычащ. На семейных вечеринках лихой танцор широчайшими малиновыми галифе разметал дорогу к сердцам красавиц. Никто так – с ветерком – не умел проехать по городу на казенной паре, и не кто иной, а он, Глубоковский, на зависть Пеньтюшкину придумал танец «За власть Советов» и хорошим знакомым по секрету сообщал, что разучивает новый вальс «Слава Красной Армии».
Приезжие мужики спозаранок набивались в исполкомовский коридор, разглядывали приказы по стенкам, тихонько, будто в церкви, разговаривали и следили пол лаптями. Звякая ключами, отхаркиваясь руганью, приходил дворник Адя-Бадя:
– Что не с полночи пришли, дьяволы косолапые… Вишь, наследили, медведи.
– Не лайся, старик, мы не за чем-нибудь, мы по казенному делу.
– Иди, иди, не огрызайся! – и метлой выгонял мужиков.
С пожарной каланчи на город падало десять дребезжащих ударов… Исполком наполнялся гулом голосов, треском телефонных звонков и болтовней машинок. Мужики лазили с этажа на этаж, из отдела в отдел, из комнаты в комнату. На мужиков, как кошки, фыркали барышни; секретари щупали тощие мужичьи карманы; величественные завы восседали на инструкциях, схемах и проектах, в которые, по самым точным расчетам, изъязвленная жизнь должна была войти, как нога в лакированный сапог.
В красном зале, тесно заставленном свезенными сюда со всего города пальмами, расширенный пленум совнархоза знакомился с докладом Сапункова о состоянии уездной промышленности.
Не так давно Сапунков, – одна кудря стоила рубля, а всего и за сотню не укупишь, – краснощекий молодец, красовался за прилавком пшеничника, купца Дудкина. Парень не дурак, услужливый и почтительный, до хозяйской копейки старательный, не чня другим, про которых говорилось: «Приказчик гривну хозяину в ящик, полтинник за голенищу». По узким тропам хозяйского доверия он упорно пробирался в душеприказчики, помаленьку сбрасывая с себя азиатчину, поддевку и плисовые шаровары променял на куцый пиджак с сиреневым галстуком и разговором обзавелся обходительным. Дудкин откупил его от солдатчины, обласкал, пустил в свой дом и прочил поженить на прокисшей в девках старшей дочке Аксинье. Так бы оно, пожалуй, и было, но подоспела революция и вышибла у старика Дудкина из рук сразу всех козырей. А умному человеку и при революции жить можно. За полгода купцов приказчик перебывал в эсерах, анархистах, максималистах и перед Октябрем переметнулся к большевикам. Большевиков в Клюквине насчитывалось худой десяток, да и то половина из них были неустойчивые или малоподготовленные и на какой-нибудь иезуитский вопрос противников вроде: «Скоро ли в Германии наступит революция, если заключим с ней мир?» – не смигнув, отвечали: «Через неделю». Произведенный в лидеры Сапунков вечерами аккуратно ходил на Сенной базар, место сборищ, всячески поносил буржуазию и ее охвостье, покидал митинг последним, порой под утро. Помалу образовывалась жизнь, образовывался и парень: забросил сиреневый галстук, обтянулся френчем; Аксинью сослал на кухню и женился на младшей Дудкиной, Варюше; стариков, вчерашних своих благодетелей, тоже ни разносолами, ни словом ласковым не баловал и держал на собачьем положении. И совсем бы прогнал тестя, да знал, что купцом где-то в саду зарыт клад. Вначале Сапунков жаловался товарищам: «Язык не позволяет мне быть интеллигентным», но через год и это препятствие было преодолено. За год прочитал, по его собственному утверждению, десять пудов книг, листовок, воззваний и теперь в любое время и на какую угодно тему мог сделать многочасовой доклад. От неумеренного потребления печатного слова притупились его глаза, выцвел румянец, и в этом, похожем на перелицованное пальто, постаревшем человеке никто из клюквинских жителей не признавал краснощекого кудрявого молодца, волчком вертевшегося по хозяйской лавке или в часы досуга беззаботно травившего базарных собак…
– Взято на учет, – докладывал он пленуму, – около сотни предприятий, из которых одна ткацкая фабрика вырабатывает в месяц двадцать тысяч аршин сукна и столько же мешочного холста; мельницы наши в день могут пропускать до семидесяти тысяч пудов зерна; переспективы товарообмена…
Гладко выходило особенно насчет «переспектив», но когда в докладчика полетели тяжелые, как булыжники, вопросы, требующие немедленного разрешения, – он замялся, засморкался, предложил вызвать преда… Председатель исполкома Капустин вошел, на ходу что-то прожевывая, на ходу с кем-то поздоровался и, не дослушав до конца задаваемых вопросов, стал отвечать на полный мах; все было продумано и подытожено раньше: сырье на подборе, госснабжение никудышное, денег нет – после белых в казначействе остались одни дрожжевые бандероли, полученные из губернии грошовые ассигновки будут ухлопаны на ремонт тех же предприятий… Резолюция пленума: «Поднять дух масс. Выделить для руководства предприятиями лучшие силы. Навалиться на буржуазию и кулаков с внеочередной контрибуцией».Кабинет преда.
Над бумагами склонилось тяжелое, мужичье, будто круто замешанный черный хлеб, лицо Капустина. Все дела, и большие и малые, он делал с одинаковой неторопливостью, со спокойным азартом. Хозяйственно обмозгует, смечет на живую нитку и тут же, следом, схватится наглухо гвоздить: никакое дело от рук не отбивалось. В доме коммуны, где жили почти все ответственные работники, комната Капустина всегда пустовала: в исполкоме он работал, ел и спал. Голос у него был размашистый и сочный – заговорит, заматерится – сквозь все стенки и этажи слышно… Машинистки кудахчут, чернильные мыши попискивают, а он знай садит, ровно дюймовые гвозди заколачивает:
– Ты что же это, пес лохматый, опять качать взялся?.. Ты понимаешь, в какое время живем?..
Член президиума, пекарь Алексей Савельич Ванякин, топтался у двери, до колен свесив багровые кулаки и виновато уронив седеющую голову. Смолоду он пристрастился к винцу, и никому, кроме жены, пьянство его не было в досаду – вся слободка пила. Новое время, новые и песни. Революция требовала от слободки людей с трезвой мыслью и твердой рукой. От многолетнего пьянства голова пекаря тряслась, а слезящиеся, налитые мутью глаза его совестливо моргали:
– Прости, Иван Павлыч, слабость наша.
– Когда же будет конец твоей пьяной картине?
– Чего уж там…
– Гляди.
– Вот те крест, Ванюшка, завяжу.
– Сколько раз зарекался?
– Завяжу… Да ежели теперь возьму утильную каплю в рот, в глаза ты мне наплюй.
– Ну, ладно. На-ка вот декрет про чрезвычайный налог, он короткий и темной массе сильно непонятен. Так ты, того, разведи его пожиже, разъясни на самом простом, обывательском языке, что за налог такой…
– Я… Сам знаешь…
– Малограмотен? Полбеды. Буржуев одолели, одолеем и грамоту. Главное, вникни в декрет, обмозгуй. Пусть секретарь слова твои запишет, а потом вместе разберемся.
Налитый горьким раскаянием, загребая ковер непослушными ногами, Алексей Савельич уходил… На своем столе с тоскливым отчаянием он перебирал ворох бумаг: читать умел только по-печатному, скоропись разбирал туго. Потом ругался с шайкой оборванных солдат, вломившихся в исполком с требованием наградных за взятие Уфы, или звонил, без конца восхищаясь диковинным устройством телефона, звонил в чеку к приятелю Никифору Сычугову, и меж ними перекидывался примерно такой разговор:
– Ты, Никишка?
– Я, Лексей Савельич. Здравствуй. Как живем?
– Да ничего. Вы как?
– Мы тоже ничего. Что новенького?
– Да ничего… У вас как?
– У нас тоже ничего… Ночью колчаковского офицеришку шлепнули.
– Дело неплохое… А меня опять сам лаял.
– За пьянку?
– За нее за самую, будь она проклята.
– Тебя бить надо.
– Меня? Правильно.
– Заходи вечерком, поговорим.
– Ваши гости.
– Принеси проса хоть горстей пять, второй день голуби не кормлены.
– Ладно.
– Тебе хорошо слыхать?
– Так себе, будто таракан в ухе.
– Ежели спонадоблюсь, звони.
– Обязательно… И ты звони.
– Я-то позвоню. Прощай, Лексей Савельич.
– Прощай, Никишка.
С довольной улыбкой Ванякин бережно вешал трубку, но, увидав франтоватого секретарька, ожесточался и, повышая голос до крика, на самом простом обывательском языке пересказывал очередной декрет, добавляя от себя или о выселении буржуазии из особняков, или о козьем и коровьем молоке, которое через квартальные комитеты бедноты предписывалось «всецело и по совести делить между детями советского города Клюквина».
В первое же воскресенье Ванякин напивался наново, катался по городу на исполкомовской паре с гармонью, с песней. Разгуливающие по главной улице жители шарахались к заборам и шипели:
– Комиссары… Комиссарики…
Приходили из деревень ходоки, комбедчики, председатели сельсоветов. Капустин запирался с ними в кабинете, угощал чаем с сахарином, подробно выспрашивал о мелочах деревенского житья-бытья, на прощанье тряс дубовую руку делегата и, если это был человек свой, напутствовал:
– Подкручивайте кулакам хвосты!.. Без кулака и буржую городскому не воскреснуть… Себя блюдите пуще глазу – чтоб ни пьянцовки, ни разбою не было… Помни: у нас простонародная революция… Держи уши вилкой и стой на страже!
Каждый день нависали над исполкомом конфликты.
Случилось на трое суток задержать приварочное довольствие гарнизона. Глубоковский с караульной ротой обошел склады упродкома, посбивал замки и все запасы мяса, сала, круп перебросил в комендантское управление. Продовольственный комиссар Лосев прибежал в исполком в истерике. Капустин успокоил его, как умел. Совместно составленную жалобу послали в губернию. Не успел Капустин утереть продкомиссаровских слез, как с телеграфа работающий там партиец принес копию только что посланной военной телеграммы:
Начснабарму
Мероприятия военвластей заготовке продовольствия встречают упорное сопротивление стороны тыловиков, которые сплошь питают ненависть представителям армии. Прошу полномочий необходимых случаях применять оружие. Жду санкций реквизиции вина для нужд армии.
Начгар Глубоковский.
Капустин спрятал телеграмму в карман и велел немедленно вызвать к себе председателя чека Мартынова.
На фабрике без движения хранилось полмиллиона аршин сукна. В губсовнархоз и центротекстиль не раз посылались отношения с просьбой разрешить пустить часть уже начавшего преть сукна на товарообмен. Центры хранили упорное молчание. Сапунков в счет зарплаты выдал рабочим по пяти аршин. Из губернии спешная депеша: «Сукно отобрать, виновных в выдаче за расхищение народного достояния привлечь к суду ревтрибунала». От рабочих делегация: «Сукна у нас нет, в деревню снесли, променяли». Перепугавшийся насмерть Сапунков прибежал в исполком. Капустин и этого успокоил.
Руководитель работ по восстановлению моста, инженер Кипарисов, в деловом разговоре по какому-то поводу назвал продкомиссара генералом. Лосев инженера – скотом. Тот, не желая остаться в долгу, обложил его по-русски. Тогда юный продкомиссар порвал ордера на снабжение рабочих, вытолкал собеседника из кабинета и будто крикнул: «Хам». Инженер настрочил письмо в редакцию, подал заявление в чека, пожаловался своему военному начальству и к концу рабочего дня бледный от негодования прибежал в исполком…
– Поймите, какая наглость… Я со студенческих годов болел интересами народа… Он оскорбил во мне все лучшее, все святое…
Капустин пообещал достать ордера на продукты и сейчас же, в присутствии инженера, позвонил Лосеву:
– Послушай, что там у вас вышло с товарищем Кипарисовым? Нельзя же так…
– Он не товарищ, а беспартийная тварь, – прокричал тот, – такую сволочь давно бы следовало к стенке поставить… Он…
Капустин повесил на крючок трубку:
– Видите ли, инженер, Лосев извиняется и сожалеет о происшедшем… Он у нас заработался, нервничает, ну и… стоит ли вам на мальчишку внимание обращать?.. Поезжайте-ка, кончайте работу, а продукты завтра утром пришлю…
Помимо подобных конфликтов жалили мелкие недоразумения с проходящими воинскими частями, с железнодорожным начальством, с заградительными отрядами, реквизициями, арестами и проч.
Недохваток людей, скудость агитации и невязь с местами чуть не подломили уездный съезд Советов и комбедов. Наехали и бедняки, и кулачки, и кулачишки, и капитал-кулаки всех сортов и мастей. Программа – обух: «Долой контрибуцию, долой разверстку, дай соли, дай гвоздей». Съезд – рычаг, от которого зависел успех продкампании, всяческих заготовок, мобилизаций. Комитет партии послал к делегатам двух агитаторов. Делегатское общежитие в казармах: железные печки, угарный дым, сушились портянки.
– Здравствуйте, товарищи, – в один голос сказали двое присланных.
Дружное молчание.
– Как живете?
Нехотя, через силу:
– Живем, декреты жуем… Двое дён животы дрогнут… Пустое дело – кипяток, и того нет, не сготовили, не додумались… Эх, власть, эх, управители…
– Дорогие товарищи…
– Пустое дело кипяток, плюнуть раз… И трактиры, опять же, разорили… Захлебнуться нечем.
– Дорогие товарищи…
– Дорогие… У нас мозоли на руках, а у вас на языках…
Угарная махра, угарные разговоры до самого дня открытия. Разговоры разговорами, а чайком так и не распарились мужичьи кишки, так и дрогла в холодной казарме сотня ржаных персон, глотая дым и казенный суп жиже дыму. Лошадям делегатским и тем почету не было – десяток под навесом, а остальные гнулись на юру, склонив унылые морды над гнилым военкоматским сеном. Организовать все это как-то никому и в голову не приходило, а Капустин был в отъезде. Растерявшийся Сапунков побежал на телеграф:
«Срочная шифрованная губком копия губисполком. Клюквинский уезд один из богатейших. Условиях кулаческого окружения работа чрезвычайно трудна. Налог местами сорван или проходит вяло. Наложено двадцать пять миллионов собрано пока три. Завтра открывается уездный съезд настроение ненадежное есть опасения срыва. Немедленно высылайте ответственного товарища для проведения съезда».Ответ:
«Вся ответственность проведения съезда возлагается на уком и президиум исполкома. Случае срыва единовременного чрезвычайного налога или продкампании будете отозваны преданы суду. Через неделю пришлем на постоянную работу Павла Гребенщикова».
Съезд открылся многоречивым докладом Сапункова о международном положении. Половина делегатов – в коридорах. В сортире – фракция кулаков.
– Свет в окошки… Га… Ровно у нас неисчерпаемый родник.
– Только и выглядывают, кто слабо подпоясан… Упрись, православные.
– Выходит, дело борона…
Выручил вернувшийся из Москвы Капустин. Угодил в самый кон. Словом о слово ударял, огонь высекал: умел о самом заковыристом сказать просто и убедительно.
Зал притих, засопел с присвистом, слушая простые и страшные слова о голодающих городах и разоренных войною целых областях, о красном фронте и задачах Советской власти.
Саботаж был сломлен, кого надо уговорили, кого надо заставили, но постановления протащили целиком. В новый исполком были выбраны пятнадцать коммунистов и трое сочувствующих.
Без четверти восемь. Последние пятнадцать минут Гильда лежала с распахнутыми глазами, вспоминала о делах вчерашних и сегодняшних. Обуревали сомнения насчет методов преподавания политнаук, насчет целесообразности пичканья рядовых партийцев отвлеченными теориями, когда они не умели провести собрания или не могли толком объяснить, почему введена хлебная монополия.
Часовая стрелка срезала цифру «восемь». Гильда выпрыгнула из теплого гнезда постели и, шлепая по крашеному полу босыми ногами, побежала к умывальнику. Сквозь захватанное лапой мороза окно просекались острые глаза январского солнца. Гильда, ровно утка, полоскалась в тазу и косила резвую, как лунная вода, улыбку на Ефима:
– Довольно дрыхать, вставай.
– Не хочу, – буркнул сердито.
– Что с тобой?
– Ты опять сейчас за свои конспекты засядешь?
– У меня вечером доклад.
– Когда они кончатся?
– Кто?
– Доклады.
– Дурак… Господи, и почему ты такой… глупый?
– Доклады, собранья… В сущности, чужим людям ты даришь все время, мне же…
– Каким чужим?
– Не суть важна… Приходишь домой усталая и валишься спать… Мне же, ровно нищему, бросаешь лохмотья минут… В моей душе рвутся бастионы любви, остывающий пепел летит на наши головы…
– Перестань комедиантничать… Если бы ты видел мой слободской кружок! Рабочих! С какой жадностью они тянутся к знанию! Ведь это для них все ново! Работа с ними для меня праздник! Если бы ты мог понять… ты не стал бы бить меня палкой по ногам. – Стремительно сдернула с него простыню и плеснула ледяной водой. – Вставай!
Запыхтел гневно и с головой завернулся в одеяло.
Гильда быстро оделась, завела примус и – за стол… Но строчки летели и гасли, как капли дождя на песке, мысль рикошетила в Ефима… Первые дни и ночи, первые сладостные стоны… Летели сны светлые и легкие, как осенняя вода… Ефим был ласков и нежен, мчалась пылающая карусель его восторгов. А она? В ней сердце кричало петухом… Бегала, земли под собой не чуяла. Но – дерево осыпает осеннее перо, скоро осыпались и расписные деньки… От слез у любви линяют глаза, перестают различать краски и подбирать цвета… Ефим стал раздражителен и груб… Отчего? Неужели и у них все идет так, как всегда и у всех?.. Как пишут в глупых романах?.. Ефимчик, он был такой хороший… Захотелось подбежать, растормошить, зацеловать… Жарко покраснела, решительно распахнула книгу и потемневшими глазами начала рубить строчки, будто молодая лошадь хрупкий овес.
…Ефим, напевая: «В трагедиях героев ждет могила, в комедиях их цепи брака ждут», неторопливо шел улицей, радовался морозу, снегу, блеску дня. Ветром намытые сугробы сверкали под солнцем. Сытые сизари ворковали под крышами. «Самое время по озерам бы пошляться, блёсен нет и купить негде. Схожу-ка в слободку к Тимошке Ананьеву, пропалой рыбак, должны у него блёсны быть…»
На каланче старый солдат Онуфрий бодро отбивал часы.
На углу широкое грязное окно продовольственной лавки было сплошь уклеено объявлениями, словно сентябрь багряным и седым листом. Хвост очереди загибался в переулок, бабы ругались:
– Ирод, бумажек-то сколько налепил… Подумаешь невесть что…
– Н-да, бумажек много, а получать нечего. Насчет селедок-то будто старая записка болтается?
– Свободна вещь. Может, и мерзнем зря?
Заведующий лавкой, стекольщик Кашин, старые объявления не срывал, а новые все подклеивал, а бабы плутали в них. Более смекалистые ребятишки могли безошибочно сказать, какой записке неделя, какой – две:
– Фефелы, примечай, побелели чернила, значит, старая… Нечего тут и стоять, носами шмыгать…
Ефим почитал безграмотные каракули, залепившие окно, порадовался на игравшего с собакой мальчишку: пестрая дворняжка с разбегу стремительно опрокидывала мальчишку в сугроб, рвала на нем лохмотья, кружилась над ним, как ошалелая, потом отбегала, наслаждаясь созерцанием своей победы, зарывалась мордой в снег и, отфыркиваясь, заливалась собачьим смехом.
Около исполкома – сборище.
Преподаватель пластических танцев мсье Леон и племянница заводчика Лидочка Шерстнева работали в счет трудповинности. Француз по шинели подпоясан веревкой, на ногах вместо лаковых башмаков опорки; от прежней роскоши у него остались одни пышные усы, даже в такой неподходящей обстановке сохранившие довольно привлекательный вид. Торопливо взмахивая пешней, скалывал лед с тротуара. Лидочка, обнимая метлу рукавами – замерзли ручки, – гнала ледяные крошки на дорогу. Не по росту длинное, с чужого плеча, пальто путало ее шаг. Работающих широким полукругом обступали деревенские мужики, похожие друг на друга, как пеньки. Подходили все новые и новые – в тулупах, с кнутами – подводчики.
– Глянь-ка, Ванька.
– Что тут за ярманка?
– Э-э-э…
– Во, деляги.
– Буржуи, стало быть?
– Они, старик, они самы.
– Кхе, вроде на смех?
– Какой тут смех, слезам подобно.
– Чудно…
– И я баю, чудно дядино гумно – семь лет хлеба нет, а свиньи роются.
– Бабам и тем спуску не дают.
– Под один запал.
– Кака бела да аккуратна…
– Пава… Дочка Шерстнева, слышь.
– Ну?
– Вот те крест.
– Ермолай, гляди, девка-то чего выделывает!
Подводчиков распирало от смеху. Хлопали большущими, как коровьи ошметки, рукавицами, толкались, тузили друг друга по бокам – грелись.
По дороге за возами бежали, дымились морозом ломовики. Которые смеялись, которые ругались непристально:
– Тетенька, ягодка, метлу-то не за тот конец держишь…
– Задррррррогла, моя раскррррасавица…
– Легче, барин, легче, погана кишка лопнет!
– Го-го-го-го-го…
Из-за угла вывернулся длинный обоз г… бочек. Передовым ехал барышник Люлин Илья Федорович – пророчья борода, первеющий барышник по всему уезду, скот гуртами скупал, – шапку на нос насунул, не глядит, не мил ему белый свет. За ним, крепко вбивая шаг, шел кривой околоточный Дударев – гроза всех клюквинских шинкарей и запивох, – ковырял мужиков, как заржавленным гвоздем, мутным глазом. Помахивая мочальным кнутом и кротко улыбаясь, восседал на своей бочке протодьякон отец Дивногорский – еще до революции за толстовское вольнодумство был он отлучен от церкви и из города губернского прислан на жительство в Клюквин.
Ободранные, зачумленные лошаденки еле мотались в оглоблях. С лаем, свистом и криками обоз провожали слободские собаки и мальчишки, готовые от усердия через пупок вывернуться:
– Дяденька, не макай куском в бочку, комиссару скажу!..
– Дядюшка, плюнь кобыле под хвост!
Мужики кнутами отогнали собак и мальчишек. В темных обветренных лицах тихим смехом искрились глаза.
– Штука…
– Вот ты и думай… Не одних нас большевики встречь шерсти гладят.
– В серой-то шапке, никак, зятек Поваляева будет?
– Похоже.
– Лабаз какой, дом под железом, жить бы да радоваться…
– Не говори, сват.
– Аяй… Грязную бочку… И выдумают же, черти, а-ха-ха…
– Конфуз-то, чаю, уши вянут.
– Конфузно в чужой карман залезть.
– О-хо-хо…
– Без милости.
– Штука с мохорком…
– Савоська, не пора ли лошадей поить?
Ефим помнил Лидочку еще с гимназии, когда-то увлекался ею, в любительском кружке оба ходили в заглавных ролях. Годов пять уже не видел ее, но сейчас узнал с первого взгляда. Нерешительно подошел, приподнял шапку. Она не знала, куда деть метлу, поправила выбившуюся из-под платка каштановую прядь. Дрогнули ее посиневшие губы.
– Ефим… Ефим… Товарищ… не знаю, как вас…
– Все равно, – бледно усмехнулся он, – здравствуйте.
– Ефим Савватеич, дорогой… Это же такой ужас… Я ни в чем не виновата… Я согласна на все, буду служить, трудиться… Пожалейте меня, я вас умоляю.
– Я бы от всей души, но… вы понимаете?
Мужики подошли вплотную, бесцеремонно слушая разговор. Смущенный Ефим улыбался, вертел в руках шапку…
– Я бы с радостью…
– Умоляю… У вас столько товарищей… Вы и сами, кажется, коммунистом стали…
– Да, да…
– Нельзя ли как-нибудь?
– Постараюсь… Честное благородное слово… Пока до свидания.
– Всего доброго. – Лидочка растерянно и умоляюще улыбнулась. – Шапку наденьте, Ефим Савватеич, простудитесь…
Пришел пропадавший на целый час конвоир и, подмигнув подводчикам, скомандовал во всю глотку:
– Смирна, по фронту равняйсь! Шабаш, вшивая команда, отдыху вам десять минут с половиной.
Леон и Лидочка присели на поваленную тумбу.
Ефим еще раз поклонился и, подняв воротник, пошел через площадь мимо похожей на виселицу, выстроенной к торжествам арки… «Девочку нужно спасти… Зачем? Так… К кому бы торкнуться?.. С Гильдой разве поговорить?.. Не стоит, – женщина все-таки, черт знает что может подумать… Заверну-ка к Гребенщикову, человек он новый, авось…»…Уком во весь второй этаж.
Павел Гребенщиков молод, огромен, лохмат.
Его тесная комнатушка была обкурена, обжита; пахло в ней здоровым духом – псиной, молочным жеребенком, рассолом. Стол и бархатные спинки стульев были размашисто исцифрены мелом – Павел любил математику. Нечесаный, немытый, в одном белье, сидел он в постели и на книжных корках писал инструкцию о перевыборах квартальных комбедов… Гостя поддел на вопрос:
– Гречушкин…
– Гречихин, – поправил Ефим.
– …ты с газетным делом не знаком?
– Нет. Хотя… вы, вероятно, уже слышали обо мне?
– Ну?
– Я художник и поэт.
– Во, во, попоем вместе.
– Я…
– Потом расскажешь… Едем со мной в типографию, кстати и о работе сговоримся.
– О какой работе?
– Будешь театр народный налаживать и мне помогать… по газете. Я ни теньтелелень, и ты ни в зуб ногой, значит, дело пойдет. – Гребенщиков закричал на полный голос: – Михе-э-э-йч!..
Михеич у ворот снег кучил, услыхал, прибежал, седеющий и румяный:
– Налицо.
– Вызови из исполкома лошадь да позвони Пеньтюшкину, пусть карандашей и бумаги пришлет, а то вон на чем писать приходится, – отбросил он книжные корки.
– Есть налево, – весело отозвался Михеич и убежал трясти телефон.
Помимо уборки двора и комнат, он заведовал партийной библиотекой, обклеивал город газетами, мыкался по поручениям, был хорошим массовым агитатором, вообще старик на все руки, кабы не малограмотность, которая загораживала от него свет и путала ему ноги… А Павел – председатель укома – месил жизнь, как сдобное тесто, и она пищала у него под жадными руками. Остальные члены укома забегали изредка: голоснуть, подписать протокол, иногда посоветоваться. Сапунков, считая себя одним из старейшин и отцов организации, недолюбливал молодого председателя и часто без толку вламывался в спор, чтобы показать обилие приобретенных знаний: пускался в дремучие дебри изречений, выуживал какую-нибудь историческую аналогию, переплетая ее с поднятым вопросом. В укоме не было ни денег, ни жратвы, ни карандашей, ни обстановки, кроме десятка покалеченных стульев и одного стола. Да еще в углу стояло чучело бурого медведя. «Он мужик хороший, от него как будто и теплее», – говаривал Михеич, а Венеру Милосскую он выволок в дровяник. Сознательная канцеляристка Маруся Векман, помаявшись недолгое время в партийном комитете без пайка, перекочевала в финотдел, и теперь Павлу даже бумажонки приходилось налаживать самому. Единственным и верным помощником остался Михеич. Вдвоем они братски делили всю работу укома. Павел – в штаны, в шинель, в дверь, в исполкомовские санки.
Сытая лошадь высветленной подковой рубила дорогу. Морозный ветер, как пламенем, обдавал лица. У Гребенщикова и шинель и ворот суконной блузы нараспашку.
– Вчера поднимали вопрос о посылке тебя на продкампанию, провалили. Никто тебя, кроме Гильды, толком не знает, а хлеб из мужиков выколачивать – дело разответственнейшее. Покажи себя в городе, на черновой работе, а портфель не убежит.
– Я и не гонюсь… Я понимаю…
– Знаю я вашего брата, интелягушку… Работать и умеете, но страсть любите у всех на виду быть, в воловью работу вас, чертей, не запряжешь… Вот и в тебе, наверно, капризов и вывертов всяческих хоть отбавляй? Ты тоже, кажется, из этих… Сынок, что ли, купеческий?
– Напрасно вы так… Я в подполье полгода работал…
Перебегая типографский двор, Гребенщиков продолжал:
– На днях является в уком Лосев. «Честь, говорит, имею представиться. Прислан я из центра на пост продовольственного комиссара, вот мои рекомендации». И грох на стол пачку бумажек, не вру, с полсотни!.. Матюкнул я его сгоряча… «Что ты, говорю, собачья жила, ровно жених свататься пришел и товар лицом кажешь? Районы надо ставить, ссыпки налаживать, амбары сгнили, есть на чем зарекомендовать себя». Ах, пес!.. Нет, нет! Вас, чертей, в котлах салотопенных вываривать надо, кожу вашу тонкую дубить, а потом уж и подумать, стоит ли до работы допускать…
Метранпаж Елизар Лукич Курочкин провел их в машинное отделение. Помещение грелось одной чугунной печкой, около которой целыми днями топтались наборщики, пекли картошку, поносили порядки и кашляли, задыхаясь от дыма. Печатники за посуленный Лосевым дополнительный паек работали одетые. Расхлябанная плоская машина дребезжала, ровно телега по мостовой, и судорожно выбрасывала большие – с простыни – отпечатанные листы. Гребенщиков выхватил один лист и захохотал. Ефим, обиженный решительностью и грубостью их недавнего разговора, заглянул ему через плечо. По сыроватому листу – вершковыми буквами:
ВОЗЗВАНИЕ
К трудящемуся населению Клюквинского уезда
Я, солдат первой в мире социалистической революции, призываю всех честных граждан-крестьян чуткой душой откликнуться на мой пламенный призыв:
Хлеба!
Москва!
Красные волны революции!!
Хлеба!
Фронт и тыл!
Мировая коммуна!
Борьба за лучшие идеалы человечества!
Цветы сердца!
Хлеба!
Хлеба!
Хлеба!
Упродкомиссар Валентин Лосев– Видал?
– Н-да, со стороны стиля – безвкусица.
Павел, высмеявшись, свернул листок и сунул за пазуху.
Номер газеты набирался вторую неделю. По реалам были разбросаны оригиналы статей и тощие гранки корректуры. Наборщики, сетуя на невзгоды жизни, дружно саботировали. Вождь идейных клюквинских меньшевиков, метранпаж Елизар Лукич Курочкин, сунув рукав в рукав и поблескивая лысой, похожей на жестяный чайник головой, расхаживал по типографии и маятонным голосом говорил, что нельзя верстать полосу, когда нет набора, не хватает типографского материала, нечем промывать шрифтов. За тридцать лет своей работы он, Курочкин, не помнил, чтобы наиболее сознательная часть пролетариата была в более плачевном материальном положении; обещаемые Советской властью блага и свободы остаются на бумаге; растоптаны лучшие заветы вождей демократии; идея большевизации и социализации страны утопична и т. д. Павел не раз схлестывался с ним спорить, но царящий в помещении холод гасил революционный пыл типографов, а голод крутил кишки.
Сегодня Гребенщиков решил действовать. Написал коротенькую, но убедительную записку завздраву эмалированному доктору Гинзбургу, и через час Ефим притащил для промывки шрифтов полведра бензина. Сам Павел съездил в продком, к «солдату первой в мире социалистической революции» Лосеву, потом повидался с Капустиным; по пути прихватил из дому железную печку.
Типографы уже мыли руки и собирались шабашить.
Павел задержал их ненадолго и обратился с коротким словом:
– Товарищи! Мне не хотелось бы с вами ссориться… Давайте попробуем говорить по-хорошему… Работать нам так или иначе, а придется вместе и долго, больно долго, значит…
– Молокосос! – ринулся было Елизар Лукич, но его удержали.
При глубоком и несочувственном молчании Павел продолжал:
– Нынче пришлю столяра, ухетует вам двери и окна… Вот еще одна печь. Ставьте ее руками, а не как-нибудь, для себя же, гляди. – Он легонько толкнул колено дымившей печки, и железная труба с грохотом рассыпалась. – Разве это дело? Для себя и то лень поставить как следует…
Кто-то бездумно рассмеялся.
– Пока достал вам немного денег, вот… – он вывалил на стол свое двухмесячное, вчера полученное жалованье, – разделите понемногу…
– Нам не нужны подачки.
– Это часть вашего заработка, а после как-нибудь раздобудем и еще… Но, товарищи, завтра газета должна выйти во что бы то ни стало! Текущий момент…
– Слыхали, надоело…
– Что надоело?
– Пустозвонство ваше.
Целую минуту все молчали… Потом страдавший одышкой верстальщик Потапов глухо выговорил:
– Мы, товарищ редактор, не супротивники… Жена, черт с ней… И сам не в счет… А вот ребятишки малые, они ваших декретов не читают, жрать просят… Да ежели бы паек мало-мальски… Нам, товарищ, работа не в диковину, работы мы не боимся…
Кто-то поддакнул, кто-то принялся ругать кооперацию, а заодно и комиссара Лосева, переплетчик Фокин подал мысль собраться вечером – вымыть окна и полы, поставить печку, протопить помещение и с утра приняться за работу. Настроение подавленности было рассеяно. За предложение Фокина голосовали единогласно, воздержался один Курочкин. Расходились шумно.
У ворот Павел догнал метранпажа.
– Ты вот что, Елизар Лукич, если будешь затирать бузу, не посмотрю ни на твой революционный стаж, ни на то, что ты коренной пролетарий, в чека отправлю. Поверь слову, перед всеми говорю.
– Верю. Вас, подлецов, на доброе дело нет, а этого только и жди… Чекушкой меня, брат, не запугаешь; сидел шесть лет при царе, посижу и при власти узурпаторов. История вам этого не простит! – И, подняв вытертый лисий воротник, проваливаясь в сугробы, старик ударился через улицу.
Ефим сообразил, что наступил самый подходящий момент, и, оставшись с Гребенщиковым наедине, после нескольких незначительных вопросов сказал:
– За организацию народного театра взяться я и возьмусь, но надеюсь, что все наши учреждения, и в частности вы, как человек, пользующийся колоссальным авторитетом, пойдете навстречу?
– Ты о чем?
– Вообще… Мало ли предстоит хлопот?.. Нужно будет приспособить сцену, заготовить костюмы, подобрать труппу… Я еще не знаю, но, возможно, придется как-нибудь временно, что ли, просить об освобождении из концентрационного лагеря одной артистки, Шерстневой… Она совершенно незаменима на амплуа инженю… Она, в сущности, и попала-то туда, кажется, по недоразумению.
– Ты, Гречихин, напиши свои соображения и завтра покажешь мне… Всю эту историю с народным театром надо двигать быстрее. Кроме того, завтра с утра приходи корректировать газету.
– Но я…
– Поймешь, не юродивый… Дело нехитрое, тот же Курочкин покажет… Ну, прощай.
В свою комнату Ефим ворвался вихрем:
– Ура! Поздравь! Я – помощник редактора и директор народного театра! – Закружил, зацеловал, подбросил Гильду под потолок. – Работать, работать и работать, черт побери!.. Ну и собака же твой хваленый Гребенщиков, – отпыхнулся он и рассказал события дня.
– Бросишь лентяйничать? – Глаза Гильды блеснули радостно.
– Довольно, довольно лодырничать!
– Правда? Ты обещаешь?
– Клянусь костями всех моих славных предков.
Гильда спела новому директору песенку Гейне, усадила его за политэкономию и, попудрив нос, убежала в гарнизонный клуб «Знамя коммунизма», где вела два кружка.
Клуб ютился в мрачном подвале бывшего трактира Ермолаича. Лестница провоняла кислыми тошнотными запахами. В бильярдной помещалась читальня с дюжиной тощих брошюр и дешевый буфет: ржаные пряники, окаменевшие крендели и чай с сахарином в тяжелых глиняных кружках, прикованных к стойке проволокой. Свой оркестр целыми вечерами запузыривал марши, мазурки, «Интернационал». Зрительный зал был густо перекрыт плакатами, бумажными флажками и мудрыми изречениями. Сцену освещала керосиновая лампа, углы зала были завалены глыбами промозглого махорочного сумрака.
Молодые солдаты последнего призыва, с шапками в руках, шумно рассаживались по новым нестроганым скамейкам. Немало Гильда потратила усилий, чтобы взнуздать солдатское внимание, отучить лущить семечки и перемигиваться во время урока.
– Какая рота, товарищи?
– Вторая, вторая…
– Помните, о чем мы беседовали позавчера?
– Так точно, помним. Про бога и попов.
– Ну вот, сегодня поговорим о другом.
– Смирно! – кричит от дверей ротный, и солдатские голоса смолкают.
Все было мудро и просто:
– Красная Армия – защитница трудящихся… Наши враги – кулаки, помещики и капиталисты… Беспощадно… Долг… Красное священное знамя… Долой… Да здравствует… У кого есть вопросы, товарищи?
Вопросы занозистые и в голос, и записками:
– Когда война кончится?
– Нельзя ли перевестись в милицию?
– Кто такая Антанта?
– Должна ли свобода защищаться за деньги или даром?
– Почему мобилизованы наши годы, а не другие?
– Просим прибавить хлеба к обеду.
– Сколько коммунисты получают жалованья?
Подсовывались и такие записки, что – ай да люди – молодую лекторшу и в жар и в холод бросало. Обыкновенно минут тридцать набегало сверх часа, она ловко направляла беседу, закругляла вопросы, сводила их на нет и громко объявляла:
– На сегодня хватит, время истекло… Некоторые ваши вопросы довольно трудны, я подумаю над ними и отвечу в следующий урок, послезавтра. Всем понятно?
– Так точно, понятно.
– Выла-а-азь…
Толкаясь, разминая затекшие ноги, распаренные, вываливались на улицу, дымили махоркой, смеялись. Угрожающе гремела команда ротного:
– Станови-и-и-ись, вашу мать!..
Второй час Гильда работала в кружке повышенного типа, с коммунистами: восемь человек на весь полк. И на них было немало ухлопано сил, чтобы приохотить к занятиям, привить любовь к книге и отучить заглядывать лекторше за кофточку. Вначале помногу приходилось говорить самой. Слушатели, ровно сговорившись, дружным хором молчали. Раз от разу, понемногу раскачивались и царапались, кто как умел, на ледяную гору незыблемых истин. Гильда больше не вела их, только подталкивала и в меру похваливала.
Час растягивался на два, а то еще и с гаком.
После лекции у выходной двери ее всякий раз поджидал вновь отстроенный юноша, красный офицер Коля Щербаков, и всякий раз, пристукнув каблуком, говорил одно и то же:
– Сочту за счастье проводить вас… – Подхватывал лекторшу под руку и стремительно увлекал ее в расписанную звездами ночь. Кругом каждая снежинка кипела слезой восторга, а глупый и румяный Коля засыпал ее вопросами: «Любите ли вы Гамсуна и Арцыбашева?.. Может ли идейный коммунист жениться?.. В Индии или в Америке вспыхнет раньше революция?.. Почему девушка закрывает глаза, когда ее целуют?..»
Наговорившись за вечер, Гильда ничего не отвечала и только смеялась. Смех ее был бодр, как хруст кочня на молодых зубах.
Спутник торопился подарить новость:
– В воскресенье у нас в казарме состоялся грандиозный митинг. Выступаю с часовой речью… Говорю о красных флагах, о баррикадных боях в Берлине и Гамбурге, о близком торжестве коммунизма во всем мире, и, понимаете, две роты молодых солдат, как один, поднимают руки: «Желаем подписаться в большевики…» Нелепо, но замечательно!.. И командир полка вчера мне сказал: «Нелепо, но замечательно!»
Завидя свой дом, Гильда уже не слушает его; наскоро прощается и бежит, рвет дверь, бурей летит по темной лестнице… «Ефим… Он так любит целовать холодные, поджаренные морозом щеки». Звенит сердце, озябшие пальцы нашаривают скобу…
В углу, под пальмой, голый Ефим, припав на корточки, с рычанием грызет утащенную из кухни сырую телячью голову. Тело и лицо его дико расписаны углем и цветными карандашами. В ушах, на подвесках бренчат дверные ключи, из ноздрей торчат роговые шпильки, губу оттягивает медное кольцо.
Некоторое время Гильда стоит в оцепенении:
– Что ты делаешь, безумный?
– Я?.. Художественно иллюстрирую первобытного человека.
– Х-ха, где же твое обещание работать?
– Скучно, дружок.
– Болван.
– Я начинаю терять вкус и к твоим поцелуям.
– Что?
– Ррррр, ууууууу… – Защелкал зубами, завыл и, размахивая телячьей головой, убежал на кухню.
Книга политической экономии была раскрыта на первой странице.
Во всю стену цветными карандашами – лозунги:Моя дорога – все дороги!
Мой путь – все пути!
Мое жилище – весь мир!
Были расписаны стены стихами, зверями, лесами и сценками из охотничьего быта. Слеза застилала глаз и мешала разобрать рисунок. Всю ночь Гильда молча просидела за столом… Слушала бой часов и скрип уличного фонаря, что раскачивался прямо против окна. Стряхивала ночь на фонарь снежные перья, по синему полю далекие сверкали и переливались звезды…
На первое торжественное заседание вновь избранного исполкома были приглашены представители фабрично-заводских комитетов, кооператоры, работники профессиональных союзов и председатели квартальных комитетов бедноты.
Из словесной мякоти многочасовых докладов выпирали ребра задач, а задачи были огромны и просты: выкачать восемь миллионов пудов хлеба и перебросить его в центр; организовать городские низы; из глубин уезда вывезти к линии железной дороги полтораста тысяч кубов дров; потушить разгоравшийся тиф; углубить классовое расслоение деревни; провести всяческие мобилизации.
Во всех речах было одно:
– Товарищи, поддержись!
В перерыве заседания дежурный подал Капустину телеграмму, присланную из губернского города:
Уральская и Оренбургская области снова неспокойны. Срочно требуются пополнения восточный фронт. Предлагается десятидневный срок всеми имеющимися в наличии силами провести по уезду мобилизации трех очередных годов. Дальнейшие директивы завтра высылаем с курьером. О принятых мерах ежедневно доносите телеграфом.
Капустин повертел в руках бумажку, свистнул… На глаза попался розовый затылок продкомиссара.
– Лосев!
Подбежал:
– Я вас слушаю, Иван Павлович.
– Чего я тебя хотел спросить?.. Как его, этого… – Капустин крепко потер лоб. – Да, сколько у тебя сейчас народу?.. Ну, партийцев и этой… саранчи?
– Ответственных работников?
– Ага.
Продкомиссар выхватил из френча новенький, совершенно чистый блокнот – еще не успел записать в него ни единой буквы – и, мельком полистав, выпалил:
– Под рукою четверо, завтра ожидаю двоих, в уезде у меня агентов, инструкторов и райпродкомиссаров… ммм… двадцать восемь, итого… сейчас, – чирк, чирк, – итого тридцать четыре, не считая двух продотрядов и шести летучих заготовительных отрядов… – Уши его зарумянились от удовольствия.
– Вот что, Лосев, твой доклад перенесем на завтрашнее заседание… Сейчас беги к себе, поднимай на ноги курьеров, телефонистку, зажигай в своем дворце огни, жарь, наяривай, звони. Понимаешь, боевой приказ, мобилизация!
– Я тут при чем?
– Завтра, к трем часам дня, пришлешь в уком за инструкциями пятерых своих лучших коммунистов и человека три беспартийных, но таких, чтобы… сам понимаешь.
– Позвольте, дорогой Иван Павлович, – Лосев нырнул в портфель и зарылся в бумаги, – согласно циркулярного распоряжения наркомпрода от седьмого сего января…
– За неявку их ответишь ты.
– Посмотрим.
– Ну, живой ногой!
– Я сейчас же дам телеграмму в Москву и в губпродком… Вы срываете мою работу…
Капустин наклонился и сверкнул ему в ухо яростным ругательством. Лосев сгреб бумаги, шапку и убежал, бормоча: «Не понимаю, черт знает что такое, генеральские замашки».
В углу, на широком диване, курили и о чем-то крупно разговаривали Гребенщиков, Мартынов и военный комиссар Чуркин – в недалеком прошлом дамский портной. Капустин подошел к ним и показал телеграмму:
– Вот, ребята, наша очередная задача, давайте обсудим.
Поговорили, и, не дожидаясь конца заседания, Чуркин уехал к начальнику гарнизона Глубоковскому составлять текст приказа, так как сам с этим делом был мало знаком, а Гребенщиков убежал разыскивать метранпажа Елизара Лукича: приказ решено было отпечатать этой же ночью.Утром, зля собак своим унылым видом, двое растяпистых солдат нестроевой роты раззаборивали приказ о мобилизации. За солдатами гужом впритруску бежали козы и, пачкая морды в типографской краске, слизывали приказ с еще не остывшим клейстером. На углах собирались жители, новой тревогой, как льдом, затягивало город.
В нетопленном укомовском зале Чуркин напутствовал коммунистов, отправляющихся на места для проведения мобилизации. Шинели, полушубки, драповые пальтишки. Глаза ждущие, покорные, как сучки в бревенчатых стенах укома. Крюшники, железнодорожники, ткачи, чуть ли не поголовно и сами мужики, только вчера переобувшие лапти на сапоги, – знали: степной народ своеволен, туго придется… И оттого ли, что ехать все-таки надо, или от унылого голоса Чуркина, читающего, ровно над покойником, – голос у него был жидкий, как светлая вода, – всем муторно стало… Загородивший собой весь пролет окна богатырь Алексей Галкин густо зевнул.
– Кончай, что ли, военком, али тут тебя до ночи слушать будем?
– Правильно, кончай… Пора… Ясно все.
В текущих делах пожаловались:
– Одёжи теплой нет, в чем ехать?
– Нынче в городе тридцать градусов, а там, в степи, он, батюшка, как завернет, завернет…
– Семьи-то как же останутся?.. Ты, товарищ Гребенщиков, приглядывай тут, чтобы, значит, и паек нашим бабам, и все такое…
А двое продработников совали ему заявления.
– Мы не на эту работу сюда командированы… Вы поймите, товарищ председатель…
– У меня удостоверение от врача, будьте добры, войдите в положение… Нельзя ли как-нибудь…
Серый после бессонной ночи, Павел постучал по столу согнутым костлявым пальцем и негромко сказал:
– Товарищи, вот вам мандаты, литература и бомбы… На места!…Степи, степи и черные леса. Петли и переплеты унавоженных дорог. По задумчивым расейским просторам нога за ногу и след в след брели голодные дни. Вьюга пела в степи древнюю песнь, зализывала вьюга прогонистый волчий след.
Снега́, снега́…
В снегах дымились теплые гнезда деревень.
Избы, свернувшись в сугробах, дышали хлебным и овчинным дыхом. Глухо вопрошали избы:
– Пошто приехали?
– Товарищи крестьяне, Советская власть с надеждой глядит на вас и призывает вас…
Солома, лыко, плетневая хлябь…
– Вот што… та-ак…
– Товарищи…
Мужичий кряк утробен, едуча мужичья слеза, земля под нею горит.
– Выходит, красны с белыми дерутся, а серого по шее бьют?
Разговор у деревенского старика гуще чернозема весеннего; скажет этак-то да погодя еще:
– Мужичья плешь вроде наковальни, всяку чертоплясину через нее гнут… Что тут будешь делать?.. Ладно, видно. Затирай, старуха, подорожники, а ты, сынок, отгуливай останны деньки. Послужи, отведи свой черед… Не мы первы, не мы и последни… – Подумает, подумает да еще: – Товарищи, скоро ли замиренье выйдет? Какой год маемся, шутка ли?– Весной, старик, ожидаем.
– Дай ты, господи, самый к севу.
Молодая деревня догуливала останные деньки, переплывала пьяные моря, гармонь разводила на весь мах…
Угоняют нас в четверег,
Прощай, лес, прощай, дуброва.
На крутой советский берег,
Прощай, девка черноброва…
По деревне из конца в конец, подобен вьюге, мел и кружил визг, свист, надсадный рев.
– Гуляй, парень, рвись надвое!
– Качай воду, ломай лес!
– В креста, бога, мать! [2]
– Га-га-га…
– Поддай пару, голыши, буржуи, не дыши!..
Плясали, плакали, сморкались…
На мельнице на ветрянке,
Прощай, лес, прощай, дуброва,
Окна бьем, летят стеклянки,
Прощай, девка черноброва…
Старая деревня за околицу провожала надёжу свою, выла истошно, надсадно, на тысячу голосов:
– Батюшки… Ванюшка… Светик ты мой… Оо… О-ох…
В пушистых снегах вились дороги. По сотням дорог мерзло визжали полозья, закуржавелые лошадиные головы мотались в дугах.
К городу,
в город, обтянутый серыми дощатыми
заборами.
На приемочном, как всегда, трепет и страсть, разухабистая удаль и жалостливая растерянность, сопливые поцелуи, пьянка и песня: русский человек пьет-поет и с горя, и с радости…
– Годен, следующий!
– Годен, давай проходи!
– Годен…
Крутую гору го́ря размывали пьяные слезы, песня и гармонь…
Мобилизация, казалось, удалась. Правда, в двух самых крепких волостях и вышла заминка, зато татары, чуваши и мордва прислали призывников раза в два больше: раз зовут, значит, иди и ты, Мишка, и ты, Гришка, и вы, Сабир с Шарипом. Когда родились, черт вас упомнит, совет-бачка кашей масленой кормить будет, штаны даром даст… В казарме с первого дня их прозвали «идолами».
Была в городе —
БАНЯ ПАРИЖ,
ОБЩИЕ И СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА
Стала —
КРАСНАЯ КАЗАРМА
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
Окна заколочены фанерой. Оба этажа внабой. По скамейкам, по асфальтовому полу, в коридорах, по бельевым ящикам – всюду лапти, чапаны, пестрядина. Пятилинейные дохлые лампы, тусклый холод, зудящая тоска. Кипяток раз в сутки – по утрам, с полночи в очереди, – на всех не хватало кипятку. Обеда ждали в сонной одури, да и обед-то праховый, известно – солдатски щи, хоть ты их ешь, хоть в них портянки полощи. Не стареют старые пословицы. Суточное довольствие: хлеба фунт, сахару шесть золотников, соли по вкусу, приварок никудышный. В первые дни еще терпимо было. Мазались домашние харчи. Потом подвернуло, аяй, начала кишка кишке – казать. Не столько голод, сколько холод донимал. Казарму совсем не топили, дров не было. Хотя и нашлись бы дрова, привезти некому, да и не на чем. Пожалуй, и лошадей разыскать можно было бы, да разве натопишь эдакий сарай, тут каждый день две сажени надо. И окна были все перебиты, ветер сквозь так и хлестал, вольный свет не натопишь. На ремонт средств не хватало, тут делов было на год. Да и то сказать, для кого ее ремонтировать, храмину этакую? Мобилизованным все равно скоро на фронт отправка. Оба этажа были заняты разноязычным говором, вшивыми лохмотьями. Сожгли двери, скамейки, шайки. Зарились на дровяной сарай, да не достать: строгости, порядок, из бани призванных никуда не выпускали. От скуки табуном подваливались к двери, тоскующе и нище, по привычке отцов, просили караульного:
– Пусти, товарищ.
– Не приказано.
– Не могу.
– Брось вола валять.
– Сказал, не пущу, и все тут.
– Вон сарай, оторвем по доске и этим же следом вернемся.
– Разойдись от двери.
Сулили лепешек, табаку – и не глядит, не подкуришь. Понуро расходились.
– Чудно, ровно арестантов караулят.
Потом доныхрились: караульный из особой роты.
– Што это за особенна рота?
– Кто их знает… Коммунисты, слышь, да китайцы.
– Ну-у?
– Вот те и гнут, а ты корчишься.
– Приметили, какой на нем сапог? Подошва толще твоей губы, голянище клеймено пятиухой звездой…
Томились, гадали, как да что?.. Целыми днями до обалдения играли затертыми картами, рано ложились спать и подолгу, не спеша, вспоминали деревню, в разговорах распуская душу. Мобилизованные солдаты старой службы и бывшие офицеры держались отдельными кучками.
Как-то в праздник забежал в казарму военком Чуркин, кукарекал:
– Революция… Контрреволюция… Мир без аннексий и контрибуций…
В коридоре кто-то свистнул и заорал:
– Хлеба мало-о-о!
Военком смешался:
– А?.. Что? Хлеба? Вам хлеба мало?.. Вы еще семеро за одной крысой не гонялись…
Слушали, вытараща глаза. «Идолы» из десяти слов понимали одно, да и то не всякое. С опаской подсовывали вопросы:
– Почему не топят?
– Когда обмундировку дадут?
– На фронт погонят али куда в охрану?
– Будет ли обученье?
– За что держите нас взаперти, ровно зверей?
– В баньку бы…
– С кем воевать? За что воевать?
– Нельзя ли послать к Колчаку делегацию и заключить с ним какой-нибудь мир?
– Почему приказ о мобилизации не был согласован с сельскими обществами?
Чуркин крутил чуб, с пятого на десятое разъяснил, что было по силам его уму, в заключение, сбитый вопросами с толку, выругался и, бренча кавалерийской шашкой, убежал: до вечера ему нужно было провести еще три таких митинга.
После всего, расправив пушистые усы, выступил фельдфебель Науменко:
– Чули, хлопцы, що вин, сукин сын, нам набрехал?
– Чуем, чуем, добра не жди…
– Войну, братцы, выдумывают большевики, чтобы перевести простой народ, а самим блаженствовать.
– Бежать надо…
Дальше было так.
Недолгое время обучали молодых солдат ружейным приемам и рассыпному строю, потом выдали полный комплект обмундировки. Слух прошел, не нынче завтра отправка.
– Под козыря.
– Не зевай, ребята, на фронт угонят, оттуда не вырваться.
– Не миновать в разбег пуститься.
– Само собой.
Пожгли подоконники, выдрали рамы и фанеру. Печки порушили, по кирпичу раздергали. К чему и печки, ежели тут жить не думано? Обмундировку кто в мешки потискал, кто на себя напялил. Сгребли караульного, забили ему рот обмоченной онучкой, проволокой зацепили за нежное место и подвесили в предбаннике на перекладину – не могли выломать и сжечь ту перекладину, здорова была.
И в ночь
буйными ватагами
потекли до родных мест.
В бане осталось с сотню или поболе того идолов. В городе они были первый раз, бежать убоялись, не знали дорог. Их допрашивали, щупали, нюхали, расстреляли двоих, – членам наскоро сорганизованной комиссии по борьбе с дезертирством они показались способными на любую крамолу, – остальные были отправлены в распоряжение губвоенкомата.
Вскоре разбежался караульный батальон. За ним сорвались две отдельные роты, обучаемые Гильдой. Недели через две от гарнизона осталось: комендантская команда, боевая дружина коммунистов и Чуркин со своим комиссариатом.
Из города на все стороны поскакали отряды по борьбе с дезертирством, тревожно загудели телеграфные провода, полились слезливые воззвания, подкрепляемые громовыми приказами:
Волкомам, комбедам, сельсоветам срочно. Дезертир, вернись!.. Дезертир – изменник революции! Смертельный удар!.. Позор!.. Белые банды!.. Кровожадная свора помещиков и генералов!.. Позор!.. Все виновные, суровое наказание, вплоть до конфискации движимого и недвижимого имущества.
Следом была проведена партийная и профессиональная мобилизация. Негустыми кучками в военный комиссариат шли записываться ткачи, которых можно было узнать по ситцевым пропыленным лицам и сутуловатости; подбадривая себя громким разговором и смехом, прямо с работы, прокопченные и перемазанные олеонафтом и маслом, шли рабочие депо; слободка дала революционную молодежь и сорвиголов, разных Яшек-кудряшей, Гришек-атаманчиков, которым некуда было девать свою силу и громкая слава о поножовщине которых передавалась из рода в род, из курмыша в курмыш. Призываться с чапанами и вообще быть вместе с ними сорвиголовы считали позором, но со слободскими коммунистами, среди которых было немало отчаюг, они готовы были идти хоть куда и драться с казаками, с офицерами не хуже, чем дрались в слободке на вечорках из-за девок или так, ради смеха.
У приемочных столов шумели очереди.
– Яшка, здорово.
– А-а… Ты тоже воевать, а говорили, тебя баба ухватом запорола…
– Оторвись ты, юрлова шайка.
– Ну-ну, жарнём, за нами дело не станет.
– Удалой долго не думает, сел да и заплакал.
– Хо-хо-хо…
– Подходи, товарищи, налетай, не задерживай!
– Фамилье?
– Пиши, Гаврил Овчинкин.
– Член партии?
– Обязательно.
– Какой ячейки?
– Первая мукомольная.
– Распишись.
– Неграмотен… И пальцев недохваток, на германской растерял, вона.
– Куда же ты без пальцев пойдешь?
– Я не на пальцах хожу, а на ногах… В крайности, пиши в обоз, кашу варить, и то человек нужен.
– Правильно, Гаврюшка, – зашумел заметно подвыпивший низенький и толстый, похожий на мешок муки, крюшник Ведерников, – все до одного пойдем, все помирать будем!.. Душа вон!.. Не поддадимся!.. Никогда сроду не поддадимся!..
Провожали отряд в солнечный воскресный день с музыкой, песнями, речами и клятвами, а проводив, сразу забыли о нем. Жены с детями подолгу и часто без толку толкались в приемных, глотая невеселые сиротские слезы… Город снова и снова впрягался в работу, как немудрящая, но старательная лошаденка в тяжелый воз.СЕГОДНЯ
ОТКРЫТИЕ НАРОДНОГО ТЕАТРА
СПЕКТАКЛЬ В ПОЛЬЗУ РУССКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА
I. В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ
Трагедия в двух действиях
Соч. Ефима Гречихина
II. ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ
Исполнит любимица публики
Л. М. ДАРЬЯЛОВА-ЗАВОЛЖСКАЯ
III. ФОКУСЫ И АКРОБАТИКА, УГАДЫВАНИЕ
ЧУЖИХ МЫСЛЕЙ И ПРЕДСКАЗЫВАНИЕ БУДУЩЕГО
ВАКУЛЕНКО-СТОДОЛЬСКИЙ
IV. ДИВЕРТИСМЕНТ И УСИЛЕННЫЙ ОРКЕСТР
V. БАЛ ДО ЗАРИ
Директор-распорядитель и главрежиссер
Е. С. ГречихинНеловкая история вышла с военнопленными.
Прибыли они двумя эшелонами и остановились, не разгружаясь. Прислали в исполком делегатов: люди голодают, болеют, мерзнут, нужны подводы, одежда, врач. Военнопленные – уроженцы Клюквинского и соседних недалеких уездов – народ битый, тертый, все Европы сквозь прошли. На чужой стороне научились орудовать с машинами, вкусили всяческих наук, и теперь для своей страны они являлись настоящим кладом. Прежде чем пустить в деревню, было решено обработать их.
Павел нагрузил санки литературой и – на вокзал.
Помещение крохотное, митинговать пришлось на запасных путях, на юру. В плеске шинельных лохмотьев, в толпе замученных и смертельно усталых людей Павел говорил недолго – ветер леденил зубы, захватывал дыхание. Спрыгнув с тюка литературы, он сорвал рогожку и подал пачку листовок опаленному морозом солдату:
– Ну-ка, землячок, раздай.
– Не нукай, товарищ, еще не запряг, – смущенно улыбнулся солдат и, не взяв листовок, отвел руки за спину.
Другой из-за его плеча визгливо закричал:
– Зачем нам ваши прокламации?.. Хлеба неделю не видим, это да-а-а…
Застонали, закачались промерзшие голоса:
– Голы, босы…
– Страдали…
– Эх, товарищи… Пять годиков, как пять деньков, понимать надо, чувствовать…
– С самой границы митингами кормите… На станциях кипятку – и того нету…
– Скотинка бессловесная.
– Родина, кровь…
– Гляди, товарищ, разуй глаза!
Из лохмотьев виднелись голые куски тела, обрубки рук. Страшно глянули черные в сухой парше лица и вялые обмороженные уши. Павел, пока говорил, как-то не замечал всего этого. Литературу растащили на раскурку, на подтопку костров, на подвертывание на ноги, чему научились у немцев.
– Вижу, сидите в беде, – продолжал Павел, замешавшись в толпу, – но криком горю не поможешь… Выберите из своей среды комиссию в три человека и сейчас же присылайте в исполком, авось вместе чего-нибудь и придумаем. А доктора вам пришлем немедленно и хлеба наскребем…
За вокзалом Павел перегнал обоз ломовиков: широкие сани были внакат полны трупами тифозных и мороженых солдат.
Держать в голодном городе тысячу лишних ртов не сулило ничего путного, необходимо было во что бы то ни стало протолкнуть их дальше. Комитет, под председательством Елены Константиновны Судаковой, развернул воззвание «Ко всем честным гражданам». По городу был произведен сбор теплых вещей. Исполком, отдел собеса и фабрики подкинули, что смогли. И наконец, этот спектакль, открытый длиннейшей речью Елены Константиновны. Она говорила, во-первых, как председательница комитета, во-вторых, как заведующая отделом народного образования и потом вообще любила поговорить на народе. Судакова – члениха исполкома, старая учительница. Вытертая плюшевая шляпка кукишем, вишенки на шляпке. Она отбыла два года ссылки, сидела в тюрьме, о чем не раз напоминала выскочкам и новичкам. Об ее страданиях подробно знала вся клюквинская интеллигенция. Душевную, отзывчивую Елену Константиновну вечно осаждали просители: «Голубушка, ради бога…» Она делала все, что было в ее силах и власти: утешала обиженных, утирала слезы плачущим.
Забежавший в театр на минутку Павел разговаривал с Тильдой в опустевшем после второго звонка буфете. К ним подскочил Ефим, он был одет в блузу рабочего и пенился возбуждением:
– Друг мой, не удирать ли ты собрался?
– Да, ухожу.
– Нет, нет и нет!.. Сегодня ставится моя трагедия!.. Премьера!.. Не пущу! Я и место тебе заготовил… Шпулькин, проводи! Первый ряд, кресло девятое, живо!
Проверещал третий звонок.
Вынырнувший откуда-то, похожий на холерного вибриона, Шпулькин уцепил Павла за рукав, Гильда, смеясь, – за другой, и они дружно потащили его в зал.
На спинку кресла была наклеена чрезмерно яркая надпись редактор. Тугая шея Павла налилась жаром, выругал Ефима, и в то же время довольное сердце стукнуло раз… и два…
С поклоном расступился занавес.
В глубине сцены – фасад тюрьмы. За решетками окон – измученные лица, кандальный звон. На отшибе, на глыбах гранита, в красно-огненном колпаке и в широком малиновом покрывале – Свобода непринужденно опирается на саженный меч.
Заключенные стонут:
– Святая свобода…
– Ты недосягаема, как греза чистой юности…
– Ты несбыточная сказка…
– В душных теснинах фабрик, в темных рудниках и шахтах миллионы рабов страстно мечтают о тебе…
– О-оо… О-оо-оо!..
Под тюремной стеной проходят оборванцы и какие-то люди, по одежде напоминающие подрядчиков или трактирных молодцов, шепчутся:
– Тюрьма…
– Там забастовщики…
– Туда им и дорога… Больно умны стали, сукины дети, мало ихнего брата повешали, постреляли…
– А все-таки жалко, братцы…
– С такими-то речами и сам ты, хлюст, угодишь под цинковую крышу.
Среди оборванцев появляется молодой рабочий, размахивает огромным молотком.
– Товарищи, долг совести и честь гражданская призывают нас разбить эти мрачные своды и освободить борцов за святые идеи… Великая наша страна изнемогает…
На сцене полумрак. Скользя, плывут тени в саванах: у одних на шеях болтаются обрывки веревок, другие несут в руках свои головы. Тени стонут:
– Мы тоже погибли за идеи…
– Меня повесили царские палачи…
– Меня обезглавили…
– Отомстите за нас…
– О-о… О-оо!..
Рабочий призывает пойти по стопам мучеников, среди оборванцев трусливый ропот…
Свобода вздымает меч:
– Жалкие обыватели и мещане… Трусливые гады, вы недостойны меня… Лишь одно мере свободно, ха-ха-ха…
Тряхнув плащом, Свобода куда-то проваливается, подымая тучи пыли, от которой чихают и борцы за идею, и оборванцы. Прочихавшись, рабочий доказывает необходимость восстания. Восстание. Барабаны, знамена, треск рухнувших тюремных стен. На авансцену выходят плачущие от радости мученики, среди них и Свобода в арестантском халате и цепях; рабочий моментально влюбляется в нее. Множество голосов скрещиваются в «Марсельезе».
Зрительный зал подхватывает.
Неистовствует оркестр.
Затем хлынул ни с чем не сравнимый одобрительный свист, восторженный топот ног, и в густой гул, как нож в сало, вонзился визгливый голосок Шпулькина:
– Спокойствие, граждане, антракт пять минут!
К Павлу подсел Капустин, с треском высморкался и тесным говорком задышал на ухо:
– Здорово?.. А?.. Вот тебе и купеческий сын, чего у него башка-то вырабатывает?.. А?.. Мученики, обыватели… И до чего все правильно… Ведь я сам два года по пересыльным тюрьмам скитался, я все это произошел… – Пованивало от него спиртом.
Павла это настолько удивило, что он даже привскочил: Капустин хмельного в рот не брал, и рассказывали, как под Новый год на семейной вечеринке Сапункова, куда его заманили, не только отказался выпить предложенную ему стопку, но разбил посудину с вишневой наливкой и, заматерившись, ушел, чем испортил праздничное настроение собравшихся ответработников.
– Ваня, ты маленько выпивши, пойдем домой.
– Я-то?
– Ты.
– Ни в одном глазу.
– Пойдем, а то я с тобой разругаюсь.
– И не проси. Свобода, мученики… Должен я доглядеть, чего у них получится, – вцепился в витую ручку кресла, и никакими силами его нельзя было оторвать, не поднимая шума.
Павел крепко сжал ему руку:
– Ты что дурака валяешь?.. В такое место пришел пьяный да еще скандальничать хочешь?
– Пашка, не проси и не моли. Тебе сказано…
Павел усадил его около себя и сунул ему газету, уговорив прочитать какую-то статью.
Проверещали звонки.
Занавес разбежался…
В зале – поток блестящих глаз, раскрытые рты и лица жалостливые, нахмуренные, удивленные.
…Баррикады, телефоны, солдаты с красными лентами на шапках. В стороне тот же рабочий с женой Анной. Старик со старухой прежалобно упрашивают их вернуться домой. Они не соглашаются. Старуха хватает за руку дочь, та вырывается и толкает родную матушку так, что она едва не скатывается в зрительный зал. Рабочий с женой декламируют:
– Уйдите прочь, вы, жалкие и ничтожные кроты!.. Ползайте и пресмыкайтесь во прахе!.. А мы локоть в локоть, плечо к плечу пойдем туда, навстречу новой жизни, и с гребня баррикад первые увидим вновь восходящую над миром прекрасную зарю освобожденного человечества!..
Старики с плачем уходят. В зале смех.
С баррикад открывается продолжительная и ожесточенная пальба. В зале пахнет порохом, гарью, бьется в истерике поджарая девица, ржут солдаты и громом хлопков заглушают стрельбу. Успех полный, но это еще не все. Приводят двух пленных золотопогонников. Далеко не любезен их разговор с рабочими. Перед расстрелом они успевают крикнуть:
– Вся земля помещикам, власть капиталистам!
– Боже, царя храни!..
(Ефим подумывал, что неплохо бы было для усиления впечатления приводить на каждый спектакль из чека по парочке приговоренных и на сцене кокать их.)
На носилках подтаскивают раненых, каждый из них перед смертью произносит речь. Пищит полевой телефон, прибегает запыхавшийся вестовой:
– Белые разбиты наголову!.. Ура!..
Этим трагедия и кончилась. Под непомерной тяжестью восторга стонал пол, с театра готова была сорваться крыша.
С плохо смытым гримом в зал прибежал сияющий всеми своими гранями Ефим, схватил Павла за руки:
– Ну, что?.. Как?.. Ничего?.. А?.. Ведь правда ничего?.. Понравилось?..
– Молотком-то ты махал столярным… Он хотя и большой, а столярный, таким не куют.
– Ерунда, молоток можно исправить… А свою трагедию я в Москву пошлю.
– Посылай, брат, советую.
– А-а-а, здрасте, товарищ Капустин, извините, я вас и не разглядел… Волнуюсь, как ребенок… Так советуете послать? Понравилось? Как, ничего?
– Крепко, – убежденно сказал Капустин. – Злее, чем у Гоголя… Там все про хохлов, мура какая-то…
Утопая в словах, как в песке, Павел спросил:
– Кто это?.. Ну, твоя жена?
– Гильда?..
– Нет.
– Ах, Анна… Ты про нее спрашиваешь?.. Сегодня она в ударе! Не правда ли?.. Так это же Лидочка Шерстнева, из концентрациошки, помнишь, бумажку подписывал?.. А что, понравилась?.. Недурна девочка. Не правда ли?.. Сделай милость, пойдем познакомлю… Да вот она и сама, легка на помине…
Подлетела с кружкой:
– Пожертвуйте, товарищ.
Пышная, душистая, брови вразмет.
– Познакомьтесь… Лидочка Шерстнева, по сцене Дарьялова-Заволжская… Редактор Гребенщиков, – ему вы, Лида Михайловна, обязаны своим освобождением… А это товарищ Капустин, Иван Павлович… ха-ха-ха, наш красный губернатор.
Улыбнулась Капустину, чуть подкрашенную улыбку задержала на лице Павла.
– Вы председатель коммунистов?.. Я о вас так много слышала, так рада… Пожертвуйте на бедных солдатиков, которые…
– Знаю, – буркнул он, не глядя и не видя ее. Жесткой рукой встряхнул ее теплую кошачью лапу, и мороз по́рснул по его лошадиной, сразу вспотевшей спине…
По рассеянности сунул ей в кружку ярлык от вешалки.
Играя зеркальными глазами, она поболтала еще минутку и убежала в толпу.
– Ну, пошли, – решительно сказал Павел, зачаливая Капустина под локоть, – нагляделись.
– Уходите? – вскинулся Ефим. – А восточные танцы в исполнении Лидочки? Чрезвычайно любопытно…
– Некогда… Дела… Ваня, пошли.
На улицах – горбатые сугробы, сверкающая тишина. Обдутый ветром и быстро посвежевший, Капустин начал выматывать из себя обиды:
– Декреты мы писать пишем, а мужика не знаем и знать не хотим… Где надо брать срыву, а где и исподволь… Окажи мужику уважение, капни ему на голову масла каплю, он тебе гору своротит.
– Время горячее, Иван Павлович, а мужик жаден: капать тут некогда, плескать только успевай… Вот и приходится ему на глотку наступать: «Твое – мое, дай сюда».
– Время горячее… Мужики это понимают, а которые прикидываются дурачками, так мы им приказываем понять… «Дай хлеба» – дали. Ворчат, а дают. Через месяц разверстку до последнего зерна собрали бы, а нынче прибегает ко мне Лосев, бумажонки кажет. «Вот, говорит, в центре вышла ошибочка в расчетах, и приказано нам собрать дополнительной разверстки два миллиона пудиков».
– Здорово.
– А?.. Что делают с мужиком?.. Они там, в центрах, политику разводят, а мы отдувайся. Мужик любит крепкое слово. Раз возьми – даст, а другой раз он тебе вот чего покажет… У него загодя рассчитано, сколько в разверстку сунуть, сколько на семена, сколько на пропой, на прокорм… А тут нате, пожалуйте, здорово живешь, вышла у нас ошибка в расчетах…
Передохнув, Капустин отфыркнулся, как уставшая лошадь:
– Или чагринский райпродкомиссар, в гроб его мать, навалил под открытым небом девяносто тысяч пудов сена, перемешанного со снегом. Ну, не дурак ли?.. Выпади теплый денек, и все оно завтра же сгорит, задохнется… В Мокшановке еще того чище: насобирали битой птицы, целый амбар, она у них и раскисла, всю волость протушили, срам… Вот, Пашка, какими картинами засоряется русло, по которому должно проходить быстрое течение советской власти… «Дай людей», – и людей дали, а мы чего с ними сделали? Ты приказ-то о мобилизации читал?
– Какой приказ?.. А что? – спросил Павел, настораживаясь.
– Почитай…
Они остановились под фонарем.
Капустин извлек из портфеля оттиск приказа, и Павел внимательно прочитал отчеркнутые красным карандашом места:§ 2. Учителя и члены комитетов бедноты, твердо стоящие на платформе советской власти и не замеченные в саботаже, призыву не подлежат.
§ 6. Добровольцы и красногвардейцы годов, не подлежащих призыву, от службы увольняются. А тех, кто пожелают остаться в рядах армии, выделять в маршевые роты и немедленно отправлять на фронт.
§ 9. Призыву подлежат все проходившие в старой армии учебные команды, офицеры всех чинов, а также лица вышеупомянутых годов, которые почему-либо не несли военной службы до революции.– Это же чистейшая контрреволюция! – воскликнул Павел.
– И я то же говорю. Кто уклонялся от военной службы до революции? Торгаши, купцы и всякие калеки… На какой кляп они нужны нам… А красногвардейцы, фронтовики, учителя, комбедчики – наиболее сознательные элементы – от армии отшиты. Ловко?.. Кто же по этому приказу в город явился? С одной стороны, темная и необстрелянная крестьянская молодежь, с другой – ефрейторы, фельдфебеля, офицеры, кулацкие сынки…
– И мы им сами, своими руками выдали оружие?
– Роздали около трех тысяч винтовок, они уволокли их с собой и теперь из нашего оружия будут стрелять в нас.
– Чьих это рук дело? Враг или дурак?
– И тот и другой… Приказ мы поручили сочинить Чуркину, а он, балда, поехал за военными советами к Глубоковскому, тот ему и насоветовал…
Подавленный Павел молчал… Думы дробились, как быстрая вода на камнях… Морозные просторы, снежные зыби, синяя кайма лесов по белому полю, обозы с хлебом и дровами, ссыпки в хлебной пыли, мужичьи крутые шутки, бредущие по волчьему следу дезертиры, всесильные продкомиссары, выколачивающие разверстку и морозящие картошку тысячами пудов, редкие островки партийных ячеек…
– До сего часа, – заговорил Павел, – за недосугом, а вернее, по ротозейству, я не удосужился прочитать текст приказа… А печатал его Курочкин, есть у нас в типографии меньшевичок такой, не предупредил, собака… Впрочем, нечего на других сваливать, мобилизацию провалили мы сами… Во всем виноваты сами… Где были наши головы?
– Пускай теперь Чуркин поедет, соберет дезертиров, пускай понюхает, чем там пахнет…
– Не о том разговор, Иван Павлович. Кто этот начальник гарнизона?.. Глубоковский, Глубоковский, только о нем и слышу.
– Офицер какой-то… Наказывал я Мартынову – проверь. Он проверил и говорит: «Ничего страшного, служит в Красной Армии второй год».
– Мартынов – шляпа. И вообще у нас чека работает слабо… Ты вот говоришь, людей нехваток, люди на счету… Чепуха, людей у нас хватит, ты это уразумей.
– Где они? Укажи!
– У нас один пашет, а семеро руками машут да пайки в два горла жрут… Сколачиваем мы машину управления, обруч диктатуры, а кого в пристяжку подпрягаем? Чиновников, гимназисток, офицеровых жен. Ставить бы их раком через всю Европу и Азию, а мы их хлебом напарываем, «незаменимые»… Нынче безработных в городе пятьсот, завтра их будет тысяча. Наши безработные всю жизнь железки гнули да под мешки мыряли. Али из них не нашлись бы курьеры, писаря, сотрудники? Дело несручное? Выучатся, и мы с тобой не комиссарами родились.
– Учиться, Пашка, некогда, надо разверстку гнать. – Капустин стал выкладывать свои давнишние мысли о доме, который еще не построен, вокруг которого еще ставятся разметочные столбы и леса городятся.
Но Павел не слушал его и не переставая говорил сам:
– Или взять эсеров. Выставили мы их из города, они рассосались по уезду, окопались в кооперативах и потребительских обществах, в земельных отделах и нарсудах, в Лебедевской волости организовали сельскохозяйственную коммуну, в Марьяновской волости захватили в свои руки Совет и комбед… Мартынову зсеры кажутся смирными овечками, но они еще покажут нам свои волчьи зубы…
– Не круто ли гнешь, чудило-мученик?.. Эсеры, они разные… Был у нас на фронте левых эсеров отряд, неплохо воевали ребята. Выступали, помню, из Тетюш…
– Ты лучше вспомни, – перебил его Павел, – сколько эсеров работали и до сего часа работают заодно с чехами и Колчаками?.. Вспомни московское восстание, Ярославль, заговор Муравьева. Эсеровская партия в массе своей перешла в стан контрреволюции, на нашей стороне были горсточки, да и то до поры до времени…
– Это, пожалуй, и верно.
Проводив Капустина до исполкома, он долго плутал по тихим снежным улицам, мешал дело с бездельем: составлял в уме месячный отчет, который пора было посылать в губком; кричал песню про Ваньку Крюшника, доводя до истерики собак, думал о Лидочке… «Лярвы, – это о буржуях, – почему у них столько красивых баб?.. У нас, в партии, какую ни возьми – крокодил крокодилом, одна страшнее другой: или кривобока, или рот на сторону…»
Павел был падок на любовь.
Еще будучи мальчишкой, завидовал реалистам и гимназистам – в слободке их звали баряжками, – гуляющим с румяными чистыми девчонками. С распахнутым от восхищения ртом, за много кварталов Павел провожал шарманщика с его нарядной, хрипло распевающей подругой. Вечерами бегал к трактиру под окна, слушал гармонистов и песенников, любовался цветными трактирными плясуньями, беснующимися в пьяном аду. Даже в кино он влюблялся в призрачных красавиц, скользящих по полотну, бредил ими в мальчишеских снах, тосковал о них: все они были такие нарядные и красивые, не похожие на тех, что окружали его… После, когда работал на заводе, его сердце захлебнулось горькой, будто угольный дым, любовью, нежданной и жданной, как находка… Племянница механика, синеглазая Нюрочка… Дядя, проведав об их тайных встречах, надрал Павлу вихры и выгнал с завода, и он – семнадцатилетний парень – сутулясь, прямо из конторы побрел в Сладкую улицу, к красным фонарям, пропивать двухнедельную получку и свою первую любовь.
Павел был молод и жаден до жизни.
Как-то встретил он Лидочку на улице, сходил еще раз в театр, и она перебралась к нему с картонками, чемоданами и чемоданчиками. С того дня в его комнате больше не пахло псиной, там прочно воцарился приторный запах пудры, духов и туалетного мыла… Гудящий всеми радостями земли, Павел обрел мудрое спокойствие. Работал Павел в прежнем градусе, угарно и нахрапом брал то, до чего не доходил молодым умом. Лидочка, по обыкновению, разметавшись, валялась в постели до полудня, учила роли, декламировала и, жмурясь на свет, потягивалась:
– Павлик, иди поцелуй меня.
– Ладно, ладно, вставай… Скажи-ка, чему равен квадрат суммы двух чисел?
– Ха-ха-ха…
Попалась как-то Павлу в руки алгебра, такое-то зло разобрало на непонятные рогульки и закорючки, что он сразу навалился на алгебру и в месяц, будто сквозь репьевый лист, продрался через все математические каверзы и теперь с Лидочкой лист за листом гнал начисто. Ее же натрафил заниматься и с Михеичем. Старик не ладил с ней, и частенько их уроки прерывались ссорой. Гневная и горячая, она прибегала жаловаться, швыряла «Правила грамматики»:
– Я больше не могу.
– Опять ты за свои фокусы?
– Не хочу, не хочу и не хочу… Он ужасный тупица и грубиян.
Павел сводил и мирил их.
Вечерами, когда Лидочка уходила в театр, Михеич, по старой памяти, заглядывал к своему другу, еще из-за порога осведомляясь:
– Ушла?
– Ушла, ушла, проходи, чайничать будем. Ты чего-то больно ее не любишь, да и меня забывать стал.
Старик неодобрительно оглядывал чистую комнату. Его вечно распущенные в улыбке губы теперь поблекли и были обиженно поджаты.
– Что не весел, Михеич?
– Так.
В надежде разогнать тягостное молчание, Павел спрашивал:
– Учишься?
– Учусь, – вздыхал старик, – о, аз, о, буки, о, престрашные веди… Посадит меня прямо, чтоб покривления спинного столба не вышло, писать заставит: «Собака лает, корова мычит», вроде насмех…
– А-ха-ха-ха, вот дура… Ничего, катай, учись, ройся глубже…
– Где уж нам.
Молча выпивал Михеич стакан чаю и будто нечаянно ронял:
– Зря.
– Брось, как тебе не надоест одно и то же! – морщился Павел, уже зная, куда клонит старик.
– Сердись не сердись, а я за правду завсегда стоять буду. Не чня она тебе… Нечего сказать, урвал кусочек, спаси бог, не позавидовать… Али окромя не нашел бы себе бабу по мысли?
– Была у меня баба…
– Чего ж ты их меняешь, как цыган лошадей…
– Будь ты молодой, рассуждал бы по-другому.
– Я всегда одинаков… Погоди, друг любезный, накладет она тебе в шапку.
Однажды, в минуту особой нежности, со множеством тонких бабьих уловок, Лидочка заговорила о весеннем костюме:– Павлик, распорядись чекой… Прикажи выдать, у них такая уйма реквизированных вещей…
– Чего?
– Не велик труд, черкни несколько слов на официальном бланке, остальное я берусь уладить сама.
– Я тебе так черкну, дверей не найдешь…
Лидочка испугалась, расплакалась и больше никогда не заговаривала ни о новых ботинках, ни о тонком белье, ни об угнетающем однообразии стола. С репетиции летела с Ефимом на его холостую квартиру, очень теплую и богато обставленную, брошенную теплым и богатым адвокатом, бежавшим в Сибирь.
Ефим снимал с нее беличью шубку, целовал игрушечные руки и, многозначительно заглядывая в глаза, спрашивал:
– Любишь?
– О-о…
Ефим с Лидочкой создали в Клюквине союз революционных поэтов, художников и драматургов, а таковых набралось в городе до сорока человек. На первом же собрании союз постановил: немедленно ходатайствовать о пайке и приступить к выпуску ежемесячного литературно-художественного альманаха «Мечты и думы».
Из города гулом гром приказов:
Хлеба
дров
солдат
денег
за невыполнение взбучка, трибунал.
В степях, лесах, болотах раскатисто ухало эхо:
– О-о… А-а-а… О-уу… Ух… Гони…
Потоки бурных бумажек захлестывали соломенные крепости. Много бумажек, отчаянные сотни, а припев один: «За неподчинение, промедление – кара».
Город корчился в голоде и тифе, отхаркивал ржавую кровь. Хрипящему в горячке городу предлагалось выздоравливать на ногах. По порядкам звякали нарядчики, шумели под окнами, задернутыми тюлевыми занавесками, звякали кольцами наглухо захлопнутых калиток:
– Хозявы-ы-ы, на очистку путей!
В щели вертлявая тля.
– Мы, батюшка, обыватели, жители тихие, мирные.
– Все одно, приказ, строго.
– Мы, товарищ…
– Без разговору весь мужской и женский пол в двадцать четыре срочных секунды.
– Хворые, старые да малые…
Охрипшие нарядчики гремели прикладами в калиточный дребезжень:
– Выходи-и-и, передохли, что ли? Выходи на очистку путей!
– Мы, товарищ батюшка…
Под прикладами, как блудливые кошки, вздрагивали и жмурились домишки, но голосу не подавали. Тихие клюквинские жители отсиживались по чердакам и погребицам…
На путях малосильные паровозы вытягивали голоса в ледяную нитку, зарывались в снега, царапались слабеющими лапами, рвали жилы и, всхлипывая, замерзали…
Город метался в тифозном жару. Крупными и жесткими, как гречневая крупа, вшами были засыпаны дороги, вокзал, лазареты и серые мешочники, похожие на вшей.
Вошь атаковала деревню.
Вокзал был завален больными вперемешку с трупами, убирать не успевали.
В тупике несколько теплушек, как березовыми дровами, были забиты мерзлыми раздетыми мертвяками. За городом, в беженских бараках, люди наполовину вымерли, остальные разбежались, разнося заразу по деревням. Покорно вымирала тюрьма. Тиф бушевал в лазаретах, в казармах, на этапах. Была объявлена мобилизация врачей. Из тридцати согласилось работать шестеро. Чека расхлопала двоих, остальные двадцать два присягнули в верности, выбрали чрезвычайную комиссию по борьбе с эпидемиями, поделили город на участки, тряхнули воззванием, и борьба началась. Но вшей не держали ни запоры, ни высокие сапоги, ни всяческие предупредительные меры. На кладбище в общие ямы без счету валили мешочников, отпускных солдат, дезертиров, обывателей. Смерть скрутила Чуркина, Сапункова, инженера Кипарисова, умерла Елена Константиновна Судакова.
Был создан летучий санитарный отряд коммунистов. Свой штаб, дежурства круглые сутки. Под лазареты заняли гимназию, церковь, пустующие магазины. Не хватало коек, матрацев, белья – больные валялись на соломе по полу, в коридорах. Мутный, беспрерывный бред, крики, стон:
– Пи-и-ить… Пи-и-ить…
Перехворавшая и страшная Гильда нога за ногу брела в продлавку. Часто останавливалась отдыхать, прислонялась к забору или присаживалась на тумбу. Улыбалась солнышку и кланялась ему, как доброму другу.
В кулаке был крепко зажат ордер на усиленный паек:...
Селедок 1 ¼ ф.
Масла подсолнечного ¼ ф.
Крупы 1 ф.
Мыла ½ ф.
Спичек 2 коробки.
Пробежала собака, Гильда подманила ее, потрепала по теплой морде, вытряхнула из кармана хлебные крошки. Прошел трубочист, показался ужасно забавным, она расхохоталась ему в лицо, хотела извиниться, сказать, что смеется не над ним, что ей вообще сладостно, весело идти по солнечной улице… Но голова закружилась… Всего на несколько секунд… Когда открыла глаза, трубочист чернел уже далеко, в самом конце квартала. Побрела… Навстречу по дороге, беглым шагом – Гильда удивилась и обрадовалась, как быстро можно ходить! – поспешал небольшой отряд с лопатами и ломами на плечах. Сердце заколотилось в ребра: свои… Слабо пискнула:
– Товарищи… Володя…
Подбежал председатель слободского райкома Володька Скворцов, сдернул рукавицу, поздоровался.
– Ходишь, говоришь?
– Хожу.
– Гляди, девка, а то живо закопаем…
– Теперь раздышусь, не застращаешь… Куда вы, Володя?.. С лопатами?
– Могилы рыть… Видишь ли, чрезвычайная тройка боится, как бы тиф в население еще глубже не пролез: вот и посылает нас во всякую потычку. Могилы роем, с мертвецами нянчимся, саму смерть борем.
Гильда растерянно улыбнулась, а он продолжал:
– Отъелись мы на коммунистических хлебах, гляди, какие гладкие стали, вошь на нас не держится, скатывается, нас не только тиф, чума не возьмет! – Володька засмеялся, махнул рукавицей, бросился догонять своих.
Гильда проводила отряд глазами, светлыми, как сосульки на солнце, и заплакала.
Хомутово село
В России революция —
ото всего-то
света поднялась пыль
столбом…
Уезд засыпа́ли снега и декреты.
Дремали притихшие заволжские леса. В зимних полях почила великая тишина. Сыто дремала дремучая деревня, роняя впросонках петушиные крики и бормот богова колокола.
Над оврагом деревня, в овраге деревня, не доезжа леса, деревня, проезжа лес, деревня, в долу деревня, за речкой деревня. Богата ты, страна родная, серыми деревнями…
Вот Хомутово село.
Широко разметались избы шатровые, пятистенные, под тесом, под железом. Дворы, как сундуки, крыты наглухо. Ставни голубые, огненные, писульками. В привольных избах семейно, жарко, тараканов хоть лопатой греби. Киоты во весь угол. Картинки про войну, про свят гору Афонскую, про муки адовы. И народ в селе жил крупный, чистый да разговорчивый. В бывалошное-то время, по воскресным и престольным праздникам, село варилось в торжище, как яблоко в меду. Красные товары, ссыпки хлебные, расписная посуда, ободья, дуги, деготь, жемки, пряники, гурты скота, степных лошадей косяки, рев, гам, божба цыганская, растяжные песни слепых и юродивых, карусель, казенка в два этажа. Первеющее было село изо всей округи. И война царская зацепила село краем: из хомутовцев иные в город на военный завод попрятались, а иные вовсе откупились – дома на оборону работали, и хорошо работали: каждый год бабы по одному да по два валяли, ровно блины пекли. Революция, как гроза, ударила в богатое село – торговля хизнула, заглох большак, дела на убыль пошли.
И Капустин Иван Павлович в Хомутове вырос – в скудости да в сиротстве. Матери он не помнил, отца на японской войне кончили, и довелось Ваньке с мальчишек в чужие люди пойти, работать за шапку ржаных сухарей. Потом его увез с собой в город трактирщик Бармин. Служил Ванька и трактирным шестеркой, и в мучном лабазе у купца Хлынова на побегушках, и учеником в слесарной мастерской. Два лета ходил по деревням, чинил замки, тазы и ведра. Потом ездили хомутовские мужики сдавать купцу хлеб и слыхали, будто попал Ванька в острог, а за какие дела, толком никто так и не знал. После видали его в большом волжском городе, на пристанях крюшничал – мешки нянчил. В войну, в дремучем Кудеяровском овраге, урядник Кобелев накрыл шайку не то беглых солдат, не то конокрадов и Капустина с ними. Что были за люди, леший их знает, болтали на селе всячину, да ведь есть которые врут, ровно в заброд бредут по нижнюю губу, только отфыркиваются.
В революцию без шапки, с разинутым ртом стояла деревня на распутье неведомых дорог, боязливо крестилась, вестей ждала, смелела, орала, сучила комлястым кулаком:
– Земля… Свобода…
Как-то праздничным побытом на кровном рысаке купца Хлынова прикатил в Хомутово Иван Павлович, товарищ Капустин.
Все так и ахнули.
На сходке, после поздней обедни, рассказал Иван Павлович, что есть он самый политический человек, давно революцией тайно занимался и всего неделю как вернулся из сибирской тайги, куда был сослан на восемь лет каторжных работ. Жалостливые бабы сморкались в подолы, а старики вспомнили, что когда-то, вместе с другими парнями, били они и Ваньку в волостном правлении за поругание над царским портретом. Валились старики в ноги, бородами мели землю и Христом-богом молили простить, забыть.
– Сердца на вас не имею, – сказал Капустин старикам, – вы темные, как земля.
Отец Вениамин – мужики, по простоте своей, звали его Выньаминь – отзвонил благодарственный молебен с акафистом за здравие страдальца и мученика за народ, раба божия Иоанна…
На Красную горку поехали хомутовцы сеять, а Ивана Павловича выбрали делегатом на первый губернский земельный съезд.
Поздней осенью вернулся Капустин в родное село, навербовал по волости полторы сотни красногвардейцев и повел их на казаков. С этих пор он так и не слазил с седла: воевал с казаками, воевал с чехами, мотался по Заволжью с широкими полномочиями от губисполкома – сколачивал первые комбеды и народные суды, делил землю и крестил солдаткам ребятишек, проводил мобилизацию в Красную Армию и организовывал первые большевистские ячейки и, наконец, теперь ворочал всем уездом.
В стороне от тракта, за лесами, за болотами, проживало Урайкино село: мордва, чуваши, трава дикая. В лесах – развалины раскольничьих скитов, пчельники, зверье. Жили в скитах столетние старцы; древнего литья певучие колокола вызванивали из ада души разбойников. Вокруг села урочищ стародавних немало: тут клык сожженного грозой дуба – старое становище разбойничье; там Разин яр – богатые клады есть, сказывают старики, да поднять их мудрено. У тех же стариков на памяти церковь урайкинская выстроена, прежде березе молились. Дремало Урайкино в сонной одури, в густе мыка коровьего, в петушиных криках. Избы топились по-черному; жива еще здесь была лучина; сучок и лыко употреблялись вместо гвоздя; холсты, пестрядину, рядно и дерюжину жители выделывали сами; властей второй год не знали и за всеми советами обращались к выжившему из ума попу Силантию; проходила трактом война, революция, продотряды, но сюда никто не заглядывал, так как значилось Урайкино на карте селом Дурасовом, по имени давно умершего помещика, а села Дурасова никто и слыхом не слыхал. Земля – неудобь, песок, глина, мочажина. Редкая семья ржанину досыта ела, больше на картошке сидели. Лошаденки были вислоухие, маленькие, как мыши. Сохи дедовы… Работали мужики в большие дни, по великому обещанию, а то все на печках валялись, в затылках скребли, чадили едучим куревом, шатались из избы в избу, разговоры разговаривали неприподъемные, угарные, как русская лень. Зато чугунку урайкинцы варили!.. Проезжай все царства и республики, а такой не найдешь. Хватишь ковшик урайкинской чугунки и не отличишь пенька от матери родной. По праздникам надевали мужики цветные радошные рубашки, после обедни люто напивались и дрались, сноровя сперва разодрать друг на друге рубашки, а потом – и по рылам. Под веселую руку баб колотили, свято чтя пословицу: «Жена без грозы хуже козы». В долгие, как Иродовы веки, деревенские ночи бабы терпеливо ублажали мужей, вскакивали бабы до зари и дотемна мотались по дому, и в поле и в лес шли и ехали; всякую работу через коленку гнули крутогрудые, налитые бабы, бурестой, трава дикая… В писаные лапти подобутое, лыком подпоясанное, плутало Урайкино в лесах да болотах.
Прислонилась задом к лесу Вязовка, раскольничье село толку спасова согласия. Чудно жили, не люди, а какое-то вылюдье. Звались братцами, ни царю, ни революции ни одного солдата не дали. Жили ровненько; замков и запоров не знали; народ все был самостоятельный. На много верст кругом славилось село своей исключительной честностью. Старики рассказывали: заедет, бывало, в Вязовку торгаш – покупай, меняй, чего твоей душе угодно. Денежный ты человек – плати, скудный – и скудному отказу нет: вынет торгаш из кисета уголек, у хозяина на столбе воротнем отметочку засечет: «Столько-то за тобой, добрый человек, будут деньги – готовь к покрову, не будут – подожду».
Старые времена, старые дела…
Хомутовская волость, проводив белых, на пашню кинулась – поднимали степь под яровину, перепахивали и засеивали баб. С покрова до Михайлова дня деньки держались холодные и ясные, как стекло, на току хоть блоху дави, самое для молотьбы время. Деревня спала не разуваясь и с первыми петухами бежала на гумна, торопливо крестилась на занимавшийся восход, на работу валилась дружно – поту утереть некогда. Прожорливые молотилки полным ртом жевали снопы, только полога подставляй. Дробно драдракали цепы, ошалело кружились взмыленные лошади, гикали охрипшие гоняльщики, скрипели сытые воза.
Обмолотилась деревня, в жарко-на́жаркой бане косточки распарила, хлебнула самогону ковш, и усталости как не бывало.
Зашумели свадьбы.
Только и разговоров что про посиделки, вечорки, смотрины. Там жених с товарищами двумя тройками к невесте на девишник поехал, там – большой запой, гостей полны столы; на столах, по заведенному издревле обычаю, лапша со свининой, сальники, курники, пироги. Невеста со словом приветливым обносит гостей. Зевластые бабы бойко рюмочки пригубливают. Девки величают толстую сваху:
Чего наша сваха
Бела и румяна,
Бела и румяна,
Еще черноброва.
Только нашей свахе
При городе жити,
Торгом торговати
Кумачом-китайкой.
Величают жениха с невестой, отца с матерью, дядьев, деверьев, всю родню. За песни щедро сыплются похвалы и скупо – деньги. Вьются шелковые ленты в девичьих косах, высокие голоса рубят:
На Ванюше шапочка
осистая,
пушистая…
Наперед она
на —
весистая…
Спереди ему
очей
не видать…
Э-эх, да сзаду
плечей
не видать…
Метет шалой бабий визг, вяжется пьяный плетень разговора.
Спозаранок жениховы посланные скакали к невесте с повестью.
В окна кнутовищем:
– Подавайте невесту, жених скучает.
– Не торопите, купцы, не торопите.
– Все глаза проглядели.
– Собирам, сватушка, собирай.
Невеста с утра вопила в голос. Подруги с уговорами да прибаутками расплетали, чесали косыньку девичью.
А там – чу – и поезжане ко двору подкатили: с боем выкупали ворота, выкупали косу, дружка разрезал хлебы, меняя половинки, нареченные с земным поклоном принимали родительское благословенье, и все, помолившись, шумно выходили на двор, где кони, кося искрометным глазом, нетерпеливо переступали, тревожа бубенцы и колокольца. Дружка с иконами обходил поезд.
– Ну, поезжане, кто с нами – садись в сани, а кто не с нами – отходи прочь!
Гремел воротний болт.
– Трогай… С богом.
Тройка уносила свадебный поезд. От венца ехали к молодому.
Свекор с свекровью, наряженные в вывороченные тулупы, встречали молодых в воротах и щедро обсыпали хмелем и житом, чтоб богато и весело жили, поили молодых молоком, чтоб дети были у них не черные, а белые.
На пороге молодых встречала коренная сваха, чарочки им наливала через край и приговаривала:
– Столько бы вам сынков, сколько в лесу пеньков… Да столько бы дочек, сколько в болоте кочек… Перину-то в двое рук взбивали, уж так взбили, так взбили…
С утра готов горной стол.
На улицах свадебное катанье – под дугой бубенцы, в гриве ленты переливались радугой. В лентах, в линючих бумажных цветах – орущее, ревущее, визжащее… Глиняные горшки били, орехи и пряники ребятишкам разбрасывали – молодым на счастье. Осатаневшие бабы, высоко задирая юбки и размахивая сорванными с голов платками, плясали и орали срамные песни.
Вечером всем аулом ехали к молодой на яичницу. А там, глядишь, и разгонные щи недалеки…
На Михайлов день Хомутово проскакали двое верховых – Карпуха Хохлёнков и Танёк-Пронёк, – то капустинские ребята воротились по домам. Как раз старики от обедни шли и переговаривались:
– Наши башибузуки явились.
– Лебеда-лабуда, крапива, полынь горькая… Хороших людей на войне убивает, а на таких псов и пропаду нет.
– Наведать надо… Ведь он, Пронька-то, сукин сын, крестник мой.
Хохлёнков проскакал нижний прогон и круто осадил перед своим двором: лошадь с разбегу легонько ткнулась вспененной мордой в ворота, отороченные жестяными пряниками. Калитка была расхлебянена, по двору ветер гонял курчонок и разбрыленное сено. Заметалось сердце в Карпухе. Горячую лошадь под навес к сохе пристегнул, сам в избу. С кровати из-под кучи тряпья стон:
– Кто это?
– Здорово ли живете?
– Карпуша…
– Аль не ждала?
– Какое… Господи… – соскочила с постели босая. Придерживая на груди дырявую рубаху, ловила мужнину руку поцеловать.
– Ложись, Фенюшка, куда вскочила… Аль болезнь крутит?
– Не чаяла… Какое… Господи…
Уложил, укрыл жену тулупом, сам на кровать присел. Жена заплакала навзрыд: прорывались горькие жалобы на деверя, на брата, на всю родню – травили, проходу не давали, попрекая тем, что он, Карпуха, у красных служит, хлеб остался в поле неубранным, Лысенка сдохла, последнюю кобылу чехи со двора увели… Огляделся Карп со свету – пуста изба, кошка на шестке южит.
– Самовар где?
– Шурин за долг забрал.
В избу робко, ровно мышата, вшмыгнули пятилетний сын Мишка и дочь Дунька. Одичавшие, грязные и нечесаные, с руками, в кровь изорванными цыпками, они робко подошли к отцу. Он перецеловал их, вышарил в кармане два куска сахару, вывалянного в махорке, – гостинец. Глаза матери были затоплены счастьем. Подвыпил Карпуха, надел новую рубашку, пошел шурина бить.
У плотины на зеленом пригорке торчала косопузая избенка кузнеца Трофима Касьяновича, который уже много лет тому как утонул по пьяному делу в Гатном озере. Осталась после него коротать век с сыном Пронюшкой старая кузнечиха Евдоха. Проньку еще покойный батя к кузнечеству приставил. Пронька – ухарь малый – с утра до ночи в своей кузнице железами гремел, огонь травил, песни орал. А Евдоха первой по селу повитухой слыла и шинкарством занималась по-тихой. В восемнадцатом году напялил Пронька на свои крутые плечи шинель, взял ружье и – пропал. Ждала-ждала Евдоха, под окошечком сидючи, все глаза выплакала… Говаривала старая:
– Увидеть бы соколика хоть одним глазком, тогда и умирать можно.
Пронька приехал и только, господи благослови, вошел в избу, саблю на гвоздь повесил, с матерью за руку поздоровался, – и сейчас же на иконы:
– Мамаша, убери с глаз.
Евдоху так и прострелило.
– Да что ты, Пронюшка?.. Что ты, светик, на образа вызверился?.. Али басурманом стал?
– Убери. Не могу спокойно переносить обмана.
Не было сынка – горе, вернулся – вдвое, ровно подменили его.
Евдоха бутылку на стол.
Выпил он бутылку и опять:
– Убери.
Евдоха поставила еще бутылку, и эту кувыркнул Пронька.
– А пугала, мамаша, всецело убери, сделай сыну уваженье.
Она не согласна.
Он – за саблю.
Она – караул.
Он – саблей по пугалам.
Она за дверь и – в крик.
Выхватил Пронька из печки горячую головешку да за матерью родной черезо всю улицу, людям на посмешище, бежит и орет во всю рожу:
– Я из тебя выкурю чертей-то…
А она бежит, бежит да оглянется:
– Брось, сынок, брось… Руку-то обожгешь…
Сердце матери… Ну где, где набрать слов, чтоб спеть песнь материнскому сердцу?..
Старуха стояла на своем и гнала сына из дому. Тот не уступал и выпроваживал ее на жительство в баню. Родные навалились на буяна, и оборотилось дело по-хорошему: сын остался жить в избе, и мать осталась в избе, а передний угол шалью занавесила. У сына сердце покойно – боги не тревожат, и матери терпимо – отдернет занавеску, помолится и опять скроет лики пречистые.
На собрании выбирали Совет.
– Савела Зеленова пиши.
– Нет, у меня домашность, – отбивался Савел.
– У всех домашность, просим.
– Коего лешева? Вали, вали…
– Согласу моего нет.
– Не жмись, кум, надо.
Утакали Зеленова.
– Лупана пиши.
Лупан дурачком прикидывался:
– Перекрестись, какой из меня советчик?.. Считать до десятку умею…
– Эка, выворотил бесстыжу рожу!..
– Вали, вали, просим.
– По-хорошему надо, старики.
– Пришей кобыле хвост… Лень-то, матушка, допрежде нас родилась…
– Единогласно, пиши, его, дьявола.
И так бились с каждым.
Расходились с собрания, бережно подставляя вопросы Таньку́-Проньку́:
– Прокофий Трофимович, про свободну торговлю в городе ничего хорошего не слыхать?
– Не соля́ живем, мука́.
– Оно какое дело?.. Пустое дело – гвоздь, а нету гвоздя, садись и плачь.
– Проша, говорил ты вроде притчей: «Ждет нас мировая коммуна». Невдомек, к чему это слово сказано? Не насчет ли отборки хлеба?
– Почему нет советской власти за границей? Али они дурее нас?
Пронька на все вопросы отвечал, как умел.
Наказание Евдохе с сыном, от работы отбился. Спозаранок уходил он в комитет бедноты и дябел там до ночи. А когда выберет вечерок свободный, мать просвещать начнет. Черствая старуха, разные премудрости туго в голову лезли.
– Дурак, наговорил, наговорил, ровно киселя наварил, а есть нечего.
– Плохо вникаешь, мамаша.
– У людей то, у людей сё, а у нас с тобой, чадушко, ничевошеньки. Нынче муки на затевку заняла.
– Ерунда, – говаривал Пронька свое любимое словечко.
– Типун под язык, пес ты лохматый… Последнюю корову со двора сведут, тогда и засвищем во все дыры.
Ночами Евдоха жарко молилась:
– Мати пречистая, вразуми окаянного…
Или подсядет, бывало, на краешек сыновней постели, да и начнет в фартук сморкаться…
– Сынок, образумься… Брось ты революцией заниматься, в года уже вышел, жениться пора, хозяйство хизнуло, кузница тебя ждет… Обо мне, старой, подумай.
– Ерунда, – только и скажет сынок Пронюшка.
Корову свою Пронька назвал Тамарой.Хомутовская волость второй день рядила ямщика.
Старик Кулаев гонял ямщину лет тридцать из году в год. Выставит, бывало, старикам монопольки лошадиную порцию и – вожжи в руки. В советское время – окромя как писарю сунуть – не требовалось расходу, но и цену подходящую не давали: смета, приказ, порядки, ни на что не похоже.
Облупленным вишневым кнутиком стегал себя старик по смушковым валенкам и, играя белками желтых, волчьих глаз, хрипел:
– Ращету нет, пра, ей-богу, ращету нет… Тянусь, будто дело заведено, поперек обычая не хочу лезть… Нынче ковка одна чего стоит? Чудаки, прости господи, ей-бо… Дело заведено.
Старика за полы заплатанной суконной поддевки тащили сыновья: Ониска и большак Савёл, оба солдаты действительной службы.
– Айда, тятя, айда… Чего тут гавкать?.. Не хочут, не надо.
Тот еще раз оборачивался из дверей и скалил зубы:
– Дуросветы, едри вашу мать, управители… Корма ныне чего? Ковка? Дело заведено…
Сыновья уводили отца.
Смета отдела управления и наполовину не покрывала того, что загнул Кулаев… Набивался ямщить Прошка Мордвин, да дело-то не дудело – обзаведенье у него было никудышнее и лошаденки немудрящие, а тракт большой – не выгнать Прошке… А Кулаев возьмется так возьмется, ни от слова, ни от дела не отступится: справа богатая, ездовых лошадей косяк – старинный завод.
Гнали за ним десятника.
Приходил старик в черной злой усмешке, обеими руками стаскивал пудовую шапку, которую носил круглый год; расправлял масленый, в кружок подрубленный волос и спрашивал:
– Удумали?
Писарь пододвигал чернильницу, нацеливаясь строчить договор. Председатель долбил согнутым пальцем папку с надписью «Целькуляры и приказы свыше» и густо вздыхал:
– Скости, Фокич… Смета, ее каким боком ни поверни, она все смета… А овса общественного десять мешков тебе наскребем.
Советчики:
– Скости.
– Говори делом.
– Чего ты ломаешься, ровно пряник копеешный? Другой день тебя охаживаем.
– Ровно за язык повешены.
– Смета… Должон ты уважить.
– Овса тебе наскребем, ешь и пачкайся…
Кулаев заряжал понюшкой оплывший, прозеленевший от табака нос и трясся в чихе:
– Не могу… Хоть голову мне рубите на пороге, не могу!
Слово за́ слово, словом по́ слову, кнутом по́ столу.
– Не ращет, мужики… Гону много… Все бьется, ломатся… Ни к чему приступу нет… Нынче одна ковка звякнет в копеечку.
В сенях загремело пустое ведро, сторож-беженец Франц крикнул в дверь:
– Едет… Бешеный едет!
Кто сидел – вскочили. Встал и председатель Совета Курбатов, но, спохватившись, сел и, колотя звонком по столу, сказал:
– Прошу соблюдать… Чего вскочили?.. Всецело прошу садиться… Едет, так мимо не проедет, чай, не царь.
– Царь не царь, а полцаря есть.
Потянулись к отпотевшим одинарным окнам.
К Совету с форсом и ямщицкой удалью подлетела пара взмыленных лошаденок. Из возка, обитого малиновым ковриком, вылез завернутый в оленью доху комиссар Ванякин. И еще увидели из окон мужики – улицей проскакали верховые солдаты ванякинского продотряда.
…За зиму Алексей Савельич Ванякин научился не только телефоном орудовать или пересказывать декреты на самом простом, обывательском языке, но кое-чему и другому. И еще он, старый пьяница, переломил себя – пить бросил. На исполкомовской работе тошно показалось, и он кинулся в деревню собирать мужицкий хлеб. Никто не видал, когда он спит, ест. Прискачет – ночь-полночь – и прямо к ямщику: «Закладывай!» – «Куда на ночь глядя, окстись, товарищ, – взмолится ямщик, – лошади заморены, а на кнуте далеко не уедешь». – «Запрягай!» – «Хоть обогрейся, товарищ, бабы вон картошки с салом нажарят, а утром бог даст…» – «Давай запрягай, живо!»
Переобуется, подтянет пояса потуже и поскачет в ночь.
Святками в Старом Буяне он отмочил такую штуку, что весь тракт ахнул. Буянский ямщик Иван-бегом-богатый в волостной съезжей рассказывал:
– Оно какое дело, гуляли мы у свата Тимофея на свадьбе. Пир у нас колесом. Пьем-поем и в чушечку не дуем. Глядь, прибегает моя старуха с возгласом: «Приехал, принес его налетный». – «Кто такой, кого нелегкая принесла?..» – «Бешеный комиссар приехал, лошадей зычет». – «Отвороти ему дурную рожу, – кричу я из-за переднего стола, – большой запой справляем, а он лошадей… Пусть до завтра ждет…» Ушла моя старуха с отказом. Много ли, мало ли времени прошло, глядь-поглядь – скачет комиссар мимо окошек на моей же паре, и тулуп нараспашку. Заходит к свату Тимофею в избу: «Который тут ямщик?» – «Я ямщик», – кричу. Не успел я и глазом моргнуть, сгреб он меня, да за дверь. Иду по двору, плачу, через два шага в третий спотыкаюсь, а он мне обнаженным наганом и тычет под ребра: «Садись, говорит, экстренно на козлы, держи вожжи». Крик, шум, выбегают за ворота мои сроднички с кольями, с вилами, а он из нагана-то как пальнет, пальнет, лошади-то как хватят и понесли, и понесли… Да-а, пошутил: не чаял я от него и живым вырваться.
После этого случая ни один ямщик не отваживался перечить и ночь-полночь мчал беспокойного седока, не радуясь и чаевым, на которые тот не скупился. К богатым мужикам Ванякин был особенно немилостив. Деревня боялась его как огня, и не было дороги, где бы его не собирались решить, из оврагов не раз вослед ему летели пули, но он только посмеивался и отплевывался подсолнухами: семечки грыз и во время речей, и на заседаниях, и на улице, и в дороге, невзирая ни на мороз, ни на ветер. За крутой характер, за семечки и любовь к быстрой езде деревня окрестила его «Бешеным комиссаром»…
Комиссар крепко хлопнул дверью и от порога поздоровался:
– Мир честной компании.
– Поди-ка, добро жаловать.
Ванякин прошел вперед, бросил на стол объемистый брезентовый портфель, содержимое которого было весьма разнообразно: истертые до ветхости инструкции губпродкома, старые газеты, яичная скорлупа, обвалявшийся кусок сала, рассыпанная махорка.
– Заседаете?
– Заседаем, Лексей Савельич, заседаем… Жизни не рад будешь от этих самых заседаний.
Курбатов разгладил по столу смету с оборванными на раскурку краями и сердито посмотрел на всех:
– Домашний вопрос мусолим. С ямщиком вот маета, никак не урядим.
Загалдели:
– Смешки да хахоньки… Ровно в бирюльки играем…
– Дом ждет.
– Овес, а где его взять, спрашивается?.. Ныне его, овес-то, жаром весь покрутило.
– Ты бы нам, товарищ, резолюцию какую похлеще влепил… Пра!
Председатель покосился на Ванякина, обиравшего с оттаявшей бороды подсолнечную шелуху, и строго зашипел:
– Чшш… Начальнику продотряда, Лексей Савельичу Ванякину, даю полное и решающее слово по текущему вопросу в порядке дня.
Засмеялись:
– Какой это день, вторые сутки дябем.
– Лачим не улачим, ровно мордовску невесту сватам. Овес, говорит, а где его…
– Тьфу, истинный господь… Смех с нами, с дураками.
Ванякин мельком заглянул в смету, подманил Кулаева и ухватил его за концы красного кушака:
– Советску власть признаёшь?
– Пожалей, кормилец, – попятился старик, – у меня семьи двадцать шесть человек… Гону много, тракт большой, ныне ковка одна и та в гроб вгонит… Дело будто заведено, и тянусь по дурости, ей-бо.
– А турецку власть хочешь признать? – вновь спросил комиссар.
Старик помучнел:
– Ладно, тридцать мешков овса, и по рукам… Что мир, то и мы, мы миру не супротивники.
– Пиши, – подтолкнул председатель писаря. – Пиши: деньги по смете, овса общественного по силе возможности.
Писарское перо помчалось по листу договора галопом.
Кто-то вздохнул, кто-то разбудил тишину смехом:
– Давно бы так.
Из Совета Кулаев выскочил, словно из бани, и, держа в обкуренных пальцах копию договора, будто боясь обжечься, бежал улицей и во всю глотку без стеснения поносил комиссара:
– Накачала тебя на мой горб нечистая сила… Чтоб те громом расшибло, чтоб те с кровью пронесло, сукин ты сын!
Ванякин перебирал бумаги и расспрашивал мужиков о житье-бытье. Мужики, поглядывая друг на друга, отвечали осторожно, ровно по тонкому льду шли:
– Да ведь как живем?.. Живем по-советски: керосину нет и соли совсем не видать… Незавидная, товарищ, наша жизнь, одначе на власть не ропщем: планида – власть тут ни при чем, это понимаем.
– Планида-то планида. – Ванякин исподлобья оглядел собрание. – А долго я буду вокруг вас венчаться?
– Еще, кажись, не сватался, а венчаться собираешься…
– Разверстку добром будете платить?
– Мы и не отказывались… Возили, возили, и все не в честь?
– Воженого-то нет.
– Как нет?.. Чисто девки стряпали… Сыпим и сыпим, ровно в прорву бездонную.
– Ругаться будем завтра, – сказал Ванякин, – затем и приехал… Тебе, Курбатов, поручаю созвать к завтрашнему дню со всей волости всех председателей Советов.
От порога кто-то сказал:
– Опять килу чесать… Припевай, Гурьяновна.
Далеко о Хомутове бежала славушка худая: то продработника кокнут, то телеграфные столбы подпилят, то поезд под откос спустят. Дезертиры по селу – из двора во двор. Придерживали хомутовцы и хлебец. Уповая на них, и соседние волости сетовали на порядки и не торопились с выполнением разверстки.С осени в хомутовский комбед подобралась было коренная голытьба. До поры до времени работа велась дружно, пищали зажатые в тиски налогов богатеи, но скоро сами комбедчики, первый раз в жизни дорвавшиеся до легкого хлеба, зажрались. Председатель Танёк-Пронёк к трепаной солдатской шинелишке своей пришил каракулевый воротник, секретарь Емельян Грошев сбросил лапти – напялил лакированные сапоги с калошами. Комбедчики были заклеймены сельской беднотой как «присосавшиеся к ярлыку» и свергнуты. В помещении после них остался искалеченный граммофон, провонявший самогоном, и насквозь просаленный шкаф, жирными пятнами реквизированного сала были забрызганы стены, потолок и папка с бумагами. На их место протискались хозяйственные мужики, но вскоре, за немилость к бедноте, тоже с позором были изгнаны. Комбед последнего состава подобрался и подходящ, да неувертлив – его по каждому делу, как по ровной дорожке, проводили за нос хомутовские чертоплясы.
В избенку Танька́-Пронька́ по вызову Ванякина пришли комбедчики, шестеро местных коммунистов и кое-кто из сочувствующих.
– Чего тебе, Алексей Савельич, рассказывать, – оглядывая собравшихся, пожимал плечами Хохлёнков, – ты сам дальше нашего деревенскую быль предвидишь… Власть на местах, товарищ, она действительно крепкая власть, палкой не сшибешь. Правда, кое-где и пролезли кулаки, но большого вреда от них мы пока не видим. Есть среди них сильно образованные: он тебе и декрет новый растолкует, и в сметах разберется, и бумажку какую хочешь сочинит… Народ у нас около ячейки вьется, и ничего будто, а коснись декрет в жизнь протащить, все боятся, как бы население не рассердилось… А еще скажу то: кто с радости, кто с горя – самогон пьют ведрами, от пьянства глаза лопаются, и народ, известно, в пьяном виде поднимает скандалы.
– Сукины вы сыны, – оборвал его Ванякин, – на печке заплутались, в ложке утонули… В городе мы из буржуев сало жмем, на фронте наши солдаты колют, рубят и стреляют неприятелей, а вы тут перед кулаками на задних лапках ходите?
– И мы жмем…
– Плохо жмете. Контрибуция у вас не собрана, хлеб не собран, картошку поморозили, птицу протушили, председателем волости у вас сидит кулак Курбатов…
– Мы под него фугас подводим.
– Затем ли вас выбрал народ, чтобы из комбеда устроили вертеп разбойников?
– Ты во мне дух не запирай! – грохнул кулаком по столу Емельян Грошев. – Я десять годов у кулака в работниках жил, а такого гнета над собой не терпел. Прошу исключить меня из партии ввиду моей причины, как я не прочь от общества, поэтому выхожу, и ты меня лучше не держи! – вытряхнул из шапки на стол измятое заявление.
– И меня не держи! – вскочил с полу мужик по прозвищу Над Нами Кверх Ногами. – Мы и так своей бедностью ужатые… Сократи меня из ячейки, я малоученый и к коммунизму не подготовлен… Весь народ глядит на нас, ровно на зверей, и я не могу переносить всего этого, как местный житель…
– Партия не постоялый двор, – сказал Ванякин, – хотя… насильно никого держать не станем. Партия, она вроде дрожжей… – Он повертел в руках заявление и спросил Грошева: – Грамотен?
– Нет.
– Я, брат, и сам до сорока восьми лет был неграмотным, а революция научила…
– Меня дешевле удавить, чем грамоте выучить, – сказал Грошев, сверля его злым глазом.
– Выучим.
– А выучишь, так я тебя вытряхну из комиссарского тулупа и скажу: «Ты иди землю ковыряй, а я с портфелем в руке буду круглый год на ямской паре кататься».
– Скажи мне лучше, кто тебе написал эту бумажку?
– Заявленье?.. Там, одна…
– А все-таки?
– Ты мне, товарищ, зубы не заговаривай…
– Кто писал?
– Раз, стало быть…
– Кто писал? – Комиссар бросил на стол пудовый кулак. – Говори!
Грошев посопел и ответил:
– Хозяйка. А тебе забота?
– Да, забота… Вот рассудите, люди добрые, – обратился Ванякин уже ко всем, – надумал человек в трудный час сбежать из партии, и не в нашу семью, а к хозяину с хозяйкой пошел за советом. Они ему и насоветовали, дай им бог здоровья…
Танёк-Пронёк, глядя мимо комиссара куда-то под стол, заговорил:
– Ты, Алексей Савельич, и лаешь нас, а зря… У нас терпенье тоже не купленное. Гоже в городе декреты выдумывать, вам ветер в зад, сидите там, ровно за каменной горой, а гора – мы… В комбеде набедокурили – наш грех, наша слабость… Дисциплина нам и в армии надоела, на мирном положении хочется попьянствовать, побуянить… Заседаешь день, заседаешь ночь, жрать нечего, жалованья ни копейки, ну и – хапнешь, где под руку подвернется…
– «Хапнешь»? – передразнил его конный пастух Сучков. – Ни стыда, ни совести. У меня родной племянник второй год на фронте страдает, а вы с Карпухой крутнули хвостом, да и домой, тоже вояки…
– Мне на фронте легче было, – строго посмотрел на него Танёк-Пронёк. – Знай стреляй-постреливай, пуля виноватого найдет. А тут что ни день, что ни час: «Дай гусей, дай курей, дай яиц, дай масла, трудповинность, гужналог» – тьфу!.. Да я на фронт бегом побегу, только отпустите меня из этого проклятого комбеда.
– По-моему, – густо, как в трубу, сказал сапожник Пендяка, – Ванякин ругает нас не зря… А которых не только ругать, бить надо… Возьмем Емельяна. Нынче ему хозяйка бумажку написала, завтра хозяин топор в руки сунет и пошлет нам головы тяпать… По-моему, таковым кулацким подхвостникам не место в нашей трудовой компании. Долой! Долой! И долой!
– Он, может статься, шпионить пришел! – зло крикнула солдатка Марья Акулова. – Гнать его!
Грошев нахлобучил на нос шапку, молча погрозил сапожнику корявым пальцем и ушел. За ним поднялся было Над Нами Кверх Ногами, но от порога вернулся:
– Простите меня… Я давеча сказал не думаючи… Мне хоть и страшно быть в вашей шайке, но – я решился, я остаюсь… Кулаков грабить – это правильно, купцов грабить – это правильно. Мы этого сто лет дожидались… Читал раз на базаре мужик книжку про разбойника Кузьму Рощина…
– Иди пока, – махнул рукой Ванякин, – мы тебя со всех сторон обсудим и подумаем, как и что…
Над Нами Кверх Ногами, растерянно ухмыляясь, пятился к двери, приборматывая:
– Я решился, мне все равно, двум смертям не бывать.
Ванякин развернул по столу список хомутовских богатеев и постучал карандашом по столу:
– Итак, товарищи, заседание продолжается… На повестке два вопроса. Первый – хлеб; второй – перевыборы комбеда. Кто хочет высказаться?..
К утру председатели сельсоветов съехались.
Ванякин рассказал про красные фронты, про заграничную революцию: кругом выходило хорошо, но советская власть все же пребывала в тяжелом положении: хлеба не хватало; топлива ни фабрикам, ни железным дорогам не хватало; а саботажу – во, хоть завались. По бумаге он, ярусом накатывая цифры, вычитал, сколько с волости недобрано того, другого, пятого, десятого.
Советчики крякнули:
– Мм-да.
– Последний козон на кон.
– Эдак ноне.
И комбедчики дружно взяли:
– Верно.
– Чего тут жмуриться?.. С кулаков дери семь шкур, обрастут.
Председатель хмуро:
– Ну, которы удерживайся в рамках.
Ванякин размотал еще одну речь и опять подвел:
– Граждане, надо учитывать критический момент Республики… Попомним заветы отца нашего Карла Маркса, первеющего на земле идейного коммуниста… Еще он, покойник, говаривал: «Сдавай излишки голодающим, помогай красному фронту».
Советчики переглянулись и полезли в карманы за кисетами:
– Надо подумать.
– Культурно подумать.
И комбедчики опять в голос подняли:
– Думай богатый над деньгами, а нам думать не о чем… Давай раскладку кроить.
– Погоди… Нам ваш Карла не бог.
– Хле-е-еб? Вон што?
– Мало?
Сазонт Внуков, дубровинский председатель, встал на скамейку. Разливался звонок, требующий порядка; снова говорил Ванякин, но большинство голов повернулись к Сазонту, разинутыми ртами ловили его распористые, как плотовые клинья, слова:
– Крещеные!.. Одно мы знали начальство – урядника… А нынче десять рук в карман тебе тянутся да десять в рыло… Каково это нашему крестьянскому сердцу?..
Рев
свист
топот…
– Х-ха… Задергали!
– Вызнали в нас дурь-то!
– Урядника вам?
– Хоть в петлю головой…
– Давай раскладку метить, раскладку!..
– Не торопись, коза, в лес, все волки твои будут, – сказал волостной председатель Курбатов, вылезая из-за стола, – по шестнадцать с тридцатки… Слыхано ли?.. Видано ли?.. Под корень хотят мужика валить, – страшно закричал он, ворочая глазами, – дно из нас хотят вышибить… Чего будем жрать?.. Чего будем сеять?..
Солдаток голоса:
– Жеребца мукой кормишь!
– Первый дилектор спекуляции…
– Зачем свиней пшеницей воспитываешь?
– Не кормлю! Кто видал? Докажи!.. Мужик ниоткуда ни одной крошки не получает, отними у него остатный хлеб, без хлеба мужик – червяк, в пыли поворотится, поворошится и засохнет…
– Размочим, – гукнул, как из бочки, сапожник Пендяка.
– …засохнет! И вы в городе долго не продышите, передохнете, как тараканы морёны. Все на мужичьей шее сидите… Передохнете, и тору от вас не останется…
– Правильно!
– Неправильно!
– Так, Панфилыч, по козырю!
– Верно слово!
– Долой… Долой…
Ванякин вскочил с места:
– Граждане, не могу я этой контрреволюции спокойно переносить… И чего у вас этакий Черт Иваныч в председателях ходит?.. Позор, граждане… На его провокацию о семенном хлебе дам я чистосердечное разъяснение: останутся семена – посеете, не останутся – будьте покойны, власть выдаст, власть, она, товарищи…
– Вот это гоже, – завопил Сазонт Внуков, – жену отдай дяде, а сам иди…
– Благодарим покорно!
– Тише, граждане!
Над Нами Кверх Ногами, сбычившись и зажмурив глаза, тряс нечесаной головой:
– До-ло-о-о-о-о-о-ой…
Заорали, заругались…
И орали и ругались, выходя только за порог до ветру, двое суток.
Все село под окнами слушало.
Выплыло на свет много такого, от чего сам Ванякин ахнул.
Из скупых рассказов татарских и чувашских делегатов удалось уяснить, что главную тяготу разверстки волисполком переложил на глухие деревушки, откуда уже было вывезено по двадцати пяти вместо шестнадцати пудов с тридцатки; там давно люди ели дубовую кору и глину, скотины оставалось по голове на пять дворов, да и та от бескормицы подвешивалась на веревки и дохла.
Списки обложения пришлось пересоставлять сызнова, и на третьи сутки выкачавший весь голос Ванякин просипел:
– Шабаш… Задание дано точно… Разъезжайся по домам, поговорите со своими обществами… Решайте, добром будем делаться или откроем войну?..
Ушел Алексей Савельич на квартиру отсыпаться, но не пришлось уснуть. Следом за ним потянулись кулаки, бедняки, солдатки, вдовы – с докукой, с доносами, с горьким горем…
– Нельзя ли, господин комиссар, хлебца пудик по казенной цене?
– Я насчет мужа узнать… В красных второй год, без вести… Не напишешь ли мне бумажку в Москву? Должны в Москве о муже моем знать…
– Инвалид, разверстку нечем платить, и пахал-то мне тесть.
– За водой ушла, а твои солдаты из печки горячие хлебы вынули да пожрали…
– Муж бьет… Есть ли такой декрет бить законную жену?
– Батюшка, Алексей Савельич, трех сынков у меня германец погатил… Не выдашь ли за них хоть мешок муки гарочной?.. [3] С голоду подыхаю, пожалей ты меня, старика…
– Платить невмоготу… Скости, товарищ, яви божеску милость… А мы, стало быть, в долгу не останемся.
– Изоська Шишакин, ярый паразит, хлеб под сараем гноит пудов два ста…
– Солдаты твои, Алексей Савельич, озоруют. Трясуновых девок голых из бани выгнали – утишь ты их.
Ванякин разъяснял, обещал, ругал, писал записки, грозил…
В избу с расцарапанной в кровь рожей прибежал милиционер Акимка Собакин:
– Дорогой товарищ, прошу вас как идейного товарища, оборотите внимание… Проживает у нас на селе девка Аленка Феличкина, никакого с ней сладу нет, отбойная девка, настоящая контра, в ударницах керенских служила, с чехом, сука, жила, самогонкой торгует, хотел я обыскать, а она…
Ванякин вытолкал пьяного Акимку и, приказав хозяину никого в избу не пускать, завалился на горячую печку.Под Крещенье в село нагрянул отряд по ловле дезертиров. Разошлись отрядники по квартирам, потребовали поить, кормить их досыта. В том же конце села третью ночь пьянствовал отряд секретного назначения, каковой отряд и сожрал будто у Семена Кольцова годовалого бычка и двух поросят. За день до приезда Ванякина дул несусветный буран, и на село набрела продкоманда по вылову рыбы. Дорога их была дальняя, путь держали на село Шахово – речка там, но заплутались и попали на Хомутово. У инструктора райрыбы Жолнеровича давно печенка смерзлась, из башлыка выглядывало его плачущее румяное лицо, и он несказанно обрадовался, когда запахло кизячьим дымом и теплом.
– Разгружайся, ребята, дальше не едем.
– А рыба?
– Будем с рыбой. Сто-двести пудов и тут наловим, я знаю, у них пруд есть. – За месяц до того Жолнерович приезжал в волость реквизировать излишки кожи, саней, сбруи.
Рыбу глушили бомбами, колотушками, цедили мордами, сетками, с илом драли. На низу, у старого кауза, мобилизованные бабы и ребятишки сортировали мерзлых окуней, сорожку, щурят.
– Придет весна, покушаем рыбки.
– Не горюй, кума, до весны передохнем все… Ванякин, слышь, последний хлеб отнимать приехал.
– Грому на них, на псов, нет.
– Забыл нас господь-батюшка, царь небесный… Гришка, на-ка сунь за пазуху парочку, караськи-то больно хороши.
– Старики бают, звезд на небе – и тех меньше стало. Быть беде…
– Бабоньки, а слыхали, будто в Марьяновке поп от сана отрекся?.. Напился, матушки мои, налил зенки, да и говорит: «Сейчас пойду Миколаю-угоднику шкалик на шею повешу!» Народ в страхе так и окоченел, а он, бес длинногривый, не будь дурен, возьми да и пойди…
Раскрытые рты, глаза по ложке. А рассказчица сыпала и сыпала часто-мелким говорком:
– Ждать-пождать – нет, ждать-пождать – нет… Поднялась попадья и шасть за ним в церковь… А батюшка стоит перед иконой чудотворца сам из себя весь серый… Схватила его попадья за руку, а рука-то холоднющая-прехолоднющая, закаменела… И сам-то батюшка весь окаменел, прямо как статуй стал.
Вечером по улице шли оттаявший инструктор Жолнерович с милиционером Собакиным. Встретили начальника отряда по борьбе с дезертирством.
– Здорово.
– Наше вам с махорком.
– Всю рыбу передушили?
– Дочиста. А каковы ваши успехи, товарищ Русаков?
– Дела швах… Дезертиров, что ли, в данной местности нет? Хоть бы одного на смех поймать.
Акимка промолчал… Он дезертиров не пасет, у него своих делов хватает. Инструктор грязным ногтем поцарапал медную пряжку, на которой было выбито «Реальное училище», и не без игривости сказал:
– И чего вы, товарищ, дезертирами интересуетесь, не понимаю?.. Занялись бы лучше самогонкой, здесь ее моря, океаны. В каждом дворе самогонная фабрика.
– Я и борюсь, да не помогает, – подсунул Собакин словцо, – мандат у меня незначительный, милиционер, не боятся ни званья; а вы как человек вполне официальный…
– Уху сочиним, – с восторгом подхватил инструктор, – а? Какого черта в самом деле? Приходите уху хлебать – ерши, окуньки – пальчики оближете! Ну, перед ухой пропустим по наперсточку… Не правда ли, Собакин!
– По наперсточку отчего не выпить?.. Не вино винит, пьянство.
Русаков крутил фельдфебельский ус.
– А как же… дезертиры?
– Бросьте, милейший, никуда они не денутся… На днях из города еще караульный батальон разбежался… Не горюйте, на наш век дезертиров хватит.
– Мм-ма, рискнуть разве разок? – вслух соображал Русаков.
– Тут и думать нечего. Похлебаем ушицы, кувыркнем бутылочку и пойдем на спектакль: мои ребята с просветительной целью ставят.
– Вон дом с зелеными ставнями, – показал Собакин. – Никанора Суслова дом. В бане варит, на нижнем огороде. Я и сам бы закатился на правах милиционера, да с жениной стороны неудобство имею, а вы человек проезжий: нынче здесь, завтра – там, лафа…
– Сыпьте, милейший, ну что тут такого?.. О борьбе с самогоном и в газетах пишут…
– Ладно, – крякнул Русаков, – иду.
Он набрал из своего отряда десяток самых надежных ребят и пошел с обыском из двора во двор. Из чуланов, подпечей и всяких тайников красноармейцы волокли на улицу и разбивали посуду с самогонкой, самогонные аппараты. Над селом облаком стоял самогонный дух. Пить нигде не пили, а только пробовали, и так напробовались, что не помнили, где кто и ночевал. Сам Русаков на ногах держался крепко и все помнил явственно: хлебал уху, плясал казачка, потом тащили его на спектакль; на спектакль он не пошел, а по совету Собакина залился в гости в одну избенку…В исполкоме только что закончилось совещание председателей сельсоветов. Делегаты рассовывали по кисетам грамотки с цифрами разверстки, подтягивали кушаки на дорогу и ругали Ванякина:
– Загадал загадку!
– Да. Слыхали, говорил «кредический момент», вроде в долг хлеб-то просит?
– Знамо, в долг – без отдачи. Жди от кошек лепешек, от козы орехов.
– Оно и правда, брать да отдавать – одна путаница.
– С нас да с нас… Взять колья да по вилкам их, по вилкам, чтоб и дорогу в деревню забыли.
– Ну, это еще кто кого…
– Мало нас, дураков, бьют…
– Не вешай, парень, голову, не печаль хозяина… Давай-ка закурим на дорожку.
– Лошадей заморили, кой день не кормлены…
Разъезжались по двое, по трое.
Мало уже и народу оставалось, когда в исполком прибежала старуха Кирбитьевна:
– Братушки-ребятушки, чего я вам скажу, не совру… Аленка-то наша комиссарика прельстила, с места не сойти… Целуются-милуются, играют и поют…
Делегаты схватились:
– Бешеный загулял?
– Похоже… Вот тебе и кредический момент.
– Ах, хапуга!
Секретаришка Куньчин заверещал:
– Что же это такое, граждане? Нешто мы будем глядеть? Нешто это порядки? Нашего брата греют, а сами пьянствуют? Нашему брату стаканчика нельзя долбануть, а сами ковшом хлещут? На подобные дефекты, граждане, обратим наше сугубое внимание. Захватим на месте, составим протокол и протоколом этим припрем его, как ужа вилами. Копию в чеку, копию в трибунал, копию в уездный исполком, копию начальнику коммунистов, копию в губпродком…
– Золотая у тебя голова, Куньчин, ущемить его надо… Не захочет он перед всей губернией срамиться, авось и скостит с нашей волости какую ни на то долю разверстки.
– Ущемить…
– Как?
И заскребли члены в затылках.
Спустя десять минут под окна Аленкиной избы подступил весь президиум волостного исполкома вместе с понятыми. В избе, за занавешенными окнами, было глухо и темно. Осторожно в раму тук-тук:
– Эй, хозяйка!
Тихо, лунно, гневное сопение, снег похрустывал под валенками.
– Хозяйка…
В избе шлепанье босых ног:
– Кто это? Кого черти по ночам носят?
– Дело срочное: продовольственного комиссара ищем… Он не у тебя тут калачи считает?
– Нету. В глаза не видала вашего комиссара, что он и за комиссар такой.
Под окошками бу-бу-бу и опять в раму:
– Алена, отопри!
– Провалитесь!
– Отопри, не то хуже будет… Ты что деревню-то похабишь?
Голая Аленкина рука отворотила краешек шали, которой было занавешено окно, против луны выглянуло ее белое, ровно в муке вывалянное лицо:
– Полуночники, али вам дня мало? Спокою людям не даете… Не видала вашего комиссара, что он и за комиссар такой.
Курбатов остервенело забарабанил кулаком в раму:
– Отопрешь, паскуда, али нет? Долго с тобой будем рядиться? Признаешь законну власть али нет? Двери высадим!
Аленка вся высунулась из-за шали и, вздернув рубашку, показала:
– На-ка вот, властитель, выкуси!
Долго бы волостная власть билась в дверь – из дуба литую, – но вот в сенях послышались шаги, загремел отодвигаемый болт. На пороге их встретил, в расстегнутом френче и с наганом в руке… Русаков:
– Вы что разбойничаете?
– Ты, товарищ, убери эту свистульку, – сказал Курбатов, косясь на наган и боком протискиваясь в сени, – мы ведь тоже начальство, хотя и небольшое, а начальство…
Проходили в избу, некоторые крестились на передний угол, рассаживались по лавкам. Понятые кинулись искать самогон, самогону не нашли – недаром же Аленка слыла по селу первой шинкаркой. Секретаришка Куньчин, начеркавший было на чистом листе «Протокол дознания», кинул глазом на Курбатова, свернул бумагу и сунул обратно в рукав:
– Прощенья просим, ошибочка тут вышла… Искали мы бобра, да напали на ясна сокола… Щекочитесь, щекотливые дела волисполкома не касаются…
Брались за шапки и, покрякивая, покашливая, вроде извиняясь, выходили. Аленка провожала немилых гостей. В темных сенях мужики, кои помоложе, лапали ее. Она по обе стороны хлыстала их по мордам, выталкивала и на прощанье награждала такими словечками, что только – ах!
Русаков вернулся утром на квартиру, к нему подскочил перепуганный старшой:
– Так и так, товарищ начальник, докладываю… Секретный отряд ночью снялся и ушел в степь, в неизвестном направлении.
– Мне-то что?
– А еще докладываю, пропал у нас пулемет и тридцать четыре винтовки.
– Куда делись?
– Не могу знать.
– Ты был пьян, мерзавец?
– Никак нет.
– Немедленно собрать людей.
– Слушаюсь.
Собрал старшой людей, выстроил – семерых не хватало.
– Семерых недосчитываюсь, товарищ начальник.
– Куда делись?
– Не могу знать.
– Ты был пьян, подлец?
– Никак нет.
– Подойди, дыхни.
Дыхнул старшой – изо рта у него несло табаком, портянками, навозом.
Русаков забегал перед строем, схватился за голову:
– Ничего не понимаю… Я спрашиваю, куда подевались винтовки, пулемет, люди?
– Не могу знать.
Правофланговый Косягин ухмыльнулся:
– Должно, с дезертирами убежали, товарищ начальник, окромя им деться некуда.
– С какими дезертирами?
– Дык все с теми же…
– С какими?
– Под боком-то у нас стоял отряд самых секретных дезертиров…
– Как дезертиров? Каких дезертиров?
– Так что не могем знать.
– Чушь какая-то!
– Никак нет, не чушь, а дезертиры.
– Чего же вы меня раньше не предупредили?
Тогда загалдели все разом:
– Я бы и сказал, да не знал.
– И нас уговаривали пристать к ним… Сколько разов подступались, да мы не дураки…
– Коневое дело.
– Мы против Советской власти не согласны…
Русаков залепил в морду одному, другому и убежал в избу, бормоча:
– Пропал… За винтовки и пулемет придется под военный суд идти… Ни за что пропал!
Следом за ним вбежал десятник и вручил записку:...
Командиру дезерционного отряда т. Русакову.
Доношу хозяин, где вы проживаете, Семен Кольцов, ходит по селу и ведет недоброжелательную агитацию, сиречь сожрали у меня годовалого бычка, две свиньи, овцу, казачье седло, и когда они провалятся в тартарары, ни дна им, ни покрышки вместе с революцией, а также означенный Семен Кольцов нахально не признает Советскую власть и предает ее за тридцать серебреников. Мы за нее кровь пред чехами лили, а у него, стервеца, сын в дезертирах, а также сей недостойный гражданин контрреволюционных лошадей укрывает. Нижайше прошу вас и призываю, сделайте с Кольцовым Семеном чего-нибудь циркулирующее, а все имущество, начиная с собаки и возносясь до каурого мерина, передайте в сиротские руки бедноты, босой и голой, холодной и голодной.
Идейный милиционер рабочей, крестьянской
гвардии и армии РСФСР, РКП товарищ
Аким Собакин.
Русаков разбудил хозяина Семена Кольцова, за ногу сдернул его с полатей, поставил перед собой и запиской милицейской начал в зубы тыкать:
– Ты что же это, дядя, предаешь Советскую власть за тридцать серебреников?.. У меня пулемет пропал, тридцать четыре винтовочки Гра улыбнулись, а у тебя сын в дезертирах? А ты ходишь по всему селу и Советскую власть подрываешь? Разве так честные граждане поступают?
– Господи Исусе, опять напасть, – протирал старик глаза спросонья. – Тебе, товарищ, чего? Молока? Самогону или, может, щей вчерашних разогреть?
– По твоему молоку я – проволоку… Почему контрреволюционных лошадей укрываешь? Почему…
– Свят, свят… По назлобью, сынок, на меня набрехали. Видит бог…
– Лучше сознайся да отопрись.
– Дозволь, сынок, слово молвить…
До слов ли тут? С дезертирами под одной крышей ночевал, свои люди разбегаются, пулемет и винтовки пропали, хоть и дрянь винтовки, не стреляла ни одна, а придется под военный суд идти…
– Я тебе покажу дезертиров скрывать. Из-за вас, чертей, весь саботаж проистекает. Для начала, согласно постановления губкомдезертир, конфискую я у тебя все хозяйское обзаведенье, начиная с собаки и до каурого мерина включительно, а самого на первых порах упрячу в острог вшей кормить.
И горько заплакал, затрясся старик Семен Кольцов:
– Не губи, сынок, душу крещену, всю правду как на духу поведаю.
– Согласно губкомдезертир…
– Не губи, кормилец, слова не совру.
– Давай похмелиться.
– Мы с хорошим человеком со всей нашей радостью! – Выхватил хозяин из-за божницы бутылку перегону, поставил на стол стаканы. – Кушайте, не стесняйтесь, у нас она не куплена.
И поведал старик Семен Кольцов:
– Секретный отряд вовсе будто и не секретный отряд, а самые секретные дезертиры из деревень Чукчеевки, Нижней Сахчи, Вознесенки и Втулкина. Наших среди них вроде и не было никого. Телка у меня годовалого сожрали, двух поросят, и ружьишки ваши они же, будь им неладно, заграбастовали, опричь некому. У пьяных, слышно, разговор был – собираются в степи лошадей у киргизов воровать, вот им и спонадобились ваши ружьишки… Ты пей, сынок, у нас она не куплена, у нас, слава тебе, господи… И верно, товарищ, это разве жизнь? Вчера теленка со двора увели, нынче свинью сожрали, ты вон грозишь по миру пустить, завтра самого к стенке… Да-а. А на третий день Рождества неизвестный татарин на кауром мерине соли астраханской мешок вез. Наша комбеда его поймала, соль арестовали и поделили члены, отчего в народе был огромадный ропот. На того спекулянта, несчастного татарина, за его же соль наложили контрибуцию в сто одну косую. Он с перепугу и умер в амбаре, а может быть, замерз, бог его знает. Жив был еще, говорил: «Холеру пережил, голодный год пережил, а свободу никак не переживешь». Да-а, остались от татарина сани с подрезами да меринок каурый. Сани бедному председателю достались, а меринок Акимке под верх пошел: скушно Акимке без лошадки – догнать там кого или воды, скажем, бочку и ту на козе не вкатишь. Ладно. На рождественской неделе нагрянул в село самогонный отряд и прямком шасть ко мне с обыском. Донос, я так думаю. И в уме сроду не держал, какая такая самогонка, и нюхать ее не нюхал, не только что варить. Шарили они, шарили, ну, и… кхе… в чулане нашли будто кадушку с закваской. «Это что?» – спрашивает главный. «Закваска, говорю, ничего вредного, чистый хлеб; праздники на носу – раз, плотников хочу рядить – опять двадцать пять». Главный, ну мальчишка, у него на уме только в балалайку играть, меня за бороду: «Ах ты, такой-сякой, мы в городу собачины досыта не видим, а вы бражничать? Эй, солдаты, бей кадушку, лей барду на улицу». Я и говорю: «Зачем добру пропадать? Лей в корыто, свиньи скушают, а кадушка не виновата. Разобьете у меня кадушку, где я возьму кадушку, сторона наша степная, лесу нет – в зубах нечем поковырять». Отдали мене кадушку. Гляжу, один сыновнюю гимнастерку в мешок сует. «Грабеж, кричу, сын родной Митька с австрейского фронта привез!» А он мне: «Прошу не оскорблять, теплы вещи Красной Армии нужны. Был такой декрет». – «Неправильный декрет, говорю, сын мой раненный два раза и на гимнастерку документ может представить». А они свое: «Тепла вещь». Дернул я за рукав: «Хоть рукав да наш, годится бабам чугуны перетирать…»
Весь во власти горестных воспоминаний, старик морщился, плевался, воздымал трясущиеся руки к иконам, богов призывая в свидетели.
– Да-а, хорошо… Только мы с Митькой – он тогда дома проживал – в бане перемылись, попарились, только к самовару подсели, стук-стук в окошко десятник Петра Ворыпай: «Семен Саввич, бедный комитет тебя требует срочно». А до комитету больше версты, я только из бани. Куда я, горячий человек, выпча глаза, на ветер пойду? «Ну его, кричу, и комитет-то ваш к едрени матери». Ушел десятник. Выпил я чаю чашку, другую наливаю. Вот он летит, Акимка, и прямо с разбоем, как атаман Чуркин: «Ты властям не подчиняться? Кумышку гнать? Дезертиров разводить? Все до последнего кола леквизирую». Меня так и перепоясало: разорит, думаю, в корень разорит, чего со псом поделаешь? А Митька и виду не подает, да ему встречь: «Ты, Акимка, не задирайся, и тебя за машинку взять можно, я есть действительный солдат с австрейского фронта, два раза раненный и действительно дезертир, да кругом один, а у тебя, Акимка, не забудь, родной племянник Петька дезертир, шурин дезертир, свояк дезертир». Тут из-за сына и я осмелел: «Мы, кричу, налогу пятнадцать тысяч сдали, четыре воза хлеба за спасибо на элеватор отвезли, вся власть на нас держится, а вы, шаромыги, не только власти, собаке бездомной куска не бросите. У меня на двор каждая палка затащена, грош к грошу слезой приклеен, по соломине все снесено». Надолго бы нам разговору хватило, да Митька догадался, принес от свата горлодерки четверть. «Давай мириться?» – «Давай», – отвечает Акимка, а у самого глаза, как у базарного жулика, бегают. Хватили по ковшику, хватили по другому, нас и развезло…
Русакова тоже развезло, старика он слушал краем уха. Отчаявшаяся мысль вилась над событиями последней ночи: обыск, уха, пляска под гармошку, Аленка, винтовки… Как ни крутись, суда не миновать.
– Пособи моему горю, лукавый старик, я тебя озолочу…
Но хозяин, навалившись грудью на стол, нес свое:
– Сынок, видишь ты, какое дело… Акимка с братом делится, лесу у него на избу не хватает, а у меня амбар на задах гниет. «Давай, говорит, на каурого мерина менять». Пораскинул я умишком: хлеба большого нет, а ежели и будет – в землю его топтать надо, так и так ни к чему мне амбаришка, да и амбаришка-то такой, что мышу там повернуться негде. «Меняю, говорю, где наше не пропадало». И поменяли, ухо на ухо. Рассыпал он мой амбар, я каурого меринка в укромное место спрятал. Ладно. Что ж ты, брат мой, думаешь? На другой день прибегает Акимка: «Где каурый меринок?» – «Амбар мой где?» – «За амбар я тебе по твердым ценам уплачу, а казенного меринка вынь да выложи». – «Ищи, говорю, я у тебя никакого меринка не брал». Пошарил он по двору – нет, туда-сюда – нет, на нет и суда нет. Волостному председателю Акимка заявил: «Увели», – а мне пригрозил… И тебя, ангела, он, пес, назузыкал. Я не кулак, я средний житель: две лошадки, две коровы, работников не держу и не держал никогда, сами с сыном хрип гнем… живем ничего, пола полу прикрывает, а за большим не тянемся. Я смирный, как веник: положь меня к порогу, буду лежать, выброси в сени, буду лежать… Эх, товарищ, грех вам нашего брата, мужика, обижать… Хоть крест с шеи снимай, хоть исподники стаскивай – рук не отведем… Дограбите нас, станем все голые…
– Курвы, – бухнул простуженный голос из-за печки, – кишки из них на скалку выматывать будем…
– Кто там ворчит? – спросил Русаков.
– Тама?.. Кхе, так это ж, должно, сын мой Митька, в дезертирах который, больше там и быть некому… Митька!.. Сы-ын!..
Из-за печки вышел босой, заспанный Митька и, запустив левую руку в ширинку, – не одна его тревожила! – правой отдал честь.
Так и так, давно он, Митька, дорывался в Красной Армии послужить, да все случая подходящего не подвертывалось: то хлеб молотили, то свадьба, то в банду его насильно мобилизовали… Теперь решил объявиться, никак в дезертирах невозможно – хозяйству расстройка, тятяше беспокойство, и Акимка поедом ест.
Отец затрясся в кащеевом кашле:
– Пропадай он к лешему совсем с каурым меринком… Амбар пусть мне вернет, амбар…
Засунув руки в карман френча, Русаков пробежал по избе и круто остановился перед Митькой:
– Сволочь! – и кулаком сразу сшиб весь сон с его рожи. – Знаешь, чего с вашим братом, дезертиром, делаем?.. А?.. То-то… Тебе, как старому солдату, прощаю… Но ровно через трое суток пулемет и винтовки должны быть здесь! Понял?
– Так точно, понял.
– Всю твою родню оставляю заложниками. В случае чего – щелк, щелк, и дымок в облака. Понял?
– Так…
– Кругом арш!
Митька по-солдатски повернулся через левое плечо, дошел до двери и, заплакав, стал:
– Дозвольте, товарищ, хоть квасу напиться… Да обуться бы, что ли…
С перепугу глаза у Митьки ровно на лубке выбиты.
Ночь по селу – нигде ни гугу, не журкнет, не брякнет.
Лишь где-где спросонок собака тявкнет, вздохнет корова. Уткнувшись носами в закорклые сугробы, черной дремой дремали дремучие избы.
В темной горнице на широкой лавке сидел одетый и в рукавицах Семен Кольцов. По полу были раскиданы овчины, по овчинам в жарком сне разметались ребятишки. Молодуха храпела свирепо и жирно. Семен поглядывал в обметанное ледяной икрой окошко, вздыхал – был он скован бедами, ровно собака репьями. Уши на малахае и те дыбом стояли. Беспокоил храп снохи. Время какое, может, по миру пустят, а она, корова, дрыхнет, и горюшка ей мало. Сунул кулаком под мягкое, обвислое вымя:
– Черт неладный, вставай.
Молодуха как с печки упала:
– Батюшки… Пресвятая богородица… Сон-то на меня какой…
– Понесла без весла… Замолола, дура-надолба… Давай ключ от чулана! Живо!
Шагая через детишек, шлепая босами, тыкаясь сослепу, шарила по стенам:
– И куда его нечистая сила занесла? – Сползала с бела плеча рубаха, волосы путали глаза.
– Одевайся живей, поедешь.
– Куда?
– На кудыкину гору, закудыкала, черт неладный!
(Не спрашивай «куда?», удачи не будет; спрашивай: «далеко ли?»)
Старик хлестнул дверью, загремел сенным болтом.
Сноха, ровно котят, таскала из чулана на двор пятиришные мешки. Сам укладывал мешки в кованый возок, застилал соломой, рассказывал, куда везти:
– Минуешь Дубовый ерик, и будет на дороге горелый осокорь, где Савку Микитина позапрошлый год грозой убило. Направо дорога, налево дорога, так ты ни по одной не езди, а снорови в развилку попасть, забирай огорком, Сакулиной гривой… Гляди, в дол не спускайся, жеребенка утопишь, мятика… Гривой упорешь сотельника два, тут тебе Лебяжье, Жукова пожня, тальник, гуга – само недоступно место. В ямину сперва соломы погуще натруси. Мешки ставь на попа, плотнее. Сверху лубьями, дерюжкой прикрой, снежком запуши. Пожню-то Жукова помнишь? Тут тебе лывина, буерак, гуга…
– Помню, батюшка.
– Место заприметь, холера. Лошадь не упусти. Ну, с богом… Вожжи-то держи, дурье гнездо!
Мерзло взвизгнули полозья. Каурый меринок умчал с носом закутанную в тулуп молодайку.
Старик, заперев ворота, отлил, поплевал на пальцы и недовольно крякнул:
– Своему дерьму не хозяин… Свобода… Дожили.
Не раздеваясь, прилег на постель и только было забылся, в окно тихо брякнули. Семен вскочил: в переплете рамы моталась папаха Антона Марычева. Семен узнал его, но все-таки спросил:
– Кто там?
– Сват, выдь-ка на минутку.
– Пошто?
– Дело есть.
Вышел боковушкой.
– Ты, Антон?
– Я, сват.
– Ты что?
– Да ничего.
Постояли.
– В избу айда, покурим, – пригласил хозяин.
– Некогда.
– Какие тебя дела крутят?
Антон помялся и досказал:
– Мужики у Максима Панкратова собрались, потайное собрание вроде, шут их дери.
– Ну, так что?
– Тебя, значит, зовут.
– Меня?
– Тебя.
– Что за собрание?
– А я не знаю.
– Ну их в прорву…
– А ты иди, сват, иди… – засуетился Антон. – Дело мирское, крепко сердятся которы, иди… Я еще Афанасьева да Поликарпа Лукича позову. – И он торопливо зашагал через улицу.
Максима Панкратова изба полным-полна.
В полушубках, в чапанах сидели по лавкам, по полу. Окна были наглухо занавешены, лампа привернута. Накурили, руки не пробьешь… Собрание еще не начиналось, поджидали кое-кого. Хозяйка качала зыбку; ребятенок, опурившись криком, затихал. Петр Часовня стоял на полу на коленках и вполголоса рассказывал:
– …два звонка. Я мешок за ухо да в вагон – нельзя, делегатский; в другую дверь – штабной; я дальше – «Куда прешь, вагон особенного назначения». Три звонка, мое дело хило. Ладно, думаю, смерть так смерть. Лезу на буфер, сел, ножки свеся. Откуда ни возьмись анчутка, цоп меня за лапоть: «Слазь». Я упираюсь: «Войди, товарищ, в положение, трое суток пресмыкаюсь на вокзале, обовшивел весь; не жулик, не спекулянт, а есть я ходок по деревенскому мытарству». Четвертную сулил, то, се, знать ничего не хочет: «Слазь без литеры, и вся недолга́». Стащил меня да еще в загривок сунул. Оно, понятно, не больно, а обидно. Нам зуботычины от урядников терпеть надоело. «Ладно, говорю, машина твоя, земля моя. Езди и езди, а на землю не слазь – моя земля. А как слезешь, тут тебе и башку отшибу на разно». Свистнул он, поехал, а я утерся, да и пошел пешечком полтораста верст. «Ладно, кричу, машина твоя…»
Мужики, поблескивая глубокими и темными, как соминые омуты, глазами, слушали молча.
На печке бабушка Анна трепала лохмотки молитв, баюкала блажного внучка и подорожником обклеивала его сочащиеся гноем болячки:
– Не стони, Ванюшка, не стони… Грех, Ванюшка, стонать… Не тешь дьявола, касатик, не стони… За муки мученские подарит тебе боженька ризу золотую, в пресветлый рай тебя посадит, не стони, голубь сизый…
Побывавший в немецком плену солдат Федор Выгода, припав на корточки, курил перед пылающей пастью голландки и рваным, до дыр заношенным голосом расхваливал немецкое житье:
– …знаменитые порядки. Дома один в один, как одного хозяина. Кругом шоссейки, молочные заводы, страхкассы и электричество. В Расеюшке нашей разнесчастной мужик на ногах ходить не умеет, а там, сделай милость, у каждого велосипед, а то и автомобиль. Ты тут целый месяц влачишься в поле на своей лошаденке, а там машина фрррр, в один час все сделает. Лошади у немцев как печки, моют лошадей с мылом два раза в неделю. Обедают, будь то в городе или в деревне, по часам, по звонку. Свинью зарежет – капля не пропадет. Землю разделает, не земля – мука, работать весело. В праздник оденется мужик немецкий чище русского буржуя. Кругом телефоны эти самые и машины, машины, машины, а машина – выгода. С машиной Америка до того дошла, что и работать никому не надо: лежит, слышь, американец на печке, ногу отваля, нажмет одну кнопку – машина ему спашет, нажмет другую – посеет, нажмет еще – машина хлеб уберет, смолотит и в мешки ссыпет, нажмет…
– Да, – подсказал старик Колухан, – в Совете нажмут кнопку, сразу все отберут.
Могучий хохот потряс избу
изба закачалась на корню.
Федор, схватившись за чахоточную грудь, корчился в хриплом кашле. Удары кашля выбивали из него сверкающие лоскутки крови, которые он сплевывал в огонь, а мужики ржали, будто сотни телег катились с высокой горы…
– Прямая выгода…
– Нам раз в день жрать нечего, а все будем лежать да обедать по часам, никакая машина не наработает.
– Ну, кнопка…
– Смехи, пра, ей-богу…
– То-то ты, Федя, и разжирел на немецких хлебах… Гляди, какой стал сочень, зюзьга богатырь…
Колухан:
– Мы сыстари веков сохой землю ковыряли, а хлебом своим весь белый свет кормили. Будем работать машинами, кто нас кормить будет?.. Кобыла мне принесет жеребенка – хозяйству прибавление, навозом я землицу сдобряю, на лошадке своей и за дровишками съезжу, и на базар, и в степь. Она, лошадка, тварь божья, во всех делах мне помощница и из воли моей не выходит… А машина, она и есть машина: гарь, да вонь от нее, да увечье.
– Машина нам ни к чему, – подхватил кудрявый Тихоня, – разбогатеем на машинах, куда станем деньги девать? И еще спрошу, как нам тогда достигнуть царства социализма, ежели Христос заповедовал: при социализме все должны быть бедными?
– А по-моему, – сверкая в полутьме бельмом, как двугривенным, сказал Алеша Сысоев, – жить бы ровненько, не зарываться больно глубоко-то. Ну его, и социализм-то ваш, к монаху в штаны.
В избе сидело много и чужих мужиков: то были ходоки из волостей Юрматовской, Белозерской, Санчелеевской, Абдрахманской и еще откуда-то издалека. Держались они сторожко, слова укладывали скупо и бережно, одно к одному.
– Что у вас слыхать?
– Одинаково… Щупают почем зря.
– Под метелку гребут?
– До зерна, до мышиного хвостика.
– Дела мокрее воды… Он, хлеб-то, раз в год родится.
– Куда пойдешь, кому скажешь?
– Народ ходит молчаливый, мученый, ровно с креста снятой… Скоро пахота, сев – ничего и на ум не идет… Руки есть, а ровно оборваны.
– Щель, куда иголку не подобьешь, они бревном распирают… На своем дворе мужик стал не хозяин, все сделались бесовыми работниками…
– Дело какое делают молча, ходят молча, все будто бы потеряли чего.
– Весна придет, с чем взяться?
– Не закон, мужики…
– До Ленина бы еще дойти, потолковать бы…
– Где там, и близко не подпустят.
– Возьми другие губернии, в других губерниях такого грабежа нет… По декрету, слышь, на каждый двор по три коровы выходит. А где у нас они?
– У нас по три кошки нет, не то что коровы.
– Скажи на милость…
– Опять и обмолот был неправильный.
– Жмуриться тут нечего, надо всем миром рявкнуть… Всем-то плюнуть по разу – озеро будет.
– Д-да, плюнуть не хитро.
– Что и говорить…
– Так и так, пока сидит над нами эта власть постылая, не видать нам красных дней.
Пришли Семен Кольцов, Онуфрий Добросовестный, церковный староста Агафон Сухинин, Борис Павлович.
– Давай начинай, вся правленья в сборе.
– Жевать тут нечего.
– Верна, Акулина Пелагеевна… Мартьяна разбудите.
Борис Павлович Казанцев облазил за зиму весь уезд, выявил на местах своих единомысленников и сочувствующих, наладил связь между волостями. Почва для работы была благодарная: революция ударила по брюху собственника, проживало по селам немало и толстосумов – горожан, выкуренных из своих нор Советской властью, там и сям отсиживались по углам колчаковцы, не успевшие почему-либо отступить с армией. Безобразия, творимые на местах липовыми коммунистами и органами власти, засоренными чуждым элементом, еще более облегчали деятельность Бориса Павловича.
Проговорили всю ночь.
Было решено хлеб попридерживать и начать подготовку восстания.
Под утро, еще затемно, ходоки уехали.
Семен Кольцов заложил жеребца – на хутора погнал, сына Митьку разыскивать.Сгибли все сроки, отмеренные Ванякиным, доброго не виделось. В хлебе отказывать не отказывали и давать не торопились. Села оглядывались одно на другое и с надеждой посматривали на февральское солнце, которое день ото дня наливалось жаром, грозило вот-вот размыть снега и распустить дороги. Правда, кое-откуда и подвозили хлебишко, то затхлый, то в ямах сгноенный, то с песком подмешанный, да и подвозили-то десятками пудов, когда большие тысячи спрашивались. Не выколотив разверстки с Хомутова, нечего было и думать насшибать ее с окружающих сел. До распутицы времени оставалось мало, это понимали и мужики, поглядывающие на солнышко, понимал и город, истекающий призывами.
По волости был пущен слух о новом декрете, которым каждый крестьянский двор обязывался поймать и доставить в райпродком по живому волку.
Мужики взвыли:
– Кум, слыхал?
– Знаю.
– По-живому, слышь?
– Шутки-баламутки… Блоху, скажем, поймать и то не вдруг, а это, эка маханули.
Не унывали одни охотники.
Танёк-Пронёк сказал набившимся в комбед мужикам:
– Провокация… Спрашивал я и Ванякина, то же самое, никаких, говорит, волков не надо… А за распространение позорящих Советскую власть сплетен с нынешнего дня в пользу культпросвета будем взимать по двадцать пять рублей с каждого сучьего языка.
Из гнезд разоренных монастырей, как черные тараканы, на все стороны расползались монахи и монашки, сея в темных умах пророчество о царстве антихриста и чудовищные россказни о новоявленных иконах, видениях схимников, о втором пришествии сына божия.
Земля накалялась
село гудело:
– Хле-е-еб… Разве-е-ерстка…
По ночам кто скакал целые воза перепрятывать, а кто засыпал в квашню последнюю затевку, пока не отняли.
Шатались улицей, сбивались в кучки:
– Начисто гребут.
– Без милости.
– Скажи ты, под метелку, до скретинки.
– Амбары охолостят, по дворам пойдут.
– Как хочешь, так и клохчешь.
– Припасли, наработали.
– Мы, гыт, голодны…
– Дармоеды, сукины дети.
– Рабочих мы бы прокормили, рабочих мало… Пожирает наш труд всякая городская саранча, до сладкого куска избалованная, вот что обидно.
– Ни тебе рта разинуть, ни тебе шага шагнуть.
– Это не жизнь, а одна болезнь.
– Так и так подыхать.
Село было похоже на муравейник, в который сунули горячую головню.
На воротах, где жил Ванякин, повесили удавленную на мочалке курицу, в клюв ее была засунута записка: «Не суди меня, Бешеный комиссар, удавилась я по причине агромадной яичной разверстки».
В лютое февральское утро, когда снег визжал под ногой, Ванякин повел свой отряд на гумна, в наступление на хлебные крепости. Похлопывая по набитому инструкциями портфелю, Ванякин подбодрял отрядников:
– Не робей, ребята… Так или иначе, но мы должны довести свое дело до победного конца. В своем декрете товарищ Ленин со слезами негодования призывает нас: «Вперед, вперед и вперед с помощью вооруженной силы».
Отрядники – сборная городская молодежь – коротко поддакивали и бодро шагали за Ванякиным с берданками на плечах. За ними, по выбитой корытом дороге, впритруску бежал Танёк-Пронёк и широко, деловито шагал волостной председатель Курбатов.
На гумнах, выше плетней и ометов, были навалены сверкающие пушистые снега.
– Начинай подряд. Чей амбар?
– Прокофия Буряшкина амбар.
Ветер рвал из рук комиссара раскладочный лист:
– Буряшкин Прокофий, сорок пудов… Где хозяин?
– Дома, должно, – буркнул Курбатов, – где же ему и быть, как не дома?
– Васькин, слетай-ка за ним. Самого зови, и ключи пусть несет.
Отрядник Васькин побежал в село, но скоро вернулся, не найдя дома ни ключей, ни хозяина.
– Спрятался.
– Прятаться? Приступи, ребята.
– Пешню надо или лом, прикладом тут не возьмешь, – сказал Танёк-Пронёк, с видом понимающего человека осматривая пудовый заржавленный замок и обитую железными полосами дубовую дверь. Все утро Таньку́-Проньку́ было как-то не по себе, и, желая скрыть это, он суетился, сыпал солдатские прибаутки, красной тряпкой протирал слезящиеся на ветру глаза или выхватывал из-за пазухи вышитый кисет и дрожащими пальцами свертывал цигарку.
Курбатов стоял в стороне, с невеселым равнодушием поглядывая на солдат.
– Что сентябрем глядишь? – крикнул ему Ванякин, поплевывая семечки.
Солдаты засмеялись.
Волостной председатель почесал под черной бородой и не вдруг отозвался:
– Значит, ломать?
– Ломать.
– Умно придумал…
– Что не гнется, то ломать будем… Ни кулаки, ни кулацкие прихвостники пусть на нашу милость не надеются.
– Так, так…
– А твоя какая забота?
– Мое дело десято, не о себе пекусь.
– Не пой Лазаря. Иди-ка распорядись насчет подвод, да поживее.
Тяжелый, как грозой налитый, Курбатов ушел и больше не вернулся, а прислал десятского:
– Нету подвод, лошади в разгоне.
Ванякин выругался и послал на розыски подвод отрядников. Гремя прикладами и топая обмерзшими сапогами, солдаты ломились в избы:
– Хозяин!
– Я хозяин.
– Здравствуй.
– Здравствуйте, как не шутите.
– Лошади дома?
– Чово?
– Лошади, говорю?
– Какие лошади?
– Запрягай, по приказу Ванякина.
– Чово?
– Ну, дурака не валяй.
– Это ты, товарищ, правильно говоришь: дураки мы, дураки и есть, а были бы умные, не кормили бы вас.
– Будя, дядя, болтать-то, айда, запрягай.
– Далека ли?
– …за калеками.
– Черед не наш, товарищ, мы свой черед отвели, дрова на секцию возили.
– Лошади дома?
– Чьи лошади?
– Твои.
– Мои?
– Ну да.
– Нету у меня лошадей. Одну в Красную Армию мобилизовали, другую украли, постом последняя сдохла.
– Одевайся, пойдем на двор, посмотрим.
– Черед не наш, товарищ, мы свой черед…
– Одевайся, пойдем.
– Куда пойдем?
– Там увидишь.
– Тьфу, истинный господь, ну и жизнь пришла… Иду, иду, не зевай, а лошадей все равно не дам, хошь удавите… Бабы, куда рукавицы-то запропастили? Тьфу, истинный господь, могила…
На дворе мужик запрягал и приговаривал:
– Из оглобель в оглобли… Загоняли… Разве у нас лошади стали? Этих лошадей только на дрова испилить… За неделю из села больше шестисот подвод выгнано… Корм свой, харчи свои, приедешь к вам в город – постоялые дворы разорены, квартиры нет, ночевали намедни на площади, обворовали нас, у кого шлею срезали, у кого тулуп с возу утащили… Полицейские из города гонят, чтоб мы, значит, не мусорили, из села гонят, из избы своей гонят… Ну, ни вздохнуть тебе, ни охнуть.
– Терпеть надо, – поучительно замечал солдат.
– Как такое терпеть живому человеку?
На гумнах гремели разбиваемые замки.
В сусеках темным жаром пламенело зерно. В углах колыхались огромные, как решета, круги паутины. Паутина и пыль крыли ребра бревенчатых стен. Зерном наливали мешок за мешком под завязку, в полутемном пролете дверей дымилась сладковатая хлебная пыль. Разогревшиеся солдаты бегали в одних гимнастерках, и розвальни, крякая, ловили тугие мешки в свои широкие объятия.
Село гудело.
А в исполкоме, ровно в смоляном котле, кипело собранье.
Курбатов надрывался:
– Доколе, граждане, будем пить сию горькую чашу?
Перед исполкомом церковная площадь была запружена народом: солдатки, вдовы, инвалиды – хомутовская голытьба. Комбед раз в месяц выдавал им понемногу гарочной и жертвенной – от богатеев – муки. Нынче был день выдачи, но еще с утра пронесся слух, что выдавать не будут. В толпе кружились и богатые мужики со своими разговорами:
– Мы последним куском рады поделиться, но, видишь ты, самим животы крутит.
– Уж так крутит, и не сказать.
– Не нынче завтра все по миру пойдем… Не знай, кто подавать будет.
– Бешеный комиссар последнее дограбит и все в город увезет.
– Крышка, всем крышка.
– А слыхали, в волость нову бумажку прислали, кур требуют?..
– Еще того чище… Мы сами мякиной давимся, а их, вишь, на курятину потянуло?.. Гоже.
– Чудак, ваша благородия, а того не понимаешь: пасха жидовска скоро, ну, вот и…
– Упремся, братцы!
– Тут такое дело: или сена клок, или вилы в бок…
Вызванный с задов Ванякин продирался со своими солдатами через толпу. Визгливые женские голоса засыпа́ли его насмешками и бранью. Толпа дышала горячо, бабы размахивали пустыми мешками – злоба рябила их лица, как ветер воду. В исполкомовские окна, будто камни, летели крики гнева:
– Да-а-а-а-а-а-ва-ай…
– Хле-е-е-ба-а-а-а-а…
На крыльцо исполкомовское вышел Ванякин. За ним – Курбатов. Взметнулся бабий плач, бабий стон:
– Товарищ, подыхаем…
– Крайность наша…
– Какие наши добытки?
– Ты хлеб ешь, а он – тебя.
– Мужиков дома нет, куда ни повернись – одна…
– Вмызг уездились…
– Ребятишек пожалей, мал меньша, крупельны. Муж на фронте, а у меня их трое. Старшему шестой год. Куда я с ними?
– Что ему, рылану…
Курбатов махнул шапкой:
– Бабы, прекратите пренья, заткните глотки.
Гам и гул голосов помалу схлынули, затихли…
Ванякин, размахивая одной рукой, а другой невольно расстегивая кобуру, говорил:
– Товарищи, которые бедные, не поддавайся на провокацию кулаков… Хлеба в Хомутове много, хлеб кулаки гноят в ямах, хлеба вам дадим… Но, товарищи, разрешенье на выдачу я должен испросить у продкома… Сам распоряжаться, сам раздавать хлеб не могу…
– Аа-а-аа…
– Грабить можешь, а выдавать нет?
– Дай ему!
– …Советская власть – ваша власть! Советская власть… Товарищи!
В это время кто-то ударил Ванякина по затылку мерзлым коровьим говяхом, взметнулось множество рук, солдаты дали залп вверх, толпа кинулась в церковную ограду к поленнице, и, кому не досталось поленьев, те выдергивали из плетней колья.Была драка.
После драки с исполкомовского крыльца говорил вчерашний коммунист Над Нами Кверх Ногами:
– Мятеж наш законный, давай хлеб делить… Кто не пойдет, тому не дадим ни зерна… Мятеж наш законный, давайте выступать всем миром – нас ни одна пуля не возьмет…
Толпа двинулась на зады, к общественным амбарам. Хлеб делили по три пуда на едока.
На площади остались лежать несколько убитых солдат, сам Ванякин с отрядом отступил на хутора. В Хомутово он вернулся в ту же ночь, поставил к амбарам усиленные караулы.
Через несколько дней в город был послан доклад.«Ликвидировав в селе Хомутове саботаж, вырвав корни, питавшие массу духом ярости, возмущения и непонимания революционных задач, приходится сказать: мятеж подняла беднота, подло обманутая проклятой кулацкой сворой.
Столкнувшись вплотную с причинами злостного упора, достигнув источников его и ужаснувшись, приходится подтвердить факт гнусного предательства и, углубляясь еще более в подробности, приходится разжать ненавистью сжатые уста и бросить в лицо виновников слово негодования, презренной краской освещающее истину и клеймящее несмываемым пятном позора выступление кулаков и их подголосков, а также эсеровской шатии-братии, которая где-то здесь трется, но не могу нащупать.
В моем отряде трое убиты, до восьми человек покалечено. Среди населения убиты два жителя, а также мною застрелен председатель волисполкома кулак Курбатов, у которого в рукаве я заметил бомбу, – откуда он ее взял, не знаю. Раненых граждан учесть не удалось, так как их попрятали. Препровождаю четырнадцать человек арестованных и среди них солдатку Фетинью Полозову, она хотя и беднячка, но дура баба, проучить ее надо.
Население стало более покорно. Все распоряжения советской власти выполняются, хотя и с неохотой. В свободное время созываю к себе на квартиру деревенских коммунистов и бедноту – кто добром не идет, того тащу насильно, – читаю им газеты и разъясняю, кто за что и почему. Приняты все меры, и можно питать надежду, что в коротком будущем отношения умиротворятся, и жители – за кулаков не ручаюсь, – жители объединятся в одной общей советской группе, но при условии упорной агитации в пределах партийного ученья и на самых маленьких началах коммунизма.
Подводы мобилизую с окружающих сел. Вчера направлено в город под охраной три тысячи пудов пшеницы, сегодня – три с половиной, завтра посылаю шесть тысяч.
Да здравствует Мировая революция!
Алексей Ванякин ».…На заре, когда хомутовские мужики поехали в луга за сеном, когда в печках катался, предвещая оттепель, белый огонь и над избами пушился светлый дым, – над селом взвился страшный бычий рев, перевитый тревожным гудком.
Мальчишки бежали по улице с криками:
– Нархист! Нархист!
Анархистом звали могучего и яростного мирского быка. По лютости своей он был подобен зверю. Держали его взаперти, но не раз в припадке гнева и молодого озорства он рвал ореховую цепь, которой его прикалывали к колоде, ломал изгородь. Вырвавшись на волю, нагонял страх на все село. Ловить его выходили всем миром, буян играючи разметал толпу и, втаптывая в землю неувертливых, уносился за околицу, на зеленое приволье лугов. Приплод давал первеющий и жил в большом почете: случилось как-то Анархисту заболеть, и о. Выньаминь, подпоенный деревенской молодежью, отслужил в бычьем стойле благодарственный молебен, над чем немало смеялась вся волость.
Прослыша крики мальчишек, сельчане вылетали из дворов и бежали на зады, откуда лился тоскующий и неистовый рев.
– Ну, похоже, опять не слава богу.
– Булгачь народ… Веревок тащи.
По бровке насыпи на подъем царапался хлебный поезд. Паровоз буксовал, устало отпыхивался, стонал и с таким трудом тащил свой хвост, что продвигался, казалось, не больше одной сажени в минуту. Анархист хмыстал себя по бокам тяжелым, как канат, хвостом с пушистой маклышкой на конце, метал копытами песок и, пригнув до земли голову, со смертельным ревом стремительно бросался встречь паровозу и всаживал могучие рога в грудь паровозу… Уже были сбиты фонари, обмят передок, но паровоз – черный и фырчащий – наступал: на подъеме машинист не мог остановить. Два рева старались перебороть друг друга и заглушали крики набежавших и суетившихся вокруг людей. Анархист с разбегу ударялся снова и снова… Рога его уже были сломаны, дрожали точеные ноги, ходили взмыленные бока, и морда его была залита кровью, измазана нефтью… Разбежался в последний раз, стукнулся, передние ноги подломились… Испуская последнюю силу страшным ревом, он упал перед врагом на колени, потом медленно рухнул на бок и устало закрыл слипшиеся от крови глаза…
Из-под чугунного колеса брызнула белая кость. Поезд прошел Хомутово, не останавливаясь, – на подъеме машинист не мог остановить…Сила солому ломит
В России революция —
кипит страна
в крови, в огне…
Всю сплошную и пеструю [4] строгали морозы. Негреющее солнце плыло в белесоватой мгле, прядало ушами. В ночи горели глазастые звезды, искрились строгой чистоты снега. В степных просторах ветер курил поземкою, дороги опоясывал передувинами.
Сломалась зима дружно.
Дохнуло теплынью, дороги рассопливились, путь рынул. Закружились, замитинговали шальные грачи, занавоженные улицы умывались лучами, солнышко петухом на маковке дня.
Поплыло, хлынуло…
Фыркая капелью, ползла Масленица мокрохвостая. Из всех щелей – весны соченье. Бурые половики унавоженных дорог исхлестали луговину, обтаяли головы старых курганов, лед полопался на пруду, берега обметало зажоринами.
Село захлебывалось, тонуло в самогоне. Глохтили ковшами, ведрами. Разгульные катались по нижней улице, только шишки выли. В обнимку по двое, по трое, кучками бродили селом, тыкались в окошки.
– Хозявушки, дома ли?
Скрипуче, с сиплым надрывом, с горькими перехватами орали свои горькие мужичьи песни. Пугливую и дикую деревенскую ночь хлестали нескладные пьяные крики и брех глупых деревенских собак.
Подкатило Прощеное воскресенье, останный денек, когда все, в ком душа жива, пьют до зеленых сопель, чтоб на весь пост не выдыхлось. По-праздничному, с плясовыми перехватами, брякали церковные колоколишки. Разнаряженные бабы и девки расходились от обедни. В выскобленных, жарко натопленных избах за дубовыми столами сидели целыми семьями. Емкие ржаные утробы набивали печевом, жаревом, распаривали чаем с топленым молоком.
Весело на улице, гоже на праздничной.
Солнышко обвисало вихрастым подсолнечником. На пригреве, на лёклой земле, собаки валялись, ровно дохлые, разморились. Куры рылись в навозе, на обталинах. Дрались петухи-яруны. Лобастый собачонок, пуча озорные гляделки, покатился кубарем под гусака кривошеего, тот крылом по луже и в подворотню:
– Га-га-га…
На обсохшие завалинки выползли старики с подогами, укутанные по-зимнему, в шапках, похожих на гнезда галочьи, – нахохлились, греются, дружной весне дивуются.
Ребятишки в Масленице, как щепки в весенней реке… Рунястые, зевластые, прокопченные зимней избяной вонью, с чумазыми, иссиня-землистыми рожицами, они вливали в уличную суету кипящий смех, галчиный галдеж…
– Ребятёнки, ребятёнки, тяните голосёнки, кто не дотянет, того ееееээаээээ, аа…
Дух занялся, глотку зальнуло…
Крики:
– Есть его! Есть!
На белоголового и шабонястого, будто птицами расклеванного, парнишку набрасываются всей оравой и кусают.
По улице шеметом стелются зудкие, шершавые лошаденки в погремках, в праздничной наборной сбруе.
– Аг-га-а… Ээ!
– Качай, валяй…
– Наддай, Кузя!
– Ффьфьфьфью!.. Тыгарга матыгарга за за́доргу но-го-о-ой…
Шапку Кузька потерял, только башка треплется кудрявая, как корзинка плетеная.
– Рви вари!
– Ххах!
У прогона через жиденькую загородку палисадника, в рыло огурцовской избе, в окошко запрягом – ррах, зньнь…
– Гах… По-нашему…
– Завернул Куземка в гости. Хо-хо-хо-хо…
Обедали братья Огурцовы, побросали ложки, сами за ворота, вчетвером, с поленьями, с тяпкой – туча.
А Куземка
через сугробы
через навозные кучи
под яр
за мельницу…
– Го-го-го!..
Только его и видали. На хутора ударился, к полещику. Не кобыла под ним – змея, всю зиму на соломе постилась, а на масленицу раздобрился хозяин: каждый день Буланка пшеничку хропает.
Девки
бабы
парни
мужики
ребятня.
Крики, визги, хрип утробный, в ливне смеха – ор, буй, гик, гульбище, село на ноготках, кудахтали гармони.
– Молодой пока, не жалей бока!
– Ха-ха-ха…
– Пррр, держи!
Шапка сшиблена, трут снегу в волосы: молодого солят.
Аксютка Камаганиха в шибле из розвальней через наклеску, подол на голову, сахарницей в сугроб.
– Эк, язви те, дрюпнулась колода!
– Жигулевский темный лес…
– Ромк, Ромка!..
– Крой, бога нет!
Рванул жеребец, улетел Ромка. За ним всем тулаем в мордовский конец ударились, погамузились у церкви да кишкой – перегоняя друг друга – хлынули назад.
Хари, рожи, лица молодые, мордашки пылающие, нахлыстанные ветром, – огневые, смешливые, бесшабашные, хохочущие, гульные, пьяные… Залепленные комьями навоза и снега бороды, шапки на затылках, ветер в чупрынах… Челеном по улице – бабьи платки, полушалки небесного цвета, огненны, всяки… Поддевки, полушубки, поддергайчики, полупердени… Тройки, пары, запряжки, возки, розвальни… Нарядные парни, нараспашку, цветные рубашки в глазах мечутся… Напоенные допьяна девки раскалываются припевками, а гармонь торопливо шьет: ты-на-на́, ты-на-на́, ты-на-на́…
За день солнышко сосульки обсосало, к вечеру захрулило, подсохли лужи, загрубели ноздреватые сугробы, день уползал, волоча пылающий хвост заката, выкатились звезды по кулаку.
И весельба уползла в избы.
…В печке пляшет пламя. От хозяйки – блинный дух. Лицо молодой хозяюшки как солнышко красное, в масло обмакнутое.
Угар
чад
треск
шип
стук.
В чистой просторной половине гостёбище – половодье, содом, ярмарка, гвалт несусветный.
– Пей, сватушка, пей!
– Ван Ваныч…
– Ыык… Я е!
– Опять и обмолот, зарез.
– Дарьюшка, голубушка…
– Ыык… то-то…
– Врут, покорятся.
– Али в них душа, а в нас ветер?
– Отрыгнется мужичий хлеб.
– С кровью отрыгнется…
– Ах, куманек!
Чмок, чмок.
Иван Иванович горько сморщился, махнул рукавом новой гремучей рубахи:
– Дай срок, и мы с них надерем лыка на лапти.
– Аахм… Терпежу нашего нет!
– Кищав, не корячься!..
– Передохнут кои, на всех и земля не родит.
– Тятя, думать забудь.
– Зна… Хо-хо… Баяно-говорено…
– Почтенье тебе, как стоптанному лаптю.
– Догнал я офицера да шашкой по котелку – хряск!
– О господи!
– Ешь, сват, брюхо лопнет – рубашка останется.
– Хрисан-то те сродни?
– Как же, родня, на одном солнышке онучи сушили.
На столе блинов копна. Щербы блюдо с лоханку. Рыбы куча – без порток не перепрыгнешь. Пирожки по лаптю. Курники по решету. Ватрушки по колесу. Пшенники, лапшенники в масле тонут. Сметаной и медом хоть залейся. Пар в потолок… А самогону самые пустяки, высосали.
– Сухо…
– Не пеки мою кровь…
– Га-хо-хо…
– Хозяин, сухо!
– Дом у него, как вокзал, на все стороны окошки… А кони, кони, как ключи, – не удержишь! – один другого давит.
– Сынок, ни в жисть…
– Ну?
– Брали мы Киев-город… Батарея-то как начала садить по святым угодникам… Во, бат!
– Так и так, говорю… Машина, говорю, твоя, земля – моя. – Петр Часовня разглаживал по столу бумажку, ровно молниями исхлыстанную чьими-то резолюциями.
Над столом рожи жующие, плюющие, распаренные, лоснящиеся, осовелые… Буркулами ворочают туда-сюда… Растрепанные, спутанные волосы, рыбьи кости, соленая капуста и лапша в бородах… Разговоров – на воз не покладешь, на паре не увезешь.
– Сват, кровя одни…
– На дочь зятем Топорка приму.
– В улоск ряск. Взахлест арканят.
– Месь думат.
– Сроднички, ешьте, пейте.
– Дай бог не грех.
– Корова?.. От печки до стенки, три сажня…
– Давай менять… У меня – зверь, не лошадь. Воз враскат не пустит, ни-ни, по гребешку, как щука, промызнет.
В глотке: урк, урк, урк…
Бах – в ворота.
На дворе взорвался, посыпался собачий лай.
– Отец, выдь на час.
Над двором висит луна, как блин поджаристый. На дворе холодно, синё, звездно, хоть в орел играй.
– Тестюшка…
– Пррр…
– …мать.
– Не хочу ехать в ворота, разбирай плетень.
– Х-х-х-х-х…
– Живем, ровно в бирючьих когтях.
Чмок, чмок, чмок…
– Брось, Леска распрягет, йда!
– Канек-от…
– Йда, черт не нашей волости!
Кряк в два обхвата.
В дверь лезет сват:
– Масленца, што ты не семь недель…
В избе густо плещется тяжелый гам, вихрится песня, дребезг бабьего визга кроют, нахлобучивают баса.
– А-ха-ха… плохо петь – песню гадить.
– Сухо! Чем дышим?
– Вашу в душу…
– Мерси покорно.
– Раздевайся, тестюшка.
Рукавицы-то на тестюшке по собаке, шапка с челяк, тулуп из девяти овчин. Умасленная башка космата, ровно его цепной кобель рвал. Румяный, нарядный тестюшка, как бывалышный пряник городецкий. В прищуренном глазу плясала душа пьяная, русская – мягкая да масленая, хоть блин в нее макай. Довольнёшенек, дрюпнулся на лавку, лавка под ним охнула.
Разит самогонкой, овчинами, горелым маслом. Поминутно хлопают дверью – приходят, уходят. Ребятишки на полатях свои, у порога чужие. Шебутятся они больше всех.
Визг
писк
хих
гом.
Гудят пьяные голоса. Обмяклые выкрики, приговорки, рык, хохот, матерщинка-матушка, дрель пляса.
– Гуляй, Матвей, не жалей лаптей!
– А-ахм, мать пресвятая богородица…
– Нашел – молчи, потерял – молчи!
– Перетерпим, передышим!
– Ешь, блин не клин – брюха не расколет!
– Все наши нажитки…
– Полведерка, у Митрофанихи… Сергунька, слетай.
Сергунька с перепою: рожа красная, как вениками нахлыстанная. Навалился грудью на стол, огурцы хряпает, за ушами пищит. Широкий парень, топором тёсан. Могучая багровая шея была обметана искорками пота. В кулаке зажаты золотые часы – в них Сергунька каждую минуту заглядывает, узнает, который час.
– Сергунька… Полведерка, к Митрофанихе.
– Давай… – От нетерпенья сучит пальцами. – Давай!
Звяк бидоном, шорк в дверь – и нет Сергуньки.
– Свое-то жалко, убей – не отдам.
– Учат нас, дураков.
Косы, космы, платки, волосники, полушалки, юбки пузырятся… Рубашки вышитые, красные, сиреневые, в полоску, в искорку, с разводами, а гармонь рвет: ты-на-на́, ты-на-на́, ты-на-на́…
– Аленка, аряряхни!
Аленка – гулящая девка. В другое время ее и в избу бы не пустили, а в Прощеное воскресенье – вот она… Красава, румянец через щеку, гладкая – не ущипнешь, коса густая, как лошадиный хвост. Платьице поплиновое оправила, рассыпала каблуки. В пятках ровно пружины, всю ее сподымя бьет, ну – ядро, буярава! Прошла раз и Феклушка, хозяйская дочь: рожа рябая, рот до ушей – теленка проглотит, уши торчком, спина корытом, шея тоненька, хоть перерви, верблюд – не девка. Прошла раз, да и отстала, куды…
Пойду плясать,
Прикушу я губку,
Комиссарские штаны
Перешью на юбку.
В пару Алене вышел дезертир Афоня Недоёный. Форсисто одернул лопнувший по швам, выменянный на картошку фрак. Из-под фрака – вышитая рубашка, огневой запал. Что есть силы огрел себя по ляжкам, фыркнул, заржал и в пляс.
– Э-э-э-э-э-э, шпарь, Аленка!..
Загудела старая раскольничья изба, застонали матицы… Пол гляди-гляди провалится… Из-под лакировок – дым… Мальчишки в визге, уссались со смеху, того и гляди пупы развяжутся.
– Гоп, гоп!.. Рвай-давай!..
Афонька зубы лошадиные оскалил, накатило на парня, взыграла окаянная сила, цапнул Аленку за грудь:
– Яблочко, медовой налив!
Глянула девка, ровно варом плеснула:
– Не замай!
А ну, ходи, потолок,
Дрыгай, потолочина,
Коммунисты, не форсите,
Пока не колочены…
– Дуй, Фонька!
– Ух, ух!..
– Распахнись, душа! Пошла, Аленушка!
С улицы по окошку: динь-нь… дзень-нь…
Собаки кинулись.
– Бей, можжи!
– Бабоньки…
Бабы шарахнулись от окошек.
– Девоньки!..
Дзень-нь…
С улицы чья-то черная рука стала выдирать раму.
– Матушки… За нашу добродетель…
– Где топор? Сватушка…
Дверь расхлебянили.
Кому надо, вывалились в сени, на двор. Наскоро похватали чего под руку попало и на улицу.
На завалинок упал на колени Танёк-Пронёк и неверными, вихлявыми ударами крестит колом рамы, рычит:
– Пряники-то съела, а ночевать-то не пришла?.. Празднички, гуляночки?.. Отродье ваше…
– Дно вышибем!
– Бей, сватушка, бей, чтоб не́ жил!
– Глуши!
Хрясть
хлобысть
хмысть
буц
бяк
чак
хмок.
Пинками Танька́-Пронька́ катили от порядка до самой дороги.
Улицей, как нахлыстанный, бежал Степка Ежик и вопил:
– Гришка… Микишка… Наших бьют!
На крыльцо поповского дома выскочил дежурный красноармеец ванякинского продотряда, послушал крики, пальнул разок из винтовки вверх и, закурив, вернулся в горницу.
– Чего там? – спросил Ванякин с полатей.
– Драка, пьяные…
Продотряд был разбросан по волости. В Хомутове с комиссаром оставалось четыре человека.
Не успел дежурный докурить цигарку, как поповский дом был окружен грозно гудящей толпой.
– Со двора, со двора заходи, чтоб не убежали, – слышались голоса, – огня давайте!
«Восстание, – подумал Ванякин, спрыгивая с полатей, зубы его ляскнули. – Пропали».
За окнами – головы в шапках и без шапок, над головами – колья, вилы, косы, дула охотничьих ружей…
Из распахнутых пастей лился слитный рев:
– Сдавайся!..
– Выходи, кармагалы, на суд-расправу!..
– Попили-поели, пора и бороды утирать… Сдавай оружье!
Ванякин выдвинул из-под кровати ящик с бомбами и сказал:
– Ребята, умрем героями…
Из темных окон поповского дома засверкали выстрелы, полетели бомбы. А дверь уже гремела под ударами топоров, и через минуту – сопящие, воющие, – как прорвавшаяся вода, хлынули в дом.
За ноги, за волосы продотрядники были выволочены на улицу и злой казнью расказнены.
Лунная ночь застонала набатом
волость понесла, как развожженная лошадь.
К церкви набегал хмельной народ.
Борис Павлович с паперти произносил речь, выговаривая слова громко и четко:
– Комиссарская власть сгнила на корню… По всей нашей великой многострадальной стране комиссарская власть тает, как свеча, и вот-вот рухнет… От лица славной партии социалистов-революционеров приветствую восставший народ!..
– Ура-а-а-а…
– Долой!
– Никаких ваших партий не надо, хлеба не троньте!
– Будя, наслушались… Партии нужны были при царе, а теперь вся власть должна перейти в крестьянские руки.
– Тише… Просим, просим!
Борис Павлович продолжал:
– Основной смысл революции – торжество лучшего над худшим, передового над отсталым, торжество созидания над разрушением… Большевики размахивали косой диктатуры слишком широко… Они обкашивали не только сорную траву вокруг кустов малины, но зачастую подсекали и самоё малину… История, вслед за самодержавием, осудила и комиссародержавие… Поток времени отныне и навсегда поглотит всех больших и маленьких деспотов… Наша партия есть единственная верная защитница интересов трудового крестьянства!.. Мы десятками лет боролись с коммунистическими бреднями!.. Мы – за социализм разумный и выгодный для большинства трудового крестьянства и лучших рабочих!.. Выборы в Учредительное собрание доказали, что народ верит нам!.. Граждане и братья, я вас призываю…
Гудел набат, злоба в силу входила.
– Будя языком молоть, надо дело делать! – кричал Афоня Недоёный, размахивая винтовкой. – За мной!
Митинг был сорван, народ хлынул за Афонькой.
На краю села, расположившись в нескольких избах, вторую неделю стоял заготовительный отряд московских рабочих. Изголодавшаяся мастеровщина с охотой бралась за слесарную, жестяную, лудильную и всякую другую работу, а потому, когда захваченный врасплох рабочий отряд сдался и был обезоружен, убивать их не стали, а легонько, для порядку, поколотив, заперли в холодный амбар, куда утром жалостливые бабы понесли им хлеба и молока.
Всю ночь над церковной площадью качались саженные костры: жгли волостную библиотеку и дела Совета. Шайками шлялись по селу, вылавливали своих коммунистов и комбедчиков. Степку Ежика поймали на гумнах и убили. Карпуху Хохлёнкова оторвали от жены с постели, вывели во двор и убили. Конного пастуха Сучкова, захлестнув за шею вожжами, макали в прорубь, пока он не испустил дух. Сапожнику Пендяке наколотили на голову железный обруч, у него вывалились глаза. Акимку Собакина нашли в погребе, в капустной кадушке. Дезертир Афоня Недоёный рубил его драгунской шашкой, ровно по грязи прутом шлепал, приговаривая: «Вот вам каклеты, а вот антрекот». Зарыли Акимку в навозную кучу, он раздышался и уполз домой. Прослыша про то, Недоёный явился к нему на квартиру и, сказав: «Ах ты, вонючка», – оттяпал ему голову напрочь. Танёк-Пронёк засел с карабином в бане и отстреливался до утра. Баню подожгли, но в суматохе молодому кузнецу удалось скрыться: спустя неделю он объявился в дремучих урайкинских лесах со своим партизанским отрядом.
Кругом – через леса и степи – по всей крестьянской земле призывно гудел набат, плыли облака багрового дыма: горели деревни, хутора, коммуны, совхозы…
…Хлеб
разверстка
терпежу нашего нет…
Кругом – через леса и степи – стлался вой разбушевавшейся стихии, деревни взвивались на дыбы, бурно митинговали и выносили приговоры:
…Хлеб придержать
разверстка неправильна
долой коммунистов!
Из села в село, от дыма к дыму скакали ходоки. Церковные площади ломились от народа. Бородатые ходоки стаскивали шапки, кланялись миру на все четыре стороны:
– Православные…
На корню качались и трещали голоса.
В чистый понедельник в Хомутово нагрянула шайка дезертиров. За матку у них ходил Митька Кольцов. Рваные, одичавшие от постоянной тревоги, – всегда их кто-нибудь ловил, они кого-нибудь ловили, чтобы убить, – с ободранными винтовками за плечами, они цепко сидели на уворованных калмыцких лошаденках и пропащими голосами распевали:Дезертиром я родился,
Дезертиром и помру.
Расстреляй меня на месте,
А служить я не пойду…
Митька Кольцов яростными речами возмущал народ.
В самый разгар митинга прискакал на взмыленном жеребце белоозерский прасол Фома Двуярусный и стал просить у схода помощи: под Белоозерской восстанцы вторые сутки дрались с карательным отрядом. Фома, страшно выкатывая глаза, крестился на церковь, рвал волосатую грудь и, отирая шапкой мокрое от слез лицо, хрипел:
– Бьют!.. Жгут!.. Дай помощи, православные!.. Не подсобите, и вам завтра то же будет… святая икона… Выручайте, братцы!..
Хомутовская и Белоозерская волости рядом – переженились, перероднились, завязали кровь узлом. Помощь дать страшно, и отказать в помощи нельзя.
– Поможем, чем можем.
– Помоччи, как не помочь, да ведь с голыми руками туда, брат ты мой, не сунешься?
– Чего там рассусоливать?.. Наряжай охотников. Все мы люди, все человеки… Надо по-божески…
– Пускай молодые идут.
– Молодые! Молодые!
В помощь белоозерцам поскакал Митька со своими галманами, и еще набралось желающих подвод с полсотни.
Карательный отряд был разбит и рассеян. Хомутовцы вернулись с победой, привезли с собой захваченных в плен людей, лошадей, пулеметы, два орудия. Село встречало победителей с иконами, слезами и криками радости.
– Всыпали?
– Всыпали, сват, за милую душу…
– Попала собаке блоха на зуб!
– Сила наша… Мужик, он, его только растрави…
На селе много говорили о геройстве Митьки Кольцова, который первым бросился в атаку и зарубил двух пулеметчиков.
Из города на подавление восстания были высланы два отряда. Меч террора сгоряча бил без разбора, направо и налево, что вызвало в гуще деревень новый взрыв озлобления. Оба отряда скоро были уничтожены, это еще более подняло дух мятежников.
Движение охватило значительные районы Заволжья и отсюда грозило перекинуться в соседние губернии.
По волостям Клюквинского уезда штабом повстанцев была объявлена мобилизация всего мужского населения от восемнадцати до пятидесяти годов. Приказ о мобилизации вычитывался в церквах, на площадях и общих сходах. Кузницы работали день и ночь. В кузницах ковались копья, дротики, крючья и багры, которыми и вооружалось чапанное воинство. Из потаенных мест были извлечены дробовики, обрезы и привезенные с царской войны винтовки. Купец Степан Гурьянов подарил еще его дедом выкопанную из земли медную пушку, на жерле которой славянской вязью был выбит 1773 год.
В татарах появился синебородый праведник Камиль Кафизов. Разъезжая по деревням и улусам, он неутомимо славил аллаха и его единственного пророка Магомета, призывал мусульман на борьбу с русскими. Праведника сопровождали коренные жители и кочевники, жаждавшие послужить богу и пограбить. По пути к ним приставали все новые и новые всадники…
– Бисмилля… рахман рахим… Облоу аккы бар…
Программа правоверных была пряма, как истины Корана:
– Русский церыква – канчам!.. Шапка со звездам носишь – канчам!.. В мучейкам [5] служишь – канчам!..
В Березовской волости татары сожгли сельскохозяйственную коммуну и сорокинские хутора – порезали много народу, занасиловали досмерти несколько женщин, угнали скот. В деревне Зяббаровке удавили учительницу. В Юрматке поймали двух отпускников-красноармейцев, торговца-мелочника и инструктора лесных заготовок – перевязали витыми из верблюжьей шерсти веревками, разложили по улице, скакали по ним на лошадях и, изрубив, бросили своим вечно голодным собакам.
Митька Кольцов, к тому времени на съезде пятнадцати мятежных волостей выбранный командующим, вызвал есаула Ваську Бухарцева:
– Даю тебе, Васька, Ново-Казалинский крестьянский полк… Поезжай, пугни татарву, спокою от них, от чертей гололобых, нету!.. Прижми ты им хвост, пощекочи пятки, а за неисполнение настоящего в боевой обстановке, будь покоен, – хлопну!
– Я их достигну! – сказал молодой есаул, играя желваками. – Я им докажу, до второго пришествия помнить будут.
Ушел
уехал
ускакал Васька.
Над уездом из края в край волной ходил народ, по дорогам мотались разъезды, скрипели обозы с фуражом и хлебом. Над деревнями стоял вой и плач, от деревни к деревне скакали сотни подвод, шли вооруженные толпы.
– Э, эй, чьи будете?
– Мы – дальни.
– А все-таки?
– Глебовски.
– Ну, как у вас?
– Шумим.
– Наворочали делов?
– Ох, наворочали… Не пришлось бы узлом к гузну!
– Не робей, на миру и смерть красна.
– Что будем делать дальше?
– А не знай…
– И мы не знам.
– Та-а-ак… Куда поднялись?
– В Хомутово.
– Поедем одним гужом, мы тоже в Хомутово… Авось там чего-нибудь да узнаем.
– Али и впрямь теперь без коммунистов жить будем?
– Нам все равно… Царствуй хоть черт с рогами, только бы нас не трогал.
– Что и говорить, все жилы вытянули.
– Ох, мужики, плачем мы в горсть, не заплакать бы нам в пригоршню…
В Хомутове заседал штаб восстанцев.
Сын местного врача, он же прапорщик военного времени, Петр Журавлев кипятился больше всех.
– Нам не удержаться, – скороговоркой сыпал он, бегая по залу и похрустывая суставами пальцев, – мы захлебнемся и пойдем на дно… У нас нет тыла, нет отдела снабжения, нет единого командования, нет единой воли, направляющей гнев народа… Мы будем разбиты и бесславно погибнем, я это заявляю как человек военный…
– Полноте вам, прапорщик, панику разводить, – обрывал его Борис Павлович. – Наши силы неисчерпаемы, наш тыл – вся страна. Предаваться несбыточным мечтаниям о том, что Хомутовская волость возглавит всероссийское движение, преждевременно. Наша задача проще – взять город и очистить уезд от красных. Город ослаблен мобилизациями, самые верные слуги комиссародержавия угнаны на фронт. Карательные отряды нами разбиты. В городе осталась жалкая кучка защитников, мы их опрокинем и затопчем. Город будет наш…
Член штаба, богатый хуторянин Нелюдим Гордеич, известный по всей волости как большой знаток Библии и великий молчальник – жил на людях, а по годам рта не открывал, – вдруг сказал:
– Город – покоище змеиное, сжечь надо… Сжечь, чтоб и пеньков не осталось, а землю эту перепахать.
– Повстанческую армию, – продолжал Борис Павлович, – предлагаю разверстать на полки, каждый полк прикрепить к своему селу, чтоб село и снабжало полк продовольствием, фуражом, подводами, подкрепляло людским и конским составом…
Голосов одобрительный гул:
– Это как есть, в самую точку…
– Поддерживаем, Борис Павлович, дуй дальше.
– …в уездном исполкоме, в продовольственном комитете, в военном комиссариате и кое-где по другим осиным гнездам сидят наши друзья: они пересылают мне в штаб всякие секретные сведения… Но друзей этих мало. Необходимо наладить постоянную сеть разведчиков. Время не ждет. Сейчас же предлагаю избрать начальника по разведке и поручить ему не позднее сегодняшнего вечера выслать в город человек десять, людей расторопных и смышленых, для работы по шпионажу и агитации в частях Красной Армии… Прапорщик, не взялись ли бы вы за это дело?
– Я? Нет-нет! Поймите, не могу. Я революционер. Шпионаж? Кровавые тайны? Убийство из-за угла? Не могу, избавьте! Рук не желаю марать… Я лучше умру в рядах народа, хотя предупреждаю: у нас ничего не выйдет.
Густое молчанье.
Члены штаба, вздыхая, поглядывали друг на друга… Наконец Нелюдим Гордеич перекрестился и сказал:
– Берусь.
– Вот и отлично. После заседания останемся и потолкуем… Следующий вопрос – организация крестьянского трибунала.
– Долой! – выкрикнул молчавший до сих пор Митька Кольцов. – Нам трибуналы и при коммунистах надоели… Слышать этого слова спокойно не могу, нервы в голове расстраиваются. По-моему, избрать при каждом полку палача, жалованье ему хорошее назначить, и пусть орудует. Так ли я говорю, мужики?
– Так, так, – хором отозвались члены штаба.
Журавлев вышел в сени воды напиться и – пропал.
Все смутное время прапорщик отсиживался в глухом углу уезда, у знакомого лесника Казимира Стефановича: стрелял тетеревов, зайцев, занимался гимнастикой, ухаживал за дочкой лесника, сероглазой панночкой Бориславой.
В Хомутове гуляли дезертиры.
Село ходуном ходило от пляса, рева, свиста…На Вязовку наступали
Красны неприятели,
Да зеленые герои
Их назад попятили…
Митька торопливо, обливаясь, хлебал мясные щи; солил круто. Борис Павлович водил карандашом по расчерченной флажками и крестиками карте и, под рев двух гармошек, докладывал командующему:
– Сожжен Бутурлинский райпродком. Под Марьевкой отбит гурт скота в шестьсот голов. Восстали и прислали ходоков волости Дурасовская, Старо-Фоминская, Преображенская и Лебедевская. Вчера на рассвете в Кунявинском районе уничтожен продотряд Саломатина. В Горюновском лесничестве подожжены лесные склады. Из Сулинского кооператива все товары бесплатно розданы народу. Полком Гололобова занята станция Поганка, взорвана водокачка, взорван мост через реку Размахниху. По волостям разослан приказ с требованием выслать от каждого села по два ходока на колчаковский фронт…
– Стой, – Митька рукавом отер жирные губы и отложил ложку, – какой приказ?
– Вы, Дмитрий Семенович, сами вчера подписывали… Приказ номер пятый.
– Верно, – подтвердил сидевший рядом Гаврил Дюков, – был такой разговор в народе: послать делегатов на фронт.
Митька задержал подозрительный взгляд на начальнике штаба:
– Нам Колчак тоже не отец родной.
– Вы не понимаете, Дмитрий Семенович…
– Я все понимаю.
– …ходоков мы посылаем не к Колчаку, а на колчаковский фронт. Будем просить красноармейцев, как истинных сынов своего народа, повернуть штыки и помочь нам в борьбе с коммунистами и Советской властью, а потом… потом мы и с Колчаком воевать станем. Чего на него, шкуру, глядеть.
Командующий тряхнул нечесаной головой и пьяно рыгнул:
– Ничего не помню, был я вчера сильно клюкнувши…
– Ходоки…
– Черт с ними, с ходоками… Давай разворачивай план театра военных действий. – Вдруг он вскочил и грозно заорал: – Будем мы на город наступать али нет? Собрал ты мне, начальник штаба, людей али нет? Я есть командир крестьянского народа…
Уже привыкший к крутому нраву командарма, Борис Павлович достал из кожаной сумки и развернул заготовленный приказ с точной росписью, по каким дорогам какие полки и когда должны выступать.
– Вот план наступления, Дмитрий Семенович.
Митька выпил ковш огуречного рассола, мельком заглянул в мелко исписанный лист и, скомкав его, бросил к порогу мужикам под ноги.
– Никаких планов не надо, криком возьмем!..
С новой силой грянули гармонисты:Дезертиры, в ряды стройся,
Красной Армии не бойся…
Заряжайте пистолеты,
Разбивать идем Советы…
Митька – дурной и бледный от множества бессонных ночей – подогревал сердце пьянкой, плясал вместе со всеми и, размахивая обнаженной шашкой, отчаянно орал:
– Друзья, все пожгем, покрошим!.. С нами крестная сила!.. Я есть командир крестьянского народа… Я вас призываю: пей, гуляй, чтобы люди завидовали!..
– Ура-а-а!..
– Крой напропалую!
– Эх, городок, посчитаем мы тебе ребра, дай срок!..
Хмурые, сердитые, явились старики, вызвали Митьку в сени и начали урезонивать:
– Стыдобушка, головушка… Эдак народ мучится, эдака кругом страсть, а ты гуляешь?..
– Затем ли тебя, сукин ты сын, выбрали?
– Не дело, не дело затеял…
– Поддержись, Митрий, время страшное… Восстанцев наехало тысяч двадцать, по селу ноге ступить негде от народа, все ждут твоего слова, а ты в пьянство ударился…
Митька пятился в избу и растерянно бормотал:
– Простите, старики, Христа ради… Бес попутал… В одну минуту все сделаю… Я такой. – Запнувшись за порог, он упал и, вскочив, закричал: – Где начальник штаба? Где адъютант? Эй, друзья, выходи!.. По коням!.. Слушай мой секретный приказ: идем в наступление на город… Где моя шапка?..
Из распахнутых настежь дверей валил пар. С гамом и путаной бранью выбегали на волю и, перекликаясь, пересвистываясь, исчезали во тьме дворов и переулков.
Была глубокая ночь, но Хомутово не спало. В слепых оконцах мутно желтели огни, от избы к избе ходили возбужденные люди. Улица была заставлена подводами, ломились саженные костры, ржали лошади. Мужичьи командиры, громко командуя, разбирали и строили своих людей, раздавали на руки патроны.
Улицей шел Митька. По мерзлым кочкам бренчала его приспущенная для форсу кавалерийская шашка; с плеча на плечо он был перетянут новыми ремнями – в деревне их звали шлеей. Мужики уважительно здоровкались со своим командующим, и он, пробираясь через хаос подвод, то и дело хватался за синий верх ордынской папахи.
Из дворов тащили охапки пахучего степного сена, у колодцев выпаивали лошадей на дорогу. Около пожарного сарая ползал безногий солдат Прокофий Туркин и плакал пьяными слезами.
– Дай мне лошадь! – кричал он оборванному мужику, подтягивающему поперешник. – Первый пойду… Равнение направо… Шеренга, огонь!.. Ты удобрись, дай мне лошадь! – Хватался за наклеску, пытаясь забраться в сани.
– Брось, Прокофий, чудить, – оттолкнул его мужик. – И без тебя тошно… Иди проспись, а то ужгу вот кнутом и завертишься у меня кубарем.
– Меня? Кавалера?
Митька хлопнул калиткой, пробежал двор, сени и, нагнувшись, шагнул через порог в избу.
По углам на разные голоса выли бабы – свои и сбежавшаяся родня. За столом в сатиновой пунцовой рубашке сидел отец и чайным стаканом пил самогон… Кружок с рубленой говядиной, деревянные полевые чашки, полные огурцов, моченых яблок и вилковой капусты. Старик вылез из-за стола и, огладив бороду, полез с сыном целоваться…
– Сынок…
– Тятяша, – повалился Митька отцу в ноги, – выступаем… Я зашел проститься.
– Сынок… Милай!
– Прости, я…
– Встань… Бог простит… Встань Христа ради.
– Тятяша… – Митька заплакал.
– Показнись за народ, сынок… Все помирать будем… – Отец кинулся к божнице и снял подстаринную, в серебряном окладе, икону Николая-угодника. – Жить бы да жить, господи, время-то такое страшное…
Бабы прибавили голосу.
Сын подошел под родительское благословенье, поцеловал вопящую жену и с папахой в руках – в беспамятстве – выбежал на улицу:
– Васька… Макарка…
Есаул первой руки Васька Бухарцев подвел ему заседланного, играющего коня.
– Штаб где? – хрипло спросил Митька.
– Молебен слушают.
– Какой там, к матери, молебен… Зови! Выступать пора!Бухарцев козырнул и иноходью побежал в церковь.
Ночь обмелела, гасли звезды, белесый рассвет затоплял равнину. Горек был дым костров.
Над мятежной страной, как налитое кровью око, взвилось холодное багровое солнце.
Полки выступали.
За Митькой через все село без шапки и в пунцовой рубашке бежал отец со стаканом в одной руке и с моченым яблоком в другой.
– Сынок, выпей на дорожку… Милостивый бог помощи подаст… Сынок, живое расставанье…
В попутных селах и подселках восстанцев встречали где с иконами и хлебом-солью, где – молча, а где и нехотя.
В чувашском селе Кандауровке Борис Павлович долго раскачивал сход, прося подмоги и грозя лишить непокорных земли.
Кандауровцы упирались:
– Больно строго, по гривне с рога, нельзя ли по семишнику…
– Нам измывки приелись… Эдакое дело, разве мыслимо вкруте?
– Сами взы-взы да за телегу, а мы рассчитывайся своими волосами?
– Тут в кулюкушки играть нечего, говорить надо прямо: страшно на такое идти.
Борис Павлович не отступался.
– Сладко вам живется? – спрашивал он мир.
– Плохо живем, – отвечали.
– Где ваш хлеб?
– Вывезли.
– Где земля?
– Земля наша, а все что на земле – совецко.
– Где ваши права?
– Права наши зажал в кулак товарищ Хватов, волостной милиционер.
– Наша партия, граждане, партия социалистов-революционеров, партия, которая…
– Вы все хороши. Всех вас на одной бы осине перевешать.
В том же селе по чьему-то доносу был схвачен красноармеец-отпускник Фролов. Двое конных, подхлестывая плетями, рысью пригнали его на площадь.
– Палача давай!
Из толпы вышел, до глаз заросший курчавым волосом, палач Ероха Карасев.
– Которого? – спросил он и, выдернув из-за кушака широколёзый топор, подвернул правый рукав полушубка.
Бледный, как мелом намазанный, Фролов попросил напиться. Из ближайшей избы молодушка вынесла ему воды. Колотя зубами о край ковша и обливаясь, он напился и тихо сказал:
– Хочу покаяться… допустите меня до вашего штаба.
– А-а, не милы волку вилы?.. У нас в штабе попов нет, некогда мне с тобой, парень, канителиться. Скидавай шинель! – заорал Ероха, сорвал с него шапку и повел к саням, на которых, специально для казни, возили с собой мясной стул.
Увидав в санях застекленевшую от крови солому и обмерзший кровью чурбан, отпускник затрепетал и еле слышно выговорил:
– Допустите… до вашего… начальника.
Есаул Васька Бухарцев тронул Ероху за плечо: «Погоди минутку, может, у него что важное», – и повел красноармейца к начальнику штаба.
Осмысленное лицо Фролова Борису Павловичу понравилось; узнав, в чем дело, он опять обратился к сходу:
– Граждане, перед вами сейчас выступит раскаявшийся красноармеец. Он, как сын народа, осознал, что оставаться в рядах большевицкой армии преступно. Мы таких приветствуем. Мы таким все их вины прощаем. Пускай перед всем народом говорит по совести, как он по темноте своей попал в лапы комиссаров и как прозрел. От имени восставшего крестьянства я ему дарую жизнь! Хочет – останется в наших рядах, не хочет – пусть сидит дома, никто его пальцем не тронет. Мы – против крови невинных, мы – против слепого террора…
Толпа сдержанно загудела и стихла, теснее сгрудившись к пожарной бочке, с которой говорили ораторы. Кроме кандауровцев, тут были сотни мужиков из других сел.
Оробевший Фролов, волнуясь и заикаясь, заговорил было на своем родном языке. Митька крикнул:
– Будя лаять по-собачьи, говори, как люди говорят!
Фролов смешался еще больше и замолчал… Потом, спотыкаясь на каждом слове, заговорил по-русски:
– Я – местный житель… Двадцать пять лет… Холост… Отец служил конюхом в имении Шаховского… Был у меня старший брат Иван, тридцати лет, с отцом разделился, умер в холерный год… Я – местный житель… Кто меня знает – тот знает, а кто не знает – тот пусть знает и дальше передаст, чтобы знали… Я бедного состояния, имею одного жеребенка и мать, слепую старуху… До царской войны был я как темный лес… Работал в работниках у мельника Данилы Ржова… Вот забрали на службу, погнали под город Перемышль…
Из толпы голос:
– Это мы знаем… Ты лучше расскажи, как у красных служил да народ тиранил?
Видя перед собой много знакомых односельчан, Фролов быстро справился со своим волнением и заговорил бойчее:
– Каюсь, служил… С первого шага войны я пошел с Капустиным в ногу, каюсь. Воевал между гор и камней, по степям и лесам, каюсь… В армии мне вдолбили в голову грамоту, могу теперь немного разобраться, что к чему, каюсь: уж лучше остаться бы мне темным, как пенек, и таскать чужие мешки на горбу… Он, Данила Ржов, хороший был человек, спасибо ему, кормить досыта два раза в году кормил, на Пасху да Рождество, а воды из-под мельничного колеса давал вволю… А еще вам покаюсь, как кинулись мы в атаку на город Бузулук, то и пришлось мне около вокзала вот этой самой рукой зарубить сынка нашего помещика Сергея Владимировича, был он в погонах поручика и при полной форме… Каюсь, грабил… Уходил из дому, была на мне гимнастерка и шинель, в гимнастерке вши наши деревенские, а нынче, – трясущимися пальцами он расстегнул ворот, – сосут меня блохи уральские, вши уфимские, вши вятские…
Бородатые лица слушателей кое-где осветились улыбками… Борис Павлович зашептался с членами штаба. Фролов ничего не замечал, говорил торопливо, ровно со снежной горы катился:
– На фронте меня два раза ранили, плавал я в гною, плавал в крови, каюсь; сидеть бы мне дома да жевать пироги с горохом… При царе мы, чуваши, плохо жили: начальство русское, суд русский, училище русское… Всей землей кругом владел помещик князь Шаховской… Не было у нас ни лугов, ни выгона, под кладбище участок и то арендовали у князя. Правду я говорю, старики?
– Истинно, Гришутка, так и было! – поддержал дед Леонтий. – Пошли мы, стало быть, к его сиятельству Владимиру Юрьевичу просить землицы. Он затопал на нас, черным словом выругался и говорит: «Когда вырастет у меня шерсть на ладонях, тогда и землю получите», – и приказал служителю толкать нас в шею… Истинно было.
– А помните станового пристава Лукина, как он наезжал со стражниками собирать с нашей Кандауровки недоимки?..
– Помним.
– Помните земского начальника Повалишина, того, который…
– Помним, помним…
– В революцию наша волость получила лес и луга монастырские, озеро и угодья помещичьи, земли прирезано на душу по десятине с осьмой… Скажу правду, мне все равно смерть. Вернулся я с фронта, побыл в родном селе с месяц и вижу – действительно, житье стало никудышное: сосед мой Трофим Маврин едал, бывало, мясо по большим праздникам да в деловую пору, а ныне две кадушки насолил свинины и баранины; бывало, напивались вы только по праздникам, а ныне изо дня в день пьяны… Бунтуйте, граждане! Долой Советскую власть… Вот за этими чертями, – он ткнул в грудь Митьку и Бориса Павловича, – придет Колчак-генерал, придет Деникин-генерал, приедет в коляске его сиятельство князь Шаховской – они вас накормят… А еще я, полуслепой, хотел сказать словечко слепым товарищам дезертирам… Товарищи дезертиры!..
Митька прикладом сшиб Фролова с бочки, поднялся над толпою и начал говорить сам:
– Друзья, это есть шпион, который подкуплен коммунистами… Мы таких будем вырывать с корнем… Они больше всего мутят воду…
Не успел еще Митька досказать свою речь, как акт правосудия был свершен: Ероха Карасев за волосы поднял над толпой и потряс отрубленной головой красноармейца.
Толпа охнула и попятилась.
– Не расходи-и-ись! – грозно крикнул Борис Павлович. – Собрание продолжается.
– Ты не ори, – подступил к нему солдат старой службы Молев, – надел очки-то, думаешь, страшнее тебя и зверя нет?.. Мы ныне и сами во всех кровях купаны… Людей вам не дадим!.. Подвод не дадим!.. – Он крепко выругался.
Фельдшер Докукин, что проживал в селе уже годов сорок и пользовался большим уважением, отсунул Молева и за всех ответил:
– Трудно, а терпеть надо… Авось и перебедуем… От советской власти мы не отрекаемся и смутьянам не потатчики.
Из всего кандауровского общества вызвался охотником один старичишка солдатской выхвалки, Зотей, служивший когда-то в городской тюрьме стражником. Митька подарил ему серебряный полтинник и назначил начальником разведки одного из полков.
А ночью конная полусотня белоозерцев покинула ряды и ускакала ко дворам. За ними в одиночку и небольшими шайками потекли по домам восстанцы и других сел. Тогда штабом был сформирован летучий отряд… по борьбе с дезертирством.
В деревнюшке Муровке на все призывы восстанцев сход отмолчался.
В мордовском селе Матюшкине жители попрятались в погреба, в картофельные ямы, по гумнам зарывались в мякину.
– Псы моргосле́пые, – ругался Митька, – гни их, Борис Павлович, круче, не отвертятся.
По распоряжению начальника штаба матюшкинцы были согнаны на митинг плетями.
Борис Павлович, без излишней канители, прочитал заранее заготовленную резолюцию, которая кончалась словами: «Долой вампиров-коммунистов! Долой Советы! Да здравствует Учредительное собрание! Все в ряды народной армии!» – после чего обратился к обществу:
– Голосую. Кто – «за»?
Молчанье.
– Кто «против»?
Молчанье.
– Принято единогласно. Старики, подписывайтесь.
И поползли по листу каракули грамотных. Неграмотные, мусоля химический карандаш, ставили кружочки и кресты.
– Бараны, – говорил в дороге начальник штаба, – забиты царской властью и комиссарскими кулаками, пользы своей не понимают… Помяните мое слово, Дмитрий Семенович, одержим первые успехи, возьмем город, и лапотники тысячами повалят в нашу армию, как во время Пугачева и Разина.
– А я на Пугачева похож? – спросил Митька, приосанясь.
– Постольку поскольку наше движение является общенародным и мы, так сказать, возглавляем стихию крестьянского гнева, история не пройдет мимо наших имен молча…
Хвост армии путался еще где-то в Хомутове и дальше, когда головные полки уже входили в Дерябинские хутора, что под самым городом. Было решено устроить тут дневку, пока подтянется побольше народу, и ударить на город скопом.
Избы были набиты народом, как мешки горохом. От духоты и говора, казалось, крыши готовы были подняться. И на улицах, и вокруг по снежной степи, и в лесочке, привалившемся к хуторам, – всюду переливались беспокойные огни костров, гудели голоса, распряженные лошади жевали сено, и вздернутые оглобли точно угрожали неведомому врагу.
Невдалеке заложенными цугом лошадями восстанцы гнули в дугу рельсы.
По большаку, на выносе из хуторов, около черной стены леса, как большое вымя, стоял костер и сочил в облака сырой дым. Фельдфебель Когтев сучковатой палкой мешал кашу в артельном котле и рассказывал про Карпаты.
В круг огня въехал парень в городской суконной бекеше:
– Здорово.
– Здорово, приятель, откуда?
– Из города.
– Да ну?
– Где у вас главный?
– Зачем тебе?
– А ты веди давай, брось ушами хлопать, с делом я. – Приехавший спрыгнул с седла и, выхватив из-за пазухи, махнул белым пакетом.
Когтев повел его в штаб.
Штабом был занят каменный дом кулугура Лукьяна Колесова. Мать его, Маркеловна, согнутая старостью пополам, как слепая тыкалась по горнице и охала:
– Вражищи, напасти на вас нет… В избе-то у нас помолено, а вы всё продушили, табашники, богохульники, бритоусцы…
Митька в сапогах и в полушубке, грянувшись лицом вниз, спал в пышной постели. Члены штаба пили чай с клубничным вареньем и сообща составляли инструкцию о выборах по селам крестьянских комитетов, кои и должны были на первых порах заменить Советы.
Борис Павлович прочитал привезенное из города письмо и принялся будить командующего:
– Дмитрий Семенович, важное сообщение…
Тот только мычал и во сне скрипел зубами.
– Дмитрий Семенович, начальник гарнизона Глубоковский обещает сдать город без боя.
Митька поднялся и тяжко зевнул:
– Время сколько?
– Четыре, скоро светать начнет.
– Гады! – разом рассвирепев, крикнул он штабным. – Чаи гоняете? Лошади задрогли! Люди мерзнут! С полночи надо было наступать! Почему не разбудили? Изменщики…
Члены штаба засуетились и начали рассовывать по карманам бумаги. Борис Павлович устало сказал:
– Слушаюсь.
За окном шел широкий шорох: так по ночам шуршит весенними льдами тронувшаяся река.
– Чего там? – спросил Митька, прислушиваясь.
Ему никто не ответил.
Тогда он выбежал на крыльцо.
– Кто это? Куда они? – опять спросил командующий, увидя массу конницы, перекатом идущую через хутора.
– Татарва, видимо-невидимо, – вынырнул из темноты Бухарцев. – Ух, эти разыграются, так и черта до слез доведут.
Татарские конники, закутанные в тулупы и чапаны, подбористым шагом текли через хутора к далеким огням города. Всадники возникали из ночи, залепленные снегом треухие малахаи и спины их попадали в неверный свет костров и вновь заглатывались тьмой…
– Чекарда ярда! – весело крикнул Митька и повернулся к есаулу: – Живо седлай коней!.. Не я буду, ежели первым не ворвусь в город!
Кольца голодных хвостов захлестывали пшеничный Клюквин. Продкомовские амбары ломились от хлеба, его не успевали вывозить, но жители получали свои четвертки ржанины. Равенство так равенство – революционный Клюквин ни в чем не хотел отставать от других.
Однажды город был взволновал слухами о закрытии и разграблении храмов божьих.
Началось с пустого.
Торчала в слободке облезлая церквушка всех святых. Слобожане молиться ходили редко и не только не давали дохода, но, наоборот, вгоняли свой приход в голый убыток: растащили на топливо ограду, мальчишки подбрасывали в церковь дохлых кошек, первый в курмыше вор, сапожник Мудрецов, увел у попа козу, а под Крещенье компания слободских ребят ночью забралась в церковь, вышарила в алтаре ведро красного вина, возжгла светильники и предалась пиршеству. Утром пришел убираться сторож и увидел спящих на полу на разостланных шинелях слободских ребят – кругом валялись карты, деньги и просвирки, которыми закусывали. Слободской поп о. Ксенофонт, радея своему приходу, принялся со сторожем Илюшей Горбылем самогон варить, приспособив на аппарат купель. Ведро в день выгоняли. Церковный староста и сторожена жена потихоньку продавали самогон слободским пьяницам. Но скоро про то пронюхала милиция. При обыске в церковной кладовке были обнаружены кованые сундуки с купеческим добром, тогда церковные двери были завалены сургучной печатью. Тут-то слобожане и вспомнили, что ведь как раз у них, возбуждая зависть соседних приходов, красовалась новоявленная чудотворная икона заступницы казанской. «А поп, он что ж? Добра от него никто не видел, да и зла тоже. Что там ни говорите, а с попом жить как-то спокойнее». И слобожане в голос решили, что слободской поп – хороший поп. У церкви собралась толпа. Пришли и те, кто не заглядывал в нее со дня крещения или венчания, пришли и те, кто вчера еще растаскивал ограду, приползли и тысячелетние старухи, чудом переживающие мор, войны и революции.
Мужики держались кучками и ругались степенно, бабы возбужденно кричали о том, что жрать нечего, а старухи, размахивая клюками, уже подступали к шагавшему по паперти солдату.
– Матушка…
– Заступница…
– Заперли тебя ироды, запечатали печатью проклятой.
– Погибель наша…
– Неспроста, тетки, ночью собаки выли, – подсказал чей-то насмешливый голос. – Не зря вчера тучи встречь ветру шли, миру конец.
– Православные, что с нами будет?
– Не выдадим, матушка, утрем твои слезыньки пречистые…
К стражу, деревенскому парню, тянулись сведенные высохшие руки… Тот пятился и, спиной загораживая печать, тоскливо поглядывал в сторону города на дорогу и бормотал:
– Не наваливайся, старухи, не тревожь казенну печать… Приедет комиссар, комиссар отопрет, тогда и молитесь сколько влезет… Не наваливайтесь, Христа ради, мое дело подневольное…
– Заперли, нечестивцы, плачет-рыдает мати казанская…
– Плачет непорочная…
– Плачет…
И точно, все как будто услыхали приглушенные вздохи и всхлипывания… У стража полезли глаза на лоб, кто-то сорвал с него шапку, костлявые руки схватили его за русы кудри и пригнули долу, где под дверью зияла щель.
– Слушай, окаянный, слушай, пес…
Помучневший от страха парень послушал и, вскочив, заорал:
– Плачет…
Вой занялся сразу и, как огонь посуху, хватил из края в край по всей площади:
– Плачет заступница…
– Погубители веры Христовой…
– За мной, мироносицы! – басом скомандовала бабка Яжея и, взмахнув клюкой, ринулась на паперть.
Сорвали печать, но в церковь замок не пускал, – как ржавая серьга, висел на двери пудовый замок. Кто подзуживал в набат ударить, а кто призывал идти в город на выручку попа. Покричали-покричали и бурно потекли по дороге в город, запрудили все улицы и переулки, упиравшиеся в занятый чекой особняк.
Попа пришлось выпустить. Отощавший и переболевший всеми смертными страхами, он умывался слезами радости, торопливо жал руки и без разбору, ровно в светлое Христово воскресенье, со всеми целовался. Толпа, рыча, расходилась, дело кончилось несколькими выбитыми окнами. Павел долго толкался среди слобожан, глядел, слушал, потом вышел в тихий переулок, где его чуть не сшибла лошадь.
– Гэ-эп!
Обдав горячим лошадиным храпом и ветром, в зеленых исполкомовских санках промчался Капустин, но, увидя Павла, круто осадил ёкавшего селезенкой игреневого жеребчика и крикнул:
– Гребенщиков, я к тебе!
– Поедем.
– Садись, – отстегнул Капустин полость и подвинулся. – С утра тебя ищу. Где пропадал?
Поехали шагом.
Павел начал было рассказывать про слободку. Капустин перебил его:
– А про депо слыхал?
– Нет. А что?
– Забастовка, – сказал Капустин, полуобернув к нему захватанное ветром кирпичного цвета лицо. – Чуешь, чем это для нас пахнет?
– Ты оттуда?
– Да.
– Что там стряслось?
– Дело простое. Пайка второй месяц не выдаем, опять же и хлеба они по утрам получали по фунту, а теперь и хлеба неделю не видят. Нынче утром при раздаче работы хлеба просили, хлеба нет… Секретарь ячейки вызвал меня, а я… я не свят дух. Первым бросил работу текущий ремонт, сняли средний, сейчас все цеха стоят. Не двинулись бы текстилей снимать, кожевников…
– Митингуют?
– О-о, поливают почем зря, мне и говорить не дали, думал, побьют… Там такое творится – дым столбом.
– Забастовку надо немедленно и во что бы то ни стало сорвать, – сказал Павел. – Ты, Иван Павлович, забеги, потряси Лосева, должен он, стерва, хлеба выдать, а я поеду туда… Идет?
– Идет, – согласился Капустин, выпрыгивая из санок. – Крой, Пашка, как-нибудь надо выкарабкиваться.
– А что слышно из волостей?
– В Хомутове бунтуют дезертиры, подробностей пока не знаю… Послан туда наш отряд – день-два – и, думаю, все будет спокойно… Писал мне Ванякин, там какая-то волынка…
Павел уже не слушал и, урезав жеребчика кнутом, ускакал.
…Кабинет продкомиссара был оклеен картами, диаграммами и схемами; подоконники заставлены стеклянными трубочками с образцами хлебных злаков. Из-за вороха наваленных на стол бумаг торчала расчесанная на косой пробор голова продкомиссара Лосева. Из прозеленевшего солдатского котелка оловянной ложкой он черпал полбенную кашу и с чувством собственного достоинства разъяснял:
– К сожалению, уважаемый Иван Павлович, ничего не могу поделать… Нет плановых нарядов от губпродкома, специальных фондов не имею, в циркулярном письме наркомпрода от второго сего февраля прямо говорится…
Капустин хмуро поглядывал на него, жестким ногтем царапал лаковую крышку стола и, не слушая, доказывал, что не годится ждать каких-то плановых нарядов и жалеть двадцать мешков муки, когда забастовка грозит убить город, оторвав его от всех, и больших и малых, центров.
– К сожалению, я вынужден придерживаться инструкций высших инстанций, перед которыми и отвечаю за свои действия… Пайки основные и добавочные выдаются исключительно по плановым нарядам… Из фонда наркомпрода не могу выдать ни золотника.
Капустин вскочил и бросил кулак на стол:
– Тогда я тебе приказываю выдать!
– Прошу покорно не орать… – поперхнулся непрожеванной кашей и оставил котелок. – Мне надоели ваши генеральские замашки… Не испугался… Я совершенно самостоятелен в своих действиях… Я работаю по директивам центра. Я… – сорвался на визг, – прошу оставить меня в покое! Убирайтесь ко всем чертям! Вон отсюда! Вон!..
Капустин ухватил юного продкомиссара за жабры и поволок его на телеграф к прямому проводу.
…В сборочном, когда вошел Павел, митинг уже кончался. Ярусы калеченого железа, рамы на скатах и паровозы были густо обвешаны людями. Малый свет еле прорывался сквозь закопченную стеклянную крышу, в полумраке смутно плавились масляные пятна лиц.
Председатель митинга, инструментальщик Дерюгин, с тендера выкрикивал резолюцию. Его, казалось, никто не слушал, каждый орал свое, но за резолюцию голосовали все до одного: забастовку было решено продолжать.
Павел взобрался на тендер и плечом отодвинул председателя:
– Товарищи…
Он частенько хаживал к железнодорожникам в клуб на собрания и спектакли, его все знали, многие как будто и уважали: случалось, с ним советовались, но сейчас сразу опрокинули бурей свистков и рева:
– Долой!
– Проухали революцию!
– Вишь, моду взяли?..
– До хорошего дожили…
– Ни штанов, ни рубах!
– Коммуна… Любо дуракам.
– Два месяца бородку притачивают.
– Доло-о-ой…
Гул голосов метался под стеклянной крышей.
Павел дрожал от возбуждения и, выкинув руку вперед, стал ждать, пока утихнет, чтобы начать говорить, но гул рос горбом, кто-то из озорства начал колотить болтом в буферную тарелку, кто-то в паровозной будке дал продолжительный свисток, и Дерюгин махнул масленой кепкой:
– Расходи-и-ись…
Хлынули к выходу.
В дверях, на свету, Павел увидал кое-кого из знакомых. К нему протискивался рессорщик, старик Бабаев, поздоровался за руку и, немного гундося, насмешливо спросил:
– Не пляшет?
– Ни хрена.
– Знамо, говорить нечего, так и «да» хорошо.
– Давайте, – сказал Павел, повернув к старику налитое сердитой кровью лицо, – давайте побросаем работу, разбредемся по лесам соловьев слушать или пойдем на речку и станем из проруби рыбу хвостами ловить, как волк ловил…
– Нам вашей рыбы не надо, – зло засмеялся Бабаев. – Где уж нам рыбу есть, когда ухой давимся.
– Нашей не надо? А где же ваша ?
– Наша уплыла… Вам лучше знать, в чей карман она умырнула… Два месяца по губам мажете, а чтоб рабочего человека голодом морить, такого декрета читать не доводилось… Умирать мы не согласны…
– Чепуху городишь, Бабай…
Сцепились спорить, потом ругаться. Увлекая за собой заинтересованных слушателей, они прошли в кузнечный цех.
Гребенщиков, когда работал на заводе, больше всего любил кузницу. В кузнице всегда полыхал огонь, мелькали кувалды, гремело и лязгало железо, осыпая зерна искр. И работа кузнечная – развеселая работа. Хоть и трещат от нее кости, зато думать много не надо, а молодость думать не любит, знай вразмашку бей и бей, чтоб чертям тошно стало.
За стариком он прошел в дальний угол и огляделся: со стен и потолка в сетке паутины хлопьями свисала холодная копоть, остывшие черные горна были похожи на гробы. Лишь в одной рессорной печке под грудой пепла дышал огонь; у печки кузнецы грелись, курили, батыжничали и пекли картошку.
Бабаев достал из-под верстака покрытую ломтем хлеба консервную банку с супом.
– Гляди, чего дают: вода с водой. Откуда тут силе взяться? – выплеснул суп Павлу под ноги. – Поди, слыхал побасёнку, как цыган уговаривал лошадь шибко бегать да мало есть? Совсем было коняга от корму отвыкла, да, на беду, сдохла… Так ведь то цыган, в нем и совесть цыганская, а ты вот тоже рот разеваешь и на шею нам, дуракам, навертываешь: «Разруха, транспорт, недостатки механизма», а того знать не хочешь, может, у меня в брюхе разруха-раздируха? Ноги, батенька мой, не ходят… С чего тут силе быть?.. Это разве хлеб?.. Опилки с пылью.
– Он эдакий-то спорее, – подсказал из-за плеча парень с вывернутым веком, – укусишь на копейку, разжуешь на рупь… И суп выдающийся: плесни на собаку – облезет.
Мальчишка-ученик заливисто рассмеялся, скупо усмехнулись и взрослые, один сказал:
– У нас брюхо луженое… И кишка наша пролетарская тянется, а не рвется.
– Ты нам, Гребенщиков, расскажи, чего нынче обедал? Каклеты, яйца всмятку али, может, пирожки с мясом?
– Я?.. А я второй день совсем не обедаю, – простодушно отозвался Павел. – Вчера с утра до ночи в типографии проторчал, нынче в слободке… церковь там…
– Знаем…
– Кто хочет посмотреть, чем нас кормят в исполкомовской столовке, приходите завтра, у кого зубы острые…
– Церкви вы зря рушите, – перебил его Бабаев. – Есть бог, нет ли его, дело темное, а вот на клиросе попеть я люблю… И ко всеношной под праздник, хоть и реденько, а хаживаю, грешник… Вам, молодым, фигли-мигли, попеть-поплясать, с девчонками побеситься, кино, клубы, мы тому не препятствуем, и вы на нас, стариков, собаками не кидайтесь… И все будет тихо, мирно…
Павел принялся поносить самогонщиков, переводящих на зелье хлеб, говорил о бедности республики, о том, что «сразу всего не сообразишь». Старик замахал на него рваными рукавами:
– Чего ты гнешься, как проволока?.. У нас опорки с ног сваливаются, а ты надел новые-то калоши и несешь оревину… Тебе ветер в зад, ты сухой и чистый… Бедность, так всем бедность, мы к богачеству и непривычны… Языком, туды ее растуды, не надо трепать… Ты еще мал, круп не драл, понянчил бы вот кувалду, другое бы запел.
– Я, Бабай, нянчил кувалду.
– А знаешь, за какой конец ее держут?
– Знаю.
– Все вы мастера со стола куски хватать.
Кузнецы поглядели на его новенькие калоши.
Павел густо покраснел… Сбросил шинель и, подвязывая чей-то брезентовый фартук, невесело усмехнулся:
– Давай, шевели печку… Может статься, и не разучился кувалдой махать, надо попробовать.
– Горно у меня на ходу, – прогундосил Бабаев и, насмешливо поглядывая на Павла из-под седых бровей, тронул мехи.
Мастеровые молча расступились. По лицам блуждала недоверчивая ухмылка, другие взирали равнодушно.
В печке забушевало пламя.
На широком верстаке валялись готовые рессорные листы, нарубленная шпилька, обрезки размеченного мелом железа. Павел, обжигая через дыры в голицах руки, выхватывал из горна лист за листом, бросал на наковальню и не глядя, как будто небрежно, бил ручником… Но уже по одному тому, как он держал клещи и потюкивал ручником, опытному глазу было видно, что работа эта ему не в диковинку, и кузнецы одобрительно загудели, придвинулись ближе, подавая советы:
– Так, так…
– Концы не перепускай.
– Серьгу обомнешь, легче.
– Ничего, ничего, вваривай.
– Мастерок-хренок…
Волнуясь и ни на кого не глядя, Павел подогнал листы друг к другу, сшил их шпилькой, обжал на струпцинке и бросил на козла; потом выхватил из горна раскаленный хомут и посадил его на связку:
– Подправьте-ка кто…
– Давай, – подскочил Бабаев и вырвал у него ручник, а сам Павел схватил кувалду и начал стремительно, пока не остыл, наколачивать хомут до места.
Повеселевший старик покрикивал:
– Жамкни!
Г-гах!
– Погладь!
Гах!
– Хватит!
Обливающийся потом Павел ударил еще раз и бросил кувалду: товарная рессора была готова.
Сели, закурили, опять пустились в споры о хлебе и революции, о боге и разрухе железнодорожного транспорта… Надолго бы им разговора хватило, но в цех заглянул секретарь учпрофсожа и, крикнув: «Муку привезли!» – убежал дальше.
Кузнецы, выхватывая из карманов и пазух мешки, бросились к двери. Павел отряхнул забрызганную углем шинель, подтянул ремень, оглянулся – в цехе не осталось ни одного человека; обожженными пальцами он провел по ребрам еще не остывшей рессоры и, мягко улыбнувшись, пошел к выходу.
Зазябшая лошадь подхватила и понесла его, как птица. Пружинил встречный ветер, в передок санок били ошметки снега. По дороге в город, перебрасываясь шутками и бойким разговором, шли оживленные кучки рабочих, на горбах у них белели мешки, а в зубах попыхивали раздуваемые ветром цигарки.
Спустя неделю, когда над уездом поднялся во весь свой рост огнеликий мятеж, по городу была объявлена добровольная мобилизация: из сотни железнодорожников Клюквинского узла в отряд записалось больше тридцати человек, на приемочный пункт одним из первых явился рессорщик Бабаев.Покой притихшего города охраняли разъезды. Подковы гулко били в мерзлую дорогу.
День и ночь из продскладов и баз на вокзал тянулись обозы с мукой, кожами и тюками мануфактуры.
На перекрестках вывихнутых слободских улчонок, под тоской серых заборов, жались кучки жителей…
– Ага, бегут… Увозят… Наработали.
– Это они эвыковыриваются.
– Каюк, всем каюк…
– Ох, бабоньки… Ох, батюшки…
– Не робей, тетки, хуже не будет.
– Может, казенки откроют, – сказал, не попадая зуб на зуб, пирожник Хрущов.
– Кто про что, а шелудивый про баню! – фыркнула вислорожая Фенька Бульда, и все рассмеялись.
Два отбившиеся от артели воза с мукой слобожане растащили.
С пожарной каланчи старый солдат Онуфрий первый увидал надвигающиеся тучи восстанцев: широко раскинувшись, затопив собою белые поля, они шли, подобны земляному потопу… Захлебываясь, задребезжал избитый пожарный колокол.
Ветром тревоги качнуло город.
А в исполкомовских коридорах сновали коммунары и рабочие дружинники, перепоясанные кишками патронных лент. По полу и на канцелярских столах спали вернувшиеся с ночного дежурства отрядники. Сбившийся с ног тщедушный завхоз награждал каждого добровольца ломтем хлеба, банкой консервов и осьмушкой махорки.
В кабинете Капустина заседал ревком.
Гильда протоколировала:Объявить город и уезд на осадном положении.
Все запасы оружия раздать рабочим.
Сформировать в самом срочном порядке летучий кавалерийский отряд.
Ускорить переброску на север скопившегося на вокзале хлеба, возложив ответственность за всю операцию на Гребенщикова и Климова…Чистый пикейный воротничок охватывал ее тонкую шею, непокорные после тифа кольца кудрей стояли дыбом, отчего вся она была похожа на ламповый ерш. Сваленный сном в угол дивана, похрапывал продкомиссар Лосев. Иван Павлович Капустин бегал по кабинету и говорил:
– Безобразное поведение отдельных наших отрядов срывает всю работу по ликвидации мятежа. Мародеров необходимо расстреливать на месте!.. Главу семьи, из которой хотя бы один человек ушел в банду, расстреливать на месте! Остальных брать заложниками… Кулацкий дом, из которого семья скрылась, сжигать! Имущество кулацкое раздавать бедноте… Только решительными и жестокими мерами нам в кратчайший срок удастся задавить мятеж. Время уговоров минуло, каленым железом мы должны, товарищи…
– Не пори горячку, Капустин, – прервал его Павел, – бить надо думаючи. Восстание, несомненно, вдохновляется кулаками… Кулак использовывает и свое влияние на деревню, и наши ошибки, но сам-то кулак прячется за широкую спину бедняка и середняка… Смородин вчера говорил: занимает он с отрядом деревню – кулаки первыми выходят встречать его с иконами, хлеб-солью и изъявляют свою покорность… Направленный в гущу восстанцев, наш удар вызовет еще большее озлобление в массе крестьянства и надолго поссорит нас с деревней… Повторяю, бить надо думаючи. Наша сила не только в штыке, но и в слове убеждения… Предлагаю немедленно выпустить воззвание к трудящемуся крестьянству, кинуть в очаги восстания самых преданных партийцев, чтобы они это воззвание как можно скорее распространили… Громить же со всей решительностью в первую очередь надо кулака, актив дезертиров и тех эсеров и колчаковских шпионов, что, по сведениям нашей разведки, шьются…– Восстало сто тысяч кулаков! Город окружен! – крикнул, врываясь в кабинет и сверкая налитыми кровью глазами, Пеньтюшкин. Он бросил на стол пучагу свежих депеш. – Товарищи, печальные новости!.. Глубоковский у заставы встречает мятежников с музыкой!.. Мы в западне!.. Восстало сто тысяч…
Капустин – дикий и растрепанный – хлестнул его в ухо и зашипел:
– Не вопи, сукин сын, не поднимай паники…
В задохнувшейся тишине где-то захлопали двери, в открытую форточку, как далекое рыданье, ветер донес всхлипы оркестра.
– Товарищи, спокойствие, – сказал Капустин, откашливая волнение и оправляя оттянутый маузером пояс. – Объявляю заседание закрытым…
По городу стучали выстрелы, и на далеких окраинах крики нарастали, как
о
бва
а-ал…
Павел летел через площадь, полы его шинели бились, словно крылья. С разбегу легкими прыжками взял лестницу и в дверях комнаты столкнулся с Лидочкой.
– Милый!
– Прощай, – задохнувшись от бега, сказал Павел. В последнем поцелуе губы прикипели к губам, еще и еще он перецеловал ее золотые глаза и легонько оттолкнул. – Беги к теткам.
– Зачем?
– Беги.
– Как?.. Разве?
– Да, мы отступаем. – Подумав, досказал: – На несколько дней.
– А я?
Павел промолчал и прошел в комнату.
Она прислушалась:
– Чу, стреляют… Кто стреляет?.. – Глаза ее были круглы, рот перекошен такой гримасой, какую никогда не заучить даже самому искусному актеру. – Павлик, мне страшно… Это… Это банда?
– Вроде этого, – отозвался он, стоя на коленях перед корзинкой и рассовывая по карманам бумаги. – Беги отсюда, плохо будет.
– А ты?
– Мне надо на вокзал.
– Но тебя поймать могут? Растерзать?
Он свистнул, выдвинул ящик стола и полными горстями стал пересыпать в карман похожие на желуди кольтовские патроны.
– Михеич где?
– Ах, не знаю.
– Беги, Лида, поздно будет.
– Не хочу одна!
– Ну, прощай, – шагнул он, – некогда.
– Подожди… – Сильными руками она обняла его за шею, крепким подбородком терлась о его небритую щеку. – Не ходи, никуда не ходи, Павлушенька…
– Прощай.
– Милый, убьют… Хочешь, я спасу тебя?.. Убежим к теткам… На вот, надевай, после брата осталась… – Она выхватила из чемодана офицерскую тужурку, перетряхнула ее, блеснул погон. – Никто не узнает. Павлик, я умоляю… Господи…
– Пусти, – глухо сказал он.
– Не пущу!
– Уйди!
– Не пущу! – Она стояла в дверях с тужуркой в вытянутых руках. – Я люблю тебя, убежим вместе, – опустившимся голосом, как издалека, сказала она, и из блестящих глаз ее брызнули слезы.
Павел решительно отсунул ее в сторону и выбежал за дверь. В конце коридора перед пылающей пастью голландки, присев на корточки, покуривал Михеич: он, видимо, только проснулся и ничего еще не знал.
– Бежим! – крикнул ему Павел.
– Куда?
– Отступаем. Город сдан.
– Да ну? – вскочил старик. – Я живой ногой… Только обуюсь. – Он был бос.
– Живо!
– Сыпь, Павлушка, я догоню.
По двору ветер гонял стружки. На карнизах, на солнечном угреве сизари ворковали про свою голубиную любовь: ба-ба-уу… ба-ба-уу… Город, словно тончайшим облаком, был перекрыт свистом пуль. По двору бродила сама жизнь в обнимку с солнцем… Мысль на миг завертелась вокруг еще в детстве слышанного рассказа про храброго волка, который перегрыз свою схваченную капканом лапу и ушел на волю… Павел утишил бег сердца и, провернув в нагане барабан, вышел за ворота.
На площади густо, как лес в бурю, орала толпа.
Уже неслись чьи-то вопли, кого-то избивали.
Горел исполком, со звоном осыпались стекла, и из верхних выхлестнутых окон, ровно из ноздрей, валил дым.
Из-за угла с гиком вылетела конная ватага человек в полсотню – ружья, багры, веревочные стремена, у многих вместо седел были приспособлены подушки. В облаке пуха и перьев ватага промчалась мимо, но один, рыжебородый, держа вилы наперевес, как пику, повернул к Павлу:
– Ты чей?.. Ты чего тута?.. Кажи документы!.. Скидавай сапоги!
Павел ударил его из нагана в рыжую бороду.
Мужик свалился и захрипел.
Павел вскочил на лошадь и, минуя большую улицу, проулками погнал к вокзалу.
Дезертиры громили военный комиссариат. Из окон летели стулья, тяжелые связки дел и, россыпью, учетные карточки…
– Смелее, ребята!
– Рви до клока, раздергивай до останной нитки… Не власть – наказанье!
У подъезда, в тесном кольце зрителей, здоровый косоротый мужик ломом ковырял несгораемую кассу. Бумагами, как снегом, была устлана занавоженная улица. Конопатый парнишка высоко метнул пачку ордеров и взвизгнул от восторга:
– Эх, чивали-вали!
Павел, не обратив на себя ничьего внимания, шагом проехал через толпу и опять погнал вскачь.
По дороге из тюрьмы через сенной базар валила шумная ватажка арестантов в брезентовых клейменых бушлатах, шапочках-бескозырках и казенных бахилах на босу ногу. Вел их за собой прославленный по всему уезду бандит Сашка Хомяк.
Выехав за город, Павел, заглотнув полную грудь морозного ветра, тряхнул поводьями и забарабанил пятками в ребра лошадёхи. Вдали, на стеклянной крыше депо, горячими искрами вспыхивало солнце.
По излучинам дороги полз, похожий на коленчатого удава, длиннейший обоз, груженный шкафами, диванами и разным хламом; брели кучки дезертиров караульного батальона; шел и останавливался и снова шел слесарь с паровой мельницы Сафронов. Жена обрывала с него патронташи, ремни и за рукав тянула назад:
– Вояка тоже нашелся… Черт их тут разберет… Пискунов-то полна изба… Айда-ка, айда домой.
– Люди…
– Люди топиться пойдут, и ты за ними?
– Отвяжись, дура, а то вот шарарахну наотмашь, и покатишься… – Увидав председателя укома, Сафронов подтянулся и зашагал бодрее. – Здорово, товарищ Гребенщиков.
– Здравствуй.
– Дралала?
– Похоже на это…
– Я вот, значит, тоже… А Дунька наседает, возьми ты ее за рупь за двадцать. – Затвор из винтовки Сафронов уже потерял.
Павел обогнал обоз.
На вокзальном дворе его встретил Климов.
– Что в городе?
– Город сдан. Шуруешь?
– Шуруем помаленьку. – Климов рукавом отер вспотевшее лицо. – С утра отправил четыре маршрута. Восемь тысяч мешков еще на колесах стоят и остаток грузим, да побаиваюсь, время хватило бы – народу у меня мало, паровозов нет… Город-то?.. Вот так штука! Ведь я тут со вчерашнего вечера канителюсь и ничего не знаю… Где Капустин с отрядом? Где наша хваленая дружина?
Павел прихлестнул лошадь к коновязи.
– Капустин с отрядом и дружиною, думаю, засел в кирпичных заводах. Может быть, сегодня же он захватит город обратно, хотя вряд ли… Много у тебя осталось хлеба?
– Тысяч под семьдесят пудиков, считай, два полных состава… Вагонов у меня хватит, а паровозов – ни одного…
Побежали к начальнику станции. Тот любезно встретил их в своем убогом, уклеенном обязательными постановлениями, кабинетике.
– Прошу садиться.
– Нам сидеть некогда, – сказал Павел и выдернул из кобуры наган. – Нужны два паровоза.
– Звоню, вызываю, не отвечают… С удовольствием бы, верьте слову…
– Хоть из-под земли вырой, а выкати нам пару паровозов, иначе ты из этого кабинета не выйдешь.
Начальник сразу вспотел и сдвинул на затылок красную с кантом фуражку:
– Сейчас отправляю последний маршрут с эвакимуществом… Ни на станции, ни в депо не остается ни одного паровоза, даю честное, благородное…
– Какое там, к черту, эвакимущество? Задержать! Нам хлеб важнее!
– Не могу-с… Я человек подчиненный.
– От имени ревкома приказываю немедленно перебросить паровоз под хлебный состав.
– Не могу-с.
Оборвав разговор, вдвоем выбежали на перрон.
На подъездном пути был выстроен состав, готовый к отправке: вереница открытых платформ завалена мотками колючей проволоки, строевым лесом и тюками прессованного сена, а теплушки под самые крыши были забиты мягкой мебелью, театральными декорациями, зеркалами и какими-то плюшевыми людями.
Пока Климов объяснялся с машинистом, Павел, от неумения в кровь сбивая руки, развертывал сцепку.
Паровоз был переброшен на третий путь к хлебным вагонам.
– Ты, Климов, езжай, проводи.
– А зачем? Машинист – мужик свой.
– Все-таки… Мало ли чего…
– А ты?
– Догоню. Езжай.
– Мне все равно, – сопя сказал Климов и полез в паровозную будку.
Хлебный маршрут как бы нехотя двинулся, тяжело раскачиваясь и лязгая буферами.
У товарного лабаза на разостланные брезенты бунтом были накиданы мешки. Редкой цепочкой бегало с десяток мельничных крюшников и несколько деповских мастеровых. Под ногами хрустело разбрыленное зерно, а в стороне в козла были составлены винтовки работающих.
– Остатки дошибаете? – подошел Павел. – Надолго хватит?
– Тут делов до ночи не переделать, – на ходу отозвался котельщик Сальников, – ты, Гребенщиков, кого-нибудь на подмогу нам подкинул бы… Одним нам не управиться… Наутро загорелось, с утра бегаем без отверту. А тут, не ровен час, и чапаны налетят.
– Поищу вам подмогу. – Павел побежал по порядку теплушек с эвакимуществом и принялся колотить в наглухо захлопнутые двери рукояткой нагана: – Вылеза-а-ай на погрузку зерна… Перестреляю, курвы!
Из теплушек, бормоча какие-то объяснения, выпрыгивали плюшевые люди и шли к лабазу.
– Нельзя же так, товарищ Павел, – подскочил возглавляющий эвакуационную комиссию Ефим, – у меня есть и больные, и старики, и жены ответственных…
– Ну?
– Мне-то, по крайней мере, что делать?
– Таскай мешки.
– Странно… – Ссутулившись, Ефим зашагал к лабазу.
Работа пошла веселее.
Мешками с зерном набивали вагон за вагоном.
На руках вагоны откатывали на второй путь, где сцепщики вязали их цепями.
На крыше вокзала – наблюдательный пункт, туда с большой охотой полез подвернувшийся на глаза Сафронов.
Плачущая жена не отставала от него ни на шаг и под многий смех, придерживая раздувавшиеся на ветру юбки, по зыблющейся железной лестнице ударилась за ним.
В сторону города, на разведку, были посланы двое.
Неожиданно за семафором укнул паровоз.
Забегали, закричали, и не успела еще разгореться паника, как к перрону подкатил смешанный поезд, набитый отпускными солдатами, мешочниками и дезертирами с Восточного фронта… Выскакивали из вагонов и, размахивая котелками, мчались за кипятком, в собиравшихся тут и там кучах с азартом рассказывали о нападениях на поезд, о перестрелках с кем-то и о последних ценах на муку и масло.
Прибывший паровоз оторвался от своего состава и набирал воду на втором пути.
– Заберем, – негромко сказал Павел котельщику Сальникову, указывая на паровоз, – немного попятить, пристегнуть к своим вагонам и – аминь.
– А эти… пассажиры?
– Хрен с ними… Которые убегут, которые на крыши посадятся… Пойдем-ка разнюхаем.
– Попытать можно… Эй, работнички чертовы! – крикнул он крюшникам. – Шабаш! Забирай винтовки, шагай за нами.
Вдесятером они подошли к паровозу… Тендер был полон, вода хлестала через край.
Сальников запер воду и отвернул железный хобот, а Павел, заглянув в паровозную будку, ахнул:
– Убежал, пес!
– Кто?
– Машинист сбежал.
Еще двое влезли в паровозную будку.
– Вот так клюква!
– Чего-нибудь надо выдумывать…
– Выдумывай не выдумывай – на себе не повезешь.
– Понимающего человека найти бы…
– Где его, неположенного, найдешь?
– Дело труба.
– Ну-ка, погляжу, – протискался вперед Сальников, трогая медные рычажки, – молодой был, в помощниках ведь с год ездил, да перезабыл все, шут ее дери…
– А может быть, в поселке машиниста поискать? – предложил весовщик Паранин.
– Времени нет.
– Я живо смотаюсь.
Он убежал.
В паровозной будке стало тихо.
Каждому слышен был лишь стук собственного сердца, сопенье огня в топке да неясный гул голосов, долетавших со станции. Сальников понимал: двинь он машину, будет спасена своя жизнь и сорок вагонов хлеба. К этому сознанию примешивалось и чувство профессиональной гордости старого мастера. Все следили за его нерешительно ходившими руками.
Павла разжигало молодое нетерпение, хотелось оттолкнуть котельщика и самому наугад начать отвертывать головы всем рычагам и кранам, авось… Остальным просто хотелось уехать, усиливающаяся со стороны города стрельба не сулила ничего путного.
Шш…
Шш…
Шш…
Ш…
Паровоз дрогнул и поплыл назад… Толчок… Далеким перекликом звякнули буфера хлебного состава.
– Действуй! – крикнул Павел, выпрыгивая вон. – А я побегу проверю, не разорван ли где состав?
В этот миг с вокзальной крыши Сафронов с женой в голос рявкнули:
– Чапаны… Чапаны скачут…
Людей ровно вихрем подняло… Голоса завертелись, заметались, будто огонь на большом ветру:
– Паровоз!
– Давай сюда, давай паровоз!
Но паровоз уже был подпряжен к хлебному составу.
Хлопнул выстрел, другой…
Нужно было выиграть несколько минут… Павел с наганом в одной руке и с кольтом в другой побежал навстречу мешкам, крикам, мятущимся людям…
– Товарищи!
Его прижали к теплушке.
Упятился, улез на тормоз.
Яростные руки и кулаки потянулись к нему.
– Хватай его!.. Бей!
Поднял револьверы – бу-бу-бу – поверх шапок и картузов.
Схлынули…
Павел улез на крышу теплушки и оттуда опять пытался говорить:
– Товарищи… У кого оружие… Банде – отпор!
Дернулся под ногами вагон и стал: забуксовал паровоз.
Еще яростней взметнулись головы, мешки, протянутые вперед руки: давя друг друга, приступом брали буфера, площадки, карабкались на крыши.
Кучка деревенских парней, во главе с Митькой Кольцовым, как бешеные проскакали по перрону, стреляя безостановочно и на все стороны.
Тогда сотни рук, в едином стремлении сдвинуть хлебный состав с места, вцепились в ребра теплушек, многие плечи подперли каждый выступ вагона, и железный конь, почуяв подмогу, фыркнул и медленно, через силу, потащил за собой состав…
У Павла в груди, ровно челнок, ходило взволнованное сердце, когда прямо перед собой, во втором этаже вокзала за тюлевой занавеской, как в дыму, он разглядел красную фуражку начальника станции и наведенное на него, Павла, дуло ружья… Не успел поднять кольта. За грохотом выстрела не слышал звона разбитого стекла.
Хлебный маршрут, прибавляя гулкий шаг, уходил на север. На крыше одной из теплушек, раскинув ноги в порыжелых сапогах, лежал председатель Клюквинского укома – скупо стонал и все пытался приподняться на локтях, чтобы глянуть туда, в снежные поля…
Город колотила лихорадка.
Шайки восстанцев и вооруженных чем попало обывателей мыкались по улицам, вылавливали по дворам не успевших отступить красноармейцев, из домов вытаскивали коммунистов. Там и сям валялись раздетые до нижнего белья убитые, вокруг них собирались кучки злорадов и любопытов.
На площади – молебен.
После молебна перед многотысячной толпой сельчан и горожан выступали с речами Борис Павлович и бывший председатель уездной управы; говорили отощавший купец Дудкин и рядовые повстанцы; потешил народ своим косноязычием столяр Митрохин; учитель гимназии Аполлинарий Кошечкин, волнуясь и нервно потирая руки, заговорил было: «Пришла пора, восстал народ», – но в это время на площадь с гиком вылетели вернувшиеся с вокзала три конные сотни.
– Ура… Ура-а-а…
Высоко над толпой взлетали шапки.
С трибуны, подбоченившись и картинно опираясь на эфес шашки, говорил уже Митька Кольцов:
– Друзья мобилизованные, пора проснуться, открыть глаза и крикнуть: долой паразитов трудового народа!.. С нынешнего дня своим приказом я временно отменяю советскую власть… И вам, граждане городские жители, довольно спать, пора проснуться и открыть свои глаза! Прошу вас, все, как один, присоединяйтесь к народной армии… В нашем штабе получена верная телеграмма: в Елабуге – восстанье, в Москве – восстанье, по всей Симбирской губернии – восстанье, в Саратове – восстанье… На лодке вода и под лодкой вода, дрожит вся Расея!.. Друзья мобилизованные, довольно спать, пора проснуться… Из Петрограда нам везут тридцать тысяч винтовок… Смерть тиранистам, паразитам трудового класса! Да здравствуют большевики и весь простой народ! Долой поганые Советы! Да здравствует Учредительное собранье!..
Из города на все стороны двинулись обозы с мануфактурой, кожами, железом и всякой всячиной. По дорогам на обозы нападали шайки дезертиров и грабили их.
В деревнях молились бабы.
Из далеких больших городов, встречь хлебным маршрутам, в дребезжащих теплушках катили красные полки. На грязных вокзальных стенах, под ветром, трепетали обрывки плакатов, газет с приказами и призывами революции.
Под Клюквином
ударились.
Город подмял кулацкую деревню [6] , соломенная сила рухнула…
Восстанцы, бросая по дорогам вилы, пики, ружья, на все стороны бежали, скакали и ползли, страшные и дикие, как с Мамаева побоища…
Страна родная… Дым, огонь – конца-краю нет!
...
[ 1920–1936 ]
«Россия, кровью умытая» Артема Веселого По материалам личного архива писателя
С весны 1917 года занимаюсь революцией. С 1920 года – писательством.
Артем Веселый
...
На армию навалилась вошь,
армия гибла.
Хлестала осень дождями, свинцом и кровью.
Неубранные хлеба била птица, вытаптывала конница. Над Кубанью, Тереком и Ставропольем реяли огненные знамена пожаров: красные жгли станицы восставших казаков, белые громили мужичьи села и рабочие слободки.
Накрывали холода, по утрам прихватывали заморозки. Бойцы были раздеты и разуты.
По одним путям, по одним дорогам с армией ползла тифозная вошь. Здоровые еще кое-как отбивались от вошвы, больные не могли.
Минеральные воды,
Пятигорск,
Владикавказ,
Грозный,
Святой Крест,
Моздок,
Нальчик…
Живые долго будут хранить в памяти эти кровавые вехи.
По всем городам, селам и станицам бросались на произвол судьбы тысячи и тысячи хворых и раненых.
У дверей лазаретов стояли часовые, которым было приказано никого из помещений не выпускать.
Забегали прощаться.
– Товарищи! Дорогие товарищи, не волнуйся! Мы отступаем дня на три и опять вернемся…
– Врешь, серый!
– Завели нас и продали.
– Кадеты всех порубят.
– Не тронут… Увечного не посмеют тронуть.
– Да, лежал бы ты на моем месте с пулею в груди, не то бы вяче́л.
– Ожидайте, скоро вернемся.
– Кого и чего ждать?.. Палача с веревкой?
– Одежи нет, лошадей нет, обозы рассыпались какой куда, мосты в тылах порваны, в тылу восстанья, кормить вас нечем, самим жрать нечего. В дороге всем вам, калекам, верная гибель.
– Все равно пропадать… Братва, собирайся!
– Бей телеграмму Ленину…
– Братцы, не покидайте! – рыдания. – Вместе воевали, вместе и умирать будем.
– Прощай, станишники… Прощай, друзья…
Стоны,
крики,
последние объятья.
Отец заживо расставался с сыном, брат с братом и товарищ с товарищем.
Двери лазаретов наглухо заколачивались досками, из окон выпрыгивали, кто выпрыгивать мог. На костылях, в бреду, срывая окровавленные повязки, они рвались за бегущей армией: поддерживая друг друга, шли, ехали, ползли, валились и умирали…
Так начиналась одна из глав романа Артема Веселого «Россия, кровью умытая» «Горькое похмелье», посвященная трагическому эпизоду в истории гражданской войны – отступлению 11-й армии через астраханские пески (1919). На журнальной верстке этой главы, сохранившейся в личном архиве писателя, его рукой написано: «Снято цензурой из «Нового мира», кн. 12 за 1931 г.». В шести книжках «Нового мира» в течение трех лет – 1928, 1929 и 1931-го – печатались главы из этого романа. Глава «Горькое похмелье» была переработана и вошла в текст первого издания романа.
Роман «Россия, кровью умытая» – основное, но не дописанное произведение Артема Веселого. Артем Веселый – псевдоним Николая Ивановича Кочкурова (1899–1938).
В «Автобиографии» он писал: «Родился в Самаре в сентябре 1899 г. в семье волжского крюшника. До революции учился, работал на заводе, служил переписчиком, мальчиком на побегушках, был и ломовым извозчиком. В марте 1917 г. вступил в большевистскую партию. Вел партийную и газетную работу как рядовой боец красной гвардии и армии, два года был на фронте».
Писателю было двадцать один год, когда ему впервые пришла мысль о большом романе.
«На заре туманной юности, весной 1920 года, – писал он, – будучи редактором поездной газеты агитационно-инструкторского поезда ВЦИК, я поехал на Кубань. Деникинское воинство было только что разгромлено: еще дымились скелеты сожженных городов, деревень и станиц, под откосами железнодорожных насыпей еще валялись изуродованные вагоны и паровозы, еще горячи от ненависти к врагу были глаза митинговых ораторов и еще не высохли слезы на лицах осиротевших жен и матерей. В одно, как говорится, прекрасное утро, на перегоне от Тихорецкой к Екатеринодару, я поднялся чуть свет, выглянул из окна купе и – ахнул. И – сердце во мне закричало петухом! На фоне разгорающейся зари, в тучах багровеющей пыли двигалось войско казачье – донцы и кубанцы – тысяч десять. (Как известно, на Черноморском побережье между Туапсе и Сочи было захвачено в плен больше сорока тысяч казаков; обезоруженные, они были распущены по домам и на конях – на сотни верст – походным порядком двинулись к своим куреням.) Считаные секунды – и поезд пролетел, но – образ грандиозной книги о гражданской войне во весь рост встал в моем сознании. В тот же день в поездной типографии были отпечатаны письма-обращения к участникам гражданской войны, отпечатаны и разосланы во все населенные пункты Кубанской области, Черноморья, Ставропольской губ., Ингушетию, Чечню, Кабарду, Адыгею, Дагестан. Спустя месяц в Москву мне было прислано больше двух пудов солдатских писем. Завязал связи с наиболее интересными корреспондентами. Первые годы я употребил на сбор материала. У меня скопились груды чистейшего словесного золота, горы книг. Материал подавлял меня, его хватило бы и на десяток романов. Я не мог справиться с хлынувшим на меня потоком. Только спустя четыре года я начал писать книгу свою «Россия, кровью умытая».
Работая над книгой, Артем Веселый часто ездил на Кубань; зимой 1926 года в труднейших условиях повторил путь, проделанный отступавшей 11-й армией через астраханские пески; он знакомился с архивными документами в крайистпартах, беседовал со многими участниками мировой и гражданской войн. Листок из личного архива Артема Веселого:
...
Россия
Приблизительные вопросы каждому, с кем я беседовал: С какого времени в армии
Какой части
Знаменитые бои
Атаки
Приключения и всякие случаи из жизни
Поход
Отдых
Храбрость и трусость
Грабеж
Честь героя
Редкие раны
Женщины в армии
Солдатская любовь
Жестокость, террор
Судьба
Конь
За что боролись
Верность и измена
Пленные
Герои
Враги
Китайцы, мадьяры, горцы и др. народы.В архиве десятки листов с пометой «Всячина». Это заготовки к роману; среди них встречаются отдельные слова, фразы, реплики, диалоги и развернутые сцены. (Относящееся к «всячине» писатель помечал двумя короткими черточками впереди.)
...
= Смех радугой.
= Его почерк был четок, как солдатский шаг.
= – Что вы развылись, как собаки к пожару?
= – Советская в тебе совесть.
= В банду шли, как в отхожий промысел на заработки.
= – Каждый день бой, эдак и в живых не останешься.
= – А там хоть волк траву ешь.
= – Нерв терпенья, не видя ниоткуда поддержки, лопнул.
= – Впереди грязь, сзади чтоб пыль курила.
= Солдаты не шли, требовали подвод: «При царе ходили, теперь будем ездить».
= – Страшно было?
= – Да страшно не страшно, а вздрагивалось.
= – Так ты в боге-то сумлеваешься?
= – Сумлеваюсь.
= – А што?
Более уверенный голос вступает в спор:
– Бога нет.
– А ты знаешь?
– Если бы он был, то он должен понятья иметь (о земле, буржуях и проч.).
Каждой главе «России, кровью умытой» предпосланы авторские эпиграфы:
...
В России революция – дрогнула мати сыра-земля, замутился белый свет…
В России революция, вся Россия на ножах.
В России революция – кипит страна в крови, в огне…
Есть в архиве Артема Веселого несколько эпиграфов, заготовленных к еще не написанным главам:
...
В России революция – мир шатается на корню.
В России революция – хрустль костей, пылающие города, пепел непокоренных деревень.
В России революция – гром: – ооо ууууу бах бах уу – с Кавказа до белых льдов, с тайги до славного Гуляй-Поля!
В России революция – крепка кишка русская, тянется, да не рвется.
В России революция – мчат по России, распустив огненные гривы, кони народного гнева.
И тут же авторская помета: «Эпиграфы – от руки, красным». Это желание Артема не было осуществлено. Хотя третье издание давало такую возможность: издательство «Советский писатель» в 1935 году выпустило, как бы теперь сказали, подарочное издание – большого формата том в алом переплете, рисованный портрет автора работы В. М. Юстицкого, цветные вклейки и большое количество великолепных – тонких и выразительных – рисунков Д. Б. Дарана. Артем Веселый высоко ценил эти иллюстрации. Даниил Борисович Даран в связи с этим вспоминал такой эпизод. Кто-то из писателей сказал Артему, что художник, мол, сделал совсем неподходящие к теме и стилю книги рисунки – не годится Артема Веселого рисовать тонким перышком, на что Артем возразил: «Что же, по-твоему, меня сапогом надо рисовать?»
Особое значение Артем Веселый придавал тому, что обозначено им как «музыкальный лад романа». Набросок главы «Смертию смерть поправ» сопровожден примечанием: «Вся глава идет на басовых нотах и – стремительна до предела».
В 1932 году «Россия, кровью умытая» вышла первым изданием. За четыре следующих года она – в переработанном и дополненном виде – переиздавалась трижды.
К каждому изданию Артем Веселый ставил подзаголовок «Фрагмент».
Существует подробный план, который позволяет судить о том, как бы выстроилась книга, если бы автору удалось довести ее до конца. Приведем несколько отрывков из этого плана, датированного январем 1933 года, из него видно, что Артем Веселый не только планировал включить в роман новые темы, события и действующих лиц, но и собирался провести довольно существенную правку уже напечатанного.
...
Глава одиннадцатая . История с авто. Подготовка восстания в Ейском и Таманском отделах. Типы белых подпольщиков. Красные партизаны. Вся глава в огненной рамке восстаний…
Глава четырнадцатая. (Напечатана.) Горькое похмелье. Переработать сцену заседания РВС XII. Стилистическая правка. Дорисовка митинга с участием Муртазалиева.
Глава пятнадцатая. (Напечатана.) Клюквин-городок. Вправить главу в перспективу общероссийскую, сделав для этого несколько новых страниц в начале главы, а также и по всему полотнищу бросить несколько крупных мазков. Зверская правка в сторону сокращения…
Глава семнадцатая. (Напечатана.) Сила солому ломит. Большое восстание доработать на основе новых материалов Тамбовского истпарта об Антоновском движении, Казанского истпарта о восстании в Заволжье зимой 1919 г. Самарского истпарта – тож…
Глава двадцать первая. История курсантского полка. Борьба за окраины республики – Закавказье, Восток, Урал, Сибирь.
Глава двадцать вторая. Махновщина. Материалы истпарта напечатанные и ненапечатанные. Зарубежная литература. Украина, разыскать старых сподвижников Махна.
Глава двадцать третья. Польский фронт.
Глава двадцать четвертая. Перекоп. Концовка.
Этюды. После каждых трех глав, как продух или пауза музыкальная, – идут семь этюдов. Этюды – это коротенькие, в одну-две-три странички, совершенно самостоятельные и законченные рассказы, связанные с основным текстом романа – своим горячим дыханием, местом действия, темой и временем… А всего этюдов должно быть написано сорок девять.
Три этюда, подготовленные Артемом Веселым к печати, не успели увидеть свет. Вот эти этюды.
НЕ ПО КОНЮ, А ПО ОГЛОБЛЯМ
...
Начальник
контрразведывательного
пункта
при штабе главнокомандующего
и командующего войсками
Кубанского края
28 декабря 1918 г.
№ 4574
г. Ставрополь
Господину начальнику тюрьмы
Направляю на ваше распоряжение для повешения обвиненного в активном большевизме А. П. Вострикова.
Обвинение: Приговор военно-полевого суда при сем препровождается.
Впредь до приведения приговора в исполнение предлагаю учредить над арестованным строжайший надзор.
О последующем приказываю донести незамедлительно.
Начальник контрразведывательного пункта ротмистр Бабаев ....
Его высокоблагородию
господину начальнику военно-полевого суда
От содержащегося в тюрьме б. почтово-телеграфного чиновника Анд-
рея Вострикова.
Ходатайство
Ваше высокоблагородие.
Я приговорен к смертной казни лишь за то, что в дни февральской революции участвовал в демонстрации и в течение двух часов нес знамя профессионального союза с лозунгом «Да здравствует революция».
Ваше высокоблагородие. Ходатайствую о помиловании ввиду моей молодости (20 лет), болезненного состояния (2-я стадия туберкулеза), а также прошу принять во внимание мой характер: никогда и никакой политикой я не занимался. Я не большевик и большевизму не сочувствую.
Мой родной брат Виктор погиб на Германском фронте в чине прапорщика, имел Георгиевский крест.
Ваше превосходительство. Умоляю о помиловании. У меня двое детей (двух лет, и младшему всего шесть месяцев).
А. Востриков....
Росписка
29 декабря 1918 года я, нижеподписавшаяся, получила от господина начальника тюрьмы труп моего мужа и оставшиеся после него вещи, а именно:
1. Подушка.
2. Фуражка.
3. Кожаный пояс.
Елена Вострикова.
...
Расписку настрочил тюремный писарь.
Молодая женщина словно неживой рукой вывела имя, фамилию, и несколько тяжелых слезинок упали на серый лоскут бумаги.
Стражник вывел ее за ворота, за которыми уже ожидали дроги с черным, наглухо забитым гробом.
МЕСТЬ
...
Приказ № 2 городу Майкопу 8 сентября 1918 г.
За то, что население города Майкопа (Николаевская, Покровская и Троицкая слободки) стреляло по добровольческим войскам, налагаю на вышеупомянутые окраины города контрибуцию в размере одного миллиона рублей.
Контрибуция должна быть выплачена в трехдневный срок.
В случае невыполнения моего требования вышеупомянутые слободки будут сожжены дотла.
Сбор контрибуции возлагаю на коменданта города есаула Раздерищина.
Начальник 1-й Кубанской казачьей дивизии
генерал-майор Покровский .
У слобожан миллиона не оказалось.
Слободки запылали.
На тополях и телеграфных столбах ветер тихо раскачивал удавленников. Живые уходили в горы.
По ночам в небе играли зарева пожаров – по всей Кубани горели слободки и мужичьи села.
ДОНЕСЕНИЕ
...
В полевой штаб бригады. 30 сего, в четыре часа дня моим эскадроном занято с. Темнолесское. Неприятель разбит наголову. Захвачены пленные и два горяченьких пулемета. Головин ранен. Шутко ранен. Снегирев убит. Белые рассеяны. Подсчитываем трофеи. Неприятель силою до трех сотен кавалерии снова лезет. Веду эскадрон в лобовую атаку.
4 ч. 10 м.
Аверьянов.
Ветхий листок донесения подшит к архивному делу. На нем, как ржавчина, следы выцветшей крови. Он волнует и крепче всякой поэтической выдумки говорит о незабываемых днях великой битвы.
Лишь часть задуманного успел осуществить Артем Веселый: из 24 глав романа напечатано 10, из 49 этюдов – 12.
«Россия, кровью умытая» ошеломляла. Читатель из Калининской области, коммунист, написал в издательство: «Прочитав эту книгу, я как бы школу какую-то окончил, в ней, как в зеркале, отражен тот период, когда наша родина действительно была в огне контрреволюции. Читаешь, так аж жуть берет, мороз по коже так и щиплет».
Отрицательную оценку дает роману другой читатель, тоже деревенский коммунист. Признавая, правда, что «книга как исторический документ очень ценная», он вместе с тем порицает ее: «В книге есть ряд недостатков животрепещущего характера, а именно: книга груба, некультурна».
Не только у простодушного читателя, но и у литературных начальников и критиков произведения Артема Веселого зачастую вызывали неудовольствие и даже негодование. В письме, датированном 1925 годом, Артем Веселый отвечает на претензии цензора к «Стране родной» (повесть, впоследствии вошедшая составной частью в «Россию, кровью умытую»): «Мрачные краски?! Что делать, в 18–19 году наряду с ярким было немало и тяжелого, мутного. Кроме того, настоящее утверждение неверно, потому что в романе даны и положительные типы революции… Да и вопрос этот не так прост: дать в художественной вещи абсолютно положительные или отрицательные типы – невозможно, это дело агиток, в объективном освещении все плюсы и минусы захлестываются в узел и проч… Во всяком случае, я как коммунист всегда готов нести ответственность за свои писания».
17 мая 1937 года «Комсомольская правда» помещает статью Р. Шпунта «Клеветническая книга. О романе А. Веселого «Россия, кровью умытая»:
«…Вся его книга – клевета на нашу героическую борьбу с врагами, пасквиль на бойцов и строителей молодой республики Советов.
Но кто же создал славу произведения Артема Веселого? Кто были его адвокаты в литературе? Мы поинтересовались и этим.
Во втором томе «Литературной энциклопедии» об Артеме Веселом писали как об «оригинальнейшем из современных писателей».
Троцкист Воронский сравнивал его с Фурмановым и Фадеевым.
Вячеслав Полонский в 1930 году писал об Артеме Веселом:
«В Артеме Веселом есть черты, напоминающие Максима Горького. Но в нем нет горьковской скорби. Артем больше революционер, чем Горький, и ближе к революционному мужику, на которого Горький смотрит сквозь очки, покрытые пылью времени».
Еще в 1936 году в первом номере журнала «Знамя» критик Перцов писал: «Россия, кровью умытая» занимает в советской литературе своеобразное и значительное место, потому что это произведение явилось одной из первых попыток «безгеройного» повествования, неизбежно одностороннего, скрадывающего роль личности, но впервые восстанавливающего массу в ее исторических правах».
Так создавалась слава писателя Артема Веселого. Эту «славу» ему создал троцкист Воронский при попустительстве близоруких редакторов и издателей. По их следам, в силу укоренившейся репутации, пошли и другие критики, которые стремились пороки А. Веселого возвести в добродетели, просмотрев в его произведениях явную клевету».Новый, 1937 год я и старшие сестры Гайра́ и Фанта́ встречали вместе с отцом на даче в Переделкине. Наутро, прихватив «лейку», отец позвал нас погулять.
Морозно, но отец одет почему-то не по-зимнему: на нем драповое пальто, кепка; он высокий, немного сутулый, черноволосый и кареглазый, на щеках – густой темный румянец (бабушка, бывало, говаривала: «Хоть спичку об него зажигай!»). Возле плотины он нас сфотографировал; карточка сохранилась доныне.
Не берусь гадать, о чем думал отец в первый день тридцать седьмого года, но то, что он предвидел свой трагический конец, – несомненно: уже вовсю шли аресты.
Отец предвидел арест – и готовился к нему. Часть своего архива, как это выяснилось позднее, он отвез на Покровку, где жили его родители и младший брат Василий: очевидно, он надеялся, что стариков и брата, работавшего грузчиком, не тронут (так, оно, к счастью, и произошло).
28 октября 1937 года Артем Веселый был арестован.
Писатель А. Е. Костерин, близкий друг Артема Веселого, арестованный в том же году, восемнадцать лет провел в колымских лагерях, после реабилитации вернулся в Москву. Он писал в своих воспоминаниях: [7]
«О том, что и Артем попал в «ежовые рукавицы», я узнал только в 1938 году уже на холодных берегах Колымы и Охотского моря. Любезно сообщил мне об этом следователь, безусый юнец, ровесник Октябрьской революции. Выслушав сообщение, что «ваш друг Артем Веселый покушался на Сталина», и мнение следователя о «врагах народа», я вспомнил артемовскую ненависть к той части молодежи, которая в социалистическом переустройстве стремилась выловить только дипломы, сытые местечки и лавровые венки. «Крупа! Брюхолазы! Выползни! Но они, чую, нас оседлают и взнуздают, как необъезженных диких коней!» – говорил он, сталкиваясь в учреждениях с густой бюрократической порослью.
И вот передо мной, очумелым от пятидневной «стойки» и бессонницы, такой юнец, несомненно сдавший экзамен по истории революции и партии, следователь Дмитриев изгаляется над именем Артема, над его биографией и творчеством, одновременно заплескивая помоями и все поколение бойцов Октябрьской революции.
– За что боролись, на то и напоролись! – с гаденькой ухмылкой говорил он…
О последних мучительных днях Артема мы имеем пока отрывочные и непроверенные слухи…»
Старый большевик А. Г. Емельянов рассказал нам с сестрами, что в марте тридцать восьмого года он оказался вместе с нашим отцом в одной камере Лефортовской тюрьмы. «Артема каждую ночь уводили на допрос, под утро его приносили . Однажды он не вернулся…» Емельянов был уверен, что официальная дата смерти Артема Веселого – 2 декабря 1939 года – не соответствует действительности.
Артем Веселый был посмертно реабилитирован в 1956 году.
«В Артеме Веселом запропал, по моему мнению, один из лучших писателей советского времени, – писал Н. Н. Асеев [8] . – Он не был похож ни на какое уже известное в литературе прошлого явление. Его размашистая, неудержимым напором движущаяся проза порой казалась безродной дочерью народа, дикой и неустроенной в своей судьбе. Ни один писатель тех лет не обладал такой могучей уверенностью в своей речи – речи, непосредственно воспринятой от народа. Иногда этот говор, эта разноголосица заставляли настораживаться своей непосредственной обнаженностью. Слова нежные и грубые, грозные и одухотворенные соединялись в отрывочные периоды, как бы вырвавшиеся из уст народа. Грубость и подлинность некоторых выкриков отталкивали любителей изящной прозы тургеневского стиля. Сложность множества слившихся в одну речевую лаву выражений, присловий, здесь же, в процессе творчества, явившихся из революционной волны на ее гребне, заставляла отступать от оценки критиков, не имевших еще практики в разборе таких явлений. Поэтому замечательная эпопея «России, кровью умытой» не вызвала длительных дискуссий и глубоких оценок, служа скорее примером революционно-стихийной удали, а не совершенно новым литературным явлением. Артем Веселый пытался, и не только пытался, но и осуществлял роман без героя, вернее с массовым героем, в котором соединялась такая множественность черт народов, образовывавших население бывшей Российской империи, что не было возможности воспринять эти черты как объединяющие кого-нибудь одного. И вместе с тем рос и возвеличивался могучий облик стихии народной, ее единой воли, несущей новые слова и новые возможности существования. Ни у кого из известных мне писателей прошлого и настоящего не было такой свободы выразительной речи, такого бесшабашного и вместе с тем волевого ее провозглашения. По-моему, Артем Веселый мог бы стать совершенно невиданным и неслыханным советским писателем, открывавшим дорогу всему языку, всем чувствам народа без прикрас и преувеличений, без педагогических соображений, что дозволено в строении и стиле произведения. Я люблю и «Россию, кровью умытую», и «Реки огненные», и «Гуляй Волгу». Еще нет исследования о новом, необычайном стиле этих вещей, о языке и композиции произведений этого богатырского эпоса».Ценнейшая часть личного архива Артема Веселого (то, что находилось в работе), изъятая при обыске, пропала; после реабилитации Артема Веселого Союз писателей сделал запрос в органы госбезопасности по поводу архива, ответ был таков: «При аресте в 1937 году у него были изъяты рукописи литературных произведений: «Печаль земли», «Глубокое дыхание», «На высокой волне», «Притон страстей» и сценарий «Мир будет наш», однако указанные рукописи не сохранились». Уцелела та часть архива, которую Артем оставил у родителей.
Родители Артема Веселого – Иван Николаевич и Федора Кирсановна Кочкуровы – в самом начале 20-х годов переехали из Самары в Москву и поселились у сына на знаменитой в то время Покровке, 3. В этом доме, где раньше размещалась дешевая гостиница, два этажа были отданы под общежитие писателей и поэтов группы «Молодая гвардия» (у каждого из них была отдельная комната). Там жили Михаил Светлов, Юрий Либединский, Марк Колосов, Михаил Голодный, Иван Доронин, Валерия Герасимова, Николай Кузнецов и другие.
«Дедушка» и «бабушка», как все в доме называли родителей Артема, были в то время еще не стары, чуть больше пятидесяти, но своим обличьем, самобытной речью, всем жизненным укладом и в самом деле могли казаться молодым обитателям покровской коммуналки стариком и старухой. Живя в столице, они сохраняли колоритные черты, присущие жителям самарской рабочей слободки.
Обстановка комнаты, видимо, повторяла прежнее жилье: большой кованый сундук, комод под белой вязаной скатеркой, кадка с фикусом, в простенке между окон – зеркало в деревянной раме, на подоконниках цветочные горшки – столетник и лимон. Примета нового быта – черная тарелка репродуктора на стене.
В переднем углу – икона, перед ней лампада.
Украшением комнаты была печь-голландка, сверкавшая белыми изразцами; возле нее, словно в избе, большие и малые ухваты, сковородник и кочерга. Обед у бабушки варился в чугунах, на столе шумел медный ведерный самовар.
В детстве я часто гостила у дедушки с бабушкой на Покровке.
У дедушки черная борода скобкой, глаза живые, а в движениях нетороплив. Он любил шутку и всякие волжские присловья. Со мною и старшей сестрой возился как хорошая нянька. Носил по-бедняцки опрятные ситцевые косоворотки под ремень, ямщицкий нагольный тулуп, валенки с галошами. Во дворе московского дома в дровяном сарае держал кур и поросенка.
Дедушка был неграмотным, но, случалось, ложился днем отдохнуть с газетой в руках, причем частенько держал ее вверх ногами. Отличить верх и низ газетного листа нетрудно, видимо, делал это из озорства, подтрунивая над грамотной бабушкой, и, дождавшись ее замечания: «Отец, газету не так держишь», – невозмутимо отвечал: «Чай, в моих руках, могу и перевернуть».
Бабушка была дородная, белолицая, говорила образно и певуче. Она ходила в широких сборчатых юбках до полу, в душегрее, голову – даже дома – покрывала платком. Бабушка была верующей, дедушка – «безбожник». Бывало, бабушка шепчет что-то перед маленькой иконой, дедушка вроде бы не обращает внимания. Но вот слышится тяжкий вздох: «Господи, боже мой…» – и дедушка, должно быть желая отвлечь бабушку от каких-то горьких дум, скажет: «Не весь твой, поди, и мой маленечко». Бабушка промолчит, только взглянет укоризненно. Не помню ни единой распри между ними. Жили в завидном ладу, а жизнь была к ним сурова: до революции похоронили четырнадцать детей; благодаря Артему выпало на их долю несколько благополучных лет, а с тридцать седьмого года и до последнего часа – горькое горе…
Артем преданно любил родителей, полностью их содержал, посвящал в свои дела; уже живя отдельно, своей семьей, навещал их едва ли не ежедневно, а если случалось заболеть, «отлеживался» на Покровке.
Сюда приходили его короткие – в три слова – открытки: «Жив. Здоров. Артем»; работая над «Гуляй Волгой», он каждое лето отправлялся в путь по сибирским рекам, по Белой, Каме и Волге – плыл на лодке, под парусом и на веслах, собирая материал для книги и, по его выражению, «кормясь с ружья и сети». Позднее – уже не для сбора материала, а просто для души (впрочем, по пути записывал частушки, в тридцать шестом году издал их отдельной книгой) – опять путешествовал по Волге. В верховьях реки покупал большую рыбачью лодку, к концу лета, доплыв до Астрахани, дарил лодку знакомому рыбаку или бакенщику. В эти путешествия он брал с собой старших дочерей – Гайру и Фанту. Сборы в дорогу проходили на Покровке. Мне запомнились только последние, тридцать седьмого года. На полу, на кровати, на стульях разложено снаряжение: выгоревшая на солнце палатка, туго свернутая рыбацкая сеть, ружье, патронташ с патронами, котелок, чайник, всякая походная мелочь. Сестры, радостно-возбужденные, сноровисто укладывают рюкзаки, вспоминают разные смешные и страшные случаи прошлой поездки… Мне, восьмилетней, вместе с погодком Левой и маленькой Волгой предстоит провести лето на переделкинской даче. «Пошто губа-то сковородником?» – лукаво спрашивает дедушка, хотя и сам знает, почему я едва не реву: мне тоже хочется на Волгу, о которой столько наслышана от сестер. «На тот год и тебя возьму», – пообещал отец.
По возвращении из путешествия сестры рассказывали, что отец в отличие от прежних поездок избегал посещать большие города, а под охраняемыми мостами проплывал, пристроившись к плотам; все это из опасения, что если его арестуют, то девчонки останутся одни вдали от дома.
На Волгу я впервые попала только через двенадцать лет: везли меня как дочь врага народа в сибирскую ссылку через Куйбышевскую пересыльную тюрьму.
Вторично побывала я в родном городе отца еще через два десятка лет; на этот раз как дочь Артема Веселого, уроженца Самары, была приглашена почетным гостем на открытие Куйбышевского литературного музея. Встречалась с людьми, знавшими отца, записывала их воспоминания, осматривала город…
Захотелось поглядеть снаружи на пересыльную тюрьму; адреса и местоположения, естественно, не знала, заговаривать с прохожими на такой сюжет было как-то неловко, стала искать, отчетливо помня два дома на горе, видных из зарешеченного окна. И нашла. Нашла два памятных дома; тюрьму, как мне сказали, давно снесли, на том месте построили гостиницу «Волга», в ней-то – бывают же такие совпадения! – меня как раз и поселили.
Дедушка умер во время войны, бабушка в сорок восьмом году. На Покровке оставались младший брат Артема Василий Иванович Кочкуров с женой Клавдией Алексеевной. Никто, кроме них, не знал о существовании архива: хранение бумаг осужденного врага народа считалось криминалом. Архив, уложенный в плетенную из ивовых прутьев бельевую корзину, был спрятан… под кровать.
Люди, далекие от литературы – грузчик и работница столовой, – Василий Иванович и Клавдия Алексеевна не только по-родственному любили Артема, они безгранично уважали его труд и верили, что спрятанные бумаги пригодятся, когда он вернется из заключения.
Через окошко справочной на Кузнецком Мосту было объявлено: приговор – десять лет без права переписки. Эти слова с добавлением «жив, работает» повторялись из года в год, даже после сорок седьмого, когда минули те самые десять лет. Артема давно уже не было в живых, но его ждали. Ждали вплоть до пятьдесят шестого года…
Девятнадцать лет Клавдия Алексеевна Кочкурова регулярно, убираясь в комнате, выдвигала из-под кровати тяжелую, доверху набитую бумагами и книгами корзину и вновь задвигала ее в дальний угол. Благодаря Кочкуровым сохранились ценнейшие материалы: рукописи, документы, письма, фотографии, прижизненные издания произведений Артема Веселого. В последующие годы архив значительно пополнился из других источников, но корзина с Покровки – его основа.Этюд «Филькина карьера» в романе заканчивается так:
...
«Горько и обидно вытряхнули Фильку из инструкторского тулупа, на краткосрочные курсы сунули; три месяца, даром что краткосрочные, а тут день дорог – распалится сердце, в день столько можно дел наделать… Не понравились Фильке курсы; чепуха, а не курсы.
Умырнул Филька в милицию».
Однако «Филькина карьера», вышедшая первоначально отдельной книжечкой в 1926 году в издательстве «Молодая гвардия», заканчивалась другой фразой: «В партию Филька прописался, умырнул Филька в чеку». В архиве писателя обнаружено несколько машинописных страниц, посвященных дальнейшей судьбе Фильки:
В деревне бушевали чекисты Упит, Пегасьянц и Филька Японец: о их подвигах далеко бежала славушка недобрая.
…Из Фирсановки попа увезли. Ни крестить, ни отпевать некому – кругом на сто верст татарва.
…В татарской деревне Зяббаровке пьяные катались по улице, перестреляли множество собак, ранили бабу.
…Неплательщиков налога купали в проруби и босых по часу выдерживали на снегу.
…Сожрали шесть гусей без копейки.
…Реквизиции и конфискации направо-налево, расписки плетью на спинах.
…Члена комбеда на ямской паре посылали за десять верст за медом к чаю.
…До полусмерти запороли председателя волисполкома «за приверженность к старым порядкам».
Упит был следователем. Каких только дел не вмещал его объемистый портфель! Какой рассыпчатой дрожью дрожала трепетная уездная контрреволюция под его тусклым оловянным глазом! И какой обыватель, завидя скачущих во всеоружии чекистов, не уныривал в свою подворотню: «Пронеси, Господи… Спаси и помилуй, Микола милостивый». Пегасьянц и Филька состояли при нем как разведчики, вольные стрелки. Обвешанные кинжалами, бомбами и пушками, они неустанно мыкались по уезду, одним своим видом нагоняя неописуемый страх на тайных и явных врагов республики.
Долго деревня кряхтела, ежилась, а когда достало до горячего, посыпались в город скрипучие жалобы, приговоры обществ, ходоки. Ходоки напористо лезли на этажи, к зеленым столам и выкладывали обиды. На места выезжала специальная комиссия, большинство жалоб и слухов подтвердилось, выплыли и новые концы.
Пока велось следствие, удалая тройка грызла решетку в бахрушинском подвале. Томились от безделья.
Филька:
– Я тут ни при чем, не своя воля… У меня, сучий рот, покойный отец коренной рабочий из маляров, вся слободка скажет… И сам я парень хошь куда, чево с меня возьмешь – горсть волос?
Пегасьянц:
– Во мне кровь горячая…
Упит молчал, беспрерывно заряжая трубку сладчайшим табаком.
Скоро двоих отправили в Губтютю (Губчека), а Фильку предчека Чугунов вызвал к себе:
– Гад.
Филька заплакал:
– Я ни в чем не виноватый…
– Гад, в закон твой, в веру мать… – И деревянной кобурой маузера по скуле. – Иди.
Филька выполз из кабинета на четвереньках. Его разжаловали в канцеляристы и под страхом расстрела запретили выезжать за черту города. Однако звезда его славы не лопнула. Знать, от роду счастьем был награжден татарским, широким: сидел Филька на своем счастье, как калач на лопате:
– Эх-хе, но… Ехало-поехало и ну повезло…
Назначили Фильку комендантом могил.
С конвойцами заготовлял в лесу ямы, провожал приговоренных в последнюю путину, «на свадьбу», без промаха стрелял в волосатые затылки (плакали морщинистые шеи), зачищал снегом обрызганные кровью валенки и, откашливая волнение, валился в ковровые санки, скакал домой мять сочные свиные котлеты и своим солдатским азартом вгонял в испарину Дарью, которая была сочнее котлет – кругом во – хошь ты в ней катайся, хошь купайся.
Работа Филькина не хитрая, а занятная, и он так к ней пристрастился, что когда долго не было операций – захварывал, дичился людей, плакал; зато после хорошей ночи зверел весельем, в слободке на вечорках всех ребят переплясывал и морозу совсем не боялся, разгуливая в папахе и в одной огненно-атласной рубашечке, перетянутой наборным черкесским поясом. Днями спал или в комендантской с дружками в карточки стукался; ночами, если не было «свадьбы», уходил гулять на Мельницы, а то в Дуброву. Слободские ребята дали ему новое прозвище: «Комендант в случае чего».В чека всю ночь горели огни, в кабинете преда коллегия планировала детали большой операции. По столу были разбросаны донесения, сводки и карточки людей, которые где-то еще строили козни или в кругу своих семей беспечно доедали свои последние обеды: дни их и дела их были уже подытожены.
Коллегия заседала на мезонине, а внизу по коридорам слонялись сотрудники в предвкушении дела. В секретно-оперативном разведчик Шахов в кругу угрюмых слушателей с жаром рассказывал об одесских подземных ходах, о своем беззаветном геройстве и о хитростях налетчиков с Пересыпи. Рассказ свой он ковал одними глаголами и междометиями:
– …кимаю, дрр… Зечу каля-каля хоп, капает скокарь на аллюр… Карамба. Стой. Стой. Бух-бух, бултых… – и т. д.
Филька – дежурный по комендатуре – в комендантской волынил с машинисткой Нюрочкой Кутениной. Была она похожа на обсосанный леденец и на телефонные вызовы обыкновенно отвечала: «Это я – чрезвычайная машинистка, что угодно?» Сидя рядом на засаленном диване, Филька запросто, как свою машинистку, щупал ее и говорил всякие развлекательные слова. Нюрочка щелкала волоцкие орехи, взбивала кудряшки и, отодвигаясь, взвизгивала:
– Ой…
Филька морщился:
– Брось визжать, не режу я тебя.
– И-и-ех…
– Не уважаю ваших нежных женских привычек.
– Ой, не могу.
Немного погодя он вытолкал ее за дверь, растрепанную и разрумянившуюся от сильных душевных переживаний.
Филька не спал третью ночь и, имея охоту развлечься, постучал в стенку тяжелой серебряной чернильницей, которая сияла на комендантском столе для фасону, чернила же наливали в простой пузырек.
На стук явился начальник конвоя.
– Есть?
– Двое дожидают.
– Кто такие? Какой губернии?
– Контры, я чай, из Саботажницкой губернии в Могилевскую пробираются, так вот за пропуском пришли, – доложил конвоец; челюсти его были крепко сжаты, а в бездумных глазах, как челноки, сновали мрачные молнии.
– Введи, – приказал Филька и устало откинулся в обитое синим шелком ободранное кресло.
Втолкнутый конвойным, в комендантскую щукой влетел татарин в рваном бешмете, а за ним – белобрысый крохотный мужичонка, похожий на стоптанный лапоть.
В пучине препроводительных протоколов тонул усталый глаз. Филька почитал с пятого на десятое и все понял: татарина звали Хабибулла Багаутдян, другого – Афанасием Цыпленковым. Присланы они были из дальней Карабулакской волости. Князь – самый крупный в деревне бай, имевший шесть жен и косяк лошадей, – обвинялся в неплатеже налогов, спекуляции и организации какого-то восстания. На двух страницах перечислялись качества Афанасия Цыпленкова: он ярый самогонщик, он отчаянный буян, он искалечил у председателя корову, сына родного чехам продал, убил соседа за конное ведро и прочия и прочия… У Фильки в глазах зарябило.
«Фу-ты, черт побери, – подумал он, разглядывая его рожу, похожую на обмылок в мочалке, – мокрица мокрицей, а какой зловещий мущина…»
Он подманил к столу татарина и бросил ему первый навернувшийся вопрос:
– Законного ли ты рождения?
Багаутдян полой бешмета вытер красное, залитое жиром лицо и мелко-мелко залопотал:
– Фибраля, вулсть, онь не спикалянть, присядятль цабатажник, члинь Абдрахман, биллягы, джиргыцын… – Упал на колени и, захлебываясь страхом, заговорил на родном языке.
Выкатив глаза и раскрыв рот, Филька беззвучно смеялся, а конвойный Галямдян пересказал слова Хабибуллы:
– Ана говорит, товарищ, прошу низко кланяюсь проверить мои дела, ни адин раз в жизни не был буржуем, а с него кантрибуцию биряле, лошадка биряле, барашка биряле, ямырка бирялг… Брала Колчака, берет и чека. Подушка продал, две самовары продал…
– Встань, несчастный магометанин, – равнодушно сказал Филька Багаутдяну, все еще ползающему на коленях и не смеющему поднять лица от заплеванного пола.
– Товарищ, товарищ…
– В подвал.
Кланяющегося татарина увели.
В комендантской было тихо, только от двери наплывали рыхлые вздохи осьмипудового конвоира Галямдяна да где-то за двумя стенками взвизгивала машинистка Кутенина. Афанасий Цыпленков часто мигал, с придурковатым видом оглядывал потолок, заметив под ногами натаявшую с лаптей лужу, поспешно вытер ее шапкой и шапку сунул за пазуху.
– Цыпленок.
Афанасий дернул шеей, как лошадь в тесном хомуте, и подшагнул к столу.
– Жалуются на тебя, дядя, житья людям не даешь.
– Не знай.
– Вот тебя и арестовали за твое изуверство, кого винишь в своем несчастье?
– Не знай.
– А советска власть ндравится?
– Не знай.
– Как не знаешь?
– Не знай.
– Понятна ли тебе партейная борьба?
– Не знай.
– Какой деревни?
– Не помню.
Филька восторженно вскочил:
– Подойди, плюнь мне в кулак.
Афанасий, видя, что деваться некуда, плюнул.
Весный Филькин кулак упал на мужичье переносье так же, как падал тысячи лет начальнический кулак на мужичье переносье.
Сельский писарь за бутылку перваку научил Афанасия на все вопросы отвечать «Не знай» и «Не помню», но в этой глухой, без единого окна комендантской Цыпленков понял, что с комиссаром шутки плохи, и, отчаянно дернув всхохлаченной башкой, он откашлялся в кулак:
– Мы, стало-ть, Егорьевски, Карабулацкой волости.
– За что арестован?
– За свой хлеб.
– Сколько раз в жизни напивался пьяным?
– Не пью, товарищ, истинный господь, духтора запретили, нутру, вишь, вредно… А у нас, известно, какое мужичье нутро – чуть ты его потревожь, и готово… Самогоны этой проклятой и на дух мне не надо, не пью, нутру вредно, а я сам себе не лиходей.
– Сочувствуешь ли чехам и союзникам?
– Сохрани бог, видом не видал и слыхом не слыхал.
– Зачем жаловался чехам на сына, что он большевик?
– Врут.
– Как врут?
– Так… На Петьку я обижался, отцу хлеба не давал, а чехи-псы приехали да убили его.
– Жалко?
– Жалко, родная кровь.
– Правильно ли они его убили?
– Убили правильно, хлеба отцу родному не давая, шкуру бы с него, с подлеца, спустить.
– А тебя расстреляем, тоже будет правильно?
– Тоже правильно… Спаси бог… – Мужик торопливо закрестился.
– Боишься ли красного террора?
– Ни боже мой… Правду люблю.
– Да ну?
– Умру за божескую правду.
– А не приходилось ли тебе продавать керосин?
– Не помню.
– Как смотришь на идейных коммунистов?
– Смотрю дружески, идейным надо подчиняться.
– Что ты понимаешь в революции?
– Ничего, сынок, не понимаю.
– Как по-твоему, за кем останется победа?
– У кого кашка толще, штор тянулась, да не рвалась.
– А не снятся ли тебе черти?Допрос продолжался вплоть до той минуты, когда задребезжал телефон. Чугунов приказал готовить роту и прислать наверх всех сотрудников секретно-оперативной части.
Из ворот выходили небольшими кучками и молча, рубя острый шаг, ссыпались в черные колодцы улиц и переулков.
Дом.
№
Властный стук.
Тишина.
Стук настойчив и неотвратим.
Испуганный крик:
– Кто там?
– Обыск.
У дома зазвенело в ухе.
На хозяйке трепетные губы и заспанный капот.
Движенья ночных гостей быстры, и в притихших комнатах гулки их шаги.
Приторно пахнет семейным туалетным мылом и теплой, надышанной постелью.
Кто-нибудь плачет, кто-нибудь, задыхаясь, уверяет:
– Это недоразумение, честное слово… Мы никогда и ничего… Васенька даже сочувствует… Васенька, объясни ты им… Господи…
Васенька, обуваясь, долго не может поймать шнурка ботинка и старается говорить как можно спокойнее:
– Конечно же, недоразумение, ошибки возможны и даже неизбежны… Ты не волнуйся, Мурик, тебе вредно волноваться… Допросят и выпустят… Я больше чем уверен, что выпустят…
Уходили, уводили Васеньку.
Дом после обыска как после пожара.Погиб Филька за чих.
Башка его была вечно всхохлачена – расчески не было и купить негде: базары разорены, а в аптеке советской, после белых, одна валерьянка да зубной порошок. При обыске Филька придавил пяткой, а потом спустил в карман Васенькину роговую расческу. Комиссар Фейгин узрел, донес Чугунову, а тот порылся в Филькином личном деле и по синей обложке ахнул:
…†
О подобных Фильке «комендантах в случае чего» Артем Веселый знал не понаслышке. В Самарском архиве хранится анкета, заполненная им при партийной перерегистрации в 1920 году. На вопрос о деятельности после свержения самодержавия он отвечает: «Сотрудник, а затем секретарь «Приволжской правды», председатель Мелекесского укома партии и контролер Мелекесского ЧК». Обнаруживший эту анкету историк Ф. Г. Попов пишет: «В бытность Н. И. Кочкурова председателем Мелекесского укома и редактором уездной газеты «Знамя коммунизма» он на страницах газеты резко выступил против безобразий и беззаконий, которые совершали проникшие в ЧК авантюристы… Губком постановил направить в Мелекесс следственную комиссию… Губком постановил отдать под суд весь состав Мелекесской Чрезвычайной комиссии, а Кочкурову предоставил права представителя губкома в ЧК с функциями контролера».В 1936 г. Артем Веселый подготовил к печати два рассказа, напрямую связанных темой и общим героем – Иваном Чернояровым – с «Россией, кровью умытой». В машинописных текстах они даны под общим заголовком «Два маленьких рассказа». Первый из них, «Степь да степь кругом…», был в том же году напечатан в газете «Легкая индустрия», второй, «Андрей Порохня», опубликован в 1988 г. в № 5 журнала «Новый мир». АНДРЕЙ ПОРОХНЯ
В хате за облепленным жужжащими мухами столом, в кругу своих верных друзей сидел Иван Чернояров. Ворот его гимнастерки был расстегнут, костлявые завалившиеся ключицы обнажены. На маслянистом от пота, землистом лице его лежала печать суровой замкнутости.
Обедали.
Вдруг в полутемных сенцах послышался какой-то шум, потом, вполголоса, яростная ругань, грохот опрокинутой скамейки с пустыми ведрами, и в хату, шипя и отбиваясь палкой от вестового Миколы Пидопригоры, впятился дюжий парубок.
– Что за война? – крикнул из-за стола Юхим Закора. – Кто такой?
– А нечиста сила его знает, что он за человек, – дребезжащим от обиды голосом затараторил Пидопригора. – Прет себе, як видмедь, напролом. «Мне, каже, до Чернояра», да и все. Уж я ему, Иван Михайлович, всякие резоны приводил. – Он крутнулся к парубку и гаркнул: – А ну, бисова душа, гайда до коменданта. Я там тебя расшифрую.
– Погоди, Микола, – остановил Юхим Закора вестового и, не сводя глаз с незнакомца, опять спросил: – Кто таков?
– Андрей Порохня.
– Чьих родов, каких городов?
– С Мелитопольщины.
– Ну, какое же у тебя дело?
– А ты сам кто такой, шо меня допрашиваешь?
– Я? – Юхим оглянулся на своих. – Я эскадронный Юхим Закора.
– А мне треба Чернояр.
Захохотал Озеров, захохотал Шалим, захохотал Бурульбаш. Тень улыбки скользнула и по лицу Ивана.
– Я – Чернояров, – сказал он, – говори скорее, чего тебе надо, и проваливай.
Незнакомец стоял у порога в вольной позе. Измазанные дегтем и лопнувшие по швам офицерские зеленые галифе его были забраны в шерстяные чулки. На ногах тяжелые чёботы, из коротких рукавов вылинявшей рубахи торчали здоровенные, в золотистой шерсти, ручищи.
– Хочу, товарищ Чернояр, послужить в твоем полку, – тяжко, со скрипом выговорил наконец он.
– А где ты до сего дня блукал?
– Да служил.
– Где служил?
– Да в банде у батьки Махна три месяца гулял.
– Ну?
– Ну, сбежал.
– А что?
– Не по душе… Где чего награблють – все в свое село везут и там делят. Я совсем не из ихнего уезда.– Где еще служил?
– В банде у Зеленого служил.
– Сбежал?
– Сбежал.
– А чего?
– Не по душе… Ниякого порядка нема. Явился к ним по-честному, привел своего коня, трех лет гнедой жеребчик, опять же и тачанку на полном ходу…
– Добре, хлопец, добре, – нетерпеливо перебил его Иван. – А у белых тоже служил?
– Обязательно.
– Сам пошел?
– Мобилизовали.
– Ну?
– Ну, сбежал… Фельдфебель, будь он проклят, где можно обойтись одной – влепит тебе две или три горячих защечины. Пороли меня у них, за подрыв дисциплины, и шомполами.
– Куда же ты сбежал?
– К красным. В Таганрогский полк, вторая рота.
– Ну, ну, ври дальше, – поощрил Семен Озеров. – И от таганрогцев сбежал?
– Сбежал.
– Не по душе?
– Ой не по душе. Ночью в бою, а днем, где бы выспаться, политрук то на митинг тащит, то на лекцию, то книжку всучит с приказанием прочесть срочно. А пуще всего один жидок меня допек. Узнал, что я перебежчик, и вот ходит за мной с карандашом и бумажкой. «Дядька, говорит, расскажи, как тебя у белых мучили?» – «Да я ж тебе рассказывал, говорю». – «Да нет, ты мне расскажи в подробностях, мне нужно для газеты». Я уж от него и бегал, и прятался – найдет-таки проклятый и опять: «А ну, дядька, расскажи». И так он мне надоел, собака, терпенья моего не стало – сбежал.
– Э-э, да ты пулеметчик! – воскликнул Чернояров.
– И на пулемете работал, – растерянно улыбнулся он, пораженный всезнайством командира.
– А ну подойди, подойди сюда, ближе к свету… Я тебя рассмотрю хорошенько… Эге-ге-ге, гусь лапчатый, да я тебя узнаю, – говорил меж тем Чернояров, не спуская с него глаз. – Ты полковника Толстопятова знавал?
– Ни. Ниякого Толстопята не знал, не знаю и знать не хочу.
– Брешешь! – загремел голос Черноярова, и он, вскочив, в мгновение ока выдернул из коробки маузер. – Становись к стенке! Смерть тебе, кадетский прихвостень!
Парень попятился.
Чернояров, следя за выражением его лица, поднял маузер и выстрелил два раза ему через голову, в стенку. Потом Чернояров засмеялся и спрятал маузер.
– Ты, видать, не из робкого десятка… Служи мне, да не журись. – Он повернулся к Шалиму: – Выдать ему коня, шашку и наган.
Юхим Закора налил новому бойцу стакан вина и сказал:
– Так и быть, беру тебя в свой эскадрон.
Встречаясь на Кубани со многими людьми – будущими героями «России, кровью умытой», – расспрашивая их о событиях гражданской войны, Артем Веселый видел, как складывается жизнь этих людей в мирное время, а складывалась она зачастую весьма драматично. Эти впечатления в виде письма из станицы воплотились в «полурассказе» Артема Веселого «Босая правда». Из сохранившихся черновиков видно, что в замысле это письмо адресовано самому автору. Вначале идет связный текст с подзаголовком «Письма из станицы» (заголовок «За Кубанью, братцы, за рекой» зачеркнут):
Уважаемый товарищ Веселов!
Посылаю я тебе горячий коммунистический привет, который для тебя и для СССР должен быть и будет историческим.
Горе заставило писать меня.
Расскажу тебе всю горькую правду не только за себя, но и за тех товарищей красных бойцов и красных командиров больших и малых частей, которые единым порывом, твердым духом под грохот пушек, под свист пуль и конский топот пронеслись через жерло гражданской войны.
Это мы голыми шашками прорубались через всю Украину, держали Царицын и проч. проч. Тысячи наших голов катились по дорогам.
За наши подвиги – нет помину.
После демобилизации в 21 г. красные орлы вернулись в свои станицы, хутора и села и что же здесь нашли?
Дома нет.
Хозяйства разграблены и уничтожены.
Жены в кабале у кулаков.
Дети – сироты беспризорные.
Вернувшиеся калеки и больные вынуждены были надеть на плечи вместо винтовки латаную торбу.
Мы обижены нашей жизнью.
Мы, красные бойцы и командиры, с 1918-х годов верили и верим, что правда есть, за правду мы кровь лили и сейчас громким голосом, миллионом голосов спрашиваем:
– Где она, эта самая правда?
Мы остались в живых по нашему счастью или по несчастью.
Нам нигде нет места. Неужели мы не заслужили кусок хлеба?Далее следуют отдельные записи – в одну или несколько строк:
Влачил бедную и скучную жизнь до того дня, когда над нашей станицей раздался первый выстрел, и вздрогнуло мое сердце радостью.
Сиротам и вдовам и близко не подходи, за сто лет ничего не добьешься.
Спец говорит: «Кто тебе велел воевать», и ты поворачиваешься и с болью в душе уходишь, не находя ему ответа.
Что ж нам, заброшенным, делать? Ибо совесть наша после 8-летней борьбы не позволяет нам сделать такой позорный шаг.
Дорогая жена, когда я умру, не суди меня и не ругай меня, ибо плакать не приходится, а нужно дальше пробивать дорогу через тернистый путь, который еще не пробит…
Машина на куриных лапках, работаем так, что из нас луковкой прет, а сработанного не видно.
Комиссия взялась за дело, быстро выяснила, что кругом все запутано.
Кубань обмыли кровью и слезами.
Не пропадать сторублевой голове за двугривенный.
Рано ли, поздно ли возгорится заря светлой жизни всего мира коммунизма.
Остается без внимания воплощенный голос коммунара.
Хожу по улицам, спотыкаюсь, в поисках куска хлеба.
Защитники в земле, инвалиды на земле, а главки наверху, на основе Нэпа давят нас.
С восемнадцатых годов много осталось сирот, детей, жен, вдов, отцов и матерей, которые остались и до настоящего времени беспризорными и бесприютными, и нет никакой помощи, никакого обращения и просвещения. Хватили ужасу.
Жили, как кто хотел.
Сотру с лица земли, и ветер разнесет прах.
Всю жизнь находился в огнях.
Не только не заплачет, но и ох не скажет.
Помочь старым партизанам – не богадельню разводить. Это важное дело для нашей революции. Грянет война, опять агитаторы будут сулить золотые горы и посылать нас в самое пекло…
Мертвое собрание.
Все это кроется изменой.
Спрашивают работу, а работать не на чем.
Крик, ругань, мать-перемать на чем свет стоит, лошадь дрожит от испуга и усталости. Берут беззащитную лошадь в атаку, и бьет кто кнутом, кто палкой, прикладом по ребрам, по ушам и по глазам.
Песня, из которой в «Босую правду» вошло лишь десять строк, записана Артемом Веселым полностью:
Слышу, как будто грохочут удары
Прошлой войны, и тоска
Живо рисует вам страсть и кошмары.
В бурунах пустыни песка
Красных героев рассыпаны кости,
Жизнь положивших в бою,
Вились там коршуны – черные гости,
Терзали добычу свою.
Я пережил те лишенья, невзгоды,
Много, как все, пострадал,
Силу, здоровье отдал за свободу,
Много погибли, но я не пропал.
Весь я изранен оружием белых
В схватках лихих за Совет.
В этих налетах, губительно смелых,
Я пострадал ни за нет.
Дети – сиротки убитого сына,
Сам я старик стал седой.
Жизня тяжелая, горе-кручина.
Что это? Разве покой?
Где ни пойди – посылают обратно.
Верно, негоден я стал.
Все позабыли, и мне непонятно:
Что я, себя защищал?
Всеми забыт я, и ордена знамя
Жалко висит на груди,
Верный свидетель угасшего пламя,
Помнить лишь будут враги.
Все, что губил я, в боях защищая
Жизнь как бы одному,
Кровь не жалел, за Совет проливая,
Ныне не нужен ему.
Член РКП я, забытый члена́ми,
Голод, лишенья, семья.
Гордо вы, братья, топтали ногами
Свободы надежду мою.
Что это значит? Кому же я нужен,
Силу утратив в огне?
Или я кровью своей оконфужен
В этой проклятой войне?
Помню края и былые ухватки,
С гордым челом на коне,
Пороха чад и предсмертные схватки
Были забавою мне.
Кончились схватки, домой воротился
К участи горькой такой.
Старый, седой, никуда не годился
Всеми забытый герой.
В процессе работы над «Босой правдой» Артем Веселый, видимо, счел более естественным, что бывшие красные партизаны обращаются за поддержкой не к «товарищу Веселову» – писателю, а к своему старому командиру, которому не надо объяснять, кто и как воевал в его полку во время гражданской войны.
«Босая правда» была опубликована в пятом номере журнала «Молодая гвардия» за 1929 г. и переиздана лишь в 1988 г. («Новый мир», № 5).
На экземпляре журнала, подаренном Алексею Крученых, с которым Артем Веселый был в дружеских отношениях, автор сделал надпись: «Алику – честному поэту честный рассказ»....
БОСАЯ ПРАВДА
Полурассказ
Дорогой товарищ, Михаил Васильевич!
Проведав, что ты, наш старый командир, живешь в Москве и занимаешь хорошую должность, мы, красные партизаны вверенного тебе полка, шлем сердечный привет, который да не будет пропущен тобою мимо ушей.
Горе заставило нас писать.
Надо открыто сказать правду – в жизни нашей больше плохого, чем хорошего.
Известный вам пулеметчик Семен Горбатов голый и босый заходит в профсоюз, просит работу. Какая-то с вот таким рылом стерва, которую мы не добили в 18-м году, нахально спрашивает его:
– Какая твоя, гражданин, специальность?
– Я не гражданин, а товарищ, – отвечает Семен Горбатов. – Восемь огнестрельных и две колотых раны на себе ношу, кадетская пуля перебила ребро, засела в груди и до сего дня мне сердце знобит.
– О ранах пора забыть, никому они не интересны. У нас мирное строительство социализма. Какая твоя, гражданин, специальность?
– Пулеметчик, – тихо ответил герой, и сердце его заныло от обиды.
– Член профсоюза?
– Нет.
– Ну, тогда и разговор с тобой короток. Во-первых, таковая специальность нам не требуется, во-вторых, у нас много членов безработных, а ты не член.
– Почему скрываете распоряжения нашей матушки ВКП? – спрашивает Семен Горбатов. – Не должны ли вы предоставлять работу демобилизованным вне очереди?
– Мы не скрываем распоряжений и даем работу молодым демобилизованным последнего года, а вас, старых, слишком много.
– Куда же нам, старым, деваться, ежели не всех нас перебила белая контрреволюция?
– Профсоюз не богадельня.
– А скажите, сколько у вас в трестах и канцеляриях сидит кумовьев и своячениц?
– Не мешайте, гражданин, заниматься.
– Значит, – с бессильным презрением говорит Семен Горбатов, – вы смотрите на меня в моем отечестве хуже, чем на пасынка?
На эти слова он не получил ответа и голодный ушел от порога профсоюза.
Командир 2-го эскадрона Афанасий Сычев, ежели вы, Михаил Васильевич, его припомните, боролся в наших рядах, начиная с Корнилова и включая до разгрома Колчака и Врангеля. В 1921 году названный Сычев вернулся на родину, чтобы поправить здоровье и разоренное хозяйство, но хозяйства никакого не оказалось, так как на плане двора торчали лишь горелые пеньки. Когда летом 1918 г. Деникин занял нашу станицу, то в ряд с другими товарищами была повешена 60-летняя мать Сычева, Авдотья Поликарповна. Жена его с перепугу из станицы убежала на хутор Лощилинский, где и вышла замуж за вдового казака.
Пришлось Афанасию со всеми своими бедами примириться. Принялся он, в силу партдисциплины, побивать бандитов; побивал их беспощадно до полного уничтожения и в камышах за войсковой греблей саморучно застрелил полковника Костецкого. Спустя сколько-то времени, за неимением капиталов, пошел Афанасий батрачить к неприятелю своему Гавриленке. Тайком от хозяина посещал он собрания ячейки, но тот дознался и выгнал его, крикнув на прощанье:
– Сгинь с глаз. Как ты привержен к ячейке, пускай тебя ячейка и кормит.
Определили Сычева сторожем при исполкоме, но и тут его стерегла неудача. На Пасху, как большой любитель церковного звона, залез он на колокольню и, для веселья сердца, позвонил в колокола. За таковую слабость Афанасий и был изгнан из партии, как «интеллигент, зараженный религиозными заблуждениями», а он двух слов подряд написать не умеет и бога не признает с первых дней революции. Когда прочитал в газете об исключении, то бедняга заплакал и сказал:
– Орловские… Отрывают они сердце от тела.
Собрались мы, несколько партийцев, описали геройские подвиги Афанасия при взятии Ставрополя, вспомнили атаку под Лисками, изложили в подробностях действия 2-го эскадрона на Польском фронте и все это послали в райком. В ответ ни звука. Шлем еще одно заявление, и опять ни гугу.
Тут мы и задумались…
Али и впрямь орловские такую возымели силу, что ни с беднотой, ни с нами, рядовыми коммунистами, и разговаривать не хотят?
Похоже – так.
Посиживают они в холодочке, чаи гоняют, о массе не думают, сами себя выбирают, сами себе жалованье назначают.
Что же это за звери такие?
К концу гражданской войны, как вам, Михаил Васильевич, хорошо известно, красная сила толкнула и погнала из России белую силу. Хлынули с насиженных мест графы и графята, буржуи и буржуята и так и далее, и так и далее. Главные тузы утекли за границу, а всякая шушера – князишки, купчишки, адвокатишки, офицеры, попы и исправники – остались, как раки на мели, на кубанском берегу. Возвращаться в свои орловские губернии они побоялись – там их знали в лицо и поименно. Осели они у нас и полезли в Советы, в тресты, в партию, в школу, в кооперацию и так и далее, и так и далее. Не отставали от них и местные контры, которые при белой власти вредили нам сколько могли. Все они хорошо грамотны и на язык востры – для каждого нашлось местечко, а куда орловский втерся, туда еще не одного однокашника за собой протащит.
В станице нашей на 30 000 населения – 800 здоровых и каленных красных партизан. В ячейке 40 человек: партизан 4 (когда-то нас было 9); вдова-красноармейка 1; рабочий с элеватора 1; батраков 2; подростков 7; присланных из края 3; орловских и сочувствующих им 22.
Откуда орловским знать, с какой отвагой защищали мы революцию? Когда-то станица выставила два конных полка и батальон пехоты. В юрте́ нашем есть хутора, откуда все с мальчишек и до дряхлых дедов отступали с красными.
Время идет, время катится…
Сычев до того дожился, что харкает кровью и кормится при тетке из жалости.
Орловские все глубже пускают корень. Дети их лезут в комсомол, а внуки в барабанщики. Таких комсомольцев мы зовем золочеными орешками. Орловские нас судят и рядят, орловские ковыряют нам глаза за несознательность, орловские нас учат и мучат. Мы перед ними и дураки, и виноваты кругом, и должники неоплатные…
Эх, Михаил Васильевич, взять бы их на густые решета…
Описываем нашу жизнь дальше.
Боец Егор Марченко живет по-прежнему в своей бедной хижине, так как дворца ему не досталось, хотя и много покорил он земель и городов. Живет с той лишь разницей, что раньше было у него хотя и небольшое, но свое хозяйство, а ныне в погоне за куском ходит в плотничьей артели, имеет топор, пилу да полны горсти мозолей. Только сын Спартак поднимает дух Егора, а так хоть и глаза домой не кажи – теща ругает, жена ругает, прямо поедом едят. Иногда отгрызнется Егор, а чаще бывает – припрут его, и он, не находя ответа, убегает ночевать к кому-нибудь из приятелей.
И в самом-то деле, оглянешься назад, вспомнишь, сколько мы страху приняли, сколько своей и чужой крови пролили, – и чего же добились?
Землю есть не будешь, а обрабатывать ее и не на чем и нечем. Из 6 купленных станицей тракторов 2 достались кулакам, 1 совхозу, 1 колхозу и 2 куплены середняцким товариществом. Плывет из-под бедняка завоеванная земля кулаку в аренду.
Много оголодавшего народа уходит в города на заработки.
Газеты пишут, что Москва отпускает на поддержку бедняцких хозяйств большие рубли. До нас докатываются одни истертые гроши, да и то редко.
От большой семьи вахмистра Бабенко осталась в живых одна старуха Печониха. Самого Бабенка, как вы, Михаил Васильевич, помните, белые зарубили под Царицыном. Старший сын его – Павел, командовавший бронепоездом «Гроза», геройски взорвал себя, не желая предаваться врагу. Младший сын Василий погиб в горах Чечни от тифу, а дочь Груню на глазах у матери казаки изнасиловали до смерти. Ходит Печониха с холщовым мешком под окнами и выпрашивает милостыню у тех же богатеев-казаков, которые занасиловали ее дочь и загнали в могилу мужа и двух сынов. В прошлом году мы выхлопотали старухе пенсию в 6 р. 50 к. Три раза ходила она в район и не могла получить. Орловские отовсюду гнали ее, как неграмотную, и ни один сукин сын не захотел войти в ее несчастье, и никого не тронуло горе ее… Казаки редко кто подаст корку хлеба, больше надсмехаются – не могут они забыть, что Бабенко сам был природный казак и все-таки пошел за красных. От великого горя и обиды старуха стала полусумасшедшей, голова ее поседела и трясется, мальчишки дразнят ее трясучкой. Жалко ее нам, старым партизанам, но чем поможешь? Сами варим щи из крапивы, да и то через день.
Наш уважаемый старичок Черевков, израненный в схватках лихих за Совет, ослеп, и ноги больше не держат хилого тела. В память о повешенной снохе и в память о сыне Дмитре, испустившем дыхание на офицерском штыке, осталось старику пятно от рода, то есть внучек Федька. Ночуют они где придется и кормятся кое-как. Вешает Федька деду на плечо бандуру и ведет его по базарам и трактирам. Старика кругом на сто верст знают. Сядет он в толпе, ударит по струнам перерубленной в бою рукой и дребезжащим голосом запоет:
Слышу, как будто грохочут удары
Прошлой войны, и тоска
Живо рисует вам страсть и кошмары.
В бурунах пустыни песка
Красных героев рассыпаны кости,
Жизнь положивших в бою…
. . .
Кончились схватки, домой воротился
К участи горькой такай…
Старый, седой, никуда не годился
Всеми забытый герой…
Кто испытал гражданскую войну, на ком горят еще раны, того эта песня до слез прошибает. И бросают, бросают старику медяки, а иные язвят: «Довоевался».
Много крови, много горя… На всей Кубани и одной хаты не найдешь, которая не была бы задета войной. Все воевали. Михаил Васильевич, кто топчет надежды наши? Или разливали мы кровь свою ни за нет? Или, утратив силу в огне, кровью своей оконфужены?
Где-то и кто-то разъезжает по санаториям и курортам, а у нас в этом году на лечение 28 красных инвалидов Совет ассигновал 47 рубликов. Прикинь, дорогой наш командир, по скольку это выйдет на голову. «Для нашего излечения, – сказал как-то страдающий ревматизмом бывший чекист Абросимов, – жалеют кубанской грязи, а ведь мы ее, эту грязь, своей кровью замесили».
Было время, мы протаптывали для дорогой советской власти первые кровавые тропы, а теперь она забывает нас. Али Печониха и старичок Черевков не стоят маленького сожаления и товарищеской любви?
Кавалер золотого оружия Федор Подобедов, командовавший в разное время эскадроном, кавполком и бригадой в 20-м году, памятным всем нам приказом РВС был отстранен от командования по несоответствию. А кто первым выступил на защиту молодой советской власти? Федор Подобедов. Кто, не жалея здоровья и не щадя жизни, гонялся по камышам за повстанцами-казаками? Федор Подобедов! Кто под Фундуклеевкой вырубил три сотни махновцев? Федор Подобедов со своей бригадой. Он хотя и неграмотный, но многие ученые генералы и бандиты не знали, куда от него бежать.
Не мимо говорит пословица: «Лаял Серко – нужен был, а стар стал – со двора вон».
Препоручили Федору должность базарного распорядителя, но ему, как мужчине красивому и молодому, стыдным показалось расставлять в порядок возы и собирать с торговок гривенники. К тому же и знакомые станичане зло насмехались над красным командиром, дослужившимся до метлы. Прослужил он неделю, пришел в исполком, сорвал с груди медную бляху базарного распорядителя и бросил председателю под ноги.
Покрутился-покрутился наш Федор и с горя запил. Потом назначили его в территориальную часть завхозом. К тому времени он уже окончательно пристрастился к водочке и однажды промахнулся – пропил двух казенных лошадей.
Потянули его под суд.
Сколько-то просидел он в городской тюрьме, потом вызывают на допрос. И кого же он встречает? А встречает он в трибунале прапорщика Евтушевского.
Вспомните, Михаил Васильевич, бой под Кривой Музгой. Федор с полком стоял от нас левым флангом. Так вот тогда он и захватил в плен рыжего полковника и двух прапоров. Полковника, как водилось, отправили в штаб Духонина, а за прапоров заступился дурак эскадронный Еременко. «Вручить им, – говорит, – по кнуту и посадить ездовыми, пускай кобыл гоняют, а мы над ними посмеемся».
И оставлены были оба прапорщика ездовыми в обозе второго разряда. Что с ними было потом – неизвестно, но война окончилась, и Евтушевский – вот он гад – незаменимый технический работник и следователь в трибунале. Сколько годов прошло, а сразу узнал Подобедова и с надменной улыбкой начал спрашивать:
– Помнишь, товарищ Подобедов, Кривую Музгу?
– Помню.
– Помнишь, как все вы издевались надо мной?
– Помню.
– Почему же такое, товарищ, был ты революционером, а стал конокрадом?
Разволновались в красном герое нервы, затрясся он от злости, но промолчал.
– Помнишь, – спрашивает опять следователь, – поход на Маныч? Косяки калмыцких лошадей гнали за собой, а тут и двух пропить не разрешают… Не восемнадцатый, верно, годочек?
Не стерпел Федор таковых слов, выхватил у конвойного шашку и, потянувшись через стол, нарушил тишину – зарубил того незаменимого Евтушевского прямо в мягком кресле.
Дальше – больше, слышим, ушел Федор за Кубань в горы и увел за собой обиженных бойцов Коростелева, Хвороста, Шевеля, Сердечного, нашего батарейца Разумовского, Круглякова Гришку, что зарубил в поединке под Каялом гвардейского полковника, пулеметчиков Табаева и Калайду, однорукого Курепина, старика Бузинова, милиционеров Моисенку и Колпакова, бойцов Есина, Кабанова, Кошубу, Соченко и Назарку Коцаря. Долгое время бандиты гуляли по Закубанью – жгли совхозы, громили Советы, вырезали коммунистов и комсомольцев, поезда грабили. Батальон ГПУ с помощью нас, местных коммунистов, хорошо знающих местность, расколотил банду, но самого Подобедова так и не удалось взять. Недавно из Турции прислал он брательнику письмо: клянет советскую власть и сообщает, что с курдами ему и то жить приятнее.
Горько и прискорбно…
Мы остались в живых по нашему счастью или по нашему несчастью. Тлеем в глухих углах, как искры далекого пожара, и гаснем.
Старая партизанская гвардия редеет. Кто стал торговцем, кто бандитом, иные как жуки зарылись в землю и ничего дальше кучки своего дерьма не видят и видеть не желают, многих сломила нужда, и когда-то разившие грозного врага теперь на мирном положении сами попадают в плен к кулакам.
Начальник конной разведки Яков Келень, при поддержке тестя, сумел обзавестись богатым хозяйством и не считает нас больше своими товарищами. Весной из города приезжал сотрудник истпарта и со всех нас, революционных бойцов, отбирал гром преданий о похождениях наших. Яков Келень не захотел с ним разговаривать и сказал только одно: «В Красной Армии я никогда не служил».
Как же так, спросите вы, Михаил Васильевич, али совсем нет в станице живых людей?
Есть, есть умные и понимающие люди, да только у одного руки коротки, у другого совесть сера, этот рад – пригрелся и жалованье получает, тот глядит, как бы хозяйство свое приумножить, пятый бывает сознательным только на собраниях, десятый и рад бы чего-нибудь хорошее сделать, да один не может.
Взять хотя бы секретаря нашей ячейки Маркина. Деляга парень – плакаты рисует, лозунги пишет, диаграммы составляет, уголки организовывает, на всех собраниях выступает, полы в ячейке и то сам моет: расходам экономия, – а на бархатное знамя и на приветственные телеграммы за год израсходовали больше двухсот рублей. Попадешься Маркину на глаза, и сейчас он сноровит разграфить тебя и занести в какой-нибудь список. На Троицын день встал на паперти и давай считать, сколько верующих заходит в церковь: для отчета. Старухи разодрали на нем рубаху и прогнали от церкви. На лекции или вечере обязательно перепишет, сколько присутствует мужчин, женщин и подростков, по скольку им лет, чем занимаются, велико ли хозяйство. Из-за этой самой переписки многих теперь и насильно не затащишь в Народный дом. Прочитает Маркин газету и в дневник запишет: «Столько-то минут потрачено на читку». Подметет комнату, заправит лампу – и опять в дневник. Пойдет в столовку обедать, поговорит со станичниками и запишет: «Выдано столько-то и таких-то справок». Не поймешь, по дурости он это творит или от великого усердия – службист, сукин сын, как бывалошный фельдфебелишка из учебной команды. Живет на свое бедное жалованье плохо и вообще такой же пенек, как и мы, но все старается возвыситься над нами, а чуть что – грозит.
Или вот другой наш вождь – заведующий кооперацией, бывший кузнец Евтихий Воловод. Закрыл глаза портфелем, прибил, гад, на кабинетной двери лозунг: «Без доклада не входить».
За что мы, Михаил Васильевич, воевали – за кабинеты или за комитеты?
Живет Евтихий с капитаншей Курмояровой, которую он забрал в плен под селом Кабардинкой, где, как тебе, дорогой товарищ, известно, мы прижали убегающих деникинцев к морю и вырубили их там счетом шесть тысяч. В самый разгар боя Воловод набросил на капитаншу – она сидела на возу – набросил бурку и сказал: «Моя. Никто не моги до нее коснуться – застрелю». Не дожидаясь окончания войны, уволок он ее в станицу, и поживают они с этих пор на шее советской власти и ох не скажут. В усадьбе у них стоит раскрашенный в две краски сортир на замке. Сходит в тот сортир сам хозяин и на ключ запрет. Сходит хозяйка и опять запрет. Кухарка с кучером на огород бегают. Евтихий партийную школу кончил, потом какие-то курсы кончил, теперь нас уму-разуму учит. Он нам про строительство социализма, а мы ему про сортир напомним, он про хозяйственный рост страны, а мы про то, что жрать нечего, а у него полон двор птицы, поросят, две коровы, жнейка, косилка, четыре собственных лошади. «Вы, – кричит, – разложившийся элемент, в текущей политике ни уха, ни рыла не понимаете, мертвый груз на нашем коммунистическом корабле». – «Чего же нам делать, спрашиваем, и куда деваться?» – «Газеты читайте – и центральные, и краевые, и окружные, и местную стенную». – «Нас, – хором отвечаем мы, – на всю жизнь Деникин выучил, еще десять лет не будем ни одной газеты читать, а понять, чего надо, все поймем». И тут спускаем мы штаны, заворачиваем рубахи и показываем раны колотые, раны стреляные, следы шомполов и нагаек. Насчет газет, понятно, сгоряча брякнем, ну да все равно…
На Первое мая вечером, после речей и парада, вышли мы радостные прогуляться, но радость наша скоро помрачнела. На площади в окнах – большой свет: «Кафе-ресторан Президиум». Подходим ближе и заглядываем в окна через занавески. На столах жратва и вина всевозможные. Музыканты играют, и по залу в обнимку с девками и с базарными торговками танцуют те, кто еще недавно говорил нам речи: секретарь исполкома, нечесе, фининспектора, два землемера, прикащики из хлебопродукта и славный наш кооператор Евтихий Воловод.
Скрепя сердце мы отошли.
Голоса наши когда-то гремели на кровавых полях, а нонче они робко звучат в стенах канцелярий. Много погибло наших дорогих товарищей, но о них и помину нет местной властью. Нас, защитников и завоевателей, восхваляют и призывают только по большим праздникам да когда в нос колет – во время проведения какой-нибудь кампании, а потом опять отсовывают в темный угол. Закомиссарились прохвосты, опьянели властью. Ежели таковые и впредь останутся у руля, то наша республика еще сто лет будет лечить раны и не залечит.
Ждем ответного письма.
С товарищеским приветом (Подписи) 1928
...
Ответ командира будет напечатан в одном из ближайших номеров «Молодой гвардии».
Однако ни в ближайших, как было обещано, ни в последующих номерах ответа командира не последовало.
8 мая вышло постановление ЦК ВКП(б): «Объявить строгий выговор редакции «Молодой гвардии» за помещение в № 5 «Молодой гвардии» «полурассказа» Артема Веселого «Босая правда», представляющего («полурассказ») однобокое, тенденциозное и в основном карикатурное изображение советской действительности, объективно выгодное лишь нашим классовым врагам» (Комсомольская правда, 10 мая 1929 года).
«Молодая гвардия» в № 10 помещает статью Ил. Вардина «О правде однобокой и слепой», а в № 1 за 1930 год – стихотворение Уткина «Босая правда. Артему Веселому», которое заканчивается словами:
Так вот:
Если, требуя
Долг с Октября,
Ты требуешь графских прав —
Мы вскинем винты
И шлепнем тебя,
Рабоче-крестьянский граф.
На полях этой журнальной страницы Артем Веселый написал: «Ишь, чекист нашелся!» – а в редакцию журнала отправил письмо: «…тявкающим на меня из-под подворотен отвечаю словами Данте:
От меня, шуты,
Ни одного плевка вы не дождетесь».
«Иосиф Уткин, расстреливающий Артема Веселого в стране пролетарской диктатуры, это очень… очень смешно, если кто понимает!» – писал А. Фадеев в «Литературной газете». При этом Фадеев оценивает «Босую правду» как «политически ошибочный рассказ» и считает, что «не будет вреда, если кто-нибудь еще и еще раз по-пролетарски раскритикует эту ошибку».
В этой связи большой интерес представляет публикация «Московских новостей» (12 июля 1987 года): «Шолохов о просчетах во времена коллективизации». Опубликовано неизвестное ранее письмо Шолохова, датированное 18 июня 1929 года и посланное им с Дона. Несколько выдержек из этого письма:
«А вы бы поглядели, что творится у нас и в соседнем Нижне-Волжском крае. Жмут на кулака, а середняк уже раздавлен . Беднота голодает… Народ звереет, настроение подавленное, на будущий год посевной клин катастрофически уменьшится.
Один парень – казак хутора Скулядного, ушедший в 1919 году добровольцем в Красную Армию, прослуживший в ней 6 лет, красный командир – два года, до 1927 года, работал председателем сельсовета… Он приезжал ко мне еще с 2 красноармейцами. В телеграмме Калинину они прямо сказали: «Нас разорили хуже, чем нас разоряли в 1919 году белые». И в разговоре со мною горько улыбался. «Те, – говорит, – хоть брали только хлеб да лошадей, а своя родимая власть забрала до нитки. Одеяло у детишек взяли…»
Я работал в жесткие годы, 1921–1922 годах на продразверстке. Я вел крутую линию, да и время было крутое; шибко я комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти, а вот этаких «делов» даже тогда не слышал, чтобы делали.
Верно говорит Артем: «Взять бы их на густые решета…» Я тоже подписываюсь: надо на густые решета взять всех, вплоть до Калинина; всех, кто лицемерно, по-фарисейски вопит о союзе с середняком и одновременно душит этого середняка…»
Появление в печати «Босой правды» оказалось своевременным и имело большое значение. 1 августа 1929 года в «Правде» было помещено сообщение под заголовком «Постановления о льготах бывшим красным партизанам и красноармейцам не выполнялись». В тот же день аналогичный материал печатают «Известия», особо выделяя заключительную часть постановления Президиума ЦК ВКП(б) и Коллегии НК РКИ СССР: «В случае обнаружения невыполнения законов правительства виновных в неисполнении предавать суду, невзирая на лица и их служебное положение. О результатах проверки представить доклад Совету Народных Комиссаров Союза ССР». Поверх газетного текста рукой Артема написано несколько слов – написано торопливо, карандашом, а потому неразборчиво. Четко проглядывается только одно слово: помог .
Двадцать лет имя Артема Веселого нигде не упоминалось, его книги были изъяты из государственных библиотек, выросло поколение, слыхом не слыхавшее об этом писателе. В 1958 году Гослитиздат выпустил однотомник Артема Веселого, с тех пор его произведения – и прежде всего «Россия, кровью умытая» – издавались не раз и у нас в стране, и за рубежом, многие читатели заново открывают для себя Артема Веселого. Об этом написал мне в 1978 году Валентин Распутин: «Проза Артема Веселого была для меня откровением еще в мое студенческое время, когда она вышла в 50-х годах. Нынче я перечитал ее. Немалая часть советской классики со временем очень заметно стареет, этой книге подобная судьба не грозит, потому что это и талантливая и во многом современная книга».
...
Заяра Веселая
1988
Примечания
1
Лимонами для простоты назывались миллионы.
2
К сведению ревнителей нравственности, по тем временам подобная ругань являлась для деревни революционной. (Примеч. автора.)
3
Гарочная мука удерживалась за помол и раздавалась бедноте и советским служащим вместо жалованья. (Примеч. автора.)
4
К сведению молодых читателей: недели такие были – сплошная и пестрая . (Примеч. автора.)
5
В ячейке. (Примеч. автора.)
6
Во всех изданиях «Страны родной» до ее включения в состав «России, кровью умытой» в 1932 году было: город подмял деревню . По свидетельству писателя А. Е. Костерина, слово кулацкая – вынужденная цензурная вставка. (Прим. З. Веселой.)
7
Алексей Евграфович Костерин – отец партизанки Нины Костериной. «Дневник Нины Костериной», подготовленный к печати ее отцом и впервые опубликованный в «Новом мире» (1962, № 12), широко известен во многих странах. В № 11 за 1963 год «Нового мира» были напечатаны воспоминания об Артеме Веселом нескольких авторов, в том числе и А. Е. Костерина; приводимый отрывок в ту публикацию не вошел.
8
12 апреля 1961 года в ЦДЛ состоялся вечер памяти Артема Веселого. Накануне я побывала у Николая Николаевича и попросила его выступить на вечере. Он был нездоров, однако тут же написал текст своего выступления, поручив мне огласить его на вечере, что и было сделано.

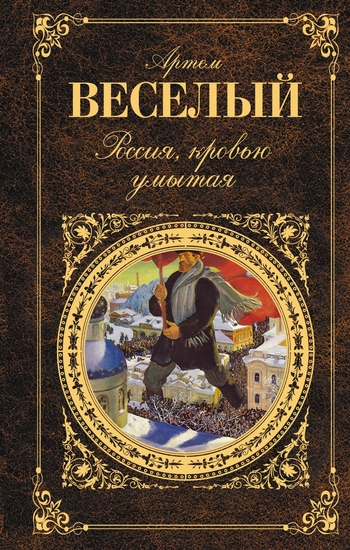

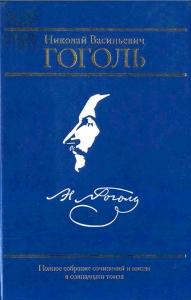

Комментарии к книге «Россия, кровью умытая (сборник)», Артем Веселый
Всего 0 комментариев